Эрик-Эмманюэль Шмитт Человек, который видел сквозь лица
Éric-Emmanuel Schmitt
L’HOMME QUI VOYAIT À TRAVERS LES VISAGES
Серия «Азбука-бестселлер»
Copyright © Éditions Albin Michel, S.A. – Paris 2016
© И. Волевич, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
1
– Дрыхнешь?!
Я хотел бы выкрикнуть «нет!» этому голосу, но предпочитаю смолчать и не размыкать век. Стоит произнести хоть одно слово, как оно вырвет меня из моего волшебного сна.
Я стою на лужайке, обрызганной солнечными зайчиками; старик с белоснежной бородой протягивает мне цветок ириса и указывает на коня. К великому своему удивлению, я вскакиваю на его бурую спину – а я и не знал, что могу ездить на лошади без седла; да что там – не знал даже, что я вообще умею ездить верхом; и, вскочив, обещаю старцу исполнить возложенное на меня поручение. Он отвечает мне улыбкой, и из его тонкогубого рта вырываются на волю звонкие птичьи трели. Сверкает солнце.
– Он что, и вправду дрыхнет?
Я выжидаю несколько секунд. Если эта пауза продлится, я смогу достичь своей цели – домчаться до замка. Напрягшись, крепко сжав поводья, чувствую, как парю между двумя мирами – реальным, где мои колени стиснули горячие лошадиные бока, и другим, абстрактным, где посмел ненадолго закрыть глаза и отключить слух. Друид, стоящий передо мной, склоняет голову к плечу: он недоволен, что я все еще топчусь на месте. Ох, как меня сковывает, как парализует этот голос – и ведь ни за что не оставит в покое, а вышвырнет вон из моих грез!
К счастью, тишина еще длится… И я с облегчением снова окунаюсь в покой того мира, где мой скакун во весь опор несется через лес. Я наслаждаюсь его скоростью, его легкостью, грацией, с которой он огибает препятствия, перемахивает через лужи и опускает голову, чтобы не задеть ветви. Его копыта уже не касаются земли.
– Ты спишь, мой миленький? – шепчет неожиданно смягчившийся голос.
Меня пронизывает горячая дрожь. Кажется, я его узнаю – этот голос. На небосводе, высоко над кронами деревьев, возникает лицо моей матери, огромное, нежное, сияющее, доброе. Она ободряет меня. Побуждает скакать еще быстрее. О счастье… На всем протяжении этой скачки я чувствую ее ласковое присутствие.
– А ну, вставай, кретин!
Удар в плечо. Я шатаюсь. Теряю равновесие.
В первом мире я рухнул с лошади, во втором – упал со стула.
Упал – и валяюсь, одуревший, разбитый, с горькой слюной во рту и саднящей болью в ушибленном боку.
Поневоле размыкаю веки. Прощай, лес, прощай, дорога и мой горячий конь! Я прихожу в себя посреди тесного закутка, который мне выделили в редакции «Завтра» – ежедневной газеты Шарлеруа[1]. Мать исчезла – что неудивительно, ведь она умерла при моем рождении, – и вместо ее лица я вижу багровую рожу нашего шефа Филибера Пегара. Грузный, толстобрюхий, полнокровный, разъяренный, как бык, он грозно вращает глазами, испепеляя меня презрительным, бессмысленным взглядом.
– Огюстен, тебе здесь платят не за то, чтоб ты дрых на работе!
Вставая на ноги, я собираюсь ему напомнить, что работа стажера в его газете никак не оплачивается, но робость мешает мне возразить, хотя меня так и распирает от возмущения. И я трусливо иду на попятную:
– Простите меня, месье Пегар.
Из соседних отсеков доносятся смешки.
Патрон брезгливо фыркает и отводит взгляд, так же как и коллеги, издали наслаждавшиеся этой сценой. Я всем внушаю отвращение.
Вконец подавленный общей неприязнью, опрокидываю стул, пытаясь на него сесть.
– О, пардон… пардон…
Ну вот, теперь я извиняюсь перед стулом… час от часу не легче.
У меня жалкая внешность, и я это знаю… Скорее долговязый, чем высокий, я не могу похвастаться своим телом – оно больше напоминает стебель, хилый стебель, клонящийся под тяжестью головы с шишковатым затылком и вытянутой вперед шеей; все это уподобляет мою тощую фигуру вешалке. Даже стоя прямо, я кажусь поникшим. Мою худобу никак нельзя назвать хрупкостью: когда я обнажаю руки, видны одни только жилы и никаких мускулов; в бассейне (еще одна пыточная камера, которую я стараюсь обходить стороной) демонстрирую сплошные впадины в тех местах – на груди, на ягодицах, – где нормальные люди выставляют напоказ рельефные выпуклости; снимая носки, открываю две худущие стопы, на которых легко пересчитать все косточки. Что же касается красок, то моей наготе присущ один-единственный цвет – блекло-бежевый: блеклая кожа, блеклая шевелюра, блеклые глаза, блеклая растительность на теле. Лежа на песке, я становлюсь невидимым. Незаметность гарантирована!
И хотя я уделяю своей внешности мало времени, иногда мне все же случается искать в зеркале то, что могло бы хоть кому-то понравиться; увы, всякий раз какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешает достижению результата.
Инспектор социальной службы, с которой мне приходится регулярно общаться, утверждает, что я себя не люблю. Это не так… Я склонен высоко оценивать собственную персону, это окружающих от меня тошнит! Моя незначительность бросается в глаза: она стесняет людей, раздражает, даже злит, а жалкая внешность побуждает их к самым нелицеприятным комментариям. И тщетно я жмусь к стенке, надеясь сделаться невидимым, – меня замечают, пристально разглядывают, а потом презрительно сплевывают, бросая мне в лицо оскорбления. «Такая физиономия прямо-таки просит затрещины!» – буркнул однажды приютский воспитатель, когда мне было шестнадцать лет. И теперь, когда мне уже двадцать пять, я с горечью констатирую, что это определение не утратило силы.
По причине, так и оставшейся для меня непостижимой, люди вменяют мне в вину мою незавидную внешность и упрекают в том, что я мозолю им глаза своей жалкой фигурой. Я был и остаюсь жертвой, которую обвиняют, которая не вызывает ни малейшего сочувствия. Уж лучше бы мне страдать настоящим, физическим увечьем: слепой, парализованный, однорукий, я, наверно, хоть изредка внушал бы какое-то уважение… Иногда мне кажется, что окружающие угадывают и мою трусость…
– Ну, так как же, Огюстен, в чем ты пытаешься нас убедить? В том, что ты, юный стажер с неумеренными амбициями, переполнен гениальными идеями, а? Надеюсь, ты не думаешь, что взят сюда на работу для того, чтоб сладко подремывать в тепле, а ведь я уже в третий раз застаю тебя на месте преступления!
В трубном гласе Филибера Пегара звучит обличительный пафос; он уверен, что я не отреагирую. Я-то знаю, какую ловушку он мне расставляет. Вопрос в том, попадусь ли я в нее. Это привело бы его в восторг.
Видя, что я молчу, он приходит в веселое расположение духа. На самом деле если он разочарован во мне, то вполне очарован самим собой.
– Я тут подумал об интервью…
Пегар даже подпрыгнул, так его поразило, что я осмелился подать голос.
– Что-о-о?
– Мы могли бы брать интервью у представителей местных властей, узнавать их мнение о событиях в мире, о кризисе, о нестабильности, о…
– МЫ?
– Ну, я имею в виду – газета.
– Уж не ты ли?!
– А почему нет…
Я даже побледнел, испугавшись собственной отваги. Директор громогласно взывает к журналистам:
– Бойтесь за свои места, друзья мои: наш малек-стажер вознамерился интервьюировать сильных мира сего! Скоро вам придется работать в ежедневной газете международного масштаба, не имеющей ничего общего с нынешним жалким изданьицем, которое позволяет вам зарабатывать на хлеб насущный; но, скорее всего, вам грозит безработица, ибо месье Огюстен Тролье один заменит всех вас!
Наш директор величает этим «месье» только тех, кого хочет размазать по стенке.
– Ну-с, и кого же Ваше Наглейшество желает интервьюировать? Давай-ка, покажи свой списочек, разреши нам попользоваться твоими адресами! Кто там у тебя первый? Папа римский? Король обеих сторон Луны? А может, реанимируешь де Голля, Ганди или Чингисхана? Да ты никогда в жизни и рядом не стоял с какой-нибудь важной персоной, жалкий червяк!
И он, грозно хмурясь, мерит меня презрительным взглядом.
Я открываю рот, чтобы возразить, но из него не вырывается ни единого звука. И съеживаюсь, как сдутый воздушный шарик. Оконное стекло напротив безжалостно отражает мое лицо, на котором написана глупая беспомощность. Все споры неизменно разворачиваются по одинаковому сценарию: когда меня оскорбляют, я делаю глубокий вдох, задерживаю воздух в легких и… прикусываю язык, так и не подыскав нужных слов. Физически все у меня в порядке, а вот в интеллектуальном отношении я какой-то заторможенный. Образно выражаясь, лук у меня есть, а вот стрел не хватает.
Босс, раздраженный вконец, рычит:
– А ну, давай на улицу!
Коллеги тут же перестают на нас пялиться и, пригнувшись, погружаются в работу: кто уставился на монитор, кто строчит статью, кто роется в папках; они уже хлебнули этого унижения – уличного репортерства – и боятся, как бы приказ Пегара рикошетом не обрушился на них.
– На улице я полный ноль.
– Да ты всюду полный ноль! Давай, быстро вали на тротуар! Неси все, что найдешь в сточной канаве. Можешь хотя бы собирать мусор – или тоже нет?
Подчиниться. И быстренько отправиться выполнять приказ, пока он не успел придумать чего-нибудь покруче. Натягивая плащ, вязаную шапку и шерстяные перчатки, я все же собираюсь объяснить ему, почему я задремал в редакции, почему за последние дни…
Но Пегар уже исчез.
Я беспомощно топчусь на вытертом ковролине. В помещении царит усердная рабочая тишина.
Прохожу по отделам редакции; при моем появлении коллеги срочно погружаются в работу; они все сторонятся меня, словно я заразный больной. Словно я приношу несчастье…
Сворачиваю в боковой коридор, к туалету, с трудом выжимаю несколько подозрительно темных капель из мочевого пузыря, потом останавливаюсь возле редакционной кухоньки. Стою в нерешительности. Сердце бьется как сумасшедшее. Кажется, поблизости никого? А вдруг там завалялось что-нибудь съестное – плитка шоколада, печенье, корка хлеба, конфетка, наконец. Сколько времени я ничего не ел? Обследую полки, раковину – везде пусто. Осторожно приоткрываю дверцу холодильника и обнаруживаю початую банку пива. Почему бы и нет? Пиво все же питательнее простой воды, хотя в моем состоянии и капля алкоголя опасна…
Но тут в банку вцепляется чья-то толстая ручища, вся в кольцах. Уборщица! Она хватает свою банку и подносит к широченному рту, прорезающему ее голову без шеи, словно навинченную прямо на туловище. Ее набухшие веки так жирно обмазаны синими тенями, что ей и мигать трудно. Она залпом осушает банку, прищелкивает языком, вытирает губы и, блаженно вздохнув, рыгает.
Отрыгавшись, она устремляет на меня мутный полупьяный взор, щурясь так, словно разглядывает отдаленный предмет, тогда как я стою в полуметре от нее, щерится, изображая подобие улыбки, а затем, шаркая тапочками, на которые свисают перекрученные чулки, неверной поступью идет в угол, хватает швабру и начинает протирать пол. Судя по тому, как она вцепилась в палку, швабра нужна ей скорее для того, чтобы устоять на ногах, а не для уборки.
Убедившись, что она уже забыла обо мне, я достаю банку из мусорного ведра, куда она ее закинула, и высасываю остатки пива. Горьковатый вкус хмеля оживляет мой высохший язык, горло принимает несколько жалких капель осадка с наслаждением, обратно пропорциональным их количеству. Ах, как бы узнать, где эта чертова Умм Кульсум прячет свои запасы спиртного…
Я впиваюсь глазами в эту «сотрудницу» нашей газеты. Мне иногда удается, сконцентрировав внимание на каком-нибудь человеке, разгадать его секреты. Но, как правило, я к этому опыту не прибегаю: в душе человеческой таится слишком много ужасов, без которых я прекрасно обошелся бы. Однако сегодня я так оголодал, что даже не колеблюсь. И сверлю взглядом жирный загривок уборщицы.
«Где ты прячешь свои запасы пива?» – вопрошает мой мозг, пытаясь проникнуть в ее мысли.
Тщетно: Умм Кульсум закрыта наглухо.
Никакой информации от нее не поступает.
Все ее квадратное тело, одинаковое что в длину, что в ширину, обтянутое трикотажным платьем с узором в виде кувшинок, представляет собой непробиваемую скалу. Алкоголь, которым она наливается по самые глаза, держит меня на расстоянии – приближаться к ней так же опасно, как к заполненной помойной яме.
Вновь мысленно задаю ей вопрос о пиве.
Она останавливается, закрывает глаза и, опершись подбородком на ручку швабры, начинает вилять бедрами – наверно, воображает, будто танцует. И мне чудится вокруг нее музыка – томные скрипичные глиссандо, игривое журчание цитр, приглушенное уханье барабанов и какие-то загадочные слова – Hayart Albi Ma’ak, Fat al-ma’ad…[2] Наверняка она про себя поет, но, увы, эта монотонная невнятица скрывает от меня ее тайны, превращая их в неприступную крепость.
Умм Кульсум выше меня ростом. Впрочем, она выше всех наших сотрудников, даром что стоит в самом низу социальной лестницы. И хотя убирает она скверно и по телефону отвечает через пень-колоду – а это две единственные ее обязанности, – Пегар никогда ее не бранит; он смиряется с тем, что она оставляет пыль по углам, забывает вытряхивать мусор из корзин, не подходит к телефону и не благодарит рассыльных, – смиряется и молчит.
Месяц назад, едва начав работать в редакции, я стал расспрашивать коллег, откуда эта привилегия и почему Умм Кульсум избавлена от гнева патрона?
– Понятия не имеем, – ответили они. – Если она тебе объяснит, беги к нам, расскажешь.
Сегодня, пристань ко мне с этим вопросом какой-нибудь новичок, я бы огрызнулся точно так же.
А Умм Кульсум осталась тайной – тайной, которую те скудные сведения, что могли бы приподнять над ней завесу, делают ее еще более непроницаемой.
Вообще-то, Умм Кульсум родилась мальчиком и поначалу звалась Робером Пеетерсом. Как-то утром Робер Пеетерс, уже достигший сорокалетнего возраста, сидел за игрой в шашки в каком-то бистро, где радиоприемник голосил во всю мочь песню «Вспомни обо мне!»[3], и вдруг он осознал, что в предыдущей жизни был женщиной, и не абы какой женщиной, а несравненной арабской певицей Умм Кульсум, звездой Востока, соловьем Каира, Бессмертной, той, кого прозвали «четвертой пирамидой»! Потрясенный этим открытием, он преобразился с невиданной быстротой – начал ходить в женских туфлях, носить платья, обматывать голову тюрбаном, затем обратился в ислам и бросил свое ремесло бондаря, сменив его на более женственную профессию. Никто не знает, подвергся ли он операции. И никому даже в голову не придет это проверять, ибо, если не считать апломба, нарядов, вызывающего макияжа и прически, в Умм Кульсум нет ровно ничего женского: могучая фигура водителя-дальнобойщика, волосатые руки, черная щетина, пробивающаяся к вечеру сквозь тональный крем, пивное брюхо и луженая глотка жандарма. Наш спортивный обозреватель, рыжий Лафуин, уверяет, что Умм Кульсум сохранила все атрибуты мужского пола и не колет себе гормоны.
Умм Кульсум царит в редакции газеты «Завтра». Восседая за высокой стойкой красного дерева, она обводит мутным, но высокомерным взглядом каждого входящего и выходящего. И все, кто появляется в поле ее зрения, чувствуют себя обязанными приветствовать ее – иными словами, изобразить поклон, на который она никогда не отвечает. Если мы о чем-то просим ее, то неизменно почтительным или даже слегка заискивающим тоном, – впрочем, это «что-то» в присутствии Умм Кульсум мгновенно перестает быть ее обязанностью, превращаясь в милость, которую она либо оказывает, либо нет. Когда звонит телефон, она взирает на него с омерзением и снимает трубку только после пятнадцатого звонка, дабы убедиться, что какому-то наглецу действительно позарез нужна редакция газеты. Ничто не может смутить Умм Кульсум. Когда звонящий слышит в трубке хриплый бас и называет ее «месье», она с царственным спокойствием поправляет его: «Мадам!» Однажды Лафуин ехидно заметил ей:
– Вам, небось, уже надоело объяснять всем и каждому, что вы женщина?
– То же самое было в моей предыдущей жизни.
Интересно, где она живет? И с кем?
Проходя по узкому коридору к выходу, я нечаянно задеваю ее. Она вздрагивает от моего прикосновения, пораженная тем, что какой-то ничтожный смертный нарушил ее мечтательное забытье; оглядывает меня, застыв на месте и в сотый раз пытаясь вспомнить, кто я такой, потом, убедившись в бесплодности своих усилий, снова начинает возить шваброй по линолеуму.
Как раз у выхода находится кабинет шефа, который оставил дверь открытой. Я притормаживаю: интересно, чем он занимается, когда не орет на нас?
Присев бочком на краешек письменного стола, Филибер Пегар курит сигару, глядя на улицу в окно, обрамленное темными бархатными портьерами. Полагая, что находится в полном одиночестве, он, вместо того чтобы терзать своих подчиненных, размышляет. Дымок его коричневой сигары безмятежно струится вверх из белого ободка пепла, но шеф не форсирует процесс курения, даже не подносит сигару к губам, а просто держит в руке, позволяя ей тихо тлеть, как будто хочет подольше сохранить ее в целости.
Застыв на месте, я гляжу на эту необычную сцену.
Но, присмотревшись, замечаю, что он смотрит вовсе не в окно, а на маленькую девочку, еле различимую в полумраке, девочку лет семи, с белокурыми косичками, в платьице из шотландки. Он улыбается ей, она строит ему кокетливые рожицы.
Кто же это? Ведь в редакцию детей не пускают…
Но тут девочка обнаруживает мое присутствие и радостно машет мне.
Я машинально отвечаю:
– Здравствуй!
Девочка испуганно зажимает рот обеими руками, словно я допустил серьезный промах, и прячется за Пегаром. Тот оборачивается ко мне:
– Какая муха тебя укусила? Чего это ты со мной здороваешься?
– Да я не с вами… я с девочкой…
И я тычу пальцем туда, где скрылась девочка, хотя сейчас не вижу ее. Пегар переспрашивает:
– С девочкой? Что еще за девочка?
– Ну… та. Которая сидела перед вами, а теперь спряталась.
Где же она? Я наклоняюсь то вправо, то влево, делаю шаг вперед, чтобы выяснить, где она притаилась, но она исчезла. Невероятно! Ее нигде нет. Тогда я опускаюсь на четвереньки и заглядываю под стол, за стол, под кресло, раздвигаю портьеры.
– Огюстен, ты рехнулся!
Нет, не могу понять, куда и как она ухитрилась скрыться.
– Но ведь тут была девочка! Лет семи, со светлыми косичками, в клетчатом платье!
Пегар багровеет, его глаза меркнут, руки дрожат.
– Ты шутишь? – бормочет он.
– И не думал! Я только не понимаю, как она могла исчезнуть.
– Как могла исчезнуть?..
Я подхожу ближе, стараясь разгадать этот фокус, но Пегар останавливает меня, схватив за шиворот, он буквально пышет ненавистью. Мне становится жутко: я чувствую, что он готов меня задушить.
– Да как ты… смеешь?!
Он так потрясен, что с трудом выговаривает слова:
– Как ты… смеешь?!
Твердя эту фразу, он приподнимает меня, выволакивает из кабинета и швыряет на пол в вестибюле.
– Ты мне за это заплатишь! Дорого заплатишь!..
Похоже, у него на глазах слезы. Он отворачивается и с грохотом захлопывает за собой дверь, оставив меня валяться на полу.
В замке поворачивается ключ. Слышны удаляющиеся шаги – это Пегар отошел в глубину комнаты, к окну.
И наступает мертвая тишина.
Я так и не уразумел, что же такое произошло, – эта девочка в кабинете, ее таинственное исчезновение, реакция Пегара…
Поднявшись, я кое-как отряхиваюсь. Из кабинета доносятся всхлипы, рыдания. Прикладываю ухо к двери.
Неужели девочка вернулась?
Но звуки становятся слышней, и мне уже ясно, что тяжелое дыхание, всхлипы и стоны, вырывающиеся из широкой груди, исходят от мужчины; это плачет Пегар, а не та загадочная девочка.
Если он сейчас обнаружит меня, свидетеля его слабости, то прикончит на месте, поэтому я спешно удаляюсь.
Выхожу на бульвар Одан, и меня тут же обдает резкой ледяной сыростью, словно холодным полотенцем по лицу. Дождя нет, но тротуар все равно покрыт блестящей влажной пленкой.
На скамейке сидит, зевая, пьяный. Несколько домохозяек идут домой с покупками. Под аркой топчутся двое подростков в куртках с надвинутыми на глаза капюшонами. Вон там пес потягивается. Еще только одиннадцать часов, в это время зевак почти не бывает. «На улицу!» – приказал Пегар, словно за дверью редакции меня дожидалась возбужденная толпа, переполненная желаниями и амбициями, состоящая из тысяч индивидуумов, что несутся по жизни со скоростью сто километров в час, а в данный момент наперебой выкрикивают новости, одна другой пикантнее, из коих мне предстоит выбрать подлинные перлы, достойные фигурировать на страницах нашей газеты. Увы, Шарлеруа – это вам не Париж, не Лондон и не Нью-Йорк. Наш городок, даже бодрствуя, мирно спит; к обеду он едва продирает глаза, часам к четырем проявляет слабые признаки активности, а в вечерний час пик машины, слипшиеся в пробках, кажется, тяготеют скорее к покою, нежели к движению вперед. Шарлеруа давным-давно находится в состоянии анабиоза, так же как молочно-серые облака и вялые дожди над его крышами.
Я озираюсь. Рядом тяжело взлетает недовольный голубь.
Ну и где же мне почерпнуть информацию?
Самое лучшее было бы войти в какое-нибудь бистро, присесть на табурет у стойки и, попивая из бокала, слушать, как бармен и посетители обмениваются сплетнями. Но вот беда: эта операция требует, чтобы я пожертвовал на нее хоть несколько евро. А мои карманы прискорбно пусты. Да и не только карманы – желудок тоже.
Тротуар неожиданно кончается, а я этого не заметил. Подворачиваю ногу.
И падаю.
Эх, вот бы потерять сейчас сознание! И чтобы врачи скорой помощи привели меня в чувство и доставили в больницу, где мне дадут сэндвич, тарелку супа, компот…
Растираю лодыжку. Какая неудача – мне всего лишь больно. Но боль пройдет. И гораздо быстрее, чем чувство голода.
Наконец выпрямляюсь. Невдалеке от меня, метрах в двадцати, элегантно одетая женщина вынимает из корзинки яблоко и надкусывает его. В это время у нее жужжит мобильник. Она кладет свой «голден» на краешек скамейки, чтобы ответить на звонок.
Может, воспользоваться тем, что женщина отвлеклась, и стащить яблоко?
«Огюстен, сдержись!»
Моя порядочность предпочитает позору голод.
«Лучше иди и охоться за новостями. И принеси эти news в редакцию. Иначе…»
Но низменная сторона моей натуры тут же вступает в пререкания с совестью:
«А что тут такого?! В газете мне не платят и за человека не считают. Эта стажировка ни к чему путному не приведет. Лучше уж просить милостыню».
Пожав плечами, я иду по бульвару. Звонят колокола. В церкви на площади Карла Второго началась служба.
Ноги сами ведут меня в этом направлении, ведь там, дальше, находится фастфуд. Конечно, я туда не войду, но мало ли… вдруг кто-нибудь, выходя, бросит в мусорку картофельные чипсы или половину гамбургера. Вчера мне удалось закусить именно таким образом, я не брезгую чужими объедками.
Какой-то мужчина толкает меня на ходу.
Я чуть не шлепнулся, а он даже ничего не заметил.
Требовать извинений бесполезно – мне все равно не под силу драться, так что я просто приваливаюсь к стене и потираю ушибленное плечо.
Мой обидчик ведет себя крайне нервно, внезапно он бросается на другую сторону улицы. Теперь я разглядел его получше: лет двадцать на вид, толстая парка с капюшоном, чересчур просторная для такого худощавого тела, темная грива под вязаной шапкой, густая, коротко подстриженная бородка, черные, слегка расширенные зрачки. Он непрерывно вертит головой, беспокойно озираясь.
Странный тип, он меня заинтриговал.
А что это у него сзади, над самым плечом?
Вдруг он останавливается, теребит свои часы. Сейчас мне лучше видна птица, порхающая вокруг него.
Что же это за птица – ворона? Или дрозд?
Я прищуриваюсь, напрягаю взгляд.
Нет, это не птица… вообще непонятно что… какое-то чудо в перьях…
И тут мне кажется, что я схожу с ума. Может, я стал жертвой галлюцинации? Вместо животного я вижу крошечную фигурку человечка в черной джеллабе[4], который разъяренно жестикулирует. Сглотнув слюну, я свирепо тру ладони о шершавую штукатурку, стараясь убедить себя, что это не сон.
Парень на другой стороне улицы вытирает пот со лба, дрожит, явно колеблется, потом решительно поворачивает назад. Человечек над его плечом беснуется, гримасничает, вопит. Я не различаю слов, но мне ясно, что это малюсенькое существо проклинает молодого человека.
Тот застывает на месте. Выслушивает то, что говорит ему крохотный человечек в джеллабе, закрывает глаза, делает глубокий вдох. И наконец кивает. Он уступил. Еще мгновение, и чувствуется, что на него снизошел покой, безграничный покой. Маленькое существо, убедившись в своей победе, перестает злиться, говорит уже ровно и сдержанно, – видно, что оно все больше убеждается в покорности своего собеседника.
Парень явно воспрянул духом, он улыбается и что-то коротко говорит человечку. Все улажено. Они пришли к согласию.
И тут колокола умолкают.
Молодой человек смотрит на часы и снова делает глубокий вдох, видно решившись на что-то; он идет в прежнем направлении широкими шагами. Потом сворачивает за угол.
Я крадусь следом. Конечно, никаких новостей мне это не сулит, но меня крайне интересует загадочное существо, которое преследует парня, летая над ним, подобно воздушному змею, парящему в безветренном небе.
Парень выходит на восьмиугольную площадь Карла Второго. На паперти церкви Святого Христофора толпятся люди в траурной одежде, они только что вышли после заупокойной службы. Следом выносят гроб.
Парень подходит к церкви, поднимается по ступеням туда, где собралась толпа.
Я иду туда же, как вдруг мне на глаза попадается нечто интересное: слева я вижу пластиковый контейнер с жареной картошкой, лежащий поверх кучи мусора в урне. Картошка явно еще не остыла, – похоже, ее только что туда бросили.
Ну как тут удержаться?! Я плюю на слежку, хватаю коробочку и целыми горстями запихиваю в рот жареные ломтики, не веря своему счастью: неужели через несколько минут меня перестанет терзать голод?!
Мои зубы жадно впиваются в теплую мякоть. Я оживаю. Или нет еще, я сейчас оживу!
Так… а где же мой парень с его странным летучим спутником?
Обернувшись, я вижу его за фонтаном, в метре от служащих похоронного бюро, которые загружают гроб в черный лимузин.
И вдруг он распахивает свою парку, выкрикивает сорванным голосом какую-то фразу и делает резкое движение.
Раздается взрыв.
Что-то мелькает в воздухе.
Меня подхватывает мощная воздушная волна.
Я взлетаю.
И падаю.
2
– Ну вот, он уже слегка порозовел…
– Значит, приходит в себя…
Я смутно различаю голоса. Но на сей раз не сквозь дремоту – сейчас вокруг меня какая-то черная бездонная пропасть, непроницаемый мрак, где я покоюсь в блаженном забытьи.
– Месье!
Мне тепло в этом мраке. Тепло и легко, все стало невесомым – и мое тело, и мои мысли. Освобожденный от того и от другого, я перестал быть самим собой. И это непривычное облегчение мне приятно.
– Да откройте же глаза!
Ну вот, опять…
– Откройте глаза!
В словах, обращенных ко мне, я улавливаю тревогу. Стоит ли реагировать?
– Откройте глаза!
Как, уже?
– Умоляю вас, откройте!
Нужно избавиться от этой панической обстановки, и я принимаюсь за дело, чувствуя, что способен выполнить приказ.
– Пожалуйста, откройте глаза!
– Как ты думаешь, он нас слышит?
Ну конечно же слышу. И конечно, открою глаза. Только потерпите немножко, я сейчас… я постараюсь…
– Месье, сейчас не время сдаваться, соберитесь с силами!
По настойчивости голосов я оцениваю, насколько я слаб. Веки меня не слушаются, они налиты свинцовой тяжестью, горят огнем. Чтобы поднять их, нужна сила штангиста. Делаю глубокий вдох и – хоп! – последнее усилие.
Ура!
Меня заливает дневной свет.
На фоне серого неба вижу два склоненных надо мной лица.
– Прекрасно, месье!
– Браво!
– Как вы себя чувствуете?
Пытаюсь что-то выговорить, но мне мешает сжавшееся, забитое чем-то горло. К горлу подступает рвота.
И у меня хватает сил лишь на подобие слабой гримасы.
Лица благодарят меня ответными широкими улыбками.
– Вам не трудно дышать?
Обеспокоенный этим вопросом, я сосредотачиваюсь на дыхательном процессе – вдыхаю, выдыхаю, медленно повторяю то и другое, мобилизуя бока, грудь и нос так старательно, словно впервые изобретаю дыхание.
– В легких боли не чувствуете?
Мотаю головой.
– А в подвздошье?
Реагирую так же.
На обоих лицах написано облегчение. По-моему, я им угодил. Теперь я уже довольно ясно различаю черты моих спасателей: у паренька круглое полудетское лицо балованного ребенка; девушка, бледненькая, хрупкая, внимательно разглядывает меня нежно-голубыми глазами фарфоровой куклы. Как же мне хочется, чтобы они задали новые вопросы, лишь бы доставить им удовольствие!
– Вы можете говорить?
Хочу сказать «да», но слово застряло где-то в глотке. Как странно! Мне все же удается выдавить:
– Мгм…
Этот невнятный звук – максимум, что мне удается произнести. Собственно, меня это не тревожит. Зато по лицам ребят видно, что им этого мало.
– Не обижайтесь, месье, но скажите: в обычное время вы способны говорить?
Я улыбаюсь.
– То есть вы подтверждаете, что в нормальной жизни вы не немой?
Улыбаюсь еще шире.
– Значит, это просто шок.
– Или боль…
– …которая мешает вам говорить?
Я размышляю, потом поворачиваюсь к пареньку, который сказал о шоке.
– А вы можете встать на ноги?
У меня нет никакого желания становиться на ноги. Но я догадываюсь, что для обоих молодых, сияющих добротой лиц это крайне важно. И поэтому препоручаю свое тело сознанию и пробую распрямиться.
Чужие руки помогают мне сесть.
– Браво!
– Замечательно!
– Продолжайте!
– Давайте-ка теперь встанем!
– Не паникуйте, не бойтесь ничего, мы вас поддержим.
Господи, как давно со мной не обращались так заботливо!
И я решаю встать, мобилизовав всю свою волю, как некогда, в шестилетнем возрасте, перед первым прыжком в воду.
– Держитесь!
Ноги мои подгибаются, колени дрожат, руки бессильно обвисли, но ангелы-хранители подпирают меня сзади… и вот я уже стою.
То, что я вижу перед собой, повергает меня в ужас: осколки стекла, деревянные щепки, мусор, тела на земле – одни стонущие, другие уже накрытые с головой, догорающий гроб, вокруг которого суетятся пожарные, искореженный катафалк, разбитые витрины, облако пыли; всюду бегают с носилками санитары, отъезжают, одна за другой, машины «скорой помощи», полицейские огораживают место происшествия, криминалисты фотографируют, а поодаль, за натянутыми лентами, скапливается плотная толпа зевак. Ноздри щиплет от едкой вони горелой резины. В воздухе порхают, упорно не желая оседать, серые хлопья пепла. Меня оглушают шумы – стоны раненых, окрики полицейских, плач детей, улюлюканье автомобильных сирен. В следующую секунду я понимаю, что произошло. Площадь Карла Второго никогда так не выглядела – бомба разворотила все.
Мои спасатели чувствуют, как я потрясен.
– У вас были при себе какие-нибудь вещи?
– Ваши вещи при вас?
Я мотаю головой.
Не могу отвести взгляд от гроба. Пытаюсь представить себе, что стало с человеком, виновником этого катаклизма, но беготня полицейских, кучи обломков, дым, трупы под простынями и всеобщая суматоха мешают мне что-либо разглядеть.
И внезапно я замечаю на мостовой руку, оторванную по плечо.
Это его рука. Из солидарности ощущаю боль в своем ушибленном плече.
– Ай!
– Вам больно, месье?
Никогда еще не видел руку отдельно от тела. Отворачиваюсь.
– Почему вы вскрикнули?
Я и рад бы ответить, но тут слезы заволакивают мне глаза, текут по щекам.
– Сейчас мы отправим вас в больницу.
Ох, лучше бы эти ребятишки дали мне время поразмыслить, прочувствовать случившееся! Но нет, они намерены действовать – действовать, и только, вон какие они целеустремленные, энергичные. Над ангелами довлеет одно тяжкое недоразумение: нам кажется, будто они охраняют нас, дабы избавлять от страхов и уныния, тогда как на самом деле это нам приходится их утешать.
Поддерживая с двух сторон, они ведут меня к «неотложке» лимонно-желтого цвета. При нашем появлении поднимается суета. Меня укладывают на носилки и задвигают в кузов.
Пока еще не сомкнулись дверцы, я успеваю заметить слева, метрах в десяти от машины, рядом с ратушей, Пегара и журналистов нашей редакции, все они, несмотря на энергичные протесты, вынуждены стоять за барьером, дальше их не пропускают полицейские.
Увидев меня, Пегар застывает – то ли не узнаёт, то ли не хочет узнавать. Но это длится всего секунду, потом его лицо радостно вспыхивает, и вот он уже ликует. Я вдруг стал для него козырем. И он с наигранной любезностью машет мне, пытаясь выразить мимикой одновременно «Ты в порядке?» и «Скоро увидимся!». Вижу, как он довольно потирает руки. Еще бы, вот счастье-то привалило: репортер газеты «Завтра» оказался на месте теракта и скоро поведает о случившемся в эксклюзивном интервью! Не сомневаюсь, что Пегар мысленно уже подыскивает броский заголовок для статьи.
Дверцы захлопываются.
«Неотложка» врубает свою воющую сирену, трогается с места и медленно, бережно везет меня по площади Карла Второго, огибая вырванные с корнем фонарные столбы. Я гляжу в оконце на весь этот хаос. Потрясение, испытанное при виде оторванной руки, как бы притупило мои чувства, позволяя более или менее спокойно смотреть на мостовую в потеках сажи и лужах крови, на экспертов, присевших на корточки в поисках улик, на врачей, которые осматривают раненых.
Когда машина сворачивает на улицу Вобана и эта мрачная картина остается позади, я уже твердо уверен, что среди жертв и обломков не было крошечного создания в джеллабе, порхавшего над плечом террориста.
В приемном покое меня переложили с носилок на каталку и задвинули в нишу посередине коридора с изумрудно-зелеными стенами. Как обычно, подальше, с глаз долой.
И я, как обычно, смиряюсь. Ловя обрывки разговоров всполошенных, бегающих взад-вперед медсестер, я узнаю, что медицинские бригады первым делом занимаются РТО – ранеными, травмированными и обгоревшими, так называемой группой риска, к коей я не отношусь. В больницу непрерывно доставляют тяжелораненых. Ударная волна от взрыва умножила количество жертв. И хотя человеческое тело, мягкое и податливое, сопротивляется ударным волнам лучше, чем твердые предметы, многие люди пострадали от разлетевшихся осколков стекла, гвоздей, камней, болтов, кусков кровельного железа и досок, которые изрешетили их плоть. Вокруг говорят о выбитых глазах, раздробленных костях, ампутации ног. «Жгут сюда, быстро!», «Этого в операционную!», «Звоните в Нотр-Дам или в Святую Терезу, узнайте, остались ли у них свободные места!», «Это ампутируем!», «Жгут!»… Напряжение возрастает, мобилизованы все врачи, даже те, у кого выходной или отпуск. К чисто медицинским проблемам добавляются чисто человеческие: пострадавшие вопят, возмущаются, требуют внимания. Если теракт на площади Карла Второго тела изуродовал по-разному, то психику поразил одинаково сильно. У некоторых пациентов ужас преобладает над болью, внушая воображаемые страдания.
Непрерывно верещат полицейские рации, пополняя список погибших. Медперсонал жалуется на нехватку оборудования, лекарств и операционных; государственные больницы вынуждены просить о помощи частные клиники. Иногда раздается душераздирающий женский крик, и мы понимаем: еще одна мать в приемном покое узнала о смерти своего ребенка.
И я присутствую при всем этом, молча, содрогаясь от ужаса.
Меня задевают носилки с очередной жертвой. Лежащий на них мужчина, голый, окровавленный, с обожженной разодранной кожей, сотрясается от спазмов и вращает безумными, испуганными глазами. Я чувствую его немой крик. «Нет, только не я! – написано на его лице. – Только не я! Только не здесь! Только не сейчас!» Жизнь и смерть ведут в нем жестокую схватку. Расторопные санитары бегом увозят его куда-то.
Нет, это уж слишком. Я отворачиваюсь к стене, спиной ко всей этой кутерьме, равно напуганный тем, что увидел воочию, и тем, что вижу в воображении.
Скорчившись на своей каталке, я больше не шевелюсь. Но кто-то время от времени треплет меня по плечу, напоминая, что обо мне не забыли. Мне приятны эти знаки внимания, забота людей, преданных своему делу, посвятивших себя спасению ближнего; я постепенно успокаиваюсь. Подобно тому как тень горы заволакивает соседние поля, меня обволакивает сонное забытье.
И я безвольно погружаюсь в него.
В конце дня меня будит интерн-ливанец с угольно-черными бровями:
– Ваша очередь!
Он привозит меня в бокс и опрашивает. Я сообщаю ему свое имя, возраст, адрес газеты «Завтра», после чего подвергаюсь медосмотру, быстрому, но тщательному.
После каждой процедуры он ставит крестик в очередной клеточке истории болезни. Видно, что парень замучен вконец, но ничего не пропускает.
– Я голоден, – говорю я ему.
– Мириам, принесите больному обед!
Боже, как просто! Почему я не попросил еду раньше? Мириам, медсестра с жизнерадостным личиком, отдергивает занавеску бокса и спрашивает, ем ли я мясо. Я киваю. Любое мясо? Любое.
– Мы поместим вас в палату на четвертом этаже, – объявляет чернобровый интерн.
Не знаю, радоваться мне или огорчаться.
– Но… зачем?
– Простая предосторожность. Нам нужно за вами понаблюдать. Первичный осмотр показал, что у вас нет серьезных травм, только давление низкое и общая слабость как результат шока. Но мы предпочитаем убедиться, что у вас нет внутренних повреждений.
– Например?
– Например, повреждений пищеварительных органов, которые трудно диагностировать сразу.
Мне хочется выкрикнуть, что мои пищеварительные органы больше всего страдают от долгого голодания, но я вовремя прикусываю язык. Никто не должен заподозрить, почему я так рад, что меня здесь оставляют.
– Может, перед тем как отправиться в палату, вы хотите побеседовать с психологом – специалистом по кризисным ситуациям?
– Лучше после еды.
– О, конечно, извините меня.
Мириам и ливанец помогают мне перебраться в инвалидное кресло, и сестра везет меня в палату № 413.
После приемного покоя все другие больничные отделения кажутся безмятежно-спокойными. Ничто не нарушает тишину в широких коридорах, разве что шлепанье тапочек санитарки по мягкому линолеуму да поскрипывание колесиков моего кресла. Мы движемся посуху, словно плывем по воде.
Четвертый этаж. Стены украшены фотографиями альпийских пейзажей и освещены слабенькими лампочками.
– Ну, вот ваша палата.
Медсестра распахивает дверь, и… я оказываюсь лицом к лицу с Филибером Пегаром. Он поджидает меня, сидя на стуле у койки, с букетом в руке и льстивой улыбочкой на физиономии. Мириам бдительно оглядывает его:
– Вы родственник?
– Я его друг и работодатель, – заявляет Пегар своим обычным высокомерным тоном.
Но, едва договорив, он принимает смиренный вид, выражающий искреннее сочувствие.
– Кроме родных и полиции, никто не имеет права беседовать с жертвами, – строго говорит сестра.
– Но у Огюстена нет родных.
Мириам смотрит на меня, ожидая подтверждения этой информации. Я опускаю глаза.
– Было бы грустно, – продолжает Пегар, – оставить его в одиночестве после такого потрясения. Что же касается комиссара Терлетти, то он меня хорошо знает и прислал сюда, чтобы я занялся Огюстеном. Позвольте представиться: Филибер Пегар, главный редактор газеты «Завтра».
Сестра, которая читает местную газету, а главное, занята по горло, решает не спорить и, пожав плечами, устраивает меня на кровати. Пегар суетится рядом, то и дело пытаясь ей помочь или, вернее, показать, что он готов оказать помощь, но она всякий раз отстраняет его.
– А какой у нас диагноз? – сюсюкает он.
– Спросите у врача. В настоящий момент больной нуждается в отдыхе и наблюдении. Не утомляйте его. Сейчас я принесу ему обед.
И она выходит.
Пегар спрашивает, состроив умильную физиономию:
– Ну как ты?
Я колеблюсь… Может, притвориться, что я онемел?
– У тебя шок?
Чувствую, что лучше согласиться. Киваю и спешу добавить:
– Я хочу есть.
– Сейчас она принесет обед. Ты был далеко от места взрыва?
Я с удивлением констатирую, что уже несколько часов не думаю о случившемся, словно запер воспоминания о теракте в дальнем углу памяти, куда преградил себе доступ.
– Я стоял на краю площади.
– Значит, довольно далеко. Уф… ну что ж, тем лучше для тебя… Но ты его видел?
– Кого – его?
– Взрыв, конечно!
– Я его видел, я его слышал, и я упал… а потом потерял сознание.
Говоря это, я спрашиваю себя: что стало с жареной картошкой, хрустящей жареной картошкой, которую я только-только начал заглатывать?
Восхищенный Филибер Пегар размахивает передо мной своим букетом, давая понять, что цветы предназначены мне, потом исчезает в ванной, гремит там какими-то предметами, бурчит, чертыхается, включает воду и наконец выходит с уткой, приспособленной под цветочную вазу.
– Не благодари меня, лучше давай рассказывай.
И грузно бухается в кресло: он уже не жалеет, что пришел, да еще потратился на букет.
– Я встретил этого террориста на бульваре Одан. Он так нервничал, что толкнул меня, переходя улицу. И я успел его рассмотреть, когда он был на другой стороне.
– Как он себя вел?
– Я же говорю: нервно. И очень странно.
– В чем странно?
– Непрерывно, чуть ли не каждую секунду, посматривал на часы. Хотя одного раза было бы вполне достаточно.
Пегар вытаскивает блокнот из кармана плаща и записывает все, что я ему докладываю.
– Ну а потом?
– По его лицу и ногам было понятно, что он очень худой, однако на нем был огромная, просто несоразмерная парка.
– Ну, это понятно, под ней он скрывал пояс со взрывчаткой. Какого он был возраста?
– Лет двадцати.
– Бородатый?
– Да.
– Брюнет?
– Да.
– Вроде как из Магриба?[5]
– Да.
Пегар сидит с довольной миной кошки, только что слопавшей мышь.
– Он был один?
Я молча смотрю на него. Вот он – ключевой момент. Может, рассказать ему все как было? Попробовать, что ли?
У Пегара хищно блестят глаза. Подавшись вперед, он еще раз ласково спрашивает:
– Ну так как же? Он был один?
– Нет.
Филибер Пегар сияет: вот она, сенсация! Он получил сведения, которыми не располагают даже полицейские! И, зыркнув на дверь палаты – уж не подслушивают ли нас? – вкрадчиво спрашивает:
– Так кто же его сопровождал?
Я снова молчу… Поверит ли он мне? И осторожно говорю:
– Человек в джеллабе, гораздо старше его.
– Какого роста – большого, маленького?
Подумав, я медленно отвечаю:
– Скорее маленького.
– Толстый, худой?
– Ни то ни другое.
– Прекрасно! Продолжай! Что они делали?
Я съеживаюсь на своей койке. Дурацкий какой-то разговор получается: я вроде бы и правду говорю и при этом скрываю то, что видел. Куда это меня заведет?
– Огюстен, так что же они делали вдвоем?
– О чем-то говорили, но я, конечно, ничего не слышал. Похоже, они спорили. Пожилой как будто старался в чем-то убедить молодого. На самом деле мне показалось, что молодой отказывался.
– Ага, значит, старик его агитировал.
– Ну… да, вроде того…
– Теперь все ясно, это был вербовщик, промыватель мозгов, руководитель операции. Сколько же времени они препирались?
– Две-три минуты. Потом старик его вроде убедил, и парень направился к площади Карла Второго.
– Один?
– Нет, старик его… сопровождал.
– Ах, вон как? Интересно!
Мне очень хотелось признаться Пегару, что в этой истории было много чего гораздо более интересного, например крошечная фигурка старика и тот факт, что он летал. Но если ему сказать такое, он больше не поверит ни единому моему слову.
– Значит, они оба направились к площади?
– Да. И подошли к церкви Святого Христофора. Там как раз кончилась служба, и люди выходили на улицу. А гроб ставили в машину.
– И что потом?
Я стискиваю руки, упорно глядя вниз, на простыню. Нет сил говорить о дальнейшем. Но Пегар меня подбадривает:
– Ну, говори, Огюстен! Ты же знаешь – твое свидетельство бесценно. Я понимаю, тебе тяжело и больно вспоминать весь этот ужас, но ты просто обязан помочь нам – журналистам, полицейским, политикам, гражданам нашего города, всей стране, всему миру. Может быть, только ты один и знаешь доподлинно, как оно все было на самом деле.
– Ну… значит…
Нет, я не стану описывать ему эпизод с жареной картошкой. Стоит признаться, что я голодаю, и он сможет докопаться до всего остального.
– Огюстен, дорогой мой, давай, соберись-ка с мыслями!
Ох, какой он прекрасный актер, наш Пегар! В эту минуту я почти готов поверить в его сочувствие.
– Справа от меня произошел один инцидент, который отвлек мое внимание… Кто-то поскользнулся на собачьих какашках и выругался…
– Нет!
– Да.
– Нет!
Как это Пегар учуял, что я вру?! Неужели он настолько проницателен? Или я просто такой неумелый враль?
Он встает и начинает расхаживать вокруг моей койки, прерывисто дыша и теребя свою сигару.
– Только не говори мне, что ты упустил главное из-за какого-то собачьего дерьма и проморгал сам теракт!
– Да нет, я его видел.
– Ага!
Он тотчас садится, хватает свой блокнот, кладет его на колено и, нагнувшись ко мне, вкрадчиво просит:
– Расскажи мне все, Огюстен, миленький!
– Через несколько секунд молодой подошел к толпе, окружавшей катафалк, распахнул куртку, выкрикнул какую-то неразборчивую фразу и…
– Аллах акбар?
– Что?
– Он выкрикнул: «Аллах акбар!» Это я уже знаю. Переводится как «Бог велик!».
– Ну, может быть… Потом он вытянул руки, сделал какое-то резкое движение, и прозвучал взрыв.
– А старик?
– Какой старик?
– Ну, тот, что его сопровождал.
– Я его больше не видел.
– А не стоял ли он возле гроба?
– Нет.
– Значит, смылся в последний момент?
– Понятия не имею.
– Но, может, потом-то ты его разглядел среди жертв? Он ведь был в джеллабе – неужели не осталось хоть какого-нибудь лоскутка?
Этот вопрос приводит меня в изумление. Как он догадался, что это существо настолько заинтересовало меня, что я высматривал его даже из «скорой», покидая площадь?!
– Месье Пегар, я ведь говорил вам, что потерял сознание. И когда меня привели в чувство, мне было не до того, чтобы выискивать какие-то…
– А я убежден, что ты это сделал!
Я снова умолкаю, разинув рот от удивления. Пегар кивает, нахмурив брови:
– Я абсолютно в этом уверен! И знаешь почему? Потому что ты прирожденный журналист! Да-да, совсем как я! Ты умный человек, который прячет свои эмоции подальше и ведет себя в первую очередь как настоящий профи. Или я ошибаюсь?
Понурившись, я бормочу что-то похожее на согласие.
– Ну так как же? – торопливо спрашивает он.
– Его там не было.
– Гениально! Вербовщик сопровождает террориста до места акции и скрывается, убедившись, что взрыв будет осуществлен. Великолепно! Вот он – новый метод, о котором еще никто не сказал ни слова! (Может, о котором никто еще не пронюхал?)
Он притопывает и хлопает в ладоши, вне себя от счастья. Раненые и погибшие в этой чудовищной атаке его совершенно не заботят… Сейчас он похож на могильщика, который радуется эпидемии.
– Как, вы еще здесь?! – ахает Мириам, входя в палату.
Пегар тут же пристыженно сникает, словно мальчишка, которого застукали в тот момент, когда он сунул палец в банку варенья.
– Я просто хотел подбодрить моего бедного друга.
Мириам ставит поднос мне на колени.
– Вот что его сейчас подбодрит!
И она смотрит на меня с сияющей улыбкой. Я отвечаю ей тем же.
– Я принесла тебе целых два десерта, – шепчет она.
Затем поворачивается и властно приказывает Пегару:
– А вы давайте-ка на выход! Я не хочу, чтобы вы утомляли больного.
Филибер прячет свой блокнот, изображая полную покорность:
– Мадам, вы совершенно правы! Здесь командует медицина. Я исчезаю. До завтра, Огюстен!
– Вот именно, до завтра, – говорит сестра, выталкивая его из палаты.
Она тоже выходит, затворив дверь. Я слышу эхо их удаляющихся шагов.
Вздыхаю с облегчением.
Передо мной сияет сокровище из сокровищ – поднос, на котором, кроме куска хлеба, красуются картофельный салат с корнишонами, филе индейки с рисом, натуральный йогурт и грушевый компот. Желудок мой урчит от нетерпения: наконец-то я смогу насладиться роскошной едой!
У меня вырывается взрыв хохота. Конечно, стыдно смеяться, когда погибло столько людей, а другие их оплакивают, но что тут поделаешь: раз уж мне повезло и я не подох, почему бы не поесть?
Ах, как неделикатно ведет себя мой инстинкт… Оглушенный взрывом, одуревший, я все-таки существую, я жив, в моих венах течет кровь; шок не погубил меня, не лишил аппетита. Конечно, из соображений морали, из простого человеческого сочувствия мне следовало бы сейчас рыдать и стенать, а я мечтаю только об одном – поскорей нажраться досыта. Взрывная волна поразила разве что мой рассудок, но не тело. Упрямая жизненная сила берет верх над угрызениями совести и прочими деликатными чувствами. Не знаю, да и знать не хочу, осудят меня за этот плотский эгоизм или похвалят, – я ему повинуюсь. Он свидетельствует о высшей мудрости, куда более могущественной, чем мое жалкое мудрствование.
И я набрасываюсь на еду. Моя рука первым делом хватает кусок хлеба и запихивает его в рот.
Подняв голову, я вижу на стуле, возле кровати, девочку. Ту самую девочку, которую мельком видел в кабинете Пегара; сейчас она сидит тихая, серьезная, поникшая.
– Ой… что ты здесь делаешь?
Девочка устремляет на меня взгляд больших светлых глаз.
– Он меня забыл.
– Кто? Месье Пегар?
Она утвердительно кивает и переводит взгляд на потолок. Я пытаюсь разузнать побольше:
– Он с тобой добр, месье Пегар?
Она убежденно отвечает своим тоненьким, мягким голоском:
– Ну конечно!
Потом дергает плечиком (тик у нее, что ли?), слегка кривит губы и мигает левым глазом (снова тик?). Однако тут же – видимо, стремясь исправить положение, – вытягивает ноги, любуется своими лакированными туфельками и разглаживает клетчатую юбочку.
– Но он часто меня забывает…
Огорченно покосившись на свой поднос, я ей говорю:
– Ты лучше догони его, а то он будет волноваться.
Потом откусываю от мягкого ломтя хлеба и снова поднимаю голову, чтобы взглянуть на девочку.
На стуле – никого.
3
Похоже, я стал важной персоной.
С самого утра меня осаждают посетители. У моей больничной койки поочередно продефилировали: санитарка, принесшая завтрак; главврач с целой свитой интернов; медсестры, жаждущие взять у меня на анализы кровь и все прочее, и, наконец, парочка полицейских инспекторов, которым я дал свидетельские показания: они багровели по мере того, как я углублялся в подробности, и горячо поблагодарили меня, заверив, что их рапорт будет незамедлительно представлен начальству.
Наконец дверь закрылась, и я блаженно улыбнулся потолку. Меня растрогал тот факт, что все они почитали эту палату моими личными апартаментами: входили на цыпочках, извинялись за беспокойство, отказывались сесть в моем присутствии и, прощаясь, сердечно желали скорого выздоровления.
Мне хочется осмотреть свои владения.
Презрев запрет врача, я слезаю с кровати. И, ступив на пол, вздрагиваю: тонкая сорочка, в которую меня облекли, скреплена сзади одними тесемками, оставляя голыми спину и ягодицы.
Направляюсь в ванную комнату и медленно обследую ее. Обычно я пользуюсь удобствами в общественных туалетах сомнительного вида, где есть риск запачкаться и до и после совершения процедур, а здесь сталкиваюсь с потрясающей роскошью: просторное, сверкающее чистотой помещение, оборудованное всем, что душа пожелает, и это предназначено мне одному, а я до сих пор ничем не попользовался. Что же касается зеркала над раковиной, то лучше в него не смотреться – слишком много чести для такой физиономии, как моя.
Вернувшись в палату, подхожу к окну с двойным стеклом. Внизу женщина в куртке катит мусорные баки по мощеному двору. Чуть дальше, на улице, прохожие торопливо шагают под холодным, густым дождем, а грузовики, разбрызгивая лужи, выруливают на круговую автостраду, опутавшую своими петлями пригороды. Глядя на все это, я снова радуюсь своей удаче: там, снаружи, люди борются с враждебным окружением, тогда как я, в рубашонке до пупа, лентяйничаю здесь, в своем тихом, спокойном, натопленном личном салоне.
Я сладко зеваю.
Несмотря на счастье наесться досыта, я провел скверную ночь: меня мучили картины вчерашнего теракта. Я никак не мог решить, что лучше – бодрствовать или спать; в первом случае все напоминало мне о взрыве, об истерзанных телах и лицах, искаженных страхом; во втором – разыгравшаяся фантазия подпитывала этот ужас, добавляя к подлинным впечатлениям совсем уж фантастические эпизоды. Так, например, мне чудилось, будто меня сочли мертвым и швырнули в телегу с трупами, а сверху бросают и бросают другие тела, соль, песок, пепел, землю, и я задыхаюсь, кричу, но никто не обращает на меня внимания. Всякий раз, вырываясь из этого кошмара, в поту и ознобе, я заставлял себя лежать с широко открытыми глазами, чтобы отогнать этот жуткий сон, и радовался, что с ним покончено, но не тут-то было: миг спустя на меня снова наваливали кучу мертвецов.
В шесть утра я услыхал башенные часы, мелодично отбивающие время, утешился тем, что ночь, с ее чередой зловещих видений, миновала, облегченно вздохнул и открыл глаза.
Передо мной стоял старик в пижаме. Слабый оранжевый свет уличных фонарей, сочившийся в палату с бульвара, делал в полутьме особенно контрастной правую половину его лысой головы и лица с глубокими морщинами, крупным носом и запавшими глазницами. Он пристально вглядывался в меня, так жадно и так испуганно, будто опасался с моей стороны бог знает какой выходки.
– Что вам угодно?
Он даже глазом не моргнул. Тщедушный, иссохший, он тем не менее был страшен. Несмотря на глубокую старость, в нем чудилось что-то детское – наверно, из-за того, что длинные рукава его пижамы свисали, закрывая кисти рук, а полотняная рубаха плохо держалась на узких плечах.
– Выйдите из моей палаты!
Никакой реакции. Вытянув шею, старик продолжал свой безмолвный осмотр. На его лице застыло вопросительное выражение. Присутствие странного гостя, его неподвижность леденили мне кровь. А вдруг это какой-нибудь сумасшедший пациент, который бродит ночами по больнице?
Или, может, я сплю?
И я попытался убедить себя, что старик с пустым взглядом просто привиделся мне во сне.
Но как же избавиться от сонного кошмара? А вот как – перейти к другому сну! Я зажмурился и решил несколько мгновений не открывать глаза.
Раз, два, три… Я считал секунды… пятьдесят девять, шестьдесят… вначале я старался дышать как можно тише… сто пятьдесят, сто пятьдесят одна… теперь я слышал только собственное дыхание, а не его… двести тридцать… А вдруг он сейчас подойдет и станет меня душить?!
На двести сороковой секунде я открыл глаза: старик исчез. Реальный – нереальный, какая разница; главное, я от него избавился!
И тут послышался какой-то монотонный шум, он был мне знако́м, но я не сразу определил, что это; вскоре окна покрылись прозрачным бисером, и тогда я понял: идет дождь, поливающий крыши и стены. Я примостил поудобнее голову на жиденькой подушке и забылся сном.
Все утро, несмотря на посетителей, я пребываю в каком-то дурмане. Откуда он взялся, тот неизвестный старик? Приникнув лбом к оконному стеклу, я гляжу на улицу. Из водосточной трубы на правом углу здания хлещут мутные потоки. Неба вообще не видать, просто бесцветная хлябь, извергающая ледяную воду.
В коридоре раздаются громкие четкие шаги. Кто-то стучит в дверь.
Я поспешно прыгаю в кровать, натягиваю на себя простыню и произношу стонущим голосом:
– Кто там?
Входит женщина в туго перепоясанном плаще.
– Мерзкая погода… Ну и климат – людям сущее мучение, а лягушкам полный кайф!
На женщине клеенчатая шляпа-колокол, под которой ее лицо выглядит длиннее и у́же, чем на самом деле. Бросив свой ранец на стул, она срывает ее и трясет головой, чтобы расправить слежавшиеся темные волосы. Теперь я вижу вполне банальное лицо с круглыми (слишком круглыми) карими глазами и острым носом.
– Здравствуйте! Меня зовут Клодина Пуатрено, я следователь. А это мой помощник Матье Мешен.
Позади нее стоит здоровенный малый, неуклюжий и сутуловатый; он приветствует меня так робко, словно извиняется.
– Ну, вот и познакомились, – заключает посетительница.
Ее голос соответствует внешности – такой же командирский. Она еще и не взглянула на меня как следует – борется со своим складным зонтиком, с которого течет на ее мокасины. Ассистент освобождает ее от этой заботы.
– Я поставлю его в ванной подсушить, – шепчет он.
Женщина небрежно благодарит и морщит лоб, уже переключаясь на рабочий лад. Я чувствую, что ее приход превратится в настоящее вторжение.
Подняв голову и сощурившись, она пристально смотрит на меня:
– Ну, как месье себя чувствует – хорошо? Он провел ночь спокойно?
Не дожидаясь моего ответа, она подходит и сверлит меня строгим взглядом.
– Месье еще не читал сегодняшнюю прессу?
– Нет.
Моя гостья вытаскивает из портфеля штук двадцать разных газет и бросает их мне на колени.
– Это черт знает что такое!
И она оборачивается к своему помощнику, который вынимает из сумки ноутбук.
– Позор! Просто позор! Других слов я не нахожу…
Она умолкает, видимо стараясь подыскать «другие слова», но сдается и разочарованно вздыхает:
– Из-за вас, месье, мы выглядим полными идиотами. А уж я – так настоящая королева придурков, хотя прекрасно обошлась бы без этого титула, можете мне поверить. Верно, Мешен?
Ее покорный спутник, явно не желающий подписываться под этим заявлением, делает вид, будто изучает температурный лист в изножье моей кровати.
А за окном по-прежнему свинцовая завеса дождя.
Женщина снова обращается ко мне; подняв брови, она указывает на газеты:
– Значит, пресса осведомлена лучше полиции? Вот уж поистине, мир перевернулся с ног на голову!
Я просматриваю газетные заголовки. Все они посвящены ужасу теракта и сообщают о количестве жертв, но рассказывают также и о террористе. Следователь Пуатрено тычет наманикюренным пальцем в один из заголовков: «Фанатик мертв. Его сообщник все еще на свободе». Затем предъявляет мне другой: «Подстрекатель, толкнувший смертника на эту акцию, сопровождал его до последней минуты». И третий: «Второй участник пока в бегах».
– Второй участник! А мы знать не знали, что их было двое! Со вчерашнего дня мы разрабатываем версию одинокого волка, не подозревая, что за этим взрывом стоит целая организация, хотя не исключали и такой вариант. И вот теперь выглядим полными недоумками, верно, Мешен?
Прикусив губу, она откидывается на спинку стула:
– Вас, Огюстен Тролье, я не обвиняю даже сейчас, когда зла на весь мир, но я просто убить готова инспекторов полиции, которые так поздно предъявили ваши свидетельские показания. Уж вы-то, по крайней мере, повели себя как профи – вызвали сюда своего босса.
И госпожа следователь сует мне в руки газету «Завтра». Как я и предвидел, на первой полосе – Филибер Пегар с объявлением о том, что он единственный, кто владеет важнейшей информацией. Она присаживается ко мне на кровать.
– Прекрасная реклама для вашей газетенки: ее цитируют все мировые массмедиа. А вот завтра они напишут о том, что Клодина Пуатрено, следователь с дебильными мозгами, узнаёт из газет то, что ей по должности положено знать раньше всех!
– Мадам, я никого не вызывал к себе. Когда медсестра привезла меня в эту палату, мой шеф уже был здесь. Ну и естественно, он начал меня расспрашивать…
– Вот сволочь! Впрочем, что тут удивительного! Надеюсь, вы не вообразили, что он оторвал задницу от стула и притащился к вам в больницу из человеколюбия?
– Месье Пегар никогда ничего не делает бескорыстно.
«Например, берет стажера, не платя ему ни гроша», – хочется мне добавить, но я удерживаюсь: не стоит бросать тень на мою свеженькую репутацию героя.
Теперь она уже смотрит на меня спокойнее:
– Сколько тебе лет?
– Двадцать пять.
– Можно, я буду с тобой на «ты»?
Она сбивает меня с толку, и я даже не решаюсь ей перечить; мое молчание расценивается как согласие.
– Что ты там делал, Огюстен?
– Месье Пегар послал меня на улицу собирать свежие новости.
– Как это – послал на улицу?
– Да, «на улицу», это его любимое выражение. Ходить в толпе, слушать, что говорят люди, что их волнует, – словом, раскидывать сети, авось и попадется что-нибудь интересное.
– Хм… «на улицу»… Скажи спасибо, что не «на панель» – так обычно выражаются сутенеры. Ай да Пегар, ну и мерзавец! Значит, ты вышел на улицу, держа нос по ветру, тебя толкнули, ты увидел старика и молодого парня и пошел за ними… Именно так написано в газетах. Все верно?
– Да.
– Мешен, нам придется построить следствие на новых данных.
Она произносит это жалобным тоном домохозяйки, вынужденной вновь начать распущенное вязанье.
– Ох, сейчас покурить бы…
Она делает паузу.
– Нет, нельзя: я ведь бросила.
И стонет:
– Господи, как же хочется подымить! Ты сам-то куришь?
– Нет.
– Браво! И не начинай никогда!
– Да уж, что касается дыма, то я его вдоволь наглотался при взрыве.
Ее плечи трясутся от сухого смешка. Она берет в свидетели ассистента:
– Ну и шутник же этот парень!
После чего наклоняется ко мне:
– Ты знал этого Хосина Бадави?
– Хосина Бадави?
– Ну, этого типа с бомбой. Ты никогда с ним не встречался?
– Нет.
– Точно никогда?
– Да нет же.
– А ведь Шарлеруа не такой уж большой город. Тут все друг друга знают как облупленных.
– Но я и с вами никогда не встречался.
Несколько секунд она смотрит на меня, потом объявляет:
– А ты совсем не глуп!
– Откуда вы знаете его имя?
– Он носил с собой документы, представь себе. Любопытно, не правда ли? Если бы я захотела все взорвать к чертовой матери, то ни за что не стала бы подписываться под своим преступлением, ну или, по крайней мере, не сразу, чтобы еще больше задурить головы полицейским, следователям, журналистам, жертвам и их семьям – словом, всему обществу. Ты согласен?
– Э-э-э… ну да…
– И в то же время ни ты, ни я не играем со взрывчаткой. Значит, между словом и делом есть какая-никакая разница… Впрочем, именно из-за таких рассуждений меня и считают безмозглой дурой, верно, Мешен?
Ассистент с нарочитым усердием строчит в блокноте.
Она встает и прохаживается по палате.
– Ты можешь описать того человека в джеллабе?
Я собираюсь с мыслями. Что делать – смолчать или признаться, что старик в джеллабе был размером с ворону и летал над плечом смертника?
– Полиция пришлет к тебе специалиста, чтобы составить словесный портрет.
Я до боли стискиваю пальцы.
– Ты что, сомневаешься? – восклицает она, садясь рядом.
– Д-да.
– Думаешь, тебе не удастся его описать?
– Ну… разве что частично…
– Не важно, ты все-таки попробуй!
Она встает и отряхивает юбку, словно могла ее запачкать в больничной палате.
– Ну ладно, мне скучать некогда, меня ждут три тысячи досье. Нельзя терять ни секунды. Мало того, коллеги так и норовят подставить мне подножку… И похоже, им представился очень удобный случай – испортить мне расследование такого громкого дела. Мешен, вы не помните, у меня был зонтик, когда я пришла?
– Он сохнет в ванной, госпожа следователь.
– Вот балда! Вечно я хожу с мокрыми зонтами!
Она натягивает плащ, с гримасой отвращения водружает на голову свою шляпу-колокол, видимо представив себе, как ужасно в ней выглядит, хватает свой портфель и брезгливо берется за зонтик, протянутый ассистентом. Подойдя к двери, она оборачивается:
– Я оставлю тебе газеты, ладно?
– Спасибо.
– Огюстен, кем ты хочешь быть?
– Писателем.
– Не журналистом?
– Нет, журналистикой я буду только зарабатывать на жизнь.
– Да ни черта ты ею не заработаешь! Я знаю, что говорю: был у меня когда-то бойфренд-журналист. Еле сводил концы с концами, вот и пришлось с ним покончить.
Боюсь даже сказать ей, насколько она права. Она качает головой:
– Будь писателем, Огюстен, только послушайся меня и подыщи себе еще одну работенку, чтоб хватало на квартплату. На твоем месте я бы устроилась продавцом в магазин, который ничего не продает. Или в картинную галерею. Вот идеальное место для размышлений! Всякий раз, входя в такую галерею, я боюсь помешать будущему Бальзаку или Прусту.
– И много вы знаете в Шарлеруа таких торговцев произведениями искусства, мадам?
– Верно, их тут раз-два и обчелся. Местные лягушки коллекционированием не занимаются. Я могла бы тебе порекомендовать кое-что равноценное: есть тут несколько магазинчиков – ни товаров, ни клиентов, попросту отмывают деньги; но если ты не член местной мафии, тебя туда и близко не подпустят. Ладно, мы об этом еще потолкуем…
Она выходит, но тут же возвращается.
– Так ты уверен, что не знаком с Хосином Бадави?
– Уверен.
– И все же ты от меня что-то утаил, я пока не знаю, что именно. Тем хуже, но позже я тебя расколю, не сомневайся! Мы еще только начали общаться…
За госпожой следователем и ее ассистентом захлопывается дверь. Цоканье их башмаков, подбитых железными подковками, еще долго слышится в коридоре; но вот наконец опять наступает тишина.
Меня терзают сомнения: хорошо ли я поступил, направив следствие и полицию по ложному следу, не рассказав им всю правду о том, что видел? Но теперь уже поздно идти на попятную: горький опыт подсказывает, что меня сочтут лжецом или просто ненормальным. Слишком часто со мной такое бывало.
В детстве я рассказывал о существах, которых иногда видел летающими вокруг людей, но мои слушатели относились к этому с полным безразличием. Ну кто станет принимать на веру болтовню одинокого сироты-заморыша, которого судьба швыряет из приюта в приют, из социального центра в приемную семью и обратно? Но я упорно гнул свою линию, и в конце концов мои учительницы попросили меня рассказать об этом подробнее; из их вопросов мне скоро стало ясно, что они не видят того, что вижу я. Ни они, ни мои товарищи. Вообще никто. Однажды меня жутко возмутило, что окружающие не замечают окровавленное, постоянно залитое слезами лицо, которое я видел над Эммой, четырехлетней девочкой, но воспитательница мне объяснила, что это плод моего воображения, который я принимаю за реальность, и вообще пора прекратить эти разговоры и сходить на консультацию к нашему психологу Карине Майё… Увы, ни она, ни я сам так и не поняли, что со мной творится. Если бы я просто выдумывал эти образы, мы бы определили их суть или назначение. Но я сталкивался с ними, обнаруживал, видел своими глазами. Где уж там выдумать – я только и мог, что принимать их появление, как принимают все, приходящее извне, как принимают нечто реальное… Психотерапевт упивалась моими рассказами, записывала их в блокнот, читала разные исследования на эту тему. Я обожал эти встречи, когда мы вместе входили в ее кабинет, такой светлый, увешанный цветными картинками, заставленный ящиками с массой игрушек. Карина была прехорошенькая – нежная кожа, пунцовые сочные губки, в них так и хотелось впиться, как в спелую вишню. Однажды утром она объявила, что верит мне и поэтому собирается изменить свою методику: теперь ей уже незачем анализировать мои рассказы, а пора заняться теми людьми, вокруг которых возникали эти фантомы.
– Понимаешь ли, Огюстен, призраки, вне всякого сомнения, связаны с ними, а не с тобой.
Наконец хоть кто-то принял меня всерьез… Теперь я смогу часами сидеть возле Карины, любуясь ее пушистым розовым пуловером и локонами с ароматом ириса.
Увы, я не успел насладиться этой новой ситуацией – на следующий день Карину сбил насмерть фургон сыровара.
Это стало моим первым тяжелым горем. Никого и никогда я так не оплакивал, как ее. И никогда никто не любил меня так, как она. Даже если я и проникался добрыми чувствами к каким-нибудь людям, никто из них ни разу не ответил мне тем же – никто, кроме Карины. В отчаянии я вообразил, что она погибла из-за того, что поверила мне… И почувствовал себя ответственным за ее смерть – хуже того, виновником. Теперь я знал: всем, кто будет слушать мои рассказы о призраках, суждено расстаться с жизнью. И с того дня приговорил себя к молчанию.
– Здравствуйте, меня зовут Соня.
В дверях появляется пухленькая розовощекая медсестра с подносом.
– Лежите-лежите, я сама все сделаю!
Она ставит поднос на столик-подставку и указывает мне на две прозрачные пластмассовые емкости среди тарелок с едой:
– Доктор предупредил вас насчет анализов? Ну так вот: эта для мочи, а эта для кала. Вы знаете, как это делается?
Я краснею.
– Это очень важно, Огюстен. Врачи хотят выяснить, нет ли у вас внутреннего кровоизлияния. Даже если вам это неприятно, вы уж постарайтесь меня порадовать. Я на вас рассчитываю!
А мне даже слушать ее неудобно.
– Вот и прекрасно. Я скоро забегу, и надеюсь, к тому времени вы меня порадуете.
Я боюсь встретиться с ней глазами и, пока она не покинула палату, упорно смотрю на свой обед: салат из тертой моркови, рыбное филе со шпинатом, камамбер и яблоко. Пытаюсь настроить себя на радостный лад и забыть о медперсонале, который больше интересуется результатами работы моего кишечника после еды, нежели ее вкусом.
Проглотив весь обед без остатка, я чувствую, что меня клонит в сон. За последнее время сытные трапезы перепадали мне так редко, что любая из них приводит к полному изнеможению. Пищеварительный процесс отнимает всю мою энергию. И я засыпаю с чувством блаженного облегчения.
Но сиеста не удалась: внезапно я чувствую чье-то постороннее присутствие. Открываю глаза.
Опять этот старик!
Он стоит, вцепившись костлявыми руками в никелированную спинку кровати, на сей раз подобравшись ко мне гораздо ближе, чем прошедшей ночью. И снова тот же настойчивый, вопрошающий взгляд. Мне страшно.
Я приподнимаюсь, натянув простыню до самого подбородка.
– Что… Что вам надо?
Он не двигается и едва дышит, но его выцветшие глаза настойчиво вопрошают меня.
Мы безмолвно смотрим друг на друга.
Чем дольше я его рассматриваю, тем более реальным он мне кажется. Слишком уж много у него морщин, слишком много бородавок и прожилок, избороздивших лицо, – синих, красных, фиолетовых. Он походит не столько на реального старца, сколько на карикатурное изображение такового. От крыльев носа до самого подбородка пролегли глубокие складки. Тонкая, вялая кожа, где-то восково-желтая, где-то пепельно-серая, висит как тряпка. Из ушей торчат пучки волос, хотя на черепе осталось всего несколько жиденьких полуседых прядок. Вникая во все эти вполне конкретные подробности, я начинаю подозревать, что старик – живой.
Успокоенный этой мыслью, я решаю его игнорировать, укладываюсь на бок, прячу голову под простыню и пытаюсь заснуть.
Мне это, несомненно, удается, потому что меня приводит в чувство только вторжение четверых полицейских.
– Мы пришли составить словесный портрет.
Я поднимаюсь. Уже шестнадцать часов.
Комиссар Терлетти, жгучий брюнет итальянского типа, с широкими бакенбардами и бритыми щеками, отливающими синевой из-за непобедимой средиземноморской щетины, объясняет мне необходимость этой процедуры. Сидя возле меня и бурно жестикулируя, он распространяет крепкий запах табака, каковой убеждает меня в его компетентности: такой человек должен выглядеть опытным профессионалом и настоящим мачо, упорным и молчаливым сыскарем, который не упустит ни след, ни добычу, который способен всю ночь просидеть в баре или в машине, смоля сигарету за сигаретой и подстерегая преступника. Этот едкий запах одурманивает меня так же, как хриплый голос комиссара, и я тотчас решаю, что не разочарую его.
Терлетти выходит, прихватив с собой двоих сотрудников и оставив в палате некоего Марка, парня моего возраста, с угловатым лицом в оспинах.
Марк придвигает стул к моей кровати и садится так, чтобы нам обоим был виден экран его ноутбука.
– Расскажи мне, что тебя поразило в этом человеке, в любом порядке. Опиши его взгляд, лоб, волосы… а потом я покажу тебе условный портрет. И не бойся ошибиться, иногда мы будем возвращаться к началу, нам спешить некуда.
Я старательно роюсь в памяти. Овал лица, форма носа, рисунок ноздрей, ширина подбородка, расположение волос на голове, толщина губ, линия бровей, взаимное соответствие всех этих черт… Я должен выбрать нужный вариант из двадцати пяти ртов, описать форму головы независимо от прически, выявить или, наоборот, опустить какие-то мелочи, что-то сдвинуть, увеличить или уменьшить, не зацикливаясь при этом на одном-единственном изображении, а непрерывно сопоставляя его со своими воспоминаниями…
Время от времени в палате возникает медсестра, с вопросом:
– Ну, чем порадуете?
Мне очень хочется ей ответить, что, в моем понимании, справлять малую или большую нужду не значит радовать ее, но я удерживаюсь и всякий раз обещаю, что скоро все будет готово, а пока возвращаюсь к тщательному воссозданию портрета.
Два часа спустя я в полном изнеможении объявляю Марку, что теперь лицо на экране более или менее похоже на увиденное мной, не уточняя, правда ли это, или я сам себя убедил в его идентичности оригиналу.
Инспектор покидает палату. А я пользуюсь этой паузой, чтобы забежать в ванную, где торопливо пытаюсь выполнить свой долг больного. Здесь, в больнице, мне уже ничто не принадлежит – ни распорядок дня, ни мое тело, ни память, ни экскременты. Странное дело, меня даже не слишком шокируют собственные потуги совершить желаемое, я всего лишь дивлюсь тому, какие они теплые – оба эти продукта работы моего организма.
И когда Соня опять наведывается ко мне, я торжественно вручаю ей наполненные контейнеры: наконец-то мне удалось ее порадовать.
Теперь я лежу, раздумывая, стоит ли засыпать снова: а вдруг опять появится жуткий старик.
Но тут входит комиссар Терлетти, а за ним Марк и двое других полицейских. Комиссар открывает ноутбук:
– Сейчас Марк покажет тебе фотки, и ты скажешь, узнаёшь ли кого-нибудь. Готов?
– Готов, – отвечаю я, тотчас заражаясь его энергией.
Он передает ноутбук Марку.
– Ну, давай! В самом конце ты увидишь фотоальбом семейства Бадави. И как только узнаешь кого-нибудь, дай знак; мы будем тут, рядом.
Засим Терлетти и двое его спутников покидают палату, оставив после себя запах остывшего табачного пепла.
Марк показывает мне, одно за другим, досье подозреваемых. Вначале я предельно сосредоточен, но вскоре устаю. Лица на снимках выражают либо спокойствие, либо агрессию; самые подозрительные из них – именно спокойные: в них угадывается глубоко скрытая потенциальная жестокость, куда более грозная, нежели нарочитая свирепость «крутых парней». Эту коллекцию дополняет третья категория – обдолбанные, с застывшими лицами и пустыми, бессмысленными глазами, ни дать ни взять рыбы в аквариуме: та же оцепенелость, те же расширенные зрачки и отвисшие губы.
– Никого не узнаешь? – настаивает Марк.
– Никого.
В семейном альбоме я вижу на всех фотографиях одну и ту же комнату со столом, креслом и диваном. Видимо, в семье Бадави аппаратом пользовались только в дни праздников или семейных торжеств. Обстановка не меняется, меняются только люди – молодые растут вверх, старики раздаются вширь. Из-за вспышки все зрачки выглядят красными и пустыми, как будто снималась компания наркоманов. Глядя на эти банальные позы, на эти улыбки – то застенчивые, то сияющие, но ни одной искренней, – я радуюсь тому, что лишен семьи. Не хватало мне еще умиляться такому…
– Вот он!
Я выкрикнул это во весь голос.
Человек, которого я видел на бульваре Одан, сидит в кресле, держа на коленях мальчонку. Следующее фото: тут он стоит сбоку, в стороне от дивана, с целой кучей женщин и детей. И вот, наконец, третий снимок – на сей раз настоящий фотопортрет, на нем он курит сигарету без фильтра, безразлично глядя куда-то в пространство.
– Я уверен, что это он!
Марк бросается в коридор. Через пять минут он приводит комиссара Терлетти и его коллег.
– Который из них?
Я указываю на три снимка.
Комиссар мрачнеет и потирает подбородок:
– Значит, он?
– Он!
– Ты ничего не путаешь?
– Ничего.
Комиссар чешет щеку, и она поскрипывает, словно он проводит пальцами по терке.
– Это его отец, Мустафа Бадави.
Трое полицейских застывают на месте.
– Отец террориста?
– Отец послал на смерть родного сына…
– Да еще сопровождал его и бросил в последний момент!
– Вот сволочь поганая!
Им уже не терпится действовать, они рвутся в бой:
– Надо срочно брать его, шеф!
– Я сейчас позвоню следователю.
– Да не стоит, поедем сами, зачем нам поднимать всю бригаду!
Но Терлетти сурово осаживает их:
– Спокойно, никто никуда не едет. Все остаются здесь.
– Почему, шеф?
– Парень ведь уверенно его опознал!
– Да, да, я абсолютно уверен! – пылко восклицаю я.
Комиссар Терлетти решительным взмахом пресекает наши вопли, потом, нахмурившись и яростно раздув ноздри, пристально смотрит на меня и говорит:
– Мустафа Бадави умер от рака десять лет тому назад.
4
– Значит, ты видишь мертвых, Огюстен?
Следователь Пуатрено склоняет голову к правому плечу, словно ей легче разобраться во мне под таким углом. Помолчав, она повторяет – сдержанным, доверительным, почти умиротворяющим тоном:
– Значит, ты видишь мертвых?
Она не насмехается надо мной, она именно задает вопрос, как это делала Карина во времена моего детства. И этот же вопрос она, видимо, задает самой себе, потому что размышляет в ожидании моего ответа.
Я разглядываю ее овальное, гладкое лицо со стертыми чертами; глаза кажутся круглыми пуговицами, нашитыми на голову тряпичной куклы; она не вызывает у меня никакого враждебного чувства. Мягкого света ночника в изголовье моей кровати хватает только на наши лица, а метром дальше он растворяется в темноте. Время уже за полночь, и этот густой мрак вкупе с мертвой тишиной создает у меня впечатление, что только мы двое и бодрствуем в мирно спящей больнице.
– Ты видишь мертвых, Огюстен?
Вопрос трепещет, повисает в воздухе между нами. Сказать ей правду?
Несколькими часами раньше мой разговор с комиссаром Терлетти закончился полным фиаско. Одна-единственная фраза – и я превратился из свидетеля в лжеца.
– Где ты впервые встретился с Хосином Бадави и его отцом?
– На бульваре Одан.
– На бульваре Одан ты мог видеть только Хосина, потому что Мустафа Бадави давным-давно гниет в могиле! – презрительно бросил он мне.
Я и сам подозревал, что Мустафа Бадави ведет совсем не то существование, что Терлетти, его коллеги или я… И конечно, мне следовало признаться, что там, на бульваре, в Мустафе Бадави было всего тридцать сантиметров роста. Но я заранее предвидел, как среагирует комиссар на такое заявление: «Тридцать сантиметров роста! Значит, месье видит тридцатисантиметровых людей? Которые вдобавок передвигаются по воздуху? Эй, звоните главврачу, пусть переведет этого парня в психушку!»
И в общем-то, он был бы где-то прав… Я давно свернул с пути здравомыслия на те дорожки, которые многие врачи назвали бы галлюцинациями. Однако до безумия мне еще далеко: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что столкнулся с необъяснимым феноменом, а потому счел за лучшее молчать. Это молчание – единственное и последнее доказательство моего психического здоровья, я его холю и лелею.
– Где ты встречался с Хосином и его отцом?
– Нигде.
– Где?
– Нигде и никогда.
– Да говори же, черт тебя подери!
– Я вам клянусь, что…
– Вот-вот! Давай, клянись, как все аферисты… Но лучше признайся сам, пока я не начал рыться в твоем прошлом. Вы с ним ходили в одну школу? Или в футбольный клуб? Или в подростковый центр Ла Гаренн? Может, вы были соседями по дому? Или еще где-то пересекались?
Я упрямо молчу.
Побагровев от ярости и затопав ногами, комиссар Терлетти заорал, что дело далеко не кончено, что он будет меня допрашивать, пока я не расколюсь, а иначе не видать мне белого света… Он так ругался, что Марк, инспектор, с которым я составлял фоторобот, рискнул выступить в мою защиту:
– Извините, шеф, но, может, у Мустафы Бадави был брат, на него похожий? И дядя вполне мог завлечь племянника в экстремистскую организацию…
– У Мустафы Бадави не было брата!
– Надо бы поискать в их семье… Возможно, кузен или другой родственник… Лично я убежден, что Огюстен питает самые добрые намерения…
– Самые добрые?!
– Но я видел, как он старался помочь, когда мы составляли фоторобот.
– Старался помочь, скажите на милость!.. Скорее корова тебе поможет! Скорее осел тебе поможет! Ладно, хватит болтать, пора за работу!
И Терлетти покинул палату, даже не взглянув на меня; полицейские вышли за ним. На пороге Марк оглянулся, его лицо выражало полную растерянность, он словно хотел сказать: «Я знаю, ты описал то, что видел. Постараюсь успокоить и переубедить шефа».
Дверь с треском захлопнулась, и я услышал тяжелые шаги полицейских, уходивших в недра больницы. У меня стучало в висках, сердце едва не выскакивало из груди. Я был расстроен вконец! Расстроен тем, что расстроил их! Особенно Терлетти. Как мне хотелось стать для него нужным человеком! На протяжении нескольких часов я видел себя его глазами, его жгучими глазами; верил в собственную значимость, хотел заслужить его внимание, достойно ответить на его кипучую энергию, на страстную увлеченность этим расследованием, мечтал вознаградить его за все усилия. Взволнованный происшедшим, я с головой ушел в свою роль основного свидетеля, напрочь забыв главное: то, что я знал о человеке в джеллабе, размером с ворону, останется для него невидимым.
И вот теперь finita la commedia![6] Я был сам себе противен.
В гневе я накрылся с головой одеялом, чтобы ничего не видеть вокруг. Вот так всегда! Всякий раз, как я решал вести себя честно, начинались недоразумения, меня принимали за неумелого лжеца и отшвыривали, точно ненужную тряпку.
Ах, если бы я мог сдохнуть!
Увы, миссия невыполнима…
И это угнетает меня больше всего: я никак не могу покончить со своей ничтожной жизнью. Что бы ни случилось, мое тело упрямо, механически противится моему желанию умереть. Оно хочет существовать, и точка, – а чего ради?! Мой разум эфемерен, значение имеет только плоть, весомая, медлительная, неподатливая. По сути дела, я не способен ни жить, ни умереть. Мой удел – полная никчемность. «Ни на что не годен», – твердили мои воспитатели.
Так принесет ли мне облегчение смерть?
Сильно сомневаюсь.
Если она выражается в том, что ты ничего не стоишь в глазах окружающих, то я уже давным-давно умер. Даром что живой, я – мертвец, которому разве что не кладут цветы на могилку. И чтобы принести мне подлинное утешение, смерть должна избавить меня от мучительного сознания собственного ничтожества. А как в этом убедиться?!
– Ну-ка, вылезайте из своего домика, пора кушать!
Я откинул одеяло, и Соня поставила мне на колени поднос с ужином. Я смотрел на нее с мрачным подозрением.
– Огюстен, я поговорила с врачом: теперь вам разрешается ходить, можете даже гулять по коридору.
– В этой вот рубашонке?
– У вас есть халат, он висит за дверью в ванной.
Я неохотно, почти с отвращением, поел, мысленно спрашивая себя: к чему участвовать в этой комедии, кормить столь бесполезное существо?!
В результате, из гордости, я не доел ни одно блюдо. И не столько желая наказать себя, сколько стремясь убедиться, что я могу принудить к повиновению это проклятое тело, этот организм, наделенный бесполезными жизненными силами. Оставив почти полные тарелки, я слегка воспрянул духом, почувствовал уважение к собственной персоне и зашел в ванную, где облачился в махровый купальный халат сомнительной белизны, с вытертым до основы воротником. Зеркало предъявило мне нелепое существо с худыми ногами под обвислыми полами просторного халата – точь-в-точь опрокинутый тюльпан с парой хилых пестиков.
Я прогулялся по коридору, заглядывая по пути в полуоткрытые двери других палат. Все телевизоры были подключены к новостным каналам, на всех экранах одна и та же картинка – Шарлеруа, Шарлеруа во время драмы, Шарлеруа после драмы, министры, шествующие по площади Карла Второго, сам король, возлагающий венок на паперти Святого Христофора. Восемь погибших, двадцать пять раненых. Далее шла нарезка из международных откликов на это событие, соболезнования от президента США, от президента России и прочих, все они выражали их, стоя у своего знамени. Это был настоящий конкурс сочувственных речей и призывов к братству народов. Шарлеруа стал центром всего мира.
Тут я вспомнил, что у меня самого в палате есть телевизор, вернулся и нажал на кнопку пульта. Увы, экран, подвешенный к потолку, сообщил мне, что за доступ к каналам нужно платить.
Приуныв, я снова пошел бродить по коридорам. И всюду больные и их посетители сидели, вперившись в экран. На этаже царила атмосфера всеобщей растерянности.
Я ловил обрывки речей, доносившихся из палат. Эксперты по безопасности, террору и антитеррору один за другим выступали перед зрителями, и каждый упорно, вдохновенно убеждал публику в правильности именно своего анализа, именно своей оценки события; однако после каждого выступления я знал не больше, чем вначале.
В центральной части коридора я увидел нечто вроде загона, огороженного кадками с пластиковыми пальмочками; там стояли кресла из искусственной кожи и телевизор – на сей раз бесплатный. Какой-то сгорбленный старик сидел на стуле чуть ли не под экраном, закинув голову, чтобы видеть изображение. На скамье у стены пристроилась стайка медсестер. Женщина в уголке, возле автомата с напитками, вязала пинетку из голубой шерсти.
Что значит стадное чувство, – я тоже присел и несколько минут смотрел эту информационную телемессу.
«Мусульманская община в шоке!» – заорал во весь голос какой-то репортер… Теперь камера двигалась по улицам Шарлеруа, демонстрируя женщин в чадрах, скорбно выражавших свое сочувствие. Все они напоминали зрителям, что истинный мусульманин никогда не поступил бы так, как Хосин Бадави. «Некоторые из них настолько потрясены, что им не хватает слов, дабы выразить невыразимое!» – добавил ведущий, после чего на экране возникла растерянная Умм Кульсум, стоявшая возле уличного прилавка бакалейщика. Объектив камеры задержался на ее физиономии с дряблыми губами, багровым носом и испуганными, точно у всполошенной курицы, глазами; на вопросы журналиста она отвечала невнятным бурчанием. Для всех, кто не знал, что она с утра до вечера накачивается пивом, Умм Кульсум была воплощением горя, охватившего маленькую мусульманскую общину.
Я не мог оторваться от экрана.
Ввиду того что ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв, гипотезы шли сплошным потоком. Список потенциальных преступников непрерывно повторялся, вызывая бесчисленные комментарии. Постепенно репортаж о реальных фактах превращался в роман о вымышленных. За недостатком точных сведений средства массовой информации изображали мир не таким, каков он есть, но таким, каким он мог бы быть, вернее, каким они хотели его показать. Виртуальная реальность заслонила конкретную. Шарлеруа, который я знал, они подменили другим Шарлеруа – выдуманным, изуродованным, показанным глазами злопыхателей; теперь он выглядел эдакой вавилонской башней ненависти, оплотом джихада, средоточием мелкого и крупного бандитизма, толкающего несчастных, сбитых с толку людей к терроризму. В этих сюжетах, да еще с соответствующим видеорядом, все нелегальное, незаконное, грязное брало верх над дозволенным, законным и чистым. Шарлеруа изображался какой-то клоакой, скопищем пустующих, заброшенных домов, складов, размалеванных мерзкими граффити, и подвалов, где хранится оружие; складывалось впечатление, что в городе нет ни мэрии, ни школ, ни лицеев, одни только буферные зоны, куда полиция боится совать нос. Как раз во время этого параноидального репортажа я с удивлением заметил быстро мелькнувший кадр: вполне нормальные детишки выходили из ворот хорошенького детского садика на вымытый тротуар, где их ждали вполне нормальные родители.
Шли часы, но эта вакханалия не кончалась.
Блицы фотоаппаратов. Коммюнике. Облеты города. Короткие сводки. Опросы населения. Первые реакции после взрыва.
Этот шквал новостей буквально выжег мне мозг, превратив его в пустую камеру, эхом повторяющую все, что ловил слух. Я уже верил в экранный пафосный репортаж, который становился чем дальше, тем убедительнее, подтвержденный той или иной газетой, пережеванный экспертами, санкционированный властями. Теперь я уже не рассуждал самостоятельно, а чувствовал лишь то, что позволяли мне чувствовать журналисты с их непререкаемым мнением.
– О господи, куда ни сунься, кругом опасно! – проворчала вязальщица.
– Лучше уж переехать отсюда подальше, – вздохнула одна из сестричек.
Репортаж перенесся к дому, где жил Хосин Бадави. Соседи утверждали, что парень всегда был спокойным, услужливым, вежливым. «Кто бы мог подумать… У нас здесь так тихо… Тут живут только приличные люди…» Показали мать; она выкрикнула сквозь слезы, что полиция ошиблась, обвинив ее сына: «Он был хороший мальчик! Очень хороший мальчик! Обожал всю нашу семью. Этого быть не может!»
Чей-то голос проворчал за моей спиной:
– Хороший… еще чего! Этого хорошего шесть раз выгоняли из школы, он и воровал, и с оружием баловался, и наркотой промышлял; в одиннадцать лет его уже загребла полиция, а с восемнадцати до двадцати двух его подвигов хватило на толстенное досье и несколько месяцев тюрьмы. Ну прямо ангелочек! Лично я, мадам Бадави, назвала бы его отпетым мерзавцем!
Обернувшись, я увидел следователя Пуатрено, прислонившуюся к стене.
«Такой милый мальчик!» – верещала, всхлипывая, мамаша.
Пуатрено злобно глядела на экран:
– Ну еще бы! Да она сама такая же преступница, как ее выродок… Эта мамаша во всем потакала своему сынку, а он никогда ее не слушался; боюсь, что мы с ней расходимся во взглядах на хорошее воспитание. Что она имеет в виду, называя его милым мальчиком? То, что он не лупил палкой родную мать?
При этих словах она повысила голос, и к ней обратились все лица. Смущенно кашлянув, она извинилась:
– Не обращайте внимания, это нервы… просто нервы…
Успокоенные зрители снова прилипли к экрану.
Она тронула меня за плечо:
– Я пришла поговорить с тобой, Огюстен. Может, вернемся в палату?
Кивнув, я встал, собираясь идти за ней.
– Погоди-ка, я возьму себе кока-колу. Ничего не ела с самого утра.
Она сунула евро в автомат, и тот с жутким грохотом выдал ей банку колы.
– Я смотрю, вы одна, а где же месье Мешен?
– Мешен? Ну нет, он, бедняжка…
Она сорвала язычок с банки и задумчиво продолжала:
– Этот парень, конечно, симпатяга – преданный, вежливый, умытый и привитый, но должна тебе сказать, что пороха он не выдумает.
И она закатила глаза к потолку, словно искала там более вдохновенные слова:
– А хуже всего, что для демонстрации всех своих блестящих качеств он нуждается в девяти часах сна, и никак не меньше.
Она отпила из банки и поморщилась:
– Фу, какая гадость, такую отраву следовало бы продавать в аптеке!
И жестом предложила мне пройти по коридору.
– У тебя есть подружка?
– Что-что?
– Я спрашиваю, у тебя подружка есть? Хотя я-то прекрасно знаю, что нет.
– Почему вы так думаете?
– Иначе она была бы здесь.
Мы подошли к моей палате.
– А жаль! Ты заведи себе подружку… Ну ладно, ладно, меня это не касается. Но все-таки признайся, тебе хотелось бы?
– Э-э-э… д-да…
– Ну так за чем же дело стало? Ты, конечно, страшненький, но не более, чем все остальные мужики.
Я с трудом сглатываю слюну. Она чувствует, что обидела меня.
– Да-да, я повторяю: ты страшненький, но не более, чем все другие. Вот посмотри на меня: в твоем возрасте я уже завела себе дружка! Хотя вовсе не была мисс мира.
И она резким жестом отбрасывает со лба непокорную прядь.
– И не «мисс Бельгия», и даже не «мисс Шарлеруа». Мисс Ничтожество – вот мой титул. Все очень просто, в шестнадцать лет меня не приняли в мажоретки! И вот что я тебе скажу…
Я вздрагиваю. А она продолжает победным тоном:
– Представь себе, Мешен женат на такой красотке – настоящая Венера, ей-богу! Люди прямо балдеют, когда видят их вместе. Да и я тоже… Мало того, у них родилось трое детишек, таких же пригожих, как их мать! Вот видишь, пути наследственности неисповедимы…
Я укладываюсь в постель, а она садится рядом.
– Скажи, Огюстен, ты дурак?
Я прямо цепенею от такого вопроса. А следователь Пуатрено невозмутимо продолжает:
– Вот как комментирует твое заявление комиссар Терлетти: ты решил нас провести, направив на след покойника. Как он это объясняет? Очень просто: он считает тебя болваном, маразматиком, у которого на уме только одно – привлечь к себе внимание.
Она смеется.
– Наш дорогой Терлетти горазд на прямолинейные решения. У него, наверно, и пальцы растут под прямым углом. Ты заметил, какой он волосатик? Растительность прет у него отовсюду – из ворота рубашки, из-под обшлагов! Лично у меня это вызывает серьезные подозрения. О, я не считаю, что обилие мужских гормонов так уж отвратительно, – скорее наоборот, если уж хочешь знать, – но не очень-то верю теориям, родившимся от избытка тестостерона. Тебе понятно, что я имею в виду?
– Нет.
Она встает и подходит к окну, затянутому пеленой дождя, сквозь которую едва пробивается бледно-оранжевый свет фонарей.
– Знаешь, Огюстен, передо мной каждый божий день проходят преступники. Хулиган, который потрошит машины средь бела дня. Дилер, торгующий дурью прямо под камерами наблюдения. Продавщица из магазина готовой одежды, которая таскает из торгового зала платья, носит их, а потом возвращает на вешалки, даже не постирав. Ночной охранник, устраивающий выпивон на рабочем месте. Бармен, который тайком отхлебывает из бутылок. Дальнобойщик, забросивший пару ящиков с товаром к себе домой. Кассир, переводящий банковские средства на свой счет. Уборщица, которая таскает у хозяина чеки и подделывает на них его подпись. Подросток, угрожающий лавочникам водяным пистолетом. Фальшивые слепцы, фальшивые калеки, фальшивые нищие и так далее и тому подобное… В глазах полиции или государства они – правонарушители, а для меня в первую очередь тупицы. Никчемные тупицы! Которые засыпаются на первом же проступке. И получают свою первую судимость из-за каких-то несчастных пятидесяти или ста евро, из-за такой ерунды… Ты пойми: чтобы стать настоящим преступником, нужно быть очень хитрым и находчивым. А у них в голове ума не больше, чем у вареной улитки. Вообще, когда я выжимаю из них показания, мне бывает так скучно, что я в конце концов сама им указываю, как ловко нужно было действовать, на какие тонкие комбинации идти, к каким блестящим уловкам прибегать, какие сложные ходы придумывать ради успеха предприятия. «По крайней мере, тогда я хотя бы уважала вас!» – говорю я им. Они слушают меня разинув рот; будь у них хоть капелька соображения, я бы побоялась, что тем самым прочищу им мозги, но нет, я ничем не рискую! Большинство людей не имеют никакого понятия о совершенстве, они мыслят на уровне своих примитивных инстинктов. Сплошное убожество! Я избрала профессию следователя, чтобы отточить интеллект, а посвящаю свои дни каким-то слизнякам. Следователь… да это просто смеху подобно! Я работаю с приматами!
Она снова садится и начинает что-то искать в своем портфеле.
– Впрочем, они до того глупы, что не возмущаются, даже когда я говорю им это в лицо.
И она вытаскивает из портфеля пакетик леденцов.
– Типичного дурака сразу можно распознать именно по этому признаку, а в их лексиконе даже слова такого нет.
И она протягивает мне пакетик:
– Хочешь? Они без сахара. Не очень вкусные, зато безвредные. Я предпочитаю этот сорт, с ароматом фиалки.
– Нет, спасибо.
– А ты – дурачок? Ну скажи откровенно: ты глуп?
Говорю, опустив глаза:
– Я и сам часто задавал себе этот вопрос…
– …что уже свидетельствует о более высоком уровне интеллекта. Ну и?..
– …и сделал вывод, что страдаю серьезными недостатками – излишней доверчивостью, ленью, медлительностью, – но никак не глупостью. Может, я не слишком умен, как некоторые, но и не круглый дурак.
– Вот и я думаю то же самое. Только законченный идиот мог сотворить такое, надеясь, что его не уличат.
– Не понял?
– Ну, заявить, что ты видел человека, зная, что он мертв. И подробно описать, а потом составить фоторобот и узнать его на снимках – словом, предоставить нам максимум признаков, которые помогли нам установить, что его больше нет на свете, твоего старичка.
Она бросает в рот леденец и начинает гонять его от щеки к щеке.
– Никогда не могла понять, почему я обожаю эту гадость. Хотя… то же самое и с куревом. Похоже, меня тянет только на вредное… А ты помнишь свою первую сигарету?
– Да.
– И как ты ее нашел?
– Мерзкой.
– Значит, она первая, она же и последняя? Ты больше не курил?
– Верно.
– Ну вот, я же говорила, что ты не глуп. – И, усевшись, она вздыхает: – К тому же не так упрям, как я! И не такой тупица, как Терлетти!
Она уныло заглатывает еще один леденец, потом в упор смотрит на меня:
– Нет, Огюстен, ты нам не соврал. Даже самый безмозглый дебил и тот не решился бы на такое наглое вранье! Ты ведь сказал нам правду, верно?
– Да.
– Но только ты сказал нам не ВСЮ правду.
Я колеблюсь. Она наговорила столько всякого-разного, вдавалась в такие подробности и нюансы, что заморочила вконец. Вцепилась в меня намертво, гипнотизируя, точно удав кролика.
– Так это правда или нет?
Я все еще колеблюсь.
Тронув меня за плечо, она шепчет:
– Так это правда?
– Правда.
Она удовлетворенно кивает:
– Хочешь, я тебе помогу?
– В чем?
– Говорить.
– Я не собираюсь говорить.
– Вот я тебе и помогу. Это можно выразить одной фразой.
Она пристально смотрит мне в глаза:
– Ты видишь мертвых, Огюстен?
И следователь Пуатрено склоняет голову к правому плечу, словно ей легче разобраться во мне под таким углом. Помолчав, она повторяет – сдержанным, доверительным, почти умиротворяющим тоном:
– Значит, ты видишь мертвых?
Она не насмехается надо мной, она именно задает вопрос, как это делала Карина во времена моего детства. И этот же вопрос она, видимо, задает самой себе, потому что размышляет в ожидании моего ответа.
Я разглядываю ее овальное, гладкое лицо со стертыми чертами; глаза кажутся круглыми пуговицами, нашитыми на голову тряпичной куклы; она не вызывает у меня никакого враждебного чувства. Мягкого света ночника в изголовье моей кровати хватает только на наши лица, а метром дальше его поглощает темнота. Время уже за полночь, и этот густой мрак вкупе с мертвой тишиной создает у меня впечатление, что только мы двое и бодрствуем в мирно спящей больнице.
– Ты видишь мертвых, Огюстен?
Вопрос трепещет, повисает в воздухе между нами. Сказать ей правду?
5
– Некоторые мертвецы менее мертвы, чем остальные. Они обитают среди живых.
– И ты таких видишь?
Испустив тяжкий вздох, означающий: «Спокойно, не торопите меня!», я начинаю терзать заусеницы около ногтей, лишь бы избежать взгляда следователя Пуатрено, уклониться от его гипнотической силы.
– Я долго размышлял, мадам Пуатрено, и пришел к выводу, что большинство покойников исчезает безвозвратно. Иначе у нас тут началась бы такая давка – пальцем не шевельнешь, чтобы не задеть какого-нибудь призрака. Вы только вдумайтесь: в настоящий момент нас на Земле восемь миллиардов, но если прибавить к ним прежних, тех, что существовали во все предыдущие два миллиона восемьсот тысяч лет, то численность населения нашей маленькой планетки взлетит до сотни миллиардов душ! – Я отдираю засохшую полоску кожи у ногтя большого пальца правой руки и добавляю: – Правда, мне неизвестно, куда подевались те, давние мертвецы.
– Очень просто – стали прахом! Такова участь всех покойников.
– Мм…
– Их тела обратились в перегной, а затем попали в цветы, в деревья, в животных. Я уверена, что даже в нас есть крошечные частички умерших!
Я пристально гляжу на нее: осознает ли она, до какой степени права? Однако решаюсь ей возразить:
– А я думаю, что они витают вокруг нас.
– Вокруг?!
И следователь Путарено скрещивает руки на груди.
– Огюстен, ты меня за дурочку, что ли, держишь? Рассуждаешь о мертвецах, которых ни ты, ни я не видим. Какое нам до них дело?
– Но незримое существует, разве нет?
– Конечно! Вот именно поэтому я тебя и мучаю вопросом: ты видишь мертвецов, которых я не вижу?
– Да, но только тех, которые наименее мертвы.
Она отряхивает брюки, скрещивает ноги, потом меняет позу, откашливается, смотрит на окно и на дверь, словно ищет выход. И наконец восклицает:
– Придется мне поостеречься!
– Кого – меня?
– Себя самой! Я что-то стала чересчур доверчивой.
И, убедившись, что нас не подслушивают, наклоняется ко мне:
– Давай рассказывай…
– Вначале я не понимал, что происходит. Люди не обращали никакого внимания на некоторые существа, которые я видел; иногда те имели нормальные габариты, но чаще всего – уменьшенные. Что в них было особенного? Они удивляли тем, что появлялись и исчезали в любой момент, свободно проходя сквозь стены, пол и потолок. Они никогда не входили через дверь и не выходили через окно. Возникали и улетучивались свободно, не обращая внимания ни на какие препятствия. И каждый раз появлялись, чтобы сопровождать кого-то одного, не заботясь о других людях, в том числе и обо мне. Если я обращался к ним, они и ухом не вели, самое большее, бросали на меня взгляд, словно говоривший: «Ты-то тут при чем?» Сейчас, задним числом, я даже начинаю сомневаться, что этот взгляд был адресован именно мне. Может, это просто мои фантазии.
Мне не терпится развить эту тему, но жадный взгляд следователя Пуатрено заставляет меня продолжать. И я, переведя дух, рассказываю дальше:
– Главное отличие этих существ от людей состоит в том, что они гораздо более экспрессивны. На лице призрака всегда отражается одно-единственное чувство, но оно настолько сильно, что ни одному, даже гениальному, актеру никогда не достичь такого накала выразительности. Эти лица способны передать любую эмоцию – уныние, ехидство, недоверие, боль, даже равнодушие; например, в нашей школе одну девочку, рыжую Изабель, всегда сопровождала мать уменьшенного размера; я никак не мог понять, зачем она так липнет к дочери: судя по ее виду, она смертельно скучала.
– Она разговаривала с девочкой?
– Нет, просто смотрела на нее с надутым видом, и больше ничего. Полнейшее безразличие!
– А ты делился своими соображениями с близкими?
– Да. Я пробовал рассказывать об этих… летучих созданиях, но скоро понял, что напрасно досаждаю людям: они недоумевали, хмурились, если я настаивал, а потом и вовсе приказывали мне замолчать. Я тогда уважал взрослых, и мне казалось, что они попросту притворяются, будто не видят их. Да и ребята, мои сверстники, вели себя точно так же. Из этого я сделал вывод, что о некоторых существах не принято говорить вслух. Просто нельзя, и все. Ведь существуют же в Индии неприкасаемые, отвергнутые всеми другими кастами; один их вид оскверняет окружающих, а тень заражает тех, кто на нее наступил. И вот когда я увидел репортаж об этих париях, то окрестил своих летучих призраков Неназываемыми.
– А когда же ты понял?..
– Что они скорее Невидимые, чем Неназываемые?
– Нет, когда ты понял, что они мертвы?
– Однажды меня озарило на похоронах. Это были первые – и, кстати, последние – похороны, на которых я присутствовал. Мне было тогда шесть лет, и соцработники отдали меня в приемную семью Гульмье, жившую на ферме в Меттэ. Рауль, старший брат мадам Гульмье, которого я часто видел в их доме по воскресеньям, скончался от сердечного приступа. В день печальной церемонии мадам Гульмье не с кем было оставить своих шестерых приемных детей, и она взяла нас с собой на похороны Рауля. Честно говоря, я не особенно горевал. Меня разморило от запаха мастики, которой натирали сиденья и молитвенные скамеечки, я дремал во время мессы, зевал, пока присутствующие выражали соболезнования семье покойного, и спотыкался от усталости, следуя за гробом, который несли через деревню на кладбище. Меня заинтересовал только сам момент погребения, когда я смотрел, как гроб спускают на веревках в могилу. Это зрелище не столько расстроило, сколько увлекло меня; я зачарованно следил за чинным ритуалом, разглядывал стоящих рядком родственников покойного, могильщиков, молча и споро делавших свое дело, кюре, готового произнести отходную, и толпу прихожан, единодушно склонивших головы во время молитвы, вслед за чем повторилась церемония выражения соболезнований. Но тут настал мой черед размахивать кадильницей, и теперь меня заботило только одно – как с ней управиться; я уже начисто забыл о покойнике. Мадам Гульмье, убитая горем, долго еще стояла у могилы и никак не хотела уходить, а мы, все шестеро, понурившись, терпеливо ждали рядом. На аллее остались только близкие родственники. Могильщик засыпал яму и сделал сверху аккуратный холмик, на который служащие похоронного бюро возложили венки и букеты, и вдруг я увидел, как покойник выскользнул из-под земли, взлетел в воздух, развернулся и, не колеблясь, сел на плечо жены и на плечо дочери. Да-да, это был он, Рауль, только размером с птицу. Я сразу его узнал. И завопил. Ко мне обернулись.
«Какая муха тебя укусила?» – воскликнула мадам Гульмье.
«Да так…» – пробормотал я, боясь сказать правду.
«Ничего странного, мальчик взволнован», – прошептала одна из кузин.
А я не мог оторвать взгляд от Рауля. Он сидел на двух плечах. Я подчеркиваю: сразу на двух плечах – у дочери и у молодой жены. Раздвоившись!
– А у него были другие дети?
– Два взрослых сына от предыдущего брака; они стояли тут же, в трауре, возле своей матери. Но к ним Рауль не подлетел.
– Странно, не правда ли?
– Что именно вы находите странным? Что мертвец вылез из могилы? Что он уселся на плечи своей дочери и второй супруги? Или что он пренебрег старшими сыновьями и первой женой?
Мои вопросы словно привели в чувство следователя Пуатрено; она встряхнулась, как собака, которая хочет избавиться от веточек и травы, застрявших в ее шерсти, только моя слушательница хотела избавиться от назойливых мыслей. Машинальным жестом она снова запустила руку в пакетик с леденцами.
– Хочешь?
– Нет, спасибо.
– Ты прав, они действительно мерзкие, – подтвердила она, сунув в рот сразу две конфетки. И уже слегка успокоившись, захрустела ими. – Ну ладно, так как же ты сам это объясняешь? Мертвец, оживший ради двух женщин… Если уж он смог раздвоиться, то что ему стоило появиться в четырех экземплярах? Он ведь так и так ожил, почему же не для всех?
– Мертвые не возвращаются сами по себе, их вызывают живые.
– Как это?
– То, что я вам сейчас расскажу, я осознал гораздо позже. Рауль заботился о своих сыновьях, пока они не достигли зрелого возраста, – направлял их в учебе, помог сделать первые шаги в профессии. Эти парни получили от него все, что можно получить от хорошего отца; они стали взрослыми мужчинами, свободными и самостоятельными. И теперь, несмотря на это горе, могли уверенно идти дальше по жизни. Тогда как его восьмилетняя дочка и молодая жена все еще нуждались в нем, а он прожил с ними всего ничего… Бесследно исчезают те мертвые, которые отдали живым все, что могли, а возникают как раз те, кто еще не выполнил свой долг до конца.
– Стало быть, их можно назвать должниками?
Я засмеялся:
– Тогда живые, наверно, чувствуют себя заимодавцами. Некоторые из нас так и не свели счеты со своими покойниками.
Похоже, эти слова задели ее за живое; она задумчиво трет подбородок. Я заканчиваю рассказ:
– В тот день я убедился, что никто не видит Рауля, а его родные сочли, что я попросту хотел вызвать у них удивление, испуг, умиление или беспокойство. Напрасно я ждал: их взгляды были устремлены куда угодно, только не на него, и ни на чем особо не задерживались. Я был единственным, кто его видел.
– И это тебя испугало?
– Что «это»?
– Что ты один его видел.
– Да нет, я тогда уже привык.
Взволнованная этим признанием, следователь Пуатрено непроизвольно гладит меня по плечу, но, спохватившись, отдергивает руку, выражая свое сочувствие только взглядом.
– Тебе достался особый дар, Огюстен.
– Дар, от которого никакого толку.
– Кто знает…
– Дар, из-за которого меня считают слабоумным.
– Я так не считаю.
– Вы, может, и не считаете, потому что вас тоже считают слабоумной.
Она дергается, высоко поднимает голову и становится похожей на разъяренного страуса. Я виновато опускаю глаза:
– Простите, мадам Пуатрено, я не хотел вас обидеть.
– Ты попал в яблочко. На меня часто смотрят как на идиотку… – И с усмешкой договаривает: – Что мне, кстати, нередко помогает.
– Вот как?
– Из-за этого люди меня не опасаются. Например, преступники, принимая меня за растяпу, частенько проговариваются у меня на допросе, а их адвокаты допускают больше промашек; в общем, все они попадают впросак. Ну а уж мои коллеги…
Но тут она осекается.
– Стоп! Я пришла не для того, чтобы болтать о себе…
И смотрит на меня так строго, будто я виноват в том, что она расслабилась. Но я подхватываю:
– Хочу вам заметить: и не для того, чтобы говорить обо мне.
– Верно. Давай лучше поговорим о твоем даре. Скажи-ка мне вот что: те, у кого на плече сидит такой вот призрак, замечают его?
Честно говоря, я никогда не размышлял о явлении мертвецов в таком ясном, конкретном аспекте и теперь вынужден рыться в памяти, собирая образы, впечатления и подробности, накопившиеся там за годы вынужденного молчания.
– Некоторые не замечают. Это самые мрачные, самые замкнутые живые. Наименее живые из всех.
– То есть те, кто не осознает свои проблемы.
– Именно. Они не видят усопших, смотрят сквозь них. И как следствие, постоянно от этого страдают. Я знал одну такую – это была наша учительница, мадемуазель Боматен, ее жених погиб, разбившись на мотоцикле. Я-то его отлично видел, этого покойного жениха, он часто появлялся в классе – либо на доске, либо за ее стулом, когда она молчала. Красивый такой парень, зеленоглазый блондин. Я обожал на них смотреть, вместе они составляли прекрасную пару.
– Значит, ты его видел, а она нет?
– Пока она наблюдала, как мы пишем классное задание, он пытался общаться с ней, ласкать, обнимать. Никакой реакции. Она сидела бледная, хмурясь и не раскрывая рта. А когда к нам в школу пришел новый физкультурник, молодой, беззаботный весельчак, – он был у нас тренером, – тот, первый, подлетел к ней и стал указывать на него, но она даже не взглянула в его сторону. И такая же история с помощником булочника, который привозил нам полдники; он втюрился в мадемуазель Боматен, и бедняга-блондин уж так старался ее расшевелить, но она и на этого – ноль внимания. Недавно я узнал, что она стала тяжелой эфироманкой и по решению министерства образования ее отстранили от работы в школе; теперь она преподает только заочно.
– Как, неужели она стала нюхать эфир?
– Да, эфир – это наркотик порядочных девушек. Вполне респектабельное зелье. И недорогое. Не нужно зависеть от дилера, достаточно сходить в аптеку.
– Зато как он мерзко пахнет!
– Подумаешь, какое дело! Люди считают, что вы просто больны.
– Вот именно…
– Мадемуазель Боматен так никогда и не заподозрила присутствия покойного жениха в своей жизни. Я думаю даже, что она плохо его знала, – я-то изучил его куда лучше и заметил, что он желает ей воспрянуть, начать жизнь заново, найти другого мужчину. Но могу вас утешить, мадам Пуатрено: большинство живых все-таки видят мертвых, которые их сопровождают.
– Ты даже представить себе не можешь, как ты меня утешил! – отвечает она с иронической усмешкой.
И мы оба смеемся.
– Я видел, как многие мертвые оживленно беседовали с теми, кого сопровождали. Например, Мустафа Бадави, отец того смертника.
– А ну-ка, опиши мне эту сцену.
– Мне кажется, Хосин воздержался бы от теракта, если бы мертвец не принудил его.
– А ты слышал, что он говорил сыну?
– Ни слова. И в любом случае он наверняка изъяснялся по-арабски; мертвецы не меняются к лучшему и вряд ли становятся полиглотами. Но могу предположить, что он убеждал Хосина дойти до площади Карла Второго и заставлял его совершить теракт.
– Значит, мертвые имеют какую-то власть над живыми?
– Власть мертвых – это та власть, которую предоставляют им живые.
Следователь Пуатрено качает головой и, прищурившись, смотрит на меня. Она уже открыла рот, чтобы задать мне очередной вопрос, который не дает ей покоя, но тут у нее звонит мобильник.
– Ах, черт! – восклицает она, хватает телефон, читает имя вызывающего и, вторично чертыхнувшись, оборачивается ко мне. – Прости, я должна ответить.
Она хватает свой портфель, выходит в коридор, и я слышу ее удаляющийся голос.
Уход следователя меня расстраивает: я переполнен таким множеством историй и долго сдерживаемых эмоций, которыми наконец могу с кем-то поделиться, а ее нет. Хорошо бы она поскорей вернулась, пока у меня не исчезло желание облегчить душу!
С досады я встаю, потягиваюсь, разминаю ноги.
Меня привлекает окно. Сейчас я могу озирать мир только из него, поскольку телевизор не работает, а спускаться с четвертого этажа мне запрещено.
Стекло сплошь забрызгано дождевыми каплями, сбегающими вниз. За этими струйками стоит густой ночной мрак, кое-где разреженный слабенькими оранжевыми огоньками фонарей вдоль шоссе.
Город спит. На улице ни одной легковушки, ни одного грузовика. Только одинокий мотороллер тарахтит в этой заколдованной тишине; по временам он коротко взревывает, но тут же стихает, оставляя за собой еще более пустое, еще более застылое безмолвие.
– Ой, какая у нас хорошенькая попочка!
Я вздрагиваю от этого жирного, насмешливого голоса. Оборачиваюсь и вижу на пороге Пегара.
Он упивается моим видом: поднявшись с койки, я забыл надеть халат и стоял у окна в одной рубашонке, открывающей спину и голые ягодицы. Жалкое зрелище, что и говорить.
Торопливо отступаю к кровати, передом к Пегару, и поскорей ложусь.
– Добрый вечер, месье Пегар.
– Ты меня не ждал, верно? Небось, удивляешься: кто это разрешил посещения среди ночи?
– Действительно, кто же это разрешил посещения среди ночи?
– Знаменитая газета «Завтра» открывает любые двери, мой дорогой! Я посулил бесплатную подписку вахтеру и дежурной медсестре на первом этаже. Информация прежде всего! Итак, мой милый Огюстен, что новенького ты можешь мне сообщить?
– Ничего. Что со мной может случиться в больничной палате? Разве что умру или выздоровею.
– Надеюсь, ты настроился на выздоровление?
– Да.
– Прекрасно!
Он вынимает сигару и начинает ее разминать.
– А другие пострадавшие с тобой ничем не поделились?
– На этом этаже никто не разговаривает. Пациенты круглые сутки заглатывают сообщения, которыми кормит нас телевизор. Прямо как куры, которым насыпали зерна.
– Ну если ты забыл поделиться со мной какой-нибудь мелочью, так сейчас самое время.
Мне не терпится объявить ему, что я и впрямь вспомнил одну «мелочь», а именно что газета «Завтра» пока еще не заплатила мне ни гроша за работу стажером, хотя мое свидетельство о взрыве раздуло ее тираж до невиданных размеров.
Но этот человек обладает свойством нагонять на меня страх. Поэтому я оставляю свои запросы при себе и только осведомляюсь слабым голосом:
– А как разошелся вчерашний тираж?
– Мм… как обычно.
– Разве его не увеличили?
– Насколько я знаю, нет.
– И на наш сайт тоже заходили как обычно?
– Д-да.
– Странно! А я слышал, что во время таких важных событий пресса получает огромную…
– Но не мы!
Этот окрик действует на меня, как свирепый апперкот. Пегар багровеет, на его лбу вздулись жилы, он безмерно возмущен моей настойчивостью. Я-то понимаю, что он лжет. Сейчас он пустит в ход тяжелую артиллерию – весь свой непререкаемый авторитет – с единственной целью: заткнуть мне рот, связать по рукам и ногам, лишь бы я не стал доказывать, что обогатил газету, лишь бы не потребовал свою долю. Я знаю этого монстра, с его меркантильной душой, как облупленного, но что толку – его жестокость и самомнение все равно берут верх над моей робостью.
– Надеюсь, тебе полегчало? – спрашивает он приторным тоном, желая меня убедить, что финансовые затруднения газеты ничуть не повлияли на его человечность.
– Это выяснится завтра.
Он чешет в затылке.
– А ты доволен тем, как тебя лечат? И вообще, как ты считаешь, скорая помощь отреагировала достаточно быстро? Ты надеешься, что Бельгия готова справиться с такой лавиной медицинских проблем? Компетентность врачей и санитаров скорой не вызвала у тебя сомнений?
Я тотчас угадываю, куда он клонит. Ему не терпится выпустить газету с броскими заголовками: «Переполненные больницы», «Хаос в операционных», «Медицинский ад», «Когда же правительство выделит достаточные средства на лечение граждан?». У него уже слюнки текут при одной мысли о том, какой страх, какое негодование вызовут в обществе эти статьи. В этом человеке есть что-то сатанинское.
И я пускаюсь в подробное описание теракта, вываливая на Пегара все подряд – растерянных спасателей, переполненные санитарные машины, ужас и панику людей, нехватку операционных, нехватку медикаментов, нехватку персонала…
У него хищно блестят глаза. Он записывает, подчеркивает, обводит кружочками. Он смакует каждое слово.
Я же, со своей стороны, рисую преувеличенно жуткую картину случившегося, выбираю одни только негативные факты, которые вдобавок раздуваю и перевираю, яростно жестикулируя, с пеной у рта.
Господи, что это со мной?! Зачем я вру, зачем грешу против истины? Да чтобы поразить босса. Ублаготворить его. Стать ему необходимым. Сделаться его доверенным лицом. Доказать, что я принадлежу к той же касте, что и он, – касте журналистов! Я потерпел фиаско при разговоре с Терлетти и теперь беру реванш в разговоре с Пегаром. В глубине души я сознаю, что веду себя подло, низко, недостойно, но, даже сгорая от стыда, лезу в эту грязь.
А Пегар торжествует. Ему уже видятся жирные заголовки, шокирующие подписи под снимками, едкие комментарии – словом, все, что он вскоре выпустит из типографии. К теракту он добавит и общественный скандал. К ужасу теракта – страх. К горю – новые горести. Я завершаю свой рассказ жалобой на палату, где меня лишили телевизора и обрядили в неприличную рубашонку, которая ограничивает свободу передвижения пациента («В наручниках – и то было бы легче!»); где бесцеремонная полиция непрерывно терзает меня допросами «в интересах следствия», тогда как ей плевать на мое здоровье и мои травмы; где, наконец, я нахожусь под усиленным надзором, препятствующим выздоровлению.
Я сам себе отвратителен, но это отвращение подпитывает мою энергию, и я завершаю нарисованную мной апокалиптическую картину с подлинным вдохновением.
– Шикарно! – восклицает Пегар и аплодирует.
Совершенно ясно, что мои личные невзгоды не вызывают в нем ни малейшего сочувствия. Может, он просто догадывается, что я ему наврал с три короба?
Он сидит и барабанит пальцами по обложке своего блокнота.
– Отличная работа! – Но, заметив, как настойчиво я на него смотрю, тут же делает каменное лицо. – Рассказ, конечно, неполный, но я постараюсь выжать из него все, что можно. – И он встает. – Спасибо за информацию, Огюстен.
– Надеюсь, вы сопоставите ее с другими отзывами.
– Ну разумеется, сопоставлю! Я ведь настоящий журналист, а не какой-нибудь репортеришка!
Я прекрасно знаю, что ничего он сопоставлять не будет, а сейчас же побежит в газету и не слезет с дежурного редактора, пока тот не подпишет номер в печать.
Он смотрит на часы:
– Ой-ой-ой, время-то поджимает! Ну, до завтра, мой милый!
Я усмехаюсь: теперь, когда Пегару есть чем заполнить страницы нашей газетенки, он смотрит на меня как на отработанный материал.
Он открывает дверь грубым толчком, от которого она еще долго качается после его ухода.
И вот я снова один.
Надеваю халат и иду в санузел. На унитазе, поставив локти на коленки и опершись подбородком на кулачки, сидит девочка со светлыми косичками.
– А ты что здесь делаешь?
– Я… мне нужно было пи-пи…
Она краснеет и отводит глаза. Я медленно, чтобы не испугать, подхожу к ней.
– Ты прячешься…
– Он всегда говорит, что при этом нужно вести себя скромно.
– Кто «он»?
Вместо ответа девочка только пожимает плечами – ну ясно же кто! Но я все-таки уточняю:
– Месье Пегар?
Она кивает, явно дивясь моей тупости.
– А почему ты всюду ходишь за месье Пегаром?
– Ну как же, это ведь мой папа.
– Тогда поторопись, он только что ушел.
Девочка широко открывает глаза.
– Он поехал в редакцию, а тебя оставил.
При этих словах я на какую-то долю секунды машинально оборачиваюсь к двери, потом гляжу назад. Девочки уже нет, она исчезла.
Бросаюсь в палату, распахиваю дверь в коридор, выглядываю.
И вижу вдали Пегара и девочку, которая идет за ним следом, напевая и прыгая то на одной, то на другой ножке, словно играет в классики на клетчатом линолеуме коридора, ведущего к выходу. Так они оба и проходят мимо поста охраны.
Я задумчиво провожаю их взглядом, как вдруг на мое плечо ложится чья-то рука. Следователь Пуатрено. Она убирает свой мобильник и, нахмурившись, спрашивает:
– Что сей сон значит? Неужели это был мерзавец Пегар?
– Да, он приходил… вместе со своей дочкой.
– С дочкой? Ты что – шутишь?
– Вовсе нет.
– Его дочь умерла тридцать лет назад!
– Вот о ней-то я и говорю.
Следователь Пуатрено чешет за ухом. Должно быть, телефонный разговор увел ее далеко от нашей беседы, – ей нужно не меньше минуты, чтобы вернуться к теме.
– Пойдем-ка лучше к тебе в палату, Огюстен. Не хочу, чтобы нас тут застукали, еще обвинят меня в том, что я не даю тебе покоя.
И вот мы снова в палате, она на стуле, я в койке. По коридору пробегает медсестра, звучит испуганный шепот, но через несколько секунд все стихает.
– Странно, что его сопровождает мертвая, – говорит Пуатрено, недоуменно хмурясь. – Это ведь означало бы, что Пегар, хоть он и мерзкий тип, ведет какую-то внутреннюю жизнь, способен питать глубокие чувства – душевную боль, грустные воспоминания…
– И любовь…
– Огюстен, не увлекайся!
– А может, он стал мерзавцем как раз после трагедии? Отчего она умерла?
– Не помню, кажется, в результате несчастного случая у него в доме. Так вот, уверяю тебя, что он вел себя одинаково и до потери дочери, и после. Как был мерзавцем, так и остался.
– Удивительно…
И мы оба задумываемся, каждый о своем.
Пегар, сломленный горем? Нет, ему не доступны ни сожаления, ни угрызения совести. Деньги – вот единственное, что его воодушевляет. Даю голову на отсечение, что он способен продать за десять евро отца с матерью и детей в придачу.
Должно быть, следователь Пуатрено пришла к тому же выводу, поскольку переходит к другой теме:
– А за мной ты видишь какого-нибудь мертвого?
Она хорошо владеет собой, но кое-какие мелкие признаки – подрагивающий подбородок, учащенное мигание – выдают ее боязнь. Она вздрагивает, но заставляет себя унять эту дрожь и не поворачивать голову: ей страшно оглянуться – вдруг ее тоже окружают мертвецы?!
Выдержав долгую паузу, я говорю:
– Нет.
Она с облегчением откидывается на спинку стула.
– И это внушает мне доверие к вам, – добавляю я.
Следователь Пуатрено шумно переводит дыхание. Я использую эту паузу и заговариваю о том, что меня мучит с самого начала беседы:
– Мадам, хочу вас предупредить: я приношу несчастье…
– Что-что?
– …приношу несчастье тем, кто меня слушает. Карина… ну… та женщина-психолог, которой я доверился… в общем, она…
– Ну, что она?
– Ее сбила машина, насмерть. Вроде бы совпадение – но это произошло сразу после нашей беседы.
Следователь Пуатрено ежится:
– Тебя послушать, так прямо страх берет.
– Согласен.
Она встает и начинает прохаживаться вдоль кровати, попутно барабаня пальцами по металлической спинке.
– Ах ты, гадкий мальчишка! Ненавижу тебя! Ты же просто морочишь меня своими бреднями! История за историей, басня за басней, – может, ты просто сочиняешь их? Заговариваешь мне зубы, а я все глотаю, как последняя дурочка. Да, не зря дорогие коллеги считают меня полоумной.
Она говорит шутливым тоном, но в ее голосе я различаю легкую тревогу. К счастью, именно это и доказывает, что она мне поверила.
На улице все еще темно. Следователь Пуатрено подходит к окну и рисует узоры на запотевшем стекле.
– Как ты объясняешь тот факт, что видишь мертвых?
– А как вы объясняете тот факт, что живете?
– Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это не годится.
– Иногда можно ответить на какой-то вопрос лишь с помощью другого. Разгадывая тайны, мы движемся наугад.
– Вот именно! Одни только кретины не задают вопросов и ничему не удивляются.
– Ну почему же – есть кретины, которые удивляются всему подряд.
Она улыбается мне:
– С тобой не соскучишься, Огюстен.
Подойдя к кровати, она разглядывает меня. Ее участие согревает мне душу, я начинаю чувствовать себя значительно лучше.
– Доброй ночи, Огюстен.
Как это она догадалась, что именно сейчас меня стало клонить в сон? Я с трудом поднимаю набрякшие веки:
– Доброй ночи, мадам.
И закрываю глаза. Госпожа следователь бесшумно удаляется.
6
Башенные часы отзванивают пять утра. Почему я их слышу – ведь я вроде спал…
Как же мне ненавистен этот ранний час – время моих бессонниц, время чужих семейных ссор, время сведения счетов поножовщиной после разгульной ночи.
Свернувшись калачиком, я плотно смыкаю веки и глубоко, размеренно дышу, стараясь поймать обрывки снов, за которые можно было бы ухватиться. Главное – не просыпаться, заставить себя отдохнуть.
И тут я слышу чье-то дыхание…
Но это же невозможно!
Спокойно, Огюстен! Ты слышишь собственные вдохи и выдохи, просто в ночной тишине они звучат преувеличенно громко. Ни в твоей постели, ни в палате, кроме тебя, никого нет.
Увы! Это свистящее дыхание не совпадает с моим.
Меня пронизывает дрожь, охватывает страх. Огюстен, этот страх – порождение неизвестности. Тебе чудится, что ты здесь не один? Так проверь для начала. И не паникуй заранее.
Я задерживаю воздух в легких. Одна секунда, две, три, четыре, пять…
Чужое дыхание рядом не умолкает.
Рывком сажусь и открываю глаза.
Передо мной – старик.
Я кричу.
Он и глазом не моргнул – стоит, наклонившись в мою сторону, устремив на меня взгляд, одновременно бесстрастный и вопрошающий; весь его облик являет сплошной настойчивый, мучительный вопрос – вопрос, который ясно читается на его лице даже в темноте, но остается темным для меня.
Господи, как же я раньше не понял?! Эти явления… это выразительное лицо, на котором запечатлелось одно-единственное чувство… Призрак! Вот он – мертвый, который сопровождает меня. Мой мертвый. Наконец-то я его вижу.
Да и с чего бы я стал исключением?!
Слегка успокоившись, я разглядываю лицо старика, скорее вылепленное, чем освещенное луной. Он никого мне не напоминает. Может, это мой отец? Или дед? Но как это определить? Мне никогда ничего не сообщали о моих родных. Врач? Священник?
– Кто ты?
Мой голос дрожал меньше, чем я опасался. И я, не колеблясь, обратился к нему на «ты». А чего мне бояться – это же мой призрак.
Старик по-прежнему испуганно взирает на меня.
Я повторяю вопрос, подкрепив его жестикуляцией:
– Кем ты мне приходишься?
Его лиловые морщинистые веки вздрагивают: он заметил мои движения. Может, он глухой? Или говорит на другом языке?
Я повторяю свой вопрос еще несколько раз.
Тщетно.
Он понял, что меня что-то интересует, но продолжает смотреть все так же вопрошающе. Наверняка думает, что его вопрос важнее моего.
А потому я бросаю это бесполезное состязание и тоже рассматриваю его. Такого я еще не встречал – передо мной анонимный мертвец. Во всех предыдущих случаях можно было сразу определить статус сопровождающего призрака – отец, мать, ребенок, жених, муж, друг. Я еще никогда не видел рядом с живым человеком неизвестного мертвеца. И вот надо же, это выпало именно мне…
Разглядываю его сверху донизу. Рост – метр тридцать, никак не больше. Интересно, он был таким при жизни или это результат загробного существования и он укоротился в могиле? При таких крупных чертах лица ему полагалось бы иметь минимум метр девяносто.
Но мое наблюдение ни к чему не ведет. Обидно! Так кто же он? Пытаюсь определить его профессию – портной, чиновник, делопроизводитель? Или, может, кто поважнее: рискну предположить, что он банкир, профессор университета, адвокат. Увы, он по-прежнему непроницаем, этот старец с лицом в глубоких рытвинах, с дряблой шеей, поникшими плечами и впалой грудью. Его идентичность установить невозможно – старость, мумифицировав тело, стерла все личное. Возраст – скверный романист: истории, которые он пишет на человеческом теле, к концу жизни искажаются до неузнаваемости; персонажи больше не выглядят такими, какими были задуманы, все они кажутся одинаково старыми, и больше ничего. Куда подевались одряхлевшие спортсмены, одряхлевшие красавцы, одряхлевшие депутаты или предатели? Вокруг одни лишь старики, и только. Возраст создает ужасные романы потому, что любит одного себя; он разрушает лица, чтобы запечатлеть на них самого себя; на портретах он подменяет собой зеркало.
Старик испускает слабый стон. Он настаивает. Он вопрошает.
Да что ж ему от меня надо?!
И вдруг меня посещает догадка: может, он не знает, кто я такой? Н-да, интересная ситуация! Никогда с этим не сталкивался: живой спрашивает у своего мертвеца, кто он, а мертвый обращается к нему с тем же вопросом. Я бы и посмеялся, только вот плакать хочется.
Старик шевелит лиловыми губами, приоткрывает рот, и я вижу за его искрошенными зубами белесый язык; он глотает слюну и, похоже, сейчас заговорит.
– Месье Версини, вы что тут делаете?
В палату врывается медсестра, дородная и решительная.
– Вам запрещено покидать свою палату, в который раз уже говорю! Ну почему я должна бегать по всему этажу и ловить вас?!
И она берет старика за плечо:
– А ну-ка, быстро в свою палату!
Тот чувствует прикосновение, понимает, что сестра обращается к нему, и мрачно глядит на нее.
Она говорит мне:
– Извините его, молодой человек!
Таким тоном мог бы извиниться перед соседом хозяин собаки, забежавшей на чужой участок.
– И вдобавок он не включает свой слуховой аппарат, – продолжает сестра и, обернувшись к старику, орет во весь голос: – Месье Версини, давайте вернемся в вашу палату!
И подталкивает его к двери, похлопывая по спине, точно домашнюю скотину.
Выведя его в коридор, она возвращается и говорит вполголоса:
– Вы уж не взыщите, этот бедняга – муж женщины, которую хоронили в день взрыва. Физически он в форме, но… шок есть шок. Он так и не понял, что произошло у церкви, и все спрашивает, куда подевался гроб жены.
Она чисто профессиональным жестом поправляет мою простыню, улыбается и выходит.
А я снова лежу и размышляю. В течение нескольких минут я был уверен, что у меня завелся свой мертвый, своя семейная история, свои корни. Теперь иллюзия рассеялась. Даже не знаю, печалит меня это или утешает: никто мне не нужен, и я не нужен никому.
К счастью, спасительный сон избавляет меня от горьких мыслей…
Меня окружает стайка врачей – профессор Бонье в сопровождении троих интернов. Профессор объявляет благожелательно-непререкаемым тоном:
– Месье Тролье, результаты обследований нас порадовали. Мы не обнаружили у вас никаких повреждений ни от взрывной волны, ни от падения. Так что скоро вы нас покинете. Не правда ли, замечательная новость?
У врачей крайне довольный вид, как будто это они меня вылечили. Но мне радоваться нечему, я заранее скорблю по своей палате, по ее теплу и обильной еде.
Профессор Бонье замечает мою удрученную мину:
– Мы ведь занимаемся только вашим физическим здоровьем, Огюстен Тролье. Зато другие наши коллеги позаботятся о вашем психическом состоянии. Отделение психологической помощи расположено у нас на втором этаже. Проконсультируйтесь с ними. Вы имеете право на посттравматическое лечение. Вас не оставят без помощи после того, что вы перенесли.
Интерны тут же выражают на лицах сочувствие, в подражание своему шефу. При каждом его слове они дружно кивают, словно танцовщики по знаку хореографа.
– Вам нужен бюллетень, чтобы представить на работе?
Мне, вообще-то, нужна сама работа, но я слышу собственный ответ:
– Да, если можно.
– Я предпишу вам месячный отдых. Но наш психолог продлит его, если сочтет нужным.
И он небрежно заполняет бумажку, которая, несомненно, была бы драгоценным подарком для многих других тружеников.
– Ну вот! Теперь можете ехать домой.
Домой… Я через силу лепечу:
– А какой сегодня день?
– Воскресенье.
Воскресенье… самый паршивый день недели… Я мрачнею.
Профессор Бонье присаживается на кровать и ловит мою руку:
– Вы молоды, Огюстен, у вас еще все впереди. Несмотря на пережитый кошмар, вы должны взбодриться, вернуться к вашей прежней беспечной и радостной жизни. Ведь вы же не хотите, чтобы террористы морально победили нас, верно?
Если я сейчас же не уступлю, он еще долго будет разливаться соловьем.
– Да, доктор, я с вами полностью согласен.
– Боритесь, Огюстен!
– С кем?
– С самим собой.
Его свита кивает в унисон, как заведенная. По их лицам я догадываюсь, что возражать нельзя, иначе меня сочтут неблагодарной скотиной, – ведь профессор Бонье посвятил мне целых две минуты своего драгоценного времени.
Я выдавливаю из себя улыбку. И они уходят, довольные и уверенные, что сценка им удалась. Завидую людям, которые способны вот так враз решать, одну за другой, все проблемы – или воображать, что решают. Лично я никогда не смогу разрешить главную проблему своей жизни.
Медсестра приносит официальные бумаги, которые я заполняю на свой манер, то есть стараясь лгать как можно меньше. Санитарка кладет на кровать прозрачный целлофановый чехол с моей одеждой – отстиранной, отглаженной, аккуратно сложенной, сухой и жесткой, как картон. Я так плохо знаком с этой дезинфицирующей чисткой, что сперва даже усомнился, мои ли это шмотки, – от них несет хлоркой. И, одевшись, сам себя не узнаю.
Несмотря на любезность больничного персонала, получить очередной обед невозможно. Все они радуются моей выписке, особенно Мириам – сестра, которая привезла меня сюда из приемного покоя два дня назад.
Она милосердно провожает меня до выхода:
– Берегите себя, Огюстен!
Мне хочется удержать ее, выговориться, поведать о моих бедствиях, о мрачных обстоятельствах моего существования, но я ограничиваюсь короткой благодарностью:
– Спасибо, Мириам!
– Ну, пока?
– Пока.
Кто же я – гордец или просто дурак? Почему я не признался ей, что мне некуда идти, у меня нет жилья, что никто и нигде меня не ждет?!
Но сказать это – значит признать. Хуже того, наклеить на себя позорный ярлык бомжа, иными словами, бродяги, лузера, одинокого и отверженного скитальца, отброса общества. Однако я не совсем уж пропащий и упрямо продолжаю считать свою бедность временной. Мне просто не повезло. Но колесо Фортуны еще повернется, и мне улыбнется удача!
Увы, пока я пытаюсь убедить себя в этом, мой внутренний голос возражает с безжалостной насмешкой: «Ты все еще ждешь удачи? О, ты заслужил награду за терпение: ведь она ни разу тебе не улыбнулась! Ты был нежеланным ребенком, твое появление на свет никого не обрадовало, твои родители бесследно исчезли, и ты их никогда не видел, тебя таскали из приюта в приют, из одной приемной семьи в другую, ты получил дрянное образование, не завел ни друзей, ни возлюбленной, а сейчас упорствуешь, пытаясь зацепиться стажером в местной газетенке, где тебе не платят. Тобой там помыкают и никогда не возьмут на постоянную работу». На что я ему возражаю: «Если бы удача отвернулась от меня, я бы погиб при взрыве; в лучшем случае мне оттяпали бы руку или ногу…» Но голос гнет свою линию: «Вот увидишь, ты еще пожалеешь о том, что не пострадал во время теракта. Будешь пальцы себе кусать: ведь если бы тебя сочли истинной жертвой теракта, ты получил бы компенсацию, а то и постоянную пенсию».
Выйдя из больницы, я шагаю вдоль забитого машинами бульвара, под рев моторов. После того как я двое суток обозревал эти городские джунгли из-за двойного звуконепроницаемого стекла, их голоса терзают мой слух: по стальным изгибистым лианам автострады мчатся шелестящие велосипеды, лающие мотороллеры, ревущие автомобили, грохочущие фургоны. Я то и дело прижимаюсь к стене, когда очередной нарастающий звук грозит мне скорой гибелью под колесами.
Так я бреду больше часа.
Наконец выбираюсь из центра города, а потом из предместий; по мере того как стихает городской шум, все явственнее слышен свист ветра. Спускаюсь к Самбру, сонному, почти неподвижному, ко всему безразличному. Небо, в подражание реке, тоже выглядит водной гладью, устланной белыми или серыми полотнищами облаков, которые то и дело заглатывают друг друга. Вдоль берега тянется разбитое шоссе, некогда оно связывало город с заводами. Кирпичные заводские корпуса, позеленевшие ото мха или черные от копоти, жалкие в своей нынешней бесполезности, кажут ободранные кровли, пустые глазницы окон, прогнившие балки, дождевые трубы, безвольно свисающие с покореженных стен. Двери заколочены досками, чтобы преградить доступ внутрь, но это отнюдь не помешало расплодившимся крысам, птицам, свившим гнезда в потолочных перекрытиях, да и мне тоже, самовольно обосноваться в этом сквоте.
Огибаю главный корпус, миную пару бывших складских помещений и подхожу к ветхой каменной сторожке. Две вороны, возмущенные моим вторжением, яростно каркают. Я взбираюсь на парапет, с него – на балкон второго этажа и отгибаю фанерный щит, закрывающий окно.
Прыжок, и я уже дома, в бывшей «зале».
Вот так сюрприз: на полу расселось незнакомое семейство – отец, мать и четверо детей; все испуганно пялятся на меня, никто из них не слышал моего приближения. Мамаша тут же поднимает крик.
Я просто убит: сквоттеры сквоттировали мой сквот! А я и отсутствовал-то всего два дня!
Отец семейства встает на ноги и с угрожающим видом надвигается на меня:
– Твоя кто?
В его голосе я угадываю румынский акцент. И решительно отвечаю:
– Я здесь живу!
И тут вижу, что оба старших сына напялили на себя мои свитеры, единственную мою теплую одежду!
Меня охватывает гнев.
– Здесь мой дом. И вы не имеете права присваивать мои вещи!
Чтобы он лучше понял, я подхожу к мальчишкам, намереваясь вернуть свою собственность. Вообразив, что я хочу их побить, они вскакивают, один вопит во все горло, второй впивается зубами мне в руку. Я отбиваюсь. Отец бросается на меня и наносит такой удар, что я валюсь наземь, в кучу мусора и картонных коробок.
– Здесь моя! Здесь моя!
Он твердит эти слова, надвигаясь на меня, расправляя плечи и молотя себя кулаками в грудь, как разъяренный орангутанг.
Бороться с ним бесполезно. Как можно сладить с перепуганным доминантным самцом, защищающим свою стаю?!
– О’кей!
И я знаками даю ему понять, что капитулирую.
Глава семьи это понял, но продолжает наступать, желая показать своим, как он могуч и страшен.
– Моя здесь!
– О’кей! Я ухожу.
И я на четвереньках, почти ползком, двигаюсь к окну. А он провожает меня грозным взглядом, готовый в любой момент перейти в атаку.
Перемахиваю через парапет и исчезаю.
Ступив на землю, потираю плечо, куда пришелся удар. Значит, я потерял крышу над головой и одежду, а эта дикарская семья празднует победу? Как бы не так! Я давно подготовился к возможности чужого нашествия. Привычка… Когда не можешь похвастаться силой, прибегаешь к хитрости.
Бесшумно, стараясь не скрипеть гравием, прохожу метров десять, залезаю в кусты и ищу под ними то, что запрятал. Приподняв грязную тряпку, вынимаю из-под нее детскую игрушку, найденную в моем предыдущем сквоте, – это полицейская сирена. Только бы не села батарейка!..
Выжидаю минут двадцать, чтобы румыны не уловили связи между мной и тем, что сейчас произойдет.
Потом нажимаю на кнопку. Сирена издает пронзительный вой. В домике поднимается паника – приглушенные возгласы, топот, суета. Оконный щит вылетает из проема, и румынская семья улепетывает, тревожно озираясь и ожидая, что вот-вот появятся силы правопорядка. К счастью, кусты, за которыми я притаился, смягчают громкость сигнала, так что беглецам трудно определить, откуда он исходит.
Ну, слава богу, удрали.
Не выключая игрушку, я снова карабкаюсь на второй этаж и вхожу в сквот. Надо спешить, они в любой момент могут вернуться. Собираю пожитки, которые они раскидали по полу, не успев сунуть их в свои узлы. Свитеров, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделаешь.
Упаковав рюкзак, я выхожу, выключаю сирену, сую ее в карман и удаляюсь в сторону, противоположную от румынских захватчиков.
Ну и куда теперь?
На эту сторожку рассчитывать нечего: румынское семейство наверняка сюда вернется, убедившись, что никакой полицейской машины на территории завода нет.
Сколько же недель этот домик служил мне приютом? Четыре… Это средняя продолжительность пребывания в любом сквоте. Одинокому человеку никогда не совладать с семейством бомжей, вторгшихся в его обиталище.
Так куда же податься?
Покинув берег Самбра, направляюсь к предместьям Шарлеруа. Улица Сожалений, улица Дубильщиков, улица Запаха. Разглядываю грязные фасады, выискивая какой-нибудь заброшенный домишко, причем ориентируюсь по наличию или отсутствию занавесок: аборигены этих узких и грязных улочек скрывают свою частную жизнь от нескромных взглядов прохожих. А дома с голыми окнами уж точно необитаемы. Так же, как дома с закрытыми ставнями, – это тоже признак бесхозного жилья.
На углу, продуваемом ветром, обнаруживаю строение с оштукатуренными стенами, почерневшими от сажи, – здесь явно был пожар. Останавливаюсь. Но тут же из дома напротив выходит человек и враждебно глядит на меня с порога.
Сквозь щели досок, грубо приколоченных поперек окна на нижнем этаже, вижу обугленные стены. Пепел еще черный, свежий, не успевший посереть от пыли. Значит, пожар случился недавно. Злобный взгляд соседа прямо-таки жжет мне затылок, и я догадываюсь, что́ здесь произошло: кто-то самовольно занял это жилище, и местные подпалили его, чтобы избавиться от пришельцев. Классическая ситуация.
Бреду дальше. Сквоты на заселенных улицах довольно опасны. Лучше искать подальше от центра. Мне вспоминается бывший завод крепежных изделий, стоящий рядом с заброшенной веткой железной дороги и петлей автострады.
Я шагаю еще около часа. Пустой желудок требует еды, ноет, бурчит. Обшариваю все встречные помойки и нахожу только хлебную корку, жесткую, как деревяшка, но все же это помогает мне держаться на ногах.
Наконец вижу завод, стоящий под откосом, фасадом к дороге. И хотя из длинной широкой трубы не валит дым, воздух над ней сгущается и темнеет, завиваясь угольно-темным яростным вихрем. Вороны кружат над двором, перелетая с крыши на заржавленную лебедку и обратно. Как же мне пробраться внутрь? Заводская стена, хоть и облезшая от непогоды, слишком высока и неприступна, а решетчатые ворота трехметровой высоты вдобавок настолько грязны, что не дай бог оцарапаться – столбняк обеспечен; но в любом случае я не смогу через них перелезть, оставшись не замеченным проезжающими автомобилистами.
Единственное решение – спуститься с откоса налево, туда, где шоссе делает поворот, пробраться к контейнеру с кучей строительного мусора, залезть на самый верх, оттуда дальше, на стену, а там уж, повиснув на руках, спрыгнуть во двор.
Приступаю к осуществлению своего плана. Водителям на вираже не до меня, им не видно, как я спускаюсь по откосу вниз. Забираюсь в контейнер, но, рассмотрев его содержимое – мешанину из целлофановых пакетов, досок, коробок и грязной бумаги, – понимаю, что ступать по этому хламу небезопасно, лучше уж пройти, балансируя, по его железному бортику. Бортик совсем узкий, я иду по нему с трудом, качаясь из стороны в сторону. Ветер едва не сбивает меня с ног. Я держусь как могу. Еще одно усилие… Но тут налетает сильный порыв ветра, я слишком резко взмахиваю руками, чтобы не упасть, мой рюкзак съезжает набок и тянет меня к контейнеру.
Я плюхаюсь в кучу мусора. Удар так силен, что у меня перехватывает дыхание.
Несколько крыс, вспугнутых моим падением, брызнули в разные стороны как искры.
А по шоссе, безразличные ко всему, с монотонным воем несутся машины.
Очухавшись, я проверяю, не переломаны ли у меня руки-ноги, и констатирую, что отделался всего лишь ссадиной на плече.
И тут замечаю слева от себя ноутбук. Чистенький такой ноутбук, блестящий, без единой царапинки. Абсолютно новый. Открываю его и вижу на заставке прекрасную звездную ночь над песчаными дюнами. Шикарная вещица! Нажимаю на клавиши: вот чудеса – ноутбук не требует от меня никакого пароля!
Я даже вскрикиваю от счастья! Что за невероятный случай подарил мне то, чего я никогда не смог бы купить?! Торопливо поднявшись, засовываю ноутбук в рюкзак.
Теперь у меня остался только один вариант – выбраться из кучи мусора, влезть на ограду и приземлиться по другую ее сторону. Что я благополучно и проделываю.
Осторожно продвигаюсь вперед по территории, где хозяйничают только животные да растения. Никаких следов человека – пивных банок, бутылок, оберток и окурков, – которые выдавали бы присутствие сквоттеров. Пусто, как в заколдованном лесу.
Так… где бы мне расположиться? Лучше всего – поближе к стене, за которой стоит контейнер, так будет меньше беготни, и отсюда легче заметить непрошеных гостей.
Прогнившая дверь едва не рушится от моего толчка. Я поднимаюсь на второй этаж, с помощью картонки выгребаю мусор из ближайшего помещения и обустраиваю несколько квадратных метров в углу. Жилье готово.
Расстилаю спальник и ложусь на него сверху: мне не терпится опробовать щедрый дар небес.
На экране ноутбука снова появляется южная ночь, которая восхищает меня еще сильнее, чем в первый раз. Чисто машинально пытаюсь войти в Интернет. Ноутбук не реагирует, что вполне естественно: ведь он не подключен к сети, а если бы и был подключен, что толку – электричества-то здесь все равно нет. Открываю текстовый редактор – эта программа работает – и несколько приложений: часы, калькулятор, компас.
Мне очень хочется узнать, кому я обязан этим подарком. Нажимаю на ярлык «Мои документы» и вижу там множество папок. Выбираю наугад одну, скромно обозначенную буквой «Д», и читаю:
ДЖИХАД
Если у тебя возникли проблемы в общении с окружающими – друзьями, родными, преподавателями, – значит Аллах отличил тебя, сделав существом высшего порядка, владеющим Истиной. Твое неприятие устоев современного общества нормально: ты не похож на других, ты более строг к себе и наделен духовной чистотой, ты не приемлешь этот прогнивший мир и хочешь избавить его от скверны. Так возьми Коран, брат мой, и перечитай его! Вот что Аллах сказал на ухо Пророку: настоящий мусульманин да не устрашится борьбы с неверными. Напротив, он призывает тебя уничтожить их, всех до одного. Истинная вера не боится пролитой крови. Сура 4: 56[7]. Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сожжем в огне! Всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания. Поистине, Аллах – великий, мудрый! Сура 4: 89. Они хотели бы, чтобы вы оказались неверными, как были неверными они, и вы бы оказались одинаковыми. Не берите же из них друзей, пока не выселятся по пути Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не берите из них ни друзей, ни помощников. Сура 2: 193. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным! Сура 3: 141. И чтобы очистил Аллах тех, которые уверовали, и стер неверных. Сура 8: 17. Не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил, чтобы испытать верующих хорошим испытанием от Него. Поистине, Аллах – слышащий, сведущий! Сура 4: 74. Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на пути Аллаха и будет убит или победит, Мы дадим ему великую награду. Сура 4: 95, 96. Не равняются сидящие из верующих, не испытывающие вреда, и усердствующие на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень. Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах дал преимущество перед сидящим в великой награде, 4: 96. В степенях у Него, и прощение, и милости. Поистине, Аллах прощающ, милосерд! Сура 4: 57. А тех, которые уверовали и творили благое, Мы введем в сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими там. Для них там – чистые супруги. И введем Мы их в тень тенистую[8].
Я прерываю чтение. А текст на экране все тянется и тянется, страница за страницей, монотонный, назойливый, давящий, исполненный лютой ненависти. В папке на сайте множество дополнительных статей под общей буквой «Д»: Д-1, Д-2, Д-3 и так до Д-11. Открыв папку, я пробегаю глазами электронные версии «Dabiq» – печатного органа ИГИЛ, ведущего свою пропаганду в роскошно изданных выпусках. Вот Д-9: предлагаются на продажу европейские заложники. А вот Д-11: редакция объявляет, что все они были казнены, поскольку «желающих выкупить их не нашлось».
Отодвигаю компьютер. От одного только чтения у меня все горит внутри. Но я тут же снова хватаюсь за мышь: мне не дает покоя одна мысль, я должен ее проверить. Где же это… а, вот! Папка «Изображения».
На экране проплывает череда фотографий. Мне кажется, что некоторые из них я уже где-то видел. Они мне напоминают… Сердце бьется неровными толчками. Ну конечно, я узнаю этих людей – стариков в глубине комнаты, опасливо глядящих в объектив, молодых на переднем плане – сплошные улыбки, сплошное обаяние; это фотоальбом семейства Бадави!
Значит, мне в руки попал ноутбук, принадлежавший Хосину Бадави!
Некоторые из его фотопортретов подписаны одним словом – «Я», другие, довольно многочисленные, – «Момо и я», на них он позирует с младшим братом.
Ну вот, значит, я стал обладателем ценнейшего сокровища. Полиция, небось, уже перевернула вверх дном всю квартиру Бадави в поисках этого компьютера. Что касается Пегара, легко представить, на какие ухищрения он пошел бы ради таких снимков… может, даже заплатил бы.
Внезапно экран тухнет, фотографии исчезают. Батарейка разрядилась. Делать нечего – ведь здание отключено от электросети. Ну да ничего, заряжу ноутбук завтра в редакции.
Наступает ночь. В темноте завод, давший мне приют, вырастает в какой-то гигантский лабиринт, по которому и передвигаться-то опасно, поскольку гвозди, битое стекло и железная арматура тонут в вязком, непроницаемом мраке.
Безмерно гордый своим открытием, я чувствую себя важной птицей – правда, голодной: я до сих пор так и не нашел никакой еды. Придется идти на раскопки в ближайших мусорных баках.
Выхожу на ощупь в заводской двор и останавливаюсь у подножия стены. Как же на нее взобраться? Если соскочить вниз было парой пустяков, то наверх – прыгай не прыгай – ни за что не влезть. Поэтому я начинаю сооружать нечто вроде подмостков, стаскивая в кучу все, что попадается под руку.
Эта операция отнимает у меня последние силы. Голод, усталость и двухдневная больничная расслабленность вынуждают меня присесть, чтобы отдышаться; на это уходит довольно много времени.
Гляжу на городские огни; отсюда, издали, они кажутся грязным маревом. Шоссе по-прежнему гудит, не утихает.
Внезапно из-за стены доносится звон разбитого стекла. Видно, кто-то забрался в контейнер. Неужели я здесь не единственный жилец?
Притаившись, жду, не появится ли над стеной чья-то голова.
Но незваный гость не спешит, он продолжает копаться в мусоре.
– Вот черт!
Голос кажется молодым.
– Вот черт!
Неизвестный сыплет ругательствами, он явно зол и разочарован, я слышу, как он яростно расшвыривает обломки.
Теперь мне ясно: ему нужно не жилье, он что-то разыскивает в контейнере.
Слегка успокоившись, я решаю тихонько посмотреть, что он собой представляет.
Осторожно, боясь нашуметь, взбираюсь на свое сооружение, выглядываю за стену и вижу внизу молодого парня, который роется в грязной куче.
– Вот черт!
Он так поглощен своими розысками, что и не думает смотреть по сторонам. Я спокойно наблюдаю за ним.
Из-за уплывающего облака выглядывает краешек луны, которая освещает лицо парня: это Бадави-младший, Мохаммед, чье фото я только что видел на экране ноутбука.
Теперь облако открывает луну полностью, и ее бледные лучи на несколько секунд рассеивают ночную мглу.
Моему изумлению нет пределов.
Над Мохаммедом порхает крошечное существо – без сомнения, его мертвец.
Забыв о том, что меня могут увидеть, я наклоняюсь, чтобы получше разглядеть его черты.
Призрак, суетящийся в воздухе над пареньком, – его старший брат, террорист Хосин Бадави.
7
– Того, что ты ищешь, там нет.
Эти слова вырвались у меня невольно. Я и сам удивился не меньше, чем парень, присевший на корточки в глубине контейнера; он вскакивает и настороженно замирает.
– Чего?
Его враждебный взгляд пытается различить того, кто с ним заговорил.
В ночной темноте все кажется таинственным, а я вдобавок стою спиной к свету, посылаемому луной. Для этого мальчишки я представляю загадку, не то привидение, не то Провидение, и мне приятно видеть, как он напуган: я редко внушаю людям такое чувство.
– Ты кто? Чего тебе? Что ты там болтаешь?
Он выпаливает вопрос за вопросом как из пулемета, глотая одни звуки, форсируя другие, и мне приходится мысленно расчленять его скороговорку, чтобы уловить смысл.
– Вещей твоего брата там нет.
– Чего? Ты разве знаешь моего брата?
Его голос то и дело срывается с фальцета на баритон и обратно. Может, это возрастная ломка? Или следствие паники? Я стараюсь говорить ровным тоном, чтобы успокоить его:
– Конечно знаю. И поэтому знаю, что ты ищешь. И даже знаю, кто ты такой.
– Чего-чего? Ты чего там трындишь?
И он одним прыжком становится на бортик контейнера, готовясь удрать.
– Мохаммед Бадави, – раздельно говорю я.
Парень резко оборачивается; он потрясен, его круглое лицо радостно вспыхивает.
– Мой брат говорил с тобой обо мне?
– Да, он называл тебя Момо. И показывал твои фотографии.
Его детские губы трогает слабая улыбка, потом – словно у него внутри лопнула какая-то пружина – он со стоном падает на кучу мусора и разражается судорожными рыданиями.
Его горе смущает меня.
Я ему наврал, а моя ложь потрясла парня. Его душат слезы, он едва переводит дыхание. Я вдруг перестаю видеть в нем одного из этих опасных Бадави, пособника мерзкого террориста, – передо мной обыкновенный мальчуган, оплакивающий старшего брата.
Я спускаюсь к нему в контейнер. Услышав это, он пытается подавить всхлипы, но его тело все еще вздрагивает от душевной боли.
Присаживаюсь в метре от него, но на всякий случай избегаю подставлять лицо лунному свету. Когда мальчишка начинает дышать ровнее, я спрашиваю, стараясь говорить благожелательно:
– Ты ведь не знал, что он собирался сделать?
– Нет.
Он вытирает рукавом куртки сопливый нос и устало шепчет:
– Меня два дня мурыжили в полиции. Допрашивали, допрашивали, допрашивали… без конца…
– Вот как? И кто же это тебя так? Комиссар Терлетти?
Он удивленно смотрит на меня:
– Ты откуда знаешь?
– Я знаком с Терлетти.
– Ты что – из полиции?
Я пожимаю плечами:
– Разве я жил бы здесь, если бы работал в полиции?
Он мотает головой, убежденный не столько словами, сколько моим спокойным тоном.
– Я ничего им не выболтал, – шепчет он.
– Это хорошо.
Но он вскакивает на ноги и кричит:
– Нет, совсем не хорошо! Я молчал, потому что не знал ничего! Лучше бы знал – тогда с радостью скрыл бы от них правду, с радостью сохранил бы секреты моего брата, с радостью вынес бы побои и до конца держал язык за зубами, лишь бы его спасти. Только Хосин… только он…
И рыдания снова перехватывают ему горло. Он не в силах связно выразить то, что его мучит. Я договариваю за него:
– Только Хосин не посвятил тебя в это дело.
– Да…
– А как бы ты себя повел, если бы он тебе сказал, что собирается умереть?
– Я бы ему помешал.
– Вот поэтому он тебе и не доверился.
Мохаммед поднимает голову и растерянно смотрит на меня. Я заставил мальчишку пошевелить мозгами, и мои слова его утихомирили.
Я пользуюсь паузой, чтобы рассмотреть его призрака. Хосин Бадави вьется над плечом брата, крошечный, немой, подавленный, безразличный к нашему разговору, вид у него какой-то отрешенный, и я, в глубине души, нахожу это состояние вполне естественным, после того как он разлетелся на клочки посреди площади.
Интересно, замечает ли Момо это парящее над ним существо?
Парень уставился на меня, изучая каждую черточку моего лица и пытаясь определить цвет кожи в неверном серебристом лунном свете.
– А ты кто?
– Огюстен.
– Огюстен? Шутишь![9]
– Нет, меня и вправду зовут Огюстен.
Поморщившись, он отодвигается.
– Значит, ты не из Рифа?[10]
– Нет, не из Рифа, я…
Он жестко перебивает:
– Значит, ты не из наших?
– Я из Шарлеруа.
– Ну ясно, ты не из наших, – повторяет он, враждебно глядя на меня.
Неприязнь парнишки не мешает мне интриговать его, даже поддразнивать, и я спрашиваю:
– А ты сам, Момо, разве не из Шарлеруа?
– Да, но нет.
– Как это – «да, но нет»?
– О’кей, я родился здесь, в больнице Нотр-Дам, но это ничего не значит. Я родом из Рифа. Моя семья родом из Рифа. Все наши родом из Рифа. Мы все из Рифа.
По тому, как сбивчиво, но искренне парень произносит эти слова, я понимаю, какой магический смысл он вкладывает в свое происхождение, как истово верит, что его корни находятся в той далекой стране, которую покинули его предки. Заметив мой скептический взгляд, он убежденно добавляет:
– Это только у вас в Бельгии полагается рожать детей в больнице. В Рифе я бы родился дома.
– А ты уже бывал в Марокко?
– Отстань!
И он сразу замыкается, точно улитка в раковине. Разговор окончен. Я жду.
Облака снова заволакивают луну, небо мрачнеет, и я вздрагиваю: холод пробирает меня до костей. Темнота придает мальчишке храбрости, и он заговаривает первым:
– Откуда ты знаешь моего брата?
Я чувствую, что развивать эту тему опасно, но тут мне очень кстати вспоминается одна фраза Терлетти:
– Ла Гаренн. Мы с Хосином были приписаны к одному и тому же воспитательному центру.
– Ясно.
– И вроде были приятелями.
– А он никогда не рассказывал о тебе.
– Еще бы! Мы туда ходили десять лет назад, тебе сколько тогда было?
– Четыре года.
– Ну вот видишь…
Момо признаёт мою правоту и опускает голову. Я продолжаю:
– Ну а потом мы потеряли друг друга из виду. И встретились только недавно, чтобы… хотя нет, об этом я умолчу… стоп!
Он так жадно смотрит на меня, что я решаю разыграть эту карту.
– Момо, я много чего знаю. Даже догадываюсь, что ты здесь искал.
– Я? Ничего я не искал.
– Ну конечно, ты залез в контейнер, просто чтобы вздремнуть. А я-то думал, ты разыскиваешь его ноутбук.
Разинув рот, парень остолбенело смотрит на меня с полминуты, не меньше. Потом приходит в себя:
– Так это ты его взял?
Я не отвечаю. Мое молчание интригует его.
– Откуда ты знал, что он мог быть здесь?
– А ты откуда? – спрашиваю я не моргнув глазом.
И снова умолкаю. Это молчание впечатляет его сильнее любых слов.
Момо скребет в затылке, вытирает щеки кулаком.
А у меня так бурчит в пустом животе, что боюсь, это услышит даже Момо. Он вопросительно смотрит на меня, словно хочет спросить: «Что дальше?» И я восклицаю:
– Ох, до чего жрать хочется! А тебе, Момо?
– Мне тоже.
– Может, поедим где-нибудь?
– О’кей.
– Только учти: я на мели, у меня ни гроша.
Просияв от радости – наконец-то он может продемонстрировать свое превосходство надо мной! – парень вытаскивает из кармана деньги.
– Нет проблем! Я хоть и потерял два дня у легавых, зато сегодня днем все наверстал.
И он гордо смеется. Я не спрашиваю, чем он торговал, – уверен, что не букетиками ландышей.
Мы осторожно вылезаем из контейнера и поднимаемся на откос, к шоссе. В траве у обочины нас ждет мотороллер.
– Давай садись.
Я сажусь на решетку багажника, и заднее колесо проседает под моей тяжестью. Момо жмет на газ, мотороллер трогается, вильнув пару раз из стороны в сторону, потом приходит в равновесие. Железные прутья багажника врезаются в мои тощие ягодицы, но я терплю, стиснув зубы.
Мы едем в Шарлеруа. Из окон солидных домов льется золотистый свет люстр; потолки скромных домишек кажутся зеленоватыми от неоновых трубок. Улицы несутся нам навстречу.
Момо ведет на предельной скорости, с единственной целью – произвести как можно больше шума; всякий раз, как мотор ревет особенно громко или взвизгивают шины, он довольно урчит.
Наконец мы тормозим перед ярко освещенной закусочной «Фоли-Кебаб, быстрая еда»; узкое помещение напоминает меч, воткнутый в фасад; у левой стены – длинный застекленный прилавок, за которым видна кухня; вдоль правой, напротив прилавка, – череда крошечных столиков, прибитых к стене. Под каждым из них – два табурета, означающих, что здесь едят парами. Зеленые стены оклеены большими выцветшими фотографиями блюд с указанием цен; цифры выписаны крупно, да еще и подчеркнуты. Хозяин – грузный, жирный гигант с багровой щекастой физиономией, увенчанной черным лоснящимся коком, в плотном фартуке от шеи до ног – стоит, облокотясь на прилавок, с утомленным видом человека, которого не держат ноги. Самая любопытная черта этого бугая, с его чисто мужской некрасивостью, – хорошенький крошечный ротик, губки бантиком – мечта любой женщины.
Момо проходит мимо него, словно не видит, и начинает изучать выставленные в витрине блюда.
– Ты что будешь? – спрашивает он.
– То же, что и ты.
Запах всего этого жарева – мяса и горячего масла – кружит мне голову, терзает желудок, вызывает обильную слюну. Кухонный чад действует на меня одуряюще. Я вот-вот упаду в голодный обморок. И в то же время возбужденно предвкушаю близкое наслаждение едой.
Момо тычет пальцем в выбранные блюда, все так же не глядя на хозяина, не произнося ни слова. Такое впечатление, что он перестанет себя уважать, если обратится к этому человеку; вероятно, он игнорирует его именно потому, что тот его обслуживает. Но жирный великан ничуть не обижается, напротив, вполне благожелательно задает вопросы, полагающиеся в таком случае:
– Вам какую приправу – горчицу, кетчуп?
Момо реагирует так раздраженно, словно толстяк сам обязан угадать, чего нам хочется. С какой стати четырнадцатилетний сопляк так грубо обходится с тридцатилетним мужиком?
А Хосин Бадави с сонным видом парит над плечом брата. По всей видимости, ему не так уж и хочется сопровождать нас. Пока мы ехали сюда, я наблюдал за Момо и убедился, что он до сих пор не заподозрил близкого присутствия своего умершего брата.
Мы садимся, ставим тарелки с едой на пластиковую столешницу, и я спрашиваю Момо:
– Ты его знаешь?
– Кого?
Я кивком указываю на хозяина, который вытирает пот со лба белой тряпицей.
– Этого? Нет.
По лицу Момо видно, что хозяин закусочной не стоит даже его взгляда.
– Это же турок, – презрительно говорит он. – Здесь все забегаловки принадлежат туркам. Так как же с ноутбуком Хосина – он у тебя?
Я жадно вонзаю зубы в сэндвич. Момо принимает мое молчание за подтверждение.
– Он тебе его доверил?
Снова молчу, и это сходит за второе подтверждение.
Момо принимается за свой кебаб. Хосин уснул у него на плече. Я гляжу на них обоих.
– А ты, Момо, – почему ты искал его в том контейнере?
– Да мы с Хосином всегда прятали в нем то, что не хотели показывать матери. Игрушки, которые сперли в магазине, порножурналы, гашиш, сигареты, подарки к ее дню рождения. Этим контейнером никто не пользуется, и мусор из него никогда не убирают.
Жареный картофель он хватает руками.
– Так что если брат и хотел оставить мне сообщение, то как раз там.
Его лицо мрачнеет, на глазах выступают слезы, он старается сдержать их.
Я же впал в такую эйфорию от обильной еды, что меня просто переполняет сочувствие к нему.
– Ты на него сердишься?
– За что?
– За то, что он пошел на это один и ничего тебе не сказал.
Момо отвечает безнадежным жестом, означающим: «И за это. И за многое другое…» Он пытается облечь свои мысли в слова, но через несколько секунд отказывается от своего намерения и грустно доедает остатки баранины.
– Ты переживаешь?
Он бросает на меня мрачный взгляд исподлобья:
– Я переживаю из-за матери! Мать… она теперь плачет с утра до ночи. А люди… разве они понимают?! Они никогда слыхом не слыхали про Хосина Бадави, и вдруг – бац! – весь город, весь мир говорит о нем из-за бомбы. Для них Хосин Бадави – это какой-то Гитлер, исчадие ада! А моя мать никогда не знала такого Хосина Бадави. Когда она слышит это имя – Хосин Бадави, – то видит своего сына, которого обожает, а не убийцу. И прямо с ума сходит от горя. Ей показывают в газетах и по телику совсем другого сына, пусть и с его лицом и с его именем, но это не ее сын. До́ма, стоит ей услышать, как ключ поворачивается в замке, она кричит: «Хосин?» И это не просто так, нет, ей кажется, что сейчас войдет настоящий Хосин, и этот, настоящий, Хосин объяснит людям, что он вовсе не террорист, что это не он убил восьмерых человек, разметал их в клочья. Потому что моя мать уверена, что настоящий Хосин не мог взять и уйти из дома вот так просто, ни с кем из нас не попрощавшись.
Момо умолкает, от волнения у него сдавило горло. Крошечный Хосин над его плечом по-прежнему невозмутимо дремлет.
– А ты? Ты-то его осуждаешь?
– Это мой брат. Он имеет право делать все, что хочет.
Момо выкрикнул это слишком громко: могучий турок за прилавком приоткрыл глаза. Момо испепеляет его взглядом; он злится на себя за то, что проявил свое горе на людях.
А я так разомлел от кебаба, которым набил желудок, что готов расцеловать все человечество.
– Скажи, Момо, ты замечал, что твой брат изменился в последнее время?
– И совсем он не изменился! Конечно, у него были проблемы, он над ними раздумывал, но это совсем другое дело.
Я вспоминаю о документах, обнаруженных в ноутбуке.
– Он разговаривал с тобой о религии? И если разговаривал, то чаще, чем прежде?
Момо задумчиво смотрит на меня.
– Да… Он говорил, что имам никуда не годится, – это он про имама в нашем квартале. Все твердил, что с таким имамом мир не переделаешь. И я с ним согласен. Нам давно уже плевать на россказни этого имама. Хосин никогда не был религиозным, почти не изучал Коран, пил вино, развлекался с дружками, курил травку, анашу, гашиш, пробовал экстази, клеил девок в кабаках – короче, был нормальным парнем, вот так! Но в последнее время все шло иначе… потому что он стал размышлять! Да, он все время размышлял… все время. Запирался у себя в комнате. С нами почти не разговаривал. Но все же ничего такого… – И он яростно бьет кулаком об стол. – Этот Терлетти… он меня два дня мордовал, все хотел вызнать, ездил ли брат куда-нибудь. Куда-нибудь!.. Я же не кретин, я-то сразу просек, что «куда-нибудь» значит в Сирию. Он давил на меня, но ни разу не назвал ее прямо, а ходил вокруг да около: может, в Италию? В Грецию? В Турцию? Сволочь такая! Хосин – он, как и я, никуда не ездил. Самое большее, смотался пару раз в Брюссель и разок в Амстердам, на субботние танцы. И сколько бы они ни разнюхивали, им нечего было ему впарить, но все равно они уверены, что он ездил в Сирию тренироваться в боевых лагерях.
– А у вас дома есть Коран?
– А то! Мы же из Рифа!
– И ты его читал?
Этот вопрос приводит его в недоумение.
– Знаешь, мы живем по Корану, но читать его вовсе не обязательно. Это как словарь: ты же не читаешь словарь?
Я подтверждаю, что он прав, – сейчас, пока я не ознакомился с Кораном, рано еще затевать теологический диспут. Момо хмурится:
– А ты сам-то читал Коран?
– Конечно.
Я почти не лгу: завтра я это обязательно сделаю.
Момо съеживается на своем табурете и глядит в пол.
– Я боюсь идти в коллеж.
На его смуглых висках неровно пульсируют лиловые жилки.
– Что я им скажу? Как на меня будут смотреть? Нет, мне больше туда ходу нет.
– А тебе нравилось учиться?
– Да я первый ученик в классе! – выкрикивает он, но тут же опять сникает и расплющивает пальцем мясную крошку на столе, словно иллюстрируя ситуацию. – На меня будут смотреть как на изверга. Как на брата изверга. – И его передергивает от ярости. – Но пусть только кто-нибудь попробует оскорбить моего брата, я ему морду разобью!
– И тогда тебя выгонят из коллежа.
– Ну и черт с ним!
И Момо расплющивает другую крошку, на сей раз особенно свирепо.
– Лучше бы уж я взорвался вместе с Хосином…
При этих словах крошечный Хосин вдруг просыпается на плече Момо, явно заинтересованный выкриком младшего брата, и, подавшись вперед, ждет продолжения.
– Теперь мне хана. Я преступник только потому, что моя фамилия Бадави. Моя мать тоже преступница, потому что ее фамилия Бадави. Нас всех смешали с дерьмом, в одну минуту. И ты думаешь, я соглашусь на такую жизнь?
У Хосина заблестели глаза; наклонившись к уху Момо, он нашептывает ему что-то, чего я не слышу.
Момо, как завороженный, произносит отрывистые фразы, перемежая их паузами, словно повторяет то, что ему внушил призрак:
– Нас все презирают… Люди никогда нам не простят, что мы жили с типом, который ухлопал восемь человек и ранил еще двадцать пять… Вот он, идол нашей семьи – убийца!.. Нашего Хосина, нашего любимого Хосина теперь все ненавидят… Стоит о нем заговорить, как нас обзывают преступниками. Но настоящий Хосин – это был Хосин до взрыва, до того, как он стал террористом, тот, которого я знал с самого детства. А эти, здешние, чего они хотят? Чтоб я забыл свое прошлое? Чтоб я остался только братом террориста? Ну конечно, так было бы проще всего!
Хосин крайне возбужден; он обрел прежнюю живость и все энергичнее втолковывает на ухо мальчишке свои доводы. А тот, как под гипнозом, монотонно повторяет их вслух:
– Хосин – слава семьи Бадави! Для всего мира он варвар, но сам он хотел стать героем и мучеником! Я знаю своего брата, я уверен, что он гордился собой. Он взорвал бомбу потому, что гордился этим актом. И хотел, чтобы я тоже гордился им. Вот почему я разыскиваю его вещи. Он оставил мне послание. Я так хочу понять своего брата, но все вокруг мне мешают…
Внезапно он трясет головой, словно решил избавиться от наваждения, и Хосин замирает.
– Что будешь на десерт?
– То же, что и ты.
Момо поворачивается к прилавку и, снова не удостоив хозяина взглядом, требует два апельсиновых флана[11]. Он говорит неразборчиво, гораздо тише, чем со мной, почти шепчет: если этот боров не понимает, тем хуже для него. Хозяин испуганно просит его повторить. Момо нехотя вполголоса повторяет заказ, указав подбородком на куски торта в витрине.
Не удержавшись, я ворчу:
– А погромче нельзя было?
– Я ему плачу! Здесь король – клиент, понял?
Великан ставит перед нами тарелки с десертом. Молчание Момо достаточно красноречиво, и я малодушно воздерживаюсь от благодарности.
В этот момент за окном на улице тормозит машина с мигалкой на крыше.
– Ох, черт! Легавые! – взвизгивает Момо.
В мгновение ока он спрыгивает с табурета, бежит в глубину помещения и запирается в туалете.
На улице хлопают дверцы, и в закусочную входит пара инспекторов-магрибинцев, устало растирая колени.
– Жрать охота! – говорит первый.
– Два кебаба! – командует второй.
– Баранина, курятина, говядина? – спрашивает турок.
– Говядина. И две колы. А вам пива, шеф?
По тротуару прохаживается человек с сигаретой в руке.
– Банку «Юбилейного», – подтверждает он, входя в закусочную.
Это комиссар Терлетти. Мы одновременно узнаём друг друга, и оба поражены. Комиссар враждебно кривится, глядя на меня:
– Ты что это – тоже халяльную еду жрешь?[12]
Оглядев плакаты на стенах, констатирую, что все здешние блюда приготовлены из мяса ритуально забитых животных.
– Ну надо же! А я и не заметил… – Он воздевает глаза к потолку. – Как подумаю, что на выборах твой голос засчитывается наравне с моим, так и хочется послать демократию куда подальше.
И он выходит, цыкнув на ходу слюной в сточную канаву.
Оба сыщика, в ожидании своих сэндвичей, глядят на меня как на круглого дурака. Я делаю вид, будто ничего не замечаю.
Расплатившись, они выходят на улицу, где стоит Терлетти; он размазывает ботинком свой окурок по асфальту, все трое садятся в машину и уезжают.
Через несколько секунд Момо выглядывает из туалета.
Я встречаю его улыбкой:
– Ты не зря удрал, это был Терлетти.
– Что он тебе сказал? О чем вы говорили?
– Да ни о чем. Он меня держит за дурачка. Вообще-то, выглядеть дурачком – самое что ни на есть надежное прикрытие.
Но, произнося эти слова, я одновременно спрашиваю себя: а может, Терлетти прав? Что я тут делаю в компании брата убийцы, от руки которого сам чуть не погиб? И что я за урод, если пытаюсь понять мальчишку – более того, утешить?!
8
«Зачем?»
Этот вопрос не дает мне покоя с самого утра.
Закрыв глаза, подперев щеки кулаками и облокотившись на стол, я пытаюсь отрешиться от гомона в редакции. Сегодня, в понедельник, сотрудники бурно, как никогда, обсуждают последние события; помещение напоминает гудящий улей, переполненный информацией, но все голоса перекрывает мощный бас Пегара, шумного, назойливого, лихорадочно оживленного, требующего от своих рабочих пчелок нектара «новых новостей». Наш босс никогда не страдал излишней скромностью, но теперь прямо-таки лопается от гордости: Шарлеруа стал центром мира – или как минимум мира массмедиа, – стоит только взглянуть на городские улицы, забитые репортерами, журналистами и спецкорами, камерами и магнитофонами, съемочными машинами и тонвагенами, и это не считая спутниковой связи с трансляцией на полсотни стран. Наконец-то наш городишко стряхнул с себя налет провинциальной серости и сделался сюжетом номер один для СМИ всего мира. И Пегар, почуяв эту метаморфозу, заважничал, что твой король: это именно он, бывалый журналист, всегда интересовался жизнью Шарлеруа больше, чем другие, еще во времена так называемого прозябания города! Он сияет. Он чванится. Он торжествует.
А я сжимаю виски и затыкаю уши, чтобы отгородиться от этой вакханалии.
«Зачем?»
Меня осаждают образы: Хосин, который на ходу толкает меня, замешивается в толпе возле церкви, выкрикивает «Аллах акбар!» и взрывает бомбу… Момо, который страдает оттого, что старший брат «предал» его, оставил одного, но сдерживает слезы… Жертвы взрыва, стонущие от боли в приемном покое… Крик матери, лишившейся ребенка…
«Зачем?»
Зачем умирать? Зачем убивать незнакомых людей? Какие убеждения стоят того, чтобы идти ради них на смерть?
Сейчас над моими коленями, в ящике стола, заряжается ноутбук Хосина Бадави. Как только редакция опустеет, я смогу задать ему этот мучительный вопрос: «Зачем?» И может быть, сам на него и отвечу.
«Зачем?»
Сегодня утром здесь отпраздновали мое возвращение. Мне устроили такую теплую встречу, словно всегда любили как родного. Сотрудники, которые прежде постоянно третировали меня, внезапно проявили трогательное участие, расспрашивая о здоровье, о настроении, о переживаниях. Я старался «соответствовать» и не разрушать эту идиллию, сердечно улыбаясь всем подряд. Перед таким бурным проявлением чувств не устоял даже Пегар, который всегда требовал любви прежде всего к себе самому: он выставил три бутылки игристого вина, которое именует шампанским, разлил его по пластиковым стаканчикам и заставил всех проглотить это теплое пойло, провозгласив тост за мое выздоровление.
Появившись в редакции, я был вынужден повторить свой рассказ о теракте не менее двадцати раз: каждый сотрудник желал выслушать его только в приватной беседе со мной. В ходе этой процедуры мое повествование обогащалось все новыми и новыми подробностями, так что к концу оно уже вполне тянуло на официальную версию.
Одна только Умм Кульсум не подвергла меня допросу. Вначале совершенно безразличная, она появилась аккурат к распитию игристого – спиртное она чуяла, как оса варенье, – а услышав ликующие крики нашей команды, расплылась в улыбке, подняла свой стаканчик и завопила в унисон с остальными. Теперь, после моего чествования, она тоже поглядывает на меня вполне благосклонно. В ее глазах я возвысился сразу на несколько пунктов. Она признала меня – еще бы, ведь это в мою честь вся редакция лакала игристое! – хотя прежде, встречая в коридоре, никак не могла вспомнить, кто я такой.
«Зачем?»
Половина первого. Перерыв на обед.
По бельгийскому обычаю, каждый сотрудник принес свой «перекусон» – скромный набор еды, приготовленный супругой. Мой желудок ноет, требуя пищи, – увы, мне, как всегда, нечего есть. Решаю выйти и глотнуть свежего воздуха, чтобы обмануть голод.
У подъезда стоят с сигаретами наши курильщики.
– Хочешь подымить, Огюстен?
Почему бы и нет? Я вспоминаю, что табачный дым частично приглушает голод. Затягиваясь сигаретой, я слушаю их рассуждения о последних событиях. Хотя ответственность за теракт еще не взяла на себя ни одна организация, они убеждены, что скоро появится коммюнике ИГИЛ или «Ан-Нусра».
– Хосин Бадави наверняка примкнул к террористам через Интернет. А вообще-то, есть подозрение, что он и в Сирии обучался.
– Ну да?!
– Правда, родные это отрицают. И соседи тоже. Пока вроде бы не доказано, что он уезжал из страны.
– Хорошо бы найти его ноутбук.
– Да полиция уже все перевернула, даже помойки обыскивает.
– Вот когда его найдут, тогда и выявятся все контакты.
А я стою себе, покуриваю и злорадно думаю, что вся необходимая информация заложена в предмете, которым мне повезло завладеть.
– А что, если он смертник-одиночка, который стал радикалом сам по себе, без руководителя, и не принадлежит ни к какой боевой ячейке?
– Это большая редкость! Но и такой террорист все равно не может действовать самостоятельно.
– И все же это случается.
– Даже если он и одиночка, этот взрыв обязательно припишет себе какая-нибудь организация. Еще бы, кто же упустит такой лакомый кусок – восемь убитых, двадцать пять раненых! Какая реклама! Первая же группа, которая возьмет это на себя, «начинает и выигрывает».
И они смеются.
– А кроме того, даже когда они работают в одиночку, за границей у них есть мозговой центр, который указывает нужную мишень.
– И какая же это мишень в данном случае?
– Христиане! Он уничтожил христиан, выходивших из церкви после мессы.
– Не согласен! Во-первых, это была не месса, а отпевание. Во-вторых, на похоронах присутствуют все без исключения – христиане, атеисты, евреи, буддисты, мусульмане. Нет, я считаю, что Хосин Бадави выбрал людное общественное место, потому что ненавидел Шарлеруа!
– И не только Шарлеруа, а всю Бельгию с нами вместе! Нашу мирную, спокойную Бельгию, в том числе и Шарлеруа.
– Нет, бери выше: всю Европу разом! Подумай сам: коли уж он выбрал для нападения эту маленькую страну, значит у него была особая цель… Ведь не трогают же террористы Португалию, Андорру или Монако. Вот где собака зарыта: они наметили себе такую скромную и символическую страну, как наша, потому что Бельгия приняла у себя многие европейские общественные организации. И тем самым пригрозили всей Европе, мой милый.
– Ну а ты как думаешь, Огюстен? Ты ведь его видел, этого Хосина, что скажешь?
Я гашу сигарету об стену:
– Я же не видел, что у него в голове.
Они кивают, даже не подозревая, что я вожу их за нос. На самом деле я именно видел, что у него в голове – его отец. А вот о чем они спорили, мне неизвестно.
Дискуссия продолжается, вялая и расплывчатая, как струйки сигаретного дыма. Хосин превратился в марионетку-чревовещателя: каждый из спорщиков наделяет его своим голосом и своими убеждениями.
Я молча возвращаюсь в редакцию. Обследование кухоньки приводит к грустному выводу: ни крошки еды.
У меня мутится в голове. Я пью воду из крана, чтобы хоть чем-то заполнить желудок.
Затем в полном унынии сажусь за стол и раскрываю Коран, обнаруженный на полке, среди словарей, энциклопедий и прочих справочников.
Принимаюсь за чтение, но фразы скачут и расплываются перед глазами; кажется, сейчас я упаду в обморок.
– Держи!
Умм Кульсум – величественная, обряженная в платье попугайной расцветки, с небесно-голубыми веками – протягивает мне коробку с медовыми пирожными.
– Это тебе! – поясняет она с улыбкой, какой я доселе у нее не видел.
Я выхватываю из коробки кусок пахлавы.
– Нет, вся коробка – тебе!
Я лепечу слова благодарности. Она видит, что я искренне тронут, и улыбается еще шире:
– Я их испекла в выходные.
Набиваю рот этой сладостной едой. Она смотрит, как я объедаюсь, и сияет. Но к ее удовольствию примешивается легкое удивление, никак не связанное с моей радостью, – она недоумевает: как это ее посетила такая блестящая идея? И, любуясь мной, она одновременно гордится своим поступком – точь-в-точь королева, которая забавы ради облагодетельствовала своих подданных.
Я в очередной раз благодарю ее, она с притворной скромностью поворачивается на каблуках и, насвистывая, исчезает.
Заставляю себя есть помедленней и оставить часть пахлавы на вечер. Теперь, когда желудок мой полон, чувствую подступающую сонливость. Но нет, я не доставлю Пегару удовольствия в очередной раз унизить меня. Беру кнопку и приклеиваю ее скотчем к спинке стула, на уровне поясницы, острием наружу: если я вдруг задремлю и отвалюсь назад, она-то уж меня разбудит.
В редакцию возвращаются коллеги, и наш улей снова жужжит вовсю. Энергия сотрудников заражает и меня, я принимаюсь за работу. Мне поручены второстепенные задачи – разложить по порядку мелкие рекламные объявления, сверстать страницу коротких сообщений. И я принимаюсь за эти дела с таким усердием, как будто они меня воодушевляют.
В семь часов вечера редакция пустеет.
Филибер Пегар разрешает мне задержаться, напомнив только, чтобы перед уходом я не забыл погасить свет и захлопнуть дверь – тогда автоматически включится охранная система.
Убедившись в том, что я остался один, вытаскиваю наконец из ящика стола ноутбук. Теперь, когда он заряжен, мне кажется, что он стал тяжелее и сейчас выдаст мне все тайны Хосина Бадави.
На драгоценном экране возникает звездная ночь. Я берусь за изучение документов. Статьи о взрывчатых веществах и устройствах. О цианистом калии и рицине. О системах поджога. О джихадистах. Серия портретов под названием «Шахиды», – заглянув в словарь, я выясняю, что так называют героев ислама, и заключаю из этого, что Хосин собирал фотографии звезд терроризма, как нормальные люди коллекционируют портреты футбольных или эстрадных звезд.
Некоторые материалы посвящены путям истинного ислама, законам салафизма, возврату к основополагающим текстам, к первоисточнику, помогающему очиститься и возродиться. В них не упоминаются массовые убийства, зато говорится об утраченной невинности и чистоте, которые нужно обрести вновь. «Хороший мусульманин», «настоящий мусульманин», «служение Аллаху» – эти выражения назойливо повторяются в каждом абзаце.
Пытаюсь войти в почту, но она заблокирована. Открываю «спам» – он вычищен. Какое разочарование! В этом ноутбуке, где Господь встречается на каждом шагу, сообщников Хосина нет как нет. Такую дверь может взломать только высококлассный специалист.
– Ага, я так и знала, что найду вас здесь!
Я вздрогнул при звуке этого голоса.
Передо мной стоит следователь Пуатрено, а за ней – незадачливый Мешен, взмокший под тяжестью целого штабеля папок, которые он едва удерживает.
– Мешен, положите их куда-нибудь, а то вы похожи на верблюда.
– Спасибо, госпожа следователь!
Пожав плечами, следователь Пуатрено придвигает стул к моему столу.
– Надеюсь, я тебя не очень стесню, Огюстен, если мы с тобой кое о чем переговорим? Я отниму у тебя всего пару минут. Проходила мимо и решила, что лучше нам поболтать здесь, чем у меня в кабинете.
– Как угодно, мадам…
– Мой кабинет насквозь провонял кошачьей мочой. Понятия не имею отчего – в нашем здании нет ни одной кошки, и это сразу видно по засилью крыс в подвалах. Сперва я думала, что этот запашок исходит от правонарушителей, – уверяю тебя, что все они терпеть не могут мыться, – но потом, допросив нескольких жуликов из числа белых воротничков, заподозрила, что…
Она осекается, потом, придвинувшись вплотную, шепчет мне на ухо:
– …что так пахнет от Мешена. Это, конечно, нехорошо с моей стороны, но… мало ли… Так нет же! Выяснилось, что он каждое утро опрыскивается каким-то пахучим цветочным экстрактом, – лично я нахожу его тошнотворным, но до мочи ему все-таки далеко.
Она откидывается назад и продолжает уже в полный голос, обращаясь не только ко мне, но и к Мешену:
– Я велела сменить палас, продезинфицировать мебель, отмыть стены – никакого эффекта! Все равно пахнет, как от кошачьего туалета. Верно, Мешен?
– О да, мадам.
– Ну ладно, не будем ломать голову над этой загадкой, государство мне платит не за это! Так как же, поговорим здесь или ты предпочитаешь бистро?
– Лучше здесь, я еще не закончил работу.
С этими словами я небрежно закрываю ноутбук, стараясь сделать вид, будто он принадлежит мне давным-давно. Но я не умею лгать, да и актер из меня никакой. Следователь Пуатрено замечает мое смятение, глядит в упор, щурится и, видимо, начинает что-то подозревать.
– Так какие у вас ко мне вопросы? – спрашиваю я, стремясь отвлечь ее внимание от ноутбука.
– Всего один, тот же, что и у тебя: зачем?
Не могу скрыть изумления. А она трясет передо мной своим пакетиком леденцов:
– Хочешь?
– Нет.
– Ну и тем лучше, от них бывает понос. Мешен, а вы хотите?
– Нет, спасибо, мадам.
Она сосет леденец, а я выражаю ей свое удивление:
– Почему вы задали именно этот вопрос – «зачем?». И почему именно мне?
– Ты выглядишь проницательным, умным парнем. И потом, у тебя есть…
Глянув назад и убедившись, что Мешен ее не расслышит, она договаривает шепотом:
– …дар! Твой дар – он поможет тебе ответить на этот вопрос?
Она встает, давая мне время подумать, и мерит взглядом Мешена, который достает свой ноутбук.
– Нет, сегодня никаких записей, Мешен. У нас с Огюстеном будет чисто неформальная беседа. Вы нам не нужны.
Мешен вытирает пот со лба:
– Вы разрешите мне выйти в туалет, мадам Пуатрено?
– Ну конечно, Мешен, конечно.
– О, спасибо, мадам!
Нахмурившись, она глядит ему вслед.
– Вот недотепа! Благодарит, когда я советую ему положить папки, благодарит, когда разрешаю выйти в туалет… Тут одно из двух: либо я строю из себя тирана, либо он строит из себя болвана. Ты как считаешь? Хотя нет, молчи. Давай-ка лучше о нашем деле.
И она усаживается напротив меня.
– Итак?
– Я стараюсь понять, но не могу.
– А вот я нащупала один след, – объявляет она. – След, который полиция под руководством этой гориллы Терлетти не взяла в расчет и который я пока еще не готова им назвать. Вот мой метод: выслушать виновника.
И ее взгляд останавливается на моем ноутбуке.
– Достаточно услышать то, что он говорит.
Я вздрагиваю. Уж не хочет ли она сказать, что обнаружила, кто владел ноутбуком, лежащим сейчас между нами?
– В настоящее время полиция, несмотря на все свои обыски, так и не нашла компьютер, которым пользовался Хосин Бадави. Но рано или поздно…
И она смотрит мне в глаза:
– Впрочем, это не имеет значения! Он уже сам нас просветил.
– ?..
– «Аллах акбар!» – вот что он выкрикнул за секунду до взрыва. «Аллах акбар». Этот слоган за последнее время так часто повторяется, что на него перестали обращать внимание. И зря! Следует внимательно прислушаться к тому, что вопят эти людишки: «Аллах акбар».
– Это означает: «Бог велик».
– За миг до смерти террористы поминают Бога. И Терлетти ошибается, когда игнорирует эти слова – «Аллах акбар».
– Но это всего лишь религиозная формула.
– Ты так думаешь? А я вот считаю, что это больше чем формула.
– Значит, форма протеста?
– Это первое, что пришло мне в голову… Именно так полагают журналисты, это их и тормозит.
– Признание?
– Еще того больше.
– Так что же?
– Донос!
Она вся сжимается, как перед прыжком; ее взгляд буквально гипнотизирует меня.
– В свой последний миг они выдают виновника. Швыряют нам в лицо: вот кто убийца! Сами они всего лишь марионетки, а там, наверху, их дергает за ниточки главный кукловод.
– Простите, не понял?
– Мы гоняемся за этими марионетками, не замечая главных виновников. Обвиняем в преступлениях жертву. А ведь настоящий убийца – тот, кто приказывает убивать, а не исполнитель. То есть мозг, а не рука. А кто командует террористами? Бог!
Она встает и начинает прохаживаться между столами, заложив руки за спину.
– Боевики трубят об этом на весь мир! Долгие века они обличают Господа, а мы, пораженные какой-то странной глухотой, этого не слышим. Крестовые походы, священные войны, распри между христианами и катарами, борьба католиков с протестантами – все эти преступные кровопролития свершаются во имя Господа! Американские первопоселенцы истребляли индейцев, цитируя Книгу Иисуса Навина; голландцы ссылались на Второзаконие, чтобы оправдать апартеид в Южной Африке; японцы захватывали Китай во имя синтоизма; сунниты и шииты, исповедуя ислам, по сей день бьются насмерть; сегодняшние террористы ИГИЛ или «Аль-Каиды» убивают и насилуют с криком «Аллах акбар!». А мы безнадежно глухи. Хуже того, расслышав этот лозунг, мы его сурово осуждаем. Ай, как нехорошо – убивать во имя Господа! Верующие убеждены, что это Его оскорбляет, атеисты просто считают бредом.
– На земле очень много всяких религий, мадам. Вот если бы существовала только одна…
– Но Бог-то все равно останется. А это именно Он так безжалостен к нам.
– Тогда следовало бы упразднить все религии на свете.
Раздумывая над моими словами, она вертит на руке часы-браслет.
Я развиваю свою мысль:
– Если бы люди избавились от религий, конфликты, разумеется, все равно происходили бы, просто они объяснялись бы другими разногласиями – экономическими, территориальными, политическими, но их уже нельзя было бы оправдать Господней волей, религиозными законами или необходимостью обороны, когда на самом деле речь идет об агрессии.
– Ну это уже ты хватил, Огюстен! Ты утверждаешь, что войны ведутся во имя Господне, потому что люди сделали Бога орудием своих интересов, говорят от Его имени, действуют под прикрытием Его законов. То есть, по-твоему, превратили Его в некую завесу, в облако, за которым прячут собственную жестокость в оправдание своего цинизма. А что, если все как раз наоборот?
– Не понял.
– Что, если это Бог толкает людей на убийства?
– Бог – это только предлог для убийств.
– Нет, Бог и есть главный убийца.
– Мадам Пуатрено, религиозные культы порождены не Богом. Люди сами создают доктрины, пишут законы, формулируют догмы, придумывают ритуалы, выстраивают иерархии, придают всему этому официальный статус. Религии были и остаются человеческим изобретением.
– Ты забываешь, на чем эти религии основаны – на священных текстах.
– Священные тексты тоже пишутся людьми.
– Кто знает…
Эта реплика поражает меня. Я никогда не представлял себе Бога реальным существом, Он всегда был для меня воображаемой, отвлеченной категорией, продуктом человеческих измышлений.
– Огюстен, в своих доводах ты исходишь из предпосылки, что Бог не существует. А откуда тебе это известно?
– Ну… просто чувствую… чувствую, что там – пустота.
– Повторяю вопрос: откуда тебе это известно?
– Да ниоткуда. Честно говоря, я ничего не знаю.
– Ага!
– А вы, мадам?
– И я тоже не знаю.
– Ага!
Она с усмешкой глядит на мое торжествующее лицо:
– Значит, ни ты, ни я не знаем, существует ли Бог. И это нормально, Огюстен. Это доказывает нашу честность. Бог не есть порождение наших знаний или наших чувств – мы не видим Его, не слышим, не обоняем, не можем пожать Ему руку; Он не подвластен нашим научным достижениям – мы не наблюдаем Его ни в микроскоп, ни в телескоп; Он не подчиняется математическим расчетам – Бога не вычислишь с помощью уравнений; Он не зависит от философских теорий – никакие умозаключения не делают из Него реальное существо. Я не верю надутым дуракам, утверждающим, что они «знают»… Знают, что Бог существует, или знают, что Он не существует.
– Значит…
– Значит, ты должен быть готов к любому варианту – в частности, допустить, что Бог, возможно, существует. И следовательно, навязывает людям свою волю через священные книги – Ветхий Завет, Новый Завет, Коран. Которые получают статус откровений, таковыми Он их и объявил. А поскольку Бог прибегает к помощи посредников – пророков, писцов, очевидцев, Он же их и вдохновляет. И в таком случае…
Она замолкает, и я чувствую ее колебания. Она нервно выравнивает стопку бумаги на моем столе, потом боязливо оглядывается и, наконец, восклицает:
– …в таком случае это полная катастрофа!
– Катастрофа в том, что Бог существует?
– Нет. В том, что Он говорит то, что говорит.
Она произнесла это, понизив голос, словно опасалась быть подслушанной тем, кого упомянула.
– Возьмем, к примеру, Библию. Сначала, в рассказе о Сотворении мира, все вполне благостно: Бог приводит в порядок первозданный хаос, создает всякие замечательные штуки – звезды, земной шар, океан, бриллианты, апельсины, персики, шоколад, кошек, павлиньи перья, пищеварение и прочее. Здесь мы имеем дело с доброжелательным и щедрым Творцом. А потом Он вдруг разгневался: выгнал из рая Адама и Еву, ибо они согрешили, обрек мужчину на тяжкий труд, а женщину на родовые муки. Иными словами, проявил наконец свой мерзкий характер! Как говорится, недолго музыка играла! И вот начались века гнева… Бог пожалел о своих добрых делах и щедрых дарах, возненавидел свои создания, и вот Он уже организует первый в истории геноцид, бац – нате вам потоп, смерть всем живущим! К счастью, семейство Ноя спасается от гибели и продолжает род людской, но очень скоро Господь опять впадает в гнев. И сжигает города – Содом, Гоморру, Адму, Севоим[13]. Потом Он освобождает, по ходатайству Моисея, свой народ от фараонова ига, но тут же насылает на Египет десять казней – нашествие лягушек и комаров, саранчу, язвы, отравленные воды, – завершив все это смертью египетских младенцев! Далее Он устраивает свой второй геноцид – кровавую баню в Земле обетованной, с целью ее очищения от прежних поселенцев – ханаанских племен. Я уж не говорю о Его предписании Соломону уничтожить недругов, Давиду – ликвидировать филистимлян, о псалмах, дышащих ненавистью… Разгневанный Бог неистовствует, раздувает кровавые войны, попирая все законы человечности. Но Ему мало убивать воинов, он ополчается на женщин и детей, самую слабую и самую невинную часть гражданского населения. В Новом Завете Он слегка унялся – хотя и послал родного сына на крест, – однако в последнем томе, Апокалипсисе, снова начал бушевать, пугая людей ужасающим пророчеством, согласно коему четыре всадника – на белом коне, на рыжем, на вороном и на бледном – принесут в мир чуму, войну, голод и смерть…[14]
Захлебнувшись, она с трудом переводит дыхание.
– Ну а в Коране Он продолжает раздувать угли. Прочти суру «Коровы»[15] и сравни ее с Второзаконием Библии: и там и тут Бог призывает уничтожать неверных…
– Я знаю.
– Откуда?
– Я сейчас читаю Коран.
Одобрительно кивнув, она продолжает:
– Ни один священный текст не скрывает поразительной свирепости Господа нашего.
И, откинувшись на спинку стула, вещает дальше:
– А что же мы все – ты, я и прочие люди – делаем в течение всей истории человечества? Мы обвиняем человека, вменяем ему в вину то, что он прикрывает Богом собственную жестокость, но что, если все наоборот, если это Бог прикрывается человеком, дабы утолить собственную ярость? Мы утверждаем, что Бог ограничивается всепрощением, но что, если это человечество ограничивается всепрощением во имя Божие? Мы твердим, что людская злоба приводит к кровопролитиям, но что, если это Божественная злоба? Мы говорим о жестокостях, творимых именем Божьим, но что, если они воплощают собой безжалостную волю самого Господа?
Она резко придвигается ко мне:
– Вот какое следствие я должна была бы вести, вот кого мне следовало бы допрашивать – этого вселенского убийцу-рецидивиста, самого великого и страшного в Истории. Мы ведь располагаем многовековыми свидетельствами, исповедями, – впрочем, я предпочитаю называть их доносами. Так в чем проблема? А в том, что существует срок давности. И остается расследовать деяния только сегодняшнего Бога! Но я остерегусь привлекать к этому комиссара Терлетти. Ты представляешь его рожу, если ему предложить такое – итальянцу, носящему на своей волосатой груди медальончик с Мадонной?! Да он ужаснется, этот парень, у него вся шерсть дыбом встанет. Я уж не говорю о генеральном прокуроре, тот просто сочтет меня сумасшедшей или круглой идиоткой. Я бы предпочла второе, но и это плохо кончится: меня отстранят от следствия, да и просто выгонят с работы. Ибо если уж Господь, крестный отец всей этой мафии, соткал свою паутину, то, уж конечно, обеспечил себе надежное прикрытие и верных помощников. Он опутал весь мир, так что мне деваться некуда.
– А почему вы доверились мне?
– Чтобы ты провел это расследование вместо меня.
– Я?!
– Заведи дело на Бога. И пока волосатик Терлетти со своими гончими псами вынюхивает и разыскивает какие-то жалкие человеческие улики, стань выше их, проведи следствие на должном уровне и докажи мне виновность Господа нашего!
Она пронзает меня яростным взглядом и, стукнув кулаком по столу, выносит безжалостный приговор:
– Потому что главный убийца – Бог!
9
Ночь залила помещения мраком. В этой мутной тьме я уже не узнаю ни столов, ни шкафов, ни кресел; все они выросли до угрожающих размеров. И только глазок камеры наблюдения по-прежнему мигает слабым голубоватым светом, стоит мне зевнуть или потянуться.
Я веду себя в редакции как опытный сквоттер – погасил все лампы и уменьшил яркость экрана, утомляющего мои воспаленные глаза.
Снаружи башенные часы глухо отбивают десять ударов; вслед за ними, с легким опозданием, раздается звон на колокольне Нотр-Дам-де-Рампар. Следователь Пуатрено и ее верный Мешен давно ушли.
Сидя перед ноутбуком, я смакую пахлаву и макрут – подношение Умм Кульсум, – облизывая после каждого куска липкие пальцы. Меня охватывает теплая, расслабляющая усталость; обжорство угрожает головной болью, но насытившееся тело все равно блаженствует.
Однако чем больше я набиваю желудок, тем упорнее разум требует своей пищи. Придя в смятение от пылких речей Пуатрено, я вновь пересмотрел содержимое ноутбука, и оно подтвердило ее подозрения. Повсюду говорит Бог. Повсюду Бог угрожает или вознаграждает. Повсюду Бог приказывает вершить самое худшее. Все, что казалось мне прежде чистой риторикой, фигурой речи, теперь выглядит до ужаса реальным. Террористы, которых я считал душевнобольными, на экране выглядят героическими воинами; портретная галерея шахидов напоминает пантеон святых.
Брезгливо отворачиваюсь от экрана и массирую шею: от долгого сидения перед ноутбуком у меня свело мускулы, щиплет веки. И воздуха не хватает.
Подчиняться… какая же в этом духовность? И почему вера требует от людей беспрекословного подчинения?
Разве не стоит хоть иногда воспротивиться приказу? Разве человек не должен отвергнуть Бога, толкающего его на преступление? Если Бог ведет себя не так, как Ему подобает, давайте укажем Ему на это и отвернемся от Него! Вот так мне хочется теперь думать… Но мой внутренний мир пришел в полное расстройство. Этой ночью в мою жизнь ворвался новый персонаж – Бог. Я не призывал Его, я Его не чтил. Его имя принадлежало к набору терминов, не имеющих никакого отношения к любой реальности; феи, черные дыры, ад, рай, чистилище – все это были отвлеченные и вполне безобидные слова. Какая ужасная ошибка! После моей беседы с Пуатрено Он возник передо мной с мечом в руке, с угрозой на устах, с яростью во взгляде, обуянный ненасытной злобой и жаждой победы или мщения.
Увы, все теперь изменилось. Он наводит на меня страх. Приводит в оцепенение. Подавляет своим неистовством, а не своей мудростью. Я задыхаюсь под Его гнетом.
Теперь мне до ужаса ясно, что Он процветал и царил всегда, всегда! И при этом действовал не тайком, а в открытую: в городах, под крышей церквей, храмов, синагог или мечетей; в именах, в поступках, во фразах, в убеждениях, в доктринах. Он управлял всем и вся, безразличный к моему ослеплению или глухоте. Он был уверен в себе.
Это открытие буквально раздавило меня, вышвырнуло из моего привычного мира и повергло в ужас. Теперь я сожалею о Боге моего атеизма, о том Боге, в которого я не верил, – добром Боженьке, щедром, ласковом, воплощении всего лучшего в человеке. Этот, теперешний Бог, с которым меня столкнули жуткие факты реальной действительности, несправедлив, пристрастен, агрессивен. Что́ я приобрел, познакомившись с Ним? Ничего. Ровно ничего – если не считать тоски, беспомощности, испуга, унижения, разве что они-то и знаменуют собой прогресс.
Нет, не ожидал я встретить такого Бога.
В идеальном мире Бог должен был выглядеть благосклонным; в нашем – Он оказался страшным. В идеальном мире я бы Его почитал, в нашем – я Его боюсь.
Удастся ли держать Его на расстоянии? Держаться от Него на расстоянии? Но кто это решает? Разве у меня есть такая власть?
Закрываю ноутбук и прячу его в отвисший карман плаща.
Меня нигде не ждут, моему сквоту далеко до комфортного помещения редакции, но я все-таки ухожу. Пегар не должен застать меня здесь завтра утром.
Выйдя на улицу, я с удивлением констатирую, что жизнь идет своим чередом, как ни в чем не бывало. Трое мальчишек весело переругиваются. Тучная дама наблюдает, как писает ее пудель. Мужчина лет тридцати, в полупальто и шелковом кашне, торопливо идет куда-то, разговаривая на ходу по телефону – наверно, с той, к которой спешит на свидание. Счастливцы! Им невдомек, что Бог подзуживает людей, толкает их на резню.
Ноги сами ведут меня к площади Карла Второго. У обочины шоссе притормаживает и едет рядом со мной патрульная машина; полицейские бдительно оглядывают меня из окна.
Я холодею от страха и молю Бога, чтобы они не остановились и не обыскали меня. К счастью, машина набирает скорость и едет инспектировать дальше – я их не заинтересовал. На сей раз серенькая внешность сыграла мне на руку.
Но эта минутная паника наводит меня на мысль, что ноутбук представляет опасность. Если бы сыщики обнаружили его в моем кармане и включили, меня, конечно, сочли бы сообщником Хосина Бадави. Поэтому, завидев мусорку, я решаю избавиться от него.
Нет, нельзя! Это улика…
И я прохожу мимо. Обнаружив ноутбук, полицейские эксперты тут же найдут на клавиатуре следы моей ДНК и отпечатки пальцев. И даже притом, что я не фигурирую ни в одном криминальном досье, меня мгновенно вычислят.
Иду к площади по бульвару Одан.
У здания банка сидит бомж: устроился на тюфяке из пенопласта, среди тряпья, и читает при свете налобного фонарика журналы комиксов «Писку» и «Микки Парад»; вид у него сосредоточенный и неприступный, брови сурово насуплены: мол, не смейте меня отвлекать, – можно подумать, что у него в руках Пруст или Кант.
В двух шагах от площади меня останавливает женщина:
– Подайте, ради Христа, мне и моему ребенку!
Я вижу перед собой нищую оборванку, которая прижимает к груди целлулоидного голыша. Заметив, что я рассматриваю этот аксессуар, она начинает укачивать его, пытаясь ввести меня в заблуждение.
– Нам нечего есть!
И с бесстыдной улыбкой тетешкает голую куклу, изображая заботливую, встревоженную мать. Она прекрасно знает, что ее фокусы никого не обманут, но продолжает ломать комедию:
– Подайте хоть сколько-нибудь моему ребенку и мне!
– Увы! – отвечаю я, демонстрируя ей пустые ладони.
Нищенка пожимает плечами. Она мне верит: мои драные кроссовки, бесформенный плащ и худоба не ускользнули от ее взгляда.
– Хочешь со мной переспать?
Вопрос прозвучал деловито, без всякого намека на сексуальный призыв, и так спокойно, как спрашивают: «Хочешь, я поднесу твою сумку?»
– Нет уж, спасибо.
– Я тебе не нравлюсь?
В этом вопросе тоже нет ничего женственного, зато я чувствую в нем агрессивную нотку.
– Извини, меня ждут…
– Ах, его ждут! – подхватывает она с издевательским почтением. – Ну что ж, мой принц…
Она склоняется передо мной в насмешливом поклоне и тут же, завидев на другой стороне улицы прохожего, бросается к нему:
– Месье, месье, нам с ребенком нечего есть!..
А я иду дальше.
Что, если просто отдать ноутбук Момо? Ведь Хосин Бадави наверняка предназначал его брату, потому и оставил в контейнере, помня, как они прятали в нем все ценное. Вот самое верное решение! Значит, либо я засуну его туда, в кучу мусора, либо – что еще лучше – разыщу Момо и передам ноутбук из рук в руки.
Выхожу на площадь Карла Второго.
Изуродованные стены и разбитые витрины затянуты строительной сеткой. На церковной паперти лежат увядшие букеты, записки с соболезнованиями горожан. И всюду, куда ни глянь, – на мостовой, на ступенях, на подоконниках – горят свечи; их слабенькие золотистые огоньки создают теплую, уютную атмосферу детского праздника, рождественского бдения. Люди, парочками или группами, подходят к ним согреть душу. Они не разговаривают, просто стоят, склонив головы; кто-то молится, кто-то просто задумался, они пришли почтить память погибших, и это волнующее безмолвное единение – их ответ варварскому убийству.
Это скорбное сочувствие передается и мне. Впервые я отчетливо сознаю, что здесь лишились жизни ни в чем не повинные люди. И никак не могу понять причину холодной, звериной, непостижимой злобы, ворвавшейся в жизнь нашего мирного городка.
Слева, перед ратушей, замечаю еще одну группу людей, в которой мне чудится что-то знакомое. Видимо, это семья во главе с патриархом в трауре, которого поддерживают под руки дети; он плачет, и вдруг я его узнаю – это месье Версини, тот самый старик, что наведывался ко мне в палату, чью жену хоронили в день взрыва. Он изменился; сейчас на его лице уже не написан мучительный вопрос – теперь он все понял, он убит горем.
Потрясенный этим зрелищем, я сворачиваю за угол – не хватало еще, чтобы он меня заметил! – и торопливо иду прочь. Сердце бьется неровными толчками.
Нет, Момо не получит ноутбук! Почему я должен уважать волю Хосина Бадави, этого палача, врага рода человеческого?! Вдобавок компьютер содержит массу вредной информации, способной сбить с толку еще незрелого подростка. Ведь этот парнишка, после преступления своего брата, возбужден и озлоблен; не исключено, что он тоже замкнется в себе, начнет строить планы мести и придет к терроризму. К тому же есть ли гарантия, что у Момо не осталось пароля к почте брата?
Значит, единственное разумное решение напрашивается само собой – нужно отдать ноутбук полицейским. Глупо хранить его у себя, после того как я ознакомился с его содержимым. Жаль, конечно, что не будет у меня компьютера, но так оно безопаснее…
– Комиссар Терлетти скоро будет. А вы не хотите поговорить с кем-нибудь другим?
Женщина-полицейский в своей застекленной будке, выдающая пропуска, задает мне этот вопрос уже в четвертый раз с утра. А я, сидя на скамье, каждый раз отвечаю ей одно и то же:
– Нет, только с ним, и ни с кем другим. Он меня знает. Я пострадал при взрыве. Мы уже с ним беседовали.
Держа руку в кармане, поглаживаю ноутбук, это придает мне храбрости. Я хочу завоевать доверие Терлетти. Этот мрачный итальянец прямо-таки завораживает меня, я боюсь проявить слабость, оказавшись перед ним. Могучий, решительный, грубый мужлан соединяет в себе черты отца, которого мне так недостает, и самца, которым я никогда не стану.
Накануне вечером, приняв окончательное решение, я скрупулезно выполнил все, что запланировал: явился в «Фоли-Кебаб», где меня кормил Момо, надменно, подражая его наглости, кивнул великану с вишневыми губками и бросил на ходу:
– Я в туалет, потом закажу.
Запершись в кабине, я убедился, что между потолком и сливным бачком есть достаточно места для тайника, расковырял штукатурку углом ноутбука, оставил обломки на крышке бачка, а сам ноутбук спрятал в карман и вышел.
Пройдя мимо великана в фартуке, я взялся за дверную ручку и, перед тем как выйти на улицу, небрежно бросил ему:
– Я передумал!
И поспешил смыться. Я понимал, что хозяин вряд ли погонится за мной из-за того, что я его надул, но все-таки мне было не по себе – так поступать негоже.
– О, вот и комиссар Терлетти!
И полицейская дама, объявившая мне о приходе начальства, вскакивает, кокетливо поправляя прическу.
Терлетти входит мрачный как туча, насупившись еще сильнее, чем вчера, и в приемной сразу начинает пахнуть табаком и скандалом.
– Комиссар, этот молодой человек дожидается вас уже несколько часов.
Терлетти, даже не глянув в ее сторону, нехотя косится на меня.
– А, это ты…
Чувствуется, что его переполняет раздражение.
– Чего тебе?
– У меня для вас важное сообщение.
– Это у тебя-то? Да кто ты такой, чтоб тебе верить?
– Я, может, и никто. Зато вещь, которую я принес…
И я извлекаю из кармана ноутбук.
Терлетти даже глазом не моргнул.
Я жду. Я знаю, что он только разыгрывает невозмутимость. Знаю, что он изображает равнодушие. Знаю, что хочет показать мне, кто здесь главный. И я жду.
Наконец он цедит сквозь зубы, злобно скривившись:
– Ну и что это?
– Ноутбук Хосина Бадави.
Вот тут-то его черные глаза и сверкнули, в них зажегся охотничий азарт.
– Пошли!
Он толчком распахивает двери тамбура и решительным шагом проходит вперед, не заботясь о том, что я семеню следом, и отлетевшие створки едва не разбивают мне лицо.
Мы входим в его кабинет, и он плотно прикрывает дверь. Здесь тоже все насквозь пропахло табаком. Стены усеяны кнопками, на которых нет ни одного листка, так что они похожи на россыпь прыщей.
– Сядь!
Он подходит ко мне вплотную и пронизывает жестким взглядом.
– Ну, говори, только не ври, это в твоих же интересах. Чем ты мне докажешь, что это ноутбук Хосина Бадави?
Я включаю ноутбук, на экране возникает звездное небо, кликаю на папку «Фото» и нахожу снимок с надписью «Момо и я».
– Твою мать! – восклицает Терлетти.
Он ликует на свой манер – все больше мрачнея и все меньше говоря. Насупившись, он ходит вокруг меня, растирая синеватые заросшие щеки так свирепо, что щетина потрескивает под его пальцами.
– Где ты его нашел?
Отвечаю заготовленной речью: ноутбук был спрятан в туалете закусочной, куда я зашел купить сэндвич… постойте-ка, это ведь та самая забегаловка, где мы с вами встретились в воскресенье! И я уточняю место и время. Потом признаюсь, что обследовал содержимое, так как хотел оставить ноутбук себе.
Это добавление делает мой рассказ особенно убедительным. Терлетти грозно спрашивает:
– Ах так! Значит, ты, поганец, хотел его присвоить?
– Да. Но потом, когда я понял, кому он принадлежит…
– Конечно, конечно. Ладно, эти воровские замашки я тебе, так и быть, прощаю.
И он энергично хватается за телефон:
– Ребята, у меня тут на столе компьютер Хосина Бадави… Да, именно он… Здесь. Его принес свидетель… Ладно, я к нему не притронусь.
И он с довольной миной вешает трубку.
– Парни из экспертного отдела сейчас перезвонят.
Телефон звонит, и он с недовольным видом поднимает трубку.
– Алло? Здравствуйте, госпожа следователь.
Он улыбается. И я тоже – представив мадам Пуатрено на другом конце провода.
– Вы звоните очень кстати, госпожа следователь, я только что обнаружил… Когда? Сегодня утром? Прямо сейчас? К вам в кабинет? Хорошо, до скорого, госпожа следователь.
Он задумчиво массирует локоть, и по его недовольному виду я догадываюсь, что ему не очень-то приятно подчиняться бабе. Он осматривает ноутбук, не прикасаясь к нему.
– Ты почту открывал?
– Нет, я не смог в нее войти.
– Ничего, наши криминалисты смогут. У нас теперь такие асы работают – настоящие гении.
И он протягивает мне руку.
Я с гордостью пожимаю ее, взволнованный его неожиданным благоволением.
– Спасибо тебе, Огюстен. Пройди в соседнюю комнату, пусть Мартине запротоколирует твои показания. А я иду в кабинет следователя.
Осчастливленный его благодарностью, я забываюсь, и у меня невольно вырывается:
– В тот самый, что пропах кошачьей мочой?
Он несколько секунд печально смотрит мне в глаза, отдергивает руку, отступает на шаг, вспоминает, что всегда держал меня за дебила, и тяжко вздыхает.
Выходя в коридор, он бормочет, не оборачиваясь:
– Счастливо!
И захлопывает дверь.
Ну вот… Я, как всегда, хотел поразить аудиторию, а в результате только закрепил в ее сознании свой имидж никчемного дурака. Реакция Терлетти – квинтэссенция того единственного чувства, которое моя особа вызывает у окружающих: полное равнодушие, временами окрашенное презрением.
Утром, когда я прихожу в редакцию «Завтра», там дрожат стены: Пегар устроил один из своих гомерических разносов, которых так страшится персонал, ибо они всегда выливаются в оскорбления, выволочки, а в худшем случае – и в немедленное увольнение.
Скудная шевелюра Пегара встала дыбом, лицо налилось кровью, он яростно орет на сотрудников: тираж газеты опустился до прежнего уровня, тогда как господин директор уже принял выросшие продажи за новую норму. Мало того, поскольку средства массовой информации отзывают свои бригады, присланные в Шарлеруа по случаю теракта, он предвидит, что в результате этого отлива «Завтра» снова впадет в свою провинциальную ко́му. И он неистовствует, бушует, жестикулирует, надрывается, задыхается, возмущается, подозревает, обличает и брызжет слюной, воображая, что его гнев изменит дело к лучшему.
Недавний скачок продаж, который Пегар отрицал в разговоре со мной, он теперь приписывает себе, утверждая, что это только его личная заслуга; он уже забыл, что именно я практически надиктовал ему статьи: одну про папашу Бадави, вторую – о врачах-паникерах, испуганных масштабами теракта.
– Вот уже тридцать лет я нянчусь с этой газетой, – голосит он, воздевая к потолку свои жирные руки, – вдыхаю в нее жизнь, даю вам средства к существованию, а вы – чем вы мне платите? Ничем! Ни одной конструктивной мысли! Ни одного дельного предложения! Никакого стремления к будущему! Вы цепляетесь за прошлое, вы мертвецы!
При слове «мертвецы» на пороге возникает семилетняя девочка со светлыми косичками. Прислонившись к косяку, она оглядывает нас. Никто, кроме меня, ее не замечает. Поздоровавшись со мной кивком, она оценивает ситуацию и с удовольствием слушает своего бушующего папашу, презрительно игнорируя испуганно застывших сотрудников.
– Ну, что вы молчите? Вы годны только на то, чтобы заниматься рутиной? Если так будет продолжаться, я уж позабочусь, чтоб вместо нашей рутины вы стояли в очереди на бирже труда!
Я поднимаю руку.
Пегар тычет в меня пальцем – вот удобный предлог, чтобы добавить к прежним оскорблениям новое:
– Смотрите, кто у нас просит слова – простой стажер! Вам не стыдно, господа? Мало того, стажер, только что вышедший из больницы! Чудом избежавший смерти! Вот уж кто живой человек, не в пример вам, шайка зомби!
Девочка ободряюще подмигивает мне. Но Пегар еще не кончил:
– Некоторые из вас получают здесь зарплату по десять, а то и по пятнадцать лет, а он, стажер, гнущий спину за жалкие – вы слышите меня? – жалкие гроши, из кожи вон лезет, пытаясь спасти нашу газету. Итак, что вы хотите нам предложить, Огюстен, дорогой?
– Месье Пегар, я бы предложил опубликовать большие интервью с самыми видными представителями наших местных властей. Но только с теми, кто пользуется известностью за пределами Шарлеруа, даже за пределами Валлонии, а то и всей Бельгии. С броскими заголовками на первой полосе. Нужно расширить международную рубрику нашей газеты.
Пегар взирает на меня сияющими глазами:
– Браво, милый мой Огюстен! Именно так, и только так! Ты попал в самую точку!
Девочка одаряет меня радостной улыбкой. Коллеги сидят, понурившись. В отличие от Пегара, они не забыли, что этот же проект я изложил ему еще несколько дней назад и заслужил в награду приказ «На улицу!», что и заставило меня в результате рисковать жизнью на площади Карла Второго.
– За работу! Быстро!
И Пегар удаляется; вместе с ним, подпрыгивая и напевая какую-то считалочку, уходит и девчушка в платьице из шотландки.
А мы устраиваем импровизированное собрание, чтобы распределить роли. Поскольку я твердо решил не провоцировать своих коллег, вызывая их отвращение, я смирно сижу и не высовываюсь – пускай самоутверждаются. Каждый из них называет деятелей, к которым можно обратиться: лауреат Нобелевки по химии, врач-новатор, премьер-министр, самые цитируемые ученые, певец Строма, председатель Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО, самый богатый человек в Бельгии. Список непрерывно удлиняется, и это всех радует.
До поры до времени я скромно молчал, но, дождавшись паузы, вношу предложение, которое долго лелеял втайне от всех:
– А Эрик-Эмманюэль Шмитт?
– Кто-о-о?
– Говорят, он больше других писателей увлекается метафизикой и вопросами религии. И у него есть страсть – разгадывать людей, даже тех, кто ему не нравится или внушает отвращение.
– Верно! Он еще разродился шикарным романом о Гитлере[16].
– И мне бы хотелось взять у него интервью.
Коллеги изумленно переглядываются. Один из них с сомнением говорит:
– Это слишком крупная рыба, Огюстен.
– Я прочел все его книги. Все сорок романов[17].
Они дружно поворачиваются к журналисту, ведущему у нас литературную рубрику: в обычное время именно ему надлежало бы заняться таким интервью.
– Он пишет так много и так быстро, что я за ним уже не поспеваю, – говорит тот и усталым жестом дает понять, что капитулирует. Тогда они обращаются к специалисту по политическим дебатам.
– Нет-нет, даже не надейтесь, я его терпеть не могу! – отрезает тот.
И главред с тяжким вздохом выносит решение:
– Ладно, Огюстен, попытай счастья. Свяжись с его издателем.
В течение последующего часа я получаю целую серию грубых отказов. В парижском издательстве меня категорически не хотят связывать с пресс-секретарем. Но я так упорно стою на своем, что эта дама в конце концов отвечает на мой звонок:
– Его реакция на взрыв в Шарлеруа? Ах, какое совпадение! Он только что написал по этому поводу четыре страницы для «Нью-Йорк таймс». Прочтите их завтра утром. Надеюсь, у вас в Шарлеруа продается «Нью-Йорк таймс»?
И она кладет трубку. Через сотрудников мне удается разузнать телефоны некоторых знакомых Шмитта. Но те отказываются назвать мне его номер. «Для кого? Для ежедневной газеты „Завтра“? Выходит в Шарлеруа?» Самые милосердные из них дают мне совет: если я хочу осуществить свою гениальную идею, лучше бы мне для начала уйти из газеты.
Но мне их мнение безразлично, я твердо намерен встретиться с писателем. Только через него – я в этом уверен – мне удастся ответить на вопросы следователя Пуатрено. Только с его помощью я смогу завершить свое расследование о Боге.
Кое-какие обмолвки подтверждают слух, который был известен мне и раньше: у Шмитта есть дом в Германти, недалеко от Шарлеруа.
Навожу справки и узнаю, что в деревне Германти проживает меньше ста душ, так что найти искомый дом будет нетрудно.
И я бегу к Пегару.
– Месье, для моего интервью мне нужна ваша помощь.
Он разминает сигару и обрезает кончик никелированной гильотинкой.
– Ну-с?
Он решил, что сегодня меня стоит любить. И теперь изображает доброго хозяина перед лицом образцового служащего.
– Я хотел бы взять интервью у Эрика-Эмманюэля Шмитта.
– Это еще кто?
Я так и думал, что он задаст этот вопрос. Все мы подозреваем, что он избегает редакционных летучек, потому что стоит упомянуть в его присутствии о какой-нибудь знаменитости, как он спрашивает: «Это еще кто?»
– Ну как же – Эрик-Эмманюэль Шмитт! Писатель, которого переводят на все языки, изучают в школах.
– Ах, ты об этом Эрике-Эмманюэле Шмитте? Что ж ты так невнятно произносишь, мой милый? Займись своей артикуляцией!
Девочка, присевшая на корточки на ковре, хлопает ладошками по ушам, объясняя мне этим жестом, что ее папаша не всегда улавливает звуки. А он попыхивает своей сигарой, довольный тем, как легко она раскурилась.
– Ну так что?
– Я хотел поблагодарить вас, месье Пегар, – вы тактично завуалировали тот факт, что мне здесь не платят. Если бы вы это обнародовали, я потерял бы уважение своих коллег. Так что спасибо вам.
Он смущенно откашливается и бормочет:
– Гхм… не за что… Я все-таки умею руководить своей командой.
– Но сейчас мне нужно немного денег, чтобы съездить в Германти, где проживает наш автор. Только не чеки на такси, я поеду на автобусе.
Пегар угодил в ловушку, отступать ему некуда.
– Сколько?
– О, всего пять евро.
Он вынимает бумажник и широким жестом бросает на стол купюру, воскликнув с королевской щедростью:
– Держи, мой мальчик, вот тебе целых десять!
Красно-желтый автобус доставляет меня в центр Германти.
Валлонская деревушка разлеглась вокруг зеленого поля с общественными зданиями по краям – церковью, школой, залом для праздничных сборищ, бистро и бакалеей. Иду наугад по прилегающим улочкам. Наряду с маленькими домиками вижу несколько солидных строений, в одном из них вполне может обитать наш писатель, но в каком именно? Продолжая изыскания, обнаруживаю два за́мка: один, с крепостными стенами, стоит в историческом центре; второй, на краю деревни, окружен фигурной кованой решеткой, за которой тянется дубовая аллея. Но на почтовых ящиках ни там ни тут никаких имен.
Расспрашиваю местных жителей. На мой вопрос, не здесь ли живет писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт, они скупо отвечают: «Может быть», «Не знаю», «Вот как?» – и отходят, явно не желая меня информировать. Эта бельгийская деревня соблюдает закон омерты не хуже сицилийской, оберегающей свою мафию.
Я уже собираюсь звонить в двери частных домов, предполагаемых жилищ писателя, как вдруг вижу человека, идущего через главную улицу в сторону леса. Высокий, дюжий мужчина выгуливает трех собак, вернее, это собаки выгуливают своего хозяина, так властно они натягивают поводки, таща его за собой.
Я боюсь, что издали мне его не разглядеть, и незаметно иду за ним следом.
Выйдя за околицу, человек приседает на корточки и, расстегнув поводки, отпускает псов на свободу. Они благодарно лижут ему руки, потом встряхиваются и, насторожив уши, смотрят по сторонам.
Похоже, это он. Из газет и телепередач я узнал, что он обожает собак и даже книги свои сочиняет во время многочасовых прогулок с ними.
Дорога, по которой я шел за ними, внезапно расширяется и впадает в светлую, открытую равнину. Небосвод и земля, распахнувшись, слились в один гигантский, безграничный простор, не разделенный никаким горизонтом.
Я не решаюсь подойти ближе. Человек то и дело нагибается, подбирает и швыряет собакам ветки, которые они приносят хозяину, вырывая друг у друга из пасти. Они носятся взад-вперед, роют землю, принюхиваются, готовясь поднять лай из-за любого шороха, запаха, намека на чье-то присутствие; псы то мчатся куда-то со всех ног, распушив хвосты, то замирают на месте, вслушиваясь, то бегут мелкой трусцой, не глядя по сторонам, – чуткие, настороженные, гибкие, беззаботные и хищные, грациозные и необузданные существа.
Человек сворачивает на тропинку, которая петляет по склону холма; разглядев ее, я понимаю, что нужно пойти по другой дороге, обогнать его и как бы случайно встретиться лицом к лицу.
И вот мы уже идем навстречу друг другу; нас разделяют какие-нибудь полсотни метров, и теперь я уверенно опознаю его. Судорожно подыскиваю нужные слова для обращения, не нахожу и начинаю паниковать. А он, напротив, излучает олимпийское спокойствие, даже команды своим псам отдает либо взглядом, либо шепотом, но уж никак не криком. Осталось пройти всего метров десять, и нам придется поздороваться, но у него вдруг звонит мобильник. Он вынимает его и начинает с кем-то оживленно говорить.
Тем временем собаки обнюхивают меня, дают себя погладить и разбегаются, чтобы обследовать заросшие травой рытвины на обочинах.
Поравнявшись со мной, Шмитт на ходу улыбается и кивает, не прерывая своей телефонной беседы.
Облом! Провалилась моя встреча! Мне, как всегда, не повезло. Что теперь делать? Догнать его? На секунду у меня возникает такое намерение, но, увидев, как он прикипел к трубке, как увлеченно разговаривает, сопровождая слова неловкой жестикуляцией, я понимаю, что, если сейчас помешаю ему, он меня просто-напросто пошлет подальше. И я уныло бреду прочь.
Честно говоря, мне даже непонятно, куда идти. Тропинки скрещиваются и расходятся, то выбегая в поле, то углубляясь в лесную чащу. Мои кроссовки тонут в жидкой грязи и промокли насквозь, да и сам я порядком замерз.
Проблуждав какое-то время, я все-таки обнаруживаю более или менее прямую просеку, выбираюсь из леса и на повороте дороги сталкиваюсь лицом к лицу со Шмиттом.
Стою и не верю своим глазам. Собаки весело скачут вокруг него, а он что-то мурлычет на ходу. Увидев меня, он замолкает и кивком дает понять, что помнит нашу встречу. Я, не раздумывая, восклицаю:
– Ну вот, теперь вы убедились, что земля круглая?
Он отвечает смешком – мое остроумие явно пришлось ему по душе.
А я спешу продолжить, понимая, что такой случай упустить нельзя:
– Я обожаю ваши книги, месье Шмитт.
Смех замолкает. Может, ему хочется сохранять инкогнито, выходя на прогулку? Может, ему не нравится, когда его узнают? Он пристально смотрит на меня, мысленно сопоставляя эти два имиджа – любителя его творчества и гуляющего шутника. И наконец смягчается:
– Значит, вы обожаете мои книги? Ну ладно, не буду вас разочаровывать. Это доказывает, что у вас хороший вкус.
– Я всеми ими просто упивался!
– Всеми? – недоверчиво повторяет он. – Ну это уж вы преувеличили. Я и сам не помню, сколько я их написал.
– Сорок.
– Сорок… да неужели? – вздыхает он, состроив растерянную мину.
Это он изображает рассеянного скромника.
– Месье Шмитт, окажите мне любезность. Теперь, когда вы знаете, что земля круглая, я хотел бы вам напомнить, что она круглая не всегда и не для всех.
Он опять смеется. Его решительно все веселит, этого человека. О чем же говорит его смех – служит ли он ему защитой или отражает его врожденный оптимизм?
Собаки улеглись у его ног, скрестив передние лапы, и терпеливо ждут; на их мордах написана вежливая скука.
– Моя газета собирает мнения видных деятелей…
Лицо Шмитта темнеет. Слово «газета» его насторожило.
– Какая газета?
Отвечаю дрожащим голосом:
– «Завтра», газета, выходящая в Шарлеруа.
Он мрачно бросает:
– Не знаю такой.
– Да нет же, конечно, знаете. Вы ее видите на прилавках продуктовых магазинов, в аптеках, на заправках, в найт-шопах; ее название обведено зеленой рамкой, а пишет она о всяких преступлениях или скандалах из жизни наших звезд.
– Ах да… верно… Так неужели у вас есть и культурная рубрика?
– Вот за нее-то я и бьюсь, месье Шмитт. Мне хочется заинтересовать наших читателей самым главным, чтобы они искали в газете статьи такого великого писателя, как вы, узнавали ваше мнение о культуре, а не смаковали бы сплетни о пьянках какой-нибудь мисс Метео, о разводе знаменитого футболиста или о всяких идиотах, участвующих в телевизионных реалити-шоу. Помогите же мне сражаться за культуру и интеллект, месье Шмитт! Иногда я чувствую себя таким одиноким в этой борьбе!
Он наклоняется и гладит своих златоглазых собак, которые ждут не дождутся окончания нашего разговора. Прикосновение к их мягкой шерсти явно меняет его настроение к лучшему.
– Вот хитрец! Ну что ж, перед такими убедительными аргументами я сдаюсь. Запишите телефон моей секретарши Жизель Жемайель, она организовывает все мои встречи. И вообще, это моя правая, да и левая рука. Я предупрежу ее, что вы будете звонить, и она назначит вам время.
Шмитт удаляется, а я гляжу ему вслед. Его собаки и он сам идут такой плавной и слаженной поступью, словно представляют собой единый организм. И то, что их связывает, выглядит куда более надежным, чем слова или взгляд; это похоже на невидимую нить, способную помешать молодому самцу умчаться слишком далеко, а самке – задержаться дольше, чем нужно, возле дохлой лесной мыши. Эта упряжка – человек и животные – уходит вдаль, мирная, дружная, сияющая, под небом, расчищенным теплым южным ветром.
На обратном пути я с трудом сдерживаю ликование: наконец-то он пришел, день моего торжества! Я добился встречи, казавшейся невозможной! В редакции меня должны на руках носить. Теперь я смогу провести расследование, о котором просила мадам Пуатрено. Мне до того не терпится объявить эту потрясающую новость, что я почти не замечаю деревушки и улицы, мелькающие за окном автобуса.
Прибыв на автовокзал, я бегу в редакцию. Перед нашим зданием стоят полицейские машины. На их крышах и капотах тревожно мигают синие огни.
Я заинтригован. Ускоряю шаг и обращаюсь к полицейским, загородившим вход:
– Что случилось?
Услышав мой голос, из вестибюля выходит комиссар Терлетти:
– Это он!
Меня мгновенно окружают трое дюжих парней; двое хватают за плечи, третий заламывает назад руки. А Терлетти, злобно ощерившись, объявляет:
– Огюстен Тролье, вы арестованы!
И на моих запястьях смыкаются наручники.
10
Комиссар Терлетти присел бочком на край стола, засучив рукава до локтей и скрестив на груди свои могучие волосатые руки со вздутыми синими венами. Сидит, сверлит меня немигающим взглядом.
И ничего не говорит.
Ни слова…
Молчит уже целый час.
Я буквально физически ощущаю это молчание. Оно куда более красноречиво, чем любые слова. Никогда бы не подумал, что полицейский может вести допрос, держа язык за зубами.
Я сижу в центре пустой комнаты, скрючившись на низком стуле, и чувствую, как давит на меня его взгляд. Он пронзает меня насквозь, сдирает кожу, пробирает до костей. Никогда в жизни я еще не опускался до такого жалкого состояния. Мало того что меня арестовали, мне не предъявили никакого обвинения и не задали ни единого вопроса. Обращаются как с бессловесной скотиной. Заперли. Следят за каждым движением. Презирают. Наказывают. Но за что?
Все это так унизительно, что я уже начал перебирать многочисленные ошибки и промахи, которые допустил в жизни, как будто надеялся отыскать среди них причину этого задержания. В числе моих обманов припоминаю некоторые, вполне невинные, другие – довольно интересные, то есть те, которые могли бы заинтересовать Терлетти, но их я приберегаю до поры до времени, не зная, что именно он ищет.
Это ожидание до того мучительно, что я уже готов признать себя виновным. Виновным во всех смертных грехах. Да, господин комиссар, вот до чего вы меня запугали! Остается понять, какое главное обвинение вы предпочли бы сегодня. Но пока остатки здравомыслия подсказывают мне, что лучше тянуть время и молчать.
– Тебе не в чем мне признаться?
Наконец-то Терлетти произнес первую фразу. Я поспешно откликаюсь:
– У вас есть ко мне вопросы?
Он задумчиво трет подбородок, глядит в потолок и роняет:
– Нет.
– Тогда что мы здесь делаем?
– Вот и я хотел бы знать.
Он внимательно оглядывает свои ногти, заскорузлые, круглые, крепкие, – мне кажется, он их не укорачивает у себя в ванной, а укрощает. И я смиренно выдавливаю из себя:
– Я готов признаться в чем угодно.
– Ты знаком с семьей Бадави?
– Нет.
– Вот ты уже и лжешь.
– Нет…
– Лжешь! Мы просмотрели запись видеокамеры в закусочной «Фоли-Кебаб» и выяснили, что в воскресенье вечером ты встречался там с Мохаммедом, братом Хосина. И вы долго беседовали.
– Я встретил его совершенно случайно.
– Ах, случайно?! Прямо диву даюсь – сколько же этих самых случайностей в жизни преступников!
– Преступников? А в каком преступлении меня обвиняют?
– Успокойся, пока ни в каком, мы просто ведем следствие.
Он встает и прислоняется к выступу стены, не спуская с меня пронизывающего взгляда.
– Давай-ка освежим в памяти список случайностей в твоей жизни за последнее время: ты встречаешь Хосина Бадави на бульваре Одан – конечно, случайно! Затем ты – тоже случайно! – бродишь по площади Карла Второго, и это как раз в момент взрыва. Потом ужинаешь – опять-таки случайно! – в компании брата убийцы и, наконец, – совсем уж случайно! – натыкаешься на компьютер Хосина. – И он восхищенно присвистывает. – Как по-твоему, случай тебя любит или ненавидит?
– Я не понимаю, что вы имеете в виду.
– Вот и я не понимаю. Зато прекрасно понимаю, о чем ты умалчиваешь: ты сообщник Хосина Бадави.
– Какая нелепость!
– Да нет, наоборот, все вполне логично. Ты провожаешь его до площади Карла Второго, чтобы подбодрять до самого конца. А там, удостоверившись, что операция идет по плану, отходишь подальше от взрывника с его «начинкой». Ты все хорошо рассчитал: взрыв тебя оглушил, но не ранил; тебя подбирают, лечат, жалеют. Твой статус жертвы теракта обеспечивает тебе ореол невинного мученика. Великолепно! Однако, побоявшись, что кто-то из горожан заметил тебя рядом с Хосином Бадави, ты решил превратиться в свидетеля – вот она, твоя новая маска – маска жертвы, – и составляешь для нас словесный портрет, который только сбил нас со следа.
Терлетти кусает губы, его топорная физиономия оживилась при этих словах. Какое-то затаенное злорадство делает его низкий грубый голос более звучным и чеканным.
– Дальше ты решаешь завладеть ноутбуком Бадави. Разыскиваешь его младшего брата, и вы встречаетесь в «Фоли-Кебабе». Передача ноутбука вот-вот должна состояться, но вдруг – видеокамера это зафиксировала – Мохаммед видит, как мы, я и мои парни, подъезжаем к закусочной. Испугавшись, он скрывается в туалете. И там же, из осторожности, прячет ноутбук над сливным бачком. Выйдя из туалета, он объясняет тебе причину своего исчезновения, и ты, опять-таки из осторожности, ждешь, когда мы уйдем. Ну а вчера ты нагло вошел туда, слямзил ноутбук и удрал. Все это нам показала камера.
– Это просто бред! Вы ошибаетесь абсолютно по всем пунктам.
– Ну так докажи мне это.
– И, кроме того, ваша история не имеет никакого смысла. С какой стати я указал бы вам на отца Хосина?
– А вот тут у тебя ошибочка вышла: ты надеялся все свалить на члена их семьи – кузена или дядю, – а попал на умершего отца. И тогда ты решил оправдаться с помощью компьютера.
– И что бы я выиграл? Будь я в сговоре с террористом, зачем бы я стал отдавать вам его компьютер?
– Перед тем как его отдать, ты просидел над ним много часов и стер всю информацию. Клавиши заляпаны твоими отпечатками.
– Но я же вам объяснил причину. Мне хотелось оставить его себе.
– Это ты расскажи кому-нибудь другому!
– Да ведь я сам принес вам его!
– Еще бы, ты ведь у нас хитрец… Этим ты хотел подкрепить свою версию.
– Какую еще версию?
– А такую: Хосин Бадави действовал в одиночку. Это одинокий волк. На самом же деле ты просто стер из памяти все прочие следы – и свои, и своих сообщников.
– Я не террорист, и у меня нет никаких сообщников!
– Да все вы так говорите.
– Кто это «вы»?
– Террористы. Сперва играете в молчанку, потом отрицаете.
– Я молчал, потому что вы не задавали мне вопросов. А отрицать буду до самого конца.
– Ну конечно, еще бы!
– Я невиновен.
– Это утверждают все виноватые.
– Тогда что же кричать невиновным? Вы меня с ума сведете!
– Ничего, я знаю – ты парень крепкий.
– Я не стирал никаких сведений в ноутбуке Хосина Бадави.
– Нет, стирал!
– Да поймите же вы, я в информатике – полный ноль. До сих пор я пользовался только общими компьютерами, у меня никогда не было своего.
– Ага, знаю я ваши песни: хочешь меня убедить, что ты олух царя небесного? Классическая система защиты – придуриваться.
– Нет, я действительно олух.
– Может быть, но не до такой же степени.
Его категорический тон кладет конец нашей дискуссии. Спорить с ним бесполезно, он просто не будет меня слушать.
В дверь стучат. Полицейский протягивает комиссару зеленую папку, и тот начинает изучать ее содержимое, делая вид, будто я для него уже не существую. Неужели он догадался, что безразличие – самая жгучая из обид, какой меня можно пронять?
Но мне тоже хочется его уязвить, и я изображаю туповатое спокойствие человека, ничуть не встревоженного его жалкими уловками.
Однако Терлетти еще не отказался от удовольствия помучить меня. Он то и дело что-то бормочет себе под нос, просматривая очередной листок, который затем аккуратно вкладывает на место, в один из файлов, лежащих в истрепанной картонной папке. На некоторых страницах он задерживается особенно долго, словно они содержат наиважнейшие сведения. А иногда и сопровождает чтение усмешками.
Я сижу тихо, как мышь.
Минут через двадцать, убедившись, что я на его цирк не реагирую, он подходит ко мне:
– Знаешь, что тут, в этой папке?
Я молчу.
– Твоя история. Со дня рождения до восемнадцати лет.
– И что?
– Тут описан такой образцовый сирота, ну прямо ни одной проблемы не создал обществу.
– Простите великодушно! А что – должен был?
Его удивляет моя ирония. Но я продолжаю тем же тоном:
– Значит, моя история ведет к терроризму? Интересно, какой процент сирот вовлекается в террор? Сирота – это синоним жертвы или синоним преступника? Просветите меня, сделайте милость!
Терлетти слушает с легкой ухмылкой, довольный моим раздражением.
– Гляди-ка, этот ягненок и кусаться умеет!
И резким жестом швыряет папку на стол.
– Тебе, конечно, всегда не хватало отца, Огюстен.
Эта фраза обжигает, как пощечина. Но я мгновенно даю отпор:
– Все зависит от того, какой отец. Бывают такие отцы, от которых лучше не родиться.
– И все равно отец необходим, чтобы вырастить сына.
– Лично мне, чтобы вырасти, достаточно еды.
– Отец учит ребенка уважать законы, объясняет, что можно делать, а чего нельзя. Он играет главную роль в семье. Он готовит сына к жизни вне домашнего очага, в обществе.
– Для меня домашний очаг и общество – одно и то же, поскольку я рос в государственных приютах, где прошел ускоренный курс социальной адаптации. И уж поверьте, я там научился блюсти свои права и свои обязанности, в меня их вбили вместе с нотациями и наказаниями. В этих учреждениях шутить не любят. Короче, я прекрасно обошелся без отца…
– Однако еще труднее тебе было обходиться без матери, – бормочет он.
Изумленный этим неожиданным поворотом, я тем не менее выдерживаю его взгляд. Хотя меня прямо обдает холодом и во мне просыпается какая-то злобная сила. Нет, нужно сдержаться.
– Я ненавижу жалость. И уж тем более ваше фальшивое сочувствие. Вы доставили меня сюда не для того, чтобы плакать над моей судьбой, вы меня арестовали.
– Ну вот, наконец-то ты начинаешь кое-что понимать.
– В чем вы меня обвиняете?
– Где ты живешь?
– Нигде. В сквотах.
– Почему?
– А вы как думаете?
– Ты ведь работаешь.
– Это неоплачиваемая стажировка.
– Значит, ты получаешь государственное пособие.
– У меня его украли. Несколько месяцев назад я решил пожить в сквоте, чтобы собрать немного денег. Мне хотелось снять на них студию. Но три недели назад, ночью, кто-то меня обокрал.
Заранее знаю его реакцию на эту подлинную историю… И он, конечно, говорит с иронической ухмылкой:
– Не верю ни единому слову.
Вот так вот! Я сникаю. А он вгоняет гвоздь еще глубже:
– Не пытайся меня убедить, что ты глуп до такой степени! Это уж слишком! Нет, тебе меня не провести…
От этих слов у меня на глазах закипают слезы. Перед его недоверием мне остается признать очевидное: моя жизнь представляет собой череду таких многочисленных и длительных бедствий, что рассказ о них и впрямь выглядит грубой, неприкрытой ложью. Может, Терлетти прав? Может, я на самом деле идиот?
Я безнадежно вздыхаю. А он наклоняется ко мне с сочувственной миной:
– Успокойся, Огюстен, облегчи душу. Расскажи мне все. Признайся: ты чувствовал себя таким одиноким, что предпочел примкнуть к группе. Признайся: твоя повседневная жизнь была настолько убогой, что ты захотел придать ей особый смысл борьбой за правое дело. Признайся, что ты прочел и полюбил Коран. Признайся, что решил исцелить наш больной мир, заменив его другим, более чистым, более разумным. Это ведь вполне простительное побуждение… С учетом твоего несчастного детства, я бы нашел вполне нормальным, что ты обратился за спасением к религиозной активной партии. У тебя много смягчающих обстоятельств, и каждый из нас тебя поймет, а я – первый.
Я пристально смотрю на него.
У меня дрожат руки.
Он беспощаден ко мне, но при этом хотя бы занимается мною. Терзает, но терзает, страстно желая мне добра. Я изворачиваюсь, а он не оставляет попыток разобраться во мне. Значит, в глубине души он добр…
Опустив глаза, я принюхиваюсь к нему. Табачный дым… мускусный аромат одеколона, а ниже, там и сям, другие, беглые запахи – кислые, теплые, плотские – рассказывают о его теле, сильном, жилистом. Мне приятен даже запах его пота. Его мужественность опьяняет меня. Как мне хорошо, когда он стоит рядом, совсем близко. Я к этому не привык. Вот бы мне такого отца!.. Я ощущаю жар его тела, проникаюсь им. Он приводит меня в смятение, вдохновляет.
Угодив в ловушку этой близости, я уже готов ему уступить. Сказать все, что он хочет услышать. Измыслить такие лживые подробности, за которые он будет мне благодарен. Вот так я закреплю нашу с ним близость… Вот так положу конец бессмысленному пребыванию в этой мрачной пустой комнате.
– Ну так что? – спрашивает он таким хриплым голосом, как будто от моего долгого молчания у него запершило в горле.
Я поднимаю глаза и вижу хищный огонек в его зрачках: он подстерегает момент моей слабости.
– Что? Да ничего…
В последний миг, уже готовясь дать лживые показания, я удержался. Устоял на самом краю пропасти, едва не сорвавшись вниз.
На лице Терлетти – горькое разочарование.
А меня переполняет блаженное облегчение: своим отказом сотрудничать я взял над ним куда большую власть, чем если бы согласился.
Он выпрямляется. Я вижу, что он еще раздумывает. Потом как будто принимает решение, подходит к двери и говорит:
– Даю тебе еще несколько часов на размышление. И помни: кто ищет, тот всегда найдет.
Через какое-то время полицейские принесли мне еду и воду.
Слышу, как Терлетти, проходя по коридору, спрашивает у караульного:
– Он сэндвич съел?
– Да.
– Не протестовал?
– Нет.
– Не колебался?
– Нет.
– Твою мать…
И удалился.
Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять причину его разочарования: сэндвич-то был с колбасой! Правоверный мусульманин отшвырнул бы его не раздумывая. А я – нет. Значит, я опроверг его гипотезу о своей принадлежности к экстремизму.
Меня отвели в камеру, а вернее, в каморку без окон, с оштукатуренными стенами и решетчатой дверью, провонявшую блевотиной и хлоркой.
Растянувшись на жесткой деревянной скамье, я воспользовался этой паузой, чтобы вздремнуть, хотя мой сон был полон всяких кошмаров.
Затем – даже не знаю, сколько времени спустя, потому что при аресте мои часы были конфискованы, – двое полицейских привели меня в ту же комнату для допросов.
На сей раз Терлетти сидит за столом, вид у него мрачный. Не глядя, он предлагает мне сесть и, с места в карьер, начинает задавать вопросы:
– Где ты встретился с Мохаммедом Бадави, младшим братом Хосина?
– В контейнере. Я искал что-нибудь съестное и обшаривал его.
– А что ему понадобилось в этом контейнере?
– Он думал найти там ноутбук своего брата.
– Где он, этот контейнер?
– Около старого завода крепежных изделий. Под автострадой. Недалеко от моего сквота.
– Это совпадает с показаниями Мохаммеда Бадави.
Я догадываюсь, что парнишка провел здесь такие же «веселые» часы, как я. И чисто по-человечески начинаю жалеть, что этот мальчик, совсем еще незрелый, прошел через такое испытание по вине тех, кто его окружал с детства.
– Но компьютер я обнаружил раньше, чем он, и припрятал. Решил оставить его себе.
– А почему ты сразу не сказал нам правду?
– Не хотел трубить на весь свет, что обитаю в заброшенных домах и ем то, что нахожу в помойных баках. У меня своя гордость.
– Твоя гордость сделала из тебя подозреваемого.
– Ах вот как! Значит, я уже не обвиняемый? Значит, все кончено?
Терлетти в замешательстве начинает кашлять. В его мощной грудной клетке этот кашель звучит гулко, словно эхо в пещере. Он давится им. Ишь как его разобрало, – видать, трудно признаваться в своей оплошности!
– Госпожа следователь отказалась дать санкцию на твой арест. Она считает, что у нас нет улик против тебя. Но это вовсе не исключает твоей виновности. Я с тебя, парень, глаз не спущу. Я в тебе еще не разобрался. Что бы ты ни делал, я буду тут как тут. А теперь пошел отсюда!
Я медленно встаю. Не могу оторвать взгляд от зеленой картонной папки, лежащей перед ним на столе. И, уже стоя на пороге, спрашиваю:
– В вашем досье указаны имена моих родителей?
Терлетти меняется в лице:
– Чего?
– Я до сих пор не знаю, кто мои биологические родители.
Терлетти упорно глядит вниз, на свои остроносые ботинки.
– А может быть, они пожелали остаться неизвестными.
– Может быть или…
– Наверняка!
Но его замешательство ясно доказывает, что в папке, которую он крепко прижал к столу, содержатся какие-то сведения.
– Прошу вас, скажите, есть ли там их имена?
– Нет их там!
И мы смотрим друг другу в глаза.
– А вы лжете куда больше моего, комиссар Терлетти, – говорю я.
И выхожу.
На улице уже темно. Дождя нет, но туман устлал мостовую влажной пленкой. И все кругом гнетет душу – и воздух, и тени, и свет фонарей, еле-еле мерцающий в этой сырой мгле, и приглушенный рокот автомобилей, что движутся вслепую сквозь плотное марево.
В моих венах тоже словно вода течет. Вся моя энергия бесследно улетучилась. Хочется есть. По спине пробегает дрожь. Я вышел из полицейского участка, шатаясь от слабости. Внезапно чей-то голос шепнул мне на ухо:
– Встретимся возле Почтового голубя.
Мимо меня, слегка задев на ходу, скользнула женщина, и за миг до того, как туман ее поглотил, я успел узнать следователя Пуатрено.
– У Почтового голубя? Когда?
– Тише!
Оказывается, я это выкрикнул.
– Ох, извините, мадам.
– Никто не должен знать о нашей встрече, – шепнул мне смутный силуэт. – До скорого, Огюстен.
Где-то рядом хлопнула дверца автомобиля, и он тронулся с места. Уж не ее ли это машина?
Иду к парку Королевы Астрид, опустив голову и сторонясь других прохожих. Вдруг они догадаются, что я побывал в тюряге.
Парк спит. Шагаю вдоль решетки, с сожалением вспоминая лето, когда хорошая погода позволяла мне ночевать на садовой скамье. Ну а сегодня вечером я только поплотнее запахиваю свой истрепанный плащ и располагаюсь под высокой каменной резной колонной с бронзовым голубем на верхушке.
Слышу цокот башмаков с металлическими набойками; из густого тумана выныривает следователь Пуатрено, подходит ко мне, и мы садимся в полутьме на каменный бортик.
– Обожаю это место! – восклицает она. – Ты заметил, что это единственный памятник, на котором нет имен?
– Э-э-э…
– Прекрасная идея – воздать почести голубям, которые сражались наравне с людьми, спасали человеческие жизни на море и в пустыне, доставляли приказы из армии в армию, пролетали иногда сквозь огонь пожаров или газы на полях, чтобы принести важные сообщения, а потом, полумертвые, возвращались в свои голубятни. Вот настоящие герои!
– Да, но их ведь дрессировали для этого, сами-то они не понимали, что делают.
– А кто вообще понимает, что́ он делает?! Кто знает, что́ он говорит, когда выражает свои мысли? И вообще, кто говорит нашими устами, когда мы говорим? Уж ты-то, видящий мертвых, которые наставляют живых, должен был бы это понимать.
Взглянув на меня, она легонько касается моей руки:
– Очень было тяжело – это пребывание в тюрьме?
– Терлетти меня ненавидит. Смотрит на меня как на преступника.
– Не худо бы ему на себя сначала посмотреть!
– Что вы имеете в виду?
– Ну уж я-то знаю, что говорю.
И она нервно барабанит пальцами по коленям.
Туман слегка редеет, и теперь нам виден в глубине парка, над крышами, лунный диск в размытом красноватом ореоле.
– А где же ваш верный Мешен?
– Мешен? Ах, этот бедняга…
И она разжимает левую руку; на ладони лежит пакетик леденцов.
– Ты, конечно, откажешься?
– Нет, охотно возьму, я умираю с голоду.
Она трясет перевернутый пакетик, но из него ничего не выпадает.
– Не повезло тебе, кончились. Очень жаль.
Я разочарованно глотаю голодную слюну.
– Огюстен, ты рассказал Терлетти о том, что видишь Невидимых?
– Нет.
– И не рассказывай никогда.
– Обещаю. Он и так держит меня за идиота. Не хватало еще, чтоб я ему это подтвердил.
– Терлетти представляет собой обыкновенное двуногое – двуногое-вульгарис, отлично интегрированное в наше общество и очень эффективное в сегодняшнем мире. Поскольку он проводит время, вынюхивая преступников, как охотничья собака, он стал экспертом по самым банальным правонарушениям, и это создало ему отличную репутацию в среде приземленных людей. Мало того, в нем даже есть какое-то обаяние. Ты согласен?
Мне комиссар до того противен, что хочется возразить, но тут я вспоминаю свои переживания в тот миг, когда он наклонился ко мне.
– Да… можно сказать и так.
– Мы, женщины, сразу чуем в Терлетти нечто от первобытного самца, и это будит в нас древние инстинкты, будоражит гормоны, пробирает до самого нутра. Даже не знаю, что именно нас привлекает – то ли его черная грива до бровей, то ли мускулистое тело и жар, исходящий от него, то ли взрывной, пылкий нрав и внутренняя энергия, о которой говорит обильная растительность на теле. Он кажется одновременно опасным и надежным – что-то среднее между волком, готовым растерзать, и псом, готовым защитить. Словом, весьма притягательная личность… Ну а что он для тебя как для мужчины?
– Э-э-э… Терлетти обладает внешностью, полностью соответствующей его характеру, то есть могучей и топорной. Его убеждения так же тверды, как его руки. Он мне кажется таким мужественным, каким я никогда не буду.
– Он тебе доказывал, что ты готовый кандидат в террористы?
– Именно так.
– Ну если в главном он и ошибся, то в деталях частично был прав. При всем, что ты пережил, а особенно чего не пережил, ты должен был бы возненавидеть общество.
– За что?
– За то, что оно с детства отшвырнуло тебя на обочину жизни.
– Почему я должен винить в этом общество? Оно-то как раз исправляло провинность моих родителей.
– Сегодня ты ищешь работу и не находишь ее; тебя эксплуатирует Пегар; ты ночуешь на улице и питаешься объедками. Все это могло бы привести тебя к отчаянию, к упрощенному решению проблем, к поиску козлов отпущения, чтобы свалить на них свои грехи, к экстремизму и жестокости. Тем не менее ты продолжаешь вести себя как порядочный человек.
– Благодарю.
– Ты представляешь собой легкую добычу для радикалов, но они не имеют над тобой власти. Вот что Терлетти упустил из виду. Он мыслит стандартными категориями – как в социальной жизни, так и в психологии и в политике; он руководствуется только обстоятельствами. Исследует вопрос «как?», путая его с вопросом «почему?». Так вот, главный-то из них второй – «почему?». Почему ты избежал экстремизма, ненависти, злобы? Почему?
Она смотрит на меня и сама же отвечает:
– Потому что Бог оставил тебя в покое.
Я вздрагиваю. А она продолжает:
– Блаженный Августин! Бог даровал тебе покой!
И снова трясет своим пакетиком, забыв, что он пуст.
– Ах ты черт!
Смирившись с этой неудачей, она указывает мне на город вокруг нас:
– Я считаю, что люди делятся на две категории. Те, кого Бог оставляет в покое. И те, кого Бог неотступно преследует. Ты попал в первую группу. Тем лучше! Тебе подфартило.
– А это зависит от меня или от Него?
– Не поняла?
– Среди людей я никого не интересую. Вы считаете, что точно так же я не интересую Бога?
– Он тебя избегает.
– И опять-таки, это Его воля или моя?
– Его, конечно! Ты не несешь за это никакой ответственности. Вера идет не от людей, а от Бога. Он один решает, даровать ее или отнимать.
– А почему Он не распределил ее поровну между всеми?
– Я не понимаю твоего вопроса. С какой стати Он должен распределять ее поровну?
– Это было бы более справедливо.
– Но Бог отнюдь не справедлив.
– И все мы были бы равны.
– Вот этого Он уж точно не потерпел бы! Он проводит время, выбирая, выделяя, отмечая самых достойных.
– Разве Он не дарует веру всем, кто ее заслужил?
– Ни в коем случае! Самые лучшие из смертных – наиболее щедрые, наиболее храбрые и прозорливые, наиболее прославленные своими добрыми деяниями – могут никогда не удостоиться истинной веры. Я встречала множество замечательных людей, которые жили, не зная Бога. Даже представители духовенства в большинстве своем никогда не ощущали Его присутствия. Взять хотя бы мать Терезу, которая посвятила свою жизнь прокаженным в Калькутте…
– Неужели она не верила в Бога?
– Хотела верить, да Бог оставался для нее невидимым и неслышимым. Так она никогда и не удостоилась встречи с Ним.
– Но разве стремление верить не означает уже верить?
– Стремление верить свидетельствует в равной степени о желании и об отказе от желаний, о жажде успеха и о поражении. Стремление верить походит на отчаяние. Люди стремятся верить и, разочаровавшись, становятся атеистами. Я еще раз повторяю: вера идет от Бога, не от человека.
– Значит, Бог несправедлив.
– Священные тексты ни о чем другом и не говорят.
– И жесток!
– А это написано черным по белому в некоторых строфах Библии и в некоторых сурах Корана.
– А еще Бог – скупец.
– Ну, скажем так: Он расходует себя экономно. Он ведь хорошо изучил людей, поскольку сам же их и создал. И знает, что они в большинстве своем не размышляют, а пассивно плывут по течению. А коли не размышляют, значит пережевывают чужие мысли. Стадом руководит стадный инстинкт. Человеческое стадо идет вперед, довольствуясь своей жвачкой. Так зачем же Богу заниматься этими скудоумными? Он обращается только к меньшинству – к их пастырям.
Она смеется.
– А что касается тех представителей меньшинства, кто мыслит рационально, Бог тоже оставляет их в покое, ибо к ним Ему не подступиться.
Я пристально смотрю на нее. Она рассуждает так же легко и непринужденно, как профессиональный жонглер манипулирует своими шариками.
– Мадам Пуатрено, а вы верите в Бога?
– Нет, не верю. Но убеждена, что Он существует.
– Разве это не значит верить?
– Нет, это значит – бояться.
С этими словами она кладет руку мне на колено. И хотя этот жест вроде бы призван меня успокоить, я чувствую, как испуганно подрагивают ее пальцы.
– Некоторые люди думают, что красота, ум и доброта, которые они ощущают в мире, ведут их к Богу. А я считаю, что это путь к Злу. – И она вцепляется в мое колено. – Когда люди отказываются верить в худшее, Бог тут же напоминает о себе. Резня, войны, геноцид, холокост, казни, взрывы, инквизиция, терроризм и экстремизм – вот доказательство существования Бога на Земле.
И она вплотную приближает ко мне свое омраченное лицо:
– Ну, так как оно идет, твое расследование?
11
Старый завод встретил меня так радушно, словно соскучился. Едва я перелез через стену и ступил на его территорию, как он разогнал ворон, очистил от дымки луну и осветил дорогу к корпусам, а затем обеспечил тишину в здании, куда я вошел, и нагнал облаков погуще, дабы мне крепче спалось в темноте. Встреча с моим рюкзаком, с моими скудными пожитками и тетрадями тронула меня до слез. Высокие окна с разбитыми стеклами бдительно, как часовые, охраняли мой покой, а крепкие столетние стены защищали от ветра и непогоды. Завод радостно приветствовал мое возвращение, и эта ночная тьма совсем не походила на ту первую, когда я проник сюда незваным гостем и до утра слушал зловещие завывания, доносившиеся сверху, из-под крыши, и снизу, сквозь пол.
Человек может заставить вещи говорить, и я это умею, более того, сейчас мне удастся подвигнуть их на болтовню. Вместо того чтобы покориться хозяину, крича: «Я принадлежу тебе!», они делятся со мной самыми разными чувствами. Интересно, стали бы они беседовать таким же образом с богатым владельцем, вернувшимся к ним? Или в присутствии собственника вещи немотствуют?
Какая удача! Поскольку я ничем тут не владею, все радуется моему появлению.
Утром я проснулся счастливым. И хотя никакой особой причины для ликования не замечается, я ощущаю в себе то сладкое успокоение, которое всегда наступает после бурных рыданий. Разглядываю пустырь под окнами. Ветер уже не такой холодный, и я догадываюсь, что на подходе весна, что растения скоро возродятся после своей временной зимней смерти к новой жизни, чья упрямая, буйная, неудержимая сила наполнит собой все сущее. Пожухшие былинки уже выпрямились и тянутся к солнцу. Из зарослей доносятся неумолчные птичьи трели, звонкие рулады. Даже небо выглядит ублаготворенным. И сам я проникаюсь этой необъяснимой радостью.
Спешу на вокзал, чтобы умыться в общественном туалете. День улыбается мне, в душе звучит какой-то ликующий напев, я чувствую себя могучим великаном, способным остановить грузовик на полной скорости, перемахнуть через любой барьер, включая вот эти высокие решетки, огораживающие железнодорожные пути. Встречные детишки, идущие в школу, весело смотрят по сторонам; в их глазах никакой заботы, на их плечах никакого гнета.
Я раздумываю над словами Пуатрено: «Бог оставил тебя в покое». И чувствую себя свободным. Бесконечно свободным. Свободным до опьянения. Бог меня игнорирует, но хотя бы не портит мне жизнь. И пускай мне не суждены богатство и безопасность, взамен я получил эту особую милость – существовать без Него. Божья длань миновала меня.
Торопливо совершив утренний туалет, я отправляюсь в редакцию, готовый ко всем двенадцати подвигам Геракла. Счастливое совпадение: сам Пегар встречает меня на пороге:
– Ага, значит, они тебя все-таки освободили!
– Они меня не освободили, по той простой причине, что не арестовывали. Меня просто допрашивали.
– Но содержание под стражей касается подозреваемых, а не свидетелей.
– Вы не хотите, чтобы я у вас работал?
Пегар ежится: он не ожидал, что я озвучу его тайные мысли. А я тут же оборачиваю его смущение себе на пользу:
– Как я вас понимаю, месье Пегар! Газета дает работу журналисту, которым интересуется полиция, подозревая, что он скрыл от нее важные сведения… это вызывает кривотолки, не правда ли? Кто знает, что за этим кроется – плохое или хорошее? Не важно, главное, слухи-то ходят… А вам, конечно, вся эта буза ни к чему.
С этими словами я круто поворачиваюсь, собираясь выйти.
Но тут короткопалая рука Пегара энергично хватает меня за плечо.
– Останься, Огюстен! Никто не посмеет сказать, что Пегар бросает в беде своих сотрудников. Меня не испугать скандалом.
Я оборачиваюсь, с трудом сдерживая смех. Чем грубее ловушки, которые я ему расставляю, тем легче он в них попадается.
– Пошли, малыш, пошли ко мне в кабинет, ты мне все расскажешь. И мы сделаем из этого шикарную статью. Это будет наш Золя! Наше «Я обвиняю!». Она такого шума наделает – ты обалдеешь! Внимание: наша полиция злоупотребляет своей властью! Внимание: наша полиция попала пальцем в небо! Внимание: наша полиция ведет следствие, исходя из своих предубеждений! Однако, действуя таким образом, полиция забыла о средствах массовой информации! Она забыла о Пегаре!
И он запирает за нами дверь своего кабинета.
Три часа спустя он уже состряпал статью, мерзкую, но грозную, – «Возвращение к драме Шарлеруа», – текст обо всем и ни о чем, который, однако, дает понять, что прессе известно куда больше, чем полиции; в общем, «сенсационный материал», который нужно перечитать не один раз, прежде чем уразумеешь, что все это мыльный пузырь.
Воспользовавшись перерывом, я звоню пресс-секретарю Эрика-Эмманюэля Шмитта, Жизель Жемайель. У нее теплый, прямо-таки солнечный голос; она подтверждает, что писатель предупредил ее, и предлагает два варианта встречи на выбор – уже сегодня или на следующей неделе. Я не колеблясь выбираю первый.
Садясь в автобус, я вдруг осознаю, что моя утренняя радость стала предвестием этой: скоро я встречусь с одним из моих любимых авторов, тех, кто пробудил во мне желание посвятить жизнь литературе!
В Германти я приезжаю раньше назначенного времени и, пока суд да дело, решаю зайти в бистро, предлагающее сэндвичи за полтора евро. Воздух прозрачен и свеж, настоящий бальзам для легких. Я распахиваю дверь бистро, дребезжит колокольчик, разговоры немедленно стихают, и люди за столиками дружно оборачиваются ко мне. Молодой жизнерадостный хозяин угадывает мое смущение и любезно усаживает к барной стойке, чтобы избавить от пристальных взглядов.
Мало-помалу разговоры возобновляются. Меня тоже вовлекают в общую беседу. Эти люди, преждевременно постаревшие, с красными обветренными лицами и заскорузлыми руками, всю жизнь занимаются или занимались тяжкими работами, в любой холод и в непогоду. В конце концов я признаюсь, что приехал брать интервью у писателя, живущего в их деревне.
– А, так это у месье Шмитта! – восклицает хозяин. – Он проходит мимо бистро, когда гуляет с собаками. И так вежливо здоровается, только никогда не заглядывает.
– Оно и понятно! – возражает один из клиентов. – Он живет совсем рядом. Чтобы пропустить рюмашку, ты ему не нужен.
– Между прочим, все, кто здесь сидит, живут тоже совсем рядом.
– Ну, значит, он-то, по крайней мере, у себя дома не скучает!
И все хохочут. Но за этой общей веселостью я чувствую скрытое уныние, сомнение в правильном выборе жизненного пути: тот факт, что человек не скучает у себя дома, кажется им достойным зависти, куда более важным, нежели писательские и прочие творческие способности.
Ровно в назначенное время я обхожу вокруг дома и вижу ворота в каменной стене. Нажимаю кнопку звонка, в ответ тут же поднимается собачий лай. В домофоне звучит сквозь потрескивание мрачный голос:
– Что вам угодно?
– Это Огюстен Тролье. У меня назначена встреча с господином Шмиттом.
Молчание. Я начинаю волноваться. Этот потрескивающий, довольно-таки неприветливый голос, похоже, принадлежит хозяину.
– Ладно.
Да, это точно он.
Тяжелые деревянные створки распахиваются; в проеме я вижу английский сад и в глубине – дом, от которого на меня мчится с лаем целая свора собак.
Эрик-Эмманюэль Шмитт кричит мне издали, с дальнего конца газона:
– Не бойтесь их, это сторожевые собаки, они не кусаются.
И в самом деле, псы замирают в паре метров от меня, лают до хрипоты, рычат, показывая клыки и мешая пройти в сад, но не нападают.
Шмитт направляется в мою сторону; кажется, будто он только что вышел из какого-то иного мира и не спешит попасть в реальный; его поступь подчинена собственному жизненному ритму, взгляд обращен внутрь, к собственным мыслям. Я ему помешал, и его раздражение передалось собакам; оно говорит о нелюдимом характере, выдает скрытый гнев, вызванный тем, что его оторвали от работы.
Подойдя ко мне, он приказывает собакам замолчать:
– Фу!
Но они все так же напряжены, неотрывно глядят на меня исподлобья и злобно, глухо рычат.
– Хватит! Молодцы!
Псы тут же расслабляются, подобно отпущенной пружине, и начинают носиться как бешеные по газону, выщипывая из него травинки. А лицо Шмитта, словно этот приказ подействовал и на него самого, озаряется улыбкой.
Он приглашает меня пройти за ним в дом – это сельский замок XVII века, простое, но красивое, элегантное строение со светлым голубовато-серым фасадом. В центре участка высится донжон, оставшийся от более раннего, феодального, средневекового замка; по пути Шмитт объясняет мне, что и крепостная стена была возведена в ту же эпоху.
Мы входим в просторную, светлую гостиную. Здесь все дышит покоем, прозрачные плиссированные занавеси на шести окнах смягчают прямые солнечные лучи. Ничто не раздражает взгляд; вся атмосфера этой комнаты, с ее скромной роскошью, навевает умиротворение.
Зухра, служанка Шмитта, приносит нам две чашки кофе, и он заводит легкую беседу, нечто вроде прелюдии к серьезному разговору, чтобы помочь мне освоиться. Собаки разлеглись на ковре, сонно моргая: это время их законной сиесты. Их ничто не интересует, кроме хозяина: они следят за каждым его шагом, вслушиваются в его слова, перенимают его спокойствие и медлительность.
Пока мой хозяин говорит, я замечаю, что стена в глубине гостиной занята книгами в разноцветных переплетах, на стеллажах пятиметровой высоты; три остальные стены посвящены музыке. В нише, между коричневыми льняными портьерами, виднеется письменный стол, обтянутый гладкой бледно-желтой кожей, на которой играют блики дневного света. За моей спиной чернеет устрашающих размеров пасть камина, в которой свободно могут поместиться стоя несколько человек. Но когда я перевожу взгляд на широкое, обтянутое сиреневым бархатом кресло, где устроился Шмитт, я вдруг вижу мертвых.
Множество мертвых.
Я впервые вижу столько мертвых разом.
Более или менее видимые, более или менее реальные – хотя некоторые кажутся даже прозрачными, – они витают вокруг писателя.
Позади него – коллекция книг, вокруг него – коллекция мертвецов.
Некоторые из них производят на меня странное впечатление: кажется, я их знаю. Напрягаю память, пытаясь определить, кто есть кто. Вот этот, моложавый, резвый, в белом паричке, похож на Моцарта. А вон тот, неряшливый, в домашнем халате, напоминает Дидро. На софе, смежив веки, застыл Будда. А эта дама с копной мелко вьющихся волос, с жирно подведенными глазами, мечтательно и лениво раскинувшаяся на краешке письменного стола, – вылитая Колетт.
Мне все ясно. Эти гении, которым Шмитт воздает почести в своих книгах или в своих интервью, разделяют его существование. И они, конечно, не воздействовали на него в какой-то один, определенный момент, нет, они живут рядом с ним, беседуют с ним, наставляют, критикуют, вдохновляют его.
Руководствуясь этим критерием, я теперь значительно легче опознаю все другие тени, летающие вокруг Шмитта. В этом полнокровном человеке, с властной осанкой и нервными движениями, нетрудно узнать Мольера. А этот, болезненного вида, в испарине, который сидит на полу, между софой и креслом, перед маленьким пюпитром и что-то увлеченно пишет, напоминает Паскаля. Чуть выше замечаю парящих в воздухе Баха, Шуберта и Дебюсси. Но зато никак не могу определить имена трех других – монаха с аскетическим, хотя и сияющим лицом, который вознесся выше всех, лысого мальчика лет десяти и старого жизнерадостного араба, присевшего к Шмитту на плечо.
– Я чувствую себя здесь удивительно легко, – говорю я ему.
Он явно доволен моим комплиментом:
– Еще бы, ведь у нас под ногами сливаются три источника.
– И что же?..
– Они генерируют особую энергию. Вот откройте свой ноутбук.
– У меня его нет.
Он удивленно поднимает брови:
– Ну, тогда возьмите мой, сейчас я включу компас. Можете убедиться!
И я действительно вижу, что стрелка вращается как ненормальная, не в силах указать на север.
– В этом месте все компасы сходят с ума, и обычные, и электронные.
– Но что это означает?
– Что все возможно! Вот почему я решил поселиться здесь. Каждый раз, когда я осматривал этот замок, еще не зная, куплю ли я его, моим собакам, как и мне самому, не хотелось его покидать. Дома́ – они как люди: их выбирают не потому, что они чем-то нравятся, им просто уступают без рассуждений. А если ты доискиваешься причины любви, это означает, что ты не любишь.
– Месье Шмитт, вы интересуетесь многими религиями, проявляя к ним уважение и внимание; вы открыто признались в том, какую веру исповедуете сами; так что́ вы скажете о террористах, которые убивают людей и жертвуют собственной жизнью во имя Аллаха?
– Я скорблю об этом вдвойне. Меня поражает их жестокость. И возмущает, что она творится во имя Божье.
– А разве Богу не свойственна воинственность?
– Бог не говорит на наших языках. Ему нужны переводчики.
– Но что, если переводчики не вызывают доверия?
– Вначале никто из них не говорит на языке Господа.
– А потом они его осваивают?
– Его нельзя освоить. Можно изучить язык церквей, язык религий, но не язык Бога. Таких двуязычных переводчиков – с Божьего на человеческий – в мире не найти.
– Даже среди пророков?
– Они пользуются отдельными понятиями. Которые не выходят за пределы начального курса знаний.
– Даже среди мистиков?
Он мрачнеет. Монах с аскетическим лицом и проницательными глазами, над головой Шмитта, подался вперед, жадно вслушиваясь.
– Мистики встречаются с Богом, но этот опыт относится к особому миру, где все слова бессильны. Впрочем, можно ли это назвать миром? Скорее это изнанка мира. Или же истина мира.
Он щурится, стараясь подыскать нужные слова.
– Мне случилось провести свою мистическую ночь под открытым небом, в самом сердце Сахары, но я не знал, в какое пространство и в какое время увлекает меня Божественная сила. Я утратил представление о своих границах – о границах тела, о границах сознания, я забыл о земном притяжении, о ходе времени. Я покидал самого себя. И чем больше я отдалялся от себя, от своих земных ориентиров, тем больше получал. До полного растворения…
Монах подлетел к Шмитту почти вплотную, едва не касаясь его головы, ликующе и любовно глядя на него.
– Когда я вернулся в себя, то почувствовал, как я полон. Полон на всю свою жизнь. Полон смыслом, как беременная женщина полна младенцем. Я приобрел веру, иными словами, прикоснулся к тайне. Как описать этот невыразимый, нежданный, непостижимый миг?! Ни в одном языке не найдется слов для этих вершин, этого опьянения, этой туманности, этих таинств, этой духовной глубины. Слова бедны, они лежат на поверхности чувственного. Слова рассказывают о видимом, но бессильны выразить незримое. Они описывают банальный опыт и никогда – сверхъестественный. Мистическое выражается только приблизительно, туманными метафорами: оно обречено на поэзию.
Монах торжествующе кивает. Я начинаю подозревать, что он-то и подсказывает писателю продолжение.
– Мне стоило неимоверных усилий даже произнести слово «Бог». Его употребляли в стольких разных значениях. Какая связь между богами – духами анимизма, сонмом языческих богов, богом – архитектором философов, упрощенным богом рационалистов, персонифицированным богом каждой из религий, единым Богом Книги, Тем, кого изображают на картинах, и Тем, кого нигде не изображают?! А мой Бог – кто он? Тот, перед кем я преклоняюсь? Тот, кто дарует силу жить и работать? Тот, кого я благодарю с утра до вечера, при каждом приливе вдохновения, в каждой молитве?
Монах похлопывает Шмитта по голове, и он слегка расслабляется.
– Я не стыжусь того, что верю. Благодать, дарованная мне в Сахаре, являет собой, вместе с жизнью, самый драгоценный подарок, какой я когда-либо получал от судьбы. У меня было два комплекта родителей – отец с матерью и Шарль де Фуко.
Услышав это имя, монах взмывает к потолку, явно желая исчезнуть, словно его смутила эта рекомендация. И мне становится ясно, что он-то и есть Шарль де Фуко, загадочная фигура, пустынник, духовный отец Шмитта, по следам которого он прошел через Ахаггар.
– Вы его иногда видите?
Этот вопрос вырвался у меня непроизвольно. Шмитт вздрагивает:
– Кого?
Я неуверенно бормочу, осознавая всю нелепость своих слов:
– Шарля де Фуко.
При этом я не упускаю из вида монаха, зависшего под потолком комнаты. Шмитт отвечает ледяным тоном, нахмурившись:
– Молодой человек, Шарль де Фуко умер в 1916 году.
– Я знаю, месье Шмитт. 16 декабря 1916 года. Я просто подумал: может, вы мысленно беседуете с ним?
Он улыбается с явным облегчением:
– Вы меня тронули, месье Тролье. Я действительно ощущаю его присутствие где-то рядом с собой. Конечно, я его не «вижу», как вы сказали, но чувствую его благодатное присутствие. А временами мне даже мерещится, будто я его… слышу. И то, что он говорит, меня вдохновляет.
Итак, я заключаю, что Шмитт слышит, но не видит мертвецов. Может, это типично для писателя?
Он краснеет, видимо уже стыдясь своей откровенности.
– Только, пожалуйста, не пишите этого в своей статье. Я доверился вам как человеку, не как журналисту. Ваша проницательность меня взволновала, и я позволил себе сказать лишнее. Давайте вернемся к нашему интервью.
– По вашему мнению, жестокость террористов никак нельзя объяснить жестокостью Бога?
– Бог, которого я почитаю, не толкает людей на дурные мысли или поступки. Он просветляет, умиротворяет, излучает любовь. Ему несвойственно усугублять раздоры между людьми, напротив, Он вводит нас в царство единения и всеобщей гармонии. Наполняет наши сердца благодарностью, а не завистью. Врачует наши обиды или показывает всю их смехотворность. Он возвеличивает нас, вместо того чтобы умалять, но одновременно приводит к скромности и смирению. Этот Бог нуждается не в убийствах, Он хочет, чтобы мы любили и продлевали род людской.
– Если не Бог, то, может быть, это религии толкают людей на преступления?
– Бог – это огонь, а религии исходят от него, как остывающие сполохи. Они различны, но сердцевина у них общая. Их объединяет одно, универсальное, пламя. Почему они множатся? Почему разнятся? Причина – вторичные факторы. А огонь остается огнем, он главенствует как над словами, так и над учениями. Пророки и мистики, желающие выразить в словах невыразимое, – всего лишь посредственные переводчики. Вот вам и первое охлаждение огня. Затем их тексты ходят по рукам, переписываются, смягчаются, искажаются. Вот и второе охлаждение. Затем возникают культы, утверждаются ритуалы, создаются церкви. Третье охлаждение. И наконец, чтобы объединить массы верующих простым и понятным путем, догмы подменяют собой огонь. Вот они-то и могут стать полярной противоположностью Огня.
Эти слова насмешили двух призраков – Фуко под потолком и Будду на софе.
– И однако, все религии придерживаются неких общих принципов: они борются с эгоистическими инстинктами людей, вырывают их из первобытной дикости, дабы ввести в цивилизованное общество, воспитывают в них отвращение к жестокости и почитание законов, которые управляют нашей жизнью. Они подчиняют хаос индивидуальных порывов духовной дисциплине. Религии воспитывают, социализируют, умиротворяют. Во все времена они приводили нас к более высокому уровню развития, заставляли подавлять в себе животное начало. Религии ограничивают человечество, как линия горизонта – земное пространство. Некоторые из воинствующих атеистов – а среди них были и великие люди, от Эпикура до Фрейда, – утверждают, что это религии создали Бога; но я убежден, что они создали человека.
– А что вы разумеете под понятием «человек»?
– Двуногое, бесперое существо[18], более несчастное, чем животное, ибо его обуревают вопросы, на которые он никогда не получит ответа. Вечный и безнадежный поиск.
Я бросаю взгляд на трех его собак:
– Вы считаете их более счастливыми, чем вы сами?
– Они радуются жизни с таким пылом, о котором сам я и мечтать не смею. Но я учусь… или, вернее, это они меня учат.
При этих словах я вспоминаю свой беспричинный утренний восторг, радостный прилив сил, навеянный приближением весны. Может быть, животные постоянно пребывают в этом приподнятом состоянии?..
– Значит, если я вас правильно понял, месье Шмитт, религии, даром что они говорят с нами о Боге, во имя Божье, и возглашают, что ведут нас к Богу, на самом деле отлучают нас от Бога, от изначального огня – этого пылающего сердца, присвоенного мистиками и пророками. Вы уверены, что они слишком отдаляются от Бога?
– Уверен.
– Иногда?
– Всегда. Религии начинают свое существование как божественные, а кончают как человеческие. Этот закон един для всех: любые институты, как и любые цивилизации, движутся к исчезновению, ибо их опустошает время. Старея, форма приобретает большее значение, чем содержание. Это называется декадансом, упадком.
– Значит, судьба любой религии – упадок?
– Да. С одной оговоркой: иногда, время от времени, религию анимируют выдающиеся личности – святые, теологи, художники, мистики, – которым дано смахнуть с нее пыль веков, обнажить смысл, вернуть к источникам, создать новые зори из вчерашних рассветов. Вот так выжили три религии великой Книги – иудаизм, христианство и ислам…
– А как вам кажется, равноценны ли все эти религии?
– Я предпочел бы, чтобы вы не задавали этот вопрос.
– Но как же его замалчивать, когда люди убивают направо и налево во имя ислама?
– Люди извечно убивали себе подобных во имя всех на свете религий. Даже восточные спиритуалисты оправдывали войны. Даже буддизм изменил своим пацифистским принципам, когда оккупанты залили кровью Бирму и Шри-Ланку.
Невозмутимый Будда на софе хмурится и недоуменно взирает на Шмитта, словно спрашивая: «Что это ты, братец, болтаешь?»
– Бедный Миларепа! – растроганно шепчет автор.
Опечаленный Будда вновь смежает веки. Тут-то до меня и доходит, что это тот самый тибетский мудрец Миларепа, о котором Шмитт написал повесть.
Я продолжаю:
– Значит, все-таки связь между религиозным фанатизмом и жестокостью существует?
– Нет, существует связь между невежеством и жестокостью. Мне кажется, жестокость возникает от неуверенности в себе, которая приводит людей в отчаяние. Эти люди хотят утвердить свою правоту и убивают, чтобы избавиться от сомнений. Они желают избежать вопросов. Им хочется верить в нечто незыблемое, как мрамор, а не в изменчивое, как вода. Они не желают размышлять над смыслом человеческого бытия, содержащим больше вопросов, чем ответов. По сути дела, они пытаются стать Богом во плоти, тогда как являют собой всего лишь жалкое его подобие.
– Ну разумеется, философ не может стать агрессивным уже потому, что он сомневается. Но верующий-то человек не сомневается.
– Ошибаетесь! Вот я – одновременно сомневаюсь и верую. Мои сомнения и моя вера идут рука об руку вдоль общей границы, ибо они живут в разных странах. Мой интеллект продолжает исследовать мир, поскольку Бог не занимается наукой и Его существование недоказуемо, это вам не дважды два – четыре. А моя вера – сильная, твердая, устойчивая – существует на своем поле, там же, где сердце, память, восприимчивость, воображение.
– Значит, ваша вера не отвечает вашим сомнениям?
– Нет, поскольку она обитает на другой территории.
– И ваш разум не может поколебать вашу веру?
– Нет, поскольку он обитает на другой территории.
– Значит, вы раздвоены?
– Я соединяю в себе разум и веру. И готов познавать мир двумя способами – умом и сердцем. Но я их не путаю.
– Однако вера исключает знание.
– Вот именно! Мой разум сомневается, потому что не обладает верой. А моя вера предлагает, потому что не обладает разумом и не является разумом.
И он гладит черного пса, который выглядит таким же довольным этой формулировкой, как его хозяин.
– Из этого я делаю вывод, месье Тролье, что жестокость есть патологическая форма знания. Фанатик отрицает тот факт, что его рассудок ограничен, что он может чего-то не знать; вместо этого он принимает свои субъективные понятия за объективные истины. Жестокость возникает там, где человек не признает границы своих возможностей.
– А можно рассматривать жестокость как симптом?
– Жестокость – это болезнь разума. Но – внимание! – это болезнь мысли, а не религиозная болезнь. Люди убивают не только из религиозных разногласий – есть еще разногласия династические, националистические, расистские, антисемитские или попросту внушенные манией величия. Какая глупость – воображать, будто религии порождают жестокость! Убийства происходят в любую эпоху, по любым поводам. Все проявления нетерпимости выражают скрытую боязнь комплекса неполноценности. Варвар уничтожает того, кто не думает так, как он.
И Шмитт утомленно замолкает, тогда как Дидро что-то нашептывает ему на ухо.
– Какая ужасающая перспектива! – продолжает он после паузы. – Можно истребить три четверти человечества и при этом не покончить с сомнениями.
– Мне нравится ваша максима: жестокость как отражение патологической неуверенности.
– Или как торжество глупости.
– Какое же решение вы предлагаете?
Дидро, надрываясь, что-то трубит Шмитту в ухо.
– Решение? Всем – в философы! Спасение? Только знание! Но с условием: знание такое же смиренное, как вера, знание, которое действенно лишь в том случае, если оно придерживается границ разумного. Я считаю, что единственный предмет, который человеку стоит осваивать после того, как он научится читать и писать, – философия.
– Ну, до этого нам еще далеко.
– Вот потому-то мы и оказались там, где оказались!
Шмитт встает и подходит к окну. Прикрыв глаза, он наслаждается светом, как другие наслаждаются вкусом вина или ароматом табака. Спустя несколько мгновений он поворачивается ко мне, смотрит удивленно, как будто видит впервые, затем указывает на светлошерстную собаку, которая топчется перед щелью между софой и креслом и жалобно скулит, присев на низкие мускулистые, как у японского борца, ноги.
– Вы заметили? Моя Дафна все время хочет залезть туда, но боится: то обходит вокруг, то стоит и ждет, как будто там кто-то затаился, и она надеется, что этот кто-то даст ей пройти или уйдет сам… У меня даже возникло подозрение: уж не чует ли она там призраков? Вот и Люлю, этот черный пес, тоже подолгу смотрит на книжные полки, уставившись в какие-то определенные точки, хотя сам я ничего особенного там не вижу. Я начинаю думать, что у животных некоторые чувства – например, слух или обоняние – не только лучше развиты, чем у нас, но имеют еще какие-то дополнительные свойства. Что вы об этом думаете?
Я пользуюсь моментом, чтобы поставить на карту всё:
– Месье Шмитт, я думаю, что обладаю одним из этих свойств.
– Простите, не понял?
– Я вижу то, что видит Дафна.
– Что?
– Это Паскаль.
– Какой Паскаль?
– Философ Блез Паскаль. Секунду назад он уселся там по-турецки и пишет на листках. Когда Дафна попыталась пройти между софой и диваном, он не обратил на нее внимания.
Шмитт испуганно оглядывает меня с головы до ног, потом переводит взгляд на Дафну, которая еще не потеряла надежды пробраться между креслом и софой. Она вздрагивает, нервно бьет хвостом, рычит и скалится. Но Паскаль, погруженный в свои мысли, не замечает ее; собака, уныло прижав уши, отказывается от своего замысла и обходит софу с другой стороны.
Шмитт ударяет себя по лбу:
– Вы что, дурака валяете?
Его голос прерывается от волнения.
– Да нет, вы просто смеетесь надо мной!
И он мрачнеет, хотя я не могу понять, что это означает: то ли он цепляется за реальный мир, то ли готов поверить в невозможное.
– Месье Шмитт, с той минуты, как вы сели в это кресло, я вижу вокруг вас множество мертвых. Живых мертвецов, поскольку они за вами следят, слушают вас, а иногда и говорят сами.
Он втягивает голову в плечи:
– Где они – там?
– Да, прямо стеной стоят.
Я указываю на Люлю, которая лежит, опустив морду на передние лапы, и не спускает глаз с Колетт, по-кошачьи свернувшейся клубком на письменном столе.
– Вот на что смотрит Люлю.
Шмитт пожимает плечами, с полускептической, полуиспуганной усмешкой:
– Я… я, в принципе, не отрицаю того, что вы сказали… я стараюсь широко смотреть на вещи… но обещайте, что скажете правду… Кто у нас тут сегодня?
– Здесь Моцарт. Там Дидро. Под потолком Шарль де Фуко. Колетт разлеглась на краю письменного стола. Будда сидит неподвижно, если не считать того момента, когда вы упомянули о буддистском побоище в Азии. Мольер мечется взад-вперед, а Бах, Шуберт и Дебюсси летают по комнате.
Шмитт разражается хохотом – холодным, жестоким, принужденным, явно ему несвойственным:
– Браво, юноша! Я вижу, вы внимательно читали мои книги! Запомнили весь мой пантеон и сотворили из него этот занимательный спектакль! В какой-то момент я чуть было не поверил вам из-за Дафны!
– Я не шучу, месье.
– Да нет, шутите!
– Не шучу.
Он замолкает и перестает изображать весельчака.
– Не настаивайте.
– Да я вам клянусь, что…
– Наша встреча закончена. Благодарю.
Все три собаки, уловив настроение хозяина, вскакивают и недвусмысленно дают мне понять, что пора откланяться и что они готовы проводить меня до выхода.
– Месье Шмитт, я клянусь вам, что не лгу. И этих персонажей я набрал не из ваших книг, потому что узнал не всех. Некоторые так и остались для меня загадкой.
– Например? – машинально бросает он.
– Вон тот лысый десятилетний мальчик.
– Это Оскар, маленький больной, я написал сказку о его последних днях на земле.
Шмитт мерит меня взглядом, в котором уже нет враждебности:
– Я часто повторял, что, хотя в моей повести многое вымышлено, этот мальчик не оставляет меня.
– А улыбчивый старик, похожий на жителя Среднего Востока?
– Месье Ибрагим? Я тысячу раз объяснял в своих интервью, что оба эти персонажа, Оскар и месье Ибрагим, повсюду сопровождают меня, делясь своей мудростью и своим мужеством. Так что я прекрасно понимаю, откуда вы набрались того, что говорите. Нет, господин самозванец, это плагиат, и ничего более!
Его лицо окаменело, а рука повелительно указывает на дверь. Видно, что я ему опротивел.
– А вон та, месье Шмитт…
И я указываю на фигуру, которая с самого начала держалась в сторонке.
– …та женщина лет тридцати, маленького роста, чуть полноватая, с карими глазами, которая удивленно глядит перед собой.
– Что?!
– Она то напевает, то разглядывает корешки книг, поглаживая их и читая названия.
– Напевает… книги… О господи! – У Шмитта задрожали губы. Он бессмысленно глядит в пол. – Значит, удивленно глядит… так вы сказали?
– Да, вид у нее удивленный… Как у тех мертвых, которые еще не поняли, что они мертвы.
Шмитт падает в кресло.
– И карие глаза? Такие… круглые?
– Да.
– Красивая?
– Не красивая, но и не уродина. Скорее миловидная.
Он безжалостно кусает губы:
– Значит, она… здесь!
И его глаза наливаются слезами.
Он вскакивает, выбегает из гостиной, задев меня на ходу, и взбирается по лестнице, а за ним, жалобно скуля, несутся собаки, почуявшие горе своего хозяина.
Наверху хлопает дверь. Я слышу щелчок ключа в замке.
И вот я остался один. Оглядываю гостиную. Сонм мертвецов исчез.
– Зухра! Мадам Зухра!
Служанка тоже куда-то скрылась. В огромном доме стоит мертвая тишина. Что же делать?
12
Вот уже час, как я маюсь в одиночестве, сидя посреди гостиной на стуле, который мне указал Шмитт, и боясь даже пошевелиться, не то что открыть какую-нибудь книгу, хотя на журнальном столике их навалено штук тридцать, а стена заставлена сотнями томов в кожаных переплетах, рыжих, коричневых, зеленоватых, синих и тускло-золотых. Из страха, что меня обнаружат здесь и сочтут вором, я стараюсь принять вид человека, который ждет хозяина дома всего несколько секунд.
Из коридора и дальних комнат до меня доносятся голоса людей, которые ходят взад-вперед, что-то делают. При каждом звуке я непроизвольно съеживаюсь, втягиваю голову в плечи и стараюсь затаить дыхание: мне не только боязно их окликнуть – я со страхом жду, что кто-нибудь ненароком зайдет сюда, и тогда придется объяснять причину неловкой ситуации, которую я сам и создал.
Но вот с лестницы доносится частое цоканье собачьих когтей, напоминающее звуки ливня. И следом – тяжелые шаги. Сверху спускаются хозяева.
Входит Шмитт в сопровождении своей своры.
Увидев меня, он кажется скорее довольным, чем раздосадованным. Собаки, поворчав, смолкают.
– Извините меня, – тихо говорит он, – я не должен был оставлять вас одного… вот так… Но я был настолько потрясен, когда вы заговорили о ней…
– О ком?
– О той молодой женщине с удивленным взглядом. Я, и только я один знаю, кто она. Вы нигде не могли слышать или читать о ней.
Он садится напротив меня. Боязливо ежится. Его глаза бегают из стороны в сторону.
– Она… здесь?
Я оглядываю пространство вокруг него: мертвецы бесследно испарились.
– Никого нет.
Собаки ложатся у его ног. Он ласково треплет их за холки.
– Я безумно любил эту женщину. Нам обоим было по двадцать лет, когда страсть бросила нас в объятия друг другу. Неразлучные, мы открывали для себя тайны любви, как Адам и Ева. В течение нескольких лет мы почти не покидали парижскую квартирку, которую снимали в университетские годы. В свободное от занятий время она писала, и я тоже. Каждое слово давалось ей с величайшим трудом, она работала медленно, одна страница отнимала у нее несколько недель. А мое перо, напротив, резво бегало по бумаге, создавая то план драмы, то сюжет романа, то эссе, то новеллу, с той обманчивой легкостью, которая доказывала лишь мою незрелость. Не зная, на чем остановиться, я измарывал тетрадь за тетрадью. Зато она отчетливо сознавала свое призвание. Пока я искал, она находила. Я ею восхищался, она меня ободряла.
И он бросает взгляд в окно, на озаренный солнцем сад.
– В конце концов наша любовная связь исчерпала себя, мы разъехались, но остались добрыми друзьями. И постоянно делились друг с другом своими достижениями – а это требует от начинающих писателей большого самоотречения! Больше того, даже обменивались своими новыми текстами – вот доказательство того, что мы не окончательно покинули нашу литературную мансарду, в которой целых семь лет жили наши мечты. Ее стихи, все более и более сжатые, достигли совершенства; да и мои пьесы начинали пользоваться успехом.
Он привлекает к себе черного пса и ласково гладит его по гибкой спине.
– Ей не было еще и тридцати, когда ее унесла болезнь. Она угасла после нескончаемой, мучительной агонии. На ее больничной койке я обнаружил листок бумаги, где была написана ее легким танцующим почерком всего одна фраза: «Вокруг меня белое безмолвие» – одна строчка наверху пустой страницы, тоненькая ниточка жизни над океаном небытия. Ее последнее произведение… – И он горько усмехнулся. – Последнее слово сказала смерть. – И тут же, вскинув голову, добавил: – На самом деле я всегда отказывался предоставить смерти последнее слово.
И он отпустил собаку.
– С тех пор я пишу за двоих. За нее, которая не успела исполнить свое предназначение. И за себя, кому досталась эта привилегия. И когда люди восхищаются моей плодовитостью, многообразием моего творчества, литературных жанров, мне хочется ответить: «Ничего удивительного, ведь я работаю сразу за двоих писателей».
Он слегка расслабляется. Люлю тянет к нему свою хитрую мордочку, требуя хозяйской ласки.
– Она так и не покинула меня. Часто, сидя за письменным столом, я ощущаю легкий страх; мне чудится, будто она смотрит на исписанную страницу, требуя точности формулировок, призывая меня к терпению, когда образ не удается, к решимости, когда нужно вычеркнуть лишнее слово. Мне случается, как в те давние времена, слышать ее ласковые насмешки над моим «легким» пером, хотя она и советует мне сохранять эту невероятную легкость.
И он берет со стола одну из книг.
– С ее смерти прошло уже двадцать пять лет, а я до сих пор знаю, какие из моих книг ей нравятся больше, какие меньше. На любой странице я могу уверенно определить, что там от меня, что – от нее. И если мое желание продолжать творческую жизнь с годами не ослабело, то лишь потому, что я повторяю себе: мне нужно создать два шедевра, мой и ее.
За спиной Шмитта снова возникает весь сонм мертвых – Дидро, Моцарт, Мольер, Паскаль, Будда, Колетт и все остальные; каждый занят своим делом, тогда как женщина с удивленными глазами нежно смотрит на Шмитта.
Он поднимает голову и робко, неуверенно спрашивает:
– А сейчас?..
Волнение мешает ему договорить. Но я понимаю его без слов и говорю:
– Да. Она здесь.
И он облегченно вздыхает, теперь он счастлив.
Я деликатно добавляю:
– Они все вернулись.
Собаки словно подтверждают мои слова: Люлю пристально глядит на Мольера, Дафна отодвигается, уступая место Будде.
Шмитт оборачивается ко мне:
– Ваш дар прояснил один вопрос, который я постоянно себе задавал.
– Какой вопрос?
– Кто пишет, когда я пишу? Кто действует, когда я действую?
Шофер Шмитта везет меня в Шарлеруа. Какой контраст между моим скромным приездом в Германти и этим триумфальным возвращением в роскошном автомобиле, где я удобно расположился на мягком кожаном сиденье.
Шмитт захотел еще раз побеседовать со мной. Но поскольку его ждала работа, он назначил мне встречу в бистро «Рыцари».
– Сегодня, в восемь вечера. Идет?
– Идет.
– Могу я называть вас просто Огюстен?
– Конечно, месье Шмитт.
– И обращаться к вам на «ты», если мне так захочется?
– Как пожелаете.
– Ну спасибо! И главное, не бойся отвечать мне тем же, Огюстен! – крикнул он напоследок, уже взбегая по ступеням замка.
Приникнув лбом к окошку, я с удовольствием представляю себе реакцию Пегара и сотрудников газеты, случись им увидеть мою задушевную беседу с такой знаменитостью.
Машина подвозит меня к зданию редакции «Завтра».
– Монсеньор, монсеньор, у вас не найдется для меня монетки?
Та же самая бродяжка со своим целлулоидным пупсом кидается ко мне, жалобно крича:
– Для меня и моего ребенка, монсеньор! Нам нечего есть!
Изможденная, куда более старая, чем показалось мне прошлой ночью, она угодливо кланяется, приседает в реверансе, суетится, но смотрит не на меня – ее взгляд прикован к роскошному автомобилю, к шоферу, который открыл мне дверцу и помог выйти.
В глубине кармана я нащупываю три монетки по одному евро.
– Подайте, ради Бога!
Она хоть и взглянула на меня, но не узнала. Сегодня я принадлежу к той категории, которую ей нечасто доводится видеть. И она уже не предлагает мне переспать с ней.
Ну как ей объяснить, что я еще беднее, чем она? Достаю один евро и протягиваю ей.
– О, благодарю!
И она восхищенно созерцает монету, на которой, без сомнения, лежит отблеск автомобиля и его шофера; этот евро не чета тем, что подают обычные прохожие.
Какой-то высокий худой человек, прислонившись к водосточной трубе, курит и пристально смотрит на меня узкими, волчьими глазами.
Я скрываюсь в подъезде. Только что я был на вершине счастья и вдруг неожиданно начинаю рыдать. Я разбит, обессилен.
Лестничная площадка. Полумрак. Тишина.
Я съеживаюсь в уголке, обхватив руками колени. По щекам ручьями текут слезы. Нужно успокоиться, собраться с мыслями. Кто же я, наконец?
В этом вихре эмоций мне трудно понять, кто сейчас войдет в редакцию газеты «Завтра» – вшивый стажер или новый друг Эрика-Эмманюэля Шмитта? Делаю несколько глубоких вдохов, стараясь унять спазмы в горле и замедлить бурное сердцебиение. Никогда еще мне не верили так безоглядно! Никогда ни один мужчина, ни одна женщина не понимали суть моего дара так быстро, как он! Это духовное родство потрясает меня, хотя я еще не могу понять, чего в этом душераздирающем смятении больше – радости или грусти. Наверно, и то и другое… Я одновременно ликую оттого, что ко мне прислушался такой выдающийся человек, и плачу от изнеможения: после двадцати лет неприкаянности я вдруг ощутил на своих плечах тяжкий груз этого неожиданного доверия.
– Не надо сидеть тут, месье!
Поднимаю голову и вижу перед собой Умм Кульсум. Пораженная моим видом, она пытается вспомнить, кто я, колеблется и, пошатываясь, бормочет:
– А-а-а… ты… ты…
Мое имя так и не сходит с ее вялых губ, но это ее не смущает, она-то себя поняла!
Она плюхается на ступеньку рядом со мной, вернее сказать, обрушивает на нее все свои девяносто кило, затянутых в трикотажное платье. Вынимает из сумочки носовой платок, приторно благоухающий розовой водой, и сует его мне в руку.
– Не плакать… не плакать…
Речь Умм Кульсум убога, зато чувства щедры. Я вижу сострадание в ее больших влажных глазах. От горячего жирного тела исходит мощный поток любви. Она ласково гладит меня по затылку и напевает: «Salou Kououssa Atala… ya qalbi… ya habibi…» Арабские слова с фламандским акцентом ручейком текут из ее уст. В сиротском приюте Святого Георгия мне пришлось пару лет учить этот язык, и я понимаю некоторые слова. Обманутые надежды… холодное равнодушие… отстраняющая рука… разбитые судьбы… Умм Кульсум произносит их своим хриплым, фальшивым, утробным голосом, не заботясь о чистоте звука, обрывая фразы на полуслове, но даже так ей удается передать горе брошенной женщины, описать жизнь как пепелище любви:
Верни мне мою свободу, развяжи мне руки, Я отдала тебе твою и не пыталась тебя удержать. Ах, как жестоко твои цепи изранили мои запястья! Так почему же они снова сжимают их, если я тебя больше не привлекаю? Почему я должна хранить верность нашим клятвам, если ты их не сдержал? Мне ненавистна эта тюрьма, теперь мне принадлежит весь мир.Я сознаю, что эта сцена нелепа, смешна. Что нужно хмыкнуть, отдернуть голову, оттолкнуть это непотребное существо – полумужчину-полуженщину, – от которого несет смесью розовой воды и пота из-под мышек, чьи огромные ступни, торчащие у меня перед глазами, втиснуты в древние оранжевые туфли, готовые треснуть; да, нужно поскорее избавиться от этого полоумного самца, считающего себя самкой, этого живого, присвоившего себе имя мертвой, фламандца, вообразившего себя арабкой, самозванца, который бормочет, думая, что поет, но тут Умм Кульсум заводит другую песню, и эта мелодия убаюкивает, успокаивает меня. В ней, как и в первой, говорится о горестной доле, о покинутых женщинах, о неблагодарных любовниках. Похоже, она знает о любви только одно – что это источник всяческих несчастий. И хотя эти несчастья не имеют ничего общего с моими, я с горечью сопереживаю им. Мы вместе с Умм Кульсум упиваемся печалью.
Но тут в подъезд входит рассыльный. И рокот лифта прерывает наше скорбное бдение.
Я съеживаюсь, мне вдруг становится неловко. Умм Кульсум, очнувшись, забирает у меня свой платок, вытирает им глаза и деликатно прячет в сумочку. Потом бормочет:
– Всегда так в любви…
Я не отвечаю. Она глядит куда-то в пространство, грустно покачивая головой.
– О… мужчины… мужчины…
– Но я-то плакал не из-за мужчин! Я сам мужчина!
Этот возглас вырвался у меня непроизвольно. Она оборачивается, недоуменно разглядывает меня, и ее грузное тело пронизывает испуганная дрожь. Да, она начисто забыла. Забыла, что я принадлежу к другой породе, что я не оплакивал утраченную любовь. И она прищелкивает языком:
– Когда мужчина плачет, в нем плачет самое драгоценное сокровище – девушка, которая живет в нем. Я тоже много плакал до того, как стать женщиной.
Она защелкивает сумочку, с трудом встает на ноги, уцепившись за перила, и заключает:
– Теперь уже легче.
– Ты больше не плачешь, Умм Кульсум?
– Нет, я пою.
– Но ты не поешь, ты рассказываешь!
– Нет, пою.
– Нет.
Она с улыбкой наклоняется ко мне и стучит пальцем по своему виску:
– Вот там все время песня. Все время. И это прекрасно.
– Наверняка прекрасно, но это слышишь только ты одна.
– Да, но все равно прекрасно.
И она с довольным видом снова роется в своей сумке.
– Вот… подарок!
И протягивает мне розовый плюшевый футляр для ключей.
– У меня нет ключей, Умм Кульсум.
Она упрямо качает головой – ей непременно хочется порадовать меня.
– Держи!
– И квартиры у меня тоже нет.
Понимает ли она, что я говорю? Но она вздыхает и настаивает:
– Вот теперь у тебя будет футляр для ключей. Главное – начать с чего-нибудь.
Мой отказ наверняка обидит ее, и я принимаю от нее футляр – бережно, как самый драгоценный подарок.
– Спасибо тебе, Умм Кульсум!
Ее глаза радостно вспыхивают, она переводит дыхание и величественно взмахивает рукой, словно хочет сказать: «Не за что, какие пустяки!», после чего с неожиданной легкостью сбегает вниз по лестнице.
Спустившись в вестибюль, она поднимает руки на уровень плеч, плавно поводит ими и вращает бедрами: она снова поет и танцует – у себя в голове.
В редакции я изображаю скромного труженика. Никому ничего не рассказав, склонившись над столом, я уже несколько часов записываю подробности своей встречи со Шмиттом. По мере того как я отшлифовываю фразу за фразой, мне становится понятнее, что хотел сказать писатель: его мысли – полная противоположность убеждениям следователя Пуатрено. Особенно в вопросе о жестокости, тут они расходятся диаметрально. Она уверена, что жестокость исходит от Бога; он считает – что от людей. По ее мнению, Бог использует людей; по его словам – люди используют Бога. Чистейший парадокс: она, которая занимается правосудием для людей, во всем винит Бога; он, ратующий за гуманизм, обвиняет людей.
А я? Какая из этих двух теорий кажется мне более убедительной?
И я вдруг осознаю, что вот уже несколько дней только слушаю других, перестав рассуждать самостоятельно. Наверно, это рефлекс журналиста… Но притом оба они, и Шмитт, и Пуатрено, хотят снова и снова говорить с пустоголовым типом, не имеющим собственного мнения. Мое ничтожество их не отвращает. Почему?
Около восьми вечера я покидаю редакцию и направляюсь в кафе напротив Музея изящных искусств, где назначена встреча. По дороге мне снова встречается тот худощавый человек с узкими глазами, который так пристально смотрел на меня, когда я возвращался от Шмитта. Какая противная физиономия! От одного вида становится тошно. Завидев меня, этот субъект ныряет в переулок.
Вот и «Рыцари»; я сажусь за столик у окна. Это бистро, где нет бара с пивными кружками, напоминает помещение благотворительного общества: старые знамена и гербы, обрывки гирлянд на блеклых стенах. Несколько выцветших, засаленных плакатов демонстрируют сыры этого региона или восхваляют его древние пивные. Клиенты выглядят соответственно обстановке: они не двигаются, не разговаривают, сидят молча за грубыми деревенскими столами, и, похоже, сидят давно. Заведение насквозь пропахло луком-пореем. И все здесь кажется неприятно теплым – воздух, оконные стекла, даже тусклый желтый свет и серые тени. Зал погружен в какую-то сонную одурь.
Ко мне подходит официант, чтобы принять заказ, и я на миг впадаю в панику: если Шмитт не придет, мне нечем будет заплатить; однако, презрев собственную старомодную застенчивость, все-таки заказываю кружку пива. Жребий брошен! Через минуту мне приносят пиво, тарелку с кружочками колбасы и судок с горчицей.
Какая роскошь! Я вновь испытываю восторг, обуревавший меня в шикарном автомобиле: я в замке король, мне прислуживают, меня балуют, весь мир преклоняется передо мной.
И тут напротив меня садится Шмитт.
– Извини, Огюстен. Я ненавижу опаздывать.
– О, пять минут – разве это опоздание!
– Конечно! Я обожаю пунктуальность. Прибежал бы на встречу, даже сломав ногу по дороге. Я спешу потому, что уважаю не время, а собеседника. Ну как ты тут? Что ты пьешь?
И, не дожидаясь ответа, хватает и заглатывает кружочки колбасы. Этот человек обладает поистине выдающейся жизненной силой. Мне кажется, он еще не успел войти, а в бистро уже стало веселее. Теперь, сидя передо мной, он затмевает всю обстановку вместе с посетителями – нет больше фальшивой каменной кладки (картинки – они в рамке!), нет огромной люстры из кованого железа, с лампочками вместо свечей. Я вижу только его, а он рассматривает меня, буквально пожирая взглядом.
– Орвальское пиво? Ага… почему бы и нет! В нем много солода… И прекрасно, я это обожаю! Молодцы они, эти монахи-трапписты… Мне то же самое, пожалуйста! И вот что, принесите-ка нам побольше колбасы и монастырского сыра с сельдереем.
Еще только произнося эти слова, он заранее облизывается.
– Иногда жизнь нас балует. Мне кажется, Огюстен, что я всегда ждал твоего появления. И как ни странно, нахожу вполне естественным, что ты ко мне пришел.
– Вы так любезно пригласили меня к себе.
– Это исключение! Обычно я никого не принимаю. Особенно в Германти. А вот ты явился так, словно это было предназначено.
Я стыдливо прячу глаза, а он оживленно продолжает:
– Когда ты уехал, я долго обдумывал твое признание. И понял: если это сборище творческих личностей – писателей, музыкантов, философов, духовных наставников – приняло меня в свои ряды, значит автор, когда он пишет, ни на минуту не остается один.
– Мне еще никогда не приходилось иметь дело с человеком, у которого такие прекрасные знакомства.
– Ты шутишь?
– Нет. Обычно людей сопровождает всего один мертвый. Притом неизвестный, то есть лично известный только своему подопечному, а не всему свету. Среди тех, кого я встречал до сих пор, вы первый, кого окружает целый пантеон.
– Я люблю восхищаться. Каждое утро я встаю в нетерпеливом ожидании: чем меня восхитит грядущий день? – Он вдыхает запах пива и добавляет: – Я уверен, что у каждого писателя есть своя свита знаменитых призраков.
– Не знаю, я никогда еще не беседовал с другими писателями.
– Жаль!
И он пьет. Когда он отрывается от кружки, пена, осевшая вокруг его губ, придает ему сходство с удивленным ребенком.
– А кто из моих мертвых участвовал в беседе во время нашего интервью?
– Дидро – он что-то шептал вам на ухо.
– В какой момент?
– Когда вы заговорили о спасении через знание.
– Ах да, свобода через просвещение – это был любимый конек господина энциклопедиста. – И продолжает, сделав приличный глоток пива: – Значит, Дидро подсказывает, Моцарт исправляет, Колетт хихикает. Но они ведь не ограничены моей памятью о них? Не скованы моим чтением, моим запасом знаний – а ведут себя как живые, делают открытия, реагируют?
– Да.
– И эти мертвецы еще не все сказали. Они ищут чужое ухо, чужие уста, чужую руку, чтобы наставить нас, насытить, обогатить. Они еще говорят. А я всего лишь эхо их голосов. Какая честь!
И он хохочет. Его лицо светится от удовольствия, он обожает философствовать.
– Благодаря твоим видениям, Огюстен, можно перетряхнуть массу устаревших понятий. Так, например, речь мертвых, обращенная к живому писателю, такому как я, – это уже не пустые слова, это влияние.
– Верно!
– И оценка наших ошибок также проистекает из критики мертвых.
– Несомненно.
– И уверенность, которая внезапно посещает нас, – это результат их одобрения.
Он потирает лоб.
– Я никогда не считал себя творцом – я скорее писец. Все идеи, все подробности, все эмоции моих героев переполняют меня, хотя я знать не знаю, откуда они берутся. Но теперь все ясно: мертвые! Я совершенно точно описывал места, где и ноги моей не было. Работая над романом «Евангелие от Пилата», я выдвинул несколько гипотез, которые впоследствии получили подтверждение из документов, найденных на Ближнем Востоке. Значит, это всё мертвые! И ведь я описываю не только прошлое, я заглядываю и в будущее. Думая, что мне помогает только собственное воображение, я создал множество текстов о нашем обществе, о деньгах, о миграции, и впоследствии реальная действительность все это полностью подтвердила. И это тоже заслуга мертвых! Везде и всегда – мертвые! Знаешь, как называется мой кабинет? Я придумал ему имя, в подражание Флоберу, который окрестил «иерихонской трубой» комнату, где он по сто раз читал вслух свои произведения. Так вот, я работаю – то есть слушаю и записываю – в своей «слуховой трубке».
И, положив ладони на стол, он пристально смотрит мне в глаза:
– Так кто же пишет, когда я пишу? Кто действует, когда я действую?
Я хватаюсь за этот вопрос, чтобы поделиться с ним своими послеполуденными размышлениями:
– Месье Шмитт, я как раз задавал себе этот вопрос, записывая интервью с вами. Кто проявляет жестокость? Бог через человека? Или сам человек, который использует Бога как извинение или предлог? Вы склоняетесь ко второму варианту, но можно ли в этом убедиться?
– А вы читали произведения Бога?
– Что-что?
– Читали ли вы три книги, им написанные, – Ветхий Завет, Новый Завет, Коран?
– И да и нет, так… отрывки…
– Вот в чем проблема: Он слишком много всего понаписал…
– А мне следовало бы их прочесть?
– Да, я вам советую. Но предупреждаю: когда вы закончите, у вас возникнет еще больше вопросов по поводу автора.
– Например?
– Всерьез ли Он угрожает? Откуда у Него это примитивное стремление толкать людей на преступления, на месть? И главное, почему Он…
Шмитт замолкает, трет подбородок, наморщенный лоб, глаза, еще более темные, чем обычно.
– …почему Он взялся за это трижды?
– Не понял?
– Почему Бог написал три книги? Разве Он не все сказал в первой – в Ветхом Завете? И зачем вернулся к этому в Новом Завете – что́ Он забыл вложить в первую книгу и решил добавить во вторую? И наконец, неужели Он настолько разочаровался в Новом Завете, что несколько веков спустя решил подарить нам Коран?
И он откидывается на спинку стула.
– О, эта проклятая судьба писателя – в данном случае Бога! Трижды переписывать свое послание к людям… И как определить, добился ли Он прогресса между первым сочинением и последним?
Шмитт растерянно смотрит в потолок.
– Насколько я, в глубине души, познаю Бога-Творца в молитве или в состоянии благодати, настолько же Бог-писатель для меня непостижим.
Он тяжело вздыхает:
– А ведь мы с Ним коллеги.
И он хохочет. Я тоже смеюсь и отвечаю:
– Вот поистине идеальное интервью, важное интервью, всеобъемлющее интервью, способное просветить все человечество, – интервью с Богом! «Здравствуйте, господин Бог, я пришел расспросить Вас о Вашем литературном творчестве».
Шмитт с рассеянной улыбкой пристально смотрит мне в глаза, словно пытается проникнуть в душу.
– Огюстен, а ведь вы сумели бы провести такое интервью с Богом.
И кивает в подтверждение своих слов: видно, что его слегка удивила эта очевидная мысль.
– Да-да! Вы именно тот человек, которому такое под силу.
Меня забавляет этот дурацкий разговор, но я охотно включаюсь в игру:
– А почему именно я?
– Потому что вы наделены тончайшей интуицией и открытым сердцем, восприимчивы ко всему, что выражает каждый из нас. И главное, ваш дар!
– Мой дар?
– Вы обладаете уникальным свойством – видеть и слышать то, чего другие не видят и не слышат.
Его торжественный тон производит на меня впечатление. Какой актер! Он напоминает мне друида, который иногда является мне во снах и доверяет некую миссию. Я хихикаю, стараясь разрядить атмосферу.
– Ха-ха… Жаль, что у меня нет адреса Господа Бога!
И вдруг Шмитт хватает меня за руки и до боли сжимает их.
– Зато у меня он есть.
Я пытаюсь рассмеяться. Но он еще сильней стискивает мои запястья, вынуждая замолчать.
– Огюстен, я знаю, как устроить вашу встречу с Богом.
– Вы… вы шутите?
Но он придвигается ко мне вплотную, напряженный, собранный, суровый, и глухо произносит:
– Я никогда еще не был так серьезен.
13
«Найти кристалл!»
Вот его последние слова.
«Найти кристалл!»
Отныне это мое наваждение.
Сегодня ночью я так и не сомкнул глаз. И тщетно заброшенный завод предлагает мне свое покровительство, я уже и не надеюсь заснуть, меня терзают навязчивые мысли.
Небосвод довлеет над землей. Темный бархат ночи скрыл от глаз его бесконечность, и только мелкие дырочки – звезды – пропускают слабые лучики огня, блистающего в высях, за этим пологом. В воздухе стоит какой-то едкий минеральный запах. Стены и перегородки вокруг меня выглядят гладко-серыми, отполированными луной, зато их выступы, неровности и углы резко выделяются на этом фоне: тени и лучи соперничают друг с другом. Грядет нечто загадочное, провидческое. Время, как и сон, застыло в ожидании.
А из меня самого изошло все темное и смятенное. Ясно вижу свою будущую миссию. «Найти кристалл».
Прикорнув на своем ложе – если можно так назвать кучу листов картона, – я лихорадочно перебираю всевозможные гипотезы, с нетерпением ожидая завтрашнего утра. Это ожидание – сущая пытка. Скорей, скорей бы! «Найти кристалл».
Три часа назад, когда мы со Шмиттом покидали бистро «Рыцари», вдоволь накачавшись пивом и закусив мясными тефтелями, я пребывал в таком гастрономическом и интеллектуальном блаженстве, что был не способен противостоять ничему на свете.
Шмитт предложил мне поехать к нему в Германти, чтобы «приоткрыть завесу над тайной».
Машина мчалась через темные леса и поля по ухабистой дороге, представлявшей тяжкое испытание для рессор, – недаром ею пренебрегали автобусы, – зато вместо тридцати минут мы ехали в Германти всего десять.
Замок был виден издали, он возвышался над сельскими домиками в цветах, чинно стоявшими рядком на дремотных улочках. Ночной мрак преобразил его, вернув облику былую грозную воинственность. Мощные крепостные стены враждебно смотрели на внешний мир, преграждая доступ внутрь, круглая башня давала обзор на все четыре стороны, а на верхушке прямоугольного донжона чернели узкие бойницы, куда в стародавние времена просовывали лук или пику, чтобы поразить неприятеля.
Собаки подняли лай, заслышав гул мотора. Они предпочли сперва отпугнуть незваного гостя, а уж потом приветствовать возвращение хозяина. Шмитту пришлось успокаивать их, он включил все лампы на первом этаже, и, только когда гостиная в золотистом свете обрела свой приветливый вид, псы согласились терпеть мое присутствие.
– Не будем терять времени, давайте спустимся в подвал.
Писатель приподнял тяжелую портьеру, и мы проникли в недра земли.
Открыв тяжелую, обитую железным листом дверь, мы попали в погреб или, вернее, в сводчатую, разделенную на ниши галерею, которая тянулась под всем зданием. Слабые напольные лампочки едва освещали кирпичные стены, а потолок тонул в темноте, так что я несколько раз крепко стукнулся об него головой.
В первой нише были грудой свалены коробки с гирляндами, елочными шарами и прочей разноцветной мишурой. Заметив мой удивленный взгляд, Шмитт сказал:
– Это украшения для рождественской елки.
– Для одной елки? Похоже, таким количеством игрушек можно украсить целый лес!
– Здесь у нас любят каждый год менять их цвета. Взгляните: вот красные, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, белые, серебристые и так далее. Вы правы, с такими запасами впору открыть магазин.
Во второй нише я увидел ряды винных бутылок, а также деревянные ящики с ярлыками известных винодельческих хозяйств.
В третьей – опять свалка, но уже мебельная: столы, стулья, торшеры, кувшины, резные изголовья кроватей – наследие многих поколений обитателей замка.
Дальше мы уткнулись в глухую стену, но Шмитт встал на колени, пошарил по ней, чертыхнулся, отполз вправо, снова пошарил, с разочарованным вздохом вернулся на прежнее место и наконец воскликнул:
– Вот он!
И осторожно вытащил из стены кирпич.
Кирпич? Нет, половинку кирпича, если не треть, закрывавшую совсем небольшое отверстие. Шмитт сунул в него руку и извлек оттуда жестяную коробку.
– Ну слава богу!
Перед тем как посмотреть на нее, я успел подумать: «Ничего себе камуфляж!»
– Интересный обычай – хранить сокровища в дыре за кирпичами.
– Семейная традиция.
– Разве у вас нет сейфа?
– Есть, конечно. Но там я храню сущие пустяки. Тоже семейная традиция.
– Ага… В вашей семье много чего прятали?
– Еще бы! Мой дед был ювелиром-оправщиком. Платили-то ему как ремесленнику, зато через его руки проходили огромные ценности, а ведь работа требовала определенного времени. Поэтому он устроил в своей лионской квартире целую систему тайников. Он понимал, что опытный взломщик, одолевший и замки, и укрепленные двери, первым делом кинется к сейфу, и установил на видном месте сейф-обманку, куда сваливал дешевые побрякушки; второй сейф, более важный, он скрыл в задней стенке шкафа, но, главное, – памятуя о том, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, – понаделал многочисленные захоронки в стенах, там, где никто и заподозрить их не мог. Вот почему я еще в детстве научился вынимать и вкладывать обратно кирпичи.
И он потряс передо мной жестяной коробкой.
– Сядь, Огюстен.
Я примостился рядом с ним на каменном полу.
Вынув фонарь, он направил его на коробку.
– Это вещество подарил мне один шаман. Оно называется «йяже».
– Йя… что?
– Йяже, или, иначе, айяуаска[19]. Одни переводят это как «горькая лиана», другие – как «лиана мертвых». Ее отвар называют мистическим соком. Это зелье экстрагируют из лианы, растущей в амазонских джунглях. То есть не из самой лианы, а из ее коры.
– Значит, это лекарство?
– Ну… можно назвать и так.
– Не понял?
– Это наркотик. И как всякий наркотик, он, в зависимости от дозировки, либо лечит, либо вызывает галлюцинации, либо… убивает.
И Шмитт сделал многозначительную паузу. Затем он поднял крышку и вынул из коробки два стянутых шнурками мешочка, один из небеленого холста, другой – из коричневого.
– В двадцатом веке французские ученые сделали химический анализ айяуаски и назвали первый выделенный алкалоид телепатином, ибо это психотропное вещество наделяет человека способностью улавливать мысли на расстоянии.
И он встряхнул коричневый мешочек.
– Это исключительная, единственная в своем роде смесь, поскольку шаман подмешал к айяуаске коку и другие растения – пасленовые, содержащие никотин, атропин и скополамин. Короче, здесь не меньше пятидесяти семи растительных ингредиентов, сохранившихся в вакуумной обработке, ибо простое высушивание лишило бы их нужных свойств. Так вот, этот наркотик дарует человеку высшее зрение.
Любовно погладив мешочек, он объяснил мне способ приготовления:
– Конечный продукт – отвар. Вот, держи эту бумажку, тут все написано. Разведешь порошок из трав водой в пропорции один к двум. Оставишь на ночь, пусть как следует растворится. Затем, на следующий день, будешь нагревать его на слабом огне, помешивая. Процедишь раствор, подождешь, пока он остынет, и еще дважды повторишь эту операцию. В готовом виде жидкость будет черной как уголь.
Он улыбается мне, но по его лицу пробегают легкие судороги.
– Потом выпьешь этот отвар и войдешь в состояние встречи с Богом.
– И вы в это верите?
– Я не питаю никаких предрассудков, свойственных рационалистам. И тот факт, что знание можно получить иррациональным способом, не вызывает у меня сомнений. Я убежден, что это вещество подавляет наши обычные рефлексы, снимает шоры с нашего разума и позволяет достичь самых разнообразных уровней реальности.
– А что со мной произойдет, если я это выпью?
– Транс, галлюцинации.
– И ничего плохого?
– Не совсем так! Ты рискуешь опорожнить кишечник после того, как проглотишь это. Так что советую тебе предварительно попоститься.
Попоститься? Снова? И я иронически отвечаю:
– О, пост – это моя специальность!
Но Шмитт не уловил сарказма в моих словах. Его бесчувственность на миг вызвала у меня раздражение, и я почти агрессивно бросил ему:
– А почему бы вам не попробовать самому?
Его лицо застыло и побелело.
– Я никогда в жизни не принимал наркотиков.
– И что же?
– И не хочу.
– Но человек должен все испробовать.
– Вот как?
– Особенно если этот человек – писатель.
Шмитт усмехнулся:
– Банально рассуждаешь! К чему же тогда писательская фантазия?! Вот уже тридцать лет, как я исследую мир с помощью воображения, которое считаю подлинным инструментом познания. А переживать лично все, что хочешь описать, – боже, какая скука, какая потеря времени! Предоставляю это тем, кто силится прослыть романистом, хотя им не хватает самого главного – воображения. Я не претендую на создание миллионной книги о разводах, о депрессии и болезнях, о смерти отца или родительских чувствах…
Но я упрямо повторил, заподозрив его в намерении отвлечь мое внимание от предмета разговора:
– И все-таки почему бы вам не произвести над собой этот опыт?
Шмитт перестал ерничать и ответил другим тоном – на сей раз вполне искренне:
– Мне ненавистна сама мысль о том, что я могу потерять контроль над собой. И я, конечно, не прав: ведь все самые прекрасные мгновения, доставшиеся на мою долю, пришли ко мне именно из этого состояния – моя встреча с Богом в пустыне, мои самые страстные влюбленности. И тем не менее… Вот я, например, почти не пью.
– Как?! Вы никогда не были пьяны?
– Нет. Хотя да, однажды был, чисто случайно. Поскольку я не привык к алкоголю, два испанских джин-тоника чуть не прикончили меня! Ужасный был вечер! Драматический…
– Почему?
– В пьяном виде я впадаю в уныние.
– Неужели? Вы же всегда полны энергии, постоянно улыбаетесь!
– Вот именно поэтому! Алкоголь разрушает барьеры, которые мы воздвигаем в трезвом состоянии. Из чего я сделал вывод, что обязан самостоятельно бороться с тоской, унынием, разочарованием, которые вырываются на волю под воздействием хмеля. А те, кто хорошо переносит выпивку, пускай борются со своим душевным пылом, со своими возвышенными чувствами хоть весь день напролет, разве не так?
И он надолго замолчал, а потом произнес жалобно, как-то по-детски:
– Айяуаска противопоказана людям, которые принимают обычные медицинские препараты, а я не могу без них обходиться. Пойми: у меня есть только это. – И он указывает на свою голову: – Мой мозг, помогающий мне жить и зарабатывать на жизнь. Вот я и боюсь ему навредить.
– И вам даже не любопытно попробовать?
– В данном случае страх перевешивает любопытство.
Я машинально киваю, но тут же осознаю, что сам думаю как раз наоборот: я готов проглотить это снадобье хоть сейчас.
И я протягиваю руку к мешочку. Но Шмитт отводит ее со словами:
– Погоди! А второй? – И встряхивает мешочек из небеленого холста. – Это вещество предназначено для кристалла[20].
– Для кристалла?
Он трет лоб:
– Вся сложность испытания заключается вот в чем: отвар, который ты выпьешь, позволит тебе узреть Бога. Но кто-то должен предварить тебя, привести к Нему; и вот этого или эту называют кристаллом. Шаман выразился совершенно определенно.
– Не понимаю, при чем тут кристалл?
– Огюстен, ты когда-нибудь чокался с кем-нибудь хрустальным бокалом?[21]
– Да.
– Значит, ты мог заметить, что бокал нельзя слишком крепко сжимать в руке, иначе твоя кожа и подкожный жир, твои сухожилия и кости нарушат резонанс, поглотят звук. Для того чтобы бокал подал голос, нужно держать его за ножку, двумя пальцами, не напрягая их. Вот почему кристаллом называют пособника, который обеспечивает контакт с Богом. Образно выражаясь, он должен сделать возможным резонанс, создать вибрацию, не препятствуя ей. Католики, с их системой ценностей, назвали бы это не «кристаллом», а «святым», имея в виду посредника, того, чьи духовные достоинства позволили бы тебе приблизиться к Богу, кто отворил бы тебе дверь и представил Всевышнему.
Прерывисто дыша, он вцепляется в мое плечо.
– Разыщи такого посредника, который приведет тебя к Богу, выпив другой отвар, из белого мешочка. Опыт удастся только в этом случае.
– А вы не хотите в нем поучаствовать в таком качестве?
– Исключено!
– Все-таки боитесь?
– Нет, клянусь тебе, что нет! Просто я не обладаю теми достоинствами, которые позволили бы мне стать кристаллом. Я только впитываю то, что получаю извне.
– Почему?
– Потому что во мне слишком много меня. Потому что, даже витая в облаках, я все-таки остаюсь банальным человеком, стоящим обеими ногами на земле, отягощенным моим прошлым. А тебе требуется… как бы это сказать… дерево без корней, кто-то менее привязанный к себе самому, отрешенный от своей истории, но при этом он должен быть достаточно гибким, сообразительным и дипломатичным, чтобы суметь вызвать… Бога. Если нет щели, то свет никуда не проникнет.
И Шмитт на минуту смолк. Потом спросил:
– Ты понял, Огюстен?
– Кажется, да…
Он снова сделал паузу. Потом задал второй вопрос:
– Есть у тебя на примете кто-нибудь, кто сыграл бы роль кристалла?
– Никого!
Ночную тишину всполошило уханье совы.
Беспорядочное, пугливое хлопанье крыльев, скрипучий, пронзительный клекот прерывают мою медитацию, напоминая, что я – животное среди животных, обитающее на заброшенном промышленном объекте.
Луна светит почти агрессивно, словно ее чем-то разгневали.
Я ворочаюсь с боку на бок. Кто же воплотится в кристалл? С той минуты, как я вышел из машины у поворота автострады (разумеется, соврав шоферу, что хочу немного пройтись пешком), меня терзает мысль: где найти человека, в точности отвечающего всем условиям, изложенным Шмиттом?
В метре от меня стоят две чашки, заветные порошки уже пропитываются водой. Некоторые крупинки плавают на поверхности, другие лениво осели на дно; лунный свет мешает мне проверить, изменился ли цвет раствора.
Так кто же?
Я истово надеялся, что интуиция подскажет мне выход. Но озарение не приходит, и теперь я методично перебираю всех подряд – с кем учился, класс за классом; с кем работал, контору за конторой.
И вдруг я вздрагиваю от странного потрескивания. Так трещат сухие ветки под ногами.
Неужели кто-то перебирается через стену? Тогда конец моему уединению.
Сердце испуганно и неровно колотится в груди.
Приподнимаюсь, схожу со своего ложа и крадусь к одному из окон с выбитыми стеклами, выходящих в заводской двор.
Никого и ничего.
А потрескивание не затихает, напротив, звучит все громче, все отчетливей.
Мой взгляд обращается направо: там, за стеной, что-то светится. И вдруг оттуда вырывается облако белого дыма, которое быстро чернеет и превращается в тучу. Вот оно что – горит содержимое контейнера!
В первую минуту меня это успокаивает, я-то боялся вторжения нежданных гостей. Но языки пламени уже рвутся в небо, извиваются, гримасничают, как разъяренные обезьяны; огонь жадно пожирает кучу мусора, и я начинаю паниковать.
Доски, картон и бумага в груде прочих отбросов питают пожарище, и оно грозит распространиться.
Тревога! Вдруг искры залетят во двор и перекинутся на здание?
На всякий случай я собираю свою одежду. А вот что мне делать с двумя чашками?
Снова гляжу в окно. Контейнер выплевывает языки пламени, однако ее железные стенки не дают ему вырваться наружу. Нет, пожару не одолеть стену и не спалить заводской корпус.
И вдруг я слышу сирену. Это пожарные машины.
Я с облегчением отступаю назад, чтобы понаблюдать за их работой, оставаясь незамеченным.
Пронзительное завывание сирены становится все громче, звук нарастает и… начинает стихать.
Что такое?! Почему пожарные проехали мимо?
Я вслушиваюсь в сирену, пытаясь по ее звуку определить направление машины. Мне кажется, она съехала с автострады на национальное шоссе, ведущее к соседней деревне. В изумлении я высовываюсь из окна.
Обшариваю взглядом горизонт в той стороне, где затихает сирена: там стоит багровое зарево, увенчанное дымом.
Значит, в километре отсюда бушует другой пожар, более грозный.
По небу проносится стая уток. Пронзительные крики – это уже подали голос хищные птицы – усиливают тревогу. На земле тоже слышны звуки панического бегства: огонь вспугнул мелких грызунов, зайцев, лис, кошек. Из предместья доносится чей-то охрипший голос, он пронзительно вопит что-то типа «Спасайся кто может!», и окрестные псы тут же отвечают ему разноголосым лаем. Сквозь дымную завесу прорываются отчаянные, безнадежные крики.
Я выбираюсь на крышу корпуса, откуда есть круговой обзор.
Атмосфера изменилась.
Луна бледнеет, звезды начали меркнуть, небосвод становится пепельным. Земля, грубая и непокорная, пока удерживает власть над миром.
А на востоке и на западе, на севере и на юге темноту вспарывают яркие вспышки. Повсюду, куда ни глянь, буйные пожары злобно выплевывают в небо огненные сполохи.
Часы бьют полночь. Небо принимает цвет сумерек.
Я со всех сторон окружен огнем.
14
– Настоящий апокалипсис!
Из полумрака вестибюля на меня смотрит следователь Пуатрено.
– Сегодня ночью кто-то подпалил десять мусорных контейнеров. Сообщения о заложенных бомбах парализовали работу трех школ. Минеры взорвали два подозрительных свертка, один в торговом центре, второй – на вокзале. Полицейские с ног сбились. Премьер-министр высылает им в помощь военное подкрепление и бригады кинологов. По нашим улицам разъезжают танки.
Этот звенящий, металлический голос разносится по всему подъезду, отдается эхом в лестничной клетке.
Я изучаю ее длинное лицо, со стертыми, почти незаметными чертами, если не считать круглых черных глаз. Часы отзванивают полдень; она поджидала меня в вестибюле дома, где находится редакция «Завтра».
– Где ты был вчера в полночь, Огюстен?
– У друга. Недалеко от горевших вагонеток.
– Испугался?
– Я и сейчас боюсь.
Она хватает меня за руку и тащит к массивной входной двери, выкрашенной под бронзу.
– Пошли, нужно это обсудить.
– Но… меня ждут в редакции через двадцать минут… я…
Остановившись, она мерит меня взглядом:
– Тебя ждут? Вот так новости… Значит, этот мерзкий Пегар уже не может обходиться без тебя?
– Да нет, просто… я должен работать.
– Вот именно, ты должен работать – для меня.
И она вытаскивает меня на улицу. Мы стоим на тротуаре. Конечно, я сегодня уже отработал в редакции четыре долгих часа, выполняя возложенные на меня поручения, и уж, ясное дело, с радостью избавил бы себя от циничного ликования Пегара по поводу того, что на Шарлеруа обрушилась новая беда, но все же протестую, из принципа:
– А почему это я должен работать для вас?
– Потому что я плачу тебе не меньше, чем этот мерзавец Пегар, – беззастенчиво объявляет она и со смехом ведет меня за собой.
Небо лениво роняет на Шарлеруа редкие капли, которые и дождем-то не назовешь, хотя сырости от них не меньше, чем от дождя. Из окон редакции ничего нельзя было разглядеть: казалось, серый, пасмурный день заволок их плотной пеленой; но теперь, выйдя на воздух и окунувшись в эту унылую атмосферу, я вижу мутные потоки в сточных канавах, скользкое шоссе, плачущие крыши, озябшие улицы; даже каменные фасады и те как будто насквозь пропитались влагой.
Неподалеку стоит, укрывшись под деревом, несчастный, многотерпеливый Мешен; с его зонтика ручьями стекает вода.
– Следуйте за нами, Мешен, – командует Пуатрено.
И он покорно трусит сзади.
Мы проходим сотню метров, как вдруг она круто сворачивает, взбегает по трем мокрым ступеням и толкает створку массивной бронзовой двери.
– Надеюсь, ты ничего не имеешь против церквей?
– Э-э-э…
– Часовня – самое уединенное и подходящее место для приватных разговоров. Это даже лучше, чем дом свиданий.
Мешен уныло склоняет голову, Пуатрено хихикает и, не дожидаясь моего ответа, вталкивает меня в темное квадратное помещение напротив кропильницы, позади обшарпанной исповедальни. Два стула с драными соломенными сиденьями стоят по разным углам. Пуатрено сдвигает их вместе.
– Ну вот! Теперь нас может услышать только Господь Бог, но Ему на это плевать. А вы, Мешен, погуляйте пока там, у алтаря, нечего тут…
– Слушаюсь, госпожа следователь.
И он торопливо удаляется в сторону хоров.
Она усаживается, положив ногу на ногу, и пристально смотрит на меня:
– Ну, как продвигается твое следствие?
Я рассказываю ей о своей беседе со Шмиттом. Она слушает внимательно, правда, пару раз зевает, но настораживается, когда я дохожу до айяуаски – амазонского зелья, позволяющего узреть Бога.
– Про эту отраву мне говорили наркуши! – восклицает она. – А еще я о ней слышала от тяжелых депрессушников, так что она не вызывает у меня доверия. И ты готов ее выпить?
– Да, но с кем? Ведь в опыте должны участвовать двое.
Она задумывается.
– Значит, твой напарник должен быть чистым, эфирным созданием, без намека на нарциссизм? Плохо дело: такие на улице не валяются, найти их так же трудно, как клевер-четырехлистник. Ну а если мы все-таки отыщем столь редкую птицу, ты рискнешь совершить это… путешествие?
Я молчу. Даже речи быть не может, чтобы я открыл ей свою тайну: она не должна знать, что в редакции, на кухоньке, в этот момент уже охлаждаются два отвара.
– Огюстен, попробуй, я тебя умоляю! Ты пойми: нам грозит апокалипсис; поверь, я не шучу.
– Апокалипсис?
– Да, так предсказано в священных книгах. Скоро Господь Бог нанесет нам последний удар. Грядет конец света. И он близок, как никогда.
– Что вы такое говорите?!
– «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец; ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Как ты думаешь, что это я тебе цитирую? Утреннюю газету? Нет, мой милый, я цитирую Бога! Бога, который сказал это две тысячи лет назад…
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.
И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга».
Как ты думаешь, это я пишу статейку на первую полосу о нашем Западе, которому грозит ИГИЛ? Нет, мой милый, это я опять цитировала ту же главу из Матфея.
«И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и тогда придет конец. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу; ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет»[22].
– Пророчества сбываются чаще, чем выигрыши в лотерее!
– «Предаст же брат брата на смерть, и отец – детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их»[23]. Ты, может, воображаешь, что я тебе пересказываю какое-нибудь социологическое исследование о развале семей по вине исламского экстремизма? Нет, я просто привела тебе слова евангелиста Марка. Ты понимаешь? Бог напророчил людям самое худшее и держит свое слово. Все рушится на планете. Климат сошел с ума, атмосфера раскалена, жара и засухи повторяются из года в год, ледяная шапка на полюсе тает, леса гибнут, реки выходят из берегов, океаны подмывают сушу, циклоны множатся, ураганы свирепствуют, пустыни наступают, животные вымирают, тысячи видов, в том числе растения, исчезают навсегда, унося с собой свои тайны. Земле скоро конец. То есть такой Земле, на которой могли жить люди. Она превратится в голый каменный шар, который будет лететь в пространстве, пустой и необитаемый…
– Вы драматизируете ситуацию!
– Да ты послушай, несчастный, и взгляни правде в глаза.
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются»[24] – так повествовал Матфей перед тем, как Бог, устами Иоанна в Апокалипсисе, добавил еще один штрих:
«…и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звезды небесные пали на землю…
И небо скрылось…
…и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор…»[25]
Ядерная катастрофа произойдет, Огюстен, либо по чьей-то злой воле, либо случайно; она уничтожит жизнь на этой планете, спасутся лишь те, кому повезет попасть в противоатомные убежища. Этот «день гнева» будет последним, а за ним настанет вечная ночь.
– И снова вы возлагаете всю ответственность на Бога.
– Но Он же сказал это! И не просто сказал – написал! Да не один раз… Ты найдешь эти же апокалиптические тексты и в Коране. Огюстен, все вы – и ты, и тебе подобные – сознательно затыкаете себе уши. Хочу тебе напомнить, что Гитлер еще в двадцатых годах, до того, как захватить власть, обнародовал свои планы. Только в те времена ни один «серьезный человек» не придал этому значения.
– Ну, тоже мне – сравнили!
– Так называемые серьезные люди избавляются от неудобных одержимых, пожимая плечами и повторяя: «Да он просто сумасшедший!» Вот так они недооценили Гитлера. И точно так же недооценивают Бога. Бог кажется нам эдаким варваром, который ясно и недвусмысленно все объявляет заранее – и худшее и лучшее, но мы плохо его слушаем, запоминая только приятное. И читаем Библию так же небрежно, как «Майн кампф».
– Ох!
– Даже Церковь больше не ссылается на апокалиптические тексты. Люди гонятся за счастьем, а не за правдой.
– Люди – но не вы?
– Я – следователь. Потому и отказалась от душевного покоя, чтобы докапываться до сути явлений. Хватит самообольщаться, Огюстен! «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец»[26], – возглашает Господь в Апокалипсисе. Мы уже вошли в эру Омеги, последней буквы… Где уста Господа пророчат только меч. Жестокость расползается по миру, выходит из-под контроля…
– Мадам Пуатрено, вы ведь продолжаете вести дознание по делу о теракте. Постарайтесь все-таки признать, что виновником всех наших бед может быть просто человек… Это ведь человек изменяет климат, отравляя атмосферу вредными газами. Это его деятельность вредит озоновому слою. Это его корыстолюбие высасывает из Земли все ее сокровища ради личного обогащения. Это его ненасытный аппетит эксплуатирует природу, включая ее животных, бессловесных созданий, дающих мясо, молоко, яйца. Это его алчность уничтожает леса. Это его необузданная власть сокращает биологические ресурсы планеты. Это его наука создала ядерную угрозу. Так, может быть, эти тексты из Апокалипсиса просто-напросто предупреждают нас? Может, они оповещают людей о том, что, забыв главное, они приведут человечество к хаосу и небытию? Может, эти страницы пугают нас с одной лишь целью: чтобы мы осознали собственные деяния, поразмыслили над ними и изменили поведение?
– Ну да, как же… Педагогика запугивания, – знаем мы это!
– Катаклизмы всегда приводят к улучшению общественного климата, к солидарности, к просвещению, к здравому смыслу. Другое дело – какой ценой! И все-таки угроза, даже абстрактная, воображаемая, избавляет нас от катастроф. Она не только приносит сиюминутную пользу, она еще и залог прогресса.
– Значит, ты хочешь, чтобы люди несли ответственность – ответственность за добро, ответственность за зло, да не важно за что, но ответственность… Какая гордыня! Какой идиотский эгоцентризм! В основе многих заблуждений лежит тщеславие. Вы, люди, прямо лопаетесь от тщеславия, убеждая себя, что правите миром, – даже когда разрушаете планету. А вот я убеждена, что, сколько бы вы ни трудились, вы – ничто! Всего лишь инструменты в руке Бога.
– Что вы об этом знаете?!
– А ты?
– Я хотел бы задать этот вопрос Богу!
Не успел я это выкрикнуть, как понял, что попался: ловушка захлопнулась. Следователь Пуатрено щурится и пристально смотрит на меня, царапая ногтями колени, – точь-в-точь кошка, что выпускает и прячет коготки, напрягшись перед тем, как кинуться на добычу.
Я опускаю голову, почти побежденный.
Дверь часовни со скрипом отворяется. Входит сгорбленная старушка, осеняет себя крестом возле чаши со святой водой и, прихрамывая, направляется к передним скамьям, откуда лучше видно распятие.
– Значит, ты хочешь попробовать? – спрашивает Пуатрено.
– Сегодня ночью я уже растворил порошки в воде, а утром приготовил первый отвар.
– Браво!
– Но я еще не нашел кристалл.
Пуатрено задумчиво потирает подбородок:
– Помочь тебе нелегко; мои знакомые, все как один, темные личности: жулики, ученики жуликов, раскаявшиеся жулики, убийцы, террористы – в общем, вся палитра преступников.
– А в полиции?
Она кусает губы:
– Да у них тот же круг знакомств, что у меня, если не хуже. И потом, при нашей профессии люди не могут быть ангелами. Ты только представь себе Терлетти в роли кристалла! – Фыркнув, она продолжает: – Комиссар Терлетти, переставший быть комиссаром Терлетти, дабы превратиться в посредника между человеком и Богом? Нет, это просто немыслимо! Терлетти не способен подавить свою натуру, отрешиться от самого себя, слишком уж он приземленный, слишком давно вошел в образ полицейского, слишком мужествен и волосат… Такая густая шерсть на теле – это признак не банальной настойчивости, а несокрушимого упорства.
Издали доносится возглас Мешена, подхваченный и раздробленный эхом:
– Ой, извините, мадам, извините меня!
Мы выглядываем из каморки: что там произошло? Неуклюжий Мешен в своем репертуаре: он уронил папки прямо на молящуюся старуху.
– А как насчет Мешена? – спрашиваю я.
– Что – насчет Мешена?
– Мешен в роли кристалла.
– Ох, этот недотепа…
И она щелкает пальцами.
– Конечно, у него есть одно достоинство – он пустоголовый, так что резонанс будет шикарный, ведь для звучности нужна именно пустота, – но он не отвечает другим твоим критериям. Мешен может быть только Мешеном, и больше никем. Он не способен воспарить…
Повысив голос, она окликает своего секретаря и спрашивает его с самым невинным видом:
– Мешен, вы ведь можете быть только Мешеном, не правда ли?
– Только… кем, госпожа следователь?
– Мешеном!
– Но… разумеется, госпожа следователь.
– И вы являетесь Мешеном с первого дня жизни?
– Очевидно, госпожа следователь.
Для ответа он наклонился к ней и, конечно, тут же снова выронил свои папки. Листы бумаги разлетелись по всей каморке, и он, ползая на коленях, пытается их собрать.
Пуатрено выносит приговор:
– Нет, только не Мешен.
Она встает, отряхивает одежду и говорит:
– Ладно, возвращаю тебя твоему мерзкому Пегару.
Я тоже поднимаюсь со стула.
– Почему вы все время зовете его мерзким Пегаром?
– Странный вопрос… Разве его фамилия не Пегар?
– Пегар.
– Ну, значит, я не ошиблась.
Склонив голову набок, она впивается в меня глазами:
– Я ненавижу один изъян, Огюстен, этот изъян – неточность. Так вот, уточняю: мерзкий Пегар заслужил титул чемпиона мира среди мерзавцев.
– Да неужели?
– Только не притворяйся удивленным! Он хорошо с тобой обращается?
– Нет.
– Он относится к тебе с уважением?
– Нет.
– Уделяет тебе внимание?
– Нет. Когда я ему нужен, он меня использует, этим и ограничивается его внимание. Однако я не нахожу в его отношении ничего странного или исключительного. Так ведут себя многие люди.
– Вопрос только в дозировке, мой мальчик. Характер, как лекарство, в зависимости от дозировки либо исцеляет, либо убивает. Так вот, я считаю, что его характер губит все живое.
Мне вспоминается девочка в клетчатом платьице, которая всюду ходит за ним.
– Вы имеете в виду его дочь?
– Сначала его жену. Она впала в депрессию сразу после выхода из роддома. И я не сомневаюсь, что эта депрессия объяснялась главным образом вполне здравой мыслью: она вдруг поняла, что родила ребенка Пегару и обречена растить его в обществе Пегара, а это сильно умаляет радость материнства. К сожалению, эта женщина, урожденная Де Вуттерс, получила католическое воспитание. Отсюда вывод: она так устыдилась этих своих сожалений о браке с Пегаром, что к депрессии добавился еще и комплекс вины.
Пуатрено ежится и делает паузу, ей неприятны эти воспоминания, близкие к сплетне. Потом продолжает:
– Их всех спас бы развод. Пегар мог согласиться, когда она впервые предложила ему расстаться. Но он ответил: «Пегары не разводятся! И Де Вуттерсы тоже, насколько мне известно!» Это так подточило ее силы, что через два года после рождения Офелии она умерла от рака.
– Офелии? Значит, девочку звали Офелия?
– Ужасная мысль – назвать так ребенка!
– Ну почему же, очаровательное имя.
– Больше чем имя, это – судьба.
– Не понял?
– Судьба отверженной девочки, которая в конце концов утонула.
И она вдруг понижает голос до шепота:
– Малышка утонула в бассейне их усадьбы. Скорее всего, причиной стал обморок от переохлаждения. Слуга обнаружил ее на дне много часов спустя. В тот день ее отец не работал дома. Но в любом случае он совсем ею не занимался, она была предоставлена самой себе: из скупости Пегар не нанял гувернантку или няньку, хотя бы приходящую. Если он обедал дома, Офелия подъедала за ним остатки и отправлялась спать, как только он ей приказывал. И никогда ни проблеска нежности к своему ребенку, никаких игр, никаких бесед, ничего! Отцовские обязанности… они его интересовали не больше, чем супружеские. Наверно, он женился и занимался любовью по чистому недоразумению. Или из приличия, раз уж так принято в обществе…
– Разве смерть дочери его не опечалила?
– Его-то?! Ну, на похоронах он, конечно, изображал безутешного отца, зато потом, избавившись от семейных тягот и став свободным, занялся работой еще энергичнее, чем прежде. Теперь у него только одна страсть – его дела.
– И все-таки ему не хватает дочери, раз он с ней не расстается. Она ведь повсюду его сопровождает. Это «его мертвая». Я часто вижу ее.
– Да, ты мне говорил. И я об этом много думала. Удивительный факт! Неужели мерзкий Пегар не так примитивен, не так груб и не так бесчеловечен, каким я его представляла?
– И у него есть душа.
– Может, и есть, только она ему редко служит.
Вернувшись в редакцию, я довожу до ума интервью со Шмиттом. Сегодняшние события, видимо, помешали ему приехать, но завтра это пиршество духа уж точно мне обеспечено.
Умм Кульсум сует мне листок бумаги:
– Сообщение тебе!
Я поднимаю голову и узнаю почерк Шмитта.
– Спасибо, Умм Кульсум.
В ее глазах вспыхивает довольный огонек, но она тут же перечеркивает важность своей миссии скромным и вместе с тем величественным взмахом руки. Сегодня она вырядилась в платье с пестрым набивным рисунком – это «джунгли», где тигры, обезьяны и змеи соперничают в ловкости среди лиан, деревьев и гигантских кустов. Интересно, где люди покупают такие наряды?
Мой взгляд, направленный на этот кошмар, она расценивает как комплимент, улыбается мне и отходит, крайне довольная, напевая и плавно покачивая бедрами, словно в танце. Нынче она кажется особенно влюбленной в саму себя.
Шмитт прислал мне факс со списком вопросов, предназначенных для Бога, под общим названием «В случае если…». Я пробегаю их глазами; некоторые очень забавны, другие вызывают жгучий интерес, но при этом меня неотступно мучит мысль о том, что я до сих пор не нашел кристалл.
Воспользовавшись паузой в работе, вызванной тем, что Пегар созвал журналистов на совещание (не пригласив меня), я наведываюсь в кухоньку проверить, как себя ведут два моих отвара айяуаски. За утро жидкость сменила цвет с красного на угольно-черный, загустела и стала маслянистой. Я вторично подогреваю ее в двух кастрюльках, даю прокипеть несколько минут, потом выливаю в две чашки и прячу их, как и раньше, наверху шкафчика.
Пребывание в кухне для меня – истинная пытка. Желудок свербит, стонет, требует пищи, в которой я ему отказываю: мало того что мне нечего ему предложить, я еще должен поститься, чтобы выпить волшебное зелье натощак.
Пью воду из крана.
Так кто же?
Кого мне позвать?
Может, ту любезную медсестру, которая ухаживала за мной в больнице? Как же ее звали – Мириам, что ли? Или другую, которая подсовывала мне контейнеры для мочи и кала и очень хотела, чтобы я ее «порадовал»? Нет, даже представить себе не могу, как это я буду приглашать их распить со мной этот отвар. И еще того хуже, тайком подмешав им наркотик в вино. А кроме того, на выпивку нужны деньги…
Тогда кого же?
Измученный этими бесплодными размышлениями, которые с утра терзают мою бедную голову, я решил сделать перерыв и размять ноги.
Не успел я спуститься по лестнице в вестибюль, как меня окликнули:
– Минутка найдется?
В полумраке различаю Мохаммеда Бадави.
– Момо!
Услышав это домашнее прозвище, он зарделся от удовольствия, но продолжает пугливо озираться.
– Надо поговорить.
И он подходит ближе. Губы у него дрожат, глаза испуганно бегают по сторонам. В вестибюле наши голоса подхватывает и разносит эхо, поэтому он хватает меня за рукав и тащит наружу.
– Пошли, перетрем около помойки.
Он ведет меня на задний двор, который мы пересекаем почти бегом, и толкает грязную деревянную дверцу загончика, где стоят три светло-зеленых пластиковых бака с гнилыми отбросами, испускающими острую вонь.
Здесь он останавливается и смотрит на меня исподлобья.
– Видал, что творится? Пожары, сирены, паника…
– Конечно видел.
– А знаешь, кто это сделал?
– Нет. Пока никто не объявился.
Я даже сообщаю ему последние новости, предоставленные нашей газете полицейскими: камеры видеонаблюдения ничем не помогли, так как их предварительно вывели из строя.
Силы правопорядка сбиты с толку.
Момо кривится:
– А зачем ты утаил от меня ноутбук Хосина?
И повторяет враждебно и настойчиво:
– Когда меня загребли, следаки сказали, что ты нашел его в контейнере. Так почему же ты не отдал мне ноутбук?
– А ты как думаешь?
Это вырвалось у меня машинально, по старой, еще приютской привычке: когда мои товарищи с чем-то приставали ко мне, я всегда задавал такой вопрос; он позволял определить, что они хотят услышать – мой ответ или свой собственный. Момо не стал исключением, он охотно ответил сам:
– Наверно, ты хотел стереть важную информацию, да?
Уф! Я предпочитаю, чтобы он думал именно так, а не заподозрил меня в желании присвоить компьютер. Он с облегчением улыбается. Значит, моя уловка опять сработала.
– Скажи, Момо, ты в коллеж вернулся?
Он сразу мрачнеет.
– Говори же!
– Я туда больше не хожу.
– Неужто все так плохо?
– Они от меня бегают, как от прокаженного.
– Ну они просто не всё еще понимают.
– Они придурки. Короче, больше я туда ни ногой. Буду учиться заочно.
– Хорошая мысль. Но тут есть риск, что ты останешься в изоляции, не будешь общаться с товарищами.
– Общаться? Было бы с кем!
На улице взвыла полицейская сирена. Момо вздрагивает, потом умоляюще спрашивает меня:
– А ты бы согласился со мной общаться?
– Конечно.
Я ответил спонтанно, из жалости к мальчишке. Ну вот, теперь уже поздно думать об осторожности… Терлетти и его коллег, конечно, возмутит то, что я встречаюсь с братом террориста, да и сам я уже раскаиваюсь в своем благородном порыве.
Момо надвигает капюшон на глаза, прячет руки в карманах куртки.
– Завтра в полдень здесь же?
– О’кей.
– А ты подыщи для нас местечко понадежней.
– Ладно, постараюсь.
Момо подкрадывается к дверце и, убедившись, что путь свободен, исчезает. Над ним вьется Хосин – мечется взад-вперед, бдительно озирается, прямо как настоящий телохранитель. Мне показалось, что с прошлого раза он увеличился в размерах…
Еще с минуту я в раздумье стою возле мусорных баков, затем поднимаюсь в редакцию. На лестнице еще раз перебираю свои соображения и прихожу к выводу, что Момо тоже не тянет на роль кристалла. Итак, мои поиски застопорились, а отвары уже начали бродить и скоро будут готовы… Нет, мне решительно нельзя поручать ничего важного, я прирожденный неудачник.
Войдя в редакцию, я натыкаюсь в коридоре, перед кабинетом Пегара, на девочку в клетчатом платьице, она играет в йо-йо.
– Здравствуй, Офелия!
Она вздрагивает: ее удивило, а потом обрадовало, что ее назвали по имени.
– Здравствуй!
– Ты прямо неразлучна со своим папой.
Она сворачивает веревочку игрушки.
– А почему я должна с ним разлучаться?
– Твой папа заботится о тебе?
Она морщит лоб: этот вопрос явно не приходил ей в голову. Но я настаиваю:
– Раз вы проводите вместе столько времени, значит, наверно, много разговариваете? Что он тебе рассказывает?
Она смотрит на меня почти испуганно:
– Да… ничего…
И ее губки складываются в недоуменную, плаксивую гримасу. Она явно считает мои расспросы нелепыми.
– Я здесь, с ним, вот и все. Потому что должна… Это же мой папа.
– А он не грустит о том, что с тобой произошло?
– А что со мной произошло?
– Несчастный случай. В бассейне.
Ее глаза испуганно расширяются.
– В бассейне?
– Да, в бассейне вашего дома. В том, где ты утонула.
– Я?
– Разве ты не помнишь?
– Нигде я не утонула!
– Нет, утонула. Тридцать лет назад.
Она растерянно смотрит на меня:
– Да мне всего пять лет! И я никогда не купаюсь в бассейне! Говоришь сам не знаешь что…
Она пожимает плечиками, отворачивается и входит в директорский кабинет, бросив йо-йо в коридоре.
А я иду к своему столу. Теперь все ясно! Следователь Пуатрено была права: Пегар не испытывает ни сожалений, ни угрызений совести, он не тоскует по дочери, и прошлое его больше не мучит. А Офелия сопровождает отца вовсе не по его желанию: она блуждает в нашем мире, не понимая, что давно умерла.
Сижу, обхватив голову руками и раздумывая над этим феноменом. Значит, души умерших остаются с нами потому, что полагают себя живыми, а не потому, что живые их призывают! С таким вариантом я прежде ни разу не сталкивался. Или же просто не обратил на это внимания…
Так стоит ли говорить Офелии, что она больше не существует? А собственно, по какому праву? Разве будет она счастливее оттого, что поставит крест на Пегаре, который не уделяет ей ни малейшего внимания? И кстати, счастливее где? В каком месте обретет она приют?
Коллеги один за другим покидают редакцию, прощаясь со мной на ходу.
Мысли мои безнадежно спутались. Время от времени мозг попросту выключается, как перегоревшая лампочка, и я, роняя голову, стукаюсь лбом об стол. Но всякий раз, приходя в себя, пытаюсь продолжить работу. Бессмысленно пялю глаза на экран компьютера, на свои записи, на кипы бумаг, не улавливая связи между ними. Мое тело, в испарине от лихорадки и усталости, не знает, куда себя девать. Голод свирепо терзает меня, кишки скручиваются в животе наподобие змей. Голова так же пуста, как желудок. Бесконечная скорбь приковывает меня к стулу.
– Месье Пегар!
Мой директор, уже запахнувший плащ, в шляпе на макушке, с потухшей сигарой в зубах, готовится покинуть редакцию.
Я взываю к нему:
– Месье Пегар, можно, я останусь еще ненадолго? Моя встреча со Шмиттом требует доделки интервью, а еще мне поручили разборку документов, накопившихся за три дня.
Пегар что-то бурчит. В нем происходит борьба – разрешить мне сделать работу (которую он не оплачивает) или отказать даже в этой милости.
– Ладно! Будешь уходить, включи тревожную кнопку.
Он прикусывает круглый кончик сигары, отрывает его, выбрасывает и удаляется молча, словно я для него больше не существую. Офелия идет следом, высокомерно игнорируя меня: видно, ей не понравился наш недавний разговор. Ее глаза хитро поблескивают. Уже переступив порог, она бросает мне:
– Эх ты, придурок!
И бежит, спеша догнать отца.
Дверь хлопает. Наконец-то я остался один.
Вокруг сплошной мрак, все тихо, все замерло.
Нет, сегодня ночью мне не суждено выпить отвар айяуаски. Меня терзает голод.
Где же набраться мужества и энергии, чтобы целый час топать пешком до сквота? И вдобавок я приду туда промокший, а обсушиться и согреться негде. Лучше уж заночевать прямо здесь.
И вдруг раздается шум.
Нет, не шум, а грохот падения.
Я с испугом понимаю, что упало какое-то тяжелое тело.
Бросаюсь в коридор.
В дальнем конце горит свет.
Это в кухне – бегу туда.
На полу лежит и стонет Умм Кульсум. Вокруг следы рвоты. Глаза у нее закрыты, дыхание прерывистое.
А над этой повергнутой тушей, у края раковины, стоят две чашки, которые я прятал на шкафчике. И одна из них пуста.
Умм Кульсум проглотила мой отвар!
15
Бывают в жизни вещи настолько очевидные и яркие, что их просто не замечаешь. Целый день я тщетно отыскивал кристалл, а он буквально мозолил мне глаза.
Умм Кульсум – вот он, идеальный медиум! Если и есть на свете существо, отрешившееся от своего тела, своей истории и своего происхождения, то именно она – мужчина, ставший женщиной, фламандец, ставший арабкой, католик, ставший мусульманкой, двусмысленное, загадочное, неопределенное создание без четких границ, послушная глина в любых руках.
Лежа на спине, с задранными конечностями, – вылитая слониха ногами кверху! – Умм Кульсум, в своем платье с амазонскими узорами, судорожно подергивается, хрипит, сопит, скрежещет зубами. Я наклоняюсь к ней:
– Умм Кульсум, с вами все в порядке?
Моя фраза, подобно пчеле в средоточии гудящего улья, не сразу доходит до нее: слишком много информации разом перерабатывает ее нервная система. Наконец ее голова поворачивается ко мне, расширенные зрачки на какой-то миг впиваются в меня, но тут же начинают снова беспорядочно метаться во все стороны, словно видят вокруг тысячи других объектов.
– О-о-о!
Она изумленно разевает рот, – похоже, ее очень удивило то, что возникло слева от меня. Я бросаю взгляд через плечо, но вижу только микроволновку, а Умм Кульсум, кажется, узрела там какую-то важную особу, которой она шлет улыбки и невнятные возгласы, несомненно кажущиеся ей длинными тирадами. Она уже причалила к берегам иного мира, существует в иной реальности и чем-то напоминает мне собак, которые видели знаменитых мертвецов в гостиной Германти. Скорей, нужно скорей догнать ее! Согласно предсказанию Шмитта, она опередила меня и, может быть, в данный момент уже рекомендует Богу. Нельзя терять ни секунды, иначе я рискую разрушить нашу с ней телепатическую связь.
Бегу к компьютеру и посылаю Шмитту короткое сообщение: «Путешествие начинается сегодня вечером в редакции», затем возвращаюсь в кухню.
Хватаю вторую чашку и не колеблясь выпиваю настой айяуаски.
Хорошо, что я выпил его залпом! Вязкая, темная, слабофосфоресцирующая жидкость липнет к зубам и имеет тошнотворно-соленый вкус гнили – смеси прелого банана и протухшей рыбы, залежавшейся в грязной тине.
Я сажусь на табурет.
И жду.
Горечь во рту предвещает мне близкую рвоту.
Однако ничего такого не происходит.
Жду еще.
Может, порция была слишком мала?
Никакого эффекта.
Никакого?
Да, никакого.
Ни малейшего.
Умм Кульсум, лежа у моих ног, воркует, пускает слюни, потом начинает размахивать руками, словно расправляет крылья.
Шмитт заверил меня, что отвар окажет свое действие почти мгновенно.
Значит, надо ждать.
Но если я выпил слишком мало, то ждать бесполезно.
Нужно добавить!
Схватив чашку, я начал вылизывать ее стенки, как вдруг у меня перед глазами засверкали голубые молнии.
Чашка выпадает из рук и разбивается с оглушительным, протяжным, грозным звуком, напоминающим гул сходящей лавины.
Комнату пронизывают зарницы. О, вот оно! В меня медленно проникает НЕЧТО – голубое, преображающее мою плоть. Тело изменяет свой состав, вздувается, набухает, становится мягким и податливым.
Снова молнии.
Головокружение захлестывает меня волнами, словно я стою на верхушке маяка посреди бушующего океана. Мое тело сотрясают судороги.
Оно становится голубым. Голубым и зыбким.
Соскользнув с табурета, я раскидываюсь на полу.
Кухня вокруг меня преображается. Она вибрирует, трепещет, вздрагивает, вертится колесом, играет стенами – понижая одну, возвышая другую, протыкая их, скручивая и складывая как заблагорассудится. Похоже, это она готова к путешествию, а не я. Да, вот она уже взмыла в воздух, и мы летим над морями, джунглями, водопадами, пустынями и горами, лесами и каньонами. Под нами мелькают долины, пещеры, озера и ручьи, затем мы пролетаем над Шарлеруа, чьи золотистые фабричные трубы испускают бледно-розовые облачка дыма. От кухни уже не осталось ничего, кроме пола, уносящего меня в космос. Ковер-самолет. Нет, скорее линолеум-самолет.
Ощущаю легкую дрожь, потом толчки. Рвотные позывы. Что ж, это нормально, меня всегда тошнило в транспорте.
Цепляюсь покрепче за свое «транспортное средство».
И в опьянении созерцаю золотисто-оранжевые, пламенеющие дали солнечного заката. Внезапно линолеум замедляет полет, останавливается, поднимает стены – как подтягивают спадающие штаны, – накрывает их потолком, и вот уже кухня вернула себе прежний вид.
Добро пожаловать обратно в редакцию!
Желудок содрогается, готовый извергнуть рвоту.
Нет, только не здесь! Только не рядом с Умм Кульсум, которая уже корчится в луже блевотины.
Уцепившись за край стола, я встаю на ноги и бегу в туалет, ударяясь по пути в двери, стены, шкафы, то локтем, то плечом, то головой, но не чувствуя никакой боли.
Склонившись над унитазом, извергаю рвотную массу. Больше того, опустошаю все свое существо. Благоговейно. Каждый мой спазм – шаг к очищению. И я достигаю высшей чистоты. О, как это прекрасно… Конечно, хотелось бы думать, что утробное звукоизвержение, сопровождающее каждый выброс из недр моего желудка, исходит от кого-то другого, от некоего гигантского существа, находящегося рядом, но я все-таки сознаю, что его источник – я сам.
Аллилуйя! Наконец-то у меня внутри пусто! Теперь я – эфирное создание. Небесное. Ангельское…
Возвращаюсь в кухоньку – мне нельзя терять телепатическую связь с Умм Кульсум.
Укладываясь около нее, я констатирую, что сделал это весьма своевременно… Три метра, которые я одолел, чтобы рухнуть здесь, стоили мне нечеловеческих усилий: я едва волочил ноги и был не в силах управлять своими одеревеневшими членами.
Теперь, лежа на спине, чувствую, что мне дышится легче. Я уперся взглядом в потолок, и он щедро осыпает меня легкими хлопьями. Белыми, как вата. Мягкими, как снег. Это снегопад нежности. И вот я уже погребен под слоем пуха, под многими слоями пушинок, которые укрывают, прячут меня под собой, усыпляют. О, наслаждение!
Комнатка снова вибрирует, стены исчезают: мы улетаем.
Пронзительно верещат попугаи. Перед глазами вереницей мелькают пейзажи – яркие, волшебные. Много змей. Пожалуй, слишком много. Даже во мне. Да-да, рептилии сплетаются в сеть, которая опутывает меня, их чешуйчатые тела испускают серебристое мерцание. Даже не знаю, пугает это меня или приводит в восторг.
Но нет, знаю: это ввергает меня в панику. Удавы, кобры, питоны, ужи, скалы, облака, кроны деревьев, разъяренные волны – все они требуют моей смерти. Все в заговоре против меня, все жаждут меня истребить. Сердце начинает бешено колотиться. Попугаи превращаются в стервятников. На помощь… Замедлите полет, помогите мне освободиться, бежать!
Как же мне спастись? Напрасно я пытаюсь восстановить контакт с кухней, напрягая ладони, лопатки, бедра, ступни, – ничего не выходит, тело уже не подчиняется моим желаниям. Я им больше не владею.
Я увяз в своих галлюцинациях, как оса в варенье. И не знаю средства выбраться из этой ловушки. Значит, нужно смириться?
Что ж, раз я бессилен, не лучше ли покорно принять неизбежное?
Мое поражение, моя безропотность – разве это не самые прекрасные дары, которые я могу отныне приносить?
И я уступаю.
Уступаю тайне, лежа на полу и мерно качая головой из стороны в сторону.
И, словно в благодарность за мое смирение, страх бесследно исчезает.
Мириады звезд касаются меня, когда я плыву в небе к туманному зениту. В самом его центре вижу огромный просвет. Его охраняет Умм Кульсум, сидя в позе Будды, помолодевшая, похорошевшая, с высокой диадемой волос, с потрясающим макияжем. Вот она – моя святая! Она улыбается мне и манит тонкой, изящной рукой, приглашая войти.
Я проникаю внутрь. Лечу по темному пустому коридору и внезапно оказываюсь перед ослепительным светом.
Это глаз. Гигантский глаз. Занимающий все пространство.
Глаз взирает на меня. Глаз меня ждет.
Я трепещу.
Вокруг меня – небытие.
Передо мной – Бог.
Я чувствую, что сгину, если сейчас же не двинусь вперед.
Что делать?
Остановиться? Или приблизиться?
Одно из двух – умереть или понять.
16
Светозарный Глаз рассматривает меня. Я с удовольствием расслабляюсь, мне тепло под его взглядом.
– Это Вы?
– Кто – я?
– Бог.
Великий Глаз безмолвствует. Его окружает тьма, но он согревает ее своим благотворным теплом.
– Как я понимаю, ты явился, чтобы задать мне вопросы.
– Откуда Вы знаете?
– О, это чисто человеческое свойство.
– Ах, вот как… А разве животные ведут себя иначе?
– У меня они взыскуют защиты, утешения, любви, но не пристают с щекотливыми вопросами.
– А разве люди не просят у Вас того же?
– Я существую не для этого.
– Как?! Разве Вы не внимаете миллионам молитв, которые они возносят к Вам каждую минуту?!
– Истинная молитва – это не просьба о помощи, это благодарность.
– Ужасная новость! Итак, Вы глухи к мольбам, даже к тем, что орошены слезами, политы кровью, пронизаны отчаянием?
Великий Глаз безмолвствует.
– Почему Вы держитесь в стороне?
– В стороне – от чего?
– От мира.
– Я его сотворил. Большего от меня не требуется.
– А в стороне от людей?
– Чтобы дать вам свободу. Свободу верить или не верить. Свободу творить благо или зло. Свободу следовать моим советам или пренебрегать ими. Мне кажется, Бог должен быть скрыт от людей. Я не навязываюсь вам, объясняя свои действия рациональными причинами и трубя о них на весь свет, я просто помогаю и тем самым проявляю уважение.
– Это большой риск.
– Риск – для кого? Уж во всяком случае, не для меня.
– Риск для нас. Скрываясь, Вы лишаете людей уверенности в Вашем существовании.
– Тем лучше. Вам остается слепая вера.
– Да, но не все люди привержены ей.
– В вере нет ничего обязательного. Ее отличает именно зыбкость.
– Я вот, например, никогда не верил в Вас.
– Жаль! А я в тебя верю.
Великий Глаз на мгновение отводит взгляд, потом продолжает:
– Ты считаешь, что я ни во что не вмешиваюсь, но на самом деле я вездесущ. И если Бог не предстает перед тобой, то ты всегда предстоишь перед Богом. Не заблуждайся. Я существую всюду и всегда. Обычно люди слепы и глухи к Богу потому, что осознают лишь малое и с трудом воспринимают великое. Вот хоть ты сам – тебе пришлось принять наркотик, чтобы выйти за пределы своего куцего, якобы самостоятельного умишка и встретиться со мной.
– Но это, может быть, всего лишь сон, иллюзия! Хочу напомнить, что я наглотался «дури» и, скорее всего, галлюцинирую…
– Ты рассматриваешь галлюцинацию как ложное состояние, но это именно она кладет конец иллюзиям. Галлюцинация не порождает иллюзию, она открывает истину. Айяуаска не повредила твой рассудок, а раздвинула его границы.
– Честно говоря, Вы могли бы придумать что-нибудь получше наркоты, чтобы привлечь к себе людей.
– Нет уж, извини, – это вы, люди, не нашли ничего лучшего.
Мы слегка расслабляемся. Пустота подо мной, приятно-упругая, поддерживает мое тело. Меня затопляет блаженная ясность духа. К чему пустые разговоры?! Мне повезло оказаться рядом с Богом, нужно не упустить свой шанс.
Великий Глаз пронизывает меня взглядом, вызывая дрожь во всем теле. Вспоминаю о вопросах, которые прислал Шмитт, и нарушаю молчание:
– Я хотел бы расспросить Вас о Ваших книгах.
– Очень рад.
Роговица Великого Глаза слегка увлажняется и поблескивает. Неужто и ему свойственно авторское тщеславие? На сей раз это Он заговаривает первым:
– О какой из моих книг?
– Обо всех трех.
– Ладно, давай!
– Почему Вы решились писать?
– Ну… на самом деле я писал не один, а прибегал к посторонней помощи.
– Да, знаю, Вы использовали «негров».
– Я предпочел бы называть их пророками.
– Пророки или «негры» – какая разница, в любом случае они писали вместо Вас.
– Кто пишет, когда я пишу? Нет, они не писали вместо меня, они составляли тексты по моей подсказке. Будьте повежливее, молодой человек! Не обвиняйте меня в самозванстве.
– Почему же Вы сами не взялись за перо?
– А чем бы я его держал? – И Великий Глаз, нервно мигая, растолковывает: – Кроме того, какими словами писать? Мои создания изобрели язык, дабы общаться с себе подобными. Я же был и остаюсь единственным в своем роде. У меня нет равных собеседников, вот я и не говорю. Творец свободен от низких забот своих творений.
– Однако в данный момент мы с Вами беседуем!
– Это иллюзия… На самом деле я проникаю в твои мысли на уровне понятий; ты сам облекаешь меня в слова.
– Но если это так, я ведь могу Вас и приукрасить?
– На это не надейся: автор будет направлять тебя. Ты меня услышишь и выразишь мое послание на своем языке.
– А как убедиться, что мне это удалось?
– На это можешь даже не надеяться, – конечно, не удастся. Тем не менее стоит хотя бы попробовать.
– Значит, Вы так и останетесь для нас загадкой?
– У меня нет иного выбора.
– А как становятся Богом?
Зрачок в центре Великого Глаза расширяется от неожиданного удивления.
– Странно, я никогда не задавал себе этого вопроса.
– Ну вот, теперь я Вам его задаю: как становятся Богом?
Великий Глаз растерянно мигает:
– Это произошло… помимо меня… но не без моего участия… в той мере, в которой я есмь все сущее. Думаю, путем некоего предназначения.
– Значит, когда Вы были маленьким, то не говорили себе: «Позже я стану Богом!»
– Я никогда не был маленьким.
– Но как же…
– И я никогда не хотел стать Богом, поскольку я и есть Бог.
– Значит, Вы не свободны?
– Очевидно, так.
– И значит, у людей есть одно преимущество перед Богом – свобода?
– Ты придаешь свободе слишком большое значение. Лично я знаю только одно – необходимость[27].
– И Вам неизвестно, в чем состоит долг?
– Долг? То, чему люди подчиняются или нет? То, что можно выполнить или отвергнуть, то, чем можно пренебречь? Нет, такое понятие мне чуждо, слишком уж широко его трактуют. Вольное толкование – не мой конек.
– А добро и зло?
– О, сам я выше и того и другого. Эти нравственные категории были задуманы исключительно для вашего, человеческого, пользования.
– Задуманы – кем? Вами? Или нами, людьми?
– Ну, скажем так: я вам слегка помог.
– Каким образом?
– Написав все, что я написал. Кстати, вернемся к нашим баранам, вернее, к цели твоего визита – к моим книгам.
– Скажите, почему Вы так поздно взялись за писательскую деятельность?
– Прости, не понял.
– Насколько мне известно, Вы начали с Моисея, вручив ему десять заповедей.
– Да.
– Так вот, этот Моисей – древний вождь – жил двадцать шесть веков назад…
– Ну и что?
– Наукой установлено, что род людской появился двести тысяч лет назад в Африке; стало быть, Вы ждали сто девяносто семь тысяч четыреста лет, чтобы проявить себя. Вот уж подлинно неторопливый писатель, отнюдь не вундеркинд!
– Но я не подчиняюсь времени, я живу вне его. И если иногда окунаюсь во время, как вы окунаетесь в реку, то выхожу из него обратно в вечность.
– Значит, обратившись к нам, Вы вошли в реку нашего времени?
– Именно так.
– Но тогда зачем было ждать сто девяносто семь тысяч четыреста лет? Сколько поколений людей Вы лишили Божественного света!
– Да нет же, я посылал им свои знамения, но их поэтичные души тотчас преображали их в мифы, в легенды, в эпопеи, в чудесные предания, которые искажали суть моих посланий. Я долго страдал от чувства бессилия.
– Вашего?
– Нет, людского. Они всё ставили с ног на голову. С самого начала приукрашивали и преувеличивали каждое мое слово. Вот, например, они никогда не рассматривали меня как единого Бога, а делили на множество мелких божков.
– Зачем?
– Да от скуки! В таком виде я лучше удовлетворял их духовные запросы и плюс к тому их жажду зрелищ. Ты только представь себе: у них не было ни книг, ни театра, ни оперы, ни кино, ни телевизоров, ни компьютеров! Ну и кто заполнял бы эти лакуны, кроме меня? Они же предпочитали общаться со многими персонажами, а не с одним-единственным. Учти еще такое обстоятельство: люди передавали все эти басни из уст в уста и попутно так щедро разукрашивали каждую из них, что в конце концов автору трудненько было признать собственный рассказ. Но все изменилось после изобретения письменности: люди начали высекать слова на камне, а это куда надежнее человеческой памяти. Наконец-то они научились отличать Вечность от Истории, а Историю от историй.
– Ассирийцы и египтяне начали писать первыми. Однако им Вы ничего не надиктовали.
– Да, я сделал ставку на евреев.
– Почему?
– Евреи – трудолюбивый, умный, практичный и стойкий народ! А еще они прекрасно умели и считать, и писать. Конечно, среди них тоже иногда рождались фантазеры и мечтатели – увы, из любого правила есть исключения, – но основная масса все-таки умела отличать черное от белого и небо от земли. И потом, в те времена у евреев не было своей территории…
– Вы говорите об Исходе?
– Именно. Я предположил, что отсутствие своей земли сделает евреев восприимчивыми, и поставил на них.
– То есть Вы избрали этот народ?
– Ну, можно сказать и так.
– И начали с Моисея?
– О, это был потрясающий юноша, воспитанный в доме египетских аристократов, образованный, волевой, активный, от природы наделенный качествами лидера, настоящий вождь своего народа. Многотерпеливый и одновременно пылкий, мудрый и решительный, он соединял в себе противоречивые достоинства, которые внушили мне доверие. В общем, я позволил себе рискнуть!
– И продиктовали ему десять предписаний, названных позже декалогом[28] или десятью заповедями. Примите мои поздравления! Лаконично, но эффективно!
– Благодарю.
– А почему они называются заповедями?
– Власть тем и сильна, что не оправдывается, ей достаточно выразить свою волю. Сжатая формула «Не убий!» запоминается куда крепче, нежели тягомотина типа «Не следует убивать человека, ибо это все равно что убить ближнего своего, иначе говоря, брата своего, иначе говоря, тебя самого, иначе говоря, все человечество в твоем лице». Я Бог, и я приказал. А объяснения предоставляю философам.
– Скажите, Вас удовлетворила работа Моисея?
– Да, за исключением нескольких мелочей, он меня прекрасно понял.
– Наверно, вот тут-то Вы и подхватили вирус писательства. Скольких помощников Вы использовали при создании Библии?
– Сорок восемь.
– Потрясающе! И Вы так точно это помните по прошествии стольких тысячелетий?
– Я все помню. Три тысячи лет в прошлом, три секунды сейчас, три века завтра – для моей памяти все едино, она не измеряется человеческими категориями времени.
– Ваше деяние меня поражает: Вы начали с десяти заповедей – точных, основополагающих, коротких, – потом внезапно начали выпускать свои книги десятками, исписывая сотни страниц. А вот всегда ли Вы посвящали себя главному?
– Что ты имеешь в виду?
– Читая Вас, я пришел к обратному выводу. Зачем Вы предлагаете нам столько различных историй?
– Затем, чтобы каждый из вас нашел когда-нибудь свое место в одной из них, услышал слово, лично ему предназначенное… Один уподобит себя Каину, другой – Ною, кто-то – Юдифи, Самсону, Иову, Эсфири, Далиле. Ты пойми, Огюстен, мы, писатели, творим не для себя, а для других. Мои книги несут двойную функцию – это и свет, и зеркало. Свет – дабы озарить вам путь, зеркало – дабы вы узнали в нем себя. Это многоплановый проект, обширный, как энциклопедия.
– Согласен, но рассказ о Сотворении мира…
– А именно?
– Я имею в виду Книгу Бытия.
– И что в ней не так?
– Вы там понаписали бог знает что!
– Я?
– Вы могли бы предположить, что люди в конце концов разовьют науки в поисках рационального объяснения того, как возник мир, в попытках сформулировать законы природы и эволюции; могли бы догадаться, что в будущем никто больше не станет верить в эту Вашу притчу. Семь дней творения! Семь дней, чтобы перейти от хаоса к Вселенной! Несколько часов, чтобы создать живые виды! И самое худшее – Ева, сотворенная из ребра Адама! Это уж Вы дали маху!
– Ты прав, я подозревал, что там не все гладко!
– Тогда почему?..
– Но я же не мог дать научное обоснование Сотворению мира в эпоху, когда и науки-то еще не существовали! Никто бы меня не понял.
– С этим аргументом я не согласен. Вы должны были руководить нами.
– Так я и поступил. Я руководил вашими самостоятельными поисками истины.
– А почему бы просто не открыть нам ее?
– Истину оглашают тогда, когда люди к ней готовы. И кстати, разве сегодня вы знаете правду о происхождении Вселенной?
– Да, мне кажется, что последние физические теории…
– Последняя теория – это та, что справедлива на сегодняшний день. До нее были другие, и после нее появится еще столько же других. Через пару веков люди будут смеяться над тем, что твои современники именуют истиной.
– Несомненно. Но ведь это мы, люди, – ограниченные существа, а Вы?
– И я!
– Простите?
– Я ограничен вашими ограничениями.
И Великий Глаз вращается в орбите так, словно Его раздражают эти давно известные трюизмы. Он смотрит на себя и смотрит на меня. Он ждет. А мне кажется, что Он потихоньку меркнет, что Его сияние слабеет… И я спешу возобновить нашу дискуссию:
– Давайте разберемся в главном: почему в Библии столько жестокости?
– Хороший вопрос! Я рад, что ты его задал.
И к Великому Глазу возвращается прежний блеск.
– Но сначала обрати внимание: твоя спутница Умм Кульсум лижет пальцы у тебя на ноге.
– Как Вы сказали?
– Не знаю, за что она их принимает – за конфеты, за орехи, за картофель фри, – но сейчас она обсасывает пятый палец на твоей правой ступне, самый нежный.
Внезапно, не сделав ни одного движения, я оказываюсь в кухоньке нашей редакции распростертым на линолеуме. Приподнимаю голову и констатирую, что Умм Кульсум и вправду с довольным урчанием облизывает указанный палец. А мои кроссовки валяются рядом с ее всклокоченной головой. Больше всего меня удивляет не то, что она обсасывает мои ноги, а то, что она ухитрилась стащить с них обувь вместе с носками.
Опершись на руки, я отползаю от нее и тут же возвращаюсь к прежнему состоянию: кухня бесследно исчезает, а передо мной снова Великий Глаз. Неужели я научился самостоятельно прокладывать к Нему дорогу?!
Великий Глаз рассматривает меня, и я по каким-то мелким признакам – то ли по легкому прищуру, то ли по блеску роговицы – догадываюсь, что Он посмеивается надо мной. Услышав мои мысли, он смущенно вздрагивает и спешит продолжить разговор:
– Так на чем мы остановились?
– На жестокости.
– Ах да! В этом пункте меня плохо понимают. Или, скажем так, больше не понимают. Времена круто изменились… Я-то создавал Библию как книгу, направленную против жестокости, а некоторые из вас пользуются ею, чтобы вершить преступления от моего имени.
– Вы искажаете факты! Вспомните, на скольких страницах Вы упиваетесь жестокостью.
– Да не я, а мои персонажи!
– Нет, именно Вы! И если в некоторых случаях герои действуют от Вашего имени, то в других все сомнения отпадают: это лично Вы изгнали Адама и Еву из земного рая; это Вы, разгневавшись, устроили Всемирный потоп; это Вы организовали резню в Египте, чтобы Моисей смог вывести оттуда свой народ.
– Но это было сделано в чисто педагогических целях.
– То есть?
– Разве ты не заметил, что я начал Библию с картины всеобщего мира и согласия и закончил ее тем же?
– Ничего похожего я там не обнаружил.
– Ну как же, взять хоть Книгу Бытия, где я написал: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке», – разве Адам и Ева не жили там счастливо? А потом еще вспомни последние строки из Апокалипсиса: там я снова даю картину мирного, счастливого бытия. То, чем люди пользовались в начале времен, они обретут позже. Надежда есть оборотная сторона уныния. Однако мужчина и женщина не пожелали моего рая. Ева надкусила плод с древа познания, парочка была изгнана, он приговорен «в поте лица своего есть свой хлеб», она – «в болезни рожать детей». Какой отсюда вывод? Нужно стремиться в Эдем. Люди попадут в рай, лишь пройдя испытание злом, страданием, несправедливостью. Истина познается через тяжкие усилия, но счастье в конце затмит счастье начала, ибо заработанное счастье более прочно, нежели дарованное. Между этими двумя блаженствами я установил переходный период, и Библия являла собою лишь вводную инструкцию. А жестокость возникла в жизни человека по его вине, и в этой Книге я учу, как от нее избавиться. Текст я разбил на этапы – от убийства Авеля до распятия Христа. Естественно, каждый этап, взятый в отдельности, может шокировать. Но их нужно рассматривать в перспективе, в глобальном плане. И тогда, по истечении срока, все, через что мир уже прошел, покажется отжившим.
– Прямо трогательно, до чего же Вы уверены в себе!
– Я создал для вас учебник о том, как избежать жестокости.
– Нет, не надейтесь так легко отделаться! Когда я Вас читаю, меня поражает главное: Вы запятнали себя жестокостью! После Моисея Вы прибегаете к услугам Иисуса Навина, безжалостного, неумолимого военачальника, который захватил Землю обетованную, обагрив ее кровью. В Иерихоне он уничтожил целый народ – мужчин, женщин, детей и стариков, то есть организовал – от Вашего имени – настоящий геноцид. Была ли в этом необходимость? И он же повесил пятерых аморрейских царей. Была ли в этом необходимость? После чего он благополучно прожил до ста десяти лет. Была ли в этом необходимость? А позже Илия, Ваш пророк, зарезал, по Вашему наущению, четыре сотни жрецов Вааловых[29]. Затем…
– Остановись! Ты рассматриваешь факты с точки зрения современного человека, с его рациональным мышлением и принадлежностью к цивилизации, которая провозгласила права человека и осудила жестокость, объявив ее вселенским злом. А в древности без жестокости невозможно было выжить. Она царила повсеместно. Племена, оседлые и кочевые, сражались за любую ценность – за колодец, за клочок поля, за пищу, за леса и животных. Все они поклонялись жестоким богам, дабы посеять страх в сердце врага и убедить его в своей силе. И если я хотел, чтобы меня слушали, я должен был изъясняться, как тигр, а не как мышка. Не проповедуй я жестокость, меня не считали бы всемогущим. И вот, чтобы задобрить ваш мир, мне пришлось говорить лозунгами этого мира.
– Вы решительно считаете себя правым во всем! Неужели Вам вообще не свойственна самокритика?
– Иногда свойственна; именно поэтому я и написал свою вторую книгу.
– Новый Завет?
– Да, все истории, связанные с Иисусом.
– И Вы знали о нем с самого начала?
– Конечно.
– Трудно поверить.
– А ты прочти внимательно Ветхий Завет, потом Новый – и увидишь, что в первом уже есть наметки второго.
– Потому что в первом Вы предвещаете явление Мессии?
– Вот-вот! Я уже тогда готовился написать второй том.
– Ага…
– И тогда же я обозначил решение проблемы, избавляющее вас от живодерства. Вот историйка, которая тебя убедит: некий псалмопевец умоляет Бога погубить младенцев из вражеского стана, сбрасывая их с крепостной стены[30]. Ты скажешь: какая жестокость! Нет, это выход за пределы жестокости. Просить Господа лично уничтожить врага – значит самому устраниться от этого злодейства. Человек вытесняет жестокость из реальности и из собственной воли.
– Но не из собственных мыслей!
– Верно. Вот почему мне пришлось завершить свою работу, написав вторую книгу, где Иисус отвергает насилие. Он являет себя кротким и любящим, исцеляет больных, защищает слабых, калек, женщин и детей; он даже не бичует супружескую неверность, но в результате умирает на кресте. Его агония поистине скандальна: Бог становится жертвой! Бог погибает от человеческой жестокости! Бог, который, с учетом своих возможностей, мог бы вести себя подобно льву, избрал для себя участь агнца! Он пострадал ради вас, дабы указать людям на их бессмысленную жестокость и призвать к раскаянию. Он пожертвовал собой, дабы наставить вас, а потом изменить вашу природу. Трудно выразиться яснее, не правда ли?
– Да, согласен.
И снова наступает молчание. Великий Глаз становится золотистым, Он явно доволен собой. Но я решаюсь помешать его самолюбованию:
– Словом, Вы всё открыли нам в этих двух книгах, построив их по принципу логического развития; на этом Вам и следовало бы остановиться.
– Верно.
– Но тогда зачем было писать третью книгу? Зачем Вы создали Коран?
17
Великий Глаз омрачается. И окружающая нас тьма заметно холодеет. Он шепчет:
– Ах да, ислам… Зачем ислам?
Галактический сквозняк осыпает нас звездной пылью. Я вздрагиваю и шатаюсь, чувствуя, что пустота подо мной уже не так надежно поддерживает меня. Балансирую, чтобы восстановить равновесие.
Помолчав, Великий Глаз роняет:
– Тут я промахнулся.
– Вы?! Как это Вы могли промахнуться?
Он смущенно мигает:
– Я признаю, что если люди меня не услышали, значит я не сумел до них достучаться. В этом доля и моей вины.
– Вы имеете в виду Новый Завет?
– Да.
– Христианство?
– Именно. Я называю христианством последствия моей второй книги. Какое фиаско!
– Вы шутите! Ваши Евангелия – это изумительная поэма, возвышенная и трогающая сердца.
– Слишком возвышенная…
– Даже интеллектуалы, не признающие ни Вас, ни религий, хвалят высокие духовные качества Иисуса. Знаменитый Спиноза присвоил ему титул «верховного философа».
– В том-то и проблема: моя вторая книга заслужила лишь относительный успех, получив одобрение только элиты, клуба, «happy feu»[31]. А мне хотелось для нее всенародной популярности.
Я даже поперхнулся от изумления: по-моему, у Великого Глаза не все в порядке с головой. И возмущенно отвечаю:
– Конечно, первые христиане подвергались преследованиям, пыткам и казням, но Ваши Евангелия – их ведь изучали, осмысливали, комментировали, переводили, обожествляли; они распространились сперва в Средиземноморье, затем проникли на северные территории. За несколько веков христианство покончило с прежними языческими культами и утвердилось в мире как главенствующая религия. Какой триумф! Вы, с Вашей первой книгой, и мечтать о таком не могли.
– Это верно… Ветхий Завет удостоился известности лишь в отдельных регионах.
– Точнее сказать, в одной области: его не читали нигде, кроме Иудеи.
– Ну что ж, тут я признаю себя виновным! Я обратился к помощи Моисея, взяв его в посредники, а затем еще к нескольким местным умельцам. Иудаизм пострадал от одной ошибки, имя ей – избранность народа. Я-то предполагал, что он распространится повсеместно, и во всех своих обращениях неустанно нахваливал его людям, – увы, евреи приберегли эту избранность для одних себя. Они сделали ее своим брендом, преобразили в свою идентичность, обогатив ее прошлым, разделенным с другими народами. И чем это кончилось? Духовность, загнанная в тесные рамки отдельного племени, которое я избрал своим рупором, начала загнивать. А поскольку я желал расширить свою аудиторию, мне и пришлось изобрести христианство как ветвь иудаизма, доступную неевреям.
– И это Вам удалось! Христианство действительно завоевало весь мир.
– Да, но призвано ли оно было «завоевывать»?
И Великий Глаз задумывается, подыскивая слова.
– Скажу тебе по секрету: вначале я буквально упивался идеей христианства. Ведь мне удалось создать новую литературную форму – когда одна и та же история рассказывается с четырех точек зрения. Этот сюжет об Иисусе я вложил в уста Матфея, Марка, Иоанна и Луки. До меня ни один писатель не осмелился на такой дерзкий прием.
– Действительно, прием весьма оригинальный.
– Более чем оригинальный, он был полезен.
– Полезен?
– Я стремился расшевелить свою аудиторию, заставить людей мыслить, разбираться в самих себе. Четыре Евангелия описали героя разными способами, через личные ощущения пророков: например, Иоанн опирался на свое философское образование, Марк придерживался фактов, Матфей взывал главным образом к евреям. Некоторые эпизоды были отражены во всех четырех версиях, а другие – нет, и это вовлекало читателя в сложную интеллектуальную игру, помогавшую восстановить последовательность событий. Меня уже тошнило от доверчивой слепоты людей!
– Вас… тошнило?!
– Еще бы! Вот ты упрекнул меня в создании Книги Бытия! А почему? Да потому, что ты расшифровал ее с первого взгляда. Ты принял ее как хронику происхождения мира, а ведь я-то представил тебе поэтичную притчу. Прискорбный факт: люди расположены видеть в рассказах отражение реальности. Так вот, надиктовав Евангелия, я взорвал этот рефлекс. Сознательный читатель четырех свидетельств об этом событии должен разработать свою оригинальную версию, основанную на сравнениях и проверке сведений. То есть в идеале создаются пять Евангелий: четыре от апостолов и одно – от читателя.
– Иными словами: «Люди, будьте писателями!» – таков Ваш слоган для нашей эпохи?
– Нет: «Люди, будьте мыслителями!» – (Пауза.) – Я согрешил из честолюбия. Взявшись за создание священных книг, нельзя изменить привычки читательской массы с помощью всего одного тома.
– Погодите-ка, меня кое-что смущает в Ваших разъяснениях. Вы все время говорите о четырех книгах, «надиктованных» апостолам. Уж не хотите ли Вы сказать, что они не видели Христа, что Иисус вообще не существовал?
Великий Глаз медленно моргает.
– Есть несколько способов «диктовать» что бы то ни было: можно внушить идею, а можно создать нечто из реальности.
– А в данном случае?
Он замолкает и хмурится:
– Мы, кажется, говорим о литературе, да или нет?
– Да… И все-таки я не уверен, что литература значит для меня больше, чем истина. Мне нужно знать точно, существовал ли Христос на самом деле.
– Ты слишком узко представляешь себе истину. Для тебя истина – это то, что предшествует книге, и то, о чем эта книга повествует. А для меня – это то, что следует ЗА книгой, за тем, что в ней изображено. Я так вдохновенно работал над текстом Нового Завета потому, что людям предстояло вывести из него Учение. Я был сеятелем.
– Вы уклонились от ответа.
– Иисус знал только Иисуса, но не христианство. В моих книгах еврей осознавал себя как еврея и практиковал иудаизм. Христианство возникло после смерти Христа, отдельно от иудаизма – чего я не предвидел, – потому что некоторые евреи отказали Христу в статусе Мессии, низведя до положения пророка. Ну и ладно, мне это глубоко безразлично! Христианство – вот что я стремился создать с помощью этих книг.
– Если можно, поточнее! Так Христос все-таки существовал?
– Я это написал.
– Ответьте на мой вопрос!
– Меня интересует дерево, а не семя, из коего оно произросло.
– Ответьте на мой вопрос!
– От истины, основанной на фактах, до истины духовной так же далеко, как от семени до дерева.
– Ответьте на мой вопрос!
– Да я уже ответил, ты просто еще этого не осознал.
Великий Глаз держится вполне уверенно, чего я не могу сказать о себе: мой желудок терзают жестокие спазмы, предвестники рвоты. Я судорожно глотаю слюну в попытках выровнять дыхание. Нет, не удается! Но я упорствую. И пускай часть моих сил уйдет на борьбу с последствиями наркотика, я все равно не прерву эту встречу на высшем уровне.
Радужная оболочка Великого Глаза переливается эффектными красками. Он ликует.
– Вначале я поздравлял себя с открытием христианства. Мне казалось, что в своей второй книге я вполне доходчиво разъяснил, до какой степени произвола, несправедливости, безнравственности и невежества может довести людей жестокость. На кресте я убивал ненависть. И каждый человек, глядя на смерть невиновного, должен был увидеть в этом результат собственного жестокосердия, – так я думал. Умирающий Иисус исцелял жестокого от жестокости, побуждал род людской искать решения проблем не в силе, а иными средствами, строить новый мир, где доброта возобладает над страхом. Какая прекрасная программа! Перестать ненавидеть ближнего своего и научиться его любить!
– Утопия.
– Да, согласен. Я озарял реальность светом идеала. И думал – с наивностью довольного собой автора, – что освободил людские головы не только от варварской бесчеловечности, но и от глупости. Постарайся вникнуть в смысл Евангелий, и ты поймешь, что Иисус разоблачал псевдоочевидности, на которых зиждилась его эпоха. Он отказывался считать женщин низшими существами, признавая за ними, напротив, способность к откровениям высшего порядка. Отрицал семью как узкую категорию, обвиняя своих братьев в недостойных поступках и провозглашая возвышенное братство, основанное на гуманности. И самое дерзкое: он нападал на религиозные институты, изгоняя торговцев из Храма, обличая бессмысленные обряды, повторяя, что «не человек для субботы, а суббота для человека». Согласно его вероучению, нельзя доказать свою набожность, формально исполняя религиозные обряды, – веру можно постичь, лишь очистив свою душу и помыслы. Словом, создавая Евангелия, я побуждал людей к пониманию верховенства духа над буквой.
Он делает короткую паузу, потом скорбно изрекает:
– Увы…
– Почему «увы»? Вы не считаете, что мы стали лучше?
– Самую малость. Всего ничего. Христианство завоевало себе очень скромное место на земле.
– Наоборот, вот уже много веков, как христиане исчисляются миллионами!
– Да, но их количество не скрывает отсутствия качества. Я потерпел неудачу.
И Великий Глаз тяжело вздыхает:
– Внушить людям, что они заблуждались, распяв Господа на кресте, – это была гениальная идея, но она не прошла.
– Почему же?
– Потому что я требовал, чтобы они несли ответственность за свои поступки. А человек не хочет жить в том мире, где его будет мучить комплекс вины. Это нарушает его душевный покой.
– И что дальше?
– Я отступился. Христианство не было принято, ибо не было понято. Я долго закрывал глаза на очевидное – фетишизацию Евангелий, их непререкаемость, убийства, совершаемые во имя Христово. А ведь это Иисус создал принципы светского общества, провозгласив: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»[32]; или: «Кто поставил Меня судить или делить вас?»[33] Однако все происходило с точностью до наоборот: религия, вместо того чтобы дистанцироваться от политики, войны, экономики и гражданского общества, сливалась с ними; более того, стремилась ими руководить. Мне понадобилось несколько веков – восемь, если быть точным, – чтобы понять это. И тогда я решил снова взяться за перо. Или, вернее, прибегнуть к помощи Мухаммеда.
– Которому Вы надиктовали Коран. И чем же он лучше Библии?
– В Коране я обратился к реальным людям, таким, какие они есть; я смирился с тем фактом, что они по-прежнему мечутся между животными инстинктами и тягой к духовности, между телом и душой, между низкими материальными интересами и высоким благородством. И создал книгу, в которой учил их искать равновесие между тем и этим, золотую середину. Далее, я уточнил, что отдельный человек не имеет права на личный контакт со мной – правило, которое иудеи и христиане всегда пытались игнорировать или обойти. Я провозгласил себя всевышним и недоступным. Объявил, что не вмешиваюсь в вашу Историю, дабы не компрометировать себя. Ну разумеется, не считая тех случаев, когда я обращаюсь к вам письменно.
– Что ж, в области литературы Вы произвели подлинную революцию.
– Именно. Я отказался от цветистых рассказов, коими грешит местами Ветхий Завет, от туманных притч Нового Завета. Меня разочаровало их слабое воздействие на аудиторию: люди, в подавляющем большинстве, восприняли мой текст весьма поверхностно и не изменились так, как я на это рассчитывал. В Коране же я действовал более прагматично – разработал целую систему предписаний, организовав всю жизнь человека, от рождения до смерти, буквально по часам, днем и ночью. Я потребовал от него простых, но обязательных действий, как то: разумная гигиена тела, строгий режим питания, пять ежедневных молитв, воспитывающих в нем смирение и сознание своей бренности, пост и воздержание во время Рамадана. Короче, наладил его духовную жизнь, не разделяя тело и душу.
– Замечательный принцип!
– Не правда ли? А еще я провозгласил терпимость долгом каждого верующего: «Нет принуждения в религии»[34]. Я требую уважения ко всем конфессиям.
– Значит, Вы включили в Коран этот пункт, чтобы фанаты двух Ваших первых книг не враждовали с фанатами третьей?
– Именно! И хотя все три мои книги указывают на Бога единого, он отнюдь таковым не является. Поэтому я решил установить связь между ними. В Коране я упоминаю о рукописи, которая хранится на Небесах, на заветном столе, и зовется Книгой-Праматерью, известной лишь мне одному; я давал ее на время Аврааму, Моисею и Иисусу, а позже – Магомету. Причем ему я вверил эту Книгу на более долгий срок, нежели его предшественникам, дабы он написал к ней сборник комментариев. По моему мнению, есть только одна религия Книги – ислам. Иудаизм и христианство остаются религиями книг.
– Значит, эти три монотеизма[35] образуют семью из трех братьев.
– Из трех братьев с братоубийственными помыслами, но тем не менее братьев.
– Счастлив это слышать.
– Благодарю. Кроме того, создавая Коран, я украсил заповеди отрывками из неизданной поэзии, коими наслаждаюсь до сих пор: «Мы ближе к нему, чем яремная вена»[36], или вот: «Аллах – Свет небес и земли. Его свет [в сердце верующего] подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, ни восточного, ни западного. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого света!..»[37]
И вдруг в бесконечности раздается грохот. По-моему, это взрыв. От его огненной вспышки вздрагивают звезды, потом слышится странный гул, сопровождаемый криками, стонами и плачем. Великий Глаз все еще упивается изречениями из Корана и ничего не замечает вокруг себя. Эти звуки бедствия напоминают мне о вопросах, которые прислал Шмитт, и я спешу возобновить беседу:
– Позвольте мне выразить удивление некоторыми моментами. Читая Коран, я уловил расхождения в некоторых пассажах. Если одни из них призывают к любви, к милосердию, к отказу от грубой силы, то другие одобряют кровопролитие. Где-то Вы объявляете, что «нет принуждения в религии», а где-то призываете убивать «каждого еврея, который попадется вам на пути».
– Диктовать тексты – не значит принуждать. Я уже говорил тебе, когда упоминал о Книге-Праматери, что не писал Коран, а доверил эту миссию людям. Он содержит исторический обзор в контексте эпохи, аппроксимации. Разве тебе не известно, что версия, которую ты изучал, была создана только через сто сорок четыре года после смерти Магомета?
– Какое жалкое оправдание! Вы хотите сказать, что все противоречия Корана исходят от нас, а не от Вас?
– Ну вот видишь, опять начинается!
– Что?
– Недопонимание!
– Нет, это Вы опять начинаете! Уже в Ветхом Завете было полно таких противоречий.
– Ты меня утомляешь…
– Вы проповедуете джихад, священную войну.
– «Джихад» означает не «священную войну», а «искоренение дурных наклонностей». Другими словами, внутреннюю борьбу[38].
– О, только не в «Сире», этой биографии пророка! И не в «Магази», где повествуется о его военных экспедициях![39]
– Но они не включены в Коран!
– А не Вы ли сказали в Коране: «Убивайте экстремистов до последнего»? Или: «Убивайте [многобожников], где бы ни встретили вы их…»?[40]
– Одно дело – то, что я сказал, другое – как меня поняли. Просто возмутительно: всех ваших интеллектуалов, которые изучают Платона или Ницше, ничуть не смущает приверженность первого рабовладельческому строю и зоологический антисемитизм второго, зато меня они принимают в штыки! Они уже не обращают внимания на нюансы, не желают вникать в смысл написанного, не отделяют зерна от плевел и только упражняются на мне в критике. Вместо того чтобы обсудить мои творения, они меня отрицают – огульно и бесцеремонно.
– Естественно: Вы же Бог.
– Ну и что?
– Люди ждут от Вас недвусмысленных заявлений.
– Им нужно, чтобы я приказывал?
– Главное, чтобы Вы связно и четко обозначали наши действия. Мы не можем руководствоваться Вашими иносказаниями.
– Я не прошу вас принимать их безоговорочно, я прошу подходить к ним критически.
– Но послушайте, Вы же Бог!
– Да, а вы – люди! Иначе говоря, вы свободны. И я не собираюсь попирать ваше свободное мнение, вашу способность рассуждать, ваше право на выбор.
– Господи, да будьте же Богом!
– Какая путаница! Бог призывает вас не к покорности, а к дедукции. Научитесь наконец выбирать!
– Выбирать между словами Бога? Но по какому праву? По чьей воле? Неужели наши капризы возобладают над Вашим всемогуществом? Это же абсурд! Судя по тому, что я вычитал в Коране, я держу в руках либо книгу мира, либо книгу войны. Со своей стороны, я одобряю мусульманина, который воспринимает призывы к добру, и осуждаю того, кто выбирает в этой книге одни только призывы к агрессии, но я по-прежнему не способен определить, кто из них двоих истинный мусульманин. Каков химически чистый состав ислама? Ваш Коран состоит по меньшей мере из двух Коранов.
– Книга не существует, существует лишь то, что ты вычитал в ней.
– Отказываюсь верить! Когда Вы обращаетесь к нам, мы не подвергаем критике Ваши заповеди. Кто мы такие, чтобы позволить себе эту дерзость? Творение не может критиковать Творца.
– Творение обязано исправлять себя само – вот путь, который указывает вам священная книга.
– Но почему Вы никогда не выражаетесь однозначно?
– Потому что я скрыт от вас и полагаюсь на вашу свободу. Время от времени я подкидываю вам кое-какие мелкие озарения, но остерегаюсь нести яркий свет.
– По-моему, это ошибка.
– Нет – если учесть мой первоначальный замысел: сделать людей свободными. Да ты и сам сейчас не посмел бы противоречить мне, если бы не чувствовал себя независимым.
Окружающую тьму взрывает гул множества слившихся звуков. В какие-то доли секунды передо мной мелькает лицо, искаженное судорогой, разверстый в крике рот, голова, залитая кровью. Вдалеке проходит армия чудовищных призраков, их тысячи, они яростно потрясают мечами, копьями, ружьями, горланят безумные марши… Некоторые звезды, пришпиленные к черному небосводу, кажутся злобными глазами.
Великий Глаз тоже заметил, что пустоту заполонили вопящие фигуры. Он говорит уже более мирным тоном:
– Я подарил вам только три книги. Но вы должны их читать, то есть анализировать, расчленять, оценивать, вдыхать в них жизнь своим вниманием, временем, которое вы им уделяете. Книга – предполагает, человек – располагает. Чтение – вот что делает книгу ценной.
– И это утверждаете Вы? Вы?!
– Естественно. Когда некоторые люди пересказывают мои книги, я думаю: «Господи, неужто я понаписал там все эти глупости?» А когда их пересказывают другие, мне приятно их слушать, я понимаю, что создал шедевр. Глупец оглупляет книгу, умный человек делает ее еще умнее и глубже. Вообще, книга похожа на испанский постоялый двор: каждый приезжает туда со своими припасами.
– То есть, когда недоразумения множатся, Вы, по своей привычке, уходите от ответственности!
– Недоразумение исходит от того, кто не умеет слышать, разве нет?
– Итак, я суммирую Ваши аргументы: Вы пишете хорошо – это мы Вас плохо читаем.
– Читать плохо – не значит бросить книгу. Читать плохо – значит принять текст за истину в последней инстанции и проглотить его не рассуждая, не разжевав мысленно. А хорошо читать – значит взглянуть на нее критически со стороны.
– Вот как?! Бог рекомендует людям дистанцироваться?
– Если я этого не порекомендую, то кто же это сделает? Те, кто этого не умеет, как раз и становятся фундаменталистами. Их число растет, они объединяются. Да что говорить, ты сам уже попал в эту бешеную свору.
– Я? Я – фундаменталист?
– Конечно. Ты и рассуждаешь как фанатик.
– Я?!
– Ты держишь в руках священную Книгу, но запрещаешь себе рассуждать. Любой исламист, который выбирает из текста Корана только воинственные призывы и реализует их на практике, под тем предлогом, что они изречены святыми устами, действует точно так же, как ты: он не имеет собственного мнения.
– А меня шокирует тот факт, что из Корана можно выбирать только нужное.
– Ты рассуждаешь как фундаменталист-атеист: ты не веришь в Бога, но представляешь Его себе всемогущим и однозначным. Какая наивность! А главное, какое убожество! Ты не только не веришь в Бога, ты не веришь и в человеческую свободу.
– Но Вы сами провозгласили в Коране: «Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений»[41].
– Никаких сомнений – для меня самого. Но я очень надеюсь, что она вызовет сомнения у вас.
– Если мы обязаны истолковывать Ваши книги, тогда зачем нам снова и снова обращаться к Вам? Мы прекрасно можем писать сами.
– Что вы и делаете. Понаписали такую чертову уйму книг, что никаких библиотек не хватит.
А отдаленная картина мира становится все мрачнее. Нас окружают миллионы лиц, на которых запечатлелись все бедствия на земле – распри, удары судьбы, страдания, невежество, голод, отчаяние, ереси, рабство, газовые камеры, инквизиция, насильственная смерть, незаслуженная смерть. Людские вопли на всех языках терзают наш слух.
Мы пытаемся сосредоточиться, чтобы довести разговор до конца. Великий Глаз отсвечивает зловещими сполохами апокалипсиса.
– На самом деле все три моих произведения полны двусмысленностей, противоречий, сумбура и невнятицы. В каждом из них я взывал к человеческому разуму, и каждый раз большинство людей не слушали моих призывов. Можно по пальцам сосчитать тех, кто размышлял над ними. Честно говоря, ты был прав: может, я действительно… дал маху?
– Когда?
– Когда захотел создать человека свободным. Может, лучше было бы сделать его рабом животных инстинктов, как зверя. И тогда мы с тобой сейчас не увязли бы в этой трясине.
– Но если бы Вы не создали человека самостоятельным, Вам бы не пришлось писать для него книги.
– Да, с помощью каждой из моих книг я пытался наставить людей на путь истинный, усовершенствовать их. Увы, человек – существо неисправимое.
– А скажите, какая-нибудь из Ваших книг довлеет над двумя остальными?
– О нет, я бы так никогда не сказал!
Его голос прозвучал во тьме громовыми раскатами, заглушив шум и крики людских полчищ. Призраки, окружавшие нас, застыли в изумлении. Великий Глаз пристально смотрит на меня.
– На самом деле ты хочешь узнать, какой из трех монотеизмов лучше остальных?
– Да.
– Ни один из них не защищен от глупости людской. Ни один из них не закрыт для разума. Глупец найдет в каждой религии то, что ищет, то есть худшее. Мудрец найдет в каждой религии то, чего не искал, то есть лучшее.
И Великий Глаз слегка затуманивается.
– Скажите, Вы планируете написать четвертую книгу?
– Нет, Огюстен, я не стану больше писать. Моя литературная карьера закончена. Создавая первую книгу, я искал связи с людьми; создав все три, я хотел пробудить в людях способность размышлять. Но я не нашел среди них читателей, достойных этой высокой планки.
– Ну-ну… Вы преувеличиваете.
– Никто ничего не понимает в моих книгах. Их печатают, их продают, их покупают, их цитируют, но при этом читают как бог на душу положит. Мне больно за человека!
Внезапно Великий Глаз исчез, а вместе с ним и легионы несчастных жертв. И тут бесконечность разверзлась подо мной, я с воплем рухнул в бездну и… очнулся в кухне, на линолеуме, с раскинутыми руками, разбитый вконец.
А между стенами все еще метались искаженные, затихающие отголоски последних слов Великого Глаза:
– Мне больно за человека!
18
Солнце терзает мне голову. Прежде я не замечал, что лучи света способны раздирать плоть, издавая при этом зловещий свист. А сейчас чувствую, как они исполосовали мой левый висок и не отступают… За что они меня так ненавидят?!
С трудом переваливаюсь на бок, чтобы избавиться от них. Ну слава богу, теперь жгучее лезвие меня не достанет. Я спасен.
Мои веки приподнимаются.
Где я?
Грузная туша в кислотных узорах, лежащая передо мной, издает ворчание, бульканье и хрипы. Мои ноздри заполоняет множество запахов – едких, тяжелых, жирных, прогорклых, смрадных, – и все они отвратительны.
Почти рядом с моим лицом возникает паук. Огромный. Мясистый. Его грузное тело, усеянное редкими волосками, сжимается, он вот-вот прыгнет на меня. Вздрагиваю от ужаса. Пытаюсь его отогнать и тут только осознаю, что это не паук, а моя правая рука.
И тут раздается звонок.
Этот банальный звук вырывает меня из оцепенения, возвращает к действительности. Я поднимаю голову. Затем, упершись руками в пол, кое-как сажусь и констатирую, что мои одеревеневшие члены стали неподъемно тяжелыми.
Где я?
Озираюсь и узнаю кухоньку газеты «Завтра». Все перевернуто вверх дном, пол загажен блевотиной, мочой и фекалиями, засыпан битым стеклом, осколками тарелок и чашек. Склоняюсь над лежащей тушей: ага, это Умм Кульсум в ее тропическом наряде. Она храпит, повизгивая, как свинья. Изо рта ручьями течет слюна. Подтаявший макияж размазался по лицу – вид такой, будто это синяки от побоев. А по шумному бурчанию в животе нетрудно понять, что ее кишечник освобождается от газов.
Снова звонок.
Катастрофа! Комнатка напоминает мусорную свалку. Одурманенные айяуаской, мы с Умм Кульсум разорили ее дотла.
Встать на ноги мне не удается, но я полон решимости вести себя так, словно все в порядке, и, подчиняясь звонку, ползу на четвереньках к передней.
По дороге, в коридоре, борюсь с новыми позывами к рвоте и мужественно заставляю себя шевелить руками и ногами, хотя мне кажется, что мое тело погребено под несколькими слоями асфальта.
Еще один звонок.
Мне с трудом дается каждый сантиметр пути.
– Да-да… иду…
Меня испугал собственный голос – вялый, апатичный, он отражается от стен, хотя непонятно, откуда исходит.
Последнее усилие. Наконец-то я лежу перед входной дверью.
– Кто там?
– Это я, Огюстен, я, Шмитт!
Вздыхаю с облегчением. Услышав голос писателя, я представил себе, как вместо него в дверь барабанит Пегар, кто-то из коллег, полицейский, и даже вспотел от страха – задним числом. Из всех них Шмитт – наименее опасный вариант.
– У вас все нормально? – кричит он мне с площадки.
– Да… мне удалось дотащиться досюда.
– А ты сможешь мне открыть?
– О-о-о… Здесь такой бардак. Я на ногах не стою. Мы все переломали, все загадили – Умм Кульсум и я…
– Умм Кульсум?
При мысли о том, что мне придется описывать Умм Кульсум, я чувствую смертельную усталость и последние рвотные позывы, которые стойко подавляю.
Молчание. Хорошо бы мне покемарить хоть немножко…
– Открой мне, Огюстен! Я помогу тебе убрать.
– Ладно.
Надо же, нынче утром я подчиняюсь всему на свете – приказам, звонкам в дверь…
С неуклюжим старанием пытаюсь дотянуться до замка, сперва самостоятельно, потом с помощью подставки для зонтов и, следом, табурета, за который держусь, чтобы передохнуть на полпути; глубокий вдох, и – опля! – наконец поворачиваю ключ в скважине.
– Вот…
– Я могу открыть дверь?
– Минутку!
Я шлепаюсь на пол и откатываюсь на метр от двери, в восторге от того, как блестяще провел эту операцию.
Шмитт входит, видит меня, изумленно таращится. На его лице гримаса отвращения – это он учуял вонь, – кусает губы, наклоняется ко мне:
– Как ты себя чувствуешь?
– Скверно.
– Болит где-нибудь?
– Везде.
– Ты совершил путешествие?
– Да.
– Встретил Его?
– Да, я…
Шмитт закрывает мне рот рукой:
– Ни слова!
Он глядит на меня с восторженной улыбкой и твердо повторяет:
– Ни слова! Я хочу, чтобы ты все описал. А до тех пор храни это в себе.
Обернувшись, он смотрит в сторону кабинетов.
– Где вы это сделали?
– В кухне.
– Там?
– Вместе с Умм Кульсум.
– Умм… Ну хорошо, я сам всем займусь, для этого и пришел. Я получил твой мейл вчера вечером и сразу заподозрил, что сегодня утром ты будешь не в форме.
Шмитт берет меня под мышки, приподнимает с пола и одним махом взваливает к себе на руки; я безвольно свисаю с них, точно увядший букет лилий. Устроив меня в кресле рядом с кухней, он входит в нее.
– Ох, черт!
Я фыркаю: мне смешно глядеть, как он поскользнулся, ступив в лужу нечистот. Он подходит к храпящей цветастой туше.
– Это еще что?
И, вернувшись ко мне с перекошенным лицом, спрашивает шепотом:
– Вот это – Умм Кульсум?
У меня в животе бурчит так, что, наверно, на улице слышно. Я громко икаю. Шмитт, не ожидая ответа, хватает швабру.
– Ладно, за работу!
Борясь с упорной отрыжкой и звоном в ушах, я слежу за ним, не в состоянии двинуть и пальцем; он, кажется, это понимает и сам энергично берется за дело, бегая с ведрами из кухни в туалет и обратно, подтирая, отчищая, выскребая, отдраивая, проветривая, распыляя освежитель воздуха.
Наконец кухня приобрела свой прежний вид.
Шмитт приседает рядом с Умм Кульсум и похлопывает ее по одутловатым щекам:
– Месье… месье… проснитесь, пожалуйста… Месье… вы меня слышите?.. Месье!
Умм Кульсум на минуту перестает храпеть, задержав дыхание с опасностью для жизни, но не отвечает.
Шмитт снова кидается ко мне:
– Он что – в коме?
– Это не «он», это «она».
– Ах, вот как…
– Умм Кульсум, даже бодрствуя, выглядит словно в летаргическом сне. А уж когда она дрыхнет, то и подавно.
– Помоги мне привести ее в чувство.
Я опираюсь на плечо Шмитта, и мы беспомощно топчемся рядом с ней.
– Умм Кульсум! Эй! Ау!
Никакой реакции. Но тут я замечаю на столике рядом с раковиной ее плеер.
– Включите ей музыку.
Шмитт хватает аппарат, щелкает кнопками, и раздается монотонное пение: «Ghanili chwaya chwaya…»[42]
Умм Кульсум поднимает веки, взгляд у нее восхищенный.
Я наклоняюсь к ней:
– Как ты себя чувствуешь?
– Башка трещит!
– Неудивительно! Тебе на голову свалилась пирамида.
Ее глаза на миг испуганно расширяются, потом до нее доходит, что это шутка, и она отвечает на нее слабой улыбкой. Я похлопываю ее по плечу.
– Боюсь, ты выпила вчера мой травяной отвар, Умм Кульсум.
– Вау!.. Шикарная штука… First class!..
И она прыскает.
– Ты встанешь?
Умм Кульсум отдает приказ своим мускулам, но ни один из них не реагирует; она смотрит на меня с огорченной миной провинившегося ребенка, потом начинает смеяться.
Но тут вмешивается Шмитт:
– Ей нужно переодеться, у нее все платье изгажено.
Умм Кульсум оценивает размеры бедствия и тычет пальцем в одного из львов, изображенных на трикотажном платье, которому угодил прямо в пасть кусок полупереваренной еды, извергнутой вместе с остальной блевотиной.
– Он хотел есть! – восклицает она.
И хохочет. Я тоже. Мы с ней веселимся от души. Умм Кульсум прямо плачет от смеха. А Шмитт испуганно пялится на нас.
Когда мы унимаемся – скорее от усталости, чем от недостатка радости, – он озабоченно замечает:
– Вас не должны застать в таком состоянии. Пошли отсюда!
И в этот момент в двери щелкает ключ. Я вздрагиваю:
– Пегар!
Узнаю позвякивание его связки ключей, манеру распахивать толчком входную дверь и придвигать к себе стоячую вешалку. Я спрашиваю торопливым шепотом:
– Который час?
– Семь.
– Он никогда не приходил так рано…
– Сегодня особый случай, – возражает Шмитт. – Ночные теракты…
– Какие теракты?!
Я стою, изумленно разинув рот. Но Шмитт не дает мне времени на переживания:
– Огюстен, где тут у вас можно спрятаться?
– Что?
– Где бы нам спрятаться – тебе, Умм Кульсум и мне?
– Мы пропали…
Неожиданно Умм Кульсум проявляет сообразительность:
– Вы оба – лезьте в кладовку. А я останусь.
– Нет! Тебя же уволят!
– Не твоя забота!
Я хватаю Шмитта за руку и тащу в закуток, где хранятся бутылки, он же служит нам редакционной свалкой. И хотя звук шагов Пегара угрожающе близок, я все же успеваю вовремя прикрыть за нами дверь.
– Сейчас хлебнем кофейку, – благодушно мурлычет Пегар, заходя в кухню.
И тут же осекается – наверно, при виде Умм Кульсум, распростертой на полу.
– Ты что тут делаешь?
– Отдыхаю.
– Ты не имеешь права ночевать здесь! А чем это воняет? Ты, небось, еще и наблевала тут с похмелья, мерзавка?
Умм Кульсум не отвечает. Пегар орет, задыхаясь от ярости:
– Вон! Я тебя выгоняю!
– Нет.
– И даже не проси, ты уволена!
– Если ты меня выгонишь, я молчать не буду.
Наступает мертвая тишина. Потом Умм Кульсум продолжает – медленно и раздельно:
– Я выложу полицейским все, что скрыла от них. А еще призна́юсь, что́ ты меня подговаривал им сказать.
Снова тяжкая пауза.
– Ну ладно, не будем ссориться! – восклицает Пегар совсем другим, благодушным тоном. – Я тебя оставляю. Это просто от неожиданности… я разозлился… вышел из себя… Но ты не думай, я пошутил! Вставай-ка, мне не хочется, чтобы другие увидели тебя в таком состоянии, ради твоего же достоинства…
– Ради твоего! Боишься, что они подумают: а с чего это шеф так с ней носится?
Пегар смущенно хмыкает и спрашивает ясным, приветливым, почти беззаботным тоном:
– Помочь тебе подняться?
– Да иди ты…
Пегар похохатывает, включает кофемашину и уходит вглубь редакции, беспечно насвистывая, словно хочет показать, что ему море по колено. Там он закрывает за собой дверь.
Через несколько секунд я шепчу Шмитту:
– Путь свободен.
Отворив дверцу, я выхожу в кухню, делаю несколько шагов и… натыкаюсь на табурет. Умм Кульсум прижимает палец к губам, напоминая мне об осторожности, и мы со Шмиттом на цыпочках крадемся к выходу.
Но на пороге стоит девочка с косичками.
– Здравствуй, Офелия.
– Ты с кем разговариваешь? – шепчет Шмитт.
Но я жестом объясняю ему, что все скажу позже.
Офелия изумленно разглядывает Умм Кульсум, лежащую на полу и похожую на кита, который выбросился на берег и задыхается.
– Ты ее знаешь? – спрашиваю я.
Офелия хмурит бровки, почесывает нос, кусает нижнюю губу:
– Не-а…
Потом вдруг, часто замигав, оборачивается ко мне:
– Но я знала ее брата.
Двадцать минут спустя, сидя лицом к лицу за столиком бистро, мы со Шмиттом поглощаем обильный завтрак. Несмотря на то что я выбрал себе место в тени, солнечный свет все еще терзает меня, затуманивая сознание. А головная боль усугубляет эту одурь.
Бистро гудит от возмущенных и скорбных возгласов. Растерянный хозяин бродит между столами, занятый не столько обслуживанием клиентов, сколько обсуждением событий. Все присутствующие растеряны, выбиты из колеи.
Шмитт только что рассказал мне, что в Шарлеруа всю ночь бушевали пожары, вызванные поджогами. И хотя преступники использовали примитивные средства – пивные бутылки, наполненные бензином, – сам выбор объектов говорил об их неумолимой логике: церковь, синагога, светская ассоциация, местное отделение «Amnesty International». Нет никаких сомнений, что действовали исламисты; власти ждут объявления о том, кто берет на себя ответственность за случившееся. К счастью, на сей раз теракты причинили только материальный ущерб; обошлось без человеческих жертв – погибших и раненых нет, если не считать одного пожарного, получившего ожоги во время тушения огня; зато символические потери налицо, и их немало.
Я замечаю, что в зале, вокруг нас, у людей изменились глаза: в них мелькает страх, в них сверкает гнев. Еще недавно жители нашего города смотрели недоверчиво; теперь они смотрят с подозрением на всех и каждого. Если взрыв на площади Карла Второго породил волну братской солидарности, то нынешние события вызвали полное смятение в умах. После первого теракта мои сограждане еще были готовы «сомкнуть ряды», объявляли, что злобным террористам их не запугать, превозносили общечеловеческие и христианские ценности, теперь же идеи мира и согласия забыты напрочь: люди приготовились к войне с коварным и трусливым врагом, способным напасть в любую минуту. Террористы достигли своей цели: они посеяли ужас в сердцах.
Шмитт, насупившись, резким жестом отталкивает тарелку с едой:
– Больше всего нас пугает то, что недоступно нашему пониманию. Страх питается неизвестностью. Вот ты мог себе представить, что парень из Шарлеруа, такой как Хосин Бадави, никогда не выезжавший из Бельгии, способен устроить бойню во имя сражений в Сирии, в Египте и в других странах, которых он и в глаза не видел?! Так как же мне не бояться тех, кто избирает цели для удара таким вот опосредованным образом?! Любой из нас, будь он молодым или старым, христианином, атеистом или мусульманином, добропорядочным гражданином или жуликом, идиотом или гением, рискует стать их жертвой только потому, что он француз или бельгиец. Хуже того, достаточно просто оказаться в таком месте. По чистой случайности. Можешь ты мне объяснить, зачем человек губит себя, лишь бы сгубить окружающих? Почему он так яростно стремится к смерти, а не к жизни? Вот оно – торжество фанатизма, Огюстен. Террор… нам его никогда не понять!
И Шмитт сдавленным голосом продолжает свое мрачное пророчество:
– Настали времена борьбы всех со всеми. Исламисты, посягнувшие этой ночью на христианство, иудаизм и государство, внедрили в наше сознание неистребимую вражду к исламу.
– Но террор – это не только ислам.
– А ты попробуй объяснить это людям! Они теперь услышат только тех, кто кричит громче других, то есть исламистов. Молодцы ребята, хорошо сработали! Наше общество откатится назад к мракобесию и застою, вместо того чтобы гибко приспособиться к нынешней ситуации. Потрясения истекших дней, страх и зрелище страданий буквально раздавили нас. Это начало дороги в ад. На боль не отвечают терпимостью. Во всяком случае, не сразу. Что у нас, что у мусульман люди будут губить себя одинаковым бессмысленным стремлением вернуться назад, создать будущее из прошлого. И эта ностальгия по прошлому обернется большой кровью. Вместо того чтобы взращивать в себе человечность и учиться жить вместе, мы начнем деградировать. Духовная жизнь – единственный путь к мудрости и открытости – станет полем битвы, самоубийственной схваткой религий.
– Но межрелигиозная рознь никогда не сможет уничтожить Бога.
– Зато она вполне способна уничтожить людей. Эра войн заканчивается. В предыдущих тысячелетиях, в средоточии самых страшных жестокостей, в самом сердце хаоса существовал все-таки лучик разума – законы. Законы войны – вот что спасало людское сообщество даже тогда, когда оно опускалось до самых отвратительных деяний. Но отныне нам грозит другая, куда более страшная опасность – без видимых врагов, без всяких правил. Мы достигли той критической точки, после которой гибель человечества станет реальностью.
– Вы имеете в виду то, что возвещено в Библии, – апокалипсис?
– Да. Если мы не откажемся от кровожадных помыслов, то просто-напросто истребим друг друга. А в мире ничто не распространяется так быстро, как жестокость. Она подобна раковой опухоли, которая множит и множит метастазы и новые болезни, продлевая череду мщений, наказаний, репрессий…
– И что же делать? Вступать в переговоры?
– С угрозой апокалипсиса переговоров не ведут.
– Тогда что?
– Наша судьба находится в руках тех, кто пока, увы, держится в стороне, – в руках истинных мусульман. Пусть они откажутся от своих комплексов, восстанут против исламистов, объявят всеобщими духовные ценности, которыми руководствуются представители других религий. И пусть интеллектуалы всего мира, художники, журналисты и прочие, примут участие в этой миссии просвещения. Духовный кризис может быть разрешен только духовными средствами.
Наклонившись к нему, я спрашиваю полушепотом:
– Хотите, я расскажу вам о своей беседе с Богом?
– Ни в коем случае! Ты должен изложить это только письменно. Исключительно письменно.
– Почему?
– Все важное должно пройти через дверь, через единственную, самую узкую дверь, чтобы найти свое истинное выражение. Твоя дверь – письменное повествование. Поведав эту историю устно, ты рискуешь упростить ее, опошлить, то есть погубить.
– Но мне все-таки кажется…
– Книги, о которых я говорил с другими, так и остались ненаписанными. Когда я делился своими проектами романов с близкими, мой рассказ становился кладбищем этих книг незаметно для меня.
– Неужели… до такой степени?
– Те, кто трубит на весь свет о своем намерении писать, никогда не пишут.
И он отпивает кофе из чашки – это уже третья по счету.
– Когда заканчивается твоя стажировка в газете?
– Через двадцать дней.
– И сколько тебе там платят?
Я коротко обрисовываю ему реальную ситуацию: неоплачиваемая стажировка, никаких гарантий дальнейшей работы, полная неопределенность в будущем и материальные проблемы в настоящем. Шмитт ударяет кулаком по столу:
– Я заплачу тебе две тысячи евро, а ты напишешь рассказ о своей встрече с Богом!
– Вы это серьезно?
– Я буду твоим меценатом. Тебе удобно работать у себя дома?
Стоит ли признаваться и в этом? Наверно, стоит: с первой же нашей встречи моя откровенность шла мне только на пользу.
– Я сквоттер.
Шмитт отодвигается вместе со стулом, пристально рассматривает меня и бросает взгляды вокруг, словно ищет одобрения людей, которых здесь нет.
– Тогда вот что: переселяйся-ка на месяц в Германти. В глубине моего сада есть домик, я построил его для друзей. Ты там будешь абсолютно независим, даже еду сможешь себе готовить. Я живу в большом доме, сам по себе; кроме того, мне часто приходится уезжать, так что я тебя не потревожу. А ты – меня. Но сразу предупреждаю: через месяц ты заберешь свой чек и отчалишь. Идет?
Шмитт произносит последние слова намеренно грубо, притворяясь эдаким желчным ворчуном, чтобы скрыть доброту.
Он протягивает мне раскрытую ладонь, и мы ударяем по рукам.
– Спасибо вам!
– Ты меня уже один раз благодарил, и больше повторять незачем. Собирай свои манатки, и встретимся здесь же в восемнадцать часов.
Затем он протягивает мне бумажку в пятьдесят евро:
– Держи, это тебе аванс, в счет заработка.
Я сую деньги в карман, воздержавшись от благодарности, раз уж это его нервирует, и спрашиваю:
– Вы все делаете так же?
– Как – так же?
– Решительно! Я смотрел, как вы убирали сегодня утром в редакции: вы были предельно сосредоточены, словно от этого зависела ваша жизнь.
– Вообще-то, я всегда собран, бдителен и готов к бою. И функционирую только в двух режимах – либо за работой, либо во сне. Даже когда я играю в карты, когда болтаю, перескакивая с пятого на десятое, когда маюсь на скучном спектакле, моя память и мое внимание все равно максимально напряжены.
– Вот и сегодня, с самого утра, вы занимаетесь мной так, будто это вопрос жизни или смерти.
– Все, что происходит на свете, – вопрос жизни или смерти!
И он накрывает мою руку своей широкой, горячей ладонью.
– Наша жизнь может прерваться в любую минуту, Огюстен. Настоящее кажется тебе надежным, но внезапно разлетается вдребезги, как хрупкий бокал. Например, оторвался тромб… Лопнул сосуд… Или кровоизлияние в мозг… Падение с высоты… Бомба… Пьяный за рулем…
– Вы об этом думаете?
– Специально не думаю, зато мои мысли постоянно вертятся вокруг этого.
– Грустно.
– Да нет, это весело, это вдыхает в человека жизнь, заряжает бодростью.
– Значит, не стоит торопиться умереть?
– Стоит торопиться жить. Слишком много людей, которых я любил, ушли из жизни, вот почему ни одна секунда моей жизни не должна пройти даром. Делать как можно лучше, как можно быстрее, как можно больше – вот мой девиз.
Судя по всему, его жизненная энергия родилась из этого стремления; колосс черпает свою энергию из собственной уязвимой хрупкости. Я вспоминаю о женщине с удивленными глазами, о той мертвой, которая сопровождает его и чью историю он мне рассказал. Угадал ли он мои мысли? У него вздулись вены на шее, глаза раздраженно сверкнули, и я чувствую, что он готов меня избить.
– Простите, месье Шмитт, я вас рассердил.
– Я всегда сержусь, когда люди оправдывают меня такого, какой я есть.
Он расплачивается с хозяином бистро.
Надевая плащ, я случайно бросаю взгляд в окно и указываю Шмитту на высокого, худого человека, прислонившегося к дереву метрах в десяти отсюда; он глядит в нашу сторону.
– Вы знаете этого типа?
Шмитт рассеянно смотрит на улицу:
– Где?
– Вон там.
Но человек с узкими серыми глазами уже исчез, наверняка поняв, что его заметили.
– Странно! Сегодня утром, когда мы выходили из редакции, он наблюдал за нами. А теперь оказался здесь! Его узкие глаза почему-то кажутся мне знакомыми. Вчера… И позавчера тоже…
Заинтригованный, Шмитт нагибается, пытаясь сквозь блики оконного стекла разглядеть незнакомца, но тщетно. Тот уже скрылся из виду. Набычившись, он шутливо-зловещим шепотом спрашивает:
– Как думаешь, за кем он следит? За тобой или за мной?
Я не колеблясь отвечаю:
– За мной!
Шмитт поднимает брови, удивленный моей серьезностью, тогда как сам он валял дурака.
– За тобой? Почему?
– Не знаю.
Он усмехается:
– Ты меня разочаровал, Огюстен: я-то считал себя знаменитостью, а следят почему-то за тобой.
Я с улыбкой качаю головой, не смея признаться ему, какая догадка меня мучит. И снова меня прошибает холодный пот.
Кто же он – этот незнакомец с волчьими глазами, которого я встречаю на протяжении двух последних дней?
Уж не мой ли мертвец?
19
Момо сбивает китайских солдатиков на огромном экране. Куча трупов непрерывно растет, кровь брызжет на стекло экрана, но на нем тотчас возникает новый батальон солдат, нетерпеливо рвущихся в бой, где их ждет мгновенная гибель. Момо не знает промаха, он убивает, как дышит.
За его спиной торчит Хосин, настороженный, агрессивный, с беспощадным взглядом, с перекошенным ненавистью ртом. Оправившись от взрыва, он набрал вес, вдвое увеличился в размерах, стал намного ярче и теперь расправляет плечи, как орел – крылья, накрывая младшего своей тенью, – вылитый ангел смерти. Конечно, Момо сам жмет на гашетку, но Хосин науськивает его, беснуется, что-то неслышно вопит, наслаждаясь зрелищем бойни, которую ведет руками брата.
Интересно, осознаёт ли Момо, какую власть имеет над ним жестокий старший брат? Не знаю, не уверен… Но в его спокойствии чувствуется что-то механическое, покорность марионетки, управляемой кукловодом. Я трогаю его за локоть:
– Тебе нравятся эти игры?
Момо вздрагивает от неожиданности и, очнувшись от своего смертоносного исступления, оторопело глядит на меня:
– Раньше я их ненавидел…
Китайцы, не встречая больше препятствий на своем пути, заполонили весь экран и, свирепо оскалившись, идут в атаку. Разъяренный Хосин энергично протестует, а Момо растерянно смотрит на пластмассовый пульт в виде автомата Калашникова, лежащий у него на ладонях.
– Вообще-то, теперь это меня успокаивает…
При этих словах Хосин торжествующе и воинственно размахивает руками, вслед за чем делает непристойный жест в адрес «косоглазых».
Вокруг нас десятки подростков лежат, раскинув ноги, и тоже строчат из пулеметов по целям – кто в русских, кто в динозавров, кто в пиратов или вампиров, а один из них даже обстреливает полк девушек-мажореток, взвизгивая: «Получай, шлюха!», когда подбивает очередную красотку. Видеосалон, с его пурпурными шторами, черными бархатными панелями и зеркалами на потолке, напоминает бордель, каковым он, впрочем, раньше и был, с той лишь разницей, что теперь стоны несутся из компьютеров.
Момо поворачивается ко мне:
– Огюстен, прими меня в свою группу!
– В какую группу?
– Ну, в твою, где и Хосин был.
Я отступаю на шаг. Здрасте, снова-здорово! Вот так я пожинаю плоды собственной трусости… Когда мы с Момо встретились в контейнере, где он искал ноутбук Хосина, я хорохорился, изображая из себя друга его брата-террориста. Да и потом всякий раз, как он задавал мне вопрос, на который у меня не было ответа, я строил многозначительную мину человека, который знает больше, чем может сказать. И таким образом убедил его, что стер всю компрометирующую информацию с жесткого диска, чтобы никого не подвести. Момо, конечно, уцепился за эту гипотезу. Он жалобно спрашивает:
– Ты считаешь, что я еще слишком молод?
Я молча киваю, стараясь выиграть время.
– Но мне уже четырнадцать! Многие начинали раньше.
– Начинали и тут же кончали! В Судане они подрывают себя уже в одиннадцать лет.
– Меня это не пугает. Я готов.
Я заставляю себя держаться спокойно, притворяясь, будто уже много раз вел такие разговоры.
– Что тебя толкает на такие действия?
– Мой брат!
Я гляжу на Хосина, реющего над мальчишкой: он скрестил руки на груди и мерит нас снисходительным взглядом, упиваясь своим превосходством.
– Ты его видишь?
– Кого?
– Ты слышишь брата?
– Чего?! Я тебе говорю про Хосина, он же умер.
– Вот и я о нем.
– Так как же ты хочешь, чтобы я его видел или слышал?
Ага… значит, Момо не сознает присутствия мертвеца, который его сопровождает, и это делает мальчишку податливым, легкоуправляемым. Опыт подсказывает мне, что лучше иметь около себя видимого мертвого, с которым можно что-то обсуждать, даже спорить, чем вот такого – невидимого, который руководит живым, нашептывая ему на ухо, как себя вести.
Я осторожно пытаюсь закамуфлировать свою предыдущую реплику:
– Ну… я думал: может, он является тебе во сне.
– Ой, вот было бы счастье! На самом деле я не очень-то хорошо его знал, Хосина. Сейчас я это понимаю. Вот почему я хочу пройти тот же путь.
Я с жалостью смотрю на подростка, который из любви вступает на дорогу ненависти: он не понимал брата при его жизни и теперь хочет сблизиться с ним, повторив его ошибки.
– Всем на меня наплевать.
– Неправда! Ты дорог своей матери.
– Да она только и умеет, что скулить.
– Она оплакивает Хосина?
– Конечно!
– Значит, ты хочешь, чтобы она оплакивала и тебя тоже? И еще кого-нибудь? Хочешь предоставить ей такую возможность?
Момо опускает голову, – кажется, его проняло. Хосин на своем насесте – братнином плече – беснуется и что-то неслышно выкрикивает ему в затылок. Через полминуты Момо снова заговаривает со мной, глядя куда-то в сторону:
– Я тут начал читать Коран…
– По-французски или по-арабски?
– По-французски. В Интернете.
– Ах, в Интернете! Значит, ты изучаешь только избранные места.
– Ну и что? Все главное я записал. И чем чаще я это повторяю, тем больше проясняется у меня в голове. Мне нужны корни.
– Ладно. Можешь сыграть еще одну партию.
И я сую монетку в щель автомата. Экран просыпается, на нем возникают новые китайцы. Момо хватает автомат и начинает их косить. Его молодое, еще не окрепшее тело вздрагивает от возбуждения, он упивается яростью, вкладывает в эту виртуальную бойню всю свою энергию. Судя по счетчику, он укокошил за пару минут человек триста.
В полном упоении он оборачивается ко мне, гордый своими успехами:
– А ведь я могу сделать то же самое и по жизни, клянусь Аллахом! Дай мне только шанс!
Вот за кого он меня принимает – за вербовщика… За того, кто поможет ему перейти от виртуальной реальности к нашей. За того, кто сделает его супергероем террора.
Я обвожу взглядом зал, рассматриваю подростков, поглощенных игрой, и мне кажется, что передо мной армия сомнамбул. Они вырвались за пределы действительности; бурлящие гормоны приводят их в неистовство, удовольствие от бойни ослепляет, они одержимо строчат из автоматов, расстреливая в упор, убивая, уничтожая людей на экране, о которых ровно ничего не знают.
Меня прохватывает дрожь. Вот где зарождается бесчеловечность – в этом раю виртуальных развлечений. Эти мальчишки действуют так, как мы, взрослые, действуем во сне, – беззаботно, без страха последствий и наказания. Я мысленно благодарю своих неизвестных родителей за то, что оставили меня сиротой и никогда не дарили электронных игрушек. Моими единственными союзниками в борьбе со скукой были только книги.
Момо спрыгивает с возвышения, на котором стрелял.
– Я тебя не подведу. Я заслужу твое доверие.
Его беззаветная преданность приводит меня в оторопь. Из любви и благодарности он готов совершить злодейство. Что делать?
В этот момент я замечаю человека с узкими волчьими глазами; он стоит в глубине зала, прислонившись к флипперу.
Поняв, что я его увидел, он быстро отворачивается и делает вид, будто разговаривает по мобильнику.
Что делать?
Момо хватает меня за руку:
– Теперь я понял, в чем смысл моей жизни!
– Оправдать брата?
– И продолжить то, что он начал.
– Момо, ты ведь знаешь, чем это кончится…
– Я ничего не боюсь.
– Тебе даже умереть не страшно?
– Если моя жизнь послужит правому делу, значит в ней есть смысл.
– А ты не боишься, что придется убивать невинных людей?
– На свете нет невинных! Есть только предатели или герои. И я уже выбрал, на чьей я стороне.
– Тебе кажется, что ты знаешь правила игры, но это уже не игра, Момо. Это реальная жизнь.
– Вот именно. И я хочу ее исправить.
– Нет, ты хочешь ее уничтожить. Потому что она не похожа на ту, о которой ты мечтаешь.
– Я понимаю: ты меня испытываешь, это нормально. Но ты должен относиться ко мне серьезно.
– Скажи, ты молишься?
– Я молюсь, чтобы ты меня услышал. Огюстен, а как твое настоящее имя – имя в джихаде?
Я молча пожимаю плечами: это неизменно производит впечатление на Момо, который и не надеется услышать ответ. Человек с волчьими глазами наблюдает за нами из своего угла.
Момо шепчет:
– Это твоя группа устроила пожары прошлой ночью?
– Конечно нет.
Момо усмехается, глаза у него горят.
– Я так и знал.
– Ты знал? Откуда?
– О, я могу много чего тебе рассказать…
И внезапно этот мрачноватый подросток превращается в ребенка, которым был еще несколько месяцев назад и который сейчас обволакивает меня ласкающим, прямо-таки женским взглядом. Я бормочу, пытаясь найти выход из положения:
– Я уезжаю, Момо.
– Куда?
– Этого я не могу тебе сказать.
– Ты едешь… туда?
Мне даже отвечать не нужно, он и без этого убежден, что я еду в Сирию. Его взгляд грустнеет.
– До чего ж я тебе завидую! А ты скоро вернешься?
– Через месяц.
– А-а-а… слушай, дай мне свой адрес, свою электронку или номер мобилы!
Ничего такого я ему дать не могу, поэтому отвечаю заговорщицким шепотом:
– Лучше ты дай мне свой адрес, Момо, я тебе напишу.
Он буквально захлебывается от радости. И восторженно лепечет:
– О, спасибо… спасибо тебе… Ты правда мне напишешь?
– Клянусь!
Момо не помнит себя от счастья. Мне чудится, что он сразу прибавил с десяток кило. Его глаза сияют.
– Ну а ты, Момо, проинформируешь меня о тех, кто устроил пожары в городе?
– Конечно! Ты сам-то что об этом думаешь?
Я откашливаюсь, прочищая горло и стараясь, чтобы мой голос звучал назидательно:
– Инициатива сама по себе неплохая: горожане паникуют, подозревают друг друга. Но исполнение-то любительское, как будто действовала шайка мальчишек. Если бы бомба твоего брата не взорвалась какое-то время назад, об этих пожарах и говорить бы не стали и никто бы не обделался со страху.
– Ты ожидал чего-то покруче?
– Естественно. Так ты скажешь мне, кто это?
Момо уже открыл было рот, чтобы ответить, но, видимо, внезапно передумал: нахмурившись, он пристально смотрит мне в глаза:
– Скажу… когда ты мне напишешь.
Он нахлобучивает на глаза свой капюшон, сует кулаки в карманы, втягивает голову в плечи и, скользнув между игроками, мгновенно исчезает.
Мой узкоглазый призрак тоже скрылся из виду.
А вокруг меня продолжается виртуальная бойня под хриплые стоны умирающих врагов.
Я покидаю видеосалон.
На тротуаре, привалившись спиной к стене, курит Терлетти, его глаза и волосы темны как ночь. Плащ цвета хаки – его вторая кожа – мог бы многое рассказать о своем владельце: истертый, измятый в долгих ночных бдениях, с замызганным подолом, он тем не менее аккуратно, как военный мундир, застегнут до самого подбородка.
– Ну как, Огюстен, тебе по-прежнему нечего мне сказать?
– Почему же нечего: здравствуйте, месье Терлетти!
Он мусолит свою сигарету, зажатую в уголке рта. Табак временами ярко вспыхивает, и сигарета чернеет, укорачиваясь на глазах. Этот полицейский не курит – он «смолит».
– Я гляжу, ты вожжаешься с подозрительными типами.
– Вы имеете в виду Момо Бадави?
– А может, это он вожжается с подозрительными типами вроде тебя?
Его упорная враждебность непонятна мне и одновременно льстит: значит, он не считает меня ничтожной букашкой, и в его глазах я представляю собой потенциальную опасность. Мне приходит в голову, что это он и установил за мной слежку, и узкоглазый – один из его информаторов. Что ж, я польщен и гордо жду следующего вопроса.
– О чем вы там говорили?
– Он признался, что бросил свой коллеж, а я уговаривал его продолжать учебу.
– Еще о чем?
– О пожарах.
– Ага!
– Надеюсь, вы меня не подозреваете?
– Нет, потому что прошлой ночью ты спал в редакции «Завтра».
Ну, теперь я абсолютно уверен, что узкоглазый – его информатор.
Мимо нас проходит нищенка с пупсом, которого она прижимает к себе так, словно только что кормила его грудью; она пристает к прохожему:
– Месье, пожалуйста, дайте хоть что-нибудь моему ребенку и мне!
Я еще никогда не видел ее при ярком весеннем свете и только теперь обнаруживаю, что ей сильно за шестьдесят. Раздраженный прохожий, за которым она упорно тащится, в конце концов сует ей монету – то ли пожалев, то ли решив избавиться от ее приставаний. Терлетти грубо окликает попрошайку:
– Эй, Жоселина, не пора ли сменить пластинку? Тебе не кажется, что в твоем возрасте поздновато иметь младенцев?
Изумленная Жоселина оглядывает себя, потом розового пупса и твердо отвечает комиссару, помахав монетой в два евро, полученной от прохожего:
– Команду-победительницу с поля не удаляют!
И, злорадно хихикнув, идет прочь. Терлетти пожимает плечами и повторяет свой вопрос, исподволь внимательно наблюдая за мной:
– Так тебе нечего мне сказать?
Оттолкнувшись от стены, он в два коротких движения оказывается в нескольких сантиметрах от меня, слишком близко, чтобы я мог сбежать. Он нависает надо мной, едва не раздавливает. Его мужской запах, смешанный с ядреным запахом табака, проникает в мои легкие, я ощущаю жар этого сухощавого, чуть ли не прижатого ко мне тела. Меня прохватывает дрожь.
– Кто устроил пожары?
– Я не знаю, но…
– Но?
Я колеблюсь. У меня дрожат ноги. Терлетти угрожает мне, как другие обнимают, – на таком же близком расстоянии. Никак не могу решить, продолжать этот разговор или прервать его.
Глаза Терлетти обшаривают меня, ощупывают, пронизывают. Сколько времени я продержусь, не хлопнувшись в обморок? Наконец я лепечу:
– Момо… он знает. Или хвастает, что знает…
– Хм… несовершеннолетний… Нас часто обвиняют, что мы давим на этих сопляков.
– И?..
– Давай-ка выведай у него сам, потом мне расскажешь.
Отступив назад, он вынимает новую сигарету. Закуривает, медленно втягивает в себя дым и, прикрыв глаза, надолго задерживает его в легких. Он даже не скрывает, что наслаждается, так явно смакуя свое удовольствие, что это выглядит почти непристойно.
– Знаешь, Огюстен, ты мне очень нравишься.
Эта фраза поражает меня, как удар в лицо, она до того неуместна, что я, в кои-то веки, забываю о робости и дерзко отвечаю:
– Вот оно что! Интересно, как бы вы себя вели, если бы ненавидели меня? Хотелось бы понять, в чем разница.
Лицо Терлетти омрачает разочарование. Швырнув наземь окурок, как будто он повинен в его неудаче, комиссар пожимает плечами и удаляется. Но перед тем как сесть в машину, не оборачиваясь, бросает мне:
– Жду тебя с новостями.
На другой стороне улицы опять возникает узкоглазый. Но теперь он притворяется, что читает газету.
Шмитт поджидал меня перед бистро «Рыцари».
Перед этим я забрал с завода рюкзак со своим скарбом. Странное смятение владело мной. Я ликовал, подходя к цехам с приятным сознанием, что покончил с бесприютностью и нищетой, однако, начав собирать вещи, вдруг ощутил непонятную тревогу. Пронзительное воронье карканье объяснило мне это чувство: я испытывал страх. Жить целый месяц во флигеле замка, зарабатывать деньги – вот что меня угнетало. Мусор, пыль, сырость, улюлюканье диких птиц – все это было знакомо, привычно и понятно. А там… в Германти? Понравится ли мне новая обстановка? Смогу ли я жить в этой непривычной роскоши?
И пока я карабкался на стену, покидая территорию заброшенного завода, меня не оставляло ощущение, что он, как старый друг, провожает меня, прощается со мной, не удерживая, а только с достоинством шепча: «Ты уходишь, и это нормально; я мало что мог тебе предложить». Перед тем как спрыгнуть в контейнер, я задержался и глянул назад: по правде говоря, я был богачом, когда жил здесь, ведь завод так радушно оказал мне гостеприимство, подарив три огромных корпуса, мастерские, пристройки, разоренный двор, колодец, заросший сорняками. Никто не претендовал на это богатство, и ничто мне здесь не принадлежало, а значит, все это было мое. Я делил свои владения только с несколькими боязливыми грызунами и домовитыми пауками, а снующие взад-вперед птицы почти не мешали нам.
В автобусе, который вез меня к заводу, а потом обратно в город, сероглазый незнакомец держался на почтительном расстоянии. Вот и сейчас, на бульваре Шарлеруа, он идет за нами примерно в полусотне метров. Я указываю на него Шмитту:
– Вы видите вон того человека?
– Нет.
– Как – нет?
Обернувшись, я констатирую, что он исчез, – наверно, юркнул в боковую аллею.
– Мне кажется, что он из полиции и следит за мной.
Шмитт бледнеет и пристально смотрит на меня:
– А с чего это полиция организовала за тобой слежку?
– Меня подозревают в принадлежности к террористической организации.
Успокоенный Шмитт пожимает плечами: эта идея кажется ему нелепой. Судя по выражению его лица, он полностью исключает эту гипотезу – разве я могу быть террористом?! А собственно, почему он в этом так убежден? В конце концов, он меня совсем не знает и мог бы опасаться. Его уверенность в том, что я безобиден, где-то даже уязвляет меня…
– Вы считаете возможной мою принадлежность к терроризму?
– О нет!
– Почему?
– Потому что ты задаешь себе вопросы, размышляешь. А у террористов вопросов нет, у них есть одни ответы.
– Но ведь есть и умные террористы.
– Абсолютная вера требует не ума, а волевых качеств. Она служит средством не познания мира, а внедрения в мир. Фанатик всегда сталкивается с поводами для сомнения, но он не желает сомневаться. Он так уверенно предпочитает свой воображаемый мир реальной жизни, что очищает эту реальность с помощью «калашникова», как только она вступает в противоречие с его верой. Тогда как ты ищешь истину, а не претендуешь на истину в последней инстанции…
– Ну, спасибо за доверие.
Шмитт разражается хохотом:
– Лучше благодари меня не за доверие, а за тщеславие: я даже представить себе не могу, что парень, который так старательно и пристрастно изучал мои книги, вдруг окажется тупицей!
Я тоже смеюсь и добавляю:
– Если б вы знали, что мне сказал по этому поводу Бог…
– Молчок! Ни слова! Я желаю это прочесть, а не услышать.
И он кивком указывает мне на соглядатая, вынырнувшего из своего укрытия.
– Слушай, ты, наверно, мечтаешь оторваться от него, от этого топтуна?
– Я не решался вас об этом попросить.
– Здорово! Я никогда еще не занимался этим в жизни – только в своих книгах.
Он с минуту размышляет, потом его лицо проясняется, и он посылает эсэмэску своему шоферу. Затем ведет меня дальше. Узкоглазый крадется сзади, метрах в двадцати.
Мы подходим к театру.
– Сюда!
Мы быстро ныряем в вестибюль, Шмитт обнимает кассиршу, напоминает ей, какие его пьесы игрались в этом театре, и говорит, что хочет повидаться с постановщиком Жераром.
– Давайте я его позову! – предлагает кассирша.
– Не надо, я знаю дорогу.
Он тащит меня за кулисы, в темные недра театра, мы проходим через какие-то тамбуры, по каким-то коридорам, и наконец Шмитт толкает железную противопожарную дверь.
Ослепительный дневной свет бьет мне в глаза, я зажмуриваюсь.
– Алле-гоп! Артистический выход!
И Шмитт указывает на ожидающий нас автомобиль. Мы торопливо усаживаемся, и шофер жмет на газ. Несколько минут спустя машина уже мирно катит по сельской дороге, и позади – никакой слежки.
– Вот так так! – восклицает Шмитт. – Я даже разочарован – слишком легко все прошло.
– Похоже, вас это забавляет.
Он удивленно смотрит на меня:
– Ну конечно забавляет. Меня все забавляет. – И говорит, вздыхая и улыбаясь одновременно: – Жизнь – это трагедия, и сначала нужно прожить ее как комедию.
20
По газону носятся собаки, вырывая друг у друга старый футбольный мяч. Стремительные, неукротимые, они делают вид, будто дерутся из-за него, но в их прыжках, беготне, борьбе, уловках, тявканье или сердитом рычании сквозит чистая радость; это скорее игра, чем соревнование, и удовольствие не в том, чтобы победить, а в том, чтобы повеселиться. Рододендроны по краям лужайки тянутся вверх, простирая к бледному небу свои розовые, белые и сиреневые цветы, а вишневое деревце щедро усеивает землю желтовато-белыми лепестками. Весна в Валлонии уже на подходе, хотя солнце греет пока еще робко.
Присев на корточки у края газона, Шмитт со смехом подзадоривает своих псов, радуясь их радости. И в этот момент для него больше ничего не существует.
Созерцая эту мирную, идиллическую картину из окошка своего флигеля, я чувствую, как мне тошно. Вот уже две недели меня точит душевная боль, и чем дальше, тем она острее. Я никому не признаюсь в этом и, раздираемый множеством сожалений, веду двойную жизнь. С одной стороны, я выполняю миссию, которой облек меня Шмитт, – описываю свою встречу с Великим Глазом, наслаждаясь комфортом в домике моего гостеприимного хозяина; с другой – веду тайную переписку с Момо, которая постепенно принимает опасный оборот. И в каждой из этих двух жизней я умалчиваю о другой.
При этом я не кажусь себе лицемером, – скорее, я разделился на двух Огюстенов: один из них пишет философский трактат, за который получит плату, другой притворяется террористом, чтобы завоевать доверие Момо и проследить за его путем к экстремизму, шаг за шагом.
Я раздваиваюсь. Разрезаю себя пополам. Какой-то кинжал рассекает мое тело надвое, так же как душу. Я искренен в той же мере, в какой противоречив.
Шмитт сказал, что не будет беспокоить меня, и сдержал обещание. Он постоянно разъезжает по свету, а вернувшись в свой сельский замок, уединяется в донжоне, чтобы закончить очередной роман. И чем больше я с ним вижусь, тем меньше понимаю. Он как горизонт – отступает по мере того, как к нему приближаешься.
Вчера я поделился с ним этим соображением, уточнив, что это не комплимент и не критика, а всего лишь диагноз, и он ответил мне просто, без всякой обиды:
– А как вы можете узнать человека, который сам себя не знает и не стремится узнать?!
– Однако Сократ советовал: «Познай самого себя».
– Сократ считал себя философом, а не романистом или драматургом. Мне мало меня самого, я почитаю других людей, и они интересуют меня куда больше, чем собственная персона. А моя ценность лишь в моих умолчаниях, в моих взглядах, в моей скрытности. Стена с тысячами распахнутых дверей – это уже не стена.
Когда Шмитт не посвящал свое время падчерице Майе – хорошенькой двадцатилетней девушке, которая пересдавала экзамены в Школе политических наук, – он обучал меня литературному мастерству.
– Я взял себе за образец Платона, месье Шмитт.
– Почему?
– Ему лучше всех других удавались философские диалоги.
– А Дидро? А Беркли?
– Нет, я должен писать в духе Платона.
– Да ты сперва определись с самим собой! Человек становится таким писателем, каким ему суждено быть, а не тем, каким он решил стать. Смотри не ошибись. И главное – не спеши. Если в тебе живет писатель, он терпеливо дождется нужного момента и возникнет на кончике твоего пера – свежий, нетронутый – после тысяч фраз, которые приведут тебя к цели, может и окольными, долгими путями, но приведут обязательно.
Наряду со страницами, которые я писал и переписывал, я пользовался «компьютером для гостей», сделав его инструментом своей двойной жизни. В первый же вечер я создал себе электронный адрес и уже на следующее утро, не устояв от соблазна, послал письмо Момо. Он ответил буквально через секунду. И как обычно, стал делиться со мной мыслями, проектами, действиями, которыми заполнял пустоту в мое отсутствие, подкрепляя версию моей тайной жизни. Он был уверен, что я уже в Сирии и разрабатываю планы новых терактов. Из душевной слабости и лени, а также из любопытства я позволил ему фантазировать на эту тему. Хуже того – послал косвенное подтверждение в виде двух снимков, скачанных из Интернета; на одном была видна голая комната, похожая на монашескую келью, на другом – пустыня. Сам не знаю, что меня побуждало уделять внимание его бредням. Вот так, например, я обнаружил, что он упивается садистскими фильмами, восхваляющими пытки и убийства, совершаемые во имя Аллаха; что он с рассвета до полуночи сидит в Интернете, на форумах экстремистов, обмениваясь своими новыми убеждениями с единомышленниками. Образно говоря, мальчишка просверлил дыру в стене своей комнатки, дабы общаться с такими же одиночками, как он сам, по всему миру; отныне они образовали международное сообщество. Что до меня, то я теперь играл особую роль в этой новой виртуальной географии, роль старшего брата, наставника, которого он хотел поразить своими успехами.
Почему я ввязался в эту заваруху? Была ли это ложь или одна из моих правд? Мне чудилось, что я рассыпаюсь, распадаюсь на частицы, разлетаюсь во все стороны. И в каждой из этих сторон во мне вспыхивает сопереживание, и я веду разговор с каждым собеседником на его языке: со Шмиттом говорю на одном, с Пуатрено – на другом, с Терлетти – на третьем, с Момо – на четвертом. Почему? Что нас связывает? Неужели я так жажду нравиться каждому из них? Неужели мне так не хватает их одобрения? Может, я просто самовлюбленный дурак?..
Время от времени я заставлял себя здраво оценить собственное поведение и почти преуспевал в этом, внушая себе, что честно работаю на Пуатрено, Шмитта и Терлетти, уступив своей страсти к расследованиям. Однако тут же осознавал зыбкость своих оправданий – все они принадлежали к области разума, а я руководствовался не только им; еще какой-то импульс, глубинный, слепой, мощный, неодолимый, толкал меня к оправданию жестокости Момо. И если в своих первых письмах я пытался умерить ярость мальчишки, то теперь, забыв о сдержанности, позволял ему изливать свою ненависть.
Так кто же говорит во мне? Кто действует во мне?
Эти вопросы, которые Шмитт задавал себе во время нашей встречи в кафе, теперь мучают и меня. Кто пишет, когда я пишу? Ему-то теперь все ясно: он живет в обществе своих мертвецов, избранных мертвецов, которые вдохновляют его, критикуют, тормошат, направляют, дабы внедриться в мир живых. Ну а со мной как? Дважды я ждал – а может, боялся – встречи с моим мертвецом: первый раз со стариком в больнице, второй – с узкоглазым человеком; увы, оба они принадлежат к банальной действительности. Не знаю, что заставляет меня стремиться к тем, кого я не понимаю, – к писателю, к Богу, к Великому Глазу, к подростку-фанатику. Что понуждает непрерывно анализировать, а не жить как живется?
Шмитт подходит к моему домику, вокруг него носятся собаки. Я выхожу к нему навстречу.
Увидев меня, маленькая Дафна приносит мне мяч, чтобы я принял участие в их игре. Но я не реагирую, я еще не привык к этим бурным забавам.
Шмитт выхватывает у нее мяч, чтобы продолжить собачий чемпионат, а сам осведомляется, как мои дела. Я не посвящаю его в свои душевные терзания, а начинаю рассуждать о муках творчества и признаюсь, что мне не терпится завершить мое повествование о беседе с Великим Глазом.
– Ты не хочешь писать, Огюстен, ты хочешь покончить с этой писаниной.
Собаки прыгают все выше и выше, стараясь ухватить мяч, который он держит в поднятой руке. И внезапно я осознаю, что связывает эту троицу четвероногих с этим двуногим – радость бытия. Даже когда я вижу его за письменным столом, он улыбается – внимательный, счастливый, сосредоточенный, всецело поглощенный своей задачей, – ну вылитый пес, бегущий за мячом.
– Никогда ничего не делай с желанием поскорей закончить; делай это, просто чтобы делать. Люди из кожи вон лезут, трудясь ради будущего, и никогда – ради настоящего. Они только готовятся жить, а не наслаждаются своей нынешней жизнью. Запомни: ты пишешь свой рассказ здесь и сейчас, а не тогда, когда он будет закончен.
– Мне страшно.
– Браво, так и надо!
– Неужели вам тоже бывает страшно?
– Бывает – когда мне хорошо работается. А когда плохо, я не чувствую никакого страха.
– Не понял?
– Творчество рождается из равновесия страха и мастерства. Если ты слишком боишься, тебе ничего не удастся создать. Если ты слишком хорошо владеешь мастерством, то никакая опасность тебе не грозит, но из-под твоего пера не выйдет ничего путного.
– Но ведь мастерство со временем оттачивается. Мне кажется, сегодня вы чувствуете себя гораздо увереннее, чем вчера.
– Вот тут-то и кроется ловушка… Именно поэтому некоторые творческие личности топчутся на месте, а то и деградируют, притом что блестяще владеют техникой в своей области. И вот они усердно сочиняют книгу за книгой, не испытывая при этом священного трепета. А те, кто опирается на свое растущее мастерство, не боясь при этом растущего страха, рискуют вдвое больше, но зато им-то и уготованы приятные сюрпризы. Я прекращу писать, как только перестану дрожать от страха. Ну а что у тебя?
– В который раз выбросил очередной вариант. Не могу овладеть сюжетом.
– И прекрасно! Бойся сюжетов, которыми можно овладеть. Пусть лучше они довлеют над тобой. Чем дальше я продвигаюсь в работе, тем меньше понимаю, кто во мне пишет, когда я пишу. Мне пишется помимо меня.
Я вздрагиваю. Безумно хочется выложить ему все, что меня терзает, – мои смятенные мысли, мою раздвоенность, какие-то непонятные силы, побуждающие меня сближаться с ним и одновременно поддерживать смертоносную дружбу с юным фанатиком.
Шмитт внимательно смотрит на меня, его лицо подергивается от нервного тика.
– Не бойся, Огюстен, ты – полон. Твое лицо, твое молчание – все в тебе ясно свидетельствует о том, что в твоей голове кипят тысячи мыслей, и когда-нибудь они вырвутся на свет божий.
С этими словами он покидает меня и направляется к Майе, которая штудирует свои учебники по юриспруденции, жарясь на солнышке.
«Теперь я могу тебе сказать: пожары в Шарлеруа устроил я!»
Так я и думал. Вздохнув, я посылаю в ответ одно короткое слово:
«Все?»
Момо тут же отвечает:
«Все. Я гонял на мотороллере из конца в конец, и никто меня не заподозрил».
«Как же ты вывел из строя камеры наблюдения?»
«Очень просто: бросил клич на „Фейсбуке“: „Операция Свобода“. Наши ребята среагировали все как один. Тех, кто разбил камеры, потом замела полиция. Всех… но не меня!»
«Хитро придумано!»
«Я знаю: ты считаешь меня любителем, молокососом. Но это придало мне храбрости. Теперь я готовлю кое-что получше. Намного, намного лучше. Шикарное будет представление!»
На это я не отвечаю: пускай помучится – может, захочет рассказать мне все поподробнее. А в качестве наживки коротко пишу ему:
«На обратном пути, между двумя рейсами. Позвоню, как только смогу. До связи».
И закрываю ноутбук. Стоит ли проинформировать Терлетти? Ответ напрашивается сам собой, но я решаю его игнорировать. Терлетти подождет. Нечего сажать за решетку невиновных…
Проходя мимо музыкального центра, ставлю диск с песнями Умм Кульсум – другой, настоящей, – я начал ее слушать после ухода из газеты. На фоне пения скрипок с их вкрадчивыми пиццикато ее голос, гибкий, густой, ласкающий, течет медовой струей, играет тысячами оттенков. Умм Кульсум не просто поет – она трогает мое сердце, ласкает нежно, как мать, как сестра, как возлюбленная. Мои заботы бесследно растворяются в этих тягучих мелодиях, тело становится моим лучшим другом. Я погружаюсь в сладостное небытие на волнах этой музыки.
И вдруг до меня доносятся какие-то дробные, сухие, четкие удары.
Откуда они, эти звуки? Может, это потрескивают потолочные балки, которые грызет жучок-древоточец? Убавив громкость звука, я поднимаю глаза к потолку в поисках трещин, трухи. Нет ничего. А удары звучат все чаще.
Прислушавшись, я определяю, что шум идет со стороны окна, выходящего на улицу.
Выглядываю из него и вижу на дороге за стеной следователя Пуатрено в сопровождении верного Мешена, которая бросает в оконо мелкие камешки.
В полном изумлении я распахиваю створки. Как она меня нашла?
Пуатрено кричит:
– Ну слава богу, наконец-то! Открывай, надо поговорить.
– Я не имею права принимать здесь гостей. Так я обещал своему хозяину.
В этот момент из ворот замка, в полусотне метров от нас, выезжает черная машина, увозящая куда-то Шмитта и Майю.
Следователь Пуатрено пожимает плечами:
– Ну и кто ему донесет?
– Странные у вас все-таки методы…
– Тебе ли жаловаться?! Может, ты предпочитаешь, чтобы я вызвала тебя к себе в кабинет?
– Ладно, иду.
Спускаюсь и отпираю калитку для прислуги. Следователь Пуатрено тотчас проскальзывает внутрь и кричит своему помощнику:
– Мешен, а вы сидите в кафе, пока я не позову.
– Слушаюсь, госпожа следователь.
Она глядит, как он бредет по дороге – неуклюжий, прихрамывающий, суетливый, – и у нее вырывается:
– Вот бедняга…
– Вы с ним плохо обращаетесь.
– Я?
– Не поручаете ему ничего интересного.
– Этому разгильдяю? Это все равно что спрашивать у коровы таблицу умножения!
– Вы сравниваете его с коровой? Не очень-то любезно.
– Ты прав: корова хотя бы умеет давать молоко.
– А тогда зачем вы требуете, чтобы он вас везде сопровождал?
– Да ничего я не требую. Он сам ходит за мной по пятам – видимо, думает, что в этом и состоит его работа. Ладно, не будем терять даром время, я сюда приехала не для того, чтобы рассуждать о Мешене. Где бы нам расположиться?
Я веду ее в тот уголок сада, где стоит мой домик с мансардой, состоящий из спальни, кабинета, душевой и кухоньки.
– Да это настоящий Версаль! – восхищается Пуатрено.
Она разглядывает книги на полках, подобранные Шмиттом, и удивленно констатирует:
– Надо же, сам – писатель, а читает книги других авторов!
– Естественно.
– Нет, совсем даже не естественно. Это все равно что бык, который питается бифштексами.
Но я раздражен ее бесцеремонным вторжением и первым делом хочу выяснить, как это ей удалось.
– Откуда вы узнали, что я здесь живу?
– А кем я, по-твоему, работаю, мой милый? Может, торгую пирожными с кремом?
– Это Терлетти вас проинформировал?
– Я знаю много такого, о чем Терлетти и понятия не имеет. Для того чтобы сделать карьеру, недостаточно шерсти на теле да избытка гормонов…
И она начинает подпевать Умм Кульсум, кстати довольно-таки фальшиво. Потом указывает мне на конверт:
– Значит, тебе она тоже нравится? И когда же ты ее открыл для себя?
– В редакции. Вообще-то, там работает некий Робер Пеетерс, который принимает себя за Умм Кульсум.
– Чокнутая?
– Скорее, чокнутый. На самом деле я к ней очень хорошо относился.
– Робер Пеетерс… Робер Пеетерс… Погоди-ка… Это имя мне о чем-то говорит…
Она раздумывает, покусывая губу, и вдруг восклицает:
– Ну конечно! Робер Пеетерс, которого Пегар нанял присматривать за своим бассейном в саду. Мерзавец Пегар жил тогда вдвоем со своей дочерью, и именно этот Робер Пеетерс нашел девочку в бассейне утонувшей.
Я в изумлении приваливаюсь к стене; теперь мне ясно, какая тайна связывает Умм Кульсум с Пегаром. И я спрашиваю, стараясь говорить безразличным тоном:
– Кажется, он заявил, что в тот день Пегара не было дома?
– На самом деле он просто подтвердил показания самого мерзавца.
Так вот почему Пегар прощает Умм Кульсум все ее пороки и недостатки: он боится, что она когда-нибудь разоблачит его ложь, расскажет о том, что Пегар был дома, и это станет еще одним доказательством его полного равнодушия к дочери. Если не хуже…
Следователь Пуатрено выключает музыку и, не спрашивая разрешения, плюхается на мою кровать.
– Так как идет твое расследование по поводу жестокости? То есть мое расследование, которое ты ведешь для меня… Ты все же попробовал тот наркотик? Встретился с Богом? Ну-ка, давай докладывай!
– Шмитт запретил мне говорить об этом; он требует, чтобы я все записал.
– Тогда гони свои записи, все, что ты успел…
– Нет, мне нужно время на правку, я…
– Плевать я хотела на твою правку! Вольтера или Пруста ты будешь изображать из себя в другое время! А я хочу знать, как Бог оправдывает ужасы, на которые сам же и толкает людей, а они творят их от Его имени.
Я протягиваю ей черновик записи своей беседы с Великим Глазом.
Следователь Пуатрено открывает сумку и вынимает очки, а заодно сиреневый пакетик.
– Хочешь?
– Нет, спасибо.
– И ты прав! Это такая мерзость! От них несет фиалками, как от моего лака для волос. Когда я их сосу, мне кажется, что у меня во рту расческа. Гадость тошнотная…
Она выхватывает из пакетика два леденца, сует их за левую щеку и погружается в чтение. От фразы к фразе у нее то расширяются зрачки, то морщится нос, то сжимаются губы, но все это по очереди: ее круглое плоское лицо не способно отражать смешанные чувства, на нем читается только одно, как на личике куклы.
Проходит полчаса; следователь Пуатрено откладывает на кровать последнюю страницу, вздыхает и смотрит на меня.
– Когда я читаю Божьи рассуждения, я становлюсь атеисткой. Хотя нет, я попросту отказываю такому Богу в существовании.
– Бог такой, какой Он есть, а не такой, каким вы Его себе представляете.
– А зачем Он вообще нужен, этот Бог, если человек свободен? Мы прекрасно обошлись бы без Него.
Она достает из сумки щетку и задумчиво приглаживает волосы.
– А Он действительно такой?
– Мне показался именно таким.
– Знаешь, я разочарована. Мне-то Он мерещился всемогущим. А Он отказался от своей власти, сделав нас свободными.
– Те, кто разочарован в Боге, на самом деле разочарованы в человеке. Провозглашая Бога всемогущим, они отказывают человеку в праве на свободу.
– И все равно мы стали ошибкой в Его проекте.
– Напротив, мы – результат самого рискованного эксперимента, на который Он пошел.
– Бесполезный риск… Без нас у Него все шло как по маслу, само собой. А мы, люди, можем взорвать этот мир к чертовой матери. Для чего же Он совершил такую глупость – оставил нам эту лазейку, эту незаделанную брешь в своем творении?
– Наверно, для того, чтобы не заскучать. Мы Его развлекаем.
Пуатрено фыркает:
– Вот тут я с тобой согласна. Если бы Бог создал идеальный мир, Ему стало бы так же скучно, как нам – при виде надежных швейцарских часов. Нет, я все-таки продолжаю стоять на своем: такого Бога мне не надо. Предпочитаю атеизм.
И она протягивает мне мои записи:
– На, держи свой трактат о жестокости.
– Но вы же…
– Спасибо, я приму его к сведению. Бог проиграл, а ты выиграл: теперь я буду искать виновных только среди людей.
– Так ли?
– Именно так. И другой мой вывод: я больше не желаю слушать о Боге, о Божественных посланиях и о религиях. Если уж все должен решать человек, пускай Бог заткнется, а человек наплюет на Него. Я считаю, что пора положить конец всем этим старым сказкам и забыть о так называемых таинствах. Если человек грешит сам по себе, если человек карает сам по себе, значит мне вполне хватит атеизма и людского правосудия. А Бог никому не нужен. Больше того, Его следовало бы просто запретить.
– Что?! Вы ратуете за принудительный атеизм?
– Да! Принудительный атеизм – вот решение проблемы.
– Принудительный атеизм – такая же глупая затея, как обязательное христианство или вынужденный ислам. Вы рассуждаете как типичный фанатик, мадам Пуатрено: вы силой навязываете свои убеждения.
– Атеизм подразумевает не веру, а неверие. Он не прибегает к Божьим заповедям и обязанностям, которые мы должны выполнять, напротив – повелевает нам выпутываться самостоятельно.
– Бог тоже возлагает на нас эту обязанность, но Он, по крайней мере, вдохновляет нас, застает врасплох, поучает, удивляет. У нас не останется ничего святого, если мы откажемся верить в Бога. Лично мне нравится думать, что мы не так уж и хороши, не так могущественны, не так гениальны, как хотелось бы. Нравится, что мы часто отстаем от жизни, не понимаем ее. Нравится наше убожество.
Складывая исписанные листки рядом с компьютером, я замечаю новое послание от Момо. Борюсь с желанием прочитать его.
Следователь Пуатрено пристально смотрит на меня:
– Ты что-то скрываешь от меня, Огюстен?
Я молчу и прячу глаза.
Она настойчиво повторяет:
– Ты скрываешь от меня что-то важное!
Подняв голову, я умоляюще прошу ее:
– Потерпите немного! Скоро я вам все расскажу.
Убедившись в моей искренности, она медленно кивает, встает и подходит к окну.
– Ты только глянь: этот бедняга Мешен уже топчется на улице. Прямо смотреть жалко! Ты заметил, что у него вид беззащитной жертвы, у этого дурачка? И вечно он ходит промокший. Если я задержусь еще на несколько минут, он вызовет ливень на свою голову. Вот единственный человек, способный попасть под проливной дождь в самом сердце Сахары.
И она треплет меня по щеке:
– До скорого, Огюстен. Буду ждать, когда ты откроешь мне свой секрет.
Оставшись один, я бросаюсь к компьютеру и жадно читаю письмо от Момо:
«Теперь все на мази. Бум завтра вечером».
Со времени визита Пуатрено прошло четыре часа, и все это время я боролся с неподдающимися фразами. На письмо Момо я ответил сразу же: «Что на мази? Что произойдет завтра вечером?» Ответа не было. Неотвратимая опасность – или соблазн опасности – не дает мне покоя, мешает сосредоточиться.
Надо бы поговорить со Шмиттом, но он, вернувшись домой, заперся у себя и работает, не обращая внимания даже на Майю, которая сменила свою юриспруденцию на бассейн. К своему стыду, я плохо распоряжаюсь временем, которое мне сейчас отпущено на размышления. До сих пор необходимость выживать не оставляла мне возможности раздумывать о жизни. Но с того дня, как я живу в домике при замке, у меня полно свободного времени – думай сколько влезет! А что в результате? Ничто не проясняется, все темно и непонятно.
В семь часов вечера, когда закатное небо позолотило крепостную стену, а камни замка начали отдавать дневное тепло, Шмитт пересек сад и постучал в дверь флигеля.
Он озабоченно хмурился и бесцельно бродил по комнате, не находя себе места, не глядя мне в глаза. Я его не узнавал, он был сам на себя не похож. Наконец он указал мне на стул и сел напротив.
– Огюстен, мне сегодня пришлось пережить несколько очень неприятных минут. Днем меня вызвали в полицию и расспрашивали о тебе.
Я виновато опустил голову: ну вот, я так и думал, что мое пребывание в его доме скверно кончится.
Нижнюю губу Шмитта подергивал нервный тик. Он продолжал суровым тоном, которым хотел прикрыть волнение:
– Полицейским стало известно, что мы с тобой встречались. Они узнали это из статьи в газете «Завтра», а также от человека, который за тобой следил и от которого мы сбежали. Они не сразу явились ко мне сюда, потому что искали меня в Брюсселе, а потом в Париже.
– И теперь они ждут меня здесь, у вас?
– Я подтвердил им, что мы с тобой виделись, что я оценил твои способности, но скрыл, что ты живешь в Германти.
– Спасибо.
– И они убрались.
– Уф!..
– А теперь собирай свои вещи и немедленно уезжай отсюда.
– Но… как же…
– До сих пор я обманывал полицейских. Но через несколько минут я буду вынужден сказать им правду. Сделай это ради меня, Огюстен, прошу тебя!
С этими словами он бросил мне на колени конверт.
– Держи, вот обещанные деньги. Я рассчитываю на тебя, ты ведь отдашь мне текст?
– Клянусь!
– И никогда не рассказывай им, Огюстен, что ты здесь жил. Я не хочу, чтобы меня обвинили в лжесвидетельстве и в том, что я помешал полицейскому расследованию.
– Я и в этом вам клянусь, жизнью клянусь! Верьте мне!
– Верить…
Он встал и тяжелой поступью направился к выходу.
Я так стремился убедить его в своей невиновности, что вскричал:
– Вот что, я сам к ним пойду! Если полицейские хотят меня допросить, я не стану прятаться.
Шмитт потер лоб:
– Они приходили не для того, чтобы допрашивать тебя, Огюстен. А для того, чтобы арестовать.
– Что?!
У меня задрожали ноги, взмокла от пота спина. Я беспомощно осел на стуле, как будто мне подрезали связки и жилы.
Шмитт продолжал убитым голосом:
– Они сообщили мне, что в полицию позвонили люди, которые услышали подозрительные звуки, похожие на взрывы. В результате полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где террористы изготавливали кустарным способом бомбы и пояса со взрывчаткой. И еще… еще там нашли твои следы.
– Какие следы?
– Отпечатки пальцев и образцы твоей ДНК.
– Но этого не может быть!
– Полиция не стала бы лгать в такой серьезной ситуации.
– И все равно не верю! Где она – эта подпольная лаборатория?
– На заброшенном заводе… заводе крепежных изделий.
21
Двадцать часов тридцать минут.
Действие разворачивается, как во сне. Мы с Момо прячемся в подвале театра, терпеливо ожидая момента, когда деревянная платформа поднимет нас на уровень сцены. Три брикета динамита, прибинтованные к моему животу и готовые к взрыву, стесняют мне дыхание, но терпеть осталось недолго. Момо обливается по́том, его штаны потемнели от мочи; он то и дело ощупывает, как и я, свой пояс смертника, который делает его толстяком. Мы лихорадочно переглядываемся, и наши сердца бьются так неистово, что мне чудится, их слышно снаружи.
Сверху до нас доносится веселый галдеж ребятишек в зале – возбужденные крики, радостный смех и визг. Родители и учителя стараются навести порядок, но без лишней строгости: все-таки у детей праздник.
У меня в руке зажато устройство, соединенное с проводком, – детонатор.
Сколько времени мне осталось жить?
Этот день не походил ни на какой другой.
Вчера, покидая дом Шмитта, я улучил свободную минутку и написал Момо:
«Вернулся из Сирии. Встреча завтра в девять перед видеосалоном».
Продрожав всю ночь на скамейке за вокзалом, я встретился с Момо, который ждал меня в назначенном месте. Что же случилось? Увидев его бледную мордашку и воспаленные веки, я почувствовал, как во мне поднялась искренняя радость, смешанная с братской нежностью, жалостью и отчаянием. Нам обоим хотелось обняться, так мы были счастливы увидеться вновь, но удержала стеснительность. Зато все эти чувства отражались в наших глазах.
– Ты мне расскажешь про Сирию, Огюстен?
– Конечно нет.
Улыбка.
– Ну а ты что тут напридумывал?
В нескольких словах Момо рассказал, что произвел несколько опытных взрывов. В Интернете он отыскал нужные технические инструкции, а благодаря хулиганью со своей улицы раздобыл необходимые материалы, в общем, преодолел все трудности.
– И где же ты спрятался, чтобы проделать свои опыты?
– Недалеко от контейнера, где мы с тобой встретились. На заводе за стеной. Там никто не бывает.
И он объяснил мне, для чего послужат его бомбы: он решил взорвать зрительный зал театра «Граммон».
– Сегодня вечером там соберется человек восемьсот – малышня, подростки, их родители и учителя. Самый подходящий случай!
– Но ведь там будут и мусульмане?
– Евреи, христиане, атеисты.
– И мусульмане!
– А мне плевать. Это плохие мусульмане. Они не заслуживают жизни. Все равно я ненавижу их, всех до одного!
И вот именно в этот момент я услышал собственный голос:
– Я пойду с тобой.
Сидя в самом укромном уголке кафе, с рюкзаком у ног, я пишу, одновременно держа в поле зрения клиентов и прохожих за окном, из страха, что сюда может ворваться Терлетти или другие полицейские. Я не забыл, что меня ищут и тут же загребут, стоит мне попасться им на глаза… Отныне время потекло в обратную сторону: оно убывает, вместо того чтобы расти; я измеряю его с учетом предстоящей катастрофы – либо моего ареста, либо взрыва, назначенного на этот вечер. Я пленник этого обратного отсчета и ясно сознаю, что пользуюсь последними минутами свободы; устав писать, я прерываюсь и с удовольствием поедаю мясные тефтели с томатным соусом – самое простое и популярное блюдо в Бельгии, идеальный ужин приговоренного к смерти.
Иногда моя рука, подносящая вилку ко рту, дрожит.
Что мне делать?
В голове у меня только одна картина: я вижу нас обоих, Момо и себя, затаившимися в макете слоеного торта с кремом – эдакая начинка из людской плоти и взрывчатки, с детонаторами в руках. Вот оно – мое будущее!
Еще совсем недавно, когда я несколько раз повторил Момо, что пойду вместе с ним, если он раздобудет мне пояс смертника, парень бросился меня обнимать, да так крепко, что чуть не задушил. Его грудь судорожно вздрагивала; я почувствовал, что он еле сдерживает рыдания. Внезапно он отступил и протянул мне руку. Пройдя несколько улиц, мы нашли интернет-кафе и выбрали ноутбук. Момо достал из кармана флешку и сунул ее в гнездо.
На экране возникло изображение: ребятишки, радостно бегающие по зрительному залу. Момо нажал на клавишу, и кадры замелькали в ускоренном темпе. Начался любительский спектакль, скетчи сменяли друг друга. Внезапно дети, участники спектакля, сошлись в единую группу посреди сцены и запели поздравительный гимн, и тогда снизу, из люка, выплыл макет огромного многослойного розового торта, не меньше трех метров в высоту. Детишки восторженно зааплодировали и снова затянули «Happy Birthday».
Момо остановил видео.
– Вот так: мы заберемся в самую середку этого малинового торта. Несколько дней назад я добавил ему начинку – мешки с гвоздями и стальными гайками, чтоб угробить при взрыве побольше людей. Всем достанется – и на сцене, и в зрительном зале. Настоящая бойня! Ну, что скажешь? Этот спектакль заснят в прошлом году в моем коллеже. Я сам в нем участвовал. Вот и на этот раз поучаствую, хотя меня и не приглашали. Ну так как – идет?
– Идет!
И в знак согласия мы ударили по рукам, ладонь в ладонь, как будто договорились о невинной велопрогулке. Вслед за тем Момо снова обнял меня, нервно всхлипывая и дрожа от возбуждения, прилива любви и страха.
Я перестаю писать, чтобы съесть очередную тефтельку. Да, я влезу в этот проклятый торт вместе с Момо; да, я прицеплю к поясу динамит, но не для того, чтобы перебить детей, а для того, чтобы их спасти!
Сердце бьется как сумасшедшее, зато мысли с каждой секундой становятся все яснее. На протяжении нескольких недель я общался с Момо, преследуя лишь одну цель: убедить его отказаться от жуткой акции, на которую он решился. Вот в чем моя миссия! Вот какой логике я следовал… Сколько раз я спрашивал себя: кто говорит во мне, когда я говорю? Кто действует во мне, когда я действую? Властен ли я над своими мыслями? Не могу сказать, что стал понимать больше прежнего, но теперь я хотя бы уверен, что действую во благо, а не во зло.
Внезапно я вспоминаю, что не выполнил один важный пункт своего плана. Кидаюсь к стойке и прошу дать мне телефон.
– У нас его сто лет уж никто не спрашивал, – ворчит хозяйка.
– Я потерял свой мобильник.
– Два евро с вас.
Она протягивает мне трубку и, отойдя, начинает протирать пивные кружки. Я заслоняю рот ладонью, чтобы приглушить звук.
– Алло! Это полиция, вас слушают, – произносит утомленный женский голос.
– Разговор записывается?
– Да.
– В театре «Граммон» заложены бомбы. Они взорвутся сегодня вечером на празднике. Отмените спектакль и закройте доступ в зал.
– Алло! Что вы сказали? Представьтесь, месье! Кто говорит?
– Сегодня вечером в театре «Граммон». Бомбы. Всё отменить. Вопрос жизни и смерти.
И я вешаю трубку, весь дрожа от страшной новости, которую сообщил, и опасения, что меня услышали люди в зале. Однако посетители продолжают мирно жевать, пить, вести беседу, не обращая на меня никакого внимания. Эх вы, тупицы, вам и невдомек, что я минуту назад спас ваших детей, племянников, просто чужих ребятишек! Эта неблагодарность превращает меня в истинного, бескорыстного героя…
Мой взгляд падает на газету, забытую кем-то на стойке. Первая страница «Завтра», в мрачной черной рамке, напоминает траурное объявление. Жирно напечатанный заголовок гласит: «Свобода расстрелянной прессы», а под ним большая фотография – Филибер Пегар в наручниках, взгляд страдальческий, рот заклеен скотчем.
Заметив мое изумление, хозяйка восклицает:
– Ну и бандит же этот Пегар! Оказывается, он был замешан в скандале с поддельными счетами, – говорят, эти деньги шли на финансирование политических партий. И конечно, при этом себя не забывал; мало того, еще и налоговой службе задолжал миллионы.
– Так его арестовали?
– Да куда там! Только допросили, и все. А эта фотка – чистое жульничество, чтобы его паршивая газетенка лучше продавалась. Вот уж кто умеет строить из себя мученика! Сволочь такая! Говорят, он успел удрать на Каймановы острова. Ну и скатертью дорожка!
Пожав плечами, я возвращаюсь к своему столику, заканчиваю рассказ, складываю в стопку исписанные страницы и засовываю их в большой зеленый конверт с логотипом газеты «Завтра».
Шесть часов вечера. Мы с Момо забираемся в театр через оконце, выходящее в безлюдный тупик.
Операция проходит медленно, ведь при нас взрывчатка. Любая оплошность может стать роковой, поэтому мы действуем с ювелирной точностью, в полном молчании и слаженно, как пара профессиональных взломщиков.
Проникнув за кулисы, мы спускаемся под сцену, где стоит огромный макет слоеного торта.
Темное помещение насквозь пропахло машинной смазкой и столетней пылью; меня поражает сложная система канатов, множество непонятных механизмов. Под ногами у нас чернеют провалы – это подземные этажи, второй, а то и третий уровень, куда спускают декорации. Вся эта свалка, несомненно, служила в старину для быстрой смены реквизита в спектаклях, которые так любили наши предки.
Момо открывает люк, ведущий внутрь розового торта, и мы входим в «святилище». У стенки, обращенной к зрительному залу, лежат мешки, предназначенные для публики в зале.
– Я их стаскиваю сюда уже целых пять дней, – шепчет Момо, глядя на меня сияющими глазами.
– Давай наденем пояса.
– Что… уже?
– Так полагается.
Я командую настолько естественно, что сам себе дивлюсь; будто я и есть руководитель операции. Мы начинаем осторожно распаковывать сумки с брикетами динамита, но тут я прерываюсь:
– Схожу-ка отлить, пока можно.
– Как?
– А так! Момо, нам ведь придется ждать целых два часа.
– Ты свалить решил? Сдрейфил, да?
– Клянусь, что нет!
И я изображаю крайнее возмущение. Момо, наполовину убежденный, что-то бурчит себе под нос, но все же выпускает меня наружу.
Я выбираюсь из торта и на цыпочках крадусь за кулисы. Потом, оказавшись вдали от его глаз и ушей, бегу наверх.
В темном зале царит тишина; слабая голубоватая подсветка уподобляет его аквариуму. Поводив карманным фонариком, я нахожу в задней стене первого яруса окно аппаратной.
Забираюсь туда, вытаскиваю из кармана брюк флешку с записью прошлогоднего концерта, украденную у Момо. К счастью, я хорошо знаю устройство аппаратной: в тех школах, где мне довелось учиться, я всегда брал на себя заведование звуковой частью праздничных спектаклей, лишь бы не показываться на сцене.
Итак, я всовываю флешку в компьютер и включаю таймер, поставив его на двадцать часов пятнадцать минут.
Потом снова ныряю под сцену.
Запыхавшись, подхожу к Момо, который явно паниковал в одиночестве. Вместо того чтобы упрекать меня в долгом отсутствии, он облегченно вздыхает:
– Уф, ну я и сдрейфил!
– С чего это? Думал, я смоюсь?
– Страшно…
– Это мандраж!
– Ты думаешь?
– Говорят, мандраж происходит от нетерпения. А ведь нам не терпится взорвать их к чертовой матери, верно, Момо?
– Еще бы!
И он делает движение, чтобы обнять меня, – сейчас он выглядит трогательным ребенком, – но сдерживается, вспомнив, что уже надел пояс со взрывчаткой.
Двадцать часов тридцать минут.
Действие разворачивается, как во сне. Мы с Момо прячемся в подвале театра, терпеливо ожидая момента, когда деревянная платформа поднимет нас на уровень сцены. Три брикета динамита, прибинтованные к моему животу и готовые к взрыву, стесняют мне дыхание, но терпеть осталось недолго. Момо обливается по́том, его штаны потемнели от мочи; он то и дело ощупывает, как и я, свой пояс смертника, который делает его толстяком. Мы лихорадочно переглядываемся, и наши сердца бьются так неистово, что мне чудится, будто их слышно снаружи.
Сверху до нас доносится веселый галдеж ребятишек в зале, возбужденные крики, радостный смех и визг. Родители и учителя стараются навести порядок, но без лишней строгости: все-таки у детей праздник.
У меня в руке зажато устройство, соединенное с проводком, – детонатор.
За сценой звучат три удара, и спектакль начинается.
В моем распоряжении есть еще несколько минут до того, как прозвучит поздравительный гимн. Я уже осуществил первую часть своего плана: театр пуст, мы слышим только звукозапись, сделанную в прошлом году, которую, согласно моему замыслу, громкоговорители разносят по зрительному залу. Момо не заподозрил обмана: сквозь перегородки до нас доходит лишь смутный гул, но не отдельные слова. И если он приведет в действие свою бомбу, человеческих жертв не будет. Не считая, конечно, нас двоих.
Теперь остается уговорить его бросить эту затею. Всякий раз, как я подступал к этому за последние два часа, над плечом Момо возникал Хосин, заглушавший мои уговоры своими речами. Мальчишкой движет теперь лишь ненависть, оправдывающая его присутствие в театре, и Хосин непрестанно подогревает ее.
А мне не удается и слова вставить.
Я боюсь, но не того, чего опасался раньше, – не смерти. Меня пугает не она, а страх, что какая-нибудь случайность разрушит мои планы. В этом театре, как и в замке Шмитта, мне не удается думать о высоких материях: я тону в мелочах, спотыкаюсь на ровном месте. Какие же скудные у меня мозги! Если со мной и вправду произойдет несчастье, человечество не много потеряет…
Глядя в щелку между двумя слоями торта, я различаю в полутьме выдвижные механизмы, балки, кабели и внимательно оглядываю их, за неимением другого зрелища. Момо лишен и этого, у него перед глазами глухая перегородка.
Сверху доносятся аплодисменты.
Мы с Момо переглядываемся, молчаливо спрашивая себя, не настал ли наш черед… но тут раздается новая веселая мелодия, предвещая очередной скетч, и мы дружно испускаем глубокий вздох. Вздох чего – облегчения? Раздражения? Досады? Ярости? Не могу определить, хоть убейте.
– Момо, а у тебя там, в зале, есть дружки?
Я-то хорошо знаю, что там нет ни души, но Момо этого не подозревает.
– У меня больше нет дружков.
– Да есть, наверно; просто ты больше не хочешь их иметь.
– У меня есть ты.
– А ты можешь представить, как они сейчас сидят там, в зале, вполне конкретные ребята, загримированные каждый для своей роли?
– Заткнись!
Мне кажется, что Момо все чаще говорит голосом Хосина, с его интонациями, с его хрипотцой, с его жесткостью. Мертвый брат полностью завладел живым. Как же быть?..
В глубине подвала маячит чей-то силуэт. Я вздрагиваю. Что это? Неужели в театре кто-то остался? Механик сцены? Сторож?
Тень медленно приближается к торту, и я узнаю… следователя Пуатрено. Она словно разглядела меня через узкую щелку в макете и почти незаметным жестом подзывает к себе.
Как это возможно?!
Зачем она пошла на такой риск?
Конечно, она единственный человек, способный противостоять полиции и пройти через оградительные барьеры, но зачем?
– Момо, я опять хочу отлить.
– Нет! Теперь уже скоро!
– Да ладно тебе, я сейчас вернусь.
– Сдрейфил, да?
– Опять ты за свое! Кто здесь главный? Сказал же, что вернусь, значит, вернусь.
И я осторожно выползаю из торта, стараясь не задеть брикеты взрывчатки и не нажать на детонатор.
Подхожу к следователю Пуатрено, и она знаком просит меня отойти подальше за кулисы.
– Огюстен, у нас катастрофа: там, в зале, восемьсот человек, из них пятьсот – дети!
– Как?! Я думал, театр пуст!
– Полиция не приняла во внимание твой звонок! Пойми: анонимные угрозы взрыва сейчас поступают десятками в день. Сегодня утром Терлетти послал двух своих агентов обыскать зал, но они не обнаружили никаких подозрительных свертков, и он ограничился приказом досматривать всех входящих и их сумки.
– Немедленно эвакуируйте всех из зала!
– Терлетти меня не послушает.
– Не может быть!
– Он больше меня не слушает.
– Но… но вы же следователь!..
– Следователь, но не начальник полиции. Идем со мной, Огюстен. Мы успеем спастись.
– Вы что – рехнулись? Через две минуты Момо приведет в действие пояс смертника, и театр взлетит на воздух. Это будет апокалипсис.
– Тогда не ждите, чтобы дети поднялись на сцену, взрывайте прямо сейчас.
Я смотрю ей в глаза. Мне кажется, будто из моего тела изошла вся кровь.
– Нет. Я постараюсь убедить Момо прервать операцию.
– Да ты уже целый час стараешься, и все без толку.
– Откуда вы знаете?
– Ладно, беру свои слова обратно, Огюстен. Не взрывайте сейчас. Пол все равно никого не защитит… Взрыв убьет меньше людей в зале, но больше – на сцене. Там будут стоять как минимум пятьдесят ребятишек. Ситуация безнадежная!
В этот момент мне снова бросается в глаза темный провал между досками, на которых мы стоим.
– Нет, есть другое решение! Мы спустимся еще ниже.
Она изумленно глядит на меня. Я рассматриваю канаты, висящие вокруг нас.
– Платформа, которая поднимает торт на сцену, может и спустить нас еще ниже, на целых два подземных этажа. Если мы взорвемся там, в глубине, наверху будет меньше разрушений.
Она кивает с искаженным лицом. Но, напав на такое решение, я тут же капитулирую:
– Хотя нет, это невозможно…
– Почему?
– Кто будет управлять спуском? Машиниста сцены здесь, внизу, нет.
– Ну а я-то на что, дурья твоя башка?!
Я гляжу на следователя Пуатрено: она кипит от ярости. И упрямо повторяет:
– Как ты думаешь, зачем я сюда пришла?
– Но… если вы останетесь, то взорветесь вместе с нами.
– Не рассуждай! Иди в свой пирог!
Над нашими головами гремит начало поздравительного гимна.
Издали доносится голос Момо, в нем звучит испуг:
– Огюстен!
– Иду!
Я бросаюсь к торту настолько поспешно, насколько позволяет пояс смертника, и влезаю внутрь. Момо встречает меня радостной улыбкой, хотя из глаз у него брызжут слезы. Хосин уже занял все свободное пространство в макете – огромный, черный, грозный призрак с перекошенным от ненависти лицом.
– Момо, я хочу тебе напомнить: там, наверху, живые люди!
– Знаю…
Happy birthday to you…
Деревянная площадка под нашими ногами содрогается и приходит в движение. В первые две секунды я с ужасом думаю: неужели это подъем? Но нет, мы явно спускаемся вниз, а Момо ничего не замечает, сосредоточив все силы, все свое внимание на пальце, который сейчас нажмет кнопку детонатора. Хосин мешает мне подойти к нему. Я уже не смогу его остановить.
Happy birthday to you…
Площадка, на которой установлен макет, покачивается, скрипит, кряхтит, скрежещет, потом тормозит и замирает.
– Аллах акбар! – вопит Момо.
Короткий миг тишины… предвестие грохота…
Взрыв.
И внезапно все заливает ослепительный белый свет.
Эрик-Эмманюэль Шмитт
Германти, 30 июня 2016 г.
Госпожа следователь,
пересылаю Вам странный документ в большом зеленом конверте с логотипом газеты «Завтра», который я получил по почте через несколько дней после ужасного взрыва, разрушившего театр «Граммон» в Шарлеруа в апреле. Документ представляет собой длинную исповедь, состоящую из двадцать одной главы; текст начинается с одного взрыва и кончается другим, он изобилует неизвестными доселе подробностями и именами незнакомых людей и подписан печально знаменитым молодым человеком – Огюстеном Тролье.
Полиция, органы правосудия и средства массовой информации единодушно назвали Огюстена Тролье одним из самых жестоких террористов нашего времени, поскольку это именно он организовал бойню на площади Карла Второго, затем пожары в городе и, наконец, страшный взрыв в театре во время детского праздника. Тот, кого журналисты всего мира называют сегодня «мозгом преступного мира», стал предметом обсуждения миллионов комментаторов, и не только из-за чудовищного размаха его злодеяний, но еще и потому, что, в отличие от террористов – выходцев из Магриба, он был сыном бельгийских родителей – увы, неизвестных – и вырос в обстановке, далекой от какой бы то ни было религии. Его фанатизм поставил в тупик наших аналитиков.
Хочу еще раз напомнить – как Вы знаете, в полиции есть мои показания, – что я встречался с Огюстеном Тролье и очень тепло к нему относился. И не важно, если это шокирует окружающих: никто не заставит меня изменить мнение об этом человеке. Может быть, он ввел меня в заблуждение? Может, он просто умело скрывал от меня – как утверждает комиссар Терлетти – свои радикальные убеждения? Рискуя показаться наивным, я все же повторю, что знал его как деликатного, мягкосердечного, тонко чувствующего человека, влюбленного в литературу, любознательного, ратующего за всеобщее согласие и порядочность, – именно таким он предстает на страницах своей рукописи.
Прочтите, пожалуйста, этот текст – он вас взволнует. Не знаю, как определить его жанр, – хроника тех ужасных недель? Или художественный вымысел? И кто изложил свои мысли на этих страницах – романист или мемуарист? Совпадал ли реальный Огюстен Тролье с автором этой рукописи? И что мы сегодня читаем – исповедь невинного, коим он был, или невинного, каким он хотел казаться?
У фактов вырваны глаза и язык – они уже ничего нам не расскажут. Останки, найденные среди развалин, указали полицейским на то, что Огюстен Тролье произвел взрыв вместе с Мохаммедом Бадави. Так вот, если верить написанному, то присутствие Огюстена в театре можно считать скорее актом самопожертвования, позволившим в конечном счете спасти множество детских жизней.
Сегодня все радуются тому, что в результате ошибочного маневра макет, начиненный динамитом, спустился на нижний подземный этаж, а не поднялся на сцену; таким образом, взрыв причинил тяжелый материальный ущерб зданию театра, но не унес ни одной человеческой жизни. Однако не было ли то, что все сочли промахом террористов, сознательным, жертвенным, бесстрашным подвигом? Именно эта версия отражена в повествовании Огюстена, законченном в самый день его гибели и проникнутом роковым предчувствием такого конца.
Разумеется, не стоит принимать этот текст буквально – слишком много в нем неточностей и путаницы. Например, я решительно отрицаю тот факт, что снабдил наркотиками Огюстена Тролье и приютил его у себя в доме. Или рассказ о появлении следователя Пуатрено за кулисами в тот ужасный вечер – это чистейший вымысел; мало того что фамилия женщины-следователя Пуатрено не фигурировала в деле – кому и знать это, как не Вам, поскольку его вели именно Вы! – но в развалинах под сценой не было обнаружено никаких останков третьего лица.
И все же пускай некоторая расплывчатость этого текста не помешает вам принять его всерьез. Я бы очень хотел, чтобы Вы взвесили каждую его строчку, каждое слово. Ведь речь идет о репутации Огюстена Тролье, о его чести и в конечном счете о его реабилитации. Молодой человек, которого заклеймили прозвищем «чудовище века», возможно, был его героем.
Наше время – боязливое, изнеженное, эгоцентричное – с презрением относится к тем, кто жертвует своей жизнью за идею. В старину это расценивали совсем иначе: люди верили, что идея способна привести к жертвенности. Но и сегодня, как прежде, эти противоречивые убеждения являются скорее предрассудками. Смерть не облагораживает идею, это идея облагораживает смерть. И если некоторые люди убивают себя во имя какой-нибудь сектантской доктрины, это свидетельствует не о ее ценности, а лишь о крайней степени ослепления ее адептов; зато когда отдельный человек идет на смерть ради спасения чужих жизней, это говорит о его гуманизме и великом мужестве. В смертоносном макете торта, начиненном взрывчаткой, скрывались два воина-антипода – воин смерти Мохаммед Бадави и воин жизни Огюстен Тролье. Первый хотел уничтожить мир, второй уничтожил себя во имя мира. Террорист поклонялся химере, а не конкретной жизни. Герой стоял за конкретную жизнь, а не за химеру. Первый уничтожал реальность, мешавшую его иллюзиям. Второй спасал реальность, в которой могли бы свободно процветать любые иллюзии.
Я утверждаю, что Огюстен, вопреки своей бедности, вопреки одиночеству, вопреки сиротству, не был фанатиком и экстремистом. Конечно, ему приходилось жить как маргиналу общества, которое не признавало его, но он и не стремился ни к какому признанию – хотя еще не знал о своем призвании. Он не принадлежал ни к одному сообществу – разве что к сообществу людей, к тому, ради которого принес себя в жертву.
Если меня будут осуждать, если полиция и судебные органы будут упорствовать в своих необоснованных выводах, тем хуже, но я посчитал себя обязанным, в память об Огюстене, добавить эту рукопись к его досье.
Примите уверения, госпожа следователь, в моих самых искренних чувствах.Элиана Битболь,
секретарь суда
Шарлеруа, 5 июля 2016 г.
Месье,
я сразу передала Ваше письмо вместе с прилагаемой рукописью госпоже следователю Изабель Вейт, которая обещала в самые короткие сроки известить Вас о том, какие меры будут ею приняты по прочтении присланных документов.
Мое же письмо, которое Вы сейчас читаете, является чисто личным и носит конфиденциальный характер, притом что должность судебного секретаря не возбраняет такую переписку. Получив Ваше послание и ознакомившись с ним, чтобы присвоить нужный гриф, я увидела там фамилию, которая многое напомнила мне, – следователь Пуатрено. И тогда я позволила себе прочитать двадцать одну главу исповеди Огюстена Тролье, где мадам Пуатрено регулярно появляется в сопровождении месье Мешена.
Вы высказали предположение, что речь идет о персонаже, придуманном Огюстеном Тролье, – ведь всем известно, что никакая госпожа Пуатрено не участвовала в этом расследовании, которое с самого начала вела Изабель Вейт.
И однако, следователь Пуатрено – реально существующая личность. Или, вернее, реально существовавшая. Ибо она умерла двадцать лет назад. Но тогда каким же образом она фигурирует в рассказе, чье действие разворачивается в наши дни? Я прямо похолодела, прочитав его.
Должна Вам признаться, месье, что я днем и ночью борюсь со странными мыслями, которыми хочу сейчас поделиться с Вами. Вы можете счесть меня ненормальной, но я считаю своим долгом донести до Вас некоторые сведения.
Я познакомилась со следователем Пуатрено двадцать шесть лет назад, когда поступила на эту работу. Упрямая, своеобразная, принципиальная, она вызывала в судебных кругах неоднозначное отношение к себе – одни отзывались о ней снисходительно, другие горячо хвалили. Лично я относилась к тем, кто ею восхищался. А главное, в ее лице я гордилась всеми женщинами, ведь до этого должность следователя занимали исключительно мужчины. И по моему мнению – мнению юной стажерки, которой я тогда была, – она вела все свои дознания мастерски, энергично и без всяких предубеждений.
В те годы я общалась также и с ее помощником месье Мешеном, это был мой предшественник, человек куда менее яркий, безвольный и робкий, – он довольно верно описан в рассказе.
Именно это меня и удивило: каким образом молодой человек, Огюстен Тролье, сумел так верно описать людей, которых никогда не видел? Я не способна объяснить это явление. Дело в том, что, по моим подсчетам, следователь Пуатрено и месье Мешен погибли вскоре после рождения Огюстена Тролье. Так кто же дал юноше такие подробные сведения о них? Все высказывания следователя Пуатрено отражены в его рассказе с поразительной точностью, как и ее манера говорить, перескакивая с пятого на десятое, смешивая банальное с возвышенным, гротеск с метафизикой. Поскольку я присутствовала на совещаниях, где она брала слово, могу Вас заверить, что в этом рассказе она похожа на себя, живую, как две капли воды.
Служение истине может довести человека до крайности. Поступая на работу в органы судопроизводства, мы обретаем не только профессию, но еще и призвание. В год своей гибели следователь Пуатрено, которой было поручено отслеживать действия террористов, наблюдала за двумя итальянцами, родными братьями, подозревая их в подготовке теракта. Как и в рассказе Огюстена Тролье, она имела привычку проводить свои дознания лично, не прибегая к помощи полиции, и в случае необходимости сама выезжала на место происшествия. В тот день, когда она вошла в мастерскую братьев, они встретили ее ураганным автоматным огнем, и она погибла на месте, а с ней и ее верный Мешен.
Им устроили торжественные похороны, это было душераздирающее зрелище. Фотографии обеих жертв были установлены на двух гробах, покрытых бельгийскими флагами; они смотрели на нас во время заупокойной службы, пока мы молились, пели гимн и плакали. Мне стало совсем плохо в ту минуту, когда министр юстиции объявил, что у Мешена осталась жена с тремя детьми.
И теперь я подхожу к самому главному, к тому, что Вы, вероятно, сочтете бредом… В своем рассказе Огюстен Тролье пишет о мертвых, которые сопровождают своих живых близких, и задается вопросом, нет ли у него самого такого мертвеца. В двух случаях ему показалось, будто он видит «своего мертвеца», – в первый раз это был месье Версини, вдовец, хоронивший жену на площади Карла Второго, потом – следивший за ним человек «с волчьими глазами». Но каждый раз он разочарованно констатировал, что это вполне реальные люди, а не его личный призрак, который мог бы опекать его, одинокого сироту. Так вот, уж не стала ли этим призраком следователь Пуатрено? Обратите внимание: она всегда появляется в ключевые моменты, беседует с ним только с глазу на глаз, не участвует ни в каких коллективных разыскных мероприятиях и ухитряется найти его всюду, где бы он ни скрывался, притом что полиции неизвестно его местонахождение.
Когда я стала перечитывать текст, у меня возникли еще два предположения, подтверждающие эту гипотезу.
Огюстен Тролье сообщает нам, что когда человек не осознает близости сопровождающего его призрака, он слепо подчиняется его командам; в этом случае мертвый лишает живого свободы и становится хозяином его судьбы. Такая трагическая участь постигла Момо: он послушно выполнял приказы своего брата Хосина. Может быть, ту же роль сыграла по отношению к Огюстену и следователь Пуатрено? Она вынудила его провести расследование о роли Бога, об отношении террористов к Богу. Если бы не она, Огюстен никогда не посмел бы приблизиться к персонажу, носящему Ваше имя, не стал бы принимать наркотик и беседовать с Великим Глазом, а может быть, даже не погиб бы в подвале театра…
Далее, мы узнаём на примере Офелии, дочери господина Пегара, что некоторые мертвые не понимают, что они мертвы. Так почему бы не предположить, что и следователь Пуатрено, ввиду своей мгновенной гибели, также не осознала, что умерла? Если моя догадка справедлива, то вот и объяснение, почему она продолжает действовать в мире живых, все так же упорно, решительно и непреклонно выполняя свою задачу.
Вы, наверное, возразите мне, спросив: а что, собственно, общего у следователя Пуатрено с Огюстеном Тролье? Ведь для того, чтобы мертвый начал покровительствовать живому, между ними должна существовать какая-то особая связь.
И вот мы подошли к тому роковому открытию, которое буквально ужасает меня, когда я вспоминаю все обстоятельства этого дела.
За год до гибели следователя Пуатрено о ней поползли нехорошие слухи. Тогда я отказывалась им верить, но теперь повторю вам эту сплетню, какой услышала ее. Кое-кто утверждал, что у нее случился роман с молодым комиссаром Терлетти – в молодости он был очень хорош собой – и что от этой тайной связи (а комиссар был женат) якобы родился ребенок. Но дальше мнения разошлись: одни говорили, что Пуатрено сделала аборт на третьем месяце беременности, другие утверждали, что она родила анонимно, оставив затем младенца в детском приюте. Злые языки приписывали этот поступок либо амбициозному характеру Пуатрено, не желавшей портить себе карьеру, либо отсутствию материнского инстинкта, либо боязни скандала, который неизбежно произошел бы в семействе Терлетти. Как раз в то время она провела целый триместр, если не больше, в служебной командировке в Бразилии, и никто не был свидетелем ее беременности и послеродового периода, так что вполне возможно, все это были выдумки, глупые слухи, тем более что она питала к Терлетти бешеную ненависть… Сегодня правду знает только один человек – сам комиссар. Но этот умеет держать язык за зубами, хотя по-прежнему гоняется за юбками, и больше расположен выбивать правду из других, нежели сообщать ее о самом себе.
И вот когда я читала рассказ Огюстена Тролье, у меня закралась мысль: а что, если он и есть тот самый ребенок, которого бросила Пуатрено, ребенок, которого она зачала в какой-нибудь вечер, потеряв голову от этого жеребца Терлетти? И снова повторю: это известно только ему.
Но кто посмеет задать ему такой вопрос? Недавно мы узнали, что у бедняги-комиссара, после сорока лет круглосуточного курения, обнаружился рак легких в последней стадии, который очень скоро унесет его в могилу вместе со всеми тайнами, а значит, судьба этого гипотетического ребенка – мертвого или покинутого – так и останется неизвестной.
И последнее: месье Мешен. Не знаю, успела ли следователь Пуатрено осознать, что умирает от пуль итальянских бандитов вместе с Мешеном, но в часы озарения она, несомненно, чувствовала себя виноватой перед ним. Она высмеивала его, презирала, унижала на каждом шагу, может быть вымещая на этом слабодушном человеке то зло, которое причинили ей другие, жестокие мужчины. Осмелюсь высказать еще одну догадку: месье Мешен кажется мне «мертвецом» следователя Пуатрено, ее спутником, предметом ее сожалений и угрызений совести, тем, чья загубленная жизнь должна вечно терзать ее душу, чей образ она будет вечно влачить за собой, как каторжник свое ядро.
Дорогой господин Шмитт, вполне вероятно, я дала слишком большую волю своей фантазии… Простите мне эти предположения, – излагая их Вам, я чувствую, что, может быть, погрешила против здравого смысла. Но кто же, как не Вы, поймет меня? Ведь мы с вами живем в такое время, когда многие люди пытаются вырваться за пределы слишком тесной реальности, где царит лишь разум. Иногда ради лучшей судьбы… Иногда ради худшей… Но я, которая всегда считала себя свободной личностью, отныне дрожу при мысли, что нашей жизнью управляют мертвые, если мы не можем освободиться от них.
В ожидании нашей встречи, когда госпожа следователь примет Вас, заверяю Вас, месье, в своих самых добрых чувствах и восхищении, которое я вот уже долгие годы питаю к Вашему творчеству.
Элиана БитбольМайя Шмитт Ле Кам
Париж, 28 марта 2060 г.
Сегодня моему отчиму Эрику-Эмманюэлю Шмитту исполнилось бы сто лет. Не могу думать об этом без грусти, даром что и сама уже стою на пороге старости; как мне хотелось бы, чтобы он по-прежнему находился среди нас, хотя уверена: он наверняка сбежал бы куда-нибудь, поскольку терпеть не мог юбилеи. Новое собрание сочинений, выпущенное к этой дате престижным издательством «Альбен Мишель», требовало всей полноты информации, вот почему меня попросили восстановить историю создания «Человека, который видел сквозь лица» – романа, написанного неким Огюстеном Тролье и вышедшего в 2026 году, через десять лет после серии терактов, потрясших Шарлеруа, Бельгию и Францию.
В те времена многие уверяли, что текст вышел из-под пера самого Шмитта, а не Огюстена Тролье. Но Шмитт тотчас опубликовал опровержение, где говорилось, что он получил этот текст по почте, передал его в правоохранительные органы (у нас имеется письменное свидетельство на сей счет) и ни в коем случае не является его автором. Однако эта реакция ничуть не убедила тех, кто подозревал его в обратном: будь он лжецом, он бы привел такие же доводы. Самые дотошные исследователи раскопали договор на книгу, где были зафиксированы авторские права, но оказалось, что все гонорары были отосланы в сиротский приют города Шарлеруа, где Огюстен Тролье провел первые годы жизни. Таким образом, дело заглохло, и с тех пор этот вопрос поднимался только на университетских коллоквиумах.
Когда я говорила на эту тему с моим отчимом, он приводил мне все те же доводы, правда сопровождая их усмешкой, которая внушала некоторые подозрения. Увы, при его жизни я так и не смогла заставить его высказаться более определенно.
Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что мои сомнения были небеспочвенны. Некоторые четкие, сжатые фразы книги как подтверждают их, так и опровергают, и текст нетрудно приписать моему отчиму. Однако, вспоминая характерные черты его литературного стиля, я спрашиваю себя: а могло ли быть иначе? Ведь Огюстен Тролье, по его собственному признанию, прочел все сочинения Шмитта, он вдохновлялся ими и, следовательно, подражал ему.
Что касается выбора тем, они также очень близки к темам, интересовавшим Шмитта, – Бог, религии, связь между жестокостью и сакральностью, неустойчивая идентичность, тайна поведенческих комплексов. Философия, обсуждаемая в беседе с Великим Глазом, соответствует тому, что исповедовал сам Шмитт, – это мятежный гуманизм. Верят люди в Бога или не верят, они Ему не подвластны, ибо дорожат своей свободой. Им, и только им самим дано наслаждаться плодами этой свободы, которая будет существовать лишь постольку, поскольку они ею пользуются. И независимо от того, пусты или обитаемы Небеса, только сами люди несут ответственность за людей. Более того, они несут ответственность и за Бога. Лишь они могут перетолковывать Его или понимать буквально, слушать Его или оставаться глухими к Нему, читать Его заповеди внимательно или небрежно, оттачивать на Нем свой критический дух, превозносить мудрость священных книг, их построение, их замысел или же выдергивать из них цитатки на тот или иной случай. Шмитт часто говорил своим друзьям, атеистам и верующим: «Для того чтобы люди самых разных вероисповеданий и убеждений, как бы они ни отличались друг от друга, научились жить в согласии, им нужно считать Бога лучшим из смертных. Верим мы в Него или нет, давайте впустим Его в наш мир!» А когда я вспоминаю слова Великого Глаза: «Мне больно за человека», я думаю о том, как часто Шмитт повторял их мне, добавляя: «Мне больно за человека, потому что я верю в него». В одном из его блокнотов есть такая запись: «Я долго думал, что это Бог возвеличивает человека, пока не понял, что прежде человек должен возвеличить Бога». Он называл фундаменталистов «захватчиками заложников», подразумевая под этим похищение террористами не только людей, но также и Бога, которого они присваивают себе в злодейских целях. Как показывает беседа с Великим Глазом, религии, эти «охлаждения огня», почти неизбежно дрейфуют в сторону мертвящего фундаментализма, если разум, анализ, дискуссии и сравнения не вливают в них свежую кровь. А разум, в глазах Шмитта, – не враг религии, а самый стойкий ее защитник.
Мой отчим, который уверовал в Бога после ночи, проведенной в пустыне Сахара, говорил мне, что, если эта благодать и преобразила его жизнь, она ни в коей мере не поколебала его гуманизм и только «пробила брешь в его потолке», сделав более открытым, более толерантным и менее самовлюбленным.
За неимением точных доказательств я изучила семейный архив – письма, электронные сообщения, личные дневники. Мой отчим долго лелеял мысль написать рассказ о беседе с Богом как писателем, автором трех выдающихся книг; эта идея забавляла его, не давала покоя, он долго не отступался от нее. Тем не менее в 2015 году он признался в своем дневнике, что оставил эту затею, так как хотел посвятить себя романам, а не эссе.
Есть еще одна деталь, которая подсказывает мне, что он не является автором этой книги. Я позволю себе выдать вам секрет «шмиттовского» стиля: при изучении его больших романов того периода видно, что все они неизменно заканчиваются вопросом. Шмитт часто говорил мне: «Вопрос – мой фирменный знак».
Однако для начала следует определить, где именно кончается роман, а это нелегко. На двадцать первой главе повествования? На письме судебного секретаря, приложенном к основному тексту? Увы, ни в первом, ни во втором случае это произведение не завершается вопросом. И по этой причине я высказываюсь против того, чтобы его приписывали моему отчиму.
Тем не менее меня очень взволновало и растрогало его появление на страницах романа, так же как и упоминание обо мне. Лично я сохранила мало воспоминаний о тех годах и совершенно не помню никакого Огюстена Тролье. В Германти перебывало великое множество гостей – актеров, музыкантов, режиссеров, декораторов, исследователей, журналистов, – ничего удивительного, что его лицо затерялось среди прочих.
Что еще поражает меня в этом единственном романе неведомого автора, так это его вопрос об идентичности, воплощенной в образах мертвых, которые сопровождают живых, оказывают на них влияние, утешают или осуждают. Шмитт считал этот вопрос очень важным. Кто говорит в нас, когда мы говорим? Может быть, мы… Может, наши родители… Может, общество… А возможно, и Бог… Властны ли мы в своих действиях? Управляем ли своей жизнью? Достигнем ли когда-нибудь подлинной свободы? Вот вопросы, которые потомки задают себе по поводу «Человека, который видел сквозь лица» и которые перекликаются с вопросом, мучившим моего отчима: «Кто пишет, когда я пишу?»
Примечания
1
Шарлеруа – город в валлонской части Бельгии, на реке Самбр, в 50 км южнее Брюсселя. (Здесь и далее – примеч. перев.)
(обратно)2
Сердце мое из-за тебя смутилось; пропало то, что было обещано… (араб.)
(обратно)3
«Вспомни обо мне» – слова из песни «Озкорини». Исполнительница Умм Кульсум (1904–1975) – знаменитая египетская эстрадная певица.
(обратно)4
Джеллаба – традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами.
(обратно)5
Магриб – общее название для стран Северной Африки.
(обратно)6
Комедия окончена (ит.).
(обратно)7
Коран состоит из 114 глав, называемых су́рами. Каждая сура, в свою очередь, включает в себя несколько аятов (стихов, или, иначе, отдельных высказываний). Здесь: первая цифра – номер суры, вторая – номер аята.
(обратно)8
Самый известный перевод Корана. Сделан И. Ю. Крачковским (1883–1951) – советским арабистом, академиком АН СССР (с 1921).
(обратно)9
Французское имя Огюстен соответствует имени африканского епископа и одного из Отцов Церкви – святого Августина (Аврелия) (354–430), родившегося в африканской провинции Нумидия, в Тагасте (ныне Сук-Ахрас, Алжир).
(обратно)10
Риф – горная цепь в Марокко, где обитают берберы.
(обратно)11
Десерт из взбитых сливок, молока и сахара или торт с теми же ингредиентами.
(обратно)12
Мясо, приготовленное по религиозным правилам (у мусульман).
(обратно)13
Содо́м (букв. «горящий») и Гомо́рра (букв. «погружение, потопление») – два известных библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей. Города входили в Содомское пятиградие (Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор) и находились, согласно Ветхому Завету, в районе Мертвого моря.
(обратно)14
Четыре всадника Апокалипсиса – библейские персонажи, олицетворение катастроф и катаклизмов, предваряющих события второго пришествия и Страшного суда (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6).
(обратно)15
Сура «Коровы» – вторая глава Корана.
(обратно)16
Имеется в виду роман Э.-Э. Шмитта «Другая судьба» («La part de l’autre»).
(обратно)17
Огюстен суммирует романы, повести, сборники рассказов, эссе, а также сборники пьес Э.-Э. Шмитта.
(обратно)18
Отсылка к Платону: «Человек – животное двуногое бесперое».
(обратно)19
Айяуаска – в переводе с кечуа «лиана ду́хов», «лиана мертвых»; напиток, оказывающий психоактивный эффект. Изготовляется местными жителями бассейна Амазонки из коры лианы Banisteriopsis caapi, служащей основным компонентом этого отвара.
(обратно)20
В магии кристаллы используют для развития различных магических и провидческих способностей. Считается, что с их помощью можно отправляться в астрал, путешествовать там, общаться с астральными собеседниками, посещать иные миры.
(обратно)21
Французское слово «cristal» означает и кристалл, и хрусталь.
(обратно)22
Евангелие от Матфея, гл. 24: 6, 7, 9–11, 14, 20, 21.
(обратно)23
Евангелие от Марка, гл. 13: 12.
(обратно)24
Евангелие от Матфея, гл. 24: 29.
(обратно)25
Откровение Иоанна Богослова, гл. 6: 12–15.
(обратно)26
Откровение Иоанна Богослова, гл. 1: 8.
(обратно)27
Отсылка к изречению философа Бенедикта Спинозы (1632–1677) – «Свобода есть осознанная необходимость».
(обратно)28
Декалог, или десятисловие, – один из древнейших фрагментов Торы (закона иудеев), названный так по числу кратких заповедей (Исход, гл. 20: 1–17).
(обратно)29
Ветхий Завет, третья Книга царств, гл. 18: 40. По библейскому тексту, жрецов было четыреста пятьдесят.
(обратно)30
Псалмопевцем называли иудейского царя Давида. Отсылка к псалму 136 (7–9), повествующему о Вавилонском плене евреев: «Господи, отмсти Едому за его злобу к Иерусалиму. Блажен тот, кто разобьет о камень и твоих детей, дочь Вавилона, опустошительница».
(обратно)31
Кучка избранных (англ.).
(обратно)32
Евангелие от Луки, гл 20: 25.
(обратно)33
Евангелие от Луки, гл. 12: 14.
(обратно)34
Коран, сура 2: 256.
(обратно)35
Монотеизм – единобожие.
(обратно)36
Коран, сура 50: 16.
(обратно)37
Коран, сура 24: 35.
(обратно)38
Джихад (араб. «стремиться», «прилагать усилия») – одно из многочисленных слов, которое, потеряв свой первоначальный смысл, стало использоваться для манипуляции общественным мнением и в информационной войне. Изначально слово «джихад» обозначало борьбу против недостатков, в первую очередь против своих собственных грехов и слабостей. Сегодня же джихадом называют лишь агрессию, порожденную стремлением к власти, ненавистью ко всему миру и стремлением уничтожить ислам, дискредитировав его как учение.
(обратно)39
«Си́ра» (араб.) – биография пророка Мухаммеда, а также события, произошедшие в конце VI и начале VII века, связанные с его жизнедеятельностью.
«Мага́зи» (араб.) – первый собственно историографический жанр, повествование о военных походах пророка Мухаммеда.
(обратно)40
Коран, сура 2: 191.
(обратно)41
Пророк Мухаммед заявил: «Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений…» (Коран, сура 2: 1).
(обратно)42
«Спой мне немного, немного…» (араб.)
(обратно)

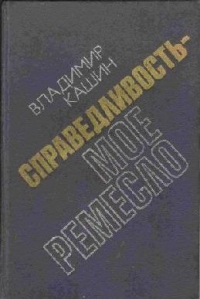


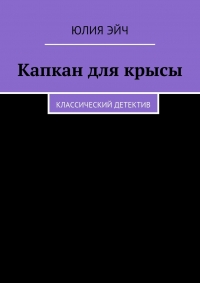




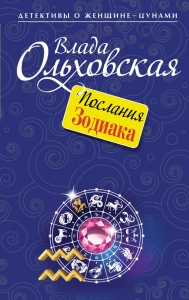


Комментарии к книге «Человек, который видел сквозь лица», Эрик-Эмманюэль Шмитт
Всего 0 комментариев