Вячеслав Белоусов По следу Каина
Посвящается Аксентию Малицкому, Виктору Баранову, Александру Коневу, Евгению Попову, Людмиле Маскаевой, Тамаре Смирновой, Якову Котляру, Владимиру Киселёву, Павлу Свистуле и другим моим коллегам и товарищам тех времён, когда в 1987 году по указанию правительства и руководства Генеральной прокуратуры мы начали проводить почетную и благородную работу по реабилитации жертв политических репрессий
И отвечая, весь народ сказал: Кровь Его на нас и на детях наших. Евангелие от МатфеяЧасть первая
,в которой известный коллекционер Дмитрий Филаретович Семиножкин претендует на главное действующее лицо, однако вместо этого становится первой жертвой таинственных и трагических событий
Глава I
Нам только исполнилось по двадцать пять, и это было чýдное время.
Ещё не извёлся бесшабашный дух Никиты Сергеевича Хрущёва и не успел заматереть в новом кресле Леонид Ильич, а про Юрия Владимировича в такой глухомани, как наша, не только не слыхали, но ещё и не догадывались. Наоборот, как сейчас помню, я даже особо не удивился, когда однажды в обеденный перерыв, мчась в пирожковую, был окликнут добродушным басом и застыл, задрав голову: надо мной в верхотуре на подвесных лесах два удальца зубилом и молотком крушили с фронтона хмурого здания огромный барельеф с изображением вождя народов. Задумавшись, я второпях заскочил в отгороженную ленточками зону и едва увернулся от сыпавшихся осколков. Уже без усов и глаза вождь утратил былую свирепость, испуганно таращился оставшимся оком, не зная, куда деться от стыда и позора.
Оттепель, про которую обмолвился модный писатель, отогрела некоторым души в столице и забылась, а на окраине, в наших местах, она ещё продолжала буйствовать, обратившись в настоящую весну. И остановить её или не смогли, или не догадались, а, может быть, и побаивались. Тайное становилось явным, разоблачения следовали за разоблачением, откровения будоражили, взрываясь искрами ожидаемых ещё более ярких перемен.
Именно в те времена особенно известен стал старший следователь Павел Федонин. Когда меня перевели в аппарат прокурора области, слава о нём гремела, как говорится, далеко за её пределами. Дела он подымал самые что ни на есть гиблые, запутанные, сложные; хитро и умело скрытые, попадая в его руки, они становились тем, чем были в действительности: грандиозно организованным, годами длившимся воровством народного добра, коварными хищениями миллионов и миллионов государственных средств. И, конечно, ужасно скандальными. Он арестовывал и передавал в суд не каких-то там упырей-мокрушников, а личностей с почтенными физиономиями при солидных портфелях, которые в городе были у всех на виду, рядом и вокруг того стола, куда простому люду с Криуш, Селений и Больших Исад ни носом, ни глазом.
Газетки тогда выпускались редко, без специального разрешения об этом не писалось, но кое-что каким-то образом просачивалось, а остальное узнавалось по утрам в очередях и разносилось на кухнях многосемеек. Молниеносно обрастая домыслом и фантазией, молва разлеталась по городу, обретая величины снежного кома, пущенного с горы в знатный снегопад. Известный парадокс – слухи, словно птицы, мчатся, опережая средства связи. А всё тайное, запретное усваивается взахлёб, и попробуй возрази Нюрванне на углу Советской у водочного или поспорь с самой Фирюзой в забегаловке на Татар-базаре!
И в аппарате авторитет Федонина был высок и непререкаем. Прокурор следственного отдела, такой же новичок, как и я, Сашок Толупанов переставал курить и прятал сигарету в рукав в его присутствии, грозная завканцелярией Светлана Дмитриевна у кабинета старшего следователя замирала и шествовала по коридору на цыпочках, поэтому представьте моё состояние, когда однажды я очутился с ним самим в приёмной, приглашённый по неведомому вопросу к прокурору области…
Глава II
Понимал ли я, хотя бы как сейчас, всё, что происходило вокруг тогда? Вряд ли. Что было за моими крутыми плечами?.. Школа с пионерской организацией, когда в лагере труда и отдыха каждое лето выходил я, слывший круглым отличником, в белых штанах и такой же рубахе на линейку с тяжелым вырывающимся из рук, раскачивающим меня знаменем, и под лихой барабанный бой и бравую песню:
Мы шли под грохот канонады. Мы смерти смотрели в лицо. Вперёд продвигались отряды Спартаковцев смелых бойцов… —проносил его мимо завистливых шеренг сверстников.
Далее следовал техникум с комсомольской дружиной и остроглазой Зосей Храпуновской, честно охотившейся за нами в поисках членских взносов и бесконечных отчётов: а что ты сделал на ниве общественного фронта для достижения славных побед над заклятым и загнивающим оплотом мирового империализма Соединёнными Штатами Америки? Прячась в общаге, вместо горна и барабана под гитару Пинча, Шурика Парафильева мы разучивали в заветной комнатке Зинки Сёминой лукавые песенки чудаковатого грузина Булата:
Любят девушки поэтов, С них они не сводят глаз. О, доверчивые души, Берегитесь нас!..А потом институт с бойкими регулярными и почти настоящими стройотрядами, где обязательно находился разудалый бородач, заманивающий к полуночному костру:
Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? <…> Отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, Чай вместо коньяка. И перестань, не надо про Париж…Вот и весь багаж. Вы оцените – немало. Как сказать… Мы, конечно, умели блеснуть заумными выкрутасами из фолиантов Адама Смита или Бертрана Рассела, на учебных вечерах поражали педагогов знанием Фрейда и Ницше, трудов которых было не найти, а чтобы наши девчонки крепче прижимались на танцплощадках, пугали их мрачными предсказаниями Нострадамуса или, хуже того, монаха Мальтуса, вставляя ради особого шика какую-нибудь французскую фразочку или вызубренную ещё с первого курса цитатку на латинском типа «спира, спера». Нас действительно распирало от здоровья, оптимизма и знаний. Но мы владели тем, чем нас пичкали, видели, что выставлялось перед нашими жадными глазами, что не прятали. Впрочем…
Впрочем, не стану лукавить. Был другой интерес.
Бунин или Шолохов? Почему тот, а не этот?.. Как случилось, что знаменитого могильщика капитализма Карла Маркса хоронили пять человек и лишь родственники провожали гроб? Великий еврей проклял своих, отрёкся от отца и матери? Правда ли, что про зека Ивана Денисовича такой же зек написал книжку, которую боятся печатать?.. Да мало ли. Как говаривал мой любимый сказочник Гофман, тёмными зимними вечерами мы обсуждали в общежитии такие задушевные проблемы, о которых под одеялом и со свечкой думать страшновато. Это ведь в нашем юридическом институте была раскрыта уже настоящая тайная студенческая организация, о которой только через тридцать лет Толя Стрелянный неведомо каким чудом сумел упомянуть несколькими строчками в самиздате о безвинно осуждённых и загубленных. И тех без фамилий.
И захлопнулся теми строчками двадцатый век…
Одним словом, выскочил я из кабинета Игорушкина вслед за старшим следователем и затоптался за его спиной, переваривая полученное задание и не зная, что делать. Кумир мой и идол, похоже, был не в лучшем состоянии, по крайней мере обо мне он вовсе забыл. Очутившись в коридоре, Федонин, не дойдя до своего кабинета, повернул к открытому балкону, словно за глотком свежего воздуха, отдышался, покряхтел у перил и судорожно захлопал себя по карманам, а отыскав портсигар, выгреб его из штанин и жадно закурил, вскинув глаза в прозрачную небесную высь, ища там спасение. А ведь он бросил! И за редкой папироской потянуться заставить его могла лишь особая, крайняя нужда!
Проняло Павла Никифоровича. Что же я о себе стану толковать? Шеф поставил такую задачку, что как говорится!..
– В общем, – повернулся наконец Федонин, сумрачно прокашлялся, словно поперхнулся коварной костью, и слеза в глазах, – поди туда, не знамо куда, но принеси то, не знамо что. Так получается?
Я кроссвордов не любитель и только пожал плечами. К тому же работал-то всего ничего. Я в этой конторе только принюхивался, можно сказать, и притирался, ожидая из любого угла подвоха. А особенно от разлюбезного Павла Никифоровича. Ещё не забылась история с гордецом Яковом Готляром, которому вместо уголовного дела старый лис кирпич в портфель сунул. И сдул спесь с орла. Но это другая история…
– Ну что же, тогда, как учили люди поумнее нас?..
Я терялся в догадках, кого он имел в виду, но глазом не моргнул, слушал.
– Будем начинать сначала?
Это и звучало вопросом, и выглядело не гениально, но было уже кое-что.
– Задача у тебя, Палыч…
Я чуть было не поперхнулся и глаза вытаращил – начинают сбываться мои опасения.
– Не дёргайся, как карась на сковородке, – прищурился он на меня. – Я же за старшего в нашей, так сказать, только что созданной следственной группе?
– Какая группа? Вы, Павел Никифорович, несколько агравируете.
– Подразделение! – назидательно подвёл он большой палец к моему носу. – По раскрытию, так сказать… инцидента, может быть, исторического значения… Взял бы блокнотик, что ли. Ты и у шефа сидел, как у тёщи на блинах.
Я на него от души покосился – сам-то он не лучше там выглядел. Но смолчал, пусть, думаю, покуражится, раз начал. Поглядим, чем всё кончится.
– Значит, так… в архивах пороешься. Поднять, посмотреть надо будет, что сохранилось с тех героических времён. Уголовное дело, конечно, изучишь от корки до корки, расстрельное же дело, такие дела вечного хранения… Заглянешь, так сказать, свежим глазом в тот революционный период нашей великой страны. Покопайся в материалах этого… самого! Как его?
– Атарбекова, – буркнул я совсем невесело. – Только кто мне позволит?
– Что?
– Это ж тогдашняя Чека! Хлеще нашего КГБ.
– Хуже, боец, – помрачнел Федонин, мне показалось, он оглянулся по сторонам, ёжась весь, будто на него морозом лютым дохнуло с летнего небушка. – Я тех времён не застал, а ты и подавно. Это, брат, особый отдел такой был…
Он помолчал, воздуха набирая, и медленно договорил, значительно приостанавливаясь время от времени:
– Особый отдел… южной группы войск… армии Восточного фронта… нашего края. Наделённый, кстати, чрезвычайными полномочиями. К стенке за пустяк могли поставить любого. Одно слово того Атарбекова знаешь чего стоило? Встречные в подворотне прятались, когда он по улице шёл. Борода чёрная и маузер по коленке хлоп, хлоп. Председателем был того отдела. Ущучил?
Я слышал, что Павел Никифорович увлекался военными мемуарами. Сам-то он воевал мало из-за ранения ноги, а о Жукове и его маршалах все книжки собрал, равного ему в этой теме не находилось, но чтобы он и здесь силён!.. Я зря язык не высовывал, я поёживался по другой причине – вот она, знаменитая сущность федонинская! Совсем неуютно сделалось мне под иглами его пронзительных глаз. Куда уж там сумеречной фигуре беспощадного чекиста в кожаной тужурке с допотопным наганом. Тут ближе опасность. Умеет старший следователь прикидываться телёнком, а потом раскалывать матёрых хищников. Но меня-то он чего пытает? Переспрашивать взялся, будто и не слышал раньше ничего такого… Я зло скосился на его ботинки – лучше б новые завёл, стоптал все каблуки, косолапит толстяк. Старший следователь называется! И щётку они у него давно забыли. Им бы по-хорошему этого самого гуталина пару банок на каждый нос. Ишь, черевички! Фик-фок на каждый бок!
– Вот, вот, – набычился я. – Меня к этим архивам на пушечный выстрел не подпустят.
– Не понял, боец?
Свято чтя первую заповедь сыщика – избавься от дела, иначе оно доконает потом, – я продолжал гнуть своё:
– У них всё сверхсекретно. И за семью печатями.
– Письмо дам.
– Им ваше письмо!.. – я постарался с интонацией.
– А вот здесь ты не прав, Палыч.
«Чего это он сменил тактику? Сейчас снова мухлевать начнёт, старый лис», – я подозрительно изучал лицо старшего следователя. Федонин укоризненно покачал головой, поморщился, но вдруг закончил игру, не докурив, жёстко смял папироску:
– В бумагах прошлого действительно вряд ли отыщем то, чего до нас уже искали. Но толк есть. Нам нужны факты. Отправные моменты. Был ли вообще тот диковинный крест? Найти документальные упоминания об этой архиерейской реликвии. Напрестольный алмазный крест самого убиенного Митрофана!.. Это тебе не фитюлька какая! Он большую историческую значимость имеет. Почему его раньше нас с тобой не нашли?.. А денежный эквивалент?..
Он так и выговорил, повторив без запинки:
– Это же целое состояние!
– Церковные архивы придётся ворошить!.. А туда как попасть?
– Может, и придётся, – не то поморщился, не то ухмыльнулся старший следователь и подморгнул, урезонивая. – Впервой, что ли, Палыч?
– В моей практике не было.
– И я в этих делах без навыка, – хмыкнул он опять, но радости в его глазах я не заметил. – Не боги, так сказать… не им одним с теми горшками возиться… Должна быть о том архиерейском кресте бумага. Я, вон, со своими вороватыми жучками вожусь, перстни, запонки, другие бирюльки с них снимаю при аресте, такие длиннющие ведомости к протоколу обыска составляю!.. А то – бесценная реликвия! Ну, ставили к стенке заговорщиков, ну, было, видать, за что, но и бумага на ту ценность должна быть… Поэтому нам её следует очень тщательно поискать. Описание того креста необходимо знать. Как он выглядел? Что за алмазы? И были ли? А то ведь фантазии такие разыгрываются у людей! Я, вон…
– После стольких событий, нескольких войн? – тянул я нудным голосом, не унимаясь. – Город наш и горел, и бомбили его, а ворья сколько! Живых-то не осталось.
– Петрович дал мне вот списочек, – Федонин помахал перед моим носом запиской. – Это, брат, почти вещественное доказательство. Список составил живой человек. И живых, конечно, сюда включил своею собственной рукой.
Я открыл было рот.
– Но этого мало, – не останавливался Федонин. – К тому же ты прав, неизвестно, уцелел ли кто до нынешних дней.
– Вот именно, – удалось мне вставить, – сметает пыль с могильных плит…
Федонин как-то по-особенному на меня глянул, но я уже не останавливался:
– Вы знаете, как сам Атарбеков погиб?
Я специально приберёг этот вопросик своему напарнику, раз уж он такой умный, не помешает и его носом ткнуть. Федонин улыбнулся, доверчивое детское удивление изобразил:
– Как чекисты умирают? На боевом посту, конечно. Для них, брат, пуля заранее отлита. Им в постели, как нам, заказано. А у тебя другое мнение на этот счёт?
Я сконфузился, ничем его не пронять:
– Есть версия…
– Версия – это догадка. Следовательно, не знаешь. А чего спрашиваешь? Ладно… Хватит о покойниках. Вся надежда у нас на живых… родственники, дети, внуки…
– Это как на дно с нашим аквалангом, – опять не утерпел я.
Переехав в город, повезло мне записаться в клуб яхтсменов; хотя я, как говорится, в парусах ни ухом ни рылом, но на лодках могу, а на днях акваланг моряки подарили списанный, так что я испытал «счастье», когда краник подачи воздуха заедать начинает: ты на дне, над головой воды с пяток метров и… так отчётливо своё детство вспоминается! Вот и теперь. Тоской безысходной повеяло от слов Павла Никифоровича. Федонин глянул на меня и всё понял:
– Согласен, но такие истории в семьях передаются из поколения в поколение. Видел же крест тот Львов.
– Когда это было?! Ещё до войны, если верить Семиножкину.
– Стоп! Семиножкин – фигура в области археологии и этих самых… исторических раритетах. Наш Петрович другого и слушать бы не стал, а он нас запряг, лишь научное светило заикнулось о помощи. Ишь, почерк какой! – старший следователь упёрся в записку глазками. – Не разберёшь! Только учёные и сумасшедшие так могут. Нет, Семиножкин – авторитет!
– А где гарантия, что Львов тот самый крест видел? – не стерпел я.
Мне всё время казалось, что Федонин специально меня разыгрывает, уж больно несерьёзно выглядел. Или задачка, заданная прокурором области, казалась такой невероятной и от этого он никак не мог прийти в себя? И так и сяк я изучал мудрые извилины на его морщинистом лбу, но подводила меня интуиция: старый лис был непроницаем.
– Что мы знаем об этом Львове? Нет его давно. Если и дожил до войны, то погиб, скорее всего. Первыми забирали его возраст, – не сдавался я.
– Почему же? Вот он в списочке этом, – Федонин погладил листочек. – Правда, списочку неизвестно сколько лет… Уж больно бумага желта, боюсь и дохнуть на неё. Почерк-то Семиножкина я видел, мне Петрович его заявление давал читать, а тут рука не та. Но тоже… умный человек приложился… Тут ведь каждая крупица. Я когда услышал от Игорушкина эту фамилию, враз Андрея Ефремовича вспомнил…
Он зачесал затылок, пошевелил губами:
– Львов… Львов… Вот какой фамилией царской судьба наградила. Из какой же породы родители?..
А я гадал о другом: что это на ум старшему следователю явился наш древний артефакт Андрей Ефремович Бросс? Старший помощник по надзору за местами отбытия наказаний, мы его для краткости называли помощником по тюрьмам, – уникальная личность. Ему лет эдак?.. Не скажу, точно не знаю, а врать про такую историческую реликвию совесть не позволяет. Как древний экспонат, он своё давно оттрубил, но прокурор области таких редких держит вопреки уставам и правилам, бережёт, словно Фирс тот шкаф у Антона Палыча. Спросите – и он наверняка назовёт шулеров, которые обчистили карманы самого императора, когда Петруха прикатил к нам готовить поход в Персиду. Наш местный дока, краевед Александр Сергеевич, с ним тягаться опасается.
– Андрей как-то рассказывал про коменданта нашей тюрьмы, – оставил наконец в покое свой затылок Федонин.
– При чём здесь комендант? Это что за фрукт?
– В те революционные времена, молодой человек, командовал в нашей тюрьме комендант, а не начальник. Игорушкин как этот списочек озвучил, так мне рассказ Андрея Ефремовича и отпечатался. Львов и был тогда комендантом тюрьмы. Думается, что он отношение к тому сгинувшему кресту имеет самое что ни на есть прямое.
– Это почему же?
– Ну как же! Заговорщиков в тюрьме держали и расстреляли там же. Тогда, брат, далеко не возили. Должен он помнить те события. Ему по служебному положению обязано. Вот нам первый следочек.
– Если жив.
– В списке значится, – бодро пробасил Федонин. – Я Игорушкину заикаться сразу не стал, чтобы не будоражить раньше времени. Про реликвию ту Андрей-то мне ни слова не промолвил. Но ты знаешь Бросса, он, старая калоша, правила свято чтит, лишнего не выдаст.
– О чём же он вам исповедовался? – съязвил я, не удержавшись.
– Да так, разговорились что-то… – пожал плечами старший следователь. – Пил тот Львов как верблюд перед походом в пустыню. Только горбатый водой злоупотреблял, а Львов всем подряд. Старше Андрея, а лакал!.. Здоров был, бродяга.
– Неудивительно. Насмотрелся, натерпелся. Многие надзиратели так кончали.
– Да уж. Бросс рассказывал, у того Львова привычка по молодости была: нажрётся до чёртиков и отправляется в тюремный двор приговоры исполнять. Самолично казнил врагов народа твёрдой пролетарской рукой.
– Тогда что ж? Тогда с него и начинать надо!
– Вот! Это ж для нашего дела верный хвостик.
– Да… – поёжился я. – Досталось им времечко.
– Мы наглотались, а уж им! – Федонин тоже плечами передёрнул и толкнул меня локтем. – Найди его. Если его удастся разговорить…
– Мне представляется… – начал я.
– Привлекай кого хочешь. Задействуй Донскова, он шустрый малый.
– Кандидатуру Донскова надо с самим комиссаром УВД согласовывать.
– Да ладно, не мелочись. И вот этих Игорушкин просил вызвать, – старший следователь торопливо сунул мне листочек со списком, царапнув ногтем какую-то строчку. – В первую очередь.
– И ниточка потянется, – ехидно озвучил я его любимую присказку.
– А клубочек сам приведёт, – не смутившись, кивнул он. – Действуй, боец.
Мне так и не терпелось спросить, а чем он сам станет заниматься, но пока я соображал, как это сделать поделикатней, старый лис развёл руки в стороны:
– У меня Змейкин вот где сидит, – он пригнул голову, будто жирный завтрестом столовых и ресторанов, а по совместительству злостный расхититель миллионов, действительно оседлал его шею. – Тебе ли не знать, Палыч? А ведь никто ответственность с меня не снимал. И сроки продлять у Руденко боятся. А к субботе ты управишься.
Я обмер, совсем не находя слов.
– Ты их установи и на субботу утречком обяжи явкой в аппарат. У меня и потолкуем вместе, – заверил он и проскользнул мимо по балкону в коридор, переваливаясь на своих растоптанных.
Какая суббота! У меня с Очаровашкой и сыном в выходные дни цирк, пиво с Валеркой в прекрасной Аркадии!.. Но он уже открывал дверь своего кабинета.
– Павел Никифорович! – всё же крикнул я ему в спину.
– Исполнять, боец, – не обернулся он.
Глава III
Вам, конечно, не посчастливилось видеть нашу Аркадию? Примите, как говорится, мои глубокие… Моему поколению тоже, так сказать, досталось то, что осталось, но… Райский уголок для отдыха! И вообще… Дворец! Кижи, что называется, отдыхают. Я бывал и в других местах. У них тоже одним топором, без единого гвоздика. Но там грусть музейная. Глянешь – всё в прошлом. Живых-то, кроме туристов, не видать. Помню, подсунули нам двух ряженных под старинку, сидят с лучиной незажжённой у оконца в закопчённой избушке, будто сукно ткут. Изображают. И до того всё пришибленное, убогое: головы ниц, к земле пригнуты горем неведомым. Будто всё кануло, всё кончилось, будто там осталось всё в прошлом. И надежд никаких, без просвета. Тоска…
А у нас?! Аркадия светится вся, яичко золотое сказочное! Верхушки – маковки дворца сверкают, ввысь, как руки, словно и не деревянные, тянутся, к солнцу так и рвутся! И дети везде. Смех, беготня, веселье. У каруселей, на качелях, в хороводах. А женщины? Вы видели когда-нибудь красивей? Они как бабочки порхают! Мы с Валеркой глазами не успеваем водить. Он не забывает время от времени на ногу мне нажимать – наши-то рядом, и Очаровашка моя, и его серьёзная Таисия, они не только за детьми присматривают.
– Как? Сгоняем королевский гамбитик? – пристаёт он.
– А ты подготовился? – отвечаю. – Учёл прошлые ошибки? Пиво обещанное заказал?
– А то…
Сгорела она, наша Аркадия, несколько десятков лет назад. И Очаровашки моей нет на белом свете. А я вот на фотографии гляжу. В тот самый день снимки делал. «Зенит» прихватил с собой, знаменитую ценность следователя, хотя Павел Фёдорович Черноборов, наш криминалист, вручая его под ведомость, наказывал беречь пуще зеницы ока и по пустякам плёнку не транжирить. Если бы он видел, как использовалась его драгоценная техника в тот раз!
Вот она, прекрасная Аркадия! Очаровашка одни её маковки златоглавые нащёлкала среди листвы деревьев, а здесь, на фоне дворца, мы втроём, вся наша тогдашняя весёлая семья. Всполошил Очаровашке волосы нахальный ветер и с платьем зашалил, ещё в те времена умыкнуть её собирался… У наших ног до колен едва достаёт Родька, наше счастье. Ему трёх лет не было… А здесь мы с Валеркой за шахматной доской, позируем Таисии в павильоне, серьёзные!..
– Ты ходить-то будешь? – это уже вживую толкнул он меня коленом. – Силён жлоба давить.
– У нас такая профессия, мой друг, сначала головой работать. Не как некоторые.
– Значит, удалось от Федонина улизнуть?
– И не собирался. Само собой обернулось, – начал я рассказывать, двинув пешку вперёд; что королевский, что ферзевый гамбит он играл отменно, поэтому я уповал сегодня на сицилианскую защиту.
А события в истории, которая нам со старшим следователем сразу не понравилась, действительно развивалась не благостно. Во-первых, как я предполагал, в архив КГБ попасть не удалось. Мало того, согласовывая вопрос, я убил массу времени на телефонные переговоры с большим количеством важных чинов комитета, истрепал кучу нервов, о чём в конце концов известил Павла Никифоровича. Тот с зубной болью на лице сверкнул глазищами из-под лохматых бровей:
– Значит, не желают делиться тайнами?
– Говорят, что особая информация. Режим секретности повышенный. Не по нашим зубам, – я не стал будить зверя, не заикнулся, что на его письмо не пожелали даже прислать ответ.
– Ну, они у меня попляшут, – напыжился Федонин и закосолапил прямиком к Игорушкину.
Однако оказалось, что и звонка прокурора области было недостаточно, в конторе вежливо попросили официальный запрос за его подписью. Федонин был отослан Петровичем готовить новый текст, но когда наутро заявился, шеф отсутствовал, в приёмной сообщили, что он улетел в столицу на совещание и возвратится не раньше следующей недели.
Известие о второй осечке доставил мне оперативник из «уголовки» капитан Донсков, которого я занарядил просьбой со списком, выданным мне Федониным. Из восьми человек он смог пригласить на субботу лишь одного. Кто уехал, кто болел, кто вообще не проживал по указанному в записке адресу.
– Один Семиножкин получается? – оторвал голову от бумаг на столе старший следователь, когда в пятницу уже ближе к вечеру я доложил ему результаты поисков.
– На два часа приглашён повесткой, – кивнул я уныло.
– Почему среди дня? На утро нельзя было обязать? – поморщился Федонин, и я уловил такую же тоску в его глазах.
– Плохо себя чувствует. Вообще и он отказывался, в постели с температурой.
– Вот как…
– Это нас ничего не берёт.
– Сплюнь.
Я бы сплюнул не без удовольствия; как представлю испорченную субботу, так не по себе становилось, а ещё Очаровашка не знала, не ведала.
– Пиво там вкусное, – поджал губы старый лис. – Такого «жигулёвского» я нигде не пробовал.
– Везде сладко в выходные дни, – отвернулся я и в муках зашагал к двери.
– Не скажи. Если с воблёшкой весенней… – он вкусно облизнулся. – Ты вот что, Палыч, бери с собой Очаровашку и дуйте с киндером своим в Аркадию.
– Павел Никифорович! – развернулся я на сто восемьдесят градусов.
– Беги, беги. Справлюсь и один с тем болезным.
Так всё и обошлось бы в тот день, но не тут-то было. Затемно возвратились мы домой, сынишка спал у меня на руках, его в трамвае всегда укачивает. Очаровашка бросилась стелить ему кроватку, тут и затрясся наш телефон в сумасшедшем трезвоне. Она его попробовала впопыхах утихомирить подушкой, да куда там!
– Возьми, – моргнул я.
– Тебя, – схватила она трубку и побледнела.
– Кто? – я не ожидал ничего хорошего от ночных звонков.
– Федонин, – она поднесла трубку к моему уху.
– Загулял, парень? – услышал я хриплый голос с характерным покашливанием, это значило, что старший следователь опять внезапно закурил.
– Спасибо. Ублажили вы нас весёлым деньком.
– Который раз звоню.
– Что случилось, Павел Никифорович?
– Труп у нас.
– Что? Какой труп?
– Этого… Семиножкина-то я так и не дождался. Послал за ним дежурного из райотдела милиции, а тот рапортует – к холодному телу поспел. Уже увозить в морг собирались. Я запретил.
– Что же случилось?
– Вот и я гадаю.
– Странная история.
– Не говори. Скандалом пахнет.
– Да мы-то при чём? Он, кажется, болел.
– Вот что. Я машину за тобой послал. Съезди. Погляди для очистки совести. Протокольчик оформи чин-чином. Экспертизу назначь. Поставь вопросики. Чем чёрт не шутит. Да в понедельник на вскрытие в морг не забудь.
– Павел Никифорович!..
– Отвык я со своим пузатым ворьём из благородных. Не переношу покойников ко сну.
Глава IV
Во вторник нам с Федониным предстояло явиться пред ясные очи прокурора области. Утречком, задолго до рабочего часа, мы сидели в кабинете, сетовали на беспросветное будущее. Старший следователь рассеянно перебирал жидкую кучку собранных нами бумаг, я, устроившись на подоконнике у его знаменитого аквариума, тянул одну сигарету за другой, пуская дым в распахнутое окошко.
– Ты туда, туда дуй, – кивал во двор Федонин время от времени и барабанил пальцами по портсигару. – Не совращай меня. Да этот… аквариум не повреди.
Аквариум был известной слабостью старшего следователя и его давнишним душевным увлечением. Поначалу он был сооружён во всю стену за спиной хозяина и поражал фантастической красотой. Но повалил, как на выставку, наш любопытствующий народ, раза два-три зашёл и сам Петрович, не удержавшись, и от былых размеров чудесного реликта остались одни воспоминания. Впрочем, и на том, что осталось, замирал, радовался глаз, а старый лис не забывал повторять о военной хитрости этого обитателя его апартаментов: «Особенным образом он действует на моих постоянных клиентов. Они в свою среду попадают, в свою фауну, у них сразу ассоциации – аквариум, кресло, ваза, камин… другая обстановка, атмосфера. Поэтому в тюрьме я не любитель с ними откровенничать, там апартаменты не располагают. А здесь они расслабляются, начинают мне про свои увлечения щебетать, ну и про миллионы, конечно, наворованные. Адаптируются, так сказать…»
Первым принесло Яшку Готляра, и сразу от его новостей некуда стало деться. Оказывается, возвратившись из столицы темнее тучи, весь понедельник прокурор области гонял начальство, потом собрал внеочередное заседание коллегии, срочными телефонными звонками тут же вызывались городские и сельские прокуроры. Раскланиваясь в приёмной, они с придыханием шествовали «на ковёр», а оттуда выскакивали, как из парилки, с всклокоченными волосами, красные, глаза вразлёт и, ни слова не говоря, бросались за дверь, прыгали в машины и уносились пуще ракет, готовые если не взорваться, то уж точно немедленно умчаться в поднебесье и бомбить обозначенные цели. Захлёбываясь от чувств, Яшка, конечно, прибавлял от себя и балагурил, но мы с Павлом Никифоровичем мрачно переглядывались, встревоженные не на шутку. Нас обоих ждала та же участь. Докладывать Игорушкину было нечего.
Вчера я весь день проторчал в бюро экспертиз на вскрытии, Федонин – в КГБ. Над добычей нашей плакал тот самый кот, поэтому старший следователь ещё сильнее забарабанил по портсигару, убивая взором веселящегося Яшку, а я задымил сигаретой, как колёсный пароход из кинофильма «Волга-Волга» перед катастрофой.
– Ты смотри! – поморщился Федонин. – Мне в аквариум пепел не стряхни.
Должно быть, от Яшкиных страстей рыбки метались там, не зная куда деться.
– Что им будет-то? – не унимался Готляр и, подбежав к аквариуму, заводил своей сигареткой у стекла. – Яд нам, а им, если и достанутся, – минералы.
– Кстати, про яд, Павел Никифорович, – вернулся я к нашему разговору, прерванному прокурором отдела. – Отчего умер Семиножкин пока неизвестно. У него внезапно началось сильное сердцебиение, и в течение часа он скончался.
– Инфаркт? – поднял брови Федонин. – Это кто же его напугал?
– Врачи «скорой» успели приехать, пытались спасти, но… даже не повезли в реанимацию, – кивнул я. – А кто испугал?.. Жена рассказала, что посетителей особых не было. С приятелем тот засиделся накануне допоздна. Но тот обычно у них дневал и ночевал. А посторонних никого.
– И не жаловался?
– Наоборот. Всё бодрился, таблетки прятал тайком, хотя старикан древний. Бегал по утрам и купался регулярно.
– По системе Поля Брэгга, – опять влез Готляр. – Я вот тоже думаю бегать надо.
– Вот так, – покачал головой Федонин, – живёшь, живёшь и не думаешь, что завтра в резалке окажешься. А мы суетимся, ссоримся, всё что-то доказываем друг другу. Сейчас Петрович станет нервы мотать.
– Да наша медицина!.. – подскочил со стула Готляр в азарте возмущения. – К моей Сонечке в аптеку повадился недавно один…
– Югоров с выводами не спешит, – перебил я его.
– Сам вскрывал? – оживился Федонин.
– Константин Владимирович, – кивнул я. – Вам большой привет. Сказал, не следует торопиться с выводами, подождём результаты химических исследований… крови, подногтевого вещества, содержимого желудка… Вдова Семиножкина больно уж тревожилась.
– Значит, таблетки прятал? – покачал головой Федонин.
– Вообще-то он сильно верующим был, – поделился я своими соображениями. – Николай Петрович нам с вами рассказывал, что Семиножкин долгое время в музее работал, а мне кажется, это не главное занятие в его жизни. Приехал я осматривать их квартиру и ахнул. Чуть не алтарь из икон на одной из стен в его комнате и утвари церковной полно. Он или собирал всю жизнь, или в церкви служил.
– Хоббизм, – всполошился Готляр и глаза его засверкали. – Сейчас этих сумасшедших!
– Неслучайно он насчёт креста архиерейского беспокоился. Аж до Петровича ходы нашёл. Неспроста это, верно ты подметил. Полно, значит, этого добра в его хате?
– С избытком. Только выводов из этого никаких, – погрустнел я.
– Вот и у меня не густо, – вздохнул старший следователь. – Впустую я у чекистов время провёл. Так… всё вблизи, но как в грязи. Картину, конечно, вокруг этого архиерея неважную они мне нарисовали. Признан он был одним из организаторов крупнейшего белогвардейского заговора в девятнадцатом году. Газеты о нём писали… Мне их показали, статейки тех дней. Расстрелян одним из первых среди заговорщиков, а их всех-то было за полусотню.
– Официально ничего не дали?
– Запрос я лишь сегодня подпишу.
– Что это у вас за тайны? – сунулся было к старшему следователю Готляр. – Архиерей, кресты, труп?
Но ответить мы не успели, позвонили из приёмной: нас требовал Игорушкин.
Глава V
Звонок был тихим и осторожным. Несколько раз нервно прерывался. Соседка так не звонила. К тому же – она вспомнила – у той был ключ, дала сама на всякий случай. И Аркадий Викентьевич никогда так не звонил. Значит, посторонний. Узнал про случившееся и заглянул. Она тяжело поднялась, посидела на кровати, дожидаясь, пока не перестанет кружиться голова, привела себя в порядок, долго шла к двери, заглянув в дорогое овальное зеркало на стене. Всё стихло, пока она добралась. Спросила. Без ответа. Открыла, бранясь на саму себя. За дверью никого. Вот наказание! Причудилось. А что? Вторые сутки Серафима Илларионовна Семиножкина без сна и какой росинки во рту, с открытыми глазами, уставившись в потолок, пролежала в постели, словно в небытиё провалилась. Одна осталась. Лишил и её белого света своей смертью Дмитрий Филаретович… Подосадовав на себя и дверь, она развернулась обратно. Только легла, снова шум. Соседка.
– Одна, Серафима?
– Кому быть-то? – закрыла она тяжёлые веки, поморщилась.
– Вроде звонили? Нет?
– И тебе померещилось?
– Слышала я, будто дверь открывали, – приложила та мокрый платок на её горячий лоб. – Укутать ноги?
– Не надо. Вставала вот, – слукавила она, – проверяла, не настежь ли дверь.
– Да что ж я? Как можно настежь? Ещё в уме. Подымайся, Ларионовна. Чего вылёживать-то? На том свете належимся. Я сейчас чаёк сгондоблю. Горяченького попьёшь. И все думки из головы.
– Нет уж. Я теперь не встану. Отец Кирилл был. Я обо всём распорядилась. Службу проведут здесь. Вот только дождаться, когда привезут Дмитрия Филаретовича.
– Чего же тянут? – в который раз спросила соседка, самой под восемьдесят, хоть и легка на ноги, но с памятью не в ладах: десять раз одно и то же, устала ей отвечать вдова.
– Ты же здесь была? Понятой при осмотре? Не помнишь?
– Народ бы успеть оповестить.
– Знают, кому нужно. Я Тоську с первого этажа попросила, она по подъездам пробежалась. Аркадия Викентьевича что-то не видать. Не случилось с ним чего? Не заходил он, пока я валялась?
– С живым ещё Филаретычем видела, а больше нет.
– Вот беда!
– Да что с ним сбудется? Молодой, крепкий. Прибежит.
Соседка копошилась, ахала, охала, крестилась в верхний угол на иконы:
– Я что говорю, Ларионовна?.. Алтарь-то ваш не убрать? В зале. Как привезут тело, народ-то разный соберётся, – она кивала на комнату, где все стены были увешаны золотистыми, покоряющими благородством иконами и картинами на библейские темы в тяжёлых старинных рамах. – Ворья-то сейчас! Не уследишь. Ты вон в каком виде, и я того хуже.
Ответить Серафима не успела, в передней позвонили.
– Привезли! – охнула соседка и бросилась туда, но скоро вернулась, не одна, за её спиной скромно прятался бледный Дзикановский.
– Аркадий Викентьевич! – не удержалась вдова, и слёзы залили ей лицо. – А я уже всё передумала! Покинул нас Дмитрий Филаретович.
Он, видимо, уже всё знал, чернел впалыми глазами и чёрной до синевы бородой, глаз на неё не подымал, впалые щёки на белом лице не оставляли сомнений – мучился не один час.
– Что ж вы не приходили? – спросила всё же вдова, не удержалась.
Соседка засобиралась уходить, бросилась к двери:
– Я после загляну.
– Я всё передумала. Не заболели ли вы?
– Да, – кивнул он. – Только встал на ноги. Мне отец Кирилл о беде поведал. Я к вам.
– Да что же с вами случилось, голубчик? Участковый мне передал слова следователя, который у нас осмотр делал. Будто Дмитрий Филаретович мог отравиться. Потому и затяжка. Исследуют они сейчас… тело. Уж не вместе ли вы что кушали?
– Извиняюсь покорно, Серафима Илларионовна, что же кушать за шахматами? – опустил глаза Дзикановский. – Как обычно. Так… Пустяки разные. С кухни, правда, Дмитрий Филаретович булочку приносил и чай.
– Не пили?
– Да это не допрос ли, матушка? – Дзикановский опёрся плечом о косяк двери. – Как обычно. За несколько часов, что мы потратили на три партии, полбутылочки коньяка хватило.
– Я же его предупреждала не пить перед сном! – взмолилась Семиножкина и откинула голову на подушку. – Несносные вы, безжалостные!.. Не думаете о других!
– Помилуйте, Серафима Илларионовна! Несколько капель!
– Перестаньте. Сами проговорились, что мучились. Потому и явились не сразу.
– Я же, простите, животом страдал. Будто кишечное отравление. Но самую малость. На второй день отпустило.
– Вы молоды. Сравнили. А что с животом? Что кушали?
– Да ничего. С кухни, я же говорил… А коньяк для сосудов!.. Нет. Это не причина.
– Ах, Аркадий Викентьевич! Что мне сказать!..
– Простите, но…
– Следователь молодой, но такой странный. Всё ему интересно, всё он выспрашивает. Я почувствовала себя преступницей. А вы пропали…
– Моё самочувствие, Серафима Илларионовна, мне не позволяло. Но как только улучшилось…
– Оставьте меня.
– Серафима Илларионовна, дорогая!
– Подайте мне воды и уходите. Мне надо побыть одной.
Он долго возился на кухне, вошёл ещё более бледный, потерянный, но как всегда красивый. Она выпила из его рук, оттолкнула стакан:
– Вы помните. В двери английский замок. Захлопните сами. Прощайте!
Сказала с надрывом и действительно с глазами её будто что-то случилось, будто они покрылись туманом или сумеречной пеленой, а голову закружило, убаюкивая. Последнее, что запомнилось ей, это большая безликая физиономия наклонилась над ней, и голос произнёс что-то. Но что это были за слова, она уже разобрать не могла, провалившись в тяжёлую бездну сна.
Глава VI
Повидав и пережив многое, Игорушкин постиг науку предугадывать возможные удары судьбы и неприятности. Интуиция, выработанная годами, берегла его, спасала, казалось бы, в безвыходных ситуациях, помогала вовремя учуять, откуда дует ветер беды, и он успевал уберечься. Ожидаемая стрела, переиначил он древнего поэта, нежнее жалит. А то, чем он занимался, что избрал однажды на всю жизнь, оставив тихую профессию провинциального учителя, было не увлекательной игрой или азартным приключением, это оказалось жестокой борьбой, когда за ошибки приходилось расплачиваться многим, а то и жизнью, ибо на карту поставлена честь мундира и государева ока.
Особенно почувствовал он это после назначения прокурором города Сочи. Хотя за плечами уже был опыт работы в одной из центральных областей и в прикавказской республике, тогда впервые и испытал, как за секунды мокрым становится китель на спине и под мышками, как не хватает воздуха и останавливает сердце неудержимый животный страх. Именно от него, от постыдного, презренного животного страха он, большой, здоровый, сильный молодой мужик почти двухметрового роста, приучивший себя достойно держаться в любых ситуациях, однажды ничего не мог поделать и стыл безмолвной глыбой, выпучив глаза. Это случилось в один из приездов Сталина на отдых. Впервые в метре от себя он увидел вождя живым. Генералиссимус пренебрёг грозной формой, чем блистал с портретов, лениво вышагивал в светлой фуражке, пиджаке и штанах, попросту заправленных в чёрные лайковые сапожки. Изредка из встречающихся кому-то кивал головой, но без эмоций, будто задумавшись о своём, глубоком. И вдруг развернулся, приметив незнакомого, отстранил мельтешивших, мешавших и упёрся в его грудь трубкой, не подымая головы и хмуря брови. Вроде вождь что-то сказал чуть слышно, прожёг его тигриным взглядом жёлтых глаз. Кажется, даже спросил. Но Игорушкин онемел. И тогда вождь поднял голову.
– Этот и есть новенький? – оживил ему уши скрипучий грузинский акцент. – Не частенько наш прокурор их меняет? Не доверяет?
Ни жив ни мёртв вытянулся струной и впился глазами в фуражку вождя Игорушкин. Спина окаменела, не согнуть, в глаза вождю с высоты своего роста не заглянуть. Хмыкнул рядом нарком в пенсне, обдав презрительной усмешкой из-под шляпы, и процессия миновала. А он ещё стоял, не шевелясь, долго не мог прийти в себя, корил за минутную слабость.
После, не раз анализируя происшедшее, он передумал всё. Ему среди немногих было известно пренебрежительное отношение Верховного к Генеральному прокурору Союза. Прокуратура не была в почёте у вождя, Сталин предпочитал тайный сыск, которым ведало НКВД и не терпел Сафонова, не скрывая. На одном из серьёзных совещаний, когда Сафонов попросил слово для выступления, Сталин на весь зал спросил помощника: «Кто это?» – а Берия тут как тут, сразу же начал собирать на Генерального компру – дни его были сочтены, ждали, когда придут…
Прошли времена те давние, Роман Руденко, новый Генеральный прокурор – любимчик вождя, герой Нюрнбергского процесса; рассказывали, что Сталин лично правил речь государственному обвинителю перед выступлением. Да и с человеком в пенсне, нагонявшим на всех ужас, разобрались, разогнав всю его бандитскую шайку. Игорушкин почти забыл свои тревоги. С приходом нового Генерального прокурора за десяток промчавшихся лет он сам сменил не только хлопотный курортный городок, но и не одну область, оказавшись здесь, на тихих берегах Волги у самого моря. Здесь, мечтал он, неплохо было бы и осесть навсегда. Заслужил, да и возраст подбирался, убаюкивая ласковыми тихими вечерами благостными мыслями о покое.
И вдруг это!..
Возвращаясь из столицы после совещания, мучаясь как обычно без сна в душноватом купе у тёмного окошка, под стук неугомонных колёс Игорушкин вдруг остро ощутил забытую с годами тревогу притаившейся опасности. Она кольнула его слева как игольная боль и уже не отступала, и уже совсем лишила сна. А он ломал голову – где оступился?.. Нет, критика и наставления по поводу текущих просчётов, которые звучали с трибуны, его лично не касались, поэтому особенно не беспокоили. То поправимо. То было обычной рабочей ситуацией для всех: неумех учили, ленивых гоняли, передовиков ставили в пример. В Генеральной прокуратуре затевались новые, демократические подходы, организовывались перспективные направления, расширялись специальные функции, в общем надзоре в гражданском судопроизводстве намечались революционные сдвиги, руководство нацеливало на эффективные рычаги в деле искоренения последних родимых пятен негатива. Подталкивали к усилению, повышению, улучшению… Нет, на коллегии его не зацепили. А вот в последние дни? Уже перед самым отъездом?.. Игорушкин вспомнил тот день. Уже состоялось официальное прощание с начальством, уже обегал все управления и отделы, где задумал побывать, кому улыбнулся, от кого упрёки получил, кому привет передал. Куплены билеты в обратную дорогу, позади хлопоты с подарками; остался традиционный вечер в гостинице с друзьями-товарищами по славному долгу. Игорушкин давно уже входил в компанию своих, волжских прокуроров, хотя подымал рюмку за столом курских, орловских и других коллег. Было вспомнить о чём и с ними. И… и его пригласили в тот кабинет. По правде говоря, отдел тот был учреждён недавно, он там ещё не был ни разу, по телефону и с начальником познакомился, и говорил не однажды, но чтобы… Отдел этот в Генеральной прокуратуре ведал вопросами КГБ, конторы, принявшей на себя всё бремя прежнего НКВД, среди своих знающие перемигивались: название сменилось, сущность прежняя, только совершеннее с учётом трёпки на известном скандальном съезде, где Никита Сергеевич основательно промыл кое-кому потроха. Не то чтобы по старой памяти Игорушкин сторонился этого нового отдела или обходил, а как-то всё недосуг, не было надобности. А и то, какая в нём нужда в его области? Его область отродясь ни в чём замечена не была, чтобы отдел этот интересовать. Война последняя, слава богу, область почти миновала стороной, шпионами здесь не пахло, а у этого отдела полномочия!.. Ого-го! Им не до них. У него в аппарате такого подразделения создать даже не посчитали нужным. В штаты человечка не дали. Когда по телефону речь зашла, он и заикнуться не успел, отбрили: воздержаться от единицы помощника по этим делам. Он про Волгоград намекнул, земляк похвастал, что ему выделили должность на этот участок, но его возражений никто слушать не стал. Порекомендовали включить самому себе в обязанности, что он и сделал послушно. С тех пор ходил в ту контору на итоговые совещания, слушал отчёты, воду минеральную пил, о серьёзных вещах они там не говорили, опять у них всё сверхсекретным стало. Так, вокруг да около.
Поэтому на встречу к старшему помощнику Генпрокурора по КГБ шёл без всякой мысли, наоборот, думал высказать претензии о недоданных штатах. А посидел в коридорчике, дожидаясь очереди – оказывается, не он один приглашён! – потолковал с одним, другим, совсем заволновался: найдут, чем зацепить. Но разговор с общего начался, он снова начал о штатной единице. Ему сухо и тактично разъяснили что и как, убедили, спросили о проблемах. Терпимо. Какие проблемы? Вот здесь советник юстиции, молодой, но ушлый, за версту видно, спросил об архивах. Он поначалу не понял, переспросил, что того интересует.
– Что вас, Николай Петрович, могло заинтересовать в архивах местного КГБ? – насупился собеседник и остро отточенным карандашиком по столу перед собой застучал резко, но внятно.
Он глаза на советника поднял, недоумевая.
– С каких это пор ваших следователей интересуют архивные секретные дела расстрелянных заговорщиков?
Вот тогда он и вспомнил Федонина, тот собирался письмо у него подписать, да не успел. Это значит, без письма нагрянул, пока его не было, а начальник КГБ сюда нажаловался!.. Вот они, старые приёмчики! Правильно калякали – шубу сменить, это ещё не рожу умыть. Наябедничали, значит…
Однако замечанием отделаться от советника не удалось. Попробовал рассказать историю о реликвии пропавшей, тот брови вскинул – не там поиски учиняете! И вообще архивы того учреждения неприкосновенны! Это особый режим секретности. Сам Генеральный подписывает подобного рода запросы. Делалось это несколько лет тому назад! В исключительных случаях! Когда было принято решение высших партийных органов о реабилитации конкретных лиц, пострадавших от политических репрессий!..
– Не мне вам объяснять, Николай Петрович, – поставил точку собеседник. – А виновных за самоуправство привлеките к ответственности.
Так и сказал – за самоуправство. Он пробовал возражать, сам бы письмо подписал, не успел к нему старший следователь.
– О принятых мерах сообщите лично, – встал собеседник и подал руку, не улыбнувшись. – Я жду вашего приказа.
Вот такой тяжёлый состоялся у него разговор в последний день московской командировки. Это и озадачило Игорушкина, это и вызвало былую, годами забытую тревогу. Дохнула на него из тех, сороковых, смертельной опасностью. «Утратил бдительность, старая калоша!» – ругал он себя мысленно, так и не заснув до утра, один перед тёмным окном. А как приехал, учинил в аппарате встряску. На второй день дошла очередь и до Федонина. Заместителя по следствию Колосухина не пригласил. Впечатлительный тот и скор с выводами. Да и не в курсе тот был по поводу обращения Семиножкина. Когда выкричался, пыл схлынул, оглядел поникшие головы обоих, спокойнее спросил младшего:
– Кто же тебя надоумил без письма-то к ним лезть?
– А я перед этим книжку о тех событиях прочитал, – вытянулся прокурор следственного отдела. – Холопов автор.
– Вот выбрал себе прозвание! – хмыкнул, не сдержавшись, прокурор. – Холопов? Не нашёл ничего подходящего?
– Я и Кремлёва читал.
– Ну этот вроде умнее. Только при чём писатели?
– «Грозный год» называется, – заспешил Ковшов. – Если бы Сергей Миронович Киров с товарищем Атарбековым так же церемонились, как нам вверху советуют, бандитскую организацию заговорщиков им бы вовек не одолеть.
– Ну, ну, – буркнул Игорушкин, а сам подумал: «Вот она, нынешняя молодёжь. С него мои нотации как с гуся вода. Не видел наших бед. Непуганый» и усмехнулся: – Что за заговорщики?
– По книжке Холопова банда так и называлась «цианистый калий», Атарбеков так её окрестил. У покойника, кандидата исторических наук Мушкатёрова в «Очерках истории областной партийной организации» абзац об этом имеется. Это самый авторитетный и, кстати, единственный источник, других никаких документальных подтверждений нет, – Ковшов со значением на Федонина глянул и плечами пожал. – Тем не менее, если верить этим писателям, заговорщики цианистым калием якобы намеревались отравить весь Реввоенсовет и обезглавить одиннадцатую Красную армию.
– Это ж сколько отравы потребуется! – откинулся на спинку кресла Игорушкин. – У них что, доступ к медикаментам имелся?
– Если что и можно узнать, так это в материалах архивного уголовного дела, которое хранится в КГБ, – развёл руки Ковшов. – Мы ищем крест архиерея Митрофана, однако версия, что священник был одним из главных среди заговорщиков, это тоже пока лишь писательская догадка.
– Вот как? – уставился прокурор области на Федонина. – Чего это Холопов ваш на попов накликает? Когда они отравой занимались?.. Им народ дурачить разными сказками, это да, а тут смертоубийство?..
– Я был в КГБ, – поморщился старший следователь, хмуро помалкивавший всё это время.
– И что?
– Можно сказать, с позором выгнали.
– Справку возьмите, – Игорушкин покраснел, раздражённый до ярости кулаком по столу пристукнул. – И ответим этому Семиножкину… Закроем его обращение. Да и в Москву будет о чём написать, тогда и без приказа обойдёмся. Поставим, так сказать, точку и…
– Не поставим, Николай Петрович, – встрял Федонин и голову пригнул, словно удара опасаясь.
– Почему это?
– Умер Семиножкин.
– Час от часу не легче! – взмахнул прокурор руками. – Убили?
– Есть подозрения. Но надо заключение экспертов подождать. Вы, как уехали, тут такое закрутилось!..
– Ну вот что, – поджал Игорушкин губы. – Раз неясно, отчего скончался заявитель, все хождения в КГБ прекратить, запрос подписывать я не стану. Придёт время, возбудим уголовное дело, следствие заведём, тогда видно будет.
– А с реликвией как? – поднял брови Федонин и ручки на груди крест-накрест свёл. – Похерим этот вопрос?
– С реликвией? – вспомнил Игорушкин. – Алмазный крест – ценность историческая, принадлежит она не только архиерею, но и народу. Так что продолжить поиск.
– А как же?..
– Поработайте среди церковнослужителей. Не гнушайтесь, побеседуйте с ними. Народ этот, хоть и особый, но очень толковый. У них тоже архивы будь-будь. Не хуже государственных. И люди живые. Монахи, они долго живут, много помнят.
Глава VII
Закон подлости потому так и прозван, что срабатывает в момент, когда всё поперёк горла и хоть сдохни! Вот и в этот раз. Как ни отбивался я от Федонина, как ни отнекивался, он меня уговорил. И что же? Чуть раньше шести вечера выбрался я из конторы и в воротах на Колосухина наткнулся, он с совещания, а я зайцем мимо него. Я, конечно, достоинство сохранил, не будешь же объяснять, как мальчишка, что ты по делу, но шеф отвернулся, будто в свои глубокие думы погружён – он у нас большой интеллигент, однако ситуация, скажу я вам! Да если бы это всё!.. Только меня отец Михаил под руку взял, только мы вышли из Покровов, навстречу улыбающаяся рожа Толупанчика, прёт с вязанкой сухой воблы под мышкой и газеткой футбольной обмахивается. Этому дурно стало от моего вида. Он, конечно, тоже мне ни слова, тонкой души у нас в аппарате люди! Только подмигнул незаметно, но я-то понял, что попался, теперь так просто не кончится. Распрощались мы со священником, пошёл я по аллейке к Ленинскому парку, а он из-за угла, поджидает:
– По пивку?
– Чего караулишь?
Сашок тоже не прост, как кажется, он ещё тот дипломат с Криуш, суёт мне воблу и мину состряпал страдальческую, а сам, чую, едва не лопается от смеха, вот-вот заржёт. Рядом с церковью, куда меня Федонин снарядил, рыбный рынок, вот Толупанов после работы и завернул сюда, видно, сегодня на стадионе наши с кем-то играют.
– Я бы особо не интриговал, если Яшку здесь встретил, – толкнул меня локтем Сашок. – Готляр и не такое откаблучит. Но что тебя в храм Божий занесло? Мало с ними у нас якшаешься? Или вы с Пал Никифоровичем уже погрязли? Грехи замаливаешь?
– Отстань, – отмахнулся я. – Устал я. Ты где собрался по кружечке пропустить?
– А рядышком здесь, – обрадовавшись, потянул он меня в сторону парка. – Тихо и уютно. Или, может, со мной на футбол?
– Нет, – покачал я головой. – Мне не до этого.
Действительно, дела наши с Федониным были плохи. И ладно бы, что мало получалось от наших хлопот, что результата никакого, что Игорушкин распёк. Другое заедало. С той поры, как старший следователь, а потом и я начали приглашать в кабинеты служителей церкви в приметных одеяниях, отношение сослуживцев к нам изменилось. От напряжённого удивления оно переросло в азартное любопытство, подзуживание, а потом в подозрительное отчуждение. Дело в том, что и старший следователь, и я на все их вопросы отвечали категорическим, а потом и злым молчанием. Естественно, что аналогичное отчуждение скоро почуяли в ответ и мы. Федонин, не скрывая, тяжело переживал ситуацию.
– Два попа и были у меня! – возмущался он. – Чего все всполошились?
– И я дьякона приглашал, – добавил я.
– Разбираешься уже?
– А чего там…
– Вот. А они перебаламутились? Давеча сам Лейгин припёрся. Я ему твержу: «Деликатный вопросик поручил Петрович. Нельзя трепать лишнего». А он обиделся… дверью хлопнул.
– И со мной разговаривать перестали. Влипли мы в историю…
Так что мучились не только мы со старшим следователем, по-своему страдая от происходящего, переживал и нервировал не только следственный отдел, но и весь аппарат. Вот и сейчас потягивал я короткими блаженными глотками прохладный чудесный напиток, жмурился от удовольствия, но ждал: пройдоха Толупанчик не упустит случая, чтобы меня в который раз не попытать. Что ему соврать-то? Не расстраивать же за такое тихое удовольствие.
– Ты в Бога веруешь, Александр Сергеевич? – спросил я под настроение.
– Чего это ты?
– Ты же вопросы собрался мне задавать?
– Как тебе сказать?..
– Как коммунист коммунисту.
– А я беспартийный.
– Врёшь! Как же в прокуратуру попал?
– Сам не знаю.
– Не дури.
– У меня даже в дальних родственниках кто-то был, всерьёз этим делом занимался.
Беспечность его была беспредельна или он меня таким образом к себе расположить старался?
– Значит, чем мы с Федониным занимаемся, тебе не интересно?
– Врать не стану. Но не так, чтобы…
– Вот ты как? – я пытливо изучал невозмутимую физиономию приятеля, кружку с пивом к глазам приблизил; через золотое содержимое лицо его казалось расплывчатым и таинственным, глаз загадочно мерцал мутным зелёным зрачком.
– Заметь, – отстранился от кружки Сашок, и его лицо приняло тривиальное выражение, – я к тебе с расспросами лез?
– Ну не лез, – не отворачивался я от него. – И отцом Михаилом я тебя не удивил?
– А я его и без тебя знаю, – полез за сигаретами Сашок. – Бабка Ивелина его приводила, когда дед у нас умер.
– Вот как. Панихиду служил?
Сашок затянулся сигаретой, дым выпустил аккуратными колечками, и поплыли они друг за другом в небо, словно салютуя кому-то, наверное, его деду покойному.
– Дед Константин у нас серьёзный был человек. Он даже пострадал в своё время от советской власти. Не веришь?
Я пожал плечами:
– В Гражданскую войну кого только не было: и зелёные, и синие, и белые…
– В девятнадцатом году он в такой переплёт попал, что с ним сам Киров разбирался.
– И что же? Судили его? – навострил я уши.
– Да. Он за арестованных священников хлопотал. Ну и его под одну гребёнку. Если бы не Мироныч, угодил бы к стенке.
– Верующим был?
– В церкви, – кивнул Сашок. – На вторых ролях, но при архиерее местном. Того расстреляли как врага народа, а деда отпустили, но в тридцатые всё же угодил в места не столь отдалённые. Бабка Ивелина с ним уехала. Из Сибири возвратились уже после войны.
– Погоди, погоди, – отставил я недопитой кружку. – Ну-ка расскажи мне про своего деда подробнее. Что за человек? Чем он перед советской властью провинился?
– А я больше и не знаю ничего. Церковь между собой тогда дралась. Разделилась она на новых и старых. Тебе бабку Ивелину спросить. Только она после тех… поездок заговаривается иногда. Но память!.. По именам своих знаешь как шпарит! Тех, с кем деда забирали. Только оттуда они вдвоём и выбрались. А теперь вот одна осталась.
– Это ты мне в ответ? Лейгин у Федонина с косяка дверь чуть не сорвал. Ты тоже туда?..
– Да мне на ваши секреты!..
– Вы словно маленькие дети!
– Знаешь что!.. – закусил Толупанов губу и даже побелел.
Вот тогда до меня докатило, что не открыться ему после того, что услышал, совесть не позволит.
– По правде сказать, Санёк, я и сам до сих пор ничего толком не пойму. Тайны-то особой, секрета какого нет. Петрович, правда, предупреждал, чтобы никому. Но эта такая чертовщина. И чем дальше вглубь, тем темнее. Мы с Павлом Никифоровичем куда ни ткнёмся, везде тупик… И труп в первый же день!
– Какой труп? – вытянулось лицо моего приятеля.
И я решился ему рассказать. Не всё, конечно. Детали опустил. А когда замолчал и Сашок по своей привычке зачесал затылок, я его за руку и за собой.
– Куда? Я на футбол опаздываю, – вскинул он руку с часами.
– Нужен нам помощник, – тянул я его за собой. – Федонин небось со Змейкиным сейчас у себя возится. Вот я ему тебя и представлю.
Глава VIII
Холодом дохнуло из распахнутой двери, холодом и предчувствием новой смерти. Капитан угро Донсков, хмуро зыркнув на расступившихся полуодетых сонных зевак, подумал: «Соседи тут как тут, кто же среди ночи соберётся…» и прошёл в квартиру. У постели копошились врачи «скорой», чуть раньше он приметил их машину у дома.
– Как? – бросил он главному в синей шапочке.
– Жива.
– Что?
Тот пожал плечами.
– Что? – повторил, выдохнув.
– Да вроде ничего. Спит.
– Как? А вызов?
– Я звонила, милок, – выступила на шажок махонькая старушка в накидке до пят. – И им, и вам. А её и теперь привести в себя не могут. Чего ж мне думать? Жива – не жива?
Донсков перевёл глаза на доктора.
– Жива, жива, – кивнул тот и отмахнулся от старушки, как от надоедливой мухи.
– Значит, вы звонили в милицию? – осмотрелся Донсков. – А чего окно настежь?
Он понял, почему холодно стало ему в дверях, из окна сквозило.
– Утечка газа?
– Утечка? – поднял брови врач. – Да нет, кажется… Хотя?.. Мы не проверяли…
Донсков бросился на кухню, сунулся к газовой плите, кажется, нет; ручки обеих горелок прикрыты; он осторожно втянул ноздрями воздух, приник ближе – не пахло.
– Запах сгнившего, – подсказывал сзади врач, – протухших яиц.
– Чисто, – выпрямился Донсков и шагнул назад к постели. – Чего она не движется?
– Она глазок не открывает уже более часа. Я её и так и этак. С одного бока на другой. Помёрла Серафимушка моя ненаглядная! Сгубили её вслед за Дмитрием Филаретычем, – плаксиво запричитала тонким голоском старушка, кутаясь в накидку.
Получалось у неё почти профессионально, Донскову почудилось отпевание по покойнику, он вздрогнул, нагнулся над Семиножкиной, лицо той с запавшими синюшными щеками, с чёрными кругами в глазницах и сомкнутые, казалось, навсегда веки пробрали его до мурашек на спине.
– Доктор! – вскинулся он на главного.
– Жива, жива, – кивнул тот, успокаивая. – Бабушка вам и не то ещё расскажет. У женщины глубокий сон после стресса на почве перенесённых потрясений. Она, оказывается, двое суток без сна. Переживала, то, сё. Бывает такое. Летаргическим сном это не назвать, но что-то похожее. В медицине не редкость и всегда на почве чрезвычайных событий, одним словом, потрясений. А бабушка…
Врач поджал губы, оглянулся на посторонних в дверях и, нагнувшись к самому уху капитана, прошептал:
– Она нам тут такое плела! Призраки ей мерещатся. В окно один сиганул на её глазах.
Донсков отстранился от доктора, подозрительно глянул на безобидную с виду старушку. Доктор тоже отступил на шаг и, уже не хоронясь, закончил:
– Бывают, кстати, и такие эксцессы. Матрёна Никитична вот несколько суток тоже бодрствует, но успевает и в церковь по утрам и вечерком, и за Серафимой Илларионовной приглядывать. С ног сбилась, наверное.
– Сбилась, милок, сбилась с ножек как есть.
– Вот. Слышите? Тут всякое причудится.
– Да что ж причудится, милок? – не унималась старушка.
– Ну мы пойдём, – доктор нагнулся над своим чемоданом, засобирался, а Донскову опять шепнул: – Вы её всё же послушайте. Может, для вас это интерес и представляет. Но я не стал бы доверять таким фантазиям. Ей бы тоже выспаться как следует. Вы поинтересуйтесь, у них вся квартира в иконах, церкви не надо. Тут голова сама кругом идёт. Да ещё покойник. Выяснили, отчего муж скончался?
Донсков только закашлялся.
– Ну, ну, – понимающе закивал доктор. – Ладно, звоните если что.
– А эта? – глянул Донсков на безмолвную, стынущую пластом Семиножкину.
– Не беспокойтесь. К утру, ну к обеду она глазки откроет, как та спящая принцесса. Если желаете, я санитарку пришлю, чтоб посидела. С бабки-то спроса никакого.
– Вот за это спасибо, – проводил его до двери Донсков. Пожал руку и соседям, не спускавшим с него глаз, вежливо отчеканил. – Всё нормально, граждане. Сами слышали, что доктор сказал. Расходитесь. До утра как раз успеете выспаться.
– А мне как же? – ткнулась к нему старушка.
– Вас Матрёной Никитичной величать? – улыбнулся ей Донсков.
– Никитична, батюшка, Никитична, – поклонилась та.
– А мы с вами немножко покалякаем, не возражаете?
– Да куда же я? Я здесь теперь вроде как прописалась.
– Ночевать здесь оставались? – пододвинул ей стульчик капитан. – А может, на кухню пойдём. Раз уж вы здесь, так сказать, за хозяйку остались, угостите меня чайком. Мы с вами, как два домовых.
– Господь с тобой! Чего говоришь-то? – всполошилась старушка, прогневавшись от его слов. – Грех так на себя! Неверующий небось?
– Как же? Мы веруем, – засмеялся Донсков. – В своё только.
– Вот, вот. К чему домовых-то приплёл?
– Суровые вы, Матрёна Никитична, – повинился капитан.
– Да будешь с вами, – не смирилась старушка, наливая ему чай. – Доктора того тоже чаем угощала, пока вы не приехали, а он про меня вона что наплёл!
– А вы, значит, слыхали?
– Не глуха, батюшка, не глуха. Да и не слепа, как он тебе обо мне размалевал.
«А бабка-то не из простых, – смекнул Донсков, – вон как её распирает от возмущения, надо послушать её, чем чёрт не шутит…»
– Да, доктор вроде ничего особенного и не сказал, – подзадорил он старушку. – Так. Поспать вам пожелал. От бессонницы-то, говорил, видения разные бывают, галлюцинации по-научному.
– Я не в том возрасте, батюшка, чтоб из меня дурочку строить. Грех на душу не приму. Ему сказала и вам повторю. Видала я его собственными глазами.
– Это кого же?
– Я за стенкой проживаю. Чуть шорох какой, у меня всё слыхать. Дверь за Аркадием Викентьевичем закрылась. Я прилегла.
– Это кто такой?
– Знакомый покойного Дмитрия Филаретовича. Ну и, конечно, Серафимушки. Он к ней даже чаще заглядывал в бытность-то ещё мужа. Тот на выставку, ещё куда, а они, как голубки… Но ничего лишнего не скажу, не видела.
– Значит, Серафиму Илларионовну проведывал? – поторопил Донсков разговорившуюся старушку.
– Ну уж не знаю. В мудрёные игры они с Дмитрием Филаретовичем баловались, в шахматы.
– А вы легли, как Дзикановский ушёл?
– Ну какой там сон, – пожаловалась старушка. – Я, батюшка, двое суток ни в одном глазу. Она, Серафимушка, ключом своим от двери меня наградила, вот я и бегала, как бы с ней самой что не случилось.
«Прав был док, – начал злиться Донсков, прихлёбывая чай, – болтлива старушка, она, если не перебивать, до утра не кончит».
– Вот и мотылялась из одной комнатки в другую. И котёнок за мной, ему спать не даю.
– А?.. – заикнулся было Донсков, не вытерпев.
– А за полночь уже, – глянула на него старушка и пригнулась, даже зажмурившись, – учуяла я шаги у Серафимушки за стенкой. Я не спугнулась сначала, поднялась, думаю, Серафимушка моя, а и то, сколько ей лежать можно? Но что-то поздно уж.
Старушка на Донскова заговорщицки зыркнула одним глазком:
– У них упало вроде и опять шаги. Да не лёгкие, женские, я уж их изучила, что Серафимушки, что покойника. Эти чужие! Грозные! Да тяжёлые!
Донсков только языком цыкнул.
– Я ухом к стенке и припала. А шаги – чую, как есть чужие. Меня всю страхом так и прошибло: как же я прошляпила! Не слышала, как к ней гости ночные нагрянули! А там уже двигать что-то начали, похоже, как стулья, и упало опять что-то. Я уж теперь думаю, впотьмах он там шастал. Искал что-то. Поэтому и ронял.
– Кто?
– А вот уж не знаю, батюшка. Только я, себя не помня, может, действительно, что нашло или испугалась шибко, ключ схватила и к ним! Открываю, а он на подоконнике стоит!..
– Кто?
– Спроси, что полегче, батюшка, – старушка давно свою чашку на стол поставила и руками за краешек стола вцепилась, но пальцы её выдавали, подрагивали. – Я вскрикни, а он за окно-то и свалился.
– Кто же это был?
– Да чёрт и был. Нечистый не иначе.
– Второй этаж у вас, – подошёл Донсков к окну и вниз глянул. – Тут костей не собрать. Так бы и валялся. А ведь пусто?
– И я, батюшка, к окну осмелилась, когда в себя от страха пришла.
– Ну?
– Никого.
Глава IX
Наконец-то мы приблизились к разгадке! Бабка Ивелина, здравствующая свидетельница тех событий, в наших руках! Конечно, она своими глазами видела архиепископа Митрофана и откроет нам тайну его бесценного креста, канувшего в Лету. Это была не просто удача. Это!..
В две пары глаз взирали мы с Федониным на Сашка так, что в перекрестии этих восторгов в минуту тот выкатил колесом тощую грудь и левую руку заложил за поясницу, задрав вверх нос. Ему бы сейчас треуголку!
– Орёл ты наш! – с чувством похлопал его по плечу старший следователь. – Вон оно как в жизни. Оказалось всё рядышком. Где бабка-то драгоценная? Неотложку за ней снарядить? Я мигом.
– Зачем неотложку? – расплылся в ухмылке Сашок.
– Ну как же? Лет-то ей сколь?
Дело в том, что уговорить или силком утащить Толупанова в тот памятный вечер к Федонину из Ленинского парка мне не удалось. Он всё-таки удрал на футбол, пообещав, что утром бабка Ивелина заявится собственной персоной.
– Бабулька в отличной спортивной форме и по врачам не скучает, – хитро прищурился Сашок. – До солнышка в церковь сбегает, а уж оттуда сюда заглянет. Небось уже во дворе прохлаждается. Быстра на ноги.
Федонин так и обомлел, а я в окно вывалился.
– Вон она! – сунулся за мной Толупанчик и радостно прикрикнул вниз:
– Бабуль! Ты чего там шныряешь? Дуй сюда. Тебя заждались.
– Разве можно? Со старушкой-то? – пожурил Федонин. – Не стыдно? Пожилой человек.
– Старушка? Вы её не видели. Сейчас убедитесь. Она фору любому из нас…
Договорить он не успел, дверь приоткрылась бережно, без стука, и к нам просунулась головка в светленьком платочке с проворными маленькими глазками – точь-в-точь внучёк, один в один Толупанчик, только морщинистей личико.
– Здрасьте вам, люди добрые! – выпалила старушка, и я вспомнил мультипликацию про колобка, там личики были и у деда, и у бабки, и у колобка конопатые и солнечные, это чуть рыжей, в общем, будто засияло в тёмном прокурорском помещении.
– Не ошиблась, кажись! – воспрошала она и к Толупанчику прижалась. – Запыхалась. Водички бы. Чего стоишь? Угощай.
Вот они, повадки толупановские, теперь понятно, почему он меня всегда опережал в столовой. Не растерялся Федонин, он уже подавал графинчик со своего стола, а стаканчик платочком протёр и на меня глянул. Я тотчас про стул вспомнил.
– Благодарствую, – ответила она и оглядела кабинет, вскидывая глаза в углы, будто чего-то искала, а не найдя, смиренно перекрестилась, опустив голову на грудь, присела. – Ты старший будешь?
Федонин смутился, заметив, как она покосилась на аквариум.
– Чего звал, мил человек?
– Бабуль, это главный следователь, – вступился Сашок. – Павел Никифорович. Он насчёт того архиепископа интересовался.
– Знамо, главный, – вскинула глазки старушка и в Федонина ими упёрлась, а глазки уже из добрых буравчиками острыми стали и засверлили старшего следователя, забуравили насквозь. – Таким великим, как наш убиенный владыка Митрофан, только самый главный человек и должен интересоваться. Говорил твой дед, Константин Мефодьич, мир его праху, что настанет тот день, когда правду захочет узнать мир. И вот оно! Свершилось! Вспомнили владыку Митрофана. Вспомнили безвинно убиенного. Благодарю тебя, Господи, что дал увидеть сейчас своими глазами! А я, грешница, уже верить перестала.
– Бабуль, – ткнулся Сашок к старушке, – ты постой. Ты послушай, что тебя спрашивать станут. Не спеши.
– А что мне спешить? – прогневилась она на внука. – Ты не встревай! Я сама вижу. Сюда я попала. К доброму человеку. Этот человек спросит, что требуется. Горя, что было причинено, уже не исправить. А я перед владыкой в неоплатном долгу. Не сберегли мы его… Я всю правду, как на духу. Вот вам крест!
И она неистово закрестилась.
– Да ты ж девчонкой тогда была, – одёрнул её Сашок. – Чего знала? В чём твоя вина?
– Одним воздухом дышала. Значит, и в ответе. А ты молчи, не с тебя спрос.
– Ивелина Терентьевна, – остановил старушку взглядом Федонин, – мне бы с вами обо всём поподробнее…
– За этим сюда и наведалась, мил человек, – отвернулась она от внучка. – Ты бы спровадил молодых-то. А уж мы с тобой одни… Чего они поймут?
– Слышали, бойцы? – сделал хмурыми брови Федонин, и мы заспешили к двери.
Глава Х
Пригнувшийся, почти бегущий человек привлёк внимание старосты кладбищенских сторожей. Как и когда тот появился, Карпыч, задремавший на скамейке у часовни, враз и не приметил. Только вывернулся жёлтый глаз луны из-под набычившихся мрачных туч, дохнуло ветром с полуночного неба, и в мёртвом покое городского погоста заметалась пугливая одинокая фигура. Близок уже был совсем, спёртое дыхание и вроде как ругань слышались. Длинный лёгкий пиджак за спиной мешал бежать, задевал, цеплялся за колючие макушки оград, да так, что порой до Карпыча долетал треск рвущейся материи, впрочем, не останавливающий беглеца. Широкополую шляпу тот придерживал то одной, то другой рукой, перекладывая нелёгкую, видно, ношу. Лица не различить, незнакомец постанывал и болезненно припадал на левую ногу.
В такие дела сразу лучше не вмешиваться, и сторож прижался к скамейке, затих, про дыхание забыв, оставаясь незамеченным благодаря разросшемуся рядом кустарнику дикой розы. Похоже, беглец спасался от преследователей? Но за ним не гнались. Мчался, обезумев от страха, никого не замечая? Однако он следовал уверенный в своей тропке и строго придерживался одного направления, хотя перед ним расстилалось безбрежное море зловещих надгробий и крестов вперемежку с редкими деревьями.
«В избу к могильщикам держит путь, – понаблюдав из своего убежища, смекнул староста. – Не иначе к Спиридонычу. Взбредёт же в голову шляться в такой час! Однако, верно, нужда?..»
Между тем незнакомец, не меняя направления, проследовал мимо притихшего сторожа, явно его не заметив, и начал удаляться.
«Спиридоныча ему не застать… – кумекал Карпыч, не сводя глаз с нежданного ночного гостя. – С вечера Матвей Спиридоныч не в себе. Перебрал по случаю большой занятости. Горячий выдался денёк. Многих грешников земле предали. Попался знакомый Спиридоныча, расстроился тот, набрался водки, обычно не баловавший, отпустил вожжи. Братва, словно покойника, его самого на плечах с глаз долой в избу снесла…»
Карпыч перевёл дух, сварганил самокрутку махорочную, ни папирос, ни сигарет его организм не признавал, засмолил не спеша, успокаиваясь, в рукав огонёк пряча. «К Спиридонычу, не к Спиридонычу, – закрутилось в его голове, – а ему, охранному старосте, знать всё следует. Тем паче, припёр тот кладь неведанную. А на погост абы с чем не заявляются в полночь да озираясь…» Он с тоской глянул на свою клюку и так и сяк повертел, палка она палкой и останется, как ни крути. «Не позвать ли Артёмку с западных ворот? – шевельнулась в глубине мыслишка, но он тут же её приструнил. – Сдюжу! Да и не станут же морду бить, если сцапают. Его как облупленного мужики знают. А ему что? Ему только убедиться, к кому поздний гость…»
Он не ошибся. Незнакомец замедлил ход, приблизившись к двери покосившейся от времени ветхой мазанки. Бросил ношу к ногам, отдышался и постучал. Барабанить ему пришлось долго, наконец в маленьком оконце появился свет керосиновой лампы, дверь отворилась и захлопнулась, его поглотив.
«Ну вот, птичка в гнезде и очутилась. А мне всё равно, где коротать, – начал подыскивать и себе удобное место Карпыч, оглядывая землянку. – Утром и разберёмся. А спьяну да со сна невесть как обернулось бы…»
Глава XI
Выйдя от Федонина, я так закрутился в тот день, что к себе в кабинет попал только к вечеру, уже в восьмом часу забежал над бумажками посидеть: чёткий Колосухин несколько раз напоминал про обобщение жалоб, и я промотался в городских прокуратурах, собирая необходимый материал; зампрокурора области не вспомнит прошлые заслуги, у него чтобы в отделе кипела работа, которая планом определена от коллегии к коллегии, а там уж занимайся, чем хочешь. Впрочем, насчёт «чем хочешь», я, конечно, загнул, чем положено, это – да.
Уже в коридоре меня подстегнул трезвон телефона. «Очаровашка! Кто ж ещё разыскивать станет, – подумал я и прибавил ходу. – Стряслось что-нибудь с её бухотчётом, не пришлось бы мчаться в детсад…» Сынишка наш заботливыми родителями был зачислен в продлёнку; мы, конечно, старались пораньше забирать страдальца, мучительно было зреть, каким несчастным болтался он в одиночестве по детской площадке в ожидании бессердечных родственников, но получалось у обоих не всегда.
– Ты где прохлаждаешься, боец? – услышал я голос Федонина, схватив трубку.
– Рабочее время кончилось, – злости моей не было предела, на стул брякнулся и выдохнул: – Имею полное право.
«Не иначе старый лис в окошко меня высмотрел, пока я остановился во дворе с Лидой Углистой поговорить, – догадался я. – Нет от него спасения! Специально поджидал».
– А чего на ночь глядя?
– Вы думаете, у меня других забот нет, кроме этого Семиножкина?
– Дела делами, а поручение прокурора на первом месте должно значиться.
– А вы защитите, если Колосухин со службы погонит?
– Сочтёмся славою, – сменил тон на миролюбивый Федонин. – Ты подходи, подходи! У меня столько всего! Голова кругом идёт.
Лишь я к нему на порог, он протокол допроса протянул и так значительно, словно ценность какую.
– Откуда? Мы вроде проверкой занимаемся?
– Всё, мой дорогой, – похлопал он меня по плечу. – Возрадуйся. Считай, легализовались. Теперь ты защищён.
– Не понял?
– Петрович дал команду возбудить уголовное дело. Так что с первым допросом тебя, Палыч!
– Бабка Ивелина чудес наговорила?
– Ивелина Терентьевна, само собой, женщина обстоятельная. Тут другое. Вот глянь заключение экспертов по трупу Семиножкина, – и он подал папку с бумагами. – Отравили его. Причём так искусно, что Борджиа позавидовал бы. Едва Константиныч разнюхать смог. Он нас чего так долго мутузил, тянул с выводами? Сам сомневался. Поэтому в Москву анализы посылал, но когда и те подтвердили!.. Порадовался мне: теперь новую методику у нас применять начнут. Незачем будет лишний раз столице докучать.
– Ему-то радость, а нам слёзы утирать! Сколько времени попусту утрачено…
Я вспомнил тот поздний вечер, когда очутился в доме покойника, алтарь церковный во всю стену, Семиножкину с безумными глазами и их соседку, всё время молящуюся в углу, пока я торопился с осмотром тела. Тогда уже муторно было у меня на душе, словно придавило неведомое предчувствие надвигающейся беды. Да что там! Беда-то уж свершилась. Канул в небытиё Семиножкин. Не успел заявление накатать и на тот свет заторопился. Больно уж всё выглядело подозрительным.
– Нераскрытое убийство имеем. Милиция нас и обвинит, – у меня вроде как все зубы разом заныли. – Сыщики такой вой подымут!
– Ты не забывай про содержание, Палыч, – тоже поморщился Федонин. – Форма в нашем случае не главное. А до сути мы добрались. С опозданием, согласен. А если бы отравителю удалось вокруг носа нас обвести?..
– Не наша заслуга, – раздосадованный, я ткнулся в протокол допроса Ивелины Терентьевны Толупановой.
– Вот, вот. Делом займись, – поостыл и старший следователь. – Весь день на нервах. Ты не видел Петровича, когда я ему докладывал заключение медиков. В шоке был. Смерть Семиножкина его ещё на первых порах будто подкосила, а когда я ему про злодейское отравление заикнулся, видел бы ты его лицо! У него же давление!.. Я перепугался, без врача не обойтись. Заварили мы кашу…
– Вы не совсем точны, Павел Никифорович, – оторвался я от бумаг. – Если кто и затеял эту историю, так сам Семиножкин. Теперь нет сомнений, что он чуял недоброе, раз решился довериться прокурору области.
– Мы с тобой не всё знали, – поджал губы Федонин и снизил голос до шёпота, хотя, кроме нас двоих, в кабинете никого не было. – Петрович обмолвился, что ему по этому поводу звонил сам председатель облисполкома. Но тоже… просил не афишировать.
– Думенков? А ему-то что?
– Его интерес к диковинкам всяческим известен, – шептал Федонин. – А тут древняя редкость! Представляешь, как бы заговорили об области, найдись историческая драгоценность! На всю страну можно прогреметь!
Федонин даже глазки закатил и был, наверное, прав, но меня разбирало совсем другое:
– Думается, у покойника и личная корысть имелась. Он, несомненно, сам пробовал отыскать реликвию. И неизвестно, на какой стадии у него нужда в прокуратуре появилась. Не стоял ли он на самом краю? А уж загнав себя в тупик, сунулся к нам?..
– Вполне. Я тоже об этом кумекал. Но теперь-то руки у нас развязаны; раз дело уголовное возбуждено, возможности наши возросли. Ты читай-то протокол. Мне Ивелина Терентьевна разоткровенничалась, что крест, который мы ищем, был личным подарком патриарха Тихона архиепископу Митрофану при назначении в нашу область. Во как! Он не алмазный, а выполнен с помощью золотого литья, с каменьями драгоценными и в центре имел изображение распятия Христа-Сына.
– Сына? Это как?
– Тебе что же лекцию почитать? Бог един в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. Он у них в трёх лицах или Ипостасях, равнославных, равновеликих, не сливающихся между собой, но и не раздельных в едином Существе.
– Эко вас просветила-то бабка Ивелина! – вскинулся я на Федонина, впервые его таким увидел, действительно в лице его были перемены.
– Нехристь небось?
– Чего?
– Некрещёный?
– Мать Татьяна рассказывала, что тайком от отца в церковь всех нас семерых носила…
– А-а-а-а… – зацокал языком старый лис. – Вот она, русская душа! Всё тайком!
– Душа – понятие запредельное. Вы-то сами как?
– Что?
– Веруете?
– Чтобы верить или не верить, надо знать. А тайна Бога и его троичности недоступна человеческому разуму. Но она, думается мне, всё время предлагается нам к понятию. Только суетимся мы, спешим все, не остановимся, поэтому и не замечаем.
– Это как же?
– Как? – старый лис всерьёз задумался. – Трудно всё объяснить… Ну, предположим… свет, тепло… Они считают, что это Его присутствие.
– Физика и астрономия, – чуть не прыснул я от смеха в кулак, но вовремя одумался, слишком серьёзен был Федонин. – Солнца это продукты и явления. Вам бабка Ивелина, Павел Никифорович, мозги здесь пудрила, а я вот не поленился, тоже вас удивить кое-чем могу. Только не из таких сомнительных источников, как столетняя старушка, а из хранилищ серьёзных, государевых.
– Ну, ну… Давай из серьёзных.
– Я в областной библиотеке и архиве не без труда откопал кое-что про архиерея Митрофана.
– Интересно.
– Он не только видным церковнослужителем был. И не только известным богословом.
– Так, так…
– Дмитрий Иванович Краснопольский, это его мирское имя, сын каменщика из Воронежской губернии, после окончания Киевской духовной академии, пройдя необходимую подготовку, инспектировал православные учреждения и храмы, объездив пол-России, заслужил почёт и уважение, как непреклонный служитель патриарха, но в своей среде прославился тем, что посвятил свою жизнь возрождению памяти казнённого в своё время повстанцами Степана Разина архиепископа Астраханского Иосифа.
– Которого Васька Ус с раскола сбросил?
– События тех лет по-разному толкуют историки. Всё башню ту искали, ругались – та, не та, а теперь оказалось, что башни той вообще нет в Кремле, снесли её давно.
– Порушено было много, без разбора и счёта.
– Но про Краснопольского я ещё не всё рассказал. Среди особо приближённых Митрофан слыл у патриарха Тихона лицом, можно сказать, исключительно доверенным, за несколько лет до начала Первой мировой войны Тихон делегировал его в Государственную думу депутатом, и тот пять лет достойно защищал интересы церкви от черносотенцев и других разных наскоков противников, за эти заслуги Митрофану была пожалована одна из самых почётных наград – орден Святого Александра Невского и только летом тысяча девятьсот шестнадцатого года он был назначен в наш город, получив через два года звание архиепископа.
– Фигура! – поджал губы Федонин. – Что и говорить. Генерал, если на воинское звание перевести.
– Берите выше. Владыка! Так у них именуют этих лиц.
– Маршал, что ли?
– Почти рядом.
– Значит, со своего плеча одарил его патриарх Тихон и орденом, и крестом тем бесценным. Завистников у него было, видать, множество. Любимчиков всегда поджидает лютый злодей с ножом за пазухой. Из века в век так было. И на крест его нашлись длинные руки. Кстати, куда орден-то задевался? В музее краеведческом не удалось побывать? Может, там что имеется?
– Там только революционные листовки и маузеры комиссаров.
– Что это ты так?
– Да кто же разрешит церковные реликвии там хранить? Тем более расстрелянного заговорщика?
– Да, да… Заговорились мы с тобой, – полез Федонин за портсигаром.
В дверь тихо постучались.
– Войдите! – гаркнул старший следователь, хмуро скосив глаза мимо меня. – Не иначе нечистая сила кого принесла. Совсем уже на ночь глядя.
В кабинет ввалился бодрый розовощёкий капитан уголовного розыска Донсков. Вид его был не только оптимистическим, но даже игривым. «Не знает ещё про убийство, – подумалось мне, – сейчас у него настроение нормализуется…»
– С кисточкой вам, дорогие начальнички! – с порога ухмыльнулся Донсков. – Не ждёте гостей?
– Смотря с какими вестями, – сощурился Федонин. – Если с плохими, сразу разворачивайся. У нас этого хватает.
– Это как сказать, – ещё шире улыбнулся тот. – Я вот с призраком давеча чуть не встретился. Вам, кстати, привет от Матрёны Никитичны.
– Это кто ж такая? – мы оба носы так и вытянули, за Донсковым всякое водилось, чего он не умел, так это шутить по-человечески.
Глава XII
– Вот и пришла в себя, голубонька, – запричитала Матрёна, всплеснув руками, – вот и открыла глазоньки. Слава тебе, Господи!
Старушка наклонилась над Семиножкиной, приподнявшей тяжёлые веки, чмокнула её в щёку, не удержавшись от радости, и побежала на кухню.
– Сейчас я тебя попою, покормлю. Сестричка наказывала, чтоб тебе первым делом водички. Сколь спать-то!
– Никитична, – пошевелила запёкшимися губами Серафима. – Что со мной?
– Да кто же знает, – бежала та уже назад с чайной чашкой в руках. – Доктор сказал, бывает такое, сестричку оставил за тобой присматривать, день минул, она ушла, умаявшись, народу перебывало, считай, весь подъезд, а ты всё не в себе. Дал Господь, очнулась, матушка.
– А что же? – подала слабый голос вдова, отпив из поданной чашки. – Спала, что ли?
– Спала, голубонька. Как не спать. Доктор обещал к обеду, а сейчас уже вечер на дворе.
– Доктор? А Аркадий Викентьевич отлучился?
– Да ты не помнишь ничего? – и соседка, присев у постели, принялась рассказывать вдове всё, что произошло с прошлого дня. – Тут у нас цельный консильюм топтался. Я же и скорую, и милицию! Перепугала ты всех, матушка.
– А милицию зачем?
– Как же! А ворюга! Собственными очами видела его, голубонька. Думала, убил он тебя. Нет. Лежишь без кровинки в лице. И не дышишь. А он с окна так и сиганул.
– Здесь же Аркадий оставался! – вырвалось у вдовы, округлившей глаза. – Господи! С ним что?
– Помнишь, матушка. Помнишь, голубонька. Ну вот, память и возвращается. Может, видела что?
– Да при чём я? С Аркадием Викентьевичем что?
– А его и не было уже. Я же тебе только что всё, как есть, поведала. Что с тобой?
– Аркадий Викентьевич возле меня беспокоился. А потом как провалилась. До сих пор голова раскалывается, – обхватила голову обеими руками Семиножкина, тяжело приподнялась и села на кровати. – Видения непонятные и шум в ушах.
– Вызвать «скорую»?
– Обойдусь.
– Звони в милицию, – подхватила со столика телефонный аппарат соседка и сунула ей. – Номерок мне оставили.
Она вытащила из кармана халата листочек, нацепила на нос очки, прочла громко:
– Донсков Юрий Михайлович. Серьёзный мужчина. Больше твово Аркадия в два раза.
– Да что же с ним?
– А спит, поди, твой Аркадий. А тот, из милиции, приказал немедля звонить ему, как очухаешься.
– Я всё же сначала Аркадию Викентьевичу…
– Это уж ваше дело, – обидевшись, поджала губы соседка, но не отошла, засуетилась возле Семиножкиной, постель на кровати поправлять принялась.
Трубку на другом конце провода никто не поднимал, сигналы возвращались обратно, терзали слух длинными нудными гудками, мотали нервы.
– Спит? – соседка присела рядом. – Да и что ему сделается? Звони в милицию, Серафимушка.
– Да что же в милицию? Я жива, здорова.
– И ты мне не веришь? Говорю же, гремел кто-то у вас в зале. У меня слух чуткий. Лазил там жулик. А может, и украл чего, если бы я его не спугнула.
– Кому быть, Матрёна Никитична? – махнула ладошкой Семиножкина. – Причудилось. Ключи ведь только у тебя. Дверь, гляжу, не сломана. Разгрома никакого ты не видела, сама сказала.
– Да ты встань. Глянь сама, голубонька, – забегала соседка вокруг кровати. – Ты со сна-то впрямь не в себе. То я второпях да впотьмах, а то ты сама. Чего мне понять! И милиционер не присматривался особо, сказал, когда хозяйка подымется, заметит чего неладное, тогда и станет он меры принимать. Вот ты и пройдись, может, унесли чего.
– Невмочь мне, – покачала головой Семиножкина. – Голова болит, как чумная я вся. Аркадий бы был…
– Да что значит твой Аркадий?
– Одна я осталась, Никитична, одна, – расплакалась вдова. – Навалилось всё на меня. Когда Дмитрия Филаретыча привезут? Не сказали ещё?
– Сказали, матушка, сказали, – всплеснула руками соседка. – Забыла я с перепугу. Бегала к медикам Тоська с первого этажа, успокоили её: завтра хоронить можно.
– Завтра? – Семиножкина совсем побледнела, упала грудью на подушку. – Не перенесу я похорон, Никитична. Сама помру.
– Вызову-ка я «скорую», – бросилась старушка к ней за телефоном.
– Не надо, – встрепенулась та и прижала аппарат к себе. – Чего зря булгачить? Я ещё раз Аркадию Викентьевичу позвоню.
Но в квартире у Дзикановского телефон не брали.
– Странно, – прошептала вдова. – Ну нет его, ушёл куда, а как же Мирчал?
– Что за Мирчал? – сунулась к ней соседка.
– Убирается у него… женщина, – отвернулась к окну вдова, назойливая старушка явно ей досаждала.
– Вона каки дела! – поджала та губы. – А я всё гадала: женат наш Аркадий Викентьевич, не женат? Всё про деток узнать хотелось. Летов-то ему сколь?..
– Одинок он, – раздражённо оборвала её вдова. – А Мирчал эта по дому прибирает, готовит, присматривает. Узбечка или турчанка. Приятель Аркадию Викентьевичу порекомендовал. Вы же знаете, Аркадий Викентьевич далёк от всего этого… Он, как и Дмитрий Филаретыч, на одном помешан…
– Ну да, – согласно закивала соседка. – Одинокому мужчине, да ещё интеллигентному, конечно, тяжело без этого… Как же? И прибраться, и обстирать. Да и не стар ещё Аркадий Викентьевич…
– Вам бы только это!.. – в сердцах скривилась вдова, не выпуская телефона, она накрутила вызов ещё раз.
У Дзикановского молчали.
– Ты в милицию звони, матушка, – потвёрже, понастойчивей выговорила соседка, будто осуждая. – Или давай уж вставай. Вдвоём с тобой осмотрим квартиру. Уж больно строг тот служивый. Он ведь обещался опять зайти. Ждёт небось мово звонка.
Семиножкина покачала головой, будто не соглашаясь, но поддерживаемая соседкой, встала и вместе они прошли в большую гостиную, включив свет.
– Что же тут смотреть? – повторяла вдова, горько вздыхая, поглощённая своими мыслями. – Что я не видала?.. Всё на месте. Сюда бы Дмитрия Филаретыча… Сам бы он… А мне что знать?
В тусклом свете низкого торшера мрачно поблёскивали тёмным золотом рамы картин на стенах, грустно перемигивались лики святых на иконах.
– Он над ними, как тот скупой над сундуками. Меня не допускал. – Семиножкина, покачиваясь, едва держась на ногах, опиралась на соседку. – Тут у нас и света нет верхнего. Дмитрий Фаларетыч не любил яркого освещения. Свечи всё предлагал. Я на торшере этом настояла. Сам и список вёл всему. Сам пересчитывал регулярно. У него с учётом строго было поставлено. Тетрадочку вёл.
– Как же один справлялся-то, – покачала головой старушка. – У вас же уйма всего!
– Прибираться никого не приглашал, – приплакнула вдова. – Боялся чужого глаза. Всё дверь железную мечтал установить в прихожку и решётки на окна. Только одному Аркадию Викентьевичу и доверял.
Они прошли в зал.
– Зажмурь глаза-то, – Семиножкина слегка подтолкнула соседку, щёлкнула выключателем и большая люстра засияла, запылала над потолком.
Всё вокруг слепило и горело золотым сиянием.
– Свят! Свят! Свят! – охнула старушка. – Я и в храме Божьем такого редко видывала.
– Его коллекция, – вдова поискала глазами, где бы присесть, ноги явно отказывались ей служить. – Кроме картин и икон, он здесь и не держал ничего. Я ему и то, и другое намекала, про шкафы да стол со стульями. Не часто, но захаживали к нему гости из таких же, как они с Аркадием Викентьевичем… коллекционеры. Не посадить, не угостить. А ему всё нипочём. Твердит, бывало: вечное и святое, что здесь собрано, требует, чтобы перед ним на ногах, а уж если не держат ноги, то наземь и головой об пол.
– Да что же это, матушка? Это ж не храм! Грех, наверное, дома держать такое?
– Не знаю, Никитична. Ничего не знаю.
– Что же теперь делать с этим будешь, Серафимушка?
– У меня сейчас другая боль. Завтра хоронить надо Дмитрия Филаретыча, завтра…
Вдруг вдова замерла, наткнувшись на стул у одной из стен, и замолчала, испуганно его озирая:
– А это откуда?
– Ты про что, матушка? – перепугалась и соседка.
– Стул тут не должен быть, – побелевшими губами проговорила вдова. – У нас стулья на кухне. Ты принесла, Никитична?
– Да как же я, матушка? – закатила глаза старушка. – Я милиционеру тому дверку сюда в зал открыла, он голову просунул, огляделся и назад. А что? Пропало что, Серафимушка? Может, сама внесла, а после и не вспомнишь?
– Не знаю, – осторожно сделала шаг к стулу вдова. – Может, и забыла я. Тут и следователь бывал, когда осмотр Дмитрия Филаретыча приезжал делать… Но ему стул без надобности. Он на кухне протокол писал.
– А это что? – подняла руку старушка и прижалась к Семиножкиной.
Висевшая над стулом большая картина с изображением распятого Иисуса Христа, перекосившаяся, явно сдвинутая со своего места, обнажила край металлического ящика, искусно вделанного в стену.
– Что это у вас за Спасителем, Серафима? – затряслась от страха соседка, теряя голос и переходя на шёпот. – Никак здесь и шарил ночной ворюга.
Семиножкина ни жива ни мертва оперлась рукой на стену, пальцы её невольно коснулись железной крышки, и она сползла на колени, лишившись чувств.
Глава XIII
На кладбище, будь ты сам сторож или совсем отчаянный человек, если не конченный безумец, особо не поспишь. Как ни бодрись, а жутко. И мысли, конечно, допекают. Разные. Иван Карпыч Булыгин многое повидал, считай, три войны, а и он на дежурстве лишь подрёмывал и то, когда намедни на грудь принимал. Водку ни-ни, винца. С винцом-то живее себя ощущаешь. И думки короче. Всё кружится вокруг да около. «Трезвый, – откровенничал про себя Карпыч среди своих за стаканчиком, – я злой, как собака, и откуда всё наваливает, жизнь, видать, искусала, порой, себя боюсь, как находит, а как примешь на душу, она вся и расползается…» Эта его особенность и по Дурному, кобелю его, замечалась. Тот поутру прятался от Карпыча, не найти, хоть свисти ты во все свои десять пальцев, а лишь староста на скамеечку к вечеру присаживался, бровь лохматую свесив чуть не до носа, пёс тут как тут, у его ног ласкается и получает от растаявшего хозяина положенное пропитание или лакомство какое.
Проголосили вдалеке, где-то за кладбищем, очередные петухи, Карпыч вздрогнул, поднял голову, пнул пса ногой, тот взвизгнул легонько, чтобы хозяина зря не тревожить, – все на месте. Карпыч за пазуху сунулся, вытянул давний подарок – фляжку армейскую, принялся мусолить газетки кусок, самокрутку готовить. «Ещё час-два и рассвет, – поднял он глаза к небу. – Раньше лезть непрошеным в мазанку опасно. Спиридоныч и свой человек, а строгий. Попрёт взашей да ещё с похмелья. А то и в лоб смастерит, у него это лихо получается. Вроде улыбается, а клыками-то не прочь попробовать чью шею…»
Тучи так и носились по небу. Ещё сильнее ветер к утру разгулялся. Луны и след простыл, но светлело чуть-чуть на востоке. Время своё поджимало. Карпыч запахнулся поглубже в пиджак, отхлебнул из фляжки, затянулся махоркой, с удовольствием выпустил струю пахучего дымка. Не выходил у него из головы старший среди могильщиков Спиридоныч. И не то чтобы со зла тот так себя вёл, покусывал самокрутку Карпыч, Спиридоныч без злодейского нрава. Должность у него такая. С его могильщиками иначе нельзя. Только зазеваешься, и натворит что-нибудь любой из его аховой команды. Как-то чуть не закопали одного вместе с покойником. И смех и грех! Полез тот, подвыпивши, конечно, подкопать могилку – второй гроб клали. Ну возится и возится. Народу не особо было и дело к вечеру, про него и забыли. Где Кузьма? Да вылез давно. А чего сидим? А кто его знает?.. Вниз покойника опустили быстренько, а сверху землю кидать начали, заждались все. Хорошо, тот из-под гроба крик поднял, а если бы заснул там?..
Карпыч хмыкнул даже, вновь вспомнив ту катавасию. Нет, с такой братвой Спиридонычу иначе не сладить. Кулак нужен крепкий. Теперь на кладбище такие дела стали твориться!.. Народ сюда приходит, как на праздник. Не с горем, а с музыкой и кончается драками или смертоубийством. А уж ворья этого!.. Объявились такие, что взяли моду покойников выкапывать и раздевать. Теперь в кольцах, да при костюмах кладут в землицу. И распух иной, а отрезают пальцы да уши. Ни с чем не считаются.
Пёс почуял запах вина, встрепенулся, высвободился из-под его ног, хотел тявкнуть, но на хозяина глянул и передумал, сунулся ему холодным носом в руки – и мне давай.
– Обойдёшься, – прикрикнул на собаку Карпыч, хлебнул ещё винца из фляжки и морду пса рукой потеребил. – Тебе гулять нельзя. Что я без тебя? Как без рук!
Дурной встрепенулся и хвост распушил, изобразил грозного помощника.
А и то, без собаки, хотя бы и завалящей, тяжело, разное на кладбище творится последнее время. Тихое было место. А что теперь стало? Карпыч даже сплюнул от избытка чувств. Кого сюда только не заносит! Ладно хулиганьё, пацаны напьются, кресты дёргать с дуру начнут, а то ведь и настоящие поисковики древних могил объявились. И чего ищут? В милицию заявляли пострадавшие, а толку? Да что далеко ходить! Взять того же Спиридоныча. Это сверху он старший могильщик, бригадир, а ведь сколько народа к нему разного шастает, пакость и мразь сплошная! И сразу не догадаешься, не сообразишь, какой интерес у них. Вот взять хотя бы нынешнего. Чего его принесло в ночь-полночь в мазанку? И ведь мчался, как в дом родной. В нору глубокую, ища спасенье. Ишь пиджак-то разорвал небось в клочья! А Спиридонычу что-то приволок… Были у него в руках то ли сумочка какая, то ли чемоданчик…
Карпыч хотел отпить очередной раз из фляжки, но вовремя одумался, приостановился. Светать настаёт пора. Ему в форме следует быть. Не заснуть бы. Он пнул ногой пса, тот встрепенулся, забегал, запрыгал вокруг хозяина. Потянулся и сам Карпыч, поднялся на ноги, опираясь на палку. Сделает-ка он небольшой променад для спёкшихся ног. Заодно и мазанку осмотрит как следует, теперь уже сподручнее – заметно светлело. Дурной, мгновенно распознав намерения хозяина, опустил морду к земле и резво, изображая усердие, начал исследовать каждый встреченный кустик и столбик, ему тоже залежалось. Обойдя несколько раз жилище могильщиков и не усмотрев ничего подозрительного, сторож решился подобраться к двери, послушать ухом: света внутри не зажигали, но ему вдруг почудилось, будто за окнами задвигались люди, завозились. Едва он приблизился и уже нагибаться начал ухом, дверь распахнулась, и на пороге вырос сам бригадир в рубахе ниже колен с фонариком в руке.
– Вот бес! – вскричал Карпыч, закрывая лицо от света.
– Кто тут бродит по ночам? – ещё громче и свирепей рявкнул бригадир и замахнулся кулаком сшибить наотмашь неожиданного гостя.
– Спиридоныч! – успел взвизгнуть сторож, к земле присел. – Своих не узнаёшь?
– Откуда свои?
– Это ж я, Булыгин.
– Карпыч… – задохнулся громила, кулак опустил. – Зашиб бы до смерти. Ты чего под дверьми вынюхиваешь?
– Да я вот…
– А Сенька Прыщ в окно тень заметил. Бродит кто-то возле дома, говорит. Чего ты тут?
– А сам-то никого не замечал? – начал приходить в себя сторож. – Я по надобности.
– Я? Мы ж дрыхнем без… Если б не тебе явиться. Что случилось?
– Артёмка, помощник мой с главных ворот прибёг давеча. Кто-то на могилах опять шастает, кресты валит. В твою сторону, к мазанке вот, направился.
– Не видел никого.
– Может, твои ребята что заметили?
– Не было. Моё слово тебе не указ?
– Сюда ж побежали. Артёмка приметил, вроде как стучались к тебе?
– Дурак твой Артёмка. Пьян, наверное, как зюзя.
– Не пьёт он.
– Не веришь?
– Как не верить, Спиридоныч, – сторож переминался с ноги на ногу. – В милицию бы их сдать.
– Паскудный ты мужик, Карпыч, – сплюнул бригадир. – Ну заходи, сам проверь, сучья рожа. Разбужу своих орлов. Только тебе от них отбиваться. Если их разозлить, и я не удержу.
– Да я каждому твоему слову, Спиридоныч… – залебезил сторож, а сам уже нырнул мимо бригадира в дверь. – Здесь бы лампу засветить, башку сломишь.
– Тебе её и при свете расколют когда-нибудь, – выругался бригадир, шагнув следом и щёлкнул выключателем. – Подымайся, братва, к нам Карпыч с проверкой!
– Да какая проверка, Спиридоныч, – мялся, юлил тот, щурился со свету, а глазки его маленькие, но зоркие так и бегали, так и шныряли по помещению.
С полу на него таращились, ничего не понимая, снулые, полупьяные, не проспавшиеся физиономии. Лишних не было, все семь гавриков на полу, один к одному, восьмой сам бригадир, как остался на пороге, так и стыл с непогашенным в руке фонариком, зло поедая глазами сторожа.
– Ну? Нашел, кого искал? – подступил он к сторожу и уже готов был придавить его за горло.
– Да что же так, Спиридоныч? – заторопился к двери тот. – Я задам этому Артёмке. Пригрезилось стервецу. Я хвост-то накручу.
– Иди. Разбирайся, – сплюнул ему под ноги бригадир. – Только заруби себе на носу, если плести или трепать что на меня станешь, закопаю на этом же бугре и крест не поставлю.
– Прощевай, Спиридоныч, – выскочил из мазанки сторож. – Извиняй меня, старого. А Артёмке-то я сам уши оторву.
– Ты что ж, так его и отпустишь? – сунулся к бригадиру тот, которого Прыщём называли.
– А ты не понукай! – рявкнул громила. – А то и тебе башку снесу.
И шагнул из землянки вслед за сторожем.
Глава XIV
Как я себя ни мучил, а пересилить не мог; отложил протокол допроса, не хотелось дочитывать.
Федонин в другом конце кабинета за столом тихо беседовал с Донсковым, стараясь мне не мешать, обсуждали фантазии старушки – соседки вдовы Семиножкина; старший следователь не сдавался, упорно настаивал на предстоящем утреннем осмотре местности под окном у дома.
– С криминалистами своими посмотри, Юрок, – уговаривал Федонин. – Хуже не будет, а протокол не помешает. Дело теперь у нас. Нам теперь каждая бумажка нужна. Его ж искать придётся. Найдётся умник, ткнёт носом, если что.
– Кого искать? Беса из сновидений?
– Да уж не ангела.
– Я только рылом землю не пахал, – не сдавался капитан угро, – а так, чуть ли не языком каждый листочек на земле…
– Вот видишь! – тут же схватывал Федонин. – Не асфальт там. Мягкая почва. Поэтому без последствий для того уркагана. Должны следики остаться.
– Нет ничего.
– А в кусточках? В потёмках ты мог и не узреть.
Федонин был неестественно терпелив; он уважал, по-своему даже любил Донскова, их связывали свои давние доверительные секреты, известные только им двоим, другой бы сыщик и не сидел уже в кабинете, а сломя голову нёсся исполнять указания, а тут… сплошные любезности.
– А не хочешь своих, я попрошу Пашу. У нашего Павлика Черноборова знаешь какая сверхсовременная техника!
– Одна лупа чего стоит, – хмыкнул, не удержавшись, я. – Ещё со времён Шерлока Холмса.
– А ты чего? – кольнул меня взглядом Федонин. – Ты читай давай. Добиваешь? Там в самом конце про крест-то. Она старушка говорливая. Собственными глазами видела. И крест, и живого этого… Краснопольского. Читай, читай.
– Да как-то не вяжется всё, – поморщился я. – Больно уж попик этот получается у вас с ней…
– Что? Добреньким?
– Не то слово. Значительным каким-то. Будто из сказки.
– Во! – Федонин даже привстал. – Ты сам это сказал.
– Не таким он мне представлялся после книжек Холопова и Кремлёва. Хотя и там догадываться приходится. О заговоре полслова, о заговорщиках совсем ничего. Вакуум! Тайна за семью печатями! А с её слов!..
– Это уже не нам… – поджал губы старший следователь. – Я её за язык не тянул. Я ей высказаться дал, записал слово в слово. Всё по науке, как учили. А уж свои вопросики все потом. После передышки. Мы с Ивелиной Терентьевной и чаёк попили. Ты читай.
– Заговорщик с ангельскими манерами, – буркнул я. – И второй откуда-то появился? Какой-то немец, даже барон?..
– Леонтий, – подсказал Федонин, плечами пожал и добавил со значением. – Это заклятый враг архиерея Митрофана. Из обновленцев. Так получается со слов Ивелины Терентьевны. Епископ Леонтий декрет Ленина о церкви поддержал и раскол православной церкви возглавил, стал ярым противником архиепископа Митрофана. Но, конечно, не только его. Сам патриарх Руси Тихон возненавидел Леонтия. На то, оказывается, была своя причина. Леонтий, барон по сословному происхождению, ещё будучи в Саратовской губернии в интригах и смутах был замечен. Потом изобличён. За это его звания лишили и отослали к нам. Сослали, доверив самую тихую никчёмную церквушку.
– А как же он в епископах снова оказался? – не терпелось мне. – Это ж по их понятиям не такая простая процедура. Да и должность высокая.
– Краснопольский хлопотал за него. Перед самим Синодом и лично патриархом Тихоном. После своего приезда и назначения к нам. Они в то время как раз друзьями стали – не разлей водой.
– Он, значит, за него, а тот против!
– Ну это потом. Когда революция грянула. Тогда сплошная круговерть и в делах, и в мозгах. Вот и церковь переделать желающие нашлись. Леонтия тут же на свой щит, как жертву рук самого Тихона обновленцы подняли – и вперёд! А революции так все и вершились. Кто наверху заправляет, те знали, что хотели, а внизу – все на глотку, да за душу. Пока разберёшься, где окажешься, не знаешь; хорошо, если при столе, – Федонин свой стол оглядел и бережно рукой погладил, приласкав, – а то и у стенки с девятью граммами в башке.
– Видите, как всё оборачивается! – оттолкнул я от себя листки протокола допроса тоже в сердцах, заразившись его пафосом. – Живые, да к тому же… – я запнулся, меня заклинило, с трудом подобрал я нужное слово, – церковнопослушные они как-то по-своему те события нам объясняют, а бумаг официальных у нас до сих пор нет! Мне отец Михаил в Покровах такого наговорил!.. И его братия, с которой мы с вами не один день возимся!..
– Терпение, мой друг, – опять поднялся из-за стола Федонин. – Терпение и спокойствие. У меня тоже… в сознании не комфорт, а после некоторых встреч с… представителями религиозных источников, можно сказать, совсем кавардак. Но я же не падаю в обморок, как дамочка какая?
Увесистый аргументец он мне преподнёс, нечего сказать. Нашёл словцо старый лис в присутствии представителя младшей группы правоохранительных органов! Это надо понимать, чтобы честь мундира не затронуть…
– Дело надо, – только и мог я сказать, отвернувшись. – Срочно истребовать архивное уголовное дело из КГБ, и всё встанет на свои места. А то гадаем на кофейной гуще. То к попику, то к попадье нас…
– Между прочим, – прищурился хитрым глазом старший следователь, – у нас с вами, молодой человек, это называется старым добрым принципом.
– Да уж, конечно, – я не сомневался, что у Федонина для таких случаев припасена очередная зуботычина.
– С римского права, – начал он, постукивая себе в такт пальцем по столу, – в следствии действует принцип объективности, который требует всесторонность и беспристрастность исследования всех доказательств и их источников. Ничто не имеет приоритета. Никто и ничто не наделены правом довлеть над следователем и тем более ставить точки в последней инстанции.
– Я что-то не понял, – стараясь разрядить обстановку, улыбаясь, неловко вмешался капитан Донсков и тоже поднялся. – Намечается реформа отечественной правовой школы? В коридорах нашей конторы я что-то не слышал…
– То в вашей конторе, – совсем недружелюбно поморщился Федонин, а мне отчеканил, не моргнув глазом. – Аудиатур эт альтэра парс[1], молодой человек. Не следует забывать.
Донсков так и сел, язык проглотив и ничего не понимая.
– Устал я с вами, – положил передо мной ключи от кабинета Федонин. – Да и поздно. Дома ждут. Закроешь кабинет, – и он двинулся к двери.
– Павел Никифорович! – бросился за ним Донсков, но тот только ладошкой вяло махнул:
– Прощевайте. Потолкуйте тут без меня. Вам есть о чём. Только ты, Юрий Михайлович, не забудь. Утречком сделай, что я просил.
И скрылся за дверью.
– Он что? Обиделся, что ли? – уставился на меня Донсков. – Что у вас с ним за разговоры были? Что-то я не понял ничего?
– Так, – отвернулся я. – Сам не соображу. Вроде всё по пустякам. Может, с шефом у него разговор какой был ещё днём? Он толком-то мне и сам ничего не объяснил. Об отравлении Семиножкина заключение выдал и сообщил, что Игорушкин дал согласие на возбуждение уголовного дела.
– Однако… – почесал затылок Донсков. – А это? Чего это он абракадабру какую-то выпалил, уходя?
– Так… вспомнились старику студенческие годы.
– Ты не гаси, Палыч, – навострил уши Донсков. – Чего от меня-то скрывать?
– Да латынь это, – нехотя огрызнулся я.
– Ну это я понимаю, – наседал тот.
– Судейская присяга была в Древних Афинах, в ней содержатся такие слова. Означают примерно следующее: клянусь, что буду выслушивать и обвинителя, и обвиняемого одинаково.
– Конечно, – почесал затылок Донсков. – А как ещё? Погоди. А до этого о чём у вас разговор был? С чего это он на тебя?
– Это ты меня спрашиваешь?
– Он и домой что-то враз засобирался, – не отставал капитан. – Редко с ним такое происходит. Я, признаться, и не успел. Вот, хотелось по сто граммов с вами после, так сказать, долгого рабочего дня…
Он вытащил из-за пазухи бутылку коньяка и поставил на стол. Бутылка смотрелась одиноко и грустно на пустынной поверхности стола.
– Может, догнать? – кинулся он к окошку.
– Бесполезно. Старик не из тех, чтобы возвращаться, – махнул я рукой. – Не пойму только, чем я его задел?
– Ты вспомни, Палыч. С чего спор у вас зашёл? – уже доставал рюмки с полочки из шкафа Донсков. – Из закуски вот только яблоко.
Он выставил на стол яблоко. Огромное и зелёное на фоне золотистой жидкости в благородной бутылке впечатляло.
– Натюрморт, – совсем взгрустнулось мне. – Яблоко раздора.
– Ничего, – разливая по рюмкам, хмыкнул Донсков. – Сейчас вспомнишь, расскажешь, и я вас помирю.
Мы чокнулись и выпили.
Что я мог рассказать Донскову? Кроме недочитанного протокола допроса свидетельницы Толупановой Ивелины Терентьевны, темы у нас с Федониным не было. Уж больно сладка получалась в её длиннющих повествованиях личность этого преподобного архиерея Митрофана. Одно она пела со слов Константина Мефодьевича, помощника ключаря Успенского собора Дмитрия Стефановского, другое черпала из собственной памяти, но в обоих перезвонах однозначно возносила архиерея Митрофана как безвинную жертву.
– А Константин Мефодьевич, выходит, её муж? – налил по второй Донсков.
– Умер. Их, всех сторонников старой православной веры, которой придерживался патриарх Тихон и, конечно, архиепископ Митрофан, осудили за откровенное сопротивление декрету о церкви. Естественно, из тех мест многие не возвратились, но деду тогда повезло.
– А эта? Свидетельница?
– Их приговорили к ссылке за сопротивление изъятию церковных ценностей, – повторил я. – А она к мужу поехала в места отдалённые. Потом вернулись вместе.
– А обновленцев, значит, не трогали?
– Ты, капитан, совсем в этих вопросах не плаваешь, – уколол я надоевшего Донскова. – Хоть почитал бы чего-нибудь. Вон, Павел Никифорович меня раскритиковал, так я теперь профессоров экзаменовать могу.
– То-то я гляжу, вы сцепились с ним нос к носу. Хорошо, я здесь оказался, а то неизвестно, чем кончилось.
– Истина требует, – подставил я рюмку и на бутылку кивнул. – Яблоко-то кислое приволок, оскомина зуб съела.
– Это у тебя, Палыч, на другое оскомина появилась, – засомневался тот. – Я тоже не слепой. Заморочил вам обоим головы Семиножкин. Его уж нет в живых, а вам хлебать и хлебать.
– А себя забываешь?
Но, видно, пора было вмешаться ещё кому-то в наш разговор: подпрыгнул от звонка телефон на столе и умолкать уже не собирался.
– Это меня, – опередил Донсков и трубку выхватил из-под самого моего носа. – Я в дежурке предупредил, чтоб если что, здесь меня искали. У Федонина.
Говорил он недолго, только поморщился, как от зубной боли и выражение лица до конца разговора у него уже не менялось.
– Что ещё? – поднялся я собирать со стола. – Подвезёшь до дома?
– Павел Никифорович как в воду глядел! – Донсков трубку оставил, торопливо принялся мне помогать. – За что я его уважаю, так это за великое чувство предвидения. Будь он здесь, пришлось бы ему с нами вояжировать.
– Что такое? Ты можешь без своих шуточек, капитан!
– А куда нам без них? – Донсков уже улыбался мне всем набором имевшихся в его рту доброкачественных зубов. – Семиножкина не зря укокошили. Вот она, разгадка тайны! Вдова, очухавшись, сейф нашла в стене. За картинами ховал его коллекционер церковной утвари. А вы с Никифорычем спорите! Поедешь со мной? Сейчас машину пришлют.
Часть вторая
,в которой несостоявшийся врач, непризнанный знаток древних медицинских наук, бывший артист, поэт и фармацевт Аркадий Викентьевич Дзикановский претендует на главную действующую роль, но становится следующей жертвой таинственных и трагический событий
Глава I
Ранним ненастным утром, когда даже солнце, зацепившись за край сумрачного горизонта, ещё раздумывало всходить ему или повременить, на безлюдную тихую улочку из низкой подворотни вынырнула согбенная примечательная фигурка и, прихрамывая на левую ногу, заковыляла, придерживаясь ближайших стен. Похоже, это время было выбрано путником не случайно. Как ни тяжко давался ему каждый шаг, как ни нуждался он в посторонней помощи, что-то подсказывало – им движет большая нужда. Впрочем, возможно, имелась и другая причина: желание остаться незамеченным, пока город пребывал почти пустынным.
Человек этот был неказист, тщедушен и старомоден, можно сказать, дряхл и возрастом, и одеждой. Но в видавшем виды костюме просматривались изящество и даже былое фатовство. На нём мешковато сидел когда-то великолепный, а теперь замызганный удлинённый пиджак, напоминавший дореволюционный сюртук, а на голове широкополая тёмная шляпа. Кроме всего прочего он курил трубку, что значительно мешало ему передвигаться, хотя он и опирался на дорогую трость. Последние детали могли характеризовать старика либо большим чудаком, либо человеком, попавшим в исключительную ситуацию, заставившую его воспользоваться в тяжёлой дороге тем, без чего не обойтись.
Когда на его пути оказался небольшой пустующий сквер, он вздохнул с явным облегчением, тут же присел на первую попавшуюся скамейку, снял с головы шляпу и устало вытер пот со лба. Вытащив изо рта трубку и осторожно оглядевшись, не особо поворачивая низко опущенной головы, он докурил её до конца уже совсем спокойно, аккуратно выбил и, бережно спрятав, тут же продолжил путь.
Может, его подгоняло ненастье? Не оставляя сомнений, назревал дождь, а то и ливень. Воздух, перенасыщенный влагой, неприятно мокрил лицо, ветер стих и совсем залёг. Миновав несколько кварталов и, по-видимому, совсем обессилев, уже у самой набережной путник свернул в грязный переулок; асфальт кончился, а с появившимися тут и там колдобинами возникли новые трудности, однако по тому, как он ускорил, а не замедлил шаги, было ясно, что до конечной остановки осталось недалеко.
Нырнув в полуразвалившиеся ворота двухэтажного расползающегося П-образного строения, он замер на площадке внутреннего дворика, подыскав опору для спины в виде засохшего старого дерева. Со всех стен древнего жилища спускались вниз допотопными, но ещё крепкими лестницами деревянные веранды. Обычно с прикорнувшими, дремавшими кое-где пенсионерами, в этот час они пустовали. Отметив про себя эту приятную малость, старик хмыкнул удовлетворённо, вздохнул и постучал в дверь первого этажа. Ему никто не ответил, но он уже не спешил и терпеливо пережидал несколько минут. Когда он опять достал трубку и, потискав её в ладонях, снова потянулся к двери, за его спиной из тёмного угла за лестницей неслышно выступил крепыш в серой куртке и легонько коснулся его плеча:
– Вы не к Аркадию Викентьевичу?
– Простите, – дрогнув, обернулся он.
– К Дзикановскому?
– Мне, собственно… видите ли… – замялся и совсем обмер он, заметив краем глаза второго в сером, двинувшегося из другого угла дворика.
– Мы тоже к нему, – хмыкнул крепыш, не дав опомниться, легко распахнул дверь и втолкнул его внутрь.
– Собственно, чем обязан? – залепетал он, но зажмурился от ударившего в глаза яркого луча фонарика.
– Юрий Михайлович! – крикнул кто-то сзади. – Как ждали. Явились – не запылились.
– Ты бы поосторожнее, поделикатнее с гостем, Фоменко, – ответил ему тот, кто держал фонарик, но было поздно, старик зашатался, схватившись за грудь и, словно подкошенный, рухнул наземь.
– А, чёрт! – выругался кто-то. – Предупреждал же я вас! Что теперь, врача вызывать?..
Глава II
– Сергей Анатольевич! Ну вы скоро? – допекал нудным голосом за окном шофёр Сенюшкин.
– Сейчас, – в который раз буркнул Мухин, не выпуская из угла рта потухшую сигарету и не подымаясь из-за стола. – Сказал буду, значит, буду.
– Когда же? – не выдержав, вылез из-под «москвича» шофёр, майка на спине мокрая, злой, задрал голову к распахнутому во двор окну. – Обещали ведь…
– Ты не видишь, у меня мозг дымится. Не хуже твоего мотора, – юрисконсульт жилкомотдела, так и не отрывая глаз от бумаг, почесал за ухом. – Отчёт не сходится. Понимать должен, Антоха.
Антоха, худой, долговязый парень лет двадцати трёх, вытер ветошью грязные руки, с тоской оглядел пустой двор отдела горисполкома и полез в карман за сигаретами, потеряв всякую надежду. Он уныло подошёл к окну, заглянул в кабинет и заканючил:
– Ехать надо. Иван Петрович уже присылал секретаршу. И кассирша задёргала, ей до обеда в банк успеть надо, зарплата сегодня, не забыли?
– Зарплата – это хорошо, Антоха, – оторвался от бумаг Мухин и улыбнулся шофёру. – Это всегда маленькое счастье.
– Ну вот. А я что говорю.
– Тебя десять минут устроят?
– Да тут толкнуть только. Она с оборота теперь заведётся, – шофёр чуть не плакал. – Когда новую дождусь? Одно старьё с чужого плеча…
– Не горюй. Будет у тебя новый драндулет, – юрист, крепкий здоровяк спортивного вида, выскочил из-за ненавистного стола, разминаясь, упруго присел несколько раз, поиграл мощными бицепсами и, приняв боксёрскую стойку, двинулся к окну, изобразив угрожающую физиономию. – Только вот тебя, Антоха, это не изменит. Скорее, наоборот.
– Это почему же? – надул тот губы и юркнул от окошечка на безопасное расстояние.
– Как куда подвезти, так ты занят, – высунулся в окно юрист и успел потеребить шофёра за вихры. – А вот подтолкнуть твою колымагу или колесо отвалившееся подтащить, кроме меня, помощников нет.
– А откуда же им быть? – напыжился шофёр. – Вокруг одни юбки.
И физиономия его преобразилась: к женскому полу он питал нескрываемую слабость.
– Верочку-то катаешь, а ведь она тебе не помощница.
– Не касайтесь этого вопроса руками, Сергей Анатольевич. Умоляю!
– Вот, – поднял перед его носом вверх палец Мухин. – Значит, ты меня должен уважать и к просьбам моим, заметь, законным, относиться благожелательно. Понял?
– Так точно, Сергей Анатольевич! – дурачась, щёлкнул каблуками и вытянулся шофёр. – Куда пожелаете прокатиться?
– Так и быть, хитрец, поверю в последний раз, – захлопнул окно юрист и бодро двинулся на выход. – Жди. Я сейчас.
Не успел он выйти в коридор, как на него едва не налетела зардевшаяся от спешки секретарша из приёмной:
– Сергей Анатольевич, вас Иван Петрович спрашивает.
– Верочка, ещё бы секунда и валяться мне на полу.
– Ему ехать, а там…
– Что случилось?
Вместо ответа она развернулась и только аромат духов, обдавший его, остался лёгким напоминанием её присутствия.
– Мне ещё в гараж, предупредить Сенюшкина! – донеслось по коридору.
«Сроду здесь, словно на пожаре», – пожал плечами Мухин; заканчивался год его пребывания в жилкомотделе, но привыкнуть к ритму работы он не мог; отдел постоянно лихорадило в приёмные для посетителей дни, тогда очередь желающих попасть к начальнику не умещалась и на двух этажах, народ стоял и толпился на улице, а некоторые заглядывали и в гараж, где их как могли развлекали оба шофёра, а в особенности Сенюшкин. Толчея с гомоном и руганью не заканчивалась до поздней ночи, хотя на помощь шефу бросались и его оба заместителя. Прежний юрисконсульт, преклонных лет, пересидевший все сроки в своей должности тучный старичок Шерстобитов, уходя на пенсию и передавая ключи Мухину, оглядел его нехилую фигуру, довольный, пожевал губами и всё-таки с сомнением напутствовал: «Здесь жить можно, если будешь придерживаться одного правила». Мухин не особенно переживал, его на это место пригласили, и он ещё прикидывал, прежде чем согласие дать. Но на старичка взглянул и возражать не стал, одно правило его устраивало, навострил уши, поступить по-своему он всегда успеет. «Слушайся главного, – почмокал губами старичок, напоминавший известного зиц-председателя Фунта из “Золотого телёнка”, – делай наоборот и никогда не ошибёшься». Загадкой звучали его пожелания. Мухин уже подумывал, в себе ли новоиспечённый пенсионер от свалившейся свободы, но тот заключил со значительным видом: «И не вскакивай в их колесо. Берегись превратиться в белку».
Главным, кого следовало слушаться, был начальник отдела Иван Петрович Хвостиков, проворный маленький человечек, никогда и нигде не сидевший на месте. Вместе с ним, будто по мановению волшебной палочки, неслось и скакало всё и все в отделе. Он обладал удивительной способностью заводить, заставлял суетиться и беспокоиться других, когда в короткие периоды оставался неподвижным сам. Но при всём этом постоянном беге люди, окружавшие Хвостикова, зачастую никуда не успевали, поступали не так, как следовало, отчего создавалась бестолковая суматоха, и всё шло наперекосяк. Но Хвостикова ценило и даже уважало начальство, держало на этом почётном месте и каждый год обещало повышение.
Со своим телосложением, весом под сто, а то и больше килограммов, Шерстобитов, даже если бы захотел, конечно, торопиться никак не мог, поэтому от него, гадал Мухин, отстали, а вот ему самому на первых порах пришлось туго. Он старался не забывать мудрых напутствий предшественника, но не всегда удавалось: захватывал, заражал общий пафос и азарт. Его тоже начинало закручивать в общую бестолковую круговерть, и тогда он цеплялся за вторую подаренную истину. «Здесь, как и в жизни, всё течёт, – сказал Шерстобитов, хитро прищуривая глаз, – пройдёт и это, не бери в душу». Где-то Мухин слышал эту расхожую мудрость, но вспомнить не мог, однако глубоким смыслом её проникся быстро: вся суета, закипавшая в отделе с утра и бурлящая до самого вечера, к ночи как пена оседала, и про неё дружно забывали уже к следующему дню, а утром начиналось новое, и прежние заботы никто не вспоминал. Они возникали потом, но уже как опять новые, незнакомые и образовывался своеобразный круговорот, которому не было ни конца, ни края, когда в ушах только: звонят! зовут! беги! неси!..
Когда постучавшийся в дверь Мухин появился на пороге кабинета, Хвостиков в шляпе стоял к нему спиной у окна, махал рукой кому-то во двор, удерживая под мышкой увесистую папку, то и дело заставлявшую его кривляться всем гибким позвоночником, чтобы не уронить, и кричал в телефонную трубку. Неискушённый человек мог подумать, что на другом конце провода постоянные проблемы со слухом, но Мухин-то уже привык и понял: шеф по-другому общаться просто не умел, хотя каждый раз надрывался до красноты. Впрочем, в отделе все кричали, это было ещё одной особенностью многих служащих горисполкома, похоже, их всех плохо слышали там, на других концах и они прибавляли обычные фразы: «Понял? Я всё сказал. И точка». Лишь в бухгалтерии, отмечал наблюдательный Мухин, женщины позволяли себе отступления. Они заканчивали монологи демократичнее: «Может быть, у вас имеется своё мнение, но мы советовали бы вам подумать…» И многозначительная недосказанность, когда на бумаге ставится философское многоточие. Так говорила Нонна Станиславовна, главный бухгалтер, и остальные, но на полтона ниже.
– Ты понял? – бросив трубку, Хвостиков крутанулся на каблуках лицом к Мухину, видно, услышав его шаги. – Меня им подавай. Меня хотят видеть. Всем понадобился. И главное – враз.
– Горит? – по своему обыкновению спросил юрист; с некоторых пор он тоже решил выработать для себя набор впечатляющих фраз, здесь это ценилось.
– Хуже, – мрачно усмехнулся начальник и, поправив шляпу, заторопился к дверям. – Хоть разорвись, но успевай.
– Чем могу помочь, Иван Петрович? – стараясь всё же не подчиняться уже пышущей от шефа энергии, устоял на ногах Мухин, смекнув умолчать про шофёра.
– Антона мне уже не дождаться, – опередил его начальник, надвинув шляпу на глаза и пробежав глазами надпись на папке. – Я в горисполкоме другую машину выпросил. А ты, друг мой…
«Друг мой», «любезный», «уважаемый» тоже было одним из изобретений Хвостикова, но однажды он чуть не сгорел в обнимку с неким разозлившимся слесарем, облившим и себя, и его бензином и щёлкнувшим зажигалкой в вытянутой руке. Тот обезумел из-за того, что так и не дождался обещанной Хвостиковым квартиры. И возмутился, когда в очередной раз, выгоняя его из кабинета, не забыли назвать «уважаемым». Других поводов не было. Закончилось вполне мирно для Хвостикова и многострадального слесаря. Тот даже в кутузку не угодил – настоял тот же Хвостиков: он крови не любил. А вот с тех пор обращения типа «любезный», «мой друг» и тому подобные, исключил из своего лексикона. Дело было давнишним, вспомнил его тот же Шерстобитов по какому-то поводу при расставании, а сейчас Хвостиков вдруг оговорился, поэтому Мухин сначала даже не поверил, но всё же насторожился.
– Ты, мой друг, – внятно повторил Хвостиков, явно поглощённый уже новыми заботами, – поезжай-ка к Гремыкину. Бывал там?
– Нет. Вот куда не успел, так не успел.
– И не спеши, – махнул рукой начальник. – Тебе ещё рано. Но сейчас надо. Гремыкин меня только что по трубке бомбил.
– Что случилось-то? Может, завтра с утра?
– Поспешай. Времени у тебя в обрез. Разберёшься на месте, а к вечеру доложишь. Там у Гремыкина какая-то гражданка бунт подняла.
– Это же на край света?
– Успеешь, – уже исчезал в дверях Хвостиков.
– Я Антона Сенюшкина возьму, – крикнул Мухин, бросившись следом. – Он обещал отремонтироваться.
– Смотри, чтоб не подвёл, – прозвучало из коридора.
Покурив уже у себя на подоконнике и понаблюдав за шофёром, лениво умывавшимся у дверей гаража, а затем блаженно влезающим в сухую рубашку, Мухин собрал дорожный портфель, в который раз передёрнул плечами от негодования и двинулся из кабинета.
– Ну? – подступил он к присевшему возле автомобиля шофёру. – Исполняй обещание.
– А толкнёшь? – обрадовался тот.
Драндулет не подкачал, завёлся сразу, и почти не коптил движок.
– Куда? – заблестел глазами водитель, за баранкой его было не узнать, теперь он мог нравиться девушкам, покорять их сердца и вообще был готов на любые подвиги. – Успеем за зарплатой вернуться?
– К Гремыкину, – поморщившись вместо ответа, скомандовал юрист, залезая в кабину.
– На кладбище?! – чуть не вскрикнул тот и присвистнул, надвинув кепку на вихры. – Больше послать некого?
– Да не хоронить, – буркнул Мухин. – И не трясись заранее. Бузу там затеяли могильщики. То ли у них кто пропал, то ли ещё что? Если твоя колымага не подведёт, успеешь в банк.
– Раз в ней дело, не сомневайтесь, Сергей Анатольевич, – возликовал Антоха, и «москвич» рванул с места.
Глава III
Все похороны Матрёна старалась держаться рядом с вдовой, как та её и просила. Не отходила от Серафимы ни на шаг, оберегала как могла и от толчеи, и от слишком надоедливых. И на поминальном обеде в кафе поддерживала её и словом, и под локоток, да и до дома так вместе и добрались. В комнату вошли, уложила бедняжку, задремала та, вроде закрыла чёрные, истомившиеся, все в слезах глазоньки, а не унимается Матрёнино сердце, испереживалась она за соседку, боялась, как бы не повторился с ней тот припадок, не впала бы она опять в беспробудный сон. Запомнились и напугали её слова доктора «скорой», что повториться может несчастье и неизвестен тогда, непредвиден может быть конец, слабое вдовье сердце, настрадавшись, может разорваться.
Вот и мучилась Матрёна подле соседки, не сводила с неё перепуганных глаз, забавляла разговорами, развлекала чем могла, лишь бы не дать ей окончательно заснуть. Потерпеть бы так до вечера, а там ночь придёт, всё само собой может и обойдётся.
День достался обеим хлопотный, одно избавление, вздохнула Матрёна, предали тело страдальца Дмитрия Филаретовича земле, и похороны удались, и народа пришло попрощаться достаточно, и обедом не опозорились – всё по-людски. Матрёна перекрестила вдову, так и не открывавшую глаз, пожелала ей и себе так добром и завершить многострадальный день. Ей бы тоже пойти полежать, ей тоже досталось, годы-то не те, как прежде, а как уйдёшь?! Если бы знать, что обойдётся, а случись что, пока ее не будет?..
– Серафимушка!.. – тихонько позвала Матрёна. – Серафима! Ты не засыпай, милая, ты погоди, поговори со мной.
Вдова приоткрыла глаза, долго грустно вглядывалась в соседку ничего не выражающим взглядом, будто не узнавая, губами шевелила беззвучно.
– Глянь, глянь на меня, милая, – запричитала старушка. – Ты что же, не узнаёшь совсем?
Губы Серафимы зашевелились, и веки задрожали.
– Ты уж не пужай меня, Серафимушка, я – Матрёна. Ты не засыпай, не засыпай.
– Матрёна Никитична, – прошептала еле слышно вдова. – Сморило меня. Дай водички. Мне сейчас лучше станет.
– А чаёк горяченький? – загорелась, обрадовалась соседка и – откуда силы взялись – соскочила с кровати на ноги, заспешила на кухню и пяти минут не прошло, она уже прибежала назад с чашкой на блюдце, ложечкой помешивая. – Любишь с сахарком-то?
Вдова подняла голову, оперлась на локоть, приняла чашку.
– Что-то накрыло меня, – пожаловалась и прильнула к чашке, не опасаясь горячего, не отрываясь, сделала несколько глотков, на Матрёну взглянула. – Приснилось мне что-то, Никитична, вот всё вспомнить хочу, а не могу.
– Не Дмитрий ли Филаретыч? – всплеснула руками соседка. – Он теперь часто будет приходить. Ещё девять дён ждать. Да и потом… Теперь до сорока… Но ничего, мы в церковь-то сходим, свечечки поставим… А когда ж ты уснуть успела? Всё глазки были открыты. Я ж от тебя не отходила?
– Провалилась будто.
– Это бывает. Но хорошо, что уже позади. Я боялась.
– И мне будто полегчало.
– Вот. Попей чайку-то. И совсем получше станет. Ты же эти дни в рот крошки не брала.
– Не брала.
– Как ты к этому-то?.. Как вчера к прокурору-то добралась? Я испереживалась прошлый раз за тебя.
Серафима слабо повела рукой:
– Сама не знаю. Я ж не по своей воле.
– Совести нет у них. Вот что я скажу. Не могли сами прийти, если что спросить желают, – не терпелось старушке. – Приезжал ведь человек оттуда, когда Дмитрий Филаретович скончался. Чего им ещё понадобилось?
Вдова опять слабо рукой отмахнулась:
– Интересуются всё, как мы жили, что могло случиться…
– Чего ж ещё спрашивать? – соседка совсем возмутилась. – Воров бы ловили! Сейф-то разграбили! А кого поймали?
– Сказали, поймают.
– Вечно у них так, – поморщилась старушка. – Теперь жди, когда рак на горе свистнет. От этой милиции быстро не дождёшься…
– Это не в милицию меня приглашали, Матрёна Никитична.
– Не в милицию? А куда же?
– В главную прокуратуру.
– Бог с тобой! – перекрестилась соседка, и глаза её округлились. – За что же туда-то?
– А смертью там занимаются, – Серафима допила чай, подала чашку, на подушку откинулась. – Вы, Матрёна Никитична, уж извините меня, но следователь и вам повестку со мной передал, просил подойти после похорон.
– А я что знаю?
– Так положено.
– Что я видела, им известно, – насупила губы старушка. – А больше мне сказать нечего. Я на своих соседей наговаривать не собираюсь.
– Вот и скажете.
– Не стану я ноги зря бить, – забурчала и отвернулась. – Ты ж у них вчерась была?
– Видно, так положено.
– А чего сразу мне не сказала?
– Забыла.
– А где ж бумажка-то та?
– Повестка?
– Ну да.
– Посмотри у меня в халатике. Я когда возвратилась из прокуратуры, вроде туда сунула.
Матрёна сбегала в кухню, отнесла чашку, вернулась с повесткой в руках.
– У меня и очков-то нет при себе, – завертела она бумагу. – Далеко эта прокуратура?
– Я расскажу, – слабо улыбнулась вдова. – Ты иди, Никитична, отдохни сама-то. Тоже намучилась сегодня.
– А ты как?
– Да вроде лучше. Спасибо тебе за всё.
– Ты только не спи, – напомнила соседка уже на пороге. – Потерпи до вечера-то. Да поднимись на ноги. А если скучно станет, стучи в стенку.
– Хорошо, – приподнялась на локте Серафима. – Ключ-то у тебя ещё?
– Вернуть?
– Не надо. Ты не стесняйся, сама заглядывай.
И они расстались.
Плотно захлопнув дверь и оказавшись на лестничной площадке, старушка, не сделав и нескольких шагов, остановилась и, достав бумагу из кармана, начала тщательно её изучать.
– Старший следователь Федонин, – сначала шёпотом, а потом и громче повторила она, снова вчиталась в повестку, словно ища в ней то, что могло ускользнуть от её глаз. – Прокуратура области. Это что же такое делается?.. Милиции, значит, на них мало?..
Прошептав эту понятную только для неё фразу, старушка подозрительно оглянулась на дверь, из которой только что вышла, и шмыганула в свою квартиру. Но и оказавшись там, она не успокоилась, походила по комнатам, чуть ли не на цыпочках подошла к одной из стенок и, приложив ухо, долго стояла так неподвижно, даже глаза закрыла, прислушиваясь. У Семиножкиной словно вымерло.
– Старший следователь зазря вызывать не станет, – буркнула старушка, отойдя наконец от стены. – Чуяло моё сердце, просто так это не кончится…
Усталость, тревоги и хлопоты дня взяли своё, и она прилегла, но как не закрывала глаз, как не пыталась уснуть, думы, нахлынувшие внезапно, покоя не давали. Она поворочалась с боку на бок, встала, ещё раз подошла к стенке и прижалась ухом к обоям. Тишина царила у соседки, но вдруг чуткое её ухо уловило едва ощутимые шаги и лёгкий стук в дверь. Стучались не к ней, стучались в квартиру Семиножкиной. Старушка, как была, позабыв про платок на голову, выбежала в коридор, осторожно приоткрыла дверь, прислушалась, а затем и высунула голову:
– Вам кого?
У двери Семиножкиной дёрнулся застигнутый врасплох нахального вида подросток, явно перепуганный, и вылупил на неё глаза.
– Тебе кого надо? – грозно переспросила Матрёна. – Чего здесь рыщешь? Покойника не успели вытащить!.. А они шляются!..
У Матрёны нашлось бы ещё изрядное количество достойных ситуации угроз и возмущения для этого слюнтяя и явного воришки, но к её удивлению дверь отворилась и подростка впустили внутрь. Старушку покоробило и, не веря своим глазам, она собралась ринуться вслед за объяснениями, но дверь отворилась и высунувшаяся Серафима, жалостливо улыбнувшись ей, смущённо успокоила:
– Это ко мне, Матрёна Никитична. Не волнуйтесь, пожалуйста.
Старушка, ещё не опомнившись, попыталась что-то сказать вгорячах, но перед самым её носом дверь быстро закрылась.
«Вот тебе на́, – задумалась Матрёна, поджала губы и совсем смутилась. – А ведь я уже где-то видела эту прыщавую наглую рожу?.. Бандит этот мелькал у меня сегодня перед глазами… На кладбище он к Серафиме подбирался. Я тогда подумала, в сумку бы ей не залез, а они, оказывается, шептались о чём-то… Это что же творится?!»
И Матрёна, заподозрив неладное, побежала к себе, торопясь к заветной стенке.
Глава IV
Без Федонина или Ковшова допрашивать привезённого в УВД задержанного Донсков не имел права, более того, старший следователь строго-настрого проинструктировал каждого оперативника, отправлявшегося в засаду, и лично капитану наказал, чтобы всех, кто заявится, не пугать вопросами, связанными со смертью Семиножкина, и даже близко не касаться темы недавних криминальных событий в доме коллекционера.
Донсков морщился сам, глотая эти наставления, видел, как переглядывались оба его помощника, которых он занарядился взять с собой на первую вахту – старший лейтенант Фоменко и лейтенант Дыбин. Они пороха уже не раз нюхали, вооружённых бандитов брали, Фоменко и ранение боевое имел; эти пистолет в фуражку прятать не станут, как комедийный дилетант в исполнении Чарли Чаплина, а старший следователь именно такими их и выставлял, когда назидательным нудным тоном поднимал нервы обоим. Но стерпели ребятки, правда, Донскову пришлось пару раз цыкнуть на нетерпеливого Фоменко, того так и подмывало надерзить прокурорскому работнику, пытавшемуся его, сыщика аж с двухлетним стажем, учить уму-разуму. Не знал Федонина прыткий старлей, видел однажды в мирном кабинете, протирающим штаны и прячущим глаза в кипу бумаг толстенным бухгалтером или кладовщиком, вот и создал образ. Кстати сказать, Донскова тоже зудило, когда «первая птичка», как он для себя окрестил раннего гостя «залетела в клетку». Он так и затрясся: попавшийся старик явно припёрся по большой нужде в эту квартиру, при его-то здоровье и такой погоде не нагуляешься. А задрожал как, когда Фоменко его у двери сцапал! Явно имел отношение и к пропавшему Дзикановскому, и к умершему Семиножкину. Но случилось непредвиденное, чего не только в практике самого Донскова никогда не было, но даже и от других слышать не приходилось: старик охнул, пролепетал что-то и снопом повалился на пол у порога, едва успев его переступить. Ближе всех к нему был здоровенный старлей Фоменко, тот даже в руках его держал, но растерялся и потом, нагнувшись над ним, пульс искал с перекошенным от испуга лицом. С неизвестным, к счастью, ничего страшного не случилось, но разговаривать тот долго не мог, а когда сообщил, что он отец Дзикановского, Донсков, не раздумывая и не испытывая судьбу, вызвал «дежурку» и привёз хмуро поглядывающего на него старика в управление. Поджидавший уже там врач осмотрел Дзикановского Викентия Игнатьевича, как тот представился, совсем в себя придя, и паспорт вежливо протянул врачу. Тот хмыкнул, паспорт Донскову передал и положил в ладонь пациенту белую таблетку:
– Не помешает под язык.
Пациент не возражал, таблетку взял и потянулся за паспортом к Донскову.
– Мы побеседуем? – спросил капитан.
– Хоть сто порций, – пожал врач плечами и смерил старика оценивающим взглядом: я, мол, не возражаю, а уж ему решать самому.
– Мне получше, – сдавленно закашлялся тот. – Пошаливает мотор, подводит, видите ли… От непривычки, наверное. Уважаемые… не успели представиться, – и укоризненно глянул на капитана.
– Я ещё раз извиняюсь, Викентий Игнатьевич, – заторопился Донсков, он так и стоял, не находя себе места и стараясь не смотреть на старика, шляпа его попала под ноги здоровяка Фоменко, когда тот бросился его подымать, и сейчас можно лишь гадать, чем она стала на самом деле. – Приношу, так сказать, извинения… Но сами понимаете, странное исчезновение вашего сына…
– Да будет вам, молодой человек, – поморщился Дзикановский, задержал свой взгляд на таблетке и, подумав, сунул её в рот. – Глотать, извините, или сосать?
Но врач уже ушёл.
– Под язык, – подсказал Донсков и протянул на всякий случай стакан с водой.
– Спасибо. Раз под язык, воды не надо.
Донсков покосился на Фоменко, и тот выскочил из кабинета. Он сам наконец тоже присел к столу напротив старика:
– С вами действительно всё нормально?
– Бывало и хуже.
– Мне надо задать вам несколько вопросов.
– Как я догадываюсь, вас интересует мой сын, Дзикановский Аркадий Викентьевич?
Донсков, соглашаясь, опустил голову.
– Он что-нибудь натворил?
– Он способен на это?
– Молодой человек, я сейчас не в таком душевном, да и физическом состоянии, чтобы гадать на кофейной гуще. Мне бы прилечь.
– Он пропал.
– И только?
– Вас это не удивляет?
– Аркадий в таком возрасте, что может позволить себе…
– И как часто это случается?
– У него самостоятельная жизнь, поверьте мне. И потом по роду службы он часто выезжает в командировки. Я привык, знаете ли… Взрослый мужчина… Мы редко видимся.
– Он где-нибудь работает?
– А разве у нас можно иначе, молодой человек?
– К сожалению.
– Он занимается серьёзными вопросами на базе облздравотдела. Насколько мне известно, его работа последнее время была связана с фармацевтикой. Он, знаете ли, мог уехать надолго…
– А что же вас заставило так рано его искать? – Донсков опять бросил взгляд на шляпу старика.
Тот, словно ему полегчало или стало жарко, тонкими пальцами сам снял шляпу с головы, с сожалением её оглядел, даже попробовал выправить изрядно помятые поля. Но, не справившись, вздохнул и улыбнулся капитану:
– Отцовское сердце, молодой человек. У вас, конечно, нет детей. Я понимаю – служба. Но когда они будут, вы меня поймёте.
– Вы давно его не видели?
– С неделю… или около двух, – подумав, сказал Дзикановский. – Чего я стал опасаться последнее время, так это потери памяти. Оказывается, сейчас придумали занятное название – склероз. Знаете ли, молодой человек, не дай бог познать эту роковую предвестницу старости. Я ведь когда-то тоже относился к таким изыскам с пренебрежением.
И он подмигнул Донскову.
– Значит, вас не беспокоит его отсутствие?
Дзикановский пожал плечами.
– Соседка рассказывала, что у вашего сына проживала женщина. Она тоже пропала…
– Мирчал, – сухо перебил Дзикановский. – Это моя прислуга. – Он замер и поправился. – Подрабатывает, прибираясь у меня. Сами понимаете, она готовит, ведёт хозяйство, мне тяжело одному. А так как сын давно разошёлся и, как всякому молодому мужчине, ему не до уборок квартиры, она порою забегает к нему.
– Значит, она в городе?
– Конечно. Я думаю, день-два, заявится и Аркадий. Вы интересовались у него на работе?
– Теперь поинтересуемся.
– Ну что же вы так, молодой человек? В наше время с этого начинали.
– Вы работали в милиции?
– Нет, – улыбнулся Дзикановский. – Мы занимались многим, но с восемнадцатого года эта организация называлась иначе.
– Не понял? – Донсков не заметил, когда в поведении старика проявились эти изменения; удивился, когда тот ему вдруг подмигнул, вроде ни с того ни с сего, потом и улыбнулся раза два, не иначе, таблетка подействовала, но Дзикановский преобразился, даже лицо его посвежело и куда-то пропали глубокие морщины со лба, раньше лет под сто выглядел, особенно там, на пороге квартиры сына, а сейчас?..
Дзикановский тоже заметил к себе особый интерес, ничего не говоря, он сделал хитрое доверительное лицо, пригнул голову и, вытянувшись весь к капитану, прошептал:
– Вам что-нибудь говорит имя Грасиса?
– Грасис? Врач?
– Врач? О да! Конечно, врач! Это был великий знаток человеческих душ! Особенно самых тайных чёрных их глубин, – и старик захохотал, округлив глаза, но тут же громко закашлялся. Когда, сунув кулак к зубам, остановился, опять зашептал: – Вот видите, он давно мёртв, а забыть о себе не позволяет. Не терпит, чтобы о нём так… всуе…
Донсков не знал, как себя вести.
– Мне посчастливилось, молодой человек, знать этого человека. Не поверите, но я охранял самого Сергея Мироновича Кирова.
– Вы служили в чека?
– Имел честь.
– Сейчас уже в живых никого не осталось! – вскрикнул невольно Донсков, но вовремя осёкся. – Извините. Девятнадцатый год… да вы просто живая реликвия…
– Как видите, не только жив, но и почти здоров.
– Простите нас, – вскочил на ноги капитан.
Дзикановский пожал плечами и, тяжело вздохнув, надел шляпу. Он выглядел странно в уродливой шляпе, но держался с достоинством и задиристо.
– Полагаю, мне пора откланяться?
– Я вызову машину. Вас довезут.
– Сделайте одолжение.
Дзикановский уже шагнул к двери, но остановился и повернулся к капитану:
– Вы так и не разрешили один мой вопрос?
– Я вас слушаю.
– Кому, если не секрет, обязан мой сын вашим беспокойством?
– А я разве не сказал? – смешался от неожиданности Донсков.
– Неужели склероз?
– Соседке, Викентий Игнатьевич. Его соседке.
– Вот как?
– Она обеспокоилась долгим, так сказать, отсутствием вашего сына.
– Какая прелесть, – старик покивал головой, вспомнил про свою трость, скучавшую у стены при двери, повертел её в руках. – Не перевелись добрые люди.
И вышел, обернувшись на пороге:
– Вы меня не проводите? У вас не запомнить дороги назад. Эти коридоры…
– Конечно, конечно, – шагнул за ним Донсков.
Глава V
Если и была на небесах покровительница детективов, то такую фамилию, как Семёнов Вячеслав Андреевич, она не просто игнорировала, но напрочь забыла. И было это, переживал младший лейтенант уголовного розыска Вячеслав Семёнов, досадуя и беспристрастно оценивая такую бессовестную несправедливость, не следствием веских причин. Ладно, будь он неумелым сыщиком, верхоглядом или, хуже того, разгильдяем, как выражался порой в сердцах на некоторых его непосредственный главный начальник капитан Донсков, не выбивал бы он на стрельбах из своего заветного «макарова» больше всех, не бегал стометровку быстрее на общемилицейских соревнованиях, не занимал бы первых мест на ежегодных турнирах по самбо и боксу. Да мало ли у него других заслуг! «Здесь присутствует определённый рок невезения, младший лейтенант, – успокаивал капитан Чернов, безуспешно обучавший его когда-то на первом году службы мудрому делу отлова карманников – самых искусных и изворотливых воров и спецов преступного мира. – Без особого нюха в нашем деле никуда, а ты его пока не имеешь. И в этом вся незадача». «А когда же он появится?» – возмущался и спрашивал Семёнов, на что капитан Чернов только прятал глаза и разводил руками, а потом переадресовал незадачливого младшего лейтенанта капитану Кукушкину. Кукушкин ворами не занимался, он разыскивал без вести пропавших. Здесь у Семёнова сразу голова пошла кругом; почему? – это долго объяснять и рассказывать; направление именовалось «поиск без вести пропавших», так как действительно, там не только сумок, карманов, трамваев и пострадавших пассажиров, там ничего нет, чтобы у сыщика была зацепка – понимать надо: – пропал без всяких вестей. Здесь Семёнов промыкался месяца четыре и закончил бы службу где-нибудь в штабе, так как Кукушкин, специалист глубокий, начал замечать успехи младшего лейтенанта в великолепном, можно сказать, безупречном почерке и быть бы Семёнову уже в паспортном столе, но встретил он однажды в столовой Пашку Фоменко. Фоменко был на больничном, но уже пошёл на поправку, не только с койки выгнали, а разрешили бывать на службе, вот он и оказался в столовой, так как в общежитии с одной рукой даже ему, гренадёру Фоменко, с готовкой обедов и ужинов не справиться. Фоменко блистал улыбкой и успехом, всё у него шло своим чередом, хотя слыл «троечником» на юрфаке, где вместе учились. Он и звание уже носил на две звезды выше, и в должности вырос, и ранение имел, одним словом, всё по-людски, поэтому послушал Семёнова, поизучал кислую физиономию бывшего «отличника-краснодипломника», схватил за руку и, ни слова не говоря, притащил к Донскову. Тот проверенному кадру верил и ценил, смутившегося Семёнова тоже пытать особо не стал, переговорил с полковником Лудониным, и этого хватило, чтобы младший лейтенант перекочевал сюда, где сейчас находился, и пока не жалел. Правда, про выходные забыл, ночью не всегда дома спал, потихоньку от родителей начал курить, и мать, замечая запах, трепала нервы отцу. Тому надоело, за редким теперь уже ужином втроём он опустил газету, поднял очки на лоб и спросил сына:
– Нашёл наконец, что искал, сынок?
Мать даже подскочила от неожиданности, по телевизору транслировали большой концерт из Кремля, играла её кумир – любимая пианистка. А сын застыл, он собирался бежать, его в управлении дожидался недавно отзвонивший Фоменко.
– Ага, – сунул он в карман бутерброд на ходу уже у порога.
– Своё, надеюсь? – профессор Семёнов Андрей Филимонович был известен в городе не только в институте, он консультировал по некоторым вопросам начальника солидного отдела облисполкома, к нему обращалось и руководство. В сыновние начинания профессор не вмешивался.
– Скоро скажу точно, – извинился сын.
– А без этого нельзя? – помахал газетой профессор, изображая, видимо, процесс курения.
– Не получается.
– Тогда, может, перейдёшь на это? – и профессор изобразил в воздухе то, что должно было по его разумению изображать трубку. – Навык имеется. И солиднее выглядеть будешь.
И сын покраснел, он вспомнил историю, случившуюся с ним в детстве. Нет, не в детстве, в отрочестве, конечно, это был седьмой или восьмой класс, и Славик увлёкся Шерлоком Холмсом. Книгу Конан Дойла он держал дома у себя на столе, вторую носил в школу, а третью давал читать приятелям, увлекая их подвигами героя. Книгу зачитали до дыр, в классе появились увеличительные стёкла, именуемые новоявленными знатоками «лупой», бинокли и даже подзорные трубы. Ученики ползали по полу, отыскивая отпечатки следов друг друга, вскоре на переменах на окошках класса появились желающие выискать подозрительных особей поблизости. Девчонки пожаловались на «холмсов», за ними подглядывающих. Кончилось тем, что в класс заявился директор школы. Тогда-то отец и заинтересовался первый раз, чем увлекается его родной сын. А заинтересовавшись, нашёл не только огромный портрет героя великого английского писателя над кроватью своего отпрыска, но обозрел настоящую, набитую табаком курительную трубку. Этот «позор и трагедию», как торжественно выразилась тогда Екатерина Ивановна Семёнова, и вспомнил профессор, намекая спешащему младшему лейтенанту на последствия…
Когда это было? С год назад, многое начало забываться, много прошло с тех пор, одного не было – большого успеха. И младший лейтенант Семёнов с нетерпением ждал, не теряя надежды. А пока приходилось заниматься тем, что поручали. Сегодня ему опять не повезло; если Фоменко с Дыбиным отправились ловить настоящего убийцу коллекционера Семиножкина, то он был отправлен приглядывать вот уже вторые сутки за вдовой этого коллекционера. Вчера день был совсем скучным и нудным – вдову вызывали на допрос в областную прокуратуру, и младший лейтенант бродил за ней такой же печальной тенью, как и сама вдова, одетая в чёрное. Сегодня повеселей – после десяти часов у дома «пациента» потихоньку начали собираться люди, потом состоялся вынос тела, похороны, поминки и только ближе к четырём затихло: вдова со старушкой, соседкой Боковой, возвратились домой. Младший лейтенант, успокоившись, устроился в кафе недалеко от дома напротив приметного подъезда и решил совместить приятное с должным: подкрепиться горячим и поразмышлять, подвести итоги за прошедший день. Оценив светловолосого, подтянутого и вежливого клиента, официантка с заметным усердием и даже кокетливой улыбкой накрыла ему столик, тут же принесла стакан ароматного сока, других напитков работник угро Вячеслав Семёнов пока не употреблял, чем быстро заслужил от приятелей кличку «сухарь», но не думал обижаться. Капитан Донсков одобрял его выбор и по праздникам лично наливал младшему лейтенанту сок в стакан, подымал вверх большой палец и, предостерегая от насмешки, не забывал назидательным тоном втолковывать: «Здоровый образ жизни – несбыточная мечта сотрудников нашего отдела».
«Итак, – рассуждал младший лейтенант, сделав глоток из красивого тонкого стакана и ответив на улыбку приятной официантки, – день близится на убыль, объект без каких-либо приключений вернулся на прежнее место, нет никаких свидетельств или признаков для переживаний…»
Он и вчера, когда докладывал к ночи результаты своих наблюдений, высказал точку зрения по поводу этого поручения. «Надо быть идиотом, чтобы взломать сейф и возвратиться назад. На это может решиться только слабоумный». Донсков скептически отнёсся к его выводам, только хмыкнул. «Что же ещё? – упорствовал опер. – Если вдова причастна к преступлению, какой дурак к ней сунется? Она же, как блондинка на пляже, – вся на виду!» Сравнение понравилось капитану, он опять хмыкнул, и интерес появился в его глазах. «Больше подозрений вызывает как раз её соседка Бокова, – выпалил младший лейтенант. – Живая старушка, то и дело куда-то бегает из дома, суетится, не обеспечить ли за ней тщательного наблюдения? Этот объект стоит того». Донсков покачал головой и сослался на недостаток сотрудников, но к предложению отнёсся с пониманием: «Ты постарайся приглядывать и за бабкой».
Так что беседа беседой, а установку от начальника он получил прежнюю: объект из поля зрения не выпускать, усилить бдительность, а к наблюдению за вдовой прибавилась и её соседка. «Сам себе работу нашёл, – кривился младший лейтенант. – А она дураков любит…»
Сок кислил и был тёплым, Семёнов издали помахал ладошкой официантке:
– Танечка! В холодильнике не найдётся чего из-под самого мороза?
– Я сейчас горячего принесу, – заулыбалась та. – Поберегите желудок. Мой вам совет.
И положила ему ручку на плечо серого элегантного костюма. Семёнов привык к успеху у женского пола, но всерьёз увлекаться не думал. Не то чтобы мать постоянно твердила: «сначала закончить институт…», «сначала найди хорошую работу…». Кстати, она давно уже не допекает его этой темой, глубоко пригорюнившись в тот вечер, когда он объявил о своём распределении в доблестную милицию. Мать просто потеряла дар речи.
И котлеты, с улыбкой поданные Танечкой, оказались далеки от материнских, они и выглядели пережаренными, а лука, как умела делать мать, вовсе не оказалось, и картошка белела сырыми кругляшками. Семёнов отодвинул тарелку, самая пора закурить, но в кафе запрещено… Впорхнула Танечка к окну, он и не успел поднять голову, приоткрыла форточку вверху, поставила на стол пепельницу и совсем невзначай коснулась пальцами его руки:
– У нас иногда можно. Сегодня народа не видать. Дымите туда.
И она пальчиком, тонким и изящным, перевела его взгляд к форточке.
«Приятная девушка, – залюбовался Семёнов. – Чувствуется натура. Молода. Провалилась на экзаменах? И сюда до следующего года?»
Внимание его привлёк подросток нагловатого вида, застывший на пороге кафе и тоже внимательно следивший за официанткой.
– Эй! – позвал он, покривившись в гримасе. – Принесла бы пивка!
– Присядьте, – обернулась к нему Танечка.
– Я спешу, – сел на стул к ближайшему столу бесцеремонный посетитель. – И пачку «Беломора».
– Пиво вам рано.
– Чего? – чуть не брызнул слюной подросток и ринулся на неё; выглядел он лет на пятнадцать-шестнадцать.
– Татьяна, что там у тебя? – с кухни в зал вышел высокий крепкий парень, не то повар, не то заведующий.
– Курить не даёт! – напомнил о себе подросток и угрожающе сжал кулаки.
– Сергей Петрович! Посмотрите, что он себе позволяет! – Татьяна спряталась за парня. – В школе сидеть, а он!..
– Ты слышал? – Сергей Петрович лениво взмахнул могучей рукой, добродушно почесал затылок, в упор разглядывая отскочившего мальца. – Опоздал на арифметику, вьюноша? Давай-ка, а то сам отведу.
Нахал скрылся за дверью кафе, только его и видели.
Семёнов наблюдал за инцидентом с тоской и некоторым стыдом: ему вмешиваться в различного рода и тем более подобные конфликты Донсковым было строго-настрого заказано. Вот по этой причине и не нравились ему такие поручения – следить за людьми. Ещё не нравились обыски, аресты, ну и… Он предпочитал погоню, перестрелку, в конце концов драку с вооружённым до зубов бандитом, чтобы у того был перевес, чтоб тот был хитёр, коварен и кровожаден, а он его должен одолеть!.. А такая вот шмакодявка, как этот слюнтяй…
И забыть бы про этого шалопая, не вспоминать больше, да и мальчишка у кафе особенно не задержался. Он постоял, поковырялся в носу, поплевал на дверь, развернулся и, воровато поглядывая по сторонам, прямиком двинулся к стоявшему напротив дому. Ладно бы, кто куда ходит? Семёнов бы особо не напрягался, но пацан, засунув руки в карманы брюк и пиная подвернувшуюся под ноги пустую банку, подошёл к подъезду, где жила вдова Семиножкина и юркнул внутрь.
Это был уже сигнал. Семёнов хлебнул одним глотком оставшийся кофе, взглянул, прощаясь глазами с опешившей официанткой, и выскочил на улицу, шепнув на ходу:
– Забегу. Извини, Танюш.
Но очутившись у подъезда, вспомнил наставления Донскова, остановился и с опозданием огляделся по сторонам – а вдруг мальчишка не один? Вдруг взрослый и опытный враг использует его вместо приманки, а сам сейчас издалека наблюдает за взбеленившимся сыщиком? Улица была тихой и безлюдной, и деревьев маловато, и за ними никто не прятался. Младший лейтенант отдышался, заглянул в подъезд, прислушался. Мальчишка определённо добрался до второго этажа, на котором как раз и проживала вдова, и вроде как постучался. Его впустили, но кто-то ещё ходил по лестничной площадке, потом хлопнула дверь и всё стихло.
«Кем же доводится этот негодяй вдове?» – озадачился опер. Предположить близость или знакомство отпетого голодранца и интеллигентного вида Серафимы Илларионовны ему недоставало никакой фантазии. Однако мальчишка задерживался у вдовы, и это будоражило младшего лейтенанта неизвестностью и невероятностью происходящего. Был бы взрослый человек, можно по его виду строить версии, но уличный оборванец? Дверь отворилась почти без шума, и сыщик едва успел спрятаться в тёмном углу подъезда, когда мимо него чуть ли не опрометью пронёсся визитёр и так же быстро, почти бегом стал удаляться. Младший лейтенант уже готов был броситься вслед, но наверху опять послышался шум открывающейся двери, кто-то вышел, и Семёнову пришлось буквально влепиться спиной в сырой и вонючий угол своего убежища, чтобы не быть замеченным за старой тяжёлой дверью. К его удивлению, вниз спустилась соседка Бокова, она выперлась из подъезда, бурча под нос непонятные ругательства, минуты две-три проторчала у дверей, по-видимому, провожая глазами убегавшего и, не торопясь, заковыляла наверх. Ещё через несколько минут хлопнула дверь и всё окончательно смолкло. «Ну и дела! – недоумевал младший лейтенант. – Бабка-то не хуже меня, тоже следит за вдовой. Вот кого надо будет попотрошить. Из неё информации столько вывалится, только успевай записывать. То-то капитан Донсков обрадуется!»
Однако поднявшееся было настроение сыщика скоро упало: когда он выбрался на белый свет из своего убежища, мальчишка пропал. Сколько ни кружил Семёнов вокруг дома по улицам, того и след простыл.
Глава VI
Они всегда находили время, чтобы встретиться и пообщаться наедине. Это не было блажью или пустым времяпрепровождением – они оба были слишком занятыми людьми. Здесь присутствовали и дань уважения друг к другу, и непоказная привязанность. Но прежде всего это можно было бы назвать необходимостью: им часто надо было поговорить о том, что любому другому уху считалось запрещённым.
Начальник Управления внутренних дел, главный милиционер области почти ежедневно виделся с главным сыщиком на заседаниях, совещаниях, собраниях и при прочих производственных и оперативных разборках, но в таком личном уединении всё же нуждались оба, чтобы знать то, чего другие знать не должны. На этих встречах они обсуждали исключительные ситуации как бы ещё раз, проверяли правильность принятых решений или намечали новые; делились строго доверительной информацией.
Со временем это стало традицией, и как-то само собой для этих целей была выбрана суббота. Для многих – день относительно свободный, выходной, для них эта свобода наступала к вечеру. Вот и сейчас стрелки настенных часов на мгновение замерли, отмечая восемь часов вечера, и секунда в секунду дверь кабинета открылась. Максинов поднял глаза, шагнул из-за стола навстречу, и они крепко пожали друг другу руки. Полковник Лудонин в гражданском, как обычно в чёрном и белом, сдержанно поклонился:
– Добрый вечер, товарищ генерал.
– Присаживайся, Михаил Александрович.
Вслед без напоминаний впорхнула секретарша, расставила чашки на небольшом столике в углу, взглянув на генерала, включила торшер за двумя креслами и, погасив верхний свет, подведя черту под рабочим временем, растаяла, будто и не появлялась. Максинов за хозяина, оставив пиджак на спинке стула, нырнул в маленькую незаметную комнатку, вышел оттуда с кофейником, неторопливо принялся разливать кипяток, поглядывая на гостя:
– Кофе? – генерал знал, что полковник равнодушен к чаю, но каждый раз не забывал добавлять, спрашивать: – Может, чаю? Мне тут моя Ксения Петровна присоветовала для мотора.
– Коней на переправе…
– С возрастом безопасней. Не передумал? – подначивал всё же Максинов.
– Если уж китайцы не приучили, – Лудонин пожал плечами, тоже отшучиваясь; все знали: ему повезло и в японской войне хлебнуть лиха, о чём он особо не любил вспоминать.
– Китайцы или всё же японцы? – судя по вопросам и по игривому поведению у генерала было на редкость великолепное настроение, свидетельствующее, что день, а с ним и вся неделя заканчивались без особых хлопот.
– Японцы? – усмехнулся в тон генералу и Лудонин. – Они драпали, лишь сандалии успевали латать.
– Ой ли! Слыхал я и вам доставалось. Особенно тем, кто за баранкой, – Максинов, покончив с напитками, приоткрыл дверцу шкафа и показал яркую бутылку. – По сто граммов с устатку?
– Нам-то? – кивнув на бутылку, полковник грустно улыбнулся, вроде как вспоминая; знавшим его было известно, что всю войну он прослужил шофёром. – Что шофёру станется? Помните, в той гвардейской у Утёсова? «Мы вели машины, объезжая мины, по путям-дорожкам фронтовым…» Полуторкам, правда, доставалось. Ремонтировали мы их ночами, а утром – вперёд и с песней! С людьми проще. Считалось, повезёт, если бугорок повыше да под деревцем, чтобы крест в тени стоял и виден отовсюду.
– Вспомнилось? – поднял рюмку с коньяком Максинов. – Ну, давай помянем. Извиняй, занесло меня, Михаил Александрович. Это от отсутствия неприятностей. Неделя вся тихо прошла.
Они выпили и присели.
– Тихо, говорите?
– А что? По сводкам пусто.
– Вынырнула тут одна чертовщина, – поморщился полковник и потянулся к тарелке с лимоном.
– Мне ни о чём не докладывали, – насторожился генерал.
– Я штабистов предупредил, что сам объяснения дам, – поднял глаза на генерала Лудонин. – В прокуратуре области старший следователь Федонин карточку выставил, почти недельной давности событие.
– Что такое! Своих ругаю за такие безобразия, а ему позволено?
– Отравление.
– Убийство?
– Коллекционера икон и церковных древностей.
– Погоди. Я вчера с Игорушкиным на заседании исполкома виделся, рядом сидели, он и словом не обмолвился, а ведь обсуждали накоротке как раз эту тему. Он по нераскрытым преступлениям нам представление готовит о недостатках в работе. Предупредил, что и в обком партии информацию думает вносить. Так я его еле отговорил. Пообещал, что исправим положение сами. А они, выходит, у себя в прокуратуре нам сюрприз выкопали! Неужели висяк?
– Федонин и сам не предполагал, Евгений Александрович, – полковнику нелегко давался это разговор, он и от столика кресло начал отодвигать и встать попытался. – Я у него был. Тоже претензии предъявил. Но там такая тёмная история…
– Ты сиди, сиди, – остановил его генерал, но краска возмущения уже захлестнула его лицо, чувствовалось, с трудом он сдерживался от гнева, рвущегося наружу.
Последние летние месяцы словно злой бич преследовал ситуацию в оперативной работе Управления по раскрытию умышленных убийств. Другие показатели радовали глаз, а на этом, наиболее ответственном, участке не получалось. Сказывалась, конечно, смена поколений: старая гвардия блестящих сыщиков по возрасту и из-за болезней ушла в отставку, а молодые, пришедшие на смену, опыта набирались на шишках, допускали нелепые ошибки, пасовали в сложных моментах. В городе, где генерал с Лудониным успевали вникать сами, ещё справлялись, а на окраинах области, в дальних сельских районах сил и умения не хватало. Тогда генералу приходилось подымать на раскрытие опасных преступников весь оперативный состав вместе с офицерами штаба, другими службами, руководством, но числом не всегда возьмёшь матёрого. Хотя вооружённая милиция и перекрывала всю область, случались осечки. Появлялись и другие накладки: поднималась глупая суматоха, группы и подразделения действовали вразнобой, мешая друг другу, а не помогая; волновалось население, газеты потом надрывались, начальство в облисполкоме, в обкоме партии морщилось. И хотя на ошибках учились, а операциям присваивались с каждым разом наименования одно другого страшней: «перехват», «тревога», «сирена» и ещё более пугающие, толку от этого не прибавлялось, успехи мизерны и незаметны. Генерал верил, не терял надежду, что удачи придут, всё остепенится, научатся его люди взаимодействовать между собой и ставить прочные капканы злодеям, а пока преступники, посмеиваясь, словно песок просачивались сквозь пальцы его ловушек, а убийства повисали нераскрытыми. А два-три дня всю милицию на ушах не продержишь, да и накладно, к тому же толку всё равно никакого: не сумел ухватить мокрушника по горячим следам, считай, прохлопал всё, тот пропадал из города и области и залегал где-нибудь на Кавказе, куда рукой подать, или в других местах бескрайнего Советского Союза – страны необъятной и гостеприимной. А уж после этого… Сами на новых злодействах не попадутся, можно считать прежние преступления канувшими в Лету. Работать по ним по-настоящему не было ни сил, ни времени – новые заботы одолевали и занимали их место. Вот и скопилось таких висяков уже в его бытность, после вступления в должность начальника столько, что прокурор области грозить начал!.. А если Игорушкин брался за такие дела, всегда боком оборачивались его представления, безжалостные, как удар штыка. Но Максинов не обижался, генерал сам знал – прав бывал в таких ситуациях Игорушкин: большую опасность представлял тот затаившийся, укрывшийся от возмездия враг, потому что не сидел сложа руки, уйдя от ответственности; злорадствуя и поверив в свою планиду, профессиональный гад замышлял новое, ещё более опасное преступление.
Максинов сам встал из-за столика, походил по кабинету, пытаясь успокоиться, замер за спиной полковника.
– С отравлением-то ничего не напутали? – спросил с надеждой. – Редко теперь таким способом на тот свет отправляют. Императоры да духовенство в древности баловались, позже аристократы так наследство делили по-родственному, чтобы без боли и крови, не привлекая внимания. Кому коллекционер понадобиться мог? Его, что же, другим способом пришлёпнуть нельзя? Жена молодая, заведя любовника?.. Соперник – антиквар, завидуя особой безделушке?.. Что за Борджиа у нас объявился?
– Вы правы, Евгений Александрович, – заблестел глазами Лудонин и тоже не усидел, поднялся на ноги. – Стар был покойник. И версии вы высказали вполне рабочие. У нас тоже сначала сложилось такое мнение, что убийца надеялся как раз на то, что без тщательного вскрытия обойдётся, мол, человек стар, из дома носа не высовывает, кому его смерть понадобится?
– И что же?
– В общем, преступник, наверное, попытался выставить смерть коллекционера общим недомоганием, к тому же тот на таблетках последнее время держался, вроде сердце донимало. Наши эксперты, однако, засомневались, Югоров, заведующий бюро, перестраховался, в столицу обратился, своих методик нет, там только и подтвердили предположение об отравлении, хотя и сейчас ещё с ядом никак не разберутся. Поэтому у Федонина затяжка с регистрацией и получилась.
– Значит, богослова отравили? Вот тебе и занебесные дела… Вы же, однако, называете его коллекционером?
– Да кем он только не был, этот Семиножкин! – в сердцах махнул рукой полковник. – До войны в священниках значился, так как образование соответствующее имел, но в церквах постоянно не служил, всё при начальстве, на верхах держался, чуть ли не при самом архиерее; в народе не появлялся, на проповедях, на службе, в общем, писанием речей, выступлений архиерейских занимался, сам ездил по собраниям, заседаниям, как сейчас начали говорить у нас – форумам церковнослужителей, в Москве на какой-то их большой конференции побывал, даже выступал, показался главному, самому патриарху. В знаменитости выбился. По этой причине, что при церкви значился, не воевал, но после войны что-то произошло, рассказывали, жена у него была красавицей и жили они душа в душу, но начала она страдать неведомым недугом. Понятное дело, драгоценную супругу возил он по всей стране, по всем святым целебным местам: в Дивеево, Муром, Арзамас и, отчаявшись, на Камчатку забрался. Но, видно, от прогрессирующего, как оказалось, онкологического заболевания крови помочь не могло никакое чудо. Завёз он её на край света и домой оттуда привезти не смог. Там и похоронил, на чужбине, почернела в один день и сгинула.
– Ты такие страсти рассказываешь, Михаил Александрович, будто сам видел, – ёжась, передёрнул плечами Максинов. – Как удалось так скоро столько информации собрать?
– А вы его не помните, Евгений Александрович?
– На память не жаловался.
– Семиножкин Дмитрий Филаретович?..
– Погоди, погоди…
– Четыре года назад переполох нам устроил?.. Кража дорогостоящих старинных икон?.. Зимой дело было, неделю я сам шапки не снимал. Нас подгонял сам Думенков. Неужели забыли?
– Четыре года!.. Ну ты горазд на загадки, Михаил Александрович! Это тебе твой бог по сыску не забывать заказал, а нам… Иван Григорьевич, говоришь? Вон оно как! Как же! Выходит председатель облисполкома тоже его хорошо знал?
– Знал и дружил с ним, только особо не афишировал по известной причине. Думенков как раз с матерью мучился. В лёжку она лежала, болезнь того же рода подозревали, вот Семиножкин возле Ивана Григорьевича и объявился. Известное дело, старый человек, о вечном уже думала старушка, а к церкви при таком сыне разве можно!.. Семиножкин и консультировал, тоже повозили тогда болезную по разным местам..
– А с ворами мы тогда не подкачали, – генерал плеснул коньяка в рюмки, присел к столику, полковнику стул подвинул. – Быстренько вы их взяли. И продать ничего не успели.
– Мелкая сошка второпях досталась, Евгений Александрович, – покачал головой Лудонин. – Нам бы тогда…
– Но главный-то сидит, – перебил его генерал. – Этот?.. Дрёмов. Вот видишь, и фамилию я вспомнил! Сколько ему дали?
– До заказчика не добрались. Вот о чём я тогда жалел, и теперь кошки скребут душу. Да и Дрёмов недавно освободился условно-досрочно.
– Вот так значит, – пожевал губы генерал, но горевал недолго. – С другой стороны, вот тебе и подозреваемые! – он чокнулся рюмкой с полковником, не успевшим поднять свою. – Найди того уголовника и вспомни ему заказчика. Вполне возможно, что та же личность и отправила на тот свет коллекционера. У него побрякушки, конечно, остались. Похитили что-нибудь из квартиры?
– Пока трудно сказать определённо, но, несомненно, проникновение было, – полковник так до своей рюмки и не притронулся. – Одно точно, вместительный сейф, тщательно замурованный в стене комнаты и укрытый богатыми картинами, оказался вскрыт и почти пуст. Картина, скрывавшая тайник, изображала Иисуса Христа.
– Ты видишь в этом какое-то значение?
– Настоящий коллекционер ничего не делает просто так, сооружая потаённые закутки. Возможно, он таким образом обозначил главное, своё заветное хранилище, возможно, для наследников указал на случай внезапной смерти, возможно…
– Ну так в чём же дело? – не терпелось генералу, который уже морщился, закусывая кружочком лимона коньяк.
– Вдова категорически утверждает, что ничего не знала про сейф. Естественно, она и не может знать о пропаже каких-то драгоценностей, денег и других ценностей.
– Вот те раз! Хотя баба с воза, коню потеха.
– Нет. Сейф заметно подчищен, Евгений Александрович. От кражи нам не уйти. Убийство, конечно, совершено из корыстных побуждений. Я лично участвовал в осмотре. В сейфе несомненно хранились предметы особой ценности, возможно, древние церковные реликвии, уникальные иконы, деньги… Да мало ли чего могло быть у такого известного человека, всерьёз увлекающегося коллекционированием. Это на стенах квартиры у него утварь, радующая глаз, а в запасниках – для сердца блажь. Мы имеем дело со своего рода сумасшедшим народом. Им почему старший следователь Федонин стал заниматься?.. Семиножкин сам незадолго до смерти обратился с бумагой к Игорушкину с просьбой о принятии мер по розыску алмазного архиерейского креста – особой реликвии, пропавшей ещё в девятнадцатом году!
– А почему не к нам?
– Это тоже загадка. Федонин список Донскову показывал, людей просил установить и обеспечить к нему явкой. Так я среди тех граждан работников наших органов приметил, правда, давно не работавших, но это о чём-то говорит.
– Горазд ты портить настроение, Михаил Александрович, – опять поднялся на ноги генерал. – Завтра выходной, собирался с женой на дачу выбраться, а ты с такими сюрпризами…
– Алмазный крест – реликт дорогостоящий, – будто соглашаясь с ним, кивал головой полковник и пригубил рюмку. – А кроме всего прочего является исторической ценностью. К тому же придумали священники или народ сам подсочинил, но поговаривают, будто крест тот – подарок патриарха России нашему тогдашнему архиепископу Митрофану. И не простой он, а обладающий чуть ли не волшебными свойствами.
– Ну, без этого у них не бывает, – скривился в усмешке генерал. – Как же? Раз церковная вещь, значит, святая. Жди какого-нибудь чуда. Ну и какого же?
– Оберег это был своеобразный, – Лудонина не коснулась шутка генерала, он только лицом строже стал. – Хотя и выглядел крестом с драгоценными камнями, а свойство имел чудодейственное – хранил от болезни, сглаза, напасти любой и даже от смерти случайной.
– А чего ж не сберёг архиерея? Умер же тот? Сколько прожил? Не сто же лет?
Лудонин странным, невидящим взором окинул генерала, но промолчал.
– Чего? Не знаешь, какой смертью умер?
– Убили его, – разжал губы полковник. – Наши чекисты во главе с Атарбековым признали заговорщиком и расстреляли.
– Вот тебе и конец… И чудо не спасло, – задумался на минуту генерал, но пожал плечами, хлопнул по столу. – Время такое было. Революция. Красные, белые, синие, зелёные. Кто кого! А крест, значит, пропал?
Лудонин только голову пригнул, помолчал, потёр подбородок:
– Вот Семиножкин о нём и вспомнил. Чтоб ему, как говорится!.. Мелькнул вроде тот у кого-то из таких же собирателей. До войны тоже появлялся и теперь снова объявился.
– Не назвал, конечно, у кого?
– Что вы! Так, собрал разные сплетни, слухи подпустил, ничего конкретного. Коллекционеры – люди особые, похоже, он сам собирался добраться до того реликта, но руки коротки оказались, вот он прокурора области решил натравить. И пыль в глаза: обозначил пропажу для государства значимым злом.
– Нам бы найти такой, – хмыкнул генерал, – спасал бы от урок да от бандюг. Спокойно зажили бы! А то видишь, до чего докатились? Представление прокурор готовит. Было когда такое?..
– У прокурора свой подход, – смутился полковник.
Они помолчали.
– А коллекционер, значит, свою похоронил и новую молодушку нашёл? – вернулся к прежней теме генерал. – Хорош, супчик!
– Хорош. Эта у него третья, он, когда к светским делам вернулся, недолго холостяцкую жизнь вёл. Возвратился из столицы, бросив там вторую, а с этой уже здесь сошёлся. Моложе его намного. Красивая. Но, может, поэтому судьба ловушку ему и поставила?
– Это что же? История имеет продолжение?
– Соседка покойного, Бокова, бойкая старушка, с Донсковым моим прямо-таки интимными сведениями поделилась. Все уши ему прожужжала про поклонника вдовы. Тоже личность незаурядная: бывший врач, неудавшийся артист, литератор или библиофил, аптекарем или фармацевтом последнее время где-то прирабатывавший, а кроме того, коллекционер, на чём и сошёлся при жизни с убитым. Дружба у них завязалась несколько лет назад, заладилась не на шутку, и разница в возрасте помехой не стала, видно, общая страсть сблизила. Кроме этого молодого, у Семиножкина другой народ в квартире начал сходиться, всё больше в картишки перекинуться, ну и под чаепитие на богемные темы порассуждать. Серафима, жена, – сама художница, у них картинами весь зал увешан, правда, на одну тематику, но редкие и ценные. Только бабка та замечала и другое: шашни завела вдова с этим приятелем. А последнее время совсем увлеклась. Муж всё в своей комнате, по состоянию здоровья никуда, а те вдвоём на концерты разные да в рестораны, а то и просто у неё в комнатке маленькой закрывались. И целыми днями наедине.
– Глазастая соседка, – не удержался, хмыкнул генерал. – В таких делах они всегда успевают.
– Она и вора видела своими глазами, и сейф открытым нашла.
– Так в чём же дело?
– Семиножкина сомневается в соседке, называет её выжившей из ума; считает, что той привиделось. Бабку год назад в больницу клали на почве странных видений, всё ей нечистая сила являлась. Она из церкви всю свою жизнь не вылезала. И в этом случае тоже: примет не сообщает, твердит одно – словно чёрт в окошко сиганул.
– Но сейф-то вскрыли! Тут что-то не так. Или старуха свихнулась, или вдова не договаривает.
– Вдова действительно тяжело переживала смерть мужа, несколько суток без сна провела, теряла сознание. По этому случаю Бокова ей «скорую» вызывала и милицию.
– А милицию зачем? – Максинов поморщился от досады. – Действительно, бабка не в себе.
– Вот в то время ей и привиделся вор на подоконнике, – Лудонин языком прицокнул. – Можно было бы схватиться за эту версию. Но Донсков там всё облазил под окнами и ничего не обнаружил. Травы, правда, много.
– А может, тот любовник и сиганул?
– Не нашлось следов.
– А он-то сам что объясняет?
– Он? Ничего, – полковник заиграл марш кончиками пальцев по столу. – Не отыщет его никак Донсков. Пропал Дзикановский Аркадий Викентьевич.
– Фамилия-то какая! С такой фамилией пропасть не должен.
– Отца его задержали.
– Ну вот, а говорите пропал… Надо умело поговорить с родственничком. У Донскова, может, не получается так тонко? Может, сам взялся бы, Михаил Александрович? Молод ещё Донсков. Не поторопился ты его своим замом сделать?
– У меня к Юрию Михайловичу претензий нет, товарищ генерал. Нюх имеет. А для нашего брата, сыщика, это основное, если не главное. Всё остальное накопится.
– Так в чём же дело?
– Вы не ошиблись, заинтересовавшись фамилией. Проверили мы отца по нашей картотеке.
– Ну и что? – прищурил глаза генерал. – Из наших клиентов? Как будто попадалась мне эта фамилия? Может, ассоциации? Деканозов, говоришь?
– Никак нет. Действительно, ассоциация, Евгений Александрович, – полковник грустновато улыбнулся. – Был такой Деканозов. Только он расстрелян вместе с Берией Лаврентием Палычем как враг народа. А наш – Дзикановский Викентий Игнатьевич. Но тоже в чекистах значился. Работал ещё в окружении Грасиса, который в девятнадцатом году командовал губчека, пока Киров его не убрал.
– Вон куда потянулось… Грасис – птица известная, я читал. – Максинов озабоченно губы поджал. – К ним, значит, дорожка, к нашим, так сказать, старшим коллегам? Так может быть, не мудрствуя лукаво, туда и сбагрить наши хлопоты с церковнослужителями?
– Поэтому мне и хотелось сначала некоторые эти вопросы с вами согласовать, – пододвинулся к нему полковник. – Викентий Игнатьевич Дзикановский пока отпущен домой в полном неведении, но в понедельник всё-таки надо будет докладывать прокурору области…
Глава VII
В машине с Антохой ехалось легко. Он парень разбитной, улыбка во всю кабину и даже за её пределы, час назад печалился, теперь от прежней грусти следа не осталось. В окно то и дело выглядывает, шеей крутит, чуть ни каждую юбку взглядом провожает, а то и окриком помечает и, конечно, музычку подбирает на своём магнитофончике, который у него под рукой рядом у сиденья вмонтирован. В салоне шаром покати, если и был когда-то приёмник, до Сенюшкина не дожил, прежний водила доконал и с концами – это всё за две минуты Антоха юристу поведал на его вопросительный взгляд. Но приспособленный магнитофончик – класс! Вон какую музычку выдаёт! Антоха наконец отыскал нужную, видимо, любимую песню и подмигнул Мухину – как?
Плыл по городу запах сирени. До чего ты была красива. Я твои целовал колени И тебе говорил спасибо…– Ничего, – кивнул Мухин. – Только убавь звук, а то ворон пугаешь или какая-нибудь зазноба шею свернёт. Тебе отвечать придётся.
– Обойдусь. Я её вылечу, – азартно лыбился тот. – Душу трогает?
– Трогает. Народ разбегается. Это ты приспособил вместо сигнала?
– От такой музыки у девушек душа расцветает.
– Может, окна прикроешь?
– Вы что, Сергей Анатольевич? – у Антохи даже нос вытянулся. – Потеряем весь антураж.
– А как же тебе Хвостиков позволяет?
– Ивану Петровичу я другую завожу. Он же со мной в основном по утрам, – сунулся к магнитофону шофёр, одну кнопку нажал, вторую, третью, и бодрый мужской баритон огласил улицу:
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом Вся советская земля…– Подходяще? – скосил шофёр глаза на юриста. – Это, к примеру, утренняя программа. Есть подбор к обеду. Ну а к вечеру я не завожу. Поздно.
– Солидно, – согласился Мухин. – Ты, Антоха, я смотрю, разносторонний парень. Тебе бы подучиться…
– У меня репертуарчик на все вкусы и возрасты. Хотите, продемонстрирую?
– Верю, – попытался остановить его юрист, но тут прежняя песня закончилась и магнитофон сам продолжил:
Лишь только подснежник Распустится в срок, Лишь только приблизятся Первые грозы…– Пусть играет, – остановил шофёра Мухин, – я служил под эту.
И сам убавил звук. Антоха дёрнулся было, но, взглянув на юриста, понял, лучше умерить пыл. Так и ехали, Мухин молчал, задумчиво вслушиваясь в песню, изредка кивал в такт головой, будто соглашаясь, а Антоха уже через пять минут забыл про инцидент. Снова полез нажимать кнопки, как только кончилась понравившаяся песня, улыбался направо и налево в открытые окна, покрикивал на перебегавших дорогу торопыг, но юрист больше не реагировал.
Унылым кладбище выглядит издалека, ещё печальнее, наверное, с высоты птичьего полёта и в лучах заходящего солнца: размерами поражает, ну и, конечно, в мыслях; под хохот на такие темы не думается и вблизи здесь не до слёз – люди вокруг. Неизвестно, как на остальных, а на городском до вечера народа не убавляется. Так удивлялся Мухин, узрев настоящую толпу, когда «москвич» въехал в ворота и Антоха, лавируя по дорожкам, подрулил к домику начальства местного обслуживающего персонала.
На строительных участках такие строения именуются «прорабской». Гремыкин Иван Иванович – старший и ответственный, как и прежние, часто менявшиеся руководители, хотя и значился здесь уже несколько лет, так и ходил во временно исполняющих. За всяческие прегрешения он регулярно схватывал замечания и выговоры, а поправлять ситуацию стимулов не имелось – на кладбище социалистические обязательства на разовьёшь, с показателями проблема, они, конечно, росли в известной степени, но достижением это не считалось, наоборот, за это ругали, хотя Иван Иванович, по мнению Хвостикова, известный философ и флегматик, виновным себя не признавал. Однако дело своё знал, справлялся, вот и терпело его высшее начальство, несмотря на то, что выглядел Иван Иванович, обвешанный взысканиями, словно блудливая коза репьями. Была и другая беда: на Гремыкина постоянно жаловались как в письменном виде, так и с руганью, приходя непосредственно к самому Хвостикову. И главное, вроде тихое, совсем последнее, можно сказать, пристанище человеческих страстей досталось ему в управу, а недовольных не убавлялось. Жаловались на многое, но в основном на то, что не туда положили его величество покойника. Казалось бы, ему-то какое дело? Он отмучился своё и сам ничего не просит, но за него находились слюне-брызгающие просители. «Музей им подавай или картинную галерею? – разводил руки Гремыкин “на ковре” у распекавшего его в очередной раз Хвостикова. – Я же им всем не выделю места в первом ряду?» – «Говорят, что деньги дерут твои ребята. Ладно бы совесть имели, а то так подымают цены! – пучил глаза Хвостиков. – Когда руки им укоротишь?» – «Так сами же и устраивают соревнования, – терялся Гремыкин. – Кто опоздал или пожадничал, тот к вам и несётся. А как выправить? Уже закопали…» Диалог заканчивался обычным: ах, так его и разэдак и тому подобное. А «ковёр» завершался общим нравственным успокоением: начальник свою миссию выполнил, подчинённый принял к очередному сведению.
Гремыкин, возможно, сам давно удрал бы с нервного места, но до пенсии оставались считанные годочки, к тому же он присмотрел на службе и себе скромненькие два метра на сухоньком бугорке, памятуя мудрые слова тётки Дарьи «все там будем». Тётка Дарья зря не скажет, она старейшая из его сотрудниц, мудрая женщина его беспокойного хозяйства, сущий Соломон. Она порой такое выдаст, что долго вспоминать приходится, Райкин у неё перенял или сам Черчилль позаимствовал. Ну и, понятное дело, как всякий великий и авторитетный человек в производственном коллективе, она и первая заводила по всякому случаю, а то и без него. Вот и в этот раз кто как не она бузу подняла во вверенном Гремыкину коллективе, второй день люди работают спустя рукава и толпой вокруг него шумят – что любопытствующий народ подумает!
По этой причине худой, длинный и бессловесный Гремыкин столбообразно возвышался среди толпы и даже поднял вверх руки, приветствуя спасателей, когда знакомый «москвич» зарулил в ворота. Орущие: с десяток женщин с мётлами, с пяток мрачно покуривающих мужичков и десятка два собак, с особой радостью облаявших приехавших, на некоторое время стихли при виде начальственного лимузина, но, увидев Антоху и незнакомца, враз потеряли к ним интерес и с прежней страстью обступили страдальца. Однако Гремыкин был уже не тот, Гремыкин преобразился, он раздвинул толпу, словно танк, отметая препятствия и, шагнув навстречу Мухину, протянул обе руки для пожатий.
Гремыкина Мухин видел несколько раз в отделе, тот мелькал в приёмной с опущенной головой, которую считал лучшим не подымать в этих присутственных местах. Юрист нашёл возможность перевстретить его в коридоре и познакомиться, он взял за правило знать каждого руководителя многоступенчатого отдела. Но тот неожиданно его отбрил: «Я здесь мест не выдаю, вы уж, пожалуйста, к нам подъезжайте». Пока юрист с отвисшей челюстью додумывал услышанное, бедняга сконфузился сам, и они тогда довольно мирно завершили знакомство. Теперь Гремыкин жал руки юристу и не сводил глаз со спасителя, не находя нужных слов.
– Сергей Анатольевич, я прогуляюсь? – оценивая ситуацию и приметив почти новенький «москвичонок» у свежей могилы, попросился Антоха.
– Ступай, – отмахнулся юрист. – Только недолго. Чтоб не искать.
Толпа, не теряя накала, теперь уже обступила и его вместе с Гремыкиным.
– Это когда же кончится? – с вечным вопросом подозрительно оглядела Мухина внушительного вида толстушка, по всей вероятности, и являющаяся той самой тёткой Дарьей. – До начальства не добраться, а нам куковать?..
Мухин имел опыт в таких делах. Главное – утихомирить лидера, поэтому, оглядев толпу, он понял, с кем ему вести диалог, и почти ласково спросил:
– Может, пройдём в контору, добрая гражданка?
Гражданка опешила от такого обхождения, а когда Мухин, закрепляя успех, культурно взял её под руку, совсем потеряла дар речи.
– У нас есть что обсудить в кабинете, – тихо шепнул ей на ухо Мухин, не возбуждая нездоровый интерес толпы.
На несколько минут замолчали даже собаки от такого поворота. Мужики дружно полезли в карманы за новыми папиросками, а некоторые из женщин вспомнили про свои мётлы и сделали вид, будто только и занимались тем, что мели дорожки. Однако тётку Дарью не зря опасался больше всех Гремыкин, эта женщина не сдавала так просто позиций, поэтому не с прежним напором, но всё же решительно, она ткнулась к Мухину:
– А кто же работать будет?
– Разберёмся, – также по-дружески улыбнулся ей Мухин. – Кто выдумал прогулами заниматься? – И оглядел народ. – Пьяниц накажем. Кто позволил устраивать в здоровом передовом коллективе безобразие?
Через две минуты около Мухина остались стоять Гремыкин, почёсывая затылок, и попыхивающая ещё гневом тётка Дарья, а также беззаботный, лыбившийся всё время детина, тутошний дурачок с протянутой рукой. Мухин сунул ему гривенник и проводил в сторонку, а тётку Дарью уже всерьёз огорошил:
– Надо было бучу устраивать?
– Так конца же не видать!.. – начала опять та, но, увидев, как поднялись брови у незнакомца, выпалила: – А вы кто?
– Юрисконсульт. По поручению Ивана Петровича.
– Вы нам и нужны, – осмелела Дарья от услышанного и грознее тёмной тучи уставившись на безмолвного Гремыкина, начала рассказывать торопливо, что можно было бы продолжать до утра, однако через несколько минут юрист её прервал:
– Значит, правильно я уяснил, в краснознамённом коллективе злоупотребляют спиртными напитками, неделями не выходят на работу, а вкалывать, извините, приходится женщинам за мужиков?..
– Ну не совсем так, – вмешался наконец Гремыкин. – Знамён нам пока не вручали.
– Так, так, – замахала на него руками Дарья. – Могилы некому копать. Сам бригадир и тот, видать, отлёживается где-то. Вместо восьми человек пятеро осталось. А народ возмущается. Ко мне жаловаться приходили – похоронить не могут вторые сутки!
– Почему я не видел? – опять напыжился Гремыкин. – Сергей Анатольевич, мне такие факты неизвестны. Действительно, куда-то делись Князев с Жуковым, но это только сегодня.
– А Карпыч где у тебя? – наступала на него женщина.
– Карпыч – это кто? – поинтересовался Мухин.
– Бригадир охранщиков, – нехотя ответил Гремыкин. – Сам понятия не имею, вторые сутки не вижу.
– Слушай, Иван Иванович, – повернулся к нему юрист и нахмурился. – У вас тут, оказывается, действительно есть основания для… как бы это мягче выразиться… для вопросов. Дисциплины никакой. Мне придётся Ивану Петровичу доложить…
– Правильно! Безобразия хватает! – донёсся голос от свежей могилы, у которой ещё коротал время Антоха с владельцем нового «москвича». Он прервал разговор с Сенюшкиным и зло крикнул: – Собак дохлых полно на территории! И никому дела нет!
Гремыкин совсем сконфузился и глянул на Дарью:
– Ну это уж по вашей части, уважаемая.
– Где это собаки дохлые? – тут же взвилась та. – Чтоб у меня такое? Да как вам не стыдно!
– А ты глаза-то протри!
Приглушённый было скандал грозился разгореться снова, но уже по другой инициативе, в виновниках оказалась сама организатор первого массового выступления.
– Ну-ка покажи! – угрожающе двинулась к недовольному оскорблённая женщина, не выпуская из рук метлу.
– Надо тебе, ты и иди! – не напугался владелец «москвича». – Вон, у свежих могил!
– Сергей Анатольевич! – вмешался Антоха, гася новый скандал. – Давайте домчу. Чего ругаться?
– Я сама поеду! – Дарья уже открывала дверцу машины. – Я так не оставлю. А вернусь, ты у меня не так запоёшь! Меня перед начальством решил ославить!
– Ну что? – поднял глаза на Гремыкина Мухин.
Тот пожал плечами.
– Садитесь в машину. Поехали, – скомандовал юрист и уже в кабине хмуро добавил: – Чтобы картина, так сказать, была полной.
– У меня такого век не бывало! – бубнила Дарья на заднем сиденье, придавив едва вместившегося начальника. – Я своих девчат гоняю! Они мётлы не успевают менять! Чтобы дохлятина!.. Да у могил!..
Долго ехать не пришлось, новый знакомый объяснил Антохе где искать. Но они ещё не добрались до цели, как Дарья смолкла, будто язык прикусила, – впереди ясно виднелся труп огромной дворняги, пылившийся на обочине.
– Да это никак Дурной! – вскрикнул Гремыкин и, выскочив из затормозившей машины с удивительной прытью, бросился к собаке. – Ошейник Карпыч ему пристроил. Всё боялся, как бы за бродячую не приняли да не отстрелили.
– Это что же творится! – заохала Дарья. – Убили, выходит, собачку? Кто же руку поднял? Злодейство получается. Сегодня, значит, и кончил! Среди белого дня!..
– Давно лежит, – покачал головой Гремыкин, не побрезговал, нагнувшись, дотронулся рукой до головы собаки, жалея, шерсть поворошил. – Умный был кобель, хотя и кличку ему дали глупую. От Карпыча не отходил. А что ж тогда с Булыгиным?..
Гремыкин поднял глаза на юриста, словно тот мог дать ответ, перевёл взгляд на побледневшую и сразу смолкнувшую толстушку:
– Его ведь уже вторые или третьи сутки никто не видел?..
– Вторые… – прошептала Дарья и заголосила тягуче: – Убили Карпыча! Как есть убили. Собаку небось придушили. Защищал, видать, он хозяина. А потом Карпыча туда же. За что же старичка-то?.. Никого не трогал, не обижал…
– Цыц! – с несвойственной злостью рявкнул Гремыкин. – Чего вой подняла раньше времени? Ни коня, ни воза, а она панику подымает!
– Это что же творится-то? – поджалась, примолкла та. – Среди белого дня?..
– Что будем делать, Сергей Анатольевич? – глянул Гремыкин на юриста. – Собака эта действительно ни на шаг от хозяина не отступала. Куда тот, туда и она. Серьёзная штука, я думаю…
– Паниковать не стоит, – пожал плечами Мухин. – И шум подымать не надо. У вас телефон работает?
– Угу.
– Поедем звонить в милицию.
– А Иван Петровичу?
– Его до вечера не сыскать.
Глава VIII
Какие раки в августе?.. Только к концу сентября. Один кандидат околовсяческих поучал: их подают к столу, лишь когда в названии месяца буква «эр» присутствует, иначе ни вкуса, ни качества, мясо – слякоть, величина – с ноготь. Но не пропадать же с голода! Тем более сентябрь на носу, а мы с Валеркой народ не привередливый. Пока костёр разгорался, он окуней и тарашку надёргал, а я не поленился, нырнул под заветный обрывчик и минут через тридцать с ведром злющих членистоногих прыгал на одной ноге, спасаясь от воды, зудящей в ушах. А добытые пучеглазые вовсе не мелюзгой оказались, некоторые на моей ладони едва умещались.
Мы засветло разместили палатку на просторной поляне, отступив от деревьев и берега, обустроили ночное логово и, лишь чуть стемнело, уставшие, уселись у костра, запасясь сухим хворостом. Чтобы ночь долгой не казалась, у нас в заливчике дремала небольшая сетчёнка для чего покрупней, а под заманчивыми корягами прятались испытанные крючки с наживкой, если не сазан, то ленивый сом обязательно заглянет.
– Ну что? – разлив уху и, содержательно потерев ладони, поднял походный стаканчик приятель. – За открытие сезона?
Мы выпили. Первый раз в это лето выбрались на природу и не как-нибудь, а вдвоём. У него то и дело проблемы в лаборатории, у меня свои беспросветные заботы. Собирались не однажды – не получалось, договаривались, – а всё срывалось. Но тут он позвонил внезапно под выходные, я махнул рукой на планы покорпеть опять в архиве, благо и Очаровашка с сыном к бабушке умчалась, и вот мы оба, ни о чём не думая, свободные, как птицы, растянулись занывшими спинами на приятной, словно ковёр, пахучей травке; то ли незабудка, то ли одуванчик щекочет нос, а перед глазами бездонное море высыпавших любопытствующих звёзд. Как же! Два преданных их поклонника в кои веки наслаждаются их лукавым и загадочным сиянием. Красота несусветная, да и только! А дышится как легко!..
Чувствуете, как мы заговорили? А вы попробуйте, ещё не то скажете. Это вам не город с его пылью, шумом и тревогой. Здесь покой, отдохновение и собственное миросозерцание. В себя удаётся заглянуть, более того, – задуматься: чего мы творим, куда спешим, зачем суетимся? И стóит ли наших физических и душевных затрат, наших мук то, ради чего мы по земле бегаем?.. Об этом мы и потрепались с Валеркой так вот, лёжа на траве плечом к плечу. Не часто удаётся.
А потом потянуло на разговор совсем доверительный, интимный и откровенный. Квакнула лягушка, за ней другая живность где-то вдалеке голос подала, мы посчитали, посчитали, надоело, сбились и друг на друга уставились: рано к вечному приступать, мы и по второй ещё не накатили.
– Ухайдакала служба? – Валерка искоса на меня взглянул, стаканчик наполненный протянул. – Уху, смотрю, без аппетита проглотил.
– Ты как моя Очаровашка. Ещё насчёт температуры спроси.
– И про головку не забуду. Устаёшь, милок? – хмыкнул тот.
Мы выпили и опять замолчали; а что говорить, мы давно научились понимать друг друга без слов и также без слов чувствовали друг друга. Хотите, сейчас угадаю, что он теперь спросит? Не лукавьте, хотите. Он, не поворачивая головы, сейчас скажет: «Тебе ещё ничего, у тебя сынишка, есть с кем… одним словом, для кого…» И замолчит, на большее его не хватит.
– Тебе хорошо, у тебя дело настоящее, а я в этой бестолковой лаборатории или сопьюсь от рутины, или брошу всё к чёртовой матери и закачусь куда-нибудь на Крайний Север!..
Валерка не закатится никуда, куда ему от Таськи, это он в сердцах от досады и тоски, что давно не виделись, вроде как предупреждает.
– А Анастасия? – лениво отвечаю я. – Её куда? Это, брат, цепи… Гименея, быстро забыл?
И следующие десять минут мы потрепались о них, о тех, кого приручили и кто нас приручил. Конечно, не запамятовали за них и по третьей. Ну уж а после третьей сами понимаете… Раки прямо из ведра, они уже закраснели, сами в рот просятся. Когда первый азарт прошёл, отвалились опять на траву, притихли.
– Слушай, Данила, – Валерка даже голову с рук поднял и на меня в упор уставился; он напротив, на другой стороне костра устроился лёжа на животе, поэтому мне хорошо проглядывались красные искры, сверкнувшие в его зрачках. – Вот вы с этим попиком вашим, отцом Митрофаном возитесь, копаетесь, а сам-то ты веришь во все эти чудеса?.. Про крест, про его невероятные свойства, про таинственную пропажу? Бабки, дедки полоумные, которые возле церкви обитают, они же действительно в некоторой степени сумасшедшие. Понятное дело: в школе, родители, да и вокруг пропаганда на церковнослужителей помои льют, но разве только со зла? Только потому, что не сбываются их пророчества, обещания и сказки, да и учение их не наше, не славянское… Оно же с Синайского полуострова к нам привезено, мы – язычники, у нас и вера своя была и боги свои, которых кочевники дикие выкорчевали…
– Ты о чём, Валер? – мне всё грезилось от звёзд и думать мало хотелось, а тем более разговаривать; я уже и с Федониным на эти темы наговорился, и с Толупанчиком надоедливым, и с его неугомонной бабкой Ивелиной, и даже с Очаровашкой своей; мне спать хотелось и чтобы не вздрагивать, ничего не видя во сне, а утром, словно младенец без всех этих мыслей народиться.
– Можешь ты мне об этом вашем архиерее Митрофане толком что-то рассказать? – и искры в его глазах обжигали уже, а не подмигивали.
– Какой тебе интерес? – промямлил я, ещё надеясь прикорнуть, уж больно приморило у огня. – Тем более что знаем мы о нём меньше, чем ты думаешь.
– Рассказывай, что сам понял, а я уж разберусь, – буркнул он.
– Чего это тебя в религию? – попытался ещё я отшутиться. – Ты вроде мужик у нас весь светский.
– Кое-что слыхал и я об этом человеке.
– Из каких источников? – напряг я одно ухо, но лишь отчасти, так, чтобы интересного не пропустить.
– В народе разное говорят…
– Что за народ?
– Не пытай.
– Людская, значит, молва?
– У меня бабушка верующая. К тому же она здесь, в городе жила. Это по матери. И родители отца тоже к церкви с уважением относились. Я особенно ни с кем не делился. Какая нужда? Потом, сам знаешь, как у нас к этому относились. Мой дед по отцу даже пел в церковном хоре.
– Вот, значит, откуда ваша фамилия след ведёт, гражданин Козловский, – мне всё-таки пришлось оторвать живот от травы и устроиться у костра сидя; чувствовалось, вздремнуть не удастся. – Может, картошки запечём?
– Кинь штуки три-четыре, – сменил позу у огня и приятель. – Мы в детстве без этого не обходились.
– Где же в городе удавалось? Не Кремль ли поджигали?
– Да вроде без этого обходились. Мы с пацанвой его весь облазили. – Валерка оживился, мечтательная улыбка расползлась по его физиономии. – Эх! Если вспомнить, что творили! Всё спорили, кто на башню до верхушки заберётся. На ту самую и, заметь, без верёвки.
– Это на какую же?
– С которой сам Разин воеводу и попика сбросил. Не читал, что ли?
– Читал. Про это, друг мой, я как раз успел многого начитаться. Знаю теперь, может быть, поболее некоторых учёных столоначальников.
– Ну и что?
– Во-первых, Разин митрополита Иосифа ни с какой башни не сбрасывал. Этим печальным и позорным проступком прославился его атаман Васька Ус. Был такой, погиб ещё до того, как самого Степана Разина казнили. Во-вторых, и башни той к твоим годам в Кремле уже не было, её давно сломали, а может, и взорвали, так как она грозилась развалиться и зашибить гуляющую публику. Хотя, не скрою, специалисты высказывают и другие причины.
– Ладно. Бог с ней, с этой башней. И атаманы, и митрополит меня меньше всего интересуют. Ты мне про отца Митрофана и крест, который вы ищете, расскажи.
– А вот здесь, дружище, – засомневался и я сам, – по-моему, без этого самого митрополита Иосифа, с которым разинцы зверски расправились, не обойтись.
– Время есть, послушаем. – Валерка хворост в огонь подбросил, тот взметнулся, жадным пламенем ветки пожирая, и чёрные тени заплясали за нашими спинами, словно призраки из далёкого прошлого; сразу неуютно как-то стало, показалось, что не одни мы в ночной тиши у берега, что бродит кто-то ещё в кустарниках по берегу и точно ветка хрустнула за дальним деревом, тень мелькнула.
– Что это там? – покосился я.
– Собаки бродят, – отмахнулся Валерка. – Их здесь по ночам знаешь сколько! Деревня недалеко, а эти запах учуяли. Хозяева их особенно не кормят. Учат самим охотиться. Ты начинай, рассказывай.
– Знаешь, – посетовал я, – Павел Никифорович Федонин сам по себе человек обстоятельный, а среди следователей слывёт не просто мудрым и умелым специалистом, но ещё и, как это правильно выразиться, работником усердным, глубоко копающим, что ли… В общем, таких больше нет. Он из старых, неких мамонтов; они, расследуя преступления, не удовлетворялись его раскрытием, изобличением виновного, собиранием необходимого набора доказательств, они действительно копали глубоко, выворачивали наизнанку, душу преступника старались познать, отыскать свидетельства её предрасположенности к содеянному…
– Это же позиция Ломброзо? – перебил меня приятель. – Вроде не одобряется она нашими криминалистами? Или изменились подходы?
– Отрицается, отрицается, – поморщился я, – более того, как считалась, так и считается вредной. Но это на верхах, в науке, там профессора искры лбами выбивают, а внизу… А ты что же, что-нибудь почитывал у него? «Преступление»? «Новейшие успехи науки о преступнике» удалось раскопать? Там, брат, Чезаре Ломброзо размахнулся! Дал волю фантазии.
– Откуда? Ты меня не пужай такими книжками. В армии со мной один чудак трубил, а у него от деда библиотека осталась. Я после дембеля Москву посмотреть решил, ну он меня пожить на недельку пригласил, там и полистал одну древнюю книжонку на досуге, чтобы спалось лучше. Оказалась, дай бог память, – «Гениальность и помешательство». Не вру, сам видишь, какое она впечатление на меня произвела. На всю жизнь запомнил и сам чуть умом не тронулся. Но это так, к слову. Правда, она дореволюционного издания, с алфавитом пришлось повозиться, но до утра оторваться не мог. В ней много чего разного оказалось, но было и о преступниках. После этого стал искать книжки этого Чезаре Ломброзо.
– Ну и как? Удалось?
– Издеваешься? Вот критики на его учение нагляделся. Но знаешь, если через призму, так сказать, на эту критику взглянуть, можно догадаться про некоторые мысли автора.
– Вот так вот и живём. Всё время приходится призму применять. А если отец с матерью наделить ею забыли?
– Если по этому поводу особо не комплексовать, ничего, – полез к огню за картошкой Валерка, но вытащив, тут же обратно закатил. – Не поспела. Подождать требуется.
Он подул на пальцы, закинул руки за голову, потянулся сладко, в небо уставился:
– Многие без этого живут. Обходятся. Тебе не кажется, что мы с темы сдвинулись? Я тебя про отца Митрофана просил, а ты мне Ломброзо.
– Извини. Видимо, без этого не обойтись. Я тебе, так сказать, принципы Павла Никифоровича Федонина в качестве преамбулы начал обрисовывать, но, похоже, заблудился.
– Ты уж постарайся на будущее…
– Там у нас не осталось ничего в заначке? Знаешь, спиртное, оно бодрит.
– И это не парадокс! – отыскал тут же затерявшуюся бутылку водки Валерка. – Давай, под картошечку.
– Да ты ж только выкатывал!
– Ничего. Ей пора поспевать.
И он опять сунулся в костёр. Картошка оказалась твердоватой, но мы ограничились одной, поровну её разделив, а остальных чернокожих отправили назад дозревать. Впрочем, с солёным огурчиком печёная обжигающая картошка доставляла невероятное наслаждение в наших походных условиях. Подкралась уже и прохлада от речки, и небо, кажется, присело вместе с нами, подымешь глаза, а звёзды – вот они, крупные, и хоть рукой доставай. Странное дело, и луна всей тарелкой виснет. Запустить чем-нибудь покрупней – и достанешь. Аж удивительно.
– Значит, Федонин потихоньку, потихоньку, а обращает тебя в свою веру? – выпив и закусив, подмигнул мне Валерка. – Как ты его называешь? Старый лис?..
– Лис, да ещё какой! Но в этом его особой заслуги нет. Он правильно требует необходимой глубины следствия. Понимаешь, он мне поручил исследовать личность Краснопольского, то есть отца Митрофана. Я догадываюсь, он старается уяснить для себя, как тот в заговорщики угодил.
– Действительно, – не терпелось и Валерке. – Серьёзная фигура в губернском масштабе, все церкви у него, забот полон рот своих, а он против власти?.. К тому же травить весь Реввоенсовет и армию ядом? Их пулемётами не взять. Это же предполагает большую деятельность в этом направлении, организацию значительных тайных сил, доступ к властным структурам, к лидерам, к вождям? А где же они столько отравы раздобыли в грозный голодный год? Цианистым калием не так просто разжиться в мирное, не то что в военное время, будь ты главным фармацевтом или аптекарем в губернии… Он на сахар похож?
– Белое кристаллическое вещество без запаха.
– Тебе не кажется, что всё это довольно нелепо выглядит?
– Кажется – не кажется, пока это априори. Есть уголовное дело в архивах КГБ, есть, наконец, приговор, – отмахнулся я. – Но ты прав, пока нам мало что известно. Архивное дело мы так и не получили. Но это вопрос времени, теперь, кажется, особых проблем не будет. Да и не особо касаемся мы проверкой того, что было в далёком девятнадцатом году. Задачи такой не стоит. Те события нас интересуют постольку, поскольку в те времена пропала историческая, представляющая большой научный интерес реликвия; принадлежала она арестованному архиепископу, и в деле должен быть её след. А пока я занимаюсь личностью этого человека. Понимаешь, когда знаешь пристрастия и особенно слабости определённой личности, легче разгадать его странные порой на первый взгляд поступки. Почему обязательно предполагать кражу и утрату. А версия о том, что реликвия умело спрятана разве не имеет права на существование?
– Разумно.
– Вот и я говорю. А так как старик требует глубины и усердия, копаю я чуть ли не до самого рождения этого отца Митрофана.
– Убедил, – хмыкнул приятель. – Судя по предисловию, к которому ты то и дело возвращаешься, закопался ты по самые… уши.
– Был бы толк, – не обиделся я, хотя и мне не хватало оптимизма. – Чем глубже забираюсь, тем не по себе становится.
– Это как понять?
И тут первый раз я услышал, как завыли волки. Или он был один. Я не разобрал. Что хотите со мной делайте, но это был тихий, далёкий, протяжный и берущий за душу волчий вой. Только не грозный и пугающий, а скорее жалобный и даже тоскливый. Голодный, наверное… Да, да, конечно. Вой изголодавшегося волка. Но это детали. На душе так запаскудело, а если по литературному – заскребли кошки.
– Ты слышал? – впился я в глаза Валерки.
– Откуда здесь волкам быть? – уставился и он на меня. – Может, собаки дикие, говорят, когда они дичают, некоторые тоже воют страшным образом. По покойнику они же воют! Почему им здесь не оказаться.
– У нас покойником не пахнет, – сплюнул я.
– В деревне. Я ж тебе говорил, что здесь поблизости…
– Про собак не знаю, а луна вон, глянь на небо. Больно уж она светлая вся. Сегодня какой день-то? Когда у нас полнолуние бывает?
– Конец месяца… – растерялся Валерка и слабо улыбнулся. – Ты что вспомнил? Про шабаш ведьм?
– Чёрт-те что в голову лезет!
– Чудак, это у немцев пугают Вальпургиевой ночью. Но она наступает в мае, помнится, на первое мая и только раз в году.
– Вот успокоил, так успокоил, – хмыкнул и я. – Будет о чём рассказать на службе. Обхохочутся.
– А ты и взаправду?..
– Но вой-то ты, надеюсь, не станешь отрицать! – обозлился я.
– Собаки, – вскочил на ноги Валерка, подобрал ком земли и швырнул в кусты.
Ничего ему не ответило. Комок разлетелся, рассыпался по кустам, и всё смолкло.
– Хватит, – присел он на корточки к огню, поворошил головёшки, новые ветки подложил, дождался, когда пламя зарадуется, откупорил новую бутылку и, плеснув в стаканчики, протянул мне. – Забыть и не вспоминать. Давай за то, чтобы вы со старым лисом быстрей отыскали этот загадочный крест архиепископа Митрофана, а на ваших мундирах засверкали не хуже его, посолиднее звёздочки. Кумекаю я, не оставят ваши упорные труды наше отечество без должной награды.
– Выговора бы не схватить, – чокнулся я с приятелем. – В моём представлении архиепископ Митрофан прежде всего должен был выглядеть ярым и коварным врагом. Всё, что ты про него тут наговорил, именно так должно бы и обстоять: тайное общество заговорщиков, замахнувшееся, по существу, на верховную власть в губернии, на руководство целой армии, обязано само представлять могучую силу в виде крепкой, умело законспирированной организации с большими связями где-то на верхах, в Питере или Москве, с запасом агентов и боевиков, вооружённое не только идеей, но и арсеналом боеприпасов. Что можно сделать отравой? Смешно! Как её использовать? Где найти столько разносчиков и конкретных отравителей-злодеев? Я не представляю архиепископа Митрофана в рясе и крадущегося к койке спящего Сергея Мироновича Кирова. Или его же в армейской кухне. И кто его или других туда пустит? Как только 11-я Красная армия прибилась к городу, Кремль заняло руководство, а архиепископа вышвырнули за стены крепости и больше никого туда не пускали.
– Может быть, до этого и не дошло? – выкатил снова картошку из огня Валерка. – Может быть, заговор не вступил в активную фазу, был раскрыт благодаря доносу и всех схватили, предупредив акцию?
– Вот послушай, как выглядит и как ведёт себя этот горе-заговорщик… Краснопольский Дмитрий Иванович, – перебил я его. – Не успев прибыть в город после назначения, он дал всем понять, что главной его задачей является увеличение верующих и укрепление самой веры. Это у них называлось миссионерством: объехал всю губернию, не забыл про меньшинства, в калмыцкие степи заглянул, ну и, понятное дело, приложил руку к пресечению сектантства. Обычные дела, так каждому новому у них положено начинать. Но что следует дальше? Уже в первой своей проповеди он напомнил всем, чем Астрахань была печально знаменита, что здесь от рук разбойников погиб великий церковнослужитель, известный всей православной России митрополит Иосиф. Казнён зверски, умерщвлён в нечеловеческих муках и страданиях. Тебе известно, как это было?
Валерка как-то смолк, словно сам участвовал в той страшной древней трагедии, и пожал плечами. Он впечатлительный, хоть и служил в воздушно-десантных войсках, я знаю, порой у него глаза мокреют совсем на пустячном моменте.
– Вот этого у нас тоже нигде не прочитать, – я потянулся к водке, но он меня опередил, и, выпив, мы помолчали.
– После того как Иосиф был сброшен с башни, – продолжал я, – несмотря на страшную жару в ту пору, большое количество бродячих собак и кошек на улицах, к телу его запрещено было подходить под страхом смерти, и оно валялось в пыли и грязи несколько суток. Несмотря на это, всё же нашлись смельчаки, и тело исчезло. Их искали, но тщетно, после подавления мятежа новый правитель города якобы распорядился останки митрополита Иосифа захоронить в Успенском соборе.
– Дикие всё же были времена, – опустил голову Валерка.
– Вот этому человеку, мне представляется, архиепископ Митрофан и решил посвятить свою жизнь. Во всяком случае, не вызывает сомнений, что он надумал возвести Иосифа в ранг святого или, как у верующих принято называть, в ранг святомученика. Его самого, образ и участь он задался приравнять к самому Иисусу Христу. Это, конечно, сугубо моё суждение, но уж больно настойчивы были его усилия в этом направлении. Он сделал для этого всё, что было в его силах, и даже превзошёл себя.
– И тем самым прославился сам, – вставил Валерка.
– Кто знает, что было у него на уме, но не похоже, чтобы ради этого он рисковал своей жизнью, – мне показалось, что мой приятель заметил мою неуверенность, и я добавил: – Всё его дальнейшее поведение и смерть свидетельствуют, что он не преследовал такую цель, и я думаю, даже боялся другого. Однако, как бы ни случилось, его имя в историю русской православной церкви вписалось значимыми буквами. И конечно, не потому, что он был расстрелян как заговорщик и пострадал от советской власти. Расстреляв его тогда и таким образом уничтожив, молодая власть, мне кажется, только подлила масла в костёр, возвеличивая пламя вокруг нового мученика.
– А с Иосифом-то ему удалось?
– Как тебе сказать?.. Архиепископ Митрофан в своих начинаниях не был одиночкой. Почитание митрополита Астраханского Иосифа в губернии осуществлялось и до него, поэтому довольно быстро нашлись и помощники. Зерно, как говорится, упало в благостную землю. Новый архиепископ взялся за высшую цель – канонизацию Иосифа. Это особая и достаточно объёмная процедура, требующая в конечном итоге представления в высший церковный орган – в Святейший синод специальных доказательств.
– У них тоже там не так всё просто? – хмыкнул Валерка. – Тоже доказательства подавай. А где их взять? Как подтвердить невозможное?
– Нет нужды касаться этой темы, – у меня действительно не было желания рассуждать по этому поводу. – Мы с тобой, мой друг, отпетые атеисты. Поэтому обойдёмся без комментариев. Скажу одно – архиепископу Митрофану удалось осуществить свою мечту, он, по его мнению, собрал необходимый материал и представил его в Петербург на рассмотрение Святейшего синода.
– Браво! – не удержался мой приятель.
– Осади назад, горячая голова, – остудил я его пыл. – В события вмешалась Первая мировая война, и всё отодвинулось на неопределённый срок.
– Закон подлости, как про него не вспомнить! – Валерка искренне переживал историю.
– Вот и я тоже думаю, что эти чрезвычайные события толкнули архиепископа Митрофана на отчаянный шаг. Отбросив формальности, в конце тысяча девятьсот шестнадцатого года он собрал особое совещание из представителей епархии и местной власти, которое выразило пожелание всех жителей губернии просить разрешения Святейшего синода одобрить его материалы, приурочить прославление митрополита Иосифа на одиннадцатое мая. Запомни эту дату, мой друг.
– Почему в этот день?
– Это дата трагической кончины Иосифа…
Не договорив, я осёкся: за нашими спинами опять послышался протяжный и жалобный волчий вой.
Мы так и вцепились глазами друг в друга.
Глава IX
Донсков услышал об этом как-то мельком; уже вышагивая домой, заглянул в дежурку, краем глаза: что да как? А сам особенно и не слушал, так – вполуха. Но Корнеев, отчаянный службист, каблуками щёлкнул и с рукой у козырька так и прокрутился по ходу его движения полукругом. Ярым взглядом поедая, рапортовал:
– Ограбление на Чукотской, товарищ капитан! В Трусовском районе труп, сам повесился. Два утопленника, но тоже без криминала. С городского кладбища звонили…
И запнулся.
– Откуда? – остановился на мгновение Донсков, обернувшись. – Покойники бастуют?
– Там у них бедлам какой-то. От жира бесятся.
– А точнее?
– Пропали два могильщика да сторож. И кобель дохлый нашёлся.
– Взаимообразно, значит. Послал их к чертям собачьим? – от души брякнул Донсков, к концу дня он расслаблялся. – Перепилась похоронная команда.
– Я бы послал, – пожал плечами дежурный, – но на проводе юрист был…
– А он там откуда?
– Юрисконсульт жилкомотдела горисполкома приехал разбираться. Настырный до ужаса.
– А мы здесь не юристы? – всколыхнулся капитан. – Не мог ответить?
– С ними связываться…
– Телефон оставил?
– Имеется.
– Ну-ка набери! – рванулся Донсков назад.
А через десять минут он уже трясся в кабинке дежурного «воронка» и утешал пригорюнившегося лейтенанта Дыбина, на свою беду тоже засидевшегося в отделе:
– В нашей сволочной работе, Алексей, это не главное. Сутки заканчиваются в котором часу?
– В двенадцать ночи, – не чувствуя юмора, хмуро недоумевал тот.
– У нас с тобой ещё уйма времени. Успеешь свой футбол досмотреть, тем более не «Динамо» играет. Умей находить светлое даже в тёмном туалете.
Юрисконсульт Мухин, Гремыкин и дотошная Дарья дожидались их у «прорабской». Гремыкин курил и сторонился пугливо, Мухин тут же определил в Донскове главного, хотя тот и был в штатском.
– Можно было бы и извиниться, – прямо в глаза Донскову твёрдо выговорил он, – но ситуация, согласитесь…
Донсков без эмоций потрепал Мухина по плечу:
– Бывает.
– Я думаю, вы тоже проникнитесь, когда выслушаете их.
– Да рассказывай сам. – Донскову понравился юрисконсульт.
Мухин выглядел раза в два моложе капитана, но держался ответственно.
– С Иваном Ивановичем мы знакомы, – улыбнулся Донсков Гремыкину.
Гремыкин тут же засмущался, пододвинулся к капитану, хотя и выше был ростом, но, как-то пригнувшись дугой, враз уменьшился и руку скромненько протянул:
– Мы вас помним. Как же!
– Иван Иванович известный молчун! – похлопал и его по плечу Донсков. – Если бы он умел говорить, мы бы столько услышали, узнали…
Донсков не досказал, что бы услышали, если бы; зорко окинув взглядом рвущуюся к нему Дарью, он подхватил её под локоток:
– А это что за приятная дама?
– Дарья Михайловна Прыткова, – тут же подсказал Гремыкин. – Кобель-то… собака… Одним словом… нашли с её помощью. Если б не Дарья…
Мухин обстоятельно и толково в несколько минут рассказал всё, что ему стало известно с того часа, как он сам прибыл на кладбище по поручению Ивана Петровича Хвостикова.
– Занятно, – почесал за ухом капитан, оглянулся на Дыбина. – Ты бы походил тут, пока не стемнело, а у меня ещё несколько вопросиков. Присмотрись…
Дыбин кивнул, оглядел почти опустевшее кладбище, выбрал одну из дорожек и удалился.
– Теперь поразмыслим вместе, – Донсков упёрся большим пальцем в грудь Гремыкину. – Ты, Иван Иванович, почему решил, что собака задушена? Кстати, надеюсь, её не закопали?
– Я запретил, – сделал шаг вперёд Мухин и закивал головой, давая понять, что ухватил мысль.
– Похвально, – Донсков радовался за помощников.
– Юрий Михайлович, я ж ей башку-то осторожненько… – Гремыкин даже обиделся. – Без врача обошлись. Этого?.. Ветеринара. У меня навык есть.
– Разговорился, – усмехнулся Донсков.
– Шея сломана, – развёл руки Гремыкин. – Это точно.
– А кому же это могло понадобиться? – теперь Донсков поднял вверх голову и упёрся взглядом в маленькие бегающие глазки. – Как думаешь, Иван Иванович?
Остальные двое тоже с подозрением уставились на съёжившегося и сразу уменьшившегося ростом Гремыкина, однако тот смог лишь тихо промямлить:
– Так кто же его знает?
– Понятно, – опять обрадовался Донсков. – А трое человек, говоришь, пропали?
– Ну как пропали… – опять развёл руки тот. – Не видел сегодня Князева Демьяна Спиридоновича. Но он мог и без спросу. За ним Жучок…
– Кто?
– Жучков Гришка, – выпалила Дарья. – Это помощник Князева среди могильщиков. Жучка тоже не было сегодня. Оба со вчерашнего дня как канули, так и пусто. А народ кричит. Могилы рыть некому. Это разве порядок?
– И ещё, ты говоришь, Карпыч? – Донсков слегка остановил рукой тараторившую без остановки Дарью и не сводил глаз с начальника печального отряда.
– Мирон Карпович Булыгин, – поджал губы Гремыкин. – Хозяин собаки. Они всегда неразлучны были. Карпыч всё меня допекал: «Когда загнусь, пса со мной положи». Я ему: «Да куда ж живого? Разве можно?» А он бурчал: «А фараонов проклятых можно было с жёнами да лошадьми? Чем мой Дурной хуже?»
– Это пса так кликали?
– Его. Но собака была, будто человек, – покачал головой Гремыкин, явно печалясь. – Я поэтому и рассуждаю, что могла она защищать Карпыча, ну и того…
– А была причина?
Гремыкин отмахнулся головой.
– Враги?
– Откуда у Карпыча враги? – запричитала Дарья. – Ему лет!.. Это самое… Он у нас долгожитель.
– Есть семья?
– Что вы! Бобыль. Собака – вот его единственный родственник.
– Значит, Булыгин Мирон Карпович перестал выходить на работу третьи сутки? – напомнил Донсков.
– Последний раз отдежурил в ночную, а утром его уже я не видел, – поддакнул Гремыкин.
– А остальные?
– Потом. Спиридоныч, правда, на следующий день, а Жучок ещё бегал…
– Что это его Жучком?
– Да шустрый больно, хотя и косой! – не стерпела Дарья. – С одним глазом, а видит, чёрт, за двоих.
– Покажете местечко, где собаку нашли? – спросил Донсков, заканчивая со своими вопросиками и пряча блокнотик, куда всё время что-то быстро записывал.
И уже в надвигающихся сумерках они направились по дорожке в глубь кладбища. Вела Дарья, так и не расставшаяся с метлой. Шагала во главе.
– Это что же? – осмотрелся по сторонам Донсков, когда прибыли на место. – Здесь у вас и захоронения кончаются?
– Продолжаются, – осторожно поправил его Гремыкин. – На завтра, вон, по моему распоряжению Мишин пять могил подготовил для очередных, а там дальше пойдёт. – И он взмахнул рукой: – До забора-то ещё места много.
– Достанется, значит, если что? – невесело пошутил Донсков.
– Вам-то? – всерьёз прикинул размеры пустующего участка Гремыкин. – Вряд ли. Спешит народ.
– Ну что ж, – не погрустнел от этих слов капитан. – Будем заканчивать?
– Вы меня подвезёте? – Мухин с надеждой посматривал на Донскова. – Я водителя отпустил. В банк, знаете ли. Сегодня зарплата была.
– А вы, значит, остались ни с чем? – Донсков всё ещё стоял над собакой, потом двинулся к зияющим огромным могилам, начал зачем-то заглядывать в каждую и подолгу рассматривать, будто прикидывал глубину каждой.
– Фонарик принести? – не отставал от него Гремыкин. – Дна-то не видать уже.
– Я глазастый, – бурчал Донсков. – А вчера, значит, здесь хоронили?
– Как положено, – заверил тот. – У меня в журнале всё отмечено.
– Отмечается?
– С этим строго.
– Ну что ж, спасибо, уважаемые товарищи, – развернулся Донсков от могил. – Адреса Князева и Жучкова, надеюсь, в конторе имеются?
– Как же? У них трудовые книжки.
И переговариваясь, все заспешили от пустующих дожидающихся могил. Лишь Донсков задержался, оглядевшись ещё раз, на красный закат полюбовался:
– Красота тут у вас. Тишина…
– Да бог с вами! – охнула Дарья.
– А что? – бодро поддержал капитана юрист. – Если рассуждать с позиций…
Но договорить он не успел. Впереди, вывернувшись из-за раскидистого дерева, будто разом выросли два человека. В сумерках лица их различить было трудно.
– Фу ты, чёрт! – вскрикнул Гремыкин и рукой вперёд ткнул. – Гляньте-ка! Не Спиридоныч заявился? И Жучок с ним!
– Точно, – подхватила и Дарья. – Большой и малый. Заявились, пропащие, а мы их ищем!
Но приближавшиеся разочаровали.
– Это лейтенант Дыбин, – узнал Донсков. – Ведёт кого-то. Может, и ваш.
– Товарищ капитан! – издали крикнул Дыбин.
– Идём, идём, – успокоил его Донсков. – Покойников-то не тревожь. А то подымутся от твоего крика.
– Товарищ капитан, – горячился лейтенант, не обращая внимания. – Вот свидетель. Он мне тут!..
– Тихо, тихо, – попытался остудить его Донсков. – Уймись.
– Да это ж наш Митька! – уставился на второго подошедшего Гремыкин. – Дурачок местный. Побирушка. Какой он свидетель? Он полоумный.
– Вы послушайте, товарищ капитан. – Дыбин нахмурился. – Он мне тут такое наплёл!
– Он наговорит, – Гремыкин махнул рукой. – Его только слушать…
Глава X
Ужасный протяжный вой стоял в ушах…
У вас есть человек, которому врать не приходится? Хорошенький вопросик, да? Подумайте, покопайтесь в себе, я не тороплю. У меня есть. Мы с Валеркой познакомились, когда в Саратовский университет собрались. Я после школы, он из армии, отслужив. Где встретились, уже не помню, но понимать друг друга без слов научились, когда в деревню поехали арбузы собирать, чтобы добыть деньги на поезд. Тогда и драпали с танцплощадки от обозлённых аборигенов, решивших проучить нас за девчонок. А мы при чём, если те на городских, как на вешалки, липли? Можно было бы и поспорить, кто в драке горазд, но собралась целая кодла, а Валерка хотя и бывший десантник, но я в то время ещё начинающим был… Однако поняли друг друга враз. И теперь не приходится пыжиться, себя напрягать, слова подыскивать. Это хорошо, когда ты только рот открыл, а он уже догадался.
– Тебе не кажется, что с нами кто-то продолжает в идиотские шутки играть? – спросил я его.
Он сук покрепче схватил, я спиннинг нерасчехлённый, и мы бросились к кустам, но как ни быстренько мчались наши ноги, в проклятом кустарнике никого не оказалось. Впрочем, тень какая-то опять неподалёку в деревьях мелькнула, и шум или гул протяжный пошёл, хотя что не привидится в темени?.. Раздосадованные и злые, как черти, возвращались мы к огню.
– Ты знаешь, в любой неприятности, если захотеть, можно найти полезное, – попробовал успокоить меня Валерка, он известный дипломат, ему проблему на ноль свести, уговорить строптивого – раз плюнуть. – Это даже бодрит. Дрыхали бы мы сейчас с тобой, Данила, без задних ног, и ты бы про Краснопольского ничего не рассказал. Слушай, а почему они от своих фамилий отказываются?
– Не знаю, – мне в себя прийти время требуется, я не холерик по натуре. Скорее флегматик, хотя, если глубоко покопаться… – Мне это в голову не приходило. Я думаю, у них специальная процедура – уходить из мира светского. Они не только от фамилии, от себя прежнего, от всех своих привычек отказываются, меняют так сказать, полностью свой модус вивенди.
– Ты прав. Это точно, – подхватил Валерка. – Я вот когда в армию пошёл, каким был?..
– Обязуются всю свою дальнейшую жизнь посвятить только Ему. Богу.
– Это молиться, что ли?
– Проповедовать его веру, ну и, конечно, прославлять Самого. Чего уж там о фамилии жалеть.
– Ты подумай только! От всего отказаться. А от женщин? Я б от Таськи своей не смог.
– Валер, ты не перехлёстывай. У них же разные церковнослужители бывают. Чёрным монахам нельзя касаться женского тела, а белым не воспрещается. Единственное правило соблюдать нужно – жениться один раз и навеки. Вон, Митрофан, например, неженатым к нам приехал. Лишь мать рядом была и после никуда от его могилы не уехала, здесь и умерла.
– Трудно. А вдруг я Тайку свою разлюблю? Нет. Мне дорога в церковь заказана.
– Да что ты на себя всё примеряешь?
– Подумать только! Ни служить в армии, ни прыгать с самолёта, ни подраться. Таська и та одна на всю жизнь! Нет. Я не готов. Слаб. Сильным человек должен быть, чтобы на такое решиться.
– А их поэтому и гоняли всё время. Преследовало сознательное государство. Вот они и укреплялись.
– Завидовали?
– Опасались, я думаю. Сильна всё-таки их вера. А что сильным кажется, некоторым всегда великую опасность представляет.
– Нет. Погоди. О политике рано, – подбросил в костёр хвороста приятель и полез за бутылкой, стаканчики наполнить. – У нас ещё раки, картошка, наверное, сгорела вся. Давай, присаживайся и продолжай.
– Чего продолжать-то?
– С одиннадцатого мая начинай. Состоялся праздник, который архиерей Митрофан удумал?
Странное дело, водка, когда ближе к полуночи, вроде как и не горчит уже. Я поднял голову – луна так же висла огромной серебряной тарелкой, прямо в уфологи записывайся – ну, сущий корабль пришельцев из космоса! Ночь неслыханных чудес и откровений!..
– Газеты нашего города кричали, что 11 мая 1917 года станет днём духовного торжества и обновления, – я не зря в архивах и библиотеках вечерами корпел, с церковнослужителями потел, их выслушивая, знаний у меня набралось, было чем поделиться с приятелем. Валерка слушал, как с экрана глаз не сводил: все физически крепкие люди, я где-то читал, склонны к чувствительности. – Но Февральская революция перевернула планы не только отца Митрофана. Наверху в самом Синоде революционно настроенный обер-прокурор, некий князь Львов, закатил речь, и все доказательства, представленные для причисления митрополита Иосифа к лику святых, признал недостаточными.
– Вот так! Нашлись, значит, и такие среди князей?
– Что ты! В то время, на волне великой революции, оказалось и великое множество любителей всё отрицать и выворачивать с корнем. Вместе с пафосом обновления действительно тормозящих развитие общества процессов признавались негодными и вредными многие вечные истины. На что только ни покушались в политике, в философии, в науке и в обществе… В частности, нашлись раскольники и в православной церкви, отрицавшие необходимость самой формы патриаршества. «Долой царя! – требовали они. – Вон и патриарха!»
– Обновленцы, я читал, – подхватил Валерка. – Возня у них была серьёзная.
– Происходившее вознёй назвать слишком мягко. Противоречия выразились в открытую войну. И архиепископ Митрофан, верный Тихону, не изменил ему, занял самую активную позицию. На поместном Соборе, это что-то вроде нашего Верховного Совета народных депутатов, он возглавил единомышленников и сам выступил с трибуны в качестве главного защитника патриаршества, а также лично патриарха Тихона. Он так говорил!..
– Отважный человек.
– И победил. Его доклад произвёл большое впечатление даже на врагов, патриаршество отстояли и Тихона избрали патриархом.
– Что же его после такого успеха в Астрахань понесло? При такой славе?..
– Тихон оставлял его в столице, сулил выгодные и важные посты, но тот отказался, а в своё оправдание твердил, что не выполнил главной своей задачи в отношении митрополита Иосифа.
– Это нельзя было сделать там, сидя в Питере? И легче, наверное?
– Возможно. Но Иосиф был убит у нас, отсюда и следовало начинать. Прах до сих пор покоится в Успенском соборе.
– Слушай, Данила, он мне определённо нравится. Настоящий мужик. Крепкий. С таким и под одним парашютом можно. – Это была высшая Валеркина похвала. – У нас, в десантных…
– Может, приляжем, Валер, – глянул я на приятеля. – Тебе бы не мешало и отдохнуть.
– Мне? – обиделся он. – Ни в одном глазу.
– Ну смотри. Что-то мне показалось.
– Когда кажется!..
– Знаю, знаю.
– Хочешь, искупаюсь?
– Я и сам не откажусь. Завтра на работу, не помешает освежиться.
Мы поплескались у бережка в прохладной водице. Ночное купание при костре – удовольствие незабываемое. Особая прелесть разбежаться со света и с обрывчика вниз головой в темноту. Вроде ничего такого, а сердце ёкает. Раз, два, нырнул – и заново родился. Я, признаться, за уходящее лето купался второй или третий раз, Очаровашка находила время пропадать с сынишкой на речке, у нас от дома рукой подать; две акулы не вылезали из воды по выходным, загорели, как негритята, особенно маленький, а мне раздеться стыдно, я Валерку напугал неспортивной белизной своего тела. После переезда в город как-то не удавалось: устройство на новом месте, освоение областного аппарата с его строгим режимом и колоритными членами чопорного коллектива, то да сё… С двумя-тремя: Черноборовым, Толупанчиком, Готляром вроде быстро общий язык нашёл, а остальное большинство требовало подхода, на который времени недоставало. Быстро я убедился, какой это крутохарактерный социум.
Когда, выпив горяченького чайку, мы забрались наконец в палатку, Валерка минут десять – пятнадцать шугал комаров, гоняясь за ними с зажжённой газеткой, утомившись и потеряв надежду, растянулся рядом, поворочался и спросил:
– Я забыл, ты храпишь?
– А откуда тебе знать? – хмыкнул я. – Когда экзамены сдавали, ты в комнату заваливался под утро, у девчонок пропадал с гитарой вместо того, чтобы готовиться.
– Не забыл…
– Угомонись ты.
Мы полежали ещё, поворочались, теперь уже не спалось обоим, он мне весь сон перебил, я, конечно, отвык от палаточной жизни; когда это было в студенческих отрядах, к тому же селили нас в пустующих школах или того лучше – в клубах: на уборку урожая закрывалось всё. Да и комары оказались хитрее, чем наивно полагал мой приятель; по тому, с каким гулом они пикировали на нас, лишь мы затихали, их великое коварство стало очевидным. Пошли хлопки, шлепки, ругательства. Так, помыкавшись, мы снова оказались у костра.
– Ты знаешь, – принялся доставать остывшие картофелины из золы и по-братски делить их на двоих Валерка. – У огня – спасение, этих паразитов совсем нет. Опять мы оказываемся в преимуществе. Подремлем здесь, всё равно скоро рассвет. А ты доскажешь мне историю Митрофана. Я как-то с ним уже свыкся. Прикипел, так сказать. Хоть и попик, но уж больно довелось ему настрадаться.
– На Руси мучеников любят.
– Как же тот крест алмазный у него оказался? Ты начни с этого.
– А вот тогда и оказался, когда объявил он Тихону о своём отъезде в Астрахань, – я налил чайку покрепче, спать совсем не хотелось; Валерка два одеяла приволок из палатки, и мы обустроились у огня в надежде не двигаться уже никуда до самого утра. – Митрополит решил его отблагодарить и этот чудодейственный крест подарил ему со своего, так сказать, плеча.
– Это сказка, что ли?
Что я мог сказать? Естественно – только пожал плечами.
– Какими чудесами крест обладал, если не спас хозяина от смерти, притом какой смерти!?.. В позоре, без славы и чести?.. Умереть заговорщиком!..
– Насчёт чудодейственных свойств креста не у тебя одного большие сомнения. По правде говоря, никто никаких чудес и не наблюдал, хотя церковнослужители, с которыми мы с Павлом Никифоровичем беседовали, в одни голос твердят обратное.
– У них это есть, – подпёр голову Валерка, засмотревшись на пламя. – Иконы с плачущими глазами, чернеющие лики, потом оказывается, что за доской целый аппарат с набором капельниц и другая механика.
– Мне вот что порой думается, – я не стыдился перед приятелем откровенничать, меня самого достало до кишок, давно уже хотелось с кем-то поделиться, а с кем? Федонина смешить? – Может быть, чудодейственная сила креста в том, что люди до сих пор архиепископа Митрофана не забывают. Ведь память – это в определённой степени вторая жизнь. Слышал мудрость – вспомни меня, и я буду жить вечно?
– Здорово! – сверкнул глазами Валерка. – Но это же философия, а не чудо.
– Разве? А вокруг нас что? Легко жить собрался.
– Я не об этом.
– А я как раз. Митрофан мог спастись. Ему не раз предлагали бежать из города, где нависла угроза реальной расправы. И даже не как заговорщик или контрреволюционер, а просто церковнослужитель, он наблюдал своими глазами эту опасность. Служителей культа расстреляли к тому времени в городе немало. Они были духовными противниками, а их идеи не менее опасны и серьёзны, чем бомба за пазухой, нож в кармане или яд в стакане. А Митрофан отказывался, словно сам искал смерти. Он не боялся её. Возьми Иисуса Христа…
– Но!..
– Погоди, погоди. Многие считают, что до того, как стать идеей, он был материален. Но этот молодой человек выбрал смерть. Чтобы жить вечно. Вот в чём сила и смысл этого парадокса. И Митрофан похоже…
– Фанатик?
– Герой!
– Я бы…
– И потом… Знаешь, что мне священники отвечали, когда я их, подобно тебе, укорял тем, что крест, мол, не сотворил чуда владельцу?
– Догадываюсь.
– Владелец креста сам должен просить и желать этого.
– А Митрофан, выходит?..
– Ты сам ответил на вопрос, который меня мучил всё это время. Кстати, как я уже говорил, об этом свидетельствуют все дальнейшие события, последовавшие после возвращения его из Питера. После второй революции началась Гражданская война. Разбитая 11-я Красная армия отступила к городу, притащила с собой страшную болезнь – тиф. Митрофана и его свиту попёрли из Кремля, как он ни сопротивлялся, убеждал, что грех храм военными заселять. Выброшенный на улицу из Успенского собора, он ютился по случайным углам у церковнослужителей. Ему стали угрожать расправой, друзья устроили побег, чтобы спасти, но он отказался. Уже тогда раздавались призывы о расправе. Он не принял декрет Ленина о церкви, не хотел бросить собор, устраивал проповеди, одним словом, был у власти как бельмо на глазу.
– На что он надеялся?
– Когда в соответствии с Декретом начали закрывать церкви, среди священников появились протестующие, естественно, пошли аресты недовольных, а затем и первые жертвы. По приговору чека было расстреляно несколько священников. Скоро появились случаи, когда с церковнослужителями обходились без суда и следствия. Нависла угроза ареста Митрофана. Близкие к нему лица пожелали вывезти его из города. И знаешь, что он им ответил? Я могу процитировать его слова наизусть, во всяком случае, так, как они записаны в бумагах, которые показывали нам с Федониным.
– Ну-ка, ну-ка, – навострил уши приятель.
Я не мог ничего забыть, слишком впечатлили меня фразы, которые однажды я сам прочитал с дрожью в душе. Наверное, также с дрожью в голосе я и повторил приятелю:
– «Вы предлагаете мне побег, и это в то время, когда у нас на глазах расстреливают невинных. Я никуда не уеду, на моей груди Крест Спасителя, и он будет укорять меня в моём малодушии. Хочу спросить и вас: почему вы не бежите? Значит, вы дорожите своей честью больше, чем я. Знайте, я совершенно чист и ни в чём не виноват перед своей Родиной и народом».
Валерка не сводил с меня глаз.
– Слушай, он и про крест тот самый упомянул?
– Если я ошибся, то только в перестановке отдельных слов, но не думаю, – перебил я его[2]. – Чуешь одержимость этой личности? Он явно шёл к своей финальной цели сознательно. А его роль в заговоре?.. Пока дело из архива не получим, повременим с выводами.
– Но приговор-то есть?
– Наверное. Я же говорю, заглянем в дело, будет ясно всё наверняка.
– А с Иосифом ему, значит, так и не выгорело?
– Мне представляется, это стало последней точкой в деятельности архиепископа Митрофана, после чего он и был арестован. Одержимый этой идеей, Митрофан, досаждая властям, допекал их прошениями разрешить провести 11 мая теперь уже 1919 года торжества в честь митрополита Иосифа и пропустить верующих астраханцев в Кремль к гробнице священномученика.
– Слушай, Данила, ты шпаришь по-ихнему, как будто всё время только этим и занимался.
– Поживи с моё. У меня мозоли на глазах и пальцах от этого дела.
– Воздастся. Не гневи.
– Ты прав, мой друг, слишком заноситься грех, и вот здесь, – с важным видом поправился я, допивая чай, – я и попался. 11 мая – это дата уже тогда ушлав прошлое. Старый календарь канул вместе с династией Романовых. Архиепископ Митрофан наметил освящение Иосифа провести 24 мая. Это по новому, то есть по нашему, стилю. Ему напрямую не отказали, но 23 мая, словно ненароком военные издали распоряжение о полном запрете каких-либо богослужений в Успенском соборе, а также, словно забывшись, запретили вход верующим в сам Кремль. Архиепископ пустился на хитрость и перенёс осуществление торжеств в Знаменский храм, что был построен как раз в ознаменование освобождения Астрахани от разинцев, казнивших митрополита Иосифа.
Валерка раскрыл было рот в вопросе, но я его перебил.
– Не спрашивай. Знаменского храма или церкви, как говорят в народе, ты нигде у нас не найдёшь. После революции уже к тридцатым годам её уничтожили, их вообще сровняли с землёй столько, что сосчитать составит большого труда. И не спрашивай меня, откуда мне это известно. Ладно?
Валерка только губы поджал.
– Затеяв всё это, конечно, Митрофан опять рисковал. Но главная трагедия, о чём он не догадывался, могла произойти спустя несколько часов. Когда верующие с ним во главе крестным ходом подошли к Кремлю, их встретила рота солдат с пулемётами. Был отдан приказ стрелять, и только чудо спасло жизнь архиепископа.
– Значит, всё-таки произошло чудо! – не удержался Валерка. – А как же крест? Как он выглядел? Что о нём рассказывают те, кто его видел?
– Разное. Но о крупных алмазах, бриллиантах, других особых выкрутасах церковнослужители не упоминают. Собственными глазами видевших и живых пока не удалось установить. Была надежда на бабку Ивелину – Толупанову Ивелину Терентьевну, но, увы, Павел Никифорович просчитался. Она вначале расхвасталась ему сгоряча, что собственными глазами видела этот крест на груди Митрофана, но когда тот начал уточнять у неё про камни, алмазы, другие детали, старушка засмущалась и покаялась, что со слов мужа расписывала диковинный крест. Правда, она назвала одного крамольного богослова, который жив и уж точно этот крест близко видел, так как дружен был с отцом Митрофаном, но фамилию запамятовала. Придётся мне к ней ехать и допрашивать дополнительно, она намекнула, будто муж её записки какие-то делал, тетрадку прятал, чтобы не отобрали, а умирая, ей передал. Обещала отыскать.
– А чекисты?
– Я ж тебе говорю, Федонин намекнул, у Петровича, кажется, неприятности появились на этой почве. Во всяком случае, Игорушкин подписал запрос только после возбуждения уголовного дела. В Москву звонил, консультировался. С этим у нас, чую, будут проблемы.
– Я ничего не понимаю! – дёрнулся было Валерка.
– А тебе и понимать нечего. Мы с тобой не на лекции в клубе. Я тебе разве что-нибудь говорил?
– Убедительный ликбез, нечего сказать, – хмыкнул мой приятель. – Собственно, а на что я надеялся? Вы сами с Павлом Никифоровичем недалеко от меня ушли. Я понял: до истины вам ещё копать да копать.
– А тебе враз всё подавай?
– Как же Митрофан в заговорщиках оказался? В этом хотя бы у вас ясность имеется?
– Собственно, такой задачи перед нами и не ставилось. Это всё Павел Никифорович на меня взвалил – расчистить, как он выразился, исторический фон, иметь полное и объективное представление о произошедших событиях. Чтоб легче было выполнить главную задачу – попытаться добраться до пропавшего креста. К слову сказать, всё начиналось с прокурорской проверки, дальше цель не ставилась, но обстановка, как на фронте, внезапно осложнилась. Теперь уголовное дело нами возбуждено, появятся оперативные возможности и другие процессуальные рычаги… Я думаю, попытаемся добыть её величество – матушку истину.
– А что же Митрофан?..
– Ты о заговоре?
– Ну да?
– Определённо известно следующее. После того чепе, когда была обстреляна мирная демонстрация верующих, шум, конечно, пошёл. Но пострадало мало, а раненых кто считает? Однако архиепископ попал в чека на заметку уже по-серьёзному. Кировым перед чекистами была поставлена задача очистить город от врагов и всех подозрительных, так как белые были на пороге. Накануне, в марте, в городе действительно было подавлено восстание, вызванное сокращением хлебных пайков для рабочих, бушевавший тиф осложнил обстановку. Последовали массовые казни. Расстреливали в Кремле, прямо у стен. Не считались ни с кем, особого следствия не проводили. Обстановка была накалена до предела. Знал ли об этом Митрофан? Конечно. После подавления восстания он отслужил панихиду и осмелился назвать погибших невинно убиенными. Его проповедь не осталась без последствий, через десять дней после расстрела крестного хода у Кремля, седьмого июня в канун праздника Святой Троицы архиепископ совершил службу в Троицкой церкви и после службы остался ночевать у настоятеля этого храма. В первом часу ночи за ним пришли вооружённые люди, и он был арестован. Больше его на свободе не видели. Только через месяц, шестого июля в большом зале горисполкома на чрезвычайном объединённом собрании большевиков, членов Реввоенсовета председатель особого отдела Атарбеков объявил о разоблачении заговора. Заговор получил название «цианистый калий», потому как Атарбеков сделал заявление, что враги предприняли попытку отравить ядом Реввоенсовет и весь командный состав 11-й Красной армии. За два дня, с первое на второе июля, был арестован шестьдесят один человек, среди них в качестве главарей Атарбеков назвал архиепископа Митрофана и епископа Леонтия.
– И того взяли?
– Леонтий был арестован вместе с Митрофаном, также почти месяцем раньше, и на следующее утро уже весь город говорил об их арестах. К Атарбекову направилась толпа верующих с ходатайством об освобождении. Тот пообещал, потом передумал… отказал, начал грозиться, что арестует и самих просителей…
– Погоди, погоди! – Валерка сбросил одеяло и чуть не вскочил на ноги. – Эти два главаря месяц сидели в тюрьме, а арестовывать остальных начали через месяц? И только потом объявили о заговоре! Ты ничего не перепутал со временем?
– Заметил числа? А ведь я не зря их называл. Вот в этом ещё одна нелепость и на наш взгляд. Конспирацией эту глупость не назвать. Наоборот, мысли разбегаются. Одним словом, без материала того архивного дела, что в КГБ хранится под семью замками, похоже, задачи нам не решить. Георгий Александрович Атарбеков скелет спрятал в своём шкафу так, что не достучаться…
Верите – нет, не успел я этих слов досказать, из-за наших спин, с самой темени речки и береговых кустов метрах в пятидесяти вой волчий к нашим ушам дотянулся. Тихий совсем, словно прощавшийся, и всё смолкло. Мы так и замерли у костра, друг на друга уставившись, словно проверяя, не почудилось ли обоим, чтобы в дураках не выглядеть.
– Ты слышал? – выдавил из себя Валерка.
– Не глухой.
– Достали меня эти твари.
– Собаки, думаешь?
– А чёрт их знает. Теперь уже и не знаю, что сказать… Главное, только ты про Атарбекова начал, им выть вздумалось…
Глава XI
Полночь властвовала нал кладбищем во всей своей пугающей мрачной темноте, когда лопаты землекопов застучали по крышке гроба.
– Добрались? – заглянул Донсков внутрь разверзнутой могилы и крикнул громче. – Сейчас верёвки бросим, вяжите гроб крепче, чтобы не перевернуть. А то…
– А то чего? – донеслось из-под земли. – Мы привыкшие. А ему уже хуже не станет.
– Ему может быть, а мне достанется. Родственники пронюхают, мне погон не сносить.
– Легче плечам, – нашёлся в могиле шутник.
– Гришка, ты делай, что тебе говорят! – нагнулся к могиле и Гремыкин.
– А выпить будет?
– Будет, будет, – терпеливо подтвердил Донсков, вытер взмокший лоб, измазал лицо глиной, но никакого внимания на это не обратил. – Вы, братцы, только дурака там не валяйте. Посерьёзнее, ей-богу. Огня ещё не надо?
– Хватит одного фонарика.
– Может, сменить кого?
– Командуй наверху, капитан. Пусть тащат. Мы отсюда подмогнём.
Гроб вытащили.
– Зря вы затеяли всё это, – опять забурчал над ухом Донскова юрисконсульт. Мухина или знобила прохлада, или страх пробивал, он не отходил от капитана. – Разве можно верить словам дурачка? Прав Гремыкин, полоумный такое наговорит! Вам за всё отвечать придётся.
– Теперь уже поздно, – скрипнул зубами Донсков.
Гроб поставили на едва приметную ровную дорожку между двух оград. Фары двух машин – «воронка» и медицинской упёрлись в бархат длинного страшного ящика. Мухин придвинулся к Дарье и едва успел подхватить её под руки, толстушка закачалась, закатила глазки и рухнула, если б не он.
– У врачей нет ничего? – крикнул Мухин, едва удерживая бесчувственную женщину. – Да помогите кто-нибудь! Тяжёлая тётка!
Два милиционера и Дыбин бросились к нему, сунулся было и Гремыкин, оба санитара, но Дарья белками глаз заворочала, приходя в себя, повела плечами, окрепла, утвердилась на ногах и оттолкнула Мухина, выбираясь из его объятий:
– Будет уж. Что же лапать-то!
– Дарья Михайловна!..
– Сорок лет Дарья Михайловна, – отмахнулась та. – Разве так можно? Я вам что?..
Милиционер помоложе прыснул, Дыбин фыркнул на него, Мухин смущённо потеснился к Донскову.
– Нам вылазить? – крикнули из ямы.
– Куда? – гаркнул вниз Донсков. – Копайте ещё, ребятки.
– Чего ж тут? Тут пусто!
– Копайте, я сказал!
– Да что ищем-то? Известное дело – одна земля.
Луч фонарика запрыгал в яме, обшарил углы.
– Клад какой?
– Твёрдая? – заглянул вниз Донсков.
– Мягкая пока.
– Копайте, братцы, копайте, пока твёрдая не пойдёт, – крикнул Донсков, скривился и обернулся к оперативникам. – Мужики, прикурите мне кто-нибудь сигаретку. Рука в глине.
Пока Дыбин, сам не курящий, обшаривал взглядом оперативников, с сиденья машины медиков спрыгнул эксперт Глотов и подал пачку сигарет:
– Юрий Михайлович, у меня «Шипка».
– Давай, Вячеслав. Давно тут?
– Минут двадцать как подъехали. Твои подняли. Что ищем?
– Не догадываешься?
– Подозреваю.
– Многое бы я отдал, чтобы тот придурковатый не наврал.
– А они не врут.
– Ты уверен?
– Наука. У полоумных мозг в этом плане совершеннее.
– Дай-то бог, – затянулся Донсков сигаретой, и лицо его потеплело не то от табака, не то от заверений медицинского эксперта. – Не сносить мне головы, если ничего не найдём.
– Прямо не знаю, что и ответить, – Глотов прищурился и усмехнулся. – Не уверен, что лучше.
– Мудрый ты человек, Вячеслав, – покачал головой Донсков с кислой гримасой. – Возьмёшь в санитары, когда Максинов погонит?
– Спирта не хватит, – отказал эксперт. – Нам теперь только руки мыть и дают.
– Есть! – дико вскрикнули в яме.
– Что? – выплюнув сигарету, бросился туда Донсков. – Что есть?
И сам, не дожидаясь, спрыгнул вниз, подсвечивая себе фонариком.
– Мягкое здесь, товарищ капитан, – уже тише сказал мужичок, которому грозился Гремыкин. – Похоже, тело тут… труп.
Донсков посветил в том направлении, куда указывалось, и привалился спиной к стенке могилы: среди комьев и песка ясно проступала человеческая рука, голая до локтя. Остальное было завалено землёй.
– Санитаров надо? – спросил он мужичка, присевшего рядом, второй отвалился к другой стене.
– Водки бы, – поморщился тот.
– С собой нет. Но вытащите, как раз привезти должны. Я слово держу.
– Это когда будет…
– Ну что, кликну я санитаров? Глотов привёз двоих. Подменят вас.
– Чего уж… – махнул рукой мужичок. – Людям пачкаться. Они небось в халатах?
– Чего?
– В халатах, говорю, санитары-то?
– Не знаю. Наверное.
– Ты скомандуй, капитан, чтобы брезент нашли. Мы скоренько, – и мужичок подтолкнул Донскова наверх.
– Брезент давайте, – крикнул Донсков Глотову, когда его за руки вытащили из могилы. – Может, тут и глянешь трупик, Вячеслав? Что там? Живого-то не бросят?
– Как знать, – пожал эксперт плечами. – Я гляну. Только предварительно. Остальное при вскрытии. Сам понимаешь, а то до утра провозимся.
Дыбин протянул капитану новую сигарету, Донсков затянулся со сладостным умилением на лице, блаженно улыбнулся лейтенанту и подмигнул:
– А ты о футболе мечтал… Понял, в чём счастье сыщика?
– Бороться и искать. Найти и чтобы не стошнило, – выпалил тот.
– Вот именно. Правильно мыслишь, лейтенант.
– Это как раз для капитанов, – заулыбался сообразительный Дыбин.
– Отнюдь. Это и для майора подойдёт, – подмигнул Донсков.
Подняли наверх тело в чёрном брезенте. Подтащили к гробу, место позволяло. Все расступились, не отваживались открывать. Дарью, еле державшуюся на ногах, милиционеры попробовали увести к машине, но та не давалась. Гремыкин стоял настороже, но уже жался к машине медиков, Мухин опять не отходил от Донскова.
– Вы её оставьте, возможно, опознавать понадобится, – бросил оперативникам Донсков и улыбнулся толстушке. – Как? Есть ещё порох в пороховницах?
Та отвернулась, приметила Гремыкина, к нему прижалась.
– Вас вытаскивать? – обернулся капитан к яме. – Или сами выберетесь?
А эксперту махнул рукой – начинай, мол, однако из могилы не отвечали.
– Вы чего там? – наклонился Донсков. – Не уснули, братцы?
– Михалыч! Тут ещё один, – подал голос тот, из шутников, по имени Гришка.
– Ё!.. – вылетело у обомлевшего капитана, и он присел на корточки. – Вы чего там!.. Раскопщики хреновы!
– Ещё один, Михалыч! И тоже мужик!
Глава XII
И всё-таки, несмотря ни на что, удалось нам и поспать под утро. А когда искупались на зорьке и лёгкой зарядочкой на берегу разогрели молодецкие тела, мрачные приключения совсем забылись. Вспомнили о них только когда к сетке своей спрятанной сунулись в заветный заливчик. Не нашли её. Ни черти, ни волки, а какие-то двуногие вырвали её со всеми потрохами, а может, и рыбой. Остались на берегу следы грязных босых ног. И снастей своих мы лишились, которые под корягами караулили. Здесь уж точно плакали наши сомы и сазаны. Следы виднелись и тут. Большие для подростков. Не менее двух человек. Но и от этих никакого толка с точки зрения криминалистики. Сплошь грязь.
На работе Федонин поднял меня на смех, когда я ему про волчий вой поведал.
– Выпили с дружком? – насмеявшись, посерьёзнел он. – Вот вам и привиделось.
– Сатана – не сатана, а сеточка и снасти приказали долго жить. Теперь таких и на Больших Исадах не найти. Подарили друзья, когда к вам сюда провожали. Там спецы по этому делу. Жаль.
– Ловцы испокон веков, – покивал, соглашаясь, старший следователь. – Бывал я в тех местах. Славная там рыбалка. Ну что ж? Это тебе в назидание, чаще их наведывать станешь, может, снова обломится. А наши городские – ребята хваткие; что плохо лежит, им спать мешает. Оторва. По своим-то скучаешь?
– С вами заскучаешь…
– Ты прав. Мне ночью знаешь кто звонил? Я ведь и тебя чуть не разбулгачил, но на часы глянул, очухался.
– Я ж в это время на речке за нечистой силой гонялся.
– И Донсков мне про ужасы трезвонил. Почище твоих.
– Юрий Михайлович? Ему-то чего не спалось?
– Два трупа откопал на кладбище. Тамошние работники между собой поссорились. Чего уж не поделили? Видать, дармовые деньги, которые с родственников умерших гребут. Боком оборачивается им халява, нажитая на покойниках. Донсков предполагает, что могильщики перепились и прибили охранников. Заметая следы, в приготовленную могилу с ночи бросили оба трупа, присыпали, а уж днём, как ни в чём не бывало, опустили в могилу гроб. Умников бы не нашлось, чтобы разнюхать, да кладбищенский дурачок-побирушка приметил и ребяткам Юрия Михайловича открылся.
– Задержали злодеев?
– Да где ж! Лишь шум пошёл, они дёрнули. Трёх человек не досчитались из могильщиков с самим бригадиром.
– А чего это Юрий Михайлович к вам прицепился? У нас вчера Зоя Михайловна Зинина дежурила по аппарату. Она, кстати, и специализируется по убийствам. Ей и выезжать.
– Одного охранщика, пожилого старичка, враз опознали местные работники. Сначала собаку его нашли, тоже убитую. С собаки всё и началось. А вот со вторым трупом закавыка вышла. Никто его никогда не видел. Представляешь? На кладбище? Среди своих вдруг чужой оказался!
– Ну?
– Вот Донской и вспомнил про нашего пропавшего Дзикановского. По возрасту вроде подходящий. Ростом тоже – высок. Худощав. Хотел уточнить насчёт особых примет.
– Кто ж его видел? Юрий Михайлович что-то попутал. Я ведь производил осмотр тела приятеля пропавшего – Семиножкина. А приметы?.. Нет. Я не помощник.
– У меня на днях была вдова на допросе. Я пробовал её пытать насчёт личности этого товарища. Но она не в себе была. От смерти мужа ещё не отошла. Ничего толком не рассказала. Ты вроде с соседкой Дзикановского встречался? Она ничего не поясняла?
– Худощав. Выше среднего. Интеллигентное лицо. Бородку носит. Без очков. Вот вкратце, что она могла сказать про нашего поэта.
– Поэта? Да какой он поэт! Серафима Илларионовна мне рассказывала, что Аркадий Викентьевич Дзикановский несостоявшийся врач, баловался литераторством, правда, книжек не издал, пробовал себя ещё в артистах… Однако последнее время пришлось ему работать фармацевтом не то в аптеке областной, не то на базе облздравотдела.
– Забавно. Соседка его, достаточно сохранившаяся особа, как это?.. Бальзаковского возраста?..
– Есть такие дамочки.
– Вот она и рассказала мне, что красавец наш бородатый стишки ей почитывал, увлекался Блоком, сам писал и грозился ей посвятить целую оду.
– Многосторонняя личность, – покачал головой старший следователь. – Тебе следует внимательнее им заняться. Если прибавить к этому, что подружился он с Семиножкиным на почве общей страсти к коллекционированию икон, картин на библейские темы и другого церковного раритета, то вырисовывается фигура неординарная. Тебе не кажется?
– Вдова расписывала свои страсти, увлечения поэтами Серебряного века, живописью; послушать её, так она всё свободное время на этюдах проводила, а я в квартире ни мольберта, ни кистей, ни одного рисунка её не заметил.
– Богема… – протянул Федонин. – Они больше мечтают, чем делают. Послушать их, так… Ко мне пришла, я ей чайку предложил, больно уж у неё личико показалось мне бледноватым. Она перчатки с локтей стянула и машет так… ну чуть жива! Я за валидолом сунулся, держать начал для своих клиентов с некоторых пор, а она кофе попросила.
– Нашлось?
– Нашлось. Моя пузатая клиентура приучила, они без кофе не могут.
– Расширяешь кулинарный кругозор, Павел Никифорович? – прыснул я. – Правильно, а то попадёшь впросак.
– И попал. С этой Семиножкиной. Она после кофе, хотя и не пила почти, папироску попросила.
– «Беломор»?
– А других нет.
– Сигареты заведи.
– Ладно тебе. Меня, конечно, покоробило, но сдержался, слова не сказал, а она, закурив, аквариум мой приметила, будто как вошла и не видала, ну и защебетала: «Ах, Анри! Ах, Анри! У вас прямо Матисс!..»
– «Красных рыбок» вспомнила, – буркнул я, усмехаясь (у меня Очаровашка без ума от импрессионистов, ну и я поднаторел).
– Вот, вот, – хмыкнул Федонин. – Она тоже про этих рыбок заикнулась. Ну а я сразу завёлся, начал ей про своих, которые в воде плавают, что они едят… какой уход требуют… собрался разговорить вдову…
– А она?
– Она улыбаться начала. И такая, знаешь, снисходительная улыбка у неё! Я по лицу характер не спец угадывать. Сейчас увлечение пошло. Гадать по роже.
– Физиогномика.
– Точно. Я не признаю. Блуд самый настоящий. Но когда ущучил её взгляд и в лицо всмотрелся… а ведь гражданка не так проста…
Старый лис во всей своей красе наслаждался этим открытием, заново переживая, его лицо преобразилось. Но я язык прикусил, не часто он откровенничал, а потом обидчив; нет, лучше не задевать.
– Тронула она вас своей красотой, Павел Никифорович. Чего уж там, – отшутился я. – Признайтесь, захотелось сбросить годков эдак двадцать?
– Сложная натура эта Серафима Илларионовна, – будто не слыша меня, продолжал Федонин и за портсигаром потянулся. – В нашей истории с алмазным крестом архиерея она не последняя скрипка. Скрытная чересчур.
– Её место одно из центральных – вдова убитого, – буркнул я.
– Не приходится спорить, только и здесь сплошь недоразумения, – поморщился старший следователь. – Со своими тайнами, похоже, покойничек с ней особенно не делился. И про сейф она якобы ничего не знала, и про крест этот чудодейственный ни слуху ни духу. Сомневаюсь я, что такая красавица своими прелестями не могла растопить душу скупого рыцаря. А не интересовать её это не могло. Личность страстная, только упрятана она за семью замками. Я у неё клещами вытаскивал информацию на Дзикановского. А она переиграла, с отчеством заминку изобразила.
– С отчеством?
– Аркадиком его всё время называла, вроде как мальчика на побегушках. Своего, покойника-то, постоянно Дмитрием Филаретовичем, ну князь, да и только! А этого, как гарсона. Ну я её и спроси про отчество. А она глазки закатила, задумалась, вспоминать начала…
– Врала.
– Лукавила, но так тонко. И переиграла. Тоже, наверное, брала курсы у какого-нибудь Станиславского. Или пробовалась в водевили.
– Мне Донсков передал, что их соседка, Матрёна Бокова, про эту парочку думает.
– Юра со мной тоже поделился. Вот я на неё тогда и взглянул по-иному, но вида не подал, думаю: пой, птичка, пой. Про род его занятий совсем почти забыла. Стал я её допытывать, за какие грехи его из врачей попёрли, так она понесла несусветное…
– Это чего ж? Очень интересно. Я, знаете ли, когда осмотр делал, в её комнате большое количество зеркал приметил.
– Ты же сам её внешность отмечал. Почему бы женщине не полюбоваться на себя лишний раз?
– Так-то оно так. Но больно уж чрезмерным показалось мне их количество. К тому же ни одно не прикрыто материей. При покойнике у нас завешивают. Я у соседки, старушки богомольной, поинтересовался насчёт этого. А она мне не ответила, только фыркнула хуже злой кошки и на вдову скосилась. Ей, я понял, самой не по нраву. Бабка носом повела, не она, мол, здесь хозяйка, а сама по углам крестится.
– Это ты к чему про зеркала-то?
– А чёрт его знает! Я Толупанчика спросил, а тот у бабки своей. Ивелина Терентьевна тоже враз закрестилась, обругала внучка и сказала, что открытые зеркала – большой грех, они вроде накликают нечистую силу.
Федонин на меня глаза вытаращил, рот открыть никак не может.
– Зеркала – это вроде канала общения одного мира с другим, если на современный язык перевести – с потусторонним.
– Чего ты несёшь! – наконец прорвало его. – Что за бред? И это я слышу от!..
Он задохнулся от возмущения.
– Вы меня тоже придурком-то не считайте, Павел Никифорович, – прищурился я. – Я ведь обидеться могу. Мне что старые люди говорят, то и я вам повторяю.
– Да разве до такого можно додуматься?
– Здесь сектантством пахнет! Вот куда я клоню. Неужели вы меня… за дурачка считаете?
– Сектантство? – он вроде начал отходить, лицо с красного к нормальным оттенкам возвращаться стало. – Нет. Откуда ему быть? Семиножкин глубоко верующим человеком был. Вон икон сколько в квартире! Сам рассказывал. Разве он потерпит?
– А в её комнате икон не было. Обходилась без них вдовушка. А Семиножкин мог и не догадываться.
– Такой зрелый мужчина? Нет. Глупость.
– А может, и стал догадываться после женитьбы, а потом уже поздно. Почему он не доверил ей своих тайн? Сейф-то прятал от жёнушки!
– Ты её подозреваешь?
– А вы?
Федонин за ухом почесал, задымил «беломорину», задумался.
– Я женщинам, особенно красивым, да к тому же моложе возрастом, никогда не верил, если даже глазки строили.
– Неправда. Ваша Нонна… – начал я.
– Свою в расчёт не беру. Особый случай. А вот насчёт твоей версии?.. Она, конечно, не нова, мы её, помнишь, сразу не сбрасывали со счетов, а сейчас она пробиваться наружу стала. Я тебе скажу – вполне вероятен союз двух молодых за спиной старика Семиножкина. Поэтому я команду Юрию дал; за квартиркой вдовы уже следят. Так, на всякий случай, но пока ничего особого замечено не было. А вот то, что Серафима Илларионовна темнит, я тоже подметил.
– Интересно?
– Про причину его увольнения из больницы пытаю, а она начала, как ты, ахинею разную нести, мол, юношескую ошибку ему припомнили, он ещё в студенческую пору необычным увлекался, эликсир молодости какой-то мечтал добыть, даже опыты над сокурсницами делал, за что чуть не вышибли.
– Все мы этим страдали! Ахис мунди, – вырвалось у меня.
– Чего? – не понял Федонин.
– Я так. Это скорее понятие, чем объект.
– Нет, уж ты снизойди до меня, глупого, раз латынью заговорил.
Тон старшего следователя был соответствующий, я, конечно, дурака свалял, надо было держать язык за зубами, нечего выпендриваться явно излишними знаниями, но назад дороги были отрезаны оттопыренной обиженной губой старого лиса.
– Алхимическое золото, вечный двигатель, эликсир молодости – пуп земли, вокруг которого человечество испокон веков нос водило, всё пытались найти, а не удалось. И сейчас умников хватает. Буквально – ось мира.
– Вот за эту ось ему и доставалось всё время. Только начал врачевать наш Аркадий Викентьевич, удумал гипноз применить на одной из своих пациенток. Да так, что та чуть не окочурилась. А ведь терапевтом был!
– Слава богу, не хирургом.
– Но сколько нервов мне стоило, чтобы от неё правды добиться!
– А зачем от неё? Я в больницу схожу. На прежнее место работы. Или уж в облздравотдел. Личное дело-то сохранилось. Аркадий Викентьевич интересует нас всё больше и больше. Если у него в детстве неординарные помыслы были добыть такое, о чём мечтало человечество ещё с дней Средневековья, то, прослышав об алмазном кресте архиерея Митрофана, он бы с ног сбился, а свою мечту постарался б исполнить.
– Вот-вот, – будто только этого и дожидался старший следователь, усмехнулся мне и ненароком добавил: – Ты, Данила Павлович, вообще займись его личностью. Глубже, так сказать, прокопай. Чую я, скоро нам это очень понадобится. Больно уж Аркадий Викентьевич долго от нас бегает. Пора б ему и появиться.
– Объявится. Мужчина тонкой психологии, без женского пригляда, ласки и заботы ему не справиться. Серафима Илларионовна не такая особа, чтобы её забыть.
– И с опознанием нам следует подумать, – не дослушал моего глубокого философствования старый лис. – Ты, Данила Павлович, раскинь умишком, кого туда свозить?
Я поздно включился, глаза на него вскинул:
– В морг-то?
– Сам понимаешь. Я сегодня занят буду. Змейкин опять меня беспокоит. Из тюрьмы звонили – жаловался он начальнику, следователя, то есть меня, просил. Видно, проснулась совесть у злодея, хочет пооткровенничать. Я до вечера им заниматься вынужден.
– Славненько. У меня тоже планы были. А может, старшему следователю Зининой всё-таки перекинуть дело об убийстве этих двоих мазуриков на кладбище? Вы бы поинтересовались у Колосухина, Павел Никифорович. Она бы и произвела опознание. С чего бы это нашему интеллигенту, тайному магу, поэту и любимцу женщин на кладбище оказаться? Его если и найдем где, то по меньшей мере в гробнице фараона.
Федонин не мог переварить такой наглости, он минуты три меня взглядом по земле укатывал, пока его самого не пробило:
– Это ж надо к Игорушкину идти! – сощурился и раскраснелся он. – Боюсь, он уже оперативку сел проводить с начальством. Колосухин ко мне заглядывал, туда спешил. А оперативка, сам знаешь, хорошо, если к обеду разойдутся. Нет уж, Данила Павлович, готовься сам. Думаю, Донсков с минуты на минуту трезвонить станет. Он меня ещё вчера предупредил.
«Вот оно как, – покосился я на Федонина, – старый лис уже давно всё решил с этим опознанием. Меня он только приглаживал, подготавливал. А раз так – не вырваться из его цепких лап. Придётся топать в морг».
Из всех подсобных учреждений, помогавших и мешавших сыщикам и следователям, морг был для меня самым несимпатичным. Тяжело начинался понедельник: накануне ночь с причудами и почти без сна, все на нервах, утреннее ревю с двумя трупами, вытащенными из-под гроба покойника и вот ожидаемое свидание с пунктом назначения, которого не миновать в конце концов никому. Я с тоской закурил вторую уже сигарету, подошёл к аквариуму с беззаботно резвящимися безмозглыми существами; одна крупная и противная, с отвислым брюхом, золотым хвостом и хищной пастью бросилась к стеклу мне навстречу. Неужели ей и меня захотелось попробовать на вкус?
– Павел Никифорович, всё забываю спросить, они у вас хищные особы?
– Были травоядными всё время, – с сомнением, как мне показалось, покосился он на меня. – Это ты про ту, что тебя пожирает глазищами?
– Угу.
– Про эту не знаю. Червей жрёт.
– Ага!
– Она и на меня глаз положила. Как-то кормил, за палец тяпнула.
– А бывает, чтобы они перерождались?
– А кто их знает? Если уж на кладбище могильщики добрались друг до друга, что с этих, младших наших братьев, взять?..
Философ у нас старший следователь, ничего не скажешь, у него каков вопрос, ещё чище ответ. С блокнотом вокруг него ходить следует, он, кстати, уже однажды мне советовал.
– Кого же на опознание вести? – отвернулся я от рыб. – Вдову трогать опасно, как бы с ней приступ не случился, она женщина чувствительная. Как у Дзикановского насчёт родственников?
– Донской мне докладывал, что у него отец жив. Правда, старичок совсем чудной. Он утром в засаду к капитану нашему вляпался, молодые помощники его сцапали, когда наведать сына притопал. Юрий мне рассказывал, тот еле дошёл, с виду-то ему лет сто, а сам трубку курит. Вот гвардия!
– Гвардия погибает, но не сдаётся.
– Вот и дед чуть концы у них на руках не отдал. Прямо на пороге, где они его напугали, так и грохнулся. Но ничего, отдышался, на машине его Донсков домой отправил.
– Вот и грохнется он у меня. Второй раз третировать слабую нервную систему? У нас уже имелись инциденты: Семиножкин хлопнулся…
– Ну с Семиножкиным разобрались. Там без коварной руки не обошлось.
– А вдовушка на сутки отрубилась?
– Это было.
– Третий случай может стать роковым.
– Согласен. Опознание – это вещь… Я по молодости когда начинал… в сороковых. Помню как сейчас, допотопный погреб был за больницей. Туда их и складывали, мазуриков. Я страх как опасался и на сто метров к этому погребу приближаться. Как вспомню – в глазах ноги худые и синие… и почему-то всё время торчат ногти перекрученные. Кажется, что растут и растут, как на живых. Я раз не отвертелся, пришлось идти туда и, представь себе, сам упал. Когда уже оттащили, пришел в себя, спрашиваю доктора: «У них что же, растут ногти на ногах?» Тот кивает: «Бывает, процесс продолжается».
– Павел Никифорович, – сплюнул я с досады. – Вы что? Специально надо мной издеваетесь? Думаете, мне в радость?
– Что ты! – Федонин даже из-за стола выскочил и ко мне на своих стоптанных, пританцовывая, заторопился. – Я вот всё переживаю, а не взять ли тебе соседку Семиножкиных?
– Соседку? Эту старуху-то, что себя не помнит? Ей же всякая чертовщина виделась!
– Не скажи. Вора она точно приметила. Никакой там фантазией и не пахло. И сейф под картиной ей удалось отыскать. Глазастая бабушка. Она, кстати, сильно верующая, а для таких покойник всласть, они к ним, не как мы, атеисты. Они с понятием…
И тут зазвонил телефон…
Глава XIII
Я приехал к моргу, и «воронок» прикатил – Юрий Михайлович мастер устраивать представления. Сам несётся навстречу, я уж и заулыбался, хотя не до того было, но он мимо меня проскочил, дверцу «воронка» открывает грациозным жестом дворецкого и руку подаёт. К галантному кавалеру оттуда мадам вся в чёрном. Маленькая и в платочке личико едва уместилось, один носик остренький длинновато торчит – Буратино в рясе, я с трудом узнал Бокову Матрёну Никитичну. Что за праздник у неё? С помощью Семиножкиной, наверное, наряжалась, а ведь должен был предупредить её капитан, чтобы об освидетельствовании вдову не беспокоила.
Проныра недолго изображала смирение и прочие скромные качества, мне не кивнула, мимо пролетела к дверям мрачного заведения, будто опасаясь не успеть.
– А ты боялся, – ткнул меня в бок Донсков, он проворную особу Фоменко уже переадресовал, не успевал за ней.
Мы оба отстали.
– Ей всё нипочём, – поддакнул я. – У меня складывается такое впечатление, что ей не раз уже здесь бывать приходилось.
– Как там Павел Никифорович? Я его приглашал. Не желает, значит, воздухом свежим подышать? Штаны так и протирает в кабинете?
– Ему Змейкина должны привезти. Занят. А ты мне, Юрий Михайлович, извини, анекдот один напомнил своим свежим воздухом.
– Давай. Похохочем.
– Да не к месту вроде.
– Давай. Успеешь рассказать. А то у меня тоже… ассоциации невесёлые возникают.
– Неужели?
– А ты что думал? Я не железный.
– Это хорошо. А производишь впечатление супермена.
– Стараюсь. Ты про анекдот-то не забыл?
– Только не обижайся.
– Нам не привыкать. Милиция и не такое терпела.
К нам тут же лейтенант Дыбин незаметно сзади пристроился.
– Ты делом занимайся, – обернулся к нему бдительный Донсков.
– Пусть послушает, ему тоже полезно.
– Не дразни.
– Авария канализации. Выгребную яму залило до крыши дерьмом. Народ с улицы разбегается. Не продохнуть.
– Живописно, – оценил он начало.
– Ну, понятное дело, приезжает бригада вроде нас. Из машины дежурной выскочили, впереди старший, – я глянул на капитана, – на висках благородная седина, вроде тебя, Юрий Михайлович, за ним сопливый ещё помощник-стажёр.
– Вроде него? – обернулся Донсков на не отстававшего Дыбина.
– Помоложе, – не согласился я. – Совсем зелёный.
Дыбин услышал, подыгрывая, грудь выпятил.
– Ну, возле ямы остановились. Старший резину натянул, кепку надвинул, последний раз курнул и с ключом в дерьмо сиганул. На самое дно.
– Туда? – Донсков, перевернув вниз большой палец – знак гладиатору на арене – и брови вверх поднял.
– Ага, – подтвердил я без улыбки. – Ну, пробыл там, сколько воздуха хватило. Пацан не отходит, дожидается с набором ключей, нос зажимает.
– Вроде этого? – перевёл Донсков палец руки на стены морга.
– Это уж догадывайся сам, – не подал я сигнала смеяться, рано ещё было. – Вынырнул старший. Отдышался, сплюнул. Другой ключ схватил и снова вниз с головой.
– Туда?
– Ага. Так и нырял, пока совсем не вылез.
– Та-а-а-к, – поцокал языком Донсков и на Дыбина оглянулся. – Портишь ты мне молодёжь, Данила Палыч.
– Отдышался слесарь. Дерьмо вниз ушло. На пацана глянул и советует: «Учись, Петька, а то всю жизнь так ключики и будешь подавать…»
Я закончить не успел, Дыбин зашёлся от хохота за нашими спинами.
– Хорошего-то от тебя, Данила Палыч, не услышишь, – хмыкнул Донсков.
– Сам напросился.
Эксперт Глотов встречал нас с распростёртыми объятиями на втором этаже:
– Ещё одного привёз? – спросил он капитана без улыбки.
– Норму выполнили, – не моргнул тот глазом, у Донскова заготовки припасены на все случаи. – Проведать тебя компанию привёз. Встречай Матрёну Никитичну, ну и этого… прокурора.
Мы пожали руки.
– Товарищем с бородкой интересуетесь?
– А что, был уже кто? – насторожился Донсков.
– Да приходил народ. Я не видел. Света меня позвала, но они ушли покурить.
– Что-то я не заметил никого, – Донсков на Дыбина взъелся. – Вот тебе чем заниматься надо, а не анекдотики подслушивать!..
Дыбин растворился, не дожидаясь окончания тирады.
– Сколько их?
– Да я не видел. Вроде двое.
– Я понял! – уже у дверей морга отозвался лейтенант.
– Вот черти! – поморщился капитан. – Проворный у нас клиент, скажу я тебе, Вячеслав Григорьевич.
Глотов руки развёл:
– Здесь разного народа, знаешь, сколько за сутки, Юрий Михайлович, бывает.
– Да я про своих… – поморщился тот. – Что там с нашим? С бородкой который?
– Я его вскрывать начал. Кстати, ты приметами интересовался? Зуб золотой у него в верхней челюсти. И это… Шея повреждена. С позвонками беда, – он махнул рукой. – Сторожа, старичка, я закончил беспокоить. У него то же явление. Похоже, одинаковая смерть наступила у обоих.
– Выходит, скрутил он им головы обоим?
– Вроде того.
– Здоров разбойник, – поднял брови капитан. – Редкий способ убийства. Это каков же верзила сам?
– Борец какой-нибудь. Поддубный, – хмыкнул Глотов и тут же поправился: – Но это предварительный диагноз. Я акты писать ещё не брался.
– И собачку старика также кончили, – пробурчал Донсков, весь сосредоточенный и злой. – Одна рука. Был там громила…
– Вот видишь, как помогает нам медицина, – и я попробовал изобразить сочувствие, похлопав капитана по плечу. – Не горюй, Михалыч, как говорит Павел Никифорович, следочек уже завиднелся, а там ниточка потянется.
– Фамилию бы, – отозвался Донсков и плечами передёрнул. – Всё время удивляюсь, откуда столько сволочи. Он им как цыплятам шеи-то…
– Бородатый у меня на столе, – напомнил Глотов. – Опознание там и проведём?
– Лучше условий не надо, – словно очнулся Донсков и махнул Фоменко, опекавшему старушку Бокову в сторонке на почтительном расстоянии для ушей.
Старлей повёл её первой. Следом наша торжественная и молчаливая процессия. Бокова притихла и совсем ростом уменьшилась. Теперь она не бежала, теперь она сама в руку Фоменко вцепилась, и только буратинин нос из-под чёрного платка торчал.
Процедура опознания коротка, но ужасна. Это чувство – не передать словами. Присутствует ли при этом надежда? Вряд ли. Скорее, кроме ужаса от полумрака, когда вошли в процедурную, ничего. Потом уже Глотов свет включил, но и лампочки радости не придали. Я бы это назвал тягостным ожиданием того, что обнаружится ошибка, что не тот, про кого думали, окажется на столе, что жив он и бегает по травке. Пусть от нас, сыщиков, от милиции, от своей не сложившейся судьбы бегает, но живой всё-таки…
– Узнаёте? – без выражения спросил Глотов и покрывало сдёрнул.
– Он… – прошептала Бокова. – Аркадик наш.
Часть третья
,в которой всеми забытый бывший агент секретной службы Дзикановский Викентий Игнатьевич претендует на роль главного действующего лица, однако тоже становится очередной жертвой таинственных и трагических событий
Глава I
Не объявился на работе Федонин и сразу всем понадобился. С утра Зинина с папироской у рта:
– Что с Павлом?
– Он обычно задерживается минут на десять – пятнадцать, если в восемь в кабинете не сидит.
– Да какой тут десять – пятнадцать! – она нервно часики к глазам. – Что там у вас за дело?
– Тоска.
– А яснее?
– Три трупа, два по теме, а третий приблудный, – почесал я затылок.
– Насобирали!
И след простыл, только струйка дыма за её быстрыми ножками. А на пороге уже Толупанчик:
– Бабка моя его видеть хотела. Что-то ещё вспомнила про деда Константина.
– С тобой не могла передать? Оформил бы её показания протоколом дополнительного допроса.
– У неё всё уважение только к нему. К главному. Я – мелкая сошка.
– Придёт, доведу до сведения.
Колосухин, не заходя, минут через пять по телефону вопросик адресовал:
– С делом-то у вас неладное. Когда докладывать собираетесь Николаю Петровичу?
– Сегодня намеревались с оперативным составом совещание провести. Обсудить план совместных мероприятий, ход исполнения наших поручений милицией. Там без активной работы сыщиков просвета не видать. Лудонина пригласили, Донскова. Ну уж, а после этого…
– На сколько часов?
– Во второй половине дня. К вечеру.
– А почему не утром? Время-то катит, а у вас… – он чуть не добавил: ни коня, ни воза, но наш шеф – человек воспитанный, можно сказать, выбирающий выражения с подчинёнными; я слышал, в войну он в кавалерии служил. Представляете? С шашкой на немца! Вжик! – и нет головы… Это ж какое надо статус кво, я имею в виду самообладание?! Я б не смог, тут котёнок запищит, сердце кровью обливается у всех наших женщин в отделе, а Яшка Готляр, опережая всех, хватает его и на балкон – как же бедное животное исстрадалось!..
Колосухин помолчал в трубку, и я представил – словно по телевизору узрел, как он короткой могучей шеей ломает отутюженный воротничок всегда кипенно-белой рубашки – коронная его привычка в минуты сдерживаемого гнева.
– Лудонин попросил Павла Никифоровича совещание перенести, – героически принялся я выправлять ситуацию (кто же знает, что случилось с Федониным?). – С утра Лудонин у Максинова на докладе. А без него, сами понимаете, какой резон его проводить?
– Если буду на месте, – подумав, подвёл черту заместитель прокурора области, – заходите все ко мне. Проведём у меня. Не возражаете, надеюсь?
Какая деликатность! Попробуй возрази. А ведь совещание у нас – это одно, а при высоком начальстве – это… Старый лис узнает, съест с потрохами. Накомандовал я без него… А Колосухин трубку так и не кладёт, ещё какую-то каверзу готовит.
– Я только что от прокурора области, – наконец неторопливо проговорил он. – Николай Петрович напомнил мне про список, который старшему следователю передал и поручил вам по нему провести определённую работу. Подскажите Павлу Никифоровичу, чтобы подготовился доложить мне на этом совещании об исполнении. Совместим, так сказать, одно с другим.
Значительным и запоминающимся тон был в конце фразы. Что он совмещать собрался?.. «Одно с другим» – это как понимать?.. Три нераскрытых убийства и сегодняшнее опоздание Федонина?.. Виктор Антонович Колосухин известен своим формализмом, во главу угла он всегда ставит дисциплину. Это его любимое изречение – закон и порядок живут только при исполнении. Он, конечно, переделал известную латинскую мудрость, но согласитесь, не придраться. Кстати, что же с самим Павлом Никифоровичем приключилось? Не значился он никогда в прогульщиках. Уж не заболел ли?
Колосухин повесил трубку, а я бросился разыскивать старшего следователя. Первое, что взбрело на ум, не достал ли, не допёк ли его злодей Змейкин? Год почти тот под следствием и половину под стражей восседает в «Белом лебеде». Но успокоиться, смириться, по словам Федонина, не думает. Бузотёривший первые дни, он осмотрелся, обжился в камере и не хуже матёрого уголовника нашёл там ходы и выходы, как ему и на воле удавалось. С чьей уж помощью – рядовых охранников-конвоиров или начальства повыше, словно паук в банке свил такую паутину, что наш старый лис удивлялся его открывшимся новым способностям и порой опускал руки. Премудрый и изощрённый противник попался ему в этот раз. Полным ходом передаёт информацию на волю и сам получает необходимые советы и сведения от друзей и затаившихся сообщников. Уже перехватывались его письма и записки, адресованные ему, находили при внезапных обысках в камере, а не удавалось Федонину пресечь эту связь. Словно не в тюрьме сидел подследственный, а по улицам города шастал и ещё посмеивался, издеваясь. Я был наслышан, что Федонин уже «накопал» бывшему торговому шулеру и ворюге Змейкину на миллион с лишним чистого хищения, а это по меркам нашего отечественного уголовного кодекса на вышку, на расстрельный приговор тянет. Казалось бы, надо и смириться, внять разуму и, как говорится, чистосердечным признанием и раскаянием загладить вину, попытаться смилостивить судей и будущий приговор. И Змейкин поплыл. Вроде на словах остепенился, на допросах даже слёзы находил возможным изображать. Но закончилось всё истерикой, обмороками, а потом арестованный болеть принялся, залёг в тюремный лазарет, а его адвокат тут же накатал Игорушкину заявление с просьбой об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Тамошние медики признали симуляцию. Игорушкин поручил облздравотделу привлечь независимых врачей, привезли тех в тюрьму, они простучали тонкий организм узника, прозвенели его необъятное брюхо, нашли мнение предыдущих коллег безупречным. Змейкин стал строчить в Москву, отказался давать показания, пока его не излечат. Адвокат и он тянули волокиту по одной простой причине – у Федонина заканчивался девятимесячный срок содержания арестованного под стражей, старшему следователю в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом предстояло освобождать его из-под стражи или обращаться с ходатайством о продлении сроков к Генеральному прокурору Руденко, а Роман Андреевич не та инстанция, чтобы направо и налево этим разбрасываться. Там дело сначала изучат асы и зубры, с прокурора области и следователя три шкуры, как говорится, сдерут, а потом будут гадать, так как ответственность за всю остальную судьбу уголовного дела и арестованного обвиняемого на них переложится – продли они срок. Одним словом, возможность, что выпустят на свободу до окончания следствия и суда у арестованного возникает, поэтому есть необходимость покуражиться, цепляться за соломинку – больного изображать. Были случаи в практике и не единожды, когда Генеральный прокурор страны отказывал в продлении; тут же арестованного из тюрьмы освобождали, а вниз по служебной лестнице так же одновременно обрушивалась гроза – искали виновных, наказывали, а порой и не разбирались особенно и просто рубили с плеча направо и налево. Благо, формальный повод всегда найти можно: что это за скорый суд и справедливое возмездие, если следствие годами тянется?! Начальство всегда право, а виновные – под руками. Доставалось, конечно, прежде всего, стрелочнику – следователю. Вот наш старый лис как раз и вступил в эту ответственную пору расследования дела хитроумного Змейкина, когда следует решать: обращаться в столицу за продлением сроков или рубить концы и, не мудрствуя лукаво, заканчивать и направлять дело в суд как есть. Поступи он так, никто б его не укорил; по полной катушке Змейкину и без того светит, но Павел Никифорович сторонник глубины и полной ясности, он… Да что я, Яков Готляр, наш известный аналитик и знаток принципов, как он их сам называл «обычной тривиальной бытовухи», по поводу этих самых принципов Федонина как-то выразился: «Я бы назвал это старческим занудством, если б Пашку хорошо не знал».
Так или иначе, болячек у Федонина хватало, чтобы утром вовремя не появиться на службе, поэтому я начал розыск со звонков ему домой, но в квартире не нашлось даже его приветливой Нонночки Сергеевны; телефон долго не брали и в следственном изоляторе, но там понятно: начальство регулярно затевает обязательный моцион со всем личным составом, начинают обычно рано, но затягивать так называемые «пятиминутки» мастера; в Управлении внутренних дел дежурный сразу чётко ответил, что старший следователь у них не появлялся, в ФСБ не заходил… Я уже начал теряться в догадках, оставил бесполезный телефон, обречённо обхватив голову обеими руками – ситуация становилась тупиковой, как вдруг аппарат подал голос сам.
Нет надобности объяснять моё состояние, когда я услышал его знакомый, слегка хрипловатый басок, правда, тон был странным и с произношением нелады.
– Сидишь? – спросил он.
– Здравствуйте, Павел Никифорович! Вы где?.. Вас здесь!.. – я не особо прислушивался, наоборот, боясь, как бы он не пропал снова, начал орать обо всём, что происходило и что ожидает нас обоих.
– Стоп! – рявкнул он, и мне показалось, что старший следователь не в себе, не совсем здоров, либо чем-то взволнован или язык у него заплетался.
– Ты шума не подымай… Особо…
– Колосухин вас требует, и Петрович спрашивал про список! – всё же выкрикнул я, но уже тормозя свои бурные чувства.
– Вот что, боец… – запнулся он, – сообрази мне машину… только быстро. Давай!..
Знакомо мне это словцо и само это обращение; последнее время нашего совместного времяпрепровождения вокруг этой самой злосчастной проверки заявления покойного Семиножкина старый лис почти совсем перестал употреблять его, видел, как я на это реагирую, хотя я ему ни слова. А теперь оно снова в его лексиконе объявилось. Я молчал, дожидаясь продолжения.
– В гараж спустись. Возьми шофёра…
– Вам «скорую» не надо? – на всякий случай спросил я.
– Делай, что прошу.
– Адрес?
Он так же медленно продиктовал, но у меня всё равно спина похолодела.
«Что ж его туда занесло?» – не переставая, думал я всё время, пока на легковушке зама с Костиком мы неслись по городу к этому зданию. Скажи мне кто другой, ни за что не поверил бы: Федонин звонил из квартиры последнего нашего мертвяка, обнаруженного на кладбище в чужой могиле! Что же могло случиться со старшим следователем, который, бросив все дела, с самого утра притопал в заброшенное логово теперь уже покойного Аркадия Викентьевича Дзикановского?!
Глава II
Капитан уголовного розыска Юрий Михайлович Донсков однозначно относился к совещаниям у высшего руководства. Хлебнув разного на впечатлительной кухне милицейских будней, он, выпускник Саратовского юридического института, не то чтобы не любил их, он их опасался, как провинциальный турист, забредший в джунгли Амазонки, укуса змеи. Не за звёздочки на погонах переживал, хотя ценил каждую и не забывал, когда и за что она досталась. Не за кресло заместителя начальника отдела. Здесь совсем переживать не за что: желающих особо не находилось, когда открылась вакансия. Донсков, объективно оценивавший свои способности, знал, что имеются люди в управлении и в райотделах милиции поумнее его, есть офицеры с бóльшими и возрастом, и опытом. Отпугивала всех эта должность: слишком тяжела была «шапка Мономаха», тем паче всегда торчать приходилось пред очами грозного генерала Максинова. «Уголовка» это не «бэхээсэс» и не «рыбоохрана» или «ГАИ», где показатели можно рисовать, не подымая задниц из конторы, так горько шутили его подчинённые, когда им в пример ставили другие службы. Нашёлся даже умник, песенку сочинил насчёт праздничного парада, когда всех выгоняли вышагивать по площади на глазах областного начальства. Как раз подходящая, поэтому быстро прижилась и распространилась:
Впереди идёт ГАИ — Водку пьёт не на свои. А за ним бэхээсэс — Бабы есть и деньги есть. Следом хитрая наружка — Побирушка и болтушка. Замыкая всё, ОУР — Вечно пьян и вечно хмур.Тревожное чувство беспокойства за свои молодые, неоперившиеся кадры охватывало капитана Донскова всякий раз, когда ожидался очередной разнос наверху. Жёсткий, не имеющий внутренней управы Максинов в гневе был непредсказуем, часто несправедлив и на трибуне неудержим. Даже сам Лудонин, мудрый и опытный сыщик, «последний из могикан», как за спиной шутили, – авторитет для генерала, – и тот старался не вмешиваться, не защищать, не противоречить ему в горячке; только когда начальник начинал остывать, выдыхался, расплескав накал страстей и набор угроз, он тихим рассудительным и как бы извиняющимся тоном зачинал свой буферный, смягчающий акценты, назидательный разбор ошибок и просчётов, допущенных «именинниками». Получался, отмечал для себя капитан, как бы некий диалог доброго и злого, напоминало это известную методу, используемую в уголовном розыске и на следствии при допросах особо запиравшихся, матёрых преступников. Там срабатывало зачастую, и здесь, безусловно, имело усиливающий эффект в воспитательном процессе, однако не всегда всё это заканчивалось миром. Генерал уровень таких совещаний поддерживал из раза в раз: если он брался сам за проблему, значит, должен был найтись виновный, а следовательно, кто-то вылетал со службы. И делалось это прилюдно, позорно, на глазах у всех он лично срывал с офицеров погоны. Младший состав на такие экзекуции не приглашали.
– А без совещания не обойтись? – попробовал всё же найти подходы к Лудонину капитан. – Сейчас у меня в отделе самая горячка. Нам бы денёк-другой, мои люди пахали все выходные, как негры на плантациях…
– Юрий Михайлович!.. – осуждая, глянул на него полковник и поморщился, как от зубной боли. Лудонин, выходец из интеллигентной семьи, с блеском после войны окончивший очно Московский университет, но по зову партии угодивший в «уголовку» на укрепление, не выносил искажений русского языка, его коробило от всяких вольностей, тем более от новеньких, нарождающихся словообразований, коими грешила вёрткая, шустрая, скорая на свои выводы и суждения молодёжь, пришедшая на смену его воспитанной войной, выдержанной старой гвардии, хлебнувшей опыт сыскного дела ещё в военной разведке, в Смерше[3]. Он буквально вздрагивал и терял самообладание, когда слышал их вульгарные и малопонятные: «фуфыря», «кучумать», «шикардос[4]», а то и почище. Уголовный жаргон не признавал, от «фени» подчинённых отучивал, поэтому всерьёз поговаривал с Донсковым открыть в отделе вечерний ликбез по русскому языку. Тем более, что нередко этим грешил и его молодой заместитель.
– Я прошу прощения, Михаил Александрович, – вытянулся капитан, подскочив со стула. – Вы поймите меня правильно, не за себя хлопочу. Не затевает никогда наш начальник таких совещаний для одного разговора. Ему жертва на алтарь понадобится!
Этого уж совсем не ожидал услышать от подчинённого полковник и по-другому глянул на него – не слишком ли тот заболтался! Но Донсков понимал, что говорил, он шёл на крайность:
– Погонит наш генерал моего Семёнова, если дело дойдёт до разбора обстоятельств, при которых тот гостя Семиножкиной упустил. Тем более, что шкета того отыскать не удалось. Я Семёнова посылал и в отдел несовершеннолетних на всякий случай, вдруг на учёте окажется, но пусто. Приметы нужны, а у нас их нет. Так, общий портрет.
– Да, верный провал; тот юноша мог оказаться веским аргументом, чтобы подозревать вдову и строить оперативные планы. Определённо он появился в квартире Семиножкиной с поручением от каких-то лиц, – отвернулся к окну полковник и задумался. – Младший лейтенант Семёнов, кстати, уже имел нарушения…
– Замечания, – тут же поправил Донсков. – Это с прежней службы. Да там, где он торчал, от скуки подохнешь, там для ума никакого интереса. Неудивительно, что молодой и здоровый парень скис. Я интересовался…
– Товарищ капитан!
– У меня к нему замечаний не было.
– Может, это и не его заслуга, а тоже упущение, но только уже ваше?
– Младший лейтенант старается…
– Стараться в школе надо было. В институте.
– Товарищ полковник, – побледнел Донсков и кулаки сжал. – У него получается. А главное – есть призвание к нашему делу. Одно пока мешает, он у нас эстет.
– Кто? – вскинул брови Лудонин.
– Я тоже поначалу думал, что белоручка, маменькин сынок, – заторопился Донсков. – Никак нет. Он, как бы это яснее выразиться, страдает нравственными переживаниями…
– А это ещё что такое!?.
– Фоменко в учебнике судебной психологии нашёл определение. Шутка, конечно. В известной мере. Он у нас чересчур смышлёный… Ну и выдумывает. Но я согласен с Фоменко. Молод Семёнов, воспитан по-другому. А у нас надо время, чтобы привыкнуть, зачерстветь…
– Кто родители?
– Мать искусствовед, музыкант, отец в науке. А он никак не привыкнет к нашим… способам добычи доказательств. В общем, обыски, аресты… кому они по душе?
– Вы, оказывается, нравственник? Ещё добавьте, мордобоя не переносит.
– Ну что вы, товарищ полковник!
– Значит, страдает?
– Ну… – пожал плечами капитан и нерешительно улыбнулся. – Обкатается, конечно. Я по молодости тоже не сразу въехал.
– Выходит, всё-таки въехал? – Лудонин поднялся, вышел из-за стола к окну. – Поздравляю вас, Юрий Михайлович. Да, курс русского языка я всё же начну преподавать в нашем отделе, но попозже. Сейчас повременим. Сейчас надо раскрывать преступление, которое приобретает зловонную форму гнусного гнойника. Генерал решил, что без его радикального вмешательства не обойтись. Вы вовремя это почувствовали. По правде сказать, и Семёнова, и вас спасти может только одно…
– Есть ниточка!
– Есть?
– Чую я.
– Интересно. На чём основана ваша интуиция? Или вы только что её нащупали?
– Врать не стану, – Донсков совсем разволновался, даже лицо запылало. – Мне и этот наш с вами разговор, конечно, помог. А вообще с некоторых пор покоя не давал старик Дзикановский. Этот самый Викентий Игнатьевич… Папочка! Особенно, когда мы его прихватили в квартире сына, подозрения зародились.
– Не совсем деликатное знакомство, я бы сказал: здоровенные громилы хватают тщедушного старца, пугают его чуть не до смерти так, что тот падает в обморок.
– Притворным тот обморок был.
– Есть объективные подтверждения?
– Он таблетку, которую врач наш ему ссудил, забыл, а потом сунул в рот, словно конфетку, и выплюнул, когда я его провожать ходил. Старик так радовался, что легко от нас отделался, даже не обратил внимания, что я за ним наблюдаю.
– Не аргумент.
– И сын его особенно не интересовал. Как о чужом говорил. Врач подтвердил, что никакого обморока не было. Без последствий. Ни давления, ни сердцебиений. Искусная симуляция.
– А факты?
– Мне Семёнов помог докопаться. Младший лейтенант, оказывается, обладает неплохими аналитическими способностями. Когда я его снял с наблюдения за тот провал, нагрузил другим, чтобы дурака не валял и не мучился от переживаний за собственные ошибки, он мне проанализировал все наши злоключения, начиная с отравления коллекционера Семиножкина. Тому, конечно, противостояла группа квалифицированных заплечных дел мастеров – вот его вывод. И я с ним согласен. Криминальные события, следуя одно за другим: убийство, кража со взломом, снова убийство, теперь уже жулика, образуют глубоко продуманную чёткую цель, выстроенную твёрдой рукой умелого злодея. Тот, словно искусный кукловод, дёргает в нужное время за ниточки, и куклы совершают необходимые действия, а он остаётся в стороне.
– И кто же, по-вашему, кукловод?
– Не знаю пока, но уверен, что папаша Дзикановский и есть тот Карабас-Барабас.
– Скоропалительный вывод… Логикой здесь пока и не пахнет. Всё построено на личной неприязни и эмоциях. Не понравился вам Викентий Игнатьевич?
– Крайне несимпатичный тип. Я связался с нашими товарищами в конторе, и знаете, какую они мне выдали на него информацию?
– Надеюсь, по официальному запросу?
– У нас всё чётко насчёт этого, Михаил Александрович. Когда я подводил? – Донсков пригнулся в азарте, он словно шёл по следу предполагаемого врага, подхватил лежащую перед ним на столе бумагу и протянул лист полковнику.
– Запрос в КГБ?
– Извиняюсь, ещё руки жжёт.
– А сведения, значит?..
– Викентий Дзикановский до семнадцатого года служил агентом секретной службы, потом был привлечён новой властью в качестве бесценного, надо полагать, спеца в губчека, числился под началом самого Грасиса. В период отступления заражённых тифом разбитых частей 11-й Красной армии в наш город Ленин, как известно, специальной экспедицией направил сюда Кирова для спасения ситуации от катастрофы на Южном фронте. Естественно, наделил его неограниченными полномочиями. Возглавив Ревком, Киров – политик и партиец, был далёк от криминала и уголовки, а город кишел разного рода отщепенцами: политическими врагами, нелегальным элементом, ворьём. Хватало и бывших царских военнослужащих, морских и речных спецов, «гнилой интеллигенции», как её некоторые любили называть, ещё раздумывавших, чью сторону выбрать.
– Вы, однако, подготовились к выступлению на совещании, Юрий Михайлович, – подметил полковник. – У вас даже речь изменилась. А чего же убеждали меня в обратном?
– Товарищи выручили с информацией, не дожидаясь канцелярских формальностей. Нашёл способы убедить, но больше выручили личные контакты.
– Понятно, – Лудонин посерьёзнел. – Вот и доложите генералу. Евгений Александрович приветствует инициативу. Уверен, оценит по достоинству.
– Это я с вами, – хмыкнул Донсков, – а генерал и рта не даст открыть.
– Я бы так не сказал, – мягко поправил его Лудонин. – Вы торопитесь с суждениями.
– Возможно, я и ошибаюсь, но вы уж послушайте меня, Михаил Александрович, – не смутился капитан, сверкнув глазами, – а потом сделайте свои выводы. Вас интересовали природа и история моих предположений насчёт Дзикановского-отца; я намерен в этом направлении продолжить.
– Ну хорошо, – кивнул Лудонин. – Внимательно слушаю. И присядьте, пожалуйста.
– Грасис Кирова не устраивал, – начал Донсков, основательно укрепившись на стуле, и даже раскрыл перед собой заветный блокнотик в кожаном переплёте. – Прежний руководитель губчека был нерешителен и мягкотел. Не имея под рукой никого подходящего, Киров остановил свой выбор на Атарбекове, прославившемся к этому времени решительными карательными мерами в усмирении белогвардейского мятежа в Пятигорске. Несмотря на двадцатисемилетний возраст, о нём ходили легенды. Для достижения цели он не пощадил бы и отца родного. Сам расстреливал. И такое бывало часто. Люди прятались, когда он появлялся на улицах, а некоторые рассказывали, что он сам питается человечиной.
– Откуда у вас эта чушь!
– Конечно, это происки врагов Атарбекова, – не смутился капитан. – Но это отражает обстановку тех лет. Накал, так сказать, страстей.
– К чему вы?
– У Атарбекова был один недостаток – он страдал туберкулёзом, а эти люди, известное дело, по старинке лечатся сырым собачьим мясом. Вот и ему отлавливали собак на Кавказе, молва до нашего города долетела. И не забывайте, Михаил Александрович, в Астрахани голод свирепствовал, и порой страдающие от нехватки пищи доходили до крайности. Мне мать рассказывала, что собак действительно в городе не было видно, а на низах спасались чилимом, рыбу и зерно отправляли в Питер и Москву.
– Юрий Михайлович, дорогой, просто удивляюсь вашей осведомлённости.
– Про Георгия Александровича Атарбекова, а правильнее – Атарбекяна я и раньше читал, – пожал плечами капитан. – В институте ещё учился, увлёкся историей секретных служб, мечтал сам работать в разведке, молодой был, чего в голову не взбредёт!
– Жалеете?
– Выветрила жизнь.
– Так, значит?
– Знакомая работает в архиве, если её хорошо попросить, она такую лекцию закатить может!..
– Не знал я о ваших увлечениях.
– Совпало.
– Случай – форма закономерности. Однако?..
– Кирову просто необходим был такой человек, как Атарбеков, и тот, лишь прибыв, сразу разогнал руководство прежнего чека. Участь Грасиса была предрешена. Его обвинили во многих грехах и отправили к Дзержинскому для проведения специального расследования. Дальнейшая его судьба неизвестна, а бывшего командующего армией расстреляли. И вот, когда Атарбеков начал формировать особый отдел, объединив спецов бывшего чека и остатки штаба 11-й Красной армии, в кабинете Кирова появился Викентий Игнатьевич Дзикановский. Он выложил карты – у него в руках нити нового заговора уцелевших контрреволюционеров, чиновников царских служб и духовенства – классическая схема. Во главе, как и положено, молодец по фамилии Нирод, граф. Крепок, энергичен, жаждет славы Бонапарта, правда, завяз в долгах, так как многим проигрался в карты, повеса и пьяница, но это сопутствующий, так сказать, признак всей разложившейся мрази. Киров переадресовал бывшего агента Атарбекову. Тот, услышав о заговоре, принял решение о пополнении штата редкой находкой, и скоро его надежды оправдались: в марте был ликвидирован большой мятеж и расстреляно более ста человек, а в июле разоблачена ещё одна банда под названием «цианистый калий», о чём Атарбеков лично рапортовал партийному активу. За три месяца, которые провёл Атарбеков в городе, Астрахань была почти полностью очищена им от заговорщиков, при этом около трехсот человек расстреляны. Неоценимую заслугу в разоблачении оказал уже известный Викентий Игнатьевич. Правда, за все свои подвиги он был награждён Атарбековым весьма странным, а я бы добавил, страшным агентурным именем.
– Интересно?
– Атарбеков, хотя и сам был не ангел, дал ему нелегальную кличку Каин.
– Первый убийца на земле.
– Если бы он был первым…
– И ему, как и библейскому герою, тоже не посчастливилось?
– Вскружили голову успехи, но это было только на первых порах. После того как по вызову Дзержинского Киров отправил Атарбекова в Москву, Дзикановский новым руководством особо не ценился, а вскоре его совсем запрятали в такое место, где, кроме неприятностей да насмешек, удачи и успеха не сыскать. Глеб Бокий, бывший полпред ВЧК в Туркестане, возглавив сверхсекретный отдел ВЧК, распорядился об организации подобных подразделений на местах. Отдел в городе не создали, но все полномочия достались Дзикановскому. Его обязанностями и родом занятий, как и положено, никто не интересовался, знали, что занимался тот вроде врачами, церковнослужителями, местными гадалками, магов гонял из сомнительных заведений, было их множество, особенно во времена НЭПа развелось. Одним словом, как и его высокое начальство в столице, выискивал нечистую силу, однако не только карал их, но и мирно содружествовал.
– Шутить изволите? – покоробило Лудонина, он недовольно хмыкнул, косо смерив капитана недобрым взглядом.
– А вы нигде не читали об этом?
– Меня как-то другие вопросы интересуют. Я, знаете ли, Юрий Михайлович, привык, прежде всего, своим делом заниматься. И вам бы советовал.
– Я извиняюсь, Михаил Александрович, – Донсков сам чувствовал себя не в своей тарелке и даже привстал, – но всё, что пришлось узнать, имеет прямое и непосредственное отношение к нашей теме. Где-то я читал у этого, Уильяма Шекспира, кажется: «Я правду расскажу тебе такую, страшнее всякой лжи». Спецотдел ЧК, которым руководил Бокий, пользовался особой автономией, Глеб Бокий считался проверенным большевиком, он был членом коллегии ВЧК, сообщал информацию и адресовал её непосредственно в политбюро, в ЧК, в правительство самостоятельно, а не через руководство ведомства, при котором отдел находился. Официально это считалось криптографической службой, и на первых порах создавалась она для сохранения тайны при передаче оперативных сообщений; в то время государство и армия не имели надёжной системы шифров.
– А как же всё остальное? – Лудонин неопределённо поводил рукой в воздухе.
– Что?
– Ну это?.. Мистика? Нечистая сила?
– Уже в конце двадцать четвёртого года у Бокия при отделе значился известный учёный-мистик. Был он парапсихологом и разрабатывал методику выявления лиц, склонных к криптографической работе и расшифровке кодов. Он же обследовал всевозможных знахарей, шаманов, медиумов, гипнотизёров и прочих людей, утверждавших, что они вовсю общаются с призраками. В Москве для этих целей Бокием была создана глубоко засекреченная «чёрная комната», где взаправду организовывались тайные встречи с представителями потустороннего мира.
Лудонин пробовал сохранить на лице серьёзное выражение, но у него не получалось. В конце концов он прыснул от смеха:
– Вы меня развеселили, Юрий Михайлович. Надо признаться, последнее время я забыл про это. И на том, как говорится, спасибо. Однако…
– Вы всё же дослушайте, Михаил Александрович. Мне как раз не до шуток, хотя я вас понимаю, выглядит всё это сейчас неубедительно.
– Да уж!
– Однако надеюсь, вы слышали, чем занимался Вольф Мессинг у Сталина?
– Отчасти.
– Когда убили Кирова, Сталин поручил привлечь к работе по установлению всех виновных известного медиума из Питера.
– Охотников потрепаться языком знаете сколько у нас?
– Хорошо, я не стану вдаваться в подробности. Собственно, теперь это уже не имеет такого большого значения. Бокий увлёкся своими экспериментами в общении с нечистой силой, организовал в недрах ОГПУ кружок по изучению древней науки. Туда вошли ведущие сотрудники отдела.
– Древняя наука?
– Я догадываюсь, её пропагандировал в кружке тот самый парапсихолог-мистик. Теория заключалась в том, что в доисторические времена якобы существовало высокоразвитое культурное общество, погибшее в результате геологического катаклизма.
– Опять этот вымысел насчёт Атлантиды!
– Похоже. Отличие в том, что общество якобы было коммунистическим и находилось на более высокой стадии развития, чем наше. Остатки существуют и поныне, представители этого общества будто бы обитают в неприступных горных районах, расположенных на стыках Индии, Тибета, Кашкара и Афганистана.
– Это их Рерих искал?
– И не только он. До сих пор сторонники той теории существуют и пытаются организовать новые экспедиции.
– Заморочил ты мне голову, Юрий Михайлович. Всё это, наверное, интересно школьникам в начальных классах… К нашим проблемам какое это имеет отношение? Ну, занимался Дзикановский врачами, церковнослужителями, шалопаями разными…
– А реликвия пропавшая?
– Что?
– Крест, по рассказам очевидцев, обладавший чудодейственными свойствами! Он же пропал как раз в девятнадцатом году! Его видели на груди архиепископа Митрофана, который был расстрелян как один из активных участников и организаторов банды «цианистый калий». Эту банду заговорщиков и помог разоблачить наш знакомый Викентий Игнатьевич Дзикановский.
– Погоди, погоди! – в глазах Лудонина мелькнул интерес.
– Дзикановский и после ведал вопросами церковнослужителей, он курировал работу по исполнению декрета об отделении церкви от государства, когда привлекались к ответственности священники за отказ передавать церковное имущество.
– Это ещё ни о чём не свидетельствует.
– Однако Дзикановский этим занимался. И к этому делу – пропаже креста – он руку приложил. После ареста и расстрела реликвия почти нигде не появлялась. Безусловно, её должны были снять с мёртвого тела или изъять до приведения приговора в исполнение, но прокуратуре области официально дали справку, что креста с арестованного не изымалось и сведений о его нахождении в учреждении не имеется.
– Вот тебе и финита ля комедия.
– Дзикановский не мог не знать о кресте и его удивительных свойствах.
– Ну, дорогой мой, это желаемые домыслы.
– При обыске мы нашли на квартире его сына странный журнальчик того времени со статьями о различных церковных вещичках, обладавших необычными свойствами. Упоминается и крест патриарха Руси Тихона, а ведь как раз Тихон его и подарил архиепископу Митрофану, когда тот уезжал в Астрахань из Москвы. Была изъята ещё кипа разного рода оккультной литературы.
– Журнал, конечно, и подлил масла в костёр ваших заблуждений, Юрий Михайлович, – забарабанил Лудонин пальцами по столу. – Я, признаться, не услышал существенных доказательств или признаков, свидетельствующих о причастности Дзикановского ко всем известным нам убийствам. Тем более к убийству его сына. Кстати, как с розыском Князева, Жучкова и Прыщевского?
– Работаем.
– Вот так, – покачал головой полковник. – А на этом участке желательны бы результаты. Город надёжно закрыли?
– Всё необходимое сделано, – покривился Донсков. – Эта братва села на дно. Имеется у них где-то схрон. Трёх мужиков спрятать!..
– По родственникам отработали?
– Все одиноки. Судимы – клейма негде ставить. Князь – он же Князев Матвей Спиридонович, главарь, привлекался с малолетства, беспризорничал, в бандах разных значился, сам, повзрослев, банды создавал, но после пятидесяти лет как отрезало: появился на городском кладбище и затих. Имелась у нас информация, что сбрасывают ему воры и грабители антиквариат, церковную утварь, иконы ценные. Однако ни разу не удавалось прихватить его с поличным. Участковый твердит, что повлияла на Князева профессия, он главным могильщиком значится на погосте.
– Погост – это в деревне, за околицей, – будто про себя, раздумывая о чём-то своём, сказал тихо Лудонин.
– Одно и то же. Все там будем, – совсем некстати буркнул автоматически Донсков и понуро махнул рукой.
– А Дзикановский-отец был знаком с Семиножкиным? – вдруг будто проснувшись, встрепенулся полковник.
– Вот, – назидательно подметил капитан, – а вы мне не дали договорить. Сын давно общался с коллекционером. Кстати, всё время занимавшимся поиском этого креста. И конечно, об этом не мог не знать папаша.
– Тогда в ваших рассуждениях мало логики.
– Как?
– Если вы подозреваете отца в том, что тот, работая в ЧК, ещё в девятнадцатом году незаконно завладел этой реликвией, то зачем ему с сыном травить Семиножкина?
– Так это если завладел! А если ему не удалось? Мы с Семёновым исходим из того, что Семиножкин или знал, где хранится крест, или сам им владел. Такая же известная личность и многожитель – Дзикановский Викентий Игнатьевич. Семиножкин, приметив сынка, прикинувшегося поэтом и литератором, увлёкшегося для вида его легкомысленной женой, быстро его раскусил. А когда пронюхал и про профессию отца, а возможно и знал ранее, намеренно сблизился с Аркадием Викентьевичем. Жене он не доверял – соседка, известная нам Матрёна Никитична Бокова, за полчаса, что я был в квартире, все уши прожужжала секретами вдовушкиного адюльтера. Чудесную реликвию коллекционер по-видимому хранил в том сейфе за картиной. Раскусив врагов и почуяв угрозу, Семиножкин пошёл на хитрость и сделал проверочный ход: он написал заявление в областную прокуратуру, будто пропавший крест представляет государственную значимость. Попросил принять меры по розыску, для убедительности приложил список лиц, якобы видевших, слышавших, в общем, имевших к реликвии некоторое отношение. Федонин провёл почерковедческую экспертизу: оказалось, список составил сам коллекционер, а ведь он уверял, что бумага ему досталась от какого-то умершего антиквара.
– Зачем это сделано?
– Я могу это объяснить всё той же уловкой Семиножкина – выяснить, какой силы угроза нависла над его головой, кто представляет для него реальную опасность? Официальным заявлением он также убеждал врагов, что никакой реликвии у него самого не имеется. И дожидался обратной реакции.
– По вашей версии покойник сам накликал беду?
– Невольно. Его расчёт не сработал. Аркадий Викентьевич к тому времени, видимо, заприметил тайник за картиной и дожидался момента. Вскрыл он его довольно искусно, не понадобилось много времени, а мои специалисты из кримотдела ахали – замки у сейфа самые что ни на есть современные.
– Если ваша версия верна, как раз вспоминается, что отец Аркадия Викентьевича занимался в ЧК этими делами.
– Сходится у нас не всё, – покривился Донсков. – Пока не понятно, почему сынок, усыпив вдову, вскрыв сейф и прихватив содержимое, миновал квартиру отца и понёсся на кладбище, ища убежище у уголовников.
– Обуяла жадность. Вы столько чудес приписали тому церковному реликту! Архиерейскому кресту! Глаза разгорелись.
– Непонятно пока, – продолжил Донсков, недоумевая, – что связывает в общем-то интеллигентного человека, которым представлялся Аркадий Викентьевич, и кладбищенских могильщиков? Вроде и повидал я уже немало, а сомнения гложут.
– Сомнения, это полезно. Версия ваша имеет право жить. Я только одного не пойму, почему вы противитесь совещанию.
– Мои предположения и отчёт о проделанной работе вы так и так доложите генералу, товарищ полковник. А нас бы денёк-другой не трясли, возьмём мы Князева и его корешей. Содержимое сейфа найдём у них – это результат. Тогда, как говорится, пусть снимает головы генерал.
– Тогда вам ордена вешать, – хмыкнул Лудонин. – Хорошо, я переговорю с Евгением Александровичем, а вы занимайтесь.
– Можно идти? – вытянулся капитан.
– Конечно. Хотя минутку. Вы так и не досказали мне о причинах увольнения Дзикановского-отца. Тогда так просто из этой службы раньше положенного не уходили.
– Бокия арестовали в тридцать седьмом году, его парапсихолога и весь их кружок умников объявили врагами народа и расстреляли. Естественно, ликвидирован был сверхсекретный отдел, распущены соответствующие службы на местах по всей стране. Остался без работы и Викентий Игнатьевич. Его не судили, помогли с устройством на работу, кстати, он химик, знаменитый институт окончил в Петербурге, в котором, между прочим, до него учился и Глеб Бокий.
– Подумать только, земля-то круглая! А в чём же их обвинили? Раз уж вы постарались собрать такую богатую информацию, то, вероятно, поинтересовались и этим?
– Созданную Бокием тайную организацию обвинили в шпионаже и попытке заставить советское руководство проводить угодную Западу политику. Вот так. Не больше, не меньше. Путём, так сказать, психологического воздействия.
– Однако!..
– Это ещё не всё. Парапсихолог якобы признался следователю и суду, что их нелегальная организация пропагандировала мистику, направленную против учения Маркса – Ленина – Сталина.
– Ну да… – потёр лоб Лудонин. – Конечно… А что же ещё могли сообразить…
Его раздумья прервал телефон. Подняв трубку, послушав, он передал её капитану:
– Вас. Прокурор следственного отдела Ковшов спрашивает.
Донсков, извинившись, взял телефон.
– Пожар? Мы же встречаемся вечером?
– Ты бы приехал сюда, – Ковшов назвал адрес.
– Это же!.. – задохнулся Донсков. – Что ты там забыл?
– На месте объясню. Только срочно.
Глава III
– Ты как сюда проник? Я охрану снял, дверь опечатал, телефон и тот на прослушку перевёл!.. – капитан Донсков влетел в квартиру и с порога набросился на меня. – Что понадобилось?
– Тише ты. Не ори, – погасил я его пыл и – палец к губам.
Это подействовало.
– Пройди-ка сюда, – я повёл его в комнату рядом.
На койке возлежал старший следователь Федонин. Донсков прямо остолбенел, лишившись дара речи. Я не мешал ему приходить в себя и созерцать бледное беспомощное лицо старого лиса, в смятении отвернувшегося к стенке и тяжко сопящего.
– Ничего не пойму, – наконец ожил Донсков. – Павел Никифорович, что за концерт?
Но Федонин молчал и только сильнее заморгал понурыми глазами.
– «Скорую» только что спровадил. Отравление неизвестным веществом. Подыматься до вечера нельзя.
Федонин при этих словах дёрнулся и зашевелился, пытаясь приподняться.
– Лежите, лежите, – твёрдо остановил я его и рукой грудь прижал. – До вечера доктор категорически запретил вставать.
Федонин опять дёрнулся.
– А что с языком-то? – вылупил на меня глаза Донсков. – Он и говорить не может!
– Может, но лучше не пробовать. И вообще! Яд какой-то неизвестный. Врач не даёт гарантий, что этим всё кончится, может, ещё себя проявит.
– Откуда яду здесь быть? Мои ребятки полный шмон устроили, я тоже глядел…
– Значит… плохо… глядел… – выговорил Федонин, слова он произносил, словно резину языком растягивал.
– Вон, глянь! – ткнул я на необычной формы миниатюрный пузырёк, какие дамочки хранят в своих сумочках.
Донсков бросился к столу, словно кот на мышь.
– Осторожно! – заорал я. – А то придётся и тебе неотложку вызывать.
Капитан замер над пузырьком, не сводя злющих глаз, помахал рукой вокруг шляпки флакона, втянул в себя воздух:
– Ничего не чую.
– Я и открыл… не понял ничего… – пробормотал с кровати Федонин. – А потом очнулся почти через час.
– Так, может быть, это не яд? – оживился Донсков. – Какое-нибудь психотропное вещество, парализующее мозг?
– Хрен редьки не слаще, – остерёг его я. – Ты всё же в руки флакон не бери.
– Да там и не видать ничего. На донышке если есть, то несколько капель, – водил он носом возле пузырька.
– Как видишь, хватило Павлу Никифоровичу, а он ведь не брызгался.
– Какой там… – поморщился старый лис. – Я его… только… из-за необычной формы… приметил. Бутылок-то здесь… уйма, а этот флакон… как гриб… среди снега… Мне в глаза и врезался…
– Вот он вам и врезал, – буркнул я с досады.
– Только… один… раз… и нюхнул.
На старого лиса больно было смотреть, но мы с Донсковым, услышав эту фразу, вытаращили глаза друг на друга и едва удержались от смеха. Вот уже действительно: и смех и грех! Трагикомичной выглядела ситуация, в центре которой мучившийся от собственной оплошности страдал совсем застеснявшийся наш идол. Опасность, конечно, прошла, теперь больше всего его убивала оказия, в которой он оказался, и это его: «Нюхнул один раз!..»
– Экспертизу мои проведут? – справившись с неуместным желанием, поспешил спросить Донсков.
– Нет. Слишком велика ценность находки, – покачал я головой. – Югорову отправлю.
– Не этот ли флакончик Аркадий Викентьевич вдове Семиножкина нюхать подносил? Потом та в постели мучилась?
– Всё может быть. Попросим Владимира Константиновича, чтобы помараковал над ним с особым вниманием. Эксперт теперь наша надежда и опора.
– Слушай, а как Федонин сюда попал? Я понимаю, тебя он по телефону вызвал?
– Точно.
– А чего же мои? Не засекли ваш разговор? Почему наша служба ничего мне не доложила?
– Это уж ты у них выясняй, Юрий Михайлович. Я догадываюсь, они не стали тебя беспокоить. Ты же у Лудонина находился. Я сам-то с трудом с тобой связался; секретарша сначала предложила перезвонить, заняты вы чем-то были оба?
– Убеждал его, – отмахнулся Донсков. – Начальству нас не понять.
– В чём?
– Слушай, где же он флакон этот отыскал? – не отвечая, перескочил Донсков с неинтересной темы. – Мы же делали тут обыск.
– Вот так, дорогой начальничек, – хмыкнул я, – верхогляды твои помощники. Учить их надо.
– Моих учить – только портить. Прав Лудонин, пороть их надо.
– Задушевная беседа у вас протекала?
– И не говори.
Мы заглянули в закуток без окон, что-то вроде чуланчика, теперь их некоторые шутники именуют «тёщиной комнатой».
– Вот здесь и отыскал флакон Павел Никифорович.
Все три стены чуланчика были оборудованы полками, на которых теснилась пустая стеклотара разного калибра и назначения – бутылки, банки, склянки, пузырьки и прочая ёмкость.
– Всю эту батарею мои орлы вдвоём из рук в руки выставили на пол, на моих глазах перебрали и ничего примечательного не обнаружили, – чертыхаясь, оправдывался Донсков. – Ты-то мне веришь, Данила Павлович?
– Я не полковник, чего передо мной оправдываться. Не принёс же Федонин флакон с собой! И зачем молодому Дзикановскому столько тары? Ты не задумывался?
– Фармацевт, – пожал плечами Донсков. – Но незаметно, чтобы дома он лекарствами занимался. Никаких приборов, приспособлений не видно.
– Я ведь не на шутку перепугался, пока Федонина в чувство приводил. Он, похоже, дважды падал, второй раз, когда до меня дозвонился.
– Так, может, его всё-таки в больницу?
– Врач дал ему какое-то средство, посидел минут десять, успокоил меня, что опасности нет, но тоже настаивал на госпитализации. А он ни в какую. Отлежусь, говорит. Чувствую себя лучше. Лёгкое головокружение осталось и речь. Ты сам видел, он восстанавливается на глазах.
– Значит, Павел Никифорович пришёл сюда отраву искать? – задумался капитан.
– Он так выразился.
– Мне, дураку, раньше следовало догадаться, когда бабка Матрёна, соседка коллекционера, талдычила о странном сне Серафимы Илларионовны. Теперь понятно, почему она спала целые сутки. Аркадий Викентьевич использовал этот препарат под видом духов, когда её усыплял. А потом вскрыл сейф.
– Возможно, этот флакон стал роковым и для самого Семиножкина, – согласился с ним я.
– Совещание у вас, значит, не состоится? – Донсков переступал с ноги на ногу, как застоявшийся скакун.
– Не терпится?
– Я полковника Лудонина сумел отговорить, мне сейчас каждый час дорог, не до… Сам понимаешь.
Он хотел сказать «не до болтовни», но поднял на меня глаза и смолчал.
– Говори, говори, – не стал я его смущать окончательно, – вы, сыщики, иногда способны головой работать лучше, чем языком.
– Нас ноги кормят. Ты прав, прокурор, но и она не только для того, чтобы фуражку носить.
– Федонин просил домой его отвезти.
– Я доставлю. Прямиком в объятия разлюбезной Нонны Сергеевны и домчу.
– Смотри, не напугай. И ничего лишнего. Он сам найдёт, что ей сказать.
– Обижаешь, Данила Павлович.
– И это?.. Руководству не стоит ничего сообщать… Об этой оплошности. Ни к чему им эти детали.
– Да что же мы, совсем без понятий? – обиделся Донсков.
– Я вечером его навещу сам. Тебе успеха, капитан.
– Увидимся.
И мы расстались. Я спешил в бюро экспертиз. Капитан, похоже, напал наконец на след Князева и его дружков; видно было по его сияющим глазам, что почуял он их близость, не стоялось ему на месте. Да и пора бы. Больно уж долго судьба водила нас носами по асфальту неудач.
Глава IV
Вот тогда как раз и появился на нашем горизонте этот Павел Суров. Журналист, оказывается, уже был знаком с некоторыми из «уголовки». Его немного знал и капитан Донсков. Меня он нашёл по телефону, я, как обычно, сослался на начальство, мол, наверх обращайтесь, потом сказался на занятость, а о последнем разговоре Колосухину доложил.
– Почуяли, говорите, жареное? – взгляд замоблпрокурора горел негодованием.
– Похоже.
– Что же их интересует? – шеф мрачнел на глазах.
– Не спрашивает. Так, обычные темы… Рост преступности, малолетки, молодёжь. Он со мной даже мыслью гениальной поделился, мол, динамика правонарушений среди детей – это будущее криминала. Просветил, так сказать. Но это у них приёмчики известные. Им сюда бы пробраться… В штаб. Информация о кладбищенских трупах, видно, просочилась. Вот и принюхиваются. Донсков божится насчёт своих, но там, когда могилу раскапывали, народу всякого собралось немало. Ночь и та не отпугнула желающих поглазеть. К тому же юрисконсульт присутствовал. Из горисполкома. Скорее всего, он и пустил слух. Вот и захотелось газетчикам о наших героических буднях всему миру поведать.
– Посоветуйте ему в милицию обратиться.
– Подковыривает: «У вас учреждение закрытое?» Издевается.
– Даже так?
– Этот – дока. Ему известно, что убийствами прокуратура занимается.
– Шустрый, – Колосухин крякнул от досады. – А нельзя приструнить?
– Не отвяжется.
– Мне не до него. Может, Павел Никифорович? Или в кадры его адресуйте.
– Федонин пока прибаливает. А Течулина в район уехала до конца недели.
По правде сказать, о журналисте этом среди наших гуляла дурная слава. В милиции его побаивались, в том числе, как я начал догадываться, и сам Донсков. Тот мог накатать такое, что в один день из тебя героя смастырить, чтобы потом свои же подкалывали да посмеивались или ещё хуже – лягнуть так, что долго икалось и помнилось. «Управу на него найти, конечно, можно, – сетовал капитан Донсков, – но поговаривают, что за его спиной маячит всемогущая фигура Селивана Цапина». – «А этот что за гусь?» – вылупил я глаза. «Главный редактор газеты, – просветил меня Донсков, ухмыляясь. – Ничего не затевает без команды оттуда». – «Оттуда?» – до меня не доходили невразумительные намёки капитана, со значением кивнувшего вверх. «Ну кто нами правит? – буркнул тот. – Не всевышний же! Обком, облисполком. Ты, прямо, как ребёнок, Данила Павлович…»
Теперь, достаточно просвещённый, я и выложил все свои открытия Колосухину, который не мне в пример догадливый, сразу принялся за своё обычное занятие в таких случаях: шеей закрутил, будто из воротничка рубашки собирался выскочить, враз тот его душить начал. Наконец, так и не одолев препятствие и покраснев, он на меня в упор:
– А что у них конкретного?
– Я пытал Донскова. Тот особо не распространяется. Но якобы Сурову поручили собрать материал о работе прокуратуры. С учётом последних нераскрытых убийств… Молва нехорошая в народе. Сплетни разные про кладбищенские тайны, грабительские разорения могил… Из мухи слона они умеют делать.
– Вот как реагируют! Нам бы у них поучиться оперативности.
– Ещё неизвестно, с чьей стороны ветерок задувает.
– Так я же у Николая Петровича на днях представление генералу Максинову подписал. Там про все милицейские проколы, ошибки, нарушения… Вчера отдал в почту на отправку.
Мы переглянулись.
– Это что же делается? – Колосухин в лице переменился.
– Упреждающий удар.
– Они всё извратить хотят. На нас своё дерьмо!..
Вывести из себя нашего шефа, следящего за каждым словом, – это великое событие. Но я не ослышался, замоблпрокурора даже кулаки сжал и лицом запылал, того и гляди вспыхнет. Понять его особого ума не требовалось: Виктор Антонович, значась заместителем прокурора области, непосредственно отвечал за всё следствие в органах прокуратуры, и шишек на его бедную голову постоянно сыпалось, сколько в тайге не соберёшь.
– Раз они таким образом, – начал я изобретать велосипед. – С больной головы на здоровую пытаются, может, тогда будет правильным ознакомить этого Сурова с нашим документом? Представление – это вещь официальная, форма прокурорского реагирования на серьёзные нарушения законности, предусмотрена УПК. Он парень умный, расставит точки.
– Это уж как Николай Петрович решит, – буркнул Колосухин. – Действовать их же методом? Нет, Игорушкин такие средства не признаёт.
– В бою… – заикнулся я. – А-ля гер ком…
– В бою, конечно, все средства хороши, но мы не противники. Не враги. И не сражения разыгрываем между собой. Это знаете, куда завести может?
– А у них, значит, хватает совести так поступать?
– У кого у них?
Я впопыхах не нашёл ничего более путного как воздух перед собой головой боднуть, но получилось, видимо, с содержанием, потому что Колосухин обернулся весь в сумрачных раздумьях, изучать-то особенно его глазам было нечего – на белой стенке забытая с прошлого оперативного совещания табличка с показателями следственной работы за восемь месяцев, выше – бодрый Леонид Ильич с оптимистическим взмахом руки и звёздочками на груди. Вдохновляющая поза, но только не в этот раз, и шеф, совсем понурившись, посоветовал:
– Сошлитесь всё-таки на болезнь Павла Никифоровича. Мол, выйдет на работу, тогда милости просим. Он старший в следственной группе, ему и решать. Разъясните, если надоедать станет, про тайну следствия. Это требование закона, а не наши выдумки.
На том и остановились. Возвратившись в кабинет, я начал названивать Федонину, трубку он взял сам, Нонна Сергеевна, не отходившая от него, уже тоталитарный режим отменила и убежала в аптеку; мы этим и воспользовались, обсудив проблемы.
– Заинтересовались нами, – начал я с главного, происки газеты и милиции меня задели больше всего.
– Суров – паренёк нормальный. Зря о нём так, – неожиданно остановил меня Федонин довольно бодрым тоном, так что у меня исчезли последние сомнения насчёт его здоровья. – Мы с ним как-то вместе выезжали в район по хитроумному убийству. Что тогда газету заинтересовало, уже и не помню. Какое-то совпадение было, по-моему, Суров сам родом из той деревни или из того же района, где потерпевший проживал.
– Землячок, значит? – не терпелось мне.
– Ну да. Но самое интересное в другом. Там убийцей женщина оказалась, во как, брат!
– Шерше ля фам?
– Не так, чтоб уж и шерше. Баба деревенская. И детей у неё куча. А пострадавший тёртый был калач, он не одну её вокруг пальца обвёл. Городской альфонс. И чего он на деревенскую позарился? Правда, личиком-то ничего была. Он её сам грохнуть собирался, как и с прежней своей подружкой поступил, а она его раскусила. Пробовала уговорить, он ни в какую. Вот она, когда он зазевался и… Не помню уже, чем его по голове очакушила, но скумекала: на обочину оттащила и в канаву – вроде как автомобильная жертва. Мы в деревне той дня два вместе с журналистом куковали, пока я возился с этим убийством. А статью он знатную накатал. И не приврал ничего. Так что можешь его не опасаться.
– А я и не опасаюсь, но с делом знакомить не собираюсь. И вообще вы бы выходили, Павел Никифорович, чувствую, командирский тон ваш восстановился.
– Я и сам рвусь, но Нонна…
– Врач есть. Выглядите… даже по телефону вполне на пятёрку.
– Скажи ещё на шестёрку, – хмыкнул старый лис. – Ты вот что, Данила Павлович, найди там у меня в столе список, который Петрович давал, и отработай по нему справку. Всех нами допрошенных по этому списку перечисли и их показания приложи. А то, как заявлюсь, Игорушкин меня к себе потребует.
– Будет сделано. Только зацепочка имеется. Я уже и сам этот список разыскивал – Колосухин потребовал.
– И что же?
– Не нашёл.
– Как так! Он у меня, помнится, в стопке лежал на левой… нет, на правой стороне стола. А вечером я, как обычно, всё в ящик… Ты все ящики глядел?
– Все. Я же вам звонил, прежде чем лезть в них? Забыли?
– Да тут не до этого было!
– В ящиках списка не нашлось.
– Ты внимательно, боец, это дело нешуточное?
– Обижаете, Павел Никифорович.
– Если список пропадёт, с меня Петрович голову снимет!
– Приезжайте, ищите сами, – обиделся я.
– Высылай машину.
– Да вы что!
– Высылай. Я тебе говорю, Игорушкин нас растерзает, если список утрачен будет.
– А какой в этом списке теперь толк? Во-первых, там половина лиц давно значилась умершими. Не думаю, что Семиножкину это было неизвестно. Живых несколько лиц. Мы их допросили. Показания этих людей бесполезные, для дела интереса не представляют. Они в глаза крест архиерейский не видели и о его судьбе ничего не пояснили. У меня сложилось такое мнение, что список этот, составленный, кстати, самим Семиножкиным, ценности никакой не представляет. Даже наоборот.
– Что наоборот?
– Думается мне, что коллекционер специально его составил, чтобы нас или кого-нибудь посерьёзнее за нос поводить. От себя угрозу и подозрения отвести. Ищите, мол, крест у тех людей, а я здесь не при чём.
– Всякий факт, даже отрицательный, для следствия имеет важное значение.
– Вот и прекрасно, что вы согласились.
– Я ещё ничего не сказал, а машину мне высылай.
И он действительно сам заявился в тот день в прокуратуру. Я и корил, и ругал себя, увидев его исхудавшим, бледным, но твёрдо стоявшим на ногах, когда он открыл дверь своего кабинета, в котором я к тому времени устроил настоящий вернисаж: ящики из стола повытащил, на полу их расставил, содержимое тут же рядышком разложил. Было на что поглядеть, но он смотреть не стал, бросился враз к сейфу. Час или полтора длился мучительный концерт. На Федонина больно было смотреть. Он опустошил сейф, выволок всё содержимое наружу, раз за разом одно и то же к глазам подносил, листочек за листочком, каждую папку, каждое дело перелистывал, пыхтел как перегруженный паровоз, вытягивающий бесконечные вагоны в гору. Наконец, обессиленный с взмокшим лицом и безумными глазами, он плюхнулся на стул:
– Всё! Украли список! Пропали мы с тобой, Данила Павлович…
Глава V
Кто его знал или помнил прежнего, на земле перевелись. Так он считал, и не лишены здравого смысла были его убеждения.
Славой авторитетного вора-медвежатника блистал не в этих краях, а у соседей и до войны, а началась она, угодил в Сталинградскую бойню; попав в плен, бежал, а уж у своих был милован и брошен в штрафные батальоны. Здесь молился, как мог, никогда не веровавший, чтобы живым остаться, а если заденет, так сразу, чтобы не мучиться и калекой не мытариться, обузой не быть. И Тот, который наверху, или ещё кто, уже насмотревшись на его страдания, уберегал, щадил первые страшные дни, а через месяц или раньше, поседев как лунь и отдрожав, он и сам устал бояться: не то чтобы верой укрепился, а страх покинул. Проникся одной мыслью, вроде как ударило однажды бессонной ночью перед боем, – никакая молитва по его грешную душу не спасёт; собственная судьба написана не им, а там, наверху, когда и кем неведомо. Ему об этом не узнать, лишь испытать на шкуре. Чего он переживает? И прикипев к этой мысли, заматерев, в каждый бой рвался первым в самый ад, словно смерти искал, а Тот, наверху, насмехался и берёг его ещё неизвестно для каких испытаний или казни. В госпиталях валялся бессчётное число раз, но медвежье здоровье выручало до последнего, пока уже под самой Прагой не угодил он надолго, до самого конца войны на больничную койку. С такими ранениями не выживали: попало ему в голову, в грудь и в ноги – изрешетило всего, дуршлаг для лапши, а не человек. Перемотанный сверху донизу бинтами, словно кокон бабочки, безмолвный, безжизненный, медленно переправлялся на тот свет, временами пятна свежей крови проступали на особо болезных местах сквозь повязки, отмечая этапы приближения неизбежного конца.
Тяжёлых и его свезли уже на советскую территорию, о чём он, естественно, не догадывался, так как, кроме редких стонов, ничем себя не проявлял. Чаще других к нему заглядывала молоденькая санитарка из новеньких, здешних, и ночами её тщедушную фигурку, прикорнувшую на краю койки, замечали раненые. Она первой сделала неожиданное открытие, что кровавые знаки прекратили появляться, пришло время, когда она услышала кроме стонов и зовущий голос.
Война кончилась, а Князеву подниматься так и не разрешали, и от бинтов он был освобождён только наполовину. Он вылуплялся из этой бинтовой оболочки из кровавого когда-то яйца, словно нарождался заново, и новые настроения наполняли его.
Анюта Сёмина кормила его из ложечки, руки пока не слушались больного. Но миновало и это, с медалью на груди вышел из ворот перед новогодним праздником. Полностью оформленный, с двумя костылями и вещмешком на загривке глотнул морозный воздух, и захолонула душа от благости. Только рано солдат почуял избавление от невзгод; пометила его опять или случай подоспел, но только за воротами грохнулся во весь свой могучий рост на предательски скользкой наледи, сломал ногу аж в нескольких местах. Вновь угодил на койку, только теперь уже в городской больнице, куда Анюта к нему и бегала в свободные от дежурств минутки.
Князев не привечал, но и не гнал, как-то свыкся. Много перевидал женщин до войны; здоровый, видный мужик в красавицах нужды не знал, тем более что всегда при деньгах и не имел привычек жаться. На эту неказистую, «шкелет в юбке», как её окрестили между собой раненые, внимания не обращал, ну, крутится и крутится перед глазами, а когда очухался на новой койке со сломанной ногой, а она снова рядом, опешил: «Ты зачем здесь? Я своё отбухал, по полной комиссовали. К себе закачусь…» Она только смущённо улыбалась, слушала, ни слова не проронив, и пододвинула яблоко зелёное. И где достала! А потом забегала чуть не каждую неделю и всё чего-нибудь несёт с улыбочкой, пока не заявилась сама не своя. Он догадался, не спрашивая, лишь взглянул: «Отбывает госпиталь?» Она глаза вниз, привыкла с ним, вечно молчавшим в коконе бинтов, знаками объясняться. «Ну гладенькой дорожки», – кивнул он. А она в слёзы и впервые в голос: «Бросила госпиталь. С тобой останусь, Матвей Спиридонович. Куда вам без меня? Пока на ноги не встанете…» Он остолбенел: «Я ж тебе в деды гожусь, глупая! Чего мучиться будешь? Найдёшь себе…» Но та, почуяв, видно, своим женским нутром, что уже не погонит, на шею бросилась: «Увезу к себе в деревню, у нас в лесах быстро оклемаешься».
Так и оказался он за Уралом. Края суровые, диковатые, но ему нравились. Всё бы хорошо, не хватало детей. Страдали оба, она в особенности, и по бабкам ходила сама, и его водила, как он ни упирался. Наконец, затяжелевшую, положил он её в больницу. Назвать ту избушку, единственную на десять сёл больницей, – большое преувеличение; на телеге из района врач наезжал время от времени, так что ему там пришлось и печь самому топить, и воду греть престарелой уже фельдшерице, вынужденной вместе с ним преждевременные роды принимать. Изнервничался весь, а заполночь, совсем обезумев от горя, вынес на мороз под безжалостные звёзды её мёртвое тело вместе с мёртвым телом ребёнка. Так до утра, как ни бегала вокруг, ни кричала на него фельдшерица, пытаясь что-то внушить, вместе с одноруким стариком-сторожем отобрать бесчувственные заледеневшие на морозе тела, не шевельнулся он с крыльца той избушки. Задрав голову вверх, плакал и материл, всех проклиная, спрашивая, за что его так наказывают, огрызался по сторонам и скалился пуще дикого зверя.
Что же ему там оставалось в той глуши? Похоронил Анюту и Ванюшку, так ни глаз, ни рта не открывшего, и на ближайшую станцию к поезду, монатки собрав. Укатил, не выбирая направления. Очутился на Байкале, там жил, мытарился, кантовался, больше пьянствовал, почуяв звериную страсть к спиртному, а когда едва не пропал, замёрзнув почти до смерти под забором, надумал возвернуться в родные места.
Здесь не принимали даже воры. Сунулся было за одним, прямо на вокзале его опытным взглядом приметив, тот долго петлял, заметив слежку, и он, отвыкнув, зазевался, оказался в ловушке, потом пришлось кровить кулаки, отбиваясь от насевшей своры карманников. Побитый, но живой, сдружился у пивнушки с таким же бомжом, и тот за бутылку пива приютил его на кладбище, где он и нашёл временное пристанище. Но правильно говорят, нет ничего постоянного, нежели временное.
Огромным ростом, немереной силой и зычным голосом, если разозлить, приглянулся он местным могильщикам и закрепился в их печальной артели, дав обещание к алкоголю без надобности и сверх меры не притрагиваться, не халтурить и в работе. Других условий не имелось, а с этими он справлялся без натуги, благо по их, неведомо кем установленному обычаю, в воскресенье к вечеру обносили каждого копателя могил и похоронщика бутылкой водки: хошь пей, расслабляйся от тяжёлой недели, насмотревшись на горе и слёзы, хошь прячь на чёрный день до лучшего случая. Но таких, чтобы прятали, не находилось, наоборот, не хватало; братва садилась за общий стол тут же в землянке, где ютились, и начинался гульбан. Однако дисциплину держали, знали – в понедельник работы более всего, почему-то хоронили в тот день чаще обычного. Князеву на первых порах бутылки не хватало; принимая хмель, он тут же вспоминал Анюту на своих руках, её истерзанное в родильных муках тело и враз взрывалось всё внутри, рука сама тянулась к стакану и до тех пор не останавливалась, пока сам он не валился мертвецки пьяным на пол.
Так и сгинул бы Князев, потерявший веру в лучшее, надежду на какие-либо радужные перемены в своей жизни, если бы не неожиданная встреча.
Как-то уже под вечер, закончив с очередными похоронами, двинулись с братвой к себе в землянку, услышал он за спиной неуверенный оклик. Не слышал он ничего подобного уже лет тридцать, забыл, когда последний раз его так называли. В годы беспризорного детства подростком прилипла к нему та кличка, и вот теперь он её услышал, сначала и не догадался, что к нему обращена, но начал оглядываться, всматриваясь в людей, оставшихся подле свежей могилы. По лицам, по глазам пробежался, не нашёл знакомого.
– Щука! – позвал уже тише, но уверенней интеллигент в шляпе с поднятым воротником тёмного до пят двубортного пальто.
Князев впился в незнакомца встревоженными и удивлёнными глазами; медвежатником значился среди своих, величали его Князем, мало, даже из самых доверенных слышали про детскую кличку, но зная, не осмеливались её произносить. Незнакомец же не испытывал ни тревоги, ни боязни, впрочем, не проявлял и особой радости. Вид независимый и надменный, руки в карманах пальто, смуглое с тонкими чертами лицо притягивало пронзительными чёрными глазами. И трубка изогнутая турецкая в зубах, знакомая до боли.
Князев скосил глаза на окружение незнакомца. Те не обращали на него никакого внимания, кроме женщины, совсем девочки – иранки или турчанки со сросшимися бровями; вся в чёрном, она жалась к незнакомцу, а он прижимал её бережно за талию, будто пряча от злого взгляда могильщика. Нет, эта малютка не будила в нём никаких воспоминаний.
Кличку, которой стыдился, Князев заслужил ещё среди шпаны за исключительную худобу, высокий рост и страшную способность драться, кусая врагов своими острыми мелкими зубами. Свирепея в стычках, он наводил ужас на противников, вгрызаясь зубами в шеи, лица, руки и ноги, не щадя и не останавливаясь, прокусывал схваченную конечность, нос или ухо насквозь. Таким отпором отучил последних настырных обзывать его позорным прозвищем, а уж потом, завоевав новое – Князь, гордился и так же неистово отстаивал, пока научился искусству настоящего вора-медвежатника. После этого драться и защищать имя не было необходимости, слава сама впереди него катилась и гнула головы самым заносчивым уркам.
Этот дерзкий незнакомец, назвав его поганой кличкой, дал понять, что знал и помнил Князева в пору бесприютного воровского детства, и чем больше теперь они всматривались друг в друга, тем больше сами менялись: незнакомец будто вырастал на глазах и грузнел лицом; вынув трубку изо рта, он криво усмехался. Князев мрачнел, сникал и наливался злобой от сознания, что так и не разгадал насмешника.
– Щукой тебя кликали, это точно, а вот имени настоящего, убей, вспомнить не могу, – подошёл тот ближе без опаски, но руки не протянул.
– Матвей Спиридонович, – переминаясь с ноги на ногу, едва сдерживался Князев, вцепившись обеими руками в лопату.
– Так с той поры и копаешь? – не то упрекнул, не то напомнил незнакомец и чуть приподнял край шляпы, небрежным жестом. – Не нашёл архиереев крест?
Князева словно по голове чем ударили, он вздрогнул, переменился в лице и отшатнулся: последней фразы хватило, чтобы сознание пробудилось, и он пробормотал, не веря своим глазам:
– Викентий Игнатьевич?
– Узнал, наконец, атаман, – хмыкнул тот, покривив губы.
Глава VI
Тогда, жарким летом 1919 года, их свели лицом к лицу загадочные и странные обстоятельства.
Грозу мелких торгашей и городских лавочников четырнадцатилетнего атамана воровской шайки Щуку в очередной раз задержала милиция, теперь уже всерьёз и с поличным. В глубоком расстройстве и беспредельной тоске коротал он время в камере, дожидаясь своей участи, но привели его однажды не к начальнику сыскарей, ненасытно любопытному до его хлопотных похождений, а к одетому в кожу с пугающей кобурой у пояса немногословному человеку, и тот, дёрнув козлиной бородкой и нагнув голову, словно пытаясь его забодать, предложил такое, отчего у отчаявшегося воришки закружилась голова; не мог он сообразить, плакать от свалившегося счастья, или смеяться над идиотской шуткой, настолько не тянуло это на серьёзное дело.
За обещанную свободу человек, назвавшийся Викентием Игнатьевичем, требовал пустяк. Щука, правда, никогда ничем подобным не занимался, хотя о гробокопателях – особой касте воров был наслышан; гнусней даже убийц не считали. Ему и его дружкам как раз и предлагалось ими стать: в двух верстах от города подле монастыря следовало отыскать тайную могилу и распотрошить её. Выполнить всё скрытно, главное – ночью и держать язык за зубами под угрозой крупных неприятностей, а после ноги в руки и прочь из этих мест, чтоб только ветер за ушами. Это устраивало атамана, тем более, рассудил он, что не ради собственной корысти и наживы предстояло творить бесчестие, работа понадобилась чужому дяде, а уж кто рекомендовал, о том не спрашивал. Впрочем, и выбирать не приходилось. Щука, взяв с собой двух надёжных помощников покрепче и молчаливей, занялся подготовкой.
Сложность задачи усугублялась тем, что местонахождение могилы было неизвестно и самим монахам. Попытка выяснить путём расспросов грозила бы неизбежным и непоправимым провалом. Дзикановский подсказал организовать ночное наблюдение вокруг монастыря и, выследив крадущихся к могиле, установить место. А охотники покойника навестить среди некоторых лиц имелись, о них чекист твёрдо знал и даже Щуке про них намекнул.
– Из попов покойник-то? – спросил атаман, не сдержавшись.
– Враг, – буркнул, сверкнув глазами, чекист. – Заклятый враг советской власти.
– За оградой только самоубийц хоронят, – невесело похвастал своей осведомлённостью атаман, не унимаясь. – Что же он натворил?
– Слышал про Сергея Мироновича Кирова? – прищурился чекист.
– Как не знать!
– Его хотел отравить.
– Один?
– Банда у них. Около сотни взяли.
– Что-то не слышно было среди наших… А кто главарь?
– Умерь пыл-то, – пригасил чекист прыткого беспризорника.
Но у того терпения молчать хватило ненадолго.
– А найдём да вытащим, что с ним делать?
– Не забегай наперёд, скучно будет.
– Ищите небось чего?
– Сообразителен ты не по годам, атаман, – дёрнул бородкой чекист, не то шутил, не то всерьёз удивлялся. – Смотри, чтоб не жалеть.
– Без особой надобности покойников не тревожат, – смутился тот и перекрестился.
– Ты верующий, что ли? – хмыкнул чекист.
– У нас без этого фарта не жди, – подмигнул атаман. – А насчёт причины я интересуюсь, чтобы не упустить чего.
– Найдёшь могилу, тогда скажу, что дальше делать, – смерил его тяжёлым взглядом чекист и за ухо себя подёргал. – А я уж сам побеспокоюсь, чтоб ничего не упустить.
– Я не за себя, – поправился Щука, – за своих. Им доверяй – не доверяй, а без глаза не обойтись. Знать бы, что искать, командир?
– Ты своё делай, атаман. А я вовремя подскажу, если что, – хмыкнул тот.
В первую же засаду выдалась ночка неспокойная. Желающих остановиться, найти приют, ночлег, какую-нибудь пищу в монастыре тянулось до позднего времени; нищих, бродяг и побирушек, калек, убогих и бездомных хватало; никого со двора не гнали. Лишь те, кого дожидалась воровская стража, притаясь в укромных местах, не появлялись до утренней зорьки. И из самого монастыря не нашлось желающих побродить возле стен, поискать, погоревать на загадочной могиле, если таковая и имелась. К середине второй недели Щука, встречавшийся с чекистом ежедневно в городе, задиристо посетовал:
– Не попутали с монастырём? Этот – Покрово-Болдинский, я монахов пытал. Может, нам другой нужен?
– Ты бы поменьше языком трепался! – зло оборвал его Дзикановский. – Связался я с вами! Поменьше дрыхали бы по ночам с братвой. Не проспали часом гостей?
Чекист сам несколько раз проверял вахту, натыкался на спящих и устраивал им разнос, посылал проверяющих, и те нелестно отзывались о способностях воровской шайки. Обстановка накалялась, и Щука с дружками уже начали подумывать не дать ли дёру в Царицын, пока не кончилось терпение у хозяина. Однако настала долгожданная ночь. Явились гости. Приметил телегу дружок атамана Кочан, толстяк у ворот дежурил и обратил внимание, что двух только что подъехавших вышел встречать, несмотря на поздний час, сам настоятель монастыря, а облобызавшись, повёл к себе в келью. Знак бросался в глаза, Щука похвалил товарища, и уже вдвоём они затаились у ворот, дожидаясь развития событий. К полуночи парочка приехавших женщин, закутанных в чёрное до самых пят, в сопровождении настоятеля монастыря вышла за стены. Впереди вышагивал четвёртый – грозного вида здоровенный монах нёс перед собой мерцающий фонарь, освещая дорогу. Щука с Кочаном едва успели укрыться, так внезапно и будто торопясь появилась эта прячущаяся от глаз процессия.
– Тайком шастают, – едва сдерживая радость, прошептал Щука и ткнул локтем в толстое брюхо товарища. – Наши! Долго же заставили ждать. Теперь не обмишуриться бы. Тихо, смотри, чтоб не засекли.
Женщины, почти не разговаривая между собой, склонив головы, осторожно проследовали с бугра так близко от них, лежавших на земле за кустами, что можно было различить отдельные фразы. Та, что помоложе, называла другую матушкой. Монах, уверенно шествовавший впереди с фонарём, повернул от ворот и направился уже осторожнее вдоль стены, зорко всматриваясь в темноту, словно выискивая условные знаки, обозначавшие путь. Однако по его поведению чувствовалось, что дорога ему известная, выбирать особо не приходилось; не останавливаясь, он двигался по знакомой тропе. И действительно, в лунном свете блеснула раз-другой под его ногами тропка, свободная от травы и камней. Настоятель, то и дело крестясь, замыкал процессию, иногда он окликал монаха, чтобы тот особо не поспешал.
– Пришли, матушка, – остановился наконец монах, обернулся назад, дожидаясь женщин, а когда те подошли, опустился к земле и встал на колени у небольшого неприметного камня, подсвечивая себе фонарём. – Здесь покоится прах убиенного архиерея.
До слуха Щуки донеслись всхлипы и причитания плачущих женщин, слова молитв. Обе опустились на колени рядом с монахом. За их спинами молился настоятель. Продолжалось это долго, наконец настоятель напомнил о возвращении, и процессия в том же порядке удалилась к воротам.
Оставшись одни, воры бросились к камню. Булыжник оказался ничем не примечателен, в свете зажжённой Кочаном спички Щука не углядел на нём никаких знаков или других отметин.
– Как же он его усмотрел в темноте? – не утерпел Кочан.
– Можжевельник вон рядом, – ткнул рукой в сторону Щука. – И земля под ногами проваливается, ещё не осела до конца, видать, здесь недавно копали.
Он попрыгал несколько раз, и каблуки его башмаков впечатались в землю.
– К тому же глянь сюда! – Щука пнул мусор под ногами. – Сверху траву пожухлую набросали. Глину свежую прикрыли.
Он огляделся повнимательней, ища более весомых свидетельств, однако ничего другого найти не удалось.
– Придётся тебе, Кочан, до утра куковать поблизости, – подумав, решил атаман. – Рассветёт, найди укромное место, спрячься, но с камня этого глаз не спускай. А я в город к хозяину сгоняю. Мы полдела выполнили. Пусть решает до ночи…
* * *
Дальнейшие события Князев вспоминать не любил, дальнейшее происходило, как в кошмарном прескверном сне.
В ту же ночь воров заставили разрывать могилу, а уж к покойнику, когда наткнулись на него, чекист спрыгнул сам с керосиновым коптящим фонарём. Однако в глине без гроба были найдены два тела. Оба бородатые, скрюченные и уже начавшие разлагаться. Дзикановский, зажимая нос пальцами, приметил у одного на шее крест и металлическую коробочку. У второго не оказалось ни того, ни другого. Размахивая руками, он приказал вытаскивать наверх и поднять из ямы тело того покойника, у которого оказался крест. Глаза сверкали у чекиста, когда тело выволакивали, а не успели положить у ямы, он, словно обезумев, рванулся к трупу, сорвал крест с груди и, сунувшись к фонарю, лихорадочно начал разглядывать, пытаясь прочесть знаки или угадать символы. Он даже попробовал крест на зуб, не побрезговав, лишь стерев рукавом грязь и влагу с металла, а, надкусив, застонал, не стесняясь и схватился за голову, видимо, разочаровавшись. В стоне, а скорее в вопле, его было столько боли, злобы и отчаяния, что спина у Щуки похолодела от ужаса, а сам он и его помощник Кочан оцепенели от страха. Чекист дёрнулся как в судороге, размахнувшись, зашвырнул крест в темень степи и, поднявшись на ноги, пошатываясь, побрёл от ямы.
– Нам-то что делать? – крикнул ему в спину атаман, но тот только слабо махнул рукой, не обернувшись.
– Давай его в яму, назад! – скомандовал Щука и, сбросив тело вниз, они заработали лопатами.
Глава VII
Вот так, через несколько десятков лет они и встретились снова – бывший шпана-беспризорник и бывший агент губчека. Неудивительно, что, не соединив рук в пожатии, они долго с недоверием и опаской всматривались друг в друга, не двигаясь и не замечая, что вокруг все давно разошлись. Казалось, Викентий Игнатьевич, кроме клички, ничего про Князева и не помнил; расспрашивать начал с будничного, с житейского, чем снял нервное напряжение, сковавшее старого знакомца после нелепого и резкого оклика. Князев приходил в себя, но ждал вопросов, обращённых туда, в далёкий девятнадцатый год; тогда, после памятной страшной ночи у стен монастыря, они с братвой сломя голову удрали из города. Но бывший чекист не торопился или имел свои планы на этот счёт, не заикнулся ни словом, только буркнул, когда совсем близко подошли в разговоре к той теме. Прозвучало совсем неразборчиво и даже не по-русски.
– Что, что? – переспросил, хмурясь, Князев.
– Пусть прошлое хоронит своих мертвецов, – печально усмехнулся Дзикановский и к шляпе прикоснулся, словно прощаясь с кем-то. – Это я так. Вспомнилась мудрость древнего народа. Был такой в Европе, полмира завоевал, а дунуло время – лишь кости в гробницах и развалины…
Князев так и не понял, о чём печалился старый знакомый, но быстро забыл ту фразу, так как радость уже переполняла и было отчего: бывший чекист не только не высказал обид на их побег, а наоборот, проявил неожиданное сочувствие его положению, предложил помощь с работой, а когда узнал всю пропасть, в которой тот очутился, пообещал подыскать дополнительный, настоящий заработок. И проговорив эти многозначащие слова, он подмигнул как-то совсем по-новому. Незнакомым выглядел бывший агент губчека и возрастом, и внешностью, и манерами. Новые изменения бросались в глаза и навевали совсем нехорошие мысли о его возможных занятиях.
Вскоре это подтвердилось: не минуло недели, а Матвей Спиридонович безоговорочно был избран старшиной среди могильщиков, а затем прилетела и первая ласточка другого обещания – заявился юркий Прыщевский, которого пристроили к нему в помощники. В работе тот особенно не пластался, но пользовался особым расположением кладбищенского начальства; во все мелочи вникал, во всех разборках, кои возникали порой, участвовал и без шума их гасил, незаметно во многих вопросах подменял бригадира, но делал это аккуратно, с подобострастием, как положено. Князеву по первой это не нравилось, он привык верховодить сам, но, приглядываясь к новичку, отметил, что тот выгоды не имел, во всём ссылался на его бригадирские распоряжения и, поднимая таким образом его авторитет и возвеличивая не брезгуя мелочами, требовал, чтобы главного могильщика называли по имени и отчеству. Это вошло в правило и всей их деятельности, а также всему их печальному коллективу придало какой-то особой степенности. Люди бездомные и бессемейные, без роду и племени изменились и внешне, небрежности в одеждах, шалопайства в поступках не наблюдалось, мало-помалу перевелось и запойное пьянство. Прыщевский, хотя и получивший на первых порах за глаза кличку Прыщ, не обладая статью, зычным голосом и силой, нашёл для могильщиков какие-то свои, особенные рычаги управления. А однажды, подавая тайные знаки, доставил от Викентия Игнатьевича известие об обещанном приработке. Товар оказался диковинного свойства и назначения: древние иконы, которые следовало сбыть заинтересованным лицам. Лица были обозначены у Прыща в особом списке, а премиальные оказались такими, что у Князева с непривычки заныли уцелевшие от всех невзгод редкие зубы. Прыщ, хотя и выглядел довольно гнусным типом, дело своё знал, как и место, лишнего от приработка под себя не грёб, продолжал слушаться его во всём и дороги не перебегал, а после второй или третьей удачной вылазки с иконами и церковным антиквариатом Дзикановский назначил Князеву встречу на квартире у своего сына, познакомив их и дав понять, что в дальнейшем тот будет представлять его интересы. Сам же он по причине других, более важных дел станет вникать в их проблемы лишь при исключительных обстоятельствах. Аркадий Викентьевич оказался совершенно другим человеком: высокомерен, с Князевым общался, цедя слова через губу, и всем своим видом подчёркивал разницу между собой и могильщиками. По этой или по другой незаметно накапливавшейся неприязни друг к другу, Князев постепенно перестал лично видеться с сыном Дзикановского, перепоручив эту неприятную процедуру своему помощнику. Тот с пониманием воспринял оказанное доверие, однако как-то подле него объявился одноглазый Жучок. Представляя его, Прыщ намекнул, что этот шустрый шкет рекомендован хозяином с просьбой пристроить его к оказиям с антиквариатом – расширялось, мол, число потребителей. Жучок поселился вместе со всеми в землянке, хотя в основных занятиях могильщиков участия не принимал, был на побегушках у Прыщевского. Новенький трудно вписывался в коллектив по причине своей невероятной наглости, за что от братвы не раз получал взбучку, но Князев не противился его внедрению – приработок на иконах заметно вырос. И всё же, принимая в выходной по чтимому исстари ритуалу положенное спиртное и погружаясь в тёплую безмятежную благость, он всё чаще и чаще тревожился загадкой: чем же обязан он Викентию Игнатьевичу свалившимися на него деньгами и заботами, когда настанет час расплаты? То, что это наступит, он не сомневался; за время короткого знакомства с бывшим чекистом воришка Щука уже тогда глубоко уяснил для себя: немногословный и мудрый этот человек ничего без собственной корысти не затевает, подарков не преподносит. Приглашая в компанию теперь уже обоих своих помощников, Князев подливал им из своих запасов, осторожно заводил беседы вокруг да около, аккуратно приближаясь к теме, и однажды, перебрав, Жучок проговорился. Услышанное лишь подтвердило мелькнувшую уже раньше в сознании самого Князева догадку: Викентий Игнатьевич не утратил и не унял страсть, терзавшую его в далёком девятнадцатом году. То неуёмное желание, словно коварная змея, иссасывало его душу и поныне: бывший чекист грезил отыскать тот чудодейственный крест, который жаждал узреть в безвестной могиле у монастыря на груди убитого священника. Князев пробовал разведать больше, но запас знаний и Жучка, и Прыща оказался куц; крест, по их словам, обладал чуть ли ни волшебной силой возвращать здоровье, беречь от несчастий, спасать от напастей, врагов и сглаза, прочими свойствами обладал, про которые опьяневшие собутыльники мололи такую чушь, что Князев задыхался в гневе от большого желания отдубасить обоих врунов и отправлял их спать.
Так или иначе, но из пьяных россказней, соображал он, однозначно следовало, что маниакальной своей одержимостью найти диковинную поповскую вещицу Викентий Игнатьевич заразил и своего сына. Помощники-дружки в один голос заявляли, что сынок пуще папаши помешан на той штуковине. Имея предрасположения к различного рода таинствам и колдовству, тот у себя на квартире издавна занимался различного рода химическими экспериментами, однажды чуть весь дом не спалил и уже в зрелом возрасте был изгнан с работы за незаконное врачевание. Одним словом, представлял собой личность тёмную и зловредную на грани безумства, чему виной была ещё и их прислуга, тайная сожительница отца, иранка или турчанка по имени Мирчал, по молодости обитавшая при Викентие Игнатьевиче, а после, когда сын отделился и переехал, приглядывавшая за ним. Впоследствии эта восточных кровей особа разбила брак Аркадию Викентьевичу, но тот особо не переживал и больше ни о какой женитьбе не помышлял.
Добытая информация заставила Князева на первых порах настороженно относиться к различного рода поручениям сына и отца, но все они касались их общего промысла, связаны были со сбытом икон, книг и других церковных раритетов; откуда это бралось, Князев не допытывался, а потребители его интересовали постольку, поскольку их интересовал поступающий к нему товар.
Жизнь стала приобретать спокойную закономерность, в ней всё было отлажено до мелочей: наперёд можно было предугадать, когда поступит сигнал, где следует получить продукт, куда его доставить и сколько за него просить. Это походило на их старую речку, тихо и плавно веками несущую свои воды вниз к морю, и Князев успокоился, обретя солидность и уверенность. Он построил небольшой домик недалеко от кладбища, завёл живность во дворе, женщину, в землянке почти перестал ночевать, подумывал о сладком покое и благостной старости.
Тогда и грянула беда. Откуда прежде ждал: от Аркадия Викентьевича.
В тот день хоронили знакомого, Князев не сдержался, там же у могилы выпил с родственниками покойника, а вечером на нервах выставил братве, нарушая традицию и не дожидаясь выходного. Крепко приложился и сам, а когда вповалку все храпели в землянке, свалился на его голову Аркадий Викентьевич весь не в себе. Прибежал с чемоданчиком, растерянный, напуганный, твердя, что исполнилась мечта, добыл он то, о чём мечтал всю жизнь. Просил одного – укрыть до утра, а днём умчится из этих краёв, так как оставаться ему небезопасно. Князев не противился, но очухался Прыщ и вспомнил Викентия Игнатьевича. Сынок дико рассмеялся, поднял крик, что делиться не намерен и вообще это не их дело, но Прыщ спьяну вцепился в чемоданчик, и началась настоящая драка. Аркадий Викентьевич крепче и трезвый начал душить помощника, Князев, с собой не совладав, схватил сынка за голову, хотел оттащить, но сил не рассчитал, хрустнул шейный позвонок, шляпа осталась у него в руках, а тело обмякло и на пол сползло. Тут сынок и умер. До утра в себя приходили, Жучок присоединился, проснувшись, втроём мытарились – что делать, как отцу такую весть доставить? Лишь тело укрыли под утро, стук в дверь, Князев к порогу, а к ним охранник прётся, Карпыч, учуял неладное. Пришлось и с ним решать. Об этом Прыщ Князеву подсказал, впрочем… впрочем все они втроём оказались скованы с той ужасной ночи одной страшной цепью.
Вот эти тягостные, жалящие мысли угнетали теперь Матвея Спиридоновича Князева, бывшего бригадира могильщиков, бывшего солдата штрафного батальона, бывшего вора, а теперь ещё и убийцу. Невольного, мало соображавшего в те минуты, но убийцу, враз утратившего и будущее, и всякие надежды на него. Странное дело, но гораздо сильнее пугало его другое. Когда спрятали тела убитых, когда отрезвели, унесли ноги в укромное место и спрятались на квартире у знакомого Жучка, Князева стала душить тревога, как сообщить Викентию Игнатьевичу о случившемся, как убедить его в том, что смерть сына случайна и наступила по его собственной вине, что не захотел делиться с отцом своей добычей. В этом вся причина, а к чемоданчику проклятому никто из них никакой корысти не имел и не имеет. Чемоданчик он открывать запретил и держал при себе, ночью кладя вместо подушки под голову. Был уверен – в нём его прощение и спасение.
Втроём сошлись на одной мысли: действовать через прислугу – Мирчал, к ней имел доступ пронырливый Жучок, Аркадий Викентьевич не раз отправлял с ним отцу вырученные от сбыта икон деньги. Тот сам из дома не выходил, посылал «нацменку», как её переиначил Жучок, и место у них было оговорено для таких встреч на Больших Исадах у канала, там всегда народу столько, что иголку в стогу сена легче найти, чем поймать кого-то. Жучок взялся передать записку хозяину с просьбой о встрече, чтобы всё рассказать и покаяться. Одно условие поставил посыльному Князев – к дому Дзикановского близко не подходить, чтобы сыскарей на их логово не навести. Однако учить Жучка было лишним, он своё дело знал и уже на следующее утро, как покинули они кладбище, отправился на поиски прислуги. Однако к вечеру вернулся с кислой физиономией. Неудача поджидала и при второй попытке. Рискуя, Жучок нарушил запреты и, побродив возле дома, поспрашивав соседей, добыл сведения, что Викентий Игнатьевич слёг, Мирчал от него не отходит и даже на похоронах, вероятно, будет одна, так как врачи запретили отцу вставать.
– Он нас во всём проклинает! – метался по комнате Прыщевский. – Матвей Спиридонович, разреши мне попытать счастья. Я в парикмахерской обкорнаюсь, с мордой что-нибудь сделаю, одежду подберём, попробую?.. Проберусь к нему, расскажу, как всё было, покаюсь.
– Схватят тебя легавые, – махнул рукой Князев. – У тебя всё на роже написано, как её ни крась.
– Что же? Пропадать нам? – Прыщевский только не стонал. – Я Викентия Игнатьевича знаю. Он нам не простит! Его ребятки нас отыщут и тогда уж разговаривать не станут. Он денег на это не пожалеет. Делать надо что-то! Делать!
И тогда Князев решился на крайние меры.
Глава VIII
Ковшов, прощаясь с убегавшим из кабинета сыщиком, не ошибся в своих догадках. Капитана Донскова лихорадило действительно по серьёзной причине: везунчику Дыбину снова улыбнулась фортуна. Тот обеспечивал наблюдение за похоронами Дзикановского и засёк одного из скрывшихся могильщиков.
Произошло это утром, когда капитан отправился уговаривать полковника Лудонина не спешить с совещанием у генерала. Теперь тело Аркадия Викентьевича, несостоявшегося врача и мнимого приятеля коллекционера Семиножкина, должны были предать земле, как положено. Однако – не заладилось. Смущаясь, лейтенант Дыбин передал в отдел, что к воротам морга, откуда предполагался вынос, прибыли лишь домработница отца покойного по имени Мирчал и соседка Семиножкиной, уже хорошо известная Бокова Матрёна Никитична. Возле самогó отца в это время дежурила «неотложка», вставать с постели ему не позволили врачи, со слов соседки вдова тоже пребывала в болезненном состоянии. «Вот и весь эскорт в последний путь, – удивлялся Дыбин, докладывая обстановку, – особо присматривать не за кем».
Особенно ни на что не надеясь, Донсков отдал команду продолжать наблюдение, и вот совсем недавно от лейтенанта поступили сведения, что появившийся на кладбище одноглазый Жучков по кличке Жучок контактировал с домработницей, а после захоронения тела скрытно проследовал за ней в город.
Эта удача и привела в трепет исстрадавшуюся душу капитана. Едва сдерживаясь от нетерпения, Донсков помчался в отдел. С некоторых пор он имел право надеяться, что полоса неудач и ошибок скоро завершится и блеснёт реальная возможность напасть на след выявленной банды. Именно настоящей, большой, умело организованной и хорошо законспирированной коварной банды, рассуждал капитан, тщательно анализируя все обстоятельства, при которых внезапно пропал фармацевт. Жестокой и изощрённой выглядела и хитроумная попытка спрятать его тело вместе со следами убийства. Не оставив никаких улик, преступники быстро и надёжно исчезли, троица словно провалилась сквозь землю или растаяла, как первый ранний снег, и только теперь начала мало-помалу действовать. Донсков верил и не верил, молил Бога, чтобы Дыбин не наделал глупостей: не упустил бы Жучка или не задержал того без особой надобности, – появившаяся нить к затаившейся банде могла безвозвратно оборваться из-за малейшей опрометчивости.
Глава IX
Мы сидели в кабинете Федонина у выпотрошенного сейфа и старались не смотреть друг на друга.
– Есть поговорка, что мертвец хватает живого, – горестно покачал головой старший следователь. – У меня такое впечатление, что покойник Семиножкин добился своего!
– Что уж говорить! Поводил нас за нос с этим списком, – почти злорадствуя, поддержал я его, вид старого лиса очень меня расстраивал. – Но теперь, надеюсь, список достанется тем, на кого и был рассчитан.
Федонин покривился, но промолчал.
– Пусть они порыскают, поищут тех, от которых, кроме фамилий на бумажке, ничего не осталось, – моя желчь не кончалась.
– Уверен?
– Донсков и его ребятки не только адресный стол перетряхнули, они и до соседей добрались. Фоменко, дотошный хохол, только сквозь дуршлаг не просеивал.
– А дети?
– Коллекционер детей в списке не упоминал, но думаю, Юрий Михайлович и их не забыл.
– Почему коллекционер? Список Семиножкину достался от…
– Липовым список оказался. С вашей болезнью забыл я заключение почерковедческой экспертизы показать.
– Да что ты говоришь!
– Извиняюсь. Закрутился со всеми этими напастями, – я подал Федонину заключение. – Вот ответы графологов на наши вопросы. Список в действительности выполнен рукой самого Семиножкина, искусственным путём ему придан затёртый потрёпанный вид. Особого умения при желании не требуется.
– Вот те раз! – возмутился он, изучая бумаги. – Чего же он добивался?
– Полагаю, вы сами только что достаточно внятно высказались по этому поводу.
– Я?.. Да, да, – смутился он. – Конечно. Но тогда кто?..
Истрепались нервы у Федонина за последние несколько суток, никогда на него столько неприятностей враз не сваливалось, а утеря списка совсем выбила его из колеи, жалким он выглядел и потерянным, но меня самого тоже только что не трясло.
– Хотелось бы иметь ясность на этот счёт, – буркнул я. – Одна надежда на Юрия Михайловича. Он, правда, пока молчит, но показалось мне, умчался так, только пятки сверкали.
– Да, да… – грустно моргнул глазами Федонин. – Если он что-то учует…
– Разрешите? – тихо отворилась дверь, и в кабинет заглянула старушка в знакомом платочке.
– Входите, входите, – даже привстал Федонин и в лице переменился. – Какими судьбами, Ивелина Терентьевна?
– Вот, сама пожаловала, – старушка не задержалась у порога, юркнула к столу с обычным проворством и прямо на кучу бумаг, словно и, не замечая их, торжественно возложила двумя руками объёмный свёрток. – Принимай, батюшка, как обещала. Внучок меня останавливал, мол, занят ты, но прости, невтерпёж.
– Это что же такое? – Федонин разглядывал свёрток, как великую ценность, боясь к нему прикоснуться. – Подозреваю, дела давно забытых лет?
– Почему же забытых? А обещала что? – старушка ко мне обернулась, призывая в свидетели. – Мово Константина Мефодиевича завещание. Здесь всё им прописано. За что выслан был из города, где мытарился, как дорожка назад нас привела. Там про многих знатных людей и…
– Да я же у вас про архиепископа Митрофана интересовался. Про крест его, тот, о котором разговор был.
– А ты читай, батюшка, – старушка пододвинула свёрток старшему следователю, словно осерчав, сама принялась разворачивать газеты, которыми было упаковано содержимое. – Никому не доверилась, хотя были желающие. Сама всё схоронила после смерти мученика нашего Константина Мефодиевича. Там у него всё прописано. И про крест тот.
Вдвоём они бережно распаковали свёрток. В нём оказалось несколько пухлых пронумерованных общих тетрадей с надписями на обложках, пачка свёрнутых пополам пожелтевших от времени газет под названием «Коммунист», стопка старых конвертов, перевязанных тесёмкой, фотокарточки в плотном большом чёрном пакете и прочая разность, среди которой бросались в глаза облигации всевозможных тиражей, кургузый плакатик, напоминающий то ли стенгазету-молнию, то ли сатирический листок революционных времён в стиле Маяковского с пузатым безобразным попом, спасавшимся бегством от разъярённой толпы и надписью: «Мы на зависть всем буржуям…» Тут же ютились перетянутые резинкой купюры давно вышедших из обихода денег разномастного достоинства и кучка самодельных конвертиков в форме треугольников, один из которых старушка взяла в руки, смущённо повертела в руках и, поднеся к повлажневшим глазам, улыбнулась одними губами:
– А это ему мои голубки.
– Ваши письма? – догадался Федонин.
Старушка, совсем смутившись, кивнула.
– Зачем же. Не надо их, Ивелина Терентьевна, – начал я собирать треугольники в руку. – Это ваши личные, сугубо семейные, так сказать, вопросы, к делу они никакого отношения не имеют…
– Как! – старушка отстранила мою руку с конвертами. – Как не имеют? Ты что говоришь мне, сынок? Аркадий Ильич ими зачитывался.
– Какой Аркадий Ильич?
– Это не тот богослов, про которого ты мне рассказывала, но адресок забыла? – подал голос и Федонин.
– Тот, батюшка, тот. Курнецов Аркадий Ильич. Я и адресок его нашла. Очень мудрый человек. Мне твердил, наоборот, что передают они, как это… – она запнулась на мгновение, – запах?.. Нет, дух тогдашней жизни. Во, какое слово выдумал!
– Дух эпохи, – неуверенно подсказал я, всё же сунувшись опять за конвертами.
Но старушка перехватила мою руку, смерила недовольным посуровевшим взглядом и на Федонина обернулась:
– Вы уж, батюшка, сами читайте, если надобность имеется. А нет, оставьте в сторонке, я опосля вместе со всем заберу.
– Это прокурор следственного отдела, – кивнул на меня Федонин. – Я вас знакомил прошлый раз. Вы, Ивелина Терентьевна, не глядите, что молод и ершист, ему наш главный прокурор поважней дела доверяет.
– Мой Сашок-то постарше будет, – снова смерила меня, будто оценивая недоверчивым взглядом, старушка. – Доверяет, говоришь?
– Как же.
– Не понять им нас.
– Пустое, – Федонин мне подмигнул, а старушке прямо заулыбался как родственной душе. – А не отведать нам чайку, Ивелина Терентьевна? Вы мне про Курнецова этого?.. То да сё, у нас есть о чём поговорить.
– А что же, – успокоилась та, вздохнула, словно сделала большое дело и присела к столу, распустив платок на груди и руки на колени сложив. – С хорошими людьми можно. Я уж сегодня находилась, а в двух местах побывать бы ещё надо. Но успеется.
Приготовив им чай, подав чашки и отказавшись сам, я, собрав свёрток со стола, направился к себе, но голос старого лиса заставил меня остановиться.
– Ты бы присел, Данила Павлович, – напомнил он мне будто невзначай. – Не помешает нам? – он глянул на старушку, а мне пальчиком повёл в сторону. – Вон за тем столиком в уголке и поместишься. Пробежишься быстренько по тетрадочкам, пока мы чаёвничать будем. А захочешь, и тебе нальём. Опять же вдруг вопросик какой, чтобы не бегать, не возвращаться.
– Пущай, – смирилась та, заверения Федонина по поводу моего положения при прокуроре области на неё, вероятно, очень даже подействовали. – Пущай сидит, читает, ему на пользу. А вопросики какие задаст, что же, ответим.
Моим мнением, конечно, эта парочка не интересовалась.
Но я особенно не переживал, я углубился в тетради, а они принялись за чай, заводя разговор, который меня меньше всего интересовал: старушку, как всех гостей старшего следователя, беспокоило самочувствие рыбок в аквариуме, поэтому скоро я увлёкся содержанием тетрадок и забылся.
Автор, человек надо сказать довольно малограмотный, но занятный, оказался не способным на лукавство, а искренность, согласитесь, всегда подкупает, я с головой погрузился в его трагическую историю, забыл про всё и очухался, когда Федонин, по всей вероятности, повторно позвал меня.
– Собирается наша гостья, – начал прощаться он со старушкой. – Как у тебя, Данила Павлович? Усваиваешь мемуары?
– На мемуары как раз это не тянет, – буркнул я, ещё там, весь в двадцатых-тридцатых годах. – Скорее дневник. Но для нас это двойная ценность. Каждое событие обозначено датой. Представляете, двадцать седьмой год!
– Как же, сынок? – встряла старушка и глазами зырк на меня, будто пронзительными свёрлышками. – На тридцатых годках Константин Мефодиевич только первую тетрадочку заканчивал. Их, несчастных, как раз осудили в сентябре двадцать девятого, а уж весной отправили всех в ссылку. В Сибирь. У меня только тогда от сердца-то немножко отлегло. Я ведь молилась Спасителю, ночей не спала. А днём ревела. Грозились им расстрелом. И было ли за что? За мысли. За думы, что не соглашались церковь самозванцам, обновленцам тем отдавать. А в газетках чего только не писали! Чем только не стращали!..
Эти причитания грозили разразиться рыданием, но как-то оборвались сами по себе, старушка смолкла на минуту, судорожно глотнула воздух, будто вдруг задохнувшись; я схватился за стакан, бросившись к графину с водой, но она ручкой качнула:
– Извергами их называли! Врагами заклятыми!
Голос её стих до шёпота, а сама она голову опустила, вспоминая, горько покачала головой:
– Смертью пугали. Вот, поглядите, – и она ткнулась в свёрток, вытянула из бумаг пожелтевший, готовый рассыпаться листок газеты.
– «Коммунист» за октябрь двадцать девятого года, – разобрал Федонин, щурясь. – Что здесь? А, вот. Митинг с требованием смертной казни. – Он поднёс газетку ближе к глазам. – Смотри-ка! Один из участников, погоди!.. Потребовал чего?.. Потребовал усекновения главы, – с трудом он прочитал почти по слогам. – Это что за феодализм? Это что такое? У-сек-но-ве-ние?..
И нас оглядел, округлив глаза:
– Что-то религиозное?.. Это потому, что они священники?..
Старушка подавленно молчала.
– Ну да, – буркнул я. – Отсечение головы. Чего тут непонятного? Такого наказания и в Уголовном кодексе никогда не было. Но разве вы не читали ничего про те времена? Толпа… От трагедии до смешного…
– Стыдно за писак! – чертыхнулся Федонин.
– Если б только за них! Они писали, что слышали и видели. Ивелина Терентьевна вот по этому поводу уже выразилась. Как вы сказали? Дух эпохи?
– Ты сказал, сынок. Сам, – вздохнула старушка.
– Ох-хо-хо! – покачал головой Федонин.
– Весной тридцатого года объявили об отправке в Коми, – старушка продолжала так и не поднимая головы, – а потом и мне разрешили выехать в Усть-Цыльму. К ним, в Ижму сразу не пустили. Я в другой деревеньке, в нескольких верстах, нашла пристанище у бабки Дарьи. Она одна куковала, а я, молоденькая, как раз ей в помощь. Так и жили вдвоём, редко, но отпускали Константина Мефодиевича, а с отцом Дмитрием так и не свиделись. Он уже заболел тяжело.
– Это кто же?
– Бывший ключарь Успенского собора, самый близкий человек к архиерею Митрофану Дмитрий Стефановский. Он ведь не дожил до освобождения. Скончался там, – старушка всхлипнула. – Скончался несчастный вместе с такими же мучениками: отцом Евгением Покровским, отцом Дмитрием Алимовым… и многими страдальцами…
– У меня к вам просьба, – приостановил я старушку, – только мне к себе надо сгонять.
– Беги, – кивнул Федонин. – Подождём. Только поторопись. И так притомили мы Ивелину Терентьевну расспросами.
И я принёс из своего сейфа несколько пожелтевших потрескавшихся фотографий, на которых хмурая группа мужчин в запоминавшейся форме строго взирала перед собой и, кажется, дальше вперёд, и никуда не сворачивая.
– Это из альбомов Аркадия Викентьевича Дзикановского? – вскинул на меня глаза Федонин.
– Так точно, – положил я фотографии перед старушкой. – Донсков изъял у него на квартире при обыске.
– И что тебя заинтересовало?
– Ивелина Терентьевна, – попросил я старушку и сам почувствовал, как напряглась она вся, как буквально вцепилась глазами в фотки. – Ваш муж пишет в тетрадке, что в Ижму приезжал земляк, сотрудник губчека, допрашивал и его, и Стефановского. Посмотрите, нет этого человека на фотографиях?
– А вот он глазастый! – ткнула пальцем, не раздумывая, старушка так быстро, что мы с Федониным переглянулись. – И трубка с табачищем та же! Я его век не забуду. Он же и меня мучил своими вопросами. Всё про крест архиерея Митрофана допытывался.
– Викентий Игнатьевич! – в один голос выдохнули мы.
Глава X
– Калякай, циклоп, – почти дружелюбно встретил на пороге одноглазого приятеля долговязый Прыщевский, с опаской открыв дверь по условному стуку. – По роже твоей довольной за версту видно, что добрую весть наконец притаранил.
– Дай пройти, – упёрся ему локтем в грудь Жучков, плотный коренастый мужичок, сверкнув единственным глазом, полным гнева. – Нет, поднести пивка, обнять товарища. Весь день не жрамши.
– С тебя будет, – хмыкнул тот, лениво уступая и отодвигаясь к косяку, а из коридора внутрь дома крикнул зычно. – Заявился, Матвей Спиридонович, наш гуляка! А вы все глаза проглядели.
– Что делает-то? – подмигнул одноглазый приятелю. – Небось всё лается?
– Дубы смолит да к стенке ставит, – выругался тот и подтолкнул его в спину. – Выкладывай, что разнюхал.
– Злой ещё, как собака? – не унимался тот.
– Иди, иди! – нарочито громко выкрикнул Прыщевский, не реагируя на намёк. – Потом спрашивать будешь. Натворил дел.
– А ты не при чём? С тобой же были! – огрызнулся совсем обидевшись Жучок. – Сам за спину, и на меня телегу катишь?
– Ну чего грызётесь? – вышел к ним навстречу Князев, бровей не подымая, насупившись, кулаки в карманах из штанин выпирают, готовые в ход в любую секунду. – Где скитался до ночи? Нализался опять?
– Трезв, – сжался в комок Жучок и носом шмыгнул, как провинившийся мальчишка. – К вам с чем ни приди, всё не гож.
– Да за те проделки вас обоих прибить следовало!
– Что ж вспоминать? Повинился я. Спьяну творил, а никто не остановил, – Жучок пробежал в комнату, застыл у стола навытяжку, скользнул взглядом по голой скатерти, носом воздух втянул с тоской. – А сказать-то у меня есть чего…
Но Князев будто не слышал, только зычно хмыкнул, сплёвывая, зашёл следом. Жучок, так и не дождавшись, вопросительно и с опаской обернулся на бригадира:
– Матвей Спиридонович, кто старое помянет…
– Знаю, знаю, – уселся тот за стол, кулаки перед собой поверх скатерти выбросил, грохнул по столу, тот отозвался глухим жалобным эхом, скрипнули ножки. – Было бы у тебя ещё одно око, давеча после ваших художеств выбил бы к едрёной фене! Вот тебе моё прощение. Говори уже…
Жучок примолк, потупился, подбородок от груди боясь оторвать. Было отчего. Бригадир никак не мог забыть ночных проделок на речке, когда, исполняя его наставления, вместо того, чтобы подобраться, подслушать и подсмотреть, о чём беседуют два прокурорских работника, не обронят ли каких слов насчёт убийств и других не лишних подробностей о розыске, подговорил Жучок захмелевшего Прыщевского учудить концерт с волчьим воем и проучить как следует служивых. А чтобы надолго запомнили, вытянули их снасти и сети из воды вместе с рыбой. Всё бы ничего, да пожадничал Жучок, приволок поутру бригадиру весь улов, но вместо благодарности схлопотал зуботычины да такие, что до сей поры всё тело ноет. Благо, ноги сумел унести, а то неизвестно, чем бы кончилось.
– Что молчишь? – рявкнул, не дождавшись ответа Князев. – Хвались, чем промышлял. Принесла турчанка ответ Викентия Игнатьевича?
Жучок слюну сглотнул, кивнул, не поднимая головы.
– Где?
– На словах велено передать, встретиться он готов. Но требует время, чтобы всё обдумать и назначить час.
– Обдумать, это конечно, – оживился Князев. – Хорошо. За это хвалю. Хоть какой-то толк от тебя, гнида. Не думал, не надеялся я, что простит он нам то смертоубийство.
– С чего вы взяли, что он простил? – не хотел говорить этих слов Жучок, но вылетели сами, хоть язык проглатывай, вот поганый характер достался! И так всю жизнь!..
– А тебе почём знать? – Князев аж подскочил с табуретки. – Турчанка поганая что-нибудь наплела?
– Нет, только глазищами сверкала.
– Не кусалась же?
– Только…
– Что он-то?.. Сам?
– А я его видел?
– Чего ж мелешь? Язык будто змеиный! Не зря тебе глаз выбили. Надо было и жало выдернуть.
– Прыща б посылали! Тот только закладывать горазд.
– Молчи, поганец, – пнул Жучка сзади ногой Прыщевский. – Ты толком отвечай. Откуда тебе известно, что хозяин не простил нам смерть сына?
– Да какой же дурак простит? – дёрнулся Жучок. – Ишь чего захотел, сука!
Жучок едва удержался, чтобы не броситься на долговязого. Тот отскочил к стене, сжал кулаки.
– Цыц, сволота! – грохнул по столу кулаком Князев. – Будет время у вас свести счёты. А ты говори, – ткнул он пальцем в Жучка. – Что передала турчанка?
– Завтра будет ждать меня на рынке в мясных рядах. Там и скажет, когда и где. Но хозяин сразу ставит вам свои условия.
– Условия? Какие? – насторожился Князев.
– Чтобы вы на встречу явились один.
– Конечно, один, – хмыкнул бригадир, – неужели вас, поганцев, с собой потащу.
– Без оружия.
– Зачем оно мне, – Князев глянул на свои кулаки, поморщился. – А захочу, и не увидит.
– Чтоб захватили с собой то, с чем Аркадий Викентьевич в землянку в ту ночь прибежал, – немного помолчав, тихо выговорил Жучок и воровато глянул на бригадира.
– Ты разболтал, сука? – вскинулся тот на него.
– Да вы что, Матвей Спиридонович! – отскочил Жучок, чуть не сбив с ног Прыщевского, маячившего за его спиной.
– А откуда ему знать про чемоданчик?
– Я его не видел никогда, – взмолился Жучок, – в тот раз, когда труп прятали, про чемоданчик вы сами рассказывали. Чего молчишь, Прыщ?
Прыщевский не отозвался, но Князев потух, плечи свесил, обмяк, тяжело оседлал табуретку:
– Ладно, садись, гнида. Чего не так, шею сверну.
И замолчал надолго.
Глава XI
Кое-что о нём было известно. Человек представлялся мне личностью значительной и фигурой очень даже примечательной в распутывании умышленно кем-то засекреченной и действительно загадочной истории о контрреволюционном заговоре, получившем название «цианистый калий», в познании судьбы интересующего нас архиепископа Митрофана, трагически погибшего в смутные годы Гражданской войны.
Получив высшее юридическое образование в Петербурге, с начала 20-х годов он проживал и работал у нас. Лично зная Патриарха Руси Тихона, став близким и даже доверенным лицом местного архиерея Фаддея, до поры до времени имел вес во властных верхах. Для решения болезненных вопросов в завязавшейся войне с раскольными обновленцами не раз направлялся в Москву к комиссару Красикову по вопросам церкви. С хрущёвскими новациями пришла пора его «перевоспитания» и после неудачных попыток он был снят со всех постов, ославлен в местных газетах «заклятым мракобесом».
Теперь Аркадий Ильич Курнецов занимался мемуарами, которые никто не печатал. Несомненно, он мог пролить свет на историю той загадочной церковной реликвии, которую десятки лет искали многие, начиная от фанатиков-коллекционеров до преступников.
Со слов Ивелины Терентьевны Толупановой, Курнецов долго и дотошно собирал сведения, работая над рукописью о двух друзьях-товарищах архиепископе Митрофане и епископе Леонтии, во время раскольной смуты оказавшихся по разные стороны баррикад, но помирившихся, оказавшись в одной камере губчека, и принявших смерть в одну ночь, возможно, от пуль из одного револьвера.
Курнецов проживал один, вёл замкнутый образ жизни, изредка выбираясь в церковь. Подводили больные ноги и негнущаяся спина. У него не работал телефон. С некоторых пор его отключили по неизвестной причине, так мне сообщили на станции, а углубляться в подробности не было времени.
– Прогуляешься, – успокоил меня Федонин, сам готовясь к очередной встрече со Змейкиным. – Тут недалеко. Домик старинный, но пока держится, не развалился, как некоторые.
Змейкина должны были привезти из следственного изолятора с минуты на минуту. В кабинете старшего следователя тому предстояло услышать об окончании следствия и знакомиться с томами уголовного дела. Свершилось. Разум взял верх над принципами. Как Павел Никифорович ни упрашивал, ни бился, ни упорствовал, Игорушкин принял решение не будить гнев Генерального прокурора и отказаться от ходатайства о продлении сроков. Пять суток имелось у Федонина. За это время он должен был выполнить требования, так называемой статьи 201-й и направить дело в областной суд с обвинительным заключением.
– Тремя трупами дело не кончится, – горько жаловался старый лис Колосухину, когда они ни с чем возвратились из кабинета прокурора области.
– Вы дело Семиножкина имеете в виду? – вскинул тот брови.
– Конечно. По нему работать и день и ночь надо. Самая горячая пора, а я со Змейкиным застрял, с этим поганцем!
– Так что же?
– Четвёртый труп будет.
– Кого вы имеете в виду?
– Себя! Хоть вешайся.
– Данила Павлович справится, – Колосухин на меня глаза навёл. – Что планируете сегодня?
– Поход к богослову.
– А нужен вам этот Курнецов? – Колосухин покосился на старшего следователя. – Его информация может быть лишь фрагментарной, более того, это, так сказать, фон событий, конкретных фактов, свидетельствующих о готовящихся убийствах и других преступлениях не даст?
– Напрасно вы так, Виктор Антонович, – поджал губы Федонин и головой покачал. – Недооцениваете вы нас с Данилой Павловичем. Рассказ Курнецова может стать ключиком ко всей истории. Богослов – бесценный кладезь, ему лукавить в данном случае не с руки. Он сам в некотором роде пострадал. Жаль, поздно о нём Ивелина Терентьевна рассказала. А ведь знали и другие… вполне официальные лица.
– Сегодня из КГБ звонили, – вставил я. – Просили прийти. Отыскалось у них архивное дело.
– А сами его привезти не могут? – Федонин даже закраснел весь.
– Предлагают ознакомиться с делом у них. Особый режим секретности.
– Кто только строчит эти режимы? – терпения у Федонина не хватало.
– Вы, наверное, после встречи с Курнецовым и сходите в КГБ, Данила Павлович? – с некоторых пор, как Игорушкин жёстко распорядился по делу Змейкина, Колосухин ненавязчиво дал понять, что берёт под личный контроль следствие и по нашему делу. – Павел Никифорович вряд ли рано освободится.
– Выписки сделай, – тут же стал наставлять меня старый лис. – Вместе потом обсудим.
– Выписки делать нельзя, – тут же поправил его Колосухин тихо и будто ненароком. – Режим.
– Ах ты, чёрт! – сунулся Федонин за портсигаром, а я поспешил откланяться: до шести вечера оставалось не так уж много, учитывая свалившиеся на меня обязанности, а главное – КГБ после рабочего времени чужих к себе не впускал.
Глава XII
Лишь зашёл, полумрак и весь седой в лёгком одеянии старец – единственное светлое пятно бросилось в глаза с порога. И ещё: удивительное количество книг размещалось в этих маленьких, низких, плохо освещённых комнатках. Казалось, больше ничего и не было. В кожаных, потрескавшихся от времени переплётах, с уцелевшим кое-где золотым тиснением, они будто свисали с потолка. Впечатление усиливалось давящими на голову массивными антресолями, прогнувшимися под тяжестью пухлых древних фолиантов. На многих корешках проглядывались затейливые кружева тонких рисунков, венчавшихся строго очерченными православными крестами: без сомнений, литература здесь преобладала особая, совсем не из нашего времени и собранная не одним поколением и не один десяток лет.
Озираясь с опаской, я осторожно ступал за старцем, попав в мир чужой и недоброжелательный. Всего ожидал, но только не этого. Из верхних углов неведомым свечением также подозрительно поглядывали на меня с икон лики святых, сверля пронзительными очами, словно спрашивая: зачем пожаловал? Неловкое и жутковатое ощущение, скажу я вам; всем нутром чувствовалась собственная чужеродность в этом спрятавшемся, затаившемся от всех мирке.
Старец, не оглядываясь, спешил на свет, который поначалу едва угадывался впереди, а потом обозначился вдруг небольшим оконцем. Он замер и повернулся; не заметив, я чуть не налетел на него, но ухватившись за книжную полку, устоял, и наши лица сблизились. Только тогда я разглядел мягкие голубые глаза, буквально распылявшие тёплую добрую улыбку:
– Притомил я вас?
– Да нет.
– Позвольте предложить здесь продолжить наше знакомство, – услышал я слова, произнесённые шёпотом неторопливо и доверительно.
Кажется, это был его любимый уголок в гнетущем царстве знаний великих, покинувших мир сотни лет назад.
– Уютно, – не сразу рассмотрел я под оконцем в углу низенькое кожаное креслице.
– Пожалуйте, пожалуйте, – кивнул он мне любезно, будто стесняясь скромной обстановки. – Столь важных персон запамятовалось видеть в моей келье. Чайку?
– Спасибо. Я спешу, – с облегчением упало моё тело в кресло, жалобно скрипнувшее. – Присели б и вы.
– С моей спиной только на жёстком, – улыбнулся он и, дождавшись, когда я размещусь и успокоюсь, коснулся венского стула, неприметного у стенки. – Вам удобно?
– Если б посветлей?.. Хотелось кое-что записать?..
– Да, да. Свидетели, они же должны свидетельствовать, – вспомнил старец, посерьёзнел, засуетился, что-то разыскивая глазами.
– Ничего. Не беспокойтесь, Аркадий Ильич, – придвинулся я вместе с креслом к оконцу поближе. – Мне уже гораздо лучше.
– Я, знаете ли, когда в здравии, использую вот эту весьма удобную вещицу, – он повернулся в другую сторону от окна и я увидел ещё одну редкость – бюро старинной работы.
Курнецов, любуясь своим достоянием, нежно погладил благородное дерево ладошкой по крышке.
– Лет сто служило великим людям, мы все уйдём, а ему ещё удивлять не одно поколение.
– Сейчас ничего подобного нет, – хмыкнул я в тон хозяину, – опилки, а не мебель. К тому же в школах – парты, в конторе – стол, а писатели предпочитают с окна диктовать машинисткам свои вирши.
– Для спины – неоценимое спасение и мысли текут сами собой, я привык… – он нагнулся к бюро, выдвинул один из ящичков и водрузил на крышку перед собой чернильный прибор и свечу в ажурном бронзовом подсвечнике, улыбнулся снова, теперь уже с печалью и вздохнул. – Знаете, по ночам, когда не спится, когда тихо и ясно мыслям…
Я щёлкнул замком портфеля, вытаскивая свои писчие принадлежности, и он сразу смолк; спиной привалился к бюро, задвинул его подальше от окна, а сам, сложив руки на коленках, уселся удобнее на стуле, смиренно поглядывая и ожидая.
– Вы знакомы с Толупановой Ивелиной Терентьевной? – начал я резво, не подымая головы.
– Не имел чести… – задумался он, недоумённо потерев лоб. – Нет, знаете ли… Эта особа имеет отношение к моей прежней службе?
– Стефановский!.. – подсказал я громче обычного. – Отец Стефановский, умерший в ссылке? А при нём был помощник, Константин Мефодиевич Толупанов. Так это его жена.
– Значит, это Ивелина Терентьевна вас ко мне?.. – поджал губы старец. – А мне представлялась другая причина…
– Вы собирали сведения о тех людях? – перебил я его.
– Когда это было, милейший… – улыбка сползла с его лица, Курнецов поморщился, помрачнел. – Мне было предложено… Словом, оставил я давно эти занятия. А если берусь за перо, только очень древних времён касаюсь. Знаете ли, в истории нашего древнего края столько значительного, увлекательного, необычного… Даже на моей памяти. Если о некоторых попытаться рассказать… – он дальше заторопился, сам на себя не похож, заспешил, от меня отвернувшись.
– Аркадий Ильич, – прервал я его. – Мне известно всё, что с вами произошло.
Я выдержал паузу, но он головы не поднял, ждал настороженно.
– Меня совсем не интересуют те обстоятельства.
– Так что же? – любопытство блеснуло в его глазах из-под лохматых седых бровей. – Чем я тогда могу вас интересовать?
– Архиепископ Митрофан, в миру Дмитрий Краснопольский, расстрелянный в девятнадцатом году, – чётко выговорил я. – Вы собирали о нём сведения?..
– Имел такую слабость, – опустил он опять голову. – Но занятие сие оставил. Давно… Знаете ли, поторопился. Время не пришло.
– А вы надеетесь, придёт?
Он вскинул на меня глаза, явно пытаясь догадаться, что скрыто за этим вопросом, и мы некоторое время изучали друг друга, словно заново знакомясь; он улыбнулся грустно, не отворачиваясь.
– Время имеет такое свойство. Почему же ему себе изменять? Я считаю, нет оснований; всё не только возвращается на круги своя, время мстит и наказывает.
– Вы были доверенным лицом архиепископа Фаддея, приехавшего в город после смерти Митрофана?
– Посчастливилось, – ответил он сухо. – Вы неплохо осведомлены. Чем же всё-таки я обязан? Ивелину Терентьевну, простите, помнится, я действительно навещал. А муж её, милейший Константин Мефодиевич, будто прибаливал, не вставал уже, и особенно поговорить с ним не удалось. Ивелина Терентьевна обещалась отыскать его записки, однако, увы… Не скрою, замыслил я в то время некоторую смелость…
– Остались ли в живых очевидцы тех событий? – перебил я его.
– Нет, – произнёс он после некоторого раздумья. – Я полагаю, нет. По моим сведениям умерли даже те, кто уже со слов почивших очевидцев делился со мной подробностями тех трагических событий.
– А вами велись записи?
– Зачем? – в его глазах ловились упрёк и даже лёгкая ирония. – У меня ещё достаточно хорошая память. Так, наброски делал.
– Какова была его кончина?
– Вам известно. Его подвергли расстрелу.
– Нас интересуют подробности. На нём был нательный крест, обладающий чудесными силами?
– Ах, вот вы о чём! Эта легенда и вам не даёт покоя?
– Аркадий Ильич, за реликвией охотятся на протяжении всего времени после смерти архиепископа Митрофана. Последние месяцы фарс, если его кто-то и создал искусственно, оборачивается трагедией. Убиты три человека. Есть основания полагать, что будут ещё жертвы.
Видя, что мои слова подействовали на собеседника, я остановился, перевёл дух и как можно спокойнее попросил:
– Если вы не можете забыть те публичные оскорбления, нанесённые газетой, подумайте о…
– Пустое, – оборвал он меня сухо. – Я не в обиде. Да и при чём здесь вы или те невежды! В конце концов есть высший суд. Воздастся каждому в свой судный час, – он перекрестился. – Вас интересует судьба реликвии, подаренной архиепископу Митрофану патриархом Тихоном?
От волнения я быстро кивнул и облизал губы – неужели удача так близка! – меня слегка залихорадило или это был тик нервного свойства, но авторучка задрожала в моих пальцах, и я сцепил их, не сводя глаз со старца.
– Он действительно не снимал тот крест после возвращения из столицы, – Курнецов улыбнулся прежней смущённой и грустной улыбкой. – А когда сия редкость обрела ореол сказочного чуда, сказать трудно. Мне, во всяком случае, неведомо. Патриарх Тихон одаривал бриллиантовым крестом в своё время и архиепископа Фаддея. Видел я тот крест собственными глазами, как вас теперь. Несказанной красоты и великолепной работы. Преподнесён он был владыке Фаддею в специальном футляре с должными почестями, но чудодейственной славы не снискал, как крест, Митрофану подаренный. Может, тот утрачен при трагических обстоятельствах, поэтому и был вознесён до высоких свойств?.. Известна печальная традиция возвеличивать потерянное.
– Выходит, вы ничем не можете нам помочь?
– Вы требуете от меня откровений? Но могу ли я надеяться на то же самое или хотя бы на понимание? Чувствую, вам многое неведомо в той истории. И крест чудодейственный лишь малая толика в том, что смог бы я вам рассказать. Но готовы ли вы это знать?
– Нас интересует истина, Аркадий Ильич. Это прежде всего.
– Истина?.. А что сие есть? Птица ангельская, кою жаждут, а некоторые, ухватив за перо, хвастают, что владеют ею. Это философская категория, милейший, а вообще-то придуманная игрушка. Она у каждого своя. Зависит от того, у кого в руках власть. И тогда не посягнись! А в итоге истина умирает, уступая место лукавству и нужной лжи.
– Аркадий Ильич, поверьте мне, сейчас меньше всего уместны эти головоломки, – слегка постучал я авторучкой по протоколу.
– Хорошо. Я расскажу. Я расскажу вам, что поведали мне те, кого уж нет на этом свете. Надеюсь, вы понимаете, что их судьба исключает возможность любых моих фантазий. А вы делайте выводы.
Смерив меня оценивающим взглядом, он помолчал, потеребил аккуратную седую бородку:
– Я позволю напрячь ваше внимание с тех событий, когда в марте девятнадцатого года Атарбековым были проведены массовые расстрелы рабочих, возмущённых отправкой хлеба в столицу в то время, когда в городе люди умирали от голода и тифа…
Я вскинул глаза на Курнецова, но тот словно и не заметил.
– Бунт был подавлен, но на панихиде по убиенным владыка Митрофан выразил сожаление по поводу пролитой крови невинных.
Авторучка в моей руке замерла, но он меня опередил:
– Давайте сразу договоримся, Данила Павлович. Вы меня не перебиваете. В противном случае я отказываюсь.
Плечи его выпрямились, голова слегка откинулась, в решительном жесте он, не замечая меня, глядел мимо, куда-то вперёд, сквозь стены и своего книжного мирка.
– Я у вас в гостях, Аркадий Ильич, – смутился я его взволнованным видом и, стараясь выбраться из неловкого положения, попробовал отшутиться: – А с гостями ссор затевать не принято.
– Надеюсь, вы искренни.
– Позвольте, но в учебниках и в современной исторической литературе нет ничего подобного…
– Мы попусту тратим время, Данила Павлович. Вы принимаете мои условия?
– Конечно, – поспешил я, совсем смутившись его боевым видом. – Только встречная просьба и у меня. Постарайтесь без эмоций и… личных оценок. Меня интересуют факты и те обстоятельства, которые я обозначил.
– Факты?! – привстал старец, но дрогнул лицом, сдерживая эмоции, покачал головой в раздумье, прищуренным глазом гневно ожёг меня. – А вам известно, что до сих пор останки убиенных архиепископа Митрофана и епископа Леонтия не захоронены с должными христианскими почестями?
Что я мог ответить? Конечно, я допрашивал его. Я делал записи тут же в протоколе, разложенном на портфеле. И конечно, я мог возразить, что вопросы положено задавать мне, а ему отвечать. Но язык мой, что называется, не поворачивался, допрос превратился в доверительную беседу, и я чувствовал, как искренне проникся собеседник. Но и это было только половина всей правды. Вторая и, может быть, более важная заключалась в том, что с некоторых пор я начал догадываться кое о чём. Эти догадки грызли мою душу, а слова старца подливали в огонь прямо-таки кипящее масло новых сомнений.
– Неужели вашим государевым органам и сия истина неведома? – не скрывая удивления, впился в меня пронзительным взглядом старец, и мне угадывались в нём горечь и даже страх. – Глубоко же в своем грехе погрязли особи, рядившиеся в одежды смиренных агнец.
– Что вам известно, Аркадий Ильич? – повторил я, стараясь его успокоить. – Вы остановились на кресте, подаренном патриархом Тихоном архиепископу Митрофану.
– Ключарь Успенского собор Дмитрий Стефановский, мир его праху, рассказывал мне по строжайшему секрету историю, – произнеся это, старец смолк, задумался, будто собираясь с духом. – Но смею сам сомневаться, поэтому не решаюсь распространяться на сей счёт.
– Говорите, – не стерпел я. – Все версии ценны.
– Версии?.. Ну слушайте. В последний час перед изгнанием из Кремля, когда над владыкой Митрофаном по-настоящему сгустились тучи и друзья стали молить его о побеге из города, он попросил всех удалиться, а оставшись со Стефановским, которому доверял как себе, проследовал с ним в нижний храм кафедрального собора будто бы для того, чтобы под алтарём в земле схоронить свои драгоценности. Поступил ли он так и с подарком патриарха неизвестно, в последние минуты отец Дмитрий укрыл глаза, соблюдая почтение, а после ни панагии, ни других драгоценностей ему уж видеть на архиепископе не приходилось.
– А крест тот?
– Он мог спрятать его на груди под одеждами.
– Но что же потом?
– Крест могли сорвать нечестивцы при расстреле.
– Исключается, – едва не заскрежетал я зубами. – Расстрел и тогда осуществлялся хотя и во дворе тюрьмы, но с приглашением врача, властей. Инквизиция и та своих врагов сжигала принародно. Эта мера чрезвычайная, но публичная. Сам Атарбеков на городском собрании большевиков по приказу Кирова тут же объявил во всеуслышание о расстреле, и газета «Коммунист» опубликовала…
Он не дал мне договорить, медленно поднялся на ноги, видно было, что не вовремя у него схватило спину, он даже губы сжал, гася боль, а лицо заострилось и глаза сверкали:
– В тюрьму мученика не помещали.
– Как?
– После ночного ареста его привезли в дом купца Степанова, где размещалась губчека. Там же вскоре оказался и епископ Леонтий. Неслучайно Атарбекову понадобились оба вождя: архиепископ главенствовал у православных, Леонтий – в стане раскольников. В итоге оба оказались в клетке. Здесь, в грязных складских подвалах, их мучили, решая участь. За несчастных ходатайствовал сам Мина Аристов, геройский командир славной Железной гвардии, и Атарбеков принял просителей. Но коварен был его ужасный замысел и беспощаден от начала до конца: достойного человека решил он облечь на позор, объявил заговорщиком и тайным отравителем. Разве более чудовищного и нелепого можно умыслить?!
– Откуда вам известно такое? – вскочил я с кресла.
– В ночь перед собранием большевиков, кое вы упоминали, в камеру ввалился комендант Волков, выволок обоих арестантов во двор, где от пуль чекистов они приняли смерть.
– Кто это видел?
– И весь следующий день их тела валялись как падаль в груде расстрелянных, – старец бледный, но неестественно спокойный, не слышал моих слов, он словно пребывал в другом мире и разговаривал совсем не со мной и не говорил, а молил кому-то неведомому, всесильному жаловался. – Их были десятки!.. И вздымались они кровавой горой к небесам!.. Об этих отравителях и славословил с трибуны Киров.
Похоже, старец был в трансе, ни кровинки в лице, ни движений; он смолк, обессилев.
– С чьих слов придумано всё это?
– С чьих слов? – словно эхо повторил он. – Я же вас предупреждал, в живых никого не осталось. Но дождёмся мы высшего суда, и тогда выйдут они все, а первым Ванюша Пупов, каждое утро носивший передачки арестованным. И скажет он, как конвоир подвёл его к окошку складского двора, и узрел он повозку, накрытую рогожей, с босыми синими ногами… А потом учинят допрос караульному Терехову, который расскажет, как ночью выволок комендант Волков сонного мученика Митрофана во двор, где с револьвером поджидал Атарбеков… И множество очевидцев пройдёт перед тем великим судом от следователей до палачей, от священников до простых смертных, и не осмелится слукавить ни один.
Влага выступила у него на лбу, испариной покрылось лицо старца, пошатываясь, он упал на стул. Я бросился искать воду, но он остановил меня слабым жестом руки:
– Откройте окошко. Это сердце… – голос его оказался твёрд, хотя совсем тих. – Сейчас отпустит.
Свежего воздуха, признаться, не хватало и мне. Несколько минут мы оба молча наслаждались его живительной силой. Я всё же отважился отыскать дорогу на кухню и принести графин с прохладной водой. Мы с недоверием присматривались друг к другу, но, отпив глоток, придя в себя, старец вдруг закивал мне головой:
– А насчёт креста и его розысков вы, кажется, правы.
Я насторожился.
– Могилу обоих мучеников у монастыря разрывали, учиняли беспорядки, как ни пытались укрыть её монахи. Грешили на беспризорников, видели их у стен, гоняли. Но в то время чекисты ещё не могли найти самой могилы. Кто-то сообщил, что мучеников тайно захоронили вблизи стены, и они сбились с ног в поисках.
– Почему их похоронили у монастыря?
– Вы не позволили мне договорить.
– Извините.
– Отец Дмитрий Стефановский проявил смекалку. Убиваясь в печали, что не смог вызволить владыку Митрофана живым из заточения, он с товарищами умудрился похитить его тело. Договорился с возчиками, ночью вывозивших на телегах трупы убиенных на свалку к Собачьему бугру; у Красного моста он перегрузил тела обоих мучеников на свою повозку и привёз к стенам Покрово-Болдинского монастыря. Надо было спешить, поэтому без гробов и облачений отец Дмитрий начал панихиду. Первым в могилу положили Леонтия, а сверху владыку Митрофана. Завернули их в простыни, предали земле, а на могиле оставили лишь небольшой холмик. Да, опять же… – словно спохватился старец. – Креста на убиенном Митрофане не оказалось, оба покойника были в окровавленном ночном белье. Отец Дмитрий снял крест с себя и надел его на мученика, к цепи прикрепил ещё и железную коробочку с запиской, в которой тут же под свет фонарей изложил обстоятельства кончины и имя.
Старец смолк, потерянно сложив руки на коленях, голова его поникла, казалось, и сам он оцепенел. Я торопливо дописывал протокол.
– Много лет спустя, – подал он снова голос, – приходилось мне как-то бывать у монастыря с владыкой Фаддеем. Поставлен был на могиле той уже и крестик, но жаловались монахи, бесчинства продолжались. Нашлись нечестивцы, сносили крест до основания, обломки и те исчезали. Кто-то с чёрной душой старался не оставить на том месте даже внешних примет.
Я давно уже поглядывал на часы. Мне следовало торопиться, если я хотел успеть в КГБ.
– Вы спешите?
– Аркадий Ильич, мы вас побеспокоим, если возникнет надобность встретиться для уточнения некоторых обстоятельств, – произнёс я обязательные слова.
– Что вас может ещё интересовать?
– Ну… – замялся я. – Проверить, что вы сообщили, сложно. Однако всё будет доложено начальству, и мы постараемся…
– Знаете ли?.. На старости лет хотелось бы единственного – умереть в родной земле без позора. Грязи на меня столько пытались налить…
– Отдельные события изложены вами ортодоксально.
– Как вы сказали?
– Противоречат известным источникам.
– Кремлёву и Холопову?
– Если бы! Это писатели. В очерках по истории нашей партийной организации, мягко выражаясь, Мушкатёровым несколько иначе…
– То есть я лгу?
– Излагаете тенденциозно.
– Однако! – начал он снова загораться волнением. – Отстранили же Атарбекова от должности после убийства владыки Митрофана.
– Он был отозван Дзержинским в Москву и направлен с повышением в другое ведомство.
– А вот здесь вы не правы! – старец вскинул гневный взор. – И если нет в живых свидетелей, то имеются архивные документы. Не могли же их уничтожить или подчистить.
– О чём?
– Как! – Курнецов вспылил, и я невольно пожалел, что наш разговор получил продолжение.
– После расстрела архиепископа Митрофана, – чуть не вскричал он, – Мина Львович Аристов поднял гвардию, окружил губчека и арестовал весь особый отдел! Атарбекова ждала неминуемая смерть, так как Аристова поддержали и другие члены Реввоенсовета. Только Киров его спас, получив приказ Дзержинского специальным конвоем немедленно отправить арестованного для специального расследования в Москву. В обкоме коммунистической партии имеется архив. Полагаю, вашим органам не откажут…
В глубине квартиры забренчал звонок.
– К вам пришли?
– Соседка, – как-то сник Курнецов. – Пора. Пришла уколы делать. Мне, знаете ли… До поликлиники далеко. С её помощью с недугами борюсь.
Я поднёс руку с часами к глазам – времени не оставалось.
Глава XIII
Сквозь дрёму он слышал, как, закашляв, поднялся отец, неясные разговоры родителей на кухне и свисток чайника, оборвавшийся с опозданием. Потом мать осторожно подошла к двери, поудивлявшись, что всё спит, на цыпочках удалилась, так и не отважившись войти; и за ними захлопнулась входная дверь. Оставшись один, он блаженствовал в постели, разглядывая потолок, фотки на стенах, начиная со школьной поры, плакат любимого боксёра Попенченко с перчатками и в спортивной майке с рукописной надписью «“Динамо” – от всего сердца», сделанной им самим, разбудивших его бесстыжих голубей, до сих пор воркующих у распахнутой форточки.
В кои веки впереди у него были свободные целых полдня, пожалованные расщедрившимся капитаном Донсковым за успешные ночные бдения, младший лейтенант Семёнов ломал голову, куда их деть. Приятели давно перестали заглядывать, прознав про его вечную занятость, прежние увлечения он забросил сам, девушкой по-настоящему не обзавёлся. Однажды на службу рискнула позвонить Татьяна, но угодила на Фоменко, а старлей, перехватив телефон перед самым его носом, специально закатил ей такую занудную отповедь о вреде личных бесед в служебное время, зловредно поглядывая на младшего лейтенанта, что у той вряд ли осталось желание водиться с самим адресатом. А жаль, девушка произвела на Вячеслава яркое впечатление.
После памятного случая в кафе Семёнов ещё несколько раз бывал там, и незаметно они сблизились с Татьяной; ей даже удалось как-то утащить его в кинотеатр «Октябрь», посмотреть на «настоящих мужчин», как она выразилась; народ валил на «Великолепную семёрку» с самим Юлом Бриннером.
Успевая чистить зубы, а затем, прыгая на одной ноге, стараясь попасть в штанину, Семёнов приготовил глазунью из трёх яиц, уселся у телевизора и прихватил оставшуюся от отца газету. Патлатый певец бесновался на экране, словно напоминая и подсказывая:
Ты мне вчера сказала, Что позвонишь сегодня, Но, не назначив часа, Сказала только «жди»…И решение нашлось само собой – а не махнуть ли ему в то кафе и самому переговорить с Татьяной? Настоящему джентльмену не мешало бы извиниться за незаслуженные нравоучения, устроенные вздорным начальником, а то у бедняжки действительно сложится неблагоприятное мнение об этих самых… людях в синих шинелях.
Насвистывая привязавшийся мотивчик, младший лейтенант, естественно, при параде и весь представительный, не хуже английского дипломата, через какие-то полчаса бодрым шагом уже входил в кафе, но его ждало разочарование – Татьяны не оказалось на месте, оказывается, её куда-то отправил шеф, Фарук Нариманович, почтенный здоровяк, хозяйствовавший в зале. В обществе подружки-подменьщицы ему пришлось дожидаться с бокалом сока за столиком минут двадцать, прежде чем знакомая стройная фигурка мелькнула на входе, а вскоре она сама, сдержанно улыбаясь, присела напротив.
– Вот уж кого не ожидала увидеть, так это вас, Вячеслав Андреевич, – дерзко стрельнула она зелёными глазками и, казалось, пощёлкивая жадными зубками.
Подружка, ещё раньше вскочив на ноги, заняла безопасную позицию у них за спинами, не отваживаясь сидеть, но и не торопясь покидать.
– Пожалуйста, ещё стаканчик томатного сока… – ничего другого не нашёл он сказать.
– Обойдётесь, – прервала она его. – Этот сок опасен вашему драгоценному желудку в таком количестве. Вдруг узнает старший лейтенант Фоменко?
– Даме прохладной водички, – обернулся к застывшей в растерянности официантке галантный кавалер, явно подсказывая, кого ей следует слушать. – Клиент всегда прав.
Татьяна всё же махнула подружке рукой, а Семёнову напомнила:
– Какими ж судьбами? Неужели сам начальник позволил? Или опять с особым заданием?
Семёнов ценил юмор, он признавал и сатиру, но не в таком количестве, поэтому попробовал рассмеяться:
– Запомнился наш командир?
– У вас все такие вежливые? – отпарировала она.
Он отыскал её ладонь на столе и сжал тёплые подрагивающие пальцы.
– Мы-то надеялись, что у нас защитник появился, а его, оказывается, и по телефону нельзя услышать, – она потеплела глазками, но ещё хмурилась, явно доигрывая роль.
– А что? Опять кто дебоширил? – всё же спросил шёпотом и доверительно Семёнов, как он один умел делать, покорно опуская перед ней симпатичную голову и нижайше поглядывая из-под густых бровей.
– У нас тут хватает! – уже неслась, торопилась с бокалами подружка, улыбаясь во всю свою добродушную физиономию и довольная очевидными переменами. – Чего-чего, а этого добра!..
– Это кто же? – ещё строже насупился поклонник. – Милиция, а также общественность подобного не потерпит.
– Да хватит тебе, Люб! – одёрнула толстушку Татьяна. – И воду зачем принесла? Я тебя просила?
– Милые бранятся, а тебя в рога? – остановилась та, обидевшись.
– Что всё-таки случилось? – не подымал головы Семёнов; наладив отношения, он уже подумывал, как бы отпросить Татьяну у заведующего кафе и несколько часов провести вместе.
– Тот, малец шкодливый, заскакивал. Не забыл?
– Кто?
– Пива ему опять захотелось. Фарук, конечно, справился бы и сам. Но надоел. Хотели милицию вызвать, а он удрал.
– Погоди, погоди! – даже привстал Семёнов, не веря своему счастью, и сок пролил, дёрнувшись рукой. – Тот мальчишка?
– Он, – заволновалась и Татьяна. – А почему тебя это так удивляет? Он тебе интересен?
– Интересен? – уставился на неё Семёнов и судорожно огляделся. – Телефон у вас есть?
– Он преступник?
– Я многое бы отдал, чтобы увидеть его ещё раз.
– Убийца?
– Не знаю… Есть телефон?
– У заведующего. Но, кажется, ещё не подключен… после ремонта у нас…
– С кем он был?
– Один, – пожала она плечами, а вслед за ней побелела лицом и подружка.
– Он живёт где-то рядом?
– Да откуда мне знать!
– Ах, батюшки! – схватилась обеими руками за спинку стула толстушка. – Он вор. По морде было видно.
– Мне больно, – тихо сказала Татьяна, и Семёнов только теперь заметил, что сжимает её ладонь. – А кто он, Слава? – ещё тише спросила она.
– Это не главное.
– А что?
– Долго рассказывать, – поджал он губы и соображал, как быть. – Тебе что-нибудь известно о нём?
– Нет.
– Тогда зачем тебе знать?..
– Я его видела недавно.
– Видела? Где?
Она лишь испуганно кивнула головой:
– Когда на работу шла утром. В скверике на лавочке высиживал с таким же… хулиганом. Только тот взрослый мужчина. Маленький, противный и пухлый. Вроде колобка кругленький.
– С бельмом?
– Да. Без глаза.
– Слушай, Таня, – забывшись, он опять сжал ей руку так, что она вскрикнула. – Мне срочно надо позвонить в райотдел. Где тут поблизости телефон? Это очень важно.
Глава XIV
В дверях КГБ дежурный, поизучав моё удостоверение, приложил руку к козырьку фуражки и отсалютовал:
– Товарищ прокурор следственного отдела, вас дожидается старший советник юстиции Федонин в семьсот пятнадцатой комнате. Подождите, вас проводит солдат.
Я уже раскрыл было рот, чтобы удивиться, но вовремя прочувствовал ситуацию и только хмыкнул: непохож был бы на себя старый лис, высиживай он сейчас в своём кабинете и пяля глаза на надоевшего Змейкина, слюнявившего палец и переворачивавшего очередной лист десятого или одиннадцатого тома ненаглядного уголовного дела. Усадил небось за стол того же Толупанчика, подвернувшегося под руку, наобещал с три короба, а сам раньше меня сюда примчался.
Солдат, молодой, длинный и лопоухий, не спеша и не совсем уверенно вёл меня нескончаемыми безлюдными коридорами и узкими лестницами не с парадного, знакомого мне хода, а каким-то второстепенным путём, где урны для курения попадались чаще, чем встречный народ этой тихонькой с виду конторы. Иногда чуть припахивало туалетами, а на втором или третьем этаже мы прошествовали по пустующему огромному спортивному залу с гимнастическими снарядами, волейбольной площадкой, футбольными воротами и неубранными оранжевыми матами.
– У вас не ремонт случайно? – поинтересовался я в спину проводника.
Тот не ответил и не обернулся.
– Народ на передовой линии. Трудится с переменным успехом.
От кого я ждал ответа? Китайская стена оказалась бы разговорчивей.
«Дисциплина, – невольно зауважал я молчаливого спутника, косясь на решётки в окошках. – Боятся стёкла мячом расколотить или замуровались от внешнего противника?»
А солдат сохранял немоту, словно язык проглотил. И спина сутулая ничем его не выдавала, слышал ли он мои недовольные разглагольствования или тут же, не задумываясь, проглатывал, и шаг его был тот же, ленивый и по-верблюжьи размеренный. Я вспомнил известную нашу поговорку: «Солдат спит – служба идёт», проникся нехитрой её философской мудростью и тоже смолк, начиная уставать от скучного однообразия, пустоты и мёртвой тишины в этом огромном помещении. Наши шаги гулко отдавались в зале, отражаясь где-то над головой, ухая под самым потолком. Одна серая стена всё же повеселила транспарантом: большими красными буквами он убеждал: «Коммунизм – наша цель и задача». У выхода из зала под этим транспарантом встретилась или поджидала пожилая женщина с серым невыразительным лицом в синем халате с ведром и шваброй. Заметив нас, она опустила голову, когда мы поравнялись, тихо отвернулась в сторону. Мне вспомнился «Белый лебедь», в следственном изоляторе, там конвоиры командовали заключённым, когда в коридоре попадался встречный: «Стой! Отвернись к стене!» Здесь это было проделано без команды, автоматически. «Есть кто живой?! – захотелось мне заорать во всю глотку. – Эй, люди!» Но солдат замер, распахнул незаметную дверку:
– Проходите.
В низеньком без окон кабинетике, где едва хватало места одному, Федонин заседал за низеньким столиком, на котором с трудом умещалось только раскрытое тёмно-коричневое дело. С порога в нос ударил дурной запах. Я даже застыл на несколько секунд, озираясь и стараясь понять, кто осмелился здесь травить нашего старшего следователя. Такой запах исходит от дохлятины где-нибудь в затхлой подворотне.
– Привыкай, – поднял на меня глаза Федонин. – Это тебе не улица, где свобода и ветерок.
Не успев зажать нос, я зашёлся в тяжёлом чихе.
– Осторожно! – прикрыл листы дела Федонин, отгородившись локтем. – Они и так на ладан дышат. Меня уже предупреждали, чтобы внимательней с делом. Ты платочком, платочком прикройся!
– За что же вас сюда засадили? – первое, что удалось сказать мне после того, как я немножко отчихался и пришёл в себя. – Здесь без респиратора нельзя. Подумайте о своём здоровье.
– Говорил уже, – махнул он ладошкой. – Это у них архивная комната. Других нет. Да ей и не пользуются особенно. Смотри! Вот! – Он взял скомканный лист бумаги, весь замшелый и почерневший от пыли, поводил перед моими глазами, поискал место, куда б его выбросить и, не найдя, бросил под ноги. – Стол вместе с хранителем этой древности только что протирали. Гости здесь редкие, реабилитация пятидесятых закончилась, вот и всё.
– Вас аллергия ещё не прихватила? – поморщился я, вытаскивая платок и зажимая нос. – На заводах с вредными условиями молоко дают. Долго здесь не выдержим.
– Что аллергия? – грустно повёл он глаза от архивного дела. – Аллергия – штука заморская. С ней мы как-нибудь справимся. Вот от собственной заразы бы не подохнуть раньше времени.
– Вы про что, Павел Никифорович? – Я не совсем догадывался.
Он как-то хмуро покосился по стенам, в углы верхние глаза поднял.
– Вентиляцию ищете?
Он только крякнул сердито:
– Ты ватой, гляжу, не запасся? Возьми вот, – протянул он мне надорванный пакет с медицинской ватой. – Аптечку захватил. Как знал. Упаковывай нос, боец. Без этого средства расшугаешь мне все страницы своим чихом. Он у тебя какой-то особый. Сметает всё. По молодости, наверное.
– От неё, – хмыкнул я.
– И рот особенно не открывай. Бациллы они не только заскакивают, но и вылетают. Материалы у нас деликатные, – продолжал он колдовать над листами дела и мне подмигнул. – Они ни движений резких, ни шума особого не переносят. Присаживайся рядом. Я тебе стульчик дополнительный выпросил, – он кивнул на квадратный тяжёлый стул у стенки. – Двигай, двигай его, не бойся. Не привинченный.
– А я думал…
– Как в тюрьме?
Я опустил глаза.
– Зря ты так… о нашем советском учреждении, – он оборвал фразу. – Ладно. Потом поговорим, а я дело пока почитаю вслух. Почерк вроде ничего, разборчивый. Где непонятный, теперь вместе разберём.
– Вас моя встреча с богословом Курнецовым не интересует? – всё же напомнил я ему. – Вы, кстати, как здесь оказались? А Змейкин где?
– Ну вот. Я ж говорил, многим интересуешься… Насчёт Змейкина не беспокойся. Я его пристроил. И портфельчик свой особенно не открывай. Записывать ничего не придётся. Нам поторапливаться надо, я только листика два-три сумел одолеть. Так что поспешим, не позже восьми надо очистить помещение.
Я глаза вытаращил и рот уже было открыл – чего это он мне все подробности да так спешно, словно опасается, что пришлют ещё кого-нибудь со мной инструктаж проводить, но он рукой на стул ткнул и глазками вдобавок повёл строго – кончай, мол, балаган!
Я всё ж не удержался, портфель на коленях пристроил и блокнотик выцарапал на всякий случай.
Федонин поморщился на моё упрямство, но глаза отвёл в сторону:
– Ничего. Два часа быстро пролетят. Выдержит твой нос.
При чём здесь мой нос, я так ничего и не понял, а он уже легко приподнял дело под картонную корку, которая тут же не преминула напомнить о себе зловредным гнилостным запахом, и восхитился:
– Глянь сюда! Вот всё дело! Тут всего ничего. Это сейчас у нас на одного Змейкина десяти томов не хватает. А у них целый заговор с сотней злодеев в двести граммов умещалось. Быстро одолеем.
– Вы уж его зазря не беспокойте, – успел я отвернуться.
– Скоро принюхаешься и привыкнешь. Я вот уже ничего. А тоже чихал, как с воли явился. Здесь, боец, режим. Оказывается, ежегодно они обрабатывают такие дела, чтобы не истлели. Вечного хранения! Каверзная процедура… и хлоркой, и клеем каким-то, и разной разностью от клопов, бумажных жучков и крыс. Писали-то тогда на чём придётся. Сюда получше бумагу доставляли, понятное дело, чека. Но всё равно. Вот, глянь, что от газетки осталось, – он слегка пододвинул и пальцем поверху листа повёл, – газета «Коммунист» за 5 июля 1919 года. Половинка в прах разлетелась, однако заметочка, что нам нужна, как раз и сохранилась. Вот послушай, тут всё, что мы ищем…
Жёлтый свет от чахлой лампочки не помогал, а мешал. Но Федонин ниже наклонился и начал медленно читать, изредка останавливаясь в затруднении:
– Так. Заметочка эта называется «Раскрытие тайного заговора белогвардейцев». Вот… «Ещё несколько недель тому назад Особый отдел получил совершенно определённые сведения о том, что в Астрахани существует сильная, правильно поставленная…» Чего это они? «Правильно поставленная»?.. Ты вникаешь?
Я пожал плечами, – журналисты…
– «Правильно поставленная, хорошо организованная белогвардейская организация…»
– Если так будете читать, до утра не кончим.
– До восьми, до восьми. Больше задерживаться посторонним нельзя. Это уж я попросил. Ради нас. Это прежде здесь по ночам работали, а теперь с этим делом чётко. Сотрудников и тех после шести словно ветром выметает. Обратил внимание – нет никого.
– Не встретил. Правда, вели меня сюда почему-то чёрным ходом.
– Обиделся?
– Да нет. Но как-то…
– Я тоже через спортзал вышагивал с солдатом. Тут теперь так. Только до первого этажа. Но лучше, чем по ночам-то…
И Федонин повёл пальцем дальше по строчкам:
– «Первого июля ответственные белогвардейцы на коротких собраниях с местными контрреволюционерами и встречами с ними закончили свои “дела”». «Дела» у них в кавычках почему-то… Хотя…
– Так ясно же, почему в кавычках. Какие это дела? Дела тёмные, – не сдержался я. – Вы нашли бы сразу там про архиепископа Митрофана. Где он там упоминается? А то тратим время впустую.
– Не спеши. Так… «Но Особый отдел предупредил их. Ночью с первого на второе июля белогвардейцы оказались в прочных сетях Особого отдела. Два ружейных выстрела огласили ночную тишину, и одновременно в разных частях города белогвардейцы были совершенно неожиданно накрыты. Были арестованы несколько человек…»
– А где же всё-таки про Митрофана?
– Наберись терпения. Так… «В течение ночи с первого на второе июля…»
– Но архиепископ Митрофан был арестован чекистами Атарбекова ночью с седьмого на восьмое июля и в то же время арестовали епископа Леонтия?
– Все вопросы к автору этой заметки, – поморщился Федонин. – Это официальная газета тех времён. Поехали далее…
– Что там прописано про цианистый калий?
– Как же, как же. Вот… «И, кроме того, их особенно занимала чудовищная мысль отравлять более сознательные воинские части и особенно рабочий батальон. За что брался один из приезжих белогвардейцев, уверявших своих единомышленников, что ему это очень легко удастся сделать…»
Последняя фраза далась Федонину с некоторым трудом, он по инерции ещё искал каких-нибудь продолжений, но смолк.
Мы переглянулись.
– И это всё?
– Всё, – Федонин оперся на локоть, подперев голову кулаком. – А ты чего хотел услышать?
– Ну… хотя бы упомянули про отраву, про обоих священников арестованных… Кстати, в «Очерках о партийной областной организации» говорится, что Атарбеков, выступая перед большевиками на следующий день после арестов и расстрела, объявил, что заговорщики помышляли отравить весь Реввоенсовет, то есть Кирова, его самого и…
– Давай почитаем далее, боец, – прервал меня Федонин, – а после обсудим.
Трудно было не обидеться, тем более что старый лис уже неоднократно цеплял меня за больное место этим обращением, но я сдержался.
– Это ж журналисты! – тут же миролюбиво ткнул он меня в плечо ладошкой. – Они и не на такое способны. И потом. Может, цензура фамилии и лишние подробности убрала.
– А списки есть в деле?
– Кажется, имеется список расстрелянных. Все шестьдесят два человека. Но я мельком листал. Сейчас мы с тобой вместе поищем.
И мы продолжили поиски.
– Вот, слушай, – палец Федонина упёрся в лист, перечёркнутый красной стремительной надписью. – По-моему, нужный нам документик.
Я впился в него, не отрываясь. Этот лист значился под номером двадцать один. И число это было выведено в правом верхнем углу теми же красными чернилами или карандашом, что и надпись. Мы оба вчитались в эту надпись, стараясь её разобрать, и оба разом отпрянули. «Расстрелян» – обозначала она.
– Это потом кто-то написал, – будто про себя едва слышно выговорил Федонин. – Тот же архивных дел начальник. Листы пересчитывал, когда опись составлял для хранения. Сверялся. И отметку сделал.
– Какое это имеет значение? – промямлил я.
– В нашем деле всё имеет значение, – начал Федонин, но прервался и выдавил из себя. – Значит, всё-таки нашли мы с тобой… про Митрофана.
Это был протокол арестного листа. Отпечатан типографским способом. На самом верху над непрерывной чёрной линией чёрными буквами значилось: «РСФСР Особый Отдел при Рев. Воен. Сов. Касп. – Кавк. Фронта». И ниже буквами ещё большей величины: «Арестный Лист № 1297». Далее бланк был заполнен фиолетовыми чернилами человеком с неплохим почерком, но допускавшим порой ошибки.
– «От восьмого июня тысяча девятьсот девятнадцатого года, – начал тихо читать Федонин, подрагивая от волнения. – Арестованный Митрофанов, архиепископ Иван, 49 лет…» Они что же? – оторвался он от текста, недоумевая. – Попутали архиерея Митрофана? О ком Атарбеков докладывал? Другого архиепископа в городе никогда не значилось. Это что за Иван?
– Среди ночи его арестовали, – вмешался я. – Что же тут не попутать? И неизвестно ещё, где этот протокол заполнялся. Видите, исправлений полно.
Федонин снова наклонился над протоколом, начал читать вслух сначала вопросы, выполненные печатными буквами, тут же ответы, написанные чернилами:
– «Образование?.. Духовную академию. Профессия?.. Архиерей местный. Работает?.. В городе Астрахани. Партийность?.. Нет. Состоит ли членом какой-либо организации и долго ли?.. Нет. На какие средства живёт?.. На заработок. Имеет ли семью?.. Вдов. Арестован Особым отделом по ордеру номер сто сорок восемь». Все подписи неразборчивы…
Он поводил пальцем по подписи.
– Вроде Атарбеков?.. На букву «А» похоже?.. Нет, прочитать подпись невозможно. Штамп имеется. Зарегистрирован девятого июня девятнадцатого года и финтифлюшки вместо фамилии…
Он замолчал, задумался и сам себе ответил:
– А зачем им фамилии?
Я молчал, не находя слов.
– Ты знаешь, Данила Павлович, я ведь тут без тебя дело-то быстренько пролистал, кое-где глянуть успел. Хотелось заранее важное пометить, чтобы потом не искать, не тыкаться. Про крест бумаги хотелось увидеть, кто изымал, когда? Вообще-то при аресте обыск обязателен. И тогда протоколы составлять полагалось. А значит, бумага соответствующая должна иметься… Протокол допроса его искал…
– И что?
– Не нашёл ничего… Протокол допроса епископа Леонтия есть, – а Митрофана будто и не допрашивал никто.
– А Леонтий?
– И этот ни про заговор, ни про крест не сказал.
– Вы посмотрите на обороте арестного листа, – неуверенно подсказал я, – иногда следователи разные ссылки, пометки делают, вдруг протокола обыска под рукой не оказалось.
– Чист как младенец, – перевернул протокол Федонин, – единственная пометочка: «документов нет».
– Потерять не могли?
– Все листы пронумерованы, – вздохнул Федонин, глядя в сторону. – Первый раз синими чернилами, второй раз этим… красным карандашом, – он скосил глаза на протокол арестного листа. – Я уже перелистывал. Может, ты попробуешь, у тебя глаза острей.
Он отодвинул дело от себя. Я сплюнул на пальцы и зашуршал листами…
* * *
Мы всё же успели до восьми ещё раз перечитать дело до последнего листа и захлопнуть картонную корку.
– Может, ещё одно дело есть? – засомневался я. – Не может же быть такого? Во всём деле один протокол его ареста и эта… неведомо чья надпись о расстреле.
– Ещё одно дело? Мне начальник архива принёс это, только что не дрожал над ним. Как драгоценность какую! Ни разу, говорит, никому не требовалось, поэтому искали долго. Извинялся. Вы, мол, первые, кому оно понадобилось…
Со мной что-то случилось. Я дёрнулся к окошку, попытался хотя бы чуть-чуть открыть форточку, надёжно замурованную в раму. Ужасно хотелось свежего воздуха. Но тщетно, только ногти обломал.
– Ты иди, боец, – подтолкнул меня к двери Федонин. – А я уж дождусь его. Раньше не придёт. В восемь, как сказано, так и станется. Здесь за порядком следят.
Глава XV
Операция вступала в завершающую стадию.
Донсков, конечно, потянул бы ещё, подождал, помурыжил время под видом уточнения каких-то деталей взаимодействия с другими службами, устранения огрехов – как без них! – согласования роли каждого подразделения… – сейчас это было на руку; он верил в существование недостающих звеньев: похищенный и пропавший чемоданчик из сейфа коллекционера, та же диковинная реликвия архиерея, до сих пор не только не обнаруженная, но маячившая в выдумках священников, и, наконец, главное – две фигуры этой истории – бывший агент губчека, отец убитого фармацевта Дзикановский и сам убийца, вор-рецидивист Князев. Эти составляющие, по его представлениям, должны быть связаны воедино, однако, как он ни пытался, расчёты его не смыкались. Образовывался какой-то схоластичный клубок неадекватных тайн и загадок, а эпицентры двух полярных половинок, двух частей этого клубка не намеревались сближаться. Это следствие отсутствия достаточной информации, красиво и умно определил ситуацию полковник Лудонин и предложил подготовить обстоятельную докладную на имя генерала.
– Пока писать будешь, – размышлял он вслух с одухотворённым лицом недоумевающему капитану, – гениальная мысль слетит на тебя для озарения. Это уже проверено и не такими, как ты.
Донсков разозлился, но не подумал обижаться; он усилил требования к наружной службе, сам контролировал слежку, каждое утро читал рапорты оперативников, вникая в каждый нюанс, отдельных приглашал к себе на собеседование. Наружка всполошилась, её непосредственный начальник бросился было жаловаться Максинову, но Лудонин его ласково приостановил.
Про наставления Лудонина капитан тоже не забыл. Чистый лист и карандаш он положил на стол перед младшим лейтенантом Семёновым. Тот округлил глаза от удивления.
– Пиши.
– Что?
– Наши обоснования. Потом Ниночка отпечатает для генерала…
Вздохнули только утром, когда установили логово бандитов. И не успели перевести дух, начальство потребовало осуществить захват. Донсков побежал убеждать Лудонина не спешить, не оказаться у пустого корыта с разбитым, как говорится, рылом. Тот поддался, но с каждым днём чувствовалось давление генерала, тот прессинговал каждый их шаг.
Семёнова опять усадили за стол. Удивительно, но бумаги имели сверхъестественную силу. Донсков втолковывал непонятливому младшему лейтенанту, что устные доклады, просьбы, споры, требования и даже ругательства нигде не фиксируются, они словно дым, пар, атмосферное явление – явилось и растаяло, и про него забыли, а бумага идёт сначала не на генерала, а регистрируется и попадает в штаб, где полно советников – и каждый в чине не ниже полковника на той бумаге оставляет свою резолюцию – маленькое заключение, оценку, мнение. И это блюдо попадает на стол. Генерал, конечно, одним взмахом руки может поднять подчинённых в атаку, но бумага, хоть и легка, взмаху этому не подчиняется. А в случае неудачи, осечки или, не дай бог, провала, эта бумага окажется тем булыжником на шее любого, пытавшегося выбраться из болота краха.
Ни Донсков, ни тем более Семёнов, конечно, не желали никаких тяжких бед своему начальству и, конечно, не рассчитывали на это, но выбора у них не было.
– Чего в этот-то раз? – выслушав, всё же переспросил младший лейтенант.
– У тебя получается, – поджал губы Донсков. – Побольше аналитики, подкинь умных размышлений.
– Издеваетесь, товарищ капитан?
– На полном серьёзе, дорогой. На полном серьёзе… Объясни им причину нашей вынужденной отсидки: должны быть замечены попытки к взаимным контактам Дзиановского Викентия Игнатьевича с Князевым. Князев, скорее всего, нынешний владелец похищенного Аркадием Викентьевичем чемоданчика со всем бесценным содержимым. Но он почему-то не скрылся, как, казалось бы, должен сделать немедленно, не удрал. Значит?..
– Значит, – поднял голову от бумаги и Семёнов, – имеет на то веские причины.
– Верно, – Донсков души не чаял в своём аналитике, он дружески похлопал его по плечу. – Поэтому Князев, имея неизвестные пока нам обязательства перед отцом убитого, кроме, конечно, нравственных…
– А для него это пустой звук, – вставил писарь.
– Не скажи. Для этого надо знать Князева, а Матвей Спиридонович… это глыба! Медвежатник, он хоть и в прошлом, но правил твёрдых. Это не какой-то там уличный мокрушник, готовый за копейку мать угробить…
– Мы отклонились.
– Поэтому Князев будет искать встречи с отцом убитого. Подтверждение тому мы уже имеем: нами отслежены контакты прислуги Викентия Игнатьевича персиянки Мирчал с Жучком, подручным Князева. Стороны явно сговаривались о новой встрече, чему свидетельствовало дальнейшее поведение обоих помощников главаря: и Прыщ, и Жучок скрытным образом стали регулярно вести наблюдение в районе места жительства Дзикановского. Нет сомнений, они пытаются убедиться в отсутствии наших людей, то есть слежки или наблюдения. Представляется, кроме того, что эти люди высматривают тайные подступы для будущих непосредственных контактов своего хозяина с Дзикановским. То, что идти к отцу убитого предстоит самому Князеву, очевидно.
– Поэтому?.. – поднял голову от бумаги младший лейтенант, ожидая продолжения.
– А ты сам покумекай, – моргнул ему Донсков, устало улыбнувшись, он не спал уже вторые сутки.
– Поэтому наша основная задача – ждать.
– Так?..
– И не проворонить эту акцию, ибо взять обоих следует только с поличным.
– Не голова, а Дом Советов, – похвалил подчинённого Донсков. – Не забудь в нужном месте точку поставить.
Удача младшего лейтенанта Семёнова, как нельзя кстативыследившего воришку Шкета, барражировавшего в том же районе, где неслучайно замелькали Жучок и Прыщ, была лучшим доказательством этой версии. Штришок этот, как выразился капитан Донсков, убеждая неприступного Лудонина, и есть нить к тому звену, после чего они сами и сделают решительный свой шаг.
В этом состоял план капитана Донскова и его команды; казалось, он увлёк своей правотой и Лудонина, но был ещё генерал…
Плюнув на всё, Донсков не направил выстраданную докладную по официальным инстанциям в штаб, он заявился с пакетом ещё раз к Лудонину. Но с полковником успело что-то случиться. Лицо его, отрешённое и холодное, не предвещало ничего хорошего.
– Что? – глазами спросил Донсков, так и стоя у порога, держа в руке пакет.
– Генерал упёрся на своём…
– Как же так!
– Откладывать нельзя. Велика опасность.
– Но у нас всё просчитано!
– Захват банды осуществить с наступлением темноты.
И точка! Тут, как говорится… Только бесполезный пакет трещал, рвался в кулаке под дёргающимися в негодовании пальцами Донскова.
Но это было ещё не всё, что знал капитан.
Когда несколько раньше полковник Лудонин доложил об операции Максинову, тот хмуро спросил:
– Как и когда будете брать?
Максинов любил конкретность и точность во всём.
– Пока не определились. Ночью. По развитию событий, – устало и как-то неуверенно покачал головой Лудонин.
– Вам будут диктовать убийцы?
– Не так чтобы… – смутился тот, поднял глаза на генерала и встрепенулся, придя в себя от раздумий. – Извините, товарищ генерал. Расчёт строится на некоторых обстоятельствах, которые, к сожалению, пока не удалось достаточно точно выявить. Но они существуют. Природа их подтверждается косвенными уликами.
– Природа?.. – прищурился генерал.
– Улики свидетельствуют о единстве интриги…
Лудонину самому не понравилась эта корявая, длинная, мутная и нудная формулировка, еле выговоренная им до конца.
– Я вас не понимаю. Нет уверенности? – генерал прямо-таки пронзил его стальными зрачками. – Что-то новое в вашей тактике, Михаил Александрович? Сомневающийся полководец уже проигрывает половину сражения, а?.. Этого опасались восточные стратеги.
Генерал до назначения несколько лет оттрубил советником в Йемене, гордился кривой саблей в золотых ножнах и тюрбаном, подаренными вождём, и мудрость Востока вспоминал непрестанно.
– Надеюсь, битва не состоится.
– Банда махровых убийц совершила несколько злодейских преступлений, переполошив всё население города, а вам недостаточно масштаба? Я на своей памяти не припомню ничего подобного. Кстати, ещё неизвестно, какой след тянется за ними. Не сидели же они сложа руки; у нас до сих пор значатся не одно разбойное нападение и масса грабежей! Интересно, что они вытворяли на кладбище кроме того, что запросто среди белого дня зарывали убитых?.. – генерал сделал паузу. – Так на что же вы ещё надеетесь, товарищ полковник? Я догадываюсь, ваш расчёт строится на возможной ошибке бандитов?
Ирония почище бритвы резала слух и нервы не ожидавшего такого поворота Лудонина.
– Нет, не на оплошности, – всё же сдерживался он и как можно мягче и убедительнее попробовал объяснить. – Я бы назвал это закономерностью, без которой цепь любых преступных посягательств не имела бы логического финала.
– Случай, закономерность – это категории из философских наук, неуправляемая природная стихия, а моё правило – действовать, – генерал хмыкнул. – Вы, часом, не начитались английских детективистов, Михаил Александрович? – он всплеснул руками, вскочил с кресла и быстрыми шагами пробежался по кабинету, остановившись и замерев за спиной полковника.
Тот вскочил и вытянулся.
– Что за логист или логик завёлся в вашем отделе? Из молодых? Это от него заумные идейки? Прямо-таки ещё один трест великих авантюристов!
На днях по телевизору была прокручена экранизация весёлого рассказа О. Генри про мошенников; созданная ими фиктивная организация, обобрав на Диком Западе наивных старателей золотого прииска, лопнула, а сами герои плохо кончили, обмазанные дёгтем. Фильм стал популярен и у всех ещё был на слуху. Полковник тоже смотрел этот фильм, намёк был безжалостно откровенным.
– В той истории мошенников лишь избили и опозорили, выбросив из города, – перестал смеяться генерал, хмыкнув, как он один умел, и подытожил, поджимая губы. – Но у них была возможность выбрать ещё какой-нибудь штат из пятидесяти. А куда пойду я?.. В случае провала ваших тонких расчётов?
– Евгений Александрович!
– Вы-то на пенсию, Михаил Александрович, – почти совсем по-дружески похлопал его по плечу генерал, усаживая на место. – И сыщики твои найдут работу. Сторожами как раз сгодятся. А мне что предложишь?
– Не всё так мрачно, – противился сказанному всё же полковник. – Капитан Донсков обосновал свою позицию, он уверен в существовании недостающего звена. Иначе всё лишено смысла.
– Вот! – взмахнул кулаком Максинов. – Вас убедил этот мальчишка! Вы пошли у него на поводу. Чем он вас взял? Назовите последнюю успешную его операцию. Ну! Я жду!
– Не было случая, товарищ генерал… – смутился тот. – Все вроде рядовые задержания мелких групп… фальшивомонетчик залётный… банда судовых воришек… громких дел серьёзного масштаба последнее время действительно как-то не было, но…
– А откуда ж тогда это легкомыслие? Не нравятся мне ваши эксперименты, Михаил Александрович. Операция предстоит достаточно серьёзная, чтобы поручать командование ему, – генерал развернулся и возвратился за стол, отпил водички из стакана, помолчал, ещё вспомнил: – А почему ночью планируете захват? Прямо какой-то тридцать седьмой год! Сейчас столько об этом шумят! Возмущаются! Кино уже хотят ставить… Уходить следует от этих устаревших вредных шаблонов, опорочивших себя традиций. Нет чтобы днём провести операцию! На глазах у общественности! Чтобы люди видели, как доблестная милиция вскрывает тайные гнойники позорного прошлого. И прессу, журналистов парочку из наших газет позвать! Привлечь общественных помощников, дружинников. Пусть, как говорится, оголтелая шпана почует, что на борьбу с ней вышла вся негодующая общественность! Сколько в отделе дружинников?
– У кого? – опешив, столбом стоял полковник с бледным лицом.
– У вас, Михаил Александрович, у вас! Я спрашиваю что-то сверхъестественное?
– У нас их никогда не было в угро. У участковых имеются помощники на общественных началах… Для поддержания порядка в местах большого скопления населения… на праздниках…
– У них, значит, есть?
– Имеются формирования при клубах для порядка на вечерних мероприятиях…
– Они, значит, ближе к земле, к народу? А вы, сыщики, значит, небожители? Ну я разберусь! – генерал рванулся к телефону.
– Я свободен, товарищ генерал?
– Идите. И не забудьте о моих требованиях.
Полковник развернулся к двери.
– Да!.. – уже в спину крикнул генерал. – Докладывать мне по результату! Каждые два часа!
Глава XVI
Времени не оставалось. Донсков весь на нервах, с посеревшим злым лицом то бросал взгляды на почти закатившийся за горизонт диск солнца, то тянул руку с часами к глазам, так что не заметил, как ткнул его в бок локтем младший лейтенант Семёнов.
– Чего тебе?
– Гляньте, товарищ капитан! Вылупился!
У забора невесть откуда выросла фигура. Ещё секунду назад никого не было – и вдруг замаячил мужик. Разглядеть его из кабины «москвича» на таком большом расстоянии было сложно, но ошибки быть не могло.
– Князев… – прошептал, долго вглядываясь и не веря своим глазам, Донсков. – Рост, ручищи, кепка вроде на голове?.. – и тут же чуть не заорал от избытка нахлынувших чувств. – Князев! Чёрт побери! Дождались мы его с тобой, Слава!
– Может, почеломкаетесь, – проворчал с заднего сиденья вытянувший шею к лобовому стеклу старлей Фоменко, он дежурил на рации и явно досадовал на доверенную второстепенную роль. – Теперь дело за малым.
– Сплюнь, Павлунь, – весь сияя, кинул через плечо, не оборачиваясь, Донсков. – Я такого натерпелся, что суеверным стал. Вчера кошку кто-то в коридоре забыл, так она, голодная, ко мне бросилась, а я оббегать её начал чуть не по потолку.
– Чёрная?
– А хоть какая! Я и не заметил.
– Как же так, Юрий Михайлович! Ай, ай, ай!
– Не заметил, ей-богу, братцы, – хмыкнул вместе с рассмеявшимися оперативниками Донсков, но вдруг пригнулся к баранке и рукой голову Семёнова прижал.
– Зачем? – взвизгнул тот от неожиданности.
– Что-то косится он на наш «москвич».
– Да с такого расстояния ему не разглядеть.
– Князь вообще-то в медвежатниках прославился. Он такие сейфы в банках брал до войны! А в Отечественную в штрафниках был. Их без оружия на немца выгоняли. Отобьёт у врага автомат, будет жить. Они в атаках зубами горло перегрызали за оружие. Только после этого их за людей признавать начинали. Он волк. У него звериное чутьё и повадки.
– Я умираю! – вдруг ни с того ни с сего захохотал Фоменко на заднем сиденье. – Проняло вас, орлы. А если он подойдёт и подвезти попросит?
– Куда? – округлись глаза у Семёнова.
– На кудыкину гору.
– Хватит вам, – оборвал оперативников капитан. – Он действительно направляется в нашу сторону. На этой улице, кроме нашего «москвича», ни одной другой машины.
– Недоработка, командир, – запыхтел уже всерьёз Фоменко. – Если сунется, я ему без объявления шею тут же и откручу.
– И провалишь всё! – рявкнул Донсков. – Сидеть тихо. И не высовываться.
– Его напарнички здесь же прошли и ни один носа не повернул, – посетовал Семёнов, – а этому чего неймётся?
Действительно, ещё с утра покинул убежище Жучок, первым хлопнул воротами и мелкими шажками заплясал, затанцевал от двора; походка у него была вихляющаяся, под настроение и шаг лёгкий, стремительный; весь он не шёл, а катился, круглый, толстоватый, с маленькой головой в незатейливой соломенной шляпе, из-под которой чернели круглые солнцезащитные очки. Сразу виделся дилетант. «Как он затесался в компанию вора-профессионала Князева?» – не переставал удивляться Донсков, но и второй, Прыщевский, был не лучше – одевался каждый раз, будто в цирке готовился выступать.
Сегодня он выбрался из логова к полудню. Тоже при шляпе, но фетровой и в светлом лёгком костюме в полоску. Верх гармонировал с низом, жёлтые мокасины украшали его длинные ходулистые ноги. Этот сверкал золотой фиксой в верхней челюсти, лишь открывал рот для плевка, а преуспел он в этом искусстве с избытком – плевки разлетались на два-три метра с неизменным попаданием в цель.
Одним словом, прикидывал для себя Донсков, шпана и близко не походила на воровскую братву, до профессионалов им было, как до дна Индийского океана, говаривал так старший следователь Павел Никифорович Федонин, ругая своих аквариумных любимцев. Без надежды найти ответ, капитан морщил лоб и недоумевал, почему прожжённый вор Князев связался с этой публикой?
В этот раз Донсков проводил обоих презрительным взглядом из «москвича» и не стал давать обычной команды их отслеживать; за несколько дней их маршрут уже был хорошо изучен и известен, не осталось ни одного белого пятна, представлявшего интерес: поболтавшись, покружив по улочкам, останавливаясь в сквериках и парках, эти допотопные сыскари занимали исходные позиции недалеко от дома Викентия Игнатьевича Дзикановского и, не спуская глаз, сторожили словно выдрессированные псы. Они, конечно, меняли углы, скрывались за кустарником, изображая бездельников, лузгая семечки, тараща глаза на что ни попадя, затевая разговоры со старушками, выгуливающими собак, присоединялись к зевакам, стывшим за спинами фанатов-шахматистов, подбрасывая глупые советы.
Изучая обстановку на подступах к дому Дзикановского, они добросовестно, как умели, изображали праздношатающуюся публику. Вместе с тем, как подсадные утки, они предназначались и охотнику, если таковой здесь имелся. То есть ему – Донскову! Может, поэтому игра их была столь заметна? Живец дразнил настоящего ловца?..
Так, конечно, всё и было задумано. Только Жучок и Прыщ чересчур переигрывали.
«А чему удивляться, – успокаивал себя Донсков. – Князев довольствуется тем, чем располагает. Другого материала у него нет. А плохо ли, хорошо те справляются, это для него уже не главное. Шкета и того для численности привлекли. Тревожит, что Мирчал давненько не мелькает с ними. Последний раз они встретились с Жучком и обменялись записками. После как отрезало…»
– И вещички при нём, командир, – подметил глазастый Фоменко, вернув Донскова из раздумий в салон автомобиля. – Метров сто, сто пятьдесят до него остаётся. Точно попросит подвезти, поганец! Как прёт! Напрямую?
– Снимемся и укатим?
– Подозрения у него появятся. – Фоменко продолжал следить за подходившим Князевым. – Это вам, товарищи опера, профессионал, а не его придурки-подручные! Лень ему по жаре-то тащиться. Во, концерт будет!..
– Ну ты! – вдруг заорал благим матом Донсков и начал выталкивать Семёнова из кабины. – Пшёл вон, стервец! И дома чтоб я тебя сегодня не видел!
Семёнов вылетел из салона, но уцепился за дверцу и, ничего не понимая, чуть ни шёпотом:
– Юрий Михайлович, что с вами?..
– Пошёл вон, гад! – Донсков уже включил зажигание и выворачивал автомобиль на дорогу. – Домой придёшь, уши оторву!
«Москвич» обдал выхлопными газами остолбеневшего Князева и размахивающего руками Семёнова, рванул с места и запылил по дороге.
– Чего не поделили-то? – спросил Князев.
– А, козлы!.. – махнул рукой, развернулся Семёнов и зашагал прочь. – Я им ещё припомню!
– Вовремя, – оценил манёвр капитана Фоменко, не выпуская из вида заднее стекло. – Чемоданчик и авоська у того клоуна.
– Упаковался Матвей Спиридонович, – согласился Донсков. – В гости собрался с краденым брахлом. За прощением идёт. Мзду прихватил, чтобы мировую выпросить.
– Где у них встреча должна состояться?
– В этом весь гвоздь программы.
– Неужели где-нибудь в сквере?
– Вряд ли. Опытный чекист, хотя и выперли его в своё время, выучкой обладает почище нас. На открытой местности не решится.
– А в чём загвоздка? – возразил Фоменко. – Откроет Князь чемоданчик, Дзикановский выберет необходимое – и все дела.
– А про сына, которого за этот чемоданчик жизни лишили, ты забыл, старлей? У них разговор серьёзным будет и обстоятельным. Десятью минутами не обойтись. Чемоданчик – это предлог.
– А ведь верно, капитан, упустил я детальку…
– Раскинь мозгами. Нужен бы был Князю только этот чемодан с драгоценностями из коллекции Семиножкина, он давно бы отсюда ноги унёс. Ему же вышка светит, а он здесь прирос и какую-то игру затеял. Что-то его заставило остаться и искать этой встречи.
– За сына извиниться?.. Не все же они звери? Вдруг тот сам виноват?
– Как знать, как знать… – Донсков глянул в зеркало заднего вида. – Куда там наш младшой отправился? Костерит, наверное, меня за эту выходку.
– Он парень умный, догадается быстрее, чем ты думаешь.
– Свяжись по рации с лейтенантом Дыбиным. Пусть ждёт Князя. Скоро он там объявится. И пусть пришлёт кого-нибудь навстречу Семёнову. Он выводится из операции до задержания.
– Я мигом, – кивнул Фоменко.
Глава XVII
«Москвич» они оставили за углом и два квартала задами добирались пешком до поста лейтенанта Дыбина, по рации сообщившего, что «объект» недавно благополучно объявился в зоне их внимания, прикатил на «такси», обменялся условными знаками с Жучком, ведущим мирную беседу с седым пенсионером в скверике на скамейке, далее проследовал по аллее на многолюдную улицу, но здесь не затерялся, заскочил в аптеку, поторчал у окошка, видно, проверялся насчёт хвоста, а на выходе нос к носу столкнулся, словно случайно, с расфуфыренным Прыщевским. Будто чужие, они разошлись в разные стороны, «объект» после этого свернул в переулок, где у кустарника близ старого дома проводил время Шкет с ватагой подростков. Они перемигнулись, и «объект» скрылся в подъезде этого дряхлого трёхэтажного здания, где на втором этаже значился проживающим Викентий Игнатьевич Дзикановский.
В Кремле на колокольне башенные часы как раз пробили восемь вечера, когда приметная кепочка поднадзорного последний раз мелькнула в дверях второго подъезда.
Пункт наблюдения лейтенанта Дыбина был обустроен в двухкомнатном кабинете инженера Самсоненко. Сам Самсоненко ничего не знал, он был в отпуске, а во всём этом здании размещался и ударно трудился проектно-сметный институт, оказывается, давно не занимавшийся капитальным ремонтом коммуникационных сетей. Лето – самая удобная пора для подобных малоприятных мероприятий, и на днях один подъезд был заглушен с отключением всех коммуникаций. Лифт загасили, лестницы украсили злые таблички «хода нет» и «ход запрещён», чиновников и аппарат переселили в соседние помещения других подъездов, сделав уплотнение, чтобы не гоняли в легкомысленный «пинг-понг» или бесконечные шахматы в перерывах; в общем, началась обычная тягомотина, сновали какие-то работяги в халатах с инструментами и обещали к новому году порадовать.
Таким образом, в комнатах, занимаемых лейтенантом Дыбиным, царили покой и тишина – творческая атмосфера, обязательная для напряжённой деятельности существ никогда не видимых и никогда не слышимых. Эти призраки вершили своё великолепие так незаметно, что никто вокруг не догадывался об их существовании. Зато они знали многое.
– Как обстановка? – грохнулся на подставленный стул Донсков, вытер вспотевший лоб прямо ладонью и похвалил: – Хорошо устроились!
– Только что держал связь с пунктом главного дежурного в конторе, – засуетился лейтенант Дыбин, подавая водичку из холодильника прежнего хозяина. – Можно звонить в Нью-Йорк, товарищ капитан.
– Хвалю. Туда как-нибудь в следующий раз, – Донсков был в восторге от водички. – Ты мне в нужный момент Лудонина обеспечь. Есть на него выход?
– На дежурку и на приёмную, товарищ капитан.
– А с ним?
– Так он же в кабинете не сидит.
– В этот день должен, – похлопал шустрого лейтенанта по плечу Донсков. – Ну, докладывай обстановку с нашим антигероем.
– Наблюдение идёт в обычном режиме, – вытянулся стрункой тот. – Без происшествий.
– А нас чуть облом не накрыл, – покачал головой капитан, и нервная улыбка исказила его лицо; прямо из стакана он плеснул воду себе на щёки и лоб, начал обтираться платком. – Выкарабкались чудом!
– Придурок в кабину едва не ввалился! – хохотнул Фоменко, принял стакан от начальника и сглотнул остатки.
– Павел Яковлевич! – попробовал урезонить старлея капитан.
– Да что уж теперь, Юрий Михайлович, – не унимался тот, смеясь. – Семёнов геройство проявил. Сиганул в крапиву пьяным голубем. Спас, так сказать, операцию от провала собственной грудью.
– Штанами, – смущённо улыбнулся младший лейтенант, костюм у него действительно выглядел неважнецки, истерзанный кустарником. – Теперь, если что, в каскадёры пойду.
– Весёлая у меня компания, – обвёл всех взглядом Донсков, отобрал у Фоменко уже пустой стакан и скомандовал: – Кончай базар-вокзал! Кому делать нечего – два шага вперёд!
Бездельников не нашлось, притихли и балагуры; Донсков поднялся и, уцепив двумя пальцами пуговицу на распахнутой рубахе Дыбина, потянул его за собой к большому окну во двор.
– Ближе не стоит, Юрий Михайлович, у нас тут лёгкое прикрытие.
Действительно, на окне болтались стандартные институтские занавески.
– А чего не сменил?
– В нашем хозо пока распакуют… потом везти не на чем…
– Там «объект»?
– Дом напротив. Второй этаж.
– Какие признаки?
– Птичка в клетке, товарищ капитан, – радостно затараторил лейтенант. – Единственное неудобство – в квартире Дзикановского плотные шторы, круглосуточно почти недвижимы. Иногда при уборке открываются. Но редко.
– А вторые окна на улицу?
– К тем не подобраться, – сник лейтенант. – Но они без нужды. Пожарной лестницы не имеется. Отсутствуют и водосточные трубы на фасадах.
– Балконы?
– Нет. У меня там люди по всему периметру расставлены. Захочет прыгать – шею свернёт.
– Уверен?
– Злодей упакован надёжно, товарищ капитан. Не сомневайтесь. Как гриб в лукошке.
– Есть аварийный выход в здании? – перебил Донсков, он будто заторопился, поглядывая на часы.
– Имеется дверь. Забита, как обычно, разным хламом. Там у них на первом этаже в этом самом углу раньше магазинчик приспособлен был. Для пожилых жильцов, пенсионеров, чтоб далеко не бегать. Разрешили завхозу. Но год поработал, клиенты перевелись, и дверь забили, ход завалили ящиками.
– А пожарники куда смотрели?
– Да кто туда станет заглядывать? – махнул рукой лейтенант. – Я подумал было сунуться, но шум подымать не стал.
– Значит, запасной выход исключается?
– Не пробраться.
– Для страховки людьми прикрыл?
– Стоят.
– Не засветились бы.
– Товарищ капитан!
– Ладно, ладно. Ты знаешь, Николай, выбил меня из колеи своей выходкой этот Князев! – Донсков потянулся за сигаретой, услужливо кем-то поданной, жадно затянулся, выдохнул с наслаждением. – Ну ни с того ни с сего, подлюга, прямо в салон рванулся. Чего ему захотелось?
– Да прокатиться ему захотелось, командир! – хмыкнул Фоменко. – Решил щегольнуть последний раз перед тем, как успокоится на нарах. Их же тоже мандраж бьёт! Не железные! Чует, наверное, гад, что последние минутки на воле догуливает. Засиделся в своём логове.
– Вот и мне показалось, почувствовал он неладное, – нахмурился Донсков. – Лез в машину к нам, конечно, не покататься. Видел, что трое в салоне. Лица наши пытался разглядеть!
– Успокойтесь, Юрий Михайлович, – Фоменко тоже к окну подошёл, пальцем вниз ткнул на окна противоположного дома. – Сидит теперь, паршивец, где ему положено. Дожидается своей участи. А мы не гордые. Тоже подождём, когда он там наговорится…
Фоменко прервался, словно его осенила жаркая мысль, и на капитана сверкнул дерзким взглядом:
– А может, не стоит нам дожидаться, командир? Чего мы им по хвостам бьём? Возьмём сейчас тёпленьких. И товар при них. Делят небось что в чемоданчике том упаковано. Чудненько получается, они как раз по карманам башли рассуют, а мы их за горло. Стопроцентные улики! И пусть потом заканчивают свои беседы у нас в собачнике!..
Донсков даже дёрнулся от такого предложения, но смолчал, поморщился.
– Я медалек не прошу, – продолжал Фоменко. – Мне бы отпуск малюсенький в благодарность. На недельку на море для восстановления организма, пошатнувшегося от бессонницы.
Он вскинул огромные ручищи вверх и заиграл бицепсами:
– Истощал весь, иссох, и мама в Сухуми заждалась с шимпанзятами своими. Она у меня в обезьяннике работает. Вместе махнём, командир?
– Я тоже поеду, – подмигнул Семёнов. – Море и мартышки!
– И длинноногих там хватает! – ахнул старлей. – Не то, что твоя злючка телефонная.
– Ну вот и договорились, – без особой радости выслушал их капитан. – Поедем все трое, только есть у меня к тебе ещё одно поручение, Павлуш.
– Готов, командир! – враз перестал чудить старлей, изобразив живейший интерес.
– Займись подвалом того дома. Этот магазинчик брошенный покоя мне не даёт. Мы технической документацией располагаем, лейтенант?
– Да откуда же? – взмолился Дыбин.
– Разберись тогда, как всё обстоит в натуре.
– Не понял, командир?.. Да не волнуйся, Юрий Михайлович, Дзикановский и Князь у нас в надёжном капкане. Обложены как волки. Надо брать. Что с командой?
– Команды не поступало. Я сам дёргаюсь. Жду сигнала Лудонина. Он время должен согласовать с генералом.
– Тогда ждём.
– Вот и заполним вакуум, – заторопился Донсков. – Возьми завхоза института и осмотрите подвальчик того дома под видом ремонта. Дома же связаны коммуникациями? Давай быстренько, и чтобы всё честь по чести. Не выходит у меня этот чёртов магазинчик из головы!
– Не переборщить бы…
– Только не отключайте там ничего, свет, воду… Даже на время.
– Понял.
– И задержитесь там. Придумай какую-нибудь закавыку.
– Тебя что-то тревожит, командир?
– Будешь там нашим плацдармом. Из окна ему не сигануть. Разобьётся. В подвале ты. Вот теперь я спокоен.
– Психуешь, командир?
– Есть чуть-чуть. Но это между нами, – погрозил ему пальцем капитан.
После ухода шумного Фоменко в кабинете сразу заметно стихло, исчез комфорт, обнаружилась неуютность. Донсков отправил вниз ещё и младшего лейтенанта Семёнова. Приказал ему усилить пост у подъезда. Ждали сообщения Лудонина. Полковник согласовывал обстановку с генералом и должен был с минуты на минуту объявить начало операции.
Однако задерживался их разговор.
Внезапно Дыбин подмигнул капитану и кивнул на окно. Дверь второго подъезда противоположного дома дёрнулась от толчка и тяжело приотворилась.
– Там у них на двери ещё с зимы пружина пристроена самодельная, – шепнул лейтенант. – Тугущая!
На крыльцо вышла женщина, придерживая под руку старика. Тот старался не горбиться, прямил спину, помогая себе тростью. Оба в лёгких плащах, при шляпах, на мужчине – известная капитану.
– Викентий Игнатьевич собственной персоной! – поднял брови Донсков. – Они, значит, променад затеяли. С каких это…
Дыбин только пожимал плечами:
– Наш Фоменко успеть не мог. Не он их растревожил.
– Конечно, не он. Я другого опасаюсь. Сейчас бы не выскочил сдуру! – поджал губы Донсков. – Попрётся ведь напролом!..
– Я пошлю своих предупредить.
– Пусть бегут. Лишь бы успели. А то натворит бед, хохол.
– А Князева не видать, – перешёл на шёпот Дыбин.
– Ты чего там шипишь? Говори нормальным голосом!
– Князева нет, товарищ капитан!
– Сам вижу.
Дыбин неосторожно приблизился к окну.
– Ты высунись ещё! – рявкнул Донсков. – Совсем всех распугаешь. Эх, чуяла моя бедная головушка!..
– Мы без света. Им нас не видно.
– Это ты так считаешь! Где Князь?
Сумерки давно окутали дворик. Освещённым было только крыльцо у подъезда и парочка эта как на ладони. Они не торопились. Под стать друг другу, прижавшись, они сошли по лестнице и, прошествовав через пустой дворик, свернули на аллею, ведущую к улице.
– Словно на концерт собрались, – проговорил в замешательстве Дыбин. – Плащи до пят, оба при шляпах и у дамочки сумочка через плечо. Прямо семейная парочка.
– Концерт и есть! – таращил глаза Донсков. – У тебя как связь с Лудониным?
– Я же объяснял, товарищ капитан. Через центральный пульт.
– Свяжись!
Дыбин бросился к телефону.
– Нет! – остановил его капитан. – Сначала дай команду Семёнову по рации, чтоб он начал работать с этими… с нашими вечерними прохожими.
– А Фоменко?
– Что Фоменко?
– Фоменко без дела. Как бы не устроил там каламбурчик!
– Но ты же послал своих?
– А будет их слушать старлей?
– Это как понимать?
– Вы же знаете его, товарищ капитан!
– Передай Фоменко приказ – пусть внедряется в дом.
– В дом?
– К Дзикановскому в квартиру. Возьмёт людей и всё проверит. Где-то должен быть там Князев, если уже не ушёл!..
– Товарищ капитан!
Но Донсков уже был у дверей с «макаровым» в руке:
– Вот что, Дыбин! Ты дежурь здесь. Жди звонка Лудонина. И Семёнова веди за этой семейной парочкой. Пусть аккуратненько. Дзикановского не трогать до последнего.
– А вы, товарищ капитан?
– Я к Фоменко. Проверю, куда Князь запропастился.
И капитан исчез за дверью.
Глава XVIII
Они взлетели на второй этаж, словно канаву перескочили – одним махом. Если бы не дверь, не остановились бы. На площадке такая была одна: приметная, широкая, высокая, почти до потолка, обитая жёлтым дерматином и с бронзовым затейливым колокольчиком. На сверкающей ухоженной пластинке из металла жёлтого цвета гравированная витиеватая надпись:
В.И. Дзикановский.
Кандидат психологических наук
Они переглянулись. «Чего не знал, того не знал», – ответил глазами Донсков развеселившемуся неизвестно с чего старлею. Фоменко погасил улыбку, вжался в дверной косяк, припал ухом к двери, прислушался. Глазами моргнул – тихо!
Донсков за спину бойцам захвата отсалютовал – осмотреть до чердака, сам пригнулся, ладошку под дверь в щель сунул, – нет ли сквозняка.
В квартире кандидата психологических наук Викентия Игнатьевича Дзикановского ни звука, ни движения, даже воздух замер. Спустились разведчики – и наверху никого, чердак не повреждён, попыток уйти на крышу не предпринималось.
– Значит, там? – стрельнул глазами на дверь Фоменко, его слегка трясло, автомат в руках подрагивал.
– Похоже, – пожал плечами Донсков, ласкаючи снял пистолет с предохранителя и палец к губам: показалось, внутри вроде что-то шелохнулось.
– Чего тянуть? – опять просигналил зрачками старлей, ему не терпелось.
– Готов? – поднял брови капитан. – За мной пойдёшь. Подстрахуешь…
Но не договорил.
– Извини, командир, – бросился Фоменко на дверь плечом и мощной торпедой протаранил преграду, на глазах развалившуюся, только обломки в стороны полетели.
Ветхим оказалось препятствие или мощным было вторжение, Донсков не успел задуматься, опешив на секунду от выходки старшего лейтенанта, он рванулся следом в квартиру, позабыв включить фонарь в руке и в кромешной темноте налетел на трюмо в прихожей, оказавшееся на его беду огромным и хрупким; осколки посыпались на него злым колючим и нескончаемым дождём, поражая руки, лицо, тело, как он ни пытался сжаться в комок, прикрыть голову руками. В конце концов весь этот страшный стеклянный трезвон завершился ужасным скрежетом, на него обрушилась и сама каркасная рама.
Фоменко с криками «Всем стоять! Милиция!» уже обежал квартиру и, фонарём высветив его под обломками, бросился вытаскивать. Кто-то из бойцов догадался включить свет.
– Князь! – выкрикнул Донсков, не отнимая рук от лица.
Его порезало осколками в нескольких местах, острая боль терзала грудную клетку, с помощью бойцов ему удалось подняться на ноги, пистолет выпал из его рук. Фоменко нагнулся, обтёр его, поставил на предохранитель и протянул оружие капитану.
– Где Князь? – выкрикнул тот снова, не подымая головы и не видя ничего вокруг.
– Ребята! Давайте аптечку! У командира с лицом беда! – Фоменко схватил поданный бинт, разорвал пакет с ватой, крикнул старшему: – Перенесите его на диван в гостиную. Омыть лицо!
– Товарищ старший лейтенант, – обернулся один от дивана, куда уложили Донскова. – Сюда бы доктора? У него, похоже, перелом рёбер, а с лицом надо что-то делать. Тут серьёзное…
Фоменко оттолкнул его, сам нагнулся над капитаном. Тот был без сознания, вскрикнул, когда его приподняли, пытаясь перенести. Рубаха на боку промокла от крови.
– Открытый перелом рёбер, – из-за плеча подоспел кто-то.
– Свяжитесь с Дыбиным. Пусть шлёт врача.
– Есть.
– У него с глазами плохо, – шепнул старший. – Левой брови как не бывало.
– В трюмо влетел, – поджал губы Фоменко. – Оно же, как назло, прямо перед входом.
– Не ослеп бы.
– Чего мелешь! Дай воды.
Намочив свой платок, Фоменко начал осторожно обмывать лицо капитана. Тот застонал. Открыл глаза, залитые ещё кровью.
– Ну вот, – облегчённо вздохнул Фоменко и даже сплюнул. – А ты каркаешь!
– Что? – тихо запёкшимися от крови губами прошептал Донсков.
– Да тут вот плетут околесицу, – слабо улыбнулся капитану старлей. – Совсем тебя хоронить собрались.
– Я про глаза, товарищ старший лейтенант! – начал оправдываться советчик.
– Глаз не невеста, стерпится.
– Князев убёг? – впился пронзительными зрачками в старлея Донсков.
– Куда он денется, капитан? – пытался шутить Фоменко. – Главное, с тобой всё обошлось. Сейчас ребятки обход квартир добьют и приведут его сюда, как миленького. Раз здесь не оказался, значит, по квартирам у кого-то прячется. Граница на замке. Ему отсюда не выбраться.
– Помоги мне встать, – попробовал подняться Донсков, но вскрикнул и голову уронил на подушку.
– У тебя ребро торчит, Юрий Михайлович, – наклонился над ним Фоменко. – Я уж руку сунул, думал тоже пустяк, а наткнулся!
– Надо предпринять все меры, но найти Князева, – зашептал Донсков, громко у него не получалось.
– В бинты укатали, – продолжал своё Фоменко. – Кровь уже остановили. Сейчас прикатит Айболит. А пока я тебя оставлю, капитан. Сам пробегусь по хатам. Я эту суку из-под земли достану!
– Товарищ старший лейтенант! – позвал старший группы захвата. – У меня тут боец чего-то…
– Туалет закрыт изнутри, – подал голос и тот.
– Ну и чего? – не включился сразу старлей. – Тебя сводить, малец?
– Я уже дёргал дверку. Не поддаётся.
– Старшой, помоги бойцу.
– Тут что-то другое, товарищ старший лейтенант.
– Ну прямо малые дети, а не группа захвата! – выругался Фоменко и развернулся от дивана. – Что там у вас?
Туалетная комната действительно оказалась странной. Её дверь вместо обоев была покрыта таким же красивым бархатом, как и все стены гостиной – тёмные розы на тёмно-синей глади с вкраплением золотых точек-звёздочек. Едва приметная ручка из благородной бронзы в виде головы диковинного зверя и наверху картина, каких здесь было немало развешано по стенам. Эта изображала пьяных лохматых вакхов, тискающих млевших нимф.
– Где ж тут туалет? Пройдёшь десять раз, не заметишь, – усмехнулся старлей. – Как напал? Припёрло?
– Унюхал.
– Что?
– Запах какой-то неестественный. Вроде лекарство, – смутился боец.
Фоменко ухватился за бронзовую голову дикого зверя.
– Павлуш! – окликнул его с дивана капитан. – Осторожней!
– Чего уж?
– Не подстроил бы ещё какой сюрприз этот кандидат?
– А накласть! – выругался старлей и рванул за ручку так, что с распахнувшейся дверцей качнулась на него и стена.
Все невольно отпрянули.
На благородном клозете восседал Князев в той же пёстренькой кепочке, полностью одетый, только голова неестественно склонилась к плечу, лицо посинело, и глаза закатились, а массивное тело, придя в движение от рывка Фоменко, медленно сползало на пол длинными деревянными ногами вперёд.
– Да здесь дохляк, Михалыч! – вытаращил глаза Фоменко. – А мы заискались!
– Князь? – вздрогнул и вытянул голову с дивана капитан.
– Был Князь, а теперь одна грязь…
Глава XIX
Василий Петрович Петров, знакомый уже Донскову врач, колдовал над распростёртым на полу телом Князева.
– Юрий Михайлович, – поднявшись с колен, он обернулся к капитану, снял резиновые перчатки и, прикуривая сигарету, хмуро констатировал, – последнее время мы что-то зачастили встречаться при грустных обстоятельствах. Прошлый раз, помнится, меня приглашали к вашему пациенту, которому понадобились сердечные средства. Сегодня вы сами нуждаетесь в помощи, а этому, – он повернулся и ткнул на труп, – уже ничем не помочь. – Петров печально развёл руки в стороны. – Это предмет исследования патологоанатома.
– Повреждения, Василий Петрович? – Донсков извинился перед медсестрой, заканчивавшей бинтовать ему бок, на голове у него уже красовалась повязка. – Меня интересуют повреждения. Какова причина смерти?
– Повторюсь. Увы, никаких повреждений на трупе нет. На вашем теле мы их обнаружили значительное количество. Ваш друг, к счастью, ошибся, – доктор отыскал взглядом засмущавшегося Фоменко, – приняв за перелом осколок стекла, глубоко проникший в мягкую ткань. Бывает…
– Значит, ни единой ссадины на трупе?
– Абсолютно.
– Выходит, отравление?
– Голубчик, Юрий Михайлович, как вы нетерпеливы! Задайте этот вопрос Владимиру Константиновичу Югорову. Патологоанатомы и эксперты – народ самый точный.
– Фоменко! – враз переключился с одной темы на другую капитан. – Как там Семёнов? Что передал при последней связи?
– Парочка вошла в квартиру. Дом полностью оцеплен. Ждёт дальнейших распоряжений.
– Значит, родитель решил проведать покойного сына?
– Квартиру, капитан, квартиру Аркадия Викентьевича.
– Как думаешь, зачем?
– Я уж затрудняюсь и думать. Семёнова бы самого спросить. Он у нас аналитик. Опять небось ищут чего-то?
– Отправились, значит, вдвоём…
– Вдвоём в этот раз, – Фоменко даже затылок почесал, напряг все свои мыслительные процессы, сидя на диване рядом с капитаном, он расслабился от всего происшедшего. – В тот раз, когда Викентий Игнатьевич решил квартирку впервые посетить, он в одиночестве прохлаждался.
– А в этот раз вдвоём, значит? – размышлял Донсков.
– Вдвоём, и чемоданчик с собой князевский прихватили… – повторял за ним старший лейтенант.
– А ещё что у них в руках было? Не заметил?
– Можно с Дыбиным связаться. Тот зафиксировал каждую деталь.
– А сам не помнишь?
– Как же, помню…
– Ну?
– Оба в шляпах, в плащах… Она его придерживала… под ручку, а в правой руке чемоданчик тот, который Князев им нёс.
– Сумки в этот раз не было?
– Сумки нет. Не было. Но у него трость в правой руке была.
– И всё?
– И всё.
– А если подумать? – въедливо впился глазами капитан в старлея.
Медслужба в полном составе уже стояла в дверях, собираясь уходить и ожидая конца этого затянувшегося странного разговора, чтобы распрощаться.
– Чего ты меня пытаешь, командир! – не выдержав, вскочил с дивана Фоменко. – За тот перелом я уже извинился. Кстати, было б хуже, если не ошибся.
– Я знаю, зачем тебя пытаю, – не сдавался Донсков. – Тебе не показалось, будто выглядели эти двое как чёрные грачи?
– Чего?.. Да… В чёрном оба.
– Вот! Будто в трауре!
– Ты думаешь, командир, подыхать пошли?
– А чего им туда б переться? На родные погосты? Это же родительский дом Дзикановских! Немедленно выезжаем туда!
– А здесь?
– Оставь ребят. Пусть ждут медэкспертов. А Семёнову передай, чтоб без нас ничего не предпринимал!
Хорошо всё-таки, что ночью городские улочки нашего города пустынны. То, что они без света, даже лучше, фары мчащегося с бешеной скоростью автомобиля вспарывали кромешную темноту, словно нож консервную банку, и всё озарялось впереди, расступалась тьма по кругу, ни встречных тебе, ни тусклых фонарей на столбах, ничего не отвлекает водителя.
Постовой из группы Семёнова остановил их задолго до подъезда к нужному дому.
– Растёт младший лейтенант Семёнов на глазах, – хмуро пошутил Донсков, выскакивая вместе с Фоменко из машины. – Видишь, где посты расставил!
– Он, когда в крапиву сиганул ещё утром, тогда уже впечатлил, – съязвил Фоменко. – Зреет молодой.
Семёнов доложил обстановку коротко, чётко, в несколько слов: в квартире оба, свет не включали, сидят при свечке на кухне.
– Что это они кликушествуют? – вытаращил глаза старлей на капитана. – Ты как в воду глядел, когда про одежду чёрную вспомнил.
– Чемоданчик при них? – Донсков не сводил глаз с Семёнова.
– Был. У дамочки. Турчанки.
– А ты высмотрел?
– Под фонарём обернулась. Глазища, я вам скажу! – Семёнов поёжился. – В белых блюдцах чёрные маслины.
– Впечатлительный ты. Заметила вас?
– Нет.
– А эти? Три гусёнка?
– Жучок, Прыщевский и Шкет?
– Ну да.
– Подобрал. Чего им без толку болтаться? Воронком в КПЗ отправил.
– Молодец, лейтенант. Что от Дыбина?
– Лудонин после нашей информации о смерти Князева на связь не выходил.
– Сколько уже?
– Минут десять.
– Обсуждают ситуацию с генералом.
– Что будем делать? – Фоменко глянул на капитана. – Брать их надо! Прошлый раз прождались! И эта парочка слиняла, а поганца отравленного в туалет засунули! Упустим этих, считай, операции кранты!
– Ну, допустим, как Князь оказался в туалете, ещё неизвестно, – сжал губы капитан. – Повреждений на нём нет. Свидетельств драки тоже. А Князь не так прост, если сам не захочет, с места не сдвинуть.
– Чует моё нутро, – досадовал старший лейтенант, – брать надо этих тихушников. Ишь! В траур облачились! Живыми их надо брать! Чтоб поведали нам обо всех своих поганых проделках.
– Определимся! – оборвал его Донсков, видимо, приняв решение. – Семёнов, твои стерегут у окон?
– Так точно.
– Мы с тобой, старлей, но не как в тот раз! – Донсков пистолет погладил, сунул в кобуру. – Хватит твоего «калашника». Палить будешь в потолок. И это…
– Здесь зеркала перед дверьми не будет, – хмыкнул Фоменко.
– Ну, по местам!
Они приблизились к двери, Донсков, закрывая Фоменко плечом, в этот раз аккуратно, но твёрдо оттеснил его за свою спину.
– Давай без грохота, – напомнил он ещё раз. – Что-то тут не так. Дай-ка я дверь потрогаю.
Он легонько толкнул входную дверь. Она без скрипа приоткрылась.
– Что за чёрт! – не сдержался Донсков. – Это мне совсем не нравится.
Они осторожно вошли в коридор; с кухни просачивался свет; крадучись, прошли туда. За столом перед горящей свечкой, опустив голову, сидела турчанка.
– Милиция! – не крикнул, а совсем буднично сказал Фоменко и с автоматом встал сзади женщины.
Та не шелохнулась, словно и не слышала.
– Что вы здесь делаете? – спросил Донсков, кивнув Фоменко, уже двинувшемуся с автоматом наперевес в другую тёмную комнату.
Вспыхнула лампочка.
– Викентий Игнатьевич! – донёсся из другой комнаты голос старлея.
– Где Дзикановский? – спросил Донсков и почти не услышал своего осипшего голоса.
Прокашлявшись, сказал громче:
– Вы вошли сюда вдвоём. Где Викентий Игнатьевич?
Турчанка подняла на него голову, сняла шляпу, длинные, густые тёмные волосы рассыпались по её плечам. И зрачки у неё действительно были чёрными, огромными, слезились в белых роговицах.
– Господи! Как вы надоели! – сдерживая слёзы, произнесла едва слышно.
– Вот те раз! – дёрнулся Фоменко, уже возвратившись и готовый автоматом ткнуть её в спину от гнева. – А гадали – турчанка?.. иранка? Да она по-русски шпарит лучше нас! Говори, сволочь, где хозяин?
Женщина вздрогнула как от удара, глаза её сверкнули, и она зло усмехнулась.
– Павел Яковлевич! – осадил старлея Донсков, но женщина сжалась в комок и яростно прошептала:
– Сгинул хозяин. Проклял жестокий этот мир. Не поймать вам теперь его никакими ищейками.
Часть четвёртая
,изо всех самая короткая, потому как, явь это или сон следует ещё разобраться, и героев в ней нет, как нет уже и лиц, на эти роли претендовавших
Глава I
Видно, и этому должно было случиться. Весь на нервах последнюю неделю засиделся я в который раз до позднего вечера над делом коллекционера Семиножкина, расслабившись в тишине, и не заметил, как задремал прямо за столом в своём кабинете.
Сплю или наяву грезится? Не понять. Глаз не открывал, а вижу. Вот они. Двое. В одной команде были до последнего, до смерти. И смерть приняли, как им положено. Не в постели. Правда, и не в бою, но от чужой руки. Борцы… И были всегда во главе людской толпы.
А здесь вроде нет. Здесь, кажется, по разные стороны… И вот ещё что… Не комната это вовсе. Каземат кремлёвский, приспособленный под гауптвахту 11-й Красной армии. В девятнадцатом, когда отступать ей уже под обрез, когда белые город со всех сторон обложили, а внутри тиф и из каждого угла мерещится измена, казалось бы, свои, рабочие, а и те за винтовки хватаются, военные в Кремле укрылись. Тут и стены потолще, повыше – оборону держать, и подземные ходы, если что. Под Троицким собором и в наше время в земле сломанные штыки отыскивались пацанами и краеведами.
Церковнослужителей сразу убрали, только владыка – архиепископ Митрофан в Успенском соборе до последнего держался, но и его попёрли под угрозой расстрела за неповиновение. Штаб армии в храмах разместился. Вот она, решётка в каменном оконце, а за коваными дверьми стража с винтовками. Только в этот раз арестант особый. Поэтому и стерегут его не простые бойцы, а гвардейцы Железного отряда самого Мины Аристова.
Арестант будто преклонился, от оконца глаз и головы не отрывает, свободой не надышится. Этот тощенький, как плеть, человек – Атарбеков. Он тяжело болен, у него туберкулёз в острой форме. Но тот самый. Георгий Александрович Атарбекян. Гроза предателей, заговорщиков и бандитов. Председатель Особого отдела армии, а попросту – реформированного губчека.
А маленький, коротенький, крепенький, словно отлитый из стали, вышагивает вокруг арестанта по каземату; его ногам, хотя и обутым в сапоги, почему-то горячо, поэтому он не ходит, а бегает; обличьем генерал, но в гражданском: френч, галифе без погон и знаков различия. В ту пору их много объявилось. Попадались настоящие – из бывших царских служивых, но больше самостийные, авантюристы, как Махно, Котовский, Дыбенко и прочие.
А этот – Киров. Сергей Миронович. Любимчик Иосифа Виссарионовича. Или враг уже скрытый? У них не поймёшь. У них это так законспирировано!.. Это недавно стало известно, что Сталин, как в ЦК пришёл, так по специальному аппарату всех членов Центрального партийного комитета большевиков прослушивать начал, они же чуть не с детских лет подпольщики – фамилии не свои, всё клички, исторические хроники вместе с биографиями столько раз переписывали, поэтому пытаться истину установить – сложное и неблагодарное занятие. Конечно, специально так всё – чем больше тумана, тем легче потом оправдать: Гражданская война, мол, брат на брата, сын на отца, где ж её, истину, добыть?..
Но Киров узнаваем. С квадратной твёрдой физиономией, простоватый, как на редких фотографиях. Он не любил фотографироваться. Это след. А след опасен политику. Но как ни боялся он их, а именно фотографии сыграли с ним злую шутку.
У него, оказывается, и паспорта не было до особого случая, пока не спохватились. А случилось это опять же у нас и в то же неспокойное время. Но, конечно, известно стало через десятки и десятки лет – опять же краевед раскопал.
Вот они какой настырный, неудобный, а для некоторых «борцов» даже вредный народец – суёт, куда ни просят и даже не пускают, длинный свой нос и отыскивает порой такое!.. Из тайных чёрных дыр, из бездонных глубин, из самого паучьего гнезда достаёт!..
А случилось с Кировым следующее. Попалась на глаза одной девице, работавшей при власти, фотография отпетого политического бандита. Проявив бдительность, она добросовестно задурила головы некоторым членам Реввоенсовета, будто на фото не кто иной, как недавно присланный из Москвы со специальной экспедицией человек, присвоивший себе фамилию Кирова. И ведь засомневались солидные члены! И не просто засомневались, а поверили, так как было отчего – уж больно бесчеловечно и свирепо повёл себя присланный начальник! Вместе со своим помощником из Пятигорска, который на Кавказе не брезговал лично кромсать саблей непокорных, эти двое за несколько месяцев расстреляли более двухсот человек: за что про что не отчитывались, газета лишь успевала списки расстрельные публиковать.
Поэтому и засомневались члены Реввоенсовета, обеспокоившись и за собственные головы – не было гарантий, что завтра ночью не придут за ними. А обеспокоившись да объединившись, прижали председателя Ревкома в его же кабинете и начали пытать насчёт доказательств – а тот ли ты, за кого себя выдаёшь?.. Уж больно очевидно сходство на фотографии с заклятым врагом, а расстрелы бесконечные – опять же жуткое подтверждение… Кто возьмётся просветить твою личность? Киров за паспортом, но не нашлось! И предъявить нечего. Не то, чтобы он паспорта с собой не носил, у него вовсе его не было! Как товарищ Ленин или ещё какой чиновник из Совнаркома выписал справку без фотографии, что податель бумаги никто иной, а он самый и есть, так с тех пор при нём ничего не водилось. Но кто тогда спрашивать бы решился? К маузеру, кожанке другой бумаги не требуется. А тут маузер уже отобрали сомневающиеся чужаки, а дружков рядом никого…
Киров на Куйбышева стал кивать, но для местных ещё один приехавший из Москвы не авторитет. Трагикомичная ситуация всё же без крови тогда разрешилась, но потребовалось вмешательство самого Ульянова. Железному Феликсу уже так не верили, скоро и его самый прозорливый Иосиф Виссарионович начал подозревать во многих грехах и отправил железными дорогами управлять да пацанов беспризорных отлавливать, подальше от тайных партийных интриг. Тот там и умер внезапно от страшной болезни, в которой сомневаются до сих пор.
Но это всё потом. А сейчас в этом странном сне все они ещё живые. Живы и эти двое. Только теперь арестован другой. И Киров к нему прибежал из-за веской причины, посерьёзней истории, нежели у него самого с той проклятой фотографией вышла.
Они вроде как разговор ведут. И до меня их слова доносятся:
– Зачем ты его убил, Георгий?
Эхом в пустом каземате под потолками, полушариями, высившимися над их пригнутыми заботами головами, двоится, троится вопрос. И мне, даже спящему, становится не по себе и жутко.
– Зачем ты убил его?.. Зачем ты убил?.. Зачем?..
От своих же слов и стальному Кирову тяжко приходится. Плечи его опустились, сам будто сгорбился, чего с ним никогда не случалось, зычный голос до шёпота притих, но звук всё равно режет, разрывает мёртвую тишину:
– Тебе что же, того поганца Серёжки Нирода недостаточно было в вожди заговорщиков определить? Сам хвастал, когда твой бесценный Дзикановский тебе его отловил. Ты же рассказывал?.. И бывший юнкер, и незаконнорожденный сын графа, и ради маскировки коварно пробрался в сигнальщики на флагман «Бородино»?.. Или я сам выдумал, когда тебе план операции утверждал? Когда ты мне докладывал, что этот нравственный урод сошёлся с прожигателями жизни, свободное время проводил с кутилами в биллиардной «Аркадии»?.. Он тогда уже в заговоре признавался, соучастников почти всех назвал?! Тебе мало показалось?..
Арестант молчал – только поджимал губы, морщился и от обидных слов кривился болезненно, комкал в кулаке чёрную бороду.
Киров всмотрелся в него пристальней. Перед ним в растерянности стоял не председатель особого отдела, беспощадный чекист, а испуганный до смерти мальчишка. Многого повидавший, сотни человек сам жизни лишивший, смертельно больной и сейчас вот в ужасе ожидающий страшного военного трибунала. А кого суровый революционный трибунал оправдывал? Не для этого он создан. Его задача карать. И этого, хотя и был тот несколько суток назад председателем особого отдела и сам расстреливал направо и налево, теперь не помилует. Всем членам комиссии ясно, что виновен арестант. Дело за малым – председателю комиссии, главе горсовета Секелову отбарабанить доклад и сунуть бумаги в трибунал. И спета песня этого юнца, хотя бородой он оброс, чтобы грознее и старше выглядеть своих неполных двадцати семи.
– Зачем тебе поп понадобился? Этот?.. Митрофан? Он же архиерей! Среди них – владыка! За его спиной верующих тьма. Это опасный народ. Не слабее нас, фанатики!.. А епископа зачем угробил? Леонтия-то зачем отправил на тот свет? Для ровного счёта? Он же принял наш декрет о церкви, признал нашу власть. Сам же его главным над Митрофаном предлагал поставить. С Митрофаном они врагами считались. Или твой Дзикановский тебе про это не сообщал?
– Считались… – наконец разлепил арестант губы, – да в камере сдружились. В одну дудку стали петь. И Леонтий про Митрофана ни слова, будто и не ссорились.
– Так ты сам кругом виноват. Вдумайся. Психология! Сидел же в тюрьмах! Беда всегда объединяет. Тебе ль не знать!
– Теперь на том свете поворкуют, голубки.
– А завтра ты за ними! От пуль своих же. Вот в чём пакость! А какой славой наградишь ты ЧК? Ты же грязью навек вымажешь!
– Разберутся. Зря ты меня хоронишь, Сергей Миронович.
– Надеешься на Ревтрибунал?
– Наш же? Революционный! Это не Секелов преподобный, не Колесникова – баба сварливая, не Минька Аристов, до которого у меня давно руки чесались, но хитрым оказался бывший подъесаул, опередил меня.
– Зря ты так о них, Жора, люди они среди местных авторитетные. И не забывай, какие посты занимают. Коновалова городским комитетом большевиков верховодит, Аристов – гвардией преданных ему бойцов, а Секелов, хоть и глава горсовета, но тебе он ещё и главный судья! Он и есть председатель особой комиссии, которая проверку всех твоих действий проводила, и докладывать завтра он будет на общегородской конференции результаты.
– И чего ж они решили? Тебе-то, конечно, известно?
– Решение их единогласное. Признали они тебя виновным во всех делах. Считают, не справедлив был и творил жестокость. И будут требовать твоего расстрела. Вот поэтому я и пришёл к тебе. Может, больше и не увидимся.
– Всё так безнадёжно, Мироныч? Ты же меня знаешь! Не ради собственной корысти я. Враги вокруг. Не мы их, они нас.
– Моя позиция тебе известна, я когда тебя из Пятигорска звал, наслышан был о твоей беспощадной линии к врагам революции, о подвигах твоих знаю, поэтому и брал с собой сюда, но сейчас ситуация не в нашу пользу и возражать им опасно. Они же и меня врагом объявят, как чуть ни случилось в тот раз, с тем Илиодором. Ты перегнул палку, да и ошибок наделал, Георгий. Таких, что не поправить.
Киров помолчал, собираясь с мыслями, на товарища взглянул, того будто лихорадило слегка, хотя он и сдерживался, стиснув зубы.
– Один выход для себя вижу – не противоречить им сейчас.
Арестант дёрнулся и глазами сверкнул.
– А ты как думал, Георгий? – удержал его в своих руках Киров, как тот ни сторонился от него в обиде. – Не буди лиха, а то не ровен час, растерзают и тебя, и меня. Возмущена толпа, попы верующих подняли, те за своего Митрофана готовы не то, чтобы нас с тобой, Кремль снести!.. То, что мы повязаны, они хорошо понимают. Поэтому Аристов грозится тебя из-под стражи не выпускать, пока Секелов решения своего не объявит. А решение одно будет – виноват ты во всём.
Арестант после этих слов только голову вскинул так, что борода вверх задралась и хлестнула Кирова.
– Но за мной Ленин, Дзержинский, – продолжал Киров, – они это хорошо понимают. Я им не по зубам. А вот ты – продукт отработанный. Поэтому выход для себя вижу один – так как ты лицо особого партийного уровня, подчинён ВЧК и Москве, судить тебя может только особый суд, тот, что в столице. И следствие для этого потребуется особое, не местное. Они, хоть и собрали на тебя бумаги опасные, но у Секелова мы их возьмём и передадим Феликсу. Приказ я сам уже отписал, отстранил тебя от должности, но в Москве, надеюсь, разберутся. Решение будет принимать не кто-нибудь, а ЦК большевиков, а понадобится, обещаю, сам дойду до Ильича.
– Значит, здесь бессилен? – арестант повесил голову.
– Не взыщи. Ты всех против себя восстановил. Ещё в июне на том пленуме городском, когда выступил вгорячах, не обдумав, со мной не посоветовавшись, с сообщением о заговоре, ни с того ни с сего ошарашил всех, что чуть ни сотню заговорщиков расстрелял, попа главным бандитом объявил, да ещё отравителем. Кого ты в Борджиа зачислил?..
Киров пытался поймать глаза арестанта, но тот ниже гнул голову.
– Многим ведь было уже известно, даже Аристову, что ты принимал делегацию просителей, пообещал им освободить архиерея, дело лишь за бумагой стало?.. Вот твоя главная ошибка! Не годится поп в отравители, и у нас не Италия! Из поганца того, юнкера недобитого, Нирода, получился бы злодейский отравитель, он же с фронта с собой цианистый калий таскал, боялся мучений, если ранят; так с тех пор привычку и сохранил… А ты за попа уцепился! За что ты его так невзлюбил? И следователи твои мне докладывали, что против архиерея ни один арестованный нужных показаний не дал. Неужели за просто так?.. Что рясу носит и другому идолу молится?.. Или как того пьянчужку?
– Что? – словно очнулся Атарбеков.
– Забыл? А я помню, – Киров сначала подмигнул хитровато, но тут же посуровел, застеклил глаза. – А я запомнил. И знаешь почему?..
Атарбеков, недоумевая, покачал головой.
– Потому что я просил тебя его не наказывать. А ты мою бумагу с прошением перечеркнул своей визой «расстрелять».
– Так тот пьянчужка на тебя с кулаками кинулся!
– Занесло тебя высоко, Жора…
– Если б не патруль, неизвестно чем бы кончилось.
– С ним ты поспешил. – Киров широко усмехнулся. – Я ему морду тоже набил. Я же из рабочих, Георгий, институтов не кончал, а кулак мой сам видел.
– А если бы…
– Я ж тебе рассказывал… что от женщины ночью возвращался. Сам знаешь, моя давно больна, а ему подраться было не с кем. Если б не патруль, мы и разошлись бы. Зачем его расстреливать?.. Рабочий же парень?
– Я твой цепной пёс, Мироныч. Призван тебя оберегать и охранять.
– В той драке всё ясно было.
– Твоё имя не должно быть запятнано.
– Эк ты хватил!
– А расскажи наутро тот забулдыга, что с самим Кировым махался кулаками?.. Что сам председатель Ревкома от бабы ночью шёл?.. Весь город сплетню подхватит! Нужна тебе кобелиная слава?
– Как ты умеешь всё переворачивать!
– Меня партия для этого к тебе и приставила, Сергей Миронович. Ты хоть с проститутками валандайся, а партию не марай. Поэтому ничего другого как чёрным по белому «расстрелять» я написать не мог.
– Хватит. С тем я на кулаках дрался, а вот архиерей при чём? Ведь ты обвинил его не просто в заговоре, но подверг позору, заявив, что он пытался отравить весь Реввоенсовет!
– О попе разговор особый. Я только приехал в этот город, а сразу почуял особую для нас с тобой опасность.
– Опять ты меня спасал? Поэтому ночью и расстрелял его во дворе ЧК, чтобы никто не видел?
– Тебе Секелов доложил?
– Следователи твои да конвоиры признались. На их глазах ты творил. Зачем тебе самосуд понадобился?
– Пришлось самому. Успел он своим духом и красногвардейцев заразить. Отказались они в него стрелять.
– Без суда порешил!
– Без суда, известное дело. А иначе не скажу, чем бы обернулось. Как во время того крестного хода, когда он Иосифа в святые прославлял, ещё в июне, забыл?.. Когда людям головы задурил и те, словно слепые котята, за ним на наши пулемёты попёрли! Много тогда полегло верующих, а архиерея не задело.
– Святой, что ли? – хмыкнул Киров с недоверием.
– Не стреляли в него солдаты. Тогда ещё я это понял.
– Значит, отказались стрелять? – удивлённо дёрнул головой Киров. – Почему? – и насторожился сердито. – Разобрался? Наказал?
Атарбеков отвернулся.
– Что же он, слова какие говорил? Приказывал? Или обещаниями уговаривал?
– Нет. Молчал он.
– Там у Кремля или у вас в ЧК?
– Здесь, если бы и попытался, рот бы раскрыть не успел. Я ему весь заряд в сердце.
– И думаешь, похвалю? – Киров руку твёрдую на плечо арестанту вскинул, рванул его так, что тот едва на ногах устоял. – Плохо ты метил, Георгий.
– Это почему?
– Есть сомнения, что не убил ты Митрофана.
– Как это не убил? Он что, опять выжил? Своими глазами видел, как снопом на землю повалился. И епископа Леонтия там же солдаты прикончили.
– И Леонтий пропал.
– Ничего не пойму. Если ты шутишь, Сергей Миронович, так это самая горькая шутка на свете!
– Когда привезли расстрелянных на Собачий бугор, стали закапывать в общую яму, двух тел не досчитались.
– Митрофана и Леонтия?
– Их.
– Не вознеслись же они на небо?
– А вот об этом среди верующих уже молва пошла.
– Украли их тела попы. И закопали тайком где-нибудь.
– Мы тоже уверены. Возниц арестовали, но те отпираются, молчат. Есть подозрения, что тела священников закопали у стен какого-то монастыря. Времени у них было мало, торопились до рассвета, поэтому возле города ищем.
– Найди их, Мироныч! – сжал кулаки Атарбеков и задрожал от ярости и отчаяния.
– Отыщем, конечно, отыщем. Чего ты так переживаешь, Георгий? Ты о своей судьбе думай. Это важнее.
– Нет! – вскричал арестант, и всё лицо его покрылось мелкой испариной, сам он, словно в исступлении глаза вверх воздел. – Нет главнее цели, чем найти их трупы! В особенности архиерея Митрофана!
– Да что с тобой? – заволновался Киров. – Приди в себя! Что тебя перепугало? Ты весь дрожишь.
– Утаил я от тебя главное. И сейчас не решаюсь говорить, боюсь, подымешь на смех или хуже того, умалишённым сочтёшь.
– Это с чего же? – Киров схватил арестанта, прижал к себе, пытаясь успокоить, по спине похлопал рукой. – Чего с тобой вдруг? Зачем мне смеяться? Наоборот, волнуюсь, как бы с психикой чего не стряслось от этих передряг.
– Я здоров, – выпрямился, почти оттолкнул его от себя Атарбеков. – Известием о Митрофане ты меня огорошил.
Ему удалось сохранить видимость спокойствия, хотя тело всё ещё подрагивало и глаза горели огнём, выдавая внутренние переживания.
– Боишься его?
– Нет на земле ни человека, ни другой силы, чтобы меня испугать, – сдвинул брови Атарбеков и зло ухмыльнулся. – Дзикановского я вспомнил. Сказки его про этого попа.
– Митрофана?
– Про крест его, – хмыкнул опять Атарбеков и сплюнул. – Да сказки всё это! Бредни!
– Однако ты их не забыл?..
– Больно уж сладкие. Попы или ещё кто поумнее распустили слух, что на Митрофане крест чудодейственный. Якобы подарок патриарха Тихона. Этот крест и спасает архиерея от смерти.
– Не поэтому ли сам в него стрелял? Проверить захотелось?
Атарбеков только хмыкнул в ответ и глаза на Кирова поднял:
– Найди его тело, Мироныч! Очень тебя прошу. Не будет покоя мне вовек, пока ты этого не сделаешь…
На этих его словах и меня словно горячей волной окатило. В себя пришёл и проснулся. Сижу в кабинете, поздно уже, стемнело за окошком. И спал, не спал, не пойму, только всё явью в сознании моём отпечаталось, будто перед глазами только что пролетело…
Часть пятая
,в которой положено бы поставить точку в нашей удивительной истории о чудесной реликвии и людях, владевших ею и пытавшихся ею завладеть, а также о том, кому же она всё-таки досталась
Глава I
Донсков пытался отговорить меня, не булгачить в столь поздний час Федонина.
– Приезжай сам, – почему-то шептал он в трубку или прикрывал её рукой, слышимость была просто мизерной. – Я и сам бы справился, но важный свидетель… особа, женщина. И, кроме того, боюсь я, начну официальный допрос, а она, вполне возможно, превратится в лицо подозреваемое или того хуже, а это, сам понимаешь, уже следственная прерогатива. Дело же в вашем производстве… Не наломать бы дров.
Так и сказал «прерогатива», меня всего аж пробрало от его полуночной предупредительности.
– С чего это ты об УПК забеспокоился? – я только глаза продрал, не очухался ото сна и с аппаратом на кухню перебрался, чтобы Очаровашку не разбудить. – Ты давай как есть. А на шёпот почему перешёл? Не замечалось за тобой деликатности. Кончай в бирюльки играть. Признавайся, чего опять твои внутренние органы накуролесили?
– Угадал.
– Вы же операцию по задержанию Князева проводили?
– Нет больше Князева.
– Сбежал?
– Слава Глотов над его телом колдует.
– Как?!
– Похоже, придушен… а может, и отравлен.
– Вот чёртов круг!
– Но это не главное. Ты бы присел там.
– За меня не беспокойся. Я уже начал привыкать к чудесам в нашем деле.
– Цирк какой-то…
– Ты толком объясни.
– Семёнов эту парочку… – Донсков совсем стих, мне показалось, он языком уже трубку лизал.
– Что, что? – заорал я.
– Семёнов, младший лейтенант, – шептал Донсков. – Викентия Игнатьевича с дамочкой этой до самой квартиры сына довёл… Не трогал.
Я заикнулся было опять со своими вопросами, но он зашипел на меня по-змеиному, видно, аппарат совсем близко от той особы находился и он опасался, чтобы она не услышала нашего разговора.
– И в квартиру позволил им войти, – помолчав, продолжал капитан. – Те свет зажгли на кухне… Семёнов меня стал дожидаться, а надо было их брать…
– Ну?
– Влетели мы, а она одна при лампе сидит, будто нас поджидает.
– А Викентий?
– Пропал.
– Как пропал? Из закрытой квартиры?
– Мои оперá на всех окнах как грачи.
– Значит, спрятался. Чего психовать?
– Приезжай. Нет его нигде. Мы уже обшарили всё кругом.
– Не злой дух. Куда он мог деться. Её тряхните.
– Вот тебе и звоню, – Донсков перевёл дыхание, словно тяжкий груз с себя свалил. – Вы следователи, вы и включайтесь. Самая пора. У меня уже голова кругом пошла.
– Я всё же Павла Никифоровича подыму.
– Делай, как знаешь, Данила Павлович. Только поспешайте. Машину я к тебе послал, пока мы с тобой тут… она уже у подъезда, наверное…
Глава II
Федонин к моему удивлению особо не ахал, не удивлялся тому, что я ему рассказал, пока мы в «воронке» по пустым ночным улочкам мчались, только кивал изредка, словно заранее обо всём догадывался. Когда я совсем выдохся и завершил тревожные свои повествования, он закурил и тут же закашлялся.
– Да перестаньте вы курить, Павел Никифорович! Утренняя папироска самая опасная, а уж ночная!.. Сейчас крыша подымется от дыма и взлетим.
– Быстрей на месте будем, – буркнул он, но папироску пригасил и выбросил, слегка приоткрыв дверцу – я его на переднем сиденье разместил, на заднее да ещё ночью с его ногами трудно забираться.
– Чего же вы молчите? – не терпелось мне. – И у вас никаких соображений?
– А какие тебе соображения нужны? – Федонин опять задохнулся в тяжёлом кашле, но голос у него прорезался, злой стал и чужой. – Юрий дров наломал. Взгреет его генерал.
– Козла отпущения найдут…
– Следовало сразу всех брать на квартире у этого… бывшего агента, – заскрипел недовольным тоном старый лис. – Как не догадаться? Разве простит отец смерть сына? Где это видано! Этот… Кровосос-то?.. Убивец?.. Иван Грозный! Как паршивца своего ненавидел?.. А когда клюкой башку ему разбил, так до утра на руках и нянчил. Не зря Илья Ефимович его в той позе запечатлел на века… Был в Третьяковке?..
– Где? При чём здесь Репин и Третьяковка? – меня встревожили его странные и совсем не к месту рассуждения, но я скостил на ситуацию, на поздний час, возраст, но всё же конкретизировал его внимание. – Сейчас все на ушах стоят – куда Дзикановский делся? Генерал, конечно, пока ни слухом ни духом. А доложили б, здесь уже всё управление носом землю рыло!
– Может, ещё придётся, – буркнул Федонин.
– Что? – плохо разобрал я.
– Ты знаешь, у меня тогда ещё мыслишка мелькнула.
– Какая мыслишка? Когда?
– Когда я боты свои чуть ни откинул в их логове.
– В каком логове?
– Не улавливаешь? Спишь, боец?
Весь не в себе отвернулся я от старого лиса, он ещё и издеваться надо мной вздумал своими подковырками!..
– Квартира, куда нас везут, их логово и есть. Он сюда подыхать притащился. Как гадюка, яд выпустила и в свою нору схоронилась. Теперь я в этом не сомневаюсь. Раньше-то в этой квартире он сам проживал, агент секретной службы Викентий Игнатьевич Дзикановский. А новую квартиру выбил, переехал с прислугой, сына здесь оставил.
– Вам это почтой прислали? – горько пошутил я.
– Только что, старый дуралей, докумекал. Когда отраву здесь отыскивал, что-то в моей головушке шевельнулось. Если б сразу проняло!.. Но теперь ругай себя, не ругай… – он повёл лохматыми бровями. – Время упущено.
– И что же следует из ваших глубокомысленных размышлений?
– А вот приедем, узнаешь.
– Уж не хотите ли вы сказать?..
– Вот именно.
– Тогда готовьтесь на выход. Подъезжаем.
– Уже?
Семёнов встретил нас у квартиры Дзикановских и бросился открывать дверцу «воронка» перед старшим следователем. Но Федонин, злой, как полсотни диких псов, пнул дверцу ногой так, что та сама распахнулась, и выбрался из машины без посторонней помощи. Он и выглядел свирепо, близко не хотелось подходить. Мы старались не смотреть друг на друга и со стороны похожи были, наверное, на двух разодравшихся пингвинов. Особенно старый лис, когда он отстранил Семёнова и решительно закосолапил от входной двери вдоль стены дома. Я, не раздумывая, проследовал за ним. Так, под пристальные взгляды оперативника, взиравшего на нас с удивлением и испугом, мы друг за другом протопали медленно и сосредоточенно вдоль внешней стороны стен квартиры Дзикановских. Я старался не упускать из вида всё, на что он обращал свой строгий взгляд. Что он искал, известно было ему одному, но вскоре краешек догадки коснулся и меня, но, ещё сомневаясь, посчитал я лучшим держать рот на замке. Не верилось в его затею. Уж больно выглядело всё неправдоподобно, как в бульварных детективах.
Закончив со стенами и местностью около них, таким же образом мы обследовали весь внутренний дворик, потом вышли за ворота и оттуда отправились озирать местность возле стен, выходящих на улицу. У Дзикановских на улицу выходила одна стенка с маленьким оконцем. Это было кухонное окно, задёрнутое занавеской; оно тускло светилось; не удержавшись, я заглянул в щёлку, но тут же отпрянул: подперев голову обеими руками на меня в упор смотрело, вы не поверите, прямо-таки сова – круглое лицо той самой особы, турчанки или иранки по имени Мирчал, поражало оно тяжёлой скорбью и отчаянием, губы плотно сжаты, глаза закатились в чёрных глазницах. Рядом у керосиновой лампы сидел капитан Донсков и что-то ей говорил. Он был ко мне вполоборота, но я видел, как зло дёргался его рот. Над женщиной возвышался старший лейтенант Фоменко с автоматом наперевес. Кулак Донскова равномерно ударялся по крышке стола, но стука я не слышал, только лампа дрожала и помигивала, нещадно коптя. Но никто этого не замечал.
– Иди-ка сюда, друг мой сердечный, – позвал меня Федонин, но младший лейтенант опередил и уже поедал глазами старшего следователя, готовый исполнить любое его указание.
Старый лис пнул ногой деревянный щит, обитый ржавым железом. Куча сухих листьев и мусора отлетела в сторону, и щит оказался крышкой весьма объёмного люка, а мой чуткий на аллергию нос тут же уловил посторонний запах.
– Вот! – снисходительно взглянул Федонин на меня с видом победителя и губы поджал, больше ничего не добавив.
Семёнов, догадавшись, что от него требуется, уже возился с крышкой, пытаясь её открыть. Мешал заржавленный замок. Несколько ударов каблуком ботинка хватило, чтобы младший лейтенант преодолел препятствие, он нагнулся, поднатужился, и крышка сдвинулась. Семёнов сунулся в открывшуюся тёмную пустоту.
– Чем пахнет? – спросил Федонин.
– Сухо.
– А ещё чего? Ты посвети получше фонариком, – величаво подсказал старый лис.
– Лестница тут деревянная, – подал голос Семёнов. – И дымком попахивает.
– Дымом? Точно! Так и должно быть. Жгли чего-то…
– Вроде. Снизу в нос ударяет, – Семёнов уже готов был ринуться по лестнице вниз.
– Стоп, боец! – опередил его Федонин. – Как бы она под тобой не развалилась. А это, брат, улика! – он многозначительно поднял большой палец вверх. – Следок! Где-то что-то жгли… что-то уничтожали… Ты здесь карауль. У крышки. Кто знает? Вдруг я на этот раз не ошибусь.
И Федонин решительно направился во двор и также решительно распахнул дверь в квартиру Дзикановских. От стола навстречу бросился Донсков:
– Долго же вы добирались, – успел сказать он, но старший следователь, не задерживаясь особо, занял его место на стуле напротив женщины, осторожно коснулся её ладошкой, словно пробуждая от тяжёлого сна, а когда она подняла на него свои совиные огромные глаза, тихо и миролюбиво проговорил:
– Прошу простить меня, любезная Мирчал, я представляю здесь прокурора области…
Женщина молчала, но жизнь мелькнула в её пустых глазах, а боль и страх сменились едва заметным любопытством.
– Если вы хотите увидеть ещё живым вашего… патрона, – ничего лучше Федонин, запнувшись, видимо, не подобрал, – советую вам показать вход в подполье…
Женщина вздрогнула, выдав себя, и, поняв это, смутилась.
– …иначе я прикажу вскрывать весь пол, – твёрже закончил Федонин. – Тогда уже вы будете виновны в смерти Викентия Игнатьевича. Успел он принять яд?
Это прозвучало неожиданно не только для всех нас.
– Нет! – вскрикнула женщина и, вцепившись в Федонина обеими руками, затряслась в громких рыданиях.
– Истерика! – обернулся Федонин к Донскову. – Юрий Михайлович, займись ею! Что вы все стоите?
Капитану удалось оторвать женщину от Федонина, он попытался поднять её на ноги и повести с кухни в большую комнату, но та упёрлась, тыча рукой под стол.
– Тайник там? – догадался Федонин.
Женщина уронила голову на грудь и без чувств повисла на руках Донскова.
– Семёнов! – заорал капитан, но Фоменко уже, убрав лампу, двигал стол в угол, кто-то сорвал дряхлый коврик, под ним открылся изящный лючок с металлическим кольцом.
– Я сам! – бросился Донсков к люку. – Дзикановского надо взять живым!
Из открытого подземелья дохнуло дымом. Донсков соскочил вниз и исчез.
Глава III
Помещение было низким, вагонообразным, с углами, тонувшими в дыму и темноте, завалено мебельной и прочей рухлядью, которая теперь именуется не иначе как благородным антиквариатом и даже раритетом. Во множестве поблёскивали древней позолотой рамки картин, всяческие церковные принадлежности, иконы, но всё это было безобразно свалено в кучи, покрыто пылью и паутиной. Дым, к моему удивлению, скоро рассеялся почти совсем, уже не мешал дыханию и глазам, от распахнутого нами люка усилилась имевшаяся, наверное, естественная вентиляция тайных ходов, подобных обнаруженному нами на улице. А сколько их ещё здесь было?..
Бросался в глаза электрический светильник, выхватывающий из мрака главную часть подполья. В глубине помещения он возвышался на круглом одноногом ажурном столике, почти приставленном к ветхому кожаному дивану барского вида, на котором сидел или полулежал, привалившись к спинке, человек в тёмном плаще. Широкополая шляпа закрывала лицо, воротник плаща поднят, человек не двигался, не подавал никаких признаков жизни.
В подполье с Донсковым мы оказались первыми, но дождались и пропустили вперёд Федонина, который пыхтя, преодолел крутые попискивающие под ним ступеньки, твёрдо встал на обе ноги и по-хозяйски грузно прошествовал мимо нас прямиком к свету. Его рост позволял не пригибать головы. Подойдя к дивану, он кашлянул, но человек не пошевелился. Донсков спрятал пистолет в кобуру, сунувшемуся было в люк с автоматом Фоменко сердито крикнул:
– Дежурь там! Глаз с неё не спускать!
Мы окружили столик.
Светильник был выполнен в виде вздыбившегося бронзового толстозадого жеребца, на котором едва удерживался французский император в знаменитой своей треуголке со шпагой в руке и с развевающимся знаменем за спиной. Оно и испускало свет достаточно яркий, чтобы различить груду пепла на металлическом подносе, занимавшем остальную часть стола. Это уничтоженное огнём содержимое и выделяло сейчас едкий зловонный запах, а недавно и дым, так как других следов сгоревшего не обнаружилось. Федонин потянулся к шляпе, но человек будто того и ждал и пальцем руки, одетой в тонкую перчатку, приподнял её так, чтобы нас видеть.
– Что ж ты сжёг, любезный Викентий Игнатьевич, нас не дожидаясь? – с интересом, но бесцеремонно и строго спросил Федонин и кончиком ногтя пошевелил пепел; груда покачнулась и начала разрушаться, падая хлопьями на пол.
– Вот Бог и дал, свиделись, Павел Никифорович. А я уж не надеялся, – прозвучал из-под шляпы хриплый голос, лицо так и не появилось. – Примите моё нижайшее.
– Килограмма два, не меньше спалил, – упрекнул, словно давнего знакомого старший следователь. – Чего жёг-то? Не одна тут бумага. Похоже, и фотографии огню предал? Вонь какая!
Играл ли он задуманную роль или опять подходы подбирал, я не стал ломать голову, старый лис знал, что делал, хотя главное было ясно – мы опять опоздали.
– Простите покорно, Павел Никифорович, – человек сдвинул наконец шляпу на затылок, стало видно серое его лицо с запавшими измученными глазами. – Не думал я, что скоро поспеете. Хотя видел, ваши ребятки на пятках моих сидят. А вот, что вас потревожат, совсем не ждал!.. Даже не посмел бы. Что же это делается, ночь, полночь!.. Извиняюсь за беспокойство.
Донсков едва сдерживал себя, следя за благочинным этим общением. Я, привыкший и не к таким номерам старого лиса, постарался найти и себе занятие, попробовал оглядеться повнимательней, прежде всего рассматривая, что было поблизости. В таких случаях Федонин не позволял особой самодеятельности.
За моей спиной оказался довольно крепкий ещё книжный шкаф хорошей старинной работы. Одна из стеклянных дверок его была приоткрыта, и благородный в вензелях витой ключ подсказывал, что содержимым недавно пользовались. На второй полке я заметил откровенно высовывающийся из общего ряда почтенный фолиант. Его я и попробовал вытащить и открыть. Издание было дореволюционным, девятнадцатый век. «Наиболее секретные документы из “Архивов Бастилии”, составленные знаменитым Франсуа Равессоном, о судебных процессах над злодеями и отравителями, казнёнными или проведшими остаток жизни в заточении; а также секреты наиболее редких ядов и способы их приготовления с древних времён и до дней нынешних», – прочитал я на первом листе.
– Да, да, молодой человек, – послышался голос с дивана. – Меня интересовала эта вещица, что вы держите в руках… Смысл жизни!.. Я не нашёл ответа. Приходится сожалеть…
– Успел? – Федонин кивнул на склянку, сразу нами не замеченную на столике между светильником и подносом.
Он взял её двумя пальцами осторожно, словно гадкую змею и потряс на свет. На донышке колыхнулись бесцветные остатки.
– Пришёл и мой черёд. Пора собираться.
– Цианистый калий?
– Упаси бог! Разговаривал бы я сейчас с вами…
– Юрий Михайлович! – вскинулся Федонин к капитану. – Вызывай врачей! Срочно!
– Эк вы куда! – хмыкнул с горькой гримасой Дзикановский. – Опоздал Макар на базар.
– Чего?
– Успокойся, Павел Никифорович.
– Чего? – снова нервно дёрнулся старший следователь.
– Мне минуты две-три с тобой. И усну. Сладко усну. Навеки. Без боли и судорог… – он обвёл нас всех тяжёлым взглядом, будто запоминая, Донскову собирался подмигнуть, но не получилось. – Так что спрашивайте, коли успеете. Отвечу, что знаю. Времени у вас, может, и поменьше. Это Аркадий мой вам точно бы сказал. Он силён был в этом деле. А я так, начинающий…
– Хорош начинающий! – фыркнул Федонин. – Атарбекову ты идейку насчёт цианистого калия подсоветовал?
– Косвенно, – горькая усмешка снова исказила лицо Дзикановского. – У Серёженьки Нирода калий этот при обыске мы нашли. В кармашке завалялся. Вот и осенило меня, грешного.
– Значит, смерть архиерея Митрофана на твоей совести?
– Вы издалека начали, Павел Никифорович, не успеете.
– Почему же издалека? Это прямая дорожка к несчастному твоему сопернику Дмитрию Филаретовичу Семиножкину.
– Правда ваша. Не стану лукавить. Хитёр был, поганец. Но ему тот крест понадобился ради забавы… Он к редкостям страсть имел…
– А тебе зачем? Скольких ты жизни лишил?
Дзикановский долгим взглядом уставился на Федонина, но не выдержал встречного укора старшего следователя, сверкнувшего из-под его лохматых бровей, и голову опустил, буркнул:
– Вам считать.
– Сын-то твой, которого ты к коллекционеру приставил, за тот же крест пострадал?
Дзикановский молчал.
– Заразил ты и сына своей болезнью.
– За сына Князь жизнью расплатился.
– Это же все тебе преданные люди?.. И всех на тот свет отправил?
– Значит, такова судьба.
– Для тебя они были лишь пешки.
– В моей игре цель стоила средств.
– Чем же тот крест архиерейский тебя приманил, ведь ты даже сыну своему не поверил и в это логово попёрся его искать? Думал, здесь спрятал крест Аркадий Викентьевич?
Дзикановский поднял было голову, сверкнул глазами, но не проронил ни слова.
– Ты в руках-то его держал?.. Чудеса его наблюдал? Видел хотя бы?
Дзикановский горько покачал головой.
– По всему свету ты за ним гонялся. Надо же, в Коми – тьмутаракань тебя носило!
– Рыться сейчас начнёте?.. Дайте хоть спокойно умереть.
– Значит, прав я, – Федонин на нас с Донсковым глянул. – Всех обвёл вокруг пальца Дмитрий Филаретович Семиножкин. Он надёжно схоронил где-то крест Митрофана. Нас по ложному следу пустил. Только кому тот крест теперь достанется? Уж не Серафиме ли его?
Дзикановский хотел что-то сказать, дёрнулась его рука к Федонину, но упала словно плеть, а сам он привалился к спинке дивана без чувств, и голова его поникла.
– Отошёл, что ли? – наклонился над ним Федонин, поморщился болезненно, отодвинулся с брезгливостью от Дзикановского.
Донсков схватил его руку, начал искать пульс; но скоро остановился:
– Кончился тайный агент.
Глава IV
Я наконец выпроводил Сурова и со всех ног помчался к Колосухину, куда минут пятнадцать – двадцать назад отправился Федонин, так меня и не дождавшись. Нам предстояло подготовить доклад Игорушкину по результатам завершения следствия по делу Семиножкина.
Когда я зашёл, старший следователь разговаривал с заместителем прокурора области совсем на другую тему. Коварный подследственный Змейкин, неделю знакомившийся вместе с адвокатом с материалами своего уголовного дела, заявил, что собирается писать ходатайство: с чем-то он не соглашался, кого-то просил установить, дополнительно что-то уточнить. Одним словом – Змейкин, подобный тому злодейскому змею, затевал новую халабуду – срок содержания в следственном изоляторе под стражей так и так входит в срок отбытого наказания, который ему ещё назначит суд, а торчать в «Белом лебеде» – роскошь по сравнению с зоной. Вот он и издевался; так что оба собеседника были не в себе и даже не заметили, как я вошёл.
– Проводил наконец журналиста? – спросил Федонин, отвлёкшись наконец и на меня.
Я кивнул.
– А что ему опять надо? – заинтересовался и Колосухин. – Это же тот самый?
– Суров.
– Он же уже писал?
– Собирался, но в тот раз встреча так и не состоялась.
– А теперь что его интересует? Дело же прекращать будете? – зам взглянул на старшего следователя.
– Прекращать, конечно. Все фигуранты, как говорится, почили.
– Скажите ещё «слава Богу…» – горько хмыкнул Колосухин.
– А и скажу, Виктор Антонович. – Федонин нахмурился. – Необузданная корысть сгубила злодеев. Кого из них жалеть-то? Если бы не наделала столько ошибок милиция… – развёл руки Федонин.
– Все виноваты, – оборвал зам. – Следствие должно обладать и предвиденьем.
– Это что-то из сверхъестественного, – обиделся старший следователь. – А мы по грешной земле ходим. Сегодня живы, завтра…
– Я не об этом! – Колосухин тоже вспыхнул. – Интуиции нам всем не хватило. Этот папаша Дзикановский сверху был. Очевидно же? На верху всей пирамиды событий.
– Так пирамида стала рушиться снизу. Поди угадай, кого хватать.
Другому бы не понять их спора, похожего на словесную перебранку, но Колосухин был единственным из высшего начальства, кто признавал демократию и даже допускал возражения подчинённых по некоторым своим суждениям. Он называл это «следственной дискуссией по поводу допустимости доказательств» – его буквальная формулировка, хотя я бы поспорил. Но сейчас в это дело ввязался старый лис, и я помалкивал.
– Ну и что твоему Сурову понадобилось?
Они вспомнили наконец про меня, и оба буравили подозрительными взглядами.
– Писать статью думает.
– О чём? – тут же спросил зам.
– Писать нечего. Бобик, как говорится, сдох. Нет ни героя, ни анти, – это уже постарался с комментариями Федонин.
– Я ему рассказал историю про тот самый крест архиерея…
– Зачем?
– А он и без меня её знал.
– Откуда?
– Ну, знаете… У них свои возможности. И потом, Павел Никифорович, вы же сами характеризовали его умным, шустрым и даже способным писакой, с восхищением отзывались о некоторых его былых публикациях, в которых, помнится, были даже сами героем?
– Когда это было… – смутился старый лис. – Я это так, с тобой поделился.
– А он со мной, – намекнул я.
– Это чем ещё?
Они оба насторожились.
– Я почему задержался-то?.. Он мне тоже историю одну рассказал. – Я оглядел старших товарищей. – И тоже про крест.
– Митрофана?! – чуть не в один голос выпалили они оба и смутились.
– А вот послушайте. – И я начал: – История не длинная, так, сюжетик. У Сурова этого учитель был. Тоже писака, и работал он в газете едва ли не с самого её зачатия. Года аж с восемнадцатого. Одним словом, как открыли её после революции большевики, так он там и подвизался. Сначала бегал селькором, заметки строчил, а как стали примечать его усердность и талант, попал в штат. Учился он…
– Ты всю биографию нам не рассказывай, – прервал меня Федонин. – А там и день кончится. Мне к Змейкину ещё надо.
– Ничего, ничего, – терпеливо моргнул Колосухин. – Это интересно послушать. Жив тот товарищ?
– Нет, конечно, – заторопился я. – Суров его вспомнил вот по какому поводу. Когда он в стажёрах у того журналиста бегал, учился разным разностям, ну, естественно, тот случай он ему из своей богатой практики и вспомнил. Для примера… Обратился к нему как-то священник один написать о чуде…
– Чуде! – так и привстал Федонин.
– Ну да. К попику женщина пришла с мальчишкой и крестик подаёт.
Я обвёл обоих значительным взглядом. Старшие мои начальники не шелохнулись, но заметно напряглись.
– Крест или крестик? – всё же заполнил затянувшуюся паузу Федонин.
– Я тоже пытал Сурова насчёт этого, – кивнул я старшему следователю. – Спросил и про металл, драгоценные камни…
– Ну?
– Он без понятия. Сам мальчишкой был тот журналист. Уже и не помнил деталей. Да и Суров его про эти штучки не расспрашивал. Суть-то не в кресте была.
– А в чём же?
– В чуде, которое якобы с пацанёнком произошло. Тогда Кремль закрыт был, особенно туда не пускали, а в Успенский собор и подавно. Но подростки они же куда нельзя, туда нос и суют. Вот и тот. Чего уж они искали в нижнем этаже собора среди захоронений священников и царей, неизвестно, только нашёл мальчишка там крест. На шею нацепил от радости, а после обеда – жара, и побежали они всей ватагой купаться. Этот, самый озорной, нырнул, ударился головой обо что-то и стал тонуть. Друзья, вместо того чтобы помочь, разбежались, испугавшись, а он спасся. Как, кто? – ничего не помнит. Очнулся – на берегу лежит, а тут уже и мать, ей сообщили о несчастье. Глядь – а на шее у сына крест сверкает! Откуда он взялся, кто повесил? Пока она допросилась у сорванца, не поверила, потащила его к тому священнику…
Я перевёл дух.
– Да… история, – начал было Федонин.
– А почему вы её с крестом Митрофана связали? – Колосухин подпёр рукой голову.
– Я?..
– Вообще-то рассказывал кто-то из близких к архиерею, – Федонин задумчиво покачал головой, – что когда Митрофана из Кремля солдаты выселяли, он якобы спрятал свои драгоценности и крест где-то там, в земле… под гробницей архиерея Иосифа. Но сколько лет-то прошло… Солдаты там… Штаб 11-й армии размещался… Да сколько там людей побывало… Нет! Не тот крест нашёл мальчишка!
– А вдруг? – Я и говорить не хотел, само как-то вырвалось.
– Никаких вдруг! – сказал, как отрезал Федонин, но сам на Колосухина глянул, что тот скажет?
– Сомнительно, конечно, – заместитель не любил категорических утверждений без проверки, поэтому он и руководит следствием. – Вряд ли, – уже твёрже добавил он.
– А чудо всё же произошло, – не унимался я, подливая страсти в огонь. – Мальчишка-то спасся! Не утоп.
– Да вытащил кто-нибудь, – махнул рукой Федонин.
– А почему не объявился?
– А чего ему? Медаль, что ли, ждать? Тогда не давали, – засмеялся старый лис. – Ты эту историю к чему рассказал?
– А что же тот селькор? – спросил Колосухин. – Опубликовал он об этом статейку? В какой газете, кстати?..
– Не приняли его материал в редакции. Отругали даже.
– Чего так? – даже хохотнул Федонин. – Испугались?
– Отругали, что материал вредный для народа. Опиум – все эти чудеса.
Мы все помолчали
– И чего же сказал Суров? – поинтересовался Колосухин. – Будет писать?
– Отшутился. Говорит, статейкой здесь не обойтись. Может, когда-нибудь, к старости, книжку накатает…
Часть шестая и окончательная
,в которой, как говорится, каждому раздаётся по серьге, но делается это не по чьей-то прихоти, а потому что жизнь сама всё расставляет по местам и каждому воздаётся по делам его
Глава I
С кого же начать наше заключительное повествование? Как всякая мистическая история, не поспешая и не задерживаясь, она на шестой части приблизилась к концу.
Обычно герои впереди. Но так, когда награждаются. А у нас до этого не дошло. К слову сказать, ни Федонин, ни я взысканий не получили, обошлись без особого разноса и Лудонин с Донсковым, а Семёнов через месяц из младших лейтенантов даже в лейтенанты был определён и по должности вырос, так как старлей Фоменко укатил всё же в родимые места, да там и остался.
Вас, конечно, интересуют персоналии поважней, вот о них и пойдёт разговор.
Здесь посложней, потому как имеется опасность с источниками информации; я уже пробовал объяснить причину – всё зависит от того, кто стоит у власти и, естественно, эту информацию представляет. Но есть хитрый народец, отыскивающий тот самый краешек настоящей истины и – хотят, не хотят некоторые, – а правда вылезает глаза колоть. Ну да ладно. Это другая тема.
Атарбекова Георгия Александровича после тех событий под конвоем доставили в Москву. Делом его занималась Особая комиссия ЦК большевиков. Перед последним заседанием в Комиссию забежал товарищ Ленин. «Ему хотели сообщить о подробностях, – пишет в исторической монографии партийный историк некий С. Синельников, – но Ленин возразил, что это излишне.
– Мне известно мнение Кирова, – сказал он».
На этом всё разбирательство и прекратилось. ЦК партии выразил полное доверие Атарбекову, а Дзержинскому было предложено оставить его на ответственной работе.
И бывший председатель Особого отдела снова пошёл на повышение. Во время Гражданской войны от его руки… Но стоит ли цитировать его новые кровавые подвиги? Достаточно привести данные Астраханской комиссии по реабилитации жертв политического террора. Репрессиям было подвергнуто более 51 тысячи человек, за пять месяцев 1919 года, когда Особым отделом руководил Атарбеков, расстреляно более 200 человек.
Но аукнулись ему эти «подвиги» в 1925 году, в Закавказье наступило возмездие. С председателем краевой ЧК Могилевским и секретарём крайкома партии Мясниковым он, будучи в должности замнаркома, летел самолётом, когда тот под Тбилиси внезапно начал падать. Существует версия, что, пытаясь спастись, эти трое бросились за парашютами, но их почему-то не оказалось. Сталин назначил расследование ужасной трагедии или теракта, но расстреляли первых подвернувшихся под руки, заодно и мешавших ранее, а истинные результаты так и остались неведомы; однако от тех троих, как говаривал старлей Фоменко, осталась лишь грязь.
А с Кировым своя тема. Её скрыть не удалось, она приобрела слишком широкую известность, ведь Сергей Миронович в то время руководил всеми ленинградскими большевиками и сидел уже в самом Смольном. Но и тут подвела его лирическая страсть, а точнее сказать, любовная. Приревновав к жене, его застрелил среди белого дня прямо в коридоре Смольного некий Николаев. Тайную связь не скрывала и сама виновница, Мильда Драуле, по свидетельству генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова, родившая от своего поклонника сына, которого в честь автора «Капитала» назвали Марксом. Но зоркий Иосиф Виссарионович не пожелал такого конца своему фавориту; сам приехав особым поездом в Ленинград, вместо позорного адюльтера заставил верных чекистов во главе с Ягодой и Медведем придумать заговор, отдал под скорый суд своих заклятых конкурентов Зиновьева и Каменева, а затем расстрелял их вместе с тем же Ягодой. Кровавый спектакль ради любезного дружка, не правда ли? Чума не затихала до 1937 года, который превратился в апофеоз кровавой бойни и получил название «великой чистки». Киров в этом спектакле стал пешкой, мелким предлогом в большой отвратительной игре.
Не остался забыт и Мина Аристов. Ему припомнили арест Атарбекова и, объявив врагом народа, отправили в Воркутинские лагеря, где тот и пропал навеки. Однако откройте Советский энциклопедический словарь за 1980 год, у кого он, увесистый, килограммов на пять, ещё сохранился. Сколько в нём всего! Глаза разбегаются. А много ли правды? Вот интересующая нас страница:
«…Аристов Мина Львович… участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа, в 1918–1929 гг., секретарь Астраханского губкома РКП (б), председатель Астраханского губисполкома, в аппарате ВЦЧК, член ВЦИК и ЦИК СССР…» Это его, надо полагать, блистательный путь наверх по партийной линии, согласно которой «советский государственный партийный деятель» спокойно почил в 1942 году?!
Глава II
Место захоронения архиерея Митрофана и епископа Леонтия не кануло в Лету. Как ни рушили, ни уничтожали приметы его нахождения, народ сберёг их могилу и останки. «Могилу их отыскать нетрудно, – писал в воспоминаниях известный астраханский юрист Аркадий Ильич Кузнецов. – Если от западного входа в Покрово-Болдинский монастырь идти на юг вдоль внешней стены каменной ограды, то надо дойти до самого южного угла, от угла повернуть на юго-запад и сделать 50 шагов в этом направлении. На их могиле был возведён небольшой оштукатуренный памятник, на котором написано: «Архиепископ Митрофан (Краснопольский) и епископ Леонтий (фон Вимпфен) – убиенные 23 июля (6.8) 1919 г.». Автор вместе с архиепископом Фаддеем (Успенским) дважды в 1925 году был у этой могилы на панихиде».
Власть стремилась всеми силами искоренить даже память об этих людях. В 1927 году по особому распоряжению начальника VI отделения секретного отдела ВЧК Е. Тучкова были проведены специальные карательные мероприятия против панихид на могиле расстрелянных, арестовали священнослужителей Георгия Степанова, Бориса Ветвицкого, Александра Кузьмина, Василия Залесского, Михаила Малькова. Все они были осуждены и сосланы в северные края.
В 1930 году был разрушен и сам памятник. Кузнецов видел его обломки, старательно сложенные чьей-то благочестивой рукой в штабель. Нет давно того монастыря, разорили его. «Теперь и обломки исчезли, и не осталось внешних примет», – свидетельствовал Кузнецов позже.
Однако он оказался не совсем прав. Верующие начали ходить на городское кладбище, где рядом с братской могилой расстрелянных в марте 1919 года астраханцев появился деревянный крест с надписью: «Архиепископ Митрофан и епископ Леонтий». Много раз, пишет игумен Иосиф в книге «Святые и подвижники Благочестия земли Астраханской», уничтожали этот крест, но он вновь, «как феникс из пепла, появлялся на прежнем месте».
Только с крушением советской власти в 1991 году здесь был поставлен на века памятный крест с их именами. В день праздников отдаются почести, и простой люд спешит к ним. «Самое главное, – пишет отец Иосиф, – что оба убиенных архиерея всегда приходят на помощь».
В 2000 году прокуратурой Астраханской области архиепископ Митрофан был признан невиновным и реабилитирован.
В декабре 2001 года в Москве по председательством Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II Синод Русской православной церкви включил в Собор новомучеников Российских XX века священномученика Митрофана. 14 апреля 2002 года в Покровском кафедральном соборе города Астрахани по благоволению архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы состоялось его торжественное прославление.
Ну а чудодейственная реликвия, таинственный крест? – спросите вы. – Что же стало с ним? Кому он достался?
Неужели не догадываетесь?..
В музеях вы его не замечали, в других чиновничьих хранилищах он не значится… Может, носит его уже внук того мальца, про которого мать всем рассказывала, что спас тот крест её сынишку от верной гибели?
Как знать…
Примечания
1
Да будет и другая сторона выслушана.
(обратно)2
Ковшов почти ничего не сказал лишнего. В воспоминаниях современников архиепископа Митрофана, опубликованных уже в наше время, так и звучали слова казнённого архиепископа.
(обратно)3
Смерш – секретная военная служба в период Великой Отечественной войны, созданная лично И. Сталиным, буквально – «Смерть шпионам!».
(обратно)4
Привередливый; дремать или тихо передвигаться; шик – шикарное положение (вор. жаргон).
(обратно)







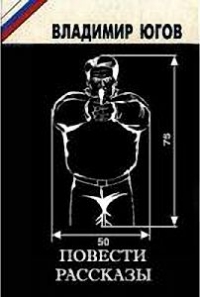
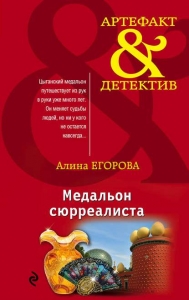
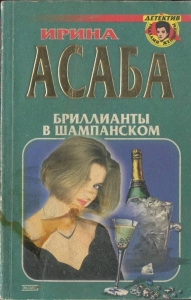


Комментарии к книге «По следу Каина», Вячеслав Павлович Белоусов
Всего 0 комментариев