Вера Колочкова Алиби — надежда, алиби — любовь
«Алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте»
Статья 5 Уголовно-процессуального Кодекса РФ.…И ни за что она не будет скандалить! Хоть убейте, не будет. Мало того, даже и не скажет ничего. И пусть попранная женская гордость у нее внутри пыжится себе на здоровье, все равно не скажет. Вот сейчас придет драгоценный муж домой, а она мудро-снисходительно улыбнется ему и выдаст чего-нибудь такое… смешное. Будто и не обидно ей вовсе позднее его возвращение. Вот только бы придумать чего — такое смешное, такое мудрое, такое снисходительное…
Как назло, ничего Надежде не придумывалось. Лезла в голову все чепуха какая-то. Вот трудновато у нее с женской мудростью, не дал бог талантов. Учит ее мать всю жизнь, учит этой самой мудрости, и никакого толку. Вот и сейчас — ну прямо язык чешется взять и спросить у драгоценного мужа в лоб — не рано ли ты, родной, романы на стороне заводишь, и года после свадьбы не протерпев. Уже какой вечер подряд домой не торопишься, духами женскими от тебя за три версты несет… Хорошими духами, кстати. Только от этого нисколько не легче, а даже наоборот. Очень обидно, однако! И вообще — я тут вся устаралась, ужин для тебя готовлю, гордость женскую попираю, смешную снисходительность всякую репетирую изо всех сил…
А только нельзя. Нельзя вот так, в лоб. Мама говорит, так всякая жена сможет. И еще говорит, что это самый простой путь в женское бессемейное одиночество. А хуже этого самого одиночества для женщины, получается, и нету ничего. Тем более что «адекватный непьющий мужчина», как она говорит, нынче в жутчайшем дефиците находится. Устрой такому «адекватному и непьющему» женскую ревнивую истерику, и поминай его, как звали. Уйдет к той, которая не устроит, то бишь к более мудрой и снисходительной. А ты останешься со своей гордостью жить дальше одна одинешенька среди сплошных неадекватных и пьющих…
Надежда вздохнула горестно и плюхнулась со всего размаху в большое кресло, тут же принявшее ее в ласково-успокаивающую свою пухлость. Расслабься, мол, хозяйка, чего ты бегаешь по комнате туда-сюда… Однако от ласки этой домашней плюшевой стало еще хуже. Да и какое такое расслабление может быть, когда внутри горит все обидой! Ну чем, чем она Виктору не угодила, интересно? Да она ж для него… Если посчитать, она ж три года целых только тем и занимается, что кроит себя да перекраивает и так и этак, подгоняет под его вкусы то цвет волос, то одежду, то фигуру… И даже в законном браке не дала себе расслабиться ни минуты, так и продолжает следовать этому пути, истоки которого находятся еще там, в гражданском двухлетнем неопределенном сожительстве. Подскочив пружинисто из мягкого кресла, словно оттолкнув его навязчивую жалость, Надежда выстроилась перед большим зеркалом, взглянула в него пристально и критически. И плечи назад отбросила, и гордо вскинула голову. Все, все завоеванное огромными трудами и лишениями на месте! И кожа на лице свежее персика — еще бы, сколько всяких масок полезно-необходимых в нее вбито-втянуто, — и отращенные до лопаток белокурые волосы за счет парикмахерских хитростей в два раза пышнее своих, темно-русых и тоненьких. И попа, воспитанная в тренажерных тяжких трудах, торчит правильно, красиво и сексуально, и остальная худоба-стройность телесная вся при ней, ни одного лишнего мягкого кусочка нигде не завязалось. Кто бы знал только, как ей дается эта самая худоба… Ей, склонной к полноте по природе, когда от одного только случайно пойманного на улице запаха горячих сдобных булочек организм впадает в многодневную и мучительную неврастению, а большой кусок жареной свинины в окружении золотистых палочек картофеля-фри приходит во сне сладкими грезами и искушает томно и мучительно — съешь меня, съешь… И куда там грезам каким другим, эротическим, например, до этого самого куска свинины, исходящего вкусным мясным соком под зажаристой корочкой! И рядом не стояли…
Надежда снова вздохнула, снова кинула свою красивую худобу-стройность в кожаную пухлость кресла, откинула на спинку голову. Чего ж это получается — зря старалась, выходит? Все для него, для любимого, адекватного и непьющего — и все зря?
Все мучения — псу под хвост? Все в себе улучшила-исправила, только что до голоса дело не дошло… Слава богу, легкая ее картавость Виктора вполне устраивала, умиляла даже. Он даже, в лучшие их времена, пытался тут же повторять за ней слова, забавно и смешно грассируя на французский манер. Хорошо, а то бы и голос ей пришлось себе исправлять. А как там его исправляют, бог его знает? Может, операции какие серьезные делают, не приведи господи… Боже, уже половина одиннадцатого!
Она снова выскочила-вытолкнула себя из кресла, снова заходила по крохотному свободному пространству однокомнатной квартиры. Вот видела бы ее сейчас мама! Наверняка бы совет какой-нибудь дельный дала. Только звонить маме не хотелось. Не хотелось в очередной раз огорчать ее отсутствием у себя женской мудрости. Да и сколько уже можно одну только мамину мудрость бесконечно эксплуатировать? Мама и так последние силы напрягла, чтоб перевести, наконец, свою дочь из гражданского пустого сожительства в уважаемо-законное замужнее состояние, а тут — нате вам. У дочери опять ума не хватило, как около себя своего адекватного и непьющего мужа грамотно удержать. Такую сейчас редкость — чтоб адекватного, чтоб непьющего…
Мамин муж, то есть Надеждин отец, ныне покойный, при жизни был хроническим алкоголиком. Даже не хроническим, а классическим, если можно об этой проблеме так вольно выразиться. Пил он много, регулярно и без устали, упорно не признавая в этом своем занятии никакого греха. А тем более болезни. А мама за него долго и всячески боролась, отдавая всю себя этой героической борьбе без остатка. Так они и строили свою семью — папа все не признавал, а мама все боролась, боролась… Даже на дочку ей времени практически не оставалось. Надежде как раз шестнадцать исполнилось, когда отец погиб под колесами огромного рефрижератора — не разглядел его неуверенной походки водитель, думал, нормальный человек обойти пытается его мощное, медленно выезжающее из переулка холодильное тулово. С тех пор вся мамина нерастраченная в борьбе энергия, видоизменившись немного, стала уходить на то, чтоб сделать дочь свою счастливой в ее, дочернем уже, браке. Чтоб не досталось ей маминой доли — с пьющим мужем жить. Да и сама Надежда такого опыта совсем не хотела. Вот и выходило по всему, что самое главное достоинство любого мужчины только в том и состоит, что с зеленым змием он не дружен. Самое главное, то есть определяющее! А все остальное — так, значения не имеет. Ну, адекватность, конечно, тоже желательна. То есть наличие у этого непьющего мужчины какой-никакой хлебно-кормящей специальности и постоянного рабочего места с опять же какой-никакой зарплатой. И все. И больше для женского счастья ничего и не нужно, как мама искренне полагала…
Кавалеров до замужества у Надежды не сказать, чтобы было сильно много, но все же водились. В основном из своих, из велосипедной их тусовки. Или из параллельной жизни, которая протекает по своим неписаным законам и правилам. И чужаки в эту параллельную жизнь не забредают практически, потому что им, чужакам этим, вовсе непонятны такие простые вещи, чем, например, стритовый велик отличается от триального, а триальный — от обыкновенного кросс-кантри… Для них, для чужих, велик — это ж просто железяка о двух колесах, транспортное средство, и ничего более. А как он хозяином любовно «апгрейден» — это только свой разглядеть может. Разглядеть и оценить по достоинству и классную вилку, и облегченную алюминиевую раму, и переключатели, и вообще весь обвес-прикид. И только свой поймет, какие ты испытываешь чувства, сделав свой первый в этой параллельной жизни «банник», то есть прыжок на заднем колесе… Надежде долго все никак не давался этот самый «банник», зараза его разбери! С «хопом» — прыжком с двумя колесами одновременно — как-то сразу дело пошло, а вот с банни-хопом она от всей души намучилась. А потом как-то так все лихо стало получаться, что аж до «мануала» она уже подтянулась и довольно долго могла ехать на одном заднем колесе, не уступая собратьям по их двухколесно-прекрасной жизни. Именно прекрасной, если сравнивать ее с той, с домашней, с вечно пьяным папой, с остервенело-безрезультатно борющейся с его недугом мамой…
Собратьями были в основном мальчишки, конечно же. Девчонки прибивались в их тусовку редко. Да оно и правильно — на то они и девчонки. На велик в мини-юбке да на каблучищах не очень-то взгромоздишься, тут надо себе во многом истинно-девичьем отказать… Не каждая так сможет. Надежда вот, например, с удовольствием могла. Хотя дело тут было не совсем уж в удовольствии как в таковом, если честно. Дело тут было в полном отсутствии в Надеждином гардеробе этих самых мини-юбок и каблучищ. И в отсутствии в карманах даже минимума карманных денег. Откуда им было взяться-то? Папа все деньги на свое «увлечение» спускал, да еще и норовил призанять у кого ни попадя…
По поводу отсутствия девчачьих модных одежонок она не комплексовала совсем. Нет — и не надо. Есть старые расшлепанные кроссовки, есть джинсики синенькие-рваненькие, есть ветровка-косуха от дождя, есть даже черная бандана с белым черепом — много ли надо человеку, чтоб достойно провести свою юность? А вот отсутствие в кармане мало-мальских хотя бы денежных средств угнетало ее по-настоящему. Очень уж хотелось «апгрейдить» свое двухколесное детище по-настоящему, купить новую «обвеску» к сезону. Тут уж надо отдать должное собратьям — помогали они ей исправно. Кто чем, с миру по нитке… Так что «апгрейд» в конце концов получался совершенно полнейший — от смены деталей, будто из ниоткуда, возникал вдруг совершенно новый велик, и даже имя ему приходилось давать новенькое. Так она объездила и первую свою Ласточку, а потом был еще Мальчик, а потом еще Чертенок № 13… Они, ее велики, были почти родными, были усталыми, понимающими и молчаливыми. Они умели сливаться с ней родством в единый организм, живой, гибкий и красивый. Они были родителями, братьями и сестрами, дядями и тетями, эти железяки о двух колесах… Подумаешь, железяки! Зато они не кричат пьяным надрывным голосом на кухне о «праве на свою собственную жизнь», не засыпают за столиком придорожной пивнушки, не трясутся в утробном мамином вое, горестном, на одной высокой ноте, таком безысходном, что слезы сами льются в подушку от жалости. Или от страха. А может, это просто жалостливый такой страх. Или испуганная жалость. Льются и льются из глаз на наволочку с рисунком из желтых листьев, и они промокают, темнеют от сырости, как от осеннего дождя…
Вообще, была б ее, Надеждина, воля, она б совсем, ей казалось, домой не ходила. Ездила бы себе и ездила по коварной весенней наледи, или по остывающему к ночи летнему асфальту, или по лужам с мокнущими в них тополиными облетевшими листьями, или по снежной хрусткой крупе… Только воли у нее такой не было. Надо было вечером мчаться домой — маму в ее горестной борьбе поддерживать. Или, хуже того, папу по пивнушкам искать, а потом тащить его домой, шатаясь от тяжести, как пьянчужка-собутыльница какая. Но это уже отдельная песнь. Грустная очень. Не песнь даже — баллада, от которой внутри все скручивается холодным жгутом и норовит ударить по сердцу, и никак это жгут не желает хоть чуточку ослабнуть и дать вздохнуть посвободнее. Потому как оно хорошо, конечно, когда присутствует в твоей жизни железная — двухколесная любовь и преданность, но родительской простецкой любви тоже почему-то сильно хочется…
А потом папа умер, и, грех сказать, отпустило. И душу, жгутом скрученную, отпустило, и тело тоже. В том смысле, что начала Надежда сразу поправляться, как на дрожжах, наливаться лишними никчемными килограммами, и опомниться не успела, как превратилась в рослую статную да фигуристую девицу с плотными ногами и тяжелыми кусками мяса на талии и бедрах. И аппетит вдруг у нее такой небывалый прорезался — мела все подряд, будто с голодного острова спаслась. Даже велик пришлось покупать срочно новый — мама на первый взнос по кредиту раскошелилась. Она и сама помолодела-порозовела будто, хотя по мужу погибшему отгоревала-отплакала честно, как порядочным вдовам и полагается. А отплакав, развернулась всем своим существом к дочери и рассматривала иногда ее так долго и удивленно, что Надежде как-то даже неловко становилось за такой к себе живой любовный интерес… И еще — она очень спугнуть его боялась, интерес этот. И с радостью принимала материнскую о себе заботу, словно свалившуюся вдруг на голову манну небесную. Не привыкла она к таким нежностям, чего уж. И к заботе не привыкла. И к материнской бдительности насчет ее девичьей чести тоже не привыкла. Однажды взяла и заявилась домой глубоко за полночь, как часто бывало и раньше, в той еще жизни. Чего такого-то? Ну, задержалась, ездили на великах на дальние озера всей тусовкой… И потому очень удивилась, когда в ночной прихожей нарисовалась мама с тапком в руке. И ударила ее по лицу этим тапком так, будто таракана прихлопнула. Неожиданно и резко. А потом молча развернулась и ушла спать. Оскорбилась, видно, за материнские свои переживания по поводу ее позднего возвращения. Да если б Надежда знала, что она переживать будет, да она бы никогда…
Утром она очень перед мамой извинялась. А та еще целую неделю ее наказывала — не разговаривала совсем. Полный бойкот объявила. Да уж, трудное и ответственное это занятие — хорошей матерью быть… А еще труднее, как оказалось, быть хорошей дочерью. Не привыкла к этому Надежда. Наоборот привыкла — это от нее мама всегда ждала поддержки и помощи. И не ждала даже, а требовала. Как-то это само собой в их семье разумелось…
Параллельно с проявленным к жизни дочери интересом мама вдруг обнаружила, что и учится в школе ее дочь, оказывается, хорошо, и учителя ее способности хвалят, и было это приятнейшим для нее сюрпризом, и надо было теперь решать, куда бы эти дочерние способности неплохо пристроить. Потому на семейном совете они решили, что Надежда поступать будет в юридический. Отчего-то маме очень хотелось, чтоб именно в юридический. Надежда и не сопротивлялась — почему бы и нет. Раз маме так хочется… Поступила она легко, на бюджетное бесплатное место, и училась легко, будто играючи. И шел год за годом спокойной и счастливой чередой, и мама уже начала присматриваться более пристально к приходящим в дом приятелям-студентам. Хотя таковых было не много — Надежда по-прежнему поддерживала дружбу с собратьями по параллельной велосипедной жизни, среди которых был народ всякий. На иного посмотришь — приличный вроде парень, а на поверку выходит — бандит…
Но на самом деле социальное положение потенциальных дочкиных женихов маму вовсе не волновало. Главная для нее задача стояла в другом — чтоб затаившиеся пагубные пристрастия своего потенциального зятя разглядеть вовремя. И справлялась с этой задачей мама весьма оригинально, то есть держала про запас в потаенном местечке кухонного шкафчика бутылку водки. Ту самую, ненавистную, испортившую ей молодость и всю остальную замужнюю женскую жизнь. И служила ей эта ненавистная бутылка некой лакмусовой человеческой бумажкой, стопроцентным показателем всех достоинств приходящих в дом Надеждиных друзей…
Происходило это примерно так. Заподозрив, что очередной приятель посматривает на ее дочь более теплее, чем для обычной дружбы полагается, или, не дай бог, проявляет к ней особые какие-то знаки внимания, мама тут же брала на себя всю ответственность за происходящее и начинала, как говорится, танцевать из-за печки свою цыганочку с выходом, то есть с милой материнской улыбкой приглашала парня совместно с ними отобедать, совсем по-семейному, втроем, украинским борщом да котлетами. Вот тут и начиналось самое главное ее коварство — в процессе милого дружеского разговора как бы невзначай появлялась на столе припотевшая бутылка из холодильника, под горячий, так сказать, борщец да для большего мужского аппетиту… Ничего не подозревающий испытуемый, конечно же, проглатывал с удовольствием первую рюмку — как такой хлебосольной хозяйке откажешь? Да еще и маме… А потом и вторую. И третью. А после четвертой по маминому лицу пробегала уже тень очередного разочарования — и этот, мол, тест на самое главное мужское достоинство не прошел… Снова покраснела лакмусовая человеческая бумажка, безотказная и справедливая. Не нужен им с Надеждой такой жених. Надо отказать. И больше не пущать. Хотя у жениха того в этот момент ни одной матримониальной мыслишки в голове, может, вовсе и не проскакивало. Ну, подумаешь, пообедать пригласили, что в том такого…
Наверное, так и осталась бы при таком мамином раскладе Надежда навсегда безмужней, если бы ей Витя, наконец, не встретился. Познакомилась она с ним на свадьбе у институтской однокашницы. Веселая была свадьба, студенческая, разбитная… Они с Витей оказались на ней белыми воронами, то есть абсолютно трезвыми в танцующей и расслабляющейся толпе молодых гостей. И по этому только признаку потянулись друг к другу, как тянутся друг к другу люди по своим маленьким интересам. Правда, разглядывал ее Витя поначалу очень неодобрительно, со снисходительной будто мужской усмешечкой. Да и были на то у него свои причины, наверное. Потому как на свадьбу эту Надежда заявилась хоть и в новых, но все-таки в джинсах. Ну, белую рубашечку еще для случая принадела… С привычкой не обращать внимания на свой внешний вид у нее так и не получилось совладать, да она и не старалась особенно. Зачем? Так было удобно по утрам ездить в институт на велике, с рюкзачком за плечами, с черной банданой на голове… Хотя совсем уж таким удобством жизни она не злоупотребляла, конечно же. Оставив велик на сохранение за будочкой у доброй вахтерши, бандану с головы снимала, ветровку пыльную или мокрую сворачивала и совала в рюкзачок и шла в аудиторию в джинсах и пиджачке — обычная студентка, каких много. Ну, лицо совсем без косметики. Ну, стрижка обыкновенная, не стильная. Ну, за фигурой совсем не следит. Ну и что, подумаешь… Зато велик по имени Чертенок № 13 верно и преданно дождется конца занятий, и они поедут рулить по улицам города, слившись в единый счастливый организм…
Она и Вите на той свадьбе попыталась было поначалу рассказать про свою вторую параллельную жизнь, но он лишь взглянул на нее удивленно и снисходительно. А потом, оглядев критически с ног до головы, вынес свой мужской безапелляционный вердикт о том, что она, конечно, ничего девчонкой была бы, симпатичной даже, если б привела себя в относительный женский порядок… Надежда аж вздрогнула внутри. И испугалась. Сроду ей никогда и никто таких обидных слов вот так вот, в лоб, не говорил. А Витя сказал. И, не дав опомниться, тут же начал еще и перечислять все ее недостатки. Долго перечислял, так, что сам увлекся процессом. Не заметил даже, что его свадебная собеседница сидит уже ни жива, ни мертва. Наверное, это и в самом деле доставляет некое удовольствие — побыть хоть раз в жизни в роли Пигмалиона. Особенно когда Галатея твоя окончательно сбита с толку, когда внутренняя ее самооценка предала свою хозяйку и полетела в пропасть всяких ненужных мотиваций. Туда, в черноту, к чертовой матери…
В общем, стали они после этой свадьбы встречаться. Под чутким Витиным руководством Надежда старательно морила себя голодом, отчего ее накачанные от постоянного кручения педалей мышцы молили о помощи. Хотя чего толку молить — мотивация, она штука жестокая, и своей жертвы все равно потребует. Охота пуще неволи, а мотивация, выходит, пуще голода… А потом она записалась еще и на занятия аэробикой и старательно вертела там похудевшим задом, чтоб выглядеть сексуально и женственно, как учил ее Витя-Пигмалион. И в салон косметический пошла, чтобы кожу на обветренном лице выровнять, и в парикмахерскую — волосы красить под блондинку… Чертенок № 13 сиротливо взирал на нее из угла в прихожей. Иногда ей казалось, что он даже плачет от обиды и предательства…
Зато мама Надеждой очень довольна была. И без ропота раскошеливалась на косметическо-парикмахерские всякие изыски. Дочка-то на глазах менялась! Такой красавице гораздо легче будет непьющего да адекватного себе в мужья сыскать… И Надежда тоже жила этой ее радостью, тем более что Виктор маме сразу, с ходу понравился. Потому что тем самым и оказался, единственным, который ее тест с ходу прошел. То есть отказался от первой же предложенной рюмки из запотевшей бутылки. И даже «для аппетиту» отказался. Нет, говорит, извините, не пью, спортом занимаюсь… У мамы аж дух зашелся от такой удачи. Еще бы — парень не пьет, не курит, работу постоянную имеет. И не какую-то там модную и непонятную вроде менеджера или дилера, а настоящую, основательную. После экономического института грамотно подался он сразу в главные бухгалтеры и сидел себе припеваючи в женском почти коллективе небольшой, торгующей дешевой мебелью фирмы. Зарплата в фирме была не ахти, конечно, зато место спокойное. Очень, очень, хороший парень. Правда, бросаться в омут семейного устройства этот хороший парень благоразумно спешить не стал, снимал с Надей квартиру за «бешеные просто деньги», как говаривала мама, тихо возмущаясь такой расточительностью. Очень хотелось маме Надю за Виктора замуж выдать, сердце свое материнское успокоить. Да и то — к тому времени засиделась в девках ее дочь порядочно. Пока в институте еще училась, она и не возражала против свободного ее состояния, диплом-то тоже в жизни пригодится, еще как. Да еще такой хороший, юридического института. А когда этот диплом в руках Надеждиных оказался, вот тут уж тревога в ней поселилась намертво. Чего же это — двадцать три года уже девушке, а семьи никакой нет! Вовсю пора уже свое «гнездо вить» к такому возрасту. Поэтому явлению в Надиной жизни Виктора мама очень обрадовалась и поначалу отнеслась к их гражданскому сожительству довольно мирно. И потихоньку учила Надю вопреки ненадежному гражданскому браку все-таки гнездо потенциальное помаленьку обустраивать. И всячески намекала Виктору при редких встречах, чтоб он обратил внимание на Надины по этому процессу старания. Смотри, мол, какая у меня дочь молодец — и съемно-чужой дом в чистоте держит, и еду вкусную тебе готовит, и сама как конфетка выглядит. Так выглядит, как тебе нравится, худой да белобрысой…
Виктор долго ее намеков не понимал. А может, только вид делал, что не понимает. И тогда Надина мама решилась на отчаянный шаг — пообещала для них квартиру свою трехкомнатную разменять на две однокомнатные, да еще и оформить причитающуюся им однокомнатную на Надю с Виктором в равных долях. Так и заявила им — вы ж муж да жена будете, чтоб все поровну у вас было… А чего, мол, бешеные деньги за съемные углы платить? Живите себе пока в однокомнатной, в своей, в собственной, гнездо свое вейте… Вот тогда они свадьбу и сыграли. Почти год назад. И в эту вот квартиру свою собственную, в равных долях мамой оформленную, и переехали. И впрямь начали гнездо вить. Поначалу и правда — очень старались. Приносили старательно в клювике в общий семейный бюджет все заработанное. Надя даже забеременела счастливо и, как ей казалось, совершенно ко времени. Пора ведь и птенцов по всем природным и маминым приметам заводить! Да только не тут-то было. Не захотел Виктор никаких птенцов. Уговорил ее на аборт под предлогом того, что не стоит пока заводить детей в однокомнатной. Вот подкопят деньжат, поменяют это гнездо на большее, вот тогда уж… Ей бы его не послушать, по-своему сделать, а она не осмелилась. Да и мама посоветовала — не гневи мужа. Потому что грех непьющих мужей гневить, они и так на дороге не валяются. Да и прав он, в общем, говоря, что для птенцов большее по размеру гнездо требуется. Разумно рассуждает. Очень адекватно, очень трезво, что и говорить…
Вообще, мама Витю очень уважала. И в жизнь их семейную не вмешивалась, только любила понаблюдать за ней будто со стороны. В редкие свои наезды в гости садилась где-нибудь в уголке и наблюдала тихо и умиротворенно, словно многосерийную мелодраму по телевизору смотрела. Семейную сагу. Из серии в серию — все одно и тоже, все тихо, все достойно, все до глянцевого блеска положительно. Вот пришел Витя с работы — совершенно трезвый. Одному этому факту до слез умилиться можно. Вот он выходит из ванной с мокрыми после душа волосами, вот садится на кухне ужинать… А Надя хлопочет-суетится вокруг него в коротком шелковом халатике, перехваченном поясочком на тонкой талии. А что? В таких вот именно халатиках артистки в кино и суетятся вокруг своих непьющих положительных мужей. Иногда Надежде начинало казаться, что мама вот-вот возьмет в руки пульт и запросто погонит пленку назад, чтоб еще раз пересмотреть понравившийся ей кусочек, и Витя снова войдет в дверь, совершенно трезвый, и снова выйдет из душа с мокрой головой, и она будет хлопотать туда-сюда над ним в коротком халатике… Насмотревшись, мама уезжала домой очень довольная, оставляя в душе Надежды чувство неизгладимой за все это киношное хозяйство ответственности. Очень сильное чувство, не позволяющее взять и порушить тихое течение их брачного бездетного пока благополучия. Хотя, если уж честной быть, она очень тяжело пережила тогда свой поход в больницу. Нет, по медицинским всяким показателям все прошло довольно удачно, Виктор на оплату этой процедуры не поскупился. Просто внутри у нее что-то перевернулось, будто выключилась кнопочка какая-то. Или наоборот, включилась. Вышла Надежда из больницы и поняла, что глупость сделала. И не глупость даже, а убийство. Убийство своего ребенка, которому поначалу так обрадовалась. Правда, Виктор тут же ласково обсмеял все ее переживания, но она чувствовала, что вышла из больницы другой. Что-то ушло из нее прежнее, легкомысленное, окончательно и навсегда. А может, появилось что-то новое, заставившее горько жалеть о содеянном. Может, это женская мудрость и есть? Которой ей так не хватает? Хотя нет, не похоже это на мудрость. Другое это что-то. Потому как если б была это мудрость, она бы сейчас не металась по квартире в растерянности, а быстренько бы сообразила, как ей правильно встретить загулявшего мужа. Какой правильный тон взять при этой встрече. Чтоб было достойно, чтоб умненько, чтоб без лишнего самоуничижения. Чтоб не дать самой себе возможности спросить прямо в лоб — с кем, мол, время вечернее проводил, сволочь адекватная…
Взгляд ее уперся в этот момент в кухонную стену, куда ее занесло в круговерти бесполезного шатания туда-сюда по пустой квартире. Вернее, даже не в стену, а в расписной под хохлому подарочный наборчик, висящий на той стене мирным символом кухонного уюта. Такие, наверное, на каждой кухне висят — разделочная доска, толкушка, скалка… Точно, скалка! Смешно же, как в анекдоте — жена встречает мужа со скалкой в руке! Мило и забавно, и можно еще и пошутить чего-нибудь, к случаю подходящее. Можно еще озорно улыбнуться, блеснуть глазами, скалкой смешно в воздухе потрясти. Вроде того — ужо я тебя сейчас! Они посмеются, и он все поймет, и все лобовые вопросы сразу отпадут сами собой. О! Уже вон и ключ в дверях тихонько шуршит! Как здорово она это со скалкой-то придумала! И главное, вовремя как…
Схватив со стены расписное украшение, Надежда пролетела ветром в прихожую, успев по пути заглянуть в зеркало и проверить на лице наличие озорной улыбки. Улыбка была, конечно, но совсем не озорная. Жалкая какая-то улыбка была, с трудом будто оскаленная. Ну да ладно, нет времени репетировать. Раньше надо было. Вставляемый Виктором с той стороны в дверь ключ все никак не мог попасть в заветную скважину-щелочку, все шуршал и шуршал чего-то в ее районе пугливо и нерешительно. А она уже стоит со своей скалкой, уже сотрясает ею в воздухе, как идиотка… Ну же!
Не вытерпев, Надежда схватила с тумбочки свою связку, быстро сунула нужный ключ в замок, быстро провернула, потянула на себя дверь…
За дверью стоял вовсе не Виктор. Что-то большое, шатающееся и откровенно-мужское тут же уперлось руками в косяки, но отчего-то не удержалось и начало неумолимо заваливаться прямо на Надежду. Она и сама не поняла — то ли она закричала от испуга, то ли захрипела просто. Почувствовала только, как поднятая вверх рука со скалкой со всего размаху опустилась прямиком на голову этого чудовища, издав противный глухой звук. Довольно сильно опустилась, так, что в руке даже зазвенело что-то и прокатилось к предплечью навроде судороги. Потом едва успела отскочить в строну — ударенная ею голова вместе с остальным телом рухнула в ее прихожую, только ноги в грязных ботинках остались лежать за порогом. Так и застала ее с дурацкой скалкой в руке, с застывшим от ужаса лицом выскочившая на шум соседка по площадке, прелюбопытнейшая особа Роза Геннадьевна. Не потому прелюбопытнейшая, что как особа интересна чем-то была, а потому, что любознательна была до крайности, и такой интересный случай в Надеждиной бытовой жизни просто никак пропустить не могла.
— Ой, кто это, Наденька? Это что, Виктор твой так напился, да? Так он же совсем не пьет вроде… Ни разу не видела… А ты его скалкой по голове огрела, да? И правильно, Наденька! И правильно! Это чтоб и впредь неповадно было! Вот я своего мужа тоже, бывало…
Роза Геннадьевна тут же пустилась в пространный и подробный рассказ о трудностях своей семейной когда-то жизни, с годами безвозвратно утраченной, но Надя ее не слышала. Так и стояла, не подавая признаков жизни, потом подняла на соседку тяжелые глаза… Ничего в этих глазах для себя хорошего не увидев, Роза Геннадьевна предпочла ретироваться в свою квартиру, обиженно хлопнув за собой дверью. Она вообще эту молодую соседку недолюбливала. Гордячка. Себе на уме. Никогда не остановится во дворе, не поговорит, ни о ком не спросит… Уже год живет в их доме, а ни с кем так и не подружилась по-соседски. Ни за солью, ни за спичками не зашла. Вот теперь пусть сама разбирается. А она, Роза Геннадьевна, даже и помогать ей не будет пьяного мужа в квартиру затаскивать. И вообще, там шестьдесят седьмая латино-американская серия по телевизору заканчивается…
Вздрогнув от хлопка закрывшейся соседской двери, Надя моргнула и с удивлением уставилась на зажатую в руке скалку. Потом испуганно отбросила ее в сторону, и она покатилась жалобно в сторону комнаты, ни в чем сама по себе не виноватая. Чего ее бросать-то? И вовсе не хотела она быть грозным орудием. Висела себе на стеночке, кухню украшала… Шагнув к телефону, Надя автоматически набрала Веткин номер и, услышав ее сонный голосок, проговорила в трубку трагически:
— Ветка, я человека сейчас убила…
— Это какого человека? Виктора своего, что ли? — спросила Ветка так, будто речь шла о чем-то очень обыденном. О чем-то таком, из-за чего не стоило и будить ее, уставшую, в такое позднее время. Отчаянно пискнув — она всегда зевала очень интересно, как котенок, издавая короткий и пронзительный звук на выдохе, — еще и добавила мстительно: — Так твоему Вите и надо. Не будет по ночам шляться да женскими духами вонять. Давно надо было ему за это треснуть!
— Вет, ты не поняла… Я не Виктора, я человека убила…
— Какого человека? — уже более заинтересованно спросила Ветка. — Откуда у тебя там еще человек, кроме Виктора? Или я не знаю чего-то интересного?
— Ой, ну откуда я знаю, что это за человек! — начала сердиться Надя, одновременно приходя в себя и косясь на распластанное по прихожей тело. — Мужик какой-то посторонний… Ветк, приходи, а? Я не знаю, что мне теперь делать…
— Ладно. Сейчас приду. Ничего без меня не предпринимай. — Решительно произнесла в трубку Ветка и тут же полились в ухо гудки отбоя. Надя положила на рычаг трубку, прижалась к стене и стала ждать, где-то краешком сознания понимая, что толку от Ветки в данной ситуации не будет, конечно, же, никакого, но все же…
Вскоре она услышала, как на первом этаже аккуратным тихим щелчком закрылась дверь Веткиной квартиры, и вверх по лестнице зашуршали быстрым ветром ее тихие шаги. Она вообще была очень быстрой на ногу, ее соседка. И еще она была маленькой и худенькой, как несформировавшаяся еще девочка-подросток. Надя удивлялась только, как ей удалось при такой худосочной комплекции родить двоих довольно крупных детишек, шестилетнего Артемку и годовалую Машеньку. И еще, она очень жалела ее, потому как Ветка взращивала своих детишек одна, без всяческой какой бы то ни было помощи со стороны. Их дружба в основном и строилась на этой Надиной жалости — все она норовила их подкормить да приобуть-приодеть. И детей, и Ветку. Все время ей казалось, что живет на первом этаже их дома странное семейство, состоящее из трех заброшенных детей. Хотя Артемка и Машенька заброшенными ну никак не выглядели — упитанными были и розовощекими, а вот Ветка… Ветка, их мать, и впрямь смахивала на несчастного детдомовского недокормыша военных лет с грустными голодно-печальными глазами на пол-лица и худенькими, будто сведенными судорогой плечиками. Надя только удивлялась — вот же природа! И изводить себя никакими диетами не надо… А когда выяснилось при ближайшем знакомстве, что Ветка была подлецом-мужем брошена аккурат в день Надиной свадьбы, как раз накануне рождения Машеньки, прониклась к своей несчастной соседке еще больше. И даже ответственность какую-то за нее ощутила, будто виновата была том, что день ее свадьбы совпал с роковым и самым тяжким для Ветки днем. И в самом деле, представить же такое невозможно — женщине в роддом вот-вот идти, а ее муж бросает… Подлец, настоящий подлец. Да еще и от алиментов скрывается…
— Ого! Надь, а это кто? — осторожно перешагивая по очереди через ноги мужчины, протиснулась в прихожую Ветка. — Ты его знаешь?
— Да откуда? — в отчаянии махнула на нее рукой Надя. — Откуда я его знаю? Я услышала, как ключ в замочной скважине шуршит, думала, это Витя пришел… Открыла дверь нараспашку, а там этот стоит! И уже вроде как в квартиру войти хочет! Ну, я его и огрела по башке со всей дури… Господи, ужас какой! Сроду ни на кого руки не поднимала!
— А чем, чем огрела-то?
— Скалкой…
— Почему скалкой? Ты что, стряпала, что ли? В такое время?
— Да ничего я не стряпала! — От волнения коварная буква «р» в Надеждином голосе уже не слышалась милой картавостью, как обычно, а совсем будто проваливалась куда-то, и выходило со стороны, наверное, совсем смешно, совсем по-детски: Говою же, думала, что Витя идет! Вот и пошла встъечать…
— Со скалкой?
— Ну да… Понимаешь, я так пошутить хотела. Ну, чтоб не спрашивать, где был, да с кем… И в то же время показать хотела так ненавязчиво, что мне обидно…
— А почему ненавязчиво-то? Что в этом такого, если ты нормально спросишь, где был? Мудришь чего-то, сама не знаешь…
— Ой, отвяжись, а? Посоветуй лучше, что мне с этим делать? — уныло качнула она головой в сторону лежащего на полу мужчины. Словно услышав ее вопрос, он вдруг дернулся слегка и застонал-замычал тихо, пытаясь чуть приподнять с линолеума голову. Надя с Веткой тут же порскнули в кухонный проем, как две испуганные птицы, и выглянули оттуда спустя уже минуту. Мужчина снова лежал в прежней позе, не подавая больше признаков жизни. Ветка первая подкралась к нему на цыпочках, склонилась над головой…
— Фу-у-у… — помахала она перед носом своей худосочной ладошкой и сморщилась отчаянно. — Надь, да он же пьяный в стельку! Он, наверное, сам по себе в прихожую к тебе свалился, а вовсе не потому, что ты его скалкой огрела! А может, ты его и не била вовсе? Может, тебе показалось с перепугу?
— Ой, да какая теперь разница, била, не била… Главное — живой! А то я уж грешным делом статью Уголовного кодекса начала в памяти воспроизводить да воспоминать лихорадочно, в чем тут субъективная сторона заключается, в чем объективная… Я ж юрист все-таки по образованию!
— Ой, да какой ты юрист! Не смеши! Сидишь, бумажки на своей фирме перебираешь! Я вот тоже экономист по образованию, а экономить только в последний год научилась, когда одна с детьми осталась. Вообще, на мне теперь можно специальный курс изучать — как правильно сэкономить на расходах, когда практически нет приходов…
— Да ладно, чего ты… Прорвемся, Ветка! Не будем о грустном. Скажи лучше, что с этим будем делать? Не стоять же у двери, не караулить всю ночь, когда он изволит выспаться! И Вити, как назло, нет…
— Ну, тогда давай рассуждать здраво, — уткнув кулачки в худые бока, проговорила решительно Надина соседка. — Давай исходить из имеющихся наших дамских возможностей.
— Это как? — непонимающе уставилась на нее Надя.
— А так! Поскольку основная часть туловища уже находится у тебя в прихожей, значит, легче затащить его сюда, в прихожую. Правильно?
— Ну, правильно… Только не хотелось бы, конечно…
— Да это понятно, что не хотелось бы. А только другого выхода нет. На лестничную клетку нам все равно его не вытащить. А если затащим в прихожую, то ты дверь в квартиру сможешь закрыть. И лечь спать спокойно.
— Ага, спокойно… Скажешь тоже…
— Ну, тогда стой над ним и карауль! Я-то ведь домой должна буду уйти, у меня там дети одни… Оно тебе хочется?
— Нет, не хочется…
— Ну, я не знаю тогда… — развела руками Ветка, словно удивляясь Надиной строптивости.
— Ладно, затаскиваем! — вздохнув, решилась Надя принять таки Веткино предложение. — Сейчас перевернем его на спину, а ноги просто подогнем в коленках, и дверь тогда закрыть можно будет.
Кряхтя и вздыхая, они перекатили безвольное тело мужчины на спину и вздрогнули одновременно, когда голова его, завалившись вслед за плечами, глухо стукнулась затылком об пол, явив им молодое совсем, почти юношеское лицо ее хозяина. Слегка искаженное болезненной судорогой и залитое синюшной бледностью, оно было все равно красивым. Бывают такие мужские лица. Как бы ни прорастала на них щетина, как бы ни искажала их злость, бледность или усталость, природная брутальность и чертовское обаяние так и прет из них всем своим естеством. Это всякой женщине для проявления своей красоты ухоженность некоторая надобна, а таким вот мужским лицам и нет в ней никакой потребности. А бывает и вообще — чем лицо мужское меньше ухожено, тем и красивше…
— Надьк, смотри, а он ничего себе, — тихо проговорила Ветка, разглядывая незадачливого ночного постояльца. — Уж по крайней мере, посимпатичнее твоего Витеньки будет…
— Это ты к чему сейчас сказала? — сердито на нее уставясь, проговорила Надя. — Тебя послушаешь, так мой Витя хуже всякого первого встречного пропойцы!
Ветка и в самом деле Витю недолюбливала. Говорила, он ей мужа ее подлеца напоминает, и поведением, и внешностью. И следуя этим аналогиям, предрекала Наде от ее замужества всяческие неприятности. Нет, не была она вовсе по-женски завистлива, просто за подругу так переживала. Чуялось ей везде предательство, и все тут.
— Да нет, он не хуже. Просто… Просто иногда мне кажется, что лучше бы уж твой Витя пьянствовал слегка…
— Ну уж нет, дорогая! Я этого удовольствия в детстве поимела столько, что на всю оставшуюся жизнь хватит! Насмотрелась на пьяного папеньку…
— Так в том собака твоя и зарыта, Надька… — тихо пробурчала Ветка, будто и не возражая даже, а беседуя так просто, сама с собой. — Для тебя теперь каждый непьющий мужик — идеал божественный, святой архангел… А что у этого идеала за сущность, тебе вообще фиолетово… Вот где он теперь, идеал твой? Ночь на дворе! Ты знаешь, где он и с кем сейчас?
— Нет, Ветка, не знаю… — грустно подтвердила Надя. — Да и знать как-то не хочу! Вернее, будто бы не хочу…
— Вернее, тебе надо сделать вид, что ты знать не хочешь. Прикрыться надо трусливым юмором со скалкой в руках, да? Такой вот декоративной женской мудростью? Вроде того — смотри я простая какая, любящая да смешливая, ничегошеньки не понимающая добрая женушка…
— Ладно, Ветка, хватит! И без твоих психологизмов тошно! — оборвала ее на полуслове Надя. — Иди уже домой, не дай бог Машенька проснулась.
— Ладно, пойду. Не сердись, Надь. Ты же знаешь, я любя…
— Иди-иди. Все, пока. Спасибо тебе за помощь.
Вытолкав Ветку, Надя ушла в комнату, плотно прикрыла за собой дверь в прихожую. Подумав, забаррикадировала ее еще и креслом. Увидев закатившуюся в комнату из прихожей скалку, подняла ее с пола, почему-то принялась рассматривать внимательно, будто с трудом соображая, как же это ее угораздила так анекдотично ею воспользоваться. Тоже, шутница нашлась. Грозная жена со скалкой. Ошарашила бедного пьяного парня по голове, только шум стоял… А не будет пьяным шататься где ни попадя! Сам виноват. Даже в квартиру не позвонил, сразу начал ключ свой совать в замочную скважину! Знаем мы эту «Иронию судьбы», каждый год по телевизору смотрим…
Усмехнувшись, она кинула взгляд на большие настенные часы и чертыхнулась про себя сердито — половина двенадцатого уже! Он что, совсем решил сегодня не приходить? Хоть бы позвонил, соврал чего-нибудь… А что, она бы и поверила. Вернее, сделала бы вид, что поверила. И пусть Ветка ее ругает за слабохарактерность. Да и вообще, не в слабом характере тут вовсе дело, ей этого самого характера никогда занимать не приходилось. Просто она так гнездо свое вьет. Каждая же птица его вьет по-своему! Кто-то по-другому, а она вот так! С женской мудростью. Имеет право, в конце концов…
Бросившись с размаху на диван, она совсем было собралась всплакнуть, да передумала. Спать от пережитых волнений захотелось просто смертельно. То есть так, что не достало и малых сил, чтоб добрести до ванной и умыться на ночь. Да еще и перешагивать пришлось бы через пришибленное скалкой и распластавшееся по всей прихожей тело бедолаги-пьяницы… Нет уж. И так сойдет. И в неумытом виде. Вот если бы встать, приготовить себе из дивана удобное ночное ложе… На этой хорошей мысли она и уснула. Едва успев натянуть на себя плед, тут же улетела в спасительный сон, подсунув под щеку кулак с зажатой в нем расписной хохломской красотою…
* * *
Ворвавшиеся в крепкий утренний сон звуки музыки из установленного на режим будильника музыкального центра были такими родными и привычными, что она рванулась было потянуться им навстречу всем своим отдохнувшим за ночь и оттого очень радостным организмом. А в следующую уже секунду радость из организма ушла. Место ее тут же заняли смутная тревога и хлынувшие волной неприятные воспоминания. Ну да, конечно же… Вчера же Витя не пришел! А еще… А еще в прихожей лежит пьяное тело неизвестного мужчины. И какой он, добрый или злой, она не знает. А вдруг он вообще бандит какой? Вчера он был пьяным и потенциально неопасным, а за ночь мог и проспаться хорошенько. А вдруг сейчас обнаружит рану от удара скалкой на лбу и захочется ему искренне возмутиться таким невежливым обращением?
Встав на цыпочки, Надежда рванула к исходящему бодрой утренней музыкой центру, нажала на кнопочку отключения, прислушалась. Тихо. Подкравшись к двери и сжимая в кулаке ставшую до боли родной расписную скалку, еще раз прислушалась. Ухо уловило, наконец, то ли глухой болезненный стон, то ли мычание ночного гостя. А ведь здорово она его огрела вчера, наверное. От всей испуганной души рубанула. Хорошо еще, что он то ли мычит, то ли стонет, а не звериный рык извергает в предвкушении мести за такое злостное членовредительство. А с другой стороны — она-то тут при чем? Она себя таким образом защищала, только и всего. Необходимая оборона у нее такая была. И без всякого превышения ее пределов. Она об этом знает, она в институте это проходила…
Откатив кресло и приоткрыв дверь в прихожую, Надежда осторожно выглянула в маленькую щелочку. Так и есть. Сидит, стонет себе спокойно. Или мычит. Зажал ударенную скалкой голову меж ладонями и мычит, и покачивается плавно из стороны в сторону, как большой маятник. И искренне возмущаться вовсе не собирается. Осмелев, она распахнула дверь пошире и встала перед ночным гостем грозным изваянием командора, уперев руки в бока. Со стороны посмотреть — хоть картину пиши. И скалка на своем месте, в упершемся в бедро кулаке, очень удачно, наверное, смотрится. Грубовато, конечно, но это ж всегда истиной было, что лучшая защита — нападение! Вот и незнакомец сразу перестал стонать, и побежал взглядом от ее ступней вверх, и добрался, наконец, до ее сердитого лица, и уставился в него растерянно.
— А… А вы кто? — промычал-простонал он хрипловато и мучительно, и тут же схватился снова за голову. Болит, наверное.
— Это я — кто? — грозно произнесла Надежда. — И вы еще имеете наглость спрашивать, кто я здесь такая? Вы лучше вспомните, как вы сами здесь оказались!
— А… Как я здесь оказался? — с трудом поворачивая голову и озираясь по сторонам, снова промычал-простонал незнакомец и взглянул на Надежду снизу вверх совсем уж потерянно. Ей даже жалко его стало. Тем более, в самой середине лба у него и впрямь была рана. Не кровавая, конечно, но вспученная нехорошей такой здоровенной шишкой, похожей на вырастающий из лобной кости синюшно-багровый рог. Фантастическое зрелище. Надежда наклонилась, рассмотрела этот рог вблизи и поморщилась виновато: действительно от души припечатала…
— Давайте хоть пластырь наложим, что ли… — пробормотала она растерянно, снова распрямляясь во весь рост. — В таком виде вам и на улицу выходить нельзя …
— Куда пластырь? Зачем? — поднял к ней голову незнакомец. — Не надо мне пластырь. Вы мне лучше скажите, где я нахожусь…
— У меня в квартире, где!
— Да-а-а? А вы кто-о-о-о? — снова простонал мужчина. — Я вас не знаю совсем…
— Да уж, познакомиться мы никак не успели, знаете ли! Вы ж начали вваливаться ко мне в квартиру, как только я двери открыла! Ну вот я и… Сильно болит, да? Давайте я все-таки пластырь вам на лоб наклею. Вы встать-то сможете?
— Погодите… Это что же получается… Я что, ночевал здесь, да? — совсем по-детски хлопнул длинными ресницами незнакомец и уставился на Надежду с таким ужасом, будто и не молодым мужчиной был вовсе, а невинной гимназисткой, обнаружившей себя поутру в постели со старым развратником.
— Да. Именно здесь вы изволили всю ночь почивать, молодой человек. Именно в этой прихожей, именно на этом линолеуме.
— Ничего себе… Как же это… — стыдливо отвел он глаза в сторону.
— А пить меньше надо! Такой молодой, а уже алкоголик…
— Я не алкоголик. Я сам не знаю, как это получилось… Я и правда не алкоголик! Вы не думайте…
Надежда и сама видела, что парень вовсе не тянул на погибающего вконец пьянчужку. Уж она-то знает, как они выглядят, пьянчужки эти. За версту такого могла распознать, потому как в натуральном виде нагляделась на них столько, что опыта по этому грустному распознаванию у нее накопилось гораздо больше, чем надо бы. У отца много таких приятелей по интересам было. То есть по совместному истреблению собственного человеческого достоинства. И ее, маленькой девочки Нади, достоинства, выходит, тоже. Потому как оно, это достоинство, вовсе не увеличивалось в размерах после их с мамой героических ежевечерних походов в поисках загулявшего мужа и отца с последующим героическим же вытаскиванием его из толпы пьяных люмпенов. А потом Надя очень стеснялась, когда они с мамой волокли свое пьяное сокровище сначала по улице, потом через двор, потом тянули по лестничной клетке… Однажды она осмелела немного и спросила у мамы — зачем? Зачем они так бездарно тратят свое время, если можно жить совсем, совсем по-другому? Мать, она помнит, очень рассердилась на нее тогда. И долго объясняла, что нельзя бросать близкого человека в беде, что надо бороться за него до последнего. Потому что, кроме них, больше некому. И кто-то все равно должен. А иначе это низкое предательство получается. И вообще, он ей родной отец… И маленькая Надя молчала пристыженно, и все равно не понимала, как можно бороться за человека, если сам он за себя бороться ну никак не желает… А потом она свыклась как-то. И приняла в себя это мамино — кто-то должен. И сама уже объезжала на велосипеде все знакомые злачные места, чтоб успеть подхватить отца еще тепленького, чтоб самой дотащить до дому, мать лишний раз не напрягая…
Ночной ее гость действительно был в этом плане непорочным. Она это видела распрекрасно, хоть и несло от него знакомым с детства духом похмельной абстиненции, незабываемым и тошнотворным. Да и одежда на нем была не та. Хорошая была одежда, дорогая. Она недавно Вите такую же рубашку в крутом бутике покупала и знает, сколько она стоит. Четверть зарплаты пришлось отдать. Да и костюм, и ботинки… И еще — выражение лица, совсем по-детски испуганное. Не бывает таких лиц у алкоголиков. Уж она-то знает…
— А сейчас уже утро, да? — наивно поинтересовался «не алкоголик» и снова взглянул доверчиво-виновато. — Вы простите меня, ради бога… Как вас зовут?
— Надежда. Меня зовут Надежда. Только процесс знакомства мы развивать не будем. Мне на работу надо собираться, знаете ли. Опоздать могу.
— Да, да… Извините… Извините, конечно. Я пойду. Спасибо вам, Надежда.
Он с трудом поднялся на ноги, потом снова качнулся опасно и постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Надежда развернула его за рукав к двери, открыла ее пошире, и он шагнул за порог, изо всех сил стараясь держаться молодцом. В следующую секунду она ощутила что-то вроде то ли прилива жалости, то ли совести, и спросила в удаляющуюся от нее спину:
— Эй! А деньги на такси у вас есть? Вам бы домой надо, иначе в таком виде просто не дойдете…
Не дожидаясь, пока суть вопроса дойдет до его попорченной скалкой головы, она торопливо сунулась в комнату, куда предусмотрительно с вечера отнесла свою сумку. Выхватив из кошелька две сторублевые бумажки, снова бросилась назад, перехватила его уже на лестнице и сунула их в пиджачный карман-листочку, еще и похлопала по этому карману ладошкой, пытаясь таким образом отпечатать в его временно больной памяти этот факт. Тут, мол, тут деньги на такси лежат. Парень кивнул отрешенно и снова продолжил свой трудный путь вниз по лестнице, держась дрожащей рукой за перила. «Хоть бы спасибо сказал», — подумалось ей с обидой, — «Какая же я добрая все-таки, аж самой противно… Еще и денег даю, будто это я к нему в дверь ночью вломилась…»
Выпроводив гостя, она снова отдалась назойливо-тревожным мыслям по поводу грустного события — Витя-то так и не пришел… Вот это было горе. Настоящее, женское. Грозящее перейти в катастрофу и полное разрушение почти уже свитого семейного гнезда. Обидно. Муж непьющий по паспорту есть, квартира, хоть и однокомнатная, есть. А гнезда, выходит, и нет уже? Нет-нет, не надо об этом даже и думать! Все образуется, все непременно образуется. Вот Витя придет и объяснит ей, где он был. Сам объяснит. А она даже и спрашивать его ни о чем не будет. Она такая. Она мудрая. Она так гнездо вьет.
Лицо после не смытой на ночь косметики капризничало, не желало ни в какую выглядеть свежо и румяно. А может, не от косметики, а от женских переживаний. И глаза из зеркала глянули совсем уж затравленно. Точно такие глаза были когда-то у мамы, когда она ждала папу с работы. Ну что ж, надо выходить из дому с таким лицом, ничего не попишешь. Рабочий день с его заботами никто для нее не отменял…
В довершение ко всем неприятностям она еще и на работу опоздала, что в их конторе приравнивалось практически к должностному преступлению. Работу вовремя не сделать или, тем паче, плохо ее сделать — это вам пожалуйста, это легко прощалось, а вот опаздывать — ни-ни! Надежда долго не могла понять принцип такого отношения к делу, но потом попривыкла как-то, смирилась с тем, что главная ее задача — вовремя плюхнуться в свое рабочее кресло, а потом уж можно и отдышаться, и кофею испить, и дополнить утренний макияж последними штрихами. А сама по себе работа подождет. Впрочем, ни у кого из старых сотрудников начальственные странности к такому болезненному соблюдению дисциплины труда вовсе не вызывали удивления, потому как директором их фирмы была дама в очень спелом уже возрасте, начавшем свое созревание еще в годы незабвенного социализма, когда работницы отделов кадров со свойственным им служебно-мазохистским рвением проводили рейды и считали по головам на пять минут опоздавших. Опоздавшие трепетали при этом униженно и писали жалостливые бумаги-объяснения на имя начальника под опять же грозным и сладострастным взором кадровичек и ждали дисциплинарной кары, как приговоренные. На Надиной теперь фирме письменных объяснений никто, конечно же, не требовал, но пятиминутное чье-нибудь опоздание могло навлечь начальственный гнев и на остальных сотрудников тоже, причем на весь день, и потому солидарности ради приходилось плюхаться на свое рабочее место ровно в половине девятого. Тут уж вдребезги разбейся, а будь добра, плюхнись. Уважь начальственный принцип…
Хотя, если судить по большому счету, начальницей своей они были довольны. Тетка как тетка, харизматичная такая. Бывшая домохозяйка при состоятельном муже, по причине насупившего в одночасье вдовства вынужденная с головой уйти в заботы по добыванию средств на пропитание и обучение двоих несовершеннолетних детей. Средства добывались поначалу плоховато, а потом ничего, извернулась-развернулась их директриса, обширную клиентуру завела, и без рекламы к ней народ валом валил. Занималась ее фирма ремонтом квартир. Быстро, качественно, дешево. Слух об этих трех основных показателях моментально перелетел из уст в уста, и народная тропа к их офису никогда не зарастала, от заказчиков отбою не было. Все у нее, у директрисы Елены Николаевны, было устроено и отлажено, и юрист в лице Надежды тоже ее устраивал. Она ее поначалу даже и похваливала частенько — молодец, мол, никаких проволочек с договорами… А потом как отрезало. Хвалить перестала напрочь, а потом и придираться начала по каждой несущественной мелочи. Очень уж гневливо придиралась. И чем больше Надежда старалась, тем большее вызывала раздражение в свою сторону. Хотя ей иногда и казалось, что раздражение это смахивает скорее на досаду — черт бы тебя, мол, побрал, зачем так хорошо работаешь…
Все прояснилось довольно неожиданно. Глаза на положение дел ей открыла по доброте душевной бухгалтерша Сонечка, знавшая начальницу всех ближе по причине соседства по дому. Дочка Елены Николаевны в этом году заканчивала юридический институт, и пристроить дитя было совершенно некуда. «Ну сама посуди, Наденька, кто ее возьмет на работу без стажа? Никто и не возьмет. Хотя бы два года нужно где-то ребенку поработать по специальности? Обязательно нужно, чтоб на приличное место взяли…» — вздыхала Сонечка сочувственно. — «Вот она и должна тебя выжить культурненько. Она ж тетка порядочная, не может вот так, с бухты-барахты объявить, что ей дочку пристраивать надо. Ты тоже ее пойми…»
Надежда и понимала, чего уж. И она для своей дочки так же бы порадеть старалась. Чего тут такого-то? Они вообще все на фирме восхищались материнским подвигом начальницы, потому как не каждая вот так и сможет — из домохозяек да сразу в добытчицы. Молодец, женщина. Выводит своих детей в люди… Старший ребенок Елены Николаевны, взрослый сын, по слухам уже был «в людях», то есть встал на светлую дорогу самостоятельных заработков, и она очень, говорят, этим обстоятельством гордилась. А вот с дочкой, значит, проблемы возникли. Жаль. Надежда успела уже привыкнуть и к офису, и к сотрудникам, и даже к дороге из дома на работу. По пути магазинов продуктовых много всяческих. Надо было искать другое место, конечно, но она все тянула. Думалось, может сама собой проблема с дочкой как-нибудь рассосется… Да и вообще, дипломы в институтах когда защищают? В июле. А на дворе только май. Так что два-три месяца у нее в запасе точно есть. А там видно будет…
В это утро настроение у Надежды было ужасным, и прежней покладистости в мыслях как-то не наблюдалось. И себя было очень жалко. Ну в чем, в чем она-то виновата, что начальнице дочку под бок захотелось пристроить? Еще и взглядом вызверилась, когда увидела ее, опоздавшую, и без того униженно-запыхавшуюся… Ей вот и дела нет, что у Надежды тоже проблемы! И муж дома не ночевал, и придурок какой-то пьяный в квартиру ввалился… А за опоздание она на ней точно сегодня отоспится, как пить дать. На полную катушку. И пусть. Только бы Витя домой вернулся. Только бы все обошлось хорошо. А может, он уже дома?
Влетев в свой кабинет, покрутившись на стуле и слегка отдышавшись, она набрала номер домашнего телефона, замерла с трубкой в руках. В ухо назойливо полезли длинные гудки, безнадежные и равнодушные. Каждый одинаково-монотонный сигнал прошивал растревоженное сердце насквозь, и оно прыгало в отчаянии ожидания, словно в предсмертных конвульсиях билось. А когда совсем уж было собралась положить трубку, чтоб не мучить себя понапрасну, длинный гудок вдруг оборвался Витиным сердитым голосом:
— Да! Слушаю!
— Ой, Витенька… Ты дома… — пролепетала Надежда ласково и виновато. Так виновато, что от самой себя противно стало. Но она тут же прикрикнула на себя изнутри — ишь, чистоплюйка какая! Противно ей от себя, видишь ли. Надо гнездо спасать, а ей противно…
— Ну да. Дома. А что такое? — с вызовом спросил Витя и замолчал, будто ожидая адекватной реакции. Выговора то есть. Или истерики. А может, и скандала даже.
— Да нет, ничего… — овечкой проблеяла Надежда в трубку. — Дома, и слава богу…
— Ну, если тебе так это необходимо, я могу, конечно, объяснить…
— Нет, Витечка, не надо. Что ты? Я тебе и так верю. Раз не пришел, значит, так надо было.
— А чего звонишь тогда?
— Да волнуюсь просто. Мало ли что могло случиться. Ты же даже не предупредил…
— Ну-ну… Давай, начинай, чего ты! — снова с вызовом проговорил Витя. — Да, не предупредил! И что? Давай! Ну? Чего ты все время мямлишь, как клуша?
— Клуша кудахчет, Витя. А я не мямлю. И начинать вовсе ничего не хочу. Ты там позавтракай, в холодильнике сосиски найдешь, и яичницу сделай…
— Нет. Не хочу ничего. Спать лягу.
— На работу не пойдешь?
— У меня отгул. И не звони, не буди меня больше!
Ей показалось, что он с силой шмякнул трубку о рычаг. Хотя с чего бы? Гудки и гудки пошли короткие, и никакого шмяканья в них не слышалось. Надо же, еще и клушей обозвал. Какая она ему клуша? Клуши — это которые дома за спиной мужа сидят да детей растят к обоюдному супружескому удовольствию. Которые могут себе позволить покушать то, чего им хочется и напялить на себя то, что поудобнее. И никаких высоких каблуков им не надобно. И наращенных белых кудрей. Вот счастливые… А она никакая не клуша вовсе. Она худая неприкаянная птица, вьющая свое гнездо. Только зачем его вить, скажите на милость, если даже птенцов высиживать в этом гнезде ей заказано? Не время будто. А когда оно будет, это время? Когда непьющий адекватный муж вдосталь нагуляется?
От грустных мыслей ее отвлекла приветливая бухгалтерша Сонечка. Заглянула, мотнула головой призывно:
— Надюшка! Пойдем чайку пошвыркаем, пока начальницы нет!
— А где она? — удивленно уставилась на нее Надежда. — Я ее только что в коридоре видела. Она меня с опозданием застукала…
— Не знаю. Ей дочка позвонила, она вся позеленела и тут же умчалась куда-то. Верочка, секретарша, говорит, будто с сыном что-то случилось. Теперь это надолго. Сегодня вообще вряд ли появится. Так что можешь линять пораньше, а то видуха у тебя…
— А что видуха?
— Да нет, ничего… Такое чувство, будто похоронила ты кого. Случилось что-то, да? Что-то личное?
— Да ничего у меня не случилось! Все отлично!
— Ага, рассказывай! У тебя вид такой по-бабски загнанный, будто унизили тебя чем. Что, молодой муж загулял?
— Ой, да перестань придумывать! — как можно беспечнее рассмеялась Надежда и даже легонько рукой махнула в сторону бдительной Сонечки. — Ничего подобного, не выспалась просто…
— Да я-то перестану, конечно… А только меня все равно не обманешь, Надь. Я почти в два раза дольше тебя на свете живу. Знаешь, как говорят? Ты, мол, и сам про себя еще ничего не знаешь, а деревня уже все про тебя знает. Я эту мудрость давно уже усвоила. Так что притворяться веселенькой, когда на душе кошки скребут, смысла нет. Смешно и жалко выглядит. Поверь мне. Лучше сразу душу нараспашку да морду слезами всмятку, и к народу, к народу…
— Не хочу, Сонь. — Тихо повернулась к ней Надя. — Отстань, не хочу. И чаю не хочу тоже. Я лучше и в самом деле пораньше сегодня смоюсь.
— Ну, как хочешь. Только не кисни, ладно? Смотреть же на тебя больно. Такая девка умная-красивая…
* * *
Она тихо, совсем тихо открыла дверь, занесла пакеты с продуктами в прихожую. Не удержалась, понюхала висящую на плечиках Витину ветровку. Так и есть, теми же духами пахнет… Стараясь производить как можно меньше звуков, прошла на кухню, закрыла за собой дверь. Ну что ж, женушка-клуша, или мямля, или птица худокрылая, давай, готовь вкусный ужин своему уставшему от утех мужу. Он проснется, поест и опять уйдет. А ты сиди тут, стереги свое гнездо. Мудрая ты наша женушка. Черт бы побрал всю эту вашу мудрость, трезвость, правильность и адекватность, вместе взятые. А что делать? Так надо. Хочешь сохранить семью — терпи. Где ж еще такого мужа найдешь, чтоб не пил, не курил…
Вздохнув, она принялась разгружать сумки, соображая на ходу, что бы такого очень вкусного приготовить для Вити. Необыкновенного такого. Готовить Надежда очень любила. И все у нее всегда получалось отменно и вкусно, не хуже, чем в ресторане. Особенно то, чего самой есть нельзя. Запеченная в духовке свинина, например. Красиво — аж слюнки текут. А запах… Боже, какой запах, с ума можно сойти! Так и жила бы рядом с этим румяным куском. Нет, лучше бы съела его в один присест! Только нельзя. Нельзя. Надо договариваться с организмом срочно, чтоб не ныл и не стонал. А если договора не получится, то придется просто приказ ему жесткий отдать. Нельзя, и все тут! Сам виноват — зачем так остро реагирует на все вкусное-калорийное? Хочется ему, видите ли… А потом что, опять расплачиваться придется? Только стоит чуть-чуть потерять бдительность, глянь, уже и складки предательские на боках выползают. Противные такие, лезут со спины и все норовят повиснуть на талии, как наказание за съеденные лишние калории. «Пояс шахидки», как их насмешливо называет Витя. Тоже, нашел сравнение… Она даже вздрагивает всегда испуганно от этих ужасных слов. А Вите хоть бы что. А самое ужасное, что из этой его насмешливости еще и презрение, бывает, выглядывает. Нестерпимое. Так что уж бог с ней, со свининой. Пусть ее Витя сам ест…
Надежда еще раз заглянула в духовку, полюбовалась на вожделенный кусок мяса и повернула рычажок выключения. Теперь уже само дойдет. Когда Витя проснется, будет в самый раз. Теперь можно подумать и о своем скорбном питании. О том, после которого проклятый «пояс шахидки» не посмеет нагло выползти наружу. Хотя чего тут думать — выбора особого все равно нет. Нарезать кусочками ананас, кубиками белую куриную грудку, заправить все это обезжиренным йогуртом… Ну, можно еще бросить горсть сухих овсяных хлопьев для большей сытости… Фу, гадость какая. Зато калорий мало. Ничего-ничего, нормальный ужин. Сейчас Витя проснется…
Она осторожно приоткрыла дверь кухни, на цыпочках прошла по узкому коридорчику, заглянула в комнату. Спит. Разбудить, что ли? Семь часов уже. Или не надо?
Сомнения ее разрешил звонок в дверь, длинный и настойчивый. Ветка, что ли, приперлась? Ладно. Втроем и поужинаем. Только бы без детей, а то Витя не любит их шумной возни. Хотя конечно она с детьми. Куда она их денет-то? Если с детьми, придется выпроводить. Она не обидится, она вообще девушка хоть и гордая, но понятливая. И Витя вон проснулся, голову с подушки поднял…
За дверью стояла не Ветка. За дверью стоял ее ночной гость. И не один. По бокам к нему плотно прилепилось еще двое. Все суровые, серьезные и совсем не пьяные. Выстроились дружной троицей, смотрели на нее молча. Ночной постоялец глядел как-то очень уж виновато, переминался с ноги на ногу. А эти двое странно так смотрели, будто она не внушала им никакого доверия, или тоже виновата была в чем…
— Так можно войти, гражданочка? — первым нарушил молчание один из сбоку прилепившихся. И тут же решительно шагнул в прихожую, чуть подтолкнув ее ночного знакомого в спину. — Вы извините, что мы вот так врываемся к вам, но что делать? Обстоятельства заставили…
— Какие обстоятельства? — отступила Надежда на всякий случай подальше и испуганно оглянулась в сторону комнаты. — Не знаю я никаких обстоятельств…
— Да? Не знаете? И человека этого вы не знаете? — заинтересованно протянул другой из прилепившихся, кладя мощную ладонь на плечо ее ночного гостя.
— Ну, не то что бы я его не знаю… Он… Как это сказать… В общем, я с ним не знакомилась…
— А вот Александр Андреевич утверждает, что предыдущую ночь он провел в вашей квартире! Обманывает нас, значит?
— Да нет, не обманывает! Он действительно ночевал здесь, в мой квартире! Но я повторяю, я с ним и не знакома даже!
— Да? Интересно, интересно…
— Да ничего интересного здесь нет! — с досадой проговорила Надежда и поспешно обернулась к стоящему в дверном проеме заспанному мужу. — Витя, я тебе все сейчас объясню!
— Да уж, объясни, пожалуйста, — холодно и нервно проговорил Витя и медленно сплел руки на груди в тугой наполеоновский жест, и поиграл красиво рельефными мышцами, что означало — сержусь я. И не просто сержусь, а очень сильно сержусь. Может, где-то и оскорблен даже. Надежда очень хорошо знала этот его жест. И ничего хорошего он ей не предвещал.
— Ну-ну, гражданочка, слушаем вас… — садистки проговорил тот, который держал за плечо ее виноватого ночного пришельца. — Значит, вы не знакомы, но ночь он провел в вашей квартире. Так?
— Да. Получается, что так. — Обреченно произнесла Надежда, отвернувшись от Вити. Потом снова обернулась к мужу и, прижав руки к груди, быстро заговорила: — Тебя же вчера не было… А я ждала, что вот-вот… А потом слышу — ключ кто-то пытается в замочную скважину просунуть… Я подумала, что это ты, схватила скалку и дверь открыла… А там он…
— А вы что, гражданочка, всегда мужа со скалкой встречаете? — весело переспросил первый прилепившийся.
— Да нет! Нет, что вы! Я просто так пошутить хотела! А он на меня заваливаться начал!
— Что, прямо сразу? — тут же хохотнул и второй прилепившийся, поддерживая товарища.
— Ну, не в том смысле… Он просто пьяный был… — уже чуть не плача от досады и оскорбительного их смеха, отчаянно протараторила Надежда. — И я его скалкой по голове ударила, изо всей силы. Вон, рана на лбу пластырем заклеена…
— И что дальше?
— А что дальше? Он сознание потерял, наверное. И упал. Я даже подумала, что убила его. А потом Роза Геннадьевна выскочила. Это соседка из квартиры напротив. Она еще подумала, что это я Витю ударила. То есть вот, мужа моего.
В доказательство своих слов она протянула назад руку и обернулась к Вите, словно ища поддержки. Витя по-прежнему стоял, привалившись к дверному косяку, в грозной наполеоновской позе, и, по всей видимости, поддерживать ее вовсе не собирался.
— Так. И в котором часу все это произошло? — уже серьезно спросил один из сопровождающих. — Желательно поточнее вспомнить. Вы, наверное, и сами поняли уже, что мы не просто так к вам пришли. Мы проверяем показания подозреваемого, а точнее, его алиби.
— Это произошло ровно в половине одиннадцатого, — механическим голосом проворила Надежда. — Я помню совершенно точно. Я мужа ждала, каждую минуту на часы смотрела. — И, обернувшись к Вите, добавила грустно: — Да, каждую минуту…
— Так. Ясно. Вы ударили скалкой, он упал. И дальше что?
— А дальше ничего. Я испугалась, думала, убила человека. А потом Ветка пришла. Это соседка с первого этажа. Она сказала, что я его не убила, что он лежит так, потому что пьяный, а не убитый. Ну, мы его ноги затащили в прихожую, и все. Он большой, нам бы на лестничную клетку его и не вытащить было… А потом Ветка домой ушла — у нее дети там одни. А я дверь в комнату закрыла и спать легла. А утром он проснулся и ушел…
— Где проснулся? — снова хохотнул остроумный сопровождающий, стрельнув глазом в сторону Вити.
— В прихожей, где… — обреченно протянула Надя, не смея уже и оборачиваться к Вите. Он и сам вскоре отлепился от дверного косяка, встал перед ней каменной стеной и протянул к смешливому мужику руку:
— Документы ваши покажите!
— Ой, да это мы пожалуйста! — с готовностью распахнул тот перед ним удостоверение. — Ты не сердись на нас, мужик, чего ты… Работа у нас такая… Ты лучше проведи нас в комнату, нам надо бумаги наши оформить, показания записать. Мы жену твою долго не задержим, не переживай. И еще нам бы сюда соседок этих двух привести, как их там… Ну, которые видели…
Они пробыли в квартире еще полтора часа. Роза Геннадьевна с удовольствием давала показания, успев по пути в подробностях изложить всю шестьдесят седьмую латиноамериканскую серию, которая как раз и заканчивалась, когда она вернулась домой, став свидетельницей происшествия. Ветка пришла с хныкающей Машенькой на руках, изложила все предельно лаконично и удалилась — ребенка пора было спать укладывать. Ночной гость по имени, как выяснилось, Александр сидел в кресле, горестно уставившись на свои ботинки, страдал молча. Витя снова стоял, подперев плечом косяк, смотрел гордо и презрительно на все это действо, тоже молчал. Наконец все ушли. Подозреваемый Александр кинул на Надежду исподлобья отчаянный виноватый и одновременно благодарный взгляд, хотел было что-то сказать, да передумал. Гордого Витиного вида испугался, наверное. Ну, да и бог с ним…
А потом Витя собирал вещи. Надежда сидела в кресле, пождав ноги, провожала глазами его в оскорбленную спину, молчала. Поначалу пыталась, конечно, говорить, то есть еще раз как-то объяснить-доказать полную свою в этом деле невиновность, но он ее не слышал. То есть будто ее сейчас и в комнате не было. Складывал деловито в большой чемодан наглаженные сорочки, галстуки, брюки с аккуратными стрелочками. Потом ушел, громко хлопнув дверью. Надежда вздрогнула, прислушалась к тишине, поморгала глазами. Странно, надо же заплакать, а слез нет. Внутри было горячо и сухо, как в пустыне. А еще — горестно и тревожно. И досадно. Конечно же, надо было что-то предпринять, надо же было как-то его задержать… А она просидела в кресле, как неприкаянная. Не сохранила своего гнезда. Плохая жена, плохая птица. Клуша и мямля, и больше никто.
Автоматически протянув руку к зазвонившему телефону, услышала спасительный Веткин голос. Ветка говорила почти шепотом — наверняка Артемка с Машенькой только-только заснули, — приглашала к себе на кухню посплетничать. Она, оказывается, увидела из окна, как Витя выходил с чемоданом из подъезда, и желала знать подробности их семейного конфликта. Обсуждать эти подробности Надежде совсем не хотелось, но дома оставаться после всего произошедшего хотелось еще меньше.
— Сейчас приду… — эхом откликнулась Надежда на ее шепот. — Открой мне дверь, чтоб я не звонила…
В квартире у Ветки стоял полный кавардак, впрочем, как и всегда. Удивительно, но Надежда ни разу не застала у нее порядка. Нет, за чистотой как таковой Ветка следила с особой тщательностью, мыла-пылесосила-проветривала, но вот разложить вещи по своим местам — это уж извините. Детские игрушки валялись по полу сплошным слоем, начиная от входной двери, и вошедшему надо было проявить чудеса ловкости, чтоб не наступить невзначай на какую-нибудь пищащую резиновую собачку или маленькую машинку. К тому же везде — по столам и по стульям — были разложены большие и маленькие лоскутки ткани, и присесть, ничего никуда из этого добра не переложив и не попутав, можно было только на кухне. Дело было в том, что Ветка шила. Творила одежду на заказ, постоянно давала в газеты объявления типа «шью быстро, качественно, недорого, на любую фигуру». Получалось у нее это из рук вон плохо, зато брала она за свое «быстро-качественно» и впрямь недорого — в два раза меньше, чем всякая уважающая свой труд портниха. И тропа к ее домашней мастерской никогда не зарастала. В основном это были клиентки несостоятельные и с фигурами такими же несостоятельными, то есть расплывшимися от дешевого калорийно-модифицированного питания. Доход от этого занятия был у Ветки небольшим, но единственным. Да и времени на это занятие всегда было в обрез — только в те часы, когда дети спят. Так что после восьми вечера она лихорадочно впадала в рабочее состояние — иногда на всю ночь. Ходила потом целый день вымороченная, клевала носом и едва дожидалась послеобеденного детского сна, чтобы свалиться замертво. И никогда не жаловалась по той простой причине, что жаловаться ей было практически некому. Родственников достойных у Ветки не водилось и приходилось рассчитывать только на свои силы, чтобы устроить себе какую-никакую жизнь. Хотя говорят, только тот в крайне стесненных обстоятельствах и выживает, кто на себя одного надеется, и Ветка могла служить для этой жизненной мудрости наглядным примером. А особенно поражало Надежду в подруге то непостижимое качество, что ей удавалось еще и деньжат прикапливать на «черный день». Прямо героизм какой-то — казалось, уж чернее тех дней, в которых сейчас проживала Ветка, оставшись одна с малыми детьми, и придумать больше нельзя. Ветка только плечами пожимала, слушая ее восторги по поводу своих сверхспособностей к накопительству. У нее вообще была собственной придумки теория на этот счет. Все накопители — она считала — делятся на накопителей-оптимистов и накопителей-пессимистов. Первые живут предвкушением: вот погодите, накоплю, сколько нужно, тогда поживу! Полная им противоположность вторая категория. Эти копят, пребывая в вечном страхе, — только на черный день. Вот она и копила, чтоб отделаться от этого самого страшного страха. Чтоб отдать ему кругленькую сумму, откупиться от него и жить себе спокойно.
— Заходи, только тихо… — встретила она Надежду у двери. — Иди на кухню. Чайник сама ставь, мне некогда, зашиваюсь. И в прямом, и в переносном смысле. Завтра утром клиентка на примерку придет, а мне еще все собрать-наживулить надо…
— Я не хочу чаю, Вет… — хриплым шепотом проговорила Надежда, пробираясь осторожно среди разбросанных по прихожей игрушек.
— Зато я хочу! Давай-давай, подсуетись, и бутерброд мне какой-нибудь изладь потолще. Я поужинать не успела.
— А кормить я тебя им с рук буду? Ты же шьешь…
— Можешь и с рук. Рассказывай давай, что у тебя произошло. Почему Витя с чемоданом выскочил?
— А догадайся с трех раз…
— Свалил, что ли?
— Ага. Какая ты умная, прям спасу нет.
— Вот козел! А чем мотивировал?
— Да ничем особенным. Вроде как не поверил мне, что тот, вчерашний, случайно в нашу дверь забрел. Вроде как оскорбила я его мужское достоинство тем, что в его отсутствие в доме чужой мужик ночевал.
— Вот козел!
— Ну почему козел-то? Ты что, других эпитетов не знаешь, что ли? Заладила — козел да козел…
— Нет, не знаю я других эпитетов для таких вот сволочей! У самого рыло в пуху, а жену надо виноватой сделать! Повод найти для своего же блуда!
— Ну почему — повод? Может, он и правда оскорбился?
— На-а-а-а-дь… Ну не будь ты такой наивной, господи… Ты же такой ему подарок сделала — пальчики оближешь! Он же явно свалить хотел, к разговору неприятному готовился, к объяснениям, к слезам твоим… А тут на тебе — ничего и не надо такого! Мы и сами, как говорится, хорошо оскорбились! И не виноватые мы ни в чем! Мой Генка вот также мучился, причины все придумывал… Ему, знаешь, потруднее было, чем Вите твоему! Сама подумай — в чем таком можно обвинить жену на сносях практически? Вроде как ни в чем таком, правда? Вот он и придумал себе оправдание, что Машка якобы не от него. Козел…
— А с чего ты взяла, что Витя свалить хотел? Может, загулял просто? У мужчин, знаешь, это случается иногда. А семья, она и есть семья…
— Нет, Надь. Не обольщайся. Не хотела тебе говорить, да придется. Видела я тут его на днях с дамочкой…
— С какой дамочкой? — с трудом выдавила из себя Надежда.
— А с такой! С упакованной, вот какой. Вся из себя такая за рулем, машина иномарка…
У нее и квартира, наверное, не однокомнатная. Витя-то твой тот еще бухгалтер, все рассчитал, как надо. Ты у него была первой ступенькой на пути к благополучию, теперь пора на следующую подниматься…
— Ты думаешь, он меня просто использовал, да?
— Ну да… Ты ж сама рассказывала, что когда вы познакомились, у него даже прописки не было! Ты же маму свою и уговорила прописать его в временно в вашей квартире… Не помнишь, что ли? А потом мама твоя негласное условие выставила. Женись, мол, Витя, на моей дочке, тогда и разменяемся, и будет у тебя свое законное жилье… Как будто ты уродина какая, или дура набитая, чтоб тебя пристраивать за непьющего-положительного надо было.
— Так он и в самом деле непьющий, Вет. И положительный. Сейчас таких днем с огнем…
— Да, Надь. Наверное. Ты права — ни днем, ни с огнем. Только мне иногда кажется, что нормальных счастливых баб на свете уже не осталось. Все какие-то… пришибленные. Или страхом припыленные. На иную посмотришь — вроде вся из себя гордо-самостоятельная, а внутри все равно пришибленная! Одних, как тебя вот, с детства сломали, других, как меня, потом предали. Третьим просто не везет. Четвертые счастливыми притворяются, чтоб выскочить из этого нехорошего фона. А счастливых, просто так любимых и любящих, нет! Просто нет и все!
— Нет, Ветка, не права ты. Каждая из нас по-своему счастлива. Просто женское счастье — оно такое всегда хрупкое, ранимое… Ради него все время чем-то жертвовать приходится.
— Чем это? Собой, что ли?
Ну да… Может, и собой…
— А не слишком ли дорого это — собой жертвовать? Вот Витя твой принял твою жертву, сломал тебя, подстроил под себя полностью, и дальше что?
— А что дальше?
— А ничего! Неинтересно ему стало, вот что! Пока ломал-переделывал, увлекался процессом, а потом просто неинтересно стало! Не влюбляются в жизни Пигмалионы в Галатей, неправда все это! Они просто их бросают, и все. Неинтересно им…
Ветка вздохнула горестно, склонилась над своим шитьем, быстро замелькала маленькими ловкими пальчиками. Надя не стала с ней спорить — не хотелось просто. Бесполезное это занятие. Да и зачем? Все равно она пришибленной себя не считает! И припыленной тоже. И сломанной. У нее муж есть хороший. Пусть в загул ушел, но все равно Витя ей муж! И она будет за него бороться. Потому что такие мужья и в самом деле на дороге не валяются. И ждать его будет столько, сколько надо. Ничего, от нее не отломится. Да и не одна она такая — все кругом за хороших и непьющих так же цепляются… Вот поживет он там с другой, которая «вся из себя», и поймет, что лучше Надежды нету. И вернется, обязательно вернется…
— Пойду я, Ветка. Поздно уже, — повернувшись от плиты с чайником в руках, тихо проговорила она, — сейчас чаю тебе налью, бутерброд сделаю и пойду, пожалуй.
— Ты обиделась, да, Надь? — подняла на нее огромные прозрачные глаза Ветка. — За козла обиделась?
— Да ну тебя… Ни на что я не обиделась. Устала просто. Спать хочу. Я ведь предыдущую ночь плохо спала, все со скалкой обнималась от страху…
— Так завтра же суббота! Выспишься! Мы и не поговорили даже.
— Нет, Ветка. Пойду. Нехорошо мне что-то.
— Ладно, иди. Дверь захлопнешь, ладно? Только тихонько. Я сегодня всю ночь работать буду. Иди. Пока.
— Пока, Ветка…
Квартира встретила ее умопомрачительным мясным духом с чесноком, с лимоном и со всякими еще специями. Аж скулы свело. Надежда решительно прошагала на кухню, достала из духовки противень с дошедшей до своего гастрономического апогея свининой, шмякнула его на стол, подвинув пренебрежительно блюдо с ананасом-грудкой-овсянкой. Потом отрезала от куска свинины порядочный пласт и выложила его себе на тарелку. И начала торопливо есть, засовывая ароматное мясо в рот большими кусками. Организм тут же насторожился, не веря еще до конца своему счастью. Потом все-таки обрадовался, потом снова насторожился — зачем так много сразу-то…
А Надежда все ела и ела торопливо, не ощущая вожделенного мясного вкуса. Нет, вкус, конечно, был. Только горький почему-то. Вкус горя, вкус несчастья, вкус женской брошенности и неприкаянности. Или, может, пришибленности, как Ветка только что выразилась.
* * *
Нет хуже маетных выходных, когда девать себя некуда. Когда не можешь ничем заняться, когда все валится из рук, когда окружает тебя противное и свеженькое, кровоточащее еще отчаяние, к которому пока не привыкла душа и не приняла в себя окончательно и смиренно. И весь организм яростно сопротивляется этому отчаянию и пытается вытолкнуть его из себя то вспыхнувшей головной болью, то частым ни с того ни с сего сердцебиением, то влажным туманом перед глазами. Вроде и слез нет, а туман есть. И все время хочется бежать куда-то, или звонить, или что-то такое срочное предпринимать, спасать положение… Только некуда бежать. И звонить никому не хочется — бередить кровоточащую рану. И стыдно к тому же. Так же стыдно, как в собственной бестолковости и ненужности признаться. И так же маме, она помнит, было стыдно рассказывать подругам и родственникам о пьяных загулах отца. Вот она и вещала бодрым голосом в трубку, что все у них в семье благополучно и замечательно…
Надежда сразу решила, что не будет никому рассказывать об уходе Вити. Потому что действительно стыдно. Потому что хороших жен мужья не бросают. И еще — потому что он обязательно вернется! Не сразу, конечно. Может, через неделю. Может, даже через месяц. И пусть она будет, как Ветка выразилась, с детства сломанная. Или та самая «пришибленная», она согласна. Лучше уж быть пришибленной, чем брошенной. Любую замужнюю женщину спросите — она подтвердит. Если у нее муж непьющий и адекватный. И если она не из бывших ярых феминисток, конечно. Хотя все эти феминистки и произрастают наверняка из обиженных-брошенных, у которых надежд на семейно-трезвую жизнь совсем не осталось. Вот как у Ветки, например…
Снова вспомнился ей вчерашний с подругой грустный разговор, и заскреблась-зашевелилась в душе обида. Тоже — поддержала в трудную минуту, называется! Сломал, говорит, ее Витя… Ничего он ее не сломал! Просто нельзя, наверное, построить свое гнездо, ничего от себя не оторвав, ничего в себе не переделав… Надо же просто уметь подстраиваться под характер другого, живущего с тобой рядом? А как же иначе? Вот она, например, уж так насобачилась в этой науке «подстраивания», уж так насобачилась… Даже по звуку открываемой Витей двери научилась угадывать его настроение. И моментально соображала, как ей себя с ним повести… Или выскакивать легкой птичкой навстречу в прихожую и с поцелуями на шею вешаться, или, наоборот, порскнуть тихонько на кухню и помалкивать в тряпочку, быть тихой да покладистой хозяюшкой, озабоченной больше всего на свете идеальной чистотой тарелок да чашек. Или вот внешний вид свой блюсти, такой, какой мужу нравится — что в этом плохого-то? Ну что делать, если нравятся ему худые блондинки? Раз так, значит, надо всего лишь быть этой худой блондинкой, и все… И неважно, что все время есть хочется. И неважно, что ты ненавидишь до смерти все эти подсчеты съеденных за день калорий. Главное, что у тебя семья есть. Муж непьющий. Гнездо… Вернее, было гнездо…
Надежда вздохнула тяжело, застыла у окна, сцепив руки одна в другую по-бабьи, калачиком. За окном было хорошо. За окном весенний месяц май улыбался всем своей первой нежной зеленью, сквозь которую зазывно проглядывало будто отмытое до отчаянно-прозрачной синевы небо. Хорошее время… А как сейчас в дороге, наверное, хорошо! И солнце еще не палит по-летнему яростно, и ветер пахнет талой водой, свежей землей, и первые желтые неказистые цветочки хозяйничают на обочинах… Эх, сесть бы сейчас на велик да умчаться куда подальше из города! Где вы теперь, собратья по велосипедному счастью? Предала я вас, простите… Простите, но так мой муж захотел. Не нужна была ему жена-велосипедистка. Ему блондинка ухоженная нужна была, тонкая и звонкая. Только с ней он хотел гнездо семейное вить. Настоящее, трезвое, адекватное…
А теперь — ни гнезда, ни собратьев. И от нее самой тоже мало чего осталось. Права Ветка-то, выходит. Столько жертв… И для чего? Все попусту, что ли? Но ведь так не бывает! Не должно же так быть! Все должно, просто обязано наладиться! Просто отчаиваться не надо. Просто надо быть мудрой. Ничего же никуда не уходит. И Витя, в конце концов, поймет… И вернется… Обязательно вернется…
Только к концу воскресенья она заставила себя прибрать в квартире, приготовить обед назавтра. Наварила борща, котлет нажарила — Витя любит, чтоб всегда в холодильнике обед был. Вот она завтра на работу уйдет — а обед на своем месте останется. Кастрюлька с борщом, кастрюлька с котлетами. Он придет, откроет холодильник и поймет, как она его ждала, как надеялась. И оценит. И стыдно ему станет…
Так и простояли сиротливо эти кастрюльки до следующих выходных, ожидая своего непутевого едока. Не пришел он. И выбрасывать еду, для Вити приготовленную, рука не поднималась. Казалось Надежде, что и жизнь ее семейная вслед за этими котлетками в мусоропровод полетит… Вздохнув, она все же решилась — не будет верить никаким приметам, самой для себя придуманным, да и в самом деле, не оставлять же их еще на неделю в холодильнике, кастрюльки эти. И уже рука потянулась, чтоб выволочь их на белый свет, как вдруг дверной звонок тренькнул на одной ноте жалобно. Сердце само собой оборвалось и ушло в пятки. Кто это? Ветка? Так время — как раз детей спать укладывать. Нет, это не Ветка. И не мама — она бы позвонила прежде. А может… Может, это Витя уже вернулся?
Мельком глянув на себя в зеркало и натянув приветливую улыбку на лицо, она бросилась в прихожую, распахнула дверь настежь. Вспыхнувшая было радостным костерком душа тут же угасла болезненно, свернулась в черный комочек досады — ну что это за напасть на нее такая, ей богу! Опять этот парень, ее ночное незваное горе-злосчастье! Как его там… Александр! Кончится это когда-нибудь или нет? Это уже не ирония судьбы, это уже злая ее насмешка получается. Пришел, разрушил ее семейную жизнь со своим дурацким алиби, и вот снова нарисовался? И что на этот раз?
— Здравствуйте, Надежда… — виновато улыбнулось горе по имени Александр. — Вы меня помните?
— Ну, еще бы… — картинно-сердито развела руки в стороны Надежда. — Я вас, уж позвольте, теперь никогда не забуду! Хотелось бы еще очень сердечно пропеть «… никогда не увижу», да только вы ж мне такого удовольствия предоставлять не собираетесь! Испортили песню, одним словом!
— Да, да, я понимаю… Я извиниться пришел…
— За доставленные мне неудобства? И все? Как это замечательно! Спасибо, хоть не навеки поселиться пришли!
— Да вы не сердитесь, Надежда! Просто у меня другого выхода не было, только к вам за этим спасительным алиби идти. Вы же и в самом деле меня спасли, так получается. Пожалели. А вот если б не пожалели тогда и вытащили на лестничную клетку, я бы точно пропал. А так… Спасибо вам, Надежда!
— Да на здоровье… — пробурчала она раздраженно. — Вот ведь жизнь. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Самой горе сплошное, а у кого-то из этого горя счастье вытекло…
— А что у вас случилось? Я могу чем-нибудь помочь? — участливо склонился к ней Александр, и тут же обдало ее знакомым с детства запахом исходящего из чужого организма алкоголя, запахом беды и дурного настроения. Запахом, от которого тоскливым спазмом перехватило горло и захотелось немедленно захлопнуть дверь перед самым носом этого парня, принесшего беду в ее дом.
— Фу-у-у… — сморщила Надежда нос и помахала перед ним красноречиво ладонью, и даже передернулась слегка от отвращения. — А говорили, не пьете…
— Да не пью я! И в самом деле, не пью! Чего вы заладили одно и то же! — досадно отступил от двери Александр. — Просто я с похорон иду, а там помянуть надо было обязательно, обычай такой… Деда сегодня только похоронили. Пока вскрытия дождались, пока следствие шло… Интересный такой дед был. На него и голос-то повысить нельзя было, а не то чтобы убить…
— А… Это значит, вас в убийстве деда подозревали? Ничего себе! А я дедушку не бил, а я дедушку любил?
— Да. Получается, так. Он вообще-то не мой родной дед был, а жены моей. Просто рядом с трупом нашли разбитую бутылку с моими отпечатками пальцев, а невдалеке моя куртка валялась. Но к вам-то я без куртки пришел?
— Да. Без куртки. В пиджаке только.
— Ну, вот… Я к вам пришел в половине одиннадцатого, а дед с собакой вышел гулять в одиннадцать, соседка видела. Вот так и получается все непонятно… Мне очень неловко, конечно, но…
Он переступил с ноги на ногу и виновато опустил глаза в землю, явно собираясь что-то еще сказать. Потом, будто набравшись смелости, вздохнул и выпалил решительно:
— В общем, вам, Надежда, надо еще раз с ним побеседовать…
— С кем? Не с дедом, надеюсь?
— Да нет. С дознавателем. Они и так и этак все проверили — не сходится у них там что-то с этим алиби. Накладки какие-то будто бы обнаружились.
— Как это — накладки? Какие тут могут быть накладки? Я ж все рассказала, как есть. Когда вы пришли, в каком виде вы пришли… И свидетели тоже подтвердили…
— Да я-то все понимаю, что вы… Просто дознаватель настаивает, чтобы вы еще раз все рассказали. Там. У них. Он просил завтра, в три часа, привезти вас на беседу…
— Да не пойду я ни с кем беседовать, бог с вами! — замахала руками Надежда. — У меня рабочий день до шести часов, между прочим. Да меня не отпустят ни за что! У нас с этим строго! По понедельникам начальница всегда на месте, и вообще… Как-нибудь уж сами выпутывайтесь, хватит с меня! Я рассказала все, что знала!
— Но, Надежда…
— Нет! Я сказала, нет! Мало того, что из-за вас меня муж бросил! Хотите теперь, чтоб меня еще и с работы досрочно выгнали?
— Муж? Из-за меня? Как это? — прижав ладонь к груди, отчаянно-виновато уставился на нее Александр. — Что вы, Надежда! Я… Я тут ни при чем! Он, наверное, понял что-то неправильно! Надо же ему объяснить!
— Ага… Надо, конечно же, надо… — усмехнулась грустно Надежда. — Очень умная мысль…
— Так давайте я пойду и все ему объясню! Где он сейчас? Я прямо сейчас и схожу!
— Ой, да если б я знала, где он! — отмахнулась она грустно. — Да и вообще, не хватало еще мне вашего заступничества… Сама разберусь! Идите уже, не доводите меня до греха, иначе снова скалкой огрею. Все, что могли, вы в моей жизни уже совершили. И я в вашей тоже. Надо же, никогда не приходилось быть ничьей спасительницей…
— Надежда, а как же завтра? В три часа? Хотите, я вас отвезу? Ну, пожалуйста… Вы понимаете, они мне до конца не верят… Вы же знаете, как в милиции не любят нераскрытых дел… Я обещал, что вы обязательно придете…
— А зачем вы им это обещали? Вы вообще не должны свою невиновность никому доказывать! Это они должны сами на вас доказательства собирать! Про презумпцию невиновности чего-нибудь слышали?
— Да, все это так, конечно. Все правильно. А только с нашими органами этот номер про презумпцию невиновности редко проходит. Тут у каждого свой шкурный интерес получается. Поиски золотой справедливой середины. Органы сами за себя переживают, а подозреваемый — сам за себя. У кого переживаний больше, тот и победил. Надежда, я вас очень прошу…
— Да ладно, что с вами делать… — вздохнув, смирилась она с судьбой-злодейкой. — Говорите, куда мне надо идти…
— Так я заеду за вами! Вы скажите, в какое место!
— Нет уж. Не надо за мной заезжать. Я уже боюсь вас, ей богу! Сама приду. Говорите адрес…
* * *
По понедельникам Надина директриса Елена Николаевна устраивала в своей конторе кипучую деятельность, то есть совершенно не давала никому работать. С утра все собирались на оперативное совещание, хотя о чем таком они оперативно советуются именно по понедельникам, никто толком не понимал. Скорее делали вид, что советуются. Чтоб все, как на крутой фирме. Чтоб все, как у больших. И потому действо это смахивало больше на ритуал, или обряд какой с торжественно-риторическими вопросами. Начальница строгим голосом задавала им эти вопросы, на которые заранее знала все ответы, а они, ее шустрые подчиненные, с умным и оперативным видом и очень по-деловому нахмуренные, повторяли из понедельника в понедельник все одно и то же — отслеживаю, мол, выполняю, координирую, контролирую сроки… Так же торжественно, например, служительница ЗАГСа опрашивает застывших перед ней брачующихся — является ли, мол, ваше намерение вступить в брак добровольным? Интересно, был ли в истории бракосочетаний хоть один такой случай, чтобы кто-нибудь взял да возопил — нет, нет, что вы, меня под дулом пистолета сюда привели, спасите!
— Надежда! Ты что, не слышишь, я тебя спрашиваю? Заснула, что ли? — встрепенулась она от начальственного окрика и уставилась на восседающую во главе стола директрису, как пойманная с поличным воровка из супермаркета.
— Извините, Елена Николаевна…
— Я спрашиваю, что у нас с договорами?
— Все в порядке. Я отслеживаю. Контролирую сроки.
— А почему в пятницу на работу опоздала?
— По семейным обстоятельствам, — протараторила Надежда первое, что пришло ей в голову, подумав про себя — надо же, помнит!
— Напишешь подробную объяснительную!
— Хорошо… — уныло согласилась Надежда. И тут же представила себе, как расписывает на бумаге все то, что с ней случилось за последние три дня. И содрогнулась. Ну нет, ну хорошая же вроде тетка эта Елена Николаевна, чего ж ее несет-то в такие крайности! Сама в пятницу умчалась по своим личным делам, только лапти просвистели, и целый день ее не было, а ей за пять минут опоздания теперь объяснительную пиши? Да еще и со всеми подробностями про семейные обстоятельства? Ну, понятно, ей дочку надо пристраивать. Так рано же еще! Она ж все понимает, она к положенному сроку и сама уйдет… И вообще, как, скажите, при сложившихся обстоятельствах она сегодня отпрашиваться должна, чтобы пойти в милицию к дознавателю? О том, чтобы не пойти, у нее и мысли не возникало. С детства была приучена обещанное свято выполнять. Можно сказать, была болезненно в этом плане сверхчувствительна и сверхисполнительна. Хотя вот Ветка утверждает, что все это — из череды ее многочисленных комплексов, и называется просто сверхтревожностью…
— … Повторяю теперь для всех — я не потерплю утренних опозданий! — окинула строгим взором свой штат начальница. — Рабочее время должно быть отдано только работе! Мне не нужны расхлябанные сотрудники! Дисциплина труда — первое условие для успешной работы любой организации, и я буду неукоснительно требовать…
Она длинно и нудно разразилась речью, наверняка заимствованной из собственной ностальгической памяти о временах процветания социалистических соревнований и стенгазет с красными карикатурными рожами пьяниц и злостных прогульщиков. Вот же как въелось в сознание тружеников развитого социализма все коммунистической партией туда старательно впихнутое — никакими клещами обратно не выдрать. И так, и этак пытаются пронести свои стяги в капитализм. Надеждину приятельницу, например, тоже молодую начинающую юристку Оленьку, работающую в этом же здании этажом ниже, стареющий начальник-бизнесмен заставил в течение полугода корпеть над корпоративным кодексом своей фирмы, штат которой и десяти человек не составляет. Все вычеркивал-зачеркивал, придирался бесконечно к тексту, пока измученный корпоративный кодекс не принял вид того же самого кодекса строителя коммунизма, или как там назывались подобные шедевры в навсегда канувшую в историю эпоху. Надо бы после совещания спуститься к Оленьке на третий этаж, чокнуться быстренько душами да кофейными чашками…
— … И чтоб впредь про соблюдение дисциплины труда я никому не повторяла — сами должны понимать! — закончила свою длинную речь начальница, кинув последний пламенный взор на виноватую Надежду. — Все свободны, работайте!
Все быстренько подпрыгнули со своих мест и дружно сгрудились у выхода из начальственного кабинета, будто боясь услышать в спину хитроватое Мюллеровское — Штирлиц, а вас я попрошу остаться… Надежде ловко удалось выскочить за дверь одной из первых. Предупредив секретаршу Сонечку, что ее не будет минут десять-пятнадцать и чтоб она тут же звонила ей на мобильный, если начальница вдруг озаботится ее отсутствием на рабочем месте, под шумок незаметно покинула приемную и спустилась на третий этаж к Оленьке. И в который раз уже удивилась, как гармонично все-таки выстроены форма и содержание бизнеса на примере их здания-муравейника, где всяческих фирм и фирмочек проживало не менее сотни. А может, наоборот, совсем не гармонично. Это с какой стороны посмотреть, опять же. Раньше, до капитализма еще, это здание так и называлось — «Дом контор», и интерьер внутренностей этих контор был одинаково убогим и узнаваемым по обшарпанности стен да опасно торчащей раздрызганности на самых популярных людских тропах рыжего линолеума под паркет-клеточку. В этом же здании трудилась много лет и ее мама, сидела за убогим столом, заваленным кипами бумаг, да бегала пальчиками по маленькому калькулятору — компьютеры тогда еще небывалым шиком были… А потом, в новую уже эпоху, здание постепенно начали захватывать растущие, как грибы после дождя, многочисленные теперь уже не конторы, а фирмы. Настоящие войны шли за право добычи вожделенного юридического адреса в центре города, потому как цены по тем временам для всех арендующих помещения под офисы были примерно одинаковы. Может, именно эти войны и породили странный принцип сосуществования в бывшем «Доме контор» всех поселившихся там фирм и фирмочек, независимо от их богатства и статуса. Принцип этот заключался в том, что роскошь отделки внутренних интерьеров, коридоров и лестничных клеток должна была резко снижаться от первого этажа к последнему. Или наоборот, резко повышаться от последнего к первому. То есть если ты, бизнесмен, арендуешь комнаты на первом этаже иль на втором, то уж будь добр, соответствуй. И не важно, есть у тебя деньги на разные роскошества интерьеров или нет. А что делать? Принцип, он и есть принцип. Его и блюди свято. Вот и получалось — кто победнее, тот пыжился и корячился изо всех сил на первых этажах, следуя веяниям моды на дорогие изысканные сверхремонты, а кто побогаче, вкушал себе спокойно экономию на демократических интерьерах последних этажей, и в ус не дуя. Все работающие в этом странном и со странными принципами здании давно уже попривыкли к такому положению вещей, а вот случайно по каким делам забредшему сюда человеку становилось поначалу не по себе. Заходишь вроде бы в роскошь, и вдруг она стекает постепенно с этажа на этаж прямо у тебя на глазах, и, поднявшись до последнего, человек уже и сомневаться начинает, не приглючилось ли ему то самое, на первых этажах роскошно-увиденное.
Обстановка на Оленькиной фирме от фирмы Надеждиной отличалась, но совсем чуть-чуть. На один этаж всего. Может, двери были подороже, может, кресла помягче. В глаза не бросается. Зато кофе здесь всем приходящим давали в любых количествах, хоть залейся, бесплатно и даже с лимоном. А можно было и со сливками попросить. Что в первую очередь Надежда и сделала, летуче-воздушно и торопливо облобызашись с Оленькой. Сидя в небольшом уютном холле для гостей, они выпили по большой чашке кофе и торопливо обсудили Надежду проблему. Нет, не лично-семейную, конечно, уж настолько глубоко их дружба не простиралась. Обсудили они всего лишь вопрос о том, как бы во избежание малой крови Надежде уйти с работы в два часа, чтоб поспеть вовремя к дознавателю, не возбудив на гнев свою придурочную работодательницу. Тактичная Оленька, умница, даже не стала и уточнять, за какой такой надобностью Надежде понадобилось попасть к этому самому дознавателю, просто искренне возмутилась существующими на фирме Надежды порядками. Ей ведь не в парикмахерскую надо, она ведь потом от дознавателя документ оправдательный принесет! А если документ есть, то и прогула нет, получается. Потому как уважительная причина налицо. Так, между прочим, умными людьми в Трудовом Кодексе и прописано. На что Надежда, вздохнув тяжко, ей возразила, что, мол, где это ты, дорогая, такое видела, чтоб мелкий фирмач-работодатель свято блюл положения Трудового Кодекса? Ему вообще на него наплевать с высокой колокольни. Запросто может себе позволить вскинуть гордо подбородок, как восточный мужчина, и произнести надменно — не хочу, мол, больше эту женщину! То есть если говорить языком нашей, не восточной бесправности — вы уволены! И ничего с ним ни один суд не сделает. Ну, на бумаге, может, и вынесет справедливое решение о восстановлении на работе, а толку от этой бумаги все равно никакого, разве что в неприлично-отхожем смысле она может сгодиться. И Оленьке ничего и не оставалось, как выразить Надежде в этом вопросе полное свое сочувствие. Она совсем было собралась в ответ пожаловаться на произвол и своего начальника, да Надежда уже вскочила с кресла, мельком взглянув на часы. Поблагодарив Оленьку за оказанную поддержку, быстро умчалась к себе наверх, в свой чуть менее комфортабельный офис. И вовремя. Елена Николаевна уже энергично маршировала через приемную по направлению к двери ее крохотного кабинета с большой, ко многому обязывающей табличкой «юрисконсульт». Под руку начальница нежно вела какого-то лысого круглого дядечку — очередного перспективного клиента, должно быть. Уже у входа в кабинет Надежде удалось нагнать их и войти в дверь практически с ними вместе. Очень большая удача. Елена Николаевна страсть не любила, когда сотрудник на своем рабочем месте отсутствовал. Проговорив для Надежды задание срочно-немедленно заключить с дядечкой договор, она важно удалилась с чувством выполненного начальственного долга. Как будто и без нее подчиненный не понимает, что надо все задания делать срочно-немедленно…
Дядечка оказался очень занудным, долго выражал свое спорно-сомневающееся мнение по каждому пункту договора, чем привел Надежду в состояние тихой ярости. Тем более пытался еще и заигрывать — лукаво стрелял похотливыми глазками и манерничал, пересыпая щедро свою речь неуклюжими комплиментами. Тем более и время двигалось неумолимо к двум часам. Кое-как вручив дядечке в совместных муках рожденный проект договора, она вздохнула облегченно и проводила его до дверей. Дядечка обещал подумать до завтра. Скорее всего, он подпишет его именно в этой редакции. Просто ему надо еще раз все обдумать, сосредоточиться… А в обществе такой красивой девушки он ни подумать, ни сосредоточиться ну просто никак не может…
Последний раз мило оскалившись, Надежда с облегчением закрыла за ним дверь. Пора было приступать к нарушению трудовой дисциплины, то есть исчезнуть незаметно часов до пяти, оставив дверь кабинета открытой, компьютер — включенным, пиджак — висящим на спинке стула. Даже и сумку свою дамскую можно на виду оставить, рассовав по карманам ветровки все самое ценное. Авось, повезет, и ее начальница не потеряет…
Дознавателем оказался тот самый, слева в тот злополучный день к Александру прилепившийся. Надежда плюхнулась с разбегу перед ним на жесткий стул, выложила свой паспорт и предупредила, что у нее очень мало времени на всю его дознавательную дополнительную процедуру и что ничего нового она сообщить ему и не может — все уже в протоколе записано.
— Да? А у меня вот тут другие данные… — пожал плечами молодой дознаватель, беря в руки какую-то бумагу. — Вот друг подозреваемого утверждает, что пьянствовали они в тот день до глубокой ночи, и совсем в другом районе. Не в том, где вы проживаете, уважаемая Надежда Андреевна. А как раз в том, где проживал убитый Соколов Федор Тимофеевич. Так что оказаться в вашем районе подозреваемому было весьма и весьма затруднительно, да еще в таком состоянии…
— Так это что, по-вашему, я все придумала, что ли? И Роза Геннадьевна придумала? И Ветка?
— Ну, ваша Роза Геннадьевна, допустим, лица завалившегося к вам в квартиру мужчины не видела. А другая соседка — ваша подружка…
— И что с того?
— Да ничего! Вы не волнуйтесь так, пожалуйста. Мы сейчас просто уточняем алиби подозреваемого, и все.
— А почему он у вас числится в подозреваемых, интересно?
— Да потому и числится, что дедок был убит при помощи бутылки стеклянной водочной, а на горлышке бутылки пальчики вашего друга остались…
— Ой, как все красиво и просто! Парень, значит, дедушку убил и рядом с ним отпечатки пальцев своих заботливо оставил. Специально для вас. И вообще, почему это вы его моим другом называете? Он мне вовсе никакой не друг!
— А почему тогда так яростно его защищаете? Вон, запыхались даже, пока сюда бежали…
— Ну, знаете! — задохнулась праведным гневом Надежда. — Вы вообще… Да вы даже неправильно допрос ведете! Все неправильно! Я знаю, мы это в институте проходили! И я еще на практике в убойном отделе потом две недели была…
— Ну что ж, коллега, значит. Уже хорошо. — Улыбнулся ей широко дознаватель. — И правильно, коллега, что вас в органах после практики на работе не оставили. Уж шибко вы эксцентричная, коллега…
— Это что, вы скалку имеете в виду? Так я же говорю — пошутить хотела… Я мужа ждала, а тут он…
— Понятно, понятно. Мужа ждали. А время попутать не могли с расстройства? Ну, вы же были в состоянии не обычном, по-женски взволнованном…
— Ничего я такого попутать не могла. И не надейтесь даже. И Ветка его видела. Он ввалился ко мне в квартиру ровно в половине одиннадцатого!
— А раньше вы с подозреваемым не были знакомы?
— Он не подозреваемый, у него алиби есть. А вы… Вы все равно неправильно ведете дознание… Или вы что, хотите сказать, что мы с Веткой придумали ему это алиби, да?
— Ничего такого я не хочу сказать. Я просто спрашиваю. Так не были знакомы?
— Нет. Не была. Мне и без такого знакомства жилось замечательно. И все у меня было хорошо…
Надежда вздохнула горестно, опустила плечи, начала теребить в руках книжицу паспорта. Дознаватель взглянул на нее с сочувствием, спросил тихо, почти по-дружески:
— А сейчас что? Все плохо, да?
— Ага… От меня же муж ушел… Сразу после вашего прихода и свалил. Вы же сами все видели… Получилось все так по-дурацки, будто этот ваш… ну… подозреваемый… будто он ночевал у меня…
— А что, не ночевал разве?
— Да ночевал, конечно! Но вы же так все изобразили, будто… Обхихикали все сами… Вот мой муж и оскорбился! И вы тоже хороши! Нашли место для шуток!
— Не поверил, значит?
— Ну да, не поверил. А может, просто повод нашел, как Ветка говорит…
— А вы его… того… со скалкой-то часто встречали? Может, он не от вас, а от скалки сбежал?
— Ой, ну далась вам эта скалка, господи. Чего вы к ней привязались-то? Подумаешь, скалка…
— Ну уж, не скажите! Если б вы бедного пьяного ввалившегося к вам мужика ею по голове вовремя не шарахнули, не было бы у него теперь никакого алиби. Вот могли бы вы, к примеру, просто перед его носом дверь захлопнуть? Да запросто! А теперь с этой скалкой вы нам всю картину попортили…
— Ага! Не удалось невиновного в тюрьму засадить! Неувязочка вышла, да? Выскочила баба со скалкой и попортила вам всю картину! Черт побери, обидно-то как!
Дознаватель взглянул на нее хмуро поверх очков, поерзал на своем жестком стуле, принялся что-то писать торопливо на разлинованном длинном листе бумаги. Надежда молча наблюдала, как из-под руки его ложатся между линеечками аккуратные бисерные строчки, как он морщит старательно лоб и важно подтягивает губы в твердый розовый бантик — ни дать ни взять писатель какой в муках творческих… Подумалось вдруг ей — хорошо, что она по этой стезе юридической после института не двинулась. А ведь звали. Упорно предлагали ей тогда место в убойном отделе после практики. Говорили, что у нее склад ума очень мужской, даже талантливо-аналитический будто. Сейчас бы вот сидела так же, водила ручкой по разлинованным строчкам да мучилась мыслью досадливой, где бы раскопать другого подозреваемого по этому делу… И никакой аналитический талант ей бы не понадобился…
— Что, тяжко работается, да? — тихо-сердечно спросила она у дознавателя. — Начальство ругает, раскрываемость низкая… А вы плюньте на все, идите в юрисконсульты! Знаете, там посвободнее как-то. Дело свое делаешь хорошо, и никем не клят, не мят…
Однако дознаватель ее сочувствия не принял. Только глянул поверх очков сердито и коротко, торопливо дописал последние строчки.
— Ладно, Надежда Андреевна, ознакомьтесь, прочтите внимательно. Главное мы установили — местонахождение подозреваемого в своей квартире в момент убийства вы настоятельно подтверждаете…
— Да, подтверждаю. Где надо расписаться? Тороплюсь я…
Выскочив на улицу, она быстро поймала частника-извозчика и всю дорогу благодарила провидение, что не послало оно в этот час ни одной, даже самой маленькой пробки на дороге — сплошной только зеленый свет. Бывает же такое везение — вместо двух запланированных часов ее преступное отсутствие на рабочем месте сократится до одного часа. Всего лишь! Это и не преступление даже получается, а так, маленькое на него покушение. Но провидение, видимо, рассудило по-своему. Хоть благодарность ее и приняло, но поступило именно так, как обычно и поступает: не успеешь обрадоваться одному хорошему обстоятельству, казалось бы, для тебя определяющему, а на деле выходит, что зря ты ему и радовалась. Ты его, провидение, благодаришь страстно, а оно судьбу твою еще полчаса назад решило, и совсем не в лучшую для тебя сторону, и подпись с печатью на ней уже поставило…
— … Надя, а директриса тебя уволила… — виновато протянула секретарша Сонечка, доставая из зева принтера только что отпечатанный листочек и протягивая его Надежде в руки. — Вот, я уже и приказ напечатала… Ты где была-то? Я тебя искала-искала… Даже к подружке твоей на третий этаж бегала. Начальница тут так орала, что тебя на рабочем месте нет…
— Я в милицию ездила. Вообще-то у меня уважительная причина… Да хотя и черт с ним! Уволила и уволила. Днем раньше, днем позже, какая разница…
— Надь, а может, ты сходишь к ней? Объяснишь по-человечески? Может, она передумает?
— Нет, не пойду. Зачем? Да и не передумает она. Вдруг такого случая больше не представится, чтоб была причина меня выпереть? Ладно, пусть будет так. Хотя жалко, конечно. Вот уж говорят — пришла беда, открывай ворота…
Развернувшись, она заскочила в свой крохотный кабинетик, схватила сумку и быстро пошла к выходу, успев проговорить на бегу Сонечке, что за вещами своими завтра зайдет, заодно и дела кому-нибудь передаст. А сегодня она это сделать никак не в состоянии, потому что зареветь боится. И вообще, может прямо сейчас и начать, и лучше убежать ей отсюда поскорее…
Выйдя на яркую и звенящую, радующуюся майскому теплу и ветру улицу, она пошла, куда глаза глядят. Глаза особо никуда и не глядели, потому как улица преломлялась сквозь набегающую на них слезную пелену и конкретных путей-ориентиров не выдавала. Не хотела, видимо, впускать ее в свое свеженькое, только-только за последние дни народившееся радостно-зеленое пространство, портила Надежда своим скуксившимся видом ее весенние восторги. Надежда и сама чувствовала, что не вписывается никак в эту гармонию, что лишняя она на этом празднике жизни, да и не претендовала на него сейчас особо. Хоть на прохожих не налетала, и то спасибо. Жалко, конечно, хорошее было место работы. В центре города, и до дома недалеко. И зарплата была хорошая. Хоть и с придурью была ее начальница, но что касалось материального стимулирования своих работников — тут равных ей не было. Могла на чем угодно поэкономить, а на зарплате — никогда. Еще и повторять любила, что, мол, если ей деньги очень нужны, то и другому они наверняка нужны не меньше…
Очень захотелось курить. Вообще, постоянной и дурной привычки к курению у нее даже за шальные студенческие годы не сформировалось, а среди «собратьев» такое баловство вообще было не принято — дыхалку берегли. Но в трудные жизненные минуты организм начинал требовать определенной порции никотиновой отравы. Так что тайком от Вити она покуривала, конечно, но очень редко. Просто хлопот было много да возни с этим делом. Покуришь один раз, а потом три дня боишься — вдруг Витя унюхает… А вот и киоск табачный на пути — все для вас, несчастная Надежда…
Человек, стоящий у окошечка табачного киоска, протянул руку, забрал свою пачку сигарет вместе со сдачей и развернулся, чтоб пойти и дальше своей дорогой, но вдруг застыл на месте, удивленно на нее глядя. Надежда прищурилась, согнала быстренько слезную пелену в уголки глаз и улыбнулась приветливо на всякий случай — вдруг знакомый какой. Подняла голову, взглянула «застывшему» в лицо и улыбаться тут же перестала. Потому что этого не могло быть. Потому что это уже, простите, перебор на сегодняшний день. И даже не перебор, а издевательство какое-то.
— Александр, я не понимаю, вы что меня, преследуете, что ли? — тихо, но в тоже время немного истерически проговорила Надежда, с неприязнью глядя в знакомое уже лицо своего ночного пришельца. И впрямь — пришелец. Точнее и не скажешь. Глаза огромные, ярко-синие, в длину вытянутые, будто и не земные какие-то. Волосы черные, жесткие, блестят красиво на солнце. Твердые, слишком ярко и резко очерченные губы. Высокие скулы слегка выдаются параллельно разрезу глаз… Красивый парень. Такой красивый, что даже отталкивает. И сине-фиолетовое пятно на лбу, оставшееся от ее скалки, нисколько его не портит. Ему бы ангелом-хранителем быть, а не бедоносцем проклятым…
— Нет, что вы, Надежда. Я вас совсем не преследую, — решительно замотал головой пришелец по имени Александр. — Я в этом районе случайно оказался… У меня вон в том здании мать работает, я хотел к ней зайти… — махнул он рукой в сторону бывшего Надеждиного дома-муравейника.
— Да? Надо же, какое совпадение! И я всего час назад в том же здании работала. А теперь вот, благодаря вам, уже и не работаю…
— А почему благодаря мне?
— А потому что меня уволили только что. За отсутствие на рабочем месте. Я же свой гражданский долг по отношению к вам все-таки выполнила. Исполнительная оказалась девушка, добрая такая, знаете ли… Все бросила и поехала к вашему дознавателю, алиби ваше подтверждать….
— Ой… Ну как же так, Надежда? — искренне огорчился Александр. — Но… Но вас же не должны были за это уволить! Вам же повестку должны были отдать, а там время указано!
— Вы где работаете, Александр? В частной фирме?
— Ну да…
— А кем?
— Ну, как вам сказать… Я один из соучредителей…
— А-а-а… Начальник, значит. Тогда скажите мне, положа руку на сердце, вы сами свято ли чтите Трудовой кодекс? Могу точно сказать — ни фига вы его не чтите. Так что и меня не учите жить…
— Надежда, вы простите меня… А может, я вам помочь чем смогу? А то действительно сволочью себя распоследней чувствую… Слушайте, а давайте я сам схожу к вашему начальнику, а? Объясню ему все… Или хотите, я вас на работу возьму?
— Нет уж, спасибо. И вообще, шли бы вы своей дорогой. Подальше от меня. А то я вас как увижу — сразу беда какая-нибудь случается. Две беды уже случилось, теперь, значит, и третья не за горами?
— Ну, давайте хоть до дома отвезу, вон моя машина стоит… Вы успокоитесь, по дороге что-нибудь придумаем…
— Нет! Ничего мне от вас не надо! И придумывать ничего такого не надо! Отстаньте от меня! Пожалуйста! Бедоносец вы несчастный! Вы мне одно только горе приносите! — слезно-сердито закричала Надежда, привлекая внимание прохожих.
— Но, Надежда…
— Отстаньте! Или я милицию сейчас позову!
Она тут же начала лихорадочно озираться по сторонам, будто и впрямь под каждым газонным кустом на этой улице было спрятано по милиционеру, и все они дружной толпой должны были выскочить на ее зов, да только задерживались почему-то. Александр тоже спрятанных милиционеров дожидаться не стал — попятился от нее испуганно, потом торопливо пересек улицу и плюхнулся на сиденье голубенькой «Ауди». Смотрите-ка, нежный какой и пугливый — проводила она его в спину злым взглядом. Как ключом по ее замочной скважине царапать да голову под скалку подставлять, так тут мы смелые…
Она сердито повернулась к окошку киоска, купила, наконец, пачку «Парламента» и побрела в небольшой скверик неподалеку. Попросив у случайного мужчины-прохожего огоньку, с трудом попала концом сигареты в мятущееся пламя, затянулась сразу несколько раз подряд, как заправская курильщица. Уселась на скамейку нога на ногу, засмолила от первой выкуренной сигареты следующую, потом дело дошло и до третьей, и до четвертой… Потом ее затошнило, конечно, и голову повело в сторону так сильно, что пришлось ухватиться за скамейку обеими руками и потаращиться испуганно прямо пред собой, фокусируя взгляд на вершине одинокой чахло-голубой елочки. Однако слезная пелена из глаз ушла, а вместе с ней ушло и нервное напряжение, и пришли мысли грустно-рассудительные, и заскребли по душе острыми кошачьими коготками. Чего она на этого парня взъелась? Тоже, нашла козла отпущения… Как будто Витя другого повода не нашел бы, чтобы от нее уйти! И начальница ее все равно рано или поздно за дверь бы выставила… Вот ведь как мир странно устроен — обязательно нам виноватый требуется! Есть виноватый — и уже словно полегче жизненные невзгоды переносятся… Вздохнув, она поднялась со скамейки, уныло побрела по улице. Увидев себя, по-старушечьи согбенную, в зеркальной витрине большого супермаркета, перепугалась, встрепенулась привычно — а ну, Надежда, срочно поднимаем подбородок вверх, плечи назад оттягиваем, живот и ягодицы в себя, ногу заносим от бедра…
Нет, сегодня явно был не ее день. Вот бывают такие дни — всякие беды так и сыплются тебе на голову! Подвела ее нога, которая начала гордо заноситься от бедра. Неудачно как-то занеслась, поторопилась, наверное. Потому что вторая нога быстрой перемены в походке не прочувствовала, подвернулась на шпильке и резко вдруг опустилась на пятку — очень смешно со стороны получилось, наверное. Да еще и сломанный каблук проходящей мимо дамочке под ноги прилетел, и она уставилась на Надежду сочувственно — сама, наверное, бывала в таких ситуациях. Надежда улыбнулась ей благодарно и беспечно махнула рукой — проходите, мол, гражданочка, ничего страшного. Подняла каблук с асфальта, отхромала потихоньку в сторонку, начала рассматривать его со всех сторон. Хотя чего его рассматривать — каблук, он и есть каблук. Туфли жалко. Дорогие, английские. Сейчас такие не скоро себе позволить придется. Пока работу новую не найдет…
Однако надо было как-то добираться до дому, и она оглянулась беспомощно и призывно, соображая, куда бы хромать поближе, чтоб поймать такси побыстрее. Можно было, конечно, оторвать второй каблук и зашагать гордо и весело по улице, как озорная девушка из виденной когда-то рекламы. Там девушка так же вот каблук подломила, а потом то ли жвачку пожевала, то ли водички попила и встрепенулась сразу, и второй каблук быстренько оторвала, и пошла дальше еще веселее прежнего. И мужчина из придорожного кафе с красивой чашкой кофе в руках восторженно смотрел ей вслед. Вот и Надежда тоже, следуя ее примеру, попыталась этот прием воспроизвести. Сняла туфель, рванула целый каблук что есть мочи… Да только не тут то было. Каблук сидел на своем месте, как влитой. Нет, не получится у нее так же красиво выйти из положения. К тому же болела подвернутая лодыжка. Не катастрофически, конечно, но идти и держать ее на весу, подстраивая под высоту целого и невредимого каблука, будет трудновато. А что делать — придется.
Медленными осторожными шагами она пересекла газон, встала на узенький бордюрчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны, и даже проголосовать не успела — тут же нарисовалась перед ней, будто из-под земли выросла, голубенькая «Ауди». И очень даже удачно нарисовалась — дверь прямо пред ней распахнулась гостеприимно. Осталось только развернуться и упасть на переднее сиденье, что Надежда с облегчением и сделала. Бывают в жизни ситуации, когда не приходится рассуждать, кто именно приходит к тебе на помощь — пусть это будет хоть пришелец, хоть бедоносец, пусть хоть черт рогатый…
— Что, опять за мной следили, да? — насмешливо повернула она к «пришельцу» голову. — Ждали, когда у меня каблук сломается?
В голосе ее не было уже прежней сердитости. Наоборот, промелькнула даже нотка некоторой кокетливой благодарности — надо же, не уехал…
— Нет. Я не следил. Говорю же — мать у меня здесь недалеко работает. Я к ней заскочил на минутку, потом смотрю, вы к дороге хромаете… Вас куда везти, Надежда?
— Домой, куда… Адрес помните, я надеюсь?
— А что у вас случилось? Каблук оторвался, да? Так давайте это дело поправим быстренько…
— Как? Вы что, мастер по ремонту женской обуви? Как вы его, это дело, поправлять собрались? Да еще и быстренько? Тут и хорошему специалисту работы невпроворот…
— Нет, сам я, конечно, не умею этого делать. А вот мой приятель…
— А что ваш приятель? Он сапожник, что ли?
— Нет. Просто у него своя обувная мастерская. По-моему, элитная даже какая-то. И мастера там хорошие. Это недалеко, через три квартала всего…
— Хм… Элитная мастерская по ремонту обуви… Звучит-то даже абсурдно! Зачем это, скажите на милость, элите обувь свою ремонтировать? Она и новую хорошо купит, а старую выбросит…
— Ну, не в этом смысле, что элитная для элиты, а в смысле качества. Для среднего класса, наверное. Мой приятель считает, что если человек очень потратился на дорогие ботинки, то обязательно придет их подремонтировать через какое-то время, чтобы выносить на всю сумму потраченного. Чтоб дешевые не покупать, а через сезон снова купить дорогие. По-моему, он и впрямь насчет заказов не бедствует.
— Ну да. Наверное. — Задумчиво протянула Надежда. — Мне вот эти туфли, например, тоже до смерти жалко выбрасывать. Когда еще такие купить удастся…
— Так что, едем?
— Ладно, поехали. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок.
— Это я паршивая овца, да? — то ли виновато, то ли насмешливо переспросил Александр, коротко улыбнувшись.
— Нет, это пословица такая. Должна ж мне от вас и польза какая-то быть, не все одни убытки. А что, ваш приятель прямо при мне мои туфли сделает?
— Ну, не сам, конечно… Но команду на срочность даст, я полагаю. Мы его об этом очень попросим… И вообще… Я все-таки очень виноватым себя чувствую перед вами, Надежда. И шерсти клок мое чувство вины утолить никак не сможет. Может, позволите все-таки с работой вам помочь? Вы у нас кто по специальности?
— Да ладно… — махнула рукой Надежда. — Вы и не виноваты ни в чем, просто так уж получилось, что под руку вовремя подвернулись, последним толчком стали. А неприятности мои и без вашего участия давно сами по себе зрели. Так что пусть ваше чувство вины на этом успокоится. Обойдемся маленьким клоком шерсти в виде хорошо приделанного на место каблука…
Он взглянул на нее очень внимательно и ничего не ответил. Отвернулся, замолчал и сразу будто отодвинулся, отгородился невидимой стенкой. Странный, странный парень — снова подумалось Надежде. Точно не от мира сего. Замолчал так откровенно, будто ее и в машине нет. Будто забыл про нее легко и сразу. Обидно даже. А может, это она его так сильно по голове шарахнула, что такие вот провалы сознания появились? Сейчас, еще доброго, повернется к ней и скажет — что это вы тут в машине моей делаете, дамочка? Вдруг подумалось ей некстати, что каких-то три года назад и она была такой же вот — не от мира сего. Так же свободно могла задуматься среди развернутого диалога, так же могла позволить себе не отслеживать нужное выражение лица… Да чего там лица — даже свою склонную к полноте фигуру она не отслеживала, ничуть об этом не беспокоясь. Ну, упитанна была, и что? Упитанность эта нисколько не помешала ей тогда проездить все пять институтских лет на велосипеде в смешном тинейджерском прикиде, с повязанной на голове черной с черепом бандане, с рюкзачком за спиной, с пофигическим и радужным настроем ко всему вокруг происходящему… Да если б не надо было проклятое гнездо вить, она бы до сих пор гоняла на велике в свое удовольствие! А так никуда не денешься — под Витю себя пришлось перекраивать. А что делать? Им, приличным мужьям, с которыми приличные женщины семьи строят, велосипедистки с черными банданами на головах вовсе не нужны…
Вскоре припарковались у аккуратного одноэтажного строеньица, больше смахивающего на уютное кафе, чем на обувную мастерскую. И даже название для кафе больше подходящее — «Комфорт». Хотя если иметь в виду комфорт не гастрономический, а обувной, то вполне даже приемлемое. Бывают случаи, когда обувной комфорт оказывается гораздо важнее гастрономического. А что? Когда ноги не в нем, не в этом как раз комфорте пребывают, то не только желудок, а и весь остальной организм скромно о своих капризах да потребностях помалкивает. Вот ей, например, совершенно точно сейчас ничего уже не хочется…
Надежда по-царски протянула руку в открытую Александром дверь, ступила уверенно на целый каблук и, стараясь не хромать, прошествовала до круглого крылечка заведения. Каблук она держала в руке, словно демонстрируя прохожим причину своей неловкой походки. Александр галантно распахнул перед ней красивую стеклянную дверь, повел под локоток куда-то мимо приемной стойки, вглубь помещения. Надежда даже успела поймать на себе несколько неодобрительных взглядов из небольшой, очень аккуратной очереди, расположившейся у стойки — вроде как все мы тут в одинаковом положении оказались, а девушку вот мимо ведут…
Приятель Александра поднялся им навстречу из-за стола, тоже глянул на Надежду неодобрительно, как и клиенты его заведения, сгрудившиеся в приемном зале. Однако неодобрение его было совсем другого рода, никак не связанное со сломанным каблуком и стремлением его обратно присобачить. Ей показалось даже, что оно прямиком только в ее сторону и направлено было, просто по факту одного уже ее здесь присутствия. Непонятно было только, чего он вдруг на нее так вызверился откровенно, этот приятель обувной-элитный…
— Пит, познакомься, это Надежда! — радостно представил ее Александр. — Чего ты встал, как колосс Родосский? Подойди, пожми даме ручку. Не бойся, она не кусается. По моим наблюдениям, она другим способом членовредительствует…
Осторожно дотронувшись до шишки на лбу, он повернулся к Надежде и улыбнулся коротко и быстро. Улыбка ему, надо заметить, очень шла — делала лицо еще более привлекательным. Вот Витя никогда так улыбаться не умел. Все у него выходила не улыбка, а ухмылочка какая-то, хилая да кривоватенькая. А этот не улыбается, этот через улыбку будто частичку себя выбрызгивает. Раз — и сверкнуло. Красиво. Надо будет тоже так поучиться потом перед зеркалом.
— Очень приятно. Пит. — Горделиво поднял подбородок приятель Александра, однако подходить поближе и пожимать ручку вовсе не поторопился.
— Пит — это Петр, надо полагать? — миролюбиво спросила Надежда.
— Ну да. Можно и так. Только я к Питу уже с детства привык. Что у вас там, Надежда? Давайте, я посмотрю. Каблук сломался?
Он как-то разом выдвинулся из-за стола, покатился к ней на маленьких кривых и толстых ножках. «И в самом деле, Пит…» — удивленно подумалось Надежде. Короткое это смешное имя подходило ему до чрезвычайности, вмещало в себя и маленький рост, и женскую округлость тела, и толстые розовые щечки, и даже крайнее недовольство ее здесь внезапным появлением оно в себя каким-то образом вмещало. «Он, наверное, себя стесняется, потому и сердитый такой», — успела она найти подходящее объяснение этой неприязни, пока Пит катился к ней через свой кабинет. — «Наверное, надо поддержать его как-то, чтоб не очень стеснялся…» Сбросив с ноги вторую туфлю и даже слегка втянув голову в плечи, она уменьшила по возможности себя в росте, но все равно взгляд на подошедшего вплотную к ней Пита упал сверху вниз — ну не на коленки же ей было перед ним становиться, ей богу! Пит выхватил из ее руки туфлю с оборванным каблуком, рассмотрел внимательно. Потом наклонился, поднял с пола и вторую, целую, махнул ею неопределенно в сторону обтянутого коричневой кожей дивана — располагайтесь, мол, — и выкатился из кабинета.
— Однако не очень любезный у вас приятель, Александр! — садясь в уголок дивана, проворчала Надежда. — Так смотрит, будто я у него сто долларов давно заняла и никак не отдаю…
— Не обращайте внимания. Вообще-то он добрый. Просто ситуацию неправильно понял.
— Какую ситуацию?
— По-моему, он принял вас за мою… как бы это сказать…
— Любовницу-подругу, что ли?
— Ну, вроде того.
— А ему какое дело? Если б даже и впрямь я вашей любовницей вдруг оказалась? Он что — ваша ходячая мужская совесть по совместительству?
— Нет, он не совесть. Он друг семьи. Вернее, был им месяц назад…
— А потом что — перестал?
— Ну да. Автоматически. Семьи не состоялось, и дружба его, стало быть, в воздухе повисла. Не знает теперь, бедная, куда ей и пристроиться. Плохо это, когда дружба твоя никому не нужна…
— И вам не нужна, что ли?
— Да мне-то как раз нужна! Только он привык, знаете ли, к роли друга-оберёга семейного, влез в нее по уши, даже что-то вроде ответственности за все это хозяйство в себе вырастил-прочувствовал. Вот и сердится теперь на нас с Алисой, что мы очаг порушили, у которого он тоже грелся. В самую душу, говорит, плюнули…
— Алиса — это ваша жена?
— Ну да.
— Бывшая?
— Выходит, что бывшая…
— А вот перипетии своей семейной жизни я бы на твоем месте ни с кем обсуждать не стал! Тем более с другой женщиной! — Прозвучал от двери резкий высокий голос Пита. Они и не заметили, как он тихо прокрался в свой кабинет. Молчали пристыженно, будто и впрямь уличенные в стремительно произошедшем только что пошлом прелюбодеянии, следили глазами, как он плюхается сердито в кресло напротив дивана. И не плюхается даже, а слегка в него запрыгивает, смешно приподнимая толстый бабий зад.
— Пит, это не другая женщина. Ты не понял просто. Это Надежда. Та самая Надежда, моя спасительница.
— Да-а-а-а? — заинтересованно повернулся к ней Пит. — Так это вы его, значит, скалкой…
— Да, это была я! — сердито подтвердила Надежда. — Именно я огрела вашего дорогого приятеля скалкой в тот злополучный вечер! А еще именно ко мне ваш приятель приперся на следующий же день и заявил прямо при муже, что он у меня в квартире всю ночь провел! И семья моя тоже после этого напрочь распалась! Еще вопросы есть?
— Нет, вопросов больше нет… — улыбнулся ей сочувствующе Пит. — Значит, наш Сашка и в вашей жизни успел потоптаться порядочно. Такой вот он у нас — топтун по чужим жизням…
«… Бедоносец», — хотела вставить Надежда, да передумала почему-то. Будто кто за язык поймал — погоди ярлыки клеить. Тут, похоже, и без тебя этих наклейщиков хватает…
— Мне вот интересно, Сашка, как ты там, в тех дворах оказался-то? Чего тебя туда понесло? Я же машину поймал, до дому тебя в тот вечер довез, у подъезда специально высадил. И время было не позднее, светло еще было…
— Я не помню, Пит. Ей богу, не помню. Меня уж и так и этак потом в милиции спрашивали — ну ничего не помню! Очнулся в темноте, лежал между урной и скамейкой какой-то, как бомжик несчастный… А потом встал и пошел. В голове ужасное что-то творилось, и пред глазами все прыгало. Помню, наизнанку еще выворачивало периодически, прошу прощения за подробности… А потом вижу — мой же дом стоит! И двор вроде бы мой, все такое знакомое… Ну, я с радости и поднялся на третий этаж, и ключи достал…
— … И получил вдобавок скалкой по голове! — закончила его рассказ Надежда. — Только я не поняла — вы в тот вечер вместе были, что ли?
— Да вместе, вместе… — досадно отмахнулся от нее Пит. — Подумаешь, посидели слегка по-мужски. Мы и выпили-то вроде умеренно. Только я в тот вечер спокойно домой приехал и ночевал в своей постели, а вот Сашку почему-то к вам принесло… Вы, Надежда, абсолютно уверены, что не были знакомы с ним раньше? Может, он бывал у вас все-таки?
— Прекрати, Пит! — сердито поднял на него глаза Саша. — И ты туда же! Еще скажи, что Надежда моя тайная подруга и просто устроила мне это алиби…
— Да ничего такого я вовсе сказать не хотел! — так же сердито ответил ему Пит, поелозив по креслу толстым задом. — Просто все странно как-то получается… Вот скажи, откуда рядом с дедом твоя куртка взялась? Ты можешь это объяснить? А бутылка разбитая с отпечатками твоих пальцев?
— Подбросил кто-то… — тихо подсказала из своего угла Надежда. — Кто-то очень хотел, чтобы у Саши были большие неприятности, и растянулись они минимум как лет на восемь-десять… А кто-нибудь видел еще в тот вечер, что вы «слегка пьянствовали»?
— Да все кафе видело… — развел короткие ручки в стороны Пит. — А все ты, Сашка, со своими фантазиями… Ну вот что, что тебе такое взбрело в голову, скажи? Ну подумаешь, Алиса деда обманывала! Да что от него, убыло, что ли? Она же в принципе для тебя и старалась! И вообще, из-за таких пустяков семьи не рушатся! Глупо это все… Она любит тебя, а ты… Из-за денег этих дурацких…
— Не из-за денег, Пит. Ни при чем тут дедовы деньги. И давай больше к этому разговору возвращаться не будем. И Надежде он вовсе не интересен.
— Ну почему же? — пожала плечами Надежда. — Очень даже интересен! Я тоже в этом деле человек не посторонний. Можно сказать, за истину пострадавший… Вы мне вот объясните — при чем тут убитый дед и семейная ссора из-за денег? Что у вас там произошло такое?
— А вот это вас, Надежда, вовсе никак не касается! Это уже наши дела, семейные! — подпрыгнул в своем кресле Пит. — Вы бы лучше туфельками своими поинтересовались, чем болезненное любопытство к чужой жизни проявлять! Оно хоть и не порок, конечно, но все равно вещь по сути отвратительная…
— Да? Ну, хорошо… — растерялась Надежда и даже покраснела слегка от такого обвинения. — Ну и что там, расскажите, с моими туфельками происходит?
— Да ничего такого страшного не происходит. Вылечим сейчас. Будут как новенькие. Долго еще проносите. Фирма очень хорошая, и вкус у вас, можно сказать, изысканный… Сейчас мастер сделает, сюда принесет.
— Спасибо… — улыбнулась она ему холодно-вежливо и замолчала, отвернулась к окну равнодушно. Чего это она, в самом деле, разлюбопытничалась? Ну их всех, и Сашу этого, и друга его, колобка хамоватого… Не больно-то и хотелось, между прочим. И впрямь, пусть сами в своих семейных делах копаются, у нее и в собственных поле пока не пахано. Ей надо Витю как-то в дом возвращать, придумывать что-то надо. Она больше и слова им здесь не скажет. И вообще, очень уж неприятный Пит этот… Да она могла бы и сама прекрасно до дому дохромать, если уж на то пошло! И не надо было перед ней свою «Ауди» останавливать! Слава богу, вон и мужик какой-то в дверь заглянул, туфли ее принес…
Всю дорогу до дома она молчала сердито. Саша взглядывал на нее коротко и тоже заговорить будто не решался. А когда въехали в ее двор, решительно заглушил мотор, развернулся к ней всем корпусом, проговорил твердо:
— Надежда, давайте я вам все-таки помогу как-то! Не хочу я оставаться в вашей памяти паршивой овцой с клоком шерсти. Ну, пожалейте меня еще раз, ей богу. Давайте я вам визитку свою оставлю… Ну так, на всякий случай, вдруг понадобится…
Она хотела ответить ему что-нибудь смешное, вроде того, что памяти ее абсолютно все равно, в каком таком образе он там отпечатается, но не успела. Просто поднятый вверх взгляд взял и уперся в окна ее квартиры, и она тут же подскочила на сиденье радостно — окна-то были настежь распахнуты! А это могло означать только одно — Витя вернулся! А кто, кто еще откроет окна в их квартире? Только Витя, ее законный муж…
Рывком распахнув дверь, она выскочила из машины и чуть не бегом помчалась к своему подъезду, так и не оглянувшись больше на озадаченного ее странным поведением спутника. Он действительно очень удивленно смотрел ей вслед, зажав в руке свою так и не востребованную визитку, потом пожал плечами, улыбнулся потерянно. Странная, странная девушка. Что он такого обидного ей сказал сейчас? Только то, что помочь хочет. Подскочила, убежала, как ненормальная, даже не попрощалась по-человечески…
* * *
Очень не понравилась ему эта Сашкина спасительница. Как и все кругом женщины, впрочем. Потому что у всех у них водился один, объединяющий их жуткий недостаток — они ничуть не были похожи на Алису. Не было ни у одной из них таких желто-пшеничных, вьющихся природными колечками волос, не было бледно-голубых прозрачных глаз, не было крошечных коричневатых веснушек на лице, таких многочисленных, что весной кожа ее приобретала удивительный оттенок золота. Не загара, а именно золота, драгоценного благородного металла. Очень захватывающее зрелище — лицо Алисы весной. Да и летом тоже трудно бывает оторвать от него взгляд. И осенью, и зимой… Может, где-то и жили на свете девушки с подобными лицами, а может, даже и в их городе жили, но были они наверняка жалким подобием Алисы. Она была одна такая! Он это точно знал, он с самого детства это знал. С первого еще класса. Никто не знал, а он знал. Он, маленький толстый мальчик Петя, смешной и неуклюжий «жиртрест», «колобок», «Вини-Пух», или как там еще дразнят в школах таких вот маленьких толстых мальчиков…
Он тогда сразу хотел с ней сесть за одну парту, да не посмел. Оскорбить не посмел девочку Алису своим постоянным рядом с ней присутствием. Он вообще никогда ни на что подобное не претендовал. Чего он, дурак, что ли совсем, чтобы претендовать на ее особое к нему внимание? Или фантазер какой? С таким же успехом можно претендовать, например, на внимание к своей персоне далекой звезды, какой-нибудь там Альфа-Центавры… Нет уж, он мальчиком вполне разумным был, хоть и смешным да неуклюжим. Он потом только сообразил, что пойдет другим путем. Как молодой Ленин. Не бесполезным путем нахрапистым, а умным и толковым. И он всегда будет рядом с ней. Не в качестве обладателя, конечно. Еще чего — обладателя… Он-то как раз знал, что обладать Алисой невозможно. Никому это не дано. Просто ему необходимо было все время быть рядом, и все. Этого было вполне достаточно для счастья. А чтобы быть рядом, надо по меньшей мере другом стать, верным и преданным, как Санчо Панса. Надо научиться находить общий язык со всеми ее друзьями и подругами, со всеми возникающими на горизонте воздыхателями…
Слава богу, ни подруг, ни воздыхателей у Алисы особо не водилось. Подруги от нее сбегали быстро — характера ее властного не выдерживали, и с воздыхателями тоже была проблема, потому как всей школе было известно, что сердечные вожделения этой необыкновенной девочки давно уже направлены в одну определенную сторону. Впрочем, в сторону эту были направлены и другие девичьи сердца, и сваливалось все это сердечное благолепие на голову красавчика Сашки Тарханова из параллельного класса. Он и правда был красавчик, тут уж не убавишь, не прибавишь. Даже завидовать ему было трудно. Да и к чему растрачивать себя на зависть? Нет, он не завидовал ему, нет… Хотя, может, и врал самому себе. А кто в этом случае себе не врет, скажите? Где это вы видели человека, который прям таки возьмет да и врежет сам себе правду-матку в глаза — изошел, мол, на зависть черную, потому и ненавижу…
Хотя, наверное, и правда так честнее будет. Ненавидел он его. За красоту, за высокий рост, за задумчивую небрежность в отношениях, идущую не от заносчивости, а именно от постоянной этой внутренней задумчивости, витания в собственных каких-то облаках равнодушия… Ну вот какие облака могут быть, скажите, если с тебя такая девочка, как Алиса, глаз не сводит? Да надо же лететь с этих облаков кубарем вниз, и падать к ее ногам, и быть благодарным, очень благодарным… А этот лететь никуда не спешит. Ну ничего, полетит со временем, как миленький. Это надо Алису знать. А он Алису знал. Знал, что она непременно своего добьется, чего бы это ей ни стоило. И потому надо было и ему подсуетиться тоже, чтоб не выпасть потом из обоймы…
Так что пришлось ему с Сашкой дружить. Это было не так уж и страшно, потому что другом он оказался довольно комфортным. То есть совершенно необременительным. То есть самое то, что надо. И к нему отнесся очень хорошо, и даже имя для него придумал достойное — Пит… Пит — это было хорошо, это ему очень понравилось. Это вам не Вини-Пух какой-нибудь! Вообще, он очень добрый парень, так называемый друг его Сашка. Только применительно к его ситуации это не имело уже никакого значения. Считает Сашка его другом, не считает, какая разница… Главное, что не возражает совсем, что Алиса в их дружбу тоже проникла, стала неотъемлемым ее атрибутом. Так что он тогда очень хорошую службу ей сослужил. Взял и преподнес ей Сашку практически на тарелочке. На, ешь. Только руку протянуть осталось…
Сашка очень быстро к такому их тройственному союзу привык. И к Алисе привык, и к восхищенно-непритязательному к ней вниманию Пита привык, и даже сам заразился от него восхищенной этой непритязательностью. В этот именно момент Алиса его и проглотила, как маленькая острозубая акулка. Молодец, высший класс! Добилась таки, чего хотела! Съела все-таки! А он, Пит, ей в этом помог. И так этому красавчику и надо. Туда ему и дорога — в Алисину собственность, в шкатулочку с драгоценностями, в движимость-недвижимость. Потому что красивый муж для всякой умной женщины — уже вещь. Может, не драгоценная, но собственность. И пройтись рядом приятно, чтоб остальные позавидовали, и в постель опять же лечь не противно…
Сашка, правда, со свадьбой долго тянул. Все кочевряжился чего-то, про неопределенность своих чувств толковал… Какая такая может быть в чувствах неопределенность, если речь идет об Алисе? Непонятно, хоть убей… Столько лет они вместе — и в школе вместе, и после школы… Хоть и учились в разных институтах, а все равно вместе! Питу, правда, пришлось вслед за Сашкой в Политехнический рвануть — не оставлять же было его без присмотра. А Алиса на иняз в педагогическом поступила. И на всех вечеринках институтских они и там и сям вместе появлялись. Втроем. И всегда Сашка при Алисе был. И он, Пит, при них обоих. Но как только Алиса про свадьбу заговаривала, так Сашка линял будто. Не сбегал, а именно линял — отмалчивался грустно и виновато. А год назад сдался все-таки! Еще бы он не сдался — ему ли воевать с Алисиной хваткой? Уж если она определила его себе в мужья, то будь добр под венец, и не перечь понапрасну. Потому что это же Алиса — женщина золотая! Не в том смысле, что золотая — добрая, а в том смысле, что золотая — особенная, не знающая слова «нет», умеющая заполучить все, чего только пожелается…
На свадьбе он был у Сашки свидетелем, как лучший его друг. Было это год назад как раз, тоже весной. Лицо Алисы отливало солнцем конопушек и сияло вовсе не обретенным счастьем, как думали все вокруг, а настоящей самолюбивой надменностью, как умеет сиять только настоящее золото. Пит знал — не любит она вовсе никакого Сашку. Она вообще никого не любит. Просто он ей нужен, и все. Вместе со своей красотой, с потрохами, с равнодушной задумчивостью. Как бывает нужен бриллиант — от него ведь тоже человеку никакого такого проку нету. Но нацепи его на видное место, и он работу свою все равно сделает! Гордыню потешит, самолюбие ублажит, и опять таки собственность не лишняя, знаете ли…
Он и о своих чувствах на этой свадьбе, на Алису глядя, тоже задумался. Любит ли он ее так уж сильно? И любил ли вообще когда-нибудь? Уж не мазохизмом ли проще назвать все, что с ним рядом с этой женщиной происходит? Чего уж он так себя кинул под ноги чужим страстям? Он даже представил тогда на минуту, что вот кончится свадьба, заживут молодые своей законной супружеской жизнью, а он пойдет себе своей дорогой… И содрогнулся тут же от страха. Нет, никуда он не пойдет. Пусть будет любовь-нелюбовь, пусть сумасшествие, пусть мазохизм презренный, пусть что угодно это будет, дорога у него одна судьбой определена — к храму по имени Алиса…
А быть другом семьи оказалось неожиданно приятно. По крайней мере, Сашку пасти уже не надо было, Алиса и сама его в свой маленький кулачок зажала поначалу — он и пикнуть не смел. Поселились молодые у ее деда — так Алиса захотела. А что? Очень мудрое решение, между прочим. Деду тому девяносто лет почти, и квартира у него шикарная. Не в смысле ремонта-отделки, конечно, а в смысле престижности расположения дома да хороших, достойных квадратных метров. Как она старикану досталась — это уж отдельная история, стечение благоприятных обстоятельств, детектив почти. У него вообще вся жизнь на исторический детектив похожа благодаря странному характеру да дурным несгибаемым принципам. Можно по ней роман писать — неплохо бы получилось. Интересный такой старикан, он с ним неплохо ладил. Даже не смотря на то, что не любил он его. Сашку любил, а вот его, Пита, нет. Да что там говорить — он и к внучке родной относился несколько настороженно, чего с него взять… Только из-за Сашки и разрешил ей у себя в квартире поселиться, приглянулся он ему чем-то. Так и жили бы Сашка с Алисой, наверное, до самой дедовой кончины в его квартире, если б не тот случай… Ну вот что, что она такого сделала? Подумаешь, именем стариковским воспользовалась! Лучше бы спасибо сказал, что пригодилось кому-то его имя… Смотреть было жутко, когда он выкрикивал ругательства всякие в ее адрес да палкой своей потрясал, да поминал всуе про свои честь и достоинство человеческие, Алисой попранные… Орал, пока не охрип. А потом показал палкой на дверь и прошептал устало что-то вроде того — пошли все вон отсюда. Они и ушли. А что оставалось делать? Самое ужасное, что и Сашка в этой ситуации на сторону деда встал, как за баррикады в стан врага перепрыгнул. Не хочу, заявил Алисе, больше с тобой жить, и все. Прости, мол, ошибся, не люблю. Сволочь предательская… Как его Алиса ни пыталась урезонить, ни в какую! Не понимает, дурачок, что с ней так нельзя… Не понимает, что она своей собственности лишаться просто не умеет, не дано ей от природы такой способности. Да она даже шмотки свои старые на мелкие кусочки режет, прежде чем на помойку их вынести! Чтоб никому, даже бомжам ничего не досталось! Принцип у нее такой — что упало, то пропало. Чтоб никто и никогда ее собственностью не смог воспользоваться. Как он не понял-то этого, господи? Вот он, Пит, понял, а Сашка не понял, дурачок…
Еще и явился сюда с этой девкой, как бишь ее там… с Надеждой этой. Вот же дура с алиби! Идиотка со скалкой. А что — по другому и не скажешь. Вот Алису, например, со скалкой в руках он и представить себе не может. А эта выскочила к двери — мужа подгулявшего бить. Деревня… Кто ее просил-то — скалкой по голове…
* * *
Перепрыгивая через две ступеньки, Надежда ветром взлетела к себе на этаж, протянула руку к дверному звонку, но тут же и опомнилась. Чего это она? Неправильно ведь так, наверное. Влетит сейчас счастливая — запыхавшаяся, продемонстрирует перед Витей бурную свою радость… А он ведь, между прочим, от нее ушел. И наверняка к другой женщине. Надо вроде как обидеться, или ревность свою выказать… Как там правильно-то? Как встречают в других хороших семьях жены своих подгулявших мужей? Как-то очень тонко, наверное, это делают. Чтоб и обиду показать, и чтоб мужу стыдно было, и чтоб гнездо свитое не разорить ненароком….
Для начала она просто отдышится. Это во-первых. А потом сделает себе равнодушно-грустное лицо. Это во-вторых. А в третьих — откроет дверь своим ключом. Будто и не догадывается даже, что он дома. А там, по обстановке, уже видно будет…
Она тихо провернула ключ в дверях, медленно открыла, медленно вплыла в прихожую. И застыла удивленно и разочарованно, увидев вышедшую к ней из кухни мать. И даже ответить сразу не смогла на посыпавшиеся на нее вопросы:
— Надя, почему у тебя такой беспорядок в доме? Постель не убрана, разбросано все! И на кухне посуда не мыта! Ты что, Надя? Витя придет с работы — что тебе скажет?
— А… А Вити нет, мама…
— А где он?
— Он… в командировку уехал.
— В какую командировку? Он сроду никуда не ездил!
— Да вот, взяли и послали. А ты как сюда попала, мам?
— А мне ключи соседка с первого этажа дала. Я как-то слышала, что ты у нее ключи оставляешь. Ну, вот и решила зайти. Не торчать же мне на улице у подъезда? Я еще хотела Витин костюм в химчистку забрать, и не нашла… Где он?
— Так он в нем и уехал в командировку.
— Что, в выходном костюме?
— Ну да…
— Ой, темнишь ты что-то! Смотри, Надежда, не проворонь мужа! Сейчас на таких, как наш Витя, очень большой спрос! Он хоть звонит тебе из этой своей командировки?
— Да, мам, звонит. Каждый день по два раза. Утром и вечером. — На голубом глазу врала она матери. Сказать правду было нельзя. Иначе маминых горестных причитаний хватит на весь вечер. Причитать мама умела очень профессионально — обвинения и досаду по поводу чего-нибудь плохого, случившегося с дочерью, направляла только на себя. Надежда, выслушивая все эти мамины «я знала, я чувствовала, я должна была предвидеть» не то чтобы страдала сильно, но переносила всю процедуру маминого самобичевания с огромным трудом, да еще и испытывала ужасный дискомфорт, похожий на мучительный стыд за саму себя, такую бестолковую и никчемную. Апофеозом маминого горя всегда звучало неизменно-восклицательное: «… Господи, кто бы только знал, как я за тебя переживаю! Опять давление поднимется, опять ночь спать не буду!»
Надежда вовсе не хотела, чтобы мама из-за нее не спала ночами. Она и без того относилась к тому типу женщин, которые только тем и занимаются всю жизнь, что «переживают». Неважно, по какому поводу, лишь бы вздыхать тяжко и протяжно, и чтоб губы скобочкой, и чтобы в глазах переливалась тоскливая пелена. Наверное, своими потребностями в «переживаниях» они и притягивают к себе мужей-алкоголиков, сыновей-наркоманов, дочерей-проституток. Чтоб было о ком «переживать». Или они к таким матерям-женам с удовольствием сами притягиваются. Так что лучше не давать маме поводов для причитаний. Пусть и дальше радуется ее семейному счастью, сколько получится. Пару месяцев она по-всякому Витю в «командировке» продержать может. А там, глядишь, и образуется все…
— Ну ладно, в командировке, так в командировке, — махнула рукой мама, — значит, на работе ценят, раз в командировку посылают. А куда он уехал, Наденька? Не заграницу, нет?
— Да, мам, именно туда и уехал. В Финляндию. У них там совместное производство какое-то открывается.
— Это хорошо, Наденька. Это очень хорошо. Может, и зарплату Витеньке повысят. Сможете тогда и квартиру двухкомнатную в ипотеку оформить, и ребеночка себе родить…
— Да, мам, конечно. Мы так и планируем.
— Ой, как же тебе повезло с мужем, доченька! Трезвый, положительный, планы строит… Молодец! Прямо не нарадуюсь я на него! С твоим-то папой, помню, планов на жизнь я шибко не настраивала. Только задумаешь чего — а он в запой уйдет. А у меня и земля из-под ног вместе с планами…
Надежда содрогнулась внутренне, словно пролетела мимо нее яркая картинка из детства. Очень яркая, с трезвым папой, со счастливой мамой. Случались в их жизни и такие моменты — редко, правда. Папа как-то резко и вдруг спохватывался и начинал изо всех сил выкарабкиваться из ямы каждодневного безобразного пьянства на поверхность благопристойной трезвости, ходил притихший, с виноватыми грустными глазами. Мама поначалу такому счастью не верила, все подвоха ждала, а потом ничего, привыкала. К хорошему быстро привыкают, это к плохому долго… Привыкнув и поверив в наступившее счастье, она начинала строить бурные планы со множеством разнообразных пунктов, в которых имели место быть и семейные поездки к морю, и добротная зимняя одежда, и шесть соток землицы с домиком-дачкой, с балкончиком, с клубничными грядками, и чтоб недалеко от дома… И маленькая Надя тоже во все это верила, и даже «собратьям» успевала похвастать про скоро грядущие море и дачу. А потом обрывалось все резко. В самый разгар счастья и обрывалось. Не умел отец долго держаться в благопристойной трезвости, снова проваливался в привычно-алкогольную жизнь с загулами, рабочими прогулами, увольнениями по статье, утренней похмельной абстиненцией и вечным, уже устоявшимся в доме запахом перегара. И снова начинались мамины переживания, и вечерние метания по квартире из-за отсутствия информации «жив — не жив», и звонки в морги и в справочное бюро по несчастным случаям…
— … Но все равно это не повод дом запускать! — донеслись до нее словно издалека слова матери. — Мало ли — муж в командировке! А ты должна дом свой в чистоте блюсти, чтоб все чик-чик было!
— Мам, да у меня и так все чик-чик. И порядок всегда, и обед приготовлен, и сама я чик-чик, худая да блондинистая… Все для Вити стараюсь…
— И молодец, что стараешься! И дальше так старайся! А как ты хотела? Свое хорошее гнездо свить — дело не легкое. Это работа, тяжелая работа, Наденька. Раз повезло тебе с мужем, надо крепко за это везение ухватиться, держать его при себе обеими руками.
— Да я держу, мама, держу…
— Ну и ладно. Ну и молодец.
— Мам, а где мой велосипед? — вдруг неожиданно для самой себя спросила Надежда. Спросила и испугалась. Господи, чего это она? И не хотела вовсе… Как-то он сам собой из нее выскочил, вопрос этот…
— Велосипед?! — удивленно уставилась на нее мама. — А зачем тебе? Почему ты спросила?
— Не знаю, так просто…
— Так выбросила я его, доченька. Чего ему зря стоять, железу этому. Только место в прихожей занимал. А что, нельзя было? Так вроде ни к чему он тебе сейчас… Ты женщина замужняя, серьезная. Да и Вите не нравилось это твое увлечение, насколько я помню.
— Да, мам, ни к чему. Все правильно. Извини. Это я так просто спросила.
— Ладно, пошла я, доченька. Витя будет звонить из командировки — привет ему передавай. А в квартире прибери! Я там посуду помыла, а дальше уж ты сама…
Проводив мать, Надежда без сил плюхнулась на диван, отвалилась на подушки, закрыла глаза рукой. Ну что у нее за жизнь такая, как на сцене? Надо все время играть, доказывать свои таланты и способности по построению семейного гнезда, соответствовать требованиям, истязая себя голодовкой, врать маме… Господи, ну она же не была такой прежде! Она жила сама с собой в ладу, и никаких обязанностей по «построению» и «соответствию требованиям» у нее не было. А теперь от них никуда не денешься. Надо ждать мужа, надо предъявлять его самой себе, маме и остальной общественности…
Некстати вдруг вспомнилось лицо того парня, Саши. Каким оно было удивленным и растерянным там, в машине… Он ей свою визитку протягивал, а она бросилась бежать сломя голову, увидев открытые окна своей квартиры. Подумал, наверное, — сумасшедшая. Ни визитки не взяла, ни попрощалась по-человечески… Хотя чего это она о нем вспомнила? Ну, не попрощалась, и что? И визитка его ей ни к чему. И работу она себе без его помощи найдет. Не дура и не уродка, слава богу. А все равно будто досада какая внутри царапнула. Тревожная и немножко грустная, как в той песенке — как же там… А, вот! «… Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти…»
Она резко оторвала спину от подушки, села прямо, встряхнула головой. Только этого ей сейчас не хватало — чужих мужиков вспоминать! Ей Витю ждать надо, в квартире прибирать да ужин готовить. Гнездо, в общем, поддерживать в прежнем порядке, не смотря ни на что. А ей лица всякие видятся да песни поются. Ерунда, чушь собачья. Сейчас она встанет, хозяйством займется, разложит все по полочкам, как когда-то психолог один умный советовал. Если, говорил, на душе вашей сумятица, начинайте, говорил, в доме все аккуратненько по полочкам раскладывать. А потом и сами не заметите, как и в душе все в порядок выстроится. Образуется, в общем.
Вставать с дивана вообще-то не хотелось. Пришлось заставить себя это сделать чуть ли не силой. Чуть ли не за волосы пришлось с дивана себя тащить, как барону Мюнхгаузену. Стянула, конечно, а что толку? В следующую же минуту все начало валиться из рук, и глаза не то видели, и голова сразу разболелась. Вон Витин пуловер толстой вязки небрежно брошен на спинку кресла — забыл он его, что ли? Или просто в чемодан не вошел? А вон его белый носок в углу валяется. Выпал из законной пары, наверное, как и сам его хозяин. Да еще и ваза цветочная попалась под руку, на пол полетела. Хорошо, не разбилась. А может, и плохо. Счастья не будет. И вообще, ну ее, эту уборку… Все равно в душе никакого покоя не образуется, а наоборот, растет и растет собой недовольство. Вот что-то не так она сейчас делает, все равно не так… Раньше даже уборка была в охотку — включала музыку развеселую на полную мощность и носилась по квартире с ведром да тряпочкой, кренделя ногами выписывая, да еще и подпевала во все горло… Может, потому, что цель хорошая была — семью построить? Или мужу хотела показать, какая она прыткая да хозяйственная женушка — все в руках горит? Вот и показала на свою голову. Так показала, что он совсем ушел. Гад такой. Вот не будет она уют наводить — пропади оно все пропадом! Раз гнезда не состоялось, и так сойдет. И вообще, ей холодно, плохо и одиноко, и поговорить с кем-то хочется, и поплакать в жилетку…
Схватив ключи с гордо висящей в прихожей лосиной рогатины, Надежда быстро спустилась на первый этаж, позвонила в Веткину дверь.
— У тебя коньяк есть? — огорошила она подругу вопросом, проходя на кухню и на ходу подхватывая из ее рук Машеньку.
— Ни фига себе… Ты — и выпивку требуешь?! А что случилось такое, интересно? Небеса на землю упали? Или наоборот, мы все сейчас на небо взлетим? Может, я не в курсе дел каких? Телевизор с утра не включала…
— Да ладно тебе, Ветка. Не видишь, психоз у меня? Прямо трясет всю… Или депрессия, может?
— Тогда отдай ребенка обратно. И скажи, отчего психуешь и депрессируешь. Обидно, что Витя слинял?
— Ну да, наверное… Только, знаешь, мой психоз как будто бы шире и глубже, чем просто обида на Витю. Объемнее как-то. Будто я шла-шла куда-то и вдруг об глухую стену лбом шарахнулась… Что это со мной, Ветка?
— Ой, да ничего особенного. С жиру, наверное, бесишься. Молодая, здоровая, красивая, никакими долгами ни перед кем не обремененная…
— А меня сегодня с работы уволили…
— Ну и что? Другую найдешь. Еще лучше. За что, кстати, уволили-то?
— Да я к дознавателю ходила, по делам того парня, помнишь? У них там чепуха какая-то с доказательствами получается, вот и пришлось идти, все сначала рассказывать. И про Сашу, и про скалку.
— Про какого Сашу?
— Ну, так этого парня зовут…
— А ты с ним и поближе познакомиться успела?
— Ага. И с ним, и с другом его. Только не понравился он мне, Ветка, друг этот. Темнит чего-то. И на меня вдруг так вызверился, будто я Сашу той ночью не спасала, а наоборот, на погибель черную толкала… Странно даже. Да и вообще… Я не поняла толком, конечно, что у них там произошло… Что-то семейное, они все про деньги какие-то поминали… Одно только поняла — кто-то этого парня, Сашу, сильно подставить хотел с убийством этим. По полной программе. И не получилось. Из-за меня и не получилось.
— Ну и что? Не получилось, и слава богу.
— Да ты не понимаешь, Ветка… Самое обидное знаешь что? Они ведь теперь так и не найдут настоящего убийцу! Зачем им рыться в этом деле? Подумаешь, старый дед…
Спишут на наркоманов, или еще чего придумают… По крайней мере, мне так показалось.
— А тебе, я так понимаю, сильно охота в нем порыться?
— Да черт его знает! Просто… Просто интересно стало, и все…
— Ну вот! А говоришь — психоз да депрессия! И ничего подобного вовсе в тебе и нету, Надька! Раз интерес какой-никакой есть, то депрессии, значит, нету! Вот и отвлекись на свой этот интерес. Даша Васильева ты наша вместе с Виолой Таракановой… Как и они же, с жиру бесишься…
— Что, предлагаешь частным сыском заняться?
— А что, и займись. По крайней мере, от проблем своих отвлечешься. Ладно, иди домой, сыщица ты моя психованная. Мне пора свой детский сад спать укладывать. Иди, а то они с тобой не уснут. А потом мне еще и работать полночи. Эх, мне бы твои заботы, Марь Иванна…
«И впрямь что ли Дашей Васильевой заделаться?» — грустно подумала Надежда, медленно поднимаясь по ступенькам. Только зачем ей все это надо — вот вопрос. Ну, узнает она в конце концов, кто подставил этого Сашу под убойную статью — дальше-то что? Кто он ей, этот Саша? Сват, брат? Да у нее даже и телефона его нет, визитку-то она не взяла… Хотя телефон — не проблема. Завтра можно пойти к этому Питу и узнать. Вот хорошо было этой книжной Даше Васильевой — у нее забот никаких не было! Жила себе в особняке, развлекалась помаленьку чужими страстями-преступлениями, выводила всех на чистую воду… А ей, Надежде, вообще-то на работу новую устраиваться надо. У нее особняков нету и средств к существованию тоже особенных нету. Так, по мелочи только, чтоб совсем не оголодать. Но сразу работу искать — это так скучно… Да и настроение не то. Да и психоз с депрессией должны пройти, иначе и не устроишься. К работодателю на собеседование надо приходить с веселым глазом, будто бы ты вся такая из себя задорная и жаждой деятельности сильно пылающая. Так что недельку-другую она себе позволить вполне может, что-то навроде отпуска. Заодно и с состоянием своим разберется. А может, и Витя уже вернется, и не надо будет ни с чем уже разбираться, и все пойдет своим чередом…
Открыв в дверь, она вошла в квартиру, остановилась у темного окна. Задумалась. Да-да, именно все пойдет своим чередом, как и раньше. Веточка к веточке, палочка к палочке, и идет себе строительство… Простая теорема. Аксиома даже. Трезвая и адекватная. Она будет так же готовить вкусные обеды и ужины, наводить в доме порядок, ждать Витю с работы, прыгать вокруг него в коротком халатике, будет считать калории и бороться с «поясом шахидки» на талии, чтоб не смотрел он на это безобразие с насмешливым отвращением, переносить которое бывает больно до невозможности, потом так же старательно будет бороться с морщинами, потом со старостью… И это называется — вить гнездо?! Господи, какая тоска! Откуда она вдруг взялась, эта тоска? Она что, разлюбила Витю? Господи, а был ли вообще мальчик-то? Может, мальчика-то никакого и не было, а? И любви никакой не было? И гнезда не было?
Передернув плечами, она отошла от окна, уселась в кресле в излюбленной своей позе — подогнув под себя ноги. Витя всегда ее ругал, когда она так садилась. Говорил, не женственно. Ну и пусть. Нашарив под собой пульт, она включила телевизор. Экран тут же вспыхнул, явив ей интеллигентное умное лицо исполнителя хороших и добрых песенок, и в комнату потоком хлынула легкая и нежная мелодия, и вот уже и слова до боли знакомые льются ритмично мелодии вслед — «… если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти…»
Она и сама не заметила, как начала подпевать тихонько. Только думалось ей в этот момент уже вовсе не о Вите…
* * *
Пит смотрел на нее удивленно и очень недоброжелательно. Можно даже сказать, злобно смотрел. А еще говорят, что все полные люди — добрые по натуре… Может, наоборот? Действительно, с чего это им добрыми быть? Все ходят кругом красивые-стройные, глаз радуют, а на полноту этот чужой глаз посматривает лишь снисходительно — ничего, мол, и такое в природе случается. Очень уж обидной бывает такая снисходительность. Она и сама ой как от нее убегает, истязая бедное тело голодовками…
— А зачем вам его телефон вдруг понадобился? — глядя на нее снизу вверх, быстро спросил Пит и торопливо поднялся на несколько ступенек крыльца своего ремонтно-обувного заведения. Надежда томилась у этого крыльца в ожидании Пита уже добрых сорок минут и очень обрадовалась, завидев в толпе спешащих и опаздывающих на свои рабочие места людей знакомого мужчину-колобка. Очень уж он выделялся из толпы. Невыгодно, конечно, выделялся. Ей даже подумалось невежливо, что вот если взять и обрядить его в женское платьице, то настоящая тетка из него может получиться. Даже волосы вон пыльным нимбом вокруг головы торчат, как после шестимесячной химической завивки. И животик складочкой, и росточек — полтора метра, не больше… Жалкое, в общем, зрелище. Потому она и позволила ему довольно охотно встать на три ступеньки повыше, чтоб смог хотя бы смотреть на нее сверху вниз. Может, подобреет на капельку.
— Пит, мне очень нужен Сашин телефон. Вы не подумайте ничего такого… Просто по делу нужен.
— А по какому такому делу? Не понимаю… Все, что могли, вы уже для него сделали. Да и вообще, не уполномочен я его телефоны женщинам раздавать…
— Да я же не в том смысле! Просто… Просто мне очень нужно, и все…
— Вы вот что… как вас там? Надежда? Вы вот что, Надежда. Вы особо на внимание к себе Сашки не рассчитывайте, понятно? Вы, наверное, просто услышали вчера, что он с женой поссорился, что ушел от нее, и все такое… Так вот, ерунда это все. Учтите, шансов у вас нет. Ноль у вас шансов! Сегодня поссорился, завтра помирится. От таких женщин, как Алиса, мужики не сбегают. Вернется, как миленький. Так что зря вы так засуетились, поверьте мне. Вас и рядом с Алисой поставить нельзя. Проигрываете. От вас же обыкновенностью за три версты несет. Зря вы на Сашку глаз положили. Не ваш это объект. Да и не отдаст его Алиса никому, это и не обсуждается.
— А он что, вещь, чтоб его отдавать или при себе оставлять? И вообще, почему вы со мной в таком тоне говорите, Пит? Я что, повод дала?
— Конечно, дали. Стоите тут, телефончик выпрашиваете… А почему Сашка сам вам его не дал, а? Вы над этим не задумывались?
— О господи… Да я не взяла просто! Так получилось, что не взяла! Я еще вчера думала, что мне он не нужен…
— А сегодня с утра, значит, передумали?
— Значит, передумала! Давайте телефон! Вы что думаете, я без вас его узнать не смогу, что ли? Просто в милицию еще раз идти не хочется. Там опять пристанут, как да что…
— Ладно. Записывайте. — Вдруг быстро согласился Пит, плеснув в нее острой ненавистью из маленьких глаз, глубоко запрятанных в пухлые розовые щечки. — Вам какой? Сотовый, рабочий, домашний?
— Мне и тот, и другой, и третий, — спокойно проговорила Надежда, доставая из сумки свой мобильник. И добавила голосом пьяного Шурика, слегка куражась: — И помедленнее, пожалуйста, я записываю…
Пит шутки ее не оценил. Продиктовав на память все Сашины телефонные координаты, развернулся и покатился прочь, по-женски и почти неприлично виляя задом. Не нарочно, конечно. Видно, походка у него была такая. Надежда вздохнула ему вслед, покачала головой жалостливо. Да уж, трудная работа у частных сыщиц. Обхамить каждый вот так запросто может. Бедная Даша Васильева. Хоть и придуманная вся насквозь, а все равно бедная…
Сашино «да, слушаю» прозвучало в трубке очень уж сухо, по-деловому совсем. Она даже растерялась в начале — может, и правда зря она все это затеяла?
— Саша, это Надежда. Здравствуйте…
— Надежда?! Как хорошо, что вы позвонили! Слушайте, я вас вчера ничем не обидел? Вы так умчались быстро…
— Нет-нет, ничем не обидели. Я торопилась просто.
— Ну, слава богу… А то я уже сам себя боюсь, когда о вас думаю.
— А вы обо мне думаете?
— Ну конечно! Я ж перед вами в таком долгу… А вы даже возможности его отдать мне не предоставили, теперь вот мучаюсь чувством собственной неполноценности. Хорошо, что вы позвонили, Надежда! Я готов выполнить любую вашу просьбу, какой бы она не была!
— Ого! Прям золотая рыбка… Что, и в самом деле любую?
— Ну, в пределах моих возможностей, конечно…
— Саша, я хочу с вами пообедать сегодня.
— Как это — пообедать? И все? Я думал, вам насеет работы помочь надо…
— Ну вот и поговорим обо все за обедом! И о моем трудоустройстве тоже. Идет?
— Да, конечно же… А где вы хотите пообедать?
— Знаете кафе около цирка? Круглое такое?
— Знаю.
— Сегодня, в два часа. Вас устроит?
— Вполне. Спасибо вам, Надежда.
— Да за что?
— За этот звонок. Кстати, а откуда…
— А я как раз утром мимо заведения вашего друга шла. Дай, думаю, зайду, возьму ваш телефон на всякий случай…
— Ну да, ну да. Очень хорошо, Надежда. Очень рад. До встречи.
У-ф-ф…. Трудно же ей дался этот телефонный разговор, в самом деле! Сроду она ни к кому на обед не напрашивалась. Воспитана была мамой так. В тех еще традициях, когда порядочные девушки ни при каких условиях сами себя никому не навязывают. Как говаривала мама — не нужно нам этого современного нахальства, дочка, хорошую невесту и на печи найдут. Вот Витя же, мол, тебя нашел…
Домой идти уже не хотелось. Что она будет там делать? Ноги сами понесли ее в салон-парикмахерскую. И вовсе не для того, чтоб хорошо перед этим Сашей выглядеть, как она сама себя старательно убеждала по дороге, а для того только, чтоб время скоротать. Да и вообще, обязанности прилично выглядеть никто для нее еще не отменял. А с парнем этим ей деловой разговор предстоит. Она же сейчас не просто Надежда, она сейчас Даша Васильева практически. Она так от своих семейных проблем отвлекается. Имеет право, в конце концов!
В кафе она заявилась почти красавицей. И пусть у нее ноль шансов по сравнению с неизвестной ей Алисой, она тоже ничего себе девушка. Хотя если не брать в расчет наращенные белые локоны, косметику, зверское истязание-похудание… Все, лучше не думать об этом. На сегодня она объявляет себя красавицей, и все тут. А вон и кавалер ее, на обед приглашенный, уже сидит за столиком в углу, улыбается приветливо, рукой машет… И вскочил со стула так резво и с удовольствием, чтоб ее усадить по всем правилам этикета…
— Вы уже здесь бывали, Надежда? — задумчиво изучая меню, спросил Саша. — Посоветуйте, что заказать?
— Здесь свиные отбивные очень вкусные, — так же задумчиво ответила она ему, стараясь незаметно потрогать себя за талию. Черт, так и есть! Вылезшая складка на талии, та самая, совершенно нагло уперлась в ладонь, напоминая о том, что уж кому-кому, а ей про свиные отбивные даже и вспоминать не надо, а не то что в пищу употреблять. А ведь хочется! Внутри организма такое острое чувство голода разлилось, пока она его, свой этот вредный организм, в салоне снаружи ублажала! Все ему мало. Получив хорошее снаружи, он требовал такого же и вовнутрь. И немедленно. И слышать не хотел, что одно другому очень даже противоречит. Если внутри будет вкусно и хорошо, то снаружи опять же будет совсем нехорошо…
— Ну, отбивные так отбивные! — легко согласился Саша. — А пить что-нибудь будете? Мне-то нельзя, я за рулем.
— А я вообще не пью.
— Ой, простите, я ж забыл совсем…
Они сделали заказ подошедшей вежливой девушке-официантке. Надежда таки не смогла отказать себе и попросила принести ей проклятую отбивную, дав себе клятву просидеть потом на капусте три дня подряд. И не пожалела. Отбивные принесли — просто песня какая-то! Такие, какие она любит — чтоб с жирком чуть-чуть. Даже глаза прикрыла от удовольствия, пережевывая первый кусочек.
— А вы гурманка, наверное? — весело спросил Саша, глядя на нее.
— Ага. Она самая и есть. Нахожусь в вечном противоречии между потребностью в худобе-стройности и желанием хорошо покушать. Они у меня в состоянии постоянной войны находятся.
— И кто обычно побеждает?
— А с переменным успехом. То одно, то другое.
— А зачем?
— Что — зачем?
— Ну, война вам эта зачем? Так сильна потребность в худобе-стройности?
— Да нет, в общем… Я раньше вообще полной девушкой была, и меня это нисколько не напрягало… Жила и жила, себя не истязая, человеком себя чувствовала…
— А потом что случилось?
— А потом пора пришла в люди выходить! Замуж то есть. А вашему же глазу мужицкому только худобу-стройность подавай, на остальное он глядеть не желает, подлым образом отворачивается…
— Да ну, чушь какая!
— И ничего не чушь! Вы вот сами, положа руку на сердце, скажите — ведь никогда бы внимания не обратили на полноватую девушку?
— Не знаю, — пожал плечами Саша, — как-то не думал об этом…
— Да потому и не думали, что и впрямь внимания не обращали. Зачем? Глаз ведь только на красивом останавливается. На привлекательном, худом, стройном. Ваша Алиса наверняка такая?
— Да, она очень такая… привлекательная. Очень необычная. Не как все. Это вы правильно сказали. Такая привлекательная, что смотришь на нее и ни о чем другом уже и не думаешь. Топаешь за ней след в след, и все. И ни шагу в сторону. Потому что вроде как и причин нет особых в сторону прыгать. И красавица, и умница, и жена замечательная, и все для тебя, и все в дом, в дом…
— Ну так все правильно! Она гнездо свое вьет! Как все женщины! Потому что так надо, так природой положено. И я вот также пыталась… Тоже изо всех сил старалась быть и умницей, и красавицей, и чтоб все в дом. А от меня муж ушел. Почему? Чего вам еще надо-то?
— Да ничего! Провались оно, это ваше гнездо, знаете куда? — вдруг поднял Саша на нее сердитые потемневшие глаза. — Не надо мне такого семейного счастья! Если оно делает человека не любящим, а таким, таким…
— Каким?
— Изысканно-меркантильным, вот каким!
— Ой, боже мой, какие мы нежные! А что в том плохого, когда человек для семьи старается? Да пусть он при этом хоть каким будет! Семья — это вам не просто любовь-морковь, это все намного сложнее. Тут уже не про любовь, тут про терпимость говорить надо. А как вы хотели? Это ж работа, это тяжкий труд во благо…
— А не хочу тяжкого труда во благо. Какой в этом смысл? Зачем жить рядом с человеком, у которого вместо души — хитрая шкатулка для складирования накопленного? Конечно, вроде и ты ничем не обижен, и тебе выдается из этой шкатулки все, что полагается, по полному списку жизненных удовольствий. И сам ты в этой шкатулке вместе с потрохами сидишь. И снаружи тоже все красиво — и шкатулка, и ее хозяйка… А только нельзя прожить всю жизнь, будучи чужой собственностью. С поводком на шее. Нельзя, чтоб тобой просто пользовались. Хотя и можно, наверное… Только я не могу.
— Это вы сейчас о жене своей так говорите?
— Да. О жене. Теперь уже о бывшей. Ушел я. И давайте обойдемся дальше без комментариев. И так лишку разговорились. О бывших женах вообще нельзя говорить плохо. О них лучше или хорошо, или никак.
— Как о покойниках, что ли? Ну, вы даете… И вообще, что в такой шкатулке плохого? Просто в семье должен быть кто-то лидером… Наверное, по этому принципу нормальная семья и складывается? Кто-то из пары должен посадить себя добровольно в чью-то шкатулку? Я вот себя добровольно посадила. И не моя вина, что так все вышло.
— Нет, Надежда. Наверное, это не семья, это уже другое что-то. Я и сам еще не разобрался. Одно только понял: привлекательность сама по себе — штука очень опасная. В чем бы она ни выражалась. Хоть в красоте, хоть в другом каком качестве…
— … Или в мужской трезвости, например… А что? Тоже привлекательное качество… — задумчиво произнесла Надежда, тихо его перебив, отчего он посмотрел на нее удивленно и замолчал. Потом, будто спохватившись, заговорил снова:
— Ну да. Ну да. Может быть. Вполне может быть. Так вот, что я хотел сказать… За этой вот привлекательностью порой идешь и сам себя теряешь. Одному только глазу, который все падает и падает на что-то, доверять совсем нельзя. В любом случае надо самим собой оставаться. Только тогда имеет смысл мужчине и женщине вместе жить.
— А… Эта ваша Алиса… Она как вообще к вашему решению отнеслась? Ну, что вы уйти от нее решили?
— Да плохо отнеслась. Она вообще терять своего не любит. Вернее, не умеет. Для нее потеря чего-то ей одной принадлежащего — смерти подобна. Или хотя бы потенциально принадлежащего…
— Господи, как вы странно говорите — потенциально принадлежащего!
— Да ничего странного тут нет. Знаете, мы после свадьбы у деда ее поселились. У него квартира очень хорошая, а дед уже сильно старенький был. Но шустрый еще. Он вообще человеком необыкновенным был, хотя его все просто чокнутым маразматиком считали. А на самом деле он очень умный … Так вот, Алиса его квартиру как бы своей уже считала. Умрет, мол, дед, а наследство она как единственная внучка примет. А дед взял и выгнал нас. Вернее, он Алису выгнал, ко мне он хорошо относился. И обещал квартиру государству завещать.
— А за что он ее так?
— Да были причины, в общем.
— Какие?
— Серьезные. Я бы тоже за это на его месте выгнал.
— Ну все-таки, какие?
Саша вдруг положил с деликатным стуком вилку и нож на тарелку, молча и вопросительно уставился на Надежду. Потом тихо произнес:
— Какой-то странный у нас с вами разговор получается… У меня такое чувство, будто я у следователя сижу. Или у настырного психолога.
— Да бросьте! Просто я очень любопытная, обожаю всяческие человеческие истории. И что дальше было? Что предприняла ваша Алиса, чтоб сохранить потенциальную собственность? Или как вы там говорите — потенциально ей принадлежащее?
— Да ничего не предприняла. Заболела просто. Нервный срыв у нее был, мне Пит рассказывал.
— Хм… Конечно, будет тут срыв… Сразу и мужа, и жилье потерять… И срыв, и гнев будет, и желание отомстить… А Пит этот ваш — он ничего не мог предпринять? Ну, по просьбе Алисы? Мне кажется, он очень злится на вас за что-то.
— Да нет, тут другое. Он не на меня злится, ему просто за Алису обидно. Он с первого класса ее любит. Вот он-то как раз с удовольствием сидит в этой ее шкатулке. Он умеет. Ему нравится. Такая вот в его лице верная и преданная человеческая собственность для Алисы получилась. Руку протяни — и она тут как тут, всегда с тобой, как кошелек или ключи от квартиры…
— Любит, говорите? — задумчиво произнесла Надежда, прокручивая в пальцах нож и вилку. — Значит, и у него мотив был…
— Это вы о чем сейчас, Надежда? Какой мотив? — снова удивленно уставился на нее Саша. — Вы какая-то вообще другая сегодня. Абсолютно загадочная. У меня даже сомнение закралось — вы ли та самая девушка со скалкой, давшая мне спасительное алиби?
— Да я это, я, та самая…
— Так мы вроде другие вопросы обсудить хотели? Вопросы вашего трудоустройства, например…
— А, ну да. Конечно. Давайте обсудим, конечно!
— Ну вот, это уже деловой разговор… Я тут справки навел, уже кое-что выведал по этой проблеме. Подсуетился немного, уж извините. На мой фирме, например, собираются принимать юриста, но не раньше июля. На фирме моей матери тоже юрист требуется, но там место уже практически занято. А еще один мой приятель хоть сейчас вас возьмет, но у него вакансия временная, декретная. А завтра я еще пару звонков сделаю, думаю, найдем обязательно что-нибудь подходящее. В крайнем случае, продержитесь до июля, тогда будем вместе работать. Как вам такой вариант?
— Спасибо, Саша. Огромное вам спасибо. Я подумаю. А вот вы мне скажите — дед успел свою квартиру государству завещать, или она все-таки Алисе досталась?
— О господи, Надежда… Далась вам эта дедова квартира, ей богу! Зачем вам это знать? Даже мне по большому счету это уже не интересно. А вы… Смешная вы какая, честное слово…
— Ага, смешная. Просто обхохотаться можно. Ну, я думаю, вам пора? Задержала я вас с обедом?
— Да нет. Мне хорошо с вами пообедалось. Очень даже. Вас домой отвезти? Или куда?
— Домой.
— Ну что ж, тогда вперед, Надежда!
Он быстро расплатился по счету, дав, как она успела заметить, очень приличные чаевые, улыбнулся широко и благодарно девушке-официантке, плеснул и в нее короткой, но щедрой порцией мужского обаяния. Девушка тут же и растеклась вся маслом и медом и посмотрела на Надежду с нескрываемой завистью. Подумала, наверное — где ж она, самая что ни на есть обыкновенная и ничем особым не примечательная, такого красивого парня себе отхватила? И Надежда, впрочем, встретила ее удивленно-завистливый взгляд вполне достойно — а вот места надо знать, дорогая девушка! Надо скалки на кухнях держать подходящие да и выпрыгивать с ними к дверям вовремя, если вдруг муж законный где загулять изволит…
* * *
Ветка позвонила ей на мобильник, когда Сашина машина уже выруливала с дороги во двор, бубнила в трубку что-то очень невразумительное и тоскливое.
— Ой, я ничего не понимаю, Ветка! Что случилось? — закричала Надежда в трубку, заражаясь ее отчаянием. — Или подожди, не объясняй ничего! Я уже у дома практически, сейчас прибегу…
— Что такое? Случилось что-то? — встревожено повернулся к ней Саша. — Кто вам звонил?
— Да это Ветка! Ну, та, с первого этажа, которая тоже вас тогда видела.
— А что у нее?
— Да не поняла я! Что-то про кран трещит, про воду, потом про пуговицы какие-то… И еще плачет, по-моему…
— Ладно, сейчас разберемся. Пойдемте быстрее!
Он первым выскочил из машины и помчался в сторону ее подъезда, Надежда едва поспевала за ним на высоких каблуках. Еще и узкую юбку надеть утром ее угораздило, как назло. Однако около подъездной двери она его нагнала, торопливо нажала пальцем на кодовые кнопки, юркнула в подъезд первая. Веткина дверь была открыта нараспашку, и троица, застывшая в проеме двери, будто сама просилась на холст к какому-нибудь сентиментально-жалостливому художнику. Хорошая бы получилась картина, трогательная. Что-то вроде «юной мадонны с детьми перед лицом стихийного бедствия». У Надежды сразу сердце зашлось жалостью — такой она подругу свою еще не видела. Веткины глаза на бескровном лице смотрели, не мигая, в одну точку, куда-то поверх их голов, и будто застыли навсегда бледно-голубыми стеклышками в тихом и смиренном отчаянии, мокрые прядки волос прилипли ко лбу и вискам, по щекам с них стекала вода тихими каплями. А может, это были Веткины слезы. Одной рукой она крепко держала перепуганную Машеньку, и без того намертво обхватившую Веткину тонкую шейку пухлыми ручками, другой рукой прижимала к бедру Артемкину светлую головку. Хотя, если посмотреть снизу, на мадонну Ветка совсем не тянула, потому как стояла в трусах и в короткой, до пупа, майке. Не положено мадоннам так стоять, откровенно выставляя напоказ худые и бледные, да еще и самую малость кривоватые ноги. Хоть они и воде находятся по самую щиколотку — все равно не положено…
— Веточка, что случилось? — бросилась забирать у нее из рук Машеньку Надежда. — Почему ты мокрая вся?
— Там… Там кран сорвало… Я стирала, и вдруг оно как брызнет. А потом Артемка прибежал, сказал, что Машенька пуговицу проглотила… И его струей прямо на пол… И Машенька плакала, и вода бежит… — тоненьким, почти на одной ноте прозвучавшим вялым голоском откликнулась Ветка. Потом перевела свой застывший взгляд на Надежду, добавила жалобно, на той же тоненькой ноте: — Надь, я больше так не могу…
— Так, погоди! Чего ты не можешь?
— Жить… — пропищала Ветка и скуксилась совсем уж окончательно, поехала скорбно вниз уголками глаз и вмиг задрожавших губ.
— Стой! Подожди, не реви пока! Ты в ЖЭК звонила? Слесаря вызывала? Артемка, пуговица большая была, которую Машенька проглотила? А в скорую звонили? Машенька, где больно? — засыпала Надежда всю несчастную троицу вопросами.
— Да везде звонили, только все равно нету никого, теть Надь! — ответил за всех Артемка, отлепляясь от материнского худого бока. — И соседей никого дома нету, только баба Зоя из шестнадцатой квартиры. А она нам дверь не открыла. А вода там льется прямо на пол, мама кран тряпочкой завязала…
Надежда и не заметила, когда Саша успел прошмыгнуть в квартиру мимо нее, и очень удивилась, когда он вдруг вынырнул из-за Веткиной спины, смешно шлепая по воде прямо в ботинках. Рукава его дорогого пиджака были уже по локоть мокрыми, галстук съехал в сторону, волосы растрепались влажно и красиво, упали тяжелой блестящей челкой на глаза, и он отбросил их назад небрежным быстрым жестом.
— Хозяйка, где инструменты у вас лежат? — деловито обратился он к Ветке, и она развернулась к нему медленно, уставилась в лицо своими застывшими глазами-стеклышками очень удивленно.
— Инструменты… — протянула она по слогам и задумалась, постепенно возвращая приготовившееся плакать лицо в прежнее застывшее состояние. — Да, там, кажется, были какие-то инструменты…
— Где — там? Покажите! — резко встряхнул ее за худое плечо Саша.
— Там, на антресолях… Ящик такой большой, деревянный…
— А антресоли где?
— На кухне…
Саша развернулся, быстро зашлепал в сторону кухни, высоко и смешно, как журавль, поднимая длинные ноги, загрохотал по пути чем-то, полетевшим на пол и вдребезги разбившимся.
— Надя, не пускай сюда детей! Я тут чего-то стеклянное разбил! И вообще, увела бы ты их к себе пока…
— Саш, а ты справишься? — рванула к нему на кухню Надя, сунув Машеньку обратно Ветке на руки. Вода тут же проникла ей в туфли, и ноги сами по себе стали подниматься так же, как Сашины, по-журавлиному. На кухне Саша, стоя на шатком кухонном стульчике, уже стягивал с антресолей деревянный ящик с ручкой и пытался заглянуть в его нутро. Обернувшись к ней, проговорил еще раз сердито:
— Иди к себе, чего ты сюда пришлепала? Я сам разберусь! И детей в горячую ванну вместе с подружкой своей быстро запихни, иначе простудятся! Вода-то ледяная!
Надежда и впрямь уже успела прочувствовать, что вода ледяная. Смешно задрав юбку выше колен, почти до самых бедер, широко прошагала в прихожую, забрала Машеньку на руки, вытолкнула в подъезд Ветку с Артемкой, прихватив заодно и какую-то оставшуюся сухой обувку, чудом примостившуюся на верхней полочке в прихожей. Они быстро поднялись на третий этаж, и Надежда сразу пробежала в ванную, открутила краны с горячей и холодной водой до отказа. Машенька послушно замерла у нее подмышкой, таращилась испуганно. Потом вздрогнула, услышав истошный материнский, донесшийся к ним в ванную крик и заплакала, вцепившись в ее руку маленькими пальчиками. Опрометью бросившись на этот крик, Надежда наткнулась с разбегу на свою подругу и отскочила, проворчала сердито:
— Чего ты орешь, как потерпевшая? Что еще случилось?
Ветка стояла в прихожей маленьким столбиком, горестно опустив руки плеточками, удивленно рассматривала свои худосочные бледные ноги в большом зеркале.
— Надька, я что, в трусах была? Ты почему мне не сказала, что я в трусах?!
— Да тебе, дорогая, кол на голове можно было вытесать, когда мы пришли, ты бы не заметила даже. Подумаешь — в трусах она. И что? Хорошенькие такие трусики, розовенькие…
— Ой, как неловко… А холодно-то как! — проговорила она, отворачиваясь от зеркала и страшно клацанув зубами.
— Сейчас горячая вода наберется, согреешься. Я пойду чайник поставлю. А ты иди, запихивай Артемку в ванную. И сама ныряй туда тоже. Грейтесь быстрее. Вдруг Саша по всему стояку воду перекроет?
— Ой, как неловко, ой, как холодно… — продолжая скулить на ходу, побрела в ванную Ветка. — Ну почему, почему все так? Почему я такая несчастная, Надь? Почему именно у меня кран сорвало, а не у тебя, например….
— Не каркай! — уже в спину сердито проговорила ей Надежда.
Включив на кухне чайник, она затолкала за компанию в горячую ванну к матери с Артемкой и Машеньку, уселась на бортик, плеснула в воду пены побольше и обратилась ко всему плавающему семейству тоном строгой воспитательницы:
— Так. Теперь с Машкиной пуговицей разберемся. Что там за история, рассказывайте…
— Ой! Я забыла! Я же забыла про пуговицу! — рванулась было наверх из воды Ветка, но была отправлена обратно сильной Надиной рукой. — Надо же скорую еще раз вызвать!
— А что это — скорую? — заинтересованно переспросил Артемка, глядя на Надежду ясными хитрыми глазками. Щечки его быстро порозовели, ручки ловко сгребали к себе пену и шлепали потом по белой шапке с удовольствием, направляя белые хлопья во все стороны.
— А это тети-врачи должны на машинке подъехать и посмотреть Машеньке вовнутрь, и все. Их не надо вовсе бояться. Они очень добрые. Вот мы их сейчас вызовем, и Машенька не будет их бояться. Правда, Машенька?
— Нет, они не добрые, тетя Надя! Я знаю! Я когда болел, мне мама их вызывала! Они больно в горло ложкой лезут и уколы ставят!
— Тише, Артемка! Не сочиняй! — шикнула на него Надя. — Скажи лучше, какая пуговица была? Большая или маленькая?
— Не знаю… — хитро пожал плечами Артемка.
— То есть как не знаешь? Ты же видел! Ты прибежал в ванную и сказал, что Машенька пуговицу проглотила… — озабоченно проговорила Ветка. В отличие от сына она все никак не могла согреться, сидела и тряслась, обхватив под водой коленки худыми руками.
— Ага! Конечно, прибежал! Сама стирает и стирает свое белье, а меня с Машкой водиться заставила! Я рисовать сел, а она лезет ко мне со своими игрушками…
— Артемка, так ты наврал, что ли? — тихо и вкрадчиво спросила Надежда. — Скажи честно — наврал? Тебе надоело водиться с Машенькой, и ты сочинил про пуговицу…
— Ну почему сразу наврал! Врать нехорошо! Ну… Просто… Ведь она и по-всамделишному могла ее проглотить? Так ведь?
— Ах ты засранец маленький! — легонько дала мальчишке подзатыльник Надежда. — Ты же мать свою перепугал вусмерть! Надо было сразу сказать, что ты пошутил…
— Надя, не надо его стыдить! Ты что? Пристыживание детей — самое последнее дело в воспитании! От него потом все комплексы личностные произрастают! — строго проговорила вдруг Ветка, вытянув гордо шейку из воды. — Я сама виновата, и правда стирала долго…
— Ну, слава богу, жизнь налаживается, кажется… — весело рассмеялась Надежда, глядя на нее сверху вниз. — Раз про воспитание заговорила, жить будешь, значит…
— Господи, да куда я денусь-то… — тихо и грустно проговорила Ветка. — Конечно, жить буду, выхода-то у меня больше никакого нет…
— Правильно говоришь, подруга. Нету у тебя выхода. Ну ладно, вы тут грейтесь пока, ребятки, а я сбегаю вниз, посмотрю, что там у нас делается. Я быстро!
Она пулей слетела вниз, открыла дверь Веткиной квартиры и сходу ткнулась лбом в здоровенного мужика, одетого в синий сатиновый, явно не рассчитанный на его богатырскую фигуру кургузый пиджачишко. Он повернулся к ней небритым лицом, моргнул испуганно.
— Вы кто? — спросили они в следующий момент друг у друга дружным хором.
— Я слесарь… — первым опомнился мужик. — А вы хозяйка, да?
— Нет, я не хозяйка… — растерянно покрутила головой Надежда. — А скажите… А тут еще мужчина молодой был…
— Да здесь я, Надь! — послышался из ванной веселый Сашин голос. — Меня тут мужики на подхвате держат, скоро все сделаем! Как твоя подруга, отогрелась?
— Ага! — радостно прокричала ему Надежда. — Отогрелась!
— А с пуговицей что?
— А с пуговицей просто шутка, Артемкина кергуду такая! Никто ничего на самом деле не глотал, просто ложная информация!
— Ну, тогда слава богу… — выглянул он наконец из ванной. Надежда только ахнуть успела, взглянув на него коротко — дорогой изысканно-серый костюм смотрелся теперь на Саше нисколько не лучше синего сатинового пиджачка верзилы-слесаря, был перемазан то ли ржавчиной, то ли еще чем похуже. Черные грязные разводы на лбу и щеках делали его лицо изысканно-суровым, похожим на красивую мордаху грозного Рембо из старых добрых американских боевиков. Правда, в них Рембо так никогда не улыбался, будто выплескивал быстро и щедро в собеседника порцию неожиданной радости. А у этого — рот до ушей. Приятно, черт возьми. Раз — и плеснуло в тебя свеженькой радостью! Хорошо. Аж дух захватывает…
— Мы скоро закончим, Надь! — заверил ее Саша. — Ты иди пока, я поднимусь потом. Еще же воду собирать надо будет…
— Ага. Я сейчас поднимусь к себе, вытащу Ветку из ванной, переоденусь и снова приду. Надо еще ведро с собой прихватить и тазик. И тряпок всяких побольше. Тут же ужас что такое творится…
— Ничего, справимся! — снова улыбнулся он ей и исчез торопливо, откликнувшись на грубый нецензурно-бравый призыв второго, видимо, слесаря, не столь вежливого, как встретивший Надежду в дверях верзила. Потом он еще выговаривал Саше что-то трехэтажное и цветисто-заковыристое — она уж не стала слушать, выскочила пробкой за дверь. Терпеть не могла крепких выражений. Не из женской нежности, а с детства их не любила. Папины друзья так же вот заковыристо изощрялись, когда они с мамой пытались вытащить его из их разгульной компании…
А всего через полчаса, пыхтя от усердия и сталкиваясь время от времени поднятыми вверх попами, они уже собирали воду большими тряпками, на которые Надежда не пожалела двух довольно добротных еще простыней, и рассуждали с удовольствием о том, что слава богу — Ветка живет на первом этаже, а иначе без греха с соседями потом бы точно не обошлось. Заодно Надежда рассказала Саше и Веткину грустную историю. И про мужа-подлеца, и про отсутствие в ее жизни алиментов и всякой другой родственной помощи, и про ночное шитье дешевых нарядов…
— А она все равно молодец, твоя Ветка. Трудно, а держится. Маленький стойкий оловянный солдатик. Я в детстве, знаешь, очень любил такую сказку…
Они поднялись во весь рост одновременно, так же одновременно потянулись вытереть вспотевшие лбы ладонями, да спохватились вовремя — руки-то грязнее некуда… Лукаво улыбнувшись, Надежда проговорила весело:
— Слушай, Саш, а ты ничего странного не заметил?
— А что такое?
— Что, что… Мы с тобой на «ты» перешли, и сами не заметили, когда!
— Ну, было бы странно, знаешь, выкать женщине, которая задирает по самое ничего юбку и шлепает по щиколотку в воде! Да еще и на шпильках!
— Когда это я юбку задирала, интересно? — возмутилась искренне Надежда.
— Задирала, задирала! Я видел, когда с антресолей ящик с инструментами снимал!
— А ты! А ты! Ты на Ветку в трусах смотрел, вот!
— А она что, в трусах была, да? Хм, жалко, я не заметил…
Они хихикнули в унисон и снова согнулись закорючками, завозили по полу тряпками, сгоняя воду в одну общую лужу. Вскоре Надежда уже протирала Веткин пол насухо, а Саша старательно отмывал в ванной детские игрушки, драил их мыльной щеткой и громко объяснялся с кем то по мобильнику, зажатому между ухом и плечом:
— На завтра, на завтра все переносим! Да, у меня непредвиденные обстоятельства случились! Именно так! Ну, значит завтра проведем сразу два совещания… Все, все, я очень сейчас занят, не могу говорить…
«Видел бы твой собеседник, чем ты сейчас занят!» — усмехнулась про себя Надежда, одновременно исполнившись радостной к нему благодарностью. Вот Витя ни при каких условиях не стал бы Веткиной проблемой заниматься. Да еще и костюмчик пачкать! Витя очень свою чистоплотность да ухоженность уважал. Хотя чего это она о нем в прошедшем времени…
Провозились они Веткиным попорченным хозяйством еще долго, до самого позднего вечера. Сама хозяйка успела за это время и согреться, и детей в Надеждиной квартире спать уложить, и нарисоваться в собственных дверях бледным изваянием, плотно упакованным в розовый банный Надеждин халат. Спросила тихо и скромно:
— Ребята, а может, чаю?
— Ничего себе, чаю! Мы тут устряпались уже все, а она — чаю! Ты нам посущественней чего-нибудь давай! — возмущенно повернулась к ней Надежда.
— Это что, в смысле выпить, что ли? Так у меня водка есть, я Машеньке на компрессы покупала…
— Ага, выпить! Я про еду говорю, а не про выпить! — снова накинулась на нее Надя.
— А что? И выпить тоже можно! — подал голос из ванной Саша. — С устатку, так сказать. По-моему, мы по сто фронтовых граммов с тобой точно заслужили!
— Фу… — сморщила нос Надежда и передернулась от отвращения. — Нет уж, это без меня…
Да и тебе не советую! Вот остановит тебя гаишник, а ты вывалишься к нему с запахом, да еще и в таком затрапезном виде… Мало тебе было неприятностей? Снимай-ка лучше костюм, я его почистить попытаюсь, пока Ветка картошку жарит.
— Как это — снимай? А я в чем буду? — развел руками Саша.
— Да я тебе сейчас рубашку и штаны Витины принесу!
Не слушая его возражений, она быстро поднялась в свою квартиру, прокралась, чтоб не разбудить детей, к платяному шкафу, вытащила с полочки старую фланелевую Витину рубашку в клеточку и синие тренировочные штаны с лампасами. Потом прыснула тихонько, представив Сашу в этом одеянии, и так же прокралась к выходу, повернула бесшумно ключ в дверях. Могла бы и не стараться — Артемка с Машенькой спали на ее диване, как убитые, сопели громко и почти в унисон. Умаялись с приключениями.
Когда Саша вышел из ванной в Витиных трениках, она изо всех сил постаралась сохранить на лице серьезную мину, но легкомысленный девчачий смех так и попер из нее нестерпимыми волнами. Хотя чего тут смешного, скажите? Треники как треники, ну, коротковаты малость. А больше все равно ничего приличного нет. Витя весь свой гардероб умудрился запихнуть в два больших чемодана. Только зимнюю одежду на потом оставил. А трениками этими побрезговал, наверное. Оно и понятно — чего ж он в новую жизнь, да в старых штанах…
Костюм Сашин она почистила, конечно, как смогла. Сухого места на брюках и пиджаке после ее стараний почти не осталось. Что ж, придется ему, бедному, всю ночь теперь с ними сидеть. Ждать, когда костюм высохнет. И пусть. И хорошо. Она вдруг улыбнулась сама себе в зеркало, поймав за хвост это самое «хорошо». И погрозила себе пальцем сердито. Чего это с ней? Что за легкомыслие такое, откуда оно вдруг взялось? Гнезда не свила, муж к другой ушел, с работы выгнали… Чему она сейчас так радуется? Не присутствию же здесь этого странного парня, голос которого доносится сюда из Веткиной кухни? Или все-таки… Вот уж действительно — чудны дела твои, господи!
В квартире сильно еще пахло сыростью, и они решили открыть окна и входную дверь, чтоб вытянуло немного. Сами уселись на кухне, расположились чинно за накрытым Веткой столом. В самую его сердцевину она взгромоздила бутылку водки, как заправская выпивоха, пристукнув донышком о столешницу. Посмеялись дружно. Бывает, что засияет вдруг нежным светом над такими неожиданно припозднившимися ночными посиделками особенная какая-то аура, спустится сверху теплым мягким покрывалом на собравшихся за общим столом, и никак не объяснишь себе образовавшихся тоненьких ниточек душевного комфорта, протянувшихся от одного к другому в маленьком пространстве стола. Они тонки и летучи, нежны и капризны, и возникают будто сам по себе, ниоткуда. И почему-то никогда она, эта особенная аура, не соизволит явиться именно там, где ее ждут намеренно и готовятся к застолью заранее и очень уж тщательно. Не появляется, и все, хоть ты тресни, как бы ни пыжились собравшиеся натужной своей веселостью…
Саша разлил водку по рюмкам, плеснул в Надю и Ветку замечательной своей улыбкой, сказал тост:
— Ну, девочки, за добрый день. И за жизнь… За нее, трудную и с ошибками, за нее, с неприятностями и удачами. За нее, прекрасную и счастливую. Вперед…
Надежда тоже опрокинула в себя рюмку. Впервые в жизни. И лихо так у нее это получилось! Закрыла глаза, словно прислушиваясь, что происходит у нее внутри. Ничего такого особенного не происходило, конечно. Ну, сверкнуло короткой вспышкой в желудке, потом разлилось легким теплом. Ничего, в общем, страшного. И все равно она чувствовала себя предательницей. Что-то такое сидело в ней, пришептывало маминым сердитым голосом — с ума сошла, чего творишь с собой такое… У тебя муж Витя трезвый-адекватный, а ты… А ты… Она торопливо открыла глаза, взглянула виновато на Сашу с Веткой, весело уплетающих картошку, будто и они могли услышать этот внутренний ее полустыд-полушепот. А подняв глаза чуть повыше, расширила их от ужаса и снова закрыла. Вот оно, началось! Вот оно, наказание за предательство — пьяные глюки уже тут как тут… Или не глюки? Или в самом деле…
В дверях кухни стоял Витя. Смотрел на них во все глаза, переводил взгляд удивленно с Нади на Сашу, с Ветки на Надю. Молчал. Она вдруг увидела его будто со стороны. Не живого, а на портрете будто. Или на очень четкой цветной фотографии. Трезвый. Адекватный. Аккуратный. Чистенький. Сердитый. Насмешливый. Гордый. Холодный. Глубокие залысины поблескивают испариной. Боже, какие у него большие отвратительные залысины… Почему она раньше этого не замечала? Но она ведь не какая-нибудь там барыня Анна Каренина, она замечала, наверное, просто это было не важно, в общем. Важным и значительным было другое — он был ее мужем, ее на всю жизнь избранником. А в этом деле залысины там всякие да большие уши — уже дело десятое…
Витя на фотографии вдруг ожил, ухмыльнулся противно и кривенько, подошел вплотную к столу. Глядя ей прямо в глаза правдолюбцем-победителем, проговорил громко:
— Хорошо сидишь, значит? Водяру хлещешь? Ну-ну… А я и впрямь думал, что ты не пьешь… А это кто тут у вас? — повернулся он к Саше и даже склонился чуть-чуть, будто его разглядывая. — Это у нас тот самый, скалкой шарахнутый? В прихожей, говоришь, всю ночь его продержала? Ну, ты даешь, Надька… Я и не думал, что ты на такое способна! И водку пьет, и с любовником почти на моих глазах кувыркается… Прямо откровение какое-то, ей богу!
— Витя, это все не так… — тихо проблеяла Надежда, медленно качая головой из стороны в сторону. Это все не так, Витя… Ты все неправильно понял…
— А почему у вас дверь нараспашку открыта, ребята? Вы еще кого-то ждете, да? Четвертого? Для тебя что ль, Ветка?
— Прекрати, Вить, не надо… — жалобно проскулила Ветка, со страхом оглянувшись на Надю. — Если хочешь, я тебе сейчас все расскажу, что у меня здесь произошло…
— А детей, значит, в нашу квартиру пристроила, да? Я зашел, удивился так…
— Ты что, разбудил их? — испуганно подпрыгнула на стуле Ветка.
— Да нет, не разбудил. Я своим ключом дверь открыл. Спят твои отпрыски, не суетись. Я как их увидел, сразу догадался, зачем ты их к нам притащила. Чтобы трахаться не мешали, да?
— Витя, не надо, я прошу тебя! — прорезавшимся наконец нормальным голосом проговорила Надежда. — Давай я тебе объясню… Ты же знаешь меня прекрасно, Витя! Не унижай меня. Ну, пожалуйста! Это же отвратительно, в конце концов…
— Что отвратительно? Мое поведение тебе отвратительно? А твое? Сама-то ты что, ласточка небесная? Я ж, дурак, и впрямь думал, что ты… Еще и совестью мучился, представляешь? Ушел, мол, бросил бабу… Свою долю в квартире хотел на тебя честно переписать… Во дура-а-а-к…
— А при чем здесь квартира? — удивленно уставилась на него Надежда. — Это же мама нам… Это же ее была…
— Ну и что — мама? Половина-то все равно моя, ты не забыла? Ты ж вроде как юрист у нас, понимать должна. Раз по документам моя половина, значит, моя и есть. Так что придется теперь делиться, ничего не попишешь! Я не хотел, но теперь уже из принципа… Теперь имею право. Надо, надо тебя наказать как следует…
— За что, Вить? За что меня наказывать? — тихо спросила Надежда, подняв на него влажные от набежавших слез глаза. — Что я такого сделала ужасного? Я же… Я же всегда и все для тебя… Я же все делала, как ты хотел…
— Все делала, говоришь? — ухмыльнулся Витя. — А вообще да, ты вроде как старалась, конечно. Изо всех сил пыжилась. А только, знаешь, все равно слабо тебе. Нету у тебя, Надь, самого главного, понимаешь? Нету в тебе настоящего женского экстерьеру. Уровень не тот. А с этим уж ничего не поделаешь. Раз из грязи вышла, то и уровень у тебя свой, плебейский…
— А ну заткнись, жлобина! Не смей ее унижать, слышишь? Заткнись и пошел вон отсюда! — странным глухим баритоном, на одном только выдохе произнес Саша и начал медленно подниматься из-за стола. У Надежды даже мурашки успели пробежать по спине, пока он поднимался. Витя смотрел на него удивленно, будто ждал, когда ж он наконец встанет и выпрямится во весь рост. Мускулистая шея его напряглась по-бычьи, глаза побелели и уткнулись внимательно в клеточки своей старой, надетой на Саше рубашки, потом медленно опустились вниз, стали так же внимательно разглядывать свои синие с белыми полосками по бокам треники. Вот и щеки заходили желваками — узнал свой домашний прикид, наверное.
— Ребята! Ребята, не надо! Вы что, драться тут собрались, да? — вскочила и выстроилась между ними Ветка. — Вы же мне поломаете тут все, мне не купить потом…
Витя не дал ей договорить, отодвинул от себя одной рукой, и она полетела обратно на стул, ударившись боком об угол стола.
— А с кем тут драться? — весело-задорно повернулся к ней Витя. — С этим, что ли? Ну, дам я ему сейчас пару раз, подумаешь. Но так, чтоб запомнил. Ты не бойся, Ветка, я чисто все сделаю, без разгрома. Ну, иди сюда, защитник униженных мною и оскорбленных…
Надежда вдруг испугалась так, что ноги онемели и будто приросли к полу. Надо бы подскочить, встать между ними храбро, как Ветка, да она не смогла. Страшно стало. Страшно и стыдно. Потому что Витя и в самом деле мог «дать». С маниакальным каким-то упорством он много лет занимался японской борьбой с труднопроизносимым и смешным названием, и, что ее особенно удивляло, не пропустил за эти годы ни одной тренировки. Такая вот у него была «хоба замечательная», как он сам выражался. И дома, на балконе, облачившись в кимоно, подолгу приседал и яростно вскидывал вперед руки, и застывал на месте, и вдыхал и выдыхал шумно воздух, и лицо у него при этом было таким забавным… как будто даже зверским немножко. Глядя на его пассы из комнаты, она гордилась страшно — он у нее не просто так муж, он еще и защитник…
— Не смей ее унижать. Слышишь, ты? — повторил тихо Саша и шагнул к нему решительно. — Пойдем-ка выйдем отсюда, поговорим…
— Ага, сейчас… — улыбнулся снисходительно Витя. — Сейчас все брошу, и буду с тобой разговаривать…
А дальше все произошло быстро, как в кино. Витя и в самом деле «дал», аккуратно и молниеносно нанес удар так, что Саша рухнул на пол, стукнув об него головой глухо и страшно. Как раз на маленьком пятачке между столом и холодильником. Надя и Ветка застыли в ужасе, глядя, как из уголка его рта тут же побежала струйка крови и закапала на чистый линолеум. Он вообще, казалось, не подавал больше признаков жизни, лежал себе с запрокинутой головой, неловко подогнув под себя ноги.
— Господи, ты же убил его… — первая пришла в себя Ветка. — Витя, ты правда его убил?
— Ну да, как же… Зачем мне такие неприятности? — легко хохотнул Витя и развернулся к двери. — Оклемается ваш красавчик, не бойтесь. Я же обещал, что все аккуратно сделаю, без убийства и лишнего разгрома. Ну, пока, девчонки. Развлекайтесь дальше, пошел я.
Он тихо прикрыл кухонную дверь и исчез, оставив после себя запах дорого одеколона. Хороший запах, Надежде он всегда нравился. Запах чистоты и свежести, особенной мужской силы и респектабельности, запах трезво-положительной семейной жизни. Или, может, запах другого человеческого уровня, Надежде не доступный, как выяснилось. Она и в самом деле в этих дорогих изысканных запахах не разбиралась, никогда себе толком духи подобрать не могла. Да и людей тоже не умела разделять по этим самым уровням, если честно. Что еще за уровни такие? Кто их вообще придумал? И как это было бы просто и неинтересно, если б всех взять и распределить по этим «уровням». Одни на самой высоте красуются, другие внизу, в грязи барахтаются, третьи посередке определились… Может, это и впрямь так и есть, может, она не понимает чего, конечно, а только сама она видела людей не в уровнях, а… как бы это сказать… в плоскостях, что ли? Чуть развернул эту плоскость — таким видишь человека, еще чуть развернул, глянь, а он уже другой. И в самом низшем уровне такие сложности можно увидеть, что высшему они и для понимания недоступны. А если еще повернуть плоскость, то вообще картинка наоборот переворачивается, сверху вниз, потому как во все времена стремление причислить себя к высшему уровню считалось ярким признаком плебейства… Так что зря бедный Саша так неудачно под кулак Витин подставился, ее защищая. Ей вообще плевать на эти Витины «уровни» с высокой колокольни. Просто она честно объяснить Вите хотела, что вовсе ни в чем не виноватая…
На ватных ногах она встала из-за стола, тихо склонилась над ним, попыталась приподнять с пола его голову. Она была тяжелой и безжизненной, сквозь чуть пробивающуюся черную щетину на щеках и подбородке разливалась синюшная бледность, и на ее фоне красная кровавая дорожка казалась абсолютно черной.
— Саша… Саш… Ты слышишь меня? Ну очнись, пожалуйста… — испуганно попросила она.
— Да чего, очнись! — тоже пришла в себя и вскочила со своего стула Ветка. — Тут действовать надо, а не причитать. Где-то у меня нашатырь был, дай бог памяти…
Она закрутилась-засуетилась бестолково, потом начала довольно быстро шуровать по кухонным ящичкам и вскоре сунула Саше в лицо пузырек с нашатырем, помахала им резко перед самым его носом. Голова его тут же дернулась в Надиных руках и ожила, лицо сморщилось страдальчески. Открыв глаза узкими щелочками, он долго смотрел на Надю сквозь густые ресницы, будто не узнавая.
— Саш, ну что? — жалобно потянула она, виновато улыбаясь. — Лучше тебе?
Он ничего не ответил, высвободил из ее рук свою голову, сел на полу. Оглядел вокруг себя пространство, потом улыбнулся им, сидящим около него на корточках, тихо и грустно:
— Что ж вы, ребята, все по голове моей стучать норовите, а? Вот же взяли моду — по голове стучать… Других мест нету вам что ли?
— Саш, ну зачем ты к нему полез… Не надо было! — сквозь слезы проговорила Надя. — Мы бы сами разобрались… Дела наши, семейные…
— Да какие к черту семейные! — вдруг сердито проговорил Саша, пытаясь подняться с пола. — Он же унижает тебя с садистским удовольствием, а ты сидишь, извиняешься неизвестно за что, будто и впрямь в чем виновата…
— А что, что он мог еще подумать, тебя увидев? Он и решил, что мы… что я…
— Да ну, слушать тебя противно… — махнул он в ее сторону рукой и побрел в ванную, осторожно держась за стеночку.
— А ведь он прав, Надька, — проводив его взглядом в спину, тихо произнесла Ветка. — И в самом деле — слушать тебя противно.
— Да почему?!
— Ну не дурак же он, твой Витя, в самом-то деле! Застал он нас на месте прелюбодеяния, видишь ли! Честный обманутый муж! Что он, очевидных вещей не замечает? Здесь же сыростью пахнет, и дверь открыта, и дети у тебя спать уложены… Все он увидел прекрасно, что к чему и как! Да и вообще… Это же он тебя сам бросил! Если б ты и в самом деле развлекалась на всю катушку — имела бы право! А он пришел тут проверять, видишь ли, соблюдает ли ему брошенная жена верность… Это неправильно, Надь, это действительно унижение, Саша прав…
— Прав, конечно, — подал голос из коридора Саша. Зайдя на кухню и усевшись на свое прежнее место, помотал мокрой головой из стороны в сторону, потом в упор уставился на Надю, помолчал немного. — Ты и сама понимаешь, что я прав. Нельзя так себя унижать. Надо выдирать себя из собственного рабства, а не искать ему всяческие оправдания. Иначе прорастешь в нем корнями, потом не выберешься.
— Ну почему — рабство? — Тихо-виновато возразила ему Надежда. — Это не рабство, это семья. Это терпение, это мудрость, в конце концов. Многие так живут. Да все почти!
— Ага. Многие вот так и убеждают себя, попадая в рабство. Еще и алиби себе для успокоения придумывают — любовь, мол. Если, мол, любишь — все вытерпишь. А только любовью в таких отношениях и не пахнет. Нету ее. Кураж власти есть, унижение есть, а любви — нету. Хотя внешне все красиво бывает — ни к чему не придерешься. Заботятся о тебе усиленно, целуют-обнимают, милым-дорогим через каждое слово называют…
— … Птичьи перышки себе, идеально-трезвому, милостиво почистить разрешают… — вставила свое ироничное слово и Ветка, стрельнув хитрым глазом в Надю. — А почему бы и нет? Почему бы и не потешиться, не полюбоваться своими сомнительными достоинствами? Очень же удобно! Да и приятно, наверное, когда по твоей дурацкой прихоти женщина себя голодовкой изводит, по салонам бегает, чтоб сделать из себя глупую куклу Барби. А когда захочется — и пнуть ее можно, к другой уйти. Но так, чтоб обратно ждала, чтоб волновалась, придет-не придет…
— Ну хватит! — рассердилась Надежда, стукнув ладошкой об стол. — Чего ты несешь такое, Ветка? Хватит!
— Чего, чего… Правду тебе несу, вот чего. А самое противное, Надя, знаешь в чем? Он ведь к тебе действительно вернется скоро. Вот увидишь — обязательно вернется. Потому что он слабый и злой, ему рабыня нужна. Кураж нужен. Саша прав…
Они замолчали неловко, сидели, уставившись в столешницу. Надя изо всех сил сдерживала слезы, проглатывала их в себя большими порциями, шмыгала изредка носом. Не хотелось ей при Саше плакать. И с Веткой спорить не хотелось. Хороша же подруга — разнесло вдруг ее на откровенность! При Саше-то зачем…
— Ладно, девчонки, поеду я домой. Там костюм мой подсох уже. Спасибо, — поднялся из-за стола Саша, — мне утром вставать рано. Поспать хоть немного надо.
— Спасибо тебе, Саш, за помощь… — подняла на него глаза Ветка.
— Да ладно, чего там… — махнул он рукой, выходя из кухни. Потом обернулся к Надежде, посмотрел на нее внимательно. И вдруг улыбнулся широко и коротко, так, что слезы ее, с трудом сдерживаемые, тут же и пропали куда-то. — Надь, мы созвонимся? — Спросил как ни в чем не бывало. — Работу-то мы тебе еще не нашли…
* * *
Утром Надежда проснулась с ощущением чего-то очень хорошего, происходящего в ее жизни. Хотя чего в ней было такого хорошего? Кругом одни сплошные трагедии. Не знакомство же идиотское с Сашей — это хорошее? Да и чего ей от этого знакомства? Подумаешь — работу он ей искать помогает. Это ж он из благодарности просто… Да и вообще — на что она может рассчитывать… Она ж далеко не красавица, как жена его, Алиса неведомая. Вот посмотреть бы на нее, на эту Алису, живьем…
Хотя отчего бы и не посмотреть? Женщина она теперь свободная, на кого хочет, на того и смотрит. И опять же частное расследование на месте стоит, которое она затеяла. Она ж нынче Даша Васильева, как это она забыла? И потому должна встретиться со всеми, так сказать, фигурантами. Надо вставать с раскладушки, кормить Артемку с Машенькой завтраком, сдавать Ветке на руки и вперед…
Дело оставалось за малым — адресок этой Алисы узнать. Можно, конечно, у Саши спросить, только неловко как-то. Да и не скажет он ей, начнет опять пытать, зачем да почему… Хотя у нее же домашний его телефон есть! Пит, помнится, в страшном находясь раздражении, все его телефоны сгоряча выдал. Если только она бумажку ту не потеряла…
Бумажка нашлась в сумке. Надежда уселась перед телефоном, вдохнула-выдохнула резко и набрала номер, с замиранием сердца стала слушать длинные нудные гудки.
— Алё… — возник наконец в трубке милый девчачий голосок.
— Ой, здравствуйте! Вы знаете, я знакомая Алисы, Сашиной жены, я ее срочно разыскиваю… — торопливо затарахтела Надежда в трубку, не переводя дыхания и от волнения полностью проглатывая букву «р», проклятущую и коварную, делающую ее голос по-детски смешным и несерьезным. — Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, где она живет. Мне очень, очень нужно!
— Ой, а я не знаю… — растерянно протянул милый голосок. — Я не знаю точного адреса, если визуально только… Мы с мамой один раз всего у них дома были, давно, еще перед их свадьбой…
— Ну, хотя бы визуально расскажите. Где это?
— А это угол улиц Белинского и Красина, там дом такой, серая пятиэтажка, и кафе на углу какое-то. Я не помню названия… А этаж, по-моему, третий. Или четвертый… А вы кто? Я вроде всех Алисиных приятельниц знаю. А ваш голос мне не знаком…
— Хорошо. Я найду. Спасибо вам!
Надежда быстро положила трубку, вздохнула с облегчением. Кто бы ты ни была, обладательница милого голоска, спасибо тебе. И прости, что назвалась подругой Алисы. Так вот и приходится нам, бедным Дашам Васильевым, всячески изворачиваться. Зато теперь визуальный адрес у нас есть…
Она быстро оделась, спустилась с детьми на первый этаж, позвонила в Веткину дверь.
— Надь, а ты куда? — спросила Ветка, моргая спросонья глазами. — Тебе ж не на работу! Давай кофе попьем?
— Нет, Ветка, некогда мне. Дела ждут, — передавая ей в руки Машеньку, протараторила Надежда. — Ты их не корми, они завтракали. Все, побежала я…
— Надь, постой! — окликнула ее Ветка в спину. — Ты на меня не обиделась за вчерашнее, нет? А то я полночи не спала.
— Да брось, ты что? Какие обиды?
— Да? Ну ладно. Иди тогда. Счастливо тебе.
— Ага, пока…
Выйдя из троллейбуса на улице Белинского, она медленно пошла в сторону улицы Красина, наслаждаясь теплым и нежным майским утром. Наверное, только в мае по утрам бывает так пронзительно-прозрачно небо, так нежна зеленая дымка деревьев, так неожиданно свеж и чист городской воздух. Впереди лето с его жарой, дождями, дачами, праздными отпусками… А май — радостное всего лишь предчувствие этого праздника, но что может быть лучше этого предчувствия-предвкушения? Все, все еще впереди, и до зимы еще так далеко, и, кажется, целая жизнь пройдет, пока она вновь придет со своими унылыми холодами…
А вот и она, серая пятиэтажка. А на другой стороне улицы — кафе. Надежда неторопливо вошла в тенистый двор, осмотрелась. Хорошо у них тут, тихо. Вон и бабулька какая-то на скамеечку со своим вязанием выползла. Из тех как раз бабулек, которые наверняка все и про всех знают. Что ж, Даша Васильева, просыпайся, приступай к своим основным обязанностям…
— Бабушка, а вы, может, знаете, в этом доме девушка живет, ее Алисой зовут?
— Знаю. А ты кто ей такая будешь? Зачем это она тебе понадобилась? — с удовольствием вступила в диалог бабулька, глянув на Надежду заинтересованно поверх старомодных толстых очков.
— Да мы с ней раньше работали вместе, подружками были. А потом она замуж вышла, уволилась и потерялась из виду. Вот, хочу найти.
— Да уж, вышла-то вышла… — грустно вздохнула бабушка. — А только недолго, смотрю, замуж этот ее продлился. Опять уж у матери живет. И чего вы такие нервные нынче, девки? Нас вот по молодости как замуж отдавали, так уж на всю жизнь. А вы все нынче вертихвостки! И Алиска твоя такая же! Видела ее тут недавно — не поздоровалась даже. Идет, волосюки свои рыжие распустила, ни на кого не смотрит…
— А в какой квартире она живет, не подскажете?
— Да вон, во втором подъезде, третий этаж, сразу направо. Я мать-то ее хорошо знаю, Алискину. И деда знавала, пока он тут, с ними жил. А потом уехал дед-то. Квартиру, говорят, свою купил. А недавно, слышь, его убили, деда-то. Совсем народ с ума сошел…
— И что, он сам себе вот так взял и купил квартиру? — присела на скамеечку к ней Надежда. — Он что, такой богатый был?
— Да нет, какое там… Рубаха с перемывахой, вот и все его богатство. Немцы, говорят, квартиру ему купили.
— Какие немцы?
— Да откуда я знаю — какие? Фашисты, наверное. Они ведь шибко об этом не рассказывали! Это мне их соседка потом посплетничала, что приезжали к нему какие-то немцы, много их было, а потом квартиру купили…
— Ладно, бабушка, спасибо. Пойду я, — заторопилась Надежда. С информацией получался явный перебор. Наверное, с головой у старушки не все в порядке, бывает такое к возрасту. Маразм называется. Немцев каких-то приплела, фашистов…
Двери ей в квартире на третьем этаже открыли сразу же, будто ждали ее прихода. Женщина околопенсионного возраста улыбалась приветливо, рассматривала Надежду виновато и доброжелательно, будто извинялась за что-то. Показалось даже, будто мучается она некоторой неловкостью. Так бывает, когда поздоровается вдруг с тобой на улице незнакомый человек, и идешь потом, и плечами пожимаешь — неловко как-то…
— Здравствуйте, я к Алисе… — тоже улыбнулась ей Надежда.
— Ой, а ее же дома нет! Да вы проходите, проходите, она вот-вот подойти должна. Идите на кухню, я как раз чай села пить! — обрадованно затараторила женщина. — Проходите сюда… забыла, как вас зовут…
— Меня зовут Надежда.
— Ну да! Правильно, Надежда! Вы ведь Алисочкина приятельница, да? Вы знаете, всех Алисиных подружек перезабыла, когда она от меня уехала! Теперь неловко так… Целый год прожила тут одна, одичала совсем…
— А Алиса, значит, теперь снова с вами живет?
— Ну да… — вздохнула горестно женщина. — Со мной… Пока папину квартиру на себя не оформит, тут будет жить… Она бы и сейчас там осталась, да опечатали ее, квартиру-то.
А папу убили. Такое вот у нас горе. Похоронили недавно… Да вы, наверное, и сами все знаете…
— Да, знаю. Примите мои соболезнования. Значит, это ваш папа был…
На чистенькой светлой кухне она уселась за стол, приняла от хозяйки чашку с чаем. Что ж, героиня детективов Даша Васильева тоже с фигурантами всегда чаи распивает. И ничего тут плохого нет. Подумаешь, чай. Нормальные человеческие отношения. Так и должно быть, наверное.
— Говорят, его наркоманы убили какие-то. А сначала — ужас! — на Сашечку подумали, на Алисиного мужа. Папа мой странным, конечно, человеком был, не все с ним умели ладить, но чтоб убить… Тем более, Сашечку он очень уважал! Можно сказать, только из-за него и пустил их к себе пожить. Да и то — что ему в такой большой квартире одному-то?
— А как она у него оказалась, эта квартира? — успела вставить свой вопрос в короткую паузу Надежда.
— Ой, вы разве не знаете эту историю?
— Нет, не знаю…
— Ну как же! Об этом даже в газетах писали десять лет назад… Хотя да, вы десять лет назад газет не читали, наверное. Ему немцы эту квартиру купили.
— Какие немцы? — настороженно подняла на женщину глаза Надежда. Господи, и эта тоже про немцев…
— Понимаете, мой папа, он всю жизнь был такой… необычный очень. Всегда за какую-то особую правду боролся, за справедливость, за истину… Ой, сколько у нас с мамой из-за этого неприятностей было! Он медик был, папа наш. Фельдшер. Медицинский техникум как раз перед войной закончил. Потом всю войну прошел, от звонка до звонка. А после войны направили его в Сибирь, в больничку поселковую, на лесозаготовки. Туда, где пленных немцев целыми лагерями держали. Папа рассказывал, как их даже в самые лютые морозы на работу гнали. Оно и правильно, конечно, по тем временам было. А папа в больничке офицерский состав лечил, ну и семьи их, конечно. И местных жителей тоже. А ночами тайком к пленным немцам бегал, болячки им обрабатывал, которые от обморожения образуются, лекарства давал всякие. Не было особо тогда лекарств-то. Да чего там — тогда даже и йод с бинтами в дефиците был. И своим не хватало, какие уж тут пленные. А папа считал, что раз он медик, для него все люди одинаковы. Страдают-то они одинаково! Человек, мол, что русский, что немецкий — для медика все равно человек. И такой он во всем был, всю свою жизнь на твердых этих принципах стоял…
— А если бы узнали? Что тогда? — тихо спросила Надежда, завороженная рассказом своей собеседницы. — Вот если бы поймали его с этим йодом да бинтами?
— Ой, что вы! Расстреляли бы на месте! И даже разбирать бы не стали никакие такие принципы! Что вы…
— Значит, он жизнью своей ради пленных немцев рисковал?
— Не ради немцев, а ради больных людей, говорю же вам! Для него все они были люди! Он, кстати, много пленных так вот от гибели спас. Я уж не знаю, каким таким образом, в истории не сильна, но некоторым даже удалось потом из этих лагерей домой вернуться. Отец уж и забыл напрочь об этой сибирской истории, как вдруг десять лет назад вот в этой самой квартире звонок раздался. Я дверь открыла, смотрю, люди какие-то странные стоят, не по-нашему лопочут. Потом один, который помоложе, выступил вперед, спросил по-русски, здесь ли герр Макарофф проживает… А нас тогда здесь ютилось — как сельдей в бочке! И я с мужем, и папа, и Алиска, и сестренка моя тоже с мужем да с ребенком…
Папа к ним вышел — ничего понять не может! Они, эти немцы спасенные, оказывается, его сами разыскали да приехали с благодарностями… Правда, из бывших пленных там двое старичков всего было, остальные все молодые, дети да внуки тех самых, которым отец йод да бинты тайком таскал. Поглядели они, видно, на наши условия да и купили отцу хорошую квартиру. Тоже из благодарности, значит. Уж как он отказывался! Кое-как мы его только уговорили. Потом все же переехал туда, чтоб молодым не мешать… Мы, правда, если по-честному, схитрить с сестрой хотели, разменять ту немецкую квартиру на две, да он не дал. Тоже из принципа. Раз, говорит, мне купили, я там и жить должен. Иначе обман получается. Мы уговаривали — он ни в какую. Ужас, как уперся. Представляете, как нам с сестрой обидно было? Вот такой он и был во всем, мой папа…
Всхлипнув тихонько, будто приличия ради, она утерла пальчиком слезу из уголка глаза, тут же улыбнулась и подвинула Надежде вазочку с вареньем:
— А вы пейте чай, пейте! Может, вам горяченького подлить?
— Нет, спасибо. А Алиса что, тоже очень хотела дедову квартиру? Для нее он тоже ее менять не хотел?
— Да он Алиску, знаете, вообще как-то не жаловал. А почему — не знаю… Внучка ведь она ему! Хотя она у меня девушка такая — слова за просто так из себя не выпустит. И сейчас вот молчит, молчит все… Я уж и так с ней, и этак! Думаю, она переживает из-за мужа, из-за Сашечки… Да и он тоже хорош! Обиделся он, видите ли! С дедом на пару! А что, что она такого сделала-то? Для него же и старалась, чтоб достаток в семье был… Да она с этого Саши, между прочим, пылинки сдувала! Такая была пара красивая! А он…
— А что она такое сделала-то?
— Да я ж говорю — ничего особенного! Когда они с Сашей к деду переехали, нашла в его документах адреса тех немцев, что к нему приезжали, да и написала им всем письма. И ничего такого особенного в тех письмах тоже не было, голая правда одна. Что живет, мол, ваш спаситель бедно очень, хоть и в хорошей квартире, вами купленной, что пенсия у него крохотная, что лекарства дорогие… Вам, мол, носил их тогда, жизнью рискуя, а себе теперь купить не может. Все, все ведь правда это! Ну, и номер счета своего в банке сообщила. Единственную только неправду и написала, что это дедов счет…
— Ну да. Единственную, но зато какую! — тихо пробормотала себе под нос Надежда.
— Что вы говорите?
— Да ничего, это я так… И что потом? Немцы начали деньги присылать?
— Ну да… А что в этом такого? Она ж не на себя одну тратила! Она ж и деда хорошо кормила, и Сашу с иголочки одевала. Даже лучше чем себя, между прочим! Он еще все удивлялся, что жена так много зарабатывает…
— А потом что было?
— А потом деду письмо пришло. Немцы, они же дотошные! Один нашелся такой зануда и решил проверить, все ли его деньги поступили на отцовский счет… А у него никакого такого счета и отродясь не бывало! Ну, папа тоже правдолюбец еще тот был, быстренько всю правду раскопал. Кричал на Алиску так, что весь дом переполошил. И даже палкой замахивался. Пришлось ей съехать, конечно. Да еще и Саша чего-то задурил… Не буду, говорит, с тобой больше жить, и все. А вы как думаете, может, у него просто другая появилась?
— Я не знаю. Вряд ли. — Потупив взор в чашку с чаем, тихо проговорила Надежда.
— А еще Алиска очень переживала, что дед и впрямь свою угрозу исполнит и завещание на квартиру напишет. Отдаст ее государству, или тем немцам, например, вернет. А что? Он мог такое сотворить, у него б не задержалось… А еще Петечка недавно рассказывал — это друг у них такой есть, они его Питом зовут, — что вроде как и на Сашу дед собирался квартиру свою отписывать…
— А с чего он вдруг так решил, этот ваш Пит?
— Да якобы Саша ему сам об этом сказал. Он после того случая, когда дед Алиску палкой выгнал, все захаживал к нему, продукты носил, лекарства, корм для собаки, ну, и все такое прочее. Сам-то папа далеко от дома не может уходить, ноги не держат. Так только, во дворе с собакой прогуляется рано утром да вечерком…
— А вы разве ему не помогали?
— Да я бы помогала, конечно, только Алиска запретила мне туда ходить. Раз, говорит, отказался от нашей помощи, пусть сам теперь и живет, как хочет, со своими дурацкими принципами… А когда узнала, что Саша к деду ходит — ух, как сердилась! Уж зря ей Петечка об этом рассказал, наверное. Уж смолчал бы лучше. Чего ее злить-то зря? У нее и без того все наперекосяк пошло. И с квартирой этой дедовой, и муж из хомута ни с того ни с сего выпрягся, и чего ему не хватало?
— А раньше что, в хомуте ходил, что ли? Как конь?
— Ой, а то вы мою Алиску не знаете! Она ж по-другому не умеет. Мы все вокруг нее на своих поводках ходим. И я, и Саша, и даже Петечка…
— А этот… Петечка ваш, он чей больше друг, Алисы или Саши?
— Ой, да разве их поймешь? Вроде с одной стороны он Сашин еще со школы друг, а только каждую свободную минутку около Алисы торчит. Он вообще мне очень нравится, Петечка этот. Неказистый, правда, зато Алиску хорошо понимает и любит, только в рот ей и смотрит. Ей бы такого мужа, Алиске-то. Чтоб поводку своему сам радовался. А что? Так ведь не бывает, чтоб все сразу. Чтоб и красивый был, и рядом на поводке шел. У красивых мужиков свои придури. А она этого не понимает никак — подавай ей обратно Сашу, и все тут. Что делать, если она такая вот выросла — никому своего не отдаст. Что к ней в руки попало, то при ней и остаться должно. А что — тоже принцип. Вся она в деда пошла, такая же упертая.
— Ну да. Только принципы у них разные получились. Прямо противоположные.
— Ну так она ж все-таки женщина… Она все для семьи старалась! Ой, да для любого мужика такая жена — просто подарок настоящий!
— Ну да. Подарок… Конечно же, подарок… — задумчиво поддакнула ей Надежда.
— Так и я о том же говорю! И все так думают! Один Саша у нас самый умный оказался, видишь ли! Ушел он! Жену бросил! Да разве таких жен бросают, скажите?
— Не знаю. Нет, наверное.
— А я вот все никак не спрошу… вы с Алиской в институте вместе учились, да? Смотрю-смотрю на вас, никак припомнить не могу?
— Нет, не учились…
— Работали вместе?
— Нет, и не работали.
— А… А кто вы тогда?
Надежда так и не успела рассказать Алисиной матери, кто она есть такая и что привело ее в этот дом. Хотела правду рассказать, да не успела. В прихожей громко хлопнула дверь, и нежно-властный женский голосок, продолжая, видимо, еще начатую за дверью фразу, поник звонким колокольчиком к ним на кухню:
— … А я говорю, что он у тебя тогда свою куртку оставил! Именно у тебя! Он не помнит, а я помню! И именно она, эта куртка, оказалась рядом с дедом!
— Да не было у меня никакой куртки, Алис! Ты что-то путаешь! — виновато пробубнил в ответ звонкому колокольчику знакомый Надежде голос. Вскоре и обладатель этого голоса нарисовался в кухонном проеме, возник нелепым колобком, уставился на нее удивленно.
— Ой, Петечка! Вы уже пришли! А вас тут вот гостья дожидается…
— Кто там пришел, мам? — выглянула из-за спины стоящего в дверях Пита Алиса. Отодвинув его небрежно, как тумбочку на колесиках, в сторону, она прошла на кухню, начала молча рассматривать гостью. Надежда тоже не отказала себе в любопытстве, уставилась на Алису оценивающе. Что ж, и правда, красивая. Правда, необычная. Легкая и прозрачная, как весеннее облачко. Летучие светло-рыжие колечки кудрей спутаны красиво и вроде бы небрежно, но за небрежностью этой столько изыска прячется, что так и тянет их рукой потрогать, ощутить их ласковую упругость. И кожа на лице необыкновенная, будто золотом светится. И косметики — никакой, лишь губы сияют перламутром, светло-рыжим, под цвет волос. Даже ресницы не накрашены, и оттого большие зеленые глаза в окружении их густых белесых пушинок кажутся будто странной дымкой подернутыми, совершенно прозрачными, как у холодной царевны-Несмеяны из детской книжки. Хотя и есть в этих глазах что-то такое… злобное. Обволакивающее, как белый горький дым от костра. Или как липкая паутина, в которую попади только, и назад уже не выберешься. Запутаешься в ней и зачахнешь, и выбраться уже никогда не сможешь…
— А вы кто? — первая нарушила взаимное разглядывание Алиса.
— А это и есть та самая Надежда, между прочим, о которой я тебе говорил, Сашкина спасительница со скалкой, — пояснил ей Пит, выскочив на полшага вперед с того места, куда определила его властно-небрежным жестом Алиса, — видишь, я прав оказался — наш пострел везде поспел…
— Пострел — это я? — улыбнулась ему беззлобно Надя. — Или Саша?
— В данном конкретном случае это вы, конечно. Сашино поведение мы с вами, как вы сами понимаете, обсуждать не будем. Да и кто вы такая вообще? И чего сюда приперлись, интересно? Что вам здесь надо?
— Да теперь уже ничего, собственно. И так все ясно. Ладно, извините, мне пора. Спасибо за чай…
Мать Алисы кивнула ей молча, испуганно перевела глаза на дочь. И тут же будто съежилась под взглядом дымчатых паутинистых глаз, тихо вздохнула-всхлипнула:
— Ой, Алисочка… Я ж думала, это подружка твоя какая…
— Мам, ты что… — будто сдерживая снисходительное раздражение, насмешливо проговорила Алиса. — Нельзя быть такой простодушной, ей богу, тем более в твоем возрасте. Пускаешь в квартиру неизвестно кого. Надеюсь, ты с нашей гостьей подробности моей интимной жизни не обсуждала? Хватило у тебя ума? Или наша гостья не мной, а моим мужем интересовалась?
— Да нет… Я только… Нет, Алисочка… — залепетала виновато мама, стрельнув в Надежду сердито глазом.
— Ладно, понятно. Не удержалась, значит. Опять поносом общения мучилась. Что ж у тебя за потребность такая, мам, перед всеми наизнанку выворачиваться?
— Да мы просто поговорили, чайку еще вот попили, и все. Мне же скучно, Алисочка. Все дома да дома. Ты ведь и не поговоришь со мной никогда…
Надежда поднялась со стула и направилась было в прихожую, но Алиса легко придержала ее за локоток, взглянула своими глазами-паутинками, улыбнулась вежливо:
— Да вы погодите, девушка… И впрямь, чего вы приходили-то? Спасибо вам, конечно, за Сашино алиби… Наверное, он с вами рассчитаться забыл, да? Он у нас вообще такой, очень рассеянный. Все в облаках витает. Мы сейчас в ссоре с ним, но это ненадолго, я думаю. В облаках, знаете ли, долго продержаться тоже невозможно, когда-то и на землю нашу грешную спускаться приходится. Это очень хорошо, что вы прямо ко мне пришли. Не стесняйтесь, скажите — сколько вы хотите?
— А я за спасение людей денег не беру, знаете ли. Тут я с вашим дедушкой совершенно и полностью согласна. А приходила я так — на вас посмотреть…
— И что, посмотрели?
— Ага.
— И каков результат? Понравилась?
— Очень… Вы очень красивая, Алиса. Всего вам доброго. Прощайте.
Она прямо взглянула в ее глаза и слегка отшатнулась даже. Лучше бы не смотрела. Вблизи они оказались совсем, совсем некрасивыми. Горел в них темный недобрый огонь душевной муки и злобного будто отчаяния, или болезненной страсти какой, а может, и обиды неутоленной. Настасьи Филипповны глаза, ни дать ни взять. Достоевщина. Чур меня, чур…
Она высвободила локоть из ее цепких тоненьких пальчиков и торопливо выскочила за дверь, каким-то чудом справившись со сложным замком, застучала каблуками по лестнице. Почему-то поскорее хотелось на воздух, хотелось уйти подальше от этого дома, от этих тягуче-злобных бездонных глаз в обрамлении светлых ресниц, будто тянулась из них за ней вслед тонкая крепкая паутинка. Догонит сейчас, схватит за горло и начнет душить, как глупую муху… Давешняя бабулька так и сидела на скамеечке, уткнувшись в свое вязание. Проходя мимо, Надежда мысленно попросила у нее прощения за несправедливые подозрения в старческом маразме — немцы-то действительно в этой семье были! И немцы, и дедушкина квартира, и убийство…
Выйдя со двора, она тихо пошла по улице, рассеянно вглядываясь в нежную зеленую дымку деревьев. Над городом, в празднично-свеженьком небе плыли белые вольные облака, равнодушные ко всему здесь, на земле, происходящему. Почему-то представилось ей, как с одного из них падает Саша. Падает и летит прямо в руки к своей хрупкой и властной женушке, такой необычной, такой красиво-прозрачной, такой на первый взгляд золотисто-нежной… Она вздохнула жалобно и кротко, невольно потрогала себя за талию. Хотя можно было и не трогать, и так все понятно, чего там… Она-то уж точно никогда такой празднично-худой да прозрачной не станет. Складочка на талии уже достаточно прочно обосновалась на своем законном месте, выползла неприятным раздражающим бугорком. Куда ей, коровушке толстомясой. Что делать, раз организм непослушный все время еды требует, не продержишься же всю жизнь на этой проклятой голодовке! Ну вот почему, почему одним дает матушка-природа эту хрупкость-стройность за просто так, а других таким счастьем обделяет? Несправедливо же!
Вспомнился ей тут же давний разговор с Веткой на эту тему. Как всегда, у той был свой взгляд на Надину проблему, абсолютно неординарный.
— … Да ты просто перестань, Надька, ритуальные пляски вокруг холодильника устраивать, вот и все! Думать о еде перестань, как таковой!
— Да как же перестать о ней думать, Ветка. Кушать очень уж хочется…
— Ну, не знаю… Мне кажется, это вообще несколько обидно — о еде думать. Приплясывать над ней, колдовать там чего-то со специями, силы душевные во всякие вкусности вкладывать…
— Ну почему — обидно? Это ж, между прочим, культура! Это ж наука целая — вкусно готовить! Кулинария называется.
— Ну если ты все это безобразие уважительно наукой называешь, тогда толстей на здоровье! А то захотела сразу и рыбку съесть, и все другие удовольствия заодно получить! Так ведь не бывает, Надька.
— Да то-то и оно, что не бывает. Я ж не виновата, что эта рыбка очень уж вкусная…
— А я бы, знаешь, слово «вкусно» вообще к еде не присобачивала. Пусть еда будет только едой, и все. А вкусным будет чего-нибудь другое. Хорошая книжка, например, или дельная мысль. Или любовь. А что? Ты вслушайся, как звучит хорошо — вкусная любовь! Да в мире столько всего этого вкусного есть, а ты вокруг какой-то там еды танцы танцуешь…
Надежда и сейчас тихонько рассмеялась про себя, вспомнив этот их забавный диалог. Все-таки интересная она женщина, ее подруга Ветка. И чем-то неуловимым, кстати, на Алису похожа. Если Ветку приодеть, пару раз в салон дорогой сводить, то очень даже вполне… Такая же изысканно-хрупкая, тот же неуловимый взгляд, зеленый, нежно-дымчатый… Только без всяких паутинок, конечно же. В Веткиных глазах не паутинки, в них что-то другое есть. Доброе, любящее, искрящееся. В них правда есть, своя, Веткина. Нет, не похожа она на Алису, совсем не похожа… И вообще, хватит уже об этой Алисе думать. Вот же черт, так и лезет теперь в голову!
Хотя как, как это о ней не думать? Как раз думать ей сейчас об Алисе и надо. Она ведь не для того к ней пошла, чтоб красотой ее любоваться. Даша она Васильева или кто? Значит, надо рассмотреть эту Алису сейчас под лупой, как очередного фигуранта субъективной стороны преступления. Итак, что мы с этого имеем, уважаемая Даша Васильева? Был интерес у Алисы дедушку убить? Был, и еще какой. Квартира-то дедушкина могла вот-вот из рук уплыть, а она этого очень не любит, когда из рук чего уплывает… А Сашу подставить интерес был? Тоже был. Хотя и сомнительный. Саша как объект собственности мог запросто кануть в небытие, за убийство Уголовный кодекс ой как по головке не гладит… И еще что-то было там такое, очень важное… Что-то Алиса сказала такое… Что они временно поссорились, и он к ней вернется? Нет, не то… Думай, Надежда, думай… Ты же Даша Васильева, вот и думай… А, вот! Вспомнила! Они же про куртку Сашину с Питом говорили, когда в квартиру вошли! Алиса утверждала, что Саша ее у Пита забыл, а тот изо всех сил отпирался… А что, если и правда он ее у Пита забыл? Тогда же все очень просто получается, до ужаса просто! Пит убил деда, бросил рядом бутылку с Сашиными пальчиками, немножко поодаль его куртку… А сначала Сашу довел, как говорится, до нужной кондиции. Может, и в стакан ему какой-нибудь гадости подсыпал, и выбросил из машины где-нибудь на окраине. Он же не предполагал, что дружок его так быстро очухается, что дом перепутает, что я ему дверь открою да скалкой по голове ошарашу! Да, все так, все в одну цепочку складывается. Вот если б Саша еще сам вспомнил, когда он у Пита свою куртку оставил — цены бы ему не было. Тогда бы можно было и к дознавателю со всем этим хозяйством идти. А может, как-то помочь ему все самому вспомнить? Только как? Может, снова на обед напроситься? Хотя обед в кафе — это не та совсем обстановка…
А она вот что сделает — она на ужин его к себе пригласит! Имеет право, в конце концов! После вчерашнего инцидента с Витей, надо полагать, вообще можно считать себя женщиной совершенно и окончательно свободной… Так, решено. На сегодняшний вечер назначается ужин с бывшим подозреваемым, и с одной только конкретной благородной целью — сделать из этого несчастного подозреваемого абсолютно праведного потерпевшего-обвинителя…
Приободрившись, она быстро зашагала в сторону автобусной остановки. Дел впереди — невпроворот. Надо зайти в магазин, прикупить что-нибудь вкусненькое для ужина, и свечи можно купить, чтоб создать спокойную обстановку, и вино… Интересно, что там еще полагается для домашнего ужина с мужчиной? Жаль, опыта нет. Как-то не устраивала она раньше романтических ужинов. С Витей все было гораздо проще. Вите эти ужины да свечи вообще были по фигу, ему чистота в доме нужна была, вкусная еда в холодильнике да ее блондинисто-худой презентабельный вид ко всему этому впридачу. И все. Только непонятно, почему к другой ушел — она все его капризы с покорностью овцы ежедневно, можно сказать, даже ежечасно исполняла. Только вот до уровня нужного так и не дотянула, поди ж ты… Да и бог с ним. Ушел и ушел. Некогда ей о нем плакать. У нее романтический ужин на носу, а в холодильнике дома — мышь повесилась…
* * *
Стол она накрыла очень красиво. Можно сказать, изысканно. И даже шампанское в ведерко поставила — взяла напрокат у Ветки. Откуда у нее взялось это ведерко, Ветка и сама не помнила. Держала там свою портняжную мелочь вроде пуговиц да замочков-крючочков всяческих, и вот надо же, по назначению пригодилось. Хотя Ветка ее насквозь с этим ведерком обсмеяла. Ты бы, говорит, еще скатертью бархатной стол накрыла да лакея с ливреями напрокат взяла…
Саша, конечно, удивился поначалу ее приглашению, а потом ничего, даже обрадовался. А может, ей показалось, что обрадовался. Или она просто очень хотела, чтоб он обрадовался… Позвонил в дверь ровно в семь, из минуты в минуту, она едва успела переодеться. И цветы ей вручил. Пять больших свежих роз в хрустком целлофане. Все, как в кино. И начался их ужин тоже как в кино — шампанское по бокалам, салатики по тарелочкам, чокнулись-пригубили, в глаза друг другу глянули бархатно… Только вот разговор потом пошел не киношный, уж больно не терпелось ей ситуацию с курткой этой дурацкой прояснить, так и подпрыгивала на месте, как лихорадочная. Вот Даша Васильева, та никогда от нетерпения не подпрыгивает, у нее все чинно-важно происходит, будто в замедленном каком действии. И вопросов неожиданных Даша Васильева тоже в лоб не задает. И ответов на них срочных не требует…
— Саш, ну вспомни, пожалуйста! Все до мелочей, что в тот день было, вспомни! Ты сам Питу позвонил, или он тебе?
— Ну да, он в обед мне позвонил… Сказал — настроение хреновое, давай, мол, посидим где-нибудь. Я согласился — почему нет? Машину оставил на стоянке, в тот бар, куда он сказал, пешком пришел. А почему ты спрашиваешь об этом, Надь? Зачем тебе?
— А Пит? Он на машине туда приехал?
— Не знаю. Не помню. Может, и на машине. Я пришел, он уже там сидел, меня ждал.
— А потом?
— А что потом? Посидели, поболтали, водки попили. Только я почему-то сразу отключился, не помню ничего. Правда, не помню! Со мной впервые такое было, полнейший провал в памяти.
— А тебе не показалось это странным?
— Да ничего мне тогда уже не казалось! Говорю же — будто сознание потерял. Выпал, провалился куда-то. Потом очнулся на газоне, за скамейкой. От запаха, наверное. Голова рядом с урной лежала, из нее так воняло мерзко… Я поднялся и снова упал, голова закружилась. Вернее, она не кружилась, а будто пространство передо мной туда-сюда двигалось, на части расслаивалось. Странное такое ощущение… Потом, помню, я шел и не узнавал ничего — где я, что я… А потом показалось, что я в свой родной двор вошел. Кстати, ваш двор действительно наш чем-то напоминает, и дом тоже похож… Кто-то из подъезда как раз выскочил, ну, я и вошел. А дальше ты уже знаешь…
— Да, знаю. А утром за тобой уже пришли. Ведь так?
— Нет, не утром, ближе к вечеру. Я дома спал.
— А ты не удивился, почему за тобой так быстро пришли?
— Нет. Я еще в себя не пришел. Мне, помню, про деда говорят, про убийство, про бутылку с отпечатками, а я не понимаю ничего, только головой трясу… Да, еще мне куртку показали — ваша, мол?
— А ты что?
— А что я? Ответил, что она моя, только я ее потерял давно. Они еще посмеялись, что вроде пить меньше надо. Что потерял я ее совсем недавно, всего лишь этой ночью. И в очень хорошем месте — рядом с убитым. Вот тут и пришлось им рассказать, что ночь я провел здесь, в твоей квартире…
— Понятно. А когда ты свою куртку потерял? Вернее, при каких обстоятельствах?
— Ой, да не помню я! Потерял и потерял. Правда, Алиса все время ворчала, что я ее потерял. Она мне ее из Испании привозила, якобы бешеные деньги на нее там потратила. Всего меня, помню, изгрызла. Терпеть не может, когда ею самой купленное пропадает куда-то. Прямо физически страдает.
— А как эта куртка могла попасть на место преступления, ты не задавался вопросом?
— Да, я думал об этом, конечно. Да и спрашивали меня потом… Только этого теперь никто уже не узнает. Убийство деда все равно на наркоманов спишут, я так понял.
— Спишут-то спишут, это им раз плюнуть… Вопрос в другом — где ты ее мог оставить? Ведь кто-то же прибрал ее к себе! И прибрал именно с определенной целью! И этот «кто-то» из числа твоих знакомых. Так что вспоминай, Саша, где ты ее оставил! Или лучше — у кого оставил. Вспоминай! Очень тебя прошу!
— Нет, не помню. И вообще — отстань от меня с этой курткой. Тебе-то она зачем?
— А ты, случайно, не у Пита ее оставил? А что? Бывает же. Пришел в куртке, ушел без куртки… Я вот, например, иногда долго какую-нибудь вещь ищу, а потом она у Ветки оказывается, лежит себе преспокойненько…
— Это ты к чему сейчас про Пита спросила? Ты хочешь сказать, что это он, что ли, мою куртку туда подкинул? И деда убил, да? Ты что, Надь?
— А что я? Алиса вот, например, тоже считает, что именно у Пита ты ее и оставил…
— Откуда ты… Ты что, ходила к Алисе?!
— Ну да, ходила.
— Зачем?!
— Затем! Затем, что очень выяснить хочу, кто тебя так жестоко и бездарно пытался под убойную статью подвести!
— Господи, да Пит-то тут при чем? Он же мой друг!
— Ну да. Он еще и Алисин друг по совместительству. И влюблен в нее с детства. И на тебя обижен жутко, что ты ее бросил. Так что у него куча мотивов, как видишь.
— Надь, ты хоть понимаешь, какую чушь ты несешь?
Он вдруг откинулся на спинку кресла, посмотрел на нее холодно, будто издалека. Это ж надо такое придумать — Пита в убийстве подозревать. Да он таракана раздавить не сможет! Он даже в детстве не дрался ни с кем ни разу, а от вида крови его мутило, как девчонку-неженку. Тоже, нашла убийцу… А что в Алису влюблен — так они давно все привыкли к этому обстоятельству… Ну влюблен и влюблен. Он и сам понимал всегда прекрасно, что шансов у него — никаких. А любовь его сама по себе никого и не оскорбляла, пусть себе любит на здоровье… Тем более теперь, когда он ушел от Алисы, любить ему даже удобнее будет. Не мешает никто. Так что совершенно незачем было Питу с ним так жестоко расправляться. Да и вообще — он даже думать об этом не может! Если так думать, то и не жить лучше. Страшно потому что.
— Саш, тебе просто так хочется думать, что это чушь. У тебя просто глаз на все это замылился, понимаешь? Ты привык просто. — Продолжала зверствовать в своих предположениях Надежда. — Ты в его шкуре не сидел, тебе проще. Попробуй-ка сам изо дня в день быть свидетелем чужого счастья! Это все равно, что по кусочку от сердца своего отрывать, от мужского самолюбия… Я думаю, что это пытка еще та. Ведь есть же самолюбие у твоего Пита, как думаешь?
— Не знаю, Надь. Есть, наверное. Как-то не думал об этом. Только подставлять меня ему незачем. Я ведь сам ушел! Устранился из этого счастья сам, так что незачем ему кусочки от сердца отрывать….
— Да не в этом дело, Саш, не в кусочках этих, как ты не понимаешь… — отчаянно всплеснула руками Надежда. — Просто… Просто он привык свою роль играть, быть вашим добровольным семейным оберегом. Да ты и сам об этом говорил! Мазохизм — штука вообще страшная и очень непредсказуемая. Поэтому вспоминай, где ты свою куртку оставил! Алиса вспомнила, и ты вспоминай!
— Нет, не буду вспоминать. А если даже и вспомню, то не скажу. Ты лучше мне объясни — зачем ты меня на ужин позвала? За этим только? Чтоб мне допрос дурацкий учинить?
— Это не допрос, Саша. Я правду хочу знать. Я тебе помочь хочу.
— А я тебя просил мне помогать? Я просил тебя к Алисе ходить? Тебе не кажется, что ты слишком много на себя взяла? Да, ты мне помогла, конечно, большое тебе человеческое спасибо, но больше мне помогать не надо! Я сам со своей жизнью разберусь! Сам!
— Саш…
— Ну что — Саш? Что это за бесцеремонность такая — лезть в чужую жизнь, как в свою собственную?
— Ну, допустим, ты тоже в этом отношении не ангел! Кто меня вчера стыдил, что в рабстве жить нельзя? Забыл? Я тебя тоже, между прочим, не просила с Витей драться!
— Да я же заступиться за тебя хотел!
— А я что сейчас делаю, по-твоему? Тоже за тебя заступаюсь! Я хочу знать, кто тебя так мерзко подставил! И даже уже знаю, кто! Уверена почти!
— И что? Ну, узнаешь, и дальше что? Побежишь следствию помогать?
— Да, побегу! Из принципа побегу! Законы, они для всех одинаково писаны! И преступление должно быть наказано!
— Ага… И вор должен сидеть в тюрьме…
— Да, если хочешь! Именно так и должно быть! А если сидеть на облаке, как ты, свесив ножки вниз, и знать не хотеть, что вокруг тебя происходит, то можно вообще в блаженного да беспринципного идиота превратиться! Тебе на голову дерьмо будет падать, а ты все будешь твердить — благодать божья… Так, что ли?
— Ну, знаешь…
Он еще силился что-то сказать, но никак не мог, видно, слов поободрать походящих, только головой крутил возмущенно да глазами на нее сердито блестел. А потом вообще со стуком грохнул бокалом с шампанским о стол так, что золотистое вино выплеснулось в тарелку, попортив собой аккуратную нетронутую горку салата с королевскими креветками. Видно, вместе с вином выплеснулась из ее гостя и последняя капля терпения, и подскочил он пружиной ужаленной из кресла — Надежда и опомниться не успела, как хлопнула входная дверь. Ушел… И даже не поел ничего. Зря она старалась. Вон сколько всяких вкусностей наготовила. Придется Ветку с детьми теперь на ужин звать, не пропадать же добру…
Она посидела еще десять минут в напрасном ожидании — может, вернется все-таки, потом протянула руку к телефону, набрала знакомый номер.
— О! А где кавалер-то твой? — озадаченно спросила Ветка, войдя в комнату. — Я думала, у вас тут уже любовь-морковь…
— Да кака така любовь! — подражая голосу тезки-героини из любимого фильма, грустно проговорила Надя. — Убежал мой кавалер, только его и видели. Обиделся он на меня.
— А чего обиделся-то? — осторожно спросила Ветка, запихивая Машеньке в рот клубничную ягоду. — Ты расстаралась, такую еду кудрявую ему навертела, шампанское в ведро зафигачила, а он обиделся?
— Да при чем тут еда и шампанское! Вот все тебе смешно…
— Не, мне не смешно, Надь. Наверное, я просто тебе завидую так. Счастливая ты. Ко мне-то уж точно никто уже на ужин никогда не придет. Хоть зазовись.
— Почему ты так думаешь?
— Да потому! Вот он, мой ужин сидит, твою еду дорогую за обе щеки кушает, — мотнула она головой в сторону Артемки, с аппетитом уплетающего салат с королевскими креветками, вынужденно и щедро сдобренный шампанским из Сашиного бокала. — А завтрак мой клубничку с удовольствием распробовал… Да, Машенька? — заглянула Ветка улыбчиво в перемазанную красным соком мордашку. — А нам и не надо никого… Мы сами себе и обед, и завтрак, и ужин…
— Вет, не говори так. Все у тебя еще будет. Чего ты!
— Конечно, будет. А как же. Главное, верить надо. Всю жизнь верить и ждать. Как твоя мама говорит? Хорошую невесту и на печи найдут? Эх, жаль, печи у меня в квартире нет. А то бы меня точно, вот обязательно даже нашли бы…
— Да перестань! Грустный какой-то у тебя сегодня юмор.
— Ладно, перестала. Так из-за чего, говоришь, твой кавалер на тебя обиделся?
— Да у нас тут спор с ним небольшой вышел. Он считает, что безответная мазохистская любовь — это так, пустяки для человека. И не может быть мотивом для убийства при стечении определенных обстоятельств.
— Ого! Ничего себе темочка для романтического ужина! Безответная любовь, убийство… Ты, что ль, такой разговор затеяла?
— Ну да, я.
— Что ж, с тебя станется. Ты ж не женщина, ты юрист!
— Да, юрист! И при чем здесь женщина — не женщина, когда человека так грубо под статью подвести хотели?
— Да дура ты, Надька, а не юрист… Вместо того чтоб мужику глазки строить, она с ним про убийство говорит… Он что, для этого к тебе в гости шел, что ли?
— А для чего?
— Ой, мама, не могу… — закатила под потолок глаза Ветка. — Что ж тебя так в крайности все время заносит, подруга? К одному она пыльным ковриком под ноги бросается, перышки ему чистит, а к другому с расследованиями дурацкими лезет… Ему твои расследования, знаешь, вообще по фигу! Он же так смотрел на тебя вчера…
— Как? Как смотрел?
— Да с интересом, вот как! Совсем не так, как на следователей там всяких смотрят! А ты — убийство… Во идиотка! Да от этого любой сбежит, ты что!
— Вет, а если без шуток, вот ты сама как считаешь, можно убить, чтоб чужую любовь выслужить?
— О господи, хоть гол на голове теши… — вздохнув, махнула в ее сторону Ветка и задумчиво откусила от большого краснобокого яблока. — Ей про Фому, а она все про Ерему…
— Ну, все-таки!
— Не знаю, Надь, — очень серьезно ответила вдруг Ветка. — Я ничью любовь никогда не выслуживала. Я честно мужа своего любила, и все. Хотя, может, и надо было как-то ее выслуживать, любовь эту. Сейчас бы, может, не жила матерью-одиночкой в квадрате…
— А я вот все время выслуживала, Вет. Сколько с Витей жила, столько и выслуживала. И на убийство ради этой любви пошла.
— Ты чего несешь? Какое убийство? — оторопело уставилась на Надежду подруга. Глаза ее округлились удивленными блюдцами, и рука с надкушенным яблоком застыла на полпути к месту назначения.
— Ребенка моего убийство. Я ведь недавно аборт сделала. Витя так хотел. — Тихо и горестно покаялась Надя.
— Вот сволочь… — возмущенно, но не без некоторого все же облегчения выдохнула Ветка, одновременно стрельнув взглядом в Артемку.
— Ну почему он — сволочь? Он никого не убивал. Это я сама. Испугалась, что он меня бросит, если по-своему сделаю. А он все равно бросил. Так что убийство меня не спасло. И Пита, выходит, не спасло…
— Какого Пита?
— Да так, есть тут фигурант один… А я вот что — навещу-ка я его завтра, фигуранта этого! Мысль, между прочим! Пусть Саша на меня обижается, но все равно я это дело до конца доведу.
— Надь, ты во что такое ввязалась? Это не опасно?
— Нет, Ветка, не опасно. Это пусть ему опасно будет. А мне бояться нечего. И терять уже нечего, похоже. Ни мужа у меня теперь, ни кавалера, ни цепей пролетарских…
— А оно вообще тебе надо, по большому счету? Может, ну его, это твое дело, не стоит и связываться?
— Надо, Ветка. Сама не знаю зачем, но надо. Очень надо. Прямо в одном месте у меня зудит, как надо!
— Ну, если зудит, тогда конечно… — философски изрекла Ветка, пытаясь оттереть послюнявленной салфеткой с Машенькиной мордашки клубничные розовые разводы. Машенька старательно кряхтела, отталкивая материнские руки, потом все-таки возмущенно расплакалась, выгнулась в спинке, капризничая.
— Ладно, все, не буду больше! Нравится — грязнулей сиди! Твое право! — примирительно проговорила Ветка. — Извини, если задела твое самолюбие…
В который раз подивившись Веткиным неординарным методам воспитания, Надежда только головой покачала. И улыбнулась. И в который раз Ветке позавидовала. И вдруг поняла, что с удовольствием променяла бы своего непьющего адекватного мужа на двоих детей. Или даже троих. И пусть бы ей при этом жилось ужасно трудно, все равно бы променяла…
— Ладно, Надь, пойдем мы. Видишь, спать хотим. И Артемка вон уже носом клюет. Потом мне про все это в подробностях расскажешь, ладно? И про Пита этого, и про любовь его мазохистскую…
— Ага. Расскажу. Идите, ребята, спокойной вам ночи…
* * *
Может, для Веткиного семейства эта ночь и впрямь была спокойной. Самой же Надежде не удалось заснуть и на минуту даже. Ложилась, вставала, ходила по комнате, пила чай, снова ложилась. Сон не шел. В конце концов она вообще бросила это мучительное занятие — лежать в темноте с закрытыми глазами. Чего толку-то? Лучше уж продолжать жить наяву, дать волю мыслям-воспоминаниям, которые все лезут и лезут в голову, отгоняя положенное на сон время. Неспроста ведь они в нее лезут. Чего-то им от нее надо, мыслям этим. А тем более, воспоминаниям. Хотя это слишком уж красиво звучит — воспоминания. Как в дамском романе. Как-то не подходило красивое это слово к той жизни, которая была у нее последние три года. Да и слово «жизнь» — тоже не то слово. Не жила она, а работала. Тщательно-кропотливо носила на свою ветку соломинки и травинки, складывала их одну к другой, как та птица-хлопотунья… Зачем, для кого? Зачем позволила себя так переломать-переделать, с какой такой целью? И, что самое обидное, так старалась, со всеми потрохами в эту мясорубку залезла…
Соскочив с дивана, Надежда снова заходила по комнате, словно пытаясь убежать от навязчивых этих мыслей, снова зашла на кухню, снова нажала на кнопку электрического чайника. Потом закурила нервно, встала у темного окна, выпустила сигаретный дым в форточку. Нет, лучше не думать об этом. Не надо. Что было, то было. Назад время все равно не воротишь. Лучше сесть и подумать, с чего она начнет завтра разговор с Питом. Вернее, уже сегодня. За окном-то уже утро почти. И снова на нее напала прежняя маетность, как продолжение грустных мыслей…
Вот плохая из нее получилась Даша Васильева. А Виола Тараканова и того хуже. Никакой выдержки и спокойствия у нее нет, сплошное нервное дребезжание организма перед ответственным разговором. Чего она волнуется так? Боится, что ли? Ну не убьет же ее Пит, в самом деле! Он же подлец и трус. Он только на старика немощного смог руку поднять, а на нее не посмеет. А может, орудие защиты с собой какое прихватить? Скалку, например…
Ей вдруг стало смешно. Так смешно, что грусть и страх сразу пропали куда-то, и организм начало сотрясать уже от рвущегося наружу хохота. Так и до истерики недалеко, пожалуй. Хотя и в самом же деле смешно! Это ж только представить надо — открывает она дверь, входит к Питу в кабинет, потом обличает его аккуратно и быстренько в убийстве и достает из-за спины скалку. Потом размахивается ею изо всей силы и…
К девяти утра она была уже во всеоружии. Не со скалкой, конечно, зато причесанная и подкрашенная, контрастный душ принявшая, в новый брючный костюм одетая, кофе попившая. Правда, круги под глазами, образовавшиеся после бессонной ночи, спрятать под гримом так и не удалось, но бог с ними. Не свататься же она идет, в конце концов. И так сойдет.
Пит сидел уже на своем рабочем месте, уставился на нее исподлобья и очень настороженно. Молчал, пока она шла через весь кабинет к его столу, смотрел, как она усаживается в кресло за маленьким столиком, приставленным к его большому начальственному столу, как закидывает элегантно ногу на ногу. Ну не Шерон Стоун, конечно. Пусть даже и не усмехается, она и без него это понимает. Да та, помнится, и не в брюках была, а в чем-то агрессивно-сексуальном. А усмешка твоя, милый друг, нас даже и на пару с Шерон Стоун не испугает…
— Надежда, что опять у вас случилось? — вполне, впрочем, доброжелательно спросил Пит. — Чем обязан вашему третьему пришествию? Или четвертому уже, я запамятовал?
— У меня ничего не случилось. Это у тебя случилось.
— А что, мы уже на «ты» перешли? Ну, ладно. Пусть так будет. Ну, и с чем пожаловала? Что на сей раз тебя интересует? Сашкины паспортные данные? Номер страхового полиса?
— Нет. На сей раз ты меня интересуешь. Ты зачем деда убил, сволочь?
Пит перестал улыбаться и дернулся непроизвольно, как от резкой зубной боли. Всего на секунду дернулся, но она это заметила. Значит, правильную выбрала тактику — задать основной вопрос в лоб. Хотя на его месте всякий бы от такого наезда дернулся, наверное. И виноватый, и невиновный. И она бы дернулась.
— Ага. И убил, и в землю закопал, и надпись написал… Эй, с тобой все в порядке, дорогая Надежда? Может, тебе водички налить?
— Налей. Хорошо держишься, молодец. А я что-то и впрямь нервничаю.
— Да ладно, не нервничай. Я ж все понимаю, дорогая моя Надежда. Перед Сашкой выслужиться хочешь? Вот она я, мол, какая. Не только алиби-спасение тебе предоставила, но еще и главного злодея пытаюсь вычислить. И неважно, кого я в злодеи назначила, важно то, как я стараюсь! Так ведь, Надежда?
— Нет, не так.
— А ты вообще-то не напрягайся особо в этом смысле, мой тебе совет, — снова надел на лицо прежнюю усмешечку Пит. — Сашку этим не возьмешь. Он все равно Алису любит. Ты же видела, какая она необыкновенная. Тебя с ней и рядом поставить нельзя. Не соперница ты ей, Надежда, ох, не соперница…
— Ну, допустим, это только для тебя она шибко необыкновенная, Пит. У тех, которые с детства безнадежно влюбленные, глаза, кроме объекта своей несчастной любви, и не видят больше ничего. И уши у них не слышат. И солнце им не светит. И себя они забывают. Только и делают, что вокруг вожделенного объекта кружат, пытаются изо всех сил ему пригодиться как-то. Ты ведь любишь Алису, правда, Пит?
— А вот это уже не твое дело, Надежда. Не буду я с тобой чувства свои обсуждать к кому бы то ни было.
— Так и не надо. Я и так все знаю. Ты думаешь, по тебе твоей проблемы не видно, что ли? Да из тебя же злость и раздражение прямо потоком прут в мою сторону! Вмешалась в процесс, мол, зараза, со скалкой своей… А так все хорошо было придумано, правда? Так хотелось тебе Алисе угодить! И куртка Сашина как раз под руку подвернулась… Когда он у тебя ее забыл? Давно уже?
Надежда замолчала, смотрела внимательно, не мигая, в выпуклые влажные глаза напротив. Ничего в этих глазах не отражалось, кроме прежней к ней неприязни. Только щечки на лице у Пита дрожали нехорошо. Так они у женщин полненьких чуть подрагивают, когда они плакать готовятся. Мелко-мелко, часто-часто. Но Пит, вроде, плакать не собирался. Наоборот, усмехнулся снова, проговорил вроде как даже заинтересованно:
— Ну-ну, продолжай…
— А чего продолжать? И так же все ясно, как божий день. Ты давно уже живешь в полном соответствии с желаниями Алисы. Ловишь их на лету, как собака косточку. Алиса захотела дедову квартиру, а тут облом вышел, дед ее прогнал. Да еще и государству ее пообещал завещать. Или того тошнее — Саше. Как ты такое допустить мог? Вот и начал думать, как тебе всех зайцев убить, чтоб Алиса при своем вожделенном сталась. А пока думал — Саша Алису взял да и бросил. Вот сволочь, да? Как он мог вообще? Обидно же! Отомстить же надо за такое предательство. Причем хорошо отомстить, так, чтоб Алиса даже и не догадалась, откуда ветер дует. Чтоб все так было обставлено, будто и не сам он ее бросил, а просто исчез из поля зрения по объективным обстоятельствам лет этак на десять. И квартира дедова тогда уж точно Алисе досталась бы. Потенциальная, так сказать, собственность. Убивать, так сразу двух зайцев, да, Пит? Ты знаешь, самое страшное, что у тебя и впрямь все получилось. Все, как в сценарии. И в выпивку чего-то Саше подсыпал, и подальше от дома увез, и из машины выбросил. А потом к деду поехал. Уж не знаю, как ты его убивал… Главное, что той самой бутылкой, за которую Саша в баре хватался. И куртку его подбросить не забыл. А он, представляешь, когда ему на следующий день эту куртку показали, сразу ее узнал. Да, моя, говорит. Вот же наивный… А потом я вдруг в этот сценарий вмешалась со своей скалкой. Да еще и с тобой познакомилась. Да еще и к Алисе домой приперлась, и слышала, как вы про эту куртку Сашину говорили. Видишь, как все в одну точку сходится, Пит?
— Слушай, Надежда… А ты того… На учете нигде не состоишь? Что-то меня подозрения начинают одолевать…
— Ой, да не надо, Пит! Давай чего-нибудь пооригинальнее придумай! — замахала она на него руками. — Или от страха ничего такого в голову не приходит? Ты не напрягайся так, у меня диктофона с собой нет…
— Ой, как хорошо, что у тебя нет диктофона! — насмешливо проговорил он, откинувшись на спинку стула. Оттолкнувшись ножками от пола, крутанулся туда-сюда резво, снова приблизил к ней лицо: — Хорошо, а то уж я и вправду испугался. Если б у тебя еще и диктофон был, точно бы пришлось в психушку звонить. Потому что тогда тебе бы уж наверняка диагноз определили. Мания величия называется. С манией преследования впридачу. Ты в кого у нас играешь? В мисс Марпл? Хотя нет, она для тебя старовата будет. Тогда в Анастасию Каменскую? Или в кого?
— В Дашу Васильеву.
— Фу-у-у, Надежда, какой дурной тон! Я тоже люблю детективы, но не до такой же степени…
— Да ладно, Пит, ты шибко из штанов-то не выпрыгивай. Вот завтра Саша возьмет да и вспомнит, у кого он свою куртку забыл…
— И что? Что с того, что вспомнит? Если даже и у меня забыл — что с того? Я что, ее выбросить не мог?
— А с чего бы тебе ее выбрасывать? Куртка-то дорогая, а ты ему не кто-нибудь чужой, ты ему друг! Ты ее отдать должен был, но зачем-то у себя держал. Зачем, Пит?
— Слушай, Надежда… У меня такое чувство, будто я сейчас в дурном сне нахожусь. Ты что, и правда что ль меня убийцей считаешь? На полном серьезе?
— Абсолютно на полном.
— И что, я так на убийцу похож?
— Нет, не похож. Зачем тебе быть на него похожим? Ты убийца и есть. И я все сделаю, чтоб тебе это доказать. Хотя ты и сам все знаешь.
— Ну, давай, доказывай, Даша ты наша Савельева. Или как там правильно, я не помню…
— Васильева. Даша Васильева.
— А, ну да. Прости. Ошибся маленько. А пока ты ничего не доказала, сделай милость, покинь, пожалуйста, мой кабинет, уважаемая частная сыщица, мне работать надо…
Выйдя на утреннюю майскую улицу, Надежда вздохнула с облегчением — дело сделано! Хотя какое такое дело и каким образом оно сделано, она представляла себе слабовато. Ну, обличила она Пита в убийстве, дальше-то что? Конечный результат каков? Убийца ведь должен сидеть в тюрьме! А у нее что получается? Разговоры одни? Сам же он не пойдет в милицию с повинной, это же яснее ясного… Надо, чтоб туда Саша пошел. С заявлением, так сказать, на вновь открывшиеся по делу обстоятельства — и про деда чтоб рассказал, и про немцев с квартирой, и про самолюбивую свою Алису, и про безответную Питову к ней любовь, и про куртку… Только ведь не пойдет он, точно не пойдет. Чистоплюй несчастный. А самого чуть головой в дерьмо не отправили…
Она даже содрогнулась невольно, снова ощутив прежнюю злость на Пита. Это ж каким наполеоновским комплексом страдать надо, чтоб вот так вот, за здорово живешь, взять да и распорядиться чужой судьбой! И жизнью бедного старика тоже. Ради своей рабской любви и распорядиться. А что? Сашу наверняка бы осудили, уцепившись за шикарные доказательства, любезно предоставленные им в руки следствия. И Алиса бы поплакала, наверное, от досады по потерянной в Сашином лице человеческой собственности, а потом бы утешилась… Запросто бы утешилась. Потому как лучше пусть пропадает эта собственность ни за грош, чем кому другому достается. Да уж, знает бедный Пит, как лоб расшибить, служа своему идолу. Вот уж воистину — раб во сто крат подлее своего хозяина. Просто потому, что он по собственной инициативе раб. Быть рабовладельцем отвратительно, но добровольным рабом быть — еще хуже. И прав Саша, что надо постоянно тянуть себя из этого дерьма за волосы, каким бы положительным и трезво-адекватным это рабство ни было. Какие бы высокие цели ни оправдывало. Ну их к черту, эти высокие цели. И без них обойдемся. Гнездо гнездом, а свобода дороже…
Надежда вздохнула прерывисто, подняла, сощурившись, глаза к небу. И даже движение руками сделала — смешное такое, будто взлететь собралась. И сама над собой посмеялась тихонько — тоже нашлась тут, птица-ласточка толстомясая… Птица не птица, а велосипед она себе новый обязательно купит. С первой же зарплаты. Хотя ее еще заработать надо, зарплату эту…
Пит после ее ухода долго сидел, не двигаясь. Смотрел в одну точку. Мыслей в голове почему-то не было — ни умных, ни здравых, ни панических — никаких. Одни только чувства. Вернее, чувство было одно, но очень сильное — он ненавидел эту любопытную бестолковую бабу. Пусть, пусть со своими выводами в милицию топает — все равно не докажут ничего. Да им и не нужны лишние заботы. Сейчас, кинутся они проверять, когда и у кого Сашка куртку свою оставил… Ну, если даже и выяснят, что у она у него была Сашей забыта, так причинной связи между этим фактом и убийством деда все равно никакой нет. Потому что он скажет, что и в глаза никакой такой куртки не видел. И вообще, там уже все обстоятельства на наркоманов списали. Не станет никто упираться рогом в землю, расследуя убийство старого деда. Девяносто лет — это вам не кое-что. Столько вообще порядочные старики не живут. Тоже меру знать надо, между прочим. Все ж это понимают. Не все ж такие идиоты, как эта обвинительница хренова, частная дурная сыщица… Разложила все по полочкам, думает, это так легко и просто — взять и старика убить. Да если б она знала, каково это! Если б сама посидела там в кустах, потряслась бы от ледяного тошнотворного страха… Нет, лучше не вспоминать. Не вспоминать, как зазвенела разбитая о голову деда бутылка, как завыл тоскливо старый ротвейлер Бой, не в силах сделать последний прыжок в его сторону, чтоб защитить своего такого же старого и немощного хозяина…
Они вообще странную всегда представляли пару — собака и дед. Даже возраст у них был, если перевести собачьи годы в человеческие, примерно одинаков. И непонятно было, кто кого ранними утрами и поздними вечерами выгуливал — то ли дед Боя, то ли наоборот. Бой без поводка и без намордника всегда трусил рядом, низко опустив то ли пегую, то ли седую, как у старика, голову, и даже по своим срочным собачьим надобностям вперед убежать не рвался. Боялся, наверное, деда без присмотра оставить. Он и на пса-то не стал походить к старости, на загнанную лошадь скорее. Маленькую такую клячу, на последнем издыхании плетущуюся. Откуда только силы взял, чтоб завыть так страшно, когда дед рухнул лицом в высокую траву давно некошеного газона…
Нет, он никогда не думал, что способен поднять руку на человека. Тем более, на старика. Ни сволочью, ни убийцей он себя не считал. И еще он не думал, как это, оказывается, тяжело. Как-то не сочетались в нем воедино преступление с наказанием, он честно не хотел ни того, ни другого… Просто так случилось, что невмоготу стало ему на муки Алисы смотреть. Ее же просто корчило всю, когда Сашка ушел! Надо было что-то срочное предпринимать, очень срочное. Надо было переводить Сашку в другой какой-то разряд. Потому что не могла Алиса быть кем-то брошенной — не для нее это состояние женское и человеческое. Оно для нее не просто мучительным было, оно для нее невыносимым было. В физическом смысле невыносимым, до коликов, до рвоты, до ломоты, до истерики. А Сашка-убийца, Сашка-осужденный — это самое то. Она бы потом и в колонию к нему ездила с передачками, и чудеса жалости и великодушия проявляла, как честная жена. Но жена не брошенная, а наоборот, жалеющая! А это уже две большие разницы, простите…
А эта дура-сыщица доморощенная все про дедову квартиру талдычит. Ну, так на то она и дура со скалкой, чтоб именно так рассуждать. Не понять ей, что ни при чем тут дедова квартира. Мозги не те. Плебейские мозги, материальные. Да и не объяснять же ей, в самом деле, что квартира тут ни при чем, что выхода у него другого просто не было. Нельзя было Сашке от Алисы уходить, вот и все. Не тот случай. Природа, она ж знает, кому какой характер давать. Кому быть рабом, а кому его хозяином. Вот он сам, например, хорошо понимает, что он раб. И что? Что в этом такого-то? Человеческая суть — она за каждым индивидом природой четко закреплена, тут уж никто и ничего изменить не может. И никакие восстания отдельного взятого индивида никакой определяющей роли не играют. Ну, освободишься ты от одного хозяина, и дальше что? Если ты по сути раб, то другой хозяин для тебя всегда найдется. И обязательно хуже прежнего. Все человеческие отношения так устроены, если хорошо к ним приглядеться. А Сашка на свободу захотел, видите ли. Дурак. Один вот тоже был такой, Спартаком его звали… Поэтому сам виноват. Эх, Сашка, Сашка… А ведь он, между прочим, для него все сделал, что мог. Как он уговаривал его не бросать Алису! И так, и этак ему объяснял, что не может он себе этой роскоши позволить, что побег его для Алисы смерти подобен. Она или его уничтожит, или сама сгорит изнутри, растает воском, как свечка. Она и сейчас еще ходит, будто в бреду горячечном, в глазах отчаяние плещется страшным зеленым провалом…
Так что выхода у него, у верного ее Пита, больше и не было. А Сашке повезло просто. Дуракам всегда везет. К другому вот ни за что идиотка со скалкой в открытую дверь не выскочит. Другому и дверь даже не откроют! А тут на тебе — и скалка, и обморок, и алиби… Все для вас, как говорится. А ему теперь что? И дальше на страдания Алисы смотреть?
Он колыхнулся полным рыхлым туловищем, оттолкнулся от пола одной ногой и подъехал поближе к телефону, быстро набрал знакомый номер. Засопел сердито в трубку, слушая длинные равнодушные гудки.
— Сашка, привет! — буркнул сердито, услышав его голос. — Слушай, я чего звоню. Алиса больна очень.
— А что с ней? — озабоченно спросил Саша.
— Что, что… Не придуривайся давай. Будто сам не знаешь, что. Слушай, Сашка, одумайся, а, пока не поздно? Она ведь точно с собой чего-нибудь сделает! Я боюсь за нее, Сашка!
— Нет, Пит. Я не вернусь. И давай эту тему обсуждать не будем. Я уже решил, все. Ты помоги ей там как-нибудь. Ну, в отпуск увези, что ли…
— Да не поедет она никуда! Ты же прекрасно это знаешь. Она тебя любит, очень любит, и страдает сейчас невыносимо. И это вообще не по-мужски… Это подло, в конце концов!
— Да не любит она меня, Пит. Вернее, любит, конечно, но по-другому. По-своему. А скорее всего, это и не любовь никакая… Ей просто чужая душа в собственность нужна, понимаешь? Для полного ею владения, пользования и распоряжения. А это уже из другой оперы, которая не про любовь, а про господина Мефистофеля. Слышал про такого? Так что больше не будем говорить об этом. Все. Мне своя душа и самому пригодится. Все, вытащил я себя, больше туда не вернусь.
— Господи, ну что за хрень ты несешь, Саш? Про душу, про Мефистофеля… Чего ты себе в голову вбил такое? Вы же хорошо жили. А ты взял ее и предал. Ты очень виноват перед ней, Саша. Ты взял и сделал ее абсолютно несчастной. За что?
Саша больше не нашел, что ему и ответить. Сколько раз за последние дни Пит затевал этот разговор, столько же раз и он честно пытался ответить на его одни и те же ли вопросы, то ли требования… Только объяснения его отскакивали от Пита, как горох от стены. Да и сейчас не стоило отвечать, наверное, — все равно он его не услышит. Не услышит и не поймет, что никто никого не может сделать ни счастливым, ни несчастным. Не в его это власти. Потому что каждый сам по себе, изнутри уже, либо счастлив, либо нет. А его жена Алиса как раз из тех — из несчастных. Из того типа людей, которые жить просто не могут, если не властвуют над кем-то, в чем бы эта власть ни выражалась. В активной ли о тебе заботе, в сознательной ли игре в кнуты и пряники, в целенаправленном ли убийстве твоей легкой и веселой натуры… Они жить не могут, никого не ломая и не уничтожая. Ласковые Джеки-потрошители, умные Фредди-Крюгеры. Они и не замечают, что сами находятся во власти у собственного желания власти, в жестокой от него зависимости. Что делать — любая зависимость делает человека уязвимым. Особенно когда она зависимостью вовсе не признается. Властолюбец, как алкоголик или наркоман, всегда глух, слеп и обуреваем собственной жаждой, утолить которую не может никогда. И горе тем, кто попадется ему на пути. Особенно горе добрым, нерешительным да от природы характером слабым — они, как мотыльки, сами слетаются к этому огню, с радостью обнажая перед ним свою душу — на, ешь… Но горе и властолюбцу, если вдруг живая, не съеденная и не сломленная еще душа вдруг окажется не такой уж и слабой, выпорхнет прямо из рук и улетит себе на свободу. И страдания к нему приходят тогда адские, ни с одной человеческой мукой не сравнимые. Ненадолго, правда. Мотыльков-то кругом полно. Иной пока разглядит, к какому огню прилетел, уж и крылышки обжег до такой степени, что и летать не может…
Он, слава богу, улететь сумел. Вовремя понял, что сопротивление, семейные бунты-скандалы да спартаковские войны освободительные ни к чему не приведут. С властолюбцем воевать нельзя, это его только раззадоривает. От него бежать надо, резко и сразу. И назад не оборачиваясь. Спасать надо свою шкуру, свою душу, самого себя спасать. И не слушать тех, кто обвиняет тебя в жестокости по отношению к обиженному. Особенно если обижена женщина — вроде как не по-мужски… Не слушать, потому что жажда властного обладания полов не различает. Ей все равно, где жить — в мужчине ли, в женщине…
— … Эй, ты где там? Чего молчишь? — вернул его из раздумий сердитый голос Пита. — Скажи хоть что-нибудь, не молчи. Натворил делов, теперь молчит в тряпочку…
— Я не молчу, Пит. Я же сказал тебе — ничего больше не будет. И можешь обвинять меня во всех мужицких грехах и подлостях. Давай. Даю тебе полный карт-бланш. Но только без меня, ладно?
— Ладно, понял… Но хотя бы свою дурную бабу ты можешь унять, черт бы ее побрал? Чтобы она ни Алисе, ни мне тут нервы не мотала!
— Какую бабу?
— Ну, эту, Надежду твою. И опору. А то она приперлась к Алисе вчера… Ходит, подслушивает, вынюхивает, понимаешь ли… Сегодня утром вот ко мне притащилась, обвинила черт знает в чем…
— А в чем, Пит? В чем она тебя обвинила?
— Да ты не поверишь! В том, что это я деда убил. И доказательства твоей виновности подбросил. Ну, бутылку разбитую, куртку…
Пит выпалил последние слова возмущенной скороговоркой и замолчал, ожидая Сашиной реакции. В общем и целом, реакция эта должна была последовать незамедлительно и быть очень предсказуемой, возмущенной то есть. Однако трубка опять замолчала тяжело и надолго. Очень нехорошо замолчала трубка. Он даже подумал — связь оборвалась, наверное.
— Эй, алё, Сашка… Ты где? — осторожно проговорил он и съежился, будто предстояло войти в ледяную воду. Или наоборот — в кипяток. И сердце вдруг выскочило из груди, и забилось в болезненном сосудисто-аритмическом беспокойстве.
— Да здесь я, Пит. Здесь. Слушаю тебя. — Снова послышался из трубки Сашин спокойный голос. — Ты знаешь, а я ведь вспомнил… Я все вспомнил про эту самую куртку. Я ее у тебя в машине оставил. Осенью еще. На заднем сиденье забыл.
— И что? Что ты этим хочешь сказать?
— Да ничего. Совсем ничего. И так все понятно. Но сказать надо, конечно. Одно только слово хочу сказать — прощай, Пит. Не друзья мы больше. И не приятели даже. И вообще — не знакомые друг с другом мужики. А за Алису не переживай — она и без твоей помощи справится. Другую мужскую душу-собственность себе со временем найдет. Только захочет ли эта мужицкая собственность тебя в друзьях семьи держать — вот вопрос…
— Сашка, брось… Ты что? Мы же с детства друзья…
— Нет, Пит. Зачем я тебе без Алисы? Всего доброго, береги себя. А насчет Надежды не переживай — я поговорю с ней. Сегодня прямо и поговорю. Она больше к вам не придет…
Все. Отбой. Короткие гудки в трубке заверещали беспокойно-отвратительно в самое ухо. Он аккуратно положил трубку на рычаг, сцепил пухлые пальчики нервной хваткой. Сердце все еще выдавало барабанную тревожную дробь, и тело будто покрылось липкой пленкой холодного пота. И воротник рубашки под галстуком был совсем мокрый, и по спине текло неприятно и щекотно, словно и впрямь окатило его ледяной водой. Или кипятком. Да еще и телефон зазвонил снова призывно и требовательно, заставив его содрогнуться от дурных предчувствий. Не вздрогнуть от неожиданности, а именно содрогнуться…
— Да, Алиса, слушаю.
Он сразу понял, что звонит именно она. Он даже и отдышаться толком не успел. И сделать для нее ничего не успел. Вернее, не смог. И успокоить ее ему нечем. Ужас дурного предчувствия снова схватился за сердце, снова стал мять его в своих железных и равнодушных пальцах. И голос сорвался петухом по-мальчишечьи. И все равно надо было говорить ей что-то, держать ответ, куда ж от него денешься…
— Да, Алиса, я слышу. Да, говорил. Только что. Он не вернется, Алиса… Постой… Ну не надо… Ну как это… Я, я буду рядом с тобой! Всегда! Что? Почему не надо? Подожди, Алиса, я не понял… Как это — никогда? Нет, я не буду напоминать… Ну почему присутствием? Нет… Нет, Алиса… Не надо так со мной…
И снова короткие гудки в трубке. Горестно-отвратительные. В самое ухо. Выпрыгивают, бьют прямиком по истончившимся нервам. Господи, он потерял ее. Не ее, он все в своей жизни потерял. Весь ее смысл. И жить ему больше незачем. Зачем жить маленькому жалкому круглому человечку, похожему на старую рыхлую тетку? Ничего у него больше в жизни нет. Ни единой зацепки. Вот оно, истинное наказание…
Уронив голову на руки, он заплакал совсем по-бабьи, с подвыванием и частыми короткими всхлипами. Кто-то заглянул в дверь и закрыл ее торопливо. Потом опять заглянул, и опять закрыл нерешительно. Неудобно. Неловко как. Надо бы перестать плакать, взять себя в руки, да он не мог. Плакал и плакал, и никак не мог остановиться….
* * *
— … Надь, ну я очень тебя прошу, уймись, а? Не ходи ты к ним больше! Не надо туда возвращаться, ни к чему это! Я с таким трудом себя оттуда вытащил, можно сказать, еле ноги унес, а ты… Пойми, не хочу я никакой справедливости! Тем более, ее вообще не существует, справедливости твоей, в смысле единого для всех понятия. Она у каждого своя собственная, индивидуальная…
Саша сидел в кресле, элегантно сложив ногу на ногу, следил за ее лихорадочными передвижениями по комнате. Надежда нервничала, бегала сердито от окна к двери, изредка бросая на него гневные взгляды. Вот же заладил — не хочу, не хочу… Сам целую лекцию ей прочитал тогда, у Ветки, про невозможное человеческое унижение, и сам же готов такое в отношении себя с рук спустить…
— Ой, ну что значит — не хочу?! — снова взорвалась она праведным гневом. — А как же дед? Тебе за него что, не обидно, что ли? Да это же он, он его убил! А ты — не хочу…
— Ну, моим походом в милицию с этими твоими вновь открывшимися обстоятельствами деда уже не вернешь. Если даже сто раз докажешь, что именно Пит его убил, все равно не вернешь. Не надо, Надь. Он и без твоих доказательств — уже несчастный. Он ведь от крайнего отчаяния на этот шаг пошел, я так понимаю. Каждый хочет, чтоб его женщина любила. А его сроду никто никогда не любил. Вот он и придумал себе маленькую иллюзию с Алисой. Только она поначалу маленькой была, а потом в огромную болезненную потребность выросла. Потребность быть третьим, быть нужным, быть при чужих отношениях серым кардиналом, ухватывать от них и свой маленький кусочек. Прости его, Надь. Есть люди, которых надо просто уметь прощать…
— Ну уж нет! Нет у нас права на такое прощение! Он человека убил, понимаешь? А убийца, он убийца и есть, каким бы жалким да несчастным он ни был! Нет ему оправдания. И возмездие должно совершиться.
— Ого! Какая ты у нас пафосная, оказывается! А я и не знал… Надь, уймись, а? Ну какое такое возмездие? Тебя вот тоже твой муж убивал каждый день помаленьку, и что? Тоже возмездие над ним совершить надо?
— Да при чем здесь это…
— А при том! При том, что бесполезно над человеком что-то снаружи совершать. У каждого внутри свое собственное возмездие сидит, понимаешь? Сидит и часа своего ждет. И когда-нибудь само собой совершается, когда для этого свой срок приходит. В человеческой природе все, между прочим, очень мудро устроено…
— Ага! Тебя послушать, так все судебные органы отменить надо. И пусть все убивают друг друга, а потом сидят себе в удовольствие и всю жизнь ждут, когда ж это у них возмездие внутри соизволит проснуться да само себя палками высечь, как унтер-офицерская вдова? Нет уж, глупости ты говоришь! Не согласная я! И как человек, и как юрист не согласная!
— Юрист, говоришь? — усмехнулся загадочно Саша и взглянул на нее очень внимательно, будто вспомнил чего. — Точно, я ж забыл совсем…
— Чего ты забыл?
— Слушай, Надежда, а я ведь свое обещание насчет тебя выполнил. Я ж работу тебе нашел!
— Да? А где? Что за место? Расскажи!
— Терпение, мадам, терпение! Завтра все узнаете. Сюрприз для вас будет. Очень большой и очень загадочный. Завтра в гости тебя поведу.
— Куда? В какие гости?
— Да не бойся ты. Для начала — просто с мамой знакомить. А там видно будет.
— Как — с мамой? Что, прямо с твоей мамой? Ничего себе…
— А чего ты так ужасаешься? Она у меня не кусается. Она деловая, конечно, женщина, своеобразная очень, но что не кусается — это я могу тебе точно гарантировать. Да и вообще, она тебе рада будет, потому как ты есть не кто-нибудь, а самая моя настоящая спасительница. Воительница со скалкой. Алиби-Надежда, одним словом.
— Ладно, пойдем… Отчего ж не сходить? — пожала плечами Надежда. — А как мне одеться, Саш?
— О, господи! В боа с перьями и в кожаные шорты! А еще — в паранджу! Ну чего ты так перепугалась, не пойму? Надевай, чего хочешь! Там все свои будут. Мама да сестренка моя. И все. Только уговор — про Алису ни слова! И тем более про Пита! А то начнешь там свою грозную песнь про возмездие…
— А они что, не знают, что ты… что ты…
— Да все они знают. Просто тема эта у нас закрыта уже. Они меня поняли и все приняли, как есть. Я думаю, что и для нас с тобой эта тема уже закрыта. Что нам, в конце концов, говорить больше не о чем? И вообще, я есть хочу! Ты бы покормила меня лучше, а? У тебя от вчерашних салатиков в холодильнике ничего не завалялось? Я ведь и не поел ничего, убежал, занервничавши… А память о вкусной еде осталась! Так в глазах и стоит…
— Ой… А ты что, будешь есть вчерашнее?
— Да запросто! Если хочешь знать, я вчерашнюю еду даже больше люблю. Знаешь, как говорят? Если вы любите вчерашний суп, то приходите завтра…
* * *
Она уже два часа кряду крутилась перед зеркалом и никак не могла решить, что же ей такое надеть. Чтоб было скромно, но нарядно. Чтоб не ярко, но и не совсем по-мышиному. Может, черный строгий костюм с белой блузкой? Она в нем такая стройная… Нет, костюм не годится. Слишком серьезно как-то, будто она на деловую встречу собралась. Там же просто семейные посиделки будут, Саша сказал… Может, вообще в джинсах пойти? Опять же легкомысленно очень, да и неуважительно, наверное. Она ж не знает, каких нравов его мама… Вечернее длинное платье с голой спиной тоже не подойдет — вообще выглядит вызывающе для первого знакомства. Вот же головная боль какая! Полный шкаф тряпок, а надеть нечего. Да еще волнение это дурацкое одолело. Чего она трясется-то так, господи? Ну не съедят же ее там, в самом деле…
Вспомнилось почему-то, как вот так же она волновалась, когда ждала приезда Витиной мамы на свадьбу, свекрови своей будущей. Очень уж хотелось ей понравиться. Все приставала к Вите с вопросами — какая у него мама, какие у нее вкусы… Он отмахивался досадно — сама, мол, увидишь. Она и увидела. Вывалилась из вагона толстая одышливая тетка с хронической астмой, с красным лицом, с поджатыми куриной гузкой крашеными губками и маленькими злыми глазками, которые тут же прошили ее насквозь, как смертельные пули из автомата Калашникова. Сначала прошили, а потом изволили подобреть и улыбнуться сладко — а куда было им деваться? Свадьбу-то мама с Надеждой сами устраивали, на свои скромные средства. Рассчитывали, что Витя со своей мамой потом им компенсируют хоть что-то. А только большая фига вышла из той компенсации — даже и разговору об этом не зашло. А сами они спросить постеснялись…
Потом Витя свою маму больше в гости не звал, и сам к ней ни разу не съездил. Надежда поначалу изо всех сил пыталась поддерживать родственные отношения, все названивала ей в маленький провинциальный городок, но потом перестала. Разговаривать было абсолютно не о чем. Беседы эти телефонные превратились постепенно в настоящую пытку, в лихорадочный поиск пригодной для обоюдного общения темы. Другое дело, если б ребеночек у них был. Можно было бы о нем Витиной маме рассказывать. А так — абсолютно не о чем говорить. Не погоду же бедную терзать из раза в раз, в самом деле…
Наконец она остановила свой выбор на блузке и строгих черных брюках. В блузке хорошо — в блузке выпучившуюся складку на талии не видно. Она вообще обнаглела за последние дни, эта противная складка. Сзади, со спины, аж висит почти! Лезет и лезет природная склонность наружу, хоть плачь. Наверное, ест она много. Надо бы урезать себе рацион, да терпения не хватает. Вот почему одни, когда нервничают, вообще есть не хотят, а другие так и норовят запихнуть в себя чего-нибудь побыстрее да повкуснее? Надо будет с Веткой об этом поговорить, у нее на подобные вопросы всегда какой-нибудь ответ мудро-остроумный в запасе есть. Ого! А вот это уже катастрофа! Уже и брюки с трудом на талии застегнулись. Еще немного, и придется срочно менять гардеробчик. А менять его особо не на что — средства к существованию уплыли из рук, можно сказать, в один и тот же прекрасный день. Ни мужниной зарплаты теперь нет, ни своей… Вот уж воистину Вити на нее нет, ей богу! Так бы сейчас окатил с головы до ног холодным брезгливым взором, что сразу бы дорогу к холодильнику забыла! Хотя ну ее, эту его брезгливость. Таракан она, что ли? Хватит с нее. Фу, как вспомнишь этот его взгляд, сразу мороз по коже… Не надо ей больше этого. Мы не рабы. Рабы не мы. Мы всего лишь склонные к полноте женщины, а не существа презренные. Пусть, пусть себе складка растет, черт с ней. Надо просто успокоиться, надо перестать себя розгами сечь, и все само собой образуется…
Разобравшись с нарядами, она опять столкнулась с неразрешимой проблемой — какую бы прическу на голове соорудить по тому же принципу, то есть чтоб скромно было и в то же время красиво. И опять извелась вся выбором. То волосы назад фигурной фигой закрутит, то по плечам распустит белые наращенные кудри, а то сильно набок зачешет… Маета, одним словом. А один раз даже желание промелькнуло вернуть назад прежние свои волосы — родные, русые, тоненькие, прямые. С проборчиком посередке, с живым блеском, без всяких там пенок и лаков… Пусть плохонькие, конечно, но свои же! Вот раньше, до Вити, ей и в голову не приходило, что они такие совсем уж никудышные…
Саша заехал за ней ровно в половине седьмого, как и обещал. Посигналил под окном призывно. Мучения с прической пришлось в срочном порядке прекратить, просто собрав волосы на затылке в большую заколку-краб. В последний раз глянув на себя в зеркало, она махнула рукой — а, будь что будет, — показала язык, схватила ключи, сумку и застучала дробно вниз по лестнице каблуками-шпильками. По пути ударила костяшками пальцев в Веткину дверь. Условный знак — три длинных, два коротких. Ветка открыла, глянула вопросительно.
— Ну, как я тебе? — быстро спросила Надежда, повернувшись перед подругой.
— Отпад, как всегда… А что, собралась куда-то?
— Ой, ну зачем обкудакала! Куда, куда… Клуша! Вот теперь мне из-за тебя удачи не будет!
— Да ладно, суеверная ты наша… На свидание, что ль, собралась?
— Нет, Ветка. Бери выше, смотри глубже. С Сашиными родственниками еду знакомиться.
— Иди ты… — поползли брови у Ветки вверх. — Правда, что ли? Ну ничего себе, темпы — пятилетку в три года… И месяца не прошло после рокового удара скалкой по мужской голове. Везет же тебе, Надька! А ко мне б хоть какой самый завалященький мужичонка в дверь постучал! Уж я бы его скалкой так огрела, так огрела…
— Ничего, Ветка, стукнет еще! Какие твои годы? Ты, главное, жди!
— Ага. Я жду. И скалку уже приготовила, старую, бабушкину… Ни пуха тебе, Надька!
— К черту, к черту… — смеясь, махнула на бегу ей Надежда рукой. — Пока, Ветка…
Двор, в который заехал Саша, и впрямь был копия Надеждин. Те же стандартные домики-грибочки детские, те же скрипучие качели и маленький скверик в глубине. Даже, показалось, бабушки те же на скамеечках сидят. И дом был похож. И правда перепутать можно, если зайти сюда вечером, да еще и в сильно неадекватном состоянии. Прямо «Ирония судьбы» какая-то. Только более жестокая. С нераскрытым убийством, с алиби, с неразделенной мазохистской любовью…
Вздохнув, Надежда вложила ладонь в протянутую к ней по-джентльменски Сашину руку, вышла из машины. А войдя в подъезд, испуганно к нему обернулась, схватившись за голову:
— Слушай, а чего это я с пустыми руками иду? Вот ворона…
— А что такое у тебя в руках должно быть? — удивленно уставился на нее Саша.
— Ну, цветы хотя бы…
— Успокойся. Женщина женщине цветов не дарит. Это дурной тон. Пошли давай…
— Нет, погоди, Саш! А что у вас сегодня? По какому случаю праздник? Надо же подарок, наверное…
— Да не надо никакого подарка, Надежда! Вот же беспокойное хозяйство… Волнуешься, что ли?
— Ага. Волнуюсь.
— Ну, давай, давай. А тебе идет, между прочим. Столько всяческих эмоций в одну секунду по лицу пробегает, прям одна эмоция краше другой! Все смотрел бы и смотрел, как ты красиво волнуешься…
— Да ну тебя. Скажи лучше — точно праздника нет? А то поставишь меня в неловкое положение…
— Ну, если честно, праздник у нас и правда есть. Сеструха сегодня диплом защитила. Тоже теперь, как ты, юрист, между прочим. А больше я тебе ничего пока не скажу. Сама все увидишь, все узнаешь. Вперед, Надежда! Нас ждут великие дела…
Дверь Сашиной квартиры оказалась на третьем этаже — а как должно быть по-другому? Как поднимешься, сразу направо. Как и у нее. Пока Саша возился с ключом, она напрягла спину, быстро вдохнула-выдохнула воздух, состроила на лице приятную улыбку. Как страшно-то господи. А вдруг она его маме не понравится? Почему-то она сейчас очень боялась этого, как будто судьба ее решалась. Интересно, с чего бы это? Ну, подумаешь, в гости пригласили… Где тут судьба какая? Хотя чего уж там… Хватит, дорогая, хватит самой себе врать! До страха, до замирания сердечного, до дрожи в коленках хочется ей такой вот новой судьбы, с присутствием в ней этого красивого доброго парня… Эмоции, говоришь, тебе мои нравятся? Господи, да я тебе столько выдам этих эмоций, разнообразных и всяческих, что мало не покажется. Я и сама по ним соскучилась за те три года, что жила рядом с положительным и равнодушным мужем своим Витей…
Саша между тем открыл дверь, подтолкнул ее слегка в спину, завел в прихожую.
— Мама! Олька! Вы где? Мы уже пришли! Идите знакомиться! — крикнул он куда-то в район кухни. А может, там была не кухня. Судя по огромной прихожей, квартира вовсе не была однокомнатной, как у нее. Странно. Дом-то однотипный… Увидев ее растерянность, Саша тут же пояснил:
— Да, не удивляйся. Раньше эта квартира тоже была однокомнатной. А потом родители соседнюю трехкомнатную купили, расширились, так сказать. Тогда еще отец жив был…
— Мам, ну ты где? — снова крикнул он нетерпеливо. — Иди, знакомься! Вот она, моя спасительница со скалкой! Теперь уже, слава богу, без скалки…
Что-то странное послышалось вдруг Надежде в Сашином голосе. Лукавство какое-то, что ли. Она посмотрела на него удивленно, спросить хотела, да не успела.
— Иду, иду! — раздался игриво-напевный голос из коридора. — Иду, ребятки…
Надежда напряглась внутренне, хотела снова резко вдохнуть-выдохнуть, но успела только вдохнуть. А выдохнуть уже не успела. Она и сама не поняла поначалу, что такое с ней произошло — решила, глюки уже начались от нервного дрожания организма. Потому что вместо Сашиной мамы в прихожую выплыла собственной персоной ее бывшая работодательница. Так в дурном сне бывает — ждешь одного человека, но вместо него появляется чудище с рогами и змеиной пастью…
— Господи, Надежда… — проговорила совершенно нормальным человеческим голосом «глюк» Елена Николаевна. Хотя и не совсем человеческим. В нормальном человеческом голосе столько удивления не бывает. — Как это… Погоди, но этого не может быть… Это и правда ты, Надежда? Но…
Больше у бывшей работодательницы слов для бывшей подчиненной в лексиконе не нашлось. Слава богу, хоть способность выражать свои эмоции взглядами да жестами осталась. Так и стояла она в дверях удивленным изваянием, пялила на них глаза да руками разводила довольно неуклюже — то от Саши к Надежде, то, наоборот, от Надежды к сыну ладонь тянула. В прихожую тем временем выскочила прехорошенькая пухлая девчонка в стильных джинсиках, очень мило обтягивающих основательные круглые ножки, улыбнулась гостье ласково.
— Здравствуйте! Очень приятно! Я Ольга, Сашина сестра! А вас Надеждой зовут, да? — быстро затараторила она, подходя к Надежде. Оглянувшись на мать, спросила испуганно: — Мам, ты чего? Случилось что-нибудь? — Не дождавшись ответа, снова повернулась к гостье: — Ой, да вы проходите! Нам Сашка про вас все уже рассказал! И как вы его скалкой по голове огрели, и как потом в милицию ходили, и как вас за это с работы уволили… Одни из-за него у вас неприятности, в общем! — Потом, обернувшись снова к матери и страшно понизив голос, прошептала: — Ну мама, ну ты чего… Что это с тобой, в самом деле? Неудобно же…
— Да погоди, Олька. Не тарахти, — шагнул к сестре Саша, слегка приобняв за круглые плечи. — Дай маме в себя прийти. Видишь, она пока осознать не может, кого она в тот день так вероломно обездолила, с работы выгнав… Для тебя ж старалась, глупая! Хотела тебе местечко освободить. Порадеть, так сказать, родному человечку.
— Мам, это что, правда? — округлила и без того круглые глаза Оля. — Что, Надя — та самая, которую ты уволила? Твоя бывшая юристка?
— Ну да… Правда, конечно… — наконец подала голос Елена Николаевна. — Что ж, действительно, так и получилось… Ты ведь в тот день в милицию бегала, да, Надежда? Я помню, как ты задержалась надолго. А я тебя за это, значит… уволила?! Ты моего сына спасала, а я тебя…
— Да, мам, так оно все и было. — Грустно подтвердил ее догадки Саша. — Ты еще в тот день, помнишь, все требовала от меня, чтоб я тебя познакомил со своей спасительницей. Очень уж отблагодарить ее порывалась. Вот, отблагодарила, значит. С работы взашей выгнала.
— А ты что, знал? — тихо спросила Надежда. — Ты знал, что я у твоей мамы работала?
— Нет, не знал, конечно. Откуда? Я вчера только догадался.
— Как?
— А я, знаешь, решил действовать твоими методами, Надь. Ну, то есть тоже праведным сыщиком заделаться, справедливость восстановить… Вот и решил пойти к тебе на бывшую работу, права покачать. Чего это вы, мол, свою бывшую юристку, господа хорошие, так незаконно уволили? Еще судом твоих обидчиков хотел припугнуть, восстановлением на работе…
— А как… Как ты узнал, где я работала?
— Господи, да Ветке твой позвонил, она мне телефончик продиктовала! Вот тут я и обнаружил, что пойти права качать мне надо не к кому-нибудь, а к собственной матушке.
— О господи! Но как же это, Саша… Надежда… — всплеснула руками совсем по-бабьи Елена Николаевна. — Ничего себе, опозорилась перед сыном…
— Ладно, дамы, давайте хотя бы за стол сядем! Чего мы в прихожей стоим, как неродные? Мы с Надеждой с голоду умираем! Мы слишком много пережили за последние дни, и потому нам полагается усиленное белковое питание. Что у нас сегодня припасено для праздничного ужина? Пахнет — умереть от аппетита можно!
— Это я свининку в духовке запекла… — виновато улыбнулась им обоим Елена Николаевна.
— Замечательно. Пойдем, Надежда, есть мамину свининку и пить вино за твое здоровье. И за скалку, подвернувшуюся так вовремя в твои руки. Олька, веди ее к столу, а то она сейчас от страха и смущения в обморок упадет.
Праздник у них получился на славу. Елена Николаевна оказалась на удивление замечательной кулинаркой — кто бы мог подумать. Стол ломился от всяческих вкусностей — искушение какое-то, а не стол. Надежда стеснялась поначалу — очень уж было непривычно видеть свою строгую работодательницу в домашней обстановке. Так и казалось, что она вот-вот взглянет на нее строго, отчитает за что-нибудь. И потому все время вздрагивала, когда та к ней обращалась. В конце концов Елена Николаевна не выдержала и правда взглянула строго:
— Надежда, прекрати немедленно! Ну что ты сидишь скукоженная да приплюснутая вся, как на утренней оперативке? Я и так себя последней тварью неблагодарной чувствую, а ты усугубляешь…
— Ладно, я больше не буду кукожиться, Елена Николаевна. Я постараюсь. Вы же знаете, я способная, — рассмеявшись, вдруг легко проговорила Надежда и запихнула себе в рот с удовольствием сочный кусок свинины. И стала жевать — тоже с удовольствием. Ох, и оторвалась она сегодня на этой свинине! Даже считать не пыталась, сколько проклятых калорий ввалилось в ее организм наглой сытой толпой. А завтра они, эти калории, обязательно устоятся в ней поудобнее, выскочат наружу вновь образовавшимся в самых неподходящих местах жирком… Странно, но думалось почему-то об этом грядущем фигурном безобразии без прежнего страха. Скорее, весело даже думалось. От выпитого вина, наверное. Постепенно она и впрямь перестала «кукожиться», смело вступила в разговор, долго обсуждала с Ольгой ее учебу в родном юридическом, спрашивала про любимых преподавателей. Сестра у Саши оказалась девушкой очень веселой, к тому же еще и болтушкой. Блестела глазами, улыбалась широко и белозубо, всячески выражая Надежде свою симпатию. Саша в основном помалкивал, лишь взглядывал на нее изредка и подмигивал ободряюще — расслабься, мол, Надежда, чего ты, хватит трястись…
А потом Саша с сестрой тактично ушли мыть посуду на кухню, и они долго еще сидели с Еленой Николаевной вместе на диванчике в гостиной. Хорошо так сидели. Посмотришь со стороны — прям две ближайшие родственницы, беседуют себе задушевно. Суровая ее работодательница, утирая круглые горошины слез, то и дело норовивших выскочить из уголков глаз, исповедовалась очень старательно, будто грех тяжкий с души снимала. Да и то, было ей чего порассказать …
— Ты прости меня, Надюша. Прости, что так поступила с тобой некрасиво. Это не я сволочь, это жизнь такая. Я ведь, когда в твоем возрасте была, вообще ни беды, ни заботы никакой не знала. Это потом уж все свалилось на меня такой полной мерой, что хоть волчицей вой…
Судьба у Елены Николаевны, как из ее откровений выяснилось, и впрямь была необыкновенной. Не в том смысле, что яркой да счастливой была, а скорее наоборот, горем до краев переполненной, в котором побарахтаться пришлось бедной женщине очень уж основательно. И долго. И отчаянно. Так побарахтаться пришлось, что взбила она в конце концов твердое масло из жидкой сметаны, как та лягушка из басни. И на поверхность жизненную таки выбралась. Молодец…
А начиналось все в ее жизни так беззаботно! Так же, как и у многих счастливых женщин — семья, школа, институт, замужество… Очень удачное по тем временам было у нее замужество, все кругом говорили. С шикарной свадьбой. Материально обеспеченное. С жилплощадью. И вовсе с ее стороны получалось оно не меркантильное, это замужество. Просто повезло так. А что, бывает. Редко, но бывает, чтоб все сразу — и любовь, и достаток… Даже на работу выходить после декретного отпуска ей не надо было. Муж, будучи большим начальником строительной организации, очень хорошо зарабатывал — правдами и неправдами, конечно. В чем правда, в чем неправда, она и не вникала особо. Муж сказал сидеть дома, она и осталась. А потом еще и второго ребенка родила. И с удовольствием посвятила себя дому и детям, искренне полагая, что это и есть теперь богом и судьбой положенная ей основная задача-функция — тихой домашней клушей быть, хорошей женой да матерью. Очаг семейный блюсти. И так она его свято блюла, в свои тихие домашние дела с головой погрузившись, что не ощутила на себе никаких для наступившего нового времени катаклизмов да переходов, вокруг нее вовсю происходящих и судьбы других людей весьма сильно перетряхнувших. Ну, объяснял ей там чего-то муж про приватизацию и акционирование, ну, нервный стал, раздражительный… Всякое бывает. Муж есть муж. Надежда и опора. Ему все можно. И даже поздно ночью под хмельком возвращаться можно, и в сауну ходить, и в рестораны, и все другие мероприятия посещать, положенные по статусу клану нарождающихся «новых русских», — все можно. А ее дело — дом в порядке содержать да детьми заниматься, Сашенькой и Оленькой. Мечта, а не жизнь у нее была. Она думала, всегда так и будет…
Однако «всегда» — понятие очень уж неустойчивое. Никто и никогда не может сказать — это у меня навсегда… Жизнь да судьба по-своему рассуждают, и им абсолютно все равно, какие планы на жизнь человек в голове своей держит. Вот и для нее, для ухоженной и тихой жены и домохозяйки Леночки, свое испытание этой судьбой было уже уготовано. Разбил-расколол надвое ее тихую домашнюю жизнь раздавшийся поутру телефонный звонок. Торопливый и незнакомый мужской голос будто штопором ввинтился ей в голову, она даже и не поняла сразу, о чем он ей толкует. Испугаться она испугалась, конечно, а только суть произошедшего после в нее окончательно проникла. После, когда увидела себя идущей по длинному больничному коридору, будто со стороны, будто это и не она идет к двери с пугающей табличкой «реанимация», а какая-то другая женщина… И все никак она не могла в толк взять, зачем ее мужа любимого самого на стройку понесло с дурацкой какой-то инспекцией. Он же начальник, как никак. И без него бы справились. Стал он неприлично грузен к солидному своему начальницкому возрасту, вот и проломились под ним коварные строительные мостки, сделанные из ненадежных каких-то досочек. И упал он очень уж неудачно, хотя и невысоко совсем было. Позвоночник повредил. Через три месяца стал по дому кататься в инвалидной коляске…
А потом вдруг посыпались на ее бедную женскую голову разные неприятности-откровения, которые раньше и близко ее не касались. Материальные, например. Выяснилось вдруг, что особых денежных накоплений у них для жизни и не имеется. Да и быть не может. Времена просто не те еще были. Тогда будущие олигархи только-только ножи свои точили да к государственному пирогу приближались поближе, чтоб урвать впоследствии свой кусок получше. И не случись с Леночкиным мужем такое несчастье, и он бы свой ножик точил, и тоже бы приближался…
В общем, надо было ей свою жизнь срочно пересматривать. Детей поднимать надо, за мужем-инвалидом ухаживать надо… И помощи ждать тоже не приходилось — ни друзей, ни родственников обеспеченных вокруг нее как-то не образовалось. И потому встала она одним прекрасным утром, накормила свое семейство завтраком, как обычно, и заявилась на фирму к мужу. Руководить. Деньги зарабатывать. А что было делать? Другого выхода у нее и не было.
Встретили ее, конечно, очень настороженно. Мужицкими глумливыми ухмылками да женским возмущенным шепотком за спиной встретили. Пришла, мол, домохозяйка, курица слабоумная, нами командовать. Толку нет, а туда же. И знаний никаких по мужней специальности нет. И опыта тоже. А она все равно пришла, держа в руке мобильник для связи с мужем, как палочку-выручалочку. И руководить начала, не выпуская этот мобильник из рук и связываясь с ним каждую минуту. И даже худо-бедно вникать начала в дела фирмы, будучи неким проводником воли ее настоящего хозяина. И как ей трудно-невозможно было на первых порах, только она одна знает. Сколько слез было пролито в ночную подушку… И все время отчаяние нападало, так хотелось все бросить и сбежать от всего этого подальше, обратно, к привычному семейному очагу. Просто до невозможности хотелось! Однако возможности хотеть «до невозможности» у нее тоже не было. Забота о пропитании семьи выталкивала ее каждое утро из дома, прямо в спину выталкивала совершать свой женский подвиг, будь он трижды неладен, подвиг этот с опухшими и покрасневшими от ночных слез глазами…
А потом, наконец, проснулось в ней что-то самостоятельное, второе дыхание пришло. Надоело, видно, женскому организму страдать да плакать. И дело уже пошло и без лихорадочно сжимаемого в потной ладошке мобильника. И смелость пришла. И решительность. И опыт какой-никакой. Только страх все равно остался. Страх не удержать, страх развалить, страх распустить коллектив донельзя. Очень она боялась анархии в коллективе, когда каждый сам за себя. Все ей казалось, что ее не уважают и серьезно не воспринимают, как в первые дни… И потому старалась придерживаться изо всех сил тех принципов взаимоотношений с подчиненными, которые на собственной шкуре испытала еще в глубокой молодости, когда распределилась после института в свой НИИ. Правда, поработать ей там удалось два года всего до рождения сына, но страшилки дисциплинарные в её память прочно запали — и выговоры за опоздания, и за отлучки с рабочего места, и нервно-паралитическое дрожание спины на утренних оперативках…
Однако проснувшаяся в ней бизнес-вумен вдруг обернулась еще и ужасной для нее трагедией, вовсе непредсказуемой — муж-инвалид запил так, что превратил семейный очаг в самый настоящий ад на сковородке. Оказывается, раздражало его давно уже молчание мобильника, то есть до глубины души оскорблен он был Леночкиной самостоятельностью. Вроде как отодвинула она его за ненадобностью. И ничего уже с этим поделать было нельзя. И развестись нельзя. И надо было изо всех сил терпеть его пьяные скандалы. Она бы и терпела, да детей было жалко….
— … Эх, Наденька, ты даже представить себе не можешь, что это такое… — вздохнула Елена Николаевна, махнув безнадежно рукой. — Это такой ужас был, что не всякая женщина и выдержать способна. Думала, с ума сойду. А потом еще дефолт этот на голову свалился… Кое-как тогда я из всего этого безобразия вырулила, на одном оставшемся нерве, наверное. Пришлось даже основное дело на фирме свернуть. Теперь вот только ремонтом занимаемся. Ну, да что я тебе рассказываю, ты в курсе …
— А ваш муж? С ним что случилось?
— А муж умер. От алкогольной интоксикации и умер. Какой-то доброхот подсунул инвалиду из жалости паленую водку. У него, знаешь, видуха потом стала, как у бомжа. Нервный, злой, следить за собой перестал… Да и я, если честно, рукой на него потом махнула. Ну что я могла сделать в этой ситуации, скажи? Вроде и так и этак к нему, и с добром, и с жалостью… А мне ведь еще надо было детей поднимать! Материнский подвиг за женским подвигом в очереди не стоит, он своего свершения тоже обязательно требует.
— И что? Свершили его, подвиг этот материнский?
— Ой, не знаю, Надь… Теперь уже ничего не знаю. Не могу сказать. Когда бабе кажется, что она в отношении своих деток подвиг совершает, ей все время обратная отдача от них требуется, понимаешь? В виде их счастья. Чтоб были обязательно счастливы, и все тут! А иначе и смысла в этом подвиге никакого вроде бы нет. И в своей самоотдаче тоже. И я, наверное, такой вот ошибкой грешна. А они, дети, собственного счастья хотят, тебя и не спрашивают…
— Ну да, наверное… — вздохнув, эхом откликнулась Надежда. — Только не все. Некоторые все-таки спрашивают. Как я, например. То всегда делала, чего мама моя от меня хотела. Только все равно ничего хорошего из этого не получилось…
— И я… Очень уж я хотела, Наденька, чтоб мой Саша в семье счастлив был. — Не слыша ее, продолжала Елена Николаевна. — И Алиска его мне поначалу понравилась. Уж как она его любила, как за него замуж хотела! Ну, я подумала, отчего бы и нет… Алиска, она такая… приземленная очень. А потом смотрю — будто подменили его. Мается парень и все тут. Вроде с чего бы? Молодая жена вся о нем в заботах, ухаживает-облизывает, как теленка. А одновременно будто и с поводка его не спускает. Так же, как Петьку, друга Сашиного, около себя держит. И не в радость уже, смотрю, сыночку моему все это ухаживание-облизывание… В общем, чуть не сломала она его. Не девчонка, а прямо Муссолини какой-то! Шаг вправо, шаг влево — расстрел на месте. Он же добрый очень у меня, знаешь…
— Да. Я поняла, что он добрый. Хороший у вас сын, Елена Николаевна.
— Так и Олька тоже славная девочка, вертихвостка только. Я хотела ее при себе пока подержать, потому и тебя… Ну… Сама понимаешь…
— Да. Я понимаю. И не обижаюсь. Да я и раньше про дочку вашу знала, что вы хотите ее на мое место пристроить. В общем, готова была ко всем событиям. И я бы, наверное, за свою дочку так беспокоилась.
— Так роди!
— От кого, Елена Николаевна?
— Постой… У тебя же муж есть, насколько я знаю!
— Нет. Нету уже мужа. Груш объелся.
— Вон оно что… Ну, теперь мне все понятно… — задумчиво уставилась она на Надежду. — Знаешь, мы вот что с тобой сделаем, девушка моя дорогая. Выходи-ка ты прямо с завтрашнего дня на работу. Я снова тебя беру. Нет, не так — снова приглашаю!
— Да нет, спасибо, я себе найду работу.
— Конечно, найдешь. Потом, попозже. А сейчас опыта пока набирайся. Без опыта юриста ни в одно место приличное не возьмут.
— Хм… А как же ваш материнский подвиг, Елена Николаевна? — улыбнувшись, повернулась к ней Надежда. — Вы ж вроде своему ребенку уже дорогу расчистили… Олю-то куда пристраивать будете?
— А что Олю? Оля в помощницы тебе пойдет! Ты у нас девушка соображучая, всему ее и научишь, чего сама знаешь. А там видно будет. Ничего, не обеднеем из-за одной лишней зарплаты. А насчет материнского подвига не очень-то ехидничай. Посмотрим еще, какая из тебя мать получится! Так что завтра же на работу давай выходи. Если честно, я без тебя с договорами зашиваюсь совсем…
— Спасибо, Елена Николаевна. Я и правда очень обратно хочу.
— Ну и ладно, завтра жду. И не опаздывай! А то уволю!
Они переглянулись лукаво и громко рассмеялись практически в унисон, откинувшись на спинку дивана. В комнату заглянул Саша в фартучке, с полотенцем через плечо, посмотрел на них удивленно.
— Веселитесь? Ну-ну… Надежда, нам идти пора. Пока до дома твоего доберемся, уже ночь будет. А утром, я так понял, тебе вставать рано? На работу?
— Да-да, она уже идет, сынок. Сейчас, одну только минутку…
Когда Саша вышел из комнаты, Елена Николаевна повернулась к Надежде, спросила в упор:
— Слушай, а у тебя с ним что?
— С кем?
— С Санькой с моим, с кем!
— Ничего… — испуганно прошептала Надежда и отвела взгляд, потупившись скромно в колени. — Правда, ничего такого…
— А не такого?
— Нет, правда, ничего! Мы и не целовались даже! — выпалила она отчаянно, подняв на нее покрасневшее вмиг лицо. И тут же снова его опустила, схватившись ладонями за щеки.
— Да ладно… — по-свойски махнула на нее рукой Елена Николаевна и засмеялась тихонько. — Ты что думаешь, я против, что ли? Да такую, как ты, девчонку, только мечтать можно в невестки заполучить… Так что давай, целуйся. Меня ведь не обманешь, я жизнь прожила. Да и сына своего хорошо знаю, и вижу, как он на тебя смотрит. По крайней мере, на Алису он так никогда не смотрел…
Майский поздний вечер встретил их запахом черемухи, буйно разросшейся во дворе. Снежное ее цветение только набирало свою силу, но терпкий аромат уже плыл волнами в теплом воздухе, кружил слегка похмельную голову. Надежда повернулась к Саше, предложила тихо:
— Давай не будем сь к Саше, предложила тихо:
силуи, буно разросшейся во дворе, легким озоном приближающегося машину ловить? Пойдем пешком?
— Пойдем. Ты на мать мою не сердишься больше?
— Да я и сразу на нее не больно обижалась. Мы вообще ее на фирме любим и ценим. Потому что она, твоя мать, не из тех, не из вежливо-обманчивых, которые стелют мягко, да спать жестко. У нее все совсем наоборот. Мне так больше нравится. Чтоб все прямо, по-честному…
— Но она же, получается, выгнала тебя! Ни за что ни про что!
— Ну и что? Она ж знала — я не кисейная барышня, в слезах не утону. Вот с барышней какой она так не поступила бы. Я в этом просто уверена. Потому и не обижаюсь.
— Да? Интересная какая у тебя жизненная позиция. Очень умная. И очень добрая. И сама ты умная и добрая. Мудрая, одним словом.
— Я?! Это я — мудрая? — уставилась она на него в изумлении. — Ты что, Саш… Вот мама моя говорит, что мне настоящей женской мудрости никогда не постичь… Или ты смеешься надо мной просто?
— Ага. Смеюсь. С того самого вечера, как ты меня скалкой по башке треснула, все и смеюсь. Будто делать мне больше нечего. Как идиот влюбленный. А может, и не идиот. Может, просто влюбленный…
Она ничего ему не ответила. Лишь тихо просунула ладошку в его руку, почувствовав, как тут же сплелись их пальцы в единый маленький организм, крепкий, горячий, нежный. И слов никаких не надо было, слава богу. Да и по лицу ее все было без слов видно, наверное…
Надо же, а ей и в голову не могло прийти раньше, как это здорово — топать пешком по майским темно-сиреневым сумеркам, просто держась за руки. С Витей они так никогда не ходили. Даже и представить такое себе нельзя — с Витей, и вдруг за руки, да еще и пешком… Не ходили они так и в те даже времена, в те одинаково и романтически для всех протекающие первые дни знакомства, дни радостного друг друга узнавания, когда от каждого взгляда, каждого прикосновения улетает куда-то душа свободной и счастливой, не думающей пока ни о каком гнезде птицей. В те дни, с Витей, одна ее только мысль занимала — женится он потом на ней или нет. Мысль эта, изо всех сил подогреваемая еще и мамиными нетерпеливыми пожеланиями, постепенно переросла потом в навязчивую идею, в стремление, в самоцель. Потому что Витя был тот самый. Которого мама для нее высмотрела методом жениховской отбраковки. Она ж тогда не знала, какое это счастье — идти и идти рука в руке, плыть себе по сиреневым теплым сумеркам. Совершенно бездумно плыть, ни вперед не заглядывая, ни назад не оборачиваясь. И не беспокоиться, как ты в этот момент выглядишь, и какое у тебя лицо — умное или глупое, и какие у тебя волосы — хорошие или тоненькие-плохенькие, и какая у тебя в этот момент фигура-талия. А может, и знала она про это счастье, да забыла, выбросила для удобства из памяти…
Да, это хорошо, наверное, когда человек стремится свить свое собственное гнездо. Эта потребность в каждом заложена, будь то мужчина или женщина — не важно. Чтоб шел рядом с тобой надежный сотоварищ, надежда твоя и опора. И вроде как не задаешься и вопросом, любишь ты его или нет. Любовь — она ж дело десятое и ненадежное, она хлопотна и капризна, и подвести может в самый ответственный момент. А гнездо — это навсегда. Испокон веков так было, что в этом такого плохого? Просто надо убедить себя, что так надо, что у всех так. И действительно ведь многие себя убеждают, и лгут самим себе. Лгут в течение долгих замужних и женатых своих лет. И судьба, казалось бы, с этим враньем мирится, терпит смиренно. А потом вдруг ни с того ни с сего спохватится и сунет в руки чего-нибудь совершенно нелепое, твою дальнейшую жизнь фатально определяющее. Скалку, например. И тут же начинается обратный и необратимый уже отсчет в другое время, в счастливое. Потому что, оказывается, человеку не только гнездо свое нужно, ему еще и счастья да любви целую кучу подавай. Он же не птица, он же человек все-таки…
Так, молча, с глупыми переглядками и блаженными улыбками они дошли до Надеждиного дома. Он не стал ее спрашивать про пресловутую чашечку кофе, и она не стала его в гости зазывать. И правда — глупости какие. Пусть в эти игры играют те, кто друг к другу тщательно присматривается как к приемлемому в своем будущем гнезде сотоварищу. А они наигрались уже. Оба. Правда, было все же одно препятствие, остановившее их у подъездной двери…
В окнах Надиной квартиры на третьем этаже вовсю горел свет. Она остановилась, долго смотрела на желтые квадраты, потом, не выпуская Сашиной руки, решительно открыла дверь подъезда. И так же решительно начала подниматься по лестнице. Саша ни о чем ее не спрашивал, просто шел следом, и все. И она очень благодарна была ему за то, что он ни о чем ее не спрашивает…
Когда-то в ее жизни уже было все это. Давно, еще до Вити. Она тогда влюбилась очень. В художника, жившего в мансарде старого дома на соседней улице. И вот так же, держась за руки, они поднимались и поднимались каждый вечер по своей лестнице, и казалось ей, что лестница эта ведет прямиком на небеса, к счастью, к свободе, к разгорающейся костром любви… А в один из вечеров ее отыскала там мама. Постучала в дверь громко и требовательно, как грозный Командор, вошла решительно, собрала разбросанную впопыхах на полу одежду, молча кинула ей на кровать. Не взглянув даже на объект Надиной любви, а лишь мотнув презрительно головой в его сторону, спросила тихо:
— Это что, ты с ним, что ль, собралась гнездо вить? Совсем с ума сошла? Они ж все пьяницы, эти художники. Одевайся, пошли…
Надя помнит, как она послушно и торопливо напяливала тогда на себя джинсы и рубашку, как спускалась вниз по лестнице, подталкиваемая мамой небрежно в спину, и казалось ей, что счастье уходит из нее с каждой ступенькой, уходит безвозвратно и навсегда…
Она больше никому и никогда не отдаст своего счастья. Она сейчас крепко возьмет его за руку и никому не отдаст. Потому что это только ее счастье. Вернее, ее и Сашино. И пусть будет впереди то, что будет. Кто бы сейчас в квартире ее ни ждал. Витя ли, мама ли — все равно. Не отпуская Сашиной руки, она достала ключи из кармана ветровки, открыла быстро дверь.
В прихожей тоже горел свет, из комнаты доносилось глухое бормотание телевизора. Тут же взгляд ее упал на сваленные в углу прихожей огромные чемоданы. Конечно же, она их узнала — это были Витины чемоданы, с которыми он уходил от нее в тот вечер. Боже, это что же — и впрямь месяца с тех пор прошло?!
Скинув туфли, она прошла в комнату, по-прежнему держа Сашу за руку. Витя мирно спал в кресле перед телевизором, сложив крепкие мускулистые ноги на журнальный столик. На самом краю стола примостились и грязные тарелки одна в одной. Отчего-то пронзил ее очень неприятно вид этих грязных тарелок, как давеча пронзили потные залысины на его лбу. Нет, нет, больше не надо ей этого. Ни за что, никогда…
— Витя! Проснись, Витя! — затрясла она его за плечо. — В чем дело? Почему ты вернулся?
— Ой, привет… Я что, заснул? Где ты так долго ходишь, Надежда? Час ночи, а тебя нет…
— Вить, почему ты здесь? Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось. А что вообще должно случиться? Ты моя жена, здесь мой дом, и я имею право в любое время…
— Нет, Витя, не имеешь. Ни прав у тебя нету, ни времени. Уходи. Ты же от меня ушел, насколько я поняла? Вот и уходи.
— Так. Ладно. Потом поговорим. Посмотрим, как ты запоешь…
Витя набычился грозно, перевел взгляд на стоящего рядом с Надеждой Сашу, запахнул на голых ногах полы полосатого махрового халата. Потом произнес медленно, со злобным придыханием:
— Все, парень, уходи. Попользовался моей бабой, и вали отсюда. Чего тебе еще? Алиби она тебе предоставила, и хватит с тебя. Скажи спасибо, что за решетку не угодил. Иди отсюда, парень. Не видишь, тут муж с женой разбирается?
— Да ладно тебе, Вить. — Спокойно и устало, даже равнодушно как-то проговорила Надежда. — Не будет у тебя с женой никаких разборок. Хватит. Это тебе придется отсюда уйти, потому что не люблю я тебя. Да и ты тоже… А он никуда не пойдет. И насчет алиби ты не прав. Это не я его спасла, это он меня спас. От тебя и спас. Потому что так, как я с тобой жила — это преступление самое настоящее, стопроцентное. У нас с ним алиби теперь одно на двоих. Любовь называется. Слышал про такое? Так что одевайся и уходи. Это мой дом. И это моя жизнь. Уходи, Витя. Если хочешь, дели эту квартиру через суд. Затевай процесс. Все равно проиграешь, я ж юрист как-никак. А завтра я еще и велосипед себе куплю. Обязательно куплю…
— Какой велосипед? Причем тут… — взвился было грозным фальцетом Витин голос и осекся. Затих испуганно. Потому, наверное, что прозвучало в голосе бывшей жены что-то особенное. Незнакомое, очень решительное, очень резкое. Не допускающее никаких к сказанному апелляций. А для Вити так совсем уж страшное и непонятное. И правильно, она ж никогда не позволяла себе раньше ничего подобного. Сама столько времени приучала его к своей покорности, и вдруг дала под дых резко и больно. Он сник как-то сразу, будто и впрямь его ударили, будто воздух из него весь вышел, а вдохнуть новый просто сил не нашлось. Молча и неуклюже выкарабкался из кресла и, прихватив висящую на спинке стула одежду, поплелся в ванную. Вышел оттуда одетым уже и причесанным, подошел к сваленным в углу прихожей чемоданам, задумался. Потом осторожно заглянул в комнату…
Саша с Надеждой, стоя у окна, целовались упоительно и до самозабвения, и никакая сила не смогла бы их сейчас оторвать друг от друга. Руки Сашины по-мужски властно обхватили ее всю, и ладонь очень уж по-хозяйски устроилась где-то в районе талии, аккурат на презренной складке «пояса шахидки». И чувствовала она себя там, судя по всему, распрекрасно. Подумаешь, складка. Зато — любовь…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
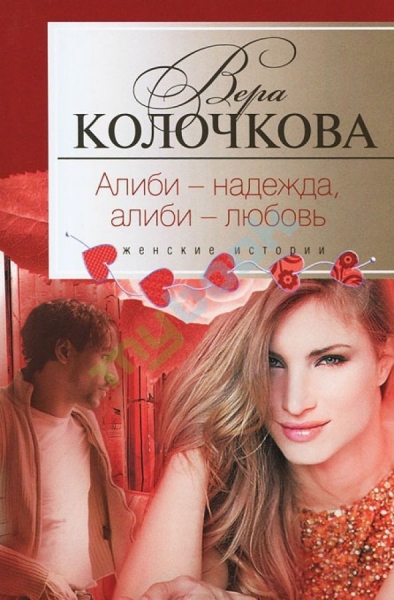


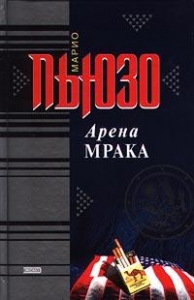
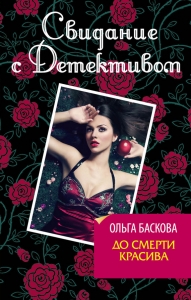

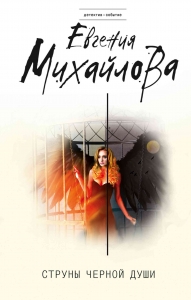



Комментарии к книге «Алиби — надежда, алиби — любовь», Вера Александровна Колочкова
Всего 0 комментариев