Гарри Кемельман В воскресенье Рабби остался дома
Моим детям — Рут и Джорджу, Артуру, Диане и Стэнли
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Книги Гарри Кемельмана известны во всем мире и вот уже почти сорок лет уверенно себя чувствуют в мировом Океане детективов. Герой Кемельмана, застенчивый молодой раввин-ученый, конечно же, напоминает и знаменитого отца Брауна (хотя бы своей неряшливостью в одежде), и средневекового английского монаха брата Кадфаэля — любовью к уединению, и китайского судью Ди — вниманием к тончайшим различиям в вероисповеданиях. И всех их — твердостью своих религиозных убеждений. И, конечно же, неподдельным интересом ко всем проявлениям жизни. И замечательным чувством юмора…
Но есть и отличие. Это не детективы действия — это детективы размышления. «В Талмуде есть все» — говорит рабби Смолл, и, виртуозно применяя диалектический метод его изучения, из любой ситуации выходит, как и положено любому детективу-любителю, детективом-победителем.
Три романа из «недельной» серии о рабби Смолле уже вышли из печати. Читателя ждут еще семь увлекательных и познавательных книг с хитроумными сюжетами и множеством интересных подробностей из жизни еврейской общины маленького городка в Новой Англии.
ОБ АВТОРЕ
Гарри Кемельман, родившийся в 1908 году в Бостоне, штат Массачусетс, создал образ одного из самых известных детективов-священнослужителей — рабби Дэвида Смолла. Писательская карьера Кемельмана началась с коротких рассказов для журнала «Эллери Квинс мистери мэгэзин», героем которых был профессор из Новой Англии Никки Вельт. Первый из этих рассказов, «Прогулка длиной в девять миль», считается классическим (позже под этим названием вышел сборник рассказов о Вельте). Серия романов о рабби Смолле началась в 1964 году с романа «В пятницу рабби долго спал», который стал бестселлером и в 1965 г. принес Кемельману премию Эдгара По за «Лучший первый роман».
Гарри Кемельман умер в 1996 году. Его дочь Диана, передавая издательству эксклюзивное право на издание книг Кемельмана на русском языке, написала:
«Мой отец был потрясающим человеком. Он делал вино. И скульптуру. Очень хорошо играл в шахматы. Играл на флейте и на скрипке. Читал запоем. Он был самым большим интеллектуалом из всех, кого я когда-либо встречала, и знал все: математику, пчеловодство, историю и религию, литературу. Говорил на французском, на идиш, на иврите и на немецком. Он был поистине человеком Возрождения».
Как возник рабби Смолл Предисловие Гарри Кемельмана
Я родился и вырос в одном из еврейских кварталов Бостона. Мы несколько раз переезжали, но всякий раз — в еврейский квартал, то есть в такой, где живет достаточно евреев, чтобы обеспечить рентабельность еврейских мясной и бакалейной лавок. В последней можно было купить селедку и ржаной хлеб с твердой коркой вместо упакованных в вощеную бумагу круглых булок, которые продавались в обычных магазинах и которых, согласно рекламе, «не касалась рука человека» (ну конечно же). Эти лавки должны были располагаться так, чтобы от любого дома до них можно было дойти пешком: в те дни мало у кого были машины, да и те зимой стояли в гаражах, так как улицы не расчищали от снега, а только посыпали песком. В любом районе, где были рентабельны эти две лавки, были рентабельны и школа с синагогой.
Я пропускал школу каждый еврейский выходной, потому что ходил с отцом в синагогу. Там я бормотал положенные отрывки так быстро, как только мог, но мне никогда не удавалось сравняться в скорости с отцом. Он успевал прочесть «Амида»[1] и сесть, а я еще был на середине, хоть и спешил изо всех сил. На Верховные праздники[2], когда синагога была набита битком, под предлогом, будто я иду на балкон к матери, мне удавалось улизнуть, чтобы поиграть с другими мальчишками, а позже, когда я подрос, — пофлиртовать с девочками.
В синагоге все прихожане читали отрывки из Торы[3] на иврите, однако лишь немногие понимали значение произносимых ими слов. Мы не молились — по крайней мере в том смысле, что ничего не просили и ни о чем не умоляли. Мы произносили благословения и слова благодарности и читали отрывки из Библии и псалмы. Если молитвы и содержали какие-то просьбы, то они касались земли Израиля и еврейского народа в целом. Возможно, я упрощаю, но все же показательно, что наш эквивалент молитвы «Отец наш небесный, хлеб наш насущный дай нам на сей день» звучит как «Благословен Ты, Господь, породивший хлеб из земли».
Пятьдесят лет назад я переехал в один из городков Новой Англии — «янки-городок», названный в моих книжках Барнардс-Кроссингом. Евреев там было немного, и когда они решили учредить синагогу, ее пришлось сделать консервативной (о трех, конечно, не могло быть и речи), — чтобы характер службы не был слишком чужд ни для нескольких пожилых ортодоксов, ни для реформистов[4]. По правде говоря, большинство из них о своей религии знали очень мало или совсем ничего. Они были американцами во втором или третьем поколении. Их родители немногое усвоили от своих родителей-иммигрантов и еще меньше передали своим детям. Лишь один-два человека из числа старых ортодоксов соблюдали дома кашрут[5].
О религии как таковой они знали по книгам или фильмам, но принципы иудаизма им были почти неизвестны. Типична реакция одного молодого адвоката, который попросил нанятого общиной раввина благословить только что купленный им кадиллак. Он удивился и обиделся, когда раввин ему отказал, сказав, что не может благословить вещь. Большинство друзей адвоката, которым он рассказал об этом в синагоге, отнеслись к этому так же.
Несоответствие между взглядами раввина и прихожан и возникавшие в результате этого проблемы показались мне весьма занимательными, и я написал об этом книжку. Мой издатель, Артур Филдс, счел ее скучноватой и в шутку предложил мне оживить текст, добавив в него кое-какие захватывающие моменты из моих детективных рассказов. Проходя как-то мимо большой стоянки для машин возле нашей синагоги, я вдруг поймал себя на мысли, что это очень удобное место, чтобы спрятать труп. И поскольку раввин — это человек, обладающий юридическими знаниями, чья главная функция — разрешать представленные на его рассмотрение споры, мне показалось, что в качестве детектива-любителя, докапывающегося до истины, это будет идеальный персонаж. Так родился рабби Дэвид Смолл.
Глава I
— Вот это была молитва, рабби, — сказал Харви Эйдельман. — Мы закончили на пять, — он взглянул на часы, — нет, на семь минут раньше срока.
Рабби Дэвид Смолл улыбнулся, продолжая снимать тфилин[6]. Лет тридцати пяти, худощавый и бледный, несмотря на хорошее здоровье, он слегка вытягивал голову вперед, словно близоруко вглядываясь в книгу. Службу он действительно провел с головокружительной быстротой и был немного смущен этим.
— Видите ли, я собираюсь на уикэнд…
— И, естественно, хотели бы уехать пораньше. — У Эйдельмана был магазин в Салеме, и он всегда старался ускорить утреннюю службу, чтобы успеть добраться туда вовремя. Дни, когда приходилось ждать, пока соберутся десять человек, необходимых для миньяна[7], были для него пыткой; заметив десятого, он махал ему и подбадривал, словно бегуна на финише: «Давай, давай, пора начинать». И теперь, радуясь неожиданным пяти — нет — семи лишним минутам, он ждал, пока рабби сложит тфилин и молитвенную накидку.
— Когда молитву ведет Вассерман или кантор, можно подумать, что это Йом-Кипур[8] и что впереди у них целый день. У них-то он есть, если подумать. А у остальных работа и дела. Ладно, рабби, до встречи — сказал он и размашисто зашагал к машине.
Чувствуя себя виноватым из-за спешки во время службы, рабби Смолл чуть замедлил шаг, пока шел по коридору к кабинету. Словно впервые, он видел голую белую наружную стену из шлакобетона с полосой черного пластика посередине; таким же образом разделенную внутреннюю стену из желтого глазурованного кирпича и блестящий от недавнего натирания пол из линолеумных плиток, где единственным элементом дизайна был круглый отпечаток полотера. Здесь царила стерильная атмосфера больничного коридора.
Когда шесть лет назад он впервые приехал в Барнардс-Кроссинг, храм[9] нес печать новизны и просто излучал свою современность. Но теперь начали проявляться признаки возраста. На стене были царапины, под потолком, там, где труба протекла на стыке, появилось желтое пятно. Рабби не мог избавиться от чувства, что храмы с резной обшивкой из красного дерева или ореха старели более живописно.
Услышав телефонный звонок, он поторопился, думая, что это Мириам с последней просьбой прихватить что-нибудь — бутылку молока, несколько булочек в магазине, — но голос был мужской, обвиняющий.
— Рабби? Бен Горфинкль. Я звонил вам домой, жена сказала, что вы в храме.
— Утренняя служба…
— Конечно, — сказал президент храма, как бы признавая оправдание законным. — Черт возьми, рабби, сегодня утром за второй чашкой кофе Сара вдруг упомянула, что вы едете в Бинкертон…
— Я говорил вам об этом несколько недель назад, — заметил рабби.
— Да-да, я знал, что вы собирались провести субботнюю службу для какой-то группы Гилеля[10], но знать не знал, что это в Бинкертоне, здесь, в Массачусетсе. Лишний раз убеждаешься, как мал этот мир. Там мой Стюарт.
— О, вот как? Я не знал.
— Послушайте, я подумал, может, вы передадите от нас привет…
— Ну конечно, мистер Горфинкль.
— Я уверен, что он придет на вашу службу, но на тот случай, если он будет совсем уж занят, может, вы запишете его телефон…
— Конечно. Одну минуту — возьму листок бумаги. — Он записал номер.
— Это общежитие, так что можете оставить сообщение, если его не будет.
— Да, конечно.
— Если вы позвоните ему, как только приедете, он сможет показать вам университетский городок.
— Чудесно. — Рабби услышал еще один невнятный голос, и Горфинкль сказал:
— Одну минуту, рабби. — И после паузы, во время которой через прикрытую трубку доносились обрывки разговора, поправился: — Правда, у него может быть лекция после обеда или какое-нибудь задание.
Рабби улыбнулся про себя. Миссис Горфинкль, должно быть, заметила, что их сыну может не понравиться, если после обеда на него свалится рабби со своим семейством.
— Все в порядке. С дороги мы, пожалуй, захотим отдохнуть.
— В любом случае идея неплохая. Когда вы возвращаетесь, рабби?
— Вечером в субботу, сразу после авдалы[11].
— Вот как? — в голосе Горфинкля послышалось удивление. — Кажется, Стюарт говорил… — Голос опять звучал уверенно. — Впрочем, неважно, мне вот только что пришло в голову…
— Да? — Рабби почувствовал, что сейчас он узнает истинную причину звонка.
— Если у вас есть место в машине, если это не стеснит вас и никоим образом не затруднит, — понимаете, Стюарт собирается на Песах[12] домой, у них неделя каникул…
— И я мог бы подвезти его?
— Только в том случае, если это не доставит вам никакого беспокойства.
— Буду очень рад, мистер Горфинкль.
Как только он положил трубку, раздался стук в дверь и, не ожидая приглашения, вошел Мортон Брукс, директор религиозной школы, — бодрый, моложавый человек лет сорока, склонный к некоторой театральности.
— Слава Богу, поймал вас, пока вы не уехали. Как только мне позвонили, я прямиком к вам.
— Что случилось?
— Арлин Фельдберг слегла с корью! Врач был у них вчера вечером, но миссис Фельдберг и не подумала известить меня до самого утра. — Казалось, будто его предали.
— Арлин Фельдберг?
Брукс нервно потрогал длинные пряди волос, которые он тщательно зачесывал, чтобы прикрыть намечающуюся лысину.
— Ну да, Арлин Фельдберг, девочка из первого класса, которая должна была в Седер[13] задавать Четыре вопроса[14] по-английски.
— А, дочка Гарри Фельдберга. Не страшно. — Рабби успокоился. На мгновение он подумал, что директора волнует возможность эпидемии. — В Агаде[15] же есть английский перевод на противоположной странице. Или, пожалуй, этот мальчик — как его зовут?
— Джеффри Блументаль.
— Уверен, что Джеффри сможет перевести то, что прочтет на иврите.
— Это невозможно, рабби.
— Вы хотите сказать, что он не понимает текст на иврите?
— Конечно, понимает, — сказал Брукс с негодованием, — но существует большая разница между просто чтением и способностью рассказать текст наизусть без достаточной репетиции. Но даже если бы и было время как следует натаскать его, это все равно невозможно. Да вы что, если он будет читать обе части, это только добавит взаимных обид. Фельдберги никогда не простят мне и расскажут об этом своим друзьям, а значит, и Паффам и Эдельштейнам. Уверяю вас, рабби, разговоров не оберешься.
— Понимаю. А Джеффри…
— А Джеффри — Блументаль, а Блументали — друзья Горфинклей, Эпштейнов и Бреннерманов. С Бреннерманами они вообще родственники…
— О, Мортон, бросьте. Это же глупо.
— Ничуть, — серьезно сказал директор. — Поверьте мне, рабби, это моя третья школа, и я знаю, что к чему. Вам, если позволите, следовало бы уделять немного больше внимания политике в конгрегации[16]. Да, вы регулярно посещаете заседания правления, но все важные события происходят в школе. Там-то все и вылезает наружу.
— В религиозной школе? — Рабби даже не пытался скрыть изумление.
— Конечно. Верховные праздники бывают раз в году. А в меньшие праздники, если они выпадают на середину недели, мы собираем на службу не больше семидесяти пяти человек, как вечером в пятницу. Но в школу дети приходят три раза в неделю, и сообщают обо всем, что здесь происходит, едва придя домой. Вы знаете как мы, евреи, переживаем за своих детей. Любой признак неуважения или несправедливости — и родители скандалят так, будто это погром.
Рабби улыбнулся.
— И что вы собираетесь предпринять в связи с настоящим… э, кризисом?
— В том-то все и дело. Многие, как вы знаете, проводят Седер у себя дома, так что детей из первого класса будет не слишком много. А у группы Паффа, где все постарше, детей меньше, во всяком случае, первоклассников. Но они сильнее в старших классах. И я придумал маленький эпизодик для Четырех сыновей[17]. Вы знаете — мудрый, глупый, простодушный и нечестивый сын.
— Я знаю, — сухо сказал рабби.
— Да, конечно, рабби. Вот я и подумал, как бы мы могли это разыграть, смотрите. Вы произносите вступительный абзац, затем свет постепенно гаснет, и остается только прожектор, направленный прямо на главный стол. — Маленькими шажками он приблизился к столу рабби, описывая руками конус света от прожектора. — Дальше: можно, чтобы сыновья подходили по одному. Мудрый сын, скажем, мог бы входить в очках, читая книгу или, может быть, крутя в руках логарифмическую линейку. Потом он внезапно поднимает глаза и задает свой вопрос. Только мы придадим ему современный характер, и он скажет что-нибудь вроде: «Ну и ну, это потрясающе, папа. Как случилось, что Господь, Бог наш потребовал, чтобы мы делали все это?» А нечестивого сына я вижу в черном кожаном пиджаке, в кепке и в темных очках, или можно одеть его под хиппи — босой, с четками, с длинными волосами и в выгоревших синих джинсах. — Брукс сгорбился, голова свесилась набок, и он заговорил одной стороной рта, словно в другом его углу висела сигарета: «Эй, чуваки, че это у вас хавира с такими прибамбасами? Клево, мужики, клево!» Представляете себе?
— И как это спасет ситуацию?
— Так у нас же среди старших детей более широкий выбор. Я собирался дать роль нечестивого сына мальчику Эдельштейнов. И если учесть, что он, можно сказать, единственный, кто будет в маскарадном костюме, это могло бы сыграть важную роль…
— А о рок-группе для сопровождения вы не подумали?
Брукс посмотрел на него.
— А ведь это идея, рабби.
— Нет, Мортон. Нет, — твердо сказал рабби. — Если не возражаете, мы не будем отклоняться от традиционного Седера. И пусть Блументали и Фельдберги мужественно перенесут это. — Он встал и направился к дверям. — Мне действительно надо идти.
— Все-таки подумайте об этом во время уикэнда, хорошо, рабби? — взмолился Брукс.
— Я посвящу этому все свое свободное время, — сказал рабби с не свойственным ему сарказмом.
Но отделаться от Брукса было невозможно.
— Нет, серьезно, рабби, что плохого в том, чтобы оживить церемонию и тем самым завоевать интерес детей? Сейчас так делают все — и католики, и все остальные. Они даже проводили мессы с джазом. В конце концов, Седер — это праздник. Почему бы им не повеселиться?
Рабби остановился в дверях.
— Потому, Мортон, что пасхальный Седер — это нечто большее, чем праздник. Это — ритуал, в котором каждый шаг точно объяснен, — и это не случайно. Самое главное в ритуале то, что для достижения цели он должен быть в точности повторен каждый раз, как его выполняют. А теперь извините, я и в самом деле немного тороплюсь.
Выйдя на улицу, он остановился на мгновение удостовериться, что окна его кабинета закрыты на случай дождя. Рабби заметил, что снаружи здания тоже появились признаки возраста. Колонны из нержавеющей стали, которые, как говорил Христиан Соренсон, архитектор, должны были наводить на мысль о «чистоте религии и ее сопротивлении распаду и эрозии времени», приобрели унылый желтоватый оттенок — несомненно, под воздействием морского воздуха. А длинные стены из глазурованного белого кирпича, которые выступали с обеих сторон высокого, похожего на коробку здания и полого опускались мягкими кривыми линиями — «как открытые для объятий руки, призывающие людей прийти и поклониться», — были выщерблены тут и там, и черные дыры походили на выпавшие зубы.
На стоянке его снова задержали. Вассерман, первый президент конгрегации, окликнул рабби, когда тот садился в машину. Вассерману было за семьдесят, после недавней болезни он выглядел похудевшим и слабым; на руке, которую он положил на локоть рабби, сквозь прозрачную кожу видны были синие вены. Он говорил тихо, и в его речи чувствовался не столько акцент, сколько особая забота о правильном произношении.
— Вы, надеюсь, вернетесь к воскресному заседанию правления, рабби?
— Да, конечно. Мы собираемся выехать обратно в субботу сразу после авдалы, часов в шесть, и должны быть дома самое позднее в девять-десять.
— Это хорошо.
Рабби повернулся.
— Вы ждете чего-то серьезного?
— Жду? Я всегда жду, почти каждый день, но особенно по воскресеньям, когда заседает правление. В это воскресенье что-нибудь серьезное может произойти.
— Почему именно в это?
— Потому что в следующее — первый[18] Седер, значит, заседания не будет. В следующее воскресенье — снова праздник, значит, снова заседания не будет. Так что если Горфинкль планирует что-то серьезное, это воскресенье подходит больше всего, поскольку другого заседания просто не будет в ближайшие три недели.
— А что я могу сделать, если он, как вы выразились, планирует что-то серьезное?
— Вы — рабби. Это означает, что вы ни на чьей стороне. Вы нейтральны, и поэтому можете говорить то, чего не могут сказать остальные.
— Вы думаете об изменениях в комитетах, которые намерен сделать президент? — Он уселся в машину. — В любом случае он сделает их — раньше или позже.
Вассерман покачал головой.
— Но будет скандал, и лучше позже, чем раньше. Вы — рабби, а я — старый человек. Я видел много такого, о чем вы, может быть, знаете только из книг. Это похоже на брак. Если нет открытого разрыва отношений, все можно поправить. В конце концов, есть пары, которые ссорятся почти со дня свадьбы. Если один из них не складывает вещи, не уезжает и не обращается к адвокату, это уже неплохой шанс, что брак уцелеет.
— Не слишком ли… — Он взглянул на старика, который явно очень переживал, и постарался смягчить тон.
— В конце концов, мистер Вассерман, это всего лишь заседание правления.
Вассерман пристально посмотрел на него.
— Постарайтесь быть там, рабби.
По дороге домой за Мириам и Джонатаном он чувствовал обиду из-за роли, которую ему навязывали. Он, раввин, по традиции — ученый и учитель; почему надо обязательно впутывать его в распри и политические интриги? Даже Джейкоб Вассерман, которого он уважал и считал одним из своих немногих настоящих друзей в общине, единственный человек, который должен бы иметь представление о традиционной роли раввина, — даже он втягивал его в дешевую политическую возню. Они все словно обиделись на него за пару выходных.
А началось все месяц назад, когда рабби Роберт Дорфман, директор Гилеля и религиозный наставник еврейских студентов в Бинкертоне, приехал с женой Нэнси в гости к ее родственникам в Линне. Они заглянули к Смоллам в Барнардс-Кроссинг, поскольку это рядом, а мужчины вместе учились в семинарии. В разговоре Боб Дорфман упомянул, что подал заявление на кафедру проповедника в Нью-Джерси.
— Они пригласили меня приехать и провести службу в пятницу и в субботу.
— Это уже что-то.
— Да, жаль только, что они не выбрали какой-нибудь другой день. Этот уикэнд как раз перед нашими весенними каникулами.
— И что, твои гилелевцы не отпустят тебя? — удивился Смолл.
— Да нет, проблема не в этом. Просто Песах приходится на каникулы, и я чувствую, что должен провести эту прощальную службу.
— Так попроси их там, в Нью-Джерси, перенести на попозже?
Дорфман покачал головой.
— Можно пролететь. А если у них куча кандидатов на сто шабатов[19] вперед?
— Ты так сильно этого хочешь?
— О да. Гилель — это хорошо, и дело для ребят из колледжа нужное, но я хотел бы получить постоянную конгрегацию. — Он смущенно засмеялся. — Я бы хотел время от времени произносить благословение на бар-мицву[20]. Наверное, это мессианские иллюзии, которым все мы немного подвержены, иначе и не выбрали бы это занятие, но я чувствую: то, что я могу там сказать, могло бы указать юноше правильный путь. Я бы хотел присутствовать на брите[21]…
— И произносить надгробную речь у могилы?
— Да, даже это, если оно может утешить семью. — Боб Дорфман был тучен и круглолиц, и когда он искательно смотрел на своего друга, то казался намного моложе и был похож на розовощекого школьника, ожидающего одобрения учителя.
— Поверь мне, как и во многом другом, тут можно столкнуться с тем, чего не ожидаешь. А в Гилеле у тебя много собственного времени, ты находишься в академической обстановке, ты можешь заниматься…
— Но ты не живешь в реальном мире.
— Может, это и к лучшему. По крайней мере, работая в Гилеле, ты защищен. В конгрегации — в этом твоем реальном мире — ты никогда не знаешь, где у какой-нибудь важной шишки любимая мозоль, а наступишь на нее — и обнаружишь, что остался без работы.
Дорфман усмехнулся.
— Я знаю. Я слышал, что у тебя были неприятности, но это же в прошлом, и теперь все в порядке. У тебя долгосрочный контракт…
Рабби Смолл медленно покачал головой.
— Наши контракты — это всего лишь договоренность о сроках и условиях работы, так что с точки зрения закона — то есть чтобы можно было подать жалобу в суд, — почти бесполезны. Даже если ты и предъявишь иск, то потом просто наверняка никогда не получишь другую кафедру. Со мной, как ты знаешь, заключили пятилетний контракт, и когда он истечет в конце этого года, я думаю, мне предложат другой — может быть, с повышением жалования.
— То есть, — сказал Дорфман, — у тебя все в порядке.
— Есть и минусы. Прежде всего, это полный рабочий день. Ты занят конгрегацией двадцать четыре часа в сутки. Твое время не принадлежит тебе. — Он улыбнулся. — Иногда выясняется, что это несколько утомительно, даже если дает возможность организовывать брит или бар-мицву.
— Дело не только в этом. Я не просто хочу получить конгрегацию. Я хочу уйти из Гилеля. И еще деньги: семья растет, я должен думать о будущем. К тому же я не думаю, что приношу пользу ребятам из колледжа. Это неподходящий для меня возраст. Не похоже, что мне удается пронять их. Они все знают и ко всему относятся с цинизмом.
— Иногда их пронимает больше, чем тебе кажется. Я, конечно, встречаю не многих из них, только тех, которых готовил к бар-мицве здесь, в Барнардс-Кроссинге. Они обычно заглядывают ко мне, когда приезжают домой на каникулы. Мне они кажутся и увлекающимися, и энергичными. А когда они циничны… Они ведь, в сущности, идеалисты, и, значит, в чем-то разочаровались.
— Да, но когда ты видишь только их…
— Возможно. Послушай, может, приехать и подменить тебя на этот уикэнд?
Дорфман просиял.
— Черт возьми, Дэвид, это было бы замечательно. — Но тут же сник. — А у себя ты сможешь это уладить?
— Пожалуй, смогу. «Братство евреев» проводит службу раз в год. Кажется, в этом году она будет за неделю до той, которая тебя интересует. Я проверю свой календарь. И если удастся перенести ее на следующую, я смог бы съездить в Бинкертон.
Когда он подъехал к дому, Мириам и Джонатан были полностью одеты и ждали его. У крошечной и живой Мириам были широко распахнутые синие глаза, открытое лицо и небольшой волевой подбородок.
— Зачем его так закутывать? — спросил рабби. — Он изжарится.
— Погода все время меняется. Станет слишком тепло — расстегну комбинезон.
— Хорошо. Садитесь. Поехали, наконец.
Мириам стала запирать дверь, но остановилась, услышав телефонный звонок.
— Одну секунду, — крикнула она. — Телефон.
— Не отвечай, — закричал он.
Она остановилась.
— Почему?
— Потому что я хочу уехать. Я устал.
Она с сомнением посмотрела на него и закрыла дверь, а телефон все звонил и звонил.
Мириам молча посадила Джонатана на переднее сиденье, закрепила на нем ремни безопасности и села рядом. Когда они отъехали, рабби повторил извиняющимся тоном:
— Я устал — откровенно устал. — И добавил: — Я торопился с молитвами сегодня утром, просто произнося слова, я был груб с Мортоном Бруксом и был недоволен мистером Вассерманом, и…
Она погладила его по руке.
— Все нормально, Дэвид. Всем время от времени нужны небольшие перемены.
Глава II
Магазин, как принято в Барнардс-Кроссинге, был большой: не меньше двадцати футов в ширину и больше сорока в глубину. Грязные окна закрывали пыльные витрины. Когда-то, давным-давно, они были украшены длинными лентами причудливо закрученной гофрированной бумаги ядовито-зеленого и приторно-розового цвета — некогда тщательно разработанная реклама кока-колы. Но краски выгорели и местами сильно расплылись. Погнутые картонные манекены в цельных купальных костюмах, вероятно, весьма смелых в свое время, а теперь уныло старомодных, все еще сидели с полузакрытыми глазами, подогнув под себя ноги, чтобы подчеркнуть линию бедра, с прямыми спинами и твердыми, высокими бюстами с намеком на соски под купальником; бутылки кока-колы застыли у их губ, раскрытых в предвкушении удовольствия. Повсюду в складках гофрированной бумаги были разбросаны пыльные бутылки колы, одна из которых давно открылась, и ее содержимое вытекло вдоль карниза окна узкой, липкой полосой.
У самых витрин, перекрывая свободный доступ к ним, из-за чего, возможно, открытая бутылка так и не была убрана, стояли автомат для продажи сигарет, музыкальный автомат, два автомата для игры в бильярд и стальной бак с бутылками содовой, погруженными в колотый лед.
У одной стены был большой витиеватый мраморный фонтан для содовой, позади которого поперек засиженного мухами зеркала черным мелком было написано: «Фонтан не работает». На мраморном прилавке стояли коробки с расфасованным печеньем, пончиками и пакетиками арахиса. У противоположной стены стояли полки с журналами, книгами в мягких обложках и поздравительными открытками; поперек задней части магазина — полки с записными книжками, коробками карандашей, стопками бумаги, коробками с линейками, резинками, компасами, точилками, тюбиками клея, рулонами ленты для пишущих машинок, веревочными мячами, кольцами для ключей, расческами, ручными зеркальцами и другими принадлежностями, которые могли понадобиться школьникам.
В тылу магазина стояло старомодное бюро с выдвижной крышкой и старомодный вертящийся стул; его ножки были скреплены несколькими витками узловатой проволоки, которые служили также подставкой для ног. В центре стояло с полдюжины круглых столов и стульев, где собирались подростки.
Вывеска у входа гласила: «КНИГИ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, ДЖОЗЕФ БЕГГ, ЭСКВАЙР, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ». Мистер Бегг, энергичный, мускулистый человек пятидесяти лет, с большой лысиной, которая редко была видна, так как он постоянно носил шляпу, наблюдал за магазином, сидя за бюро. Он был недружелюбен, раздражителен, груб и придирчив, однако у молодежи магазин пользовался популярностью. Они обслуживали себя сами: прихватив пакет печенья с прилавка и бутылку содовой из холодильника, шли в дальний конец показать покупки и расплатиться.
Они всегда обращались к нему «мистер Бегг», хотя некоторые старшие мальчики осмеливались называть его Сквайром, по вывеске. Это была самая смелая шутка, которую они могли себе позволить. «Кола и пончик. Двадцать центов, мистер Бегг», — говорили они и передавали деньги, которые тот бросал в старую коробку из-под сигар, стоявшую на бюро. Или иногда: «Разменяйте мне, пожалуйста, деньги для бильярда, мистер Бегг», — и он подозрительно исследовал банкноту или монету, прежде чем неохотно выдать мелочь. Пустые бутылки из-под содовой или колы следовало ставить на стойку, и если ребята забывали об этом, он резко окликал: «Эй, ты там, убери эту бутылку», — и они смиренно повиновались.
Много лет назад мистер Бегг преподавал в средней школе и даже был на постоянной должности, но бросил эту работу. Никто, и уж, конечно, ни один из его юных покупателей, не знал, почему. Он отслужил срок как член городского управления, но после этого не посещал ежегодные городские собрания и не интересовался городской политикой, за исключением того, что изредка отправлял в еженедельную газету письма с выражением яростного протеста — обычно направленного против какого-нибудь плана в пользу молодежи, вроде передачи земельного участка — по праву государства на принудительное отчуждение частной собственности — для постройки спортивной площадки.
«Он терпеть не может детей», объясняли обычно. «Именно поэтому он и перестал преподавать».
«Но в его лавку ходят только дети».
«Обычное дело — завел ее как книжный магазин, а потом добавил поздравительные открытки и канцелярские принадлежности. А когда увидел, что приходят одни дети, начал торговать и прочей чепухой. В конце концов, должен парень как-то зарабатывать на жизнь».
В пятницу утром Бегг пришел поздно. Он провел за своим бюро всего несколько минут, когда дверь открылась и вошел Муз Картер.
— Эй, где вы были, Сквайр?
Это был крупный мускулистый парень с квадратными плечами, толстой, как у футболиста, шеей, синими глазами и коротким, свернутым на сторону носом. Он нетерпеливо усмехнулся.
— Я заходил полчаса назад, и здесь было глухо, как в танке.
Бегг не соизволил ответить, а отвернулся в сторону и плюнул в плевательницу, стоявшую у его левой ноги.
Молодой человек не обиделся.
— Вы не собираетесь этим летом приводить в порядок свою контору?
— Буду менять наружные двери и устанавливать защиту на витрины.
— А помощь не понадобится?
— Могу кого-нибудь взять, — сказал Бегг неохотно. — Полтора доллара в час.
— Маловато. В кегельбане я получаю два доллара в час плюс иногда чаевые.
— Я плачу полтора доллара.
Муз пожал плечами.
— Ладно, когда мне приходить?
— Для начала в воскресенье утром.
Муз оживился.
— Ага, в воскресенье! За воскресенье должно быть больше.
— Почему? — Бегг взглянул на него без тени улыбки. — Потому что ты пропустишь семейный поход в церковь?
Муз рассмеялся.
— Хорошо, я приду. — Он оглянулся и понизил голос. — Послушайте, Сквайр, у меня сегодня вечером свидание. Как насчет пары презервативов?
— Три на доллар.
— Я сейчас слегка на мели. А если в счет моей платы за воскресенье?
Бегг внимательно глянул на него, выдвинул ящик и подал Музу маленький пакетик. Тот сунул его в карман.
— Благодарю вас, Сквайр. — И добавил с усмешкой:
— Моя девочка тоже благодарит вас.
Глава III
Ключ лежал под циновкой. Пока рабби, нагруженный чемоданом и охапкой пальто, сражался с замком, Мириам крепко держала Джонатана, который, раскинув руки и ноги, как морская звезда, рвался к спортивной площадке на заднем дворе.
— Нет, Джонатан, позже, — машинально сказала она. — Ты должен сначала поесть, потом поспать, а потом уже сможешь выйти поиграть.
Пока Мириам в прихожей вытаскивала сынишку из комбинезона, рабби пошел в гостиную к книжному шкафу, чтобы просмотреть названия. Он выбрал книгу и начал ее листать. Потом сел на кушетку; минутой позже, не отрывая глаз от книги, он расшнуровал ботинки, сбросил их и растянулся на кушетке, подложив руку под голову и высоко подняв книгу, чтобы на нее падал свет из окна.
Мириам повесила комбинезон, убрала пальто, оставленные на чемодане, и тут заметила на столе в холле конверт со своим именем, выведенным большими печатными буквами. Она вытащила пару листков бумаги, напечатанных через один интервал.
— «Дорогая Мириам, — прочитала она. — Добро пожаловать в Бинкертон, Массачусетс, Западный округ. Надеюсь, что вы выполнили указания и не привезли продукты. Все приготовлено — полный стол для шабата и должно хватить на весь уикэнд. Все это в холодильнике, и вам остается только подогреть. На левой передней конфорке не работает запальник. Пользуйтесь спичками (в шкафчике над плитой)… Вино для кидуша в буфете в столовой… Тарелки для мясного — с голубой каймой — в буфете справа, если стать лицом к окнам кухни… Столовое серебро для мяса тоже справа — с цветочным узором… Кастрюли и сковородки для мяса в правом буфете… Вся молочная посуда слева… Когда моешь тарелки, осторожно с краном на кухне — он брызгает по сторонам, когда полностью открыт… Договорилась о приходящей няне — Кэти (15 лет и очень надежная), это по соседству, № 47, дочь профессора Карсона, математика, очень хорошие люди… Не стесняйтесь позвонить им, если вам будет нужна какая-то помощь. Запасные одеяла на верхней полке стенного шкафа в спальне… Боб прикрепил боковую перекладину к кровати Рэйчел для Джонатана… Автоматического выключателя света вечером в пятницу нет. Боб и я не такие ортодоксы. Если вы такие, оставьте свет на всю ночь…[22] Наш хороший друг, профессор Билл Ричардсон с философского факультета, очень заинтересовался статьей Дэвида о Маймониде. Он проводит день открытых дверей в честь Дэвида вечером в субботу. Боб говорил об этом Дэвиду?»
Мириам сунула голову в гостиную и с нежной досадой посмотрела на лежащего мужа.
— Дэвид! — категорически заявила она. — Сядь.
— Я снял ботинки, — возразил он.
— А пиджак? К вечеру он будет весь измят.
— Я надену сегодня вечером черный костюм. Этот разгладится, пока повисит.
Она вздохнула.
— Боб говорил что-нибудь насчет приема вечером в субботу?
— Не помню такого.
— Тут один намечается. В твою честь. Профессор Ричардсон устраивает день открытых дверей.
На этот раз рабби спустил ноги и сел.
— Мне что-то не хочется. Кроме того, я собирался вернуться в Барнардс-Кроссинг. Я почти обещал мистеру Вассерману.
— Но Нэнси пишет, что это в твою честь. Нам придется пойти.
Глава IV
В Мэлдене управляющий кегельбаном сообщил, что зеркальное стекло в окне треснуло.
— Это, должно быть, случилось ночью, мистер Пафф. Когда я закрывал, все было в порядке. А когда пришел открыть сегодня утром…
— Как получилось, что ты открывал утром? А где Хэнк?
— Ах да, я собирался сказать вам. Хэнк позвонил и попросил, чтобы я открыл за него. Он неважно себя чувствует.
— Он был пьян? — быстро спросил Пафф.
— О господи, мистер Пафф, откуда мне знать? Он просто позвонил и спросил, смогу ли я открыть и отработать дневную смену. И я согласился. Понимаете, он работал за меня одну ночь на прошлой неделе, когда мне пришлось срочно уехать на сутки.
— Хорошо. Возьми широкий кусок скотча и заклей это окно с обеих сторон, чтобы оно ни в коем случае не разбилось. Я сообщу в страховую компанию. Может быть, они захотят прийти и посмотреть на него прежде, чем я его заменю.
— Конечно, мистер Пафф. Я сделаю это прямо сейчас, — заверил его управляющий. — А вы не можете найти кого-нибудь на вечернюю смену? Я останусь, если придется, но получается очень уж долго.
— А в офис ты не звонил?
— Звонил, но никто не ответил.
— Да, совсем забыл. Я дал девочке выходной. Хорошо, я загляну туда, возьму список и посмотрю, что можно сделать.
В Мелроузе Пафф заметил, что золотой лист на эмблеме в окне откололся и облупился в углу. Из-за этого золотой шар — отличительный знак компании — напоминал укоряющий глаз.
— Когда это случилось? — спросил он управляющего, указывая на эмблему.
— Что — это? Эмблема? Всегда было так, мистер Пафф.
— Никогда не замечал.
— Машины для установки кеглей на двух последних дорожках опять не работают, мистер Пафф.
— Ты звонил механику? Номер у тебя есть?
— Да, звонил вчера и сегодня тоже. Он сказал, что придет прямо сейчас, но то же самое говорил и вчера.
— Когда ты звонил ему сегодня? — спросил Пафф.
— Утром — сразу как пришел.
— Так позвони еще.
— Конечно, позвоню, но пользоваться дорожками все равно пока не сможем.
— Эти механики! — Пафф покачал головой. — Послушай, ты не хотел бы поработать сегодня вечером — в Мэлдене?
— Я бы рад выручить вас, мистер Пафф, но жена что-то там запланировала на сегодняшний вечер.
В Медфорде дела пошли на спад.
— Это все новая бильярдная, которая открылась в торговом центре, — объяснил управляющий. — Все вдруг помешались на бильярде. Даже женщины. Они приходят туда и вяжут — можете себе представить, вяжут? — ожидая своей очереди сыграть.
Пафф спросил, не может ли он отработать вечернюю смену в Мэлдене.
— Вы имеете в виду вместо работы здесь? Вы хотите ликвидировать это место? Только потому, что пару дней дела идут плохо?
— Нет, я имею в виду только на подмену, сегодня вечером.
— О, конечно, когда угодно. Рад выручить вас. Но только не в пятницу. По вечерам в пятницу я здесь…
Он повернул в Челси, где находился его офис, и когда, наконец, нашел место для парковки, обнаружил, что у него нет ключа.
Новый швейцар его не знал.
— Посмотрите, вот мои водительские права. Видите, я — Мейер Пафф. Что вам еще нужно?
— Да, но вы просите, чтобы я открыл офис «Золотого шара». В ваших правах нет ничего о том, мистер, что вы имеете к нему отношение.
Пафф раздраженно прикусил губу, хотя справедливости ради вынужден был признать, что швейцар прав.
— Я только собираюсь сделать пару звонков, — сказал он. — Вы можете постоять рядом, пока я звоню.
— Извините, мистер, у меня приказ. Администрация очень строга насчет этого. Было много краж со взломом.
Пафф постарался говорить спокойно.
— Послушайте, доктор Норткотт еще у себя или ушел на ланч? Это дантист с третьего этажа.
— Я не видел, чтобы он выходил.
— Хорошо, проводите меня к нему. Он скажет вам, кто я.
Дантист выразил недовольство тем, что его оторвали от пациента, но подтвердил личность Паффа.
«Ну и денек», подумал Пафф, бегло просматривая картотеку. Он набрал номер и сидел, прижав к уху трубку, пока телефон звонил и звонил. Наконец он нажал на рычаг и набрал другой номер. И снова телефон звонил безо всякого ответа. На третий звонок ответили немедленно. Это была женщина.
— Нет, Марти нет дома. Что ему сказать, кто звонил?
Он не стал объяснять.
Со следующим звонком ему повезло.
— Я знал, что вы обратитесь ко мне, мистер Пафф. Хэнк звонил пару недель назад, чтобы я его подменил, и я согласился.
— Прекрасно. Там одно окно разбито, я велел Тэду на время заклеить его скотчем. Перед закрытием проверь и убедись, что заклеено хорошо и надежно, договорились?
Выходя, он поблагодарил швейцара, похвалил за осмотрительность и сунул ему пару сигар.
— Спасибо, мистер — э-э…
— Пафф.
— Ах, да. Большое спасибо, мистер Пафф. В следующий раз я не забуду.
Вернувшись к машине, он обнаружил, что ее зажали с обеих сторон. Он весь вспотел, пока выбрался. «Я становлюсь слишком старым для этого», подумал он. Тут он вспомнил, что не завтракал. С тоской отметив заполненную стоянку возле ближайшего ресторана, он решил поесть по дороге и остановился в закусочной, где единственный свободный табурет был перед грилем. Мрачно наблюдая за низеньким поваром в грязном переднике, он съел сухой гамбургер и выпил чашку плохого кофе.
Глава V
В кафетерии для служащих компании «Гексатроникс» на шоссе № 128 посередине стоял длинный стол, где сотрудники обычно ели по-семейному, а вдоль стен был ряд отдельных кабинок для тех, у кого были гости и кто хотел поговорить наедине. Тед Бреннерман просмотрел меню и обратился к хозяину:
— А вы, ребята, неплохо тут устроились. — Он сделал заказ, и как только официантка ушла, наклонился через стол. — Так вот, Бен, в храме у тридцати семи человек стулья с именными табличками, еще пятьдесят-шестьдесят всегда занимают одни и те же места — итого, считай, сотня. А мы — чернь — если иногда и попадаем поближе, на следующий год все равно оказываемся на галерке. В прошлом году я сидел в последнем ряду. Какая разница? Да никакой. С усилителем слышно не хуже. Но многие относятся к этому не так. Они хотят сидеть впереди.
Высокий, красивый, молодой, Тед был нетерпелив и всегда заразительно улыбался.
— Но они заплатили за эти места. По крайней мере, те, у кого есть именные таблички, — заметил Горфинкль.
— А ты этому не верь. Я во всем разобрался. Я просмотрел протокол общего собрания, которое было пять лет назад. Тогда они только начинали кампанию за строительный фонд и наобещали чего угодно. И Беккер, который был тогда президентом, сказал, что любой, кто пожертвует тысячу баксов, сможет из года в год резервировать свое место. То есть не было такого, чтобы правление это решило и за это проголосовало. Это было так, по ходу, и получилось экспромтом, понимаешь? Тогда, — он сжал руку Горфинкля, чтобы подчеркнуть сказанное, — правлению на следующем заседании пришлось вынести хоть какое-нибудь постановление, чтобы вытащить Беккера из ловушки, в которую он сам себя загнал. И они сказали, что за теми, кто пожертвовал тысячу баксов, остаются их места — каждый год до последнего дня продажи мест.
Но тут же, в следующем году, они вообще перестали продавать места и зачли те бабки как ежегодные членские взносы, так что, как мне кажется, эти ребята вообще не имеют никаких прав на тепленькие местечки, которые они постоянно занимают. Я тебе больше скажу: не все из них — у кого на местах есть именные таблички — дали свою тысячу баксов.
Горфинкль, приземистый человек лет сорока пяти с квадратным лицом, ответил:
— Скоро мы будем устанавливать сиденья по типу театральных. Может, подождем с этим до тех пор?
— Проект Нуссбаума? — Бреннерман рассмеялся. — Он пришел ко мне сразу после того, как меня выбрали председателем «Братства», — я должен был убедить своих начать кампанию по сбору дополнительных средств на установку новых стульев. И буквально на прошлой неделе он снова заговорил об этом. Последние четыре года он приставал к каждому председателю «Братства» — и женской общины тоже. Я сказал ему, что большого энтузиазма, похоже, не дождешься.
— Не знаю, эти стулья ужасно неудобные. А наших денег хватит только на половину.
— И обидно, что деньги-то лежат, да не про нас. О, а что если протолкнуть эту идею на презентации фонда социальной активности? Скажи, а можно завещание миссис Оппенгеймер истолковать так, чтобы мы могли получить деньги хотя бы на покупку обивки для сидений?
Горфинкль покачал головой.
— Ничего хорошего это не даст. Стулья станут выше, а они и так слишком высокие. Дело не столько в сиденьях, сколько в спинках. Слишком уж они прямые. Единственный, кому они нравятся, — доктор Клейн, остеопат. После Йом-Кипура у него больше пациентов с болями в крестце и судорогами в ногах, чем за весь год.
Бреннерман рассмеялся.
— А кто их вообще выбрал, именно эти стулья?
— Никто их не выбирал. Всех — в основном тех самых, с табличками на стульях, — так потрясла репутация этого архитектора, что они позволили ему делать все, что он хотел. Я думаю, эти стулья скопированы в какой-нибудь старой английской церкви. А ему-то что? Его интересовало только, как это выглядит; он не собирался на них сидеть. Забавная штука — этот вопрос о местах. В том шуле[23], куда обычно ходил мой отец, было очень важно, где ты сидишь. По традиции важные шишки, парни с ихэс[24], с положением, всегда сидели впереди. Чем ближе ты был к Ковчегу, тем ты важнее. В этом шуле у них был даже ряд стульев у той стены, где стоял Ковчег, лицом к остальной конгрегации. Я помню тех, которые там сидели, в основном старики с длинными бородами, в длинных шерстяных талесах[25]. Отец называл их п'ней. Черт возьми, я много лет не вспоминал это слово. Это на иврите, означает «лица». Отец всегда говорил, что они представляют лицо конгрегации, самые набожные и самые образованные.
— У нас таких, пожалуй, и нет, разве что старый Горальский и Вассерман.
— Может, Мейер Пафф считает себя таким.
Оба усмехнулись.
— И все же что-то тут не так, — продолжал Горфинкль. — Я думаю, что презентовать новую программу социальной активности нужно на общем собрании конгрегации. Если разобраться, мы даже официально не представили ее правлению.
— Черт, на этом мы строили свою кампанию, Бен. Так что это вовсе не тайна. А раз мы в большинстве, то имеем право делать так, как считаем нужным.
— И все-таки…
— Неужели ты не видишь, — нетерпеливо прервал Бреннерман, — что вся прелесть в том, чтобы представить ее именно на службе «Братства». Уже потому, хотя бы, что там будет больше людей, чем когда-либо приходит на общее собрание. На последнем собрании было чуть больше ста человек. На службу, которую проводит «Братство», приходит почти в три раза больше. И в отсутствие рабби нам не надо волноваться о том, что он может сказать после этого.
Горфинкль усмехнулся.
— Он еще этого не знает, но на воскресном заседании его тоже не будет.
— Да? Откуда ты знаешь?
— Понимаешь, он рассчитывал поехать домой сразу после вечерней службы в субботу, но Стью говорит, что вечером в субботу в колледже проводят что-то вроде вечеринки в его честь. Он не сможет уехать до утра воскресенья. Они с ребенком.
— Мыслишь правильно.
— Но меня волнует не рабби; меня волнует Пафф.
Бреннерман усмехнулся.
— Можешь не волноваться насчет Паффа. У меня есть идея, как с ним справиться.
Глава VI
Покупателей не было, и Мейер Пафф, неуверенно оглядевшись, прошел в заднюю часть магазина, где, сердито глядя на него, сидел мистер Бегг.
— Я Мейер Пафф. Мистер Морхед сказал, что у вас есть ключ от Хиллсон-плейс, вы там вроде сторожа…
— Я живу в вагончике. И присматриваю за домом, — бесстрастно произнес Бегг.
Мейер Пафф был крупный, медлительный человек. Все в нем было крупным: круглая голова, увенчанная хохолком седеющих светлых волос, мясистый нос, квадратные, белые, как мел зубы, красные руки с похожими на сосиски пальцами, ноги, обутые в ужасно бесформенные ботинки, словно кожа была недостаточно прочной, чтобы вместить их. Когда он говорил, раздавалось глубокое низкое бормотание, причем большие красные губы еле двигались, и звук, казалось, исходил не столько изо рта, сколько из живота. Однако под пристальным взглядом Бегга он чувствовал себя неловко.
— Морхед сказал, что звонил вам…
— Я говорил с ним по телефону сегодня утром.
— Да, так если бы я мог взять ключ…
Не ответив, Бегг наклонился вперед и откуда-то из проема между тумбами стола извлек картонку, на которой карандашом было написано: «Вернусь через час».
— О, вам вовсе незачем оставлять магазин. Если вы просто дадите мне…
— Дом обставлен, и я не даю ключи незнакомцам, — категорически заявил Бегг. Но, увидев, что Пафф покраснел, добавил: — В это время дня все равно никакой торговли. Вы на машине? Тогда езжайте за мной.
Хиллсон-плейс и стоявший неподалеку вагончик находились на мысу, известном как Тарлоу-Пойнт. Это были единственные два здания в этой части улицы, отстоявшие от дороги примерно на сорок футов. Высокая, густая изгородь почти скрывала лужайку перед домом и тянулась вдоль края участка, сливаясь с полоской всклокоченных сосен, ведущей к пляжу и воде.
Пафф указал на узкую тропу за изгородью, ведущую к воде. — Это часть имения? — спросил он.
— И да, и нет. Это часть участка, но есть право прохода для публики. Хиллсоны в течение многих лет время от времени сражались за это с городом.
— Так это не частный пляж?
— Хиллсоны заявляют, что да. Город говорит, что тот вон свободный участок через дорогу — он повел подбородком — имеет право доступа к пляжу. Тогда несколько лет назад Хиллсоны и купили этот участок, чтобы выглядело, словно весь Тарлоу-Пойнт принадлежит им. Но муниципалитет говорит «нет», потому что они могут продать тот участок отдельно, а новый владелец должен иметь право доступа к океану.
— Понимаю.
Бегг направился к парадной двери.
— Они продают все хозяйство? — спросил он.
— Я так понял.
Дверь вела в вестибюль, за которым находилась большая гостиная. Из трех окон два выходили на лужайку перед домом, а третье на ту сторону, где стоял вагончик. Все они были завешены кружевными занавесками и тяжелыми, старомодными красными бархатными портьерами с оборками наверху, подхваченными посередине петлями из того же материала. Мебель была закрыта большими кусками полиэтилена, но то, что было видно сквозь него, соответствовало бархатным портьерам — огромные мягкие диваны, обитые парчой стулья и тяжелые, неуклюжие столы красного дерева.
— Это был летний дом? Мебель, вроде, неподходящая…
— Думаю, это из их старого дома в Кембридже. В те дни люди не выбрасывали хорошие вещи.
Бегг провел Паффа через холл, ведущий вглубь дома, открывая по пути двери с обеих сторон. За первой дверью открылся маленький кабинет с кушеткой, книжными полками, парой стульев и П-образным столом. Как и мебель в гостиной, кушетка и стол были закрыты полиэтиленом. Остальные комнаты были спальнями, и в каждой из них по крайней мере кровать была закрыта полиэтиленом. Пафф постучал по стене.
— Это капитальная?
— Не думаю.
На одной из стен дальней спальни было большое чернильное пятно. Пафф показал на него.
— У кого-то из Хиллсонов плохой характер?
— Вандалы, — коротко ответил Бегг. — Пару лет назад старшеклассники стали забираться в некоторые летние дома, портить вещи, устраивать беспорядок. Поэтому я и получил эту работу. Хотите подняться наверх?
— Думаю, не стоит.
Они зашли в кухню, откуда сквозь ряд сосен был виден океан.
— Сейчас отлив, — сказал Бегг, — но во время прилива вода поднимается до самого волнолома и отрезает Пойнт от остальной части пляжа.
— Ого, прилив такой высокий?
— Не меньше двух-трех футов.
От фасада дома участок отлого спускался к пляжу, поэтому вниз от черного хода вела лестница в дюжину или больше ступеней.
— Мы можем посмотреть на все это сзади?
— Послушайте, мистер, у меня дела в городе.
— О, конечно, — сказал Пафф. — Вы можете ехать. Я сам осмотрю.
— Как угодно. — Он открыл дверь, и Пафф стал спускаться по лестнице. Бегг запер за ним дверь и через парадную вышел к своей машине.
Пафф дошел до деревьев и обернулся посмотреть на дом. «Надо будет вернуться с рулеткой и кое-что измерить», подумал он. «И взять с собой архитектора… Можно поставить балки и убрать все перегородки. Кухню можно пристроить в стороне или наверху и использовать буфет-автомат, а остальную площадь — под столы и кабины. А для дорожек пристроить сзади сборный барак. Тогда в кегельбан придется спускаться по лестнице, но зато в обеденном зале будет тише. Везде окна, виден океан, все лето здесь будет приятно и прохладно. Тот участок через дорогу можно заасфальтировать…»
Он вернулся к машине, раздумывая, куда ехать — в Линн или Глостер. Линн ближе, но долгая поездка вдоль берега по красивой дороге поможет хоть немного расслабиться.
Управляющий кегельбаном в Глостере не сообщил ничего необычного; все шло благополучно.
— Ты уверен, что все в порядке?
— В чем дело, мистер Пафф? Вам кажется, что я не справляюсь? Тогда…
— Да нет, все в порядке, Джим. Просто сегодня день такой, куда ни придешь — все кувырком…
— Понимаю, мистер Пафф. У вас все на сегодня?
— Сейчас в Линн, а потом домой. Я еще вчера объездил несколько мест.
— Хорошего уикэнда, мистер Пафф. И не переживайте так.
Когда он приехал в Линн, в кегельбане был только администратор, который попыхивал сигарой, облокотясь на стойку.
— Скучаешь, Генри?
— Перед самым ужином тут всегда скучно, мистер Пафф. Обычно вы приезжаете пораньше.
— Я заехал сначала в Глостер. Все хорошо? Пепельницы что-то полноваты…
— Минут пять-десять решил передохнуть. Примерно через полчаса здесь будет наплыв.
— А через час ты уходишь.
— Да, если Муз придет вовремя. Пока что каждый вечер на этой неделе он опаздывал. — Генри застыл, увидев подъехавшую машину, из которой вышли двое мужчин и направились к дверям. — Легавые, — шепнул он.
— Здесь? Чего им надо? В чем дело?
— Привет, мальчики, — обратился Генри к сыщикам. — Хотите пару раз бросить шары?
— Не сегодня, Генри. Мы хотим только осмотреть помещение.
Один из них решительно направился в маленькую пристройку, где были туалеты. Генри вышел из-за стойки, чтобы проследить за ним. Тот остановился перед дверью с надписью «Для женщин».
— Там кто-нибудь есть?
— Нет, но тебе туда нельзя, — разозлился Генри.
— Почему?
— Читать умеешь? Это дамский туалет.
— Ничего, я присяду по-ихнему. — Он открыл дверь и вошел внутрь.
Второй высыпал на пол одну из пепельниц и присел на корточки, чтобы изучить содержимое. Пафф подошел к нему.
— Послушайте, — сказал он. — Что тут происходит?
— Кто вы такой, мистер?
— Я — Мейер Пафф. Владелец заведения.
— Не отойдете ли в сторонку? Вы заслоняете мне свет. — Он поднялся и начал осматривать пепельницы у следующей дорожки. — Полицейские дела, — сказал он. — Мы получили информацию и проверяем ее. Вы здесь часто?
— Вообще-то… Ну, может, пару раз в неделю. Иногда только раз.
— Ты не заметил, что насорил, — сказал Генри. — Собираешься оставить этот мусор?
— Конечно, оставим его уборщице.
— Парни, а у вас есть ордер на обыск? — спросил Генри.
— Нет-нет, — сказал Пафф. — Не надо, Генри…
Полицейский удивленно посмотрел на администратора.
— А зачем нам ордер? Это общественное место, а моему напарнику нужно было в туалет.
— В дамский?
— Пожалуйста, Генри. — Пафф повернулся к полицейскому. — Послушайте, вы не могли бы сказать, что вы ищете?
— Мы ищем наркотики, мистер.
— Но почему здесь?
Второй полицейский присоединился к ним, покачав головой в ответ на вопросительный взгляд партнера.
— Мы получили информацию и проверяем ее. Ты не видел тут каких-нибудь шумных ребят? — спросил он у Генри.
— Эти маленькие ублюдки всегда шумят, — сердито сказал Генри. — Но это не дает вам никакого права являться сюда…
— Без ордера на обыск? Слушай, Бастер, когда мы придем сюда с ордером, мы тут все разберем на мелкие кусочки.
— Хорошо, офицер, не стоит волноваться, — сказал Пафф. — Мы всегда рады помочь полиции.
— Да? Так скажите об этом вашему человеку.
Дома миссис Пафф встретила его в дверях.
— Где ты был? Уже так поздно, что я начала волноваться. Иди быстро мыться. Обед полчаса как готов.
— Что-то сейчас не хочется, Лора. Я устал. Поем позже.
— Но мы же собирались в храм, Мейер. Сегодня пятница.
— Сегодня, пожалуй, я не пойду. Я устал.
— Да брось, Мейер, сядь, поешь чего-нибудь, и сразу все пройдет. А потом пойдем в храм, там ты расслабишься. Сегодня служба «Братства». Тебе она всегда нравилась.
Глава VII
Когда Тед Бреннерман широкими шагами направился к кафедре проповедника, конгрегация выжидающе притихла. У него была репутация пробивного малого и оригинала («Этот Бреннерман говорит, что вздумается, но всегда выходит сухим из воды»). Облокотившись на кафедру в манере, явно напоминающей рабби Смолла, он объявил:
— Добрый вечер, это ваш добрый рабби Бреннерман. — Раздался одобрительный смешок, и он продолжил: — Серьезно, люди, в моей жизни было много публичных выступлений, но впервые я должен произнести проповедь. Должен сказать, это отрезвляет.
Снова раздалось одобрительное хихиканье, поскольку среди членов «Братства» Бреннерман пользовался репутацией человека, который знает, как обращаться с бутылкой.
— И когда я узнал, что в соответствии с программой должен произнести проповедь, то спросил нашего рабби, не может ли он одолжить мне свою книгу проповедей. (Смех.) А он заявил, что у него такой нет и что он готовит свои проповеди сам. Тут я подумал про себя: я знаю, что подарить вам на ваш день рождения. (Смех.) Никто из присутствующих больше меня не ценит нашего рабби. Я считаю его одним из самых знающих и самых умных людей, которых когда-либо встречал. И он доказал это, когда решил прогулять эту службу. (Смех.)
Так вот, поскольку помощи от нашего рабби я не получил, то напрямую посоветовался с его боссом, с Моисеем. Всегда имей дело с начальством — вот мой девиз. Я достал семейную Библию и начал читать об Исходе. Я читал на английском, потому что под рукой не оказалось моих очков для иврита. (Смех.) Это было откровение. И это вовсе не каламбур. Все мы знаем историю об Исходе из Египта, десяти казнях и всем остальном еще со времени учебы в воскресной школе. Но когда читаешь Библию, действительно начинаешь понимать, какими придурками были фараон и египтяне. И недавние события на Ближнем Востоке[26] доказывают, что они не слишком поумнели за три тысячи лет. (Одобрительный смех.) Если не считать того, что тогда они хотели, чтобы мы остались, а теперь они хотят, чтобы мы ушли. Неужели не могут решить, наконец, чего они хотят? (Смех.)
Но когда я прочитал дальше, я обнаружил, что и наши люди были ненамного умнее. Полюбуйтесь: им только что преподнесли самую шикарную демонстрацию Господнего могущества, какую когда-либо представляли человечеству. Снова и снова Бог показывал, что относится к детям Израиля с особой благосклонностью. Он насылал на страну мух и саранчу, тьму и смерть, и в каждом случае израильтяне выходили невредимыми. Им нужно было более сильное доказательство? Он дал его: раздвинул воды Красного моря, чтобы дать им пройти. Как реагировали израильтяне? Должны бы были, кажется, смело пойти за Моисеем. Но нет, как только они обнаружили, что египтяне преследуют их, кое-кто — не все, конечно, уверен в этом, — начали наезжать на него. «Разве могил недостает в Египте, что взял ты нас умереть в пустыне?»… А остальным: «Ведь об этом мы говорили в Египте: оставь нас, и будем мы служить египтянам, ибо лучше нам работать на египтян, чем умереть в пустыне». Вы знаете, как ответил на это Бог. Когда египтяне подошли, Он вернул воды моря назад и потопил их войско.
Что, кончились жалобы? Кончились сомнения? Отнюдь. Это повторялось опять и опять. Всякий раз, когда ситуация не была на сто процентов кошерной[27], эта компания — а я уверен, что это все время была одна и та же компания, — начинала бузить. Так было, когда они пришли в Мару и вода оказалась горькой. Позже, когда стало не хватать еды, они тосковали о горшке с мясом в Египте. Тогда Бог послал им манну небесную. Потом, когда у них кончилась вода, они заподозрили, что Бог позволит им умереть от жажды. Вот тут-то Моисей и ударил по камню своим посохом и добыл воду. И, наконец, то же самое случилось снова, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить Скрижали Завета. Когда он вернулся не сразу, они были уверены, что их бросили, и заставили Аарона сделать для них изображение золотого тельца, чтобы они могли поклоняться ему.
Тон Бреннермана изменился, и конгрегация обратилась в слух.
— И вот Моисей дал им свод законов. Это не были законы ритуала и молитвы. Это были законы, по которым следовало жить, законы, необходимые для сохранения жизнеспособного общества. В те дни у них было примитивное общество, и для его существования они нуждались в довольно простых этических правилах: «Не убий», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй». Все мы знаем, что не может существовать общество, где убийство, воровство и лжесвидетельство разрешены или оправданы. Оно бы тут же распалось. Эти законы были необходимы для общества того времени, чтобы сохраниться, вырасти и преуспеть. И не является ли наша религия по существу именно этим — сводом правил, по которым могут жить люди?
Но сегодня мы живем в более сложном обществе, и это требует других правил или — возможно — новой интерпретации старых. Мы знаем теперь, что когда широким слоям населения не хватает еды, одежды и крова, это разновидность убийства. Когда мы не позволяем негру изложить свои доводы и протестовать против своего поистине тяжелого положения — это разновидность лжесвидетельства. И когда нашей молодежи не позволяют слушать голос собственной совести, а заставляют ее выполнять желание большинства, это значит, что мы поклоняемся другому богу — богу Истеблишмента. И я говорю, что истинная функция храма — или церкви, если на то пошло, — следить, чтобы современное общество было жизнеспособным, а в наши дни это означает проявлять инициативу в таких вопросах, как гражданские права, социальная справедливость и мир во всем мире.
Бреннерман поправил кипу на голове.
— Я хотел бы видеть, что наш храм занимает ясную позицию во всех этих вопросах и заявляет об этом во всеуслышание. Я хотел бы видеть, как наш храм принимает резолюцию по этим вопросам и затем уведомляет о нашей позиции ежедневную прессу и посылает копии законодательному собранию штата и нашим представителям в Конгрессе.
И я бы хотел, чтобы мы сделали больше. Когда наши чернокожие братья устраивают демонстрации в защиту социальной справедливости, я хотел бы видеть рядом с ними команду этого храма. И когда проходят слушания по различным социальным вопросам, я хотел бы видеть на слушаниях представителей этого храма, однозначно дающих понять, что мы расцениваем их как религиозные вопросы.
Более того, я хотел бы, чтобы мы выделили деньги для специального фонда социальной активности, чтобы мы могли внести свой вклад в различные достойные дела — такие, как марш бедных в Вашингтон, юридическая помощь политическим заключенным на Юге, и даже — в некоторых случаях — в поддержку кандидатов на общественные должности, которые представляют наши взгляды и выступают против реакционеров и фанатиков.
Мое отношение к этому не тайна и не является для вас неожиданностью, потому что это предвыборная платформа, на которой я проводил кампанию за должность президента «Братства», и это платформа, на которой проводила кампанию нынешняя администрация храма. Сам факт нашего избрания показывает, что большинство конгрегации согласно с нами и дало нам наказ действовать. А наша платформа может быть выражена в нескольких словах: деятельность храма должна помогать развитию демократии.
Как я сказал, ничто из этого не является для вас неожиданностью, потому что мы все время заявляли об этом. Но одно дело заявлять, а другое — претворять в жизнь. И сегодня вечером я хотел бы объявить о первом шаге нашей новой программы. Мы полагаем, что демократия должна начинаться дома. Поэтому вместо старой системы забронированных мест, когда лучшие места всегда доставались одним и тем же немногим личностям, мы собираемся ввести систему, при которой никакие места в храме не резервируются и все рассаживаются по принципу «кто первый пришел, того первого и обслужили». Наш президент, Бен Горфинкль, посчитал вполне уместным, чтобы объявил об этом я, поскольку именно «Братство» будет устанавливать новые стулья к Верховным праздникам.
Зал возбужденно загудел, но Бреннерман продолжал:
— Да, я знаю, что не все члены конгрегации и даже «Братства» согласны с нашим представлением о функции храма. Я знаю, некоторые считают, что храм должен быть просто местом, куда приходят молиться и соблюдать ритуал. Они похожи на тех, которые заволновались, когда Моисей поднялся на гору, и настояли, чтобы Аарон сделал золотого тельца. Это люди, которых не интересуют настоящие убеждения, которые боятся быть втянутыми в полемику. Им нужна религия, состоящая из набора ритуалов. Я считаю, что это сродни поклонению золотому Паффу — я хочу сказать, кафу[28]. (Громкое хихиканье.) И я считаю это религией золотого — он сделал паузу, словно для того, чтобы удостовериться, что на этот раз он произносит правильно — тельца.
Бреннерман продолжал еще несколько минут, сравнивая то, что он назвал настоящей религией, с религией тельца. И каждый раз был преувеличенно осторожен с произношением. Он закончил призывом к единству, «чтобы мы сделали наш храм лучшей религиозной организацией на Северном побережье».
Он вернулся на свое место рядом с Горфинклем, который встал и, как принято, поздравил его торжественным рукопожатием. Но когда они снова уселись, Горфинкль, прикрывшись молитвенником, сложил из пальцев букву О в знак безоговорочного одобрения.
Глава VIII
— Привет, Хьюджи, дружище. Эт-то твой старый друг Кевин О’Коннор.
— Ага. — Хью Лэниган, шеф полиции Барнардс-Кроссинга, не любил, когда его называли Хьюджи, и особенно не любил Кевина О’Коннора, начальника полиции соседнего Линна. Он считал его профессиональным ирландцем, даже театральным ирландцем, так как родился О’Коннор в Америке и ирландский акцент был явно наигранным. Кевин был уверен, что в Линне это может дать политические преимущества.
— Ты пойдешь на весенний бал шефов полиции, а, Хьюджи?
— Еще не решил.
— Жаль, а то я мог бы записать тебя прямо сейчас. Я в комитете и хотел бы произвести хорошее впечатление.
— Я дам тебе знать, Кевин.
— Не надо подавать анкету. — Лэниган с удивлением заметил, что акцент бесследно исчез. — Просто позвони мне, буду рад внести твое имя, а деньги можешь послать в любое время, когда вспомнишь.
— Хорошо, Кевин.
Но тот еще не закончил.
— Да, кстати, ты случайно не знаешь такого — Пафф, житель вашего прекрасного города, вроде бы еврей?
— Мейер Пафф?
— Именно.
— Да, я его знаю, — осторожно сказал Лэниган. — Что ты хочешь о нем узнать?
— Да как обычно. Приличный ли он человек? Имел ли ты с ним когда-либо дело — скажем, по службе?
— В городе он на хорошем счету. Никаких полицейских протоколов, если ты это имеешь в виду. Что он сделал? — Лэниган уже записал имя в блокнот для заметок.
— Пока не знаю, сделал ли он что-нибудь. Но у него здесь кегельбан.
— У него их полдюжины в городах и городках Северного побережья.
— Я знаю, но ни одного в Барнардс-Кроссинге. — Это прозвучало как обвинение.
— У нас здесь нет, но кегельбан в Салеме достаточно близко. Так что там с вашим кегельбаном?
— У нас есть ребята, которые покуривают травку и доставляют нам время от времени небольшие неприятности, — так это один из их постоянных притонов.
— И ты думаешь, что он может продавать наркотики? — Лэниган вычеркнул имя в блокноте. — Не могу представить его в этой роли. Начнем с того, что он одна из важных шишек в местном храме.
— Послушай, Хьюджи, а ты не думал, что это может быть своего рода прикрытием?
— Нет, не думал, но я подумаю об этом, когда не найду лучшего занятия.
— Шутишь, как обычно. А у вас с этим не было проблем?
— С наркотиками? Было немного, — осторожно сказал Лэниган. — Насколько мы смогли выяснить, идет это из Бостона.
— Послушай, если до тебя что-нибудь дойдет, любая мелкая сплетня насчет этого Паффа, я буду благодарен, если ты дашь мне знать.
— Положись на меня, Кевин… дружище. — Лэниган положил трубку и некоторое время пристально смотрел на нее. Потом усмехнулся.
Глава IX
— Хорошая проповедь, Тэд, — сказал Мейер Пафф. Прихожане шеренгой спускались в малый зал, где был приготовлен легкий ужин. Стоя посреди прохода, Пафф поджидал Бреннермана и Горфинкля, идущих от кафедры.
— Вам она действительно понравилась? — нетерпеливо, слишком нетерпеливо спросил Бреннерман.
— Конечно, мне она исключительно понравилась, — сказал Пафф своим глубоким басом. — Во время проповеди я все думал — мы вот тут платим рабби большое жалованье. За что? Главным образом, за проповеди. Остальную часть его работы — речи на бар-мицве, на свадьбе, посещение больных — мы могли бы поручить кантору или президенту. Остаются только проповеди. И теперь ты доказал, что любой нахальный молодой панк может делать то же самое.
— Но послушайте…
— Это не место для ссоры, Мейер, — спокойно сказал Горфинкль.
Несколько членов конгрегации, выходивших последними, остановились послушать.
— А кто ссорится? Неужели я стану затевать ссору в храме? Поверьте, я не так воспитан. Я, скорее, поднимусь на кафедру и оскорблю кого-нибудь из членов конгрегации.
— А кого тут оскорбили? — спросил Горфинкль.
— Я не знаю. Возможно, дока Эдельштейна. Ему не нравится, когда храм занимается политикой. Я сомневаюсь, что ему очень понравилось, когда его назвали идолопоклонником. А может, он просто неправильно воспитан. Он всегда думал, что он хороший еврей. Он помог организовать этот храм и дал много денег на его развитие. Мой друг Ирвинг Каллен — его не было здесь сегодня вечером, но он тоже дал много денег для этого храма. И ты, возможно, не знаешь, что фонд семьи Каллен много лет вносил пожертвования в национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. Но Ирв Каллен никогда не считал, что раз он это делает, то и я должен.
Ты говоришь про места с табличками. Думаю, ты этого не заметил, но на трибуне, с которой ты говорил, на столе для чтения позади тебя и на том самом стуле, на котором ты сидел, есть небольшие медные пластинки, где сказано, что это пожертвовано фондом семьи Каллен, вся мебель кафедры, включая Ковчег и микрофон, в который ты говорил. Может, он и не спешил бы, если бы знал, что какой-то молодой умник ухватится за это, чтобы назвать его поклонником золотого тельца.
— Деньги еще не все, — сказал Горфинкль, — и это не дает вам права…
— Конечно, я знаю, что деньги еще не все. Кроме этого, можно еще трепаться и произносить речи. Я не ходил в колледж, как вы, мальчики. Я вырос на улице и парочку вещей там усвоил. Одна из них — слова ничего не стоят. И когда какой-нибудь умник начинал выступать, доказывая, что уж он-то точно знает, что к чему, мы говорили ему: «Заткни свои деньги себе в глотку».
— Но дайте же…
— Я хочу задать тебе только один вопрос, Тэд. По поводу твоей проповеди. Я не собираюсь спрашивать тебя, какова была ее цель. Это совершенно ясно: храм растет, для нас двоих он становится слишком большим. Может, ты думаешь, что всем полегчает, если ты его слегка уменьшишь?
— Я не…
— Нет, я вот о чем хочу тебя спросить: излагая законы в своей проповеди таким образом, себя ты считал Моисеем? Или Богом?
Глава X
В пятницу вечером в крошечной молельне дома Гилеля присутствовало меньше двадцати пяти человек, и рабби Смолл подозревал, что некоторые из них христиане. Один, сидевший далеко сзади, и одетый в черное, с воротником священника, точно уж не был евреем. Рабби предположил, что это директор Ньюмен-клуба в колледже; так и оказалось, когда тот подошел к нему в конце службы и представился. Лет примерно тридцати, живой и стройный, отец Беннет охотно смеялся.
— Отслеживаете оппозицию, отец? — поддразнил рабби.
Священник засмеялся.
— Я просто подумал, что пригожусь вам, чтобы укомплектовать ваш миньян. Так это называется?
— Так. Да, посещаемость довольно неутешительная.
— На самом-то деле я удивляюсь, что вы и столько собрали. Большинство студентов уехали сегодня в полдень или раньше — сразу после последнего занятия. Но и рабби Дорфман не толпы собирает, вы же понимаете. Честно говоря, я сам собираю не больше четверти студентов из тех, которых должен бы, — поспешно добавил он, словно не желая принизить рабби Дорфмана. — В нашем-то случае это понятно: церковь все время меняется, мы пытаемся ее модернизировать. Вот многие из наших молодых людей и уклоняются, словно хотят сначала посмотреть, куда мы придем. Они не согласны принимать все на веру; они сомневаются, обсуждают и спорят.
— Вас это беспокоит?
— Нисколько, — быстро сказал священник. — Но на многие их вопросы мы не в состоянии ответить. Например, вопрос ограничения рождаемости. Многие из наших студентов-католиков происходят из больших семей. В большинстве случаев они первые из семьи поступили в колледж. И из их разговоров вы понимаете, что они не собираются заводить шестерых-семерых детей — максимум двоих или троих, а это означает ограничение рождаемости.
— И что?
— Конечно, состоятельные католики делали так многие годы. В высших слоях общества большое семейство — скорее исключение, чем правило. Но эти молодые люди ужасно искренни. Если церковь устанавливает правила, которые противоречат их здравому смыслу, они не станут просто игнорировать их, как делали предыдущие поколения. Они скорее вообще отойдут от церкви.
— Взрослея, молодые люди становятся мудрее или, по крайней мере, терпимее.
— Возможно, хотя, честно говоря, я надеюсь, что церковь тоже будет становиться более терпимой. Например, по поводу ограничения рождаемости, в комитете, который создал папа римский для изучения вопроса, подавляющее большинство было за разрешение использовать пилюли.
— Но папа римский выступил против пилюль.
— На сегодня да. Но существует большая вероятность, что в ближайшее время он может изменить доктрину.
Рабби покачал головой.
— Он не может. Никак не может.
Священник улыбнулся.
— Видите ли, это не догма, а церковь — истинно человечная организация.
— Она также очень последовательная организация, а вопрос ограничения рождаемости посягает на святость брака, который является догмой.
— А как вы к этому относитесь?
— Видите ли, мы считаем моногамный брак весьма искусственным институтом, который является, однако, наилучшей системой организации общества. Он подобен юридическому контракту, который может быть прерван разводом, когда его продолжение становится невозможным для обоих участников. Но для вас брак — таинство, и ваши браки заключаются на небесах. Вы не можете разрешить развод, потому что он предполагает, что небеса допустили ошибку, а это невероятно. Самое большее, что вы можете себе позволить — аннулирование, своего рода юридическая фикция, будто его никогда и не было.
Они вышли из дома Гилеля и прогуливались по аккуратной аллее университетского городка. Наконец они подошли к дому Дорфмана.
— И каким образом, по вашему мнению, ограничение рождаемости наносит ущерб нашему учению о браке? — спросил отец Беннет.
— Это зависит от того, что считать целью брака, — сказал рабби. — Если это размножение, то, думаю, есть смысл считать его делом небес. Очень трудно представить себе, чтобы небеса были озабочены институтом, в основном предназначенным для развлечения. А он станет таким, если допустить употребление пилюль.
Когда отец Беннет покинул их, а приходящая няня ушла и они остались наедине, Мириам спросила:
— Что на тебя нашло сегодня вечером, Дэвид? Ты нарочно дразнил этого милого отца Беннета?
Он удивленно посмотрел на нее и усмехнулся.
— Думаю, я вряд ли вступил бы в дискуссию такого рода с отцом Берке в Барнардс-Кроссинге. Здесь я почему-то чувствую себя свободнее. Возможно, это из-за академической атмосферы. Ты думаешь, ему это не понравилось?
— Не знаю, — ответила она. — Если и да, то он хорошо с этим справился.
Профессор Ричардсон жил в старом викторианском доме. Большой квадратный вестибюль был отделен раздвижной дверью от гостиной, в другом конце которой была еще одна пара скользящих дверей, ведущих в столовую. Обе пары дверей были раздвинуты, образуя одну огромную комнату в форме буквы L. К девяти часам вечера в субботу вечеринка была в полном разгаре. Люди стояли маленькими группами, потягивая напитки. В одном конце комнаты вокруг маленького стола стояло несколько стульев. Рабби и миссис Смолл сидели с хозяином, профессором Ричардсоном — спортивного вида моложавым мужчиной, который постоянно прерывал беседу с рабби и вскакивал, чтобы поздороваться с какими-нибудь новыми гостями, которых он подводил, чтобы представить. Миссис Ричардсон расхаживала между гостями, время от времени делая набеги на кухню, чтобы пополнить запасы напитков и закусок.
Вопросы были однообразны: «Почему ваши люди надевают во время службы такой платок с бахромой по краям?» «Вам нужно десять мужчин, чтобы молиться?» «Эти ваши диетические законы — они принимались для охраны здоровья, правда? Зачем же они вам теперь, когда существуют современные методы замораживания?» «Что делается, чтобы осовременить синагогу?»
Многие преподаватели с факультета заглянули ненадолго; они тоже задавали вопросы, бессмысленные, вежливые вопросы, чтобы только поддержать разговор: «Вы из этих краев, рабби?» «Как вам нравится наша школа?» «Вы займете место Боба Дорфмана?»
Молодежь же, как он скоро понял, пришла, в основном, чтобы встретиться не с ним, а друг с другом. Они стояли маленькими группами; в одном углу шесть или восемь ребят сидели на полу, один из них лежал на животе, махая в воздухе ногами в поношенных мокасинах. По их негромкой беседе, прерываемой взрывами смеха, он заключил, что они рассказывали анекдоты — вероятно, рискованные анекдоты. Некоторые из тех, кто подходил к нему, извинялись за то, что пропустили службу накануне вечером. Когда президент Гилеля присел на стул рядом с ним, рабби отметил это. Юноша кивнул.
— Видите ли, рабби, во что бы вы это ни одевали, как бы ни подавали, это все еще религиозная служба. А открытый дом вроде этого — уже вечеринка. В такое место можно пригласить девушку, и получается свидание. Понимаете?
К ним подошел высокий, нескладный светловолосый студент.
— Хелло, рабби, миссис Смолл. — Это был Стюарт Горфинкль.
— О, Стью, мы пытались найти тебя, — сказал рабби.
— Мы звонили пару раз, — сказала Мириам, — и оставили сообщение.
— Да, я получил его. К сожалению, я не смог попасть на службу в Гилель вчера вечером. У меня было свидание.
— Все в порядке, — сказал рабби. — Ты едешь домой с нами? Мы собираемся уехать часов в девять завтра утром.
— Понимаете, рабби, тут такое дело. Ребята из Глостера уезжают сегодня вечером и предложили подвезти меня…
Он выглядел смущенным, и рабби быстро сказал:
— Конечно, Стюарт.
— Я бы… я думал заглянуть к вам завтра во второй половине дня, если вы будете дома. — Юноша сел.
— Конечно! Мы всегда ждем ребят, которые приезжают на каникулы.
Отец Беннет подошел и сел на свободный стул возле рабби. Он взглянул на Стюарта, слегка кивнул, словно был не вполне уверен, что знает его и улыбнулся Мириам.
— Я должен извиниться перед вами, отец? — спросил рабби. — Жена решила, что я подтрунивал над вами вчера вечером.
— В самом деле? — Он засмеялся. — Вы, конечно, понимаете, миссис Смолл, что ваш муж — иезуит. Лично я не очень силен в казуистике и теологических спорах. У вас есть какое-то название для таких рассуждений, так ведь, рабби?
— Пилпул[29], — сказал рабби, — хотя я думаю, что этот прием несколько отличается от обучения у иезуитов.
— Возможно, и нет, — сказал отец Беннет. — Но, как говорит моя молодежь, каждый человек должен заниматься своим делом, а мое дело, по существу, — давать советы. Я стараюсь вселить в моих людей простую веру и оставляю все тонкости крупным церковным шишкам. Мне кажется, если у человека есть вера, то все остальное идет правильно. И поскольку все мы в значительной степени согласны с этим, я считаю это своим вкладом в дух экуменизма.[30]
Рабби сконфуженно кашлянул.
— Видите ли, мы не во всем согласны. Есть различие в ориентации. Вы, католики, ориентированы на небеса, в то время как мы, евреи, довольствуемся этим миром. В средние века был святой, который никогда не смеялся…
Священник кивнул.
— «Мой Спаситель распят, а я буду смеяться?»
— Именно. И это по-настоящему логичное отношение в свете вашего богословия. Вы стремитесь к святости. Мы довольствуемся человеческим уровнем. Конечно, — добавил он, — это не потому, что нам не хватает страсти или стремления. Скорее, мы считаем, что если вы стремитесь к чему-то выше человеческого уровня, имеется серьезная опасность упасть ниже его.
— Но вера, рабби. Если у вас есть вера в величие и славу Господа…
— Да, но у нас нет…
— Нет веры? — Священник был шокирован.
— Никакой предписанной нам веры. Наша религия не требует этого так, как ваша. Я подозреваю, что это своего рода особый талант, которым одни обладают в большей степени, чем другие. В сущности, наши взгляды соответствуют словам пророка Михея[31]: «Чего требует от тебя Господь, кроме как ходить путями Его?».
— Разве это не то же самое?
— Не совсем. Можно идти Его путями и все же сомневаться в Его существовании. В конце концов, вы не можете всегда контролировать ваши мысли. Когда вы подтверждаете вашу веру, разве это не подразумевает, что непосредственно перед подтверждением вы сомневались? Наши сомнения не сопровождаются чувством вины и страха, которые приводят в отчаяние ваших людей. Думаю, с точки зрения психологии это более безопасно.
— А вы, рабби, вы веруете?
Рабби улыбнулся.
— Подозреваю, что, как и вы или — раз уж на то пошло — кто угодно, иногда верую, а иногда нет.
Стюарт поднялся.
— Мне пора сматываться, рабби. Мы скоро едем. До завтра, наверное? — Он неуверенно кивнул священнику.
— Конечно, Стюарт.
— Езжай осторожно, — сказала Мириам.
Рабби огляделся и заметил, что почти вся молодежь ушла. Он взглянул на Мириам и обратился к отцу Беннету:
— Думаю, нам…
В эту минуту подошел профессор Ричардсон.
— Нет-нет, рабби, вы не уйдете сейчас. Мы ждем Люциуса Рэтбоуна. А, вот и он!
Профессор поспешно отошел, чтобы приветствовать нового гостя.
— Люциус Рэтбоун?
— Поэт, — объяснил отец Беннет. — «Песни гетто». «Блюз»… Наш местный поэт. Билл Ричардсон говорил, что он может заглянуть.
Рабби с любопытством посмотрел на дверь и увидел высокого, светлокожего негра лет сорока, великолепно выглядевшего в белом свитере с высоким воротом и черном шелковом пиджаке в стиле Неру. На шее у него висела серебряная цепочка с медальоном, который он теребил пальцами. Пока Ричардсон под руку вел его через комнату, он раздавал направо и налево мимолетные улыбки; между тонкими, словно наведенными карандашом усиками и небольшой эспаньолкой сверкали крепкие белые зубы. Ричардсон говорил, а он, высоко держа голову, смотрел из-под прикрытых век вдоль своего орлиного носа.
Они подошли.
— Рабби Смолл заменял на этой неделе Боба Дорфмана, Люциус. Миссис Смолл, рабби, Люциус Рэтбоун.
Поэт протянул руку и позволил рабби пожать ее. Не отпуская его, Ричардсон обнял рабби за плечи.
— Теперь, когда молодежь ушла, рабби, мы можем вместе спокойно выпить чашку кофе за столом.
— Мы действительно должны идти, профессор. У нас приходящая няня…
— Для чашки кофе время уж точно найдется.
Рабби согласился. Вокруг стола сидело человек двенадцать, и обращались они в основном к поэту.
— Пишете сейчас что-то новое, Люциус?
— Что вы думаете о заявлении Прекса по поводу Афро-американской студенческой лиги?
— Вы слыхали о новом департаменте городской социологии, Люциус?
Для рабби было очевидно, что они пришли не ради него, а в расчете на встречу с поэтом. Очевидным было и то, что он наслаждается их вниманием. Он отвечал на вопросы иногда с сарказмом, иногда даже язвительно, но всегда с безапелляционной уверенностью. И если его ответ смущал спрашивающего, он откидывал голову назад и громко смеялся, как бы для того, чтобы ясно показать, что у него не было никакого злого умысла. Он словно играл с ними. Заметив, что рабби смотрит на часы, он окликнул его через стол:
— Вы же не собираетесь уходить сейчас, а, рабби? — будто сама эта мысль обидела его.
— Боюсь, что мы должны…
Лицо поэта приобрело лукавое выражение.
— Вы знаете, мой дядя был раввином.
— Правда? — сказал рабби, хотя и понял, что его провоцируют.
Голос Рэтбоуна внезапно перешел на более высокий тон, почти на фальцет, и он заговорил на уличном диалекте негритянского гетто.
— По крайней мере, так мы его называли. Он был проповедником, в витрине у него стояла церковь, которую он называл Храм Сиона. Преподобный Люциус Харпер. Меня назвали в его честь. Мы всегда называли его рабби Харпер. Мой старый папаша сказал как-то, что тот сам придумал эту религию, чтобы подмазаться к домовладельцу-еврею и не платить за аренду. Но рабби Харпер заявил, что он это сделал по убеждению и что мы, бедные чернокожие, жили бы богаче, если бы остались верны Ветхому Завету. Что вы думаете об этом?
— Естественно, я думаю, что это так, — сказал рабби.
— Да? Тогда как получилось, что все магазины в округе, которые наживались на нас, принадлежали евреям?
— Послушай, Люциус… — Профессор Ричардсон был явно обеспокоен.
На обычно бледных щеках рабби появился румянец. Он сказал спокойно:
— Я знаю только одного еврейского торговца, у которого был магазин в негритянском районе города, где я вырос. Его отец открыл магазин задолго до того, как ваши люди переехали в этот квартал. Он вовсе не был богат. Он не мог продать магазин, и у него, конечно же, не было денег, чтобы закрыть его и открыть новый в другом месте. В конце концов, все решили за него, когда в районе были беспорядки. Ему разбили окна и обчистили все полки.
Негр не смутился; напротив, он впился в рабби взглядом, и когда заговорил, это был опять нормальный поставленный баритон, в котором звучало обвинение.
— И от меня ждут, что я буду шокирован тем, что мой народ, наконец, вышел из повиновения и вернул себе немного своего имущества? Четыреста лет вы угнетали нас, издевались над нами, порабощали нас, отнимали у нас наше наследие и наше мужество…
Рабби поднялся, Мириам тоже встала.
— Нам действительно надо идти, миссис Ричардсон.
Он повернулся к негритянскому поэту.
— Те четыреста лет, о которых вы говорите, мистер Рэтбоун, мой народ жил в гетто Европы — в Польше, России, Германии — и там не было никаких негров. Мой дедушка, приехавший в эту страну из маленького городка в России в начале века, как и остальные мои предки, никогда и не видел ни одного негра, а уж тем более не порабощал его, не издевался над ним и не отнимал у него его мужество. — Мириам подошла и стала рядом с мужем; он взял ее за руку. Теперь он смотрел прямо в сердитые глаза красивого, светлокожего негра. — Вы можете сказать то же самое о ваших предках, мистер Рэтбоун?
Глава XI
— Вы с Доком дважды обставили меня, — уныло произнес Ирвинг Каллен.
Мейер Пафф усмехнулся.
— Ничего подобного, Ирвинг. Это же была последняя партия, мы просто старались сорвать кон.
— Не верь ему, Ирвинг, — сказал доктор Эдельштейн, полный человек с неизменной улыбкой («Умеет быть обходительным», — говорили его пациенты). — Для него наказать лоха — святое дело.
— Ты же вроде выигрывал, — сказал Пафф.
Каллен выровнял перед собой столбики монет.
— Нет. Смотри, я проиграл тридцать два, нет, тридцать семь центов. Ты опять выиграл — как обычно.
Пафф собрал монеты, чтобы спрятать в ящик.
— Тебе просто везет, — сказал Каллен.
— Чушь, Ирв. Играть надо уметь.
— Может, ты и прав, Мейер. Моя игра — бридж.
— А по-моему, если чувствуешь карту, — сказал Кермит Аронс, — играть можно во что угодно.
— Вчера вечером я играл в бридж у Нельсона Шаффера…
— Все понятно, — категорически заявил Пафф. — В шабат ты идешь играть в карты, а не в храм, и в следующий раз проигрываешь.
— Ладно, тридцать два — нет, тридцать семь центов — не такое уж и наказание. За два вечера я все равно еще далеко-о впереди. И судя по тому, что я слышал, — добавил он ехидно, — держу пари, ты жалеешь, что пошел туда вчера.
Пафф пожал плечами.
— Бреннерман нахамил Мейеру, — сказал Аронс, — но на самом деле это касается всех нас.
— Ты об этой истории с местами? — спросил доктор Эдельштейн. — Что до меня, я готов сидеть и в заднем ряду. Через микрофон там слышно не хуже, и честно говоря, возле двери мне больше нравится — в любой момент могу незаметно выйти подышать.
— А если окажешься внизу, в вестибюле?
— Что ты имеешь в виду?
— В прошлом году нам пришлось провести две службы, одну из них в вестибюле, помнишь?
— Да, и новые члены должны были сидеть внизу, а старожилы…
— Конечно, но эта их новая идея в том и заключается, чтобы все было демократичнее. Если места не забронированы, а ты немного опаздываешь, то оказываешься в вестибюле, потому что в храме все занято.
— И меня это ничуть не колышет.
— А я не люблю сидеть сзади, — сказал Каллен. — Мой старик — тот вообще считает наши места в первом ряду своего рода честью.
— А как быть с деньгами, которые мы заплатили за эти места? — спросил Аронс. — Я выложил тысячу баксов на строительный фонд — не под залог, а наличными — когда Беккер был президентом. Тогда предполагалось, что каждый год для меня забронировано место, одно и то же, заметьте, пока все не будут распроданы. И теперь я рассматриваю это как контракт, который я заключил с храмом, а если кто-то и должен выполнять условия контракта, так это храм.
— Ты прав на сто процентов, Керм, — сказал Каллен. — И я так считаю. Если не доверять храму, то кому тогда?
— Хорошо, и что ты можешь сделать?
— Я скажу тебе, Мейер, что я могу сделать, — решительно сказал Каллен. — Я пока еще член правления директоров. Я поставлю вопрос перед правлением и потребую, чтобы они приняли меры.
— И что это тебе даст? Хорошо, они примут меры. Они поставят это на голосование и проголосуют за вариант Горфинкля. Не забывай, у них абсолютное большинство.
— Если правление откажется от своих обязательств, я складываю манатки и ухожу.
— И куда ты пойдешь, Ирв? В Линн? В Салем? Где тебя никто не знает?
— А я останусь, — заявил Эдельштейн, — но скорее рак на горе свистнет, чем они получат от меня хоть цент.
Пафф покачал головой.
— Не выйдет, Док. Такое проходит в церкви, а не в храме. Наши люди не просят, они требуют. Это часть традиции. Знаешь старую хохму: единственное, в чем могут сойтись два еврея, — это в том, что третий должен давать деньги на храм. Нет, если тебе придется дать меньше, чем в прошлом году, в лучшем случае все подумают, что у тебя был неудачный год, уменьшилась практика. А чтобы не давать вообще — забудь об этом. От них невозможно отделаться; они не отстанут, пока ты не выложишь свои денежки.
— Мейер прав, — сказал Аронс. — И знаете, что это значит? Это значит, что отныне все мы будем вкладывать, а Горфинкль и его банда тратить. А на что — не наше дело.
— Так и будет, — сказал Пафф. — Ты не знаешь, этот новый план про распределение мест выносили на правление?
— Ты хочешь сказать, что это была просто идея Тэда Бреннермана? Черт возьми, они не могли этого сделать. Такое изменение должно решать правление, — сказал Каллен.
Пафф пожал плечами.
— Вот они и вынесут вопрос на заседание, просто для порядка, дадут нам поговорить об этом, а потом один из них выдвинет предыдущее предложение, и — бац — оно принято. — Он щелкнул пальцами. — И теперь так будет всегда. Смиритесь с этим.
— И так они будут использовать этот фонд социальной активности. Они присвоят все бабки и будут тратить их, как захотят. Мы будем давать, а они будут тратить.
— Да бросьте, — сказал Каллен. — Какой фонд они установят? Пять сотен? Штуку? И что? Мой старик, помню, рассказывал, что много лет назад во всех шул был фонд, которым обычно распоряжался глава общины и тратил его на какого-нибудь приезжего бедолагу, которому негде было спать и нечего есть…
— Но то была благотворительность, — сказал Пафф. — А эти деньги должны использоваться на политику. И дело не в количестве, дело в принципе.
— Что ж, они выиграли эти выборы и захватили власть. А в следующем году мы чуть лучше поработаем и отберем ее у них.
— Не обманывай себя. Они пришли к власти, и пришли, чтобы остаться. У них ко всему этому иное отношение, чем у нас. Они смотрят на храм как на акционерное общество — с точки зрения закона так оно и есть. Когда президентом был Вассерман, или Беккер, или даже Морт Шварц, они вводили в правление тех, кто что-то делал для храма, или в надежде, что сделает. Привлечь все-таки старались лучших. Но люди Горфинкля… Большинство из них работает в крупных компаниях — администраторами, руководителями, — и они смотрят на храм как на торгово-промышленную корпорацию, в которой, если тебе принадлежит контрольный пакет, ты занимаешь все высшие посты и составляешь правление директоров только из своих людей. Поэтому сегодня их комитет по выдвижению не выдвинет ни одного, кто не будет плясать под их дудку.
— Тогда единственное, что мы можем сделать, — это устроить им завтра на правлении хороший хипеш, — сказал Аронс, — думаю, за нас будут многие…
— Ничего не получится — сказал Пафф своим глубоким грохочущим басом.
— Почему?
— Потому что нам нечем их объединить. Что мы им скажем? Попросим, чтобы они поддержали наши права на передние места? Вернись на землю.
— Тогда…
— Тогда завтра наилучший повод для нас может появиться сам, — сказал Каллен.
— А что будет завтра? — спросил Пафф.
— Я же говорил, вчера вечером я был у Нэла Шэффера. Мы с Нэлом хорошие друзья, но вообще-то он больше крутится с теми, кто ближе к Горфинклю, вроде Билла Джейкобса и Хайми Штерна. Из того, что обронил Нэл, у меня создалось впечатление, что Горфинкль собирается объявить завтра новые составы комитетов, и некоторые из его назначений могут показаться не очень справедливыми и нам, и большинству в конгрегации.
— Например? — спросил Эдельштейн.
— Прежде всего, назначение Роджера Эпштейна председателем ритуального комитета, — сказал Каллен.
— Он не посмеет! — сказал Эдельштейн.
— Почему не посмеет? Это его лучший друг. Эти две семьи так близки, что…
— Но ритуальный комитет… Человек не знает ни слова на иврите. Если бы рабби не объявлял страницу, он не знал бы, какую молитву читать следующей. Он ни разу не был в храме, пока не приехал сюда. Его родители были левыми, атеистами. А жена — христианка.
— Перейдя в нашу веру, она стала еврейкой, — напомнил ему Пафф. — Это закон. Но эту тему нам лучше не трогать. Если Горфинкль назначит Эпштейна, это несправедливо, прежде всего, по отношению к конгрегации. И я говорю это не потому, что именно меня он собирается заменить.
— Хорошо, — сказал Аронс, — значит, как только он объявит об этом, мы устроим хипеш.
— Нет, — решительно сказал Пафф. — У меня есть идея. Когда на завтрашнем заседании Горфинкль объявит свои кандидатуры, мы не скажем ни единого слова. Будем сидеть и молчать.
Все посмотрели на него.
— И что толку?
— Доверьтесь мне. Говорю вам, у меня появилась идея. Извините, мальчики, я не могу вам сейчас ее выложить. Завтра просто следите за тем, что происходит, и делайте, как я. Я ничего не говорю — и вы молчите. — Он обвел взглядом стол. — Я вас когда-нибудь подводил?
Глава XII
— Но почему ритуальный комитет? — спросил Роджер Эпштейн.
По крайней мере раз в неделю, обычно по вечерам в субботу, Горфинкли встречались со своими добрыми друзьями Эпштейнами. Вместе ходили в кино, проводили вечер за бриджем или просто беседовали, как и сегодня. Эпштейн заговорил только после того, как женщины ушли на кухню.
— А в чем проблема, Роджер?
— Ты же знаешь, какой из меня верующий. А если рабби будет против?
Горфинкль усмехнулся.
— Интересно, как это у него получится, если на завтрашнем заседании его не будет?
Невысокий и пухлый Эпштейн уже начал лысеть, но спереди еще был пучок волос, который он обычно дергал, когда волновался. Сейчас он дернул его.
— Ну и что? Так он возразит, когда вернется. И будет прав.
— Он будет неправ, — твердо сказал Горфинкль. — Назначение комитетов и их председателей — компетенция президента.
— Но это — ритуальный комитет. Он определяет порядок служб, и это касается в первую очередь рабби, мне кажется. А что я знаю о ритуале? Кроме того… Саманта…
— Послушай, Роджер, ты думаешь, от тебя требуется быть каким-то экспертом? Ты думаешь, что Пафф был специалистом по ритуалу? Для этого там и есть рабби. Как я понимаю, ритуальный комитет и конгрегация — это все равно что школьный комитет города и горожане. Чтобы работать в школьном комитете, не надо быть преподавателем или педагогом. Преподаватели и педагоги пусть работают в школе. А в школьном комитете нужны люди со здравым смыслом, думающие прежде всего о нашем общем благополучии. То же самое и с ритуальным комитетом. Существует определенный порядок молитв, и он дан в молитвеннике. Возникает вопрос — есть рабби. А во всем остальном ты подходишь на все сто.
Эпштейн все еще сопротивлялся.
— Но почему я?
— Во-первых, ритуальный комитет распределяет почести во время служб, особенно по праздникам — а это очень важно, — и я хочу, чтобы его возглавил человек, которому я могу доверять. И потом, ты художник…
— Коммерческий художник, — отмахнулся Эпштейн.
— Художник, — настаивал Горфинкль. — Религиозные службы подразумевают некую зрелищность, и нужен художник, чтобы это почувствовать и воплотить.
— В таком случае…
— Кофе будет готов через минуту, мальчики, — раздался из кухни голос Саманты. Она подошла к двери. — Как мы относимся к горячим английским булочкам?
На добрых два дюйма выше мужа, светловолосая, синеглазая и широкоскулая, она была похожа на дочь викингов.
— Мне только кофе, Сам. Слишком много калорий.
— Брось, милый. Сегодня можешь себе не отказывать. Ты всю неделю был пай-мальчиком.
— Ладно, давай. Это ты меня заставила.
— А как ты, Бен?
— Конечно!
— Мамуля, ты делаешь кофе? — донеслось сверху. Через минуту в комнату спустилась и помахала гостям рукой тонкая, миниатюрная девочка с волосами, заплетенными в две косы.
— Ты весь вечер была здесь, Диди? — спросил Горфинкль. — Что же ты делала?
— Болтала по телефону, конечно, — ответила за нее мать.
— Ну, мамуля, — запротестовала она и повернулась к Горфинклям. — Мы устраиваем пикник на пляже вечером в понедельник. Когда приезжает Стью?
— Вероятно, около полудня в воскресенье, — сказал Горфинкль.
— Вот здорово, надеюсь, у него никаких планов. Мы собираем всех ребят, которые приедут домой на каникулы. Думаю, завтра уже все будут дома. Поэтому мы и выбрали понедельник.
— Где вы его устраиваете, дорогая? — спросила мать.
— На Тарлоу-Пойнт.
— До понедельника у вас не слишком много времени, чтобы подготовиться. Ты всем позвонила?
— Некоторым. Биллу Джейкобсу, Сью Аронс, Адаму Зусману. Многие же приедут только поздно вечером или даже завтра. Скорее всего, почти всех я увижу завтра после обеда у рабби дома.
— У рабби? — спросил Горфинкль. — Он устраивает какую-то встречу?
— Просто все, кого он готовил к бар-мицве, всегда заглядывают к нему в первое воскресенье каникул. Что-то вроде дня открытых дверей. Общаются, рассказывают про школьные дела…
— Гм, это интересно. — Горфинклю и правда было интересно. — Это почему же? Я хочу сказать, как эта… как началась эта традиция?
— Никакой традиции. Просто иногда он проводил занятия для класса бар-мицвы у себя дома, и мы как бы привыкли заходить к нему — так, время от времени.
— И дети его любят? Он вам всем нравится?
Диди задумалась. Не над ответом, а над тем, как это выразить словами.
— Он не весельчак, это уж точно, — нерешительно сказала она, — и не пытается казаться своим в доску или даже любезным. Он не строит из себя кого-то, нет, просто он…
— Ну-ну?
— Равный, я думаю, — сказала она, найдя, наконец, слово. — Когда ты с ним, ты не чувствуешь себя ребенком.
Глава XIII
Рабби позвонил Вассерману, как только приехал домой в воскресенье. Тот только что вернулся с заседания правления.
— Мистер Вассерман? Это рабби Смолл. Извините, что не смог вернуться вовремя. Вечером в субботу в колледже устроили вечер в мою честь. Я ничего об этом не знал.
— Ну (в оригинале — Nu), бывает. Если вечер был для вас, вы должны были пойти.
— Как прошло заседание? Было что-нибудь особенное?
— Как я и думал, Горфинкль объявил новый состав комитетов.
— Да? Ну и как они?
— Если он назначил их, чтобы они занимались делом, то, думаю, все в порядке. В конце концов, он не назначил идиотов. Но если он хочет начать драку, то назначения хороши и для этого.
— Это плохо, а? И что сказал Пафф? Он там был?
— О, он там был. И это единственное, что хорошо во всей этой истории, потому что они не сказали ни слова: ни Пафф, ни Эдельштейн, ни Каллен — никто. Я полагаю, что они сдались, и некоторое время у нас будет небольшой мир. Только вот как долго он продержится?
Но рабби насторожился.
— Что значит — они не сказали ни слова? А возможность у них была? Было время для обсуждения?
— О, времени было полно, но никаких возражений, никакого обсуждения, ни одного слова, говорю вам.
Рабби ждал продолжения, но его не последовало.
— Мне это не нравится, — сказал он наконец.
— Почему? Помните, я говорил вам, что это похоже на брак? Если нет открытого разрыва, все можно уладить.
— Да, но если супруги не разговаривают вообще, если муж оскорбляет жену, а она даже не отвечает, это может означать, что она уже приняла решение и для нее это больше не имеет значения. Как мне кажется, Пафф должен был реагировать. И мне не нравится, что остальные тоже промолчали.
— Вы думаете, они уже что-то решили? Что ж, возможно. Это может быть. После того, что случилось вечером в пятницу на службе «Братства»…
Глава XIV
— Итак, Мейер, — сказал доктор Эдельштейн, пока Пафф пробирался сквозь пробку. — Мы сидели молча, как ты нас просил, и Горфинкль без проблем назначил Роджера Эпштейна председателем ритуального комитета, а Теда Бреннермана председателем комитета по распределению мест. После его лекции в пятницу вечером нас опять ткнули в это носом. И где он, твой великий план?
Сразу после заседания правления Пафф настоял, чтобы он, Эдельштейн, Каллен и Аронс поехали в его машине.
— Я обещаю привезти вас обратно через полчаса, так что у вас будет куча времени, чтобы приехать домой к завтраку. У меня есть кое-что показать вам, мальчики.
Он затормозил и остановил машину напротив Хиллсон-Хаус. Всю дорогу он хранил молчание, не поддаваясь на провокации и отвечая на их вопросы только самодовольной ухмылкой. Теперь сказал:
— Вот оно, мальчики.
Они вопросительно посмотрели друг на друга и затем на него.
— Что — оно, Мейер? С тобой все в порядке?
Он взглянул на Эдельштейна и обернулся назад, где сидели Каллен и Аронс.
— То, на что вы смотрите, джентльмены, — место для нового храма. Плюс превосходный участок берега. Ты сказал, что выйдешь из конгрегации, Ирвинг, и я ответил, что идти тебе некуда. Что ж, — он обвел рукой лежащее перед ними пространство, — вот место.
Они молчали, но Паффа это не смутило; в тишине его глубокий бас уже просто рокотал.
— От каждого из нас храму отломился большой кусок пирога. И я — нет, мы — мы позволим кучке выскочек помыкать нами и указывать нам, кто в доме хозяин и где наше место?
— Ты хочешь сказать, что собираешься основать новый храм здесь, на месте этой старой громадины? — сказал Эдельштейн, сумев, наконец, выразить словами то, что все они чувствовали.
— Я хочу сказать, что собираюсь использовать эту старую громадину, как ты выразился, для нового храма. Ей сто пятьдесят лет, но она крепкая, потому что тогда так обычно строили. Конечно, привести ее в порядок будет стоить каких-то денег…
— Каких-то денег? — сказал Аронс. — Это будет стоить целого состояния
— Ну и что? Я разбогател слишком поздно, чтобы менять свои привычки. Моя Лора наседает на меня, чтобы я заказал новые костюмы. «У тебя теперь есть деньги, трать их». Но я не могу. Одежда меня не интересует, я не хочу с этим возиться. Когда я в покере ставлю пенни, а выигрываю девяносто центов, я радуюсь, как если бы это было девяносто долларов. А Ирвинг точно так же как переживает, проиграв тридцать два цента.
— Тридцать семь центов.
— Вот именно! Тридцать семь центов. Понимаете, что я имею в виду? Ни один из нас никогда не поставит больше, чем может себе позволить проиграть, и не имеет значения, пенни это или доллары: удовольствие мы получаем такое же. Я обычно менял машину раз в три или четыре года; теперь я меняю ее каждые два. Всякий раз, когда я прихожу менять, Эл Беккер пытается всучить мне «линкольн». «Такой человек, как ты», говорит он, «должен ездить в большой машине». Я что, мальчишка? Студент? Я буду разъезжать в большой машине и производить впечатление на девочек? Для меня машина просто средство добраться из одного места в другое, а привык я к маленьким. Но храм — это кое-что еще. Я помогал его строить. Инициатором был Джейк Вассерман, но я все время был под рукой, выкладывая наличные, когда было нужно. И теперь, когда Горфинкль со своей братвой умыкают храм прямо у нас из-под носа, мы заткнулись и продолжаем давать им бабки, чтобы они могли их тратить, как хотят. Мы что, кучка вшивых арабов, чтобы расползтись по своим палаткам? Нет, давайте дадим им бой; давайте потягаемся с ними.
— Но деньги…
— Ну и что? Если я не трачу деньги на вещи, которые меня не волнуют, и не собираюсь тратить их на вещи, которые меня волнуют, на что мне их тратить?
— Так что именно ты задумал? — спросил Эдельштейн.
— Они просят восемьдесят тысяч…
— Восемьдесят тысяч? За старую уродину?
— Пляж, Ирв, пляж. И еще хороший кусок земли через дорогу, который тоже входит в сделку. Классное место для стоянки. Поверьте мне, это хорошее помещение капитала даже для коммерсанта.
— Ты имеешь в виду, что хочешь, чтобы мы купили его сразу, таким, как он есть, за наши собственные деньги?
— Думаю, привлечем еще нескольких. Мы создаем корпорацию и покупаем место. Затем мы продаем это новому храму — по себестоимости — и берем простыми векселями. Тем временем это вычитается из налогов. Когда храм соберет деньги, он расплатится с нами; и мы не только при своих, но еще и сделали хорошее дело. — Он доверительно понизил голос. — Сначала я вообще присмотрел это место для своего бизнеса.
— Ты хочешь сказать, что собирался открыть здесь еще один кегельбан?
— Точно. Но не просто кегельбан. Я собирался объединить его с рестораном, может еще и с танцплощадкой, может, с бильярдом вместо кегельбана — нынче он становится популярным. Но вчера вечером я все время думал о том, что было в пятницу…
— Ты имеешь в виду Теда?
— Видишь ли, это была кульминация. Весь день из города в город одни огорчения. Ну, такой уж денечек выдался… И когда мы вчера разговаривали, я подумал про себя: для чего мне еще одно заведение? В моем-то возрасте? Тогда я и подумал об этом месте как о храме. Многие из нынешних храмов — это перестроенные дома, большинство из них, должен сказать, и наполовину не так интересны, как этот. Большую часть внутренних стен первого этажа можно заменить балками, и получится молитвенный зал на пару сотен человек. Да, придется установить новую отопительную систему и, возможно, водопровод. Но это все. Конструкция здесь крепкая. А потом все комнаты на втором и третьем этажах можно использовать для школы.
— И ты получишь старую развалину, — сказал Каллен, — с кучей маленьких спален, которые ты собираешься переделать в классные комнаты, и молитвенным залом, который, как бы ты ни приводил его в порядок, все равно будет выглядеть, как столовая, совмещенная с гостиной. Как там, в Салеме, где начиналось все с пятидесяти членов, и у них все еще примерно пятьдесят членов. Последние десять лет они пытались достать деньги на строительство и все еще не смогли.
— Правильно, Ирв, детка, но есть разница. У нас будет пляж.
— Ну и что?
— Пошли, покажу. — Он повел их вниз по дорожке к пляжу, не переставая говорить.
— Для чего люди присоединяются к храму? Некоторые, возможно, потому, что хотят быть важными шишками, членами правления, но далеко не все. Они знают, что это стоит денег, что члены правления всегда под прицелом. Большинству из них просто нужно место, куда они могут пойти во время Верховных праздников и где могут учиться их дети. Но мало начать — храм надо поддерживать. Верховные праздники только три дня в году. Ежедневная молитва — да во всей округе нет храма, который может гарантировать десять человек для миньяна каждый день. А шабат, сколько народу мы собираем сейчас? Пятьдесят? Семьдесят пять? Если только для этого, то места тут с избытком, более чем с избытком.
Он резко остановился, чтобы дать им возможность хорошенько осмотреться.
— Это место привлекательно, прежде всего, для проведения бар-мицвы и свадьбы — иными словами, для вечеринок. Просто вспомните вестибюль нашего храма, кроме него у нас для вечеринок ничего нет. Сравните это с тем, что мы можем предложить здесь, в Хиллсон-Хаус. — Он подвел их к волнолому. — Представьте себе это летом, когда бывает большинство свадеб. Представьте себе внутренний дворик с выходом сюда и с видом на берег. Вы собираетесь играть свадьбу и готовы выложить от трех до десяти тысяч долларов, а ваши жена и дочь твердо решили, что все должно быть, как положено. Вам нечего волноваться — заплатили по счетам, и все. Но они-то волнуются. Они осматривают вестибюль в цокольном этаже нынешнего храма, а потом приходят к нам. Мы показываем им красивый старый особняк, стоящий над океаном, где они могут отпраздновать свадьбу, а если погода теплая, они могут провести ее снаружи, на открытом воздухе. И это, кстати, ортодоксальный обычай — играть свадьбу на открытом воздухе, под звездами. Так какое место они выберут — старый храм или наш? Можете держать пари, что они придут к нам. И мы сможем позволить себе быть разборчивыми. Мы не будем брать кого попало. Они должны будут подать заявление о приеме в члены, и мы не будем сразу же их рассматривать. И если вы думаете, что это их…
— А если опять случится то же самое, Мейер? — спросил доктор Эдельштейн. — Что, если через некоторое время новых членов опять будет больше, чем нас, и они попытаются захватить власть?
— Я думал об этом. Мы можем достаточно легко подстраховаться. Ограничим число членов правления и запишем в уставе, что учредители являются в нем постоянными. Поверьте, все в порядке. И скажу вам еще кое-что: меня не волнует, если мы не привлечем очень многих в первые несколько лет. Мне немного надоели эти продавцы обуви, страховые агенты и комиссионные торговцы, с которыми нам приходится иметь дело. Компания Горфинкля — это мелкота, я предпочел бы конгрегацию, состоящую из людей нашего типа, которых не приходится брать за горло, чтобы выжать из них деньги за пару билетов.
— Когда мы можем посмотреть дом внутри? — спросил Каллен, и Пафф понял, что убедил их.
— Вот это дело, — весело сказал он. — Вы видели каретный сарай перед домом? Это часть владения. Там живет старый янки, сукин сын, который здесь вроде сторожа. У него есть ключ. — Он подвел их к сараю и позвонил в дверь. — Насчет этого места у меня тоже есть соображения, — продолжал Пафф. — Что, если сделать тут комнату для невесты? Может быть, связать его с главным зданием каким-нибудь крытым переходом. Или, может, лучше сделать дополнительные классы для школы? Или даже клуб со столами для пинг-понга и каким-нибудь гимнастическим оборудованием для детей?
— Похоже, его нет дома, — сказал Аронс.
— Вот что, — сказал Пафф, — я возьму ключ у брокера, и мы встретимся здесь завтра вечером. В половине девятого?
— Я согласен.
— Мне подходит.
— Мне тоже подходит, — сказал Аронс. — Но послушай, Мейер, вчера вечером у тебя уже была эта идея, так ведь?
— Так.
— Тогда почему ты так настаивал, чтобы мы молчали сегодня утром на правлении? Мне кажется, если бы мы затеяли борьбу, то заполучили бы многих…
Пафф решительно покачал головой.
— Ты ошибаешься, Керм. Много лет назад в Челси был небольшой бакалейный магазин, в котором моя мать, да покоится она с миром, обычно покупала продукты. Владельцами были два брата, Мое и Эйб Берги. Потом они поссорились, Эйб выехал и открыл дальше по улице другой магазин, свой собственный. Но даже при том, что новый магазин был на пару кварталов ближе к нашему дому, моя мать все равно продолжала покупать у Мое. А нести сумки лишних два квартала — это что-то. Когда мой отец, да покоится он с миром, спросил ее, почему она не покупает в новом магазине, она сказала: «Как можно? Все будут думать, что я иду туда, потому что считаю, будто Мое был неправ, а Эйб прав. А я думаю, что Мое был прав». Понимаешь, в данном случае мы не просим, чтобы люди приняли чью-то сторону. Мы не просим их решать, кто прав и кто неправ, потому что если они решат против нас, они не перейдут к нам, даже если мы предложим им лучшие условия для выполнения их ежегодного долга на Верховные праздники.
— Я согласен, — сказал Каллен. — Но думаю, будет лучше, если мы сможем перетянуть некоторых наиболее уважаемых членов общины. Вассермана и Беккера, например…
— Вассерман ни за что не перейдет, — сказал доктор, качая головой.
— Думаю, я знаю, как его убедить, — внезапно сказал Аронс.
— Да?
— Если мы сначала уговорим рабби…
Все посмотрели на него и затем повернулись к Паффу.
— Я не думаю, что рабби перейдет, — сказал Пафф. — И не уверен, что он нам нужен. Он слишком независим.
— Он нравится детям, — сказал Аронс упрямо. — Они любят его. Ты же знаешь, какие теперь дети. Они задают тон. Никто из них на самом деле не хочет ходить в еврейскую школу. Кто может их осудить? Так вот, если с нами будет рабби, которого любят дети, их родители перейдут хотя бы для того, чтобы дети ходили в школу.
— Ты попал в точку, — сказал Пафф. — Но я абсолютно не представляю, как его убедить.
— Держу пари, что Вассерман смог бы.
— Но он не станет, — сказал Пафф. — И потом, это ты рабби хотел использовать, чтобы убедить Вассермана, ты не забыл?
— А Беккер? — спросил Каллен.
— Он согласится, держу пари. И попробует уговорить рабби. А если мы перетянем рабби, то и Вассерман будет с нами.
— Это уже что-то, — сказал Пафф. — Вот что, завтра я загляну к Беккеру. — Он подмигнул. — Подходит время менять машину. На этот раз я, может быть, заинтересуюсь «линкольном».
Глава XV
Мириам заглянула в кабинет и сказала, что пришел мистер Картер.
— Мистер Картер?
— Да, Дэвид, плотник. Он пришел починить рамы и заменить шнуры.
Мистер Картер, крупный, костлявый человек, стоял в дверном проеме. Тяжелая сумка с плотницким инструментом в огромной грубой руке оттягивала его широкие плечи не больше, чем легкий дипломат — плечи бизнесмена. Прядь черных волос спадала на покатый лоб, лицо было покрыто темным загаром, как у человека, который проводит большую часть времени на открытом воздухе.
— Я договорился с хозяйкой прийти сегодня утром, — сказал он, — но когда пришел, дом был закрыт и никого не было. У меня сегодня мало времени, но я могу начать, а закончу завтра или во вторник.
— Нас задержали, и мы вернулись только час назад. — Рабби нахмурился. — Честно говоря, мистер Картер, мне не нравится, что вы будете работать в воскресенье, в выходной. Это неправильно.
— О, это не мой выходной, рабби, и почти все в городе знают это. Так что не беспокойтесь насчет того, что они могли бы подумать…
— Что вы хотите сказать? Вы городской атеист? — спросил рабби с улыбкой, проводя его внутрь к окнам, которые надо было отремонтировать.
— Нет, я вовсе не атеист, я не хожу в церковь, но я не атеист. Я соблюдаю выходной, но ваш, а не воскресенье.
— Адвентист седьмого дня?
— Нет, хотя я согласен со многим из того, во что они верят. Я соблюдаю субботу, потому что это день, который Бог повелел мне соблюдать.
— Что вы имеете в виду — Бог вам повелел?
— Ну, это трудно объяснить. Я имею в виду — как именно Он повелел мне. Понимаете, это не были слова, но если перевести это в слова, было бы что-то вроде: «Рафаэл, после того, как я потратил шесть дней на создание вселенной и всего в ней, я отдыхал, и это было хорошо. А что хорошо для Меня, хорошо и для тебя, потому что я создал тебя по своему образу. Я хочу, чтобы ты работал шесть дней каждую неделю и затем отдыхал в седьмой. Это правильное соотношение. И один день так же важен, как остальные».
Рабби подозрительно посмотрел на него, задаваясь вопросом, не морочат ли ему голову, но лицо Картера было открытым и бесхитростным.
— И когда это случилось? — осторожно спросил рабби, не зная, с каким человеком он имеет дело.
— Вы хотите сказать, когда Бог дал мне именно это указание?
— Я хочу сказать, когда Он говорил с вами?
Плотник засмеялся.
— Благослови вас Бог, рабби, это случается постоянно — очень часто. Иногда чаще, иногда реже. Иногда почти каждый день, может, в течение целой недели. А затем проходят недели, а я не слышу ни слова. В первый раз, когда у меня был такой перерыв, я по-настоящему волновался. Я пробовал войти в контакт, я молился. Я сказал: «Сделал ли Твой слуга что-то такое, что оскорбляет Тебя?» В тот день я не получил никакого ответа, но прямо на следующий день Он опять говорил со мной, и на этот раз Он велел мне не волноваться, когда я не получаю известий от Него — Он не будет говорить со мной, если не хочет сообщить мне что-то определенное. И что если я не получаю от Него известий, это значит, что все идет хорошо. Позже, когда я думал об этом, я должен был признать, что все это время мои дела шли хорошо — никаких неприятностей, никаких проблем, однообразие, можно сказать.
Уже приступив к делу, Картер продолжал работать и говорить. Он счистил с рамы всю старую замазку, набрал из банки горсть свежей и начал разминать ее. Он выпрямился, и рабби с изумлением отметил, что, несмотря на смуглое лицо, глаза его были яркими и пронзительно синими.
— Это было сразу после того, как я женился. Мы с женой только что вернулись после свадебного путешествия к Ниагарскому водопаду и ездили по гостям — понимаете, к ее родным — тети, дяди, она, так сказать, хвасталась мной — и к моим тетям и дядям, чтобы я мог похвастаться ею. В то время это было вроде как принято. Так вот, мы гостили у ее тети Дорсет и дяди Абнера. Это было неподалеку от Линнфилда, они там жили. Там были и другие люди — кузены и все такое. И вдруг, когда все мы сидели и разговаривали в маленькой гостиной, а тетя Дорсет раздавала какие-то фрукты, я услышал голос, который сказал: «Встань, я буду говорить с тобой». И я встал и услышал голос, и он рассказал мне первую главу Бытия. Так вот, дело в том, что за всю свою жизнь я никогда не читал Библии, но после того дня у тети Дорсет я мог повторить первую главу Бытия почти слово в слово.
— А что ваша жена — и остальные?
— Они говорили, что я просто стоял и несколько минут не говорил ни с кем. Они подумали, что у меня был какой-то приступ, что-то вроде столбняка и, кажется, даже обсуждали, не вызвать ли врача.
— А потом?
— А потом то же самое произошло на следующий день. Я был на работе и работал, когда это случилось, и мне была поведана другая глава. И я получал главу или около того каждый божий день, пока не прошел все Пятикнижие.
— А потом?
Картер покачал головой.
— После этого я получал послания, только когда нуждался в них. — Он отрезал кусок шнура и прикрепил его к полозьям рамы.
— Что вы имеете в виду — когда вы нуждались в них?
Он пару раз поднял и опустил груз, чтобы проверить, свободно ли движется шкив.
— Ну вот, например, в тот раз, когда город голосовал за фторирование воды. Я тогда задумался. И мне лично эта идея не понравилась. Я не очень-то верю в химикалии — я имею в виду, принимать их внутрь. Я пошел поговорить с доктором, который наблюдал мою жену, когда она носила нашего последнего ребенка, а он был полностью за. И я, можно сказать, засомневался. Он ведь прекрасный и уважаемый человек. Но потом я получил послание и узнал, что с самого начала прав был я.
Он поднял окно, затем повернулся и встал перед рабби.
— Посмотрите на меня, рабби. Мне пятьдесят восемь лет, и ни одного дня в жизни я не болел, так сказать, по-настоящему. У меня целы все зубы, и я не ношу очки. Дело в том, что я правильно живу. Я не ем мяса, не ем конфет. Я не пью ни чай, ни кофе, ни тоник.
— А запрет на мясо был одним из указаний, которые вы получили? Это не вполне соответствует законам о питании в Пятикнижии.
— И да, и нет, рабби. Он предполагает, что вы сами тоже будете думать. — Картер поставил край окна на место и привинтил его. — Сказано: «Не убий». И сказано также, что нельзя есть часть живого животного. Значит, это, очевидно, исключает поедание плоти. А еще я знаю, что там названы виды животных, которых можно есть — с раздвоенным копытом и жующих жвачку, но я считаю, что это — для большинства людей, у которых нет своих глубоких убеждений. Это была своего рода подачка — для тех, кто все еще тосковал по египетским горшкам с мясом. Можно сказать, не мог выбросить их из головы. И Он разрешил им есть определенные виды животных. Но ясно же, что Он предпочел бы, чтобы они не ели никаких.
— Понимаю.
— И был еще случай, когда я действительно был несколько озадачен и получил послание от Него. Это было, когда мой самый старший мальчик…
Рабби спросил, сколько детей у Картера.
— У меня их пятеро, три мальчика и две девочки. Мозес — это мой самый старший. Может быть, вы слышали о нем? Муз Картер? Его прозвали Муз[32], такой он большой. Он был неплохим футболистом последний и предпоследний год в средней школе. В прошлом году они почти выиграли первенство штата. В газетах было много фотографий моего мальчика. Шестьдесят семь колледжей, рабби, — шестьдесят семь! — были заинтересованы, чтобы мой мальчик поступил к ним.
Рабби сделал вид, что поражен.
— И он был хорошим студентом?
— Нет, только хорошим футболистом. Некоторые колледжи присылали к нему людей, тренеров или всяких там. И те предлагали все на свете. А один предлагал девочек.
— Девочек?
— Именно. Он сказал, что у них много хорошеньких и богатых студенток, которые только и мечтают выйти замуж за великого и красивого футбольного героя. И тут он говорит, подмигивая: «Но тебе не обязательно жениться на них». Я выгнал его из дома. Я не хотел, чтобы мой мальчик вообще шел в колледж, и уж конечно, не в этот. Я хотел, чтобы он получил работу и шел работать. Но в конце концов он принял одно из этих предложений — колледж в штате Алабама. Я был настроен не давать согласия и запретить ему, но мать твердо решила, что он поедет.
— И что в результате?
Плотник печально покачал головой.
— Он был там до Рождества, до окончания футбольного сезона, а потом они исключили его. Он повредил колено, так что был им больше без надобности, и, кроме того, плохо занимался. И он вернулся домой. Он дома уже три месяца и не работал ни одной недели. Пару вечеров в неделю работает в кегельбане в Линне, время от времени находит еще какую-нибудь случайную работу, этим и зарабатывает немного на карманные расходы. Думаю, и жена иногда дает ему несколько долларов. Она выделяет его — он самый старший. — Картер покачал головой. — Я предложил ему войти со мной в дело и выучиться моему ремеслу, но он говорит, что это не заработок, что сейчас все деньги добываются махинациями. Хочет быть импрессарио. Говорю вам, рабби, колледж испортил этого мальчика. Если бы не жена, я бы выгнал его из дома.
Он выпрямился и оглядел комнату.
— Пока все, рабби. Получается немного дольше, чем я рассчитывал. Сегодня закончить не смогу, но вы не волнуйтесь. Когда я берусь за работу, я довожу ее до конца.
— Это даже хорошо, — сказал рабби Смолл, наблюдая, как он тщательно укладывает инструменты в сумку. — Ко мне вот-вот заглянет компания молодых людей.
— Я приду завтра или во вторник, смотря по тому, как у меня будет с работой.
— Хорошо, мистер Картер. В любое удобное для вас время.
Глава XVI
— И тогда он говорит; «Я собираюсь раздать списки новых комитетов. Я прошу вас взять эти листки домой, чтобы вы могли изучить их на досуге, и на следующем заседании через три недели мы сможем осознанно проголосовать за их утверждение».
Малкольм Маркс подсознательно пародировал президента. Теперь снова заговорил нормальным тоном:
— Он раздает эти листочки, а я наблюдаю за Мейером Паффом. Он кладет листок перед собой, ведет пальцем вниз по списку и что-то бормочет, словно произносит имена. А когда дошел до Роджера Эпштейна как председателя ритуального комитета, мне показалось, что его удар хватит.
— С чего бы ему так переживать? — спросила жена. — Должен бы был догадаться, что Бен Горфинкль не собирается назначать его на другой срок.
— Конечно, нет. Но Боже, Роджер Эпштейн!
Зазвонил телефон.
— Я возьму, — крикнула из другой комнаты их дочь Бетти. И через минуту добавила: — Это меня.
— А чем плох Роджер Эпштейн?
— Как человек, возможно, ничем. На самом деле, он большой идеалист, несет на своих плечах весь мир. Но это ритуальный комитет! Комитет строительного фонда, комитет по выдвижению или даже комитет по распределению мест на Верховные праздники — тоже важные комитеты. О’кей, Роджер тонкий и деликатный. Но для ритуала, строго говоря, нужен даже не просто по-настоящему набожный тип, я имею в виду не просто из тех, кто не работает по субботам и ест только кошерное, а кто-то, знающий все о правилах ритуала. Он должен быть фактически раввином, строго говоря. Хорошо, у нас не слишком много таких. Может быть, Джейк Вассерман — с ходу больше и вспомнить никого не могу.
— А если никого нет, чем плох Роджер Эпштейн?
— Ну, не совсем уж никого. Суть в том, что если нет кого-то идеального на эту роль, надо взять того, кто хотя бы внешне подходит. Мейер Пафф, возможно, не так уж много знает, но дома он соблюдает кошер…
— Пф! Это только потому, что его теща живет с ними, и она бы не ела в этом доме, если бы они не держали два набора посуды. Не мог же он позволить ей умереть с голоду.
— Об этом я и говорю. Не имеет значения, действительно ли он верит в то, что делает. Именно это я и имею в виду — внешне.
— Хорошо. И что же было?
— Что ты имеешь в виду?
— Когда Пафф увидел, что Роджера Эпштейна сделали председателем ритуального комитета. Что произошло? Что он сделал? Что он сказал?
— Ничего! — торжествующе ответил Маркс.
Она изумленно посмотрела на него.
— Так в чем шпиль[33]! Из-за чего шум?
— Неужели ты не понимаешь? Пафф был большой шишкой в храме с самого начала. Он никогда не был президентом, но всегда был серым кардиналом. Так вот, вечером в пятницу Тед Бреннерман прилюдно его высмеивает. И, конечно, не без ведома Горфинкля. Потом, из того, что я слышал, — мы в то время были внизу, в вестибюле, так что пропустили это, — Пафф перехватывает Теда в зале наверху и буквально размазывает его по стенке. Первый раунд. — Он покрутил рукой. — Mezzo-mezzo. Назовем это ничьей; Пафф врезал Теду намного сильнее, чем Тед ему, но с другой стороны, только несколько человек слышали Паффа, и все слышали Теда. Да, я думаю, что это можно назвать ничьей.
Итак: второй раунд. Горфинкль не успокаивается на этом, он объявляет бой. Он говорит: «Вперед, Пафф. Вперед! Я тебя не боюсь. И доказываю это, назначая моего друга Роджера Эпштейна председателем ритуального комитета, который всегда возглавлял ты и который настолько важен, что в нормальной ситуации я бы не назначил Эпштейна, учитывая его уровень, но я делаю это здесь и сейчас, при первой возможности, которая у меня появилась после пятницы, и только для того, чтобы показать тебе, кто здесь хозяин. Так что или сопротивляйся, или заткнись!»
— И он заткнулся.
— Кто, Мейер Пафф? Он так просто не сдается и от борьбы не уходит. Он крутит свои педали вне зоны Горфинкля и сохраняет силы для следующего раунда. После заседания говорили, что он соберет свою компанию, а дальше — или попробует захватить город, или сожжет его дотла.
— Что ты имеешь в виду — сожжет дотла? Ты хочешь сказать, что он подожжет храм?
— Нет, конечно. Это то, что называют фигура речи, — высокомерно сказал он. Затем понизил голос. — Кое-кто говорил, что не удивится, если он выйдет из храма и организует свой собственный.
— Из-за назначения Роджера Эпштейна?
— Из-за этого, и не только, — уклончиво сказал Маркс. — Эта история тянется уже давно.
Она посмотрела на него.
— И где при всем этом ты?
— В том-то и дело. Я вроде ни там ни сям. Меня назначил Шварц, и я продолжал работать еще год. С Беном Горфинклем, Роджером Эпштейном и остальными я вроде как в дружеских отношениях, но, с другой стороны, с компанией Мейера Паффа вроде бы тоже… В конце концов, если, не дай Бог, кому-нибудь понадобится операция, мы будем звонить доку Эдельштейну, так ведь? Так что я могу быть с кем угодно. Думаю, что обе стороны будут тянуть меня к себе.
Бетти неторопливо вошла в комнату. Она была невысокой, как и ее родители. Длинные белокурые волосы были зачесаны на одну сторону и спадали прямо на плечи, хотя одна прядь была поднята заколкой над ухом и свисала вперед, частично закрывая левый глаз. Там, где волосы были разделены, виднелись темные корни; похоже, что подошло время очередного подкрашивания. Невинные темные глаза казались опытными из-за наложенных теней и тонкой темной линии, обрамлявшей веки. Грудь вызывающе выпирала под свитером, а маленький задик аппетитно крутился при ходьбе.
Мать вопросительно взглянула на нее.
— Ребята устраивают завтра вечером пикник на Тарлоу-Пойнт, — объяснила Бетти. — Это Диди Эпштейн звонила, спрашивала, не пойду ли я с ними.
Мистер Маркс бросил на жену многозначительный взгляд, но она, похоже, не заметила этого.
— Ты сказала, что пойдешь, дорогая?
— Да. Стью Горфинкль заедет за мной — завтра около пяти.
— Диди говорила, кто там еще будет?
— Сью Аронс, Глэдис Шулман, Билл Джейкобс и, думаю, Адам Зусман — все, кто из колледжей приехали на каникулы.
— Отличная идея. Приятно будет увидеть старых друзей.
Когда дочь вышла из комнаты, мистер Маркс сказал:
— Вот видишь, уже началось.
— Что началось?
— Они подкатываются к нам. Пока она была в средней школе, они никогда не обращали на нее внимания — эта девочка Эпштейнов и мальчик Горфинклей всегда вели себя так, будто она недостаточно хороша для них.
— Это смешно. Она же ходила к Диди Эпштейн на завтрак после школьного бала в прошлом году?
— Конечно, тогда весь старший класс пригласили.
— Послушай, ты неправ. Они начали подлизываться к ней до того — когда ее приняли в женский колледж Коннектикута. Да у нее в мизинце мозгов больше, чем у них в головах, — и они это знают. Этому Стью Горфинклю отказали во всех школах, куда он обращался, и ему пришлось вернуться сюда, в Массачусетс. А Диди, слава тебе, Господи, попала в художественную школу в Бостоне, а ведь была уверена, что поступит в Уэлсли, потому что это alma mater ее мамы. А это маленькое ничтожество Зусман! Я помню, как его мамочка выдавала девочкам за столом на завтраке женской общины, что ее сын послал документы в Гарвард, Йель и Колумбию. А закончилось все маленьким дрянным колледжем где-то в Огайо, о котором никто никогда и не слышал.
— Хорошо, хорошо, но попомни мои слова…
Зазвонил телефон.
— Это тебя, папа, — позвала Бетти.
— Кто это?
— Мистер Пафф.
Мистер Маркс одарил жену торжествующей ухмылкой и вышел из комнаты.
Глава XVII
По воскресеньям у Горфинклей ужинали обычно на скорую руку, поскольку обед подавали в полдень. Но когда Стью был дома, миссис Горфинкль чувствовала себя виноватой, если не давала ему горячего. Поэтому когда он вошел и спросил, что на ужин, она ответила:
— Что скажешь насчет гамбургеров? Еще есть картофельные чипсы и булочки.
— Да конечно, все что угодно.
— О, и я для разнообразия съем гамбургер, — сказал отец. — И коку.
— Я выпью молока, — сказал Стью.
— Молоко с гамбургерами? — спросил мистер Горфинкль.
— Став президентом храма, ты вдруг начал соблюдать кашрут? — саркастически спросил Стью.
— Нет, но у себя дома мне не нравится, когда их едят вместе.
— А в ресторане ты не возражаешь? Тогда это не имеет смысла.
Горфинкль обиделся на реплику сына, но постарался не показать этого.
— Вкусы в еде вообще не имеют смысла, Стью. Просто я так к этому отношусь. Твоя мать, например, никогда не подает масло вместе с мясом. Когда я был мальчиком, одна эта мысль вызывала у меня тошноту. Но в ресторане я всегда беру масло к хлебу.
Раздражение возросло, когда жена поставила на стол кувшин молока; уголки рта автоматически — как всякий раз, когда он сердился или ему возражали, — приподнялись в маленькой холодной улыбке, не предвещавшей ничего хорошего, что по горькому опыту знали его подчиненные на заводе.
— Он такой худой, — сказала она извиняющимся тоном, наливая Стью молока.
Горфинкль отвернулся от нее и резко спросил:
— Где ты был после обеда?
— Мы с ребятами зашли к рабби. Он всегда нас ждет. Я был у него и во время рождественских каникул. Похоже на день открытых дверей.
— И что он говорил? — Он не удержался и добавил: — Наверняка не о правилах кашрута.
— Конечно, нет. Мы просто болтали о школьных делах. Диди Эпштейн поддразнивала его насчет того, чему ее обучают в художественной школе — учат рисовать изображения, понимаешь?
— Эта Диди, — сказала миссис Горфинкль. — Держу пари, он подумал, что она грубит.
— Не думаю. Он сказал, что не возражает, если она им не поклоняется. Тогда она рассказала ему о картине, которую пишет, — Моисей, получающий Заповеди. Он сказал, что хотел бы ее увидеть, и она обещала принести ее завтра. — Стью хихикнул. — Он страшно непосредственный парень. Слышали бы вы его в Бинкертоне, на этом вечере, который для него устроили.
— О! — отметила миссис Горфинкль.
— Там был отец Беннет, который руководит Ньюмен-клубом — это вроде клуба Гилель, но для католиков. Он подсел к нам, и рабби слегка поддевал его насчет их религии. Очень по-мирному и очень круто. А потом этот священник отплачивает той же монетой и спрашивает, как он в смысле веры. «Вы верите?» Тогда рабби как бы улыбается и говорит: «Думаю, так же, как и вы: иногда верю, а иногда не верю». Не слабо.
— Ну-ну, не думаю, что рабби следует говорить такое, — решительно сказала миссис Горфинкль.
— Почему?
— Потому что если он рабби, то по меньшей мере, мне кажется, должен верить все время.
— Вот тут ты точно неправа. Ты всегда веришь? А папа?
— Минуту, одну минуту, — твердо сказал отец. — Я не верю и не думаю, что верит твоя мать, но мы же не раввины. Твоя мать имеет в виду, что как раввин он обязан верить. Я могу представить, что он говорит это священнику, когда они наедине. В конце концов, у них одна профессия. Но я уверен, что ему не следовало говорить это при тебе или при любом другом из молодых людей, которые там были.
— Почему?
— Потому что ты недостаточно взрослый или недостаточно зрелый для…
— А то, что происходит здесь в храме, — я недостаточно взрослый или недостаточно зрелый, чтобы понять и это?
— И что же происходит здесь в храме? — спокойно спросил отец.
— Назревает раскол, — взволнованно ответил Стью. — Вот что происходит.
— Это рабби сказал? Он сказал, что дело идет к расколу? — Горфинкль говорил напряженным голосом, но контролировал себя.
— Нет, не совсем так, но он не удивился, когда Сью Аронс спросила его об этом.
— Понимаю, — сказал старший Горфинкль. — И что он сказал?
— Хорошо, если хочешь знать, — воинственно сказал Стюарт, — он сказал, что нет никакой причины для раскола, и что если бы он произошел, в этом были бы одинаково виноваты обе стороны.
Горфинкль забарабанил пальцами по столу.
— Так. И он дал понять, какова была бы его реакция в случае этого предполагаемого раскола?
— Да. «Чума на оба ваши дома».[34]
— Чума на?..
— Именно эти слова он не произносил, конечно, — Стью был раздражен буквализмом отца. — Он сказал, что если будет раскол, ну, в общем, он бы не хотел продолжать работать.
Уголки рта Горфинкля опять приподнялись.
— Он не должен был говорить такое, по крайней мере детям.
Стью понимал, что отец сердится, но был обижен, что его и его друзей ни во что не ставят.
— Что ты имеешь в виду — «детям»?
— Я имею в виду, что он пытался повлиять на вас, а он не имеет на это никакого права.
— Разве именно это не требуется от рабби — влиять на людей, особенно на детей?
— Есть законное влияние и есть влияние, которое выходит за пределы дозволенного. Когда рабби поднимается на кафедру проповедника и говорит о нашей религии и ее традициях, это законно. Это то, за что ему платят. Но рабби не должен вмешиваться в политику храма. Если он предпочитает одну сторону другой, он обязан держать это при себе. И когда он навязывает свою точку зрения кучке детей, которые не понимают всех сложностей проблемы, он нарушает правила. Я, пожалуй, устрою с ним небольшой обмен мнениями и объясню ему кое-что.
— Послушай, — сказал Стью, внезапно заволновавшись. — Ты не можешь этого сделать.
— И почему это я не могу?
— Потому что он поймет, что ты это знаешь от меня.
— А для чего, ты думаешь, он вам это говорил? Он что, не предполагал, что это дойдет до меня и других родителей?
— Он не делал ничего такого. Он не стал бы, только не рабби. Он честный.
— Честный? Парень просто хочет сохранить работу.
Стью положил недоеденную вторую булочку и, отодвинувшись от стола, поднялся. Лицо его побелело от гнева.
— Да, ты можешь запросто взять и погубить конгрегацию, это нормально, организацию, которая для тебя так, с боку припеку — просто хобби, которое позволяет тебе чувствовать себя важной шишкой. Тебя она не интересует даже настолько, чтобы соблюдать кашрут или что-нибудь вроде этого, но если кто-то, чья жизнь целиком связана с ней, пытается ее сохранить — ты готов его уничтожить.
— Доешь, Стью, — взмолилась мать.
— Сядь, — приказал отец. — Ты не отдаешь себе отчета.
Но юноша бросился от стола.
— Куда ты, Стью? — окликнула мать.
— Прочь!
Через минуту они услышали, как стукнула входная дверь.
— Ну почему ты вечно ссоришься с ним? — жалобно спросила миссис Горфинкль.
— Потому что он идиот.
Горфинкль тоже встал из-за стола.
— Куда ты идешь?
— Сделать пару звонков.
Но телефон зазвонил как раз, когда он подошел к нему. Звонил Тед Бреннерман.
— Бен? Это Тед. До меня дошел слух, что Пафф и его компания начинают собирать людей.
— Ты имеешь в виду — голосовать против моих назначений? Естественно…
— Нет, Бен, не для того, чтобы пытаться забаллотировать нас. Чтобы уйти и создать другой храм.
— От кого ты это узнал?
— От Малкольма Маркса. Пафф звонил ему.
— А я только что выяснил, что рабби трепал языком перед детьми, чтобы они надавили на своих родителей. Я думаю, что начинаю понимать. Послушай, нам придется встретиться по этому поводу, сегодня же вечером. Ты получил список членов правления? Ладно, ты знаешь, кто с нами на сто процентов. Начинай звонить. Ты берешь от А до М, а я возьму остальных. Встретимся здесь у меня, скажем, около десяти. Всем хватит времени добраться.
Глава XVIII
Из ящика комода Муз Картер выбрал пару вязаных ромбиками носков. Был уже полдень понедельника, но он еще не одевался. Сидя на краю кровати и рассеянно натягивая носки, он обдумывал безотлагательную проблему — деньги. В соседней комнате его сестра Шэрон — он знал это — лежала на кровати и читала. Она всегда читала.
— Эй, Шэрон, — позвал он через стенку, — дашь взаймы?
— Нет.
Он не ожидал ничего другого, но попытаться стоило. Он наклонился ближе к стене и заговорил с большей настойчивостью:
— Понимаешь, я подыскал одну работенку. Парень в городе, в Бостоне… — Он услышал скрип кровати, затем хлопнула дверь. Она вышла.
— Сука, — пробормотал он.
Он поднял край матраца, чтобы достать серые фланелевые брюки, которые положил под него вчера вечером. Надевая их, он обдумывал, на что можно рассчитывать в комнате Питера. Малыш доставляет газеты, и у него всегда есть деньги. Он, однако, не даст взаймы и пяти центов. О деньгах он заботится больше, чем о собственной шкуре. Но сейчас его нет дома. С другой стороны, малыш хорошо их прячет, и если Шэрон услышит, как он шурудит в его комнате, она донесет на него. Плечи Муза невольно вздрогнули при воспоминании о том, как в последний раз его поймали, когда он залез в запасы Питера: отец выразил свое неодобрение с помощью полудюймового прута.
Все еще размышляя о возможности быстрого набега в комнату Питера, он выбрал из своего скудного гардероба желтую рубашку. Внизу открылась и закрылась дверь — значит, мать вернулась из похода по магазинам. «Черт, она даст их мне», подумал он и быстро закончил одеваться. Черный галстук, уже завязанный, затягивался одним быстрым движением. Он надел спортивную куртку и сунул ноги в мокасины. Затем сбежал по лестнице.
Мать раскладывала на кухне покупки.
— Ты собрался на свидание с девушкой? — недовольно спросила она, увидев, как он одет.
Он улыбнулся ей широкой заразительной улыбкой.
— Девушки — это вечером, мама, ты же знаешь. Я собираюсь в город.
— В город?
— Да, в Бостон. Есть шанс получить работу. Там особое дело. Домой могу попасть поздно.
— Отец не любит, когда тебя нет за столом во время обеда.
— Да знаю я, мама, но обратно я поеду автостопом.
— Ты хочешь сказать, что у тебя нет даже на автобус?
— У меня десять пенсов. Это правда. Я должен был получить кое-какие деньги в магазине за работу, которую делал для старика Бегга, но он забыл расплатиться со мной, а я забыл напомнить.
— Он не заплатил тебе за работу?
— Нет, он никогда не платит мне до пятницы, до конца недели.
— А этот мистер Пафф в кегельбане?
— Он заплатит только сегодня вечером.
— На что это похоже, когда такой мальчик, как ты, должен ездить автостопом? Почему ты не найдешь себе постоянную работу?
— Плотником, как Па? Нет уж, спасибо. Я же сумел прожить с тех пор, как вернулся, разве нет? Просто время от времени человека поджимает. И такое может случиться с кем угодно. А если у меня получится с этим делом, я буду на коне.
— С каким делом?
— Что-то связанное с рекламой. Один парень — я познакомился с ним в колледже, в Алабаме, — приехал на Север и организует бизнес.
— И ты собираешься встретиться с ним без пенни в кармане?
— Я не собираюсь говорить ему, что я без пенни, — резко сказал он.
— Он увидит это по твоему лицу. Он прочтет это в твоих глазах, — сказала она. — Как это вижу я. — Она пошарила в кармане передника и достала кошелек. — Вот, здесь два доллара. Это все, что я могу тебе дать, но ты сможешь поехать на автобусе в оба конца. — Она протянула ему помятые банкноты. — Теперь ты наверняка вовремя попадешь домой к обеду.
— Вот те раз, Ма. Я хочу сказать, что придется обсудить какие-то подробности, он может пригласить меня пообедать с ним. Не могу же я все бросить и сказать: мне домой надо, меня семья к обеду ждет.
— Хорошо, если ты увидишь, что задерживаешься, то позвонишь. Просто извинись и скажи, что у тебя встреча, которую надо отменить; позвонишь и скажешь, что опаздываешь. Так это и положено делать. И если он деловой человек, то будет уважать тебя за это.
— Хорошо, мама. Думаю, ты права. Спасибо за деньги. Ты получишь их обратно не позже пятницы.
Он достал из стенного шкафа светло-бежевый хлопчатобумажный плащ, поднял воротник и оглядел себя в зеркале, висевшем в холле. Собственный вид его удовлетворил, — молодой студент колледжа, точно как в «Плэйбое». В зеркале он видел, что мать наблюдает за ним и что она им гордится. Он подмигнул своему отражению и с радостным «до свидания» вышел.
Глава XIX
Диди прикрыла рукой телефонную трубку и прошептала матери:
— Помнишь того парня из школы, о котором я тебе говорила? Алан Дженкинс? Цветной парень? Он сейчас в Линне и хочет приехать. Что мне ему сказать?
— Пригласи его, если хочешь, — сухо сказала миссис Эпштейн. — У него есть машина?
— У него мотоцикл. А как же пикник…
— Пригласи его с собой, если он захочет.
— Ты думаешь, это будет нормально?
— Не вижу, почему нет. А все-таки, какой он?
— О, он немного старше, чем большинство первокурсников; он работал пару лет. Он ужасно талантливый. И он спокойный и веселый — я имею в виду, что не угрюмый, или, знаешь, обозленный, как некоторые из них. Я хочу сказать, в школе, это же художественная школа… в общем, это не имеет значения. Я хочу сказать, что мы не думаем о нем как о другом, если ты понимаешь, что я имею в виду.
— Тогда… — и миссис Эпштейн пожала плечами.
Диди убрала руку с трубки и сказала:
— Ой, Алан? Извини, что заставила тебя ждать. Послушай, мы с бывшими одноклассниками устраиваем пикник на пляже. Ты бы не хотел пойти с нами?… Человек шесть или восемь… Ты можешь? Хорошо. О, я как раз вспомнила: я обещала нашему рабби показать картину, над которой работала в школе, — помнишь, Моисей и скрижали Завета? Так может, подвезешь меня к нему?… Нет, мы не задержимся… Хорошо, ты выезжаешь из Линна по береговой дороге и едешь до первого светофора…
Алан дал полный газ и заглушил мотор. Диди соскочила с заднего сидения, и он отвел мотоцикл к гаражу.
— Этот рабби, похоже, прямой парень, — сказал он. — Забавно, я ожидал увидеть старую развалину с длинной бородой. Я думал, что все раввины носят бороду.
Диди хихикнула.
— Нет, только все студенты колледжа. Мне кажется, я ни одного бородатого и не видела ни разу.
— Я-то думал, он будет говорить, как проповедник — знаешь там, о Боге и всяком таком…
— На самом деле раввины не проповедники; они скорее учителя, — объяснила она. — Как говорит наш рабби, его настоящая работа — толковать и применять закон, как адвокат или судья.
Миссис Эпштейн встретила их в гостиной.
— Вы первый раз в Барнардс-Кроссинге, мистер Дженкинс? Диди так много говорила о вас.
Это был привлекательный молодой человек, с кожей цвета крепкого кофе. Губы хотя и синеватые, но не слишком большие. Нос с высокой переносицей и правильной формы. Волосы коротко подстрижены; она с удовлетворением отметила, что он и не пытается выпрямить или пригладить их. Он был среднего роста, но с широкой грудью и квадратными плечами, которые сейчас казались напряженными.
— Да, мэм. Я бывал пару раз на Северном побережье — в Линне. Есть там один парень, который иногда продает мои картины…
— Художественный дилер? Я не знала, что в Линне есть художественный магазин или галерея, — сказала она, предлагая ему стул.
— Нет, мэм. У него вроде книжного магазина с открытками и какими-то подарками — всякие такие штуки. Когда у него есть место, он вешает мои картины, и если продает какую-нибудь из них, платит мне.
— И много вы продаете? — спросила она.
Он засмеялся красивым, открытым смехом.
— Недостаточно, чтобы уйти на пенсию. Завтра рано утром я еду в Нью-Йорк, надеялся получить у него хоть что-нибудь. — Он покачал головой. — Ноль — хотя, по его словам, одной картиной пара человек заинтересовались.
— И какие картины вы пишете, мистер Дженкинс?
— О, Алан пишет такие изумительные, абстрактные…
За окном посигналили.
— Это Стью. Пошли, Алан, — сказала Диди.
— Возьми свитер, дорогая. На Пойнте может стать прохладно.
— Обойдусь.
— Хорошей вечеринки, дорогая. До свидания, мистер Дженкинс. Удачи вам с вашими картинами.
Глава XX
Пока Муз пробирался между грудами мусорных ящиков и кучками орущих детей, которые заполнили всю улицу в Саут-Энде Бостона, у него появились дурные предчувствия. Когда-то эта улица, безусловно, была очень красива; она была разделена посередине широкой лужайкой с равномерно расставленными деревянными парковыми скамейками. Но даже этой ранней весной трава выглядела неухоженной, а под скамейками накопился бумажный мусор, жестяные банки и бутылки. Некогда величественные, облицованные песчаником городские дома с короткими пролетами гранитных ступеней и коваными железными перилами были отодвинуты от тротуара. Нарядные деревянные двери, когда-то снабженные массивными медными дверными молоточками и медными ручками, несли на себе следы времени и плохого обращения: в том месте, где был молоточек, теперь зияла дыра, а вместо ручки — только круглое отверстие, из которого свисал засаленный кожный ремешок. Двери демонстрировали разного цвета слои ободранной и вздувшейся краски. Длинные узкие окна предполагали комнаты с высокими потолками. Но большинство стекол было с трещинами, одно вообще выбито и заменено куском потрепанной фанеры. Тротуары и стены домов были щедро исписаны мелом.
Муз нашел номер, который искал, и поднялся по лестнице. Не обнаружив кнопки звонка (из дырки торчала только пара проводов), он постучал и, не получив ответа, толкнул дверь. Пружина была тугая, и дверь громко хлопнула, когда он ее отпустил. На шум в вестибюль высунула голову неряшливая старуха и вопросительно посмотрела на него.
— Я ищу мистера Вилкокса, — сказал Муз.
— Верхний этаж, последний звонок, — сказала она и закрыла дверь.
Тут Муз заметил ряд почтовых ящиков и нажал кнопку под именем. Почти сразу же из переговорной трубы ответили: «алло».
— Это Муз Картер, мистер Вилкокс, — сказал он в трубу. — Я говорил с вами по телефону.
— Поднимайся.
Его опасения утихли, как только он вошел внутрь. Комната была большая и хорошо обставленная. На полу лежал восточный ковер, на стенах висели картины маслом в тяжелых золотых рамах; большие мягкие стулья были расставлены по всей комнате, а перед большим окном с видом на соседние крыши стоял массивный диван. Рядом был резной стол красного дерева с мраморной столешницей, а позади него — современный вращающийся стул из черной кожи на хромированной ноге.
И сам Вилкокс был не таким, как ожидал Муз. В твидовом пиджаке и фланелевых брюках, он был похож на моложавого профессора колледжа. Каштановые волосы были коротко острижены, на висках проглядывала седина; манеры просты и дружелюбны.
— Ну и вид у вас отсюда, — сказал Муз, подходя к окну.
— Мне он нравится. Я люблю сидеть на этом диване и просто разглядывать крыши. Очень расслабляет.
— Красиво. Вот уж никак не… — Он осекся.
— Не ожидал этого? Ты хочешь сказать, из-за вида улицы? Многие из этих домов покупают и приводят в порядок, как этот. — Он улыбнулся, и это была хорошая улыбка. — Что-то вроде частного проекта по восстановлению трущоб. Эта квартира принадлежала моему другу-художнику. Он заключил долгосрочный договор на аренду и устроил студию, поэтому здесь венецианское окно. Потом уехал в Европу. А район очень удобный.
— Это ваш офис, мистер Вилкокс?
Вилкокс посмотрел на него пристальным, испытующим взглядом.
— Я кое-что здесь делаю.
Указав Музу на диван, он сел на другом конце лицом к нему.
— Ты сказал, что хочешь работать с нами.
— Правильно, сэр.
— Так вот, наркотики, с которыми мы имеем дело, нетрудно найти в большом городе, и есть много людей, всяких розничных торговцев, которые самостоятельно покупают товар у Тома, Дика или Гарри, и, не исключено, могут неплохо заработать. Но мы работаем не так. Мы — организация. Поначалу может показаться, что это дороже, но потом выясняется, что оно того стоит. Когда ты покупаешь товар у нас, ты можешь быть уверен, что он качественный. И тебе не надо беспокоиться, не смешан ли он с орегано, кошачьей мятой или с чем-нибудь похуже, что может доставить тебе кучу неприятностей. Под заказ мы можем обеспечить чем угодно, но когда мы продаем травку, ты получаешь именно травку. Я люблю работать только так.
В работе с организацией есть преимущества, — продолжал Вилкокс. — Мы придерживаем конкурентов. Если кто-то в городе достает товар и предлагает его своим друзьям или, допустим, продает по себестоимости, нас это не волнует. Но если на твоей территории появился дилер, — тогда это уже наша забота. А бывает, что человек попадает в беду, и, если это можно уладить, мы улаживаем. Мы хотим, чтобы ты работал с нами еще и потому, что все дети тебя знают, и ты можешь работать с клиентами в своем родном городе по-свойски, это намного лучше.
Муз колебался.
— А как с…
Вилкокс кивнул.
— Да, территория закреплена, но мы не вполне удовлетворены тем, как идет работа. Да и слишком уж она стала большой для одного человека. — Он задумался. — О’кей, пожалуй, это самый сильный довод: для настоящей работы на большой территории нужны двое. Можешь зайти к нему и сообщить наше решение: ты входишь с ним в дело. Договор — фифти-фифти. Он, правда, заплатил за свой нынешний запас, так что можешь предложить ему сбывать его за комиссионные или из процента. Скажем, четверть. Это, пожалуй, более или менее справедливо. Четверть для старого запаса и половина для нового. Посмотрим для начала, как пойдут дела, а там, может быть, что-нибудь и изменим.
— Что именно?
— Если дела пойдут так, как я надеюсь, ты сможешь со временем вести дело самостоятельно. А его бы мы перевели… точно, мы переведем его на другую территорию. Это наша обычная политика — его мы переводим на другую территорию. — Вилкокс открыл ящик для сигарет на кофейном столике и предложил Музу сигарету.
— Когда начинать? — спросил Муз, закуривая.
— А почему не сразу? Завтра, послезавтра, сегодня вечером, если ты сумеешь.
— А когда вы поговорите с ним? Я хочу сказать, когда вы дадите ему знать?
Вилкокс улыбнулся
— Я рассчитывал, что ему скажешь ты.
— Я? Но… но если он мне не поверит?
— Вот-вот, я рассчитываю, что ты заставишь его поверить тебе. Можешь считать это своего рода испытанием. Да, именно так — своего рода испытанием. В нашей работе… у нас не такой уж большой штат. Каждый работает самостоятельно. Мы не можем держать человека, который звонит в министерство внутренних дел всякий раз, как возникает небольшая проблема. Итак, ты получил инструкции, у тебя убедительная внешность, — он взглянул на габариты Муза и улыбнулся, — разберешься, что делать. А если он свяжется с нами, мы объясним ему ситуацию.
— О, конечно, мистер Вилкокс, я понимаю. И я хочу, чтобы вы знали, что я ценю эту возможность и буду стараться…
Вилкокс сардонически улыбнулся.
— Я не шучу, сэр. Я…
Вилкокс оборвал его взмахом руки.
— Каждый пытается украсть немного сверху. Мы рассчитываем на это. Только не жадничай. — Он достал бумажник.
— Может, тебе нужно немного на расходы, чтобы перебиться?
— Могу обойтись.
Вилкокс пролистал пачку банкнот и вытянул две новые двадцатки.
— Считай это авансом. Одну минуту. — Он вышел из комнаты, но почти сразу же вернулся с пластиковым мешочком из-под табака и бросил его Музу. — Здесь одна унция. Можешь считать это своего рода рекламным пакетом, э-э… образцом. Это бесплатно. Но потом все наличные на бочку. Ты понял?
— Конечно. Благодарю вас.
Вилкокс подошел к ящику для сигарет и нажал кнопку сбоку. Верхний лоток повернулся в сторону, открыв ниже другой слой сигарет — несколько неправильной формы и явно самодельных.
— Возьми пару для себя.
— Ого, здорово!
Вилкокс улыбнулся.
— Хитрая штучка, не больше. Если копы явятся с настоящим обыском…
Муз взял из ящика сигарету, покрутил ее в пальцах и глубоко вдохнул.
— Не думаю, что стоит курить здесь. Возьми себе немного. Портсигар есть? Подожди минутку.
Порывшись в ящике, он нашел плоский мельхиоровый портсигар и сунул несколько сигарет под резинку.
— Бери, — сказал он. Когда Муз потянулся за ним, Вилкоксу пришла в голову еще одна мысль. Из верхнего лотка ящика он взял несколько обычных сигарет и сунул их рядом с другими.
— Вот теперь у тебя полный комплект.
Глава XXI
Большая часть пляжа была каменистой, а если и попадался песок, то грубый и крупный. Но место было уединенное, главным образом потому, что во время прилива, который должен был вскоре начаться, образовывался своего рода полуостров — вода окружала его с трех сторон. Для костра было полно сломанных сосновых веток и плавника, прибитого течением.
Билл Джейкобс, который последние два года был вожатым в лагере, автоматически принял командование на себя.
— Кто-нибудь, поставьте в воду пиво и коку. Мужики, принесите для кострища несколько камней покрупнее, а девочки пусть собирают дрова.
— Эй, — сказал Адам Зусман, — а помните морской патруль пару лет назад тут же, тоже во время пикника? Ты был тогда, Стью?
— Да, я помню. Был какой-то шум насчет костра. Это не общественный пляж, он принадлежит Хиллсонам. У нас не было разрешения, вот в чем дело. Эй, Диди, ты получила разрешение на сегодняшний костер?
— Нам не нужно разрешение, — сказала Диди с внезапной тревогой. — Я уверена, что сейчас не нужно. Это только в летнее время.
— Думаю, все, что они могут сделать, — это прикончить нас, — философски заметил Стью. Он рассмеялся, и Диди швырнула в него горсть песка, поняв, что ее разыгрывают.
— Я чуть и правда не поперлась туда — за разрешением на костер!
— Давайте хотя бы подождем, пока не стемнеет, — сказала Сью Аронс. — Тогда с костром веселее.
Все разбрелись по своим делам. Билл устроил для кострища круг из больших камней, и ребята помогли девочкам собрать дрова. Когда набралось достаточно, Билл остановил их.
— Ладно, мужики, думаю, нам хватит.
— Я бы выпил пивка прямо сейчас, — сказал Адам.
— Ага, и я тоже, — сказал Стью. Он посмотрел на часы. — Черт, мне надо смыться около половины седьмого, чтобы отвезти своих в Линн.
— Но мы примерно тогда и будем готовить, — запротестовала Диди. — Ты пропустишь всю еду.
— Я получил машину только на этих условиях, — сказал он. — Но я тут же вернусь. Эй, у кого пиво?
— Когда будешь разводить костер, Билл?
— Не знаю. Когда стемнеет и мы проголодаемся. Мы куда-то спешим?
— Нет. Давайте подождем.
Океан был спокоен, почти неестественно спокоен. Они слышали легкий шелест волн, ударявшихся о волнолом. Издалека долетали пронзительные крики чаек. Но в остальном воздух был тих, и в этой тишине было что-то такое, что удерживало от разговора. Они разбились на пары, и если говорили, то между собой и тихими голосами. Задумчиво потягивая напитки, они ждали, пока стемнеет.
Адам Зусман положил голову на колени своей девушки; вдохновленные его примером, и остальные начали устраиваться поуютнее. Внезапно Зусман сел и с отвращением воскликнул:
— Гос-споди!
— В чем дело?
— К нам гости. — Он указал на одинокую фигуру, которая направлялась к ним.
— Эге, это Муз Картер, — сказал Стью.
— Божий дар для женщин, — сказала Диди.
— Привет, Муз, — нехотя помахал ему Билл Джейкобс.
— Привет, детки. Здоров, Билл, Стью. О, Диди и малышка Сью! Бетти, крошка, где ты пропадала? — Тут он увидел Дженкинса. — Чтоб я так жил, да у нас здесь настоящий смешанный пикник.
— Возьми банку пива и не выступай, — коротко сказал Билл Джейкобс.
— Шо, шо, как мы говорим у нас в Алабаме. Не откажусь.
Он открыл банку.
— Кто-нибудь из вас видел такое раньше? — Он откинул голову назад и стал лить пиво прямо в глотку, не двигая кадыком.
— Алан Дженкинс. Муз Картер.
Никто из них не протянул руку, но оба сказали: «Привет».
— Возьми еще, — предложил Джейкобс.
— Могу одну. И упаду с ней где-нибудь. — Увидев, что Стью подвинулся и освободил ему место рядом с Дженкинсом, он сказал: — Только я сяду возле моей любимой старушки Бетти — на переднем сидении, если ты не возражаешь, Стью.
Диди почувствовала, как рука Стью напряглась. Она взглянула на часы.
— Половина седьмого. Если тебе надо ехать за родителями, то уже пора.
— Пожалуй, я лучше задержусь здесь ненадолго, — пробормотал он.
— Нет, иди сейчас, — шепнула она в ответ. — Все будет нормально.
Через несколько минут после ухода Стью упали первые капли дождя.
Глава XXII
Когда приходила его очередь читать лекции администраторам-стажерам по управлению персоналом, Бен Горфинкль всегда заканчивал их кратким инструктажем о работе с непокорным подчиненным.
Даже если вы являетесь хозяином положения и можете уволить этого упрямца вот так — щелчок пальцами — лучше сначала дать ему шанс подчиниться. Если он хороший человек и подчиняется, значит, вы все уладили. Но если вы уволите его, вам придется найти замену. А откуда вы знаете, что новый будет лучше? Правильное решение — обменяться мнениями.
В понедельник, вернувшись домой с завода, он тут же позвонил рабби.
— Я хотел бы встретиться с вами, рабби, для небольшого обмена мнениями. С тех пор, как я стал президентом, мы, кажется, ни разу не говорили наедине, а накопилось много вопросов, которые нам следует уладить.
— Когда угодно.
Иногда можно договориться о встрече заранее, чтобы он немного помучился. А иногда лучше встретиться сразу же, без предупреждения, чтобы застать его врасплох, неподготовленным. Все зависит от обстоятельств.
— Может, сегодня вечером?
— В семь я иду в миньян.
— Я приглашен на обед, но если бы мы могли встретиться немного раньше…
— Да, вполне.
— Стью взял мою машину…
— Я могу заехать к вам.
Обмениваясь рукопожатием с Горфинклем, рабби невольно подумал, что со всеми президентами храма отношения у него были разными. С Джейкобом Вассерманом, первым президентом, который и выбрал его, было не только взаимное уважение, но и настоящая дружба. Несмотря на разницу в возрасте, они по-человечески нравились друг другу, и в тот первый год в Барнардс-Кроссинге Вассерманы приглашали их на обед при каждом удобном случае, а Смоллы непринужденно заглядывали к ним днем в воскресенье выпить чашку чая и поговорить. Тогда ему нужен был президент-друг. Оглядываясь назад, он понимал, что был молод и страшно неопытен и что только крепкая дружба Вассермана и уважение, с которым относилась к старику вся община, уберегли его от бесчисленных затруднений, включая основное — невозобновление контракта после испытательного года.
С Элом Беккером, ставшим президентом после Вассермана, его отношения были совершенно другими. Вначале Беккер был лидером оппозиции, и только случайно представившаяся возможность помочь ему в личном вопросе позволила рабби склонить его на свою сторону. Беккер чувствовал вину из-за своей оппозиционности и стал не только почтительным, но временами даже почти подобострастным. Сейчас у рабби не было более преданного защитника, чем Беккер, но он никогда не чувствовал себя с ним вполне непринужденно.
Мортон Шварц, третий президент и предшественник Горфинкля, относился к рабби не так. Он был дружелюбен и иногда даже несколько вольно подшучивал над его маленькими недостатками, вроде постоянных опозданий и склонности забывать о встречах, которые рабби не относил к числу первостепенных. Но это была улица со строго односторонним движением, во всяком случае, по мнению Шварца, и когда рабби иногда отвечал в том же духе, он чувствовал, что это расценивается как излишняя самонадеянность. Однако, за эти годы он закалился и находил отношение президента скорее забавным, чем раздражающим. То, что с ним заключили пятилетний контракт, возможно, было как-то связано с этим.
С Беном Горфинклем опять было все по-другому. Просидев с ним в правлении несколько лет, рабби знал кое-что о его деловых качествах, но возможностей работать вместе у них было немного, и до настоящего времени их отношения были весьма нейтральными — ни дружелюбными, ни враждебными.
Начните с непринужденного обращения. Установите дружественную атмосферу.
Горфинкль провел его в гостиную, и когда они уселись, спросил:
— Вам достаточно удобно там, рабби? Не хотите пересесть?
— Нет, здесь хорошо.
Поощряйте дискуссию, но вынудите его защищаться.
Он мягко улыбнулся.
— Скажите, рабби, каковы, по вашему мнению, цель и назначение храма и в чем заключаются обязанности раввина?
Рабби заметил жертву пешки и отказался. Он улыбнулся.
— Я провел последние полдюжины лет, занимаясь именно этим. Вы, конечно, вызвали меня — так срочно перед назначенной встречей — не для того, чтобы услышать краткий обзор всего, что я говорил с тех пор, как приехал сюда. Я уверен, у вас есть что мне сказать.
Горфинкль одобрительно кивнул. Он помолчал минуту и затем сказал:
— Видите ли, рабби, я думаю, что вы не вполне понимаете, чем вообще является храм. Я не уверен, что кто-либо из раввинов понимает это. Они слишком увлечены им; у них профессиональный интерес.
— В самом деле? Может, хотя бы вы мне это объясните?
Участвуя в дискуссии, держитесь откровенно и открыто. Дайте ему почувствовать, что вы не пытаетесь ничего скрывать.
Горфинкль проигнорировал иронию рабби.
— Вы думаете о храме как об инициативе группы религиозных людей, которая в процессе реализации притягивает других религиозно настроенных людей. — Он покачал головой. — Возможно, найдется один действительно религиозный человек, как Вассерман, например, но остальных храм интересует просто как организация. Когда же организация достигает успеха — а на это уходит много сил, — первая группа становится обузой для организации, и к руководству должны прийти люди другого типа. Иногда основатели так надуваются из-за своего успеха, что жить с ними просто невозможно. Они ведут себя так, словно храм принадлежит им, потому что они его создали. Это раздражает новых людей. Именно так случилось здесь; в некотором смысле именно поэтому я стал президентом. Но на самом деле проблема глубже: для создания организации нужны не те способности, что для ее дальнейшего функционирования. Это два разных типа людей.
— И те, и другие — евреи, — заметил рабби.
— Случайное совпадение, рабби.
— Случайное? В синагоге?
Горфинкль кивнул.
— Именно. Вы знаете, что в храме есть две фракции: моя и та, которую возглавляет Мейер Пафф. А Пафф, при всей его ортодоксальности, не так уж сильно интересуется иудаизмом или религией вообще. Вы что думаете — люди участвуют в деятельности храма потому, что они религиозны? Что религия для них так уж важна? — Он покачал головой в знак резкого отрицания. — Нет, рабби. Знаете, что их привлекает? Их привлекает храм как организация.
Каждый человек хочет быть чем-то, быть кем-то. Ему нужно ощущение успеха. Он ходит в школу, поступает в колледж, мечтает стать кем-то, кем-то значительным. Потом он находит себе работу или открывает какой-нибудь мелкий бизнес и думает, что наконец-то нашел свой путь. И вот ему тридцать пять, и он уже понимает, что не станет Президентом Соединенных Штатов или полководцем, не получит Нобелевскую премию; его жена — не кинозвезда, и его дети — не гении. Он начинает понимать, что вставать утром, идти на работу, возвращаться домой и ложиться спать, чтобы утром встать и идти на работу, — весь этот цикл не изменится каким-нибудь необыкновенным образом. Вся его жизнь такой вот и останется, до самой смерти. А после смерти о нем будет помнить только семья.
Трудно смириться с этим в таком обществе, как наше, где каждый исходит из предположения, что может стать Президентом Соединенных Штатов или, по крайней мере, миллионером. И тогда эти люди с головой окунаются в работу организации, где можно стать важной персоной. Когда-то это были масонские ложи, где они могли носить необычную форму и необычный титул. Но ложи нынче несколько не в моде, и в американском городе вроде Барнардс-Кроссинга для приезжих — евреев или христиан, особенно для евреев — не так просто занять достойное место в политической жизни города. И вот есть храм — их организация. Они могут что-то делать и быть кем-то. Есть храм и «Братство», а для женщин есть женская община и «Хадасса»[35]. Все, что от них требуется, — хоть чуть-чуть что-то делать, и рано или поздно они станут важными персонами. Они станут председателями комитетов, или просто будут при какой-то должности. Они увидят свои имена в газетах. И если вы думаете, что это не важно, поговорите с какой-нибудь женщиной, которая, скажем, укладывала салфетки для завтрака, который устраивает «Хадасса», и которую не упомянули среди прочих, принимавших участие.
Но вернемся к Паффу. Пока он был у руля, он пользовался влиянием. Теперь, утратив власть, он утратил и влияние, и это раздражает его.
— Если бы дело было только в этом, — мягко ответил рабби, — разве он стал бы жертвовать такие большие суммы, так много работать и отдавать так много своего времени?
Горфинкль пожал плечами.
— То, что для вас большая сумма, рабби, не большая сумма для Мейера Паффа. Когда вы уже достигли определенного уровня жизни, а у вас вдруг появляется много денег, вам нелегко коренным образом изменить этот уровень. Ну, купите вы машину побольше, пару лишних костюмов поэлегантнее, несколько лишних пар обуви подороже. И все это еще пустяк. Есть огромная сумма денег, которая все увеличивается, а вы даже и не приблизились к возможности потратить их. Что вы с ними делаете? Вы используете их для рекламы. Вы переезжаете из дома за тридцать тысяч долларов в особняк за сотню тысяч. Вы покупаете картины, приглашаете дизайнера по интерьеру. Почему? Потому что у вас внезапно появился художественный вкус? Нет. Вы преуспели, но вы не ощущаете никакой разницы. Поэтому вы делаете вещи, доказывающие другим, что вы преуспели. Их зависть или уважение дают вам ощущение значительности. Одни выставляют себя, другие — себя рядом с дорогостоящими женщинами. Третьи, как Пафф, дают свои деньги организациям, из которых можно извлечь пользу.
— А вы?
Если вам возражают, не стесняйтесь признать собственные недостатки. Это намного улучшает атмосферу.
Горфинкль пожал плечами.
— Я такой же и признаю это. — Он усмехнулся. — Можете даже считать меня классическим примером. Я инженер-электронщик. Когда я поступил в Массачусетский технологический, это была сравнительно новая область. Я был одним из лучших на своем курсе и надеялся, что к тридцати годам буду возглавлять большую лабораторию электроники. Но началась война, и я немного отстал. А когда начал работать, то обнаружил, что по службе далеко не всегда продвигают самых способных — во всяком случае, в крупных промышленных корпорациях. Еврейское происхождение тоже не пошло на пользу. А потом начали появляться доктора наук — сверхобразованные придурки, что опять-таки не улучшило ситуацию. И что делать? Если ты женат и у тебя есть ребенок, уже поздно продолжать образование. Ты переходишь на другую работу, которая, похоже, даст какой-то результат. И, конечно, не дает. Ты пробуешь опять, и опять ничего не выходит. Я даже перешел на маленькое предприятие, где шла речь о возможности покупки акций — только шла речь! — но это был шанс расти вместе с компанией, и компания казалась перспективной. И я пошел на небольшую потерю в заработке, понимая, что это мой последний шанс. В нашем деле ты должен добиться чего-то, пока тебе еще нет сорока, иначе не добьешься вообще ничего.
Казалось, что все идет хорошо. А потом нас продали большому предприятию, одному из гигантов, и я опять оказался в большой корпорации. И теперь, когда мне сорок пять, я начальник отдела, то есть принадлежу к среднему звену управления. И там, вероятно, останусь, пока не уйду на пенсию.
Я допускаю, что сначала окунулся в политическую жизнь храма в надежде принести пользу. Я все еще думаю, что в какой-то степени так оно и есть. Но я не обманываю себя. Я знаю, что добрую часть этой деятельности составляет просто возможность быть важной персоной, иметь влияние на окружающих меня людей.
— Не слишком ли вы циничны и не упускаете ли суть, как это обычно и происходит с циниками?
— Что вы имеете в виду?
— Вот вы говорите, что одни выставляют себя, строя большие дома или хвастаясь чем-нибудь другим, а другие делают то же самое, жертвуя на хорошие дела. В этом их основное отличие, вы согласны? Мы все теперь психологи и психиатры-любители и думаем, будто разбираемся в человеческих побуждениях. Но так ли это? Судить можно только по результатам: человек, использующий свое богатство на достойные дела, даже напоказ, лучше человека, использующего его только для хвастовства. Ваше представление о храме очень цинично, если вы позволите мне так выразиться, мистер Горфинкль. Но цинизм — это всего лишь разочаровавшийся идеализм. Мы, евреи, называем себя нацией священнослужителей, и, если бы до конца следовали своему идеалу, то все свое время проводили бы в храме — в учении и молитве. Так даже было когда-то. В гетто маленьких городков Польши и России были люди, которые занимались только этим, но кто-то ведь должен был работать, и обычно это были жены. Лично мне это не нравится. Это одна из причин, по которым я не одобряю монастыри — ни мужские, ни женские. Я не считаю, что лучший способ жить в мире — это избегать его. У нас практическая религия, в которой парносса — зарабатывание на жизнь — столь же важно, как молитва, и мир так же важен, как храм.
Если он говорит что-то, в чем вы можете выявить сходство с вашей позицией, укажите ему на это, даже если ради этого вам придется немного исказить его слова. Психологически это оправдано: он хочет бы как-то выкрутиться, и вы даете ему возможность сделать это достойно.
— Тогда почему, — поспешно перебил его Горфинкль, — вы последовательно возражали против нашей программы, рабби? Мы этого и хотим, чтобы рядовые члены понимали, что храм — это часть мира и у него есть в нем своя роль.
— Я не возражаю против вашей программы как таковой, хотя думаю, что каждый должен решать такие вещи сам для себя. Меня волнует тенденция противодействия другой стороне до такой степени, что появляется опасность раскола. Я видел признаки этого в течение некоторого времени на заседаниях правления. Справедливости ради надо заметить, что другая сторона была в равной степени несдержанна. В эти последние несколько месяцев проблемы не обсуждались по существу — или почти не обсуждались. Наоборот, другая сторона выступала против предложений вашей стороны, а когда они вносили предложения, ваша группа относилась к ним так же и по той же самой причине. Никакая организация не может выжить при таком уровне вражды. В последние несколько дней, однако, вы отбросили элементарные правила приличия, которые сохраняли до настоящего времени. Проповедь мистера Бреннермана…
— А что не так с его проповедью?
— Он не имел никакого права злоупотреблять преимуществом, которое дает кафедра проповедника.
— Одну минуту, рабби, я слышал эту речь, а вы нет. И в целом я ее одобрил. — Губы Горфинкля приподнялись в холодной улыбке.
— Тогда вы виновны в равной степени, мистер Горфинкль.
— Вы забываете, что я — президент…
— Кафедра проповедника в храме принадлежит раввину, мистер Горфинкль.
— Я не знал этого, рабби, — мягко сказал Горфинкль. — Таков еврейский закон?
— Это закон обычной вежливости! Как раввин я руковожу религиозной школой. Могу ли я позволить себе провести урок вместо одного из преподавателей, не спросив сначала у него разрешения?
Иногда стоит уступить в незначительном вопросе.
— Что ж, возможно, Тед действительно слегка перешел рамки дозволенного. Он увлекающаяся натура, и его заносит.
— А вчера на заседании правления вы назначили Роджера Эпштейна председателем ритуального комитета.
— А чем плох Роджер Эпштейн? — возмутился Горфинкль.
— Ничем — как человек. Но у него нет никакой подготовки в области религии, и он никогда не был ни в одном храме до приезда сюда. Председатель ритуального комитета утверждает порядок служб. При сложившихся обстоятельствах группа мистера Паффа, склонная к консерватизму, может рассматривать это как преднамеренное оскорбление.
— Подождите, рабби. Я выбрал Роджера потому, что он мой лучший друг, а ритуальный комитет — самый важный из всех. И меня не беспокоит его незнание порядка службы. Думаю, вы с кантором с этим справитесь. Но председатель ритуального комитета распределяет почести на праздники. Наши люди придают этим почестям большое значение, и это справедливо. Я заметил, что все время, пока Мейер Пафф был председателем комитета, он пользовался этим в политических целях. Но раз уж мы заговорили о нарушении приличий, рабби, прилично ли собрать кучку детей, в том числе моего собственного сына, и прочесть им лекцию по этим вопросам с точки зрения оппозиции? Это не злоупотребление вашей привилегией?
— Дети? Мы тринадцатилетнего мальчика признаем членом миньяна. Его можно вызвать к чтению Торы, что означает руководство конгрегацией. Он может даже вести службу. И мы считаем восемнадцати-девятнадцатилетних студентов слишком незрелыми для понимания того, что происходит в общине их храма?
— Послушайте, рабби, я не нуждаюсь в вашем талмудическом заговаривании зубов. Я считаю это политикой и сообщаю вам, что хочу, чтобы это прекратилось.
Рабби улыбнулся.
— Вы имеете в виду, что хотите, чтобы я прекратил говорить с молодыми людьми?
— Я имею в виду, что вы не должны говорить с ними о делах храма. И я не прошу вас. Я вам приказываю.
— Вы не можете мне приказать. Раввин здесь я, и это я решаю, что мне говорить членам еврейской общины.
В вашей дискуссии наступает момент, когда вы понимаете, что нет никакого шанса на соглашение или примирение. Когда он наступает, этот момент, не темните. Нападайте, и нападайте до конца.
Горфинкль кивнул.
— Вы сказали достаточно, рабби, чтобы доказать мне, что вы представляете Паффа. Я не удивлен. Именно это я и подозревал, как и члены моей группы. Вчера вечером у нас была встреча, и я напоминаю вам, что мы представляем абсолютное большинство в правлении. Было решено, что я должен поговорить с вами и указать вам на неуместность вашего поведения в надежде, что это приведет к изменениям. Этому и был посвящен наш маленький обмен мнениями. И когда я передам им суть этого разговора, наряду с вашим бесцеремонным отношением к религии вообще, о чем мне стало известно только недавно, я уверен, что они проголосуют за прекращение нашего сотрудничества с вами.
Вы, конечно, можете бороться, но как умный человек, я уверен, вы понимаете, что для раввина проигранная борьба за свое место ставит под угрозу возможность получения другой работы. Смею вас уверить, что вы проиграете, и после этой встречи вам недолго оставаться раввином. — Он поднялся на ноги в знак того, что беседа закончена.
— Я получал свою смиху[36] не у вас, — сказал рабби, тоже поднимаясь, — и не вам ее отбирать. Я раввин еврейской общины Барнардс-Кроссинга. Храм платит мне, но я не слепое его орудие и не нуждаюсь в храме или синагоге, чтобы выполнять свое назначение.
На улице раздался громкий и долгий звук автомобильного гудка.
Горфинкль пожал плечами.
— Извините, рабби, — спокойно сказал он. — Это приехал Стью, я должен идти.
Глава XXIII
В рубашке с расстегнутым воротником и в развязанном галстуке со свободно свисающими концами, положив ноги на подушечку, Вилкокс сидел в своем кресле в полном согласии со всем миром. Судя по началу, могло получиться одно из его путешествий во — времени — и — в — пространстве, когда само время замедлялось до глубокого, пульсирующего ритма. Он слышал медленное, равномерное движение шестеренок своих внутренних часов. И словно аккомпанемент, он услышал грохот дверного звонка, низкое, настойчивое биение. Он поднялся на ноги, чтобы ответить. Это было не простое движение, а целая серия приключений, в которой каждая часть его тела, каждый член играл некую важную роль, как в сложном военном маневре или балете, где его руки и ноги, его кисти и пальцы — все имели отдельные роли. Все были должны двигаться в назначенное им время. И хотя казалось, что процесс открывания дверей, встреча посетителя и последующее возвращение к мягкому креслу заняли не один час, он совершенно не чувствовал изнеможения от этих титанических усилий. Фигура на стуле перед ним становилась больше и больше, как надувающийся воздушный шар. Потом меньше и меньше, и затем опять больше. И все же это смещение очертаний никоим образом не было тревожным. Скорее забавным, особенно когда он осознал, что просто наблюдает за дыханием человека. Размышляя об этом вполне объективно, он пришел к выводу, что человек, должно быть, взбежал по лестнице, потому что дышал он тяжело; на лбу у человека были капли пота, и он видел путь каждой по отдельности вниз от линии волос, пока они не скатывались в морщину на лбу, заполняли и переполняли ее и затем переливались в следующую морщину, и в следующую, пока, наконец, не исчезали в волосатых джунглях бровей. Человек говорил что-то, он прекрасно понимал, что, но казалось чрезвычайно смешным, будто это может быть достойно его внимания. Что-то насчет того, что ему пришлось поставить машину за углом. Глупый человек. Почему это должно быть интересно? И что ему трудно было найти звонок в квартиру. Что-то о том, как он выяснял у женщины, где этот звонок. Какое имело значение, знала женщина, какая это квартира, или нет? Человек был обижен. Он понял это. Он понял это не просто умом — всей кожей он чувствовал волны негодования. И это было неприятно. Он хотел покончить с этим. Он говорил издалека, объясняя этому глупому существу. И казалось, что тот понял, поскольку встал со стула. Несообразительная личность, конечно. Не с интеллектом человека. Нет. Даже не с интеллектом собаки. Или даже более примитивного животного. Даже не с интеллектом червя. Может быть, микроба, потому что вместо того, чтобы направиться к двери, как ему сказали, он направился к нему. Ах, понял, наконец. Он прощается официально. Должен ли он встать? Должен ли он протянуть руку? Но человек наклонился вперед и взял не его руку, а оба конца его галстука. Разве так прощаются? Это новый церемониал? А потом что-то сдавило ему шею, и он почувствовал боль и давление, давление и боль.
И все.
Глава XXIV
Мистер Картер медленно оглядел стол, и взгляд его остановился на пустом месте справа от него. Жена в конце стола и дети с обеих сторон — два мальчика с правой и две девочки с левой — все сидели прямо, положив сложенные руки на край стола в ожидании, пока он прочтет молитву.
— Где Мозес? — спросил он.
— Еще не вернулся. Он поехал в Бостон устраиваться на работу. Возможно, ему пришлось остаться и перекусить. Он говорил, что может задержаться.
— Ты что, не говорила ему, что я хочу видеть его здесь за обедом? А сам он этого не знает? И если его задержали, он что, не мог позвонить и сказать об этом? У нас в доме нет телефона?
— Да брось, Па, — сказала жена, — ну зачем постоянно дергать мальчика. Может, телефона под рукой не оказалось, или у нас было занято. С нашими девочками — удивительно, что кто-то вообще может иногда прорваться.
— Я не потерплю, чтобы кто-то приходил когда угодно. Это семья, и она останется семьей. Это принцип. Когда каждый шляется где попало и ест в любое время, когда ему захочется, и в любом месте, где он окажется, семья начинает распадаться. Трапеза — это таинство, и каждый, кто является членом семьи, должен принимать в ней участие.
— Может, попал в грозу, — предположила жена, — и ждал, пока она кончится. Скорее всего, он понял, что опаздывает, где-нибудь перекусил и потом поехал прямо в кегельбан. Кажется, Муз говорил, что по понедельникам ему велели приходить немного раньше.
— Хватит. Больше я не жду, я прочту молитву, и если он придет после нее, он не будет есть. Ни одному члену моей семьи я не позволю принимать здесь пищу, если он не прослушает подобающее благословение.
Оглядев стол, он увидел склоненные головы. Судорожно сжал руки и крепко закрыл глаза. Целую минуту он молчал, мысли его были далеко-далеко. Потом откинул голову к потолку и заговорил.
— Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что в доброте Твоей даешь Ты нам хлеб наш насущный для укрепления тел наших, чтобы мы могли делать работу Твою. Мы соблюдаем Твои заповеди, и на нашем столе нет плоти никакого живого существа, но только плоды Твоей доброй земли. Если мы согрешили в Твоих глазах, это потому, что мы слабы и недостаточно разумны. Прости нас, о Господь, и будь благосклонен к нам. — Затем кивнул и сказал: — Благодарю Тебя, Господь, я слуга Твой, и буду повиноваться.
Он открыл глаза и посмотрел вокруг.
— Теперь мы можем есть.
Семья ела в тишине. Никто не осмеливался сказать что-нибудь, что могло бы расстроить мистера Картера, и все хотели как можно скорее уйти из-за стола. Сам мистер Картер хранил угрюмое молчание, сосредоточенно глядя в свою тарелку. И когда с едой было покончено, а тарелки убраны со стола, дети быстро покинули столовую.
Мистер Картер продолжал сидеть на своем месте, зная по звукам из кухни, что жена и девочки моют посуду. Жена вошла в комнату.
— Все еще идет дождь, Па, и довольно сильный, — сказала она. — Я тут подумала, может, Майклу взять машину и съездить в центр посмотреть, нет ли где-нибудь Муза…
Он посмотрел на нее пристальным взглядом, и она с трудом его выдержала.
— Я поеду и поищу его, — сказал он.
— Ой, я просто беспокойная старуха. Незачем никому ехать. Он скоро придет…
Зазвонил телефон, и Шэрон схватила трубку.
— Вот и Муз, — сказала миссис Картер. Но ошиблась.
— Это из кегельбана. Они хотят знать, где Муз и почему его там нет, — сообщила Шэрон.
Но мистер Картер уже надел плащ и широкими шагами вышел из дома. Он задержался в гараже только затем, чтобы выбрать прут. Хлестнув им пару раз по воздуху, он сел за руль и аккуратно положил прут на сиденье рядом с собой.
Глава XXV
Рабби нужно было время, чтобы собраться с мыслями и решить, что он скажет Мириам или, скорее, как он ей это скажет, когда вернется домой. Дождь начался почти сразу же, как только он сел в машину, и сейчас, когда рабби бесцельно ехал по улицам города, уже лил как из ведра, заливая ветровое стекло быстрее, чем справлялись дворники. Время от времени небо внезапно становилось ярким, как днем, от слепящих вспышек молнии, почти немедленно сопровождаемых раскатами грома. И страшно, и взбадривает — как раз в соответствии с состоянием.
Он хотел обсудить вопрос с кем-нибудь до встречи с Мириам, но в городе не было никого, с кем, по его мнению, он мог говорить свободно и открыто, если не считать — он не сдержал улыбки — начальника полиции Хью Лэнигана, симпатичного краснолицего ирландца. У них были давнишние искренние отношения, возможно, — с иронией подумал он, — потому что им ничего не нужно было друг от друга. В этой ситуации, когда каждый член конгрегации был на одной или другой стороне, рабби вдруг осознал, насколько он одинок. Был, конечно, Джейкоб Вассерман, который по праву старейшего деятеля конгрегации старался стоять выше фракций. Они всегда нравились друг другу, он уважал старика за трезвость ума и проницательность. Импульсивно он направился к его дому.
Заботливая миссис Вассерман, увидев его, убеждала — даже схватив за руку — входить, входить.
— Все в порядке, рабби, ну так коврики станут немного влажными, — говорила она, пока он тер ботинки о циновку.
— Кто это? — крикнул из комнаты Вассерман. — Рабби? Входите, рабби, входите. Что-то серьезное выгнало вас из дому в такой вечер? Но я рад, что вы пришли. В последнее время мы не слишком часто видимся, мне теперь не так-то просто попасть в миньян. Если погода не очень хорошая, я остаюсь в постели немного дольше. Здесь у меня Беккер. Он сегодня ужинал у нас. Если вы хотите поговорить о чем-то личном, он может составить компанию моей жене на кухне. Я не ревнивый. Но если это касается храма, тогда, возможно, вы не против, чтобы он тоже послушал.
— Я согласен.
Старик провел его в гостиную, жена последовала за ними.
— Смотри, Беккер, у меня еще один гость, — сказал он. И обратился к жене: — А почему ты не нальешь рабби чашку чая?
— Я только что видел мистера Горфинкля, — сказал рабби и рассказал им, что произошло. Откровенно говоря, он ожидал, что новость поразит их как громом. Вместо этого его собеседники были удивительно равнодушны.
— Вы хотите сказать, что он угрожал не возобновить ваш контракт осенью? — спросил Беккер, как бы желая удостовериться, что он все правильно понял.
— Нет, что он собирается расторгнуть его сейчас.
— Он не может этого сделать: у вас контракт. Кроме того, по этому вопросу должен голосовать весь состав правления.
— А они выплатят ему остающиеся деньги, — сказал Вассерман, пожав плечами, — и если у Горфинкля большинство, то какая разница, поставит он вопрос перед всем правлением или нет?
Рабби ожидал, что Беккер отреагирует воинственно. Вместо этого тот посмотрел на Вассермана.
— Я расскажу ему?
Старик опять пожал плечами.
— Может ли момент быть более подходящим?
— Между прочим, рабби, — начал Беккер, — это забавно, что вы приехали именно сегодня вечером. Понимаете, сегодня ко мне приходил Мейер Пафф. Похоже, что в храме намечается раскол. И Пафф хочет, чтобы мы с Вассерманом присоединились к нему.
— И вы согласились?
— Для нас это просто, рабби. Как бывшие президенты мы оба постоянные члены правления. Для нас присоединиться к другому храму — просто вопрос еще одних членских взносов. Что-то вроде пожертвования. Даже когда я был президентом, я был членом синагоги в Линне, а Джейкоб и в Линне, и в Салеме. Так вот, пока Пафф излагал свою точку зрения, возник вопрос о вас. Он попросил меня поговорить с вами о переходе на условиях долгосрочного контракта и повышения жалованья. Это мы с Джейкобом и обсуждали прямо перед вашим приходом.
Рабби просмотрел на Вассермана, но лицо старика было бесстрастно.
— Вот уж не думал, что я такой большой любимец мистера Паффа, — сказал он Беккеру.
— Послушайте, рабби, я не собираюсь дурачить вас. Пафф по достоинству ценит вашу работу здесь, уверен в этом, но главная цель его предложения — привлечь людей на свою сторону. Но вам-то что до этого, если свое положение вы улучшите?
— А я улучшу свое положение, мистер Беккер?
— На три тысячи долларов в год больше и долгосрочный контракт! Даже если бы не эта ссора с Горфинклем, у вас не было уверенности, что ваш контракт будет возобновлен. Я думаю, что улучшите. Если вы не уверены, спросите миссис Смолл, которая покупает продукты.
— На сегодня, мистер Беккер, я раввин евреев Барнардс-Кроссинга. Я раввин общины, а не просто отдельного храма. Именно так я думаю о своем назначении. Раввин — не часть храмовой мебели.
— Но кантор…
— С кантором другое. Ему нужен храм или, по крайней мере, конгрегация, чтобы выполнять свои функции. Он не может петь для себя. Но это не относится к раввину. Без сомнения, если община будет увеличиваться, рано или поздно появится храм реформистов, и часть наших членов отколется от нас, чтобы присоединиться к нему. И без сомнения, у них будет раввин. Но это будет разрыв по идеологическим причинам и, следовательно, он оправдан. Их раввин будет раввином евреев-реформистов Барнардс-Кроссинга, в то время как я остаюсь раввином его консервативных евреев.
— Но конгрегации разделяются, — настаивал Беккер.
— Даже слишком часто, пожалуй. Когда раскол происходит не по идеологическим причинам, могут быть территориальные. Евреи могут переехать в другой район и основать другой храм, чтобы из нового района до места молитвы можно было добраться пешком, не нарушая шабата поездкой на машине. Это тоже было бы разумно.
Но разделение, которое вы планируете, не является ни идеологическим, ни территориальным. В новом храме у вас будут такие же евреи, как в старом, и службы будут фактически одинаковыми. На самом деле вы создаете конкурирующий храм и хотите, чтобы я стал его раввином. Нет, спасибо. При этих условиях я не остался бы и на моей нынешней работе. Храм не деловое предприятие, в котором конкуренция полезна для дела. Но в вашем храме вы будете действовать именно так и принудите Горфинкля и его группу к тому же. «Присоединяйтесь к нашему храму — у нас есть кондиционер, и стулья мягче. У нашего кантора лучше голос, а наш рабби произносит более короткие и остроумные проповеди. Проведите вашу бар-мицву или вашу свадьбу в нашем зале! Мы даем премиальные марки».
— Но послушайте, рабби…
— Мистер Пафф не нуждается во мне. Храм не нуждается в раввине, а раввин не нуждается в храме. Функции раввина в храме — вести молитву и читать проповеди — наименьшая часть его обязанностей. Первое может выполнять любой тринадцатилетний мальчик, а второе — разве это главным образом не средство, чтобы разрядить однообразие и скуку службы? Нет, мистер Беккер, я вовсе не намерен служить дополнительной приманкой для нового храма.
— Но если Горфинкль сумеет добиться вашего увольнения…
Рабби с немым вопросом посмотрел на Вассермана.
Старик развел руками.
— В этом мире, рабби, в первую очередь вы должны зарабатывать на жизнь. И Пафф предлагает вам работу, притом за большие деньги. Хорошо, возможно, условия несовершенны. А где они совершенны? Но это средства к существованию; это парносса.
Рабби с досадой прикусил губу. Он надеялся, что хотя бы Вассерман поймет его.
— Барнардс-Кроссинг — не единственное место, где я могу зарабатывать на жизнь. Нет, мистер Вассерман, если это разделение произойдет, я не стану заключать контракт ни с группой мистера Паффа, ни с группой мистера Горфинкля. Я уеду из Барнардс-Кроссинга.
Глава XXVI
По дороге из Линна назад на пикник Стюарт Горфинкль страшно злился на родителей, особенно на отца. Почему к разрешению взять машину всегда прилагаются какие-нибудь условия? Они собрались пообедать у тети Эдит — дядя вполне мог заехать за ними. Он переживал, сумели ли ребята найти какое-нибудь укрытие, когда дождь действительно пошел вовсю. А что, если на пляже молнии были такими же сильными, как на дороге в Линн?
Дождь стал слабее, и теперь просто моросило. В Тарлоу-Пойнт Стью остановил машину и побежал вниз по тропинке, добежал до сосновой рощи и увидел, что на пляже никого нет. По мусору, пустым пивным банкам и мокрым целлофановым оберткам он понял, что ребята уходили неожиданно и второпях.
Потом Стью увидел стрелку на бревне. Он осторожно подошел к дому и поднялся по задней лестнице. Приложив ухо к двери, он старательно прислушался, но ничего не услышал. Затем обошел вокруг дома, подошел к передней двери и снова стал слушать, потом попробовал неуверенно постучать. Он ждал, прислушиваясь, и на этот раз ему показалось, что он что-то услышал. Он постучал громче и позвал:
— Это я, Стью. Эй, детки, вы там?
Дверь тут же распахнулась, и все столпились в дверном проеме.
— Ну и заставили вы меня тут походить.
— Мы думали, что ты не вернешься. Мы нарисовали помадой стрелку. Ты ее увидел?
— Как вы вошли? Дверь была открыта?
— He-а, мы забрались через окно сзади.
— Ну все, надо сматываться, — сказал Стью. — Здесь ездит патрульная машина, и они проверяют нежилые дома. У них есть список.
Они набились в машину, и Стью включил зажигание.
С заднего сиденья его окликнул Адам Зусман:
— Послушай, а как с Музом?
— А что с ним?
— Он там. Напился до потери сознания, пришлось уложить его в постель.
— Лучше бы его забрать. Мы не можем оставить его так.
— Здесь нет места для него, особенно в таком состоянии.
— Его не приглашали на эту вечеринку.
— Да, но он выручил нас в грозу.
— Я хочу домой, — запричитала одна из девочек. — Родители будут ужасно волноваться.
— Поехали, Стью, — сказал Билл Джейкобс. — Позже можем вернуться и забрать его.
Последней Стью и Билл Джейкобс отвезли Диди; Алан Дженкинс был с ними, потому что его мотоцикл остался в гараже Эпштейнов. Когда они приехали, в доме было темно, а на столе в кухне Диди нашла записку от матери: «Ушли в кино — может, после выпьем где-нибудь кофе».
— Ой, ребята, хотите кофе?
— Да, я бы выпил чего-нибудь горячего, — сказал Джейкобс.
— Мне надо отваливать, — сказал Дженкинс, — но тоже, пожалуй, выпью.
— А Муз? — спросил Стью.
— С ним можно не торопиться, — сказал Джейкобс и резко рассмеялся. — Он в отрубе на несколько часов.
— Как он вливал в себя это пиво… — Стью покачал головой. — Никогда бы не подумал, что пиво так подействует на него. В школе я встречал парней, которые пили практически всю ночь…
— Это не пиво, — объяснил Билл Джейкобс, — хотя он и выпил несколько банок. Как только мы вошли в дом, он нашел бутылку виски. Он проделал с ним ту же штуку — откидывал голову назад и лил в горло. Полбутылки за пару глотков.
— Полбутылки? — изумленно сказал Стью. — Так он вырубился? Полностью? Вдребезги? И вы оставили его лежать на полу?
— На полу! — возмутился Джейкобс. — Нет, черт побери, на одной из кроватей.
— Но с пола-то, как говорят, не свалишься, — возразил Стью.
Дженкинс засмеялся, а Джейкобс мрачно сказал:
— Мы так его уложили, что он никуда не свалится.
— Там был кусок полиэтилена, — объяснил Дженкинс, — и мы его как следует спеленали.
— Точно, как пеленают младенца в одеяло, — с удовлетворением добавил Джейкобс.
Вошла Диди с кофе. Они молча пили горячий напиток, на мгновение погрузившись в собственные мысли.
Стью вдруг сказал:
— Эй, а как мы собираемся попасть внутрь? Надеюсь, нам не придется лезть через окно? Вы захлопнули дверь.
— Не беспокойся, — сказал Билл Джейкобс. — Я оставил ее на защелке.
Дженкинс поставил свою чашку и лениво поднялся.
— Я трогаюсь. Мне завтра и правда рано вставать.
— Погоди, — сказал Билл. — Стью за рулем, а я не уверен, что смогу в одиночку сладить с Музом, если он начнет выкидывать номера. Ты не поможешь?
Дженкинс улыбнулся и покачал головой.
— Не того просишь. Как по мне, он может оставаться там, пока не заплесневеет. На вашем месте, парни, я бы забыл о нем.
Когда рев мотоцикла Дженкинса затих вдалеке, Стью спросил:
— Чего он так уперся?
— Муз доставал его весь вечер, — ответила Диди. — Честно говоря, Алана я не виню.
— Что ж, мы в безвыходном положении, — сказал Джейкобс. Он подошел к окну и выглянул. — И опять пошел дождь.
Они сидели и говорили, дожидаясь, пока дождь утихнет. Время от времени кто-нибудь подходил к окну, чтобы поглядеть на залитую дождем улицу.
Внезапно вспыхнула молния, за ней тут же последовал страшный удар грома, и комната погрузилась в темноту.
— Должно быть, попало в трансформатор, — сказал Джейкобс, глядя в темноту. — А может, в подстанцию — темно по всей улице.
— Есть где-нибудь свечи, Диди? — спросил Стью.
— Я… я думаю, да. — Голос был испуганным, и в темноте он почувствовал, как ее рука ищет его. Он обнял девушку.
— Вот что, ребятки. Чем дергаться здесь в темноте, не лучше ли сесть всем вместе в машину и поехать за Музом сейчас? Такой ливень, как сейчас, долго не продлится.
Глава XXVII
Мистер Морхед извинялся.
— Поверьте, мистер Пафф, если бы мне не надо было встретить жену в аэропорту…
— Но я договорился с другими участниками сделки встретиться в доме. Вам следовало сообщить мне заранее.
— Я ждал ее не раньше, чем завтра, мистер Пафф. Мне только что позвонили из Нью-Йорка, из аэропорта. Послушайте, я вам там все равно не нужен. Вы можете взять ключ у…
— Только не говорите, что я должен опять идти к этому сукину сыну Беггу. Он скажет, что не может уйти из своего паршивого магазина и не может дать мне ключ, потому что я могу украсть мебель. Мебель! В мемориале Моргана я видел получше. Я приеду с грузовиком и загружу в него всю эту чертову жалкую меблишку.
Морхед хихикнул.
— Бегг — старый янки, конечно. Но послушайте, что, если я оставлю ключ в Линне?
— Мне там как раз надо кое-что проверить в кегельбане.
— Ну, тогда все хорошо. Вы знаете аптеку на углу, где мой дом? Я оставлю ключ там, а вы заберете.
— Идет, думаю, это нормально. Только позаботьтесь, чтобы все было в порядке. Скажите им, как меня зовут и как я выгляжу, чтобы не было никаких вопросов, когда я за ним приду.
— Не волнуйтесь, мистер Пафф. И осматривайте имение, сколько захотите. Только убедитесь, что вы выключили свет и заперли дверь, когда будете уходить.
В Линне управляющий встретил его словами:
— Только что звонила ваша жена, мистер Пафф, и просила передать, чтобы вы позвонили мистеру Кермиту Аронсу.
Аронс был полон раскаяния.
— Ну и дела, Мейер, ты никогда не догадаешься, во что я вляпался. Я договорился с тобой на сегодняшний вечер и напрочь забыл про годовщину свадьбы моей невестки. Она закатывает большую вечеринку с танцами, и если я туда не пойду… В общем, смело можно начинать обсуждать с моим адвокатом право на посещение детей. Так что, боюсь, сегодня вечером вы на меня не рассчитывайте.
— Но действовать надо быстро, Керм. Мы не можем терять время.
— Так действуйте. А что я знаю о зданиях? Если вы, ребята, говорите, что все хорошо, то и я за. Я соглашусь со всем, что вы решите.
Как только он повесил трубку, управляющий начал жаловаться.
— Послушайте, мистер Пафф, Муз опять опоздал. Я звонил ему домой, его и там нет. А я еще ничего не ел.
— Иди и перекуси. Я подменю тебя и найду кого-нибудь на сегодняшний вечер. Фрэнк из Мэлдена говорил, что готов работать в любой вечер кроме пятницы.
— А что, если придет Муз?
— Если он придет, пока я здесь, я уволю его. А если он не придет, я скажу ему об этом завтра. Слушай, не задерживайся там слишком долго, у меня встреча.
— Конечно, мистер Пафф, я только возьму гамбургер и чашку кофе. Послушайте, я знаю молодого парня, который, если бы вы наняли его… я уверен, что на него можно положиться и…
— Мы поговорим об этом. Иди, поешь.
Он пошел к выходу, но Пафф окликнул его.
— Да, а копы были здесь еще с тех пор?
— Не волнуйтесь вы насчет копов, мистер Пафф. Я знаю, как с ними обращаться.
— Именно это я и хотел сказать. Держись от них в стороне. Не раздражай их, ясно?
— Конечно, мистер Пафф.
— Не распускай язык. Просто спокойно отвечай на вопросы.
Когда управляющий ушел, зазвонил телефон. Это был доктор Эдельштейн.
— Мейер? Твоя жена дала мне этот номер и сказала, что я могу поймать тебя здесь. Мне только что позвонили, и я должен прямо сейчас ехать в Лоренс на консультацию.
— Но, Док, Кермит Аронс тоже не может… Он должен идти на вечеринку в честь годовщины его невестки, а теперь ты…
— Но это человеческая жизнь, Мейер.
Припарковавшись под уличным фонарем напротив Хиллсон-Хаус, Мейер Пафф решил ждать Ирвинга Каллена пять минут, не больше. Он с горечью подумал, что от его друзей проще добиться денег, чем дела. Он был не просто раздражен; ему было физически неуютно. Из-за дождя окна пришлось держать закрытыми, и внутри было жарко и влажно. Он мог войти в дом — у него был ключ — но он помнил, что сказал Бегг о хулиганах, иногда забиравшихся туда, и не хотел входить один. Кроме того, наполовину скрытый разросшейся оградой дом выглядел сейчас темным и угрожающим. А гром и молнии не добавляли привлекательности.
Он посмотрел на часы и увидел, что провел здесь почти полчаса. Он нерешительно посмотрел на дорогу и, не видя ни одной приближающейся машины, включил зажигание и уехал.
Глава XXVIII
— … Нет, мэм, сообщите в электрическую компанию. Но могу сказать вам, что звонить им тоже бесполезно. Они знают об этом. Света нет во всей этой части города. Гроза вывела из строя подстанцию.
Сержант Хэнкс повернулся к полицейскому Смиту, отдыхавшему за чашкой кофе в расстегнутом мундире.
— Ну что за ночь, а, сынок! Человек сто звонят в электрическую компанию, а когда не могут пробиться к ним, звонят нам.
Смит сочувственно улыбнулся, а сержант опять был у телефона.
— Отделение полиции Барнардс-Кроссинга, говорит сержант Хэнкс… Да, мистер Бегг… О да, это одно из зданий, которые патрульная машина регулярно проверяет… Нет, сэр, ничего не сообщали… Вы говорите, там был свет?… Это странно — та часть города полностью обесточена. У вас ведь нет света?… Ах, раньше… Нет, сэр, я не разговаривал ни с моей девочкой, ни с моей женой… Ладно, сэр, я прошу прощения, но люди звонят почти непрерывно в течение последнего часа по поводу света… Да сэр, я скажу, чтобы патрульная машина проверила…
Он повернулся на вращающемся стуле.
— Сукин сын!
— Бегг? Двух мнений быть не может, — сказал полицейский. — Я тебе когда-нибудь рассказывал о том времени, когда он…
— Я лучше позвоню патрульным, — прервал его сержант. — С него станется записать время. Слышишь меня, Боб? Это Хэнкс. Когда вы проезжали Тарлоу-Пойнт? Ага… Хорошо, прокатитесь туда, ладно? Старик Бегг заявляет, что видел там свет… Нет, прямо перед тем, как сгорел трансформатор… Хорошо.
Глава XXIX
Диди сидела на переднем сиденье между ребятами. Дворники работали в самом быстром режиме, но все равно не справлялись с потоками воды.
— Вот уж не позавидуешь этому Дженкинсу, — сказал Стью, — ехать на мотоцикле в такую погоду…
— Он всегда может нырнуть куда-нибудь и переждать.
Они поставили машину перед Хиллсон-Хаус, Стью вынул из бардачка фонарик и включил его.
— Ого, — сказал Джейкобс, — дверь открыта.
— Может, Муз проснулся и сам ушел, — с надеждой сказал Стью.
— Возможно, но лучше все-таки посмотреть. Эй, дай мне фонарик. — Билл поднялся по лестнице, Стью за ним. Он открыл входную дверь и обвел комнату лучом. Потом прошел через холл в кабинет, где они оставили Муза. Он остановился на пороге и направил луч на кушетку. На ней лежало что-то, напоминавшее гигантский кокон в серебристом белом пластике.
Стью нервно хихикнул.
— Черт, вы и вправду хорошо его завернули. Зачем вы закрыли ему этим голову?
Но Джейкобс был уже возле кушетки.
— Мы его оставили не так. Помоги мне!
Тело было полностью укутано в кусок полиэтилена, верхний клапан которого был накинут на голову и плотно подсунут под края.
Джейкобс в ярости сорвал клапан, затем с помощью Стью стащил с тела остальную часть. Лицо Муза было неестественно белым. Джейкобс потрогал лоб и щеки. Они были холодны. Он передал Стью фонарик и стал растирать лежащему руки. Потом с отвращением выпустил их.
— В чем дело? — прошептал Стью.
— Он мертв.
Он сунул руку под рубашку, чтобы проверить, нет ли сердцебиения.
— Так ты не узнаешь, — сказал Стью. — Надо приложить к его губам что-нибудь вроде зеркала.
— У меня нет зеркала, — со злостью ответил Билл. — Приложи ему ко рту стекло фонарика.
Стью протянул фонарик, но Билл сказал:
— Давай убираться отсюда ко всем чертям.
Они пошли, потом побежали, с грохотом слетели по ступенькам и помчались к машине. Стью распахнул дверь машины, а Билл обежал вокруг капота на другую сторону.
— Где Муз? — спросила Диди, отодвигаясь, чтобы пустить Стью за руль.
— Не бери в голову.
Он завел мотор, но не успел еще включить передачу, как к ним с шумом подъехала машина, развернулась и остановилась прямо впереди, ослепив их фарами дальнего света. Полицейский с пистолетом в руке открыл водительскую дверь.
— Заглуши мотор, — приказал он. — Теперь выходите, все.
Глава XXX
Харви Кантер, свояк Бена Горфинкля, был на десять лет старше его. В частной жизни он был левый, атеист и насмешник, публично же — в качестве главного редактора «Линн Таймс-Геральд» — республиканец, консерватор и верный защитник существующего порядка вещей. Он писал передовые статьи, поддерживающие книжную цензуру, молитвы в школах, закон и порядок в городах, и нападал на студенческие беспорядки, на мягкое обращение с преступниками и движение хиппи. Это был высокий, длинноногий человек с копной седеющих волос, нетерпеливо отброшенных назад. Все в нем было нетерпеливым. Он был беспокоен и непоседлив, ни минуты не мог сидеть без движения; он или вставал и расхаживал по комнате, или — если оставался сидеть — съезжал вперед, опираясь на самый копчик, или подтягивал ногу под себя, или, если кресло позволяло, устраивался так, чтобы голова была на одном подлокотнике, а ноги на другом.
Он относился к Горфинклю насмешливо и иронично; его Эдит тоже вела себя по отношению к своей младшей сестре, миссис Горфинкль, несколько покровительственно. Однако Горфинкли приходили на обед, когда их приглашали, — отчасти по привычке, а отчасти потому, что Бен Горфинкль патологически любил поспорить.
После обеда мужчины раскинулись на креслах в гостиной, пока женщины убирали со стола и мыли посуду. Кантер откусил кончик сигары и, поднося к ней спичку, сказал:
— Я слушал на днях вашего рабби. Я тебе говорил?
— Нет, — осторожно сказал Горфинкль. — Когда это было?
— Примерно неделю назад. Он выступал на встрече в Торговой палате, подумать только.
— Я не знал, что ты ходишь на такое.
— Им понадобился, черт побери, представитель от газеты, и я вытянул короткую соломинку. Ваш человек был неплох.
— О чем он говорил?
— А, как обычно — место храма в современном мире. Мне кажется, за последние шесть месяцев я слышал в разных местах дюжину священников, пасторов и прочего религиозного народа, и все, о чем они говорят, — это место церкви или, в данном случае, синагоги в современном мире. Думаю, они так много говорят об этом только потому, что с местом этим что-то не так, но ваш парень, похоже, говорил достаточно разумно.
— Что он говорил?
— Насколько я помню, суть была в том, что современный цивилизованный мир, наконец, возвращается к точке зрения, которую синагога проповедовала пару или больше тысяч лет — социальная справедливость, гражданские права, права женщин, важность обучения. У него впечатление, что в конце концов, спустя почти две тысячи лет, иудаизм входит в моду.
— Это очень интересно, — сказал Горфинкль. — У меня был длинный разговор с ним — Прямо перед тем, как я приехал сюда. И разговор был в некотором роде на ту же тему, но я бы сказал, что в споре со мной он отстаивал противоположную точку зрения. Есть люди, которые могут стать в споре на любую сторону в зависимости от того, что им удобно, — добавил он.
— Он не произвел на меня такого впечатления, — спокойно сказал Кантер. — Что у вас произошло?
— Видишь ли, как в любой организации, у нас две стороны — моя и та, которую можно назвать оппозицией. Ее возглавляет Мейер Пафф. Ты его знаешь.
— Да, я знаю его.
— Мы хотим, чтобы храм проявлял активность в различных современных движениях — вроде гражданских прав, например. Пафф и компания за то, чтобы он оставался местом, куда, понимаешь, приходят только помолиться на Верховные праздники или вечером в пятницу. И я выяснил, что рабби довольно активно агитировал за них. Так что пришлось с ним объясниться.
— И чем все закончилось?
— Я недвусмысленно сказал ему, что не потерплю этого и что мои люди — а у нас подавляющее большинство — не потерпят этого. — Он наклонился вперед. — Представляешь, он говорил с детьми, объясняя им, что мы неправы. Он пользуется популярностью у детей и собирался использовать их, чтобы повлиять на родителей.
— Как он это воспринял?
— О, задрал нос и заявил, что никто не будет учить его, о чем говорить, что он раввин и сам будет решать, что ему следует говорить и чего не следует.
— И?
Горфинкль с удовольствием почувствовал, что завладел вниманием свояка и что на этот раз собьет с него привычную надменность. Он улыбнулся.
— Я сказал ему, что перед нашей маленькой беседой у меня была встреча с большинством правления, и мы решили, что если он откажется поддержать нас, на следующем заседании будет выдвинуто — и принято — предложение об его отставке.
— Ты уволил его?
Он поджал губы и наклонил голову.
— Почти что.
— И ничего личного, конечно.
— Приятно осознавать, что здорово справился с задачей, — самодовольно улыбаясь, сказал Горфинкль.
Кантер встал со стула и зашагал по комнате. Он повернулся и свирепо посмотрел вдоль длинного носа на свояка.
— Ей-богу, вы, такие приятные и благовоспитанные, способны обделаться в любой ситуации и так все запутать, что хоть плачь. Тебя выбирают президентом, и ты начинаешь увольнять людей, не успев согреть стул под своей задницей.
— Организация не может двигаться одновременно в двух направлениях, — возразил Горфинкль. — Если мы хотим добиться какого-нибудь прогресса…
— Прогресса? На черта вам добиваться прогресса? Ты думаешь, что у всего есть годовой баланс, который должен превзойти баланс предыдущего года, чтобы показать, что вы идете вперед? Какого, черт возьми, прогресса должна добиваться контора, которая существует две тысячи лет?
— Если она хочет выжить…
— Она должна попасть в струю — так, что ли? Гражданские права, расчистка трущоб, рабочие места — это нынче в моде и в почете, и все жалостливые либералы и социал-демократы пытаются пристроиться туда же. Тьфу! Меня тошнит от вас. Когда ты умудрился стать таким чертовым либералом? Сколько чернокожих ты принял на работу в «Гексатроникс»?
— Я не занимаюсь приемом на работу.
— Но, конечно, пикетируешь офис того, кто нанимает.
— Что-то я не замечал особого либерализма в политике «Таймс-Геральд», — сухо сказал Горфинкль, — а руководишь им ты.
— Я руковожу им для владельцев. И руковожу в соответствии с их желаниями. Да, я проститутка, это так, — охотно добавил он. — Это относится к большинству журналистов. Но я не обманываю себя. Проститутка — да, но не лицемер.
— Так вот, у меня есть основания полагать, что рабби Смолл лицемер, и это имеет некоторое отношение к моему решению, — самодовольно произнес Горфинкль.
— Неправильно навязывает филактерии? Носит талес наизнанку?
— Я понятия не имел, что ты так интересуешься раввинами и вопросами религии.
— А я и не интересуюсь, и почти не знаю вашего рабби. Просто я терпеть не могу, когда обижают людей. — Он пристально посмотрел на свояка. — А последствия для конгрегации? Ты подумал об этом?
Горфинкль пожал плечами.
— На самом деле у него нет приверженцев, разве что среди детей, а они не в счет. И когда я говорил с ним, я думал именно о конгрегации. Дело в том, — он понизил голос, — что я пытался предотвратить серьезный раскол. Понимаешь, есть горстка раскольников, диссидентов — старая гвардия, которая настроена против любого пункта нашей программы. Так вот, они или подчинятся, или уйдут. Если они уйдут, нас это не слишком беспокоит; это всего два-три десятка человек. Но если мы позволим рабби продолжать, он может создать немалую оппозицию, и мы потеряем сотню с лишним. А это уже серьезно.
— То есть ваша стратегия заключается в том, чтобы заставить оппозицию замолчать?
— Что в этом плохого? Почему мы должны предоставлять оппозиции трибуну?
— Потому что у нас демократия. Так поступает и правительство.
Они спорили долго, большей частью громко; и к тому времени, когда Горфинкли — достаточно поздно — собрались, наконец, уезжать, ни один из них не убедил другого. Они попрощались с формальной вежливостью, точно так же, как после окончания любого из их предыдущих споров.
Через пять минут после их отъезда зазвонил телефон, и Харви Кантер взял трубку.
— Отделение полиции Барнардс-Кроссинга, говорит сержант Хэнкс. Я могу поговорить с мистером Бенджамином Горфинклем?
— Он только что уехал.
— Он поехал домой, сэр?
— Конечно, я думаю, да. А в чем дело?
— Мы свяжемся с ним там.
— Одну минуту. Я его свояк. Харви Кантер из «Таймс-Геральд». Произошел несчастный случай? Ограбили дом?
— Нет, мистер Кантер, ничего такого.
И сержант повесил трубку, оставив Кантера в тревожных размышлениях.
Глава XXXI
Сержант Хердер из Бостонского отделения полиции обладал бесконечным терпением, и был вынужден использовать это терпение до последней крупицы, общаясь с сидевшей перед ним оборванкой.
— Теперь послушай, Мадлен, давай посмотрим, можешь ли ты оказать нам небольшую помощь. Вспомни, что я тебе говорил: этот человек знает, что ты видела, как он уходил от Вилкокса, он может волноваться из-за этого и может попытаться принять решительные меры. Ты понимаешь?
Женщина, уставившись на него, как загипнотизированная, быстро закивала головой.
— Что ты понимаешь?
— Он может попытаться что-то сделать.
— Что?
Она покачала головой.
— Я не знаю.
Сержант Хердер встал и быстро прошел в конец комнаты. Он постоял там минуту, пристально глядя на стену. Потом медленно вернулся.
— Он может попытаться убить тебя, Мадлен, как сделал это с Вилкоксом. Вот что он может попытаться сделать.
— Да, сэр.
— Да, сэр, что?
— Он может попытаться убить меня.
— Прекрасно. Обязательно запомни это. Обязательно держи это в голове. Так вот: мы должны поймать его прежде, чем у него появится такая возможность. А чтобы поймать его, мы должны знать, как он выглядит. Понимаешь?
— Я знаю, как он выглядит.
— Я знаю, что ты знаешь, но мы не узнаем, если ты не скажешь нам. Так какого роста был этот человек? Высокого или низкого?
— Среднего.
— Какого цвета у него волосы?
— Он был в шляпе.
— Хорошо, какого цвета была эта шляпа?
— Просто мужская шляпа.
— Просто шляпа. Прекрасно. Вот офицер Донован, Мадлен, он художник. Он рисует картины.
— Я знаю, кто такой художник, — сказала она с достоинством.
— Конечно, знаешь. Ну, наконец-то мы сдвинулись с места. Офицер Донован покажет тебе несколько рисунков, и я хочу, чтобы ты сказала ему, какой больше всего похож на того человека — человека, о котором мы говорим, человека, которого ты видела. Понимаешь?
Она кивнула.
— Покажи ей кого-нибудь в шляпе, Донован.
Она посмотрела на эскиз.
— Шляпа была более плоская, — сказала она.
— А как насчет лица?
— Да, этот может быть.
— Прекрасно. Наконец-то мы сдвинулись с места.
— Одну минуту, — сказал Донован. Он быстро сделал набросок и показал ей другой эскиз, очень непохожий на первый. — Как насчет этого?
— Да, этот может быть.
— Может, опять попробуешь показать ей фотографии, — предложил Донован.
Хердер разочарованно покачал головой.
— Я уверен, что она бы узнала его, если бы увидела, — сказал Донован. — Она просто не может его описать.
— Сейчас я уже не уверен, что она вообще видела его.
— С тем другим, футболистом, было то же самое, но она ведь выбрала его фотографию из пачки, которую мы ей дали.
— Да, — он повернулся к женщине. — Теперь, Мадлен, я покажу тебе фотографии, и ты скажешь мне, если увидишь его. Хорошо?
— Конечно, сержант, все, что вы скажете.
Глава XXXII
Когда зазвонил телефон, миссис Картер была уверена, что это Муз. Но на другом конце был незнакомый голос.
— Мистера Картера, пожалуйста.
— Мистера Картера нет дома. Я могу ему что-то передать?
— Это говорят из отделения полиции Барнардс-Кроссинга. Скажите, где мы можем его сейчас найти? Когда вы его ждете?
— Он ушел сразу после обеда. Одну минуту, подъехала машина, может быть, это уже он. Подождите у телефона.
— Это ты, Рафаэл? Тебя к телефону.
Он взял трубку.
— Говорит Картер.
— Отделение полиции Барнардс-Кроссинга. Говорит лейтенант Дженнингс. Подождите, пожалуйста, нашего сержанта Хэнкса. Он сейчас будет у вас.
— Отделение полиции? В чем дело?
— Сержант Хэнкс все объяснит, — лейтенант Дженнингс положил трубку.
Глава XXXIII
— Чертовски забавно, что все ваши родители должны были куда-то уйти сегодня вечером, — сказал шеф Лэниган. — Когда они могут вернуться?
Стью пожал плечами, а Диди сказала:
— Я знаю только, что нашла записку на столе в кухне, где сказано, что они пошли в кино. Они не написали, в какое, но я знаю, что это не «Сисайд» в Барнардс-Кроссинге, потому что тот фильм они уже видели. А потом могли зайти куда-нибудь выпить кофе.
— Ладно, я скажу, чтобы сержант продолжал звонить каждые пятнадцать минут, пока мы не найдем их. А вы, детки, ждите здесь и не вздумайте выкинуть какую-нибудь шутку.
Он оставил их в своем кабинете — ребят на скамье у стены, а Диди в кресле около окна. У нее был несчастный вид, глаза опухли. Шок от известия о смерти парня, которого она видела всего несколько часов назад, и последовавший арест ошарашили ее. Однако она уже взяла себя в руки и угрюмо смотрела через окно на маленькую лужайку перед зданием участка.
Стью осторожно придвинулся поближе к Биллу Джейкобсу и прошептал:
— Ты знаешь, я не думаю, что они отпустят нас до прихода родителей. Может, я должен сказать, что они у моей тети Эдит и что их можно найти там?
— Ты уже сказал им, что не знаешь, где они, — шепнул в ответ Билл.
— Нет, я не говорил этого. Он спросил, знаем ли мы, когда они вернутся, но не спрашивал, где они.
— Я думаю, мы должны стоять на своем. Может, позвонит-позвонит, увидит, что родителей нет, и отпустит?
Стью откинулся на спинку и нервно забарабанил пальцами по подлокотнику. Он снова наклонился вперед.
— Знаешь что, Билл? Пожалуй, мы должны рассказать им про Муза — я имею в виду про то, как мы нашли его.
— Конечно, почему нет? Ты вне подозрений, — с горечью сказал Билл. — Для тебя это не имеет значения.
— Что ты хочешь сказать?
— А то, что тебя вообще не было в доме во время грозы. И он был уже мертв, когда ты увидел его. А в какое положения это ставит меня и Диди?
— Но рано или поздно они это выяснят.
— Как они это выяснят? По тому, что я подслушал из разговора, копы думают, будто он просто умер от передозировки алкоголя.
— Так думают копы. А как только доктор исследует тело, тут же выяснится, что это не единственный вариант. Это он скажет, умер парень от алкоголя или от удушья.
— Я не имею в виду, что мы не должны говорить им, — выкрутился Билл, — но не думаю, что мы должны говорить им что-нибудь без адвоката. И они не могут поставить это нам в вину, — сказал он с уверенностью, которой не испытывал. — Таков закон.
— Может, ты и прав. Жаль, что здесь нет моего старика, — грустно сказал Стью. — Он устроил бы мне скандал за то, что я вляпался в такое, но он бы знал, что делать. Он бы проследил, чтобы копы обращались с нами справедливо. Слушай, как ты думаешь, кто это мог сделать?
Билл покачал головой.
— Я оставил дверь незапертой. Кто угодно мог войти.
— Слушай, а этот, Алан Дженкинс? Вы все говорите, что Муз без конца доставал его. В наше время они не принимают это безропотно.
— И когда он уехал от Диди, у него была куча времени, чтобы вернуться туда.
— Я знаю.
Глава XXXIV
— А что ты мог от него услышать, Дэвид? Мистер Вассерман — старый человек, он практичен. Я знаю, что ты чувствуешь, но иногда приходится идти на компромисс. Ты сам говорил, что парносса необходима для хорошей жизни, что не может быть хорошей жизни, если не зарабатывать на нее. — Она суетилась вокруг него, как квочка: принесла шлепанцы, налила чашку горячего чая, щедро сдобренного виски и лимоном.
— Выпей; это предохранит от простуды.
— Зарабатывать на жизнь — необходимость, — вставил он посреди всей этой суеты. — Зарабатывать на хорошую жизнь — роскошь. Мне не нужна роскошь для хорошей жизни. Я не отвергаю ее, конечно, я не аскет. Но я не нуждаюсь в ней.
— Но куда бы ты ни поехал, за исключением маленьких городков вроде Барнардс-Кроссинга, везде будет больше чем один храм. И это уже будет означать конкуренцию.
Он устало покачал головой.
— Ты не понимаешь, Мириам. По сути дела раввину платит храм или синагога, потому что в Америке это самый удобный способ выплаты вознаграждения за его работу. Но он — не служащий храма. Судье тоже платит государство, но он все же абсолютно свободен и может вынести постановление против действий своего государства. И если здание его суда сгорит дотла, это не означает, что он утрачивает свои обязанности, свою ответственность и свое предназначение. Но здесь, если храм разделится, у нас будет скверная ситуация. Два раввина превратятся лишь в приманку в двух кампаниях за членство. И я не хочу участвовать в этом.
— Но если, как ты говоришь, ты настаиваешь на том, чтобы быть раввином единой общины, то это навсегда означает жизнь в маленьком городе.
— Что ж, я люблю маленькие города. А ты нет?
— Да-а, но маленькие города означают маленькие общины, а маленькие общины означают маленькую оплату. У тебя нет никаких личных амбиций?
Он удивленно посмотрел на нее.
— Конечно, есть. А зачем бы еще я тратил так много времени на постоянное обучение? Но мои амбиции заключаются в том, чтобы быть рабби, а не в чем-то еще. Я не стремлюсь использовать раввинство как трамплин для какой-то другой работы, которая выше оплачивается и более престижна. И не хочу быть важным рабби с большой кафедрой в каком-нибудь престижном храме, где меня никогда нельзя будет найти, потому что я постоянно должен буду где-нибудь выступать. Я бы не хотел этого, и ты, — он потянулся к ней и успокаивающе похлопал ее по руке, — ты этого тоже не хотела бы. Возможно, ты гордилась бы мной некоторое время, увидев мое имя или фотографию в еврейской прессе. Но через некоторое время ты бы привыкла к этому, как и ко всему остальному. Кроме того, я думаю, что в любом случае не способен на это.
— Но ты должен пойти на какой-то компромисс, Дэвид, или…
— Или что?
— Или продолжать переезды.
— Мы провели здесь почти шесть лет. Но ты права, пора бы и остановиться. Джонатану это тоже не на пользу, опять-таки. Я думал об этом. Куда бы я ни поехал, везде будут свои Горфинкли и свои Паффы.
— И что ты намерен делать? — спокойно спросила она.
Он пожал плечами.
— Пожалуй, выберусь в Нью-Йорк на этой неделе, повидаю Хэнслика и скажу ему, что хотел бы другое место. Может быть, в Гилеле…
— Дэвид, и все это из-за того, что ты настолько… — она собиралась сказать «упрям», но смягчила, — настолько убежден в своей правоте?
Он внимательно посмотрел на нее и улыбнулся.
— У католиков есть их исповедники, — сказал он, — а у евреев есть их жены. Пожалуй, наш порядок мне нравится больше.
— Ты увиливаешь, — сказала она, но невольно засмеялась.
— Увиливаю? Не исключено. Ну, хорошо, возможно, частично и из-за того. А тебе что, не понравились эти два дня в Бинкертоне? По правде говоря, дорогая, я устал от борьбы. Я борюсь уже почти шесть лет — с тех пор, как приехал сюда. В принципе я был к этому готов, но надеялся, что смогу сосредоточиться на своей настоящей работе, как только выяснится, кто здесь рабби. Но все это время я должен был бороться только за то, чтобы остаться. И я устал.
— Ты и в Бинкертоне спорил, — заметила она.
— Там было другое. То был вопрос принципа. А тут — не знаю, возможно, это неподходящая конгрегация для меня. Они такие… такие сварливые. — Он засунул руки глубоко в карманы брюк и зашагал по комнате.
— Репутацией покладистых евреи никогда не пользовались, — мягко сказала Мириам. — И почему ты думаешь, что их сыновья и дочери в колледжах будут другими?
— Возможно, и нет, но, может быть, их разногласия будут на другом уровне, чем, скажем, постоянные места в храме. И еще кое-что. Раввин, прежде всего, — ученый, исследователь. Для научной работы необходимо свободное время. А в Гилеле, надеюсь, оно у меня будет…
— Но здесь ты делаешь дело; в колледже ты будешь только читать об этом.
— Что ж, я бы хотел иметь возможность немного почитать.
— Ах ты… — Она взяла себя в руки. — Ты витаешь в облаках, Дэвид. А как насчет ближайшего будущего? Общинный Седер в воскресенье, например. Ты будешь проводить его? Ты думал об этом?
— Нет, не думал. Но теперь, когда ты напомнила, думаю, что пока я не ушел в отставку или пока за нее не проголосовали, официально я все еще рабби, и мне бы следовало провести его. Конечно, Горфинкль с помощью нового ритуального комитета может решить, что руководить будет кантор или, например, Брукс. Меня это не очень волнует. Я и сам чувствовал бы себя неловко, не будучи переизбранным на новый срок. Да и вообще, Седер-то ведь, по сути, вовсе не общинное мероприятие. Это семейный праздник. Мы проводим Седер в храме только потому, что многие люди или слишком ленивы, чтобы провести свой собственный, или просто не могут.
— Но если они действительно решат, что руководить будет кто-то другой, что ты сделаешь?
— Я? Останусь дома.
— Но…
В дверь позвонили.
— Кто это, в такое время? — воскликнул рабби. — Одиннадцать часов.
Мириам поспешила к двери.
— Это мистер Картер. Входите, пожалуйста.
Он вошел в комнату и сел на придвинутый для него стул — сел на край, выпрямившись и не касаясь спинки стула.
— Мой сын мертв, — объявил он.
Рабби с женой были потрясены.
— О, мистер Картер, мне так жаль, — сказала Мириам.
— Как это случилось? — тихо спросил рабби. — Расскажите. Могу ли я что-нибудь сделать?
— Думаю, что можете, — сказал Картер. — Они позвонили мне сегодня вечером. Я уходил, и они позвонили как раз, когда я вернулся домой. Попросили меня подождать, пока приедет какой-то полицейский сержант. Когда он приехал, он захотел, чтобы я поехал с ним в участок. Я все спрашивал его, в чем дело, но он говорил только, что я все узнаю, когда приеду в отделение. Шеф был там, когда я приехал, и он сказал мне. Он вызвал меня, чтобы я опознал тело. — Он коротко, горько засмеялся. — Фотография моего мальчика была в газете практически каждую неделю в прошлом году. Держу пари, что большинство людей в городе знали его лучше, чем председателя городского управления. Он был почетным гостем на ежегодном банкете малой Торговой палаты в конце футбольного сезона. Но им нужен был я, чтобы опознать его.
— Это просто необходимая формальность, — заметил рабби.
— Да, наверное, дело в этом.
— Они сказали вам, как это произошло?
— Они не сказали точно, кроме того, что он напился, и, похоже, выпил ужасно много. Что ж, виски — яд. Это была интоксикация, вот что с ним было. Это латинское слово, и оно означает яд. Вы знаете?
Рабби кивнул.
— Они привезли тело в отделение полиции, — продолжал Картер, — в полицейской санитарной машине. Они открыли дверь, и он был там, накрытый одеялом. Голова была в глубине, так что мне пришлось забраться прямо внутрь. Лэниган вошел после меня, откинул одеяло и спрашивает: «Это ваш сын?». «Да, — говорю, — это мой сын». И тогда они рассказали мне, что нашли его в Хиллсон-Хаус. Он лежал там на кушетке, и они почувствовали, что от него пахнет виски. Лэниган сказал, мол, если пить виски так быстро, что у тела нет возможности избавиться от него, это может быть очень опасно. Так что я полагаю, что так, должно быть, и случилось.
— Вы сказали, что я могу помочь, — сказал рабби. — Вы хотите, чтобы я попытался получить дополнительную информацию о том, как именно это случилось?
Плотник покачал головой.
— Нет, я думаю, что так оно и случилось, как сказал Лэниган. Я знал, что Муз пил, даже когда еще был в средней школе. — Он снова сделал паузу и продолжал. — Лэниган отвез меня домой, чтобы я сообщил об этом миссис Картер. Она приняла это ужасно. Лэниган вызвал доктора, и тот дал ей что-то, чтобы она успокоилась. У меня не хватило духу помешать этому, да простит меня Бог.
— А как она сейчас? — мягко спросила Мириам.
— Сейчас она спит. С ней моя самая старшая девочка. — Он потер глаза костяшками пальцев, словно желая отогнать сон. — Потом я вслед за Лэниганом вернулся в отделение — узнать, когда я смогу забрать тело, чтобы похоронить его подобающим образом. А Лэниган сказал, что им, возможно, придется делать вскрытие, чтобы установить истинную причину смерти.
— Таков закон.
— А я не согласен с этим. Я знаю причину смерти. Лэниган сказал мне. Так зачем его резать?
— Я думаю, они должны убедиться.
— Они должны еще больше убедиться, чем уже убедились? Насколько больше? Тело — храм духа, рабби. Даже если дух ушел, разве вы имеете право уничтожать храм? Я не согласен с этим. Это против моих религиозных убеждений. — Он устремил на рабби пронзительный взгляд. — Я не собираюсь воевать с управлением полиции или с городом, но если меня заставят, я буду. Но я слышал, что вы дружны с Лэниганом, почти с тех пор, как вы приехали. Я и подумал: может, вы могли бы поговорить с ним об этом для меня?
— С точки зрения закона я в этом деле никто. Я хочу сказать, что я не адвокат и не могу действовать как ваш законный представитель. Вы думали о том, чтобы нанять адвоката?
Картер покачал головой.
— Сейчас я хочу не борьбы, рабби. Если дело дойдет до суда, я возьму адвоката. А сейчас я думаю о том, не могли ли бы вы убедить его ради меня и моей жены.
— Хорошо, я поговорю с ним, — сказал рабби. — Но не следует ожидать слишком многого. Лэниган не тот человек, чтобы отказать вам в вашей просьбе без достаточно серьезных на то оснований. И если это так, то не думаю, что я смогу убедить его. Но я поговорю с ним, если хотите.
— Когда? — настойчиво спросил Картер.
— Когда хотите.
— А можно прямо сейчас?
Глава XXXV
— Ты связался с Хиллсонами? — спросил Лэниган.
Лейтенант Дженнингс кивнул.
— Вроде как связался, — уточнил он. — Я говорил с домоправительницей. Настоящая бой-баба. Она сказала, что девочки — девочки, самой молодой семьдесят пять! — короче, они спят, и она не собирается будить их, и мне должно быть стыдно звонить в такое время, и ее не интересует, из полиции я или из Армии Соединенных Штатов.
— Она так сказала? Армия Соединенных Штатов?
— Ее слова, Хью. Она даже один раз бросила трубку, но я перезвонил, — он самодовольно кивнул, — и сказал ей, чтобы она лучше не клала трубку, пока не выслушает меня, иначе я попрошу местную полицию забрать ее и привезти сюда. Она, должно быть, поверила, потому что больше не выступала. Потом спросила, в чем дело, а когда я сказал, что у меня нет времени рассказывать ей все подробности, заявила, что собирается вызвать полицию — свою полицию. Короче, она, наконец, сказала, что дом выставлен на продажу через «Беллмор», компанию по продаже недвижимости в Линне, и что они единственные агенты. К счастью, я вспомнил, что «Беллмор» раньше назывался «Белл и Морхед» и что Джон Морхед живет здесь, в городе. Тогда я позвонил ему, и он сказал, что должен был встретиться с людьми, интересующимися покупкой имения, в половине девятого, и что он дал ключ одному из них, потому что сам не смог приехать на встречу.
— Он сказал, кто они?
— Он не знает никого, кроме человека, которому дал ключ. Во всяком случае, дело он имел только с ним.
— И кто это?
— Мейер Пафф. Он…
— Да, я знаю, владелец кегельбана.
— Точно. У него они есть и в Линне, и в Ривере — повсюду, до самого Глостера.
Глаза у Лэнигана заблестели.
— И как раз на днях Кевин О’Коннор звонил мне, чтобы спросить, что я о нем знаю. Полиция Линна следила за этим его кегельбаном в связи с наркотиками.
— Они, черт побери, следят за каждым местом, где крутятся дети, а дети крутятся в кегельбанах.
— Да, но смотри. Мы находим наркотик у Муза; он мертв. Потом мы узнаем, что есть свидетель, который может поклясться, что в этот самый день Муз заходил к тому парню, Вилкоксу, в Бостоне. А Вилкокса подозревали в торговле наркотиками. И он тоже мертв. А где мы находим Муза? В Хиллсон-Хаус. А вот Мейер Пафф, владелец заведения, в котором — как подозревает полиция Линна — распространяют наркотики. А Муз Картер работает у Паффа. А у Мейера Паффа есть ключ от Хиллсон-Хаус. И более того, он договорился встретиться там сегодня вечером с какими-то людьми.
— И почти все из этого — не более чем простое совпадение.
— Конечно, и это простое совпадение — то, что оба как-то связаны с наркотиками, — заставило меня позвонить в полицию Бостона, откуда мы и узнали, что Муз приходил сегодня к Вилкоксу. Ты уже позвонил Паффу?
Лейтенант Дженнингс укоризненно посмотрел на своего шефа бледно-голубыми слезящимися глазами.
— Я только-только кончил говорить с Джоном Морхедом, Хью.
— Хорошо. Прекрасно. Давай, откопай его.
— Ты хочешь сказать, сегодня вечером? Прямо сейчас?
— Конечно. Пусть попереживает, а потом дай ему сделать заявление. После этого он будет лучше спать.
Дженнингс усмехнулся.
— Усек.
Глава XXXVI
Шеф Лэниган очень удивился, увидев своего посетителя.
— Вы экстрасенс, рабби, или как?
— Что вы хотите сказать?
Широкое красное лицо Лэнигана расплылось в снисходительной улыбке. Он провел рукой по коротким белым волосам и откинулся на спинку вращающегося кресла. Он продолжал улыбаться, но его открытые синие глаза смотрели настороженно.
— Всегда рад видеть вас, вы это знаете, но уверен, что вы бы не свалились в отделение дождливым вечером в понедельник только для того, чтобы поздороваться. Или вы проходили мимо?
— Я по поводу Муза Картера. Его отец…
— Только не говорите, что Картер — член вашей конгрегации, — сказал Лэниган с усмешкой. — Вы знаете, что не имеете никакого отношения к этому делу, рабби.
— Я здесь по его просьбе. Так что какое-то отношение уже имею.
— Какое-то, но еще не достаточное. — Усмешка стала шире.
Рабби никак не мог понять такого отношения Лэнигана, но это его не остановило.
— Вы сказали Картеру, что его сын умер от алкогольного отравления. Он согласен с вашим заключением и теперь хочет только одного: похоронить его как положено. Как я понимаю, вы отказались выдать тело и намекнули ему, что, возможно, распорядитесь о вскрытии. У него строгие принципы в этом вопросе. Это противоречит его религиозным убеждениям.
— Религиозным убеждениям? Да он же, черт побери, псих.
— Не настолько он ненормален, как вы думаете. Он бы не возражал против вскрытия ради выяснения причины смерти, но вы же ее знаете.
— Вот тут вы ошибаетесь, рабби. Я сказал ему, что, скорее всего, это алкогольное отравление, но я не говорил, что мы уверены. Куча вещей еще нуждается в объяснении. Вы знали парня?
Рабби покачал головой.
— Здоровенный малый, за двести фунтов, а действие алкоголя, как вы знаете, очень зависит от размера тела. Чтобы свалить крупного человека нужно побольше алкоголя, чем для маленького. Как это происходит: вы быстро принимаете достаточное количество и, — прежде, чем тело может избавиться от него, — наступает паралич нерва, управляющего дыхательным аппаратом, и вы задыхаетесь. Нет данных, что он выпил так много, чтобы это убило его. Зато есть другое. Пойдемте, я кое-что покажу.
Они прошли в маленькую комнату в стороне от главного входа. Из шкафа с документами Лэниган достал большой конверт из оберточной бумаги и выложил его содержимое на стол. Он развернул пластиковый мешочек из-под табака и передал его рабби.
— Что вы об этом думаете?
Рабби понюхал, взял щепотку зеленоватых хлопьев и осторожно прикоснулся к ним кончиком языка.
— Осторожно, рабби, вы нарушаете закон.
— Так это…
— Трава, травка, Мэри Джейн, марихуана. Мы нашли это у Муза в кармане брюк. А вот его бумажник. — Лэниган взял бумажник за уголок и потряс им перед лицом рабби. — В нем лежат две хрустящие новые двадцатидолларовые бумажки, рабби. Теперь спросите меня, что в них такого интересного.
— Хорошо, что в них такого интересного?
— То, что примерно до сегодняшнего полудня у Муза Картера не было ни пенни. Он собирался в Бостон, и ему пришлось занять у матери пару долларов на автобус.
— Вы хотите сказать, что он торговал наркотиками?
— Возможно. Но действительно интересно во всем этом то, что сегодня днем в Бостоне, в Саут-Энде, был убит человек по имени Вилкокс. Это сообщили по телетайпу. Бостонская бригада по борьбе с наркотиками уже подозревала его какое-то время. Перед самым закрытием своего банка он получил по чеку пятьсот долларов наличными в новеньких двадцатках. Номера в таких банкнотах идут по порядку. Когда мы нашли у Муза травку, я позвонил в полицию Бостона на случай, нет ли тут какой-то связи. И она нашлась, когда мы разобрались с деньгами. У Вилкокса обнаружили четыреста шестьдесят долларов, и две банкноты, найденные у Муза, идут под следующими номерами.
— Вы хотите сказать, что этого Вилкокса убил Муз?
— Нет. Мы знаем, что это не он, потому что Вилкокс был жив после того, как Муза видели уходящим.
— То есть установлено, что Муз ходил туда?
— Две двадцатидолларовые банкноты в большой степени доказывают это, — сухо сказал Лэниган. — Для меня такого доказательства достаточно.
— И все же он мог получить их от кого-то, кто получил их от Вилкокса.
— Мог, но в Бостоне есть свидетель, который видел, как Муз шел к Вилкоксу. Теперь вам должно быть понятно, почему я пока не отдаю тело.
Рабби медленно кивнул.
— Хорошо, — усмехнулся Лэниган. — А теперь спросите меня, как мы нашли Муза.
— Продолжайте. — Рабби почему-то встревожился.
— Нам позвонил человек, живущий по соседству, некто Бегг, который сказал, что видел свет в Хиллсон-Хаус. Мы послали для проверки патрульную машину, и они как раз успели захватить пару молодых ребят, выходящих из дома. Их машина стояла перед домом, и там была еще девушка. Вот они могли бы заинтересовать вас, рабби, потому что один из них — сын президента вашего храма, а двое других, Уильям Джейкобс и Диана Эпштейн, — тоже ваши люди.
Глава XXXVII
— Ты чем-то обеспокоен, милый? — спросила Саманта, потягивая кофе.
— Обеспокоен? Да нет, а что?
— Ты молчишь весь вечер.
— Просто я все время думаю, как Бен разобрался с рабби. Мог бы позвонить и рассказать мне.
— Когда они были у нас, Сара говорила, что они собираются к ее сестре в Линн. Думаю, он просто объяснил ему, в чем заключается новая политика храма, и потребовал, чтобы он ее поддерживал.
— В том-то и дело. Насколько я понимаю, рабби не тот человек, которому можно просто сказать, что он должен делать.
Саманта взглянула на него поверх чашки.
— Ты хочешь сказать, что он упрямый?
— Не-ет, не совсем так. Возможно, он просто точно знает, во что верит. У большинства людей не так, ты же знаешь. И он не тот человек, чтобы делать что-то, что считает неправильным.
— Но если Бен сказал ему…
— Хорошо, предположим, что он сказал ему, а тот отказался?
— Но, Боже правый, разве он не обязан поддерживать Бена? Может, есть какой-то еврейский закон насчет этого? Я имею в виду, он же не священник, которого назначает в округ епископ. Вы ведь можете потребовать, чтобы он ушел?
— Да, можем. Об этом мы и договорились тогда на правлении. Бен должен был все ему разъяснить, и если он прямо отказывается поддержать нас или будет на то похоже — мы решили положиться в этом на проницательность Бена, — в таком случае он должен был предупредить, что на правлении будет выдвинуто предложение об его отставке. — Он провел рукой по волосам. — Но когда я думаю об этом, Сам, я не вполне уверен, что это правильно. Бен напирает на то, что рабби при каждом удобном случае сможет использовать свою кафедру в пользу оппозиции. Это и воскресные службы, и общинный Седер, и праздничные службы на следующей неделе — не говоря уже обо всех его встречах с людьми, как вчера с детьми, из-за чего все это вдруг и завертелось. Если уж мы не можем его нейтрализовать, то лучше уволить прежде, чем он все нам испортит. Это точка зрения Бена, и все мы с ним согласились.
— Ну что ж, вполне разумно.
— Может и так, но я не могу избавиться от ощущения, что Бен преувеличивает. Вряд ли рабби способен на такое, более того… — он заколебался.
— Что?
— Что-то во всем этом не так, мне кажется.
— Что ты хочешь сказать, милый?
— Видишь ли, во всей этой игре я новенький. Членом храма я стал всего несколько лет назад — и потому, что меня убедил Бен Горфинкль, и в надежде, что смогу использовать его для своих целей — например, для фонда социальной активности. Но я же всего-навсего новичок. До этого я заходил в храм не чаще, чем раз в год. И вот я уже среди тех, кто указывает рабби на какие-то рамки, и даже — может быть — увольняет его, а ведь это дело всей его жизни. — Он покачал головой. — Знаешь, я начинаю подозревать, что с моей стороны это черт знает какая наглость.
Глава XXXVIII
— Хорошо, значит, начался дождь, и вы побежали к дому, — сказал рабби, — а дальше?
— Сначала мы пробовали укрыться под карнизом, — сказал Билл Джейкобс, — веранды там нет, — но тут начался гром и молнии, и девочки испугались. Гроза была ужасно близко. Это можно определить по тому, как скоро гром следует за молнией. Надо посчитать…
— Я знаю, как это делается.
— Ну да, в общем, тогда Муз и предложил войти внутрь.
— Это предложил Муз? Вы уверены?
— Это правда, — сказала Диди, — я помню, как кто-то из ребят — кажется, это был Адам Зусман — спросил, как это мы войдем, и Муз очень так высокомерно говорит, что все покажет. Кладет ладони на оконное стекло и вроде как вращает его, и шпингалет ослабляется. Теперь, говорит, нужно засунуть что-нибудь тонкое и жесткое — у него была маленькая пластмассовая линейка — между рамами и отодвинуть его. — Она показала, как это делается.
— И вы что, не боялись, что вас увидят?
— А там рядом только один дом, где живет этот Бегг, который сообщил в полицию, как я понимаю, — сказал Билл, — но Муз был уверен, что он не будет соваться.
— И кто-то из вас забрался внутрь и впустил других…
— Адам Зусман. Он самый маленький и самый легкий. Девочки отказались.
— Вы говорите про заднее окно и черный ход, правильно?
— Правильно.
— Но потом вы пошли в гостиную, которая находится в передней части дома. Почему?
— Мы не хотели включать свет, рабби, а в той комнате было немного света от уличных фонарей с другой стороны дороги. Кроме того, кажется, это была единственная комната, где было много стульев.
— И вы все вместе были в той комнате?
— В основном, да. Немного побродили по дому, когда вошли, а потом кто-то ходил искать туалет, но в основном все оставались в гостиной — все, кроме Муза, конечно.
— Почему «конечно»?
— Потому что он вернулся с бутылкой виски. Так что, наверное, он кое-где пошастал.
— Сколько в ней было? Я имею в виду, бутылка была полная?
— Да, конечно. Он ее распечатал. И сначала предложил пустить ее по кругу, а когда все отказались, выпил ее залпом, так же, как пил пиво там, на пляже — напоказ.
— А потом?
— Потом он начал выпендриваться.
— Что ты хочешь сказать этим, Билл?
— Начал гоняться за девочками, особенно за Бетти Маркс и Диди.
— А вы?
Джейкобс покраснел.
— Он же был пьян в стельку. Я хочу сказать, поймать их он все равно бы не смог, так что нас это просто забавляло. Пару раз мы сказали ему, чтобы он завязывал с этим, но в основном только хохотали. Ты же не волновалась, правда, Диди?
Она покачала головой.
— И тут вдруг он выдохся, покраснел весь и уселся на пол. Он вспотел и выглядел ужасно. Я предложил ему полежать немного. По-моему, он согласился, потому что попытался встать. Но тут же опять сел, я помог ему подняться, и мы с Адамом попробовали отвести его в ту комнату, которую я заметил из холла. Но Муз же здоровенный — я имею в виду, был, — а Адам довольно маленький, и я позвал Дженкинса, цветного парня, втроем мы дотащили его до той комнаты и уложили на кушетку.
— Понятно.
— А когда уложили, он увидел Дженкинса и снова набросился на него — понимаете, обзывал его, говорил, что ему не нужна никакая помощь ни от какого проклятого черномазого — всякое такое. Он размахивал руками и пробовал встать. Кушетка была накрыта большим куском полиэтилена, как и остальная мебель, и я предложил завернуть его в этот кусок. Он почти тут же и отрубился.
— Откуда вы знаете, что он спал? — резко спросил рабби.
— Потому что он храпел.
— Хорошо. Потом вы вернулись в гостиную?
— Ага. А потом пришел Стью.
— И потом вы вернулись, чтобы забрать его.
— Да, — сказал Билл. — Мы вошли в ту комнату, где оставили его. У меня был фонарик… — Он остановился, облизнул губы и вопросительно посмотрел на Стью и Диди.
— Продолжай, — хрипло сказал Стью. — Расскажи все.
Глава XXXIX
— Да, у меня есть ключ от Хиллсон-Хаус, — осторожно сказал Мейер Пафф.
— И вы были там сегодня вечером? — спросил лейтенант Дженнингс.
— Я был там, но не входил в дом. Скажите, что все это значит?
— Случилась небольшая неприятность, и мы просто проводим расследование, — спокойно сказал Дженнингс. — Итак, в какое время вы были там?
— Видите ли, я должен был встретиться там кое с кем в половине девятого. Я немного опоздал, шел сильный дождь, и я подумал, что он может вообще не прийти. Поэтому когда я увидел, что никого нет, я просто поехал дальше.
— И вам не пришло в голову, что он тоже мог опоздать? Удивительно, что вы не подождали немного.
Пафф пожал плечами.
— Вообще-то мы должны были встретиться вчетвером. И вот один звонит и говорит, что не может прийти. Потом звонит другой, и он тоже не может прийти. С самого начала меня это достало — ну, черт знает что! Я был почти уверен, что и третий начал бы отнекиваться, если бы успел меня найти. А тут идет дождь, гром, молнии, я и думаю — какого черта, эти двое меня подвели, а я чем хуже? Как все, так и я. А когда добрался домой и позвонил, выяснилось, что ему показалось, будто он заболевает, и что в такую погоду выходить и не собирался.
— Ну что ж, все ясно, — сказал Дженнингс, закрывая свой блокнот. — И все же я был бы признателен — просто для полной ясности, — если бы вы заехали в отделение и сделали заявление.
— Что вы, собственно, имеете в виду?
— Я имею в виду обычное заявление, которое стенографистка может записать, а вы подпишете.
— Вообще-то…
— Это не займет много времени, ну, полчаса или около того, — заверил его Дженнингс.
— Хорошо, я заеду туда утром…
— Думаю, шеф хотел бы, чтобы вы сделали это сегодня вечером.
— Вы хотите сказать, прямо сейчас?
— Почему нет? Вы одеты. Я довезу вас за десять минут, а потом привезу обратно.
Паффу не хотелось ехать, но он не мог придумать никакой причины для отказа.
— Хорошо. Я только предупрежу жену и надену ботинки. Галстук, надеюсь, не нужен, — чуть шутливо добавил он.
— Прекрасно, — признательно сказал Дженнингс.
Пафф направился к двери, потом остановился.
— Послушайте, а что там случилось? Кто-то забрался в дом или…
— Почему вы так думаете? — быстро спросил Дженнингс.
— Насколько я знаю, прежде такое уже случалось.
Дженнингс кивнул.
— Да, туда снова забрались, но на этот раз дело немного серьезнее. Там нашли мертвого человека. Кстати, это ваш служащий, — спокойно добавил он.
Глава XL
— Мне крайне неприятно говорить это представителю духовенства…
— Я не представитель духовенства.
— …но это ужасная наглость, рабби. Эти детки сообщают мне, что нашли одного из своих друзей убитым, и вы просите, чтобы я отпустил их.
— Почему нет?
Лэниган перечислял по пальцам.
— Во-первых, потому что они виновны во взломе и вторжении…
— Не Стью Горфинкль.
— Во второй раз он там был.
— Дверь была приоткрыта.
— Давайте без уверток, рабби. Есть факт незаконного вторжения. Во-вторых, они находились в одной комнате с человеком, у которого были наркотики.
— Они не знали об этом.
— Закон не делает различия — здесь, в штате Массачусетс, не делает. В-третьих, они находились в том же самом доме, где убили человека. В-четвертых, они могли совершить убийство. И в-пятых, они не сообщили об этом властям. И вы просите, чтобы я освободил их! — Лэниган покраснел от возмущения.
— Да, я прошу вас отпустить их, — серьезно сказал рабби. — Это не бродяги; это приличные дети приличных родителей, жители этого города. Если вам понадобится допросить их, они будут в вашем распоряжении. Они, безусловно, виновны во взломе и незаконном вторжении — они признают это, — хотя из-за грозы их, в общем-то, можно понять. И если вы все же решите привлечь их за это к судебной ответственности, они явятся. Что касается обвинения, связанного с наркотиками, то оно основано на законе, который явно никогда не был предназначен для буквального применения — разве вы арестовали бы всех ехавших в трамвае, если бы, например, один из пассажиров вез наркотики? Нет, этот закон просто дает вам возможность возбудить дело против человека, если у вас есть основания считать, что он связан с наркотиками, даже если они и находились у его спутника. Вы что думаете, ожидая, пока их отвезут домой, они сидели и покуривали травку?
— А убийство?
— То, что они не сообщили об этом немедленно, — их ошибка, но, думаю, понятная. Это подростки, они просто не знали, что делать. Подозрение могло пасть на них, они хотели обсудить это между собой — обсудить, как сообщить, а не сообщать об этом или нет. Если вы и в самом деле думаете, что один из них или все они как-то связаны с убийством, их, опять-таки, всегда можно будет допросить. — Он улыбнулся. — В прошлом вы прислушивались к моим советам, советам, основанным на талмудических законах…
— Опять хотите заморочить мне голову этим пил… — как вы это называете?
— Пилпул? Нет, не им, существует еще принцип мигго.
— Этим вы меня еще не потчевали, кажется. Ну, и с чем это едят? — спросил Лэниган, невольно заинтересовавшись.
— Это можно назвать принципом достаточного правдоподобия. Раввины использовали его при судебных разбирательствах. Он основан на общем психологическом принципе, что человек не станет признаваться в большем преступлении, если у него есть более выгодная возможность признаться в меньшем, ибо «повинную голову меч не сечет».
— Не понял.
— Вот вам классический пример. Женщина брачного возраста, приехавшая издалека в место, где ее не знают, говорит, что, хотя она была замужем, теперь разведена и может снова выйти замуж. Ей можно верить и в отношении брака, и в отношении развода, так как она легко могла сказать, что вообще никогда не была замужем, и ее статус не вызвал бы никаких вопросов.
— И куда это сунуть в нашем деле?
— Как только ребята развернули тело, сразу исчезли признаки того, что было совершено убийство. Они могли вообще промолчать, и вы бы решили, что смерть была естественной. В конце концов, на теле не было никаких видимых следов. Но они не сделали никакой попытки скрыть то, что нашли. Они все рассказали, и я утверждаю, что в соответствии с принципом мигго следует поверить и в их заявление, и в их невиновность.
Лэниган поднялся со стула и заходил по комнате; рабби молча ждал. Наконец он остановился и раздраженно развел руками.
— Чего вы от меня хотите, рабби? Я звонил их родителям — никого из них нет дома. Девочка говорит, что родители ушли в кино, и даже не знает, куда именно. Вы хотите, чтобы я обзвонил все местные кинотеатры и вызвал их по громкоговорителю? Этот парень, Горфинкль, сказал, наконец, что родители у его тетки, но к тому времени, когда я позвонил, они уже уехали. А мистер и миссис Джейкобс — ах да, они в Бостоне, на какой-то вечеринке. Он не знает, у кого именно, — или говорит, что не знает. А вы знаете, что я не могу отпустить их, пока не дождусь их родителей. Они несовершеннолетние.
— Вы только выиграете, если позволите им уйти домой. Если вы дождетесь, пока сюда явятся их родители, здесь будет сумасшедший дом, полный истеричных пап и мам, и еще адвокатов, которых им удастся привести с собой. Будут обвинения и встречные обвинения, и хуже всего то, что завтра утром город будет полон слухами, которые не только нанесут вред множеству невинных людей, но сделают ваше расследование в десять раз сложнее и в десять раз труднее.
Лэниган упрямо покачал головой.
— Если один из этих ребят окажется виновным, а я позволю ему уйти, когда он был у меня здесь, в моем собственном отделении… — Он замолчал, увидев полицейского, который вошел в комнату и пытался привлечь его внимание. — В чем дело, Тони?
— Можно вас на минутку, шеф?
Они отошли в угол комнаты, где полицейский несколько минут что-то горячо говорил шепотом. Шеф задал ему вопрос и получил тихий ответ. Затем со словами: «Спасибо, Тони, ты здорово помог», он вернулся к рабби.
— Хорошо, рабби, вот что я вам скажу: я выпускаю их под вашу ответственность. Вам придется дать мне слово, что они явятся на допрос, когда я этого захочу.
Мгновение рабби колебался. Затем кивнул.
— Очень хорошо, думаю, я могу это сделать.
Глава XLI
Прошло не меньше часа, а согласием еще и не пахло. Время от времени кто-нибудь пытался обратиться к рабби — как правило, за поддержкой, — но он принял решение соблюдать осторожность и не вмешиваться. Когда Лэниган попросил его организовать неофициальную встречу со всеми ребятами, которые были на пикнике, вначале он отказался.
— Я не могу просто попросить их; необходимо согласие родителей.
— Так попросите родителей. Объясните им, что мне нужна только информация. Я не пытаюсь никому ничего пришить. Никаких фокусов. Я только хочу быть уверен, что вижу всю картину.
— Они захотят присутствия адвокатов, — предупредил рабби.
— Нет. Мне ни к чему куча умников, выдвигающих возражения всякий раз, когда я задаю вопрос. Не один, так другой — кто-нибудь да найдется.
— А если все согласятся на одного адвоката?
— Маловероятно. Да даже если каким-то чудом у них это и получится, он будет вдвойне осторожен и вообще ни слова не даст им сказать.
Рабби улыбнулся
— Тогда, пожалуй, встречу вам организовать не удастся.
— Рано или поздно я этого добьюсь, — мрачно сказал Лэниган. — Я запросто могу обвинить во взломе и незаконном вторжении всех до единого. Да, там были смягчающие обстоятельства, и ни один судья, скорее всего, не приговорит их. Но можете мне поверить: поскольку все они являются важными свидетелями убийства, я безо всяких проблем могу посадить их под замок до суда. И когда кончатся каникулы, и они, и их родители начнут нервничать.
С большой неохотой рабби согласился и позвонил мистеру Джейкобсу, чтобы попросить его собрать остальных.
Все собрались в его кабинете, он коротко объяснил ситуацию и полностью предоставил обсуждение им самим. Он сидел за столом, покачиваясь в кресле и наблюдая за спорящими. Горфинкль на этот раз был необычно молчалив; рабби, в свою очередь, избегал смотреть в его сторону.
— Если он собирается обвинить моего ребенка в том, что она замешана в убийстве этого… этого футболиста, ему придется доказать это, — кричала мать Бетти Маркс. — С его стороны это просто наглость — рассчитывать, что я позволю ему допрашивать ее без адвоката.
— Я уверен, что он не подозревает ее, миссис Маркс, — сказал Роджер Эпштейн. — Он просто хочет как можно скорее разобраться с этим делом. Если мы не согласимся, он, конечно, ничего не сделает, но дело не будет раскрыто.
— А уж это его забота, — сказала миссис Маркс.
— Нет, наша тоже. Пока дело не раскрыто и убийца не найден, наши дети остаются под подозрением, и ничего хорошего в этом нет.
— Кроме того, — сказал мистер Шульман, — в дом-то дети действительно влезли. Это факт. Если мы сейчас не пойдем ему навстречу, он может предъявить им обвинение во взломе и незаконном вторжения. У Глэдис экзамены сразу же после каникул, я не позволю ей потерять год только из-за упрямства. Во всяком случае, своей Глэдис я верю.
— Вы хотите сказать, что я не доверяю своей Бетти?
— Уверен, что у вас есть все основания доверять ей, миссис Маркс, — поспешно сказал Эпштейн.
— Думаю, Билл сможет контролировать себя, — сказал мистер Джейкобс. — Я готов согласиться.
— Да, но Билл был одним из тех, кто обнаружил тело, — сказал мистер Зусман. — У него и у твоего Стью, Бен, другое положение.
— Не думаю, что такое уж другое, — сказал Горфинкль. — В конце концов, Стью даже не входил в дом, пока они не вернулись за тем парнем.
— Ты хочешь сказать, что он вне подозрений, и поэтому ты так сговорчив, — отметил мистер Зусман.
— Мы проторчим здесь весь вечер, если и дальше будем пререкаться, — сказал мистер Аронс. — К чему все сводится? Шеф Лэниган хочет неформально допросить наших детей всех вместе. Он, конечно, имеет право допросить их, а у нас есть право потребовать присутствия адвоката. И вы думаете, что если он будет допрашивать их поодиночке, он не получит ответы на любые вопросы, которые захочет задать, даже если там будет адвокат? Не от одного, так от другого, но он их получит. Знаете, друзья, у меня впечатление, что этот Лэниган — честный парень. Я думаю, ему можно верить. Вряд ли он пробует заманить кого-нибудь в ловушку.
— Мне только что пришло в голову, — сказал мистер Зусман. — Если там не будет адвоката, то ничто из сказанного не может использоваться как свидетельство в суде. Так что, может быть, без адвоката для нас даже лучше.
— А это мысль, — сказал Шульман.
— Правильно. Возможно, Лэниган перехитрил самого себя.
— Я все-таки думаю, что один из нас должен присутствовать.
— А как к этому отнесется Лэниган? — сказал Джейкобс. — Лично я не хотел бы отвечать перед всеми вами за советы вашим детям. Предположим, один из них скажет что-то дискредитирующее…
— А если мы найдем кого-нибудь, не связанного с этим делом, кого-то нейтрального, — предложил Эпштейн.
— Например?
— Может быть, — повернулся мистер Аронс, — рабби…
Глава XLII
Лейтенант Дженнингс просмотрел отпечатанные листки и передал их шефу.
— Вот заявление Паффа, Хью. Ничего особенно интересного, хотя мне показалось, что он вроде нервничал.
— Все нервничают, когда им приходится говорить с полицией, — сказал Лэниган. — Это одна из трудностей в работе копа. — Он прочитал из заявления: — «вопрос: Почему вас интересует Хиллсон-Хаус? ответ: Я думаю купить его; то есть мы, группа компаньонов, вопрос: С какой целью? ответ: Это деловое предприятие». — Лэниган поднял глаза. — А он не сказал тебе, что за предприятие?
— Нет, Хью, он неохотно говорил об этом, и я не чувствовал себя вправе выпытывать, тем более, что не видел никакой связи. В конце концов, если это какая-то особая сделка, он, естественно, не хочет, чтобы это выплыло наружу, пока она не заключена.
— Возможно, ты прав. А он сказал, кто входит в эту группу?
— Да, позже он упомянул, по крайней мере, несколько имен. Парень по имени Аронс, он отец одного из ребят, доктор Эдельштейн — ты его знаешь — и Каллен, Ирвинг Каллен. Он должен был встретиться с ними на участке, но никто не явился, поэтому он и уехал.
— Странновато. Если он приехал раньше, то уж, наверное, подождал бы. А если опоздал, то мог бы предположить, что и остальные могут опоздать, и выходит, что в любом случае пробыл бы там несколько минут.
— Это не так, Хью, прочитай заявление. Эдельштейн и Аронс позвонили заранее, предупредили, что не придут. Шел сильный дождь, и он решил, что Каллен тоже не появится. — Он наклонился и указал на абзац в машинописном тексте: «Я притормозил, увидел, что никого нет и в доме темно, и поехал дальше».
— Гм — возможно. И, тем не менее, остается вопрос с его кегельбанами…
— Черт возьми, Хью, кегли сейчас вполне приличное занятие. В некоторых кегельбанах есть маленькие столики, где можно перекусить, а есть и такие, куда женщины могут привести детей и оставить их с няней, пока сами играют в кегли. Как в бассейне или бильярдной. Знаешь бильярд в торговом центре? Я заскочил туда как-то вечером, пока жена была в супермаркете, так вот, одна девочка в мини-юбке растянулась на столе, чтобы ударить в угловую лузу. Трусики наружу, все целиком. Мне пришлось тут же встать и уйти.
— Еще бы!
Дженнингс проигнорировал сарказм шефа.
— Так ты думаешь, что Хиллсон-Хаус им нужен для этого? Они хотят превратить его в модный кегельбан?
— Может быть. И все-таки что-то тут не так.
— Что не так?
— Этот звонок от Кевина О’Коннора… Кевин, конечно, идиот, но он еще и коп. Он не стал бы спрашивать меня про Паффа только для того, чтобы посплетничать. Похоже, что полиция Линна что-то там подозревает в этом его кегельбане. Во всяком случае, это уже совпадение. То, что у него был ключ от Хиллсон-Хаус, — второе. И его поездка туда в тот же вечер — еще одно совпадение. Слишком много совпадений, если подумать.
— Да, но он большая шишка в общине. Что общего у такого, как он, с Музом Картером?
— Во-первых, Муз у него работал.
— И что?
— А то, что есть связь. Предположим — только предположим, — медленно сказал Лэниган, — что Пафф распространял наркотики. В его кегельбаны ходит много детей, ты не забыл? Теперь предположим, только предположим, что, поработав там некоторое время, Муз случайно натыкается на это. Ты знаешь этого парня. В полицию он бы не обратился. Нет, он бы поговорил с Паффом в надежде, что тот на чем-то проколется. Итак, Пафф едет в Хиллсон-Хаус по личному делу. Его друзья не приходят, и он решает еще раз осмотреть усадьбу, раз уж он здесь. Он ходит по комнатам и натыкается на Муза. Может быть, до сих пор малыш тянул из него по мелочам. Пакетик, что мы нашли у него, например. Но Пафф знает, что на этом парень не остановится. Дальше будет хуже. И вдруг ему приходит в голову, что покончить с этим делом можно одним махом, просто подняв угол листа и подоткнув его.
— Ты хочешь сказать, что он мог убить его только для того, чтобы избежать шантажа? Ну, нет, пожалуй, он скорее бы подождал, пока малыш совсем его не достанет.
— А может, уже достал. Это как раз вариант: специально и не стал бы ничего предпринимать, а тут возможность сама идет в руки… Все, что требуется, — подвернуть лист пластика и уйти.
— Прекрасно! Но согласись, Хью, это всего-навсего красивая сказочка. Не хотел бы я кого-нибудь притягивать на таком вот основании.
— А я ни на что не закрываю глаза и отнюдь не сбрасываю со счетов этих ребят. Любой мог это сделать, как парни, так и девицы. Допустим, кто-то из ребят влюблен, или девочка влюблена, а Муз, насколько я понял, выражения не подбирал. К девочкам он приставал, это тоже могло кому-нибудь не понравиться. И когда он отключился…
— Итак, у тебя есть эти восьмеро — нет, семеро, потому что сына Горфинкля там не было. Ты уверен, что не сможешь его притянуть?
Лэниган тоже проигнорировал сарказм.
— Нет, для него не могу ничего придумать. Я бы сказал, что он вне подозрений.
— Тогда даю тебе еще одного. Как насчет старика Картера?
— Картер, отец мальчика?
— Отчим, Хью.
— Правильно. Я забыл об этом. А впрочем, какая разница? Думаю, он усыновил его. Во всяком случае, воспитывал он его как своего собственного. А кто отец мальчика?
Дженнингс усмехнулся.
— Его мама сходила налево. Он не сын Картера, это точно. И старик всегда об этом помнил. Всякий раз, как у парня были неприятности, — а у него пару раз были неприятности с полицией, — он винил в этом его происхождение. Он сказал мне однажды, когда Муза привлекли за хулиганство, что он плод греха и дурного семени, — и в этом причина.
— Брр-р… мразь.
— От них такое можно услышать, от этих религиозных типов… Так вот, в тот вечер Картера не было дома. Когда мы позвонили, он только что вошел.
— Стоило бы узнать, где он был, — признал Лэниган без особого интереса. — Кто-нибудь еще?
— Тот цветной парень, конечно.
— Да, естественно. Он, пожалуй, главный. Но остальных претендентов все же проверить не помешает.
Глава XLIII
Управляющий кегельбана в Линне встретил Паффа словами:
— Не повезло малышу, а?
Пафф с сожалением покачал головой.
— Да, конечно. Молодой красивый парень, спортсмен…
— Представляете, я звонил ему домой, как вы просили, чтобы узнать, почему его нет, и говорил с его мамой. Когда я думаю, что он в это время, вероятно, был мертв… Понимаете, в дрожь бросает — я имею в виду, что спрашивал, когда она ждет его домой…
— Да уж.
— Вы подыскали кого-нибудь на его место, мистер Пафф? Жизнь-то, как говорят, продолжается, поработать пару вечеров сверхурочно, чтобы вас выручить, я не против, но…
— Я найду кого-нибудь тебе на смену — к завтрашнему вечеру наверняка.
— Если не найдете, есть на примете паренек, мой сосед. Толковый малый, знает, как вести себя.
— Да? Чем он сейчас занят?
— Сейчас вообще-то ничем, подыскивает что-нибудь.
— Я подумаю…
— Он мог бы зайти завтра вечером, чтобы вы поговорили с ним.
— Сейчас мне хватает чем заняться.
Клиент нетерпеливо постучал монетой по прилавку, и управляющий наспех обслужил его. Вернувшись, он пошарил в кармане и вытащил клочок бумаги.
— О, совсем забыл. Мистер Каллен связался с вами прошлым вечером? Он позвонил, как только вы уехали. Он говорил, что должен был встретиться с вами, — он заглянул в бумажку, — в Хиллсон-Хаус. Он сказал, что не сможет быть там. О, а это не то место, где…
— Да, я говорил с ним. Слушай, э-э-э… — он отвел его к другому концу прилавка. — В тот вечер я был здорово не в себе. Трудный был день, понимаешь?
— Конечно, мистер Пафф. С каждым бывает.
— Так вот, если кто-нибудь придет сюда с расспросами — вряд ли, конечно, ты же понимаешь, но на всякий случай, — я предпочел бы, чтобы ты не упоминал, что я собирался уволить малыша. У них может создаться неправильное впечатление. — Он засмеялся глубоким рокочущим басом. — Черт побери, я бы не уволил его, парнишку из моего родного города.
— Конечно, мистер Пафф. Меньше знаешь — крепче спишь.
— Я хочу, чтобы ты сотрудничал с ними, ясно? Расскажи им все, но нет никакой нужды докладывать обо всяких мелочах. И если они спросят, когда я уехал отсюда, ты помнишь, что это было где-то после восьми часов…
— Нет-нет, мистер Пафф, это было незадолго до…
— Это было позже, почти в четверть девятого. Этот твой друг — ты думаешь, он справится?
— Да, он толковый парень, мистер Пафф.
— Хорошо, я думаю, ты неплохо разбираешься в людях. Скажи ему, чтобы приходил завтра вечером, я возьму его на работу.
— Отлично, спасибо, мистер Пафф. Предоставьте это мне, я полностью введу его в курс дела. Вы не пожалеете.
Глава XLIV
Шеф Лэниган знал, что молодежь, сидящая в его гостиной, пришла не по своей воле и что его попытки казаться дружелюбным могут только увеличить их недоверие. Поэтому он был предельно искренней.
— Я не стану просить вас чувствовать себя уютно, знаю, что пока дело не распутано, это невозможно. Это было бы чересчур. Но тут есть кофе, какое-то печенье и кока для тех, кто захочет чего-нибудь прохладного. Берите сами.
— Я выпью чашку кофе, — сказал Адам Зусман.
— Я тоже, — сказал Билл Джейкобс.
— Я бы выпила коку, если можно, — сказала Бетти Маркс.
Шеф Лэниган с помощью рабби раздал напитки и печенье. Когда все устроились, он продолжил.
— Все вы участвовали в пикнике на пляже в Тарлоу-Пойнт вечером прошлого понедельника…
— Одну минуту, — сказал Джейкобс. — Здесь не все.
— Ты имеешь в виду Алана Дженкинса?
— Именно.
— Я попросил полицию Бостона связаться с ним. Дженкинс живет в пансионе, и его хозяйка сказала, что он уехал в Нью-Йорк. С полицией Нью-Йорка мы тоже связались и попросили, чтобы они нашли его. А пока, боюсь, нам придется обойтись без него. Итак, через некоторое время к вам присоединился Муз Картер. А немного позже ушел Горфинкль, чтобы отвезти куда-то своих родителей, и когда началась гроза, вы остались без машины. Вы побежали укрыться к Хиллсон-Хаус, взломали окно и спрятались внутри.
— Одну минуту, — сказал Адам Зусман. — Я ни в чем не сознаюсь.
Лэниган вздохнул.
— Давай сразу договоримся об одной вещи, Зусман: я не пытаюсь заманить вас в ловушку. Я могу легко доказать все, что я сказал, и все, что собираюсь сказать. Я просто стараюсь выяснить, что произошло. Я хотел отметить, что все вы виновны во взломе и вторжении. При тех обстоятельствах ваше поведение в какой-то степени оправданно. Была страшная гроза. Более того, похоже, что вы только укрылись там. Нет никаких признаков хулиганства и — насколько нам известно — ничего не украдено. Но взлом и вторжение налицо, и я могу задержать вас за это. — Он многозначительно оглядел их.
— Это шантаж, да? — сказал Джейкобс.
— Да, — любезно ответил Лэниган.
— Ладно, что вы хотите узнать?
— Давайте начнем с начала.
— Итак, — сказал Лэниган — значит, ты, Джейкобс, и Зусман отвели его в кабинет. Одну минуту. — Он отошел к стенному шкафу и вернулся с пакетом. — Я специально купил вот эту полиэтиленовую занавеску. Она примерно того же размера, что накидки от пыли в кабинете Хиллсон-Хауса. — Он развернул ее и разложил на полу. — Я бы хотел, чтобы ты, например, Горфинкль, лег на нее, а Джейкобс покажет нам, как он завернул Муза.
Стью лег на занавеску, все вытянули шеи. Джейкобс покачал головой.
— Накидка была накинута на кушетку наискосок, так что Муз лежал по диагонали. Передвинь свои останки, Стью. Вот так. — Комментируя все действия, он продолжал показывать. — Сначала мы подняли этот угол и накрыли ему ноги. Потом подняли этот угол, плотно обернули вокруг тела и заправили его. Потом подняли противоположный угол, обернули его поверх и заправили его под Муза, вот так.
— Муз был в отключке?
— Нет, он ругался, в основном на Дженкинса.
— А Дженкинс что-нибудь говорил?
— Я помню только, что когда мы кончили заворачивать его и он заснул, Дженкинс сказал — но это было просто в шутку…
— Что он сказал?
— А что-то насчет того, что надо бы положить это на его проклятую голову. — И тут же быстро добавил: — Но он просто шутил.
— Конечно, — непринужденно сказал Лэниган. — Итак, вы вернулись в Хиллсон-Хаус и нашли Муза? Что-нибудь изменилось в том, как он был завернут?
— Да, этот верхний угол вытянули и заткнули туда, где сходятся складки.
— Покажи.
— Эй! — произнес Стью.
— Не волнуйся, Горфинкль, мы тебя так не оставим, — заверил его Лэниган.
Билл Джейкобс поднял верхний угол листа, натянул Стью на голову и подоткнул.
Сью Аронс завизжала.
— Уберите, — в истерике кричала она, — уберите это!
Глава XLV
В компании Перл Джейкобс была веселой, почти легкомысленной, но у себя дома, в кругу семьи, могла быть рассудительной и проницательной. Когда муж закончил описывать встречу родителей в кабинете рабби, она сказала:
— Не понимаю, почему рабби позвонил тебе. Ему, мне кажется, следовало позвонить Горфинклю, он президент.
— Объяснил он это тем, что наш Билл единственный, кто втянут в это дело с начала до конца, но настоящая причина, конечно, в том, что ему, вероятно, было неудобно звонить Бену Горфинклю после того, как тот угрожал выгнать его.
— Держу пари, если бы Бен сейчас выставил свою кандидатуру, его бы не избрали.
— Почему? Потому что он сделал выговор рабби? Ты думаешь, его так любят?
— Нет. То есть я не знаю, насколько его любят. Особых приверженцев у него нет. И некоторые родители, возможно, недовольны им из-за того, что их детям пришлось рассказать обо всем в полиции.
— Ты думаешь?
Она кивнула.
— Я сначала чувствовала то же самое, но потом поняла, что рано или поздно все так или иначе обязательно всплывет. Кроме того, мне не по душе мысль о разгуливающем на свободе убийце и…
— Какое отношение это имеет к Бену Горфинклю? — терпеливо спросил Джейкобс.
Она с удивлением посмотрела на него.
— А такое, что многие девочки считают эту борьбу в конгрегации, которую он затеял, не самой замечательной идеей.
— Да, но девочки не голосуют.
— Но многие из них влияют на тех, кто голосует, а в конгрегациях у реформистов они голосуют, и я думаю, что это правильно. Во всяком случае, многим женщинам, с которыми я говорила, не нравится это: создать конгрегацию, а затем расколоть ее из-за дурацкого вопроса о том, кто где должен сидеть.
— Послушай, Перл, я надеюсь, что ты не говоришь этого на людях. Мы не пытались расколоть конгрегацию. И дело не в местах; это случайное совпадение. У нас есть программа — чертовски хорошая программа, и на каждом шагу Пафф и его группа создают нам препятствия. И раз мы не можем заставить их согласиться, так не лучше ли этим двум точкам зрения, этим двум философиям иметь свои собственные структуры для выполнения того, что они считают важным, чем просто мешать друг другу?
— Разве это не похоже на мужчин? — Она покачала головой. — Вы говорите — мы не хотим раскола; мы только хотим делать вещи, которые порождают раскол. И это успокаивает вашу совесть. Так вот, позволь заметить, что женщины намного ближе к жизни. Вы похожи на малышей, которые думают, что если вещь не назвать, то ее не существует. Но что такое раскол? Это не просто два храма там, где прежде у вас был только один. Это значит, что вы получаете две группы, которые стремятся избегать друг друга. Люди из одного храма стремятся избегать людей из другого. Для мужчин это не имеет значения — вас нет целыми днями, а по вечерам вы, как правило, слишком устали, чтобы что-нибудь делать. Но мы-то здесь целый день. Возьми меня и Марджи Аронс: мы обе в женской общине, и мы дружим. Хорошо, храм разделяется, я в одном храме, а Марджи в другом. Тебе не приходит в голову, что между нами возникнет барьер?
— Но мы с ними все равно не встречаемся.
— Мы не дружим семьями, потому что он тебе не нравится, да и я от него не в восторге. Но с Марджи-то мы встречаемся… А как насчет детей?
— При чем здесь дети?
— А при том, что если храмов будет два, то и праздники будут отдельные, и дети из одного храма не очень-то захотят ходить на праздники в другой. Билл уехал в этот маленький дрянной колледж в Миннесоте, о котором никто никогда не слышал. Он говорит, что во всем городе меньше дюжины еврейских семей и никаких подходящих еврейских девочек. Ты думаешь, меня это не беспокоит? А здесь, по крайней мере, когда он приезжает домой на каникулы, их много. У него есть выбор. И теперь ты хочешь отрезать половину из них. Ты хочешь, чтобы твой сын женился на христианке, не дай Бог?
— Брось, Перл, не усложняй. Ты думаешь, если Билл захочет пригласить девочку, его будет волновать, в какой храм ходят ее родные?
— Нет, но у него будет меньше шансов встретить ее.
— Ладно, храм — не брачная контора.
— В таком янки-городке, как Барнардс-Кроссинг, могло быть еще хуже. Как ты думаешь, почему женская община так старается для храма? Для того чтобы вы, мужчины, могли два или три раза в год ходить туда бормотать ваши молитвы? Мы проводим аукционы и выставки. Мы устраиваем обеды, завтраки и много чего еще. У нас большая образовательная программа. И в конце года мы вручаем храму солидный чек. Все это мы делаем потому, что иногда это весело и вообще дает хоть какое-то занятие. Но Марджи Аронс делает это еще и для того, чтобы увеличить шансы Сью выйти замуж за еврейского мальчика, а я — для того, чтобы гарантировать, что Билл женится на еврейской девочке.
— Рабби…
— Он понимает в этом не больше, чем ты. Он тоже мужчина. Но ребицин, держу пари, понимает.
— Понятно, — со смехом сказал Джейкобс. — И как давно вы, девочки, готовите заговор? Когда вы планируете захватить власть?
— Помилуй Бог, зачем? Мужики хотят руководить? Вперед! Важные шишки! Как дети с игрушкой! Играетесь с ней, а когда она надоедает, выбрасываете ее или ломаете. Вперед, планируйте, назначайте свои комитеты, собирайте голоса, принимайте резолюции, делайте из храма — как это назвал Бен Горфинкль? — «активный голос за социальную реформу в обществе» или, как всегда толкует рабби, «дом учения и молитвы», — но не ломайте его. Потому что он не только для вас; он и для нас — и наших детей.
— Дети, похоже, относятся к этому так же? — язвительно спросил он.
— Не смотри на них свысока. Здравого смысла у них иногда больше, чем у родителей. Наш Билл не дурак. Мы говорили с ним. Он переживает из-за того, что рабби может уехать. Дети любят и уважают его. Только поэтому Билл и дал показания полиции — рабби сказал, что он должен, а Билл ему доверяет.
— Миссис Пафф думает так же, как и ты?
— У нее нет детей, поэтому и относиться к этому так, как я, она не может, думаю. Но сам Пафф… Если бы я занималась его бизнесом, который так сильно зависит от детей, я бы не стала лезть из кожи вон, чтобы восстанавливать их против себя.
Глава XLVI
— Ну, что скажете? — спросил Лэниган.
— Вы, пожалуй, узнали не слишком-то много, а? — заметил рабби. — Хотя кое-что интересное выяснилось. Они, похоже, весьма единодушно сходятся в том, что это Картер первым предложил забраться в Хиллсон-Хаус и заверил, что их не заметят.
Лэниган усмехнулся.
— Ну да, от него ведь ответа не дождешься.
— Оно, конечно, так…
— Меня заинтересовала маленькая шпилька девочки Эпштейн насчет того, что Бетти Маркс немного встречалась с Музом в прошлом году.
— Вы придаете этому какое-то значение? Тогда вы не отреагировали на это.
— Я решил, что выгоднее расспросить об этом попозже.
— В самом деле? А я решил, что это обычное женское коварство, — заметил рабби. — Из всех остальных показаний единственное, что заслуживает внимания, на мой взгляд, это вопрос о передней двери.
— А именно?
— Билл Джейкобс сказал, что он установил защелку на передней двери так, чтобы они могли вернуться и забрать Муза.
— Ах, да, — сказал Лэниган. — Ну и что из этого?
— Это означает, что после их ухода войти туда мог любой.
— Если он знал об этом, — быстро прервал его Лэниган. — Но это не имело никакого значения для человека с ключом.
— Например?
— Например, для человека по имени Пафф. Знаете его? Он член вашей конгрегации.
— Мейер Пафф?
— Именно. У него был ключ от дома, и он был неподалеку в тот вечер приблизительно в то самое время.
Рабби Смолл ответил не сразу.
— Послушайте, — сказал он, наконец, — очевидно, в этом деле есть много такого, о чем я не знаю. И у вас нет никаких оснований посвящать меня. Это дело полиции. Но если это касается членов моей конгрегации, и вы хотите, чтобы я сотрудничал…
— Не горячитесь, рабби. Я собирался выложить это все перед вами. — Он подошел к стенному шкафу и вернулся с портфелем. — Вот копия заявления Паффа.
Рабби прочитал его, а затем поднял глаза и спокойно сказал:
— Выглядит достаточно честным.
— О, да, — поспешно сказал Лэниган. — И все же интересно уже то, что он был там. Прежде всего, он знал парня. Муз работал у него.
— Мистер Пафф — активный член городской группы поддержки и знает всех спортсменов из средней школы. Безусловно, он должен был знать и Муза Картера.
— Это только маленькая деталь. Есть другая. Кегельбан в Линне был под наблюдением полиции. Они подозревают, что это пункт распространения наркотиков. Кегельбан принадлежит Паффу, и именно там Муз обычно работал по вечерам как помощник управляющего.
— Вы подозреваете, что Муз распространял наркотики, а Пафф его за это убил?
— Вероятность существует, — рассудительно сказал Лэниган.
— Она существует почти везде, — сказал рабби, пожимая плечами. — Но я не верю, что насчет мистера Паффа — вы это серьезно…
— А если нет, то почему?
— Начнем с того, что вы бы не стали тратить столько усилий, чтобы собрать всю эту компанию и допрашивать ее весь вечер.
— Это уж точно, — усмехнулся Лэниган. — Но в отличие от вас, рабби, я считаю, что встреча с ребятами на многое проливает свет.
— Да ну?
— Вообще-то говоря, она нужна была мне для подтверждения того, что я подозревал все время, и почти доказала это. Вырисовывается четкая схема — и все безошибочно указывает на Дженкинса.
— О?
— Да, все началось, когда Муз присоединился к компании. Он начал высмеивать Дженкинса, и, по словам ребят, цветного парня это, безусловно, бесило. Они все согласны с этим.
— Но Дженкинс никак не реагировал. Мы ни от кого не слышали, чтобы он что-нибудь говорил.
— Да, и потом тоже не заводился. Лучше бы уж что-то делал. Такие вещи накапливаются. Пока Муза не начали заворачивать в накидку, он молчал. А тут вдруг заявляет во всеуслышанье, что его надо бы накрыть с головой. Джейкобс говорит, что это была шутка, но вы же знаете — в каждой шутке — как иногда выплывает — доля шутки.
— Продолжайте.
— Дальше: Джейкобс оставляет дверь незапертой. И кто об этом знает? О, только Джейкобс. Вы помните, я расспрашивал его об этом довольно тщательно. Он выходил последним и заблокировал замок. Позже, когда они были у Эпштейнов и собирались вернуться за Музом, Горфинкль спросил, как они попадут туда, и тогда Джейкобс сказал им, что он заблокировал замок так, чтобы тот не защелкнулся. Это обычный замок для входной двери с двумя кнопками. Одна отпускает защелку, а вторая блокирует ее. И заметьте, именно тогда Дженкинс сказал, что ему надо немедленно отправляться домой, потому что завтра рано утром он едет в Нью-Йорк.
— Вы думаете, что по дороге в Бостон он заехал в Хиллсон-Хаус?
— Чертовски уверен в этом. У него была возможность — я имею в виду его мотоцикл. И у него был мотив. Он единственный, о ком мы точно знаем, что у него был мотив.
— Потому что молодой Картер издевался над ним? А вам не приходит в голову, что Дженкинс мог привыкнуть к такому обращению? Что этот эпизод мог быть просто очередным — в длинном ряду ему подобных, от которых он страдал всю жизнь?
— Вы хотите сказать, что к этому можно привыкнуть. Конечно, но такое, бывает, накапливается, и этот случай мог стать последней каплей. Можно утверждать и то, и другое. Я-то думал, вас обрадует такой поворот событий.
— Обрадует? Обрадует то, что юноша, который был у меня дома, хоть и недолго, подозревается в убийстве?
— Бросьте, рабби. Давайте будем реалистами. Муз Картер убит, и это означает, что кто-то убил его. А кто под подозрением? До настоящего времени это были дети из вашей конгрегации и Мейер Пафф, еще один ваш человек. Я думал, вас обрадует, что это не они и не кто-то, с кем вы связаны, а какой-то приезжий, посторонний.
— Ах, посторонний. Благодарим тебя, Боже, за постороннего!
Рабби поднялся со стула и стал расхаживать взад и вперед по комнате.
— Мы, евреи, празднуем Песах в течение двух дней. Во многих отношениях это самый необыкновенный праздник, и мы празднуем его необыкновенным способом. Мы начинаем с того, что очищаем дом от всей пищи и даже от всей посуды, которой пользуемся в течение года, и в течение праздничной недели мы не только покупаем особую пищу, но и готовим ее в особой посуде и едим ее на особых тарелках особыми приборами, которыми пользуются только на этой неделе. В канун праздника мы проводим трапезу, которая повторяется на следующий вечер. И в каждом случае трапезу предваряет сложный ритуал, в котором самый младший из присутствующих спрашивает о значении трапезы, необычной пищи, которую мы едим, и необычном способе еды. И тогда мы, остальные участники трапезы, объясняем, как мы были рабами в Египте, и как нас угнетали, и как Бог откликнулся на наши страдания и вывел нас мощной рукой из рабства и гнета.
— Да, рабби, я знаю происхождение этого праздника. Но в чем суть?
— Суть в том, что Песах не просто праздник благодарения или радости. У нас несколько таких праздников, но этот — единственный, у которого есть тщательно разработанный особый ритуал и который содержит особый набор правил, Агаду, чтобы мы выполняли его исключительно точно. Почему?
— Расскажите.
— Чтобы запечатлеть его уроки в нашем сознании, — сказал рабби. — Это мнемоника, нитка на пальце, способ вложить в наше сознание и память то, о чем люди предпочли бы не думать или легко могут забыть.
— Один раз в год папа римский моет и целует ноги нищим, — сказал Лэниган.
— Именно. И он, без сомнения, извлекает пользу из урока смирения, который это дает ему, — слегка наставительно сказал рабби. И тут же добавил: — Жаль, что этого не требуют от всех представителей вашей веры.
Лэниган рассмеялся.
— Хорошо, рабби. И чему же учит ваш праздник?
— Это связано с особой заповедью, основной в нашем законе: «И когда будет жить у тебя пришелец в стране вашей, не притесняй его… как житель страны среди вас пусть будет у вас пришелец; ибо пришельцами были вы в стране египетской».
— Вы имеете в виду, что я несправедлив к Дженкинсу, потому что он цветной и не из нашего города?
— Вы арестовали его, и он признался?
— Мы еще не нашли его, рабби, но найдем. Мотоцикл — не автомобиль. Его можно закатить по тротуару в прихожую или даже в подвал, и попробуй найди. Но я предупредил полицию Нью-Йорка, и они найдут его.
— Но у вас нет никаких бесспорных улик — только то, что вы считаете мотивом и возможностью.
— О, у нас есть хорошая улика. Мы нашли ее в самый первый вечер, почему я и отпустил домой вашу молодежь. Как только они рассказали нам про Муза и мы поняли, что это убийство, я послал своих людей порыскать вокруг Хиллсон-Хаус и посмотреть, что там можно найти. И мы нашли. Перед домом есть высокая и широкая живая изгородь, и позади нее, на мягкой земле, в месте, не видном с улицы, мы нашли четкий отпечаток мотоциклетной шины.
Глава XLVII
Плотник робко вошел, неуклюже снял старомодную, широкополую войлочную шляпу и в ответ на приглашение рабби сел на край стула.
— Жена решила, что я должен переодеться, — сказал он, объясняя, почему на нем черный костюм, начищенные до блеска черные ботинки, белая рубашка с неудобным, тесным воротником, широкий кричащий галстук. — Из уважения, понимаете.
Рабби кивнул — не потому, что понял, но как знак, чтобы тот продолжал.
— Лэниган позвонил мне сегодня утром и сказал, чтобы я пришел подготовить похороны. Он сказал, они решили, что им не понадобится вскрытие.
— Понимаю.
— И когда я все подготовил, я решил, что зайду поблагодарить вас.
— Я ничего не сделал, мистер Картер. Ничего.
— А я считаю, что если бы вы не пошли вечером в понедельник…
— Нет, мистер Картер, — твердо сказал рабби, — это действительно не имело никакого отношения к их решению. Шеф Лэниган вполне справедливо отказался выдать тело тогда, потому что у него были сомнения относительно причины смерти. Справедливые, как оказалось. Когда выяснилось, что смерть наступила от удушья, эксперт сказал ему, что вскрытие не нужно, что оно им ничего не даст. Насколько я понимаю, острое алкогольное отравление приводит к параличу нерва, который управляет дыханием, так что действие на органы то же самое, что при удушье.
— Я все же думаю, что если бы вы не пошли туда, они все равно могли бы это проделать. Доктора делали так и просто для практики, это известно, — неодобрительно добавил он.
— Вы организовали похороны? — спросил рабби, чтобы сменить тему.
Картер кивнул.
— Это будет в тесном кругу — только семья. Мы не хотим толпы, только семья и мой друг, проповедник, с которым я работал во время кампании против фторирования. Он скажет несколько слов.
— Думаю, так лучше всего.
— Вы знаете, рабби, я мог бы спасти мальчика. — Картер сжал кулаки. — Я не сказал бы этого своей жене, но вам я говорю.
— Что вы имеете в виду?
— Я не услышал, рабби. Бог говорил со мной, а я не услышал.
Рабби с интересом взглянул на него.
— О?
— Я вышел поискать его в тот вечер. Я искал в центре города в барах, думал, что именно там его можно найти. А его там не оказалось, я просто ездил вокруг, по разным улицам, вроде как бесцельно. Я проезжал Тарлоу-Пойнт. А зачем бы я поехал туда, если бы Бог не указал мне? Я даже притормозил, когда проезжал Хиллсон-Хаус. Так направлял Господь мои шаги или нет? — спросил он. — Но я сердился на мальчика, и это заглушало глас Божий. Если бы я был восприимчив, Он говорил бы со мной и сказал бы, где искать. Но мой разум был блокирован, рабби, и голос не мог проникнуть в него.
— Вы не должны так думать, мистер Картер.
— Мне стало легче от того, что я сбросил с себя эту тяжесть, рабби. Я должен был рассказать это кому-то, и просто не мог сказать об этом жене. О, я знаю, что пути Господни неисповедимы, и это часть какого-то великого плана, выходящего за пределы моего понимания, или же это наказание мне или, может, даже моей жене за грехи, совершенные в прошлом. Но я хочу, чтобы вы знали, что моя собственная вера не дрогнула — ни на мгновение. И если мой гнев заглушил голос, это тоже, возможно, было частью божественного плана. А может, это должно было научить меня, что мой гнев греховен.
— Вы намекаете, что Господь мог взять жизнь вашего сына только для того, чтобы научить вас сдерживать свой гнев? — резко спросил рабби.
— Я не знаю, но долг Его слуг пытаться понять Его. А иначе зачем мысли приходят в мою голову?
— Не все мысли, которые приходят в голову человеку, мистер Картер, вложены туда Богом. И не все, что происходит вокруг, — Его дела. Если вы видите Его руку во всем, что происходит, через некоторое время вы начнете обвинять Его во всех отталкивающих и страшных событиях. Некоторые вещи — результаты наших собственных ошибок, а некоторые происходят просто случайно.
Картер поднялся.
— Мне не нравятся ваши слова, рабби. Мне кажется, что это говорит о недостатке веры, а я не ожидал этого от вас. Или вы говорите это только для того, чтобы мне стало легче. — Он пошел к двери. Было очевидно, что он уязвлен. — Вот увидите, рабби, — сказал он и похлопал его по руке, — если у вас есть вера, в конце концов все станет на свои места. — Лицо его вдруг прояснилось и даже смягчилось в улыбке. — Кстати, они поймали этого цветного парня, который отобрал жизнь у моего мальчика. Они привели его, когда я был в отделении.
Картер ушел, и рабби повернулся к Мириам.
— Где мое пальто? Я еду в участок.
Глава XLVIII
Бен Горфинкль позвонил в первой половине дня, чтобы сказать, что придет домой на ленч.
— Я хочу поговорить со Стью. Он еще не ушел?
— Он еще в постели, Бен.
— В одиннадцать часов? Может хотя бы к полудню он снизойдет до разговора со мной?
— Вчера ты допоздна расспрашивал его про встречу.
— Я лег не раньше, и встал, тем не менее, вовремя.
— Он же еще ребенок, им нужно больше спать. Что-нибудь случилось?
— Просто я хочу поговорить с ним. Постарайся, чтобы он был дома, когда я приду.
Он заканчивал свой спартанский ленч, состоявший из сэндвича и кофе, когда, зевая и потягиваясь, появился Стью в пижаме и халате.
— Что случилось, папа?
— Если бы ты встал вовремя, ты мог бы услышать новости по радио. Арестовали того парня, Дженкинса.
— Ого! И что?
— Я говорил с одним из наших заводских адвокатов. Он считает, что с нашей стороны было ошибкой позволить Лэнигану допрашивать вас без присутствия адвоката.
— Естественно, он же адвокат. Что он еще сказал?
Старший Горфинкль отметил в уме проницательность сына.
— Во всяком случае, он согласен со мной, что твое положение отличается от других, и если ты правильно разыграешь карты, ты вообще не будешь замешан. — Заметив, что сын собирается возразить, он решительно продолжил. — Нет, послушай меня, хорошо? Есть только три вещи, три препятствия, которые нам надо преодолеть. Прежде всего, вопрос проведения пикника на Тарлоу-Пойнт. Если это частный пляж, то вы нарушили владение. Насколько я могу понять, ты не имел никакого отношения к решению устроить там пикник, но, с другой стороны, ты вел машину. Далее, насколько я понимаю, даже городской совет не уверен, частный это пляж или нет. По моему мнению, для тебя совершенно безопасно признать, что ты знал, что вы идете на Пойнт. Просто ты думал, что пляж общественный, потому что там и раньше проводили пикники.
— Да, конечно…
— Послушай, пожалуйста! Хорошо. Ты уехал перед грозой и не имел никакого отношения к взлому Хиллсон-Хаус. Правильно? И когда ты вернулся — я имею в виду, в первый раз, — ты не входил, так ведь?
Стью покачал головой, не понимая, к чему отец клонит.
— Ты услышал их голоса внутри, и когда ты крикнул, что вернулся, они открыли дверь. Правильно?
— Я еще и стучал…
— Но ты услышал их внутри. Именно поэтому ты стучал. Чтобы дать им знать, что ты вернулся. А сам ты не входил. Правильно, не входил?
— Да, они сами вышли.
— Хорошо. Пока ты вне подозрений. Ты был точно в таком положении, как водитель автобуса или шофер такси, который отвозит компанию людей на вечеринку и потом возвращается за ними. Теперь, когда вы вернулись, чтобы забрать этого мальчика, Муза, — вот тут ты сделал ошибку, потому что у тебя не было никакого права входить в этот дом. Одна вещь, конечно, говорит в твою пользу — дверь была открыта, так что это не взлом и не вторжение. И все это время ты думал, что там, в доме, лежит твой больной друг — возможно, серьезно больной…
— Ты имеешь в виду Муза? Он вовсе не был мне другом.
— Он твой одноклассник? Ты никогда не дрался с ним? Значит так: он был твоим другом. И он был болен…
— Он был пьян.
— Ты этого не знал. Ты знал только, что тебе сказали, будто он потерял сознание. Вроде как упал в обморок. Ты был на машине, и, естественно, не раздумывая решил помочь ему. — Он пристально посмотрел на сына, словно провоцируя его возразить против такого объяснения. Но Стью молчал, и он продолжил, наклонившись вперед:
— Пожалуйста, это важно, и я хочу, чтобы ты обратил на это особое внимание. Когда ты увидел Муза, ты понятия не имел, что с ним. Ты не врач. Все, что ты знаешь, — он лежал без движения. Ты собирался быстро уйти оттуда за помощью, позвонить в полицию или врачу. Тебе и в голову не приходило, что он мог быть убит. Ты знаешь только, что он выглядел неестественно…
— Но это выглядело, как убийство, потому что кто-то ведь натянул ему этот пластик на голову.
— Ты же не видел, как они завернули его вначале?
— Да, но…
— Послушай, я пытаюсь тебе объяснить, что ты ни в чем не замешан. Ты не выбирал место; ты не забирался в дом; ты вернулся забрать Муза только потому, что он был болен, а у тебя была машина; и, наконец, когда ты увидел, что он очень болен, твоей единственной мыслью было оказать ему помощь.
— Но Диди и Билл сказали…
— Ты вряд ли запомнил, что они говорили. Ты только помнишь, что был какой-то разговор про Муза и про то, как они положили его на кровать. А деталей ты просто не помнишь. Тебя там не было; ты ничего не видел и ничего не знаешь.
— Да, я просто очень осторожный человек.
— Вот именно, — нетерпеливо сказал отец.
Стью встал.
— А потом, когда все закончится, что я буду делать? Найду себе новых друзей или перееду в другой город? А с самим собой как мне быть? Я просто тупой щенок, а ты — находчивый, классный руководитель. Только ты, пожалуй, слишком находчив. Никто, и уж тем более Лэниган, не поверит во все эти мои благородные намерения. Я на все сто уверен, что если я ни в чем не замешан, то Лэниган и не собирается втягивать меня. И еще: я ни за что не поверю, что ты беспокоишься только обо мне. — Он направился к двери и уже с порога сказал: — Ты и твоя репутация — вот о чем ты беспокоишься.
Вошла миссис Горфинкль.
— А где Стью? Вы закончили?
— Да, мы закончили, — сквозь зубы ответил муж.
— В чем дело? Опять поссорились?
— Для кого ты еще работаешь, пашешь, надрываешься, если не для детей? А что получаешь в ответ? Для них ты — лицемер, думающий только о себе.
Глава XLIX
Дженкинс с любопытством переводил взгляд с рабби на Лэнигана.
— Этот парень грузил меня весь вечер, а вы удивляетесь, почему я не хотел помочь доставить его домой, чтобы папочка не узнал, что он напился? Мне больше хотелось не валандаться с ним, а посмотреть, как старик спускает с него шкуру. Я не считаю, что надо подставлять вторую щеку, как учат религиозные типы вроде вас, рабби.
— Мы такому не учим. Это христианский принцип, а мы считаем, что это потворствует злу.
— Ого, интересно.
— И ты решил вернуться туда, где вы его оставили, — подсказал Лэниган.
Негр пожал плечами.
— И не думал, если хотите знать. Я просто хотел свалить. Они же дети — неплохие, в основном, — но дети.
— И решили вернуться домой, — предположил рабби.
— Ну да. Вообще-то вечер был страшно нудный. Дети в этом не виноваты, что они могли сделать? А оставаться было уже невмоготу. Так что я забрал у Диди свой мотоцикл и смылся. Только отъехал, как опять начался дождь. Тут я и вспомнил про Хиллсон-Хаус, где дверь открыта…
— Что было ближе, Хиллсон-Хаус или Диди? — спросил рабби.
Дженкинс пожал плечами.
— Какая разница? Хиллсон-Хаус по дороге, а к Диди надо было возвращаться.
— Ты, конечно, и думать не думал про Муза, который лежит там крепко связанный и беспомощный? — язвительно спросил Лэниган.
— He-а, пока не вошел, — весело сказал Дженкинс.
— Но перед этим осторожненько перевел мотоцикл через тротуар и спрятал за кустами.
— А как же еще, прав-то у меня не было никаких, чтобы там быть, хоть бы все двери были открыты. — Он перевел взгляд с одного на другого, чтобы убедиться, что они поняли. — Поэтому я и запер дверь, когда вошел.
— Зачем?
— Ребята говорили, что полицейский патруль иногда проверяет, заперта ли дверь. Потом я выглянул и увидел проезжающую машину. Напротив дома она притормозила и еле ползла, будто водитель пытался что-то рассмотреть. Но так и не остановилась.
— Пафф, — сказал Лэниган в сторону рабби. Рабби кивнул.
— Я слегка испугался, — продолжал Дженкинс, — и задернул шторы. У меня был фонарик, но я заметил, что сквозь шторы виден свет уличного фонаря, значит, с улицы свет в доме тоже могут увидеть. Поэтому я распустил плотные бархатные портьеры и уже в полной темноте спокойно включил фонарик.
— Ты входил в маленькую комнату посмотреть на Муза? С ним было все в порядке?
— А чего там смотреть, оттуда было слышно, как он храпит. Я выглянул из-за портьер и увидел, что машина теперь уже стоит прямо под фонарем, а парень за рулем сидит, будто ему время некуда девать.
— Та же самая? — спросил Лэниган.
Дженкинс покачал головой.
— Не знаю. В первый раз я видел ее мельком — только фары, но в тот момент я не думал, она это или не она, потому что меня беспокоила третья.
— Третья машина?
— Конечно. Я вижу одну машину: она медленно проезжает. Я вижу вторую: она останавливается и ждет. Дальше все понятно. Третий не прикуривает — успевают прицелиться. Когда приедет третья машина, парень влип. — Он посмотрел на допрашивающих, удовлетворенный своей безупречной логикой, которая обязательно до них дойдет.
— И за все это время ты ни разу не подумал про Муза? — в голосе Лэнигана явно чувствовалось недоверие.
— Конечно, я думал о нем, — сказал Дженкинс. — Я думал о том, что он лежит там, как вы говорите, славный и беспомощный.
— Ну-ну. — Лэниган пододвинулся вместе со стулом.
— И я подумал, что должен как-нибудь рассчитаться с ним. Устроить какую-нибудь глупую детскую штуку, ну хоть что-нибудь, чтобы полегчало. Будь у меня краски, я бы вымазал его физиономию черным. Я даже развеселился, представляя, как дети найдут его в таком виде. Неплохо было бы подстричь его как-нибудь прикольно, выстричь, например, мои инициалы в его патлах или, может, просто украсть ботинки и спрятать. Но тогда пришлось бы его разворачивать, а мне не хотелось.
— Естественно, — сухо сказал Лэниган.
— Вы думаете, я боялся его?
— Такое мне и в голову не приходило.
Дженкинс покачал головой.
— Драться по-честному я бы не стал. Зачем? Он был тяжелее меня фунтов на пятьдесят. Если бы мы были одни там, на пляже, когда он начал выступать, я бы хоть камнем в него запустил. Но при детях я не мог. Они бы не позволили.
— А тут их не было.
— Вот-вот. И я осатанел. Возможность была великолепная, а сделать ничего нельзя. А потом вспомнил про портсигар и решил забрать его, чтобы не оказаться совсем уж в дураках.
— Ты взял его портсигар?
— Да, я заметил его еще вечером. С одной стороны сигареты, а с другой косячки.
— Косячки? — переспросил рабби.
— Да, наркотики.
— Он курил их вечером? — спросил Лэниган.
— Да нет, он курил обычные, но те, другие, я узнал. Утром я собирался в Нью-Йорк и решил, что мне они пригодятся. Портсигар был у него в кармане рубашки, я вытащил его, и все. Потом вернулся в гостиную, выглянул за шторы и увидел, что машина уехала. Можете не сомневаться, ждать я не стал и тут же смылся.
— Дверь для Горфинкля и Джейкобса вы, конечно, оставили открытой, — сказал рабби.
Дженкинс улыбнулся и покачал головой.
— Конечно, нет. Я оставил ее запертой. Они же собирались спасать этого Муза. Зачем было облегчать им задачу?
Глава L
Молодой человек был возмущен.
— Я вижу, как они вводят задержанного и хочу сделать снимок, а этот лейтенант Дженнингс не разрешает. Тогда я прошу шефа сделать заявление, а он говорит: «Пока никаких заявлений». Ладно, думаю, покручусь здесь немного и поговорю с ним, когда все поутихнет, может, что и получится. И получаю: входит какой-то парень — раввин местной синагоги, как сказал один из копов, — и топает прямиком в кабинет Лэнигана. Тут же Лэниган выходит с ним, и вдвоем они идут в камеру, чтобы допросить задержанного. Я было сунулся туда же, а Лэниган захлопывает дверь у меня перед носом. Если раввин может присутствовать при допросе задержанного, — а тот цветной уж точно не еврей, и он не может быть его духовником, — так почему не может репортер?
— Хорошо, разберемся. — Харви Кантер отпустил его и поднял трубку.
— Привет, это ты, Хью? Харви Кантер. Как дела?
— Хорошо, а у вас?
— Как нельзя лучше. А как супруга?
— Нормально.
— Что слышно от мальчика?
— Переворачивает вверх тормашками Западное побережье, судя по его последнему письму.
— Прекрасно. Слушай, что у вас в воскресенье вечером?
— Насколько я знаю, ничего.
— А Эдит затевает обычный обед из даров моря — суп из моллюсков, омары и прочее. Может, вы с Глэдис зайдете?
— Неплохо бы, но разве у тебя не праздник?
Харви усмехнулся.
— Подумать только, мой свояк — президент синагоги, а мне приходится звонить католику, чтобы он напомнил мне про Седер. Я так давно его не проводил, что и не вспомню, с чего начинать. Но я покопаюсь и найду для тебя кипу, если тебе от этого будет легче. Так договорились?
— Да, конечно, я только уточню у Глэдис…
— Эдит позвонит ей. О, кстати, что там у тебя произошло с моим парнем? Он говорит, что ты его просто игнорировал.
— Он назойлив, Харви. Поучил бы ты его правилам приличия, что ли.
— Мы их нынче ничему не учим — усмехнулся Кантер. — Они приходят из школы журналистики и уже все знают. Он хороший мальчик, но он смотрит «Первую полосу» по вечерам и воображает себя Хилди Джонсоном. Он сказал, что вы задержали Дженкинса. Он заговорил?
— Да, и хорошо заговорил…
Кантер взял карандаш и блокнот.
Глава LI
— Он лжет. Ни за что не поверю, будто он поехал в Хиллсон-Хаус только чтобы укрыться от дождя, а потом спер у Муза портсигар, решил, что полностью с ним рассчитался, и сидел себе в гостиной, посматривая время от времени, не уехала ли машина. Зачем тогда вся эта история с запиранием дверей?
— Потому что полиция…
— Хорошо, а зачем задергивать шторы и опускать портьеры? Нет, рабби, я иначе вижу эти его двадцать минут. Он вошел в дом, как и говорит, пусть так, но все эти штуки с портьерами и всем прочим он проделал потому, что собирался провести там какое-то время. Войдя в комнату, где лежал Муз, он вытащил портсигар, положил ему на голову лист пластика — как все время и собирался, — и вернулся в гостиную. Ждать.
— Кого?
— Не кого, рабби, а чего: пока Муз не перестанет дышать. Все налицо — мотив, возможность, средства. Более того, когда они его заворачивали, он заметил, что неплохо бы накрыть ему голову, — можно рассматривать это как преднамеренность. Чертовски странно, что помочь Музу добраться домой он напрочь отказался, а на кровать его вместе со всеми укладывал. Почему он не сказал тогда: «Да черт с ним, пусть лежит на полу»? Ребят мы об этом не спрашивали, но держу пари, когда мы начнем разбираться, то выясним, что это Дженкинс первым предложил спеленать его.
— Не сомневаюсь. И Джейкобс, конечно же, поверит в это — а вам и в голову не придет, что это нечестно.
— Легко поверить в то, во что поверить хочется? Согласен, это возможно. Обычная человеческая слабость. Но палка-то эта о двух концах. Точно так же неправильно отказываться от доказательства только потому, что оно указывает на того, кому вы сочувствуете. Ладно, все это пустяки. Вы не указали на ошибки в моих рассуждениях.
— Ошибки? Горфинкль и Джейкобс нашли дверь незапертой и приоткрытой. А Дженкинс сказал, что поставил защелку так, чтобы замок захлопнулся. И скорее всего он не врет — это было бы бессмысленно.
— Иногда замок не захлопывается. Ветер мог распахнуть дверь.
— Хорошо. Ребята нашли тело с накрытой головой. Именно поэтому они поняли, что это убийство. Если Дженкинс его накрыл и дождался, пока Муз задохнется, почему тогда потом он не откинул пленку обратно? Это-то явно надо было бы сделать. Тогда все выглядело бы, как смерть от несчастного случая. Оставить пленку на голове означало оставить доказательство, что это убийство. Он умный парень и сообразил бы, что может попасть под подозрение.
Лэниган пожал плечами.
— Мог просто запаниковать.
— После того, как спокойно сидел около двадцати минут?
— Откуда вы знаете, что он сидел спокойно? Он все время мог быть в панике. Откуда мы знаем, что он оставался там двадцать минут? Муз задохнулся бы намного быстрее. А эта машина, которую он якобы видел припаркованной перед домом, — я в это не верю. Кто там мог быть в такое время и в такой вечер? Если какая-то парочка захотела немного пообниматься, что им делать под уличным фонарем? Думаю, он решил намекнуть, что кто-то входил в Хиллсон-Хаус после того, как он ушел. — Лэниган покачал головой. — Нет, рабби, не уводите в сторону. Он был зол, потому что Муз — как там говорили дети? — грузил, ага — грузил его весь вечер. Ему пришла в голову мысль накрыть его с головой, и он ее высказал. Вспомните, он это не отрицает. Он хотел поквитаться с Музом. И признает это. Он даже признает, что входил в комнату, где лежал Муз. Когда он смотрел на него сверху, он вспомнил все, что говорил Муз, взял угол пленки, натянул ему на голову и подоткнул. И если вы с этим не согласны, вы должны отыскать какого-то таинственного незнакомца, который откуда-то знает, что Муз там, который может войти в дом, входит в него и, зная, что тот надежно связан, накрывает его с головой. — Он сделал выразительную паузу. — Всем этим условиям удовлетворяют только двое ваших молодых друзей, рабби. Горфинкль и Джейкобс.
Глава LII
Они не то чтобы встретили идею в штыки, просто отнеслись к ней без энтузиазма. Эпштейн недоумевал.
— Не понимаю, мы все вроде бы за социальную активность. — Он повернулся к Бреннерману. — Ты говорил, что таким хочешь видеть храм. А ты, Бен. В социальной активности заключалась вся твоя программа. Вас она интересует только тогда, когда это далеко, где-нибудь на Юге?
— А тут, Роджер, все заключается в правосудии. Ты же слышал новости по радио. Я, кстати, звонил своему свояку, чтобы проверить это сообщение, и он все подтвердил. Со слов Лэнигана, между прочим. Так вот, может, я и не прав, но, по моему мнению, этот цветной парень — как его зовут? Дженкинс? — по моему мнению, Дженкинс безусловно виновен. Когда шайка расистов в каком-нибудь южном городке подставляет парня только потому, что он цветной, я готов заступаться. Но этого поймали с поличным.
— Абсолютно согласен — сказал Бреннерман.
— Я тоже, — сказал Джейкобс.
— Не понимаю, откуда такая уверенность, — начал было Эпштейн.
— Да брось, — сказал Горфинкль, — ты что, действительно веришь, что он вернулся только затем, чтобы украсть горстку сигарет?
— И не забудь, — заметил Джейкобс, — в этом замешаны наши собственные дети, Роджер, — твоя Диди, мой Билл и Стью.
— Вот-вот, а если бы один из них оказался в положении этого мальчика? Меня не интересует, его рук это дело или нет; он имеет право на справедливое судебное разбирательство в любом случае.
— Он его получит. Это Массачусетс. Здесь не будет никакой заварухи со сворой линчевателей…
— Как он может рассчитывать на справедливый суд, если у него даже нет адвоката?
— Если тебя волнует именно это, не беспокойся, — сказал Горфинкль. — Насколько я знаю, ему еще не предъявили формального обвинения. А когда предъявят, суд назначит адвоката, если у него нет или если он не может себе этого позволить.
— Конечно, не может. Есть фиксированная плата на такие случаи — насколько я знаю, что-то около пятисот долларов. И вы знаете, какого адвоката он получит — какого-нибудь мальчишку прямо с юридического факультета, который, возможно, еще не вел ни одного дела.
— Чего ты хочешь от нас, Роджер?
— Я хочу, чтобы мы показали, что наши слова не расходятся с делом, что мы умеем отстаивать свои убеждения. Дженкинс имеет право на хорошего адвоката, например Уоррена Донохью. Я хочу, чтобы мы основали комитет защиты Дженкинса для сбора средств на его гонорар. Помяните мои слова, многие более прогрессивные церкви захотят поучаствовать в этом деле. Так почему не быть первыми, а не идти потом по чужим стопам?
Горфинкль поджал губы и задумчиво произнес:
— А знаешь, в этом что-то есть… Но у Донохью высокие гонорары.
— Ну и что? — теперь и Бреннерман заинтересовался.
— И мы сможем нанять его?
— Если мы сможем найти деньги, — сказал Джейкобс, — то почему нет? Наши деньги не хуже других.
— Если мы создадим комитет защиты, то найдем, — сказал Бреннерман, — при правильном подходе.
— Можно ходатайствовать о предоставлении средств от всей общины, — сказал Эпштейн, — но тогда это должен быть храмовый проект, а не просто наша личная инициатива и наши личные деньги.
— И это точно вписывается в нашу программу! — воскликнул Бреннерман.
— И создает проблему, — сказал Горфинкль, — потому что на храмовый проект рабби должен будет как-то отреагировать. А мои акции на сегодняшний день в глазах нашего рабби не слишком высоки, насколько я понимаю. Фактически он знает, что на следующем заседании правления его отстранят от работы.
— Да, боюсь, что ты поторопился, Бен, — уныло сказал Бреннерман. — Ты не должен был увольнять его…
— Я не увольнял его, — сказал Горфинкль, — только предупредил. И уверен, что был прав, — не случись вся эта история.
— Мы все были согласны, — сказал Джейкобс, — так что нечего обвинять Бена.
— Я не обвиняю тебя, Бен, — сказал Эпштейн, — но считаю, что независимо от нынешней ситуации мы поторопились. Мне, например, вообще страшно неловко.
С этой стороны Горфинкль не ожидал подвоха.
— От чего тебе неловко, Роджер? — спокойно спросил он.
— От всего происходящего. От того, что я, новый человек в храме, увольняю рабби, занимающегося этим всю жизнь. От того, что я вдруг стал председателем ритуального комитета. В каком-то смысле все заварилось именно из-за этого, и мне в голову не приходило, что это расколет конгрегацию. Иначе я не дал бы тебе себя уговорить. Ладно, может еще не поздно все исправить. Прямо сейчас.
— Что ты собираешься исправить сейчас? — спросил Джейкобс.
— Я отказываюсь от должности председателя ритуального комитета. И сам сообщу об этом рабби, не дожидаясь официального заявления на следующем заседании правления. Это хороший шанс получить его поддержку при создании комитета защиты. И может, он сумеет поговорить с Паффом и его группой и примирить нас.
— Ты хочешь сказать, что я должен оставить председателем Паффа? Ты это имеешь в виду, Роджер? — спросил Горфинкль.
— Нет, но почему бы не назначить кого-то другого, нейтрального? Вассермана, к примеру?
— А это мысль, — сказал Бреннерман.
— Я подумаю…
Глава LIII
Игра проходила вяло. Уже в начале вечера Ирвинг Каллен отодвинулся от стола.
— С меня хватит. Не могу сосредоточиться, и все тут.
— Может, последнюю? — спросил Пафф.
— Давай, если хочешь.
Доктор Эдельштейн тоже отодвинулся.
— Какой смысл, Мейер? Лично я предпочел бы чашку кофе.
— Это пожалуйста, — сказал Пафф. — Как насчет кофе для мальчиков, Лора? — крикнул он в другую комнату. Потом собрал лежавшие на столе карты и перетасовал их. — Вчера я встретил одного знакомого в Челси — его брат раввин, настоящий ортодоксальный тип — и, как бы случайно, упомянул о том, что в здании, которое собирались использовать как синагогу, кто-то умер. По его словам это вроде бы не препятствие, но он обещал уточнить у брата.
— Хватит об этом, Мейер, — сказал Кермит Аронс. — Хиллсон-Хаус отпадает. Это ведь не просто кто-то взял себе, да и умер. Как инфаркт у Артура Барона прямо в храме — кажется, два года назад.
— Три года назад, — сказал док Эдельштейн. — Но он умер не в храме. Мы забрали его в больницу, и там я констатировал смерть.
— Не имеет значения. Суть в том, что он просто умер. А здесь убийство. Даже если Совет раввинов в полном составе заявит, что все в порядке, это тоже не имеет значения. Еще много лет дом будет известен как место убийства. Кого ты уговоришь присоединиться к такому храму? По правде говоря, мне и самому было бы неприятно думать, не сижу ли я на том самом месте…
— И к чему мы пришли? — спросил Пафф.
— К тому, с чего начинали, — сказал Каллен. Он вдруг просиял. — А знаешь, ты, конечно, на это не рассчитывал, — я имею в виду, когда говорил, что мы должны сидеть молча на том заседании, но по большому счету это был мудрый ход. Если бы мы на самом деле подняли шум, когда Горфинкль объявил новый состав комитетов, нам бы теперь пришлось возвращаться с повинной.
— Точно, а сейчас никаких проблем, — добавил Эдельштейн. — Ирв прав. Мы действительно вернулись туда, откуда начинали. О новом храме мы официально не заявляли, когда огласили новый состав комитетов, мы не вышли. Можем продолжать молчать.
— Правильно.
— Какого черта…
— И я должен позволить этим парням делать все, что захочется? — спросил Пафф.
— Мы все еще сможем выступить против них на правлении, — сказал Эдельштейн.
— Да, при том, что у них явное большинство.
— Ты хочешь сказать, что они будут настаивать на отставке рабби? — спросил Эдельштейн. — Честно говоря, это было бы гнусно, после всего, что он сделал для детей, и…
— А что он сделал? — спросил Аронс. — Он заставил сыновей Горфинкля и Джейкобса рассказать всю историю копам. Лично я думаю, что это было правильно, но многие из родителей страшно разозлились. Горфинкль и Джейкобс тоже вряд ли были очень довольны. Хорошо, что полиция задержала этого цветного парня, но если бы не это…
— Так ты думаешь, они будут настаивать на отставке? — повторил Эдельштейн.
— Не-ет, сейчас вряд ли. Сейчас они подождут. Дело еще не закрыто, рабби с шефом добрые друзья, глупо терять такое. Подождут, пока закончится контракт, а потом просто не продлят его, вот и все.
— Ей-Богу, мы их заставим! — сказал Пафф.
— С каких это пор ты так сильно любишь рабби? — спросил Аронс.
— Я его не люблю, — огрызнулся Пафф. — Никогда не любил и никогда не буду. Но ты не уловил суть.
— Какую еще суть? Они собираются уволить его.
— Они собираются попытаться уволить его, ты хочешь сказать, — поправил Пафф.
— Но у них большинство.
— Да, — сказал Пафф, — и там мы проиграем. Но увольнение рабби, который служит конгрегации уже шесть лет, которого уважает христианская община, — этот вопрос не должен решаться только одним правлением. Это касается всех. Так вот, я не знаю, сколько у рабби сторонников, но я знаю, что намного тяжелее уволить кого-то, чем позволить ему остаться. Никому не нравится увольнять.
— Ну и?
— И в этой ситуации у нас есть шанс победить. А если мы победим и рабби останется, мы здорово выигрываем. Одно дело, когда мы выступаем против них, — нас они просто забаллотируют; но когда выступает он, то обычно ссылается на религиозные законы или еврейскую традицию, и стоит на своем, пока они не уступят.
Эдельштейн улыбнулся. Каллен кивнул в знак согласия. Аронс сказал:
— Классная идея, Мейер.
Глава LIV
Целую неделю семья Смоллов чистила, мыла и застилала полки и буфеты, как и положено готовиться к Песаху. Рабби помогал, как мог, и, стоя на шаткой лестнице, передавал Мириам хранившиеся на самой верхней полке буфета тарелки и столовые приборы, которыми пользовались только во время пасхальной недели. Основная часть работы досталась, естественно, Мириам, и в этом году ей было труднее, потому что Джонатан уже всюду ходил за ней, путался под ногами и постоянно требовал внимания. Но, наконец, вечером в субботу они закончили. Пока Мириам блаженствовала на кушетке в гостиной, рабби занимался символическим поиском хомеца — крошек квасного[37], специально оставленных повсюду, чтобы найти их при свечах и смести пером на деревянную ложку, которую сожгут наутро. Джонатан следовал за ним по пятам.
— Хочешь, чтобы я забрала у тебя Джонатана, Дэвид? — крикнула Мириам, совершенно не рассчитывая, что ее предложение будет принято.
— О, нет. Я всегда помогал своему отцу искать хомец, когда был маленьким. Дети любят это. Ты не помнишь, куда я поставил свечу? Не беспокойся, я уже нашел.
Он прочел вслух благословение: «Благословен Ты, Господь Бог наш… повелевший нам уничтожать хомец», и затем, в мерцающем свете свечи, смел с полки заранее припрятанные крошки квасного, завернул в кусочек ткани и отложил в сторону. Малыш наблюдал за ним широко открытыми глазами. Рабби произнес древнюю формулу: «Весь хомец и закваска, находящиеся в моем владении, которые я не нашел и не уничтожил, пусть считаются упраздненными и никому не принадлежащими, подобными праху земли».
— Завтра, — сказал он Джонатану, — ты посмотришь, как мы сожжем его. — Затем он позвал жену и попросил, чтобы она уложила ребенка спать. Мистер Эпштейн мог прийти в любой момент.
Рабби покачал головой.
— Сожалею, мистер Эпштейн. Я знаю, что у вас добрые намерения, но думаю, что вы совершаете серьезную ошибку…
— Я не понимаю, рабби. Мы хотели помочь Алану Дженкинсу наилучшим образом. Мы все втянуты в это дело. Его пригласила моя Диди, и все дети, которые были там, — это наши дети.
— Тогда почему вы не штурмуете тюрьму?
— Это смешно, рабби.
— Вот именно. Но ведь это же могло бы помочь ему. Я просто к тому, что не все благие намерения обязательно приводят к наилучшему результату. Вы говорите, что наняли для защиты Донохью. Я слышал о нем, кто же не слышал? И он уже собирается потребовать изменения места слушания дела на том основании, что молодой человек не может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела в этом городе. Так вот, я не хочу, чтобы еврейская община официально заявила, что она сомневается в честных намерениях города. Я живу здесь уже несколько лет, и у меня нет никаких оснований предполагать такое. А ваши действия наводят на мысль, что вы почти уверены в виновности Дженкинса. Если он виновен, он должен быть осужден, но пока не собраны все доказательства, — я, например, намерен сохранять беспристрастность.
— Но изменение места слушания дела — просто общепринятая тактика.
— Да, но эту общепринятую тактику кто-нибудь другой может расценить как нечестную. Именно это неверно во всей вашей концепции социальной активности, с позволения сказать. Вашей собственной активности вам мало; вы хотите, чтобы все в храме делали то же самое. В нашей религии есть свод этических заповедей, нормы поведения, мистер Эпштейн, но каждый человек выполняет их, следуя голосу своей совести и своему собственному осмыслению. Один человек может принять участие в пикетировании, а другой, не менее заинтересованный в том же самом деле, решает, что лучших результатов можно достичь с помощью суда или личных переговоров, или путем пожертвований. Это решает личность. Даже на наших службах мы молимся скорее каждый поодиночке, чем как хор. Вы можете организовать кампанию и призывать к сбору средств, но пока хоть один член конгрегации выступает против, вы не имеете никакого права делать это от имени храма, независимо от того, какое подавляющее большинство голосов вы соберете на правлении.
— Я не понимаю тебя, Дэвид. — Мириам прижала кулак к губам, словно желая удержать резкие слова упрека. — Он пришел, чтобы загладить вину. Он так старался уладить конфликт. Он добрый человек.
— Конечно, он добрый человек. И Горфинкль, и все остальные. Все они добрые люди, иначе они не стали бы так беспокоиться из-за того, что может случиться с бедным негром, который случайно попал в кучу неприятностей. Но одной доброты недостаточно. Люди, принимавшие участие в религиозных войнах, были добрыми людьми, но, несмотря на это, они убили и искалечили десятки тысяч.
— О, Дэвид, ты так… так непреклонен. Неужели ты не можешь немного прогнуться?
Он удивленно посмотрел на нее.
— Когда я должен и когда я могу, я прогибаюсь. Но я должен следить, чтобы не прогнуться слишком сильно и не споткнуться.
Глава LV
По воскресеньям миньян собирался в девять вместо половины восьмого, как по утрам в будни. День был прекрасный, времени для пешей прогулки вполне достаточно, но рабби взял машину. Он поехал не прямо в храм, а вдоль берега, пару раз останавливаясь по пути полюбоваться видом волн, разбивающихся о камни, и чаек, пикирующих низко над водой.
Дорога петляла вдоль берега, затем повернула, и он увидел впереди Хиллсон-Хаус. Поравнявшись с ним, рабби замедлил ход, решив остановиться и оглядеться. Но в окне соседнего дома он увидел мужчину, говорившего по телефону, и поехал дальше.
Он приехал как раз к началу службы. По воскресеньям всегда собиралось больше людей, потому что многие отцы, привозившие своих детей в воскресную школу, шли в миньян за неимением лучшего занятия, пока дети учатся. Сегодня после короткой службы один из постоянных прихожан угощал всех легким завтраком в честь помолвки своей дочери.
Они пили чай и кофе с пресным печеньем — вечером начинался Песах. Артур Нуссбаум, как всегда, проталкивал свой любимый проект.
— Послушайте, друзья, нет никакого смысла просто держать все эти бабки в банке…
— Проценты набегают…
— А цены каждый год растут вдвое и перекрывают их. Все уже понимают, что рано или поздно мы их заменим, эти стулья. Если бы мы начали сразу, как только эти деньги нам завещали, уже половину мест, вплоть до центрального прохода, заменили бы. А в этом году денег хватит на треть, не больше.
— Ну, это совсем уже бред! Часть мест — одни стулья, часть — другие. Жуткое зрелище. Женщины нам такое устроят…
— Ну и пусть. Да как вы не поймете, — убеждал Нуссбаум, — когда они это самое зрелище увидят, они из кожи вон вылезут, чтобы и остальные заменить.
— Да? Из-за постоянных мест скандал еще не закончился, а теперь еще и вся первая треть храма будет с великолепными новыми стульями…
Стоявший поблизости рабби пробормотал:
— А почему это должна быть первая треть? Почему не начать замену стульев сзади? — Тут он заметил, что Пафф выходит из часовни, извинился и ушел.
Нуссбаум услышал замечание и повторил его другим.
— Он что, шутит?
— Это еще хуже. Это уж наверняка у всех вызовет раздражение.
— Наши постоянные места раздражают больше, — заметил доктор Эдельштейн. — Сделайте сзади мягкие сиденья, и можете сажать меня туда прямо сейчас.
Ирвинг Каллен кивнул.
— В чем-то ты прав, Док. Мне-то все равно. Я толстый, но держу пари, что мой старик действительно оценит это.
— Если хорошенько подумать, — медленно произнес Нуссбаум, — это просто справедливо.
Бреннерман внезапно расхохотался.
— Ей-Богу, Нуссбаум, вы правы, рабби придумал идеальное решение!
Все посмотрели на него.
— Вы что, не поняли, мальчики? Передние ряды для ихэс[38], задние — для тухэс[39]. Выбирайте! — Он заметил Горфинкля и, все еще громко хохоча, пошел поделиться с ним новостью.
Рабби окликнул Паффа и провел его в боковой коридор. Когда они отошли достаточно далеко, он сказал:
— Я читал ваше заявление в полиции, мистер Пафф. Судя по именам людей, которых вы указали как своих партнеров по коммерческой сделке, я подозреваю, что вы интересовались Хиллсон-Хаус в качестве возможного места для нового храма.
Пафф усмехнулся.
— Правильно, рабби, но теперь об этом, конечно, и речи быть не может. Мы оставили это дело. Я вообще-то собирался сообщить вам, но Беккер сказал, что вас это все равно не заинтересует.
— Все в порядке, — поспешил заверить его рабби. — Меня это не интересовало и не интересует. Я просто хочу разобраться в некоторых деталях самого происшествия. Вы заявили в полиции, что снизили скорость, когда подъехали к Хиллсон-Хаус, и затем поехали дальше. Это правильно?
— А что?
— Вы не останавливались?
Пафф задумался.
— Может, и остановился на мгновение.
— Вы абсолютно уверены, что не останавливались намного больше, чем на мгновение?
— К чему вы клоните, рабби?
— Я предполагаю, что вы останавливались на длительное время, возможно, на пятнадцать-двадцать минут или даже больше.
— Почему вы так считаете?
— Потому что при существующем положении вещей ваше заявление выглядит неправдоподобно. Сегодня утром по дороге к храму я проехал мимо Хиллсон-Хаус. Там прямой отрезок дороги, никаких поворотов, ничто не закрывает обзор. Даже в грозу, задолго до того, как вы подъехали к Хиллсон-Хаус, с какой бы стороны вы ни приближались, вы могли увидеть, ждет там кто-нибудь или нет. Следовательно, вам не было никакой нужды снижать скорость. И так как вы собирались встретиться там с кем-то, я полагаю, что вы ждали хотя бы пятнадцать минут.
— Хорошо, предположим, я ждал?
— Тогда полицию может заинтересовать, почему за это время вы не вошли в дом.
— Я не входил. Клянусь, что не делал этого, рабби.
— Почему?
Пафф выглядел потерянным.
— Сам не знаю, если честно. Я был там несколько раз, днем все это место выглядело страшно привлекательным. А в тот раз было темно, шел дождь, и мне просто не хотелось входить одному.
— Тогда почему вы не сказали в полиции правду?
— Все просто, рабби. Я уже слышал, что там нашли Муза. Он у меня работал, значит, я его знал. Если бы я сказал, что стоял возле дома около получаса, начались бы вопросы: Слышал ли я что-нибудь? Видел ли я что-нибудь? Почему я не вошел? Нет-нет, я не хотел оказаться замешанным.
— Вот как раз теперь-то вы и замешаны, должен сказать. На вашем месте я бы пошел в полицию и сказал, что вы хотите изменить свое заявление.
— Но это означает, что я лгал, и будет выглядеть подозрительно.
— Будет выглядеть намного подозрительнее, когда они сами все узнают.
Пафф вздохнул.
— Думаю, что вы правы, рабби.
Глава LVI
Дома рабби застал Лэнигана.
— Я думал, что эти ваши утренние молитвы длятся примерно полчаса, — пожаловался шеф полиции.
— Потом было угощение, — сказал рабби, — а потом я зашел навестить больного — заповедь милосердия. Сожалею, что вам пришлось ждать. Вы по делу или чисто по-дружески?
Лэниган усмехнулся.
— Пожалуй, в моих визитах всегда есть немного и того, и другого. Я так понимаю, рабби, что организуется комитет защиты Дженкинса. Вы что-нибудь об этом знаете?
— Да, я знаю об этом. А вы что, против?
— Оно конечно, каждый человек имеет право… Да, я против! Я знаю этого Донохью. Он наделает много шума и, вполне возможно, создаст в городе обстановку, которую мы будем расхлебывать много лет. А Дженкинсу это ничего не прибавит. Будет просто куча громких слов насчет социальной справедливости, прав неимущих и Бог знает чего там еще. И при этом они никак не повлияют на судебное разбирательство, потому что Дженкинса будут судить справедливо, вне зависимости от того, черный он, белый или зеленый в желтую крапинку.
— Не уверен. Разве вы отнеслись к нему беспристрастно? Мне кажется, вы уже приняли решение, что он виновен…
— Не я решаю, виновен он или нет. Это дело судьи и присяжных. Но у меня, естественно, есть свое мнение. Я вел себя с ним честно во всех отношениях. Вы присутствовали, когда я допрашивал его. Я его запугивал? Я почти умолял его взять адвоката. Он не захотел.
— Но вы непроизвольно приняли то, что указывает на его виновность, за истину, а то, что предполагает его возможную невиновность, за кучу лжи.
— Из доступного материала всегда приходится выбирать, чему верить, а чему нет. Это вы понимаете. Возьмем утверждение Дженкинса, будто на той стороне дороги примерно двадцать минут стояла какая-то машина…
— Это правда.
— Что вы хотите этим сказать?
Рабби пересказал свою беседу с Паффом.
Лэниган зашагал по комнате, рассуждая вслух:
— Это значит, что Пафф мог видеть, как Дженкинс входит в дом, и ждать, чем все это кончится. Дженкинс не выходит, и он уезжает. То есть у него транспорт, чтобы вернуться, полное отсутствие алиби, и он снова в поле нашего зрения… — Он решительно потряс головой. — Нет, я не верю в это, рабби. Вы не стали бы просто так отдавать на съедение члена вашей конгрегации. У вас на уме должно быть что-то еще.
— Я просто предполагаю, что существуют другие возможности. Вы же предлагали Горфинкля и Джейкобса. Дело в том, что Дженкинс не единственный, чьи действия подозрительны; к тому же в ваших доказательствах против него полно слабых мест.
— Например?
— Например, смерть того человека в Бостоне. Как туда вписывается Дженкинс?
— Я не говорю, что он имел какое-либо отношение к этому. Его смерть и связь с Музом — чистое совпадение.
— Совпадения случаются, но не часто. Но самый большой недостаток в ваших доводах против Дженкинса — тот ближайший сосед, этот…
— Мистер Бегг?
— Да, мистер Бегг. Он увидел свет. И поэтому позвонил в полицию.
Мгновение Лэниган выглядел озадаченным, затем лицо его прояснилось.
— А, понимаю, что вы имеете в виду — что кто-то пришел в дом после ухода Дженкинса, этот кто-то включил свет и этот кто-то, вероятно, убил Муза — возможно, ваш мистер Пафф, кстати. Хорошая подача, рабби, но ее я отобью. Дженкинс сказал, что он задернул шторы и портьеры прежде, чем включил фонарик. Правильно?
— Правильно.
— Тут у него не было никаких причин лгать.
— Согласен.
— Таким образом, если бы кто-то, Пафф или таинственный незнакомец, включил свет, его не было бы видно.
— Вот именно. Тогда как Бегг смог увидеть свет?
— Что?
— Вся молодежь сходится в том, что они не включали свет. Дженкинс зажигал фонарик, но только после того, как опустил портьеры…
— Тогда как Бегг смог увидеть свет в доме?
— Это был мой вопрос, — многозначительно сказал рабби. — И могу предложить ответ. Единственный способ увидеть свет, когда все окна зашторены, — это самому оказаться в доме и включить его.
— Вы думаете…
— Я думаю, что он вошел в дом после ухода Дженкинса. Поскольку он присматривает за домом, у него должен быть ключ, и запертая дверь не представляла для него проблемы. Он включил свет при входе и затем прошел по всем комнатам. Я предполагаю, что он накрыл голову мальчика краем накидки, и затем, оставив свет включенным как повод для звонка в полицию, быстренько вернулся домой, к телефону.
— И забыл закрыть парадную дверь?
— Нет, думаю, он намеренно оставил ее приоткрытой, в расчете на то, что ее заметит патрульный автомобиль, — и тогда он не был бы замешан даже как информатор, — или, возможно, чтобы тут же не встал вопрос о том, как убийца вошел в дом.
Лэниган потер квадратный подбородок большой красной рукой, прокручивая назад рассуждения рабби. Затем усмехнулся.
— Вы меня на минуту убедили, рабби. Все это выглядит правдоподобно, за исключением того, — он предостерегающе поднял указательный палец, — что звонил он из собственного дома. На обратном пути он должен был заметить, что из окон Хиллсон-Хаус не пробивается свет.
Рабби кивнул.
— Да, и телефон находится в комнате, окна которой выходят на Хиллсон-Хаус. Сегодня утром я проезжал мимо и видел его в окне с трубкой в руке. И стоя там, говоря с полицией, он наверняка заметил бы, что в окнах Хиллсон-Хаус не видно света. Вот тут-то и произошло реальное совпадение, которое все объясняет.
— Какое совпадение?
— Когда он был еще внутри Хиллсон-Хаус или сразу же после его ухода, в той части города пропал свет.
— Вы говорите о сгоревшем трансформаторе?
— Да. Это было единственное совпадение.
— А то, что он пошел осматривать дом?
— А вот это как раз не совпадение. Он пошел сразу после ухода Дженкинса, потому что Дженкинс ушел. Я имею в виду, что он мог видеть, как уходит Дженкинс, или услышать, как тот заводит свой мотоцикл, — можно сказать, прямо под дверью, — и поспешил проверить. Все выглядело нормально: дверь заперта, и в доме темно. Но, конечно, он должен был удостовериться. У него был ключ, и он вошел. Естественно, он включил свет. Возможно, он прислушался на мгновение или подал голос. Затем пошел проверить и нашел Муза. Поскольку он хотел, чтобы тело нашли немедленно, в ту же ночь…
— Почему обязательно в ту же ночь?
— Потому что если бы он подождал день или два, то сам должен был найти тело — он присматривал за домом. А в данном случае, если тело обнаруживает полиция, да еще той же ночью, она находит свежие следы чьего-то пребывания — окурки, банки из-под пива…
Лэниган улыбнулся.
— Хорошая работа, рабби. Я добавлю Бегга к своему списку из Дженкинса, Паффа, Картера и семерых деток. Когда я обсуждал все это с Эбаном Дженнингсом, моим лейтенантом, я так же хорошо построил обвинение против каждого из них. Но все они, конечно, с изъяном. Например, Бегг не мог знать, что Муз в Хиллсон-Хаус. Откуда?
Рабби покачал головой.
— Хорошо, рабби, если даже у него и была какая-то причина убить Муза, о которой вы, между прочим, еще не упомянули, откуда он знал, что надо пойти туда? Если он думал, что кто-то забрался в дом, естественно было бы вызвать полицию и попросить, чтобы они проверили.
— Потому что ему надо было пойти туда. Перед звонком в полицию он должен был удостовериться, что ничего не пропало.
— Например?
— Например, марихуана. Ему удобнее было устроить тайник там, чем хранить ее в собственном доме.
— Мистер Бегг? Торговец наркотиками? О, это невозможно, рабби. — Лицо Лэнигана выражало полнейшее недоверие. — Он старый житель города, сварливый янки.
Рабби насмешливо улыбнулся.
— А также бывший учитель и бывший член городского управления, который просто не может сделать ничего плохого. Это должен быть чужак, пришелец.
— Что ж, думаю, я это заслужил, — сказал Лэниган, — но на самом деле я хотел сказать, что… что он вздорный тип, который вечно всех раздражает. Если бы он занимался чем-то вроде перепродажи наркотиков, он не стал бы привлекать к себе внимание.
— Защитная окраска. Это намного лучше, чем пытаться вести себя незаметно, особенно в таком маленьком городке, как наш. Он всегда слыл оригиналом — и остался им, когда начал продавать эту дрянь. Это было безопаснее, чем внезапная перемена образа.
Лэниган помолчал, потом спокойно сказал:
— Как вы додумались до этого, рабби? С помощью этого вашего талмудического пил… — как его там?
— Пилпула? Вовсе нет. Я подумал о Бегге, потому что он был самым очевидным подозреваемым. Вы бы тоже это увидели, если бы не зациклились прежде всего на чужом, на пришельце, Алане Дженкинсе, который не только не житель города, но еще и цветной.
— Но и Бегг в некотором роде посторонний. Он затворник и псих.
— Нисколько. Он эксцентричен, но исключительно в рамках допустимого. Он даже традиционен — упрямый, сварливый янки, отстаивающий свои права.
— Но что он сделал такого, что заставило вас заподозрить его?
— С одной стороны, он хозяин заведения, где крутится молодежь. Он продает содовую, какие-то школьные принадлежности и дает им поиграть на своих автоматах. Вы видели это место. Что там есть такого, что дало бы ему возможность хотя бы оплачивать аренду? С другой стороны, Муз пришел от его дома. Он должен был прийти оттуда, потому что был прилив, и по берегу он ниоткуда прийти не мог. И потом, когда молодежь забралась в дом и забеспокоилась, что их может заметить кто-то по соседству, вспомните — это Муз уверял, что Бегг им не помешает. Бегг, всем известный зануда, повсюду сующий свой нос. Почему он так решил? Он знал, что Бегг собирался уйти. А может быть, они ушли одновременно. И, наконец, я подумал о Бегге, поскольку мне показалось странным, что он позвонил сообщить, будто видел свет. Даже если он и робкий человек, все равно можно предположить, что он сначала проверил бы все сам или, по крайней мере, попытался.
— Значит, по вашему мнению, в Хиллсон-Хаус есть тайник с марихуаной?
Рабби покачал головой.
— Был. Думаю, он забрал ее перед звонком в полицию. Именно поэтому ему надо было пойти туда. А сейчас ее нет и в его доме.
— Вы, конечно, понимаете, — сказал Лэниган, — что у нас нет ни капли доказательств. Если мы найдем в Хиллсон-Хаус его отпечатки пальцев, он скажет, что бывал там много раз, присматривая за домом.
— Вы можете спросить, как он увидел свет.
Лэниган снова встал и зашагал по комнате.
— Это не доказательство. Ему достаточно просто утверждать, что он или видел свет, или думал, что видел. Никакие присяжные не признают человека виновным из-за того, что он видел свет, которого не мог увидеть. Они объяснят это обычной ошибкой, фарами автомобиля, отражением уличного фонаря. Нет, к сожалению, мы не можем представить этот ваш пилпул как доказательства, принимаемые судом.
— Можно попробовать.
Лэниган пододвинул стул и нетерпеливо сказал:
— Например?
— Например, этот человек в Бостоне, которого убили в тот же день. Можно немного поразмышлять о нем в связи со всем этим.
— Вилкокс?
— Да, Вилкокс. Мы знаем, что Муз был у него, — на основании двух двадцатидолларовых банкнот.
— И марихуаны.
— Марихуану он мог получить в любом другом месте, но две двадцатидолларовые банкноты, номера которых следуют за номерами банкнот, найденных у Вилкокса, — они могли попасть к нему только от Вилкокса.
— Согласен.
— Как Муз получил их?
— Что вы имеете в виду?
— Он мог присвоить их — или их могли ему дать.
— А, понимаю. Конечно же, ему их явно дали, так как если он их присвоил, то с чего бы ограничиваться двумя?
— Точно. Теперь, почему их ему дали? Две банкноты, заметьте.
— Мы этого уже не узнаем, рабби.
— Ладно, подойдем с другой стороны. Предположим, в ходе беседы Муз упомянул, что он на мели. Возможно, Вилкокс был готов помочь ему и одолжить какую-то сумму. Как правило, это доллар, два, пять долларов, десять, в конце концов. И если в это время у него не было ничего мельче двадцаток, он мог дать ему одну из них. Но он дал ему две двадцатки — сорок долларов. О чем это говорит?
— Я пас.
— Это говорит о плате за что-то. Но так как Муз был на мели и у него не было ничего, что могло бы интересовать Вилкокса, это наводит на мысль о каком-то авансе.
— За что?
— Мы, конечно, не можем быть уверены, но разве вы не говорили, что этот Вилкокс был связан с торговлей наркотиками?
— Бостонская полиция уверена, что он был дилером.
— Хорошо, и поскольку вы нашли у Муза марихуану — и немало — и Дженкинс признает, что взял у него десять сигарет, я считаю, что это был аванс — или в счет жалованья, или в счет комиссионных за продажу. Миссис Картер сказала, что Муз уехал в Бостон искать работу. Я думаю, он нашел ее.
— Да, может быть. Возможно, Вилкокс помог ему пристроиться к делу. Хорошо, сдаюсь. Но как это связано с его смертью? И с Беггом?
— Мы не закончили с Музом, — укоризненно сказал рабби.
— Ну-ну, и что он делал потом?
— Он вернулся в Барнардс-Кроссинг и пошел прямо к мистеру Беггу.
— Что еще у вас есть на Муза?
Рабби покачал головой.
— Я не знал его. Могу только предположить, что все его поведение на пикнике и в Хиллсон-Хаус говорит о том, что он был в состоянии эйфории. И тот факт, что он пренебрег домашним обедом, — серьезный проступок в семье Картера, — означает, что у него больше не было причин бояться отца.
— А Бегг? — язвительно спросил Лэниган. — И что он делал, вы знаете? Куда он пошел после того, как расстался с Музом?
— Боюсь, это было бы чистой теорией.
— Согласен. Но уж теперь-то чего останавливаться? Продолжайте, теоретизируйте.
— Так вот, я думаю, что он поехал к Вилкоксу. Раз Муз пришел к Беггу сразу после визита к торговцу наркотиками, который только что взял его в дело, то можно предположить, что Бегг тоже был агентом Вилкокса или партнером. Если он был агентом, то, конечно же, был против любого дележа территории, особенно с Музом. А если был партнером, то мог пойти, чтобы выразить свое несогласие.
Лэниган откинулся на спинку стула и молча уставился на рабби. Наконец он сказал:
— А вы не позаботились, случайно, подтвердить это парочкой фактов? Или я что-то пропустил?
Рабби добродушно усмехнулся.
— Я же говорил, что это чистая теория, но если посмотреть с другого конца, она может выглядеть более обоснованной. Например, это дает нам первый реальный мотив для убийства Муза. Муз знал, куда пошел Бегг, и, услышав о смерти Вилкокса, мог догадаться, кто это сделал.
Лэниган снова надолго замолчал
— То есть теперь вы вешаете на Бегга еще и убийство Вилкокса.
— Все сходится.
— А доказательства?
— Может быть, отпечатки пальцев Бегга в квартире Вилкокса?
Лэниган опять покачал головой.
— Через неделю после того, как полицейские все там обшарили?
— Одну минуту. Вы же говорили, что его видела какая-то женщина.
— Мадлен Спини. Бостонская полиция думала, что они чего-то добились, когда она опознала Муза по фотографии из архива бостонских газет. А в уголовной картотеке снимки другого размера, вероятно, поэтому она ее и выбрала — из-за отличия. Судя по их словам, я сомневаюсь, что она способна кого-то узнать. Она не слишком сообразительна.
— Тогда, может, он ее узнает?
Глава LVII
— Машина на аллее? Хорошо, значит, он дома.
— Наши действия, шеф? — спросил бостонский детектив.
— Ты едешь по дороге и возле дома останавливаешься, — сказал Лэниган. — Не выключай двигатель, ты просто остановился спросить дорогу. Мадлен выйдет. Дом будет с ее стороны. Застегни пальто и подними воротник, Мадлен. Прекрасно. Голову немного опусти. Молодец. Итак, ты поднимаешься и звонишь. Когда он открывает дверь, ты даешь ему время хорошенько тебя рассмотреть и спрашиваешь, как попасть на дорогу в Бостон. Ничего страшного. Худшее, что он может сделать, — захлопнуть у тебя перед носом дверь. — Он повернулся к полицейскому. — А ты просто тихонько сидишь и смотришь, не будет ли чего необычного.
— Например?
— Например, поведения, необычного для человека, у которого просто спрашивают дорогу. Мы будем держаться вне поля зрения позади. Если увидим, что ты выходишь из машины, мигом подъедем. Все ясно?
— Как в аптеке.
И обе машины тронулись: в одной Мадлен Спини и полицейский из Бостона, во второй Лэниган и Дженнингс. Когда они достигли Тарлоу-Пойнт, женщина вышла и направилась к дому Бегга. Она нажала на кнопку звонка, и через минуту дверь распахнулась.
— Да?
Как было велено, она подняла голову над воротником пальто. Оба уставились друг на друга.
— Ты?
Полицейский быстро направился к дому.
Глава LVIII
Было уже хорошо за полдень, и Мириам с беспокойством наблюдала, как муж ходит по комнате. Время от времени он хватался за какую-нибудь книгу и пытался читать, но тут же откладывал ее и снова принимался ходить.
— Может, ты все-таки пойдешь в храм, Дэвид, хотя бы посмотреть, все ли в порядке?
— Нет, я буду дома, пока не дождусь звонка от Лэнигана. Кто-нибудь там проследит — кантор, или Брукс, или, может, мистер Вассерман.
Он подбегал к телефону на каждый звонок. Звонили в основном ему, но он отвечал как можно короче, боясь помешать Лэнигану дозвониться. Наконец, когда уже совсем пора было идти в храм и начинать Седер, позвонил Лэниган. Рабби минуту послушал, потом улыбнулся.
— Спасибо, — сказал он, — и спасибо за звонок.
— Все в порядке? — спросила Мириам, когда он повесил трубку. — Теперь мы можем идти?
— Да, теперь мы можем идти.
Приходящая няня уже полчаса ждала, когда они, наконец, уйдут и можно будет включить телевизор. Мириам дала ей несколько последних наставлений и пошла к машине. Минутой позже вышел рабби с магнитофоном, на который обычно диктовал письма, — по-видимому, чтобы записать службу на пленку. Эта неожиданная сентиментальность слегка удивила ее.
Когда они приехали в храм, прихожане все еще бродили по залу, разыскивая карточки со своими именами, беседовали, менялись местами, чтобы сидеть рядом с друзьями. Столы выглядели торжественно — на снежно-белых скатертях сверкало серебро, а на длинном главном столе стояла великолепная ваза с цветами. К главному столу были пододвинуты кресла, на каждом лежала подушка, чтобы облокотиться на нее, как предписано ритуалом; рядом с каждым креслом стояли обычные стулья для жен. Перед местом рабби лежали обязательные три куска мацы, накрытые салфеткой, и стояло блюдо для Седера с яйцом, мясом с косточкой, горькими травами, зелеными травами и двумя маленькими блюдцами — одно для хрена, а второе для смеси рубленых орехов и яблок.
За главным столом все уже расселись, и прежде чем занять свое место, рабби подошел к каждому поздороваться и пожать руку.
— В хорошем голосе, кантор?
— В отличном, рабби.
Старый и болезненный мистер Вассерман утонул в огромном кресле, предназначенном для председателя ритуального комитета. Он обеими руками пожал руку рабби.
— Я люблю проводить Седер у себя дома, но в этом году дети не смогли приехать. И, кроме того, иногда для общей пользы…
Горфинкль украдкой наблюдал, как рабби шел вдоль стола. Когда тот приблизился, он поднялся и официально протянул ему руку.
— Стью собирается завтра возвращаться в школу?
Горфинкль пожал плечами.
— Он надеется, но я еще не получил разрешение Лэнигана. Может быть, он позвонит сегодня вечером.
— Все в порядке. Стью может ехать.
— А другие? — нетерпеливо спросил Горфинкль.
— Они тоже.
— Здорово, рабби, просто здорово. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь отблагодарить вас!
Рабби обошел стол и занял свое место. Он оглядел зал в ожидании, пока не усядется последний.
Когда он увидел, что официанты наполнили все бокалы, он кивнул кантору, тот встал и, высоко подняв свой бокал, запел благословение на вино.
Мужчины, сидевшие за главным столом, вышли из комнаты для ритуального омовения рук, и когда они вернулись, рабби погрузил веточку петрушки в блюдце с соленой водой и прочел благословение на плоды земли.
Он снял с мацы салфетку и, взяв с блюда яйцо и мясо с косточкой, передал их мистеру Вассерману, который прочел Ха лахма ания: «Вот хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в земле египетской. Всякий, кто голоден, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть придет и празднует Песах…»
Бокалы наполнили еще раз, и рабби кивнул директору школы, сидевшему за одним из круглых столов с семьей мальчика, который должен был задать Четыре Вопроса[40]. Мортон Брукс шепнул ребенку, тот поднялся и детским дискантом начал декламировать: «Ма ништана ха-лайла хазэ…»
Когда ребенок закончил, рабби поставил перед собой магнитофон.
— Английский перевод должна была прочитать Арлин Фельдберг, — объявил он, — но, к сожалению, Арлин заболела корью. Однако нам бы не хотелось, чтобы она упустила эту возможность. — Он нажал выключатель, но из динамика прозвучал его собственный голос: «Искренне ваш. Сделай лишнюю копию, хорошо, Мириам?» Вслед за этим тут же раздался тонкий, слабенький голос девочки: «Чем отличается эта ночь от других ночей?» В медленном, высокопарном чтении строк чувствовались недели репетиций с директором школы: «Почему во все ночи мы можем есть и хамец, и мацу, а в эту ночь только мацу?»
Рабби глянул на Мириам.
— Вот видишь, — шепнул он, — я могу немного прогнуться.
— И это работает, — прошептала она в ответ.
— «Почему мы можем есть только горькую зелень… обмакиваем еду дважды… едим облокотившись?» Мистер Вассерман дернул рабби за рукав, и тот наклонился к нему. Магнитофон продолжал: «…Отпросись от этого обеда, пожалуйста, Мириам. Выдумай сама что-нибудь». — Раздался взрыв смеха, и Мириам быстро выключила магнитофон. Рабби покраснел и сказал:
— Теперь все вместе будем читать Агаду, хором…
Подали обед, традиционную праздничную еду, начинающуюся с фаршированной рыбы и куриного бульона. Как только обед закончился, часть людей ушли, сославшись на то, что дети устали и засыпают за столом, но большинство остались на продолжение службы, состоящее из молитв, благословений и ритуальных песен. Наконец был выпит четвертый бокал вина, и президент возвестил:
— Итак, мы окончили пасхальный Седер по всем его законам, по всем его заповедям и традициям…
И все выкрикнули громкими и радостными голосами традиционную страстную надежду, столетиями высказываемую евреями во всем мире в конце пасхальной службы: «В следующем году в Иерусалиме».
Рабби наклонился и шепнул Мириам:
— Почему нет?
— Ты о чем?
— Похоже на то, что в следующем году мы будем свободны. Почему бы не провести его в Иерусалиме?
Глава LIX
— Вы заслушали протокол предыдущего заседания. Есть какие-нибудь поправки или дополнения? Слово имеет мистер Соколоу.
— По-моему, мы почти все заседание проспорили о новом контракте рабби, а в протоколе об этом ни слова.
— Ты рано ушел, Гарри, — сказал Горфинкль. — Решили в протоколе об этом не упоминать, понятно почему. Если бы рабби был сегодня здесь, могла возникнуть неловкая ситуация.
— А можно узнать, чем все кончилось?
— Я назначил комитет во главе с Элом Беккером. Может, ты расскажешь ему, Эл?
— Конечно. — Беккер встал и прошел во главу стола. — Главным образом обсуждали сроки контракта. Некоторые предлагали просто заключить контракт на следующие пять лет, — с повышением, конечно. А многие были за пожизненный контракт. Но это надо бы обсудить с рабби.
— И что же в итоге?
— Мы решили пока не говорить с ним. Видишь ли, тут возникло кое-что новенькое, что многим, пожалуй, может быть и не понятно, так что мы должны сначала обсудить это, как мне кажется. — Он прокашлялся. — В конце этого года у рабби закончится шестой год работы у нас, значит, новый контракт приходится на седьмой год. Многие конгрегации дают своим рабби на седьмой год годичный отпуск. Мы не хотели, чтобы рабби, если он поднимет этот вопрос, застал комитет врасплох, поэтому хотим заранее выяснить мнение правления. Лично я предпочел бы даже, чтобы мы предложили это ему сами прежде, чем он попросит об этом.
Немедленно началось бурное обсуждение.
— Многие храмы не дают годичных отпусков.
— Конгрегация моего брата дала своему рабби в прошлом году такой отпуск, но он работает там уже двадцать лет.
— Учителя получают такие отпуска.
— Да, но только под какую-нибудь конкретную научную программу.
— Жена слышала, ребицин говорила что-то об их планах поехать в Израиль. Вполне подходящее место для годичного отпуска рабби.
— Зачем он ему нужен? Он же свободен все лето. Хотел бы я быть на его месте.
Слово получил мистер Вассерман.
— Седьмой год — это особое время. Это субботний год. Что такое суббота? Это что-то, изобретенное нами, так ведь? Шесть дней вы работаете, а на седьмой отдыхаете. До того люди работали все семь дней. Так что это — наше изобретение. И весь мир принял его — один день в неделю мы должны отдыхать. Единственный, кто не отдыхает один день из семи, — рабби. В субботу, когда мы свободны, он работает. И в те дни, когда мы работаем, он тоже работает. Он — ученый, наш рабби, каждый день он занят своей наукой. А если не наукой, то всякими разными выступлениями или заседаниями в комитетах. И все время, семь дней в неделю, у него еще есть конгрегация. Сегодня бар-мицва, завтра свадьба или, не дай Бог, похороны. Так что для него единственный способ отдохнуть — это уехать на время от конгрегации и общины куда-нибудь, где ему не надо будет произносить проповеди, или сидеть в комитетах, или отвечать на всевозможные вопросы. Так вот, мы должны предложить ему эту субботу, если он попросит о ней, потому что — говорю вам — иногда рабби нужно отдохнуть от своей конгрегации.
Все молчали. Затем Пафф глубоким басом что-то пробормотал доку Эдельштейну.
— В чем дело? — Горфинкль поднял глаза. — Вы что-то сказали, мистер Пафф?
Тем же басом Пафф повторил громче:
— Я только сказал, что тут есть обратная сторона — иногда и конгрегации нужно отдохнуть от своего рабби.
Бреннерман засмеялся. Эдельштейн хихикнул. Джейкобс захохотал. Потом засмеялись все, и смеялись еще долго. И Горфинкль сказал:
— Что-то в этом есть, Мейер. Ей-Богу, я думаю, на этот раз вы действительно попали в точку.
Примечания
1
Амида — основная молитва каждой из трех ежедневных обязательных служб — утренней, дневной и вечерней. (Здесь и далее примечания редактора).
(обратно)2
Верховные праздники — десять дней покаяния — дни между еврейским Новым годом (Рош ха-Шана) и праздником Йом-Кипур.
(обратно)3
Тора — Пятикнижие Моисея, первые пять книг Библии.
(обратно)4
Консервативное движение в иудаизме возникло в середине XIX века в Германии как реакция на реформистский иудаизм, возникший там же в начале XIX века. Условно говоря, консервативный иудаизм находится между ортодоксальным и реформистским (более либеральным) направлениями современного иудаизма.
(обратно)5
Кашрут (производное от кошер (иврит) — дозволенность или пригодность с точки зрения Галахи (свода еврейских законов). Понятие относится к широкому кругу юридических, этических и ритуальных проблем. В обиходе термин кашрут (или кошер) чаще всего связан с вопросом пригодности пищи к употреблению.
(обратно)6
Тфилин — две коробочки из черной кожи с вложенными цитатами из Торы. Ремешками прикрепляются одна к левой руке (против сердца), другая — на лбу. Возлагаются перед началом утренней молитвы в будние дни.
(обратно)7
Миньян — кворум из десяти взрослых евреев, необходимый для совместной молитвы.
(обратно)8
Йом-Кипур — День искупления, или Судный день, — самый важный праздник в еврейской традиции, день поста, покаяния и отпущения грехов. Молитвы длятся в течение всего дня.
(обратно)9
Храм (англ. temple) — здесь: и здание синагоги, и организация, и верующая часть еврейской общины города (то же: конгрегация).
(обратно)10
Гилель — еврейская студенческая организация.
(обратно)11
Авдала — букв.: отделение (иврит) — ритуал окончания шабата (см. сноску на стр. 24 — примечание № 19) и перехода к будням.
(обратно)12
Песах — праздник в честь Исхода евреев из Египта и освобождения от рабства.
(обратно)13
Седер — церемониальная трапеза в Песах.
(обратно)14
Четыре вопроса — в начале Седера младшие дети задают четыре вопроса, основная тема которых — чем эта ночь отличается от других ночей?
(обратно)15
Пасхальная Агада — повествование об Исходе из Египта.
(обратно)16
Конгрегация — прихожане, паства, здесь: верующая часть еврейской общины города.
(обратно)17
Четыре сына — в тексте Торы есть четыре места, где упоминается «будущий разговор с сыном об Исходе из Египта». Агада предписывает рассказывать об Исходе каждому в соответствии с его уровнем понимания.
(обратно)18
За пределами Израиля Песах длится не семь, а восемь дней, второй и восьмой дни также имеют статус праздника.
(обратно)19
Шабат — суббота. Понятие субботы является одной из фундаментальных основ иудаизма, основное предписание — «и никакой работы не делай» — входит в десять заповедей и несколько раз повторяется в Торе. Начало празднования шабата — в пятницу, с появлением первой звезды.
(обратно)20
Бар-мицва — букв. «сын заповеди» — ритуал, знаменующий вступление мальчика, достигшего тринадцати лет, в религиозное и правовое совершеннолетие.
(обратно)21
Брит, брит-мила — обряд обрезания.
(обратно)22
Оставьте свет… — в ортодоксальном иудаизме в шабат запрещается включать и выключать любые электрические приборы.
(обратно)23
Шул (идиш) — небольшая синагога.
(обратно)24
Ихэс (идиш из иврита) — пользующийся уважением, «белая кость».
(обратно)25
Талес (идиш), талит (иврит) — шелковая или шерстяная накидка, еврейское молитвенное облачение.
(обратно)26
Впервые книга издана в 1969 году. Намек на Шестидневную войну 1967 года.
(обратно)27
Кошерной — от «кашрут» (см. сноску на стр. 9 — примечание № 5) — здесь: не вполне приемлемой.
(обратно)28
Calf (англ., произносится: каф) — телец.
(обратно)29
Пилпул — диалектические рассуждения, казуистика. Прием, применяемый при изучении Талмуда.
(обратно)30
Экуменизм — движение за объединение христианских конфессий.
(обратно)31
Пророк Михей (в еврейской традиции Миха), VIII в. до н. э. — один из поздних («книжных») пророков. Мораль и этику иудаизма ставил на один уровень с ритуалом.
(обратно)32
Муз (англ. moose) — лось.
(обратно)33
Шпиль (идиш) — игра.
(обратно)34
Цитата из «Ромео и Джульетты» Шекспира.
(обратно)35
Хадасса — женская благотворительная организация в США.
(обратно)36
Смиха — букв. подпорка (иврит) — рукоположение, назначение на пост раввина.
(обратно)37
Крошек квасного… — Согласно Торе, в течение всего Песаха можно есть только пресный хлеб (опресноки, маца). В доме не должно быть никаких следов закваски.
(обратно)38
Ихэс — см. сноску на стр. 44 — примечание № 24.
(обратно)39
Тухэс (идиш) — задница.
(обратно)40
Четыре Вопроса — см. сноску на стр. 16 — примечание № 14.
(обратно)

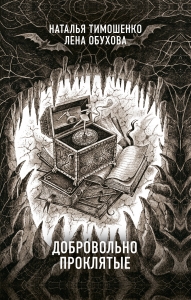
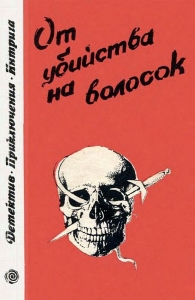

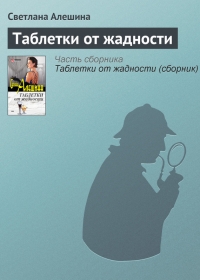

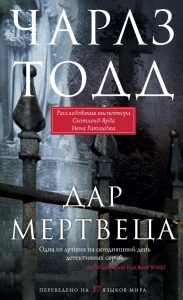

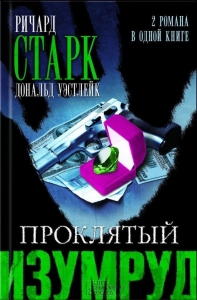


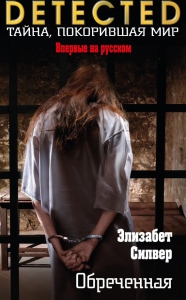

Комментарии к книге «В воскресенье рабби остался дома», Гарри Кемельман
Всего 0 комментариев