Я — стукач Лев Юрьевич Альтмарк
Сегодня с утра у меня куча дел.
Нужно разыскать Алика и напомнить ему, что срок истёк и пора отдавать две с половиной сотни. Я не благотворительная контора и таких шикарных подарков никому не делаю. Хочет слушать пластинки, которые я заказываю для него знакомым морячкам в загранку, пускай раскошеливается. Мне эти пластинки тоже достаются не задаром. Не нравится — топай к уличным фарцовщикам, те с него три шкуры сдерут, и — никаких отсрочек по платежам. Хотя кто я для него — тот же фарцовщик, только знакомый, а потому допускающий рассрочку.
Потом не забыть бы позвонить Надюхе и что-нибудь наврать про свою страшную занятость на следующей неделе. Из Венгрии приезжает Светка, и нужно хотя бы несколько дней после двухнедельной разлуки посвятить любимой женщине. Светка в моих планах идёт первым номером. Надюха — запасной аэродром. Точнее, один из нескольких. Так сказать, подруга в дни печали.
И, наконец, не мешало бы дозвониться до столичного издательства и поинтересоваться, как движется дело со сборником моих стишат. Уже три месяца, как я их отправил, а результата пока никакого. Вдруг, если сам позвоню, что-нибудь стронется с места? Пускай только намекнут, что от меня нужно, за мной не станет. Я парень понятливый. Мне бы только точку опоры нащупать. А её-то как раз и нет. Хотя, если говорить по совести, судьбой своих опусов я всерьёз не занимался. Текучка заела. Какие-то мелкие шкурные интересы, мизерные навары на пластинках и японской радиоаппаратуре. Убогие желания и интересы — Господи, как это всё мелко! Да я и сам потихоньку мельчаю. А хочется жить крупно, с размахом. Как мечтается. Как те герои, на которых я стараюсь быть похожим в своих стихах.
В конструкторском бюро, где я тружусь в поте лица, тишь и благодать. Все расползлись по своим кульманам, где-то по ватману поскрипывают карандашики, шеф клюёт носом за своим начальственным столом. Наверное, опять полночи слушал по приёмнику вражьи голоса.
Кстати, японский приёмничек по божеской цене подогнал ему я, и шеф меня за это прямо-таки боготворит. Что ж, я не против. Для того и старался. Между нами, подлецами, говоря, иногда пригнуться перед начальством нисколько не зазорно, особенно когда это сулит ряд выгод. Тем более, без ущерба для самолюбия.
Ты мне, я тебе — принцип, недостойный строителя светлого будущего. Но при нашей-то непростой жизни куда без этого денешься? Кто поумней да похитрей, уже строят для себя светлое настоящее. Об этом трубят меньше, да и незачем такое афишировать. Больно много завистников на каждого удачливого, а кому, скажите, не хочется пожить в собственное удовольствие ещё при жизни? Только доступно это не каждому. Тут уже надо покрутиться. И не вхолостую, а чтобы толк был. Вот так-то.
А я — получается ли у меня? Трудно сказать…
Часов в девять телефонный звонок. Кто это может быть? Для пластиночных клиентов рановато — или ещё спят, или вкалывают на какой-нибудь ночной разгрузке вагонов, зарабатывая скудные честные грошики для приобретения очередного диска. Цены в последнее время, скажу вам, ой как кусаются!
Это Виктор. Ну, тогда другое дело. Этот имеет право беспокоить меня в любое время и доставать хоть из-под земли.
При нём надо держать ухо востро. С конторой, которую он представляет, в прятки не поиграешь. Все её традиционно побаиваются, да это и в самом деле опасно, как ни крути. На крючке у них я сижу уже давно, совсем как Фауст у Мефистофеля, только история наших взаимоотношений проще и банальней. Так сказать, на наш российский лад. Я запродал им душу, правда, не по собственному желанию, взамен на некоторые вольности, за которые кое-кого из моих знакомых застращали так, что они долго будут икать, вспоминая душеспасительные беседы в этой конторе. А некоторых даже подвели под монастырь, то есть под конфискацию. Губит нашего брата, доморощенного меломана, увлечение пластинками и музыкой так называемого «загнивающего запада». В этом невинном увлечении можно при желании отыскать что угодно — от мелкой спекуляции до измены Родине. Достаточно почитать увлекательную книженцию под названием Уголовный кодекс.
На работу Виктор мне звонит только в крайних случаях, когда есть что-то срочное. Обо всех наших плановых встречах мы договариваемся заранее. Телефоном, как настоящие шпионы, пользуемся редко. Да в этом и нет особой нужды.
Но что ему нужно сегодня? К чему такая спешка? Это уже интересно.
— Рядом с тобой никого нет? — осторожно спрашивает Виктор.
— Никого, — отвечаю я и на всякий случай оглядываюсь.
— Слушай внимательно и не перебивай: умер Генеральный секретарь, и сегодня в два часа об этом сообщат по радио.
— Что ты говоришь?! — притворно ахаю я и стараюсь, чтобы мой голос звучал взволнованно, хотя, если говорить честно, сообщение Виктора меня нисколько не потрясло.
Так или иначе, сие должно было случиться. Никто на свете, даже наши небожители, не застрахованы от смерти, и косточки бедного больного Леонида Ильича давно перемывались повсюду. Организация Виктора внимательно следит за этими перемываниями и особо рьяных мойщиков берёт на заметку. Материалы потихоньку накапливаются, и хорошо если дело заканчивается только повесткой во всем известное учреждение для нравоучительной беседы…
— Не перебивай, — повторяет Виктор. — Наше руководство просит тебя проконтролировать, как люди воспримут правительственное сообщение. Ты меня понимаешь?
— Как не понять! — догадываюсь я о его просьбе. — Будь спок!
— Это крайне серьёзно! — Чувствую, Виктора коробит от моего легкомысленного тона. — Смотри, раньше времени никому не проговорись. Интересно понаблюдать, как люди отреагируют в первый момент после официального сообщения. А вечерком мы пообщаемся. Часиков в девять-десять, ладно?
— Домой позвонить или на работу?
Виктор задумывается:
— Даже не знаю. Лучше всего сам тебе позвоню. Неизвестно, где буду находиться. У нас сейчас совещание за совещанием. Сам понимаешь, случай неординарный…
Я кладу трубку и возвращаюсь за свой кульман. Но обладать такой потрясающей информацией и молчать у меня не получается. Я немедленно наклоняюсь к своей соседке, молодящейся особе предпенсионного возраста, рассматривающей рижский журнал мод, и загадочно шепчу:
— Между прочим, Евгения Михайловна, в четырнадцать ноль-ноль рекомендую включить репродуктор на полную катушку. Передадут кое-что необычное.
Не отрываясь от журнала, Евгения Михайловна усмехается:
— В космос, что ли, запустили представителя очередной братской банановой республики или цены продукты понизили? А может, рецепты на колбасу ввели и будут продавать её только в аптеках?
Евгения Михайловна считает себя непревзойдённой юмористкой и всегда радуется своим шуткам больше, чем окружающие.
— Мелко берёте, — смеюсь я.
Евгения Михайловна чешет в задумчивости кончик носа, и её лицо озаряется:
— Неужели… вождь?!
— Как знать! — Я выразительно закатываю глаза, молитвенно складываю руки и тут же испаряюсь в курилку делиться новостью с прочей публикой. Рубикон перейдён, и теперь новость так или иначе пойдёт гулять по бюро.
Но в курилке народу не густо, только два неразлучных собрата по алкоголю — Петя Карпов по прозвищу Дон Педро и Костя Ковалёв по прозвищу Дон Карлос. Откуда взялись эти прозвища, никто не помнит, но они очень точно отражают суть наших «испанцев». Их испитые добродушные физиономии хранят следы вчерашнего празднества, а потухшие изжёванные сигареты в дрожащих пальцах безмолвно вопиют, что сегодняшнее утро стало для их обладателей всего лишь очередным звеном в цепи нечеловеческих похмельных мучений. И закончатся они лишь с принятием первого вечернего стакана дешёвого портвейна. Как ни странно, но Дон Педро и Дон Карлос прекрасно освоились в своём непривлекательном имидже, весьма неплохо справляются с проектированием за своими кульманами и ещё ни разу не залетали по пьяной лавочке. Продвижение по службе их не волнует, так что прищучить их нечем. Затыкать бреши на овощных базах и осенних сельхозработах они вызываются первыми — за это их в бюро ценят и любят.
— Слышали, господа испанцы, что на белом свете деется? — присаживаюсь рядом с ними и неторопливо закуриваю.
Мутные взгляды неопохмелившихся алкашей безразлично скользят по мне. Наконец Дон Педро через силу выдавливает:
— Новый анекдот принёс? Давай трави.
— Ха! Совсем не анекдот.
— Слушай-ка, Челентано, не пой нам песен о Грузии далёкой, а лучше ссуди троячок до получки, — оживляется Дон Карлос и придвигается ко мне поближе, — ты же нас знаешь. Может, и раньше вернём, если халтура подвернётся. Скоро уже студенты-заочники должны со своими курсовыми косяками пойти или ещё что-нибудь…
— О чём разговор! — миролюбиво откликаюсь я и лезу в карман за кошельком. — Сегодня у вас, ребята, будет всем поводам повод. Тут уж действительно не грешно причаститься.
— Какой такой повод?
— Поминки, к примеру.
— А кто дуба врезал?
— Генеральный секретарь.
— Ну, эти поминки не про нас! Там и своих поминальщиков пруд пруди. Ты нам кого-нибудь попроще подгони.
— Склад у меня покойников, что ли? — смеюсь я, но мне почему-то уже не весело. Этим «испанцам» на всё наплевать, кроме своей выпивки. Такое неординарное событие для них пустой звук.
Пойду лучше к шефу. Уж он-то новость оценит достойно. Тем более он недавно по великому секрету сообщил, что из достоверных источников — а что может быть достоверней «Немецкой волны»! — почерпнул сведения о тяжёлой болезни генсека и его недалёкой кончине. Что и говорить — секрет Полишинеля…
Неслышными кошачьими шагами я приближаюсь к столу шефа и тихонько присаживаюсь на стул напротив. Постоянное недосыпание приучило моего начальника мастерски дремать во время работы, не выпускать карандаша из пальцев и тут же вздрагивать от малейшего шороха при чьём-то приближении, словно он вынужден скрепя сердце отрываться от глубоких раздумий над глобальными проблемами нашего очередного инженерного проекта.
И действительно, шеф устало поднимает голову, щурится от света и вперивает в меня настороженный взор:
— Что там у тебя? Только излагай короче, не тяни время. Спину разогнуть некогда, столько дел скопилось…
Хоть вид у него сейчас и грозный, на самом деле мой шеф человек милейший. Изо всех начальников, которые когда-либо командовали мной, он нравится мне больше всех. Ругать и наказывать он просто не умеет и при этом всегда заявляет, что его губит проклятая интеллигентская жалость к человеку. Но самое необычное, что он и в самом деле мало подходит под стандарт начальников, который с годами выработал наш доблестный бюрократический аппарат. Шеф не кичится своим пролетарским происхождением, потому что таковым не обладает, читает не только газету «Правда», но и самую разнообразную художественную литературу и модные толстые журналы, любит кино и фотографию, прекрасно разбирается в джазе. Что ещё? Да разве перечисленного мало?! Одного этого уже достаточно, чтобы заслужить искреннее уважение хотя бы одного человека в отделе — меня. Вероятно, он чувствует это и платит взаимностью. И ни при чём здесь японские транзисторы и джазовые пластинки, которыми я периодически его снабжаю. Это как бы довесок к нашей дружбе.
— Представляете, — сразу беру я быка за рога, — эти несчастные фальсификаторы из вражеских радиоголосов иногда попадают в десятку. Сегодня в два часа дня ещё только собираются передать по нашему телевидению и радио важное правительственное сообщение, а они уже наверняка трезвонят вовсю. Вам ничего не известно?
Шеф испуганно оглядывается и подносит палец к губам:
— Тс-с! Ты что, с ума сошёл?! Повсюду уши!
У шефа есть все основания опасаться подслушивающих. В далёкие студенческие годы он как-то блеснул остроумием, расшифровав в тёплой компании «СССР» как «Союз Советских Сюрреалистических Республик». Кто-то, естественно, доложил куда следует, и, несмотря на хрущёвскую оттепель шестидесятых, нервишки ему потрепали основательно, правда, окончить институт всё же позволили. А если бы такое он ляпнул сегодня? И представить не могу. Но уж начальником отдела он не был бы точно…
Я невозмутимо гляжу на часы и громогласно сообщаю, чтобы слышали окружающие:
— В трауре по вождю ничего постыдного нет, и нечего об этом перешёптываться, будто мы что-то замышляем. Наоборот нужно рыдать во всё горло. Через три часа и самый глухой услышит.
— Откуда ты знаешь? — Шеф подозрительно косится на меня, но его глаза уже приобретают живой блеск.
— Сорока на хвосте принесла. А радио всё же послушайте…
И тут я невольно обратил внимание на настроение публики в нашем отделе. С самого раннего утра вместо традиционных последних известий и репортажей с полей по радио безо всяких комментариев гоняли симфоническую музыку, и это невольно навевало какое-то тоскливое ожидание и тревогу. Народ начал шушукаться по углам — все понимали, что происходит что-то из ряда вон выходящее.
Едва закончился обеденный перерыв, все стянулись к репродуктору в чертёжном зале и за кульманами никого не осталось. Один лишь я неподвижно восседал на своём рабочем месте и старался через силу изобразить на лице полное безразличие, хотя втайне уже начал беспокоиться: вдруг Виктор ошибся или я неправильно его понял, и теперь в результате своего опрометчивого поступка попаду в пренеприятнейшую историю?
Хотя трудно заподозрить, что ребята из его конторы могли пошутить таким образом. Все мы ходим под Богом, да и вообще шутки в их работе — занятие весьма опасное. Косточки в застенках у всех ломаются одинаково… На миг во мне рождается леденящее душу предположение: вдруг они решили проверить меня на паршивость таким садистским способом? И ведь выстрел точно в десятку… Хотя нет, едва ли. Для чего им копать под меня? Повода я не давал, а всё, о чём они меня просили, выполнял пусть со скрипом, но аккуратно. Детективные истории такого пошиба в реальной жизни не случаются — в этом я абсолютно уверен. Это удел киношников да писателей типа Семёнова и прочих сименонов.
Тем более, коллеги Виктора мне, кажется, доверяют, и я не на плохом счету. Правда, лучше не зарекаться. Любые неожиданности могут произойти.
Лучше подождать. Ох, как долго тянется время!
Два часа дня. Всё в порядке. Я на коне. Вообще-то, радоваться чужой кончине отвратительно и не по-людски, но я непроизвольно улыбаюсь и не могу сдержаться.
В спешном порядке в актовом зале организован траурный митинг. Откуда-то принесён и приставлен к трибуне большой портрет Брежнева, и сквозь чёрную шёлковую ленту, опоясывающую портрет, весёлыми бликами охры просвечивают золотые геройские звёзды.
Насытившийся собственным успехом и успокоенный, я гордо восседаю среди коллег по отделу, обсуждающих «этапы жизненного пути» покойного, без интереса вслушиваюсь в речи начальника бюро, потом парторга, пересказывающих своими словами правительственный некролог. Многие поглядывают на меня вопросительно, но я молчу. Мавр своё дело сделал, больше сказать мне нечего.
И вдруг я вспоминаю просьбу Виктора: надо же последить за публикой. О чём разглагольствует народ вдогонку столь неординарному событию? Какие у людей чёрные мысли на уме?
Что и говорить, гадкая у меня миссия, подленькая. Но ничего не поделаешь, по сути дела, это не просьба, это… приказ. Не выслеживать какого-то откровенного недоброжелателя, не хватать за руку коварного диверсанта и вредителя, а только проанализировать обстановку и зафиксировать конкретные факты. Так это, кажется, называется в завуалированной форме? Впрочем, как ни называй чёрное белым, вряд ли оно от этого станет светлее…
Есть испытанный вариант, когда хочется хоть на время успокоить совесть: достаточно сообщить, что всё вокруг нормально и никаких отклонений от норм я не заметил. На нет и суда нет. Да и для Виктора меньше мороки. Мне же не придётся подробно описывать замеченные факты, а ему комментировать услышанное от меня. Потому что каждая моя писулька даёт ход новым десяти, и ведь одна из них обязательно сыграет… Это мы с Виктором отлично понимаем, но на эту тему лучше не разговаривать. Это наше табу. Дел у Виктора и без меня хватает. Всё, что пишу я и такие, как я, его работа…
Пластиночные фарцовщики, перекупщики модных иностранных тряпок, болтуны-меломаны и смурняки-музыканты — всё это, конечно, мелкая рыбка, но именно та публика, с которой я общаюсь вне работы, и именно она входит в сферу его профессиональных интересов. Без зазрения совести я отдаю её на заклание. Кто-то из них в своё время также поступил и со мной, так что мне их жалеть нечего. Своеобразный круговорот подлости в природе… Жёстко, конечно, но сентиментальничать при нашей жизни глупо. Да и почва здесь благодатная — есть за что зацепиться. Клиентов, интересующих Виктора, настолько много, что по ним и отписываться не успеваешь: стоит сказать «а», тебя тут же заставят сказать «б». А дальше пошло-поехало.
Но… стоп! Это уже в некоторой степени секреты, а я, между прочим, давал подписку о неразглашении.
Значит, решено. Вечером скажу Виктору, что ничего сверхъестественного не заметил, народ воспринял смерть вождя с энтузиазмом… виноват, со скорбью, и так далее, и тому подобное.
В моих доносах тоже существуют своеобразные стандарты, которые выработаны не мной и на которых можно выехать, исписав горы бумаги, но так ничего путного и не сообщив. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Хотя нет, не такие уж дураки читают мои бумаги. Отписаться можно в обычные дни, а сегодня едва ли удастся «ничего не заметить».
Наверное, всё же следует на свой страх и риск написать правду. Разве без меня не заметно, что особой скорби на лицах людей не было, а среднее арифметическое в настроениях окружающих вывести довольно сложно? Точнее будет сказать, что повсюду установилось неустойчивое и нервное ожидание: что будет дальше? Потом не забыть бы отметить, что явных лидеров грядущих бунтов и генераторов крамольных идей обнаружить не удалось. Это, пожалуй, главное, что хотят услышать от меня в конторе Виктора. Тогда мою бумагу можно будет с чистой совестью пронумеровать, подшить в папку и списать в архив. К тем томам, что я уже сочинил.
Вообще-то о делопроизводстве в ведомстве Виктора я имею самое смутное представление, но шкурой чувствую, что бюрократы там отменные. И буквоеды. Попробуй напиши что-нибудь не так или не достаточно подробно — к каждому слову цепляются. И потом берут за горло Виктора, а уж через него меня.
Я быстро усвоил, что если хочешь жить спокойно и быть всегда на хорошем счету, трижды взвешивай каждое своё слово. Правда, у меня не всегда это получается. Особенно, когда попадает вожжа под хвост при виде начальства. Ничего не могу с собой поделать, хоть и отлично понимаю, что главная функция начальства — контролировать тебя, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Сложившийся стандарт начальника — туповатый служака с плёткой в руках и отеческой заботой в глазах. Не знаю, на всех ли уровнях, но на моём — точно. И несть числа этому начальству. Явному и неявному…
Вечером Виктор так и не позвонил. Не знаю, что там у них стряслось, но Виктор не из тех, кто бросает слова на ветер. Однако факт остаётся фактом.
Растерялись они там, что ли? Или при их феноменальной осведомлённости и оперативности не сумели вовремя сориентироваться в надвигающихся событиях? Не знаю. Не мне судить об их работе. Я настолько маленький винтик в их сложной и десятилетиями отлаживаемой машине, что при встряске обо мне можно просто забыть. Но забыть до поры до времени, потому что всё успокоится, придёт в норму, и снова понадоблюсь. Не дадут они мне кануть в неизвестность.
Впрочем, за сегодняшнюю забывчивость я как раз не в обиде. Чем меньше меня трогают, тем меньше угрызений совести по ночам. И не так стыдно смотреть в глаза людям, за которыми мне поручают присматривать и которые об этом, естественно, не подозревают. А то совсем со стыда сгореть можно было бы.
Часто мне снится один и тот же сон.
Будто я проваливаюсь вниз головой в какой-то страшный бездонный колодец с каменными скользкими стенами. Я долго лечу в чёрном свистящем пространстве, судорожно прижимаю локти к груди и подтягиваю колени к животу, чтобы не пораниться о стены. Единственное желание — отсрочить наступление боли… Почти физически ощущается приближение неподвижной масляной поверхности воды на дне колодца, в которой меня наверняка ждёт мучительная смерть.
И всё-таки я решаюсь и отчаянным рывком хватаюсь за скользкие камни, впиваюсь ногтями в едва заметные неровности и трещины. И повисаю вниз головой над самой поверхностью воды. Я её не вижу, но чувствую, как сырая и затхлая прохлада дышит в лицо, пропитывает поры и волосы.
Хочется закричать, позвать на помощь, а голоса нет. Голосовые связки непослушно хлюпают в горле. Запричитать бы, заскулить от бессилия и жалости к самому себе, на худой конец, хотя бы попробовать перевернуться в нормальное положение, но стенки колодца с каждым моим движением стягиваются всё уже и уже. Я уже понимаю, что так и буду висеть вниз головой, пока хватит сил. Кто бы меня выручил? И хватит ли сил у меня дождаться помощи?
С трудом наклоняю голову и пытаюсь заглянуть вверх, где в кромешной темноте должен проглядываться полуразмытый светящийся край колодца, но ничего не вижу…
Руки и ноги сводит судорогой, и я начинаю сползать всё ниже и ниже…
Обычно в этот момент я просыпаюсь и потом долго не могу заснуть. Приснившийся страх сдавливает виски и хочется плакать. Приходится вставать, идти на кухню пить воду и курить, но от воды каждый раз тошнит и пахнет колодезной сыростью, а сигаретный дым наждаком дерёт сухое, так и не смоченное водой горло.
Как я стал тем, кто я есть? И почему? Фарцовка, ей-богу, не самый страшный из моих пороков… Ужасное состояние, когда ежедневно чувствуешь гнусность собственного существования и не можешь ничего сделать. И пожаловаться некому, не то что попросить совета.
Мир, в котором я живу, несмотря на всю рекламируемую им правоту и целесообразность, лжив и жесток, и так на моей памяти было всегда. Иного и представить невозможно. Вся его правота и справедливость — это что-то из области иллюзий. Для сильных и уверенных эти понятия, может, существуют, но только не для меня. Я — из тех гвоздиков, которые созданы для того, чтобы их стройными рядами заколачивали в доску по самую шляпку. А по этим доскам пойдут те, для кого мир и был задуман. Наивно полагать, что я не пытался протестовать и смирился со своей незавидной участью. Но… протестовал ли на самом деле? Наверное, только мечтал о протесте, а до настоящего бунта так и не поднялся. Потому что всегда чувствовал свою ничтожность и бессилие перед этим миром, который всегда оказывался в итоге мудрей меня, дальновидней и сильнее. Он — вон какой огромный, а я…
Свои первые стихи я начал писать ещё в школе на обложках тетрадок — мне это почему-то страшно нравилось! — едва отогревшись после зимних ночных очередей у хлебных магазинов. Время тогда было такое. Спасибо Никите Сергеевичу: на морозе хорошо складывались первые детские рифмы, особенно когда торопиться некуда и впереди долгая зимняя ночь. В школу можно было опоздать — там к стоянию в очереди за хлебом относились с пониманием… Эти первые стихи казались мне потрясающими и прекрасными, потому что в них были зарифмованы лозунги, окружавшие нас на каждом шагу, и рифмовал я, как мне казалось, так, как до меня никто не додумался. Лозунгами разговаривали школьные учителя, лозунги громыхали днём и ночью из уличных жестяных репродукторов, их я впитывал, в конце концов, с молоком матери, пережившей сперва голодные двадцатые в заштатном уездном городке, потом тревожные тридцатые на молодёжной стройке, потом войну в уральской эвакуации… Не один я был такой. Да, по сути, других вокруг меня и не было. Потому ничего другого в то время написать я и не смог бы.
Оправдываю ли я себя в чём-то? И да, и нет. Я верил своим тогдашним стихам. Искренне верил, потому что шли они всё-таки от сердца. Просто ничего другого тогда в сердце и быть не могло. Даже сейчас, наверное, не до конца разуверился. Оттого и не забросил это неблагодарное занятие, как многие из моих сверстников. Может, они были просто прагматичей меня.
Но продолжать писать подобные стихи всё равно что лгать. А ложь — это всегда трусость. Трусость перед временем, перед будущим. Страшно терять привычную точку опоры, страшно терять обжитый уголок и отказываться от привычного, хоть и ненавистного существования. Как люди могут жить лучше, я не представлял, поэтому боялся потерять то, что имел. С годами я, правда, становился смелее в суждениях и поступках, а от страха так и не избавился. И такое может быть…
Ко всему рано или поздно привыкаешь. Как привыкаешь ко лжи даже в собственных стихах, как привыкаешь потихоньку хитрить, если уверен, что тебя не выведут на чистую воду, как привыкаешь обижать слабого, если такой находится, и привыкаешь с искренней слезой петь дифирамбы сильному… Всё закономерно: первая маленькая хитринка, перерастающая в большую ложь, и музыка, которой когда-то бескорыстно увлекался, а потом опустился до фарцовки модными пластинками, и… Виктор в итоге. Червивое яблочко до поры крепко держится на ветке, а потом стремительно падает вниз.
Что со мной происходит сейчас? Всё ещё падаю в колодец?
Когда в тот день я пришёл с работы домой, меня встретили сидящие у телевизора родители. На экране бесновался убитый горем дирижёр Темирканов, и его оркестр вдохновенно грохотал что-то исключительно торжественное и печальное, словно прозорливые композиторы-классики задолго до траурной даты предчувствовали, что в один прекрасный момент нашей необъятной державе понадобятся их гениальные творения в таком незавидном качестве.
Не успел я раздеться, как позвонил Алик, о котором в тот день я совершенно забыл. Удивительное дело, но должник, который, по логике вещей, должен скрываться от кредитора, напомнил о себе первым.
— Слушай, тут такая хреновина вышла, — вкрадчиво начал он, и я стразу понял, что отдачей долга не пахнет, — я здорово рассчитывал, что за эти дни у меня будет парочка дискотек, но все увеселительные мероприятия, к сожалению, отменили. Так что с деньгами придётся подождать. Ты уж не обижайся.
Алик проводил в каком-то клубе платные дискотеки, и это здорово облегчало ему жизнь, так как на зарплату начинающего инженера сильно не разгуляешься при нынешних-то ценах на пластинки.
— Даю срок неделю, и ни дня больше, понял? — недовольно пробурчал я и бросил трубку. — Тоже себе великий комбинатор!
Этого ещё не хватало. Он, наверное, решил, что у меня денег куры не клюют, а у меня долгов столько, что голова кругом идёт! Сиди теперь по его вине на голодном пайке, жди, пока дискотеки разрешат. А тут ещё Светка приезжает — хорош кавалер без копейки в кармане!
Кстати, пока суть да дело, не мешало бы позвонить Надюхе, пустить пыль в глаза… Но мурлыкать с Надюхой по телефону настроения уже не было. Для этого нужно иметь хоть какое-то вдохновение, а впереди ещё разговор с Виктором.
Я закрылся у себя в комнате и упал на тахту. Даже читать ничего не хотелось — до того испортилось настроение.
— Кушать будешь? — спрашивает через дверь мама.
Я ничего не отвечаю и отворачиваюсь к стенке. Хорошо бы вздремнуть часок, но и спать что-то не тянет.
— Смотри, что я разыскала, — не унимается за дверью мамин голос.
Я поднимаюсь и шлёпаю к двери, изображая крайнее неудовольствие. В руках у мамы красная нарукавная повязка с чёрной шёлковой окантовкой.
— С пятьдесят третьего года храню, — объясняет мама, — со сталинских похорон. Вот я и подумала, может, снова велят носить траурные повязки.
— До этого, надеюсь, не дойдёт, — невольно усмехаюсь я.
— Кто его знает.
— А помнишь, мать, как ты плакала, когда хоронили усатого? — доносится из комнаты отцовский голос. — Да ещё приговаривала: что мы теперь будем делать без него, без кормильца нашего?
— Перестань, — не на шутку обижается мама, — надоели твои плоские остроты… Не одна такая я была. Все плакали, никто этого не стыдился. Да и сейчас стыдиться нечего. Сталин многое сделал для страны, не то что нынешний. И не нам смеяться над ним.
— А кому же? — продолжает веселиться отец. — Одним, значит, можно, а другим возбраняется?
Тем временем я уже нацепил сталинскую повязку и подливаю масла в огонь:
— А если я сейчас выйду с ней на улицу и всенародно зарыдаю? Вот потеха будет!
— Замолчи! Ничего святого в тебе нет! — в сердцах плюёт мама. — Весь в отца, лишь бы поржать, а что потом будет — неважно. Так тот десять лет в лагерях просидел и до сих пор не знает за что, а ума-разума так и не набрался. Ей-богу, договорится до того, что снова упекут.
— Не упекут, — усмехаюсь я и сдёргиваю повязку, — сейчас времена другие.
— Много ты знаешь! Будто стукачи на белом свете перевелись! — Из комнаты показывается отец, и на его лице уже не осталось даже следа прежнего веселья. — Ты вот что, сын, особо не болтай, мало ли что мы дома между собой говорим. А то ляпнешь где-нибудь…
— Не маленький уже! — огрызаюсь я и скрываюсь в своей комнате.
Разговаривать о стукачах мне совсем не хочется, потому что знаю: затронь больную для отца тему, и он заведётся, начнёт долго и многословно пересказывать события давно минувших дней, вспоминать свою горькую и неудавшуюся судьбину. Да и что весёлого может рассказать бывший офицер-фронтовик, побывавший в окружении и угодивший в советские лагеря за то, что спасся и не погиб, а уже там заработавший дополнительный срок благодаря доносу какого-то подонка? Обо всём этом он долгое время молчал, а потом, видимо, решил, что я уже повзрослел, и выдал всё разом. А теперь уже и остановиться не может…
Скоро должен позвонить Виктор, и нужно хотя бы морально подготовиться к разговору с ним.
Но Виктор в тот вечер так и не позвонил.
Ночью мне опять снился колодец. Но этот сон уже не был таким, как обычно.
Я снова падал и летел в чёрной бездонной пустоте, но в самый последний момент, когда удавалось зацепиться за скользкие стенки и заглянуть вверх, мне неожиданно почудилось, что если постараться, я сумею перевернуться и миллиметр за миллиметром подтянусь, а там, глядишь, выберусь.
И вот я, затаив дыхание и истекая липким холодным потом, понемногу изгибаюсь и как можно сильнее вжимаюсь в стену, чтобы при неловком движении ненароком не соскользнуть.
Всё ближе светящийся овал деревянного колодезного сруба. Но он настолько мал и далёк, а сил всё меньше и меньше, что отчаяние начинает душить меня. Кажется, что уже ничего никогда не изменить и лучше держаться в этой зыбкой неподвижности, чтобы хоть на какие-то минуты отсрочить неминуемое падение.
Боль и злоба захлёстывают меня. Злоба за то, что всё складывается так неудачно, а ведь я ничем не хуже других и мог бы жить как остальные, если бы — парадокс! — не плёлся в хвосте у всех, не боялся стать самим собой, не боялся выделиться из общей массы… За это и расплачиваюсь.
Я беззвучно кричу и судорожно сжимаю кулаки, а они неумолимо скользят по холодным камням, обдирающим кожу своими невидимыми выступами. И вот я снова падаю, но уже не могу дотянуться до стен, как ни стараюсь…
Утром у меня раскалывается голова и такое гадкое состояние, будто я до глубокой ночи пьянствовал в случайной и скучной компании, а сейчас, не выспавшись, должен идти на работу. Я распахиваю форточку, но свежий воздух, хлынувший сквозь смятую штору, сегодня меня не бодрит.
На часах уже восьмой час, пора и в самом деле на работу.
Повсюду на улице и в троллейбусе только и разговоров о смерти Брежнева. Флаг на здании райисполкома приспущен и перевит чёрной лентой. Слегка накрапывает дождик, и вообще погода под стать моему настроению.
Но в бюро тишина и спокойствие. Репродуктор, работавший в обычные дни с утра до вечера, сегодня выключен, чтобы не отравлять настроение окружающих бесконечно льющейся траурной музыкой. И без того мины у всех кислые.
— Кого, по-твоему, изберут генсеком? — заговорщически спрашивает меня Евгения Михайловна, выглядывая из-за кульмана.
Я пожимаю плечами и углубляюсь в чертёж. Лучше всего отмолчаться, потому что моё мнение её нисколько не интересует и нужно лишь для затравки разговора. Сей животрепещущий вопрос наверняка детально обсуждается моими коллегами с самого утра, и у Евгении Миха йловны определённо имеется своя кандидатура, которую она будет отстаивать с пеной у рта.
— Нам-то, простым смертным, какая разница? — выдавливаю я. — Там, наверху, виднее.
— Какие все скрытные пошли! — обижается Евгения Михайловна, и её крашеные букли возмущённо подрагивают. — Сейчас, можно сказать, судьба государства решается, а вам на всё наплевать! Ну и молодёжь!
— Так уж и наплевать! — скалю я зубы и зачем-то припоминаю: — Скажите, а вы плакали, когда Сталин умер? И повязку траурную на рукаве носили?
Евгения Михайловна удивлённо таращит на меня глаза и поспешно исчезает за кульманами. Подобные параллели ей явно не по вкусу. О прошлом говорить, пожалуй, ещё опасней, чем о будущем.
Отлично, на ближайшие несколько минут я обеспечен тишиной. Но наивно полагать, что она так легко от меня отвяжется. В течение дня Евгения Михайловна ещё не раз подойдёт со своими расспросами и комментариями, ведь вчера я так неосмотрительно выдал свою военную тайну. Теперь она, вероятно, считает, что я знаю что-то ещё и набиваю себе цену, отмалчиваясь.
Если бы настроение у меня было чуть лучше, я не упустил бы случая от души повеселиться и наплёл бы ей на полном серьёзе вагон и маленькую тележку самых правдоподобных небылиц. Уж кого-кого, а её я разыгрываю частенько. Но сегодня мне веселиться не хочется.
Посидев немного за своим кульманом и заточив в раздумьях пару карандашей, я перебрался в курилку. Сегодня здесь многолюдно как никогда. В густых табачных облаках мелькают какие-то неясные тени, оживлённо беседующие друг с другом. О чём — понятно. Других тем сегодня просто нет.
Все с любопытством поглядывают на меня, и в этом опять нет никакой загадки. Слухи в нашем бюро разносятся молниеносно, и я, без сомнений, сегодня герой дня, если, конечно, не считать августейшего усопшего. Все ждут от меня чего-то свеженького, как от оракула, доносящего новости с горних вершин. Но я смиренно присаживаюсь в уголке, демонстративно не обращая ни на кого внимания, и задумываюсь.
Опрометчиво я поступил вчера, ох, опрометчиво. Я уже не раз пожалел об этом. Если слух о моей болтливости дойдёт до Виктора или его коллег, то их покорному слуге не поздоровится. Откуда мне знать, один ли я такой в нашем бюро или есть ещё кто-то? И ведь есть непременно, только Виктор об этом никогда не скажет. Глупо залетать из-за такой мелочёвки. Тоже себе — великий разоблачитель шпионов, не сумевший подержать язык за зубами каких-то пару часов…
Рядом со мной осторожно присаживается шеф, который никогда в жизни не курил и всячески избегал курилки, а сегодня, вероятно, поддался всеобщему ажиотажу и явился в этот маленький пресс-центр — рассадник свободолюбия и новостей местного и вселенского масштабов.
— Что новенького? — с деланным безразличием вопрошает он и замирает в ожидании. Остальные посетители курилки тоже замирают в предвкушении моего будущего сенсационного сообщения.
— Вроде бы ничего особенного. Всё развивается по заранее расписанному сценарию американских спецслужб. — Помимо желания я начинаю играть на публику. Такая у меня дурацкая натура. — Ведь у нас, насколько я помню, плановая система ведения хозяйства… ну, и всего прочего.
— Ты это о чём? — вздрагивает шеф. — Ох, договоришься…
Конечно, он понимает, что я валяю дурака, и подобными перлами остроумия его не провести. Шефу нужно что-то конкретное. Придётся врать, чтобы не подумал, что я высасываю новости из пальца.
— Вчера мне позвонил один знакомый с радиовещания, они всегда всё узнают самыми первыми, — с энтузиазмом начинаю я, — а сегодня, как говорят дипломаты, никаких комментариев.
— Ну, ты и жук! — подмигивает шеф, и мне становится ясно, что он нисколько не верит. — Так уж и никаких комментариев! Ты что, меня опасаешься?
А вот это меня уже и в самом деле пугает. Неужели он о чём-то догадывается? Я же никому не обмолвился ни единым словом о том, чем занимаюсь помимо основной работы и писания стихов, а в службе Виктора болтунов не держат. Не похоже и на то, что там могли сработать не очень чисто и позволить кому-то из непосвящённых вычислить меня. Почему же шеф не верит? А вдруг и он… тоже…
— Если хотите, могу позвонить на радиовещание хоть сейчас. — Я продолжаю отчаянно выкручиваться, но мой голос уже звучит неуверенно. — Может, появились какие-то новости…
Шеф ничего не отвечает, только хитро усмехается и отходит. От табачного дыма у него давно слезятся глаза, и вскоре он окончательно исчезает из курилки.
На смену ему тотчас подсаживаются «испанцы». Слава аллаху, их волнуют совсем другие проблемы, и это меня вполне устраивает.
— Слушай, Челентано, — начинает подмазываться Дон Педро, — одолжи ещё троячок. Понимаешь, после вчерашнего хоть шинель продавай, а стакан прими…
Лица у них сегодня более опухшие, чем обычно, руки трясутся, на бледных лбах испарина.
— Как не выпить за упокой дорогого Леонида Ильича по нашему русскому обычаю? Он и сам того при жизни не гнушался, — подхватывает Дон Карлос и косится на товарища. — Трёхдневный траур — это тебе, брат, не шутка! Такого человека потеряли…
Я молча отдаю им трояк и тут же начинаю жалеть об этом: как бы они меня сразу же не покинули. При них меня не так рьяно будут осаждать другие любопытные. Но «испанцы» поспешно исчезают, и я остаюсь один. Пора, наверное, уходить из курилки, а то я благодаря своей болтливости попал в самое жерло вулкана. Уж если не расспросами, то рассуждениями о будущем нашей многострадальной державы меня здесь доконают окончательно.
Специально стараюсь не вслушиваться в пространные рассуждения завсегдатаев курилки, потому что непроизвольно начну фиксировать в памяти малейшие крупицы крамолы. Так уж по-дурацки устроена моя память. А при встрече с Виктором непременно проговорюсь об этом, и — завертелась карусель. Он не отвяжется от меня до тех пор, пока я досконально не выложу всю подноготную этих неосторожных болтунов.
До конца рабочего дня стараюсь по-стахановски вкалывать за кульманом, наверное, единственный во всём бюро. Где-то за моей спиной разгораются страсти, публика ожесточённо спорит обо всём подряд, а я непрерывно повторяю сквозь зубы: не твоё дело подслушивать чужие разговоры, уймись хотя бы сегодня, лучше выполняй план на сто два и пять десятых процента, как сам же и записал в своих соцобязательствах!
Евгения Михайловна демонстративно ко мне не подходит и только уныло поскрипывает о нравах современной распущенной молодёжи. К удивлению окружающих, шеф сегодня не дремлет за своим столом и, не вступая в дебаты, изредка поглядывает в мою сторону хитрющим глазом, шевеля бровями и загадочно улыбаясь. Подзывать меня к себе он так и не решается. И на том спасибо.
Потаённая мысль: не он ли?..
Вечером мне ещё хуже, чем днём. Родители куда-то ушли, и дома непривычная тишина. Включать телевизор бесполезно: никаких передач там нет, только траурная музыка. Мне никто не мешает и не стоит над душой, а я всё никак не могу отыскать себе место. Стихотворение, начатое неделю назад, не лезет в голову, а исчерканный лист на письменном столе доводит меня чуть ли не до бешенства. На работе среди людей я как-то сдерживался, а тут раскис и готов, словно из вскрытого нарыва, выплеснуть наружу гной своего отвратительного настроения.
Лезу в сервант и наливаю рюмку водки. К этому испытанному успокоителю я прибегаю редко, но иногда приходится. Однако желанного облегчения водка не приносит, от неё становится только хуже.
И от Виктора нет звонка. Что у них там всё-таки стряслось? Ожидание, честное слово, самое худшее из того, что можно сейчас представить…
В обед, когда по радио объявили, что Генеральным секретарём партии избран Андропов, реакция публики в нашем бюро была весьма неожиданной, хотя ничего неожиданного в этом назначении не было: все угадали почти стопроцентно, ведь Андропов был наиболее ожидаемой кандидатурой на этот пост, и всё же… Во всём этом ещё с утра была какая-то интрига, порождающая волнующее неустойчивое нетерпение, лёгким ознобом пронизывающее каждого из нас. А теперь всё закончилось, и наступило желанное облегчение, этакая эйфория.
— Наконец порядок будет! — первым произнёс кто-то после минутной паузы.
— Размечтались! Одному человеку с этим бардаком не справиться! — тут же усомнился его сосед.
— Но ведь так продолжаться дальше не может! Поймите это!
— А раньше разве было непонятно? Только сейчас прозрели? Он один, а какие шестерёнки придётся проворачиваться. Уму непостижимо!
— Между прочим, не забывайте, какое ведомство возглавлял Андропов…
— Ещё не забыли.
После этого не совсем приятного напоминания на некоторое время воцарилась тишина, но прежний голос упрямо возразил:
— Ну и что? Это не имеет никакого значения. Раньше, конечно, было, что подъезжал к дому «чёрный воронок», выводили тебя, грешного, под белы ручки товарищи в чёрных кожанчиках и — поминай как звали. Хорошо, если червонец вкатают, а то и в распыл…
— А при Брежневе?
Об августейшем усопшем уже говорили в прошедшем времени, будто его эпоха закончилась, а ведь он не был даже похоронен. Все наверняка думали о завтрашнем дне.
— А при Брежневе нет!
— Много вы знаете! Небось, обо всём только по газетным передовицам и судите!
— А у вас факты, простите, есть? Или другие источники информации? Вражьи голоса, небось, слушаете? Прямо-таки разговорились, осмелели!
— Хватит рты затыкать, намолчались уже, — взбеленился какой-то правдолюб. — Совсем как рыбы стали, человеческие слова забывать начали! Нас уже можно удочкой за губу таскать и на сковородке поджаривать, а мы всё побаиваемся, как бы хуже не стало!
— Давайте-давайте, юродствуйте, только заранее сухарей насушите!
Против желания я поглядел на того, кто предлагал сушить сухари, но все вокруг словно сговорились, и каждый стал выдавать такие вещи, за которые ещё несколько дней назад по головке не погладили бы те же сегодняшние правдолюбы. Да и не отважился бы говорить такое никто несколько дней назад.
А сегодня? Как изменились люди всего за один день!
Пока я раздумывал, спор перешёл в несколько иное русло. Кто-то глубокомысленно изрёк:
— Вы, братцы, погодите. Кто знает, как всё повернётся. Может, всё останется по-прежнему: какому руководителю захочется что-то менять и переиначивать, если можно и без того жить припеваючи в нашем тихом болоте?
— Не беспокойтесь. Так, как было, больше не будет. Народ не позволит. Могу спорить на что угодно. Задарма и чирей не вскакивает.
— Вы ещё пару поговорок вспомните!
— И вспоминать не буду! Просто не забывайте: руководители приходят и уходят… вернее, их уносят, а народ остаётся.
— В дураках? — захихикал кто-то остроумный.
— И язычки некоторым укорачивают! Не забывайте, кем был Андропов ещё вчера. Вам это что-нибудь говорит?
— А вам? К чему вы это вспомнили?
— Ни к чему! К тому, чтобы вы задумались.
Кто-то вздохнул и, понизив голос, прибавил:
— Действительно, не всю ещё тайгу повалили и не все беломорканалы построили. На всех говорунов хватит.
— Руки коротки! Всё-таки мы в цивилизованной стране живём — не в какой-нибудь… Америке! И культ личности искоренили!
— Так уж и искоренили! — съехидничал тот же остряк. — А «дорогой Леонид Ильич»?
Все тут же посмотрели на большой портрет над столом шефа. Портрет висел так высоко, что свет из окна падал на него всегда только снизу, тень полностью закрывала лицо, и освещена была лишь богатырская грудь в маршальском мундире с алмазной звездой на галстуке и целым иконостасом орденов и медалей.
Я поискал взглядом Евгению Михайловну и обнаружил, что она давно уже посмеивается над заглянувшим в наш отдел Доном Карлосом.
— Уж теперь-то вы, ребятки, попьёте водочки! Андропов вам краники перекроет. Он, говорят, человек строгий и непьющий.
— Не перекроет, — мужественно оборонялся Дон Карлос, — не так это просто. Испокон веков россияне потребляли алкоголь, и никому из руководителей он не мешал руководить страной. Он нам даже «строить и жить помогает». Вот! А перекроют краники — придумаем что-нибудь. Голь на выдумки хитра!
— Жаль, что Андропов в возрасте, и со здоровьем у него неважно, — погрустнела Евгения Михайловна. — Может многого и не успеть. Как бы чего и с ним не произошло…
Многие вещи сегодня, наверное, допускалось говорить вслух. Симпатии и антипатии к руководителю государства — дело сугубо личное. Если это не расценивать, как пропаганду, то, будем считать, сие пока ненаказуемо. Но намекать на скорую кончину очередного небожителя — это уже не просто личное мнение, а нечто большее. Ох, не следовало бы говорить такое вслух Евгении Михайловне… Кто её тянет за язык? Жизнь прожила, а не понимает, где и когда можно трепаться. Ведь именно такие неосторожные болтуны и интересуют коллег Виктора. Ну, и меня, как их «помощничка»…
Впрочем, никто пока не знает, что их будет интересовать теперь. Времена наступают новые, а новые времена — новые задачи, цели и мишени. И ничего мы не вольны изменить. Все мы — и я, и Виктор с его ребятами — только передаточные звенья громадного механизма, и наши мнения никого не волнуют.
Но я-то, чёрт возьми, причём?! Зарплату я у них получаю, что ли? Я им чем-то обязан? Да ничем! Ну, попался в своё время на крючок по глупости, струхнул как следует, не сумел побороть животный страх. Ведь помнил же и ни на минуту не забывал историю моего отца. Пуще смерти был напуган рассказами о сталинских опричниках. Даже подумалось мне в одну из бессонных ночей, что рухнуло всё в одночасье, конец моим планам на будущее и ничего светлого впереди меня уже не ждёт. И стихи свои лозунговые в одно мгновенье возненавидел — какой толк от них, сплошная показуха, которую никто не читает, кроме тебя самого, да и то потому что в них ошибка на ошибке…
А ведь разговаривали со мной эти люди поначалу вежливо, почти по-отечески, журили как неразумного дитятю, но сразу чувствовалось в их речах что-то тяжёлое, удушливое, не оставляющее никакой надежды. Тогда-то мне и стало до конца ясно, что никуда от них не деться, никуда не спрятаться.
Повод для нашей первой встречи был зряшный — куплеты для институтского капустника, написанные мной, да ещё спекуляция иностранными пластинками, о которой они упомянули вскользь, а потом и вовсе перестали вспоминать. Никто меня не пугал никакими карами и не зачитывал Уголовный кодекс, лишь в некоторых местах наших бесед наступало глубокомысленное молчание, мол, понимай, парень, что недосказанность иногда красноречивей угроз…
Со временем я привык к своему положению. И ко мне привыкли, потому что убедились: клиент сломлен, полностью на крючке и понимает, что от него требуется. Даже кое в чём доверять начали…
Я и мечтал-то на первых порах по наивности о малом: если уж от меня не отвязываются, то хоть бы не ставили палки в колёса. Дадут окончить институт, а там видно будет… Уверенности хотелось в завтрашнем дне, а они мне об этом то и дело напоминали. Не раз я твердил про себя: чёрт с вами, сделаю то, что вы просите, только, ради бога, не… А что «не»? Сколько к этому «не» можно добавить вещей, которые поломают мою жизнь! Один росчерк какого-то неведомого мне, но могущественного пера, и всё полетит в тартарары. Хоть в космос улетай, в далёкие галактики, и там достанут…
Наверное, это отцовские гены. Воля, сломленная задолго до моего рождения. Только отец в далёких воркутинских лагерях наверняка не опускался до того, чем занимаюсь я сейчас…
Лишь сегодня я понял, что жизнь прекрасна по-настоящему лишь в одном случае: когда никто не дышит тебе в спину, не следит за каждым твоим шагом, не взвешивает каждый твой поступок, не вслушивается в каждое твоё слово. Хорошо, когда есть такая уверенность.
Поэтому, наверное, я и согласился без лишних уговоров сообщать обо всём, что увижу и услышу крамольного от своих знакомых. Так на моём горизонте возник Виктор. Наше знакомство длится уже не первый год, и мы даже, в некоторой степени, стали друзьями. Если это, конечно можно назвать дружбой. А ведь он даже намекал мне почти открытым текстом, что при нашей специфике такое не рекомендуется.
Проще говоря, я стал стукачом. Как это называется у них, мне безразлично и никогда не интересовало. О моём амплуа не знает никто из моего окружения, кроме тех, кому это положено знать. Не в интересах организации Виктора афишировать своих осведомителей. Это дискредитирует не столько меня, сколько их. На меня им, я уверен, плевать, хоть они и утверждают обратное.
Стукач, провокатор, осведомитель. Точнее — предатель… Как ещё назвать пообидней? Как ни называй, суть одна, какими бы благими идеями тебе не забивали голову…
Ко всему привыкает человек. К унижениям, побоям, издевательствам. А к собственной подлости? Привык ли я безропотно и слепо выполнять всё, о чём меня просят? Успокаивается ли хоть изредка моя совесть?.. Глупо спрашивать себя, хорошо я поступаю или плохо. Напуганный человек никогда не бывает объективным и стремится оправдать свои гадкие поступки. Но стремится ли что-то исправить? Продолжай я писать свои жизнерадостные плакатные стишки, может, и казалось бы мне, что я по-прежнему прав, но сегодня…
За что нам дарована высшими силами совесть — в награду или за грехи? Нет-нет да и ковырнёт она своими железными коготками по сердечку. И ничем её не успокоить и не задобрить оправданиями, что не ты один такой на свете, а имя нам, стукачам, легион. Волей-неволей даже начинаешь радоваться тому, что никогда не примиришься со своей незавидной участью. Совесть — это крохотная соломинка, за которую ещё можно ухватиться, чтобы не утонуть в океане несправедливости, а вот как выбраться из него?
Каждый раз, когда я начинаю раздумывать об этом, у меня начинает дико болеть голова. Ни сигареты не помогают, ни водка, ни таблетки. И никак мне не забыться и ничем не отвлечься. Даже в хмельных компаниях со старыми институтскими друзьями или в хитрых комбинациях с пластиночными клиентами не нахожу себе места. Повсюду мне мерещится кто-то невидимый, скрупулёзно взвешивающий на своих весах каждый мой поступок, каждое моё слово. И вот тогда по-настоящему ко мне приходит страх. Я боюсь и ненавижу самого себя, потому что знаю, что в один прекрасный момент не выдержу и сорвусь. Тогда — конец… Только чему?
Пока осторожность меня не подводит. Как заправский гроссмейстер, я рассчитываю свои поступки на несколько ходов вперёд и строю хитроумные комбинации. На это у меня ещё хватает сил. Чутьё меня тоже пока не подводит, поэтому я всегда молчу и слушаю. Слушаю и отбираю нужное… для Виктора.
И не устаю каждую секунду спрашивать себя: сколько ещё на свете подонков и отщепенцев, лижущих руку, которая грубо и властно гладит тебя по холке, и в то же время люто её ненавидящих? Сколько ещё таких, как я, на свете?!
Оправдывает ли это меня в собственных глазах хоть чуть-чуть?..
Вечером вместо ожидаемого Виктора звонит Светка.
Ах, как некрасиво у нас всё складывается! Я должен был позвонить ей ещё вчера, если уж не удосужился встретить с поезда, и — забыл. Денёк она, естественно, подождала, надеясь на мою порядочность, да, видно, надежды не оправдались.
— Привет, Лютик! — Лютиком она называет меня, когда обижена и хочет чем-то досадить. Знает же, что терпеть не могу этого дурацкого прозвища, которым меня не называет никто, кроме неё, и всё равно зовёт. — Чего не звонишь, а? Забыл? Или какая-нибудь другая причина? Что ж, придумывай, а я послушаю.
Эта тирада заготовлена ею, вероятно, заранее, поэтому перебивать Светку бесполезно. Лучше дать выговориться, и за это время изобрести и в самом деле какую-нибудь отговорку.
— Что-то не чувствую твоего бешеного восторга. — Светкин голос слегка изменяет окраску, но это всё ещё домашняя заготовка. — Неужели ты по мне не скучал? А ведь я тебе кое-что привезла из Венгрии. Что молчишь?
— Здравствуй, Светик, — уныло выдавливаю я. — Рад тебя слышать. Прости, что не позвонил сам. Я так замотался…
— Ого! Какая-нибудь новая пассия? Ну, ты и ходок! Смотри, потребую принести справку от венеролога.
Светка невесело хохочет над своей великой остротой, а меня это бесит:
— Не говори глупостей! Какая пассия?!
— Откуда я знаю, какая! Ты перед кем-нибудь другим притворяйся, а меня не проведёшь. Дохлый номер. За тобой глаз да глаз нужен. Я не постесняюсь и обо всех твоих похождениях выясню, так и знай…
Какой-то дурацкий разговор складывается. И так настроение гнусное, а тут ещё Светка со сценами ревности. Ладно, если бы между нами были какие-то серьёзные отношения, а то ведь так — фигуры речи. Нет чтобы сказать что-то ободряющее, доброе — куда там! Впрочем, это в её стиле. Ей кажется, что у неё на меня монополия. Пока не найдётся кто-то более достойный, на кого эта монополия переместится. Хотя и я хорош: веду себя по отношению к ней, как свинья, и ещё надеюсь, что она будет передо мной ковриком стелиться.
— Молчишь? — Чувствую, что Светка уже на взводе. — Значит, не только я тебе подарок из Венгрии привезла, но и ты мне гостинчик местного разлива заготовил!
Такие заявления и улитку доведут до белого каления. Я не выдерживаю и взрываюсь:
— Всё высказала? Что ты ещё хочешь от меня услышать?
— Ничего! Просто мне надоело весь день сидеть у телефона и ждать! Ну, где ты ещё найдёшь такую дуру?! Тоже себе ухажёр — даже встретить не смог…
Похоже, она готова пустить слезу. Этого ещё не хватало. Пока не поздно, лучше сменить тональность, потому что окончательно ссориться и терять Светку мне не хочется. Тем более, из-за таких пустяков.
— Светик, пойми меня правильно, — сразу же иду я на попятную, — у меня сейчас сплошная невезуха. Чёрная полоса в жизни. Всё из рук валится, настроение хуже некуда.
— Что-нибудь случилось? — тревожится Светка.
— Нет. Хотя я и сам не знаю. Просто мне сейчас нужно побыть одному. Пойми меня правильно…
— Ой, какие мы несчастные! — всё ещё не доверяет Светка. — Пожалейте нас, посюсюкайте вместе с нами!
Она знает, чего добивается. Если бы я сейчас водил её за нос, то при последних словах не сдержался бы и наговорил в ответ подобных комплиментов. Но я молчу, и мне всё больше и больше хочется бросить трубку.
— Значит, ты не собираешься со мной сегодня встречаться? — Светка меняет тактику и начинает темпераментно дышать в трубку. Вероятно, это её последняя козырная карта: против такого ни один нормальный мужик не устоит.
Но я набираю побольше воздуха и, зажмурившись, отвечаю:
— Не собираюсь. Может быть, потом…
Мне и в самом деле никто сейчас не нужен. Особенно она с её бьющей через край энергией и неистощимой болтовнёй про что угодно — от венгерских достопримечательностей до того, какая сука какая-нибудь из её приятельниц.
— Ай, какие мы бедняжки! — Светка начинает ёрничать, а это верный признак крайнего раздражения. Чувствую, с какой ненавистью стискивает она в ладони телефонную трубку и суживает глаза. — А может быть, ты тоже в трауре со всей страной? Как я сразу не догадалась! Никогда не замечала в тебе монархических замашек.
У меня возникло желание обозвать Светку самыми обидными словами, но лучше пока сдержаться и отвести свой бронепоезд на запасные пути. Хоть Светка и порядочная стерва, но человек отходчивый и не злой. Без неё мне придётся совсем плохо.
— Светик, — тоскливо зову я, — не надо сейчас, прошу тебя… Давай я тебе перезвоню позже? А сейчас мне действительно нужно побыть одному. Не обижайся, ладно?
В трубке тишина. Некоторое время я слушаю радио, прорывающееся в телефонную линию, потом до меня доносится Светкин голос, неожиданно далёкий и какой-то бесстрастный:
— Что ж, дело твоё. Сиди в своей келье и переживай неизвестно из-за чего. Я же тебе скажу одно: свято место пусто не бывает. Надеюсь, ты меня правильно понял?
А потом в трубке короткие гудки. Здорово я обидел Светку. И сам того не хотел, а обидел. Одна надежда, что человек она отходчивый, сердце у неё доброе, и злиться она долго не умеет. А не простит меня, значит, виноват в том только я сам.
И это ещё в придачу… Господи, почему я не могу открыть перед ней свою душу? Неужели она не поняла бы меня? Ведь она, по сути дела, самый близкий мне человек на этом свете!
Не могу. Не могу…
Снова мне снится сон.
Я падаю в колодец, и чёрные скользкие камни, как всегда, пролетают мимо меня. Рискуя ободрать и без того израненные руки, я который раз пытаюсь вцепиться в стены. Но руки неожиданно протыкают их, и я вижу свои пальца, шевелящиеся в пустоте. Мне становится страшно, и я кричу:
— А-а-а!
Впервые крик, приснившийся мне, явственно доносится до моего сознания. Я слышу его. Раньше во сне я кричал беззвучно, а теперь вот услышал.
Я вздрагиваю и просыпаюсь. Губы пересохли, на лбу испарина. Сквозь шторы пробиваются первые рассветные лучи. В комнате тишина и покой, лишь эхо от моего крика, словно в громадном горном ущелье, слабо колышется среди едва различимых книжных полок в углу.
Неужели я и в самом деле кричал? Такого со мной ещё не было. И мне уже наяву становится холодно и страшно. Бесконечно страшно.
Чуть свет, перед самым выходом на работу, мне всё-таки звонит Виктор.
— Ну, как дела? Что новенького? — бодрым деловым голосом интересуется он, словно его рабочий день давным-давно начался, а я, безбожный соня-засоня, готов проспать всё на свете. — Есть что-нибудь в нашем плане?
— По мелочам.
— А конкретней?
— По телефону?
— Конечно, нет. Но если что-нибудь действительно интересное, надо встретиться, не откладывая.
— Кое-что всегда есть.
Я ещё не представляю, о чём буду говорить с Виктором, но совсем молчать не годится. Подспудный страх не даёт. Поэтому я решил для себя: лучше нести всякую ахинею, которую потом тридцать три раза перепроверят, упрекнут меня в излишней подозрительности и шпиономании, но, главное, не заподозрят в том, что пытаюсь что-то скрыть… Наплету что-нибудь при встрече.
Как ни странно, но звонок Виктора меня взбодрил и развеял хандру. Уж лучше хоть какая-то определённость, чем бессмысленное изнурительное ожидание. По крайней мере, теперь появилась маленькая надежда на то, что отношение ко мне не переменилось и можно безбоязненно жить дальше. Мелкая надежда, шкурная, эгоистическая. Зато тылы прикрыты… И тут же снова знакомо кольнуло в сердце.
— Когда же нам встретиться? — сам себя спрашивает Виктор и сразу с готовностью отвечает: — Сегодня, наверное, не получится — очень много работы. Завтра тоже. Если только послезавтра?
— Можно и послезавтра. Мне не к спеху.
— Так у тебя действительно ничего срочного? Я имею в виду подготовку терактов, стихийные выступления, распространения листовок порочащего содержания и тому подобное.
— О чём ты говоришь! В нашем тихом болоте…
Но Виктор перебивает:
— Значит, договорились. Послезавтра в восемнадцать ноль-ноль там же, где всегда. Больше у тебя ничего?
— Ничего.
— Тогда до встречи.
На улицах повсюду красные флаги с чёрными лентами. Я вспоминаю траурную сталинскую повязку и оглядываюсь. Казалось бы, такое событие, как трёхдневный траур, должно всколыхнуть страну, как это было в пятьдесят третьем году, по рассказам очевидцев. Однако всё по-прежнему буднично.
Из окон заводского общежития, мимо которого я прохожу, несмотря на раннее утро, уже разносятся раскаты «Утренней гимнастики» Высоцкого. Среди спешащих на работу людей я слышу чью-то беззлобную перебранку, кто-то раскатисто хохочет над бородатым затасканным анекдотом про Брежнева, забавно копируя его дикцию. Всё как обычно, и даже не верится, что совсем немного времени люди будут помнить об этих трёх невесёлых днях — а так и будет! — потом всё незаметно войдёт в обычную колею. Загремят в клубах дискотеки, по телевизору после вестей с полей пойдут бесконечные комедии и детективы о буднях милиции, ведь жизнь ничем не остановить и не притормозить, даже чьей-то державной кончиной.
Хотя нет. Что-то, наверное, всё же должно измениться. Иначе быть не может. Потому что так, как оно есть, действительно дальше уже нельзя. Это любому ясно. В поведении окружающих людей уже сейчас что-то незаметно изменилось. Это пока не очень бросается в глаза, но я-то чувствую. Глаз у меня намётанный.
А в моей жизни — изменится ли что-то в ней? Что бы я хотел изменить сам? Работа, зарплата, окружение — ну, этим-то никогда не бываешь до конца доволен. Но мириться, в общем-то, можно. Книги, пластинки, магнитофоны, модные тряпки — это вообще бред какой-то… Другое — изменится ли? От своей второй жизни, потаённой и постыдной — избавиться бы раз и навсегда, забыть её, как кошмарный сон, чтобы жить, как многие другие. Как я мечтаю быть похожим на них!
С другой стороны, страшно за грядущее. Я боюсь перемен, хоть и стремлюсь к ним всей душой… Но чего же я боюсь, чёрт возьми?! Что я могу потерять? Никаких благ и преимуществ перед остальными эта вторая моя жизнь мне не принесла. Ни почёта, ни уважения, ни малейшего удовлетворения. Я не борец за идею, да и не встречал, если говорить честно, таковых вокруг себя. Может, моё второе «я» настолько крепко вошло в плоть и кровь, что я уже не в силах от него отказаться, и живу этой своей второй жизнью, как главной? Страшно…
Ни ночью, ни днём, ни на работе, ни дома не покидают меня эти мысли. Я стараюсь отвлечься — часами сижу в курилке, накуриваясь до одурения со случайными собеседниками, зарываюсь с головой в работу, многословно обсуждаю по телефону последние альбомы с пластиночными клиентами, исписываю корявыми рифмами один листок за другим. Только ничего не помогает. Сколько же это будет продолжаться?
— Тебе звонили из Москвы, — сказала мама, едва я в тот день вернулся с работы.
— Кому это я в Москве понадобился? — недовольно пробурчал я.
— Сказали, из издательства. Если случайно окажешься в Москве, просили к ним подойти. Что-то говорили про сборник, но я не запомнила.
Я мотаю головой, и вдруг до меня доходит смысл сказанного. Отрадная новость. Неужели?! Смотри-ка, перестали отфутболивать без лишних объяснений. А вдруг и в самом деле что-то сдвинулось с мёртвой точки? Вот здорово-то!
От неожиданности я замираю на месте и в первый момент никак не могу сообразить, что нужно раздеться, пойти умыться и сесть ужинать. Подрагивающие пальцы с трудом расстёгивают пуговицы на куртке. С радостно колотящимся сердцем я сдираю галстук, не в силах аккуратно распустить узел, и лечу к умывальнику, чтобы подставить сразу же раскалившийся затылок под струю холодной воды.
Конечно же, первые мои стихи, рифмованные переложения гремящих вокруг нас лозунгов, были бездарны и глуповаты, и мне с каждым днём всё более и более было за них стыдно. Но ничего иного написать я не мог, тем более их охотно печатали многотиражки, а иногда до них снисходила и вальяжная областная газета. Я даже наивно полагал, что становлюсь потихоньку поэтом. Приятно, знаете ли, видеть свою фамилию под стихотворением, отпечатанным на широком хрустящем листе, пахнущим свежей типографской краской.
Но рано или поздно это приедается и надоедает, потому что чувствуешь, что выше газеты твои вирши не потянут. Толстые столичные журналы, куда по инерции каждые два-три месяца я посылал подборки, упрямо отделывались стандартными отказами, в которых меня вежливо называли «уважаемым автором», но журналам, честное слово, уважать меня было не за что. Они были правы даже в том, что частенько не удосуживались возвратить присланные экземпляры опусов и отделаться парой дежурных фраз. Что ж, это, наверное, было справедливо.
А потом на моём горизонте появился Виктор. Страх, поселившийся в моём сердце, стал неожиданно рождать какие-то новые неясные и расплывчатые образы. Отрываясь от повседневных грязных делишек, я чувствовал, что мне необходимо хотя бы в стихах по-настоящему излить свою душу. Без них мне совсем была бы труба. Но стихи перестали получаться, потому что страх — плохой соавтор.
И тогда родился гнев. А с ним, наконец, и стихи. Таких стихов я писать уже не хотел, но не писать не мог. Их становилось всё больше, они душили меня, и нужен был какой-то выход, иначе я задохнусь. Однажды я решился, перепечатал некоторые из своих новых стихов на машинке и отправил уже не в журнал, а сразу в издательство. Особых надежд я не питал, и всё же…
Впервые за последние несколько дней я с удовольствием ужинал вместе с родителями, потом неспеша пил чай у телевизора, по которому всё ещё бесновался несчастный Темирканов. Но для меня в его печальной музыке уже прослушивались первые жизнерадостные и бодрые нотки. Наверное, так и должно быть: даже в самой трагической мелодии должно быть что-то светлое. Но услышит это только тот, для кого оно предназначено. Иначе мир окончательно погрузится в беспросветный мрак.
…И всё же на этот сборник стихов я возлагаю много надежд. Мне кажется, всё, что я делал и делаю, только прелюдия к нему. Правильно я жил на свете или нет — ничего не хочу утаивать и приукрашивать. Пускай будет стыдно и горько, но хватит врать и лицемерить. Нужно когда-то очиститься и расставить точки над «и». Пора сделать первый шаг. Сборник — толчок к нему.
Виктор знает, что я послал стихи в издательство. Он даже спросил меня как бы между прочим: может, нужна какая-то помощь с их стороны? Я отказался. Конечно, заманчиво выехать на такой влиятельной поддержке. Уж к их-то голосу прислушаются. Но это значило бы, что я не в состоянии сам что-то сделать. На это пойти я не мог и втайне был неслыханно рад, что удержался от соблазна. Поступи я иначе, я бы себе этого потом не простил.
И вовсе, наверное, дело не в том, хорош мой сборник или нет, издадут его или вернут назад. Не в этом счастье. Колотить себя в грудь и рубить правду-матку можно и за закрытыми дверями шёпотом, с оглядкой на будущие неприятности. Но будет ли от этого толк, когда тебя никто не услышит? Другое дело — сказать обо всём в полный голос, при всех. Мой отказ от помощи — первый, пусть и крохотный шажок к долгожданным переменам.
Впрочем, сборника ещё нет, а я начинаю строить какие-то планы и авансом записываю себя в святые мученики за идею. Я даже не знаю, для чего понадобился в издательстве. Вдруг там решили, что одного официального отказа недостаточно, и нужно в глаза сказать этому нахалюге-графоману: не морочь ты нам, братец, голову, заканчивай марать бумагу и отвлекать серьёзных людей от издания настоящей литературы. В издательстве сидят не лохи, и так легко их не обойти, тем более с первой попытки.
А в Москву ехать всё равно надо. Какие бы пилюли меня там ни ожидали. Ради этого стоит отложить все дела: и долги Алика, и примирение со Светкой.
А назначенную встречу с Виктором? Её тоже отложить?
И вот наступило послезавтра.
Ночью мне опять снился колодец, и я падал в него, так и не сумев зацепиться за скользкие холодные стены. Но на этот раз колодец уже не казался мне бездонным. Мной овладело какое-то странное, леденящее душу любопытство: а что там, в этой тёмной маслянистой воде, куда я падаю? Может, именно оттуда и получится выбраться из западни? Прохлада дышала мне в лицо, и с каждой минутой становилось всё холоднее и холоднее… Но я, как ни странно, больше не боялся своего падения.
Или это было всё же не падение?
Придя на работу, я попробовал привести в порядок свои мысли. Поскорей бы уж забыть эти надоевшие сновидения и приготовиться к разговору с Виктором.
О чём же я всё-таки буду говорить с ним? Ему нужны конкретные факты и никакой воды. Если я попробую уйти в сторону, то выговор мне обеспечен. Он ни за что не поверит, что за эти три траурных дня ничего интересного мне на глаза не попалось.
Итак, начнём вспоминать по порядку. Евгения Михайловна с её разговорчиками? Мелко. Дон Педро и Дон Карлос с их шутовскими поминками по усопшему? Ещё мельче. А может, традиционно затянуть песню про пластиночных фарцовщиков? «Где только они, черти, берут свои пластинки?» — по привычке спросит Виктор, хотя наперечёт знает варианты моих ответов. «Вполне может быть, что у иностранцев» — отвечу я. Собственно говоря, это откровенная туфта, и иностранцы здесь не причём. Пока пластинки доползут к нам на периферию, в закрытый для иностранцев город, их подержат десятки рук перекупщиков…
О чём это я? Всё не о том, о чём следовало бы.
Короче, не представляю, о чём говорить с Виктором, но лучше заранее об этом не думать. Всё равно не предугадаешь, куда выведет кривая. Каждый раз, когда Виктор вытаскивает из кейса и кладёт передо мной чистый лист бумаги, в меня словно вселяется какой-то бес, и я начинаю откровенничать без оглядки на то, какие неприятности могут принести мои откровения людям. В эти мгновения я вдруг начинаю свято верить, что служу какому-то нужному и необходимому делу. Причастность к этому делу, за которое положено столько голов — виновных, а чаще всего нет — вдохновляет меня на это дьявольское действо, которого я потом стыжусь. Но сознавать себя частицей отлаженного и исправно работающего государственного механизма — в этом тоже есть своеобразное садистское удовлетворение. Куда там банальному сексу с какой-нибудь смазливой девицей, подцепленной на улице…
Виктор любит повторять, что в его организации меня ценят за умение анализировать и связно излагать мысли на бумаге. На первых порах подобные признания мне льстили, теперь — только раздражают. Всё это ложь, которую даже не надо расшифровывать. Анализируют они сами, а связное изложение… Да им достаточно намёка!
Когда мне доводится читать детективы, особенно про вражеских лазутчиков, добывающих секретные сведения в стане неприятеля, я нередко ставлю себя на место контрразведчиков и посмеиваюсь над завороченными сюжетами книжонок: грубо работают ребята, даром зарплату получают, ведь я такого шпиона вычислил бы в два счёта. Каждый скрытный человек, которому есть что утаивать от окружающих, всегда выдаёт себя какими-то едва заметными отклонениями от стандарта поведения, излишней осторожностью, демонстративной правильностью поступков. А некоторым нюансам и названия не подберёшь. Естественно, глупо подозревать всех и вся, но намётанный глаз, некоторая практика и наблюдательность всегда помогают выделить такого человека из общей массы.
К чему я вспомнил это? Наверное, на всякий случай. Чтобы отвлечься и не думать о предстоящем разговоре… О чём же мы всё-таки будем говорить?
Иногда Виктор платит мне за откровения сухими сведениями о том, чем в настоящий момент занимается его служба. Он чувствует, что мне это интересно, и делает это не без заднего умысла — этим мне как бы предлагаются новые направления для наблюдений. Его прекрасно вышколили, и он ничего не делает необдуманно. Каждая его фраза тысячу раз взвешена. Не человек — автомат. Хотелось бы мне превратиться в такой автомат? Иногда да, а чаще всего нет. Мороз по коже…
Люди в кожаных плащах и ночные «воронки» у подъездов остались в тех давних, проклятых годах. Всё, что происходило тогда, при всём его ужасе и безумстве, делалось топорно, по-дилетантски. Как они не могли понять, что физическое уничтожение несогласных к задуманной цели построения общества послушных баранов не приведёт. Только сумасшедший мог надеяться, что человека можно силой заставить шагать в общем строю. Ожидание неминуемой кары лишь усиливает противодействие, изобретательность и ненависть.
Обкладывать флажками, как волка, не открывать своего лица и невидимо присутствовать за спиной, чтобы жертва чувствовала твоё горячее дыхание в затылок — вот самое действенное оружие, которое морально уничтожает её, превращает в безвольную тряпку, заставляет содрогаться в ужасе от неизвестности и сделать неверный шаг, толкающий в пропасть, из которой возврата нет… Я сам каждую ночь падаю в свой проклятый колодец.
Высокие фразы, в смысл которых никто никогда не вдумывается, мы очень любим повторять вслух, перекрикивая соседа. И чем громче кричим, тем, нам кажется, лучше и безопасней для нас. Мы считаем это панацеей и бронёй от пронизывающего нас ужаса. И лишь на краю пропасти понимаем, что это всего лишь ширма, которая никак не прячет нашу безысходность, растерянность, неприкаянность. Оттого мы и боимся — очень боимся! — даже самых малых перемен и втайне ненавидим цели, которые поставлены перед нами. А какие цели у нас в действительности? Какая цель у меня? Может, спросить у Виктора? Интересно, как он ответит. Впрочем, вряд ли ему интересно будет беседовать со мной об этом. Ему этого не надо, он программирует меня на другое. Для него я подсобный инструмент, вроде отвёртки или гаечного ключа, а какие цели могут быть у неодушевлённой железки?
Это решение пришло ко мне как-то сразу. Я и обдумать ничего как следует не успел. Только словно свежим ветром дохнуло в лицо. И сразу же я заторопился.
Звонить с телефона на столе шефа мне не захотелось. Собственно говоря, опасаться нечего, потому что никто не поймёт тех отрывочных фраз, что уже выстраивались в моей голове. Да и подслушивать никто не станет: всем до чёртиков надоели мои бесконечные телефонные переговоры с пластиночными клиентами. Даже шеф махнул на меня рукой.
Просто не хотелось звонить из бюро, и всё тут. Атмосфера не та.
В обеденный перерыв я выскакиваю из бюро и бегу к телефону-автомату на улице. Две копейки на мгновение прилипают к потной ладони, потом со звонким щелчком проскакивают в монетоприёмник.
Номер занят, но я терпеливо выжидаю, пока он освободится, и за это время успеваю выкурить сигарету.
— Виктор, ты? — Мой голос, наверное, немного подрагивает, но я торопливо продолжаю. Главное, не дать себя перебить и не сбиться самому. — Знаешь, мы не сумеем встретиться сегодня. Когда? Не знаю… Наверное, больше никогда… Нет, ничего со мной не случилось, просто я больше не могу и не хочу… Никто не научил, это я решил сам. Ты уж не обижайся. Постарайся понять, почему…
Решительно вешаю трубку, не слушая быстрых и, наверное, впервые в жизни растерянных восклицаний Виктора, и выхожу из кабинки автомата. Дыхание — как у бегуна на марафонские дистанции перед финишем. Ничего, отдышусь…
По серому пасмурному небу бегут низкие рваные облака. Кажется, накрапывает редкий дождик, но я его не замечаю. Мимо меня спешат люди, много людей. Я гляжу в их лица, прикрытые поднятыми воротниками, и мне очень хочется кого-то окликнуть, сказать что-то весёлое и доброе, от чего я давным-давно отвык, поделиться с первым встречным своей неожиданной и не совсем ещё ясной, но перехватывающей дыхание радостью. Наверное, я улыбаюсь, потому что на меня начинают оглядываться и тоже улыбаться, а я никак не могу нащупать в кармане новую сигарету.
По часам замечаю, что с начала обеденного перерыва прошло всего десять минут. А мне показалось — вечность. Но это и хорошо: значит, вечность у меня в запасе. Несмотря ни на что.
Чем бы теперь заняться? Побегу назад в бюро. В отделе наверняка собрались неутомимые доминошники, попрошусь в их бодрую компанию. Может, возьмут сыграть партию-другую. Раньше я никогда в домино не играл, а сейчас мне почему-то безумно хочется.
А может, посижу в курилке с Доном Педро и Доном Карлосом, которые непременно попросят ещё трояк до получки, но бог с ними, пожертвую. А может, поболтаю с Евгенией Михайловной или шефом про разные разности. Теперь можно без опаски…
Или посижу в одиночестве за своим кульманом, разглядывая приколотую в уголке Светкину фотографию, и помечтаю о будущем сборнике. В нём ещё нет стихов про Светку, но обязательно будут. Это я обещаю.
Кстати, не забыть бы позвонить на вокзал и узнать про билеты на Москву.
Я ныряю в двери бюро и сразу забываю о ненастной погоде и дожде.
А ночью мне последний раз приснился колодец, в который я падал, и на дне колодца, как ни странно, забрезжил какой-то неясный и тёплый свет. Этот свет меня успокаивал, и я был твёрдо уверен, что ничего плохого со мной больше не случится.
РЕПРОДУКТОРНЫЙ МАРШ
Коммунизм — это молодость мира,
И его возводить молодым…
Из песни эпохи развитого социализмаНа свежеокрашенном подоконнике весёлый солнечный лучик. Он смело разгуливает по гладкой поверхности, слегка задерживается на блестящих незатвердевших пузырьках масляной краски, словно ощупывает каждую ложбинку и выпуклость, пока, наконец, не натыкается на прилипшую столовскую тарелку из серебристой фольги, в которой стоит горшок со столетником.
За спиной репродуктор натужно выдавливает в ленивую, застоявшуюся тишину гнусавые звуки многоголосого далёкого хора:
Сегодня мы не на параде — Мы к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде С нами Ленин впереди…Резкие звуки не очень вписываются в обстановку и мешают наблюдать за первой весенней мухой, сонно перебирающей лапками возле цветочного горшка. Муха неловко поводит узкими, с прожилками крылышками, но взлететь у неё пока не получается — нужно погреться в первых майских лучах.
— Тарам-тарам, тарам-тарам-пам-пам, — вместе с хором напевает Галина Павловна, и золота дужка очков на её мясистом носу искрится от разыгравшегося солнечного лучика. — Денёк-то сегодня какой, а? Чего молчишь, Витёк?
— Нормальный денёк, — откликаюсь я и даже представить не могу, для чего ей понадобился перед самым обеденным перерывом.
Наверняка Ленка уже маячит у столовой. Лишь распахнутся двери, в числе первых она рванёт к раздаче и будет искать меня взглядом. А меня нет — я стою по стойке смирно в парткоме, любуюсь на солнечные лучи и дохлых мух, слушаю гнусавое завывание репродуктора и наслаждаюсь вокальными упражнениями нашего парторга.
— Как дела у опалённого в боях комсомола? — шутит Галина Павловна. Похоже, настроение у неё прекрасное, казнить меня не за что. Конечно, можно подхалимски похихикать с непосредственным начальством, глядишь, что-то обломится с барского стола нищему, как церковная мышь, заводскому комсомолу. Только мне даже хихикать сейчас лень.
— Всё нормально, — заученно бубню я и перехожу на казённо-административный язык, без которого невозможно изложить то, чем мы занимаемся: — Последнее комсомольское собрание прошло на высоком идейно-политическом уровне при почти стопроцентной посещаемости. Идею субботника, посвящённого Дню защиты детей, заводская молодёжь восприняла с энтузиазмом…
— Так уж с энтузиазмом! — не доверяет Галина Павловна. — Ты у нас прямо-таки Иоанн Златоуст — сказал, и они тебя послушались, твои комсомольцы!
Откуда она знает про Златоуста?! Что-то раньше такой широты кругозора за нашим парторгом я не замечал. Она и художественную литературу вряд ли читает, а газету «Правда» — для отвода глаз.
Ах, да, тут же припоминаю я, эта наверняка результат общения с Петром Полынниковым, пресвитером местной общины евангельских христиан-баптистов, который работает на нашем заводе кузнецом. Хочешь не хочешь, а вести атеистическую работу парторг обязан, как бы ей это ни было противно. Вот Галина Павловна и ведёт. Только кто кого в свою веру перетаскивает — ещё вопрос.
— А куда они, мои комсомольцы, денутся с подводной лодки? — беззаботно машу я рукой. — Пускай попробуют не явиться на субботник!
— Ну, а не явятся, что ты с ними сделаешь? — Галина Павловна поднимает глаза от бумаг и сквозь толстые стёкла очков разглядывает меня ласковым взглядом сытого удава. — Ты уж того, Витёк, без фанатизма. А то приходили ко мне на днях девчата из формовочного цеха, жаловались на тебя.
— На меня?! На Иоанна Златоуста?
— На тебя! — передразнивает Галина Павловна. — Ну-ка, расскажи, как ты с них взносы собирал? Нет чтобы подойти к человеку, поговорить по-хорошему, он тебе всё, что задолжал, до копеечки выложит, а ты, понимаешь ли, придумал! Перед зарплатой уселся рядом с кассиром и аккурат отсчитал сумму взносов из того, что на руки выдавать надо. За такое можно и загреметь!.. Да что я тебе рассказываю, будто сам не знаешь! Это что — недоверие к людям?
— Ну что вы, какое недоверие?! — бурно возмущаюсь я, а на душе уже кошки коготками заскребли. Значит, казнь не отменили, а только отсрочили. — Просто это своеобразный сервис: не нужно людям потом время терять, бегать в комитет комсомола. Да и нам хлопот меньше. За один день взносы собираем.
— Хлопот испугался? — Голос Галины Павловны всё ещё медово-ласковый, но в нём уже проскакивают знакомые металлические нотки. — Рано, дружок, лёгких путей ищешь…
Она снова опускает глаза в бумаги и замолкает. Замолкает и репродуктор на стене. Лишь башенный кран за окном, перетаскивающий по заводскому полигону только что отформованные панели и связки арматуры, на мгновение заслоняет солнечный лучик, и от этого в парткоме становится темно и неуютно. От грохота крана дребезжат стёкла. Затишье перед грозой.
— Ну, да ладно, думаю, ты учтёшь замечание, — великодушно прощает меня Галина Павловна. — Извинись перед девчатами, скажи, мол, больше такого не повторится, и вообще… Я тебя, собственно говоря, вызвала по другому вопросу.
Ага, значит, втык пока отменяется. А что там у нашего парторга дальше на повестке дня?
— Слушай меня внимательно. Нашему коллективу оказана высокая честь: мы должны выдвинуть кандидата в депутаты райсовета. Кандидат должен быть не старше двадцати семи лет, то есть комсомольского возраста. Улавливаешь?
Галина Павловна всегда изъясняется языком партийных документов. Думаю и дома, чтобы позвать мужа есть котлеты, она выносит соответствующую резолюцию. В этой канцелярщине она чувствует себя, как рыба в воде. Может быть, поэтому её, рядового экономиста из планового отдела, и избрали парторгом. А может, другой кандидатуры не отыскалось: кому охота возиться с парторганизацией из пятнадцати коммунистов на нашем маленьком домостроительном заводике, где трудится всего около четырёхсот человек. Ведь писанины от этого ничуть не меньше, чем в более солидной парторганизации, где парторг освобождённый и народу в сто раз больше. Впрочем, и у меня на комсомольском учёте немногим больше — тридцать два человека. Ни Галина Павловна, ни я не освобождены от основной работы, но у какого начальника, скажите, поднимется рука загружать нас, государевых людей, производственными делами?
— Как один, отдадим свои голоса народному избраннику! — с чувством декламирую я, но Галина Павловна моей иронии, кажется, не замечает и продолжает:
— Мы вчера посовещались на парткоме и решили, что наиболее достойная кандидатура — бригадир штукатуров из формовочного цеха Нина Филимонова. Как твоё мнение? Ты её лучше знаешь, она твоя комсомолка.
— Вам виднее, — пожимаю я плечами, — хотя…
— Что хотя? — Галина Павловна с интересом глядит на меня поверх очков.
— Взносы она четвёртый месяц не платит, вот что. А с ней за компанию ещё трое комсомолок из её бригады.
— Для этого ты и сидел вместе с кассиром во время выдачи зарплаты?
— И для этого тоже.
— Та-ак, — задумчиво тянет Галина Павловна и постукивает кончиком карандаша по столу. — Ну, и заплатили они взносы?
— Как бы не так! Увидали меня, сразу развернулись и ушли. Говорят, нам не к спеху, придём, когда тебя тут не будет.
— А остальные комсомольцы?
— Остальные почти все заплатили. Задолженность только по бригаде Филимоновой.
— А твоя красотка чем занимается?
Красотка — это Ленка, мой незаменимый заместитель и одновременно заведующая сектором учёта. Все её ехидно зовут сборщицей налогов, потому что это её основная и единственная обязанность, а со всем остальным успешно справляюсь я. Галина Павловна её терпеть не может, наверное, из-за того, что Ленка человек независимый и может, разозлившись, выдать в глаза всё, что думает. В Галине Павловне она видит не мудрого и непогрешимого партийного божка, а простого экономиста из планового отдела, с которой, как и с остальными заводскими дамами, можно при случае поцапаться. Из-за Ленки у меня было в парткоме несколько крупных взбучек, но я упорно держусь за неё, ведь мы вместе работаем в конструкторском бюро, знакомы ещё со школы и во многом единомышленники. К тому же, у меня просто не было другого кандидата в сборщики налогов — должность не оплачиваемую и склочную, но позволяющую на законных основаниях некоторую часть рабочего времени бить баклуши.
При упоминании о Ленке я по привычке начинаю заводиться и становлюсь в позу:
— Между прочим, эта «красотка» каждый месяц без напоминаний обходит все бригады, и ни разу ещё не было задержки с отчётностью по взносам. Не вам объяснять, Галина Павловна, как нелегко выколачивать скудные гроши из наших комсомольцев. Уже четыре комсомольских билета вместо взносов вернули!
— Что же ты молчал до сих пор?! — Брови Галины Павловны лезут на лоб. — Почему об этом я слышу только сейчас? Это же ЧП! Представляешь, какой скандал будет, если это дойдёт до райкома?
Собственно говоря, никакого скандала не будет, я уже прозондировал в райкоме. Там на меня легонько поскрипят и оформят выбывших задним числом, повесив сей смертный грех на прежнего комсорга, с которого взятки гладки, так как он уехал в другой город. Галина Павловна это отлично знает, на её памяти не один такой случай, но пожурить меня для формы не мешает. Чтобы впредь не расслаблялся и подобных вещей не допускал.
Некоторое время она сидит надутая и изображает из себя человека, которому нанесли смертельное ранение, потом всё-таки идёт на мировую:
— Ты уж за своей красоткой приглядывай построже, пускай меньше хвостом крутит и не курит в комитете комсомола. А то вы мне скоро всю комсомольскую организацию разгоните. И так уже…
— Само собой, — согласно киваю я и поглядываю на дверь.
А Ленка уже наверняка стоит с полными подносами и ждёт меня. Обед — дело святое, и даже самые неотложные дела могут подождать, пока мы закончим поглощать скудные дары заводской столовки.
— Кстати, — вспоминает Галина Павловна, — на-ка, подпиши.
— Что это?
— Характеристика на Филимонову. Нужно срочно везти в райком партии. Мы же выдвигаем её кандидатом в депутаты, забыл?
— Ну, и выдвигайте на здоровье. Я-то причём?
— Она комсомолка, значит, характеристику должен подписать и ты.
— Какая она комсомолка, если взносов не платит?!
— Ох, и бюрократ ты! Молодой да ранний! По-твоему, принадлежность к комсомолу исчерпывается только уплатой взносов? Не сумел собрать у неё взносы, это твоя проблема, да и кого это вообще интересует в райкоме партии?.. Ты вот что, распишись, а я вызову её, поговорю, и она прибежит к тебе, как миленькая, заплатит. Сколько там у неё набежало — каких-нибудь рублей пять?
— Не в пяти рублях дело! Дело в том, что она плюёт на комсомол и заодно на партию. Разве это не понятно?!
— Но-но, поосторожней! — хмурится Галина Павловна. — Разговорился, понимаешь ли… Такими словами не бросаются!
— Это не я бросаюсь, это она бросается!
Вообще-то, с моей стороны некрасиво обвинять бригадира штукатуров в таком страшном богохульстве, за которое не так уж и давно можно было лишиться не только бригадирства, но и работы, только я на эту Филимонову страшно зол и притом не первый день. Если бы она просто не платила взносы, шут с ней, как-нибудь я пережил бы и не принимал всё так близко к сердцу. Но тут, выражаясь высокопарно, была задета моя честь, и ни на какие компромиссы идти я не собирался.
Месяц назад, когда я ещё не помышлял о сидении рядом с кассиром во время выдачи зарплаты, Ленка, как всегда, отправилась по бригадам собирать взносы. Но в бригаде Филимоновой — и не кто-нибудь, а сама бригадирша! — ни с того ни с сего демонстративно послали её на три весёлых буквы. Ленка в слезах прискакала ко мне и категорически заявила, что в цех она больше ни ногой. Дескать, с таким хамством она ещё не встречалась и впредь не собирается.
Что мне оставалось? Я поправил галстучек, одёрнул пиджак и бодро отправился в бригаду отстаивать честь и достоинство ленинского комсомола. Само собой разумеется, меня ожидала та же незавидная участь, только при большем скоплении народа, потому что коварная Нинка Филимонова верно рассчитала момент моего появления и устроила в цехе грандиозный спектакль. Вступать с ней в перепалку я не стал и под всеобщий хохот гордо удалился в заводоуправление красным, как рак, и злым, как тысяча гадюк.
Никому жаловаться на Филимонову я не стал, потому что это было бы признанием собственной неспособности улаживать конфликты, а какой я руководитель заводского комсомола после этого? Лучше сделать вид, что ничего особенного не произошло, а взносы — да чёрт с ними! — и так в ежемесячных отчётах постоянно фигурирует какая-то сумма по задолженности.
После всенародного осмеяния никакой активности Нинка Филимонова больше не проявляла, очевидно, считая, что цель достигнута, а лежачего, то есть меня и Ленку, больше не бьют. Можно было бы всё спустить на парах, ведь человек я отходчивый и долго злиться не умею, но решил я на всякий случай подстраховаться и во время следующей получки уселся рядом с кассиром, чтобы потрошить своих должников в момент получения денег. Тут уже не выкрутишься.
— Ну, чего раздумываешь? Подписывай, не тяни резину, — подгоняет Галина Павловна, — это же пустая формальность. Если партком решил, что она станет депутатом, то так оно и будет. Или ты возражаешь против мнения парткома?
Я неуверенно пожимаю плечами и беру ручку, чтобы подписать, но вдруг что-то толкает меня изнутри, и я хрипло выдавливаю:
— Не буду подписывать, и всё!
— Какая тебя муха укусила? — Галина Павловна уже не скрывает своего раздражения, и в толстых стёклах очков её глаза становятся ещё больше. — Тебе неприятности нужны?
— Сказал, не буду, значит, не буду! — повторяю я и выскакиваю из парткома.
А в спину бесстрастно лупит жестяной репродукторный баритон:
— Концерт по заявкам радиослушателей продолжает песня…
В конце рабочего дня ко мне забредает без цели шатающийся Юрка Шустиков, которого все на заводе зовут Шустриком. Он работает инженером в отделе комплектации и снабжения и, в общем-то, считается неплохим добывалой. Зарплата рядового снабженца его не устраивает, и он уже несколько раз пытался уйти на более хлебное место, но руководство этому упорно сопротивляется и, учитывая его выдающиеся коммерческие способности и умение выцарапать хоть из-под земли самый наидефицитнейший дефицит, перевело его на рабочую сетку с самым высоким тарифом, а по зарплате это где-то на уровне начальника отдела. Юрка удачно использует своё особое положение, ёрнически величает себя «авангардом» и «гегемоном», а посему косит под дурачка, но пуще всего любит выставлять дурачками окружающих. За это его терпеть не могут, но терпят, ибо снабженческая жилка в нём всё-таки от бога. Если бы не ядовитый язычок, быть бы ему коммерческим директором нашего заводика, только он к этому не стремится и безнаказанно издевается над начальством по поводу и без повода. Особенно достаётся Галине Павловне, которая платит ему той же монетой. Вылетел бы он уже давно с треском и волчьим билетом, если бы не его особый статус.
Как ни странно, но во мне, хоть я и принадлежу к классу его антагонистических противников, он нашёл задушевного собеседника и частенько является ко мне поболтать. О чём мы с ним только не чешем языки! На правах старшего по возрасту, он очень любит поучать меня, а я всячески стараюсь разгромить его замысловатые логические построения.
Но сегодня особой охоты философствовать у меня нет. Испорченное перед обедом настроение к вечеру становится ещё хуже. Тем более, на обед я так и не попал, и Ленка напрасно прождала меня в столовой с полными подносами. Вместо того, чтобы извиниться, я неожиданно нагрубил ей и в придачу поссорился с начальником конструкторского бюро. Нужно было сделать какой-то срочный чертёж, а свободных чертёжников, как назло, кроме меня, не оказалось. Эта ссора была уже совсем ни к чему, но я пошёл в разнос. Просто удивительно, как мне в голову не пришла мысль отправиться в цех и выместить своё раздражение на Нинке Филимоновой.
Юрка усаживается на единственный стул в нашем крохотном закутке с табличкой на дверях «Комитет ВЛКСМ» и без разрешения принимается читать наваленные на столе бумаги.
— Тэк-с, — вместо приветствия провозглашает он, — чем это занимается наш комсомольский вожачок? Как всегда, груши околачивает?
В руках у него какой-то из многочисленных и абсолютно бесполезных отчётов, которых в райкоме никто не читает, но составлять их необходимо, чтобы там их подшивали в толстенные папки, а затем, отчитывались перед горкомом, обкомом и так далее в проведённой работе. Юрка с глубоким интересом изучает шедевр канцелярской письменности и при этом ехидно посмеивается.
Веселиться с ним за компанию мне не хочется, однако Юрка именно тот человек, который сможет хоть как-то развеять моё гнусное настроение.
— С чем пожаловал, гений снабженческого сыска? — невесело шучу, но Юрка, увлечённый чтением, оставляет мой вопрос без внимания.
— Слышал, тебе ГэПэ прокачку учинила? — краем губ улыбается он. — Отчитала за оппортунизм?
За глаза Галину Павловну все на заводе зовут ГэПэ, и эта кличка приклеилась к ней с незапамятных времён, но она об этом, вероятно, не подозревает. Или делает вид, что не подозревает.
— Откуда ты знаешь?
— Гению сыска да не знать! Би-Би-Си передавало.
— Было дело, — неохотно признаюсь я, — отчитала… за оппортунизм.
— Не умеешь ты, брат, ходить под начальством, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Или наоборот… — покровительственно изрекает Юрка. — Учись, студент, пока я жив. Начальству не нужны такие правдолюбы, как ты. Ему нужно лишь задницу прикрыть перед вышестоящим начальством, и ты это должен обеспечивать. Чтобы всё было шито-крыто.
— Ну, и как ты это предлагаешь делать? — Меня немного коробит от Юркиной фамильярности, но это его обычная манера общения.
— Проще пареной репы. Слушай внимательно и мотай на ус, а то и законспектируй для изучения.
Поудобней устраиваюсь за столом и достаю пачку «Стюардессы». Юрка косится на сигареты, но отодвигает их в сторону и достаёт свою «Приму».
— Аристократических по классовым соображениям не курю. Мы уж рабоче-крестьянскими подымим… Итак. На любом уровне начальник тем лучше, чем примитивней. Самое ужасное — когда он имеет собственное мнение и заражён вирусом инициативы. С таким трудно ладить, но не потому что его невозможно надуть, а потому что он всегда гнёт свою линию. Идеальный вариант — когда каждый начальственный шаг можно предугадать. Это верно и для тех, кто сверху, и для тех, кто снизу. Тогда всё складывается, как в шахматах, где послушная пешка неторопливо проходит в ферзи, а глупый конь или слон бесцельно прыгают по клеткам, и рано или поздно ими жертвуют во имя чьих-то хитроумных планов. Улавливаешь, студент? Скажешь, не мы выбираем начальника, а получаем готовенького? Верно, но тут уже следует его тактично воспитать и дрессировать под себя, чтобы не было мучительно больно за потраченные на него годы. Прикормленный дурак у руля — мечта умного подчинённого.
— Для твоих шахматных коней да слонов есть хоть какие-то правила, а для наших начальников… — разочарованно тяну я и чувствую, что настроение пока не улучшается.
— Ошибаешься! У них есть свои правила, которые ты должен понять, чтобы, не дай бог, не влезть на их территорию. Пускай ребята будут в полной уверенности, что ты готов пустить счастливую соплю от каждого их ценного указания. Независимость, которой жаждет каждый мелкий клерк вроде тебя или меня, достигается вовсе не лобовым ударом, а длительной и кропотливой дрессировкой. Дразнить же начальство — удел вечного и трусливого раба. Это камешек в твой огород…
— Складно глаголишь, Иоанн Златоуст, — невольно посмеиваюсь я над речами Шустрика и вспоминаю свои взаимоотношения с Галиной Павловной. — Только, понимаешь ли, трудно удержаться, когда начальство несёт откровенную пургу. Зубки иногда чешутся.
— А зачем? — Юркины глазки прямо-таки лучатся от восторга. — Что ты этим выиграешь? Лишние тумаки?
— Через тернии к звёздам! — Я потихоньку начинаю говорить на Юркином языке, пересыпанном поговорками и прибаутками, порой довольно злом и категоричном, но всегда метком и ярком.
— Учитывая, что ты пока мало поработал под эгидой орденоносного ленинского комсомола, так как только вчера оторвал свой тощий мальчишеский зад от студенческой скамьи, выдам тебе несколько прописных истин, без которых в наше традиционно непростое время никакой карьеры не сделать. Правда, я сам не работал в ваших поднебесных сферах, ибо там снабжение и без меня прекрасное, но люди-то везде из одного теста слеплены. — После столь длинной и витиеватой тирады Шустрик переводит дыхание и торжественно поднимает указующий перст вверх. — Никогда ничего не принимай за чистую монету. Любое дело — как бы сказать вернее? — имеет несколько слоёв. Первый слой — это внешняя оболочка, то есть то, что бросается в глаза. Например, лозунги на знамёнах и транспарантах, грозный начальственный взгляд, напоминающий козу из указательного пальца и мизинца, чеканные и проникновенные фразы на скрижалях наших соцобязательств. На первый взгляд, всё здесь однозначно и недвусмысленно, но зри в корень, то есть ищи второй, более глубокий слой, который стоит за первым. Лозунги — это внешняя линия обороны, дань и оброк идеологии, этакая попытка убедить всех и вся в незыблемости идеалов. За грозным начальническим взглядом стоит вовсе не желание мобилизовать кого-то на новые трудовые свершения, а всего лишь страстное желание переложить работу на плечи подчинённых. Бравурные соцобязательства — это всего лишь верёвочка, привязанная к кольцу, вдетому в твою ноздрю, за которую удобно тащить в нужном направлении…
— А третий слой? — невольно увлекаюсь я игрой, которую затеял Шустрик, и настроение у меня заметно улучшается.
— Третий слой ещё глубже. Суть его как раз в том, во имя чего и ломаются все эти копья. Когда в этом разберёшься, для тебя наступит полная ясность и гармония. Разгадка этого пресловутого третьего слоя скрыта, как ни странно, в простой, но глубочайшей по философскому накалу истине «абы чего не вышло». Никому на самом деле ничего не надо, никого ничего испокон веков не волнует, а высший идеал жизнеустройства состоит лишь в том, чтобы существующее положение вещей оставалось незыблемым. Хочешь на законном основании бездельничать, умей изображать вид бурной деятельности. Это высший пилотаж в умении устраивать свою жизнь. Всё остальное — второстепенно. Улавливаешь?
— Не очень, — честно признаюсь я. — Уж, очень лихо ты всё закрутил.
Юрка выпускает густую табачную струю «пролетарской» «Примы» и самодовольно улыбается:
— Когда вникнешь, студент, в сказанное, для тебя откроется потрясающая картина. Ведь ты и сам не понимаешь, что судьба неизвестно за какие заслуги поставила тебя на такую ступеньку, с которой можно легко шагнуть ещё выше, но при условии тонкого понимания третьего слоя. В ином случае — падение в тартарары. До последнего времени ты по наитию шёл в нужном направлении, даже не представляя, как легко можно оступиться. Ты почувствовал свою мнимую значимость и взбрыкнул — и вот результат: прокол со взносами, взбучка от старших товарищей… Опять не понял мою гениальную по простоте мысль?
— Опять…
— Ну, хорошо. Демонстрирую на пальцах. Вот рассуди: смог бы наш драгоценный заводик работать, если бы не стало тебя и твоего комитета комсомола?
— Конечно. Не велика была бы потеря.
— А если бы, не приведи господь, бесследно исчезла ГэПэ?
Я с опаской поглядываю на дверь и бормочу:
— Ну, ты того… не перебирай. Мало ли кто услышит.
Юрка удовлетворённо хохочет и продолжает ещё громче, чем прежде:
— Не трусь! Даже если мои крамольные речи дойдут до уважаемой Галины Павловны, она палец о палец не ударит, чтобы покарать вольнодумца. Уж, я-то её знаю. Но это будет не потому что ей безразлично, что про неё скажут, и вовсе не потому что ей не по рангу связываться с гегемоном. Просто она умело живёт по принципу «абы чего не вышло» и не пошевелится, пока дело не получит огласки. Даже если ей о моей крамоле доложат пять стукачей… А баба она всё-таки не плохая и совсем не злая, только должность парторга заставляет её быть такой толстокожей. Она если и злится на кого-то, то не искренне, а как бы по обязанности.
— Это всё теория. А как посоветуешь поступить в моём случае? Делать вид, что ничего не произошло и ждать следующей плюхи?
— А ничего и не произошло! Играй потихоньку в ту же игру и не забывай, что это игра. Но игра не на абстрактный интерес. Хуже всего нарушать придуманные не тобой правила и пытаться разобраться в чужой душе. Красть кошелёк из чужого кармана куда безопасней…
Но Галина Павловна оказалась совсем не такой «хорошей бабой», как рекламировал Шустрик. Два дня после этого она со мной не здоровалась и при встрече демонстративно отворачивалась, а Ленке, которую посадила за пишущую машинку отпечатать какую-то срочную бумагу, устроила такой грандиозный разнос за медлительность, что та часа полтора рыдала горючими слезами, запершись в комитете комсомола.
Самое гнусное произошло на третий день, когда я пришёл на работу. Секретарша нашего директора Людочка, исключительно вредная и скандальная особа, выбывшая из комсомола по причине скорострельного замужества и потому всячески потешавшаяся над моими потугами вернуть её назад в общественное лоно, сообщила мне по секрету:
— А характеристику на Филимонову и без тебя подписали! Вот так-то, борец за справедливость!
— Кто подписал?
— Кроме тебя некому, что ли?
— Пока у нас только один комсорг — я. — Настроение у меня сразу испортилось, и во рту стало отдавать какой-то жжёной резиной.
— А ты, мой несостоявшийся женишок, и в самом деле считаешь себя пупом земли?! Вот не знала! — Бесстыжие Людочкины глаза исследовали меня вдоль и поперёк, мысленно расстёгивая ширинку, как она это делала в те времена, когда я только пришёл на завод молодым специалистом и по неопытности клюнул на её пышные формы. Потом выяснив, что перспектив наш нерегулярный секс не имеет, быстро перекинулась на более податливую жертву, за неделю окрутив её и отведя под венец.
— Раз уж начала говорить, то говори! — настаивал я.
— А ты разве ещё не понял?
Вдаваться в дебаты было глупо, и я коротко спросил:
— У кого сейчас характеристика?
— У меня. Осталось запечатать в конверт и отвезти в райком партии. Я бы это уже сделала, но дай, думаю, по старой дружбе скажу тебе…
— Покажи!
— Ещё чего! Вдруг порвёшь.
— Покажи! — разозлился я окончательно. — Что я тебе — пацан?!
— Не покажу. — Леночка капризно надула губки. — Галина Павловна не разрешила. Говорит, много чести кланяться перед тобой из-за паршивой закорючки на бумаге. Не захотел подписывать — нечего тебе и знать про эту бумагу. Она и с директором согласовала, он ей добро дал…
Уговаривать её дальше бесполезно, и так я выяснил самое главное. Я грустно отправился в комитет комсомола, закрылся на ключ и стал размышлять о своей горькой судьбине. Никого, даже Ленку или Шустрика, видеть мне не хотелось.
Значит, комсорг нужен только для вывески! Этакий свадебный генерал, а точнее, ефрейтор на правах ординарца, ведь в генералах вся эта публика и сама не прочь побыть. Да какой там ефрейтор — мальчик на побегушках…
Эх, не надо было мне лезть сюда. Сидел бы спокойно за кульманом в конструкторском бюро, рисовал бы чертёжики на благо родного завода, от которых была бы хоть какая-то реальная польза — так нет, в комсорги потянуло, власти захотелось. А что в итоге? Бригада той же Нинки Филимоновой в результате моей бурной деятельности работать лучше стала? Да всем этим девчатам плевать на мой обязательный галстучек, а значок с силуэтом Ленина на лацкане пиджака их просто смешит. Раньше я старался не обращать внимания на это, а теперь…
Получил щелчок по носу, вчерашний студент и нынешний комсомольский вожачок-карьерист… Признайся честно: когда тебя Галина Павловна сватала на эту должность из конструкторов, ведь была же потаённая мыслишка продвинуться по комсомольской линии до самых заоблачных олимпийских высот, где обитают партийные боги, а простым смертных ходу нет, ведь была же? Пусть и зарплата на первых порах невелика — те же конструкторские сто двадцать пять да тридцатка от райкома, но надеялся, что заметят молодого да энергичного, призовут в свои полированные кабинеты и скажут: молодец, Витёк, ценим тебя за принципиальность и деловитость, а посему выдвигаем на более ответственную работу, ты уж лицом в грязь не ударь. И были бы счастливые вероноподданические слёзы, которые я выдавил бы, а сказали бы «будь готов», ответил бы, не задумываясь…
А тут, как нашкодившего щенка для острастки макают носом в собственные писюли.
И дело-то даже не в Нинке Филимоновой. Хотят её сделать депутатом — да на здоровье, я проголосовал бы за неё обеими руками, только… Подошла бы она по-людски, сказал бы, мол, так и так, жалко мне пятёрку на взносы отдавать, потому что трудно живётся разведёнке с ребёнком на руках, да ещё без своего угла. Разве бы я не понял и не пошёл бы навстречу?! Да не обеднел бы, в конце концов, краснознамённый и орденоносный без её потом зарабатываемых копеек!
Но вышло всё глупо и некрасиво, загнали меня в угол. Остаётся только зубки показывать, чтобы не выглядеть совсем уж половой тряпкой. Не в принципиальности дело, а в элементарном инстинкте самосохранения…
В дверь уже дважды стучали, но как я открою, когда у меня на глазах слёзы? Чтобы никто этого не заметил, вытаскиваю половинку ватмана, тушь и перья и размашисто вывожу:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В среду 19 мая 1976 года в 16–00 в красном уголке завода состоится общее комсомольское собрание.
Повестка дня:
1. Отчёт комитета ВЛКСМ за 1 квартал 1976 года;
2. …
Рука слегка подрагивает, но я продолжаю писать, воинственно надавливая на перо и разбрызгивая чёрные капельки туши:
2. Персональное дело комсомолки Филимоновой…
В дверь стучат снова и я, отложив перо в сторону, иду открывать. На пороге Ленка.
— Чего ото всех прячешься? — настороженно спрашивает она и не сводит с меня взгляда.
— Вот, — показываю на объявление, — к собранию готовлюсь.
Некоторое время Ленка молчит, читая написанное, потом подходит ко мне и неожиданно кладёт руку на плечо.
— Ну, что ты так комплексуешь? Подумаешь, обидели его этой дурацкой характеристикой! Плюнь на всех! — Вроде бы утешает, а в голосе ни капли сочувствия. Неужели она ничего не понимает?! — Хочется тебе — влепи этой Нинке выговор, а убиваться-то зачем?
— Какой выговор — о чём ты?! — злюсь я. — Из комсомола турну её за неуплату взносов. Первый раз в жизни поступлю по Уставу: не платишь четыре месяца — автоматически выбываешь…
— Это уже перебор! Тебе нужна эта морока? — Ленка морщит лоб и задумывается. — А вдруг собрание не проголосует за исключение?
— Да куда они денутся! Как миленькие руки поднимут! Нашей публике всё по барабану, лишь бы не трогали.
— А ГэПэ что скажет? — Ленка начинает волноваться уже не на шутку. Если начнут на меня катить бочку, то и её в стороне не оставят.
— Причём здесь ГэПэ? Собрание-то комсомольское. Пускай она своими коммунистами командует. Небось, тоже все вопросы решает один на один со своим замом Ромашкиным, а все остальные — статисты. Голосование — пустая формальность.
— Она тебя по головке не погладит.
— Ну и не надо! Что я — кошка, чтобы меня гладили? Да и кошки коготки иногда выпускают…
— И это все твои коготки? — невесело усмехается Ленка, вытаскивая сигарету из моей пачки и щёлкая зажигалкой. — Глупо это. В таких вещах я тебе не союзник.
— Слушай, — взрываюсь я наконец, — шла бы ты заниматься своими делами. Не морочь голову, и без тебя тошно!
Единственный друг, на которого я мог положиться, и тот готов изменить в трудную минуту. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь.
Ленка удивлённо разглядывает меня, что-то пытается сказать, но, так ничего и не сказав, стреляет сигаретой мимо пепельницы и выскакивает за дверь.
А репродуктор на стене, долгое время молчавший, вдруг взрывается жизнерадостным физкультурным маршем:
Стремительная, дружная, здоровая, Повсюду первенство отстаивать готовая, Под нашими знамёнами Спортивная шагает молодёжь!..На заводской доске объявлений среди пожелтевших от времени графиков и приказов сегодня новое объявление, рядом с которым толпятся люди. Интересно, что у нас за сенсация, о которой я ничего не знаю? Протискиваюсь среди рабочих и читаю:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 мая 1976 года в 17–00 состоится общезаводское собрание.
Повестка дня:
1. Персональное дело кузнеца ремонтно-механического цеха Полынникова Петра Васильевича.
Докладчик — зам. секретаря партбюро Ромашкин.
Явка всех работающих в первой и второй смене обязательна.
Ишь ты, сразу все мои обиды уходят на задний план, чем это провинился перед нашей парторганизацией непьющий и благообразный кузнец Полынников? Неужели всё-таки решили с ним посчитаться за то, что он пресвитер общины христиан-баптистов? По работе упрекнуть его не в чем, разве что за невыходы на работу в субботу. Оно и понятно — для баптистов суббота день отдыха, праздник. Зато в другие дни он навёрстывает пропущенное с лихвой. А ведь именно субботники стали у нас почему-то главными показателями трудолюбия и сознательного отношения к труду! Абсурд какой-то, на котором я раньше не зацикливался, а вот сегодня…
О непримиримой борьбе нашего партбюро с «религиозным дурманом» я знаю не понаслышке. Сам принимал в ней участие. В планах еженедельных политзанятий, которые Галина Павловна проводит с коммунистами, а я со своими комсомольцами, всегда присутствует атеистическая пропаганда. Это закон, который не обсуждается.
— Запомни, — не раз говорила мне Галина Павловна, — мы на особом контроле у райкома. Чёрт бы их побрал, этих баптистов! Свили себе гнездо на нашем заводе, и потихоньку занимаются мракобесием. Бороться с ними — задача не для какого-нибудь беспартийного дяди Васи, а именно наша с тобой. Кому, кроме нас, проводить политику партии и правительства на местах?
Одного я никак понять не мог, а за разъяснениями к ГэПэ благоразумно не обращался: чем баптисты — а у нас их работает всего пять человек — хуже остальных рабочих? Трудятся они добросовестней многих записных активистов, ни с кем не пререкаются, не скандалят по пустякам, прогулов и опозданий за ними не замечается, пьяными на работу не приходят, вот только субботы… И всё равно вредители.
Мимо доски объявлений трусцой пролетает Шустрик. Хватаю его рукав:
— Ты у нас, Юрка, филиал Би-Би-Си, просвети: за что Полынникова драть будут? О чём в кулуарах пролетарии шушукаются?
Шустрик тормозит и хитро прищуривается:
— Ишь, как запел, комсорг! На хвост наступили, тотчас в народ подался! Чужими проблемами обеспокоился… Разве ты ничего не знаешь? Об этом только и разговоров по заводу. Да чего там завод — весь город как потревоженный муравейник!
Срочно волоку Шустрика в комитет комсомола и подхалимски предлагаю «Стюардессу», но он привычно отмахивается и суёт в зубы пролетарскую «Приму».
— Не томи душу, выкладывай, — тороплю его и чувствую, как на меня снова накатывается знакомая волна обиды за то, что мальчика на побегушках даже не удосужились просветить о том, что планирую в кулуарах. Слухи слухами, но ведь живём-то мы по директивам старших товарищей.
По яйцеобразной Шустриковой лысине пробегает весёлый солнечный зайчик, и я почему-то не могу отвести от него взгляда. Не к месту будь сказано: весна на дворе, солнышко, птички, а тут сидишь, как в холодном тёмном погребе, и вокруг тебя мыши скребутся.
— Сказочка весьма проста. — Чувствую, Юрка горд своей просветительской миссией. — Ты же знаешь, что Пётр — пресвитер у местных баптистов, то есть самый главный. Сидел бы он тихо и оправлял бы свой культ где-нибудь в стороне, никто бы его не трогал. Так ведь нет, дела у них идут настолько хорошо, что люди к ним потянулись. Даже те, кто ни в бога, ни в чёрта не верил. Это я точно знаю, потому что моя тёща к ним захаживать стала. Говорит, что местный поп на службах соловьём заливается, а в быту такой пьяница и сквернослов, что не привели господи. А баптисты — трезвенники, и с людьми всегда с лаской и пониманием общаются. Кому же веры больше?
— Юрка, — угрожающе рычу я, — философствовать потом будешь, а сейчас — только факты!
Шустрик пожимает плечами и картинно морщится:
— Не хочешь, могу не продолжать! — Но не продолжать он уже не может, потому что его распирает от счастливой возможности изложить свою точку зрения на баптистов перед таким профаном, как я. — Так вот, решили баптисты строить новый молельный дом. Старая-то избушка, в которой они прежде собирались, уже не вмещала всех желающих. Естественно, в райисполкоме разрешения на строительство не дали. Для начальства и последняя полуразрушенная православная церковь как бельмо на глазу, а тут баптисты со своими челобитными. Дай им разрешение — неизвестно, что они завтра выкинут. Короче, принцип «абы чего не вышло» — он превыше всего…
— Юрка! — снова тороплю я.
— И решили эти хитрые баптисты обойти райисполком. Купили два соседних участка в центре города с домами на снос и развернули такую стройку, что никакому БАМу не снилось. И проект им американские спонсоры подогнали, и дефицитные фундаментные блоки они раздобыли, а потом кирпич, цемент, древесину. Всё чин-чинарём…
— Что-то я слышал о строительстве молельного дома, — начал припоминать я. — Ну-ну…
— Фундамент они, значит, заложили, стены возводить начали, а командовал всем, естественно, Полынников. Оказалось, он не только кузнец первоклассный, но и прораб будь здоров… Но долго такое самоуправство продолжаться, конечно, не могло. Петра и в райисполком приглашали, и в милицию по повестке, только никуда он не ходил. А как пойти, если минуты нет свободной: весь день на заводе, а вечером и выходные на стройке. Потом комиссии разные повадились на эту «стройку века», нервы мотали ему и его рабочим. Говорят, Пётр даже от имени общины письмо американскому президенту отправил, ведь тот тоже баптист. По «Голосу Америке» об этой стройке говорили и о тех палках, что им в колёса городские власти ставят.
— Теперь понимаю, почему его решили на собрании драконить, — наконец, соображаю я. — За «Голос Америки» можно вообще влететь по полной программе. Не сомневаюсь, Галина Павловна в райкоме уже не один строгач получила…
— И это не всё. Сразу после майских праздников к этой баптистской стройке подкатило несколько нарядов милиции и давай в мегафон требовать, чтобы рабочие разошлись по домам. Никто их слушать, конечно, не стал, а когда милиция попробовала применить силу, то Пётр во всеуслышание заявил, чтобы люди пели гимны и в стычки с властями не ввязывались. Тотчас пригнали пожарные машины, народ брандсбойтами шуганули, а Павла, как зачинщика, увезли в участок и так там отходили, что он потом неделю в больнице отлёживался. А ночью подогнали бульдозеры и разнесли всё по кирпичику. А ведь здание было почти готово, хоть внутреннюю отделку начинай.
Юрка уже не улыбается, а сидит, сгорбившись, и жадно тянет замусоленный окурок:
— Жалко, понимаешь ли, трудов людских, ведь столько баптисты сил на эту стройку положили, а с ними, как со скотами последними…
— Конечно, жалко, — подхватываю я, а Юрка меня не слушает и продолжает:
— Одного не понимаю: баптисты, атеисты — какая разница? Главное, чтобы человек свиньёй не был и соседу не пакостил, ведь все мы, в конце концов… — он слегка запинается, но договаривает, — ходим под богом…
В другое время я бы обязательно поддел его за эти слова, а сейчас и сказать-то нечего.
— Ладно, пойду. — Шустрик с силой вдавливает окурок в пепельницу и сдувает с пальцев пепел. — Послушаем, что на собрании скажут. Но ничего там хорошего, думаю, не услышим…
На заводе только и разговоров о предстоящем разбирательстве Полынникова. Кто-то уже окрестил собрание «судилищем», и это тотчас подхватили в цехах. Моего объявления, где я собираюсь сводить счёты с Нинкой Филимоновой, никто словно не замечает. Да и кому оно может быть интересно, кроме комсомольцев? И тех придётся собирать силой, по доброй воле они не придут. Впрочем, я это заранее предусмотрел: схожу в табельную, заберу пропуска, и никто из моих гвардейцев до окончания собрания за проходные не выйдет.
Но пока суть да дело и отношения с Галиной Павловной окончательно не испортились, мне нужно провернуть ещё одно важное дельце — успеть подать заявление на вступление в партию. Пока я комсорг, это можно сделать. А как без этого двигаться по карьерной лестнице? Не вечно же бегать мальчиком на побегушках или корпеть над чертежами в своём конструкторском бюро.
О подаче заявления я разговаривал с Галиной Павловной уже не раз, но ничего конкретного она не обещала. Как парторг, она формально заинтересована в росте своих рядов, и будь я на её месте, всячески способствовал бы этому. Однако особого энтузиазма она не проявляла, и я этого не понимал. Неужели Шустрик прав, и тут вступал в силу какой-то неведомый мне второй слой, а то и третий?
А несколько дней назад я всё-таки добился от неё конкретного ответа. Оказывается, что приём ИТР, являющихся авангардом ПРОЛЕТАРИАТА, строго ограничен. Рост рядов должен происходить за счёт рабочих, которым этого как раз не надо. В нашей строительной индустрии ещё по-божески — на одного инженера должно приходиться двое рабочих. В других отраслях — больше. Подготовь для вступления пару рабочих, подсказала Галина Павловна, тогда и о тебе подумаем.
Но как это сделать? Рабочего нынче в партию и на аркане не затащишь. Это мне нужно расти в карьерном плане, а простому работяге-то куда? Льгот для рядового коммуниста никаких, а взносы плати регулярно да на собраниях время теряй. Короче, вербовка перспективных кандидатов, как, вероятней всего, решила Галина Павловна, окажется мне не по силам.
Но здесь-то она просчиталась. У меня на учёте всё-таки тридцать два комсомольца, и я для них какой-никакой авторитет. Побеседовал я с ними понапористей, пообещал выколотить отпуск летом и путёвки в крымский санаторий под него — и два вполне реальных рекрута у меня в кармане. Правда, пришлось заполнить за них все необходимые документы и позаниматься по Программе и Уставу партии, но без этого никуда не денешься. Таковы правила игры.
Сегодня, когда всё готово и документы аккуратно уложены в папочку, можно поговорить с Галиной Павловной понастойчивей. Никуда ей не отвертеться: соотношение рабочих и служащих я не нарушу, а рост рядов — вот он налицо…
Дверь в партком приоткрыта, и из-за неё, как всегда, доносятся бравурные звуки включённого на полную катушку репродуктора. Правда, на сей раз вместо маршей гремит бессмертный фольклор наших братьев-украинцев:
Ты ж мене пидмануда, Ты ж мене подвела-а… —жизнерадостно голосит обманутое мужское трио, но при этом почему-то жалко не певцов в расшитых рубахах и красных шароварах, а обманщицу из песни. Галина Павловна, вероятно, полностью солидарна с песенной героиней, и из парткома по коридору разносится её трубный глас, фальшиво вторящий певцам.
Вежливо стучусь в дверь и выжидаю.
— Да-да, — прерывает музицирование Галина Павловна, — входите.
— Я по личному вопросу, — бормочу я и заранее прикидываю, как резать правду-матку, если она вспомнит Филимонову.
— Давай, что там у тебя? — коротко бросает она и делает вид, что увлечена лежащими перед ней бумагами, хотя за секунду до этого чистила ногти пилочкой. Потом замечает, что забыла надеть очки и тут же водружает их на переносицу.
— Вот, заявления принёс. В партию. Своё и ещё двоих рабочих.
— А что ты за них носишь? Сами придти не могли? — подозрительно интересуется Галина Павловна и исследует заявления, будто они поддельные.
— Люди посменно работают и заняты, — начинаю хитрить и изворачиваться, хотя всё и так понятно. — Попросили меня занести. Но если надо, сами подойдут, я им передам.
— Ладно, чего уж там! — великодушно машет рукой Галина Павловна. — Подумает, обсудим на партбюро, тем более разнарядка сейчас пришла… Кстати, хорошо, что ты зашёл, к тебе есть партийное поручение. Ты объявление об общем собрании читал?
— Конечно.
— Будем обсуждать аморальное поведение Полынникова. То, что произошло, надо не только осудить всем коллективом, но и дать этому принципиальную партийную оценку.
— Ну, с этим-то будет всё в порядке, ведь солирует ваш зам Ромашкин, — усмехаюсь я, потому что всегда подтруниваю над Ромашкиным за его дубовость и косноязычие. — Уж, он-то даст стране угля…
— А что ты против него имеешь? — ухмыляется Галина Павловна, но тотчас сдвигает брови домиком. — Он парень неплохой, хоть и простоватый, может ляпнуть что-нибудь лишнее, потом не расхлебаешь. А на собрании будет присутствовать представитель райкома. Речь Ромашкину мы уже подготовили, он её вызубрит наизусть, но лучше подстраховаться. — Она величественным жестом наливает из графина воды в хрустальный стакан и отхлёбывает маленькими глоточками, как коньяк. — Вот я и подумала тебя подключить. Язык у тебя подвешен, можешь час без передышки говорить. Так что давай, комсомол, включайся в работу. Тезисы его доклада я тебе дам. Считай, что это первое твоё партийное поручение.
Я пожимаю плечами и неуверенно отвечаю:
— Что ж, раз надо…
А на душе кошки скребут, будто я кого-то обманул или предал. Хотя кто мне Полынников — сват или брат?.. Господи, почему одного Ромашкина мало?!
А трое добрых молодцев из репродуктора ухарски кричат мне вдогонку:
Ты же мене молодого С ума-разума свела!..Мы с Ленкой шагаем по вечернему парку, и кажется, что всё вокруг плавает в густом, почти осязаемом запахе цветущей сирени. Фонари светят высоко над кронами деревьев, рано зазеленевших этой весной, и свет теряется в листве, так и не достигая асфальтированных дорожек.
Ленка весело помахивает сумочкой и, озорно поглядывая по сторонам, всё время норовит шагнуть с асфальта в молодую упруго-резиновую траву. Я же задумчиво плетусь следом, тяжело печатая шаги по дорожке, и никак не могу понять, отчего Ленка веселится.
— Витёк, — смеётся она, — хватит корчить из себя мыслителя, побудь хоть вечер обыкновенным человеком. Ты же совсем другим можешь быть, когда захочешь!
— Да-да, — киваю я и, кажется, даже не слышу, что она говорит.
— Я обижусь, — предупреждает Ленка. — Тоже себе, гуляет с девушкой и не обращает на неё никакого внимания. Кавалер!.. Всё про свою Филимонову раздумываешь? Брось, не стоит она того! — О нашем последнем разговоре с Галиной Павловной Ленка ещё не знает. — А пойдём лучше в кино, развеемся, а? Выберем самый глупый фильм, после которого в голове будет полный вакуум — вот будет здорово!
— Не хочу в кино, и вообще ничего не хочу! — кисло бормочу я и вдруг, неожиданно для самого себя, отчаянно рублю рукой в воздухе: — Всё, амба! Молчи, грусть, молчи…Кто старое помянет, тому глаз вон. Кутить так кутить… Слушай, а погнали купаться на реку. Что, слабо?
— Сейчас? — обмирает Ленка. — В такую темень? Там же холодно и ни одной живой души!
— Ну и прекрасно! А кто тебе ещё нужен? Мы же такие горячие ребята!
— У меня купальника с собой нет…
— Да на кой он нам нужен? А, Ленок?
— Ты даёшь! — всё ещё сомневается Ленка, но машет рукой и хохочет: — Шут с тобой, комсорг-развратник! Пользуешься тем, что бедная девушка у тебя в подчинении… Погнали наперегонки!
…Ух, какая потрясающая вода! Холодно в ней или тепло не разобрать, только она, как газировка, слегка пузырится и обжигает кожу…
Пока мы добежали до городского пляжа, стемнело окончательно. Я уже давно сорвал с себя надоевший галстук и размахиваю им в воздухе. Господи, что я вытворяю, кто-то шепчет внутри меня, а другой голос тут же перебивает: молодец, наконец-то… Неприятности последних дней словно остались за спиной после этого сумасшедшего бега, а сейчас — только тяжёлое с непривычки дыхание и какое-то необычное опьянение. Так хорошо мне раньше не было…
Наши обнажённые тела матово светятся в отблесках луны на чёрной речной воде, и пусть за нами подглядывает кто угодно — плевать…
— Скажи, а купаться по ночам в голом виде со своим начальством — очень страшное преступление? — отплёвываясь от воды, смеётся Ленка.
Я переворачиваюсь на спину и раскидываю руки:
— А если между начальником и подчинённой любовь?
— Ты это серьёзно? — пуще прежнего закатывается Ленка. — Неужели суровый комсомольский вожак способен на такое чувство?
— А может, я тебе предложение сделать собираюсь!
— Замуж за тебя выходить? Ну, ты даёшь, комсорг!.. Не пойду я за тебя, ты меня со свету сживёшь своими скучными бумажками. Хватит мне восьми часов общения с тобой на работе, а то придётся всю жизнь выполнять твои нудные поручения. Хотя ты очень даже ничего…
— К чёрту поручения! К чёрту бумажки! — кричу я изо всех сил, и эхо вторит за рекой. — На самом деле я совсем другой!..
Подрагивая от ночной прохлады, мы выбираемся на берег, но одеваться не спешим. В воде было теплее, а на воздухе, кажется, изо рта вырывается горячий пар. Ветерок холодными иголками покалывает щёки, и меня бьёт озноб, но это совсем не от холода. Неловко касаюсь Ленкиной руки, и меня словно бьёт током.
— Что ты, нас же увидят… — шепчет Ленка и горячо дышит в ухо, а потом прижимается ко мне и почему-то всхлипывает. — Ай да комсорг, ай да сухарь…
— Не узнаю я тебя сегодня что-то. Физиономия у тебя какая-то одухотворённая! — вместо приветствия кричит Шустрик, вваливаясь без спроса в комитет комсомола и нахально дымя своей «Примой». С некоторых пор он считает себя моим духовным наставником, которому дозволено говорить мне всякие колкости. — Не иначе как перед судилищем по поручению парткома проходил стажировку в баптистской общине и заразился там библейской мудростью. Хотя мудрость — такая категория, которая комсомольским работникам противопоказана.
В голове у меня до сих пор сладкий ночной туман и немного хочется спать. Выгнать бы Юрку, чтобы не язвил, да неудобно — всё-таки товарищ.
— Ни у кого ничему я не учился. А по баптистским общинам ходить — я тебе кто — тёща твоя, что ли? Не выспался просто…
Шустрик замечает лежащую на столе учётную карточку Ленки Филимоновой и, криво ухмыляясь, начинает гнусавить:
— Как на наши именины испекли мы каравай…
— Не понял?
— Печёте с ГэПэ нового народного депутата, да? Филимонова, она бабёнка строптивая, но покладистая, именно такая вам и нужна. — Юрка хитро подмигивает, словно знает чьи-то тщательно сохраняемые секреты. — Такую только допусти в депутаты — далеко пойдёт и по команде будет налево и направо крыть правду-матку, но поперёк дороги никому не встанет. Неуплата взносов — это, брат, не её, а твоя тактическая ошибка. Ты Нинку просто не раскусил, и это тебе аукнется. Недаром ГэПэ её в последнее время всем в пример ставит, мол, активист, передовик, и бригада у неё самая лучшая. На ближайшем партсобрании её в кандидаты принимать будут. И кандидатом станет, и депутатом. Ловко?
— Откуда ты знаешь? — От удивления у меня отвисает челюсть.
— Нинка сама хвасталась. И с ней ещё двоих рабочих принимать будут. Твоих комсомольцев, кстати. А ты не знал?
— А как же я?
— А ты тоже в партию хотел? Не-е, про тебя разговора не было. Разнарядка-то только на троих.
— Но ей же характеристика комсомольская нужна, — мгновенно вскипаю я, — а кто ей подпишет? Опять ГэПэ?
— А ты и в самом деле считаешь, что кому-то твоя драгоценная подпись нужна? — продолжает издеваться Шустрик. — Конечно же, ГэПэ подпишет и глазом не моргнёт. Кто ты для неё? Адъютант её превосходительства, манекен витринный, груша для битья. Чего перед тобой расшаркиваться?
— Но это же свинство! Разве так можно?! — Бессильная ярость неожиданно сменяется во мне смертной тоской. На глаза наворачиваются слёзы, и ехидная Юркина рожа начинает двоиться.
— Им, Витёк, всё можно. — Улыбка исчезает с его лица, и на меня уже глядит не прежний балабол и весельчак, а какой-то чужой, угрюмый и усталый человек. — Одному тебе тяжело, что ли? А Нинке Филимоновой легче? Не такая уж она примитивная, как с первого взгляда кажется. Многие думают, что подфартило девчонке, попал выигрышный билет, так она и рада стараться, стелется дорожкой, пока начальство от неё не отвернулось. А она та же самая пешка, что и все мы. И у пешек никто мнения не спрашивает. Двигайся, пока двигают, а уж надо тобой пожертвовать, пожертвуют и ни у кого и капли сожаления не будет. Потому она своим бабьим хитрым чутьём и уловила, что нужно плыть по течению, пока дают. Начнёт артачиться и правду искать — пинком под зад и даже из бригадирш попрут… А ты, вчерашний студент, признайся, что втайне ей позавидовал и потому решил палки в колёса ставить? Ну не глупо ли, когда одна пешка завидует другой?!
— Подонки, — шепчу я, — какие они подонки!
— Кто? ГэПэ? А она-то чем от вас с Нинкой отличается? Ну, может быть, она не совсем пешка, а фигура покрупнее, но вряд ли у неё больше степеней свободы, чем у вас. Спустят ей очередную директиву из райкома, и крутись как хочешь. Вякнет что-то лишнее, и её пинком вышвырнут на обочину, только пинок уже будет побольнее да посерьёзней. А ты думал, что она ухватила боженьку за бороду и поплёвывает на нас со своего Олимпа? На самом деле, ей до тех заоблачных вершин, где власть, почёт и полная безнаказанность столько же, сколько и тебе с Нинкой — бесконечность.
— Да уж, — вздыхаю я, — ты такую картинку нарисовал, что хоть ложись да помирай.
— А сам не видишь? Так что из-за всех этих подписей и характеристик не заморачивайся: подпишешь или не подпишешь — всё едино. Живи спокойно и дыши ровно, будто ничего не случилось. Плетью обуха не перешибёшь. Доказывают лишь тому, кто хочет доказательств, а этим людям ничего не надо…
После ухода Шустрика долго не могу успокоиться, в бессильной ярости курю одну сигарету за другой и стряхиваю пепел мимо пепельницы. Наверное, я бормочу какие-то ругательства, только от этого легче не становится.
Как же поступить? Неужели Шустрик прав и дальновидней меня? Может, и в самом деле сделать вид, что ничего обидного не произошло, утереться от плевка и ждать. Упорно ждать. Но — чего?!
Да нет же! Не хочу превращаться в витринного манекена, в бессловесного мальчика для битья! Извини, мой дорогой демагог Шустрик, но твои хитроумные советы не для меня. Пускай мне будет потом плохо, пускай разобью себе нос в кровь, пускай на меня вешают всех собак, но я докажу им всем, что нельзя со мной так…
Я уже всё для себя решил — будь что будет…
Заместитель секретаря партбюро Ромашкин уже минут сорок сидит в комитете комсомола и дожидается меня. Об этом мне сообщила секретарша Людочка, которую он отправил на поиски, потом об этом прогромыхал заводской селектор, а теперь с этим сообщением явилась Ленка, которая, пожалуй, единственная знает, где меня искать, когда я решаю на некоторое время укрыться ото всех и спокойно выкурить сигарету.
Я сижу в закутке с множительной техникой, доступ в который посторонним запрещён. Ключи от закутка хранятся у начальника конструкторского бюро, но мне он даёт их без разговоров. Едва ли комсорг станет использовать множительную технику для чего-то противозаконного.
— От кого прячемся? — спрашивает Ленка.
Мне не хочется распространяться о своих бедах, но и молчать не могу. Слово за словом она вытягивает из меня всё, что накипело на душе, и лицо её постепенно бледнеет, а голос начинает подрагивать, что очень на неё не похоже.
— Ты действительно собираешься гнать Филимонову из комсомола? — забыв прикурить, Ленка нервно посасывает кончик сигаретного фильтра. — Это не шутка?
— Да. И этот вопрос больше не обсуждается!
— Как знаешь… Только, — она осторожно касается моего рукава, — может, не стоит? Они же тебя съедят после этого. Ты даже не представляешь, какая эта публика злопамятная!
— Я не из их числа. Но тоже кое-что не забываю. А ты, видно, забыла, как тебя посылали!
Ленка на мгновение задумывается, потом встряхивает чёлкой:
— Выходит, ты ещё хуже их всех! Чего стоит твоё правдолюбие, если ты нашёл крайнего и собираешься на нём отыграться? Не дают в начальника поиграть, да? И за это ты обиделся на весь мир?!
От удивления я даже роняю сигарету на пол:
— Ленок, что ты говоришь?! С кем ты меня на одну доску ставишь?! Нинку пожалела? Ой, какая она несчастная, мать-одиночка, в общаге прозябает, мужика у неё нет… А то, что меня по её милости в дерьмо с головой сунули и высовываться не велят, это пустяк?
— Мне противно, — сквозь слёзы выкрикивает Ленка, — что ты становишься одним из них! Тебе, кроме карьеры, ничего не надо! Чувствую, ты другим быть и не собирался…
Она вскакивает, рывком распахивает дверь и убегает. Некоторое время я вслушиваюсь в дробный цокот её каблучков и никак не могу унять противную дрожь. И голова просто раскалывается от боли. Чёртовы нервы, так можно и в психа превратиться.
Когда это всё кончится?! Нужно выпить таблетку. Срочно выпить таблетку и ни в коем случае не возвращаться в комитет комсомола, где меня дожидается Ромашкин…
А идти надо… С ума бы не сойти от головной боли!
Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес Советский Союз… —вопит репродуктор в комитете комсомола. Сам-то я его почти не включаю, но сегодня мои владения оккупировал Ромашкин, а этот парень и шага не ступит без грохота фанфар. Впрочем, он, даже помимо желания, копирует своего босса — Галину Павловну. Куда ниточка, туда и иголочка…
— Где тебя носит? — недовольно ворчит он, и его бритое до синевы плоское лицо изображает недовольство, хотя настроение у зама парторга, по всему видать, отменное.
— Носился по цехам, предупреждал комсомольцев о собрании, — вру я и пытаюсь нащупать в столе коробочку с таблетками.
— Я к тебе по этому вопросу и зашёл. Что это за персональное дело Филимоновой ты задумал? Почему партком в известность не поставил?
Если сейчас выдам, что собираюсь гнать Нинку из комсомола, то Ромашкин, чего доброго, сорвёт собрание. Значит, будем изворачиваться и обманывать. Верно всё-таки заметила Ленка, что становлюсь одним из них…
— Хочу выписать ей пилюлю за неуплату взносов, — принимаюсь сочинять я, — а там как народ решит. У будущего кандидата в члены партии и народного депутата всё должно быть в ажуре. А то всплывёт в райкоме, и нам же неприятности будут.
— А почему ты с нами не посоветовался? — недоумевает Ромашкин. — И почему затеял это как раз на пороге избирательной компании? Мог бы всё оформить как-нибудь потом… задним числом. — Он напряжённо размышляет, но доверять мне пока не собирается. — Что-то ты крутишь!
— На икону перекреститься, что ли?
Ромашкин подозрительно рассматривает меня, но ответ, видимо, его удовлетворяет.
— И всё равно, что это за партизанщина? Мы, значит, должны узнавать о собрании из третьих рук? Между прочим, мог бы пригласить на собрание Галину Павловну или меня. А вдруг мы в этот день не сможем.
— Считайте, что уже пригласил. Так вы и без приглашения придёте…
— Разговорчики! — сразу же надувается Ромашкин и грозит пальцем. — У нас не частная лавочка — что хочу, то и делаю. Тебя выбрали в комсорги, оказали доверие, будь добр согласовывать каждый свой шаг с парткомом. Для того мы и существуем. А то получай потом из-за тебя по шапке.
По шапке из-за меня в парткоме ещё никто не получал, и Ромашкин это прекрасно знает. Просто он такой забубённый: если завёлся на какую-то тему, то не успокоится, пока не выложит всё, что знает. Главное, дать ему выговориться. А потом он с сознанием выполненного долга сам уберётся.
— Ну ладно, это пока оставим, я пришёл по другому вопросу. — Ромашкин делает загадочное лицо и глубокомысленно выжидает. Но я молчу, лишь морщусь от нестихающей головной боли. — Галина Павловна сказала, что ты должен выступать на собрании, где будут разбирать аморальное поведение Полынникова. Был такой разговор?
— Был.
— Ну, и что ты собираешься говорить?
— Пока не знаю.
— Вот тебе и раз! — возмущённо хлопает он в ладоши. — До собрания всего-то ничего осталось, а он не знает, о чём говорить! Нет, братец, так дело не пойдёт. Или сам речь пиши, а перед выступлением занеси в партком на утверждение, или возьми тезисы моей речи, если не знаешь, что говорить.
— Может, вы как-нибудь без меня обойдётесь? Зачем повторять одно и то же?
— А ты смекалку прояви. Для чего тебе высшее образование?
— Причём здесь высшее образование?!
Ромашкин брезгливо отодвигает от себя пепельницу с окурками. Тон нашего разговора его явно не устраивает. К возражениям во время выполнения своей высокой партийной миссии он не привык:
— Ты своими комсомольцами объясняй, для чего нужно высшее образование. А мне за день до собрания положи на стол тезисы своего выступления, а ещё лучше — полную речь. И никакой отсебятины. — Двумя пальцами он стряхивает с рукава пепел, в который ненароком угодил. — Превратили, понимаешь ли, комитет комсомола в курилку! Некурящему человеку зайти невозможно.
После его ухода в воздухе долго держится запах «Шипра», от которого меня тошнит уже потому, что это любимый одеколон Ромашкина. Но головная боль, как ни странно, стихает. И нам том спасибо доблестному заму.
Лезу в сейф, где среди папок с комсомольскими документами припрятаны кофеварка и пачка кофе. Спустя пару минут по кабинету распространяется упоительный кофейный запах, и я с наслаждением прихлёбываю обжигающий крепкий кофе. После головной боли в висках всё ещё осталась чугунная тяжесть, но кофе скоро её прогонит.
Ох, как я устал, а по радио, которое я забыл выключить после ухода Ромашкина, звучит очередной музыкальный шедевр:
И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой…Подскакиваю, как ошпаренный, и выдёргиваю провод репродуктора из розетки. Боже, какое наслаждение тишина! За стеной в бухгалтерии кто-то объясняется на повышенных оборотах. За окном — монотонный металлический грохот завода, и ещё масса каких-то непонятных звуков отовсюду. Но всё равно это для меня тишина. Живительная тишина, от которой я оживаю скорее, чем от кофе. Тишина без репродукторных маршей…
В день комсомольского собрания с утра стараюсь накрутить себя и завестись, чтобы энергичней драконить Нинку Филимонову. Какая-то отчаянная злая решимость овладела мной. Пускай и перегну палку — я на всё согласен, лишь бы до конца не увязнуть в э том болоте.
Ленка ходит за мной, как привязанная, и пытается вразумить, но я отмалчиваюсь.
Раньше я всегда перед собраниями являлся в партком и подробно докладывал повестку, а то и проект решения, которое будет принято, но сегодня решил обойтись без этого. Хватит и того, что Ромашкин от меня услышал. Комсомольцы давно привыкли сонно отсиживать собрания, ничего не слышать, а при словах «кто за?» исправно тянуть руки, не вдумываясь в суть вопроса. Именно на этом я и сыграю сегодня. Даже Филимонова, если сподобится придти на собрание, проголосует за своё исключение автоматически, а уж потом до неё дойдёт, какую злую шутку я сотворил.
Решение нашей первички в райкоме тоже утвердят на полном автомате. Про это, конечно же, скоро узнает наш партком, и там поднимут шум. Меня обвинят во всех смертных грехах, телега на зарвавшегося комсорга покатится в райком комсомола, и там тоже ударят в набат, вызовут вражину на ковёр. Даже знаю, что мне там скажут: такого скандала у нас ещё не было, ты воспользовался доверием, и так далее, и тому подобное… Только мне уже будет всё равно. Абсолютно всё равно.
Никакого второго и третьего Шустрикова слоя мне больше не надо, и ни в чём я разбираться больше не собираюсь. Не хочу больше играть ни в какие игры. Устал…
Этакие героические мысли пришли ко мне сегодняшней бессонной ночью, и мне стало от них легко и свободно, словно я сбросил с плеч какой-то надоевший ненужный груз. Начинаю жить новой жизнью, пускай меня даже выгонят из комсоргов. Не пожалею…
Ромашкин уже встречал меня в коридоре, но о собрании так и не заикнулся. По его представлениям о субординации, я должен прибежать к ним первым. Секретарша Леночка, всегда стреляющая у меня сигареты и не забывающая при этом хитро подмигивать, сегодня проносится мимо без остановок и воротит нос на сторону. Почувствовала, небось, что скоро жареным запахнет.
Даже Галина Павловна за всё утро ни разу не разыскивала меня по селектору, а уж контролировать нас с Ленкой она любит пуще своей основной работы. Выжидает, наверное, что буду делать, ведь до неё наверняка уже донеслась весть о предстоящем исключении Нинки из комсомола. Или не знает, как поступить, или заготовила какую-то особую каверзу.
За час до собрания Ленка не выдерживает:
— Витёк, ну скажи, зачем тебе связываться со всей этой шоблой? Зачем тебе неприятности?
— Ленок, — заговорщически шепчу я, и мной овладевает странный азарт, как тогда на реке, — разве какие-то мелкие неприятности для нас с тобой что-то значат? Они ничто по сравнению с… нашими отношениями. Ты, как настоящая подруга декабриста, готова пойти туда, куда меня сошлют руководящие сатрапы?
— Дурак, — обижается Ленка, — я с ним серьёзно, а он… И потом никакой ты не декабрист, а я не твоя подруга!
— А ночное купание? — коварно припоминаю я.
Ленка раздражённо хлопает дверью, и я остаюсь в комитете комсомола один.
Тоже неплохо. Мне сейчас необходимо побыть одному, чтобы всё ещё раз продумать. Играть так играть! В первую очередь, необходимо нейтрализовать Ромашкина, который непременно явится давать свои ценные указания. Как — пока не знаю, но будем импровизировать. Затем — при самом нехорошем стечении обстоятельств, как выкручиваться, если присутствующие откажутся голосовать за Нинкино исключение. Такое маловероятно, но мало ли что.
А может, я всё-таки ошибаюсь, пытаясь действовать теми же методами, что и ГэПэ с Ромашкиным? Если уж что-то доказывать и чего-то добиваться, то как-то иначе. Честно и с открытым забралом. Но как? Про это Шустрик мне ничего не сказал…
Гляжу на часы — уже пора. Зажав папку с документами под мышкой, отправляюсь в красный уголок, где проходят собрания. Ну, брат, держись…
Но здесь пока ещё пусто. Со сцены, из-за длинного полированного стола глядит в зал своими гипсовыми незрячими глазами бюст Владимира Ильича. Край постамента ниже уровня стола, поэтому кажется, что вождь мирового пролетариата сидит за столом один-одинёшенек и терпеливо дожидается очередного собрания. Особенно странная картина получается, когда президиум полон и все стулья заняты. Тогда Владимир Ильич отодвигается на задний план, но не совсем, а так, чтобы заглядывать в кроссворды на столе и подслушивать перешёптывания сидящих. На сцене об этом не подозревают, а в зале это каждый раз вызывает непроизвольное хихикание.
Свет пока выключен, и глаза не сразу привыкают к полумраку. И вдруг я различаю, что в дальнем углу кто-то сидит. Пробираюсь между рядами стульев и обнаруживаю Ленку. Она отворачивается от меня и всхлипывает.
— Ленок, ну что ты? — Пытаюсь отыскать какие-то слова, но у меня голова занята другим. — Ты на меня обижаешься?
— Вот ещё! Очень нужно! — Она трёт покрасневшие глаза и лезет за платком промокнуть поплывшую косметику. — Не стоишь ты того…
— Прости, если сделал что-то не так. — Присаживаюсь рядом и пытаюсь её обнять. — Честное слово, я не хотел тебя обидеть.
— А что ты вообще хочешь в этой жизни?! — Ленка плачет ещё сильней и закрывает лицо ладонями. — Для тебя главное — твои амбиции и карьера, а на остальных тебе плевать. И на меня тоже.
Набираю побольше воздуха и вдруг выпаливаю:
— Ну, не буду я гнать из комсомола эту Нинку несчастную, выговор ей вкатаю. И всё! А остальные пусть, как и раньше, вытирают о нас ноги, а мы будем только отряхиваться и улыбаться. Если ты считаешь, что так будет лучше…
— Поступай, как решил. — Ленка отворачивается и сбрасывает мою руку со своего плеча. — Не надо мне твоих одолжений. А то я тебя буду ненавидеть ещё больше…
Как я и предполагал, на собрание Нинка Филимонова не явилась. И никто из комсомолок её бригады тоже не явился. Зато пришёл Шустрик, который вообще ни на какие собрания не ходит, а на комсомольские подавно, потому что вышел из комсомольского возраста лет восемь назад.
Резво открываю собрание и стараюсь не глядеть в полупустой зал. Если бы моя комсомольская гвардия собралась полностью, плюс к тому пришли бы все заводские коммунисты, то из ста с лишним мест в зале всё равно добрая половина осталась бы незанятой. А сегодня не пустуют лишь полтора ряда галёрки, да ещё несколько человек расположились напротив трибуны. Среди них, отечески улыбаясь, восседает Ромашкин. Он заранее готов к тому, что его пригласят в президиум, а я и не против — пускай тешит самолюбие.
Ленка уже привела себя в порядок, и только слегка припухшие веки выдают, что она недавно плакала. Киваю ей, и она заученно зачитывает список президиума. С усталой улыбкой всенародного любимца Ромашкин карабкается на сцену и занимает место рядом со мной.
Неплохое начало, прикидываю я, всё идёт по плану. Никого не интересует, о чём будет вещать докладчик, то есть я, главное, чтобы собрание закончилось быстро.
Часть комсомольцев отсутствует — те, кто работает в третью смену. Без уважительной причины — всего несколько человек, в том числе, бригада Филимоновой. Но необходимый кворум для голосования есть, так что можно не волноваться.
С первым вопросом, то есть с отчётом за квартал, искусственно затягиваю, чтобы публика озверела и стала меня торопить. Тогда второй вопрос — Нинкино исключение — проскочит на автомате. У сидящего в президиуме Ромашкина подёргиваются веки, он мучительно борется со сном и трясёт под столом ногой.
После получаса нудных выкладок и цитат прикидываю, что пора переходить к главному. Дабы до конца усыпить бдительность присутствующих, начинаю с выдержки из Устава ВЛКСМ, и встрепенувшаяся было публика снова впадает в коматозное состояние.
И тут я наношу главный удар:
— Ставим на голосование вопрос об исключении из рядов ВЛКСМ за неуплату членских взносов бригадира штукатуров формовочного цеха Филимоновой Нины. Кто за, прошу поднять руки.
В зале послушно тянутся руки, и даже Ромашкин, борющийся со сном, пытается голосовать, хоть ему не положено.
И сразу же я резко меняю темп: молниеносно закрываю собрание и отпускаю всех по домам. Все облегчённо вздыхают, топятся у выхода, и нет ни одного, кто поинтересовался бы, за что проголосовал всего минуту назад.
Задержавшийся в президиуме Ромашкин только сейчас начинает осозновать, что произошло. Он всё ещё по инерции трусит ногой и прикрывает рот ладонью, но в его глазах уже осмысленный блеск.
— Ты это что, стервец, натворил? — беспокойно вопрошает он.
Не обращаю внимания на грубость и делаю невинные глазки:
— Это решение собрания, и вы тому свидетель.
— Брось дурака валять! — кипятится зам. — Думаешь, я ничего не понимаю?
— Вам виднее, — развожу руками и собираю на столе бумаги, — только поезд, простите, ушёл…
— Ушёл, говоришь?! — Ромашкин даже подскакивает на стуле от праведного гнева. — Мы ещё посмотрим, чей поезд ушёл! Тебе это так с рук не сойдёт!
— Между прочим, — добиваю я его до конца, — вы тоже за исключение пытались голосовать. А решило всё-таки большинство присутствующих…
— Знаем мы это большинство! Ты меня, сопляк, учить будешь!
Весело и почти улыбаясь я подвожу итог:
— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит… Победа за сопляками!
— Сдурел он, что ли?! — Ромашкин беспомощно разводит руками и ищет взглядом поддержки у задержавшихся в красном уголке Ленки и Шустрика, а я уже спускаюсь со сцены и иду к выходу, но у дверей оборачиваюсь и кричу:
— Лена, зайди, пожалуйста, в комитет комсомола, нужно сделать выписку из протокола, и завтра я её отвезу в райком.
И только вернувшись к себе, я бессильно падаю в кресло и начинаю осознавать, как страшно устал за последние дни. Заварить бы сейчас кофе покрепче, стянуть надоевший галстук и сбросить ботинки, да нет сил даже пошевелиться.
Но сегодня мой праздник, поэтому организуем себе музыку. Кручу ручку репродуктора — вдруг передадут что-нибудь спокойное и расслабляющее. Но жизнерадостный женский голос взрывает прокуренную застоявшуюся тишину кабинета:
Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовёт, и ведёт. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадёт…Невольно повторяю слова этого оптимистичного гимна, вернее, шепчу, а кажется, что громко пою, почти выкрикиваю вместе с популярной киноактрисой, фамилия которой почему-то выветрилась из головы. Но ничего, она меня простит — день у меня такой сегодня…
Вопреки ожиданиям, исключение Нинки из комсомола эффекта разорвавшейся бомбы не произвело. Внешне всё осталось по-прежнему, только Шустрик при встрече стал сторониться меня как чумного да Ленка поглядывает в мою сторону с сожалением и опаской. Но в её глазах молчаливое одобрение и даже восхищение моим отчаянным поступком.
Встретив меня на следующее утро, Ромашкин как ни в чём не бывало здоровается и безразличным голосом сообщает:
— Галина Павловна хочет тебя видеть.
— Почему же она сама не позвонила?
— Какая разница? Или ты мне не доверяешь?
Не хочется начинать день с неминуемого втыка в парткоме, но… сам напросился.
— Наслышана о твоих подвигах, — говорит Галина Павловна, уткнувшись в бумаги. — Впрочем, всё это мальчишество и ерунда.
Пока молчу и не лезу в бочку. Навоеваться ещё успеем.
— Ерунда, — со вкусом повторяет она и поднимает туманный взор поверх очков. — Неужели ты решил, что кому-то что-то сумеешь доказать? Или навредить?
— Больно мне надо кому-то вредить…
— Ничего ты не понимаешь! — Галина Павловна усмехается и ласковым змеиным глазом разглядывает меня, будто увидала впервые. — Мы с твоей мамой работали вместе, когда тебя ещё на свете не было. В одном бараке после войны жили, на одном костре похлёбку варили. Так что ты мне как сын… Я тебя даже ремнём отстегать могу, и твоя мама мне только спасибо скажет за то, что учу уму-разуму дитя неразумное. Был бы на моём месте кто-то другой, тебе бы твои выходки с рук не сошли.
О знакомстве с матерью она вспоминает только в самых критических случаях. Видно, мне всё-таки удалось пронять этих бодрых и самоуверенных хозяев жизни. И ромашкинское показное равнодушие — полная мишура. Представляю, как он ненавидит меня!
Галина Павловна снова углубляется в бумаги и изображает страшную занятость. Видимо, нравоучения на этом закончились, и она переходит к делу:
— Значит, так. Выписку об исключении Филимоновой переделай на выговор. Ничего, что собрание проголосовало. Люди тебя поймут, я поговорю с ними. А лучше всего, не делай никакой выписки. Характеристики на Филимонову уже в райкоме, дело в работе, так что все твои выкрутасы, — она сладко потянулась, — пустые хлопоты. Ты меня понял?
— А если я не стану переделывать выписку?
— Не будь дурачком, — голос Галины Павловны делается ещё слаще, — делай, что говорят, не лезь на рожон… Кстати, насчёт собрания по Полынникову: ты не забыл про своё выступление? Подготовился?
— Нет, и не буду! — Я уже решил, что буду воевать до конца. — Всё это пустые хлопоты!
— Ну, как хочешь, дело твоё. Но я бы не советовала отказываться. Впрочем, мы никого не заставляем. Не ты — другой выступит. Филимонова та же самая.
Я ничего не отвечаю и тоскливо гляжу в окно. Знакомый солнечный лучик неподвижно замер на подоконнике. Тот же цветок в горшке, та же полудохлая муха, которая не может взлететь — ничего здесь не меняется…
— Я тебя не тороплю с ответом. Передумаешь — скажешь. — Галина Павловна снова олицетворение самой доброты. — И с Ромашкиным помирись. Что вы с ним цапаетесь? А теперь свободен…
Побитой собакой ухожу из парткома и в коридоре сталкиваюсь с Шустриком. На сей раз увернуться от меня ему не удаётся.
— Что, правдолюб, добился своего? — привычно скалится он. — Отхлестали по мордам? И поделом: будешь слушаться старших!
— Да пошёл ты! — огрызаюсь я.
— Это ещё цветочки, — не отвязывается Шустрик. — Так и быть, дам полный расклад по ситуации для студента-двоечника, который никак не врубается в правила, по которым живут взрослые. За первый грешок доблестный бюрократический аппарат великодушно не карает. Даёт возможность одуматься. Да он ничем и не рискует, потому что ты никуда не денешься и будешь всегда на крючке. Но прощают тебя формально, ведь на твоей репутации уже появилось маленькое тёмное пятнышко, которое тебе никогда не смыть. Стоит тебе ещё раз сделать неверный шаг, тут-то безжалостный маховик и раскрутится. В итоге — экзекуция и показательная порка, притом настолько обидная и не пропорциональная твоему прегрешению, чтобы все вокруг поняли — так поступать нельзя… С беднягой Петром аналогичный случай. Беда нашего баптиста вовсе не в том, что он баптист и не очень верит в догматы великого марксизма-ленинизма, беда в том, что он строптив и непредсказуем. Можешь проповедовать что угодно, хоть у дверей обкома нести любую ахинею про нашу идеологию, но не подчинись местным наполеонам — и всё, сам себе подписал приговор. В первом случае тебя сочтут больным на голову или просто хулиганом, во втором же — ниспровергателем авторитетов, что равносильно самоуничтожению… А Пётр вынес мусор из избы да ещё заявил об этом на вест мир!
— Его вынудили так поступить. Что же ему — за колья хвататься, когда его из брантсбойтов поливают и в милиции мутузят?
— Увы, кольями устоев не потревожишь.
— Но так же нельзя! Как мириться с таким абсурдом?
— Конечно, нельзя. Но мы с тобой для всей этой публики микробы, что мы можем? Остаётся ждать, пока этот абсурд дойдёт до своей наивысшей точки и сам себя сожрёт. Скажешь, долго ждать? А что поделать? Самое безопасное по нынешним временам — гнать свою программу, вычислять дурака-начальника и разводить его по полной программе. Извини, но своей жертвой мир не осчастливишь. Этого никто просто не заметит… Вот посмотришь, как завтра Петра дружно раздолбают, и ни одна живая душа ему не посочувствует.
— По-твоему, уже и порядочных людей на свете не осталось?
— Осталось, и довольно много. Каждый из нас по-своему глубоко порядочный и совестливый человек. Где ты видел стопроцентного подлеца? В каком кино? Только у большинства эта порядочность не на поверхности, а внутри. Так сказать, для личного употребления, как туалетная бумага. В наши счастливые времена ею, как и интеллигентностью, лучше не хвастаться.
— Глупости городишь! — возмущённо трясу я головой. — Слушать такое противно. Если тебя устраивает барахтаться в болоте среди дерьмовых людишек, то зачем тянуть за собой других?
— Ого, у нашего революционера прорезаются зубки и колосятся усики под носом, — веселится Юрка, а веселье его, чувствую, показное и невзаправдашнее. — Вольному воля. Большому кораблю большое плавание по бурным житейским водам. А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой…
Разглядываю смеющегося Шустрика, и он очень напоминает мне китайский цитатник-дацзыбао — столько у него присказок и поговорок, а содержание — пустота…
— Учти, вчерашний студент, — неожиданно зло прибавляет он, — на роль Павки Корчагина ты не годишься. Отжили подобные динозавры, потому что не умели приноравливаться к ситуации. Однослойные идеалисты во все времена никому не нужны.
— Вот и славно! — Теперь уже моя очередь веселиться, хотя особых поводов для веселья нет. — Мы разошлись, как в море корабли…
Шустрик молча давит каблуком незатушенную «Приму» и исчезает.
На сегодняшнем «судилище» красный уголок забит до отказа. В дверях толпятся люди, и зал напоминает душную каморку, в которой яблоку негде упасть. В проходах стоят стулья, принесённые из соседних отделов, и всё равно мест для всех не хватает, люди стоят между рядов и сидят на полу у стен.
Лишь рядом с сидящим в третьем ряду Полынниковым места свободны — сесть рядом с ним никто не отважился.
Мы с Ленкой выбрали места чуть наискосок, чтобы хорошо видеть президиум и одновременно Петра. Рядом с нами несколько комсомольцев из цеха, а ведь Ленка вчера предположила, что после исключения Нинки многие из моих подопечных отвернутся от меня. К счастью, такого не случилось.
Сама же Нинка во главе своей бригады сегодня явилась, но демонстративно уселась в другом конце зала, чтобы быть от меня подальше. Ленку они ненавидят, пожалуй, ещё больше, чем меня. Наверняка считают, что во всём она виновата со своими сборами взносов, и я бы спустил всё на парах, если бы не Ленка.
В президиуме руководство завода в полном составе. Вид у всех немного ошарашенный, особенно у главного инженера, который в кузнеце Полынникове души не чаял и всегда твердил, что нет такой сложной детали, которую тот не смог бы отковать, а потому за такого работника нужно держаться обеими руками. После того, как избитый в милиции Полынников попал на неделю в больницу, он велел в табельной поставить ему все дни рабочими. Может, он сегодня уже опасается, что этот его поступок расценят как сочувствие опальному баптисту?
Между Галиной Павловной и Ромашкиным сидит райкомовский инструктор, пожалуй, единственный, кто для присутствующих посторонний. Наш маленький заводик давно стал большой семьей, где всем всё про всех известно. Но сегодня инструктор — хозяин положения. Он зорко поглядывает по сторонам и нисколько не смущается, если его взгляд натыкается на чей-то ответный взгляд.
Учитывая важность момента, Ромашкин надевает очки, хоть прекрасно обходится без них, и последний раз перед выступлением просматривает отпечатанную на машинке обличительную речь. Сегодня ему вести собрание, и он пуще смерти боится допустить какую-нибудь оплошность.
Галина Павловна сидит в праздничном жабо и довольна, как именинница, однако не забывает при этом строго поглядывать по сторонам, дабы в зародыше подавить возможные инциденты. Кроме Петра, на заводе работают ещё несколько баптистов, и от них, по мнению Галины Павловны, можно ожидать всего, что угодно.
Начало собрания затягивается, потому что не все ещё расселись по местам, и в красном уголке стоит шум. Наконец, директор поднимает руку, и люди успокаиваются. Пока директор наводит порядок, с интересом, будто в первый раз, разглядываю Полынникова.
Близко мы не знакомы, но при встрече я всегда с ним здороваюсь, как и с остальными рабочими. Правда, я слышал его неторопливую и обстоятельную речь, когда он с кем-то беседовал, но подойти и заговорить с ним не решался. А может, просто опасался за свою комсомольскую репутацию. Сегодня всё это кажется мне уже глупостью, но ничего не поделаешь.
На вид ему лет пятьдесят. Грубоватое крупное лицо со старыми подтёками от синяков, полученных в милиции, и глаза — чёрные, глубоко посаженные. Такие глаза были, наверное, у протопопа Аввакума, хотя совсем не уверен, что есть что-то общее между хрестоматийными бунтарями-старообрядцами и нынешними баптистами. Узловатые крепкие пальцы сжимают на коленях старенькую фуражку. Комбинезон, который он не успел переодеть после смены, чист и опрятен, из бокового кармашка выглядывает угол записной книжки и аккуратно очиненный карандаш. Вся его внешность выражает спокойствие и невозмутимость, чего не скажешь об окружающих.
Ловлю себя на мысли, что я ему в чём-то даже завидую. Конечно, не показному равнодушию и даже не какой-то необычайной готовности нести свой крест на голгофу сегодняшнего «судилища». Чему же? И понять не могу…
На трибуну поднимается Ромашкин и первым делом хватает трясущимися руками графин с водой. В зале раздаются смешки, но он, не обращая ни на кого внимания, залпом выпивает один стакан, потом наливает следующий. Прозрачные капли стекают по его подбородку, и он смахивает их резким размашистым движением, словно прогоняет муху. Смешки в зале становятся сильнее.
— Начинай, не тяни резину! — хихикает кто-то с задних рядов. — А то ишь… водохлёб!
— Тише вы! — громко шипит будущая коммунистка Филимонова и даже привстаёт со своего места.
— Товарищи! — срывающимся голосом произносит Ромашкин и перед тем, как углубиться в шпаргалку, пробует несколько слов сказать от себя. — Мне поручено… Вернее, мы должны… Короче, дело обстоит так… — Он сразу же путается и краснеет, но перед ним спасительные листки, в которые он опускает глаза и до самого конца выступления в зал уже не глядит.
Ничего оригинального в его получасовом монологе, естественно, нет. Суконные бесцветные фразы нанизаны одна на другую довольно гладко, но наверняка извлечены из какой-то атеистической брошюры. К составлению речи наверняка приложила руку Галина Павловна, а может и райкомовский инструктор. Ромашкинское творчество очень сомнительно — не тот он человек, чтобы брать на себя такую ответственность.
— Слушай, — шепчет мне Ленка, — он сказал, что религия — опиум для народа, и это слова Маркса…
— Ну и что?
— А ведь во времена Маркса опиум не считали злом. Наоборот, его применяли в медицине как обезболивающее. То есть, приносящее облегчение. Может, Маркс вкладывал в эту фразу другой смысл?
Я пожимаю плечами и продолжаю слушать Ромашкина. А ведь верно заметила Ленка, я и сам об этом где-то читал. Бессмертные наши классики марксизма-ленинизма тем и хороши, что толковать их можно как угодно, в зависимости от ситуации. Как те же гороскопы по знакам зодиака…
Тем временем броненосец Ромашкина, видимо, получает первую пробоину и начинает потихоньку тонуть. На некоторых заковыристых фразах он спотыкается, коверкает незнакомые слова, ведь для него, как и для большинства присутствующих, за семью печатями библейские имена и образы, которыми подкрепили свои хитроумные атеистические выводы авторы брошюры. Да и откуда ему знать такие вещи, если он всю свою жизнь поклонялся совсем иным богам!
Наконец, он худо-бедно добирается до последней страницы речи и облегчением выдаёт заключительную тираду, бичующую религиозный дурман и прочие дедовские пережитки. Одновременно с этим заканчивается и вода в графине. Об инциденте со строительством молельного дома он так ничего и не сказал. Видно, в брошюре ничего близкого по теме не отыскалось, а Галина Павловна с инструктором в спешке упустили эту немаловажную деталь.
По задуманному сценарию по окончании речи наверняка должна раздаться овация и соответствующая единодушная поддержка коллектива, но финал был исполнен выступающим настолько вяло и бесцветно, что в зале повисает напряжённая тишина, не прерываемая ни единым звуком. Ромашкин обводит непонимающим взглядом ряды, косится на президиум и вдруг, набравшись смелости, на одном дыхании выпаливает:
— Скажите присутствующим, това… э-э, гражданин Полынников: после всего сказанного признаёте ли вы… свою вину?
Внутри у меня что-то обрывается, и сразу начинают пылать щёки. Со стыда я готов провалиться сквозь землю. Мне становится невыносимо больно за сидящих в президиуме и за самого заместителя парторга, словно я лично причастен к этой невообразимой глупости, отвечать за которую не кому-то, а мне лично. А ведь я ещё пока один из них, из ромашкиных…
Ленка толкает меня локтем, а я этого даже не чувствую.
— Господи, о чём он?! — еле слышно бормочет она. — Совсем уже?!
Бросаю взгляд на Полынникова и вижу, как он медленно поднимается со своего стула, комкает в руках фуражку и оглядывается по сторонам, словно просеивает присутствующих взглядом сквозь какое-то своё невидимое сито. Его избитое, слегка рябоватое лицо мертвенно бледно, но глаза по-прежнему спокойны и ясны.
— Господь рассудит вас, — чётко выговаривает он, и голос его словно звенит, — и простит…
Он неторопливо пробирается к выходу и старается ни на кого не смотреть. Стоящие в проходе расступаются, и он проходит по живому коридору.
После его ухода ещё минуту стоит тишина. Взгляды людей снова перекрещиваются на Ромашкине, и от этих взглядов он корчится, словно попал в фокус невыносимо ярких, испепеляющих лучей.
На помощь своему заму приходит Галина Павловна.
— Что же это, товарищи, происходит?! — Она выбегает из-за стола и, сжимая кулаки, балансирует по краю сцены. — Полынников, понимаешь ли, развернул тут свою религиозную пропаганду, а мы развесили уши и не можем дать ему достойный отпор! Стыдно, товарищи!
Красный уголок тотчас оживает, люди начинают взволнованно переговариваться, а старушка-уборщица из заводоуправления тайком крестится. Ромашкин моментально испаряется с трибуны, прячется за спины сидящих в президиуме и утирает потное лицо носовым платком.
И тут Галина Павловна делает широкий жест и громко выкрикивает:
— Слово имеет секретарь заводской комсомольской организации. Давай, Виктор, выходи!
Теперь все смотрят на меня, а я непроизвольно опускаю голову, закрываю глаза, и больше всего мне хочется сейчас куда-нибудь исчезнуть, раствориться, провалиться сквозь землю… Ленка толкает меня локтем и одновременно цепко держит за рукав:
— Витенька, Витенька…
Я медленно поднимаюсь и иду к сцене. Каждый шаг даётся с неимоверным трудом, но не идти — и я это уже понимаю — нельзя. Проклятая сцена, проклятая трибуна — как я их ненавижу, но они притягивают меня, как магнит!
На трибуне всё ещё пахнет ромашкинским «Шипром», и я останавливаюсь перед трибуной, у края сцены. Теперь все взгляды на мне: что он скажет? для чего вышел на сцену?
С задних рядов доносится знакомый голос Нинки Филимоновой:
— Галина Павловна, может, лучше мне выступить? Я же готовилась, вы меня просили…
Те несколько слов, которые я мучительно отыскивал, пробираясь к сцене, солёным комком застревают в горле. Горькие злые слёзы застревают в глазах.
— Что с тобой, Виктор? — встревожено спрашивает Галина Павловна. — Товарищи, ему же плохо! Помогите сойти со сцены.
— Не надо! Ничего мне от вас не надо! — Изо всей силы я бью кулаком по полированной стенке трибуны. Выпуклый край герба до крови рассекает пальцы, но боли я не чувствую. — Без вашей помощи обойдусь…
Галина Павловна с удивлением глядит на меня и удерживает за руку инструктора, который пытается встать со своего стула. А я уже сбегаю со ступенек и спешу к выходу. Ленка пытается догнать меня, но ей очень трудно пробираться сквозь плотную толпу в проходе.
А за спиной уже разносится чуть подрагивающий от волнения голос нашего парторга:
— Ничего страшного, товарищи! Обыкновенная истерика — с кем не случается? Просто молодой человек перенервничал. Успокойтесь, собрание продолжается… На трибуну приглашается кандидат в члены КПСС бригадир штукатуров Филимонова Нина…
Я сижу в комитете комсомола и курю одну сигарету за другой. Передо мной на столе чашка с остывшим кофе. В голове вакуум, ничем заниматься не хочется, наверное, впервые за время моего секретарства.
Хотя не мешало бы заняться приведением в порядок документации. На носу ещё одно комсомольское собрание — уже отчётно-выборное. По срокам до него ещё полгода, но Галина Павловна потребовала провести его сейчас. Она же предложила и новую кандидатуру вместо меня — конечно же, Нинку Филимонову. А я и не против. Мне уже всё равно…
Само собой разумеется, её исключение из комсомола райком не утвердил, потому что им оперативно позвонили с завода, и когда я привёз выписку из протокола собрания, мне устроили хорошую головомойку. К удивлению райкомовского начальства я не оправдывался и воспринимал всё предельно равнодушно. Ясно было, что секретарём заводского комитета комсомола мне больше не быть, да я этого уже и не хотел. А после «судилища» над Полынниковым лишний раз убедился, что иных вариантов для меня нет.
После того, как я выбежал с «судилища», то сразу бросился к себе в комитет комсомола и стал рвать на мелкие клочки все эти протоколы и отчёты, но подоспела Ленка и отняла у меня бумаги. Потом мы долго сидели с ней в разных углах и не смотрели друг на друга. Мы слышали, как закончилось собрание, и люди потянулись к выходу. К нам несколько раз стучали, но ни я, ни Ленка даже не пошевелились. Потом, когда все разошлись, старушка-уборщица своим ключом открыла дверь и попросила нас освободить помещение. Наверняка она решила, что мы остались тут, чтобы заняться чем-то постыдным, но, увидав наши лица, обомлела и долго глядела нам вслед, пока мы шли по коридору к выходу.
Вопреки ожиданиям, никаких особых перемен после «судилища» на заводе не произошло. Полынников по-прежнему работает в кузнице в своём ремонтно-механическом цеху, лишь на доске объявлений появился приказ о лишении его квартальной премии. Но к деньгам — и все это знали — он относится с полным безразличием, так что такая мелка кара его никак не задела. Главный инженер довольно потирает руки, потому что ценный работник для производства сохранён, а квартальную премию — какая мелочь! — он найдёт способ как-нибудь возместить.
Галина Павловна с Ромашкиным меня теперь не замечают вовсе. Я для них больше не существую. За компанию со мной в опалу попала и Ленка. Да оно и понятно: заведовать сектором учёта и быть замом нового комсорга она не собиралась ни под каким соусом. Теперь мы с ней вернулись в родное конструкторское бюро за кульманы. Благо, держать карандаш ещё не разучились…
Я отхлёбываю кофе из чашки и неспеша достаю свой комсомольский билет. Зелёная дерматиновая корка, в которую вложена красная книжица, от постоянного ношения в кармане немного истрепалась, но сам билет как новенький, будто его выдали только вчера. Открываю первый разворот, и с фотографии на меня глядит четырнадцатилетний мальчишка с копной непослушных волос в белой рубашке без галстука.
Ох, как я мечтал когда-то об этом билете! Нас принимали в комсомол в восьмом классе, и мне было до слёз обидно, что я не оказался в числе первых, потому что всем уже стукнуло по четырнадцать, а мне надо было ждать ещё целых полгода. Я даже раздобыл себе комсомольский значок, но носил его в кармане, доставал и примерял на лацкан пиджака, пока никто не видел. Мне казалось, что этот значок с ленинским силуэтом излучает какую-то энергию и согревает ладонь. Как это было здорово тогда!
Тот ли это комсомол, о котором я мечтал? Неужели я обманывал себя все эти годы? Я не хотел верить, что миф, который я сам и создал, с каждым днём разрушается всё больше и больше. Мне казалось, что я сумею его сберечь в своём небольшом окружении, если буду его искренне любить и лелеять. И когда мне предложили стать комсоргом нашего небольшого заводика, я решил, что это закономерное развитии моей преданности и любви…
Все мы обманывали себя, выдавая желаемое за действительное. Я и представить не мог, что когда-то наступит время, и эта маленькая красная книжица в зелёной дерматиновой корке больше не будет лежать в моём кармане. Как можно обходиться без неё?!
И вдруг мне в голову приходит сумасшедшая мысль. Такая сумасшедшая, что я даже не сразу её осознаю. Рука слегка подрагивает, но я беру зажигалку и долго смотрю то на неё, то на комсомольский билет. Какой-то пьянящий азарт овладевает мной: ну-ка сыграем в чёт-нечёт, орла и решку — что выпадет? Но нет под рукой ничего подходящего…
А если я включу своего давнего недруга — репродуктор — и загадаю: если будет дикторская речь или классическая музыка, то прячу зажигалку в карман, а если какой-нибудь очередной марш…
Глубоко вздохнув, поднимаюсь из-за стола, последний раз оглядываю комитет комсомола, куда больше уже не вернусь, и протягиваю руку к репродуктору. Перехватывает дыхание, на мгновение я замираю, но какая-то ледяная иголка настойчиво покалывает слева в груди.
Ручка громкости слегка поскрипывает. Секунда — и раздадутся звуки.
Я тяжело дышу и вслушиваюсь, вслушиваюсь, вслушиваюсь…

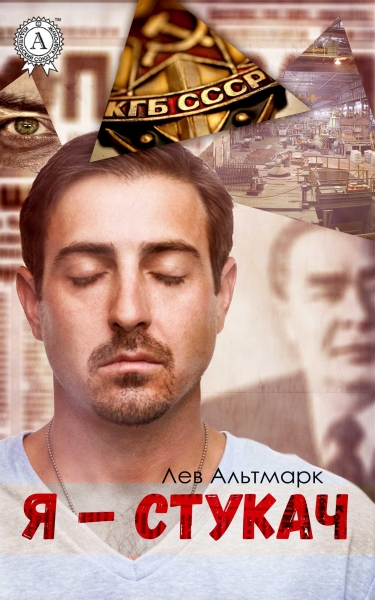
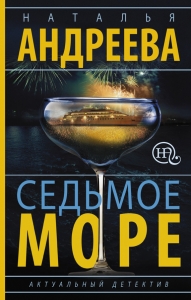



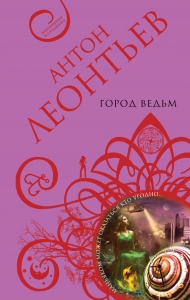


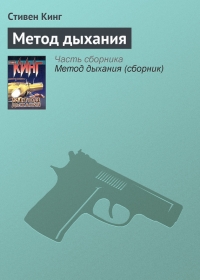
![Чисто английский детектив по-русски [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/576515/primary-medium.jpg)


Комментарии к книге «Я — стукач», Лев Юрьевич Альтмарк
Всего 0 комментариев