Владимир Югов ЗАГАДКА МАДАМ ЛЮ
…Каблучки ее стучали в раннем утре вызывающе, настойчиво и весело. Я чувствовал вчера: сегодня она обязательно придет. И не ошибся. Она не шла — летела. И я, стоя у окна, прячась за дубовый старинный шкаф, любовался ею. В ее этом полете к моему коммунальному жилью была такая нетерпеливая решительность, что я испугался за все: убогий свой быт — этот тринадцатиквадратный неуют с облезшими стенами; эту свою кровать, наверное, времен военного коммунизма (с железной сеткой, которую можно прибить на окне и сделать решеткой); эту дверь с дурацким колокольчиком (можно смотреть в ее щели как в «глазок»). Я уверял теперь себя: это все здешнее мое ее погубит. Погубит женскую, светящуюся на лице, радость. Погубит ее характер. Погубит душу. Я давно понял: все в ней настоено на нашем, то есть здешнем бытие. И вместе с тем она вобрала в себя всю вселенную…
Я любил ее сейчас, в эту минуту, когда она бежала ко мне, искреннее, больше, чем любил когда-то других. Я видел по мере ее приближения облачко над ее ликом. Белое облачко. Зелень деревьев была так зелена на фоне голубизны ее глаз, глаз, цвета сегодняшнего неба, что я закрыл невольно лицо, боясь утонуть в этом волнующем цвете. Тоска вдруг нахлынула. Я стал проклинать себя за то, что постарел, а, встретив ее, сразу не отверг. Я мог бы понять, что с ее появлением все вокруг сделалось по-детски свежим. Но я-то, я… Я остался старым, больным, подозрительным, неверящим в любовь…
Каблучки, между тем, процокали уже по нашим ступенькам. Я живу на втором этаже, и впервые мне пришлось пожалеть, что живу не выше, так как этот мелодичный, веселый, дробный стук кончился. Затрещал звонок. Я вновь ощутил глубокую тоску, оглядев себя. Передо мной в зеркале стоял потрепанного вида этакий мужичок, которыми заполнены великие просторы шестой части задыхающейся, обманутой земли. Этот мужичок был одет в спортивные выгоревшие штаны, в которые одевается дома большая часть страны, расположенной на этой земле; на ногах — шлепанцы, годящиеся лишь для одного: чтобы выкинуть.
— Сейчас! — заорал я, разучившись сразу после звонка открывать дверь.
Весь я сжался, похолодел от предчувствия счастья. Так было со мной. Однажды я шел к вершине горы. Страх вонзился в меня. Или упаду. Покачусь вниз. Или… Какие свежие снега вдруг увидел я! Какие глубокие ущелья с острыми каменьями… Мне бы теперь крылья, чтобы попасть на вершину. Но их давно, как у многих, обрезали. Оставили немножко перьев. И годочков. Обкарнали. Понимает ли она, к кому идет? Понимает ли, что я бессилен изменить что-то в этом мире?
Я шептал ее имя: «Лю! Лю!» И шептал за этим именем избитые слова: зачем ты не родилась раньше? Со мной? Я бы, может, так не выглядел. Не выглядел бы монументально-скульптурным, похожим на таких же монументально-скульптурных, убогих душой и однообразной, как оказалось, неверной наукой. Мы бы тогда помогли всем им, Лю! Я бы тогда не был так паскудно традиционен и труслив в защите людей. Я бы тоже, как ты сейчас, в своей весенней молодости, дышал вишневым воздухом, над моей головой плыло бы утреннее белое облачко, ночью бы я видел новые созвездия. И я не дал бы тем, кто за это ответственен, погребать тела убитых, не найдя убийц. Это так, Лю. Так. Не иначе!
1. УБИЙСТВО В НОЧЬ ПОД ПРАЗДНИК
По-моему, Лю и сообщила мне в гостиницу по телефону об убийстве. Она тогда просто изменила голос, подстроив его под мужской. Это я потом вычислил. Но почему за мной приехали тогда Сухонин, Васильев, Струев?
Был день пасхи. Я, к сожалению, в ста восьмидесяти университетских предметах, не учил догматического и нравственного богословия, патристику, церковную археологию, литургику, общую церковную историю и церковное право, гомилетику, педагогику, древние и новые языки и прочие науки, делающие человека хотя бы душевнее и грамотнее. И Лю пояснила мне, что означает убийство в такие дни. Может, она что-то путала, прибавляла, но я понял, что, если всякое убийство — грех, то это — величайший грех.
В пятницу Ирина уже лежала, обнаженная от мирских одежд, боса и непокровенна. Она будто отвергла все лишнее в этой жизни. Где находилась теперь ее душа, которая должна всегда господствовать над началом земным над телом? Никто не знал. Не знала, наверное, даже Лю. Хотя… Душа наша не умирает! И это, согласитесь, наполняет жизнь особым смыслом.
После телефонного звонка Лю в гостиницу я потом, приехав на место, где было совершено преступление, думал: вот так умрешь, тебя зароют и, если на этом все кончится, тогда, конечно, очень страшно — можно творить все, что взбредет в башку. А еще страшнее, что на протяжении этой не такой уж и длинной жизни, по каким-то точным подсчетам, каждый из нас подвергается ограблению (девять из десяти — два и более раза), а один из 133 умирает насильственной смертью.
Насильственной смертью умерла и Ирина. Мужской голос приглашал меня «пройти страдания вместе с убитой», что естественно хотя бы потому, что возвращение в лоно веры в живущего рядом абсолютно объяснимо твоей же духовной потребностью. Меня приглашали, в качестве «пишущего на эти темы», — отведать «кусок» нашей «дрянной действительности».
Честно, запутался со звонками. Почему приехала милиция — Сухонин, Васильев, Струев, если звонила Лю? Звонила же она! А приехала милиция! Я поехал с ними, да. И по горячим следам вечером (опять по телефону) рассказывал все Лю. Я сказал и о том, что был недавно в командировке, встретился почти с такой же историей, написал о ней…
— Сто страниц убористого текста, — дополнила меня она.
— Откуда вы знаете?
— Вы заперли себя на даче друга и написали…
— Слушайте, все-таки, откуда вы знаете?
— Все истории похожи одна на другую.
— Да, но эта…
— Эта как две капли воды похожа на ту.
— Есть много несходств.
— Вы сегодня выпили, поэтому возражаете. Я чувствую запах армянского коньяка.
— А вы бы не пили, наглядясь на такое?
— Я? Я не пью. Во всяком случае, такой коньяк я бы не пила.
— Чего вдруг?
— Это подделка.
— Откуда вы знаете, что я пил?
— Я была рядом с вами.
— Почему я не знаю вас?
— Я говорила с вами. А если вы не верите, я расскажу, о чем вы рассуждали с Сухониным. Вы сказали, что вам ничего не оставалось, как написать сто страниц… Что таких историй тысячи. И вы будто очнулись. Теперь вы слышите о преступности везде: в магазинах, метро, автобусах. Вы стали замечать, как опустели театры, никто из ваших нормальных знакомых не ходит поздно вечером в кино. Ваш город пустеет после программы «Время». Что вы не знали (хотя и пишете об этом) о криминальной истории своего милого Отечества. Да, да! Вы так и сказали: милого Отечества. Это у вас в привычке — так иронизировать. Ведь Отечество, сказали вы, всегда гордилось тем, что с преступностью у нас покончено.
— Послушайте, кто вы? — крикнул я, чувствуя, что пьянею и не могу больше контролировать себя. — Вы же знаете, что я вынес за этот день! Я действительно выпил, и пил действительно коньяк.
— Не кричите. Вам это не идет. Даже после дешевого армянского коньяка вы должны говорить с женщиной уважительно.
— Как вас зовут в конце концов? И что вам надо от меня?
Пип, пип, пип! — запищал телефон. Я тогда еще не знал, как зовут Лю, кто она, чем занимается, где живет…
В пятницу были сняты первые показания и составлен протокол. Вы, видимо, догадаетесь, о ком будет идти речь, если я обрисую ситуацию.
Представьте, служил человек на флоте положенных ему три года, честь по чести демобилизовался. Вернулся в свой городок. Было это во вторник, что важно для повествования. Человек был до службы женат. В первый год службы его поздравили с первенцем — родилась дочь Катя. На второй год его службы молодые решили порвать отношения. Заочно. По письмам. Объяснять все это долго, да и по ходу повести станет ясна причина развода. За два года потом — ни одного письма. Но вернувшись в свой город, морячок пошагал не к родителям, где был прописан (жена потом ушла от них), а к своей Ирине.
Ну что тут такого? Пути молодых неисповедимы. Захотелось — пошел. И жил там до четверга (у Ирины была теперь отдельная квартира). Не позвонил родителям ни разу. Хотя вроде никогда не ругался с ними в письмах. Вечером, в четверг, морячок неожиданно уходит к матери и отцу (отчиму) и в тот же вечер Ирину находят мертвой. Убита она была самым жестоким образом.
С моряка и были сняты первые показания. Снимал их старший лейтенант Васильев. Существо плюгавое, рыжее, с белесыми дугами бровей, существо всего в сто шестьдесят сантиметров ростом. Моряк, со странным именем Ледик, был двухметровый гигант, похожий на сагановского героя из «Немного солнца в холодной воде» Константина фон Мекка. Высоченные скулы, крупный нос и мясистый рот. Была ли у него «рыбья кровь», как у фон Мекка, трудно сказать; но то, что он являл миру не радость, а какую-то стылость и отрешенность, — факт.
Как он вел себя со следователем? Пока недоумевал.
Следует сказать, что эти два молодых человека, следователь и Ледик, по двадцати трех лет от роду, знали друг друга. Они даже один год учились когда-то в одном классе. Ледик тогда был гибким, высоченным и широкогрудым пацаном с карими, по-девичьи, красивыми глазами, а Васильев — светленьким узколицым мальчиком, настороженно изучающим каждого, в том числе и Ледика. Васильев только поступил тогда в их школу: его отца назначили директором знаменитого на то время СПТУ, где для всей страны готовились отменные взрывники шахт и где из месяца в месяц, после раздачи стипендии, вспыхивала поножовщина. Этот мальчик Васильев потом хвастался: «В СПТУ папа за шесть месяцев навел полный порядок…»
Васильев-старший был вскоре выдвинут в областной город. Васильев-старший стал, защитив впрочем тут, в СПТУ, кандидатскую, ректором какого-то института. Его мальчик потом поступил в К-скую школу следователей. Вышел оттуда в звании лейтенанта и, как видите, теперь старший лейтенант производил допрос.
«Учился с Ледиком» потом возникло. Но не имело продолжения. Полковник Сухонин, возглавивший оперативную группу по расследованию убийства, махнул на формальности рукой.
Итак, они сидят друг против друга. Пижонистый рыжик Васильев и рыхлая глыба Ледик. Рыжик пружинист, подпрыгивает, ерзает на стуле. Лучше признаться! Это его совет. Всем сразу станет легче. Легче станет и тебе, вкрадчиво говорит он Ледику. — Напишем, что пострадала на почве ревности. Ты был в аффекте. Жили вы эти дни, после твоего приезда, в постоянной войне. В состоянии запальчивости и раздражения. Мать у тебя медик, имеет связи. Она, думаю, видела, что пришел ты в нервном расстройстве. Невменяем был, когда совершал убийство. Ну и напишем: убийство совершено в состоянии аффекта. Глядишь, иной поворот на суде.
— Но я же не убивал, — в который раз повторяет Ледик, тиская в своих больших руках бескозырку (он так и не расстался еще с морской формой).
— Естественно! — Васильев подпрыгивает вроде в восторге от такого ответа. — Естественно! Кто же скажет вот так сразу: я убивал? Да я таких и не видел. Бывает по-другому: я говорю: мол, ты убивал? А тот, кто убивал, и повторяет «не убивал», возьмет и кивнет головой. Тогда я молча вписываю: убивал. А тот, кто убивал, смотрит на меня и читает бумагу, которую я ему подкладываю. Он ее подписывает. И потом уже не отказывается. Привыкает даже. И вдруг сам говорит: я убивал!
— А я не убивал.
— Это я уже слышал… Как ты думаешь, слышал или не слышал? В первый раз я, правда, не услышал. Мы ведь встретили тебя, когда узнали, что Ирина убита, и отпустили тебя…
— Подполковник отпустил.
— Ну, конечно, подполковник. Фамилия его, кстати, Струев. Потому я и не слыхал, сказал ты, что не убивал, или не сказал?
— Я сказал, что не убивал.
— Подполковник у нас психолог. Ты держался крепко. Не суетился… Человек, который убивает, у него мандраж. А ты на флоте привык не мандражировать. В общем-то ты и в школе был — будь спок! Железный. Помнишь, на уроке ртуть разлили? Ты как вел себя? Я же с тобой на одной парте сидел? Ты не пошелохнулся.
— Мы тогда не понимали…
— Э-э, нет. Я понимал, что это значит… Разлить ртуть! Чуть ли не литр! Да калекой можно было остаться. Я струхнул. И меня сразу можно было бы разоблачить, что я трус.
— Я не убивал. Чего тут мандражировать?
— Вот именно. Если бы…
Он осекся на полуслове, соскочил со стула, будто тот стал горячим. В их комнатку, заваленную разными папками, бумагами, старым хламьем, пригодным или непригодным для их службы, вошел тот самый подполковник, фамилию которого они только что упоминали. Он был худощав, лицо землистое, усталое. Не здороваясь, сел на стул Васильева и, показав на Ледика, спросил:
— Отрицает?
Васильев кивнул в знак согласия.
— И что эти дни был у убитой? Тоже отрицает?
— Это я не отрицал и не отрицаю, — ответил уже Ледик. — Это и ежу ясно.
— Ну и на этом спасибо, — вздохнул притворно подполковник. — А кто же, по-вашему, убил ее, если не вы? — Подполковник поудобнее устроился на стуле.
— Это уже ваша забота найти убийцу, а не моя. Главное, я не убивал. Я тут ни при чем.
— Вы тут!.. — Струев стукнул кулаком по столу, голос его содрогнул казенное здание. — Вы тут!.. Вы тут всего несколько дней… До этого все было тихо… Когда вы ушли домой?
— Домой?
— Ну к своим родителям. Когда? Когда мы вас встретили? Или раньше ушли?
— Не помню. Наверное, в десятом часу. Вечера. В четверг.
— Вы видели, что она лежала?
— Конечно, видел…
— Почему не подошли?
— Думал, просто лежит… В общем, этого не объяснишь, почему не подошел.
— Постарайтесь объяснить.
— Я думал, что она жива…
— Потому не подошли?
— Да.
— Вы поссорились? Перед этим?
— Мы эти три дня только то и делали — ссорились.
— И вы пошли? Просто пошли? Когда человек лежит?
— Я же это вам объяснил и в первый раз. Пошел.
— Неужели вы так и не подошли к ней?
— Нет.
— Странно. Вы же видели, что она лежит без движений.
— Но я вам сказал… Тогда еще сказал… Было темно… Темно! Я не знал, что она убита.
— Тем более, вам следовало бы подойти, — вступил в разговор старший лейтенант. — Может, она на тот час была еще жива?
— Именно, — сказал с иронией подполковник и задал новый вопрос: как он провел этот четверг?
— Вы были с Ириной весь день? — впился глазами.
— В этот день она не пошла на работу. С утра мы отвели в садик Катюшу. Потом позавтракали. Затем пообедали. А в четыре часа дня я пошел в садик за Катюшей один. Ирина сказала, что плохо себя чувствует.
— Тем более, надо было подойти к ней, когда она так лежала, — заметил старший лейтенант.
— Мы играли с Катюшей до пяти часов, — не обратил внимания на слова Васильева Ледик. — А когда я пришел, чтобы одеть ее и вести домой… Мне воспитательница сказала… Ну что звонили сюда, и мне ее, Катюшу, одну не отдадут…
— Кто звонил?
— Я не знаю.
— Ее родители? Она сама?
— И она, и ее родители, может.
— Это так сказала вам воспитательница?
— Да.
— И что вы предприняли?
— Я пошел за Ириной. Чтобы объясниться. Все-таки это и моя дочь. И, может, вместе пойти и взять ребенка…
— Кто-то вас видел, когда вы шли вместе?
— Не знаю.
— Но в поселке вас многие знают. И вы знаете многих…
— У меня память на лица неважная. Мне кажется, весь поселок другой. Теперь, после моей службы.
— И все-таки кто-то вас видел? — спросил Васильев.
— Почему вы так настаиваете? Это же все — случайные встречи.
— И все-таки?
— Я не знаю их фамилий.
— Не знаю, не знаю! — забормотал Васильев. — И так всю дорогу!
2. РАССУЖДЕНИЕ О СМЕРТИ
Я теперь часто езжу на наши кинорынки в качестве члена жюри. Последний кинорынок аккредитовали более пятидесяти непосредственных производителей продукции. Было на нем предложено для покупок пятьдесят игровых, пять документальных и научно-популярных лент, двадцать мультфильмов и т. п. Я был на нем в том же качестве — члена жюри.
Но почему сразу, по приезде оттуда, бросился в тот тихий, заштатный шахтерский городок? Где было совершено убийство? Да потому, что взыграло во мне убаюкивающая, убивающая нас конъюнктурщина.
Какова была программа свободного уже нашего кинорынка, где нет прежних структур — это нравственно, это для наших советских людей тружеников, а это пошло, очернено, потому — нельзя, запретно?! На наш кинорынок вываливается теперь все то, что покруче и побойче. Что показывали (для покупателей) на этом последнем кинорынке? Сперва — про убийства, потом — про изнасилования, затем — про убийства и сразу же — про изнасилования. Если показывали мужскую тюрьму, то обязательно «паханов» и новичков (мужские сексуальные игры), если женскую колонию, то мужеподобных женщин и сладеньких девочек, хором охающих за цветными занавесками (женские половые игры).
И теперь, представьте, как покупатели кинорынка бросились приобретать эту порнуху! Они ее хватали! Молча хватали. «Это пойдет в кинотеатрах у нас!» — сказал мне с восхищением один такой торгаш. Они уверили меня, что я несовременный, отстал от жизни. С кем-то из них я пил потом вечером в престижном ресторане, построенном год назад. Пил, конечно, на их деньги. И перевоспитывался — под их напором.
Перед этой поездкой на кинорынок я написал сто страниц убористого текста — очередную детективную историю. Я боялся ее показывать знающим людям: опозорят, скажут — чернуха! Вернувшись домой, войдя в прокуренный, с чужими запахами коридор, вдруг представил, какой я, собственно, болван. Я мог бы давно разбогатеть, то есть заработать бешеные деньги. Почему, имея такую «продажную» на книжном рынке рукопись, бедный-бедный, я считал в среде этих богачей копейки в своем кармане? Неужели я не мог, так же, как они, ходить в ресторан, пить, заигрывать с девочками, приглашать их в номер?
Ужас, за три дня пребывания в номере, мне пришлось заплатить бешеные рубли, а возвратили мне в тамошней конторе жалкие копейки за каждые сутки. Я жил эти три дня впроголодь — попивал чаек и заедал его булкой…
Зачем же я так глуп, если моя рукопись, похожая на их искусство, прозябает в моей этой дурной смеженке? Давно мог бы я положить ее на стол новых редакторов, неистово ищущих чернуху и порнуху. Почему я, олух, всегда считал всю остросюжетную, подобную той, которая процветала на кинорынке, продукцию вторым сортом? Кто мне привинтил подобную башку на плечи? Кто внес в мои извилины подобное?
Ах, совокупность случайных обстоятельств в судьбе каждого из нас предопределена! Ах, чем удивишь читателя, придумывая сногсшибательные обстоятельства! Ах, право, грешно заострять и без того грешное бытие! Кто это сказал? Я? Но посмотри на себя в зеркало. Это сказал подонок, который просто не умеет жить.
Игра новой и новой мысли в литературе мое кредо. Но ведь тут-то тоже все ясно! Смыслообразующим стержнем литературы в прежние, очень давние времена был Бог. И все шло вокруг него. Но стали в литературе царствовать Достоевский и Ницше. Достоевский возложил всю ответственность за происходящее в мире на человека. Бедные маленькие люди! Раньше все можно было свалить на кого-то, ныне — только на себя.
…О чем же я писал в ста страницах своей детективной повести, о которой почему-то знала Лю? Я писал о женщине по имени Света. Ее убили жестоко, по-зверски четверо мужчин. При этом присутствовала еще одна женщина, случайная знакомая Светы. Оставшаяся в живых, эта женщина видела, как четверо мужчин резали на куски Свету и бросали в костер. Чтобы замести следы.
Вы спросите, за что они убили Свету? За то, что пошла с ними в лес на пикник и не разделила ложе со всеми сразу. Они знали, что у Светы есть муж. Правда, он не мог приехать вместе с ней в этот санаторий — дела. Света приехала с дочкой. Она закрыла эту дочку в номере, поставила горшочек и сказала, что скоро придет.
Остался от Светы палец с обручальным кольцом, его потом и нашли следователи в золе. Дочь восьми лет показала на дядю, который в тот вечер, когда мама собиралась в гости, приходил в их номер. Мужчина ударил Свету по лицу за то, что она первой ударила его, не согласившись пойти на четверых. Он потом бил ее долго, а эти трое стали помогать. Случайная знакомая сказала избитой Свете:
— Ты думаешь они задарма нас вином поили и шашлыками кормили? Наивняк? Чё те, не хочется по кругу, что ли? Говорила же — горит…
Обо всем этом я тогда и накатал. Лю сказала мне, как вы знаете, что все истории повторяются. Если нынешняя женщина, имея мужа, идет спокойно в лес, на пикник, пьет вино мужчин, ест шашлыки, она, наверное, знает, что надо по первому приказу мужчины раздеться и разделить с ним любовь? Так во всяком случае говорила на суде случайная знакомая Светы. Она спокойно рассказала, как потом они, эти четверо, по очереди имели ее, как потом убили.
Убитая Ирина, тоже была не паинька. Она не разошлась с Ледиком официально. «Горячая, взрывная женщина… Она сама виновата», — услышал я, когда приехал. И т. д., и т. п. Покопался же я во всем, вывернул такие сексуальные глыбы наружу!
О Свете… Я писал, художественно варьируя извечную мораль: не ходи с мужиком в лес; если хочешь остаться девственницей, сиди дома! И все.
Но чем же тогда истории похожи? Почему Лю так вредила мне? Зачем мешала? С какой целью уговаривала не писать больше «этих историй со страшным концом»?
Боже мой! Почему я всегда завидовал тем, кто решает в литературе мировые проблемы? Без «чернухи» и «порнухи». Проблемы человечества… Но разве и Светлана и Ирина не были частичкой человечества? Разве их судьбы нам всем безразличны? И вообще… Не писать о смерти, не заострять любую историю, — как советовала мне Лю — «потому что вы озверели в вашей голодной стране», — тогда отказаться от главного, что ждет читатель, острого сюжета. Всегда мы и держались на сюжете. В том числе — вокруг смерти. И Гомер, и Фукидит, и Ксенофонт, и Плутарх, и Тит Ливий, и Апулей всякий раз заостряли сюжеты.
А перечитайте плутовские романы эпохи Возрождения. Строятся они, конечно, по принципу «нитки с бусами» (это отмечают все: и практики, и теоретики литературы). Катятся бусинки, распадаются на новеллы. Все связано с историей одного героя. Сюжет пульсирует, отмирает, вновь нарождается.
Наши современные детективы об убийствах тоже строятся по принципу «нитки с бусами»: все вокруг одного героя — убитого. Вокруг… Праведные, не праведные. А там… Он, Она — какое кому дело? Но… Вокруг, вокруг крутится сюжет…
Я не хотел давать повесть об убийстве Светы. Хотя и написал о ней, женщине идеальной. С идеальными ножками. С идеальной фигуркой. С идеальным личиком. Она сама напросилась на убийство. Она ходила в мини-юбке. В двадцать два года ее ноги стали чуть полней, чем у девочек в семнадцать. Ее груди были так же открыты, как у семнадцатилетних. Но они были изумительно привлекательны. Не так как у тех семнадцатилетних. Муж Светланы на двенадцать лет старше ее, кандидат физико-математических наук. В институте, где он в свое время сделал карьеру (потому как был членом комсомольского бюро и поступил в партию), перестали его должность, когда хлестала волна департизации, субсидировать. Парень подался в бизнес, с ходу хорошо заработал в своем кооперативе, обалдел от купюр и, любя жену, посылал ее четыре раза в год к морю — и холодному, и жаркому. В результате — смерть «через насильственное сожжение». «Бусинки» распались на новеллы. Все ясно. Все в конце страшно. Секс погубил красивую женщину.
Не до сентиментальности! Ибо в сюжетных сентиментальных романах (скажем, Стерна) разрушается логическая последовательность событий. Там-то, со Светой, все логично. Что искала, то нашла. Не только она. И муж, оставшийся вдовцом. И дочь, осиротевшая в один вечер. Все логично. Каждая «бусинка» раскрывает деталь разрушения семьи.
Романтизировать красоту Светы? Да, были в истории литературы романтики. Тоже разрушали логическую последовательность событий. Гибки и свободны их построения. Вы еще не читали «Алмаз Раджи» Стивенсона? Почитайте. И удивитесь, как мистер Роллз оказался единственным владельцем алмаза. Всего-то несколько часов прошло с тех пор, как принес он в дом эту драгоценность. И как изменилось все в его отношении к прошлой жизни!
Как изменилось, чувствуете, в жизни мужа Светы все, когда он принес в дом первые шестьдесят тысяч. Света работала машинисткой в фирме «Заря» в те годы, когда ее муж, аспирант, приносил в дом сто двадцать рублей. Она зарабатывала сто восемьдесят — сто девяносто. У них не было богатых бабушек и дедушек. Мамочка Светы была вечной учительницей начальных классов. Она однажды рассказывала дочери, вышедшей замуж за бесперспективного ученого, как один из родителей, показав на нее (скорее, на ее стоптанные туфли и десятилетние юбку и пиджак), сказал своему балбесу: «Ты хочешь быть такой?!»
У Светиного мужа родитель был гегемоном — слесарь-ударник, золотые руки, в «уравнительной системе» получал аж двести двадцать, так же, как алкаш Букреев, сосед по коммунальной, а затем отдельной двухкомнатки.
— Витя, — говорил родитель своему сыну, который ни с того ни с сего захотел стать ученым, — если мы купим к концу нашей жизни какие-нибудь колеса, ты хоть на могилку приезжай…
Витя, перепродав какие-то компьютеры, принес в дом вторую крупную выручку — сто семь тысяч. Они ее испуганно прятали под стопки научных журналов, в койке, исполненной югославским пролетариатом, тогда еще не конфликтовавшем на национальной основе. Койку продала Фрида, уехавшая в Израиль осваивать новые пустынные земли.
Представляете, в чем приехала на отдых Света? Какие у нее были в период похолодания чулки? Чем она красилась? Чем душилась?
«Бусинки», «бусинки»… В поисках острого сюжета — бусинки… Стивенсон, потом Киплинг, а затем вдруг Лев Толстой с «Хаджи-Муратом» лучшей мировой вещью (на мой взгляд) после «Мадам Бовари». Киплинг, оказывается, учился у Толстого. Творчески, как говорят теоретики литературы, осваивал предельные ситуации. Или проще — смерть человека. Любого человека!
Но я тогда лазил на карачках, уже обремененный теориями, и искал свою рукопись. Об убиенной Свете. О расчлененной красоте. Холодно входила в сердце мысль: зачем ищешь? Смерть в описании классиков трагична и поучительна всегда для человека, ибо трепетна и незабываема. А тут смерть на бешеном повороте событий. «Кто был никем, тот станет всем». Не только вошедшие «в закон воры», а и кандидаты физико-математических наук — дети гегемонов, могут прятать купюры в рыхлых кроватях, заваливая их стопками никому ненужного чтива.
Между прочим, откуда берутся такие купюры, если человек работает скромным сторожем? Человеку двадцать семь. Он с усиками не моржовыми, которые в большинстве носят эти полугородские, полудеревенские захлопотанные на службе чучела, а с усиками и в придачу бородками а-ля д'Артаньян; он в майке с лозунгом на английском языке, в шортах китайского покроя. Увидев свои сто семьдесят тысяч, спрятанными под ковром и обнародованными на суде, этот с усиками, которого «опознала» девочка, дочь Светы, дочь, которую Света, выйдя по любви, родила в семнадцать лет, сказал:
— Я йей прэдлагал пят тыща за один секс. Зачэм нэ пашла?
У Светы, на несчастье, было более ста тысяч крупных купюр, спрятанных под научными изысканиями, как оказалось, напрасными изысканиями Витеньки и его несчастных коллег.
Но я лазил и искал рукопись, боясь не стать богатым и ругал последними словами гостей, привыкших приходить в мое отсутствие после съемок «на натуре», чтобы распить бутылочку-другую, отойти, как они любят говорить, эти великие труженики-актеришки, от «мерзкой действительности».
Кстати, они часто обращались к моей рукописи. Один из них, очень талантливый документалист, как-то с сожалением даже высказался:
— Старик, зря ты замуровал действительные факты в эту глупую художественность. Сейчас читатель и зритель на нее, художественность, плюет… Их ошарашь документом! Бог мой, одно четвертование! Как заткнутся все эти зрители и читатели! Страшно, старик, с ними спорить. Выпотроши ее и все будет — ладушки! Я имею ввиду эту художественность.
Наконец, я нашел, что искал. Я увидел, что искал. Куски человеческого мяса. Палец с кольцом. Бывший палец. Бывшие куски человеческого мяса… Ценные фотографии для истории человечества, которое уже не хочет читать художественных вещей. Хочет бежать глазами галопом по Европам… Мой милый, добрый читатель! Я ведь так старательно разбрасывал «бусинки» по всему белому полю листа! Попробую почитать, что уложил в эти сто страниц убористого текста. Что можно представить так, без художественного осмысления? Зачем люди писали когда-то с надрывом? Пришли новые времена, новые «герои», новые читатели?
Самое удивительное началось, когда я развязал тесемочки у папки. Что за наваждение? Вроде вытравлены многие строчки. Хорошо помню, после машинистки я очень тщательно вычитал текст.
Я кинулся к блокноту, где покоилось второе убийство — Ирины. Был чист и мой блокнот. Тот самый, с которым я ездил и в подвал, где лежала Ирина, и к свидетелям. Я все аккуратно тогда записывал. Теперь это все исчезло.
Попытавшись восстановить блокнот по памяти (шут с ней, с повестью) я, однако, восстановить ничего не смог. Лишь вспомнил один эпизод, который горячо на совещании оперативной группы обсуждался. Кто-то высказал предположение: «Может убийца Ирины — тот «вор в законе»?
Они тогда в группе не все знали, что в поселке, где было совершено убийство, живет такой вор. Этот вор отпущен на волю в тот осенний, еще теплый день, когда, теперь убитая, Ирина Г. шла по улице, на которой жила, в легком коротком платьице. У нее полноватые ноги в хороших заграничных колготках, открытая шея «необыкновенной красоты» (из протокола) и «чуть-чуть большой нос на худощавом лице». «И он положил на нее глаз».
Об этом рассказывал кому-то (полковнику, подполковнику или старшему лейтенанту) нынешний начальник шахты. Этот начальник знал: по своей воле бывший «вор в законе» работает ныне проходчиком. Работает вопреки воровскому закону, запрещающему работать (в знак протеста против жестокости не только по отношению к существующей системе, но и к воровскому закону). Предположивший связь между убийством и новым жителем поселка, начальник шахты, однако, защищал этого «вора в законе», ибо имел о нем «источники информации» (так он сказал): вор был сейчас настоящим ламарем (тружеником), не вел никаких дел с забубеханными (бесшабашными, разгульными), тянул уже на идейного (и умеющего, и склонного к перевоспитанию)…
…Я горевал, глядя на рукопись и на блокнот. Ясно, кто это сделал. Лю! Но — как? В мое отсутствие, пока я смотрел всю эту муть на кинорынке? Да, легко войти в мою коммуналку. Ничего не составляет. Но — зачем? Ведь сто страниц убористого текста не так легко и написать!
Ладненько, не сделался богачом до этого, на порнухе не выедешь! Надо писать об Ирине. Надо восстанавливать блокнот. Особенно те места в нем, которые относились к мужу Ирины — Ледику. А повесть о Свете восстановить. Хотя, хотя… Мы еще хлебнем горя с такой жестокостью, стремительно катящейся на нас. Пусть полежит в таком уничтоженном виде!
Что Ледик приехал во вторник, мать и отец знали. Отцу позвонил на шахту сват. Поручал ли сын ему звонить от своего имени, потом так и не выяснили. Хотя, ну какой криминал в этом — позвонить? Но то, что сват предупреждал с тревогой: их сын, Ледик, тут, — это впоследствии вошло в протокол как «веское доказательство заранее спланированного убийства и непринятие мер к его предупреждению».
Все они звали до службы этого, теперь заматерелого, с бегающим взглядом моряка, Лёдиком. И теперь между собой тоже звали так.
Длинные часы — с утра вторника до вечера четверга, когда Ледик ввалился в дом родителей, конечно, прошли и у родителей Ирины и у родителей Ледика в напряжении. Дело в том, что в свое время именно мать Ледика написала в его тот дальний гарнизон, что «твоя жена, еще не оправившись от родов, позволяет себе кое-что лишнего», с кем — «ты это знаешь».
После этого Ледик за три года ни разу не приехал в отпуск, может, и потому. Хотя его товарищи приезжали частенько.
Развод — дело решенное, — думали все, в том числе и родители Ирины. И то, что Ледик пошел после приезда к Ирине, может, не насторожило мать, а заставило ее покаяться: зачем было вмешиваться? Виду она не показала, как ей неприятно, когда сын пришел домой в четверг. Был он неприветлив, угрюм. Мать поняла, как ему больно и неуютно. Потому он, видно, и ушел через некоторое время в сторону нарядной шахты, чтобы встретить отчима.
В час ночи за ним явилась милиция.
Следователь Васильев настаивал, чтобы мать все подробно рассказала: как он пришел домой, что делал, что говорил? Вначале Ледик пошел не к вешалке, где надо было повесить флотскую, не первой свежести куртку, а почему-то в ванну. Мать не могла ответить, сколько Ледик там пробыл, лилась или не лилась вода, замывал он там одежду или нет? Лишь помнит: он настоял на том, что встретит отца (он звал отчима так) сам, у нарядной. Они придут вместе, тогда и сядут за стол. «Боже, — повторяла потом она, какой он стал жестокий! Ведь он знал тогда, что Ирина убита, и так спокойно говорил, будто ничего не произошло».
— Он сказал тебе, что произошло? — спрашивала она у мужа, когда Ледика увели.
— Нет.
— Видишь, мы потеряли сына еще тогда, когда не сумели избавить его от этой проклятой морской службы. Что они сделали из него!..
Да, Ледик ничего не сказал ни матери, ни отцу, что случилось там, в доме теперь уже мертвой жены. Он спокойно выпил две рюмки коньяка, спокойно ел, спокойно что-то рассказывал под галдеж телевизора, и спокойно встал, когда за ним пришли.
Можно было объяснить это спокойствие. Ведь подполковник Струев уже встречался с Ледиком. Тогда уже Ледик понял, что вот-вот они за ним придут. Но родители-то этого не знали.
3. ОПОЗНАНИЕ
Я видел этот труп тогда. Пожалуй, не найдешь слов, чтобы описать, как он выглядел. Убита Ирина была бесчеловечно.
Долго потом думал: как попал на осмотр трупа? И вообще, как попал в центр этой трагической истории. Приехал-то с другим заданием.
Да, началось все со звонка в мой гостиничный номер (об этом я уже говорил). Не хотел бы я приобщиться к делу? — говорили мне по телефону. Мои очерки, статьи в центральных и республиканских газетах хорошо знают тут, в этом городе.
— Кто говорит? — спросил я, ничего пока не понимая.
— Неважно. Через пятнадцать минут за вами заедет машина. Вы готовы?
— Да, но…
Там положили трубку. Я подумал, что кто-то из моих друзей преследует меня со своими избитыми шутками — розыгрышами и здесь. Однако, когда через пятнадцать минут за окном загудела машина и я, выглянув, увидел, что кто-то машет из нее рукой, мне пришлось топать вниз.
В машине было трое: некто Сухонин — плотный мужчина сорока лет, одетый в гражданское (представился полковником), худой и рябой старший лейтенант Васильев и подполковник…
Я не расслышал его фамилии.
— Мы члены оперативно-розыскной группы… Трое из одиннадцати, сказал полковник. — Я думаю, вы не возражаете взглянуть в глаза правде? Он так сказал, то ли с иронией, то ли со своим смыслом. — Вы пишете порой по протоколам? Я это чувствую.
— Как знать, — возразил за меня подполковник. — Я бы так категорично не говорил. Иногда бывает — глубоко копается.
Чего это они? Издеваются?
Обычно считается, что старший в форме говорит разумнее тех, кто ниже по чину. Старший, конечно, младшего и поправляет. А тут вышло наоборот.
Мы уже мчались в машине. Водитель резко тормознул. Что хотел сказать за меня подполковник, я не услышал. Сам, однако, не осмелился вступить в разговор: все-таки ехали на задание. Два старших чина сидели теперь молча, отвернувшись друг от друга и, следовательно, от меня. Я только теперь догадался, что им поручено развлекать меня и наставлять на путь истинный. Этим будет заниматься, естественно, старший лейтенант Васильев. Ему поручили опекать меня и каким-то образом подталкивать к уже выработанной ими версии.
Пока мы шли к месту, где лежала убитая, Васильев рассказывал, как обнаружили труп.
Для меня, пишущего на уголовные темы, всегда болезненно глядеть на горе людей — некогда праздных, а теперь присутствующих при сем при том. Совсем разные. С апломбом, тихие, молчуны, говоруны, здесь они одинаковы. Я, однако, к сожалению, никогда не вижу этих людей, толпящихся вокруг убитых, насильно повешенных, зарезанных, с оторванными ушами, выколотыми глазами. Я тогда отсутствую. Я думаю: а вдруг так со мной? Естественно, и в тот раз я был собой, не видел никого, не видел Лю, которая, оказывается, была там тогда. Позже, когда она мне передала мой разговор с полковником, я припоминал, кто там был из женщин. И, знаете, я так и не смог определить, кто из них была Лю.
Я видел мать Ледика. Почему-то полковник Сухонин пустил ее в то утро к Ирине. Может, потому, что все здесь, в этом поселке городского типа, раз и навсегда живут по своим законам. Кому-то можно заходить в магазины с тыльной стороны, заходить в подсобки, где есть икра, балык, вино, краска, шубы, норковые воротнички… В аптеках, поликлиниках, больницах кто-то беспрепятственно возьмет всякие лекарства, вплоть до наркотиков… И здесь — всем свое. Я понял: мать Ледика всюду вхожа, и если бы она не была его матерью, ее бы сюда впустили без всякого.
Это была еще не старая, но и не такая молодая, женщина сорока пяти пятидесяти лет, убитая горем. Полные ноги плохо держали эту женщину на земле. И я, собственно, даже если бы имел привычку изучать, кто приходит к черному человеческому пепелищу, мог бы, скорее всего, глядеть на эту женщину, о которой кое-что сообщил мне услужливый старший лейтенант Васильев не изучающе, а просто с любопытством. Васильев, рассказывая о ней, не преминул коротко описать ее мужа — отчима подозреваемого. Правда, Васильев тогда не сказал о нем то, что восстанавливало меня потом всякий раз против этого человека, ее мужа. Но тогда старший лейтенант говорил только о матери Ледика.
Итак, я не увидел Лю. И не догадался бы, кто она в этой толпе. В самом деле, я не знал Лю до этого. Не видел ее. Хотя, выходит, она звонила мне часто.
— Как же это?! Как же это?!
Мать Ледика причитала глухим голосом. То ли тягучий шум шел, то ли зык из гортани. Она и выла, и вопила и плакала навзрыд. Но что-то выходило порой некстати, иногда запоздало выливались и острастка в чей-то адрес, и угроза, и печаль из нее. Вроде искренний голос был не ее, а запоздалый только ей и принадлежал.
Труп лежал теперь в подвале. Лежал так, как его положили вчера. Лежал вниз лицом. Никого после нас и матери Ледика в подвал теперь не пускали.
Десять часов утра. Пятница. По поселку уже расползлись слухи об убийстве дочери недавнего в прошлом начальника шахты, которого и любили, и боялись, и уважали. Мы здесь, в подвале, а в доме его, что в пятнадцати минутах ходьбы от дома убитой кем-то дочери, траур. Идут люди, соболезнуют.
— Кто же убийца? Кто?! Да такую красавицу!..
Не знает народ правды. Но задает шепотом друг другу вопросы. Почему не ужилась у сватов? Почему не стала жить с отцом и матерью, где в доме, который ставила когда-то шахта, восемь комнат на троих?
Я приехал в город в семь часов. Зачем я здесь, у трупа? Почему они меня взяли сюда? Что же они хотят? Чтобы обо всем этом было обнародовано? Но чтобы обнародование было не против них. Против правоохоронцев. Иначе зачем бы они меня сюда притащили?
…Васильев лепит детали. Где ее нашли? Здесь, здесь! Вчера шли очевидцы.
— А в самом деле, как это было? Где нашли ее? — спросил полковник Сухонин, прикрывая нос платочком — так и не привык, бедняжка.
— Лежала под кустом бузины, — охотно отвечает Васильев.
Он отворачивает одеяло, которым прикрыта убитая. На ней порванное платье, с разорванной резинкой — трусики. В склепе темно. Холодный лучик фонаря полковника забегал по ее каштановым длинным волосам. Васильев повернул труп лицом кверху. Я отшатнулся.
Потом мы были на месте убийства. Черные ягоды бузины свисали над землей над тем местом, где еще вчера лежало кем-то поверженное тело.
Оказывается, Васильев укутывал его вчера, для этого он сам принес из пустого дома это байковое одеяло. Он и распорядился везти тело в подвал, в холодильник.
Двери холодильника открылись настежь, и я увидел ноги, наверное, очень красивые в жизни ноги этой бывшей Ирины.
Подполковник Струев, неторопливо склонившись над трупом, дольше всех из них оглядывал это истерзанное лицо и, наконец, вздохнул:
— Боже, боже! Что делается на белом свете… У меня ведь тоже дочка!
Я заметил: Васильев тогда хмыкнул.
— Надо искать убийцу, искать, а не вздыхать! — шепнул он мне и стал отрывисто рассказывать, как он оказался тут вчера первым.
Васильев был в кабинете вчера один. Его начальник Струев не любит засиживаться на работе. А Васильеву надо стараться, он еще молод, у него все впереди. Он к тому же не хочет подводить полковника Сухонина. Полковник привел его в отдел под Струевское начало. Заверил начальника отдела, что Васильев его не подведет. Васильев и сидел вчера допоздна. Вроде знал, что последует этот страшный звонок. Васильев немедленно, конечно, позвонил на квартиру подполковнику Струеву, то есть своему непосредственному начальнику. А подполковника дома не оказалось. Тогда Васильев на дежурной машине рванул к месту происшествия. Там Васильев и увидел мертвое тело. Лежало оно под кустом бузины. И как бы куст этот закрывал тело несчастной. Васильев при рассказе обращался и ко мне, и к тем, кто еще не знал, что инициатором первого задержания Ледика был не подполковник Струев, а он, Васильев. Если уж по этапам размещать события, то Струев, когда приехал и вместе с Васильевым они крутились потом возле Ледика (что да как), почему-то отпустил подозреваемого. Хотя Васильев был принципиален — все-таки показания снял.
Этот рыжий служака Васильев выпятить себя мог. Очень основательно топтался вокруг этих показаний, вокруг первого по сути допроса. Подполковник Струев, — сказал он, — пришел, если говорить точно, к середине допроса. Обычно просто сидит, вытянув длинные ноги. Это для него проза. «Допрос является источником борьбы с преступностью», — так всегда меланхолично говорит Струев. А он, Васильев, всегда конкретен. У него тут ясно все: на любом первом допросе следователю и воображаемому преступнику никогда не найти общего языка и контакта. Так и с Ледиком вышло. Не сконтактировался Васильев с ним. А подполковник взял и отпустил подозреваемого.
Первой труп обнаружила бабка Ирины. Она пришла к внучке и увидела ее на земле, лежащей вниз лицом. Внучка вроде прикорнула. Уткнувшись лицом в гроздь переспелых черных ягод, — рассказывала потом. — Гроздья висели и над синей шеей. — У нее был такой вот язык…
Это она потом, всякий раз плача, пересказывала.
Оцепенело повалившись к ногам внучки, бабка, как рассказывают очевидцы, вдруг завыла каким-то утробным басом. Злые языки добавляют: ее соседка, шахтерка Дарья Михайловна, вроде после вытья бабки ухмыльнувшись громко, чтобы было слышно, выдохнула:
— Завела девку в омут!
Дарья Михайловна и вызывала милицию. Примчались участковые. Лейтенанты Хорошко и Перегудов. Они и встречали потом старшего лейтенанта Васильева. Тот явился вроде от имени и по поручению. Васильев действовал как большой знаток. Все осматривал, все записывал. Будто очнувшись, позже принес из открытой комнаты одеяло, укутал тело убитой.
Хорошко суетливо помогал, потому как это была его территория. Перегудов только за всем наблюдал.
Приехал потом подполковник Струев, чертыхнулся: «Подышать свободно не дадут!» Он внимательно выслушал доклад старшего лейтенанта. Тот и надоумил — послать за Ледиком, объяснив ситуацию.
Как ни странно, нашли того легко. Не спеша шел к нарядной. Струев загородил морячку дорогу. Никто не слышал, о чем они говорили. Васильев думал, что подполковник задержит Ледика, но тот его отпустил.
Одну деталь я отметил в первый приезд тогда, в своей записной книжке, собирая материал об убийстве Ирины. Подполковник Струев не только догадывается о непорядочности Васильева в ведении им дела, он открыто говорил об этой непорядочности. Сказал он о ней и мне. В чем заключается эта непорядочность? Во-первых… Впрочем, подполковник сказал мне тогда лишь о дневнике Ирины, который Васильев «увел» из квартиры убитой, не приобщив к делу.
— Почему бы это не сделать предметом разбора? — спросил он тогда, отвечая на мой вопрос вопросом.
Подполковник глядел на меня так, будто от меня зависело, быть отстраненным Васильеву от ведения дела или не быть. Ведь он махнул рукой на то, что они учились когда-то в одном классе и очень не ладили между собой.
Я подумал: у них мелкие друг к другу претензии. Старший лейтенант считает подполковника инертным, а тот в свою очередь, обвиняет подчиненного в том, что он рвется к власти без всяких на то оснований.
Подполковник, правда, сказал потом, и это выглядело объективным: Васильев не доложил о дневнике, однако оставил его на видном месте.
— Что же там такого в дневнике, отчего Васильев взял дневник и не приобщил к делу? — спросил я.
— Не пойму. Но все это мне не нравится, — был ответ.
В этот раз, когда я пришел в отдел и зашла речь о дневнике, пришлось спросить подполковника: подозревает ли он и теперь Васильева в умышленном утаивании дневника? Он пожал плечами:
— Не вините меня, если будете писать обо всем, в пристрастии к Васильеву. Он тут, может, и ни при чем.
— А можно ли мне поглядеть на этот дневник?
Он пожал плечами.
— Зачем? А впрочем… Лирика. Вы все лирики, — последние слова произнес с усмешкой. — Только нам копаться в дерьме.
Подполковник полез в свой особый тайник в сейфе, вынул оттуда аккуратную столистовую тетрадь и подал мне.
— Глядите, пока я схожу в столовую и пообедаю.
И вскоре его тень мелькнула за окном. Тоже мне, — подумал я, открывая тетрадь, — деятель! Он копается в дерьме!.. А дневник-то, который ты мне дал — убитой. И ты не нашел еще убийц. Иди спокойно обедай!
Я тогда успел выписать следующее из дневника Ирины. Почему? Не знаю сам.
«Мне сегодня, боже мой, четырнадцать лет. Говорят, у меня огрубел голос. Раньше я будто отвечала по телефону пискляво: «Да-а!» И это, — как сказал С. - выглядело безгрешно». Бабка при слове «безгрешно» почему-то погрозила С. пальцем… Они переглядывались потом. А вечер был ужасно душным. Пили чай. И я, наверное, правда, повзрослела. Чувствовала, что чем-то наполняюсь. С. мне шепнул шутливо: «созреваешь». Он описал меня, когда мы сидели на лавочке у кустов роз. У меня лебединая шея и ноги мои чуть полнее меня самой. Но это не недостаток, а достоинство будущей красивой женщины».
«Я закончила десятый класс с золотой медалью, ура! Конечно, без папы об этом не стоило бы и мечтать. Фиша умнее меня, он сильнее меня во всем в математике, в физике, даже в литературе. Фиша слушает радиостанцию «Свобода» и знает зарубежных писателей. Но золотая медаль у меня! Несмотря на то, что отец уже не у дел. Пенсионер союзного значения. Он остался депутатом, его уважают… Я задыхаюсь от чувства собственной неполноценности. С. встретил меня и сказал, что я по-прежнему иду к красоте. Правда, заметил: «Задерживаетесь, мадемуазель!» По-моему, он был чуточку под шафе. А мы идем пить на речку и встречать там восход. Меня искренне не волнуют московские рассветы. Я хочу остаться тут».
«С. сказал мне при встрече (он зашел к нам в магазин, где я теперь исправно работаю): «Да, вы уже мадам!» Откуда он узнал? Наверное, кто-то трепанулся, что я пошла с Л. и между нами случилось кино. Дурачок, какой он неловкий, этот Л., он даже ничего не заметил. «Твоя же мать гуляет, сказала я ему зачем-то. — Неужели, когда к ней, в отсутствии твоего отца приходит любовник, они тебя раньше не возбудили?» Он спросил наивно: откуда я знаю, что его мать гуляет? И если даже гуляет, имеет ли это отношение к тому, что случилось между нами? Наивный мальчик. Паинька… А все — при нем… Скорее надо выходить замуж. И именно за него»…
Да, я выписывал не все подряд, и когда пришел подполковник, мне лишь осталось развести руками после его вопроса: прочитал ли я дневник. Это С., - хотел спросить я. — Это С. Кто это — С.? — Но не спросил, что-то смутно подозревая.
— Ладно, — сказал подполковник, — приедете еще раз, тогда я вам, после того, как закончится следствие, подарю этот дневник.
— Я ведь только начало захватил в дневнике, — с досадой проговорил я, все думая о С.
— Вот-вот, начало. — У подполковника, пожалуй, в крови ирония. Дальше — больше. Чем глубже в лес, тем глубже секс… Фу! У меня же дочка… — И вздохнул: — На три года всего моложе… Куда они идут!
Он отобрал у меня дневник и вновь спрятал его в потайную нишу.
— Это от Васильева. Надо было бы парня отстранить от дела… Да, Бог с ним, пусть волочится по своей молодости на тарахтелке какой-нибудь, вроде «Запорожца». По моим поручениям. До «Жигулей» он не дорос.
Я вернулся в гостиницу, открыл номер. На столе лежал пакет на мое имя. Недоумевая, я разорвал его и нашел в нем две вот эти заметки.
Первая из них:
Убийцы до шестнадцати
Зверским убийством девушки, совершенным в областном центре группой юнцов, пополнилась печальная статистика преступлений среди несовершеннолетних. На теле жертвы обнаружено несколько десятков ножевых ранений, перерезано горло… Каждому из задержанных убийц не было еще и шестнадцати. А жертве было только двадцать лет.
По свидетельству следователей прокуратуры, юные убийцы ведут себя на допросах спокойно, в содеянном не раскаиваются.
Джамбул. Азия-Пресс.
Вторая такого содержания:
Журналисты в бронежилетах?
Только что под названием «Атаки на прессу» опубликован ежегодный отчет нью-йоркской организации «Комитет защиты журналистов».
В этом году погибли 32 журналиста. Погибли потому, что были журналистами. «Повсюду в мире, — сказано в одном из документов комитета, журналисты оказываются под угрозой цензуры, арестов, насилия, похищений, убийств, и все из-за того, что они делают свое дело».
Нью-йоркский комитет исследовал ситуацию в 104 странах и пришел к выводу: в прошедшем году число атак на средства массовой информации и журналистов «драматически возросло». В Колумбии за последние годы наркомафия уничтожила десятки журналистов. В прошлом году убиты трое. Многих вынудили бежать из страны, оставить профессию. В этой стране, говорится в отчете, не редкость журналисты, одетые в пуленепробиваемые жилеты и всякий раз заглядывающие под автомобиль, чтобы убедиться, что там нет бомбы.
В этом году вдвое больше барьеров воздвигали перед журналистами государственные органы. В 23 странах появились новые законы, декреты, указы, ограничивающие работу средств массовой информации.
Есть претензии и к Советскому Союзу. СССР попал в число 16 государств, где положение прессы «вызывает озабоченность». Отдав должное успехам советской гласности, «Комитет защиты журналистов» отметил, что, по его мнению, в СССР наметился поворот к худшему. Осенью этого года в Вильнюсе военными была захвачена типография. Подверглась обыску редакция независимой газеты «Экспресс-хроника». Комитет говорит и о закрытии программы «Взгляд».
Эдгар Чепоров. Нью-Йорк. Соб. корр. ИАН и «ЛГ»
Я позвонил подполковнику и спросил его, зачем он оставил мне эти заметки? Он сразу отказался от них.
— Что вы? Ничего я вам не оставлял.
Кто же тогда подсунул мне эти заметки? Зачем? Чтобы отвлечь от дела? Но какого?
Я долго прикидывал: кто еще мог зайти ко мне? Ни на ком не остановился. Не может же какой-нибудь мой товарищ из артистов, пребывающий, может, рядом на гастролях, подобно шутить, когда в поселке убийство?
Мне пришла в голову мысль: может, это кто-то из персонала гостиницы?
Зайдя к директору (это была пожилая, видавшая виды женщина), я обратился к ней и рассказал о записках. Могли ли без меня войти в мой номер и кто мог войти? Она сказала мне, что у них никто теперь не заходит к журналистам и писателям, потому что недавно был скандал: украли какие-то бумаги из номера известного публициста, приезжавшего на митинг бастующих.
— Подозрение пало на новенькую. Мы ее месяц назад приняли на работу. Все сходились на том, что лишь она заходила в номер, когда эта столичная знаменитость, — директорша хмыкнула, — отсутствовала.
— Не понял? — уставился я на нее. — Отчего такая ирония к нашему брату?
— Баламутите, друзья, народ. У нас холодина была в городе, топить нечем, а он призывал не выходить на работу.
— Ваша новенькая уже уволена? — спросил я.
— Нет. Работать некому. Она обслуживает ваш этаж. — Вдруг она наклонилась ко мне и шепотом заговорила: — Но вы сами не выясняйте, заходила она к вам или не заходила.
— Почему? — я уставился на директоршу.
— Вы знаете, — тем же шепотом заговорила вновь она, — все это — прямо загадочно. Мистика какая-то. Мы ее взяли временно. И за этот месяц столько вынесли!.. Она — колдунья. Я не скажу, что недобрая колдунья. Может, даже наоборот. Того писателя буквально выпроводила. А вы представляете, три дня тому назад заставила воров пойти и сдаться властям. Она и с вами что-либо сделает. Мы уж как-нибудь избавимся от нее.
В раздумьи вернулся в номер. Мне показалось: кто-то выпорхнул из него. Я не видел — кто. Я лишь ощутил, что мимо меня скользнула тень. Вот какую записку я нашел на столе:
«Уезжайте отсюда немедленно. Вы мне мешаете. Зачем вы пошли выяснять, кто положил вам заметки? Разве то, что в них написано, для вас всех ново? Вы привыкли к тому, что убиваете друг друга».
Подписи не было. Я очень жалею, что при мне нет этой записки. Казалось, что я ее очень хотел сберечь, прятал даже в портмоне, которое храню всегда бережно. Однако записка исчезла. Я нашел в портмоне лишь чистый листик бумаги.
Нет, скорее это был не совсем чистый лист — с какими-то двумя загадочными обозначениями: ЧСН. Когда я вечером вынул этот лист, на нем было: «Не пишите ни о чем этом!»
Все эти слова потом исчезли. Вот уж поверишь директрисе — мистика!
4. НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ
В характеристике следователя подполковника Струева было записано, что он «отличается высокой исполнительностью, аккуратностью, дисциплинированностью и трудолюбием». «Расследование каждого дела неповторимо», — любит он повторять. В этом «неповторимо» проглядывалась какая-то личная, как говорил с иронией Васильев, романтика. Тогда, в ту ночь, подполковник тоже не мог не придти к родителям Ледика. И первые вопросы, которые задал он матери, не только успокаивали ее — подбадривали. В конце концов, почему все решили, что ваш сын — убийца? — пожал он плечами.
— А мы так и не думаем, — решительно сказал на это отчим Ледика.
Струев мельком взглянул на сразу как-то сдавшего мастера горного дела. На этот час Струев уже успел дважды встретиться с их сыном. В первый раз отпустил его, а во второй… Во второй пришлось арестовать парня. И это была не его придумка, как казалось этим людям, к кому он пришел, наверное, скорее за советом, чем за тем, чтобы сообщить: почему они должны заранее думать, что их сын убийца? В этом, может, и состояла осознанная давным-давно подполковником его служебная исполнительность. По своему опыту следователь знал: в семье и зарождаются всякие «трагические последствия» после таких потрясений и в конце концов их приходится расхлебывать таким, как он.
Эти люди после его слов успокоения, стояли теперь перед ним менее расстроенные и убитые горем. Их было жалко. Это так. Но они ему не нравились.
Поселок был не такой и большой, все обо всех знали. И, конечно, знал о них многое и он. Эта женщина в последнее время процветала за счет того, что «милое Отечество» не могло обеспечить граждан самым необходимым лекарством. Она придерживала это лекарство как главный врач и раздавала тем, кто ей был нужен. Знали об этом? Знали. Так, однако, повелось, что к этому привыкли. Ему, следователю Струеву, тоже попадал на служебный стол с полгода назад об этом сигнал. Жена у Струева была болезненной уже в первые годы замужества; нередко болела голова. Боли утолялись обыкновенным анальгином до сих пор, но анальгин исчез из аптек. Разъяренный Струев взял письмо в их грозное учреждение. Он, естественно, побежал к полковнику Сухонину, своему начальнику. Сухонин, как всегда, хмыкнул, поулыбался: он не любил «шуровать» там, где другие не «шуруют». Предложил просто достать этот анальгин. Тут же взялся за телефон.
— Не хватало, чтобы по мелочам мы работали, — примирительно успокоил.
— Ничего себе, мелочи! Ты бы посмотрел на мою половину. Места себе не находит от таких мелочей!
Удивленно потом Струев разглядывал дома на кухонном столе пачку лекарств, аккуратно стянутых резинкой. Постарался отец-радетель, полковник Сухонин.
Были у подполковника Струева претензии не только к этой женщине, были претензии и к ее мужу. К этому коренастому, с полными жадными губами мужику — отчиму Ледика. Поговаривали, не всегда строго блюдет верность жене. Правда, оправдывали: верность на неверность не пристегнешь. Чего ему, мол, остается делать? Баба его бюстом кабинеты открывает, когда решает служебные вопросы. А сидит всегда перед мужиками — нога на ногу. Посмотреть же есть на что.
Теперь этот мужик с полными губами, эта женщина с потухшим и извинительным взглядом выжидающе смотрели на него. Будет ли говорить о невиновности Ледика? Или повернет по-другому?
— Я хотел бы уточнить кое-что, — сказал подполковник, открывая свою папку. — Вы часто получали от сына письма?
— Мы? — Светлана Григорьевна вскинула на него заплаканные глаза. Письма?
— Письма, телеграммы, посылки…
— А почему посылки? — спросила она.
— Ну, скажем, это просто к слову.
— Письма… Конечно, конечно. Он писал нам нередко.
— Писал сдержанно, — уточнил хозяин дома. — Посылали мы, а не он. Но писал.
— Сдержанно, говорите?
— Сдержанно.
— То есть?
— По-мужски, — опять вступил в разговор отчим. — Я его воспитывал с трех лет…
— Мы поженились именно в то время. Ледику было почти три года… Я с первым мужем разошлась. — Она зачем-то гордо вскинула голову. — Первый муж у меня был хороший человек, но пил.
— Я не закончил, — снова вмешался отчим. — По-мужски — это не значит жестоко. Ледик был всегда добрым мальчиком…
— Между прочим, он сразу стал звать его, — она кивнула на мужа, папой. И выговаривал это имя ласково. Он так с родным отцом не разговаривал никогда. Нет, тут я усматриваю не жестокость. Мы его воспитывали нормально… Конечно, времени всегда было на воспитание мало. Ведь приходится вертеться, как белке в колесе.
— А почему вы до сих пор зовете его Ледиком? Его зовут Леонид?
— Не понял? — Отчим уставился на подполковника. — Поясните.
— Ну, как вам объяснить… Я дочь свою по-разному называл. До девяти лет — Наташенькой… а теперь, когда она студентка, называю Наташа.
— Конечно, моментами и Наташенькой зовете, — улыбнулась вымученно Светлана Григорьевна.
Подполковник смущенно поглядел на нее и действительно вспомнил, что иногда называет дочь по-прежнему Наташенькой, что-то не так он сказал, наверное, не туда повернул в поисках того, что искал. Искал же он интуитивно: даже если их Ледик не жил тут последние три года, все-таки он провел с ними детство, отрочество, и они вкладывали в него все то, что теперь взорвалось в этой душе. Не мог же флот даже за три года так повернуть его к злу.
Что-то стали говорить они еще, говорили вдумчиво, но разговора не получилось.
Светлана Григорьевна после ухода подполковника сказала возбужденно:
— Даже если так… То у этого тюленя… Я имею в виду подполковника… У этого… И намека нет на быстроту реакции. Значит, Ледик пока должен молчать!
— Следователь — не шофер, — саркастически процедил Константин Иванович сквозь зубы. — Подполковник сказал нам то, что должен был сказать.
Константин Иванович держал себя в руках. Все, что свалилось на его голову, было не только страшным, это было нереальным, не поддающимся объяснению. «Ледик — убийца?! — вопрошал он. — Тихий, спокойный мальчик?» — «Но именно такие тихие способны на ужасные поступки! — отвечала Светлана Григорьевна. Она была врач. Она знала это. — Такие рассудительные убивают и насилуют!»
— Единственная надежда на следователя, этого тюленя. В нем спасение.
Она схватилась за телефон и стала вызванивать своих покровителей. В поселке их было немало.
Ее лицо становилось влажным, по нему шли красные пятна. Из глаз полились слезы. Бесцветная, прозрачная, солоноватая на вкус жидкость… Это она так всегда жестковато говорила невестке, теперь не существующей, убитой кем-то, может, в самом деле Ледиком… «Хватит реветь! Продукт особых желез может вывалиться.» — Так она всегда поучала невестку, когда та жила в их доме.
После призыва Ледика на флот Ирина осталась у них, не пошла к родителям, где вдоволь было и комнат, и нянек: бабка, мать, пенсионер отец, всегда любивший детей и, будучи в недавнем прошлом начальником шахты, много для них сделавшим в поселке — детские сады, ясли, городки-игры… Ирина тогда была в положении, шел четвертый месяц ее материнства.
Тогда они дружили: невестка и свекровь. Ирина была на редкость коммуникабельна, в меру словоохотлива, уважительна. Они взаимно друг друга одаривали подарками: то отрез на кофточку или платье, то чего-нибудь вкусненького и любимого. Ирина уже работала в универмаге старшим продавцом, могла оставить (до получки) какую-либо дорогую стоящую вещицу и, посоветовавшись со свекровью, выкупить потом ее или для себя, или для нее.
Что же их разъединило? Случай, когда свекровь увидела Ирину с чужим мужчиной. Да с кем! Не стоило доказывать — это-де — в первый раз. Опытный взгляд Светланы Григорьевны решил судьбу семейного счастья молодых… В этот же вечер она написала пространное письмо сыну.
И пошло, поехало! Родила Ирина, правда, здесь, в доме свекрови. Но уже тогда заявила: от вас уйду. Ее отец сумел добыть (именно добыть) для нее трехкомнатное государственное жилье во вновь сдаваемом шахтой доме. На то время это было должным. Никто из-за такого «пустякового» беззакония не объявлял голодовки…
Светлана Григорьевна плакала молча, исступленно, названивая во все концы. Мужчина, находившийся с ней в одной квартире, нервно вышагивал по общим их квадратным метрам. Он понимал (по длинному набору цифр), что звонит она теперь туда, куда никогда при нем не звонит. «Если бы знать, как ты будешь говорить при мне!».
Она это предусмотрела. Прикрыла дверь. Плотно потянула ручку на себя. Он оббил дверь хорошо. И теперь не слышал, как она воркует со своим покровителем-любовником…
Говорила она в основном о подполковнике Струеве. Кто он? Почему так ведет себя и с ней, и с ее мужем? Будто мы учили Ледика стать убийцей!
Кто такой Струев? — отвечал оттуда ее покровитель. — Он очень принципиальный человек. Только и всего. Я припоминаю время, когда его прочили в начальники следственных отделений: категорически отказался менять профессию. Ему сказали: «Неужели вам не надоело работать с грязью?». Он ответил, что работает не с грязью, а с людьми… Видишь как! Будь с ним настороже. А я тут кое-что от себя протолкну. Надеюсь, тебя он не тронет!
Когда она вышла к мужу, брови ее были нахмурены:
— Я думаю, мы с ним справимся. Я ему задам, ежели что!
— Да, — промямлил муж на этот раз. — И все-таки, — вдруг сбросил с себя растерянность, — на начальство следуют петиции: «Прошу передать мое дело следователю Струеву!» Об этом его сиятельство, — уже зло, с издевкой кивнул на дверь, где она только что говорила по телефону, — вам не докладывали?
…Тогда в гостинице, так я и познакомился заочно с Лю. Вечером того дня, после всех перипетий, мне взбрела идея: найти «вора в законе». На оперативке, когда о нем рассказывали, я сидел, как на иголках. «Вор в законе»! Нет, об этом я еще не писал. Кто он? Почему положил глаз? Когда это было? Надо обязательно увидеть его!
Стояла полночь, когда я нашел дом, где проживал этот бывший вор. Место — у черта на куличках. Пустынная окраина поселка. Хапстрой, говоря здешним языком. Тут селились самовольно те, кто отчаялся ждать жилья.
Меня всегда поражала убогость шахтерского быта на некоторых, как пишут, угледобывающих предприятиях. По сорок-пятьдесят лет отдают эти люди родной земле, как кроты, чумазые, копаются в ней, добывая «тепло и свет» людям, а за это… За это многим темные низкие хибарки, грязь, вонь. В центре поселков обязательно стоят магазин, пивная и общественный туалет с буквами «Ж» и «М». Тут всегда загажено.
Окраина такого поселка и лежала предо мной в ночной тишине. И вонь шла от туалета, и цветы, которые так любит описывать, говоря о шахтерах, наш брат-журналист, жалко дышали этой вонью.
Домик стоял тут, видно, давно. Внизу шла балка, на дне ее постукивал своими водами ручей. Здесь, как мне сказали, жил когда-то хороший проходчик Киреев, но он подался на заработки в Воркуту. Домик этот он отдал «вору в законе» бесплатно, и тот жил здесь теперь хозяином.
«Зачем я иду? — спросил я себя, подбираясь к домику. — Можно же придти утром, по-человечески обо всем расспросить»… Однако тут же оборвал себя: Васильев внушил мне, что «воры в законе» не такие и пряники — «разговаривать с вами за так они не будут».
Подбираясь ближе к домику, я услышал приглушенный разговор. Он шел будто из-под земли. Я присел, чтобы сориентироваться и понял, что разговаривают в балке, на ее дне.
Мне тогда ничего не оставалось — любопытство одолевало, да и интуитивно чувствовал, что именно там, откуда доносится разговор, — мой «вор в законе», — как поползти на голоса.
Когда я дополз к краю балки, действительно услышал его слова. Я никогда его не видел. Но узнал его, так как только он мог говорить это.
— Зачем вы это сделали? — спрашивал их. — Что она… — Тут подул ветер и отнес его слова. Но я почему-то знал, что он говорит об убитой… — Чем она вам насолила?
На минуту воцарилась тишина и потом кто-то, крякнув, солидно забасил:
— Кончай, Коля, ломать дурку… Ты спрашиваешь: зачем мы это сделали? Ты не знаешь? Или тебе пояснить на палочках?
— Пояснения, конечно, бесполезны… Осталось похоронить ее… Посмейтесь! Я завтра похороню…
— Принеси ее сюда и рядом похорони.
Это был уже другой голос, какой-то надтреснутый, злой и насмешливый.
— Не надо, Паша. Ты зря смеешься.
— Смеюсь! Выходит, она лучше нас? Ах, Коля! Не замечал я в тебе этого предательства, когда увидел настоящего пацана… Дешевая это, Коля, сентиментальность. Помнишь, мы… Ну ты помнишь… Того самого… которого ты доканчивал…
— Вся и беда, Паша… Вся беда!
— Раскис ты просто. Беда не там была, была здесь, когда ты раскис.
— У каждого своя жизнь, Паша. Почему ты хочешь, чтобы я был таким, как ты?
— Ты давал клятву.
— Я был тогда в штопоре… Душа была в дерьме…
— Тебя никто не тянул за язык! — Вновь вступил бас. — Ты поклялся.
— Но неужели вы не поним…
Я скорее ощутил, чем почувствовал удар по голове. В последние секунды, прощаясь с жизнью, я сказал себе: «Дурак! Дурак, детектив!» Кто-то потащил меня за ноги, швырнул куда-то…
Я очнулся на заре. Плескался у ног ручей. Со мной рядом сидела женщина и делала к моим вискам примочки.
— Что со мной? — скорее простонал, чем спросил я.
Она прижала палец к губам и прошептала:
— Т-ш-ш!
Потом женщина, помню, помогла мне подняться и выбраться из балки. Я медленно куда-то с ней брел. Конечно же, это была Лю. Как очутился я потом в своей гостинице — не знаю. Не раздеваясь, упал на постель и вскоре заснул. Я не помню, сколько спал. Меня разбудил телефонный звонок. Голова раскалывалась. Я выслушал полковника Сухонина (звонил он), который мне рассказал, что события разворачиваются с невероятной быстротой (это его слова).
— Вы слышали версию о «воре в законе»? — спросил полковник.
— Да, — насильно выдавил я из себя это единственное слово, чтобы не выдать свое состояние: мне не хотелось обременять их.
— Он пропал. Вы любите такие истории? Хотите с нами поехать? Еще разок?
— Куда?
— Конечно, туда, где живет этот парень.
Мне понравилось, что он так сказал: «этот парень». Не «вор в законе», как говорю я, а «этот парень».
— Когда надо ехать?
— Сейчас мы за вами заедем.
Было восемь утра. Мы вначале заехали в управление. Струев вышел из своего кабинета. Оказывается, он еще не уходил домой. Васильев, которому на первых порах, когда он пришел под начало Струева, все уши прожужжали, что подполковник никогда не суетится, но успевает все закончить вовремя, хмыкнул. «Не суетится! Замотался, спит на работе!» Старший лейтенант сидел в машине рядом с полковником. На месте начальства, рядом с шофером, Струев и уселся, ухмыляясь незаметно: Сухонин не хотел быть сегодня главным все-таки исчез один из подозреваемых. Пусть Струев и чувствует себя неловко! Сухонин, однако, вяло спросил, когда Струев повернулся к нему:
— Кто сообщил об исчезновении?
— Плотников.
— Ты его посадил там в засаду?
— Да.
— И когда он сообщил об исчезновении?
— Два часа тому назад.
— Может, человек пошел на смену? — вставил старший лейтенант.
Струев обернулся, смерил своего подчиненного недобрым взглядом и не стал ничего говорить.
— Двигай, Барышников, в направлении Хапстроя, — сказал он нехотя. И, подумав, добавил: — Ты, Васильев, всегда больше всех знаешь… А где ты был вот — хочу спросить?
Сухонин лениво пояснил:
— К нему отец приехал. Можно понять.
— А я всю ночь пахал, — зевнул Струев. — Обидно. Когда молодые дурку валяют, а старички… С бабой некогда переспать…
— Молодые!.. — В голосе Васильева зазвучала обида. — Когда я… Так это ничего! Без вас поехал…
— Без меня дневничок конфисковал.
— Так я положил же его на видном месте. Чтобы сразу заметили…
— Ага. Я заметил… Страницы полные?
— Я думаю, вы все аккуратно просмотрели.
— Конечно. Это и положено так. Ты ведь их лично знаешь. И этого Лёдик-Мёдика, и убитую знаешь.
— На самом деле? — вскинулся Сухонин. — Впрочем… Я же хорошо знаю, что у нас лично, — полковник перешел на «вы», — на сегодняшний день три дела, по которому проходят около пятидесяти человек. Да еще попрет уйма свидетелей… Все равно некого тебе, — легко перешел и на «ты», — дать в помощники.
Недавно они были на равных. Сухонин получил еще одну большую звездочку два месяца тому назад. Это произошло, когда формировались отделы по борьбе с мафией, наркобизнесом и еще с чем-то таким крупным и масштабным. Звездочку ожидал и Струев, но в последнее время то ли у него сдали нервы, то ли чуточку он зазнался. Дважды крупно поругался с начальством. И теперь — в подчинении человека, которого, признаться, не уважал.
— Вот будет скоро полегче, — успокоил полковник.
— Никогда не будет у нас такого, — нехотя отозвался Струев, кривя при этом губы. — У нас с этим всегда будет глухо.
— Не скажи, — возразил полковник.
— У нас главное запротоколировать, задокументировать, перепроводить. А, скажем, как? Начальству на это начхать. Нужна им моя работоспособность? Нужна! И айда!
— Слушай, что же ты говоришь при подчиненном? Ты же его развращаешь!
— Развращаю. Пусть учатся. Может, они, помоложе, все и изменят. Сейчас они, гляжу, не дураки. Они уже не вкалывают, как мы.
— Погодите-ка, парни, — встрепенулся вдруг полковник, увидев новый, недавно построенный тут хозяйственный магазин, и извинительно добавил: Сынишка выдергал насчет мотоцикла. Тут, говорят, есть.
— За сданные яйца, — сказал подполковник.
Шофер остановил машину. Уже выйдя и держась за ручку дверцы, Сухонин покачал головой.
— Эх, Саня, Саня! Поменьше бы в оппозицию лез. Что о нас подумает столичный товарищ?.. Прикинь лучше, как в такой обстановке с ним будешь работать. — Он кивнул на Васильева. — Он же еще не развращен на службе. Развратится — станет возражать на каждом шагу, как ты мне, обидно станет.
И захлопнул с треском дверцу. Струев сидел насупясь, ждал терпеливо. Наконец, улыбающийся, вернулся Сухонин.
— Ну что, поехали? — Он одарил всех улыбкой.
Как, оказывается, далеко ехать в этот Хапстрой! Как я вчера так легко преодолел такое солидное расстояние! Чем же эти друзья меня шарахнули по голове? Зачем ударили? Кто выследил? К чему я им?.. Но тогда ответь: почему ты следил? Ты не следил и поехал из любопытства? Ну, а что ты расскажешь этим, как был вчера там и как тебя тюкнули по голове?
Подполковник вытянулся на окошечко машины, зевнул, спросил Васильева:
— Ну кадр, вовсе не развращенный службой… Ты сознайся, почему все-таки мне не сказал, что ты хорошо знаешь этого Ледика?
— А чего вдруг? — Васильев оторвался от чашки — он пил, налив из термоса, кофе. — Разве вы забыли, что мы тут друг друга все знаем?
— Я разве знал, что ты здешний?
— Но я же думал, что вы заглядывали в мое дело. Я был здешним. И теперь в доску здешний.
— Я в дело твое не глядел, потому что ты еще — пацан. Наделать ты ни хорошего, ни плохого еще не мог. Ни тут, ни там… Так почему ты мне не сказал, что знаешь подозреваемого?
— Я думал, в работе откроется. Все равно же некому было к вам идти. А я… Я уже по делу истосковался. Почему я только на бумажках сижу?
— Потому и сидишь! Что вот так действуешь! Ты хотя бы чуточку знаешь о том, как в былые времена мы жили? Знаешь, когда с нас сняли плату за звание? Знаешь, как мы в течение более семнадцати лет, аж до декабря шестьдесят девятого, работали по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки? Почти без выходных, часто без времени для еды! И с месячным окладом аж от девяноста до ста тридцати! Но учти, тогда всегда мы говорили: «Я не буду вести этого дела. Я не могу, братцы! У меня личное в этом есть…» У нас совесть была!
— Вы думаете, сейчас что-то изменилось?
— А нет? Не изменилось?
— Я доложу вам! Учился я с ним всего один год.
— Но именно в этом году ты конфликтовал с ним.
— Александр Александрович, почему вы так со мной разговариваете? Я учился с арестованным, да. Но мне было тогда всего шестнадцать лет. Если бы вы были ко мне более или менее настроены по-доброму, вы бы взяли это на учет и спросили бы меня, почему так запутаны у этого матроса Ледика были последние годы жизни?
— Вы не ответили на мой вопрос, — Струев тоже перешел на «вы», почему не сказали, что учились вместе с арестованным? И что у вас был с ним конфликт…
— Я извиняюсь за это.
— Что был за конфликт? Элита? Вы, Ирина… Извините, потерпевшая? Еще несколько привилегированных особ? Скажем, сын главного инженера шахты, дочь секретаря райкома… Всего-то — пигмеи.
— Нет, извините, Александр Александрович! Тут вы ошибаетесь. Мамочка Ледика…
— Знаю я про мамочку.
— Вы, наверное, не знаете, что от нашей шахты и в область, и в республику двинулись на выдвижение… Кстати, через папочку Ири… Убитой, простите… Двинулись довольно крепкие мужички. Мамочка Ледика ездила к ним в гости. И из обкома, я сам в кабинете своего отца слышал, как прозванивали: не троньте ее! Это было похлеще наших папочек. Мы его, Ледика, всегда могли принять в компанию.
— А отдыхали на дачках папаш?
— А разве это было запрещено? Не с подонками же якшаться, не по пивным лазать!
— Вы имели отношение к убитой? У вас же разгул был широкомасштабным?
— Но ведь убитая не скажет теперь, что между нами было.
— И в дневнике нет этого.
— Я не вырывал страниц.
— Это — да. Вы знали, что убитая имеет дневник?
— Поговаривали об этом. Они же с Фишманом соревновались… В писатели лезли. Слог у нее был пожиже, чем у Фиши, но, однако, крепок.
— Потому вы, не дождавшись меня, рванули к вещественным доказательствам?
— Нет, просто я подумал, что ваша жена в тот вечер затеяла какое-то культурное мероприятие. Вы будете поздно.
— И как вы думаете выходить из этого положения?
— Как? Я думаю, вам не удастся вытурить меня из дела. Потому что не даст товарищ полковник, наш главный с вами на сегодня бог.
Полковник, слышавший весь этот разговор, нейтрально хмыкнул.
— Скажите уж, что дочь полковника учится на факультете, где деканом ныне ваш отец.
— И это важно, Александр Александрович. — Васильев завинтил крышку термоса. — Мы же живем не в свободной стране, где взаимоотношения контролируются совестью. Мы давно ее потеряли, совесть-то. Никто не заставит отца причинить боль моему прямому начальнику. Отец мой всегда отличался разумом. А с вас, если уж хотите знать, слетит не один волосок, как только тронете меня…
— Видишь, товарищ полковник? — Теперь уже хмыкнул Струев.
— Далеко пойдет, — осклабился Сухонин. — Если, конечно, не остановят… Грубо, старший лейтенант! Но это, Саня, ты его спровоцировал!
Я сидел насупившись. Что же произошло с нами, грешными? Почему они не стесняются меня, человека столичного, с остреньким перышком? Они сами идут на зуб, открывая язвы профессии. У них точно так, как у всех. Раньше боялись газетной полосы, хотели попасть в нее лишь положительными. Теперь — другое время? Пиши! Все стерпит газетная или журнальная полоса. Напротив, чем хуже о тебе, тем лучше резонанс. Ты не в мафии, ты не их, если тебя хлещут.
— Молодой человек! — Полковник сидел в машине вразвалку, он обращался ко мне. — Вы, говорят, из пострадавших?
— Да, — ответил за меня Струев. — Он получил ночью по куполу.
— Как?
Полковник глядел на меня испытующе.
— Я, я… — Я забормотал.
— Просто любопытство, — подумав, сообщил подполковник. — Верно я говорю?
Я кивнул головой.
— А кто же вас ударил? — спросил Сухонин.
— Если бы он знал! Мне позвонил с Хапстроя, тот же Плотников сообщил: какая-то женщина тащит окровавленного мужика…
— В том-то и дело, что крови не было, — отозвался я.
— Утюгом, завернутым в полотенце, и шарахнули, — засмеялся подполковник.
— Шутки шутками, а все это мне не нравится, — сказал полковник.
Машина остановилась. Я узнал домик, узнал место, где прятался. Все выглядело хуже, чем вчера. Облезлые гнилые стены деревянного сооружения были так стары и угрюмы, что я невольно съежился. Внизу говорливо тек ручей. В синем небе не было и облачка. Было жарко, сон морил меня; все-таки подняли они меня рановато. Надо было вообще-то отлежаться.
— Где вас ударили? — спросил Струев, подойдя ко мне и закуривая. — В каком месте? То есть, я спрашиваю, не куда вас ударили, а где? У буерака? Или внизу?
— Думаю, что вон там. — Я кивнул головой на небольшой штабелек кирпичей. — Но я…
— Да какое это имеет значение? — махнул рукой полковник. — Нет главной нитки. — Он чихнул и полез за платочком. — Истинная правда!.. Ну куда делся этот воришка да еще и в законе? Зачем сразу разболтали о нем?.. У кого насчет него эта идея созрела?
— У Васильева, — заметил подполковник.
Мы зашли в комнатку, где недавно видно жил «вор в законе». Мрак, неуют охватил меня, заставил зябко оглянуться. В углу я увидел лужу крови. Уже слетелись мухи, жужжали. «Вот так бы и меня», — с каким-то ужасом подумал я. В голове сразу же после этого начались боли.
5. ГДЕ ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
Все по порядку. Помните эти фантастические исчезновения букв в записке, которую оставили мне на столе в номере гостиницы? Грешным делом, я хотел потом превратить это в шутку, ибо не раз имел дело со своим братом писателем и артистом, охочем на розыгрыши. Заберется в номер, слава богу, рожи примелькались на экранах, принимают за своих, вынут из бумажника одну записочку, вкладут совсем другую, а ты разрываешься от любопытства и недоумения.
Так и подумал я на своих. Где-нибудь рядом, на гастрольных подработках, и шутят. А тут, уже перед отъездом самым, — звонок телефонный. Говорит некто Добрюк, из здешней милиции.
— Не узнаешь? — спрашивает. — А помнишь, я приходил к тебе, когда у тебя дачный кирпич украли?
Я узнал его голос. Хрипловатый, добрый. Оказывается, сейчас в глубинке. Уехал из столицы. А тут, — рассказывает уже при встрече, — мама старенькая. В село езжу каждую субботу, огород держу, куры, свиньи, гуси, даже голубей завел.
— Чего мне надо, спросишь? Не спеши, узнаешь. Я тебя свожу в одно местечко.
Местечком мои знакомые следователи-ребята, которые помогают в моей работе, называют такие комнатушки, где ведется следствие. Откуда он знает, что я давно слыву у ребят своим? Просто я рекламирую их работу в лучшем виде. Я знаю, за такую их адскую муку хорошо хотя бы добрым словом упомянуть их фамилии. Но это, пожалуй, единственное, что я могу сделать для них сегодня.
В тот раз, когда я за три часа до отхода поезда приехал на ту улицу, куда было указано и где это самое страшное заведение — приемник, я увидел подполковника Добрюка (был, когда у меня украли кирпичи, старшим лейтенантом). Я подумал удивленно: зачем он сюда добровольно напросился? Он, как бы отгадывая мои мысли, сказал:
— Кому-то надо! Они здесь такие несчастные. Пожалеть некому.
— Как же вас отпустили?
— И сам не знаю. Говорят, что-то случилось с моим начальством. Они ведь меня за безотказность в работе любили. Крикни: «Добрюк!» — я тут как тут. — И сразу, без перехода, спросил меня: — Вы, кажется, в привидения не верите? Тогда еще говорили, помните? Привидение ваши кирпичи для дачи слямзило… Так вот… Я начинаю верить в эти привидения. Встаю сегодня утром, точнее просыпаюсь… А кто-то шепчет на ушко. Ты, говорит, позвони сегодня такому-то, ну, значит, вам. Он у нас, говорит, в области. Покажи ему этого сосунка. Пусть на досуге потом поразмыслит.
— Какого сосунка?
— Да есть у меня такой. — И кричит: — Верховод! Приведи того сволочугу.
Рядом из-за соседней двери кто-то гаркнул, исполненным служебной страсти голосом: «Есть привести!» И через минут десять приводят смугленького, небольшого росточка мальчика лет семнадцати. И рассказывает за него Добрюк: видишь, в тот вечер он вернулся из видеосалона, решил «прошвырнуться» с твердым намерением кого-либо убить.
— Было уже такое, — сказал я. — У известного писателя. Описано здорово.
— Верно, — отозвался Добрюк. — Этот лишь убил не беременную женщину, а медсестру, мать двоих детей. Зашел в медчасть и бил ее топором. Ни за что, ни про что. Она уже была мертва, а он все бил и бил.
— Зачем вы все-таки меня привели сюда? — вскричал я.
— А голос мне утром приказал! Откуда я знал, что вы тут? Ну скажите, откуда? Ей-богу не вру. Голос говорит: «Ты обязательно позови его и покажи этого несчастного». Слушай, — обратился подполковник к убийце, — ты ел сегодня?
— Не-е, — ответил тот. Он не был похож на монстра — такое себе плюгавенькое создание.
— Видите, переживает, — сказал Добрюк. — Голос мне сказал: «Он, когда будет писать о таких, пусть тоже переживает!»
Нате вам! Переживай! Да кто вам сказал, что о таких писать надо с сожалением?
Я тогда был настроен агрессивно. История с убийством Светланы, в лесу, близ санатория; убийство Ирины… И еще этот злой и беспощадный сосунок-убийца, с которым Добрюк заигрывает… Не много ли для последних месяцев? Оплакивать судьбу убийц? Об убиенных моя будет печаль.
Все это происходило в первый мой приезд на разбор дела Ирины. Сразу же от Добрюка я метнулся в гостиницу, собрал быстро вещички и прибежал к директрисе.
— Вы мне покажите ее, — попросил я.
— Кого? — Она уже, видимо, меня забыла.
— Да эту колдунью.
— А-а, колдунью… Сейчас. — Набрала номер телефона и стала кого-то расспрашивать: на дежурстве ли Рая (оказывается, мадам Лю звали Раей)? Ей что-то ответили. Директриса положила трубку и, будто лишний раз свидетельствуя о непокорности своей сотрудницы, сказала мне:
— Нет на дежурстве. Исчезла! Как сквозь землю провалилась, говорят. А с людьми рядом была. Говорят, на глазах растворилась…
…Теперь она шла ко мне, Лю, женщина неопределенного возраста. В лучшем случае — до тридцати, в худшем — до сорока. Она была, оказывается, блондинка. Я когда-то влюблялся в блондинок, терял голову. В последние десяток лет, подурнев и, откровенно говоря, поистаскавшись, уже не глядел на них. Не все ли равно, кто притворяется, объясняясь тебе в любви: брюнетки, блондинки, шатенки? Любовь — зла. В молодости лишь можно говорить, что тебя любят за твою красоту такие же молодые и красивые. А потом… Врут! Конечно, балдеют в одиночестве, им вечно не хватает денег. Но любить они разучились. Они и не умели любить. Любовь — божий дар. Тут прав подполковник Струев. Когда мы ехали с Хапстроя, он рассуждал опять о любви в семье. Если ее нет, то и нет потом нитки, за которую можно вытянуть всю, как он выразился, цепь. Человека надо учить любить. Человек должен уметь любить. Как все просто было бы понять: «вор в законе» бросил все, ради любви. Но Ирина (о мертвых, конечно, или хорошо, или ничего) никогда не могла любить. Она никого не любила. Потому и сгорело вокруг нее столько людей. По ходу сгорит еще, — пообещал он.
Мы, правда, не нашли следов «вора в законе», хотя, как вам уже известно, была засада и его «берегли». Упустили!
О том, что Ирина никого не могла любить говорила и Лю.
Теперь я могу признаться — я видел тогда Лю и даже встречался с ней. Как бы это объяснить? Я встречался с другой вроде женщиной. Но думаю, что это была она, Лю. Во всяком случае, я встречался не с теперешней Лю, а тогдашней, еще более загадочной, чем теперь. Я даже высчитал все, когда это было. Между посещением Добрюка и последним разговором с подполковником Струевым, в первый мой приезд.
Тогда, выйдя из кабинета директорши, я побежал искать именно ее, женщину, что постоянно тревожила меня. Я тогда думал: если она вызвала меня сюда, к месту убийства, если организовала эти жуткие смотрины мертвой Ирины, а потом заставила Добрюка (я и теперь думаю — каким-то образом заставила) дозвониться ко мне (чтобы я «поглядел» на этого подонка-убийцу!), имела же она какую-то неведомую мне силу все это сделать? Потому тогда я бежал от директорши по коридору и не только верил в сверхъестественную силу этой женщины — я боялся уже этой силы! И не только потому, что о ее загадочности и силе говорила мне директорша. Я чувствовал эту силу рядом, со мной.
Чтобы отвлечь внимание Лю, я не стал пользоваться лифтом, взошел на свой этаж, нырнул в коридор, ведущий к чужим номерам. Остановился там за перегородкой, затаившись. Вдруг мелькнула тень неподалеку от лестницы. Вроде что-то там шуршало, потом все стихло. Лю спряталась там, под лестницей? Я решил осторожно приблизиться туда. И я сразу увидел ее. Точнее — не ее. Было слишком темно. Я увидел ее глаза. Эти ее необыкновенные голубые глаза. Такие глаза раньше писали на стенах церквей святым. Я в темноте дотронулся рукой к ее плечу. Она вскрикнула.
В этой не лучшей гостинице, под лестницей, пахнущей мышами, ее крик, вероятно, был кем-то услышан. Но какое мне было до этого дело? Я держал ее теперь крепко за руку. Боязнь моя прошла. Почему она преследует меня? Почему поучает? Она меня в чем-то предупреждает? Или просто играет в свою какую-то загадочную игру?
— Пустите же меня, тоже кавалер! — произнесла она. У нее была мелодическая манера речи.
Я глупо рассмеялся:
— Вот и не отпущу, пока вы мне не исповедуетесь!
Легоньким прикосновением пальцев обеих рук она убрала меня со своего пути, вышла из-под лестницы, прошла через коридор прямо к моему номеру (в коридоре никого не было). Лю открыла свободно дверь моего номера и, как давняя знакомая, закрыв за мною дверь (я шел за ней как тень), села на диван. В моем номере было почему-то настолько темно, что я шел к ней на ощупь. Я лишь чувствовал, что, сев на диван, она поджала под себя ноги. Я увидел снова ее глаза, она опустила их, вроде делая приглашение, чтобы я сел рядом.
— Почему здесь темно? — спросил я.
— Мне так хочется…
— У вас всегда так светятся глаза?
— Всегда. Об этом мне часто говорят.
Я сказал обеспокоенно:
— У меня поезд через час.
— Я провожу вас. Мы успеем. Тут идти до вокзала восемь минут.
— Но я…
— Сидите! — У нее, однако, был бессильный, упрашивающий голос.
Я подчиняясь ему, сел, чуть задев ее крепкое бедро.
— Я уже третий день хочу встретиться с вами, — проговорила она. — Не обижайтесь, это действительно я звонила вам… У меня к вам просьба… Не возражайте! Вы должны мне помочь. Вы знаете, они пытаются меня уволить. Можно устроиться и где-то. Вся беда в том, что я пока нужна здесь. Вскоре дело об убийстве перейдет в другие руки. Они станут проживать тут. А как к ним подойти? Как узнать, что они будут предпринимать?
— Кто вы? — Зачем я спрашивал ее об этом? Все равно она не ответит.
Она действительно не ответила. Снова повторила, что я должен ей помочь. Сначала надо подойти к этой женщине, которая наговорила на нее.
— К директору?
— Пусть это называется так. Но скорее, называется это по-другому. Шептунья, доносчица, клеветница, наводчица…
Я должен пояснить ей, этому директору, — наставляла меня Лю. — Ведь ее, этой женщины, работа не сдельная. Она могла бы стать богатой, если бы за все ей платили…
— Говорите ясней. — Я почувствовал себя уверенней. Может, все это то есть ее загадочность, какая-то сила — моя выдумка?
Она заметила во мне перемену. Глаза ее, по-моему, стали насмешливы. Однако Лю спала с голоса.
— Есть человек, который привел когда-то Ирину сюда, — сказала обиженно. — И здесь, с помощью этой старой лгуньи, Ирина и пошла к тому убийству, которое видели и вы.
— Здесь это было?
— Даже в этом номере. Хотите — я вам все покажу?
— Что ж… — Я встал и попытался раздвинуть шторы.
— Не смейте! — Она приказывала. Это был уже гневный голос страсти, сердца. — Пусть будет так…
Я пожал плечами и возвратился к ней на диван.
— Ее мог убить любой. И вы в этом могли убедиться. Мальчуган… Злодей… Такой, какой убил медсестру… Но ее убил другой. Когда привел ее сюда, — этим уже и убил. Девочку с полными ножками. Девочку, которой отпущено природой безумие страсти… Вам этого не понять. Вы всю жизнь пользовались женщинами третьего сорта. Все было у вас так, но не так. Это старая дама, которую вы называете директором, потворствовала ему. Он был начальником…
— Это старо, — пробурчал я, — разве вы не знакомы с сегодняшней жизнью? Они сами идут сюда, слетаются, на огонек, эти девочки с полными и тонкими ножками. Мир теперь грешен до отвращения. И вообще… Мне надо спешить на поезд. Был рад с вами познакомиться.
Мне показалось все уже не интересным.
— Почему вы предупреждаете меня о моей безопасности? — спросил я уже грубо.
— Да, вашей. А не чьей-нибудь другой. Конечно, это ваши дела. А мои… Это мои дела!
— Почему я бежал сегодня по вашей милости к Добрюку?
— Потому что вы… Вы стали жестоким. У вас умерло чувство сострадания к наказанным небом.
— Мистика, — захотел я сбросить ее ладонь с моей руки.
— Глупец. Если все предопределено… Если кому-то быть убитым, а кому-то убить… Тогда Добрюк прав!
— Мне, выходит, надо перед убийцами-подонками сюсюкать? Становиться на колени?
— Нет, не сюсюкать. Говорить тихо. Однако нельзя злом призывать к добру. Все у вас не так, не так! Вы стали писать не так.
Меня начинала раздражать ее манера подобным образом говорить. Говорить рубяще. Всезнающе.
— Не думайте так обо мне, — посоветовала кротко она.
— Как? Чего вы вдруг решили, что я думаю о вас?
— Вы сейчас подумали, что я нетерпима, заносчива…
— Верно, подумал. Кроме того, вы вмешиваетесь в мою жизнь.
— Это вы вмешиваетесь в чужую жизнь, — спокойно отпарировала она. Сейчас вас позвали, чтобы вы поглядели на очередного подонка семнадцати лет, который убил женщину. У этой женщины осталось двое малышек — четырех и двух лет. Он ворвался к ней в кабинет и бил ее топором просто так, ни за что. В этот день он хотел кого-либо убить… Но позвольте вас спросить, разве для того чтобы увидеть очередную дрянь, надо было так спешить?
— Но вы же сами внушили Добрюку, чтобы я был там. Разве не так?
— Браво, вы уже верите, что есть люди, которые могут внушать.
— Наверное, естественно. Колдуны, вожди. У меня, как и у других, все смешалось. Я начинаю верить, что люди ходят порой под гипнозом. Они не видят очевидного. Так было и так есть. А потом, как после драки, машут кулаками.
— И все-таки, почему вы побежали, когда Добрюк позвал вас?
— У меня такая профессия. Бежать туда, где интересно.
— Вы когда-либо продавались?
— Оскорбляете.
— Ваш газетный суд, стоило лишь приоткрыть краны, хлынул на общество лавиной. Это уже не суд, а расправа. Почему вы так доверчивы? Почему не ищете главных виновников?
— Кто главный виновник в этой истории?
— В убийстве Ирины?
— Об этом я и спрашиваю.
— Я уже вам ответила. Эта старуха и тот. Найдите его. Бесполезно говорить в этой истории, что ее, Иринин, мальчик ушел на три года. Здесь не это. Есть тот, виновный.
— Говорите яснее! Кто он? Кто?
— Он — почти каждый из вас. Вы, мужчины, стали более продажны, чем женщины… Но он, тот… Он жив, здоров. Найдите его. Но не продайтесь. Он попытается вас обмануть.
— Я не из тех. Не продаюсь.
— Вам это так кажется. На самом деле вас только позовут, вы бежите. И продаетесь… За мелочь… Вам рассказывают, что было так, а не так. И вы…
— Я выполняю свой долг, как могу.
— Долг? Поддерживать все то, что осталось от Системы?
— Вы не доверяете мне… Потому вы гнали меня от очередной жертвы. Скажите, как вам удалось вытравить из записки слова? И что означает эта аббревиатура — ЧСН?
— Вы не знаете и этого?! — Восклицание ее было неподдельным, оно означало крайнее удивление. — Но это же ныне знает каждый нормальный человек!
— Я, выходит, ненормальный… Я догадываюсь… Догадываюсь, это человек… Не знаю, не знаю! Может, иной… Но я хотел бы спросить: почему вы считаете, что в мое здешнее дело кто-то должен вмешиваться? И учить меня моему делу? И не верить мне!
— Это уже другой вопрос. А первый… Вы мне все-таки поможете? Пойдете со мной, чтобы они оставили меня в покое?
— Если ваша власть над подобными записками так могуществена, разве вам нужны защитники? Причем неквалифицированные? — Я был ироничен.
— Я не хочу, чтобы вы вмешивались и в это дело, — сказала, помолчав, она. — Я враз раздумала.
— В какое дело? В дело этого малолетнего убийцы?
— Нет. Я говорю об убийце Ирины.
— Поясните.
Я все-таки обиделся. «Я враз раздумала!» Что позволяет она себе? Так свысока судить всех!
— Я знаю, о чем вы думаете. Не обижайтесь на меня. Да, я раздумала. Впрочем, раздумываю…
— Разрешите действовать впредь так, как будете приказывать вы! — Я заводился.
Она не обратила внимание на мое ерничание.
— До этого своего убийства, — заговорила тихо, с раздумьем, — тот звереныш жил, как живут все его сверстники из маленьких городков. Издевательства начинаются с детского садика. Потом издеваются в школе, на улице. Этот тихий мерзавец поступил в училище. И тут его били, унижали. Что сделать, чтобы вознестись? На ком отыграться? И вот жертва медицинская сестра…
— Выходит, не виновен?
— Зачем же так? Конечно, виновен. Но он исполнитель воли общества, доведшего его до психоза.
Я снова пожал плечами и сказал:
— Не больно и свежая мысль. Не все будут убивать только потому, чтобы вознестись.
— Жизнь от рождения и смерти… За час, за день, за неделю вы узнаете это. — Ее мелодическая манера речи охлаждала меня. — Вы делаете вид, что во всем разобрались. А разве вы умирали? А разве помните, как родились? От вас скрыты те загадочные дни. Никто в деталях вам не рассказывал, как свершилось чудо… Вам бы все это помнить, тогда вы никогда бы не ошибались. А если бы умерли, вам легче было бы понять умерших…
— Убитых, — поправил я. — Выходит, мне надо быть убитым, чтобы понять убитого? Но разве тогда я уже буду нужен?
— Чтобы судить об убитом, надо быть убитому.
Это был ее решающий голос в нашем немного запутанном диалоге. Я понимал ее: она хотела мне сказать, чтобы я подходил к разным убийствам Ирины и медсестры по-разному. Но этот сам подход к разным убийствам был само собой разумеющимся. И что же? Дальше-то? Чтобы судить об убитом, надо быть убитому?! Какая нездешняя, неземная мысль! Кто так может сказать?!
— Я понимаю, о чем вы думаете, — послышался вдали ее голос.
Мимо меня мелькнула тень. Я слышал, как щелкнул замок. И выбежал в коридор. Тут же захлопнулась дверь моего номера. Я попытался побежать в ту сторону, и тут же, ощутив толчок в плечо, отлетел к стене. Вверху горела лампочка. С ужасом я подумал, что надо идти за ключом, мой остался в запертом номере. Там меня увидит директорша… О чем я должен с ней поговорить? Не помню!
— Не ходите со мной. Я раздумала! — Опять вдали послышался голос.
Я знал по статистике: продолжается рост преступности; личному составу внутренних дел все труднее справляться с нарастающим валом преступлений; нагрузка на одного сотрудника уголовного розыска по зарегистрированным преступлениям возросла почти на четверть — с семнадцати до двадцати одного оперативно-розыскного дела… И т. д. и т. д. Боже, милый Добрюк! Да тут не надо и показывать таких подонков, чтобы понять весь ужас сегодняшней жизни. Стоит лишь поглядеть вокруг!
Я тарабанил на машинке об убийстве Ирины, прикатив в свой город. Я позабыл о предупреждении Лю не писать. «Это не ваше дело! Есть другие, которые будут чистить конюшни!» В конце концов, а что я буду делать, если перестану писать? Это же своего рода наркотик — выворачивать пласты уголовной хроники, а?
Мне казалось, что материал об убийстве Ирины выглядит и серьезнее и в чем-то убедительнее, если хотите — поучительнее, хотя все во мне протестовало. Я ведь решил окончательно, что не стану писать больше об убийстве Светланы, не стану восстанавливать испорченную, наверное, Лю рукопись. Зачем? Пока восстановишь… Да лучше потом, после этой повести, написать заново что-то. Или вообще не писать!
Так я и повторял: «Кому это нужно! Кому это нужно!» И строчил, подыскивая слова и о Ледике, и его жене, убитой так жестоко, и о «воре в законе», и о всех ребятах-оперативниках. Звонок уже надрывался. И в первые секунды, еще в общем-то толком не разобравшись, я не мог понять, что хочет этот человек от меня лично. Наконец, он объяснил. Он хочет, чтобы я обязательно описал эту историю о его трагически погибшей супруге (слово «трагически» он подчеркивает). Оказывается — муж так трактует смерть ушедшей из жизни Светланы. Он так хочет…
— Зачем это вам? — закричал я, хотя слышимость была отличной.
— Зачем? — ответил он, тоже криком. — А не знаю!.. Может, хотя бы напомнить, что она жила… Вы знаете, — продолжал он кричать, — мы жили все-таки хорошо… — Вдруг глухие стоны донеслись до меня. — Зачем, а? Зачем?! Зачем мы все это затеяли? Да лучше бы я получал аспирантские крохи! Я не хочу, вы слышите?.. Не хочу так больше жить! Вы и напишите… Не хочу!
— Успокойтесь! — стал я упрашивать его. — Уже ничего не вернешь!
— Это неправда! Не затопчет никто, что у меня было с моей любимой… Нет, не смейте писать о ней плохо! Жила материально со мной плохо. Это верно. Все жили так! Лишь кучка сволочей жила хорошо. Они кормили нас бумажными лозунгами… Но мы жили лучше их. И если она била по мордасам насильника… Это — хорошо! Она осталась чистой… Понимаете, чистой! Не копайтесь в грязном белье! Я в случае чего найду вас на краю земли…
— Дочь с вами? — крикнул опять я.
— Нет, она у ее родителей.
— Зачем вы уехали так далеко от дочери?
— Светины родители — замечательные люди. У них ей хорошо… Вы, что же, видели девочку?
Из всего, что я видел там, — его девочка меня более всего потрясла. Лицо у нее было непрощающее, глаза колючие, злые, совсем взрослые, когда она узнала чужого дядю и показала на него:
— Это он увез маму!..
Я и читал потом эту стостраничную писанину глазами этой девочки. Зачем пишу? Для кого пишу? Нет, я не хотел отчитываться перед отцом этой девочки. Отец многое не знает. Его красивая жена была не прочь погулять с чужими мужчинами, закрыв свою девочку на ключ. «Так делают все»… Кто мы? Куда идем? На что надеемся? Если наши жены теперь открыто гуляют с чужими мужьями, уезжая от нас. Но кто — не «мужья»? Мы, мы? Все мы? И все мы лжем друг другу?
Я опять ухватился за стостраничную рукопись — нужна! Я выбрасывал из рукописи все лишнее, выбрасывал эту дешевую мораль — вон, вон! Тысячи, пять тысяч, миллион людских потрясений, и все идет всякий раз не так, как было. Но идет хуже, чем всегда. Общество становится страшным.
Вместе с тем я потихонечку стал писать о Ледике, его убитой жене. Я видел глаза Ледика, этого растерянного, совсем не похожего теперь на себя — человека, которым был когда-то. Глаза эти были такие просящие, такие безысходные, что я стал понимать: кто-то ведь обязан подать таким людям милостыню! Вдруг он действительно не убивал? Вдруг все это наговоры? Кому он помешал? Жил, работал, учился, служил… И теперь — конец? Он говорит: что вы, зачем я бы ее убивал? Ему Васильев в ответ: «Не говори не убивал. Кивни, и я пойму…» Не кивает!
По ночам я уже страстно работал с новой рукописью. Старая путем загадочного вмешательства Лю была в дырах, пустотах. Как необетованная земля. И Ледик исправно ложился на новые чистые листы, и теперь был у меня другим — порой беззащитным и неприятным. Господи, что делают с людьми случай и обстоятельства!
Я знал о нем уже многое. На вопрос Струева, почему же все-таки пошел к жене, Ледик ответил: приехав в свой город, он почувствовал близость и к жене, и к дочери. Ведь не разводились! Мать в своих письмах считала развод естественным исходом их отношений, и он, лишь шагнув на перрон с чемоданом, вроде с ней соглашался. Было даже легко от мысли: зачем усложнять? Еще погуляю! А алименты… Мать писала — выплатим. «Мой мальчик поживет, осмотрится, поедет поступать учиться»…
Давал ли он телеграмму Ирине о своем приезде? Нет, не давал. Но она знала, что он приедет. Ходил по городу и думал: Ирина знает! Думал об этом постоянно, однако без особого напряжения. Ну и что? Но в разросшемся без него городе многое было связано с ней. Связаны эти городские улицы, по которым они когда-то ходили. Здесь, у автобусной остановки, после окончания десятилетки, сбежав от всех, они впервые поцеловались. До этого они никогда не целовались. У нее была своя компания, у него — своя. Но здесь они все вдруг решили, здесь, уже позже, приехав в магазин, покупали материал на свадебное платье. У нее оказалось много денег.
— Кто тебе столько отвалил? — спросил, не веря своим глазам.
— Баушка. — Говорила так всегда.
— А с чего это?
— Хочет, чтобы я была богата.
Ледик работал тогда проходчиком, зарабатывал немало, однако таким деньгам удивился.
Знал бы все наперед — повернул домой, к родителям! У него же были письма, как она вела себя тут, без него. «Показания». Ледик шел по поселку и откуда ему было знать, что свернет сюда, к ней, на новую ее квартиру? Главное, Ирина была дома. Она растерянно стояла у стола. Когда он положил ей руки на плечи, хотел поцеловать, замотала головой и простуженным голосом попросила:
— Не целуй. Заразишься. По-моему, у меня грипп.
— Все равно… Я очень долго шел к тебе.
— Это уж точно. — Тут она почти пробасила.
— А ты из-за этого — дома? Из-за болезни?
— Я ждала тебя, — прохрипела.
Ледик обнял ее. Что-то ему мешало…
Потом они возились до вечера, и лишь взглянув на часы где-то около шести, она воскликнула:
— Слушай, про Катьку-то мы забыли…
Но, оказывается, Иринины родители взяли девочку из садика. Отец позвонил перед тем, как завести ее домой… Перед самым его приходом Ледик поругался с Ириной. Зачем-то вспомнил первую их близость. Тогда она оказалась несдержанной, все выложила ему о своем первом мужчине. «Вылупятся и пожирают глазами… А я поддразниваю»… Это в ее тогдашние годы!
У них, правда, было просто в школе. Даже соревновались девчонки чтобы быстрее освободиться, как говорили. А то, вроде, ты никому не нужна!
Но Ледику было больно именно теперь слушать, как это было у Ирины. Он корил ее и за эти три года. Мама его права! Спала с другими. «Божественно, божественно!»
— Зачем ты сегодня так поступила? — ударил он ее по лицу. — Зачем потянула меня… туда… туда! — Он показал ей на входную дверь, к порогу. — Кайф, да? Сразу хахаль приходит… А ты… Ты… Становишься? Кайф?!
— Ты ударил меня?! — Ирина заплакала. — Какой святой! А разве не твои дружки писали, как ты спал с девками? Ее звать Вера? Так?.. И ты дерешься?.. Ты знаешь, какая у тебя тяжелая рука?
— Прости, — сказал он, становясь перед ней на колени. — Я чокнулся… От ревности с ума сошел… Ты действительно — элита!.. И тут обалдеешь… А ты еще: возьму и нарочно сяду так…
— Балда, это же к слову!
— Но он же был, твой первый! И было это в девятом классе!
— Ты просто позабыл, сколько мне тогда исполнилось… Ты позабыл, как смеялся, что у меня все рано… созрело! И я ждала тебя, — прохрипела она.
Он опять чувствовал себя мужчиной. Что-то опять мешало ему, он снова обнял ее, но она пружинисто попыталась вырваться. Он, однако, уже не отпускал ее. Халат откинулся…
— Идем… идем к порогу… Закрой дверь!
И сама стала, и он закрыл дверь на ключ… «Роскошно! Как роскошно!»
Она попросила затем:
— Ну хватит здесь. Теперь пойдем в постель.
— Почему ты опять там захотела?
Он допрашивал ее снова.
— А так мне враз захотелось! И ты ведь сам потянул!
— Это какой-то все-таки у тебя особый кайф? Все-таки, скажи! Или я тебя убью!
— Да, я так мечтала!
— Погоди, кто-то стучит…
— Но ты такой ненасытный!..
— А что? Разве это плохо?
— Да девчонки тебя на руках бы носили!
— У вас не девчонки, а проститутки…
— Боже, да хватит! Катька-то за порогом… Я сама ненасытна, но ты… Ты в этом уникален!..
6. ДОПРОСЫ, ДОПРОСЫ…
Оказывается, все было так. Полковника Сухонина вызвали после исчезновения «вора в законе» в соответствующий отдел горкома партии (он сам сразу доложил по телефону первому секретарю о версии вокруг этого вора и теперь расхлебывался за несвоевременную информацию) и потребовали, дабы руководствуясь взбудораженным общественным мнением, прижать морячка, расколоть его. Сухонин поговорил с подполковником Струевым насчет «прижать», тот возмутился: «И чего они всегда лезут не туда, куда надо! Я сам знаю, что мне делать. Я и так, чувствую, громыхнул не той дверью. Запер безвинного! Дурак, что ли, этот морячок убивать ее? Что-то тут не так!».
Сухонин, воспользовавшись тем, что подполковник куда-то по делу завеялся, вызвал Васильева и приказал морячка прижать, пусть не выпендривается.
— И плюнь, что учился с ним! Городок бурлит, а мы будем рассусоливать…
Васильев и старался. Теперь он орал на Ледика, стучал по столу кулаком. Когда Ледик сказал, что он всегда лез в первые не по заслугам, напомнил о своей школе, где кое-кому завышались оценки (скажем, в свое время и Васильеву), старший лейтенант прорычал:
— А ты как учился? — Метнул в него пренебрежительно-испепеляющий взгляд.
— Что — как?
— Говорю, а ты как учился? Не с обеспеченным завышением?
— Я учился нормально.
— А чего же в армию загремел?
— То есть, почему в институт не поступил, что ли?
— Именно.
— Не поступил и все.
— Ты еще тогда мог бы это сделать, что сделал сейчас. Потому и рванул туда! Ты ее ревновал и тогда. За то, что якобы гуляла.
— А это твое дело?
— Придуриваешься? Теперь-то мое! Убил бабу свою! Понял или нет?! Убил!.. Когда ты ее убил? Когда? В среду? В четверг? Опять спрашиваю… Перед тем, как пошел домой? Или когда?
— Ты что? По приказанию мне «шьешь»? Быстрей найти, кто убил? Так?
— А-ну, перейди на «вы»! Не тычь!.. Даже, если ты не скажешь когда, это же не имеет значения! Я теперь говорю: не имеет! Уже теперь вот приедет врач и он, ты это прекрасно знаешь, ответит на вопрос, когда ты ее пристукнул, мерзавец.
— Заткнись, гнида! Ты был всегда гнидой… Я — убил?!
Лицо Ледика побелело.
— Это ты заткнись, убийца. Все равно же не отвертишься… Это тогда, в первый раз я с тобой по-хорошему… А ты не понимаешь хорошего… Ты думаешь, я даром время терял? Я в часть твою успел позвонить. Все бумажки придут оттуда, ты будь спокоен. Все, как на ладони, будет! И потому еще раз спрашиваю: когда убил?
— Утром, — ощерился Ледик. — А потом вечером. А потом среди ночи… Когда лез к ней напролом… Ты с бабой спишь? С Ленкой, да? А я три года ни с кем не спал. И полез…
— А когда убил?
— Первый раз утром… Мы отвели Катьку вдвоем, вернулись. Ирина на службу не пошла. Позвонила по телефону… Ну и тут я, утром…
— Ты что хочешь сказать?
— Что был я ей не неприятен, гражданин следователь.
— Ври. Я-то знаю, что она говорила о тебе.
— Думаю, знаешь. Вы, следователи, народ ушлый. Вы всегда любите — как в журнальчиках иных. Чтобы все нараспашку, голенько… Как же, поди, не раз предлагал свои услуги. Мы, мол, вместе тоже учились.
— Замолчи! Лучше отвечай — когда? Ну, когда? По дружбе скажи — когда? Раскрою же все равно!.. Пока ты вкалывал на шахте, а потом в своей морской части, я кое-чему научился в институте…
— Я слышал про твои успехи перед отъездом в армию. Тебя хотели отчислить. У тебя это первое крупное убийство?
— Шути, малый. Шути, пока шишки все на тебя не свалились.
— Даже если я и признаюсь, в последнюю минуту откажусь. А тебя… Тебя я заложу. Коль мы с тобой учились, я тебе сделаю отвод. Скажу, что мы с тобой всегда были в контрах. Ты всегда носил за пазухой нож на меня.
— Мне поручили. И я своего добьюсь. Мне плевать!
Теперь все пошло по-другому после вмешательства отдела горкома. Васильев опять метнулся к матери Ледика. Что она теперь говорила, имело другой смысл. Сын тогда, после своего прихода спросил:
— Отец будет сегодня?
— Обещал, — ответила она, теперь припомнив, что при этом добавила: Ты хотя бы разденься.
— Ах, да! — ответил Ледик и засуетился, так как вначале пошел не к вешалке, куда можно было повесить его флотскую, не первой свежести куртку, а почему-то сразу к ванне. Но и в этот раз, уже при официальном допросе матери, она не могла ответить, «сколько он там пробыл, что делал, лилась или не лилась вода». Единственно, добавила твердо: «То есть, я не знаю: замывал он там свою одежду? Какую?» Она помнила, что он настоял на том, что встретит отца сам, у нарядной. Они придут, а тогда уже сядут за стол. Тут она стала напирать на то, что предлагала ему поужинать. Вспомнила, что спросила его: «Тебя там накормили?» На что он ответил не сразу: «Так накормили, так накормили!..» И эти слова были уже устрашающими. Значит, Ледик этим как бы сказал, что произошло?
«Зачем я это делаю? — спросила она Васильева и потрясла его своим же ответом: — У меня ведь хорошая общественная репутация»… Васильев поглядел на нее, она пристально на него. Четко эта женщина припомнила, как была на комиссии, когда Ледика брали в армию, а Васильева перекомиссовывали. «Что-то вы там натворили, и начальство хотело дознаться: не чокнулся ли Васильев в школе милиции? Было? Было, было…»
Васильев сразу перестал вести себя в их доме хозяином, он потом, после этого допроса, сказал Светлане Григорьевне: о чем беспокоиться? Ледик полностью раскололся, сказал, что убил Ирину из-за ревности.
Потом, правда, Васильев оправдывался: де, сказал так потому, чтобы его мама готовилась к худшему, без всяких надежд. В этот раз, после того, как Светлана Григорьевна сказала о комиссии, Васильев позволил поглядеть ей в другой раз на труп Ирины, который был теперь помещен в подвале ее же поликлиники.
Светлана Григорьевна мужу рассказывала: она не узнала лица своей невестки… Она хотела, чтобы Ледик поступил в медицинский. Там есть кое-какие знакомые, легко можно было сдать экзамены, зацепиться. «А ты протестовал: пусть мальчик сам выбирает себе дело! Не маленький! Голова на плечах есть! И вот «мальчик» выбрал поначалу шахту. Потом этот вонючий, прокуренный и прожженный в нескольких местах бушлат. Теперь наденет арестантскую куртку…»
— Ты уже говорила так, — угрюмо пробасил отчим Ледика и ее муж.
Было это еще перед приходом пасынка домой. Тогда день выдался для смены тяжелый, и он, Константин Иванович, не обрадовался, когда ему сказали, что вызывает начальник шахты. По мере того, как отбрасывал бытовые шахтные повинности — банька, врачебный осмотр ушей — не заклинило ли, все более наполнялся надеждой. Он понял, что надежда идет от сына. Предполагал: сегодня узнается — Леонид или позвонит, или приедет домой. По своей мужской логике Константин Иванович прикидывал, что сегодня у молодых наступит конец разборам и переборам. Придут к чему-то, найдут только им нужное. Или будут вместе, или разлетятся.
Эти три года, занятый донельзя на своей работе, конечно же, он переживал за все то, что делалось рядом и касалось пасынка. Казалось, права супруга, которая точила за то, что он дал волю тому. Волю выбора. Выбор в эти годы делают, как правило, умные родители. И если сын потом не попадает ни в какие истории, то не такие дурные, выходит, родители. А если он мечется, ищет свой путь, натыкаясь на общее равнодушие — какая же цена родительской опеки? Тем более, в такое смутное время…
Вроде все она предвидела и в другом. Ведь как уговаривала Леньку: пусть придет Ириша в поликлинику. Неужели под непосредственным руководством матери не сделали бы того, что должны были сделать? Не будет рожать! Ха-ха! Да таких, нерожающих, побывавших у них с первым абортом, ныне половина поселка! Это раньше дрожали над честью. Теперь она никого не интересует. Лишь бы все было аккуратно.
Леня настоял на женитьбе. Константин Иванович его поддержал.
После ухода из дому невестки было всполошился, но жена успокоила: побесится, и все станет на место. Чем мы ей не угодили? Стараешься, разрываешься, она же — фокусы!
Теперь, думал Константин Иванович, вышагивая к директору, — все станет на свои места. Ленька сам решит. Или так, или эдак. Тяжесть, которую носил Константин Иванович все последнее время, как бы спала, разбилась.
Начальник шахты, однокашник Константина Ивановича, Колька Селезнев, был в кабинете один. Он вышел из-за стола, поздоровался за руку. Потом закрыл кабинет на ключ и указал на стул, что был напротив: туда обычно садился, принимая важных гостей. Костя тут обычно сидел, когда они, чуточку поддатые, играли в шахматы, обзывая друг друга козлами, при неточных ходах или их затягивании.
Вся какая-то суетливая торжественность сразу стала для Константина Ивановича подозрительной, и он пока не садился.
— Сядь! — прикрикнул Колька. — Слушай, вот ты мне всегда рассказывал…
— Что я тебе рассказывал? — Свою смуту Константин Иванович сдерживал.
— Рассказывал о невестке. Что она на твое предложение вернуться, заявила — никогда! Что сын твой тряпка, маменькин сыночек…
— Погоди, ты к чему это?
— Нет, ты говорил мне об этом?
— Ну говорил!
— И она так тебе отвечала?
— Ну, так и отвечала.
— Видишь, — Селезнев, маленького роста пузырь, наперся своим животом в плечо Константина Ивановича, — а ты говоришь! И что, неправда? Ведь ты тогда сам выкинул со свадьбы того пакостника, который за женой твоего сына волочился еще пацаном…
— Ну, было и это.
— И что? Ленька твой — ни гу-гу? Не встрепенулся, не покачнулся? Ты когда-нибудь видел, чтобы он кого пальцем тронул?
— Не видел.
— И никто не видел. При такой-то силище!
Константин Иванович теперь только сел, заглядывая в хитрое круглое лицо друга.
— Чё ты темнишь-то? Жена, что ли, позвонила? Леньку встретила? Чё, он, буянит дома?
— Ага, буянит! Если бы… Он тебя пошел встречать. Гляди, у нарядной маячит…
Константин Иванович подошел к окну и поглядел.
— Не вижу… Ты его будешь агитировать к себе?
Селезнев встал и пробурчал:
— Подумаем.
Весь вид у него был какой-то — не поймешь, что хотел сказать этим своим вызовом. Позже Константин Иванович понял: уже тогда Колька Селезнев знал об убийстве. Знал и ничего не сказал. Обидно!
Константин Иванович, думая о встрече с сыном (ну пусть отчим, однако с трех лет воспитывал!), ловко перепрыгивал ступеньки. Почему-то вспомнил день рождения внучки. Он тогда прибежал к свату, выпили, обнимались, радовались. Наивно, однако, полагал, что ребенок объединит две семьи. Сват сказал Константину Ивановичу за столом: у жены твоей под рукой какие-то факты, будто Ириша чужого вам подсунет. Откуда она взяла все это?
Константин Иванович спрашивал ее потом, действительно, откуда такие сведения? Только головой качала.
— Тебе расскажи, так ты — как зверь! Накинешься… на нее!
Нет, он не зверь. Но состояние было отвратительное. Так и казалось: все смотрят и думают о нем и служившем теперь сыне с издевкой — не их ребенок! Ведь чужая внучка.
«Теперь, думалось, не моя забота. Он взрослый. Будут жить — ладно. Не будут — тоже их дело. Я вмешиваться не стану».
Если бы Ледик и сказал при встрече у нарядной: с ним только что разговаривал следователь, Константин Иванович все равно не смог бы представить, о ком говорит сын. Он был неузнаваем, этот сынок, которого отец не видел три года. Руку жал крепко, что-то бормотал, а вот дать обнять себя не позволил или не захотел. Это Константин Иванович хорошо потом проанализировал. Следователю же Константин Иванович наедине заявил:
— Бросьте ему шить дело! Я не верю, слышите! Не верю. Тут — совсем, наверное, другое.
«Что другое?» — «Этого сразу не понять»… — «Расскажите, подполковник был терпелив, — прикинем, подумаем»…
— Это вот так, сразу?
— Дело не терпит, если о чем-то догадываетесь.
— Только не Леня. Только не он.
Константин Иванович стоял на своем и когда вызвали к Сухонину, и когда пригласили в отдел горкома.
— Вы — коммунист, — сказали ему, — сопли не распускайте. Ваш пасынок это проделал. Познакомьтесь, как член партии, что прислали из части вашего пасынка, тогда не будете защищать!
Он читал все, что в бумагах написано. И сонно, — вызвали после смены, «покою и ночью не дают», — ни с чем не соглашался.
Ледик тогда отстранил его от двери и глухо произнес: «Это за мной».
Ну и что? Что это значит? Он?! Почему?! Если его уже предупредили была же первая встреча со Струевым — он так и сказал: «Это за мной».
— Что верно, то верно, — сказал ему подполковник, когда из горкома партии Константина Ивановича подвезли к нему. — Вы вправе так сказать… Пожалуйста, посидите, я освобожусь скоро…
И этим подполковник как-то успокоил. Такого не спешащего, в полночь работающего без роздыху, Константин Иванович и застал Струева. Всю ночь на столе у Струева при невообразимо громадном ворохе бумаг стучала видавшая виды машинка. Несколько раз Струев пользовался автомашиной, которая была одна на весь отдел. И начальник сочувственно всякий раз приказывал по телефону — выдать. Дисплеи, компьютеры, телефаксы… Чушь собачья! Пока это — голубая мечта. Струев, теперь вот прибыв на дребезжащей автомашине из морга, сидел и ждал кофе, который готовил Васильев. Константин Иванович пристроился поближе к окну.
Полковник Сухонин сегодня дежурил. Ноги Струева перешагивал, когда звонили и когда полковник тянулся к телефону. При этом не уставал наставлять Васильева: главное — не упустить мелочей, короче, организовать свой труд!.. И теперь, попивая кофе, полковник Сухонин сочувствовал Константину Ивановичу, изъявившему желание явиться к Струеву и показать или рассказать — все, что касается дела. Сейчас разберется подполковник и поговорит! — пообещал он гостю. — Мы понимаем, что вы, Константин Иванович, депутат Верховного Совета республики. Мы не хотим, чтобы ваше имя фигурировало. Но так тоже нельзя: «Нет, ничего пасынок сделать такого не мог!» Так же у нас с любым делом будет глухо.
Это полковник говорил вроде за Струева: тот, после нескольких слов в адрес гостя, уткнулся в бумаги и молчал.
— Кончай, Саня, бузить, — наконец, выговорил полковник Струеву. Прими опять человека. Ну чего ты сегодня не в духе? Наташка, что ли, дома не ночевала?
— Ей девятнадцать лет, — пробурчал Струев. — Она свое отбоялась. Пусть что хочет, то и делает.
— А вот это ты зря, Санек. — Полковник Сухонин называл своего подчиненного «Саньком» в исключительных случаях. Теперь случай представился. Тяжелое дело попало Струеву. Да еще эти незаконченные три дела, по которым управление уже давно теребят наверху.
— Видите, чем все кончается? Поехали, а «вора-то в законе» нетути… — Полковник легко и как-то плавно повернулся к Константину Ивановичу. — Теперь и с вашим пасынком осложнилось… Наверное, свои пырнули… Я имею в виду вашу невестку…
— Ни за что не пыряют, — поднял, наконец, голову от бумаг Струев.
— Нет, ты явно что-то скрываешь… Ну признайся? Все-таки Наташа? засмеялся приятно Сухонин, уже обращаясь к подчиненному.
У Струева дочь Наташа действительно в последнее время часто не ночует дома. Она ночует в аспирантском общежитии, где у ее жениха довольно приличная гостинка. Аспирант, говорят, талантлив. Ему прочат большое будущее. Ему бы, конечно, перебраться из своей аспирантской гостинки, но не ткнешься к подполковнику Струеву. У него «хрущевка» — тридцать два метра с совмещенным санузлом. Полковник ходил к нему в гости и даже поклялся костьми лечь, но квартиру на четверых (у Струева еще сынок-десятиклассник) выбить. Увы! По-прежнему Струев шагает после таких вот бдений в свою «хрущовку», где отдохнуть ему не дают дети со своей жизнью, давно уже взрослой жизнью. Как было хорошо, когда они были маленькими. Послушные, умненькие. И когда они делаются непокорными, всевластными!
Вопрос «ни за что не пыряют» повис в воздухе, так как полковника Сухонина вытребовали на его служебное место, он ушел, на ходу давая какие-то указания насчет последнего дела и все повторял, качая головой: «Ах, Саня, Саня! Поменьше бы ты в оппозицию лез! Выполнять-то последнее указание нам с тобой придется»…
— Последнее указание — закон! — повысил голос Струев. — И я не пойму потому… Что должен делать? Как?.. Ну чего вы смотрите на меня, Константин Иванович? Я же вас уже вызывал… Что еще?
7. МЕСТЬ ЗА МЕСТЬ
С первых дней здесь, в этом страшном аду, Ледик почувствовал себя не человеком.
— Вы все ничем мне не поможете, — сказал отчиму и матери. — Я тут пропаду. Вы не встречались с зэками, и я вам не желаю с ними встретиться.
Уже потом оттаял немного, и ему не раз приходило в голову: все, что видел за последнее время вокруг себя, все, что случилось с ним, — такого в свете не бывает, это неправда, это тяжелый сон, это вырванный откуда-то и чей-то кусок жизни.
Не совершил он никакого преступления. Как многие тут, с которыми он встречался. И что? Здесь ко всем — ненавистны. И к правым, и к виноватым. Он видел человека, который чудом не убил людей. Они живы. Но ему дали пятнадцать. Вел он себя нормально. Ел, оправлялся. Долго присматривался к Ледику и сказал:
— Пацан! Чего шугаешь от себя всех? Были бы у меня, скажем, старики. И мне до конца хватило бы счастья, чтобы — поближе к ним. Они со мной, а я с ними! И я бы… Я бы после каждой встречи с ними был месяц рад…
Когда-то Ледик читал разное про людей, попавших в тюрьму, и думал: ну и пусть сидят, раз сделали! Этого человека было жалко. И ему, единственному, он рассказывал, что же произошло там, в доме его жены, когда он вернулся за ней из детского садика, чтобы пойти вместе и забрать дочь Катю. Конечно, Ледик тогда, по дороге к Ирине, в тамошней пивной хорошо поддал. От обиды. Неужели за эти дни они с женой не сблизились? Ударил ее в припадке ревности, было. Если откровенно, Ледик же знал, кому она впервые… Одним словом, кто и во время его флотской службы к Ирине ходил. Ему писали… Ударил!.. Но до этого все шло к примирению. Катька же не виновата! У нее должен быть отец!
— Иркой звали? — Вернул Ледика к рассказу не убивший убийца: всхлипывал моряк, перестал исповедываться. — Хорошее имя. Я тоже когда-то хотел, чтобы мою женщину звали Ириной.
Вытирая большой грязной ладонью глаза, Ледик спросил:
— А за что все-таки тебе пятнадцать, плюс пять?
— Долго рассказывать.
— Расскажи… А я тебе… В другой раз. Теперь — не могу!
…Пятьдесят пять лет мужику. Того, кого хотел прикончить… Одним словом, тот шел всю жизнь неподалеку от его теперь покойных родителей. Тот гад и запихнул их в свое время на север — «раскулачил». Какое раскулачивание? Жили-то родители — как все. Самовар лишь, когда-то купленный дедом, и отличал. Самовар был большой, говорили серебряный. Этот самовар и нашли родители у того горлопана, вернувшись с выселок. Отец сказал:
— Отдай!
А тот, уже в начальстве ходивший, вызверился:
— Опять туда схотел?
И — загнал родителей вновь в мокрую и холодную тьмутаракань.
Сыночка своего родитель учил так: стену лбом не расшибешь. Чтобы лучше стало, — притихни. От нас откажись. Але его, сукиного сына, вздерни властью, которую получишь, выучившись.
И учился тот, кто сейчас получил пятнадцать плюс пять. Доучился до власти. Стал каким-то главным. Но и тот, кому месть вынашивал (батя на фронте в сорок четвертом полег, маманя померла своей смертью в тьмутаракани тремя годами позже), шел вгору. Жесток был. В войну председателем по броне оставался. Кнутом выгонял на поле стариков, детных баб. За что орден отхватил и депутатом стал. А уж перед самой акцией мести узнал этот, теперь тоже главный, звезду его враг получил. И оттянул месть.
Месть он продумал еще год назад. Взял командировку (что и подвело) в другую, совсем далекую область. Слетал туда. Ночью на чужой машине приехал в бывшее родное село отца и матери. Рука-то на гада не поднялась! Поднял тот шум на всю округу. Связали уж не молодца, а старца, осиротившего бесплодную жену…
— Они меня мордовали долго, чтобы я признался и согласился. Не на него, дескать, руку поднял — на сам колхозный строй, который выводил достойных людей к власти. А всех тех, кто лодырничал, этот строй, естественно, ставил на колени, заставляя силком работать. И твои родители, выходит, попали под эту статью.
— Меня тоже каждый день ставят на колени… Чтобы признался, вину на себя взял.
— По линии, значит, идешь.
— По какой еще линии?
— По той самой… Того председателя всегда тянули вгору по линии. По линии их указаний. Уж, наверно, придумали — вышку сунуть. Но пусть сами становятся к стенке! — ребром ладони рубанул по цементному полу. — Сижу как крот в своей норе. А папаня лежит в сырой земле за эту власть, которая вышками разбрасывается… Не смей соглашаться с ними!
— Катьку до слез жалко. Как она без отца будет?
…А девочка у Ледика — Катя — была крепенькой, черноглазой и черноволосой. Она его никогда не видела, и как ей о нем говорили взрослые, она его так и воспринимала. Бурного восторга они ей не влили, это она сама была такой восторженной. Они ее научили сверлить глазками чужих людей. Она внимательно его всего и сверлила глазками, иногда притрагиваясь внимательно ручкой то к ноге, то к руке, то к лицу, когда он становился на колени. Ручка ее была пухленькой, она то гладила его по щеке, то по плечу, а когда кто-то на нее из них, двоих взрослых, смотрел — ручка сразу отскакивала. Стеснялась? Или боялась?
Ледик испытывал сложные чувства. То хотелось ему Катьку поставить на пол, то приласкать. Скорее всего его удерживало положение, в котором очутился. Ведь не уйдешь отсюда вот так просто, оставив девочку, признавшую в тебе своего отца.
— Ты быв в командиовкэ?
— Да в какой я там был командировке? Я, видишь же, служил.
— Слузив?
— Да. — Ледик подтолкнул ногой свой чемодан, нагнулся вместе с ней к нему и стал открывать. Открывать замок одной рукой было неловко, ручка покоилась в большой его правой руке, и он открывал замок левой рукой.
— Ты дерзы от так, — показала Катя на чемодан и тут же нагнулась к чемодану и одной, свободной своей рукой стала поворачивать его к нему. Ух, ух, какой он каплизный… Попай ключиком?
— Не попал.
— Не тоопись, — серьезно посоветовала она. — А то поокутишь мимо и не попадешь. Видишь, у нас есть бойшой чемодан, он поокучивается и без толку.
— Справимся, — пообещал Ледик.
— Деушка тоже спявьяется. Он ловкенько щелкнет, и вся капуста…
— А мы тоже щелкнем.
Невольно при новом движении попытался вынуть ручку из своей руки, но замерла, напряглась, и он почувствовал, как Катя испугалась.
Почему он остался на эти дни у жены? Да, видимо, вот и поэтому. Приехав, он еще не понимал — до встречи с этой девочкой — что у него отняли ответственность за эту маленькую жизнь. Не они — мать и отец этой хрупкой девочки, решали судьбу — и свою, и ее, — решали за них, решало большое государство. Все знающее, все понимающее. Обросшее великими лозунгами защиты Отечества. Но многого не предусмотревшего, когда речь идет о конкретном защитнике.
Слишком сложным оказалось потом все уладить. Все каялись, все плакали. И особенно убивался отец Ирины. «Как же я мог это все оставить так! Старое я решето!» Между прочим, об отце Ирины Ледик рассказал потом Струеву. Вдруг тесть явился непрошенно. Ледик в тот час выбирал из чемодана подарки. Конечно, он купил кое-что и для Ирины, и для Кати. Был уверен, что зайдет. Тесть оглядел Ледика, тот смущенно встал с колен стоял же у чемодана. Ирина встала решительно между отцом и Ледиком: что-то уж слишком долго разглядывали они друг друга. Неуступчивы были!
— Дед, — сказала Катя, как бы выводя всех из оцепенения, — цто же ты так стоис? Виишь, как у нас появился гость? Ты цто, озабыл моего папу? Это же мой папа!
Ледик вновь нагнулся к чемодану, закрыл его, приподнял зачем-то. Он поискал глазами, куда положил свою бескозырку. Катя, оказывается, прикрыла ее полотенцем — чтобы случайно не замаралась. Ледик медленно надел бескозырку, взял в руки чемодан.
— Мама, — прошептала Катя, — он зе уйдет!
— Ты погоди, — сказал отец Ирины. — Ну чего ты сразу лезешь на дыбы! И ты тоже… — Посмотрел в сторону дочери. — Выходит, вроде я ваш враг?
— Не враг ты, отец. Пока — лишний… Дай нам самим разобраться…
После того, как он рассказал обо всем этом — ну почему остался в доме жены и почему не ушел оттуда (как же, если Ирина так сказала? ведь она тоже имеет права на меня!), Струев спросил:
— А дневник Ирина когда-нибудь вам показывала свой?
— Дневник? Какой дневник?
Нет, он не знал о ее дневнике.
Он знал другое. Знал ее кокетство, слезы. Не знал, почему — у двери… Не знал, как доказать, что он не убийца… Они докажут. По линии. Идиологической, политической. Он знал настоящую любовь — секс. Этому его научила контр-адмиральша. Он связался с ее племянницей — Верой, которая приехала в дальний гарнизон на летние каникулы… Вера потом вышла замуж за сорокалетнего лысого старшего офицера. Назло Ледику. Он же говорил ей все время, что с женой — пошло к концу. А потом вдруг сказал, что об Ирине думает все время. И чем ближе к концу демобилизации, тем чаще дышится.
Вера, Вера… Когда он зашел в дом жены, подумал: «Неужели из той Ирки вышла такая классная баба?» Идет по улице — конечно, мужики оглядываются. У нее были теперь большие карие глаза, щеки с ямочками. Вся она — в меру. Вся она, — как бы прикидывал по-своему Ледик, — в меру полненькая, в меру худая. Но — изящная. Вся хороша, ослепительна. Хотя… голос глухой, кричит почему-то громко… Курит? Пьет? Кашляет так грубо. Отчего?
Выходит, Катька могла подглядеть, что они делают у самого порога… Видишь, у нее ни стыда, ни совести. Она так привыкла, это ее кайф. А после, когда дед пришел и увел Катьку в детский садик, она, наскоро поев, кинулась к постели. Ирина тут же заговорила о Маркесе. «Ты читал что-нибудь из него? — Она скоро раздевалась. — У него есть эпизод великолепного секса. — И смутилась: Ледик молчал. — Когда племянник и тетя спрятались в доме на несколько дней и только этим занимались… Ну, пожалуйста, иди ко мне быстрей!»
— Это у них там, — засмеялся он, наконец. — Мы попроще в этом.
Ледик уже показал себя неутомимым, и она им гордилась. Если бы, сказала она потом, хихикая, — наши писаки подмечали правду такой вот жизни сексуальной, они нашли бы кое-что похлеще Маркеса…
Он, притомившись, мирно предположил: когда его смена совпадет с его утренним уходом на работу, — идти надо вместе. И ездить в выходной день купаться, тоже будут вместе. И станут ловить рыбу тоже вместе. И пусть она радует этих мужиков формами. У них же никогда такой женщины не было и не будет. Только на модных картинках такие.
— Я лучше их. Они же худые.
— Ты тогда сказала на Ленку: она же худая, как из Освенцима.
— Ты ведь тоже с ней крутил. Так я тебе истерики не закатываю.
— Это все другой вопрос. Мы были одногодки. А ты и он…
— Ты всю жизнь будешь об этом долдонить?
— Ладно, у них же никогда такой женщины не было и не будет! засмеялся он.
…Он думал, отдыхая в чистой постели: у них будет хорошая библиотека, они станут по вечерам много читать. Самодеятельность? Дудки. Он не пойдет больше танцевать. Это на флоте. Чтобы увильнуть от службы. А тут дураков нет. А если приедет эта контр-адмиральша — она грозилась проездом на курорт заехать — ну что же, у Ирины — этот… Он раздельно, по слогам сказал:
— Е-го на-до у-б-бить!
— Итак, она заплакала, когда вы ее ударили?
— Да, она заплакала.
— Вы почувствовали, что обидели ее?
— Нет, я почувствовал, что это ее оружие. Она вычитала где-то из книг об этом. И она сказала… Она блондинка. А плач украшает блондинок.
— А контр-адмиральша была блондинка? Или брюнетка? — Струев поднимает тяжелую голову медленно.
Вся ненависть к нему, мужчине, ударившего женщину, обрушилась на Ледика.
— Смирно! — заорал. — Ни равнения направо, ни равнения налево!.. Чего же ты, жлобина, за горло ее, Ирину, хватал, когда пришел тесть и поперек шерсти тебя погладил?
Ледик тихо, после долгого молчания, спросил:
— Зачем вы о той женщине? Ну, контр-адмиральше… Какое она имеет значение в этом деле?
Ледик насупился, лоб его стал кретинообразный — какой-то узкий, потому что глаза осатанели. Зеленые, как у кошки. Мигают быстро.
— Мне не ясно… Какая причина была… когда покойная упрекнула вас за нее… Бросаться в драку? Значит, она вам тоже не безразлична?
— Что, ваши подследственные никогда не кидались на женщину без причины? Только потому, что она живет, существует? Как это называется? Мизогинист. Презираю, ненавижу, осуждаю, отрицаю! Мизогинист — мой отец.
— Ваш неродной отец?
— Мой отец.
— И что, выходит, ваш отец — мизогинист?
— Да. Маму он всегда и во всем поучал, хотя страшно отставал от нее. Я удивлялся: у кого это я кое-чему научился? Если уж говорить, то и Вера, раз вы знаете об этом, и контр-адмиральша не были со мной счастливы. И Ирина не была бы счастлива. Она бы страдала от бесконечных упреков, как страдала моя мать. Мать всегда хотела идти выше… Нет, она не грудью открывала кабинеты. Она умна, но пила ежедневно яд. Она боялась во второй раз разойтись… Я научился кричать. И я — нет — не ударил. Я только взял покойную за воротник кофточки, мы стояли у двери, провожали тестя. У меня был повод, поверьте.
— Вы ушли в армию в двадцать два года?
— Там же все написано.
— Мама доставала справку?
— Почему? Я поступал в институт. И сдал экзамены.
— А учиться не пошли?
— И это вы знаете. Я пошел работать туда, где работает отец. Меня тянуло туда. Я хотел доказать, что осилю. Не только отец может так тяжело работать. Я никогда не упрекал, что кто-то работает на легких работах.
— Вы имеете в виду мать?
— Да.
— Выходит, отец ее всегда упрекал?
— Но это же, наверное, для вас ничего не значит… Ну, какое в самом деле… Ну зачем вы так?
— Кто рассказал вам об отце? — спросил его на последнем допросе Струев.
— Плохое? Или хорошее? Как он поднимал шахту? Или — как ходил по девкам? Здесь, в кабинете, вы не сможете мне ответить. Но разве я глухой? Разве я не узнал бы? Разве я не узнал бы, что отец и к моей жене приходил?
— Вы бросились на нее… и за это?
— Не знаю. Мне было противно говорить с ней, если к ней ходили мужики. Причем мужики, которые состоят со мной в родстве. Потому при встрече мне не хотелось обнять его. Я, я…
— А если это сплетни?
— Не знаю. Только не заостряйте, что я бросился на нее. Я ухватился за кофточку… Если вы взялись за меня как за убийцу, я вам тут не пригожусь. Вы не потому пути идете.
— А почему Вера все-таки написала так зло о вас?
— Она мне грозила, что напишет в «Комсомольскую правду». Я, по ее мнению, развратный человек… Но разве вы не служили в дальнем гарнизоне? Я видел до этого женщин. Я жил с женой почти полгода. Мне было смешно глядеть на пацанов, которые хвастались связями с женщинами, а сами были сопляки. У меня рост метр восемьдесят восемь… Я освоил все фигуры в танцах, которые не осваивают даже полутораметровые шибздики… Мне говорили: «Какой красивый парень!» Вы знаете, что значит танцевать в паре с женами моряков, которые в длительной командировке? Скажем, где-то в темных водах Северного Ледовитого океана или Антарктики? Женщины!.. Вы даже не представляете, что это такое — женщины дальнего запущенного гарнизона! Морячки, вечно ждущие…
— Ваша жена тоже ждала три года.
— Она не ждала. Три года не ждала. На второй год она считала себя свободной, потому что я об этом ей написал.
— Вы оповестили ее после того, как вам написала мать?
— Вы имеете в виду — этот лесок, катание на велосипеде? Так? Ведь у вас должно быть все под рукой? Это так…
При первом свидании с сыном она сказала:
— Если бы я знала, что так получится… Я бы никогда не написала тебе то письмо. И я, может, разошлась бы. Разошлась ради тебя.
— Нет, не в этом дело. Развести… Развести нынче совсем пустяк. Наша жизнь только всех и разводит. Ты посмотри… Скажем, у вас были прекрасные соседи. Но стоило поставить спаренный телефон, — вы перестали разговаривать друг с другом. Стоило подрасти их сыну и жениться, — они перестали разговаривать и с ним, и с невесткой. Только потому, что надо делить квартиру… Потому ты не права! Мы бы и так разбежались.
Он был бледен, не брит. Отмахнулся, когда сказала: «Ты бы побрился!» Ему все было вроде безразлично. Она, однако, чувствовала: он живет в себе, она не достучится к нему в душу. Он не пускает никого туда. Он занят собой, он вынашивает что-то. Она же его знала хорошо!
У нее теперь не было никого, кроме него. После того, как ее муж стал ходить к той молодой стерве, она потеряла его, она жила теперь по-своему, худо, по инерции. Она ждала приезда сына. Оказалось, он никого не подпускает к себе, не подпускает и ее.
«Разошлась бы ради тебя…» Искренне ли она говорила, если только и думала о себе, если только и думала, как отомстить мужу очередным своим увлечением.
И сейчас, после свидания с сыном, она шла, отыскивая себе прощения.
Она подошла к поликлинике. Ее поджидал Соболев. Они вошли в притихшее здание. Приема уже, конечно, не было.
— Зайдем туда, — кивнул он, и она поняла, куда ее зовут.
Они пошли в подвал, где недавно лежала еще Ирина. У дверей он остановился и пропустил ее.
— Здесь она лежала?
— Здесь.
— Ты что-то рассказывала о нас следователю?
— Нет.
— Хорошо. Я тебе скажу об одном… Если ты думаешь, что я что-то сделал… Хотя… Я только тебе могу рассказать. В тот вечер я заглянул в окно… По-моему, где-то рядом был твой муж. Это так… И он может сказать, что видел меня. Он стоял поодаль. А я заглянул к ней в окно… Там было несколько человек…
— Был ли мой сын среди них?
— Нет. Там его не было. Они стояли вокруг стола. Они были, ты прости, в чем мать родила. Я не видел всего, потому что понял, что сюда идет и твой муж. А позже подошел и сын. Что потом было — я не знаю…
— Это ты виноват, Саша. Ты. Ты ее развратил…
— Я ее сделал женщиной.
— Но ты и меня сделал женщиной. Я стала гулять только после тебя. Меня уже тянуло к другим мужчинам.
— Я не виноват.
— Ты делал и с ней, как со мной? Сразу приходил и делал?
— Зачем ты спрашиваешь? Ты же, к примеру, сама просила, чтобы я так делал… Просила и она… Она же моложе тебя, она… Нет, как же так? Почему я тогда ушел? От них всех! Почему не остался и не следил за ними?
Он заплакал.
— Тебе не показалось, что все это делается насильно? — Жестко оборвала его.
— В том-то и дело! И я не прощу себе этого. А вдруг это так и было?.. Как я сплоховал!
— Ты заметил, кто с ней был?
— Можно было заметить? С одной стороны — твой муж следит за мной… Он всегда глядел из-за кустов… Я знаю, что… Я знаю в общем, что это были совершенно чужие люди…
— Не наши? Не поселковые?
— Конечно, нет. Это были, по-моему, с рынка… Черные…
— И ты молчал, когда тебя подполковник спрашивал?
— Мне надо было еще рассказать и о тебе, и обо всем… Ты представляешь, к чему все это приведет?
— Но он мой сын!
— Я знаю, его отпустят. Но вообще… При чем тут он? Мы в опасности с тобой. Ты пойми… Ты — крупный работник… А я хотя и потерял шахту, у меня шанс взлететь теперь… Все идет — как надо.
— Саша, почему мы должны все это скрывать ради чего-то такого, что не осуществимо?
— Дура! Мы должны в конце концов быть вместе. И никто нам в этом не помешает…
Соболев опустился на каменный пол и снова заплакал. Он что-то бормотал, и она понимала его — он плачет об Ирине. О ее молодости. Он потерял молодую красивую женщину, которая удовлетворяла его похоти. Она это только теперь поняла. Он при ней плачет о другой, убитой. Да, он не мог ее убить, раз так плачет. Видно, он в самом деле ее любил. И пришел сюда, чтобы поплакаться. Но разве он не понимает, что она — тоже женщина?
Странное чувство ревности охватило ее, и если бы он теперь подошел к ней, она бы согласилась на все. И он к ней подошел… И здесь, в этом пыльном подвале, она выполняла все его мужские приказы…
После всего, что случилось, они вышли поодиночке, направляясь в сторону шахты. Потом зашли в кафе и выпили вина. Ей очень хотелось вина.
8. ДОЧЬ УБИЙЦЫ?
Утром следующего дня Катю привела уже теща. Она сказала, что в садике карантин и, как они хотят, так пусть и поступают: старики тоже имеют какие-то планы — нужно оставить ребенка, следовало предупредить.
Катя удивленно разглядывала их: они — дядя и ее мать — спали вместе? Она потребовала, чтобы они «быйстренько» вставали, умывались, чистили зубки, потому что баушка дома не «приготовила зайтрак».
— Отвернись, — попросил Катю Ледик.
— Ой, да вставай так, — сказала сонно Ирина — они так и лежали в постели, пока ее мать разъясняла из другой комнаты насчет карантина в детском садике. — Ты вообще поменьше с ней церемонься, сядет на голову.
— Мама, непьявда! — Катя подошла и погрозила матери пальчиком. От девочки пахло цветочным мылом, в ее черных волосах красовался синий бант. — Ницево яй не сяйду!
— Ну, беги отсюда, коза! — откинула одеяло Ирина. — Я-то тебя знаю! Это ты деда и бабу можешь обманывать, а меня не проведешь!
Ирина схватила Катю, прижала ее к себе и стала целовать. Та запищала:
— Мама, мама! Азви ты ни идишь бант?
Она стала тыкать ручкой в свою головку.
— Ах, ах, ах! У нас — бант. Славно… Кто завязал? Дед? Или баба?
— Мама, какая азница? Хооший, а? Пояди, пояди, дядя и ты! Оохий!
— Как ты сказала? Дядя? Это кто тебя уже научил? Это твой папа!
— Ты же недайно называла дгуоо папу — папой! У тебя дугой папа…
Ледик не скрывал и перед Васильевым после первого допроса: он опять ударил тогда Ирину. Его удар пришелся в плечо, она упала на кровать и, кажется, разбила локоть. И, естественно, заплакала.
— Понимаю, — сказала она ему. — Может ты и прав.
Он промолчал.
— Это ты можешь сделать еще раз. Мать уже ушла. Я действительно заслужила. Но тогда, зачем ты пришел?
Одевшись, он не стал завтракать, а сразу направился к шахте. Он хотел найти отца, но ему сказали, что отец спустился под землю.
— А что ты хотел? — спросил его парень, назвавший себя бригадиром. К отцу проситься?
— Да.
— Да иди ко мне.
— А сколько станешь платить?
— Надо прикинуть, посоветоваться.
— С кем?
— С бригадой, естественно. Сам я такие вещи не решаю.
— Правильно, — почему-то согласился Ледик.
— Слушай, парень. Но отец говорил, что ты уедешь в город, будешь учиться… Что, деньги понадобились?
— А ты святым духом питаешься?
— Значит, с семьей будешь жить? Или с отцом и матерью?
— А ты откуда про меня знаешь?
— Ты что, забыл меня? Я — Дмитриев. Тебя знаю вот с таких лет. — И показал рукой на свой пояс.
Бригадир Василий Дмитриев рассказывал потом следователю: Ледик поболтался около нарядной приличное время, а потом, ближе к обеду, исчез (в протоколе было записано): пошел вместе с какимто своим новым знакомым пить пиво.
Через три допроса уже Ледик вспомнил с кем он ходил и с кем пил пиво. Фамилия его — Прошин. «А-а, Прошин!» — скривился тогда Васильев. Антон Прошин. Ханыга, врун, побирушка. Вынет свои три рубля из кармана — ты добавляй! Как уж потом умудряется заначить свой трояк, на следующий раз, догадайся. Прошин из своих прожитых тридцати трех отбухал четырнадцать лет в местах отдаленных по разным статьям. Он и возразил, когда Ледик заявил: «Хватит, поболтался, разводиться не хочу», что его, Ледика, бабу тягал тут один…
— Тягал, учти, как хотел. Она у тебя солнышко. Светит одному, а другого не греет. Сука буду, я видал баб многих, за это били… Но к ней бы… И ползком, и по-пластунски. Хотя бы ножку поцеловать. Обожаю подобных!
Ледик подумал наперед: на сдачу техминимума уйдет неделя — не меньше, но он почему-то трахнул Прошина по голове кулаком, и они покатились по улице и лупили друг друга крепко, пока не надоело драться. Прошин сказал после:
— А что? Ты разве не знал?.. Но есть наш вариант. Айда к нему… Я тебе его покажу. Хай, падла, ставит за все. А если нет — убьем, скотину!
— За кого ты меня принимаешь?
— За кого, за кого!.. Она терлась с ним — пусть расплачивается. Он богатый. А у нас, видишь, сколько всего… На двоих… Пустенько!
Ледик тогда подумал: ему же должны сократить срок прохождения техминимума. Он ведь до армии вкалывал. За короткое время можно найти себе квартиру.
Он решил не возвращаться к Ирине. Даже Катька, и та станет напоминать каждый божий день, как приходили сюда разные. Теперь ему еще неприятнее было думать о том, как Ирина просила сразу там, у порога. Интересно, пикантно! — выворачивало его зло. — Сразу новенький — и у порога!.. Сука, правда! Этот гад прав! Кто ее?.. Кто он? Проходная пешка? Конечно, заходил… А она — у порога. Может, с ним по-другому. И с теми, новенькими, тоже у порога! Если бы он, Ледик, спросил ее — зачем? Может, она ему бабахнула бы — зачем. Так интереснее.
— Слушай, ты какой-то святой! — стал скулить Прошин. — Ты думаешь, что на такую бабу можно одеть какой-нибудь панцирь?.. Да хоть гранату привесь, мужик на такую попрет… И батя твой… Не родной, правда… Там иногда караулил…
— И батя?! Ну, знаешь!
Прошин стал на колени и перекрестился:
— Во-о! Пойдем, говорю, к тому ханурику! Я из него ром и коньяк выбью. Не то, что на пиво.
Но Ледик не пошел к тому… Прошин не называл фамилии Того. Темнил…
Ледик потерял по дороге Прошина. Вернулся в мерзком расположении духа и сам на себя, юродствуя, повесил табличку: «Убийца». Ирина ему сказала на это, видно, не простив утреннего удара в плечо:
— Я боюсь тебя… Ты в самом деле убивал в своей этой армии? Или своих ребят, или когда вас выводили, чтобы вы порядок навели?..
Он не понимал, о чем она говорит, о чем спрашивает. Он видел только ее испуганное лицо. И это его взбесило: значит, она боится, потому что виновата.
— Ты одна? — крикнул он.
— Одна.
— А где твоя дочь?
— Ее увели к деду.
Он стоял у порога и сказал ей:
— Иди сюда! Слышишь? Иди к порогу…
Он остервенело потом срывал с нее белье и кричал:
— Это не я, это тот… Тот… Тот!..
Она вздрагивала, плакала, и это злило его, злило с каждым движением сильнее и сильнее.
— У меня тоже была… Была! Ты слышишь? У нее был муж импотент. Сорокалетний импотент… Подводник, понимаешь…
— Да, да…
— Понимаешь, как она меня любила? Понимаешь? Только в отличие от тебя держал себя! Не хватало, чтобы я ложился сразу с ними… С племянницей импотента, и с его женой… Я держал себя в руках! А этот… Этот твой… тут роскошествовал один… Ты показывала ему класс! У порога начинал! Поганец! А тебе — кайф! Ты думаешь, я не понимаю, какая ты? И что делала с ним без меня?
Ирина быстро убрала со стола, коврик они «пожевали» ногами. Ирина медленно застегивала лифчик, и он сидел не пьяный — чего там это пиво? Для такого мужика?
— Какой ты мощный мужчина! — говорила радостно Ирина. — Никогда бы не подумала, что из тебя вырастет такой мужик. Все простить за это можно!
— Получше других?
— Зачем ты все напоминаешь? Давай забудем? Давай простим друг другу? Сколько у тебя было?
— Это у меня.
— Я не знала, что ты мой муж. Мы же договорились о разводе… А был в основном один.
— Он был лучше меня?
— Не… знаю… Не могу врать…
— Убирай все побыстрей. Пошли в постель.
— Ну ты даешь! — удивленно пожала она плечами. — Ты что? Половой гигант?
— Вроде этого, — ухмыльнулся он и потащил ее к порогу.
Шахта была уже рядом. Эта вечная шахта. Для нее, Светланы Григорьевны, — кормилица. Она воспитывалась с детских лет в любви к ней. Вон наверху теперь вагонетка, стукнулась, перекувыркнулась, зашуршала порода, скатывающаяся вниз. И жизнь так же разбита и катится вниз. Шахта кормила их всех, одевала и обувала. И чувство любви к ней не уходило, а крепло. Был посредине ее, этой шахты, поначалу отец, потом муж.
Смешно, муж вскоре заслонил все собой. Заслонил как-то враз. И лишь потому, что тоже был с шахтой. Пахал. Не якшался с начальством, но вдруг стали избирать депутатом. Сперва в местный Совет, потом — в городской, вскоре в областной. Черноглазый высокий парень не красовался перед ней он забрал ее всю. И она его долго любила и всегда во всем ему верила. Она закончила медучилище, потом осилила институт. Вера в него не нарушалась после ее неожиданного выдвижения по работе. Лишь мелькнула мысль и подумалось: к своим годам и он мог бы выучиться, тогда пошло бы веселей. Чего все на карачках ползать? Есть люди, всегда чистенькие. Он поначалу в техникуме учился, потом забросил, бегал посменно, разрывая иногда путы распределительно ясной для себя жизни. Ей однажды показалась эта жизнь другой, увиделась обделенность.
Соболев, начальник шахты, пришел однажды вечером, когда муж был на смене. И она приняла его, истосковавшись по доброму слову, по «чистеньким рукам» и чистому лицу. Он, Соболев, понял это, говорил горячо о том, как уже давно любит ее, как страдает. Как она дивна! Никто не говорил давно так ей. Даже тот, случайный, в Ессентуках, не говорил, что любит, когда они после ресторана зашли к нему в отдельный номер, прекрасно обставленный — он был в санатории, оказывается, основной, то есть по положенной путевке. Соболев был везде основной — в президиумах, на похоронах, на митингах. Большой, крупный, тоже истосковавшийся. И она горячо признавалась: тоже любит его, давно заочно любит. Даже представляла, что с ним была…
Соболев торопливо защелкнул дверь на щеколду…
«Почему? — зашептала она ему. — Здесь? Сразу?»
Он кивал ей головой, и она почувствовала, как он тоже исстрадался. Она никогда в жизни не ощущала такого наполнения, ее распирала радость… Он был остроумен в извращении, сознался потом, посмеиваясь: начитался специальных зарубежных книг…
И во второй раз, когда зашел к ней, опять же зная, что ее муж уже опустился в лаву и дает стране уголек, тоже умел подойти. Она ожидала, что все то, что было, повторит. И он заторопился, повторил. И это было ново, непознано…
Следователь, оказывается знал об этом. Он ее, Светлану Григорьевну, допрашивал теперь не так осторожно. Струев пришел в тот час, когда из ее дома зачем-то выносили диван. После того, как он грохнулся о стенку двумя ножками, они его — втроем (три мужика) вынесли на улицу, словно покойника. И внесли новый диван. Светлана Григорьевна давно его присмотрела договорилась с заведующим мебельного магазина.
Никогда не ожидаешь, что и зачем последует. Думалось, что в доме будут добрые хлопоты, так нужные в эти дни, их смутные дни (кажется, у них все расползалось с мужем, он открыто иногда стал ходить к любовнице).
Когда-то, женившись на ней, он долгое время любил ее. Неосторожность в отношениях с мужчинами, иногда легкий флирт, иногда безобидное кокетство, привели его к тому, что замкнулся, стал угрюмо на все глядеть. Ему теперь казалось, что она врет во всем: в движениях, в словах. В постели особенно это чувствовал. Ему часто хотелось спросить ее: ну, с кем ты в этот раз?..
Он ждал одного, когда она поползла по служебным ступенькам, — уйдет от него, или кто-то придет в дом и скажет ему: куда ты смотришь? Ты же не последний алкаш, чтобы тебе почти на глазах изменять? Она же открыто гуляет…
Сорокалетняя женщина. До призыва в армию Ледика — еще прекрасная, еще миловидная, с замечательной прической. Уж эта ее неповторимая прическа. Сделать тугой узел сзади, пришпилить его. Голова делается благородней. Вся красота сразу бросается в глаза… Она сделала прическу и перед приездом Ледика. Она сделала прическу и когда пошла к нему на свидание в тюрьму. У нее были влажные карие глаза. Она подкрасила их, даже идя к Струеву. В меру полная, в белых босоножках, в платье сафари песочного цвета… Жизнь была нелегкой всегда. Но сохранилась. Пугалась порой и стучала по некрашенному дереву: «Тьфу, тьфу! Ничего… Пусть он не взял по службе. Я же взяла!.. Зато он депутат!»
— Я всегда знала, что этим кончится!
Светлана Григорьевна сидела напротив Струева и плакала. В дневнике пишется, как эта женщина учила в свое время невестку пользоваться слезами. Теперь она плакала сама и плакала искренне.
— Что же будет с моим сыном!..
У нее было крупное лицо, у брюнеток при плаче выступают красные пятна на лице. То ли дело у ее умершей невестки. Ей плакать можно было, ни один мужчина не мог отвернуться. Теперь хотелось отвернуться. Таким не советуют плакать.
— Скажите, неужели он убил ее? Я этому никогда не поверю… А если поверю, то армия, армия… Я всегда защищала армию. Теперь я поняла, что он приехал совсем другим человеком… Там ему приходилось все делать.
— Да, — тихо ответил подполковник. — Все может быть. Учиться у вас, признаться, страшновато.
Она пожала плечами.
— Дайте хотя бы дневник… Может, вы из него вычитали обо мне? Есть там обо мне лично?
— Там все о вас, — резко сказал подполковник.
Из дневника Ирины, приобщенного к делу.
«2.02.90 года.
У меня нет иного выхода, кроме как терпеть. Терпеть, терпеть, терпеть… Моя свобода была для меня всегда тяжким испытанием. Я испытываю страх. Ничего, кроме свободы! Это же ужасно! Это плохо. Свободу понимают все по-своему. Я ее понимаю так, как понимает желающий свободной чувственности. Об этом твердит С., при этом загадочно и призывно посмеиваясь… «У меня есть рядом примеры этой свободы» — он намекает на мою свекровь.
7.07.90 года.
Нас всегда учили в этом самом… как говорит С., «в трепетном и сладком», не тому, чему надо было бы учить. Нас учили в школе одному, а мы после уроков говорили с девчонками совсем о другом и по-другому. Недавно, вдруг за столом (мы были с матерью Ледика вдвоем), мы заговорили о сущности любви. Она сразу привела примеры чувственной любви (ну когда имеешь связь с другим человеком). Она возводила все в степень, подчеркивала, что это красочно и аппетитно. И потому я с ней уже не стеснялась рассуждать о том, что это ведь не только, когда после всего такого хорошо и не бесишься в желании (как теперь определяют: желание разрядки сексуального напряжения или биологическая сторона). Моя собеседница теперь толковала о желании… Она мне впервые умно доказала, что же такое счастье, когда мужчина настоящий и твое желание, как встречные поезда, пойдут рядом, а потом остановятся и соединятся… А С. потом сказал, что моя собеседница умеет соединять поезда. Это искусство.
Без даты.
Я поняла, что любовь мужчины и женщины — это, с моей стороны, — все отдать ему, чем я жила до него, мечтая о чем-то сверх необъяснимом, но вдруг понятым, когда поезда идут рядом, а потом соединяются. Я не понимала, что это все без нас рождается. Хочешь ты этого или не хочешь. И мораль «не смей распускать себя» — ханжество. Все остережения — обман. Жизнь не такая и длинная. Просто до этого можно проспать, думаешь, что все живут так, как заведено. А в самом деле, есть в этом отношении счастливые, а есть — «так и не повезло»… А чаще — никому ты не нужна… В доме рядом в неуюте живут три женщины — мать, которую бросил муж, и две дочери. Одна больная — слоновая болезнь, что ли… А другая… Мне сосед говорил: страсти — бездна. «Она кусалась!» И что? К ней придти нельзя: мать и эта слоновая болезнь. Бросилась учиться: техникум, институт, а потом психбольница… Нет, я так не хочу. «Открываю краны!»
Без даты.
Я, обожая, удивляюсь. Пусть у него другой мир, пусть мы разные. Шевелюра седеющих волос. Пусть. Но хорошо! И хорошо, что первый сон! Он развивает любовь по своему сценарию, и я иду за ним, и мне прекрасно… Хочу ли я еще кого-либо? Не скажу. Но, наверное, хочу. Страстно хочу… Он сделал из меня Женщину! Разве это плохо? Мать скрипит на меня. Но она, по-моему, так и осталась фригидкой. Навек».
8.08.90 года.
Нет, нет! Нет же! Радостное изумление! Как в детстве. Идешь, и вдруг солнце выходит. Он неповторим. Выдумщик. Идешь после этого — и иней, и лес темный вдали, и небо синее, и все вокруг поет, и птицы поют в небе, и как трава после инея отходит — будто это все в тебе, и остается только радоваться… Может ли он быть еще и еще другим? Может. Он — когда много и хорошо. Это так волнует… Понимает ли меня в этом? Беспокоится ли о моем хорошем самочувствии после этого и новом желании? И кто он мне? Просто партнер? Развратитель?..»
Нет, дневника Ирины Светлана Григорьевна не читала. Подозревает ли она кого-нибудь в убийстве, если, как утверждает, сын ее не убивал? Не подозревает?
— Три года… Неужели никто не понимает, что значат эти три года? сказала она под конец допроса, устало поправляя прическу.
9. НОЧНЫЕ ЗВОНКИ
В половине четвертого ночи я вздрогнул от телефонного звонка. Давно собираюсь прикрутить что-то там внутри, чтобы так вот оглушительно не звонило… Вы знаете, я сразу догадался, кто звонит.
— Алло, — это был ее голос, — вы меня слышите? Я вас поздравляю! Он убит.
— Соболев? — воскликнул я. Сон как рукой сняло.
— Откуда вы догадались? — тихо опешила она.
— Ну говорите, он? Соболев?
— Да. Причем убит самым жестоким образом. — Ее голос был ровным, ни капельки волнения. — Представляете, ни у Гомера, ни у Фукидита, ни у Ксенофонта, ни у Плутарха, ни у Тита Ливия, ни у Апулея таких убийств не описывается. Может возьметесь вы?
— Слушайте, вы же циничны. Человека убили… Самым жестоким образом. И никто иной, как вы, кричали: не пишите!
— Да, его тоже опустили туда же, в клоаку… Но все-таки, как вы догадались, что это Соболев? — Тот же ровный голос.
— Боже, а говорите: вам подвластно все! Вы разве не читали дневник убитой?
— Светланы или Ирины?
И она почему-то бросила трубку. Я ее чем-то разозлил.
Вновь она позвонила ровно через час. Я уже собирался в дорогу. Я хотел все это видеть. Зачем? Из простого любопытства? Или специально поглядеть на Соболева (этого С. в дневнике Ирины). Кто убил его? Должны же эти люди — полковник, подполковник, старший лейтенант — поймать, наконец, убийцу.
— Вы слышите меня? В этот раз не догадаетесь. Кого убили у нас теперь?
Я зло ответил:
— Убили старушку. Бедную старушку.
— Гениально! — воскликнули в ответ. — Это действительно так!.. Но откуда у вас эти сведения? Вам уже позвонили?
— Никто мне не звонил.
— Тогда, ради Бога, скажите, как вы догадались?
— А вы скажите мне, кто вы? И почему вы тогда держали и меня, и себя в темноте? И как вам удалось сделать это в солнечный светлый день?
— Неправда. Тогда было пасмурно.
— Вы не здешняя? Залетная?
— Ха-ха-ха! — Ее звонкий переливистый смех стал похож на звон колокольчиков. Такие колокольчики рыбаки подвешивают к спиннингам, и звон этот при клеве изумителен. — Вы шутите? Кто это вам на меня наговорил?
— Вы сами. Каждым своим поступком вы вселяете в меня что-то потустороннее… Все-таки, почему бы вам тогда не показать себя?
— Вот что, вы это бросьте! Можно чуточку пошутить и — хватит… Я другая. Я должна быть. Как и вы. Все по законам природы… Я не знаю, какая я, если говорить откровенно. Видимо, вы заметили… То я хочу, чтобы вы шли и посмотрели убитую, то не хочу, чтобы вы писали об этом убийстве…
— То вытравливаете каким-то зельем мою писанину, то мелькаете, как тень, в коридоре…
— Да, да… Я осторожна. Я боюсь всего теперь. Я была так откровенна и доверчива… И, видите, чуть не вылетела с работы. Спасибо, что вы через свою газету позаботились о моем восстановлении. Сейчас старая женщина не трогает меня…
— Зачем вы взялись за такую работу? Видите, чем кончилось ваше вмешательство? Вы вроде присутствовали, сидели рядом, когда я писал в прошлый раз об убийстве Светланы…
— Я видела костер, в котором нашли ее палец с обручальным кольцом, прошелестело в трубке. — Я не хочу так умереть!
— Но вы, надеюсь, не пойдете в чужой лес с чужими мужчинами. Да еще на подпитьи…
— Я боюсь ходить днем, правда.
— Вы такая красивая?
— У меня красивые глаза.
— Чем вы облили мою рукопись?
— Послушайте, — вдруг простонала она, — я уже не могу тут одна что-то сделать. Пожалуйста, приезжайте.
Я и без нее спешил на место убийств. Я действительно чувствовал, что вслед за Ириной умрет не своей смертью ее бабка, а потом убьют С. Соболева. Я ошибся — его убили раньше.
Прилетев на самолете ранним утром, я поспешил на кладбище. Могилу Соболева нашел легко. Кладбище было не таким уж большим. Могила — свежая, с венками, с уже привядшими, как-то теперь некрасиво выглядевшими цветами на этих венках.
…Я вспомнил час, когда подполковник Струев разрешил мне поглядеть (уже по знакомству) допрос Соболева. Накануне кто-то слышал его разговор с бабкой убитой. Соболев интересовался (конечно, вроде шутя, сколько же отдадут приданного за Ириной, если он бросит жену и станет волочиться за ней?). Бабка, говорят (всегда есть свидетели), серьезно ему ответила: «А какой ты старый? Ей именно и нужен такой мужчина… И бегать, может, перестал бы. Она у нас — сладкая конфетка…»
Бабка, конечно же, знала, что старый пес Соболев (уже свыше сорока) давно сгубил ее внучку, давно дал ей вкусить то, что надо бы вкусить намного позже. Неужели она не видела, как тайком часто приходил в дом «Матроски» (Ирину звали так на улице) этот сластена? Сколько он семей сгубил?!
Потому Струев и ввел его, как обвиняемого, а не свидетеля.
Еще был разговор (запротоколирован) насчет золота. И тоже с бабкой. Опять вроде шутя сказал Соболев насчет свадьбы с внучкой. И бабка вновь серьезно ответила:
— Есть что, есть…
Вроде сказала, что всю жизнь сын ее пахал шахтером, в войну на броне сидел, премии получал…
Богатство, свадьба с молодой красивой «матроской»… Лежит Соболев в сырой земле вместо всего этого. Останки его собирала жена — не допустила никого. Криком исходила. Знала: гуляет, а любила… Тихо вокруг могилы, черные траурные ленты: бывшему начальнику шахты, теперешнему главному какому-то инженеру. Красивый был мужчина. Метр девяносто три. И лишь девяносто четыре кило. Без живота. С бицепсами, грудь вся в кудряшках. Как кто-то его уж бил!
Я сразу пришел по прилету к следователю. Да, он, Соболев, был на подписке. Последний допрос снимали с него. Он рассказывал, как часто, после перехода с шахты на работу в город (это всего 10 километров) приезжал сюда. У Соболева тут дом с подвалом (в подвале его и убили). Тут хранилась картошка, морковь, капуста. Наезжал сюда за всем этим.
Старого начальника шахты провожали с почетом. А его, Соболева… Пришел — эдакий бравый мужичище. Шевелюра — седеющая и гривастая. Глазища — прямо насквозь.
— …Вы, выходит, перед гибелью видели убитую? (Это в протоколе).
— Нет, я видел ее бабку. — Ответ вышел поспешный, нервный.
— У кого в доме? У бабки? Или у убитой?
— У бабки, конечно.
— А почему — «конечно?».
— Потому что как раз вчера я и не был там, где я должен по вашему хотению быть… Вы говорите со мной так, как будто я в чем-то уже виноват. А, как мне известно, вся работа следователя не должна выходить из рамок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов… Я правильно понимаю свои права?
— Да, УПК регламентирует все действия сторон, их права и обязанности.
— Я — сторона?!
— Допустим. Вы были там, где убили человека. Вы часто бывали там? Вы имели какое-то отношение к убитой?
— Все это наговоры, вранье! — вскричал Соболев. — Я ничего не имел и не собирался иметь.
— Тогда о чем же вам беспокоиться?
— Откуда вы взяли, что я беспокоюсь? Я просто не хочу насмешек, грубости.
— Над вами никто не смеется.
— Вы считаете, что допрашиваете меня?
— Я считаю, что кое-что уясняю. Например, ваши знакомства с убитой. В какой они степени соответствуют, скажем так, приличиям?
— В какой они степени совпадают с уличными сплетнями?
— В какой они степени будут важны для следствия. Вы — не капризный ребенок… Я понимаю, вы томитесь неизвестностью… Вызвал следователь… Но поймите, речь идет об убийстве человека, которого вы, я это подчеркиваю, знали. Вы нередко встречались со своей соседкой. Это естественно. И тогда перед ее убийством вы могли видеть Ирину, быть у нее. Это право ваше. И ничего предосудительного в этом нет. Но убили человека! Вашу соседку. Разве это неважно? Разве это ничего для вас не значит?
— Нет, я понимаю. — Соболев уставился в стол — он был и в самом деле красив, и любая женщина не откажет ему в знакомстве, и, конечно, не откажет женщина, к которой он подбирал долго ключи… — Я понимаю… Но это задевает, как задевает всякий вопрос… Я скажу о себе… Я мнительный. Я, представьте, очень мнительный. Я болезненно переживаю и переживал всякую мелочь… Что касается убитой, то тогда я действительно приезжал. Приезжал. Тут может доказать любой. И это я хорошо представляю. У вас, следователей, все продуманно бывает. Смотришь фильмы, и у вас все это продуманно. Я же знаю, что вы вызвали не просто так. У вас продуманный план… Но помочь в чем-то я вам не могу. Все, что можно было сказать, я сказал. И ничего добавить не смогу. Видел. Да, видел. Не заходил. Да, не заходил. Разговаривал. Да, разговаривал. Но с бабкой.
Я помню похороны бабки Ирины. Скромные, тихие. Они были на второй день после моего приезда. Играла музыка. Шел впереди сын — бывший начальник шахты… Я видел в жидкой толпе, чуть поодаль, всех этих «розыскных» ребят, которые находились в цейтноте: еще два нераскрытых убийства. И они думали, наверное: здесь увидят и убийц, ибо убийцы приходят туда, где совершают преступление.
Полковник Сухонин подошел ко мне сам. Мне почему-то очень захотелось сфотографировать эту процессию. И я не жалел пленки. С тайной надеждой поймать в кадр эту загадочную женщину, по зову которой я прилетел снова сюда. Центральная газета заказала мне очерк на судебную тему. В редакции придумали заголовок: «Три убийства. Куда идем?» Смешной заголовок, невыразительный и глупый, как вся газета. И щелкал, щелкал я.
Полковник положил мне руку на плечо, будто призывая отдохнуть. Он сказал мне, что из газеты, где мне заказали материал, уже звонили и ему: с просьбой помочь организовать материал.
— Пожалуй, я снова вам дам старшего лейтенанта Васильева. Он теперь бьется за звездочку, старается. Вот-вот звездочка должна была прилететь… А тут вот какое дело…
И он кивнул на уже расходящуюся после похорон толпу.
— Да не стоит Васильева, — улыбнулся я. — Он мне и так лапши на уши навешал.
Сухонин тоже улыбнулся.
— Так звездочка-то тогда еще покатилась на погоны. Мы-то и не ожидали, что так все повернется… Я каюсь… Тогда раззвонили с этим «вором в законе»… Кстати, нашли тело… Похожее по приметам.
— «Вора в законе»?
— Его.
Я поглядел внимательно на полковника. Он высматривал кого-то. Наконец, увидел. Конечно, это был Васильев. Полковник поманил его к себе пальцем. — Тот рысцой прибежал.
— Ну вот что, будущий капитан! Чтобы материал о нас… В общем… тогда не являйся на совещание… Охраняй нашу журналистскую знаменитость. И помоги сделать приличный материал.
Первая моя запись. Я все будто запротоколировал тогда о Соболеве. Но, помню, лишь ушел в гостиницу, сразу позвонил по телефону полковник Сухонин.
— Ты записал все о Соболеве? — почему-то перешел на доверительное «ты».
— Да.
— Жена его жалуется на тебя. Сейчас мне позвонили из горкома. Слушай, мужик, почему ты имеешь к нему такие большие претензии? Убит же человек… И вообще, все там не так. Ну кто из нас не поглядит на то, что плохо лежит?
— У меня все так, как в протоколе. А в другом… Если каждый будет слишком хотеть, всех наших девчонок проститутками можно сделать.
Сижу теперь перед подполковником. Он только что получил от Сухонина втык: загнал этого Соболева в угол! Прятаться стал. А в темноте они его, ха-ха, — трах!.. О мертвых или хорошо или ничего? Но он же, Соболев, и есть главный виновник!
…Ирину Соболев обхаживал долго, — говорит, уткнувшись в бумаги, подполковник. — И он ее не упустил. Он притворялся долго и всегда томно глядел ей вслед. И однажды она обернулась. А он глядел. Но никогда он не заигрывал, как с другими. Он понимал, как надо вести себя с ней. И все делал правильно, расчетливо. Он не оглядывал ее жадно. Всегда — мимоходом. Она знала, что этот, глядящий ей вслед, сменил ее отца. Шахта? Ей было все это безразлично. Но, наверное, смена руководства повлияла на нее. Смена, принесшая ее отцу небольшую всего пенсию. По крайней мере, убыток в деньгах. Потому что отец, будучи начальником шахты, нередко приносил ей лишние деньги. Деньги были немалые, теперь это кончилось. Она, то есть убитая, любила одеваться. Все же знают, для чего в магазин этот поступила. Только все лучшее — для нее. И чтобы — только у нее…
— А ты как догадался, что Соболева убили? — Вдруг спросил меня подполковник.
— Догадался.
— Бабка как-то сказала, что Соболев многое не досказывал. — Он не был похож на себя, этот подполковник: бубнил, недовольно щерился. — И, видишь, поплатилась жизнью. Кому-то не понравилось, что она решила дальше копаться.
— Отпустишь Ледика теперь? — Раз он говорит «ты», и я — «ты».
— Держи в обе руки.
— Чего?
— Боюсь. Убьют. Они же, непосредственно причастные к убийству, знают, что он обо всем догадывается. Потому не оставят его в живых… Что-то, братишка, в нашем царстве-государстве жареным пахнет. Я и сам, убей, запутался.
— Новая обстановка. Раньше по указаниям раскрывал, — съязвил я.
— Не шути. Видишь, — постучал по седой голове, — не даром.
— Я знаю — кто?
Он встряхнул седой головой и ухмыльнулся:
— Не думаю.
— Но ведь отгадал два раза, кого убьют!
— Так не бывает в третий раз.
— Бывает.
— Не скажу. Если ты скажешь другим сейчас, я тебя, может, уважать стану. На пользу борьбы с всемогущими будет. — Ухмыльнулся. — Но побоюсь за тебя. Где-нибудь не там ляпнешь. И они тебя…
— А чего ляпать не там, где надо?
— А ты знаешь, где это там? Расчеты идут не трафаретные. Сильные ребята стали друг против друга.
— Откуда эти ребята пришли, чтобы Соболева задавить?
— Скажи тебе, а ты — дунешь! — Вдруг рассвирепел подполковник. Дунешь?.. Зачем ты сюда частишь? Я, знай, никому не доверяю.
— Ты не боишься за дочку? Они ведь догадываются, что ты все понимаешь?
— Ты не от них пришел, чтобы меня припугнуть?
— Дурак, — вздохнул я. — Пилюльки от нервов поглотай.
Я встал и решительно двинулся к двери.
— Мотай, мотай! — уже без злобы сказал подполковник. — Вдруг пришибут тебя? Я же буду потом… плакать… Хи-хи-хи! — Он деланно засмеялся.
10. НОЧНЫЕ ГОСТИ
Я знал, что он сегодня придет. Я видел его мельком на шахте. Шахтеры бастовали. И я наблюдал за ним со стороны. Видно, он тут был уже давно лидером. Но к забастовке, — я это почувствовал, — он был равнодушен. Он жил своей внутренней жизнью. Глаза его застыли в одной точке, глядел он на тополя, только-только тогда сбросившие осеннюю свою одежду. Я знал, в какой стороне — кладбище. Там похоронена Ирина. Врет Струев — не убит! Сухонин не знает, что не убит. А Струев знает. Молчит!
Я спал в своем номере. Для меня не был открытием разговор с подполковником. Я догадывался уже, как и что здесь происходит. И этот, тихо пробравшись в мой номер через им же открытое окно, сказал мне сразу:
— Ты правильно догадываешься, парень, кто убил этого… — он сделал паузу и с презрением произнес, — козла.
Я лежал в постели. В руках у меня ничего не было. Я понимал: бороться нет смысла.
— Лежи, парень. Ты под охраной. Там, — кивнул в окно, — на земле эта твоя прелесть. Воздушный шарик… Где ты ее выкопал?
— Здесь, — сказал я хрипло. — В вашем же городишке.
— Смешно. Она сказала, что ежели с твоей головы волосок упадет, сожжет меня.
— Это у нее получится. Она мою рукопись какой-то гадостью вытравила.
— Не понравилось что-то. Ты пишешь иногда, по-честному, муть. Может, она понимает. Вытравила.
— Так это ты Соболева разделал?
— Этого козла? Чести много.
— Не хитри. Ты. Ты любил Ирину. Ты встретил такую впервые.
— Я не знал, что этот козел топтал ее.
— Нет, знал. — Я приподнялся с постели и медленно стал одеваться. Ты же глядел всякий раз, как он туда ходит. Вы втроем глядели… Он, козел, ты и Константин Иванович, отчим.
— Ты и это знаешь?
— Отчим, ты и еще иногда этот, как ты говоришь, теперь мертвый козел, — повторил я. — Такая поддающаяся красота!
— А что бы ты сделал? Если бы вдруг полюбил, как я?
— Я бы? Я бы его отучил.
— А если она его хотела?
— Тогда какой разговор? Молотил баб и пусть молотит. Пусть и ее!
— Ты, а ну заткнись! Что ты понимаешь, писака? Ты же никогда и никого не любил.
— Тут я понимаю. Ты стал человеком, потому что полюбил. Ты переступил все… Но…
— Заткнись!
— Не заткнусь. Ты не переступил одного. Они тебя сделали. Они ее убили. Они отомстили тебе за то, что ты нарушил их закон.
Я скорее почувствовал что-то горячее, больно рванулся куда-то, потом ударился о койку. И сразу же услышал ее голос:
— Не смей! Не смей!
Она зажгла свет. Я лежал под койкой, как когда-то моя рукопись. Из губ сочилась кровь. Он стоял рядом, и готов был добивать меня.
— Он говорит правду, — встала она перед ним в бойцовской позе. — Это они убили ее. И это так… Ты говоришь — козел! Но из-за козла не убили. А из-за тебя они ее убили.
Я теперь разглядел его. Сухопарый, отлично сложен, на правой щеке шрам, идет к глазу.
— Ладно, — прошипел он, глядя на меня. — Достаточно тебе. Скажи спасибо воздушному шарику.
Он подошел к окну, и вскоре по стене зашуршало его ловкое жилистое тело.
Она помогла мне встать, уложила на койку.
— Погаси свет, — попросил я.
— Сейчас.
Щелкнул выключатель. Я почувствовал ее запах, какой-то неземной запах. Она что-то сказала мне, но я в порыве благодарности и одновременно чего-то иного, необъяснимого целовал ее холодноватые руки. Я потом добрался к ее ногам, они были совсем теплые и чуть подрагивали.
— Откуда ты взялся на мою голову? — шептала она.
Я впервые верил женщине после той, которой когда-то верил и которая меня так жестоко предала.
— Ты никуда не уезжай пока… Ты не уезжай!
— Хорошо, — сказал я и понял, что так и не увидел ее. Почему-то я видел только того парня, «вора в законе». А ее не видел. Кто она? Почему я не увидел ее?
— Не надо, милый, — прошептала она. — Я обыкновенная девочка… Нет, скорее не девочка, а уже девушка. Двадцати двух лет… Девушка, которой было бы очень жаль, если тебя убьет этот парень… Он честный, поверь мне. Тот, кто полюбил, очень честный человек…
— Тогда ты поторопись помочь тому, кто полюбил…
— Кому?
— Отгадай.
— Не знаю. Я с тобой рядом теряю все… Я люблю тебя…
— И я люблю тебя, хотя никогда не видел…
— Ты видел мои глаза. Разве этого мало?
— Да, глаза — это портрет человека… Я говорил не лучшим образом, штампами.
— Нет, ты правда думаешь, что я — не ваша?.. А я — наша. Только родилась раньше времени. Когда-то я вернусь опять… И тогда я буду очень нормальной. Ты думаешь, что у нас не будет хорошей жизни? Неправда!.. Ах, небо в алмазах? Нет, не это… Люди на земле увидят рай. Ты представляешь, они не будут убивать друг друга. Настанет на земле такое счастье!.. Знаешь, одно семечко даст много плодов. Одна зернинка сделает благо всем людям. Зачем они будут убивать друг друга? Скажи, зачем?
— Они еще долго будут учиться любви… Вот даже ты не знаешь, что Ледик сегодня… Не знает Ледик, что, наверное, навсегда вернется!.. Но что-то не так! Что-то идет на него!..
Я прокричал последние свои слова, потому что действительно почувствовал: что-то происходит с человеком, который по-прежнему сидит за несовершенное убийство. И даже Лю, моя загадочная Лю, этого не чувствует… А что же тогда другие? Что же Сухонин, что же Васильев? Эти бесчувственные сыщики, пришедшие на свое место как поденщики, без богом данного благословения?
— Я опомнилась, — вскрикнула она.
И я почувствовал: передо мной что-то мелькнуло и исчезло.
Я быстро встал. Ночь была такой темной, что я таких темных ночей еще не видел.
…Да, в прежние эпохи в литературе был в центре Бог. И все шло вокруг него… Разве что-то сверхновое ставилось, когда царствовали Достоевский и Ницше, которые провозгласили смерть Бога, когда пошло и поехало?.. Достоевский возложил, в самом деле, всю ответственность за происходящее в мире на человека. Значит, яснее ясного — нового остросюжетного не произошло: если раньше смерть ходила вокруг Бога, то потом все переложили за убиение на самого человека. Крути вокруг и около, придумывай, заостряй… Бедные, маленькие люди! Что же остается им делать, на что надеяться?
…Бедный Ледик, маленький червячок, маленький винтик! Знает, скажем, подполковник Струев, кто истинный убийца. А «червячок» отсиживает дни и ночи в темных зловонных камерах. Родители червячка — мать с родной кровью, отчим, естественно, с душой, в какой-то степени родственной, ибо червячок шел рядом с трехлетнего возраста. Вырос, служил, хотя мать мечтала сразу после школы видеть его в медицинском. Служба — тяжелая. Но на флоте он устроился в самодеятельности. И танцевал с какой-то Верой, племянницей адмирала. Молодая еще адмиральша… Да боже мой! Вера всегда уступит! Вера подобрала подводника… Конечно, Вера любила высоких — у Ледика метр девяносто шесть, у подводника — всего-то росточек. Но надо жить! Ледик червячок! Барахтался, барахтался, пока из самодеятельности его адмирал не вышиб. Тяжело стало служить!..
«Червячок» ныне зависит еще не от Бога. От показаний и Веры и контр-адмиральши. Собрал показания без пяти минут капитан Васильев. Тот самый, который учился в девятом классе (подполковнику врал, что в восьмом или седьмом) с Ледиком и Ириной. Уже тогда этот Васильев был пинкертоном: проследил как девятиклассница Ирина, дочь бывшего начальника шахты, отдалась добровольно теперешнему начальнику шахты Соболеву, как там было в деталях (описываются же и стоны, и причитания, и эти «больно» и «хорошо»)… И он тогда, этот ныне без пяти минут капитан, пригласил Ирину домой — интеллигентная семья, музыка и разные штучки дома, сделанные руками пэтэушников для своего директора. Васильев, не знавший никогда Бога, надеялся на себя, человека. Предложил мягкую постель — «родители уехали на три дня», сказал Ирине. «Ты же отдалась? Почему и мне нельзя?» Они там подрались из-за того, что… Одним словом, без пяти минут капитан потом несколько раз пытался исправить положение — показать себя настоящим мужчиной. Ирина уже имела Ледика, который матросил и спал то с Верой, то с контр-адмиральшей. А Васильев выпрашивал хотя бы одну ночь. Он и искал потом в дневнике у Ирины: как значится в ее связях? Нулем? Или что-то хотя бы отмечено в качестве положительного?
«Червячок»… Такой же, как я. Мечущийся среди последних двух убийств, поводом для которых была обыкновенная похоть мужиков, и не совсем порядочное поведение женщин, познавших в период гласности опубликованные приемы секса… Кто-то пытался мне, червяку, вбить в мозги: «Не лезь со своей моралью. Ты — кто? Жалкий мужичишко, который не мог по-настоящему удовлетворить женщину. Она ушла от тебя к другому. Как шла по рукам в курортные выезды Светлана. Как шла по рукам Ирина, у которой на три года отняли партнера».
Что же, пришла Лю. Все видящая, все понимающая. Она сказала тогда: «Все виновато у вас теперь. И все оправдываемо». Я не внял ее словам. Подумаешь! Сказано! Чего нового-то в этом? Или мы не знаем! Я, в желании обогатиться, полез под кровать за рукописью. Я же так старательно написал сто страниц об убийстве Светланы! Рукопись была вытравлена. Почему она сделала это? Да потому что я никогда в жизни до этого не обращался с такой легкостью к смерти и убийству человека. Я после всего сказал себе: ты раньше так не поступал. Ты учился у классиков. И «Хаджи-Мурат» был твоим мерилом, когда ты поднимал свой меч на убийцу и убитого. Здесь все было у тебя от Бога. Теперь же ты, после кинорынка, черного праздника взбесившегося насилия, решил судить человека направо и налево, убивая своим несовершенным судом тысячи простых людей, очень любящих жизнь и друг друга.
…Но — Ледик… Червячок, зависящий от исхода борьбы «воров в законе»… Один — отступник среди них. И подполковник Струев это вычислил. Потом, месяц спустя, когда остыла в сознании трагедия, что разыгралась в поселке, он обрисовал мне, что там было и как было.
…«Вор в законе», тот, что «положил глаз на Ирину» и предал своих, устроившись на шахте проходчиком, сумел тогда, когда я случайно натолкнулся на их кодло, уйти живым. Они сказали ему: Ирина убита ими. Это, выходит, их «подарочек» славному проходчику. Теперь любовь потухнет в его горячем сердце, заблудший сын вернется домой, в лоно другой любви и морали… Есть еще одна акция, — сказали славному проходчику, — некто Соболев, в свое время пустивший в путь по опасной стезе эту ныне покойницу. Но Соболев откупился честно, щедро заплатил за то, чтобы его больше не беспокоили. Он сделал, между прочим, все, о чем его просили. «Воры в законе» пришли тогда, когда Соболев сидел один на один с Ириной. Соболев и «продал» ее на круг. И она добровольно попробовала не сопротивляться. Соболеву она сказала:
— Мразь!
А одному из «воров в законе» отказала.
«Всем, а тебе — нет». Загадка — смеялись они над славным проходчиком. — Она поступила и с ним, нашим Коленькой, — они кивнули на одного из них, — как с тобой. «Всем, а тебе — нет»…
И это решило ее судьбу. Он дождался, когда она прошла по кругу. И ударил ее ножом. А потом заставил бить Соболева. Или он, Соболев, или его, Соболева…
И Соболев бил ее ножом…
Славный был проходчик, но обиженный. Сумел положить двоих и уйти. Славный был проходчик, но обойденный. Сумел найти Соболева и убить его…
Этот славный проходчик вычислил и меня. Я знаю, я догадался параллельно со следователем Струевым и с Лю — кто убил Соболева. Я догадался потом, кто убил старуху. Это ведь она «подготовила» внучку для Соболева. Это она хотела развести его с женой и пристроить внучку «в надежные руки». Этот славный проходчик заставил «бабушку» расколоться. Он не взял ни золота, ни серебра. Убивать он ее не хотел. Просто ударил в шею. Удар не рассчитал. Она задохнулась от такого удара…
Вера приехала вечерним поездом и пришла к подполковнику уже поздненько. Он был в кабинете один. Вера оказалась двадцатидвухлетней девицей в джинсовом одеянии. На ней была аккуратная белая кофточка, в дороге могла замараться, но она была при аккуратном галстучке. Знала ли Вера обо всем? Или только узнав о главном — смерти жены человека, которого она, видимо, любила, приехала? Почему же тогда написала такое письмо против Ледика?
Так и знал подполковник — не писала, оказывается, никакого письма Вера. «Что вы, что вы!» Она сходила перед этим в морг, видела тело не Ирины (уже давно состоялись похороны), а ее бабушки. Неужели вы думаете, что это Ледик убил Ирину? Нет, нет и нет! Ледик не мог убить!
Подполковник стал разъяснять: мог или не мог, но у него нет оснований и отпускать его… Он говорил с ней, как с дочерью. Правда, — подполковник устало стал рыться в бумагах, — мне думается есть одно обстоятельство… Я должен вас предупредить… Вы писали матери Леонида?
— Она писала вначале мне. Предупреждала, чтобы я не смела… И… вот…
— Я это знаю. Недостойная невеста?
— Наверное, так.
— Вы хотите пойти на свидание?
— Да.
— Но мать Леонида против этого.
— Она не смеет мне отказать. Нет такого закона. Ее письмо, за которое может ухватиться следствие, я уничтожила к тому же. Ей нечего бояться. Я и не скажу, что мать везде и всюду вмешивалась, ломая его жизнь.
— Но разве он был прав, вожжаясь… — Подполковник, произнеся это слово, закашлялся, но потом, взглянув открыто ей в глаза, продолжил, — и с вами, и с контр-адмиральшей?
— Но ведь мать тогда вмешалась! Она развела его с Ириной преждевременно! И он почувствовал себя свободным! Он переживал, ибо любил Ирину. Он не мог потому убить ее… Я протестую, что вы держите его там, в тюрьме! Вы сломаете его!
11. РАЗВЯЗКА
Они его мордовали долго, чтобы он раскололся. Особенно усердствовал без пяти минут капитан. Товарищ Васильев. Прикрывал его полковник Сухонин: народ волнуется, что вы тянете с раскрытием? Сухонин тогда сказал подполковнику Струеву:
— Саня, ну чего ты в оппозицию лезешь? Стопроцентный гад!
Ледик в конце концов раскололся. Признал. Согласился. Он махнул на свою жизнь рукой. Чему бывать, — добавил и тот, ждавший этапа, неубийца, признанный убийцей, — того не миновать…
— Что ты, — успокаивал, — поглядел бы, как раньше было тут! А это уже — нормально! Раньше в СИЗО попробуй не подчиниться. Тебя упекли бы туда, где Макар телят не пас. А теперь… Только пожалуйся — бьют служителей по голове… Другое дело — по-прежнему стоят над душой! И только пожалуйся! Будет страшно…
Ледика уже ничего не страшило. Он все узнал о тех, кто ему носит передачи… И была, оказывается, правда с отчимом и его шлюхой. Ведь тогда сказал Прошин, выдавая Соболева: «Ты думаешь, другие лучше? Твой отчим хорошо шпокает мою двоюродную сеструху. Я с твоего отчима дань брал за то… Хочешь титьки по пуду — плати, падла!»
Про мамочку рассказывал ему старший лейтенант Васильев после убийства Соболева.
— Спали они, — визжал Васильев, перед тем, как Ледик признался в совершенном убийстве, — с этим подонком. И Ирина твоя, и мамочка. У порога он их драил. Поставит… Это кайф! Зашел и сразу за трусики… И мамочка твоя, и Ирочка становились в позу. Одну ты правильно убил. Вторая просится. Как козлы, встали на мостку и бодаются! Отчим твой и мамочка. Один депутат, вторая бюстом кабинеты открывает…
Может, не признался бы Ледик. Однако столько навернулось грязи! Еще эта контр-адмиральша. То ли напугалась, что муж-импотент выгонит… Стала лить грязь в новых письмах следователю…
Свидание Ледику дали, и он, конечно, не знал, что придет Вера… Вера, Вера. Почему тогда ты не остановила матросика-танцора перед тем, как пошел он от тебя к контр-адмиральше в постель? Почему ты потом вышла замуж за этого лысого моряка-подводника?
Она стояла перед решеткой, плакала, эта Вера.
Она шептала:
— Я тебя не отдам смерти… Зачем ты написал: «прошу расстрелять»?
Ледик отрешенно глядел на нее. Он все помнил. Как к начальнику дивизиона она приехала. «Племянница Вера пошла!» Говорили — литературовед. Многое он узнал от Веры. В школе Ледика учили одному, она говорила другое. Бог спас Пушкина, чтобы он стал убиенным, а не убийцей. Достоевский послал «Бесы» Александру III — пусть посмотрит… В школе учили и было неинтересно, а с Верой… С Верой — прелесть. Еще и танцует…
Вечера с ней были удивительны, и он постепенно в нее влюблялся. Он до этого, научившись у приемного отца презирать женщин, не ставить их ни во что, постепенно понимал: женщины бывают умные, чуткие, разбираются кое в чем.
Вера приехала, оказывается, всего на лето, осенью она уедет в свой институт. Она будет учиться вновь, и будет совсем не сладко ей без такого мальчика, как Ледик. Собственно, Ледиком он назвал себя сам. К слову пришлось. И она недоверчиво на него глядела: «Неужели взрослые родители называют тебя таким именем? Ведь от того, как тебя зовут старшие, совсем немало зависит в твоей судьбе…»
Впервые он ее поцеловал в парке, после очередных репетиций. Он для нее старался в тот вечер. Позже она прозаично отозвалась: ей танцы — так себе, хочется научиться и все. Чтобы гореть ими, — нет времени… Он обиделся не на шутку. Он же танцевал все последнее время для нее!
Когда случилось, что контр-адмиральша выцарапала его из-под носа у Веры? Он и сам не мог объяснить. И следователь спросил: почему же Вера, такая чуткая девушка, как он уверяет, написала в адрес прокуратуры такое письмо? С жалобами, с грязью? Он твердо ответил подполковнику:
— Не думаю, что это писала она. Писал кто-то другой.
…Когда случилось самое страшное, когда позже подполковник бесстрастно смотрел на труп самого Ледика, только тогда он понял, как прав был моряк, защищая Веру. Он не мог до конца поверить в то, что она написала так, как было в письме.
Вера, Вера… Новое письмо ее тогда лежало перед следователем. И в письме рассказывалось, кто есть Ледик. Не подлец, не изменник…
Медленно, уверенно перелез Зуев ограду. Автомат покоился в руках. Сильных руках бывшего десантника. Он шел к ним уже чужим, врагом. Когда-то они нашли его, можно сказать, подобрали. После Афгана он долго не мог остановиться. Ему по ночам снилось все одно и то же: он ползет за трупом своего друга — тезки Коли Белого. И надо этот труп принести и показать начальству. У Коли мама-пенсионерка, отравленная на своем родном химзаводе. Мама должна получать за убитого сына. А если его не доставишь, надо проститься с выплатой. Он знал тетю Полю цветущей женщиной. А когда они с Колей уходили в армию, она провожала их с палочкой…
Он принес Колю Белого. Но начальство стало смеяться:
— А как ты докажешь, что это рядовой Белый?
Лица у Коли не было. Не было ног. Не было руки. Был этот кусок груди, разорванной груди, где не имелось признаков бывшего рядового Белого.
— Я знаю: это он, — закричал младший сержант Николай Зуев.
— Вы здесь не орите, — сказал ему подполковник Зараев. — Мы тоже люди. Не возьмешь же и не пошлешь так…
Зараев потом «пробивал» это все — как тело рядового Белого. И это тело все-таки не приняли. И старшина Зуев, вернувшись домой, пришел к тете Поле и не знал тогда, что ей говорить. К тому времени Зуев научился прерывать сон. И глядя матери рядового Белого в глаза, он сказал:
— Нет, не видел я, хотя и был неподалеку… Не знаю…
Потом те, к кому он теперь шел, легко приручили его. Зуев мог все и еще кое-что. Вначале он сидел в их офисе. Кругом была уйма проводов зеленых, белых, серых. Он приглядывал за сейфом. Еще появился один сейф. Работа была легкая. Зуев имел уже квартиру. Он думал — как афганцу. Э-ге! Куш был заплачен солидный, чтобы квартира была в центре…
Все было у них по закону. А ему вдруг стало тошно. Когда они пили однажды, он сказал, что бы очень хотел в жизни:
— Поставить хату Кольке Белому.
Что в них было — так это понимали с полуслова. Он поехал к тете Поле и поставил ей дом — вместо развалюшки. А тут он взыгрался, видно, как мужик, увидев, когда возвращался к ним, к офису, деву Марию. И — сгорел. Он влюбился в эту женщину. И часто ходил потом за ней тайно и молча. Тогда решил бывший афганец Зуев: уйдет и будет жить в поселке. Поступит там на работу. Оформил с ними договор. Один из них сказал:
— Так не бывает. Есть закон!
Это был тот, который потом ударил ножом Ирину. Тот, который заставил потом Соболева добивать ее.
…Первым положил Коля Зуев этого. Потом безжалостно — за то, что молчали, когда убивали ее, его деву Марию, — всех…
Не хватило подполковнику Струеву какого-то часа, чтобы предотвратить бойню… Коля Зуев не заставлял их стать на колени. Они были все-таки людьми. Когда-то поняли его, Колю. Протянули руки! Но он привык по приказу добивать своих, душа его уже была мертва. Она совсем похоронилась, когда подполковнику Зараеву вовсе отказали признать в принесенных им, Зуевым, останках тело Коли Белого и когда подполковник Зараев сказал ему, Зуеву:
— Слушай, если убьют меня, ты вынеси, отруби лишь голову, переодень и втыкни какую-нибудь бумажонку, что это — Колька, твой тезка…
Тогда душа Зуева поняла, что кругом есть люди, только для этих людей нет чистого места уже на этой земле. И она ушла из него, душа. И бездушно добивал он некогда приютивших его «воров в законе». Не надо было, конечно, за одного убивать их всех…
Я нашел то место из дневника, который спрятал Васильев, в тот день, когда восемь трупов — в том числе труп бывшего проходчика — свезли в морг. Мне дал вырванный листок из дневника подполковник Струев.
— Полюбуйся!
Я читал в темной комнате, едва различая текст. Пахло приторно кровью.
«Он, наконец, ввалился к нам. Мы были одни с дочкой. На дворе было холодно. Я зябко ежилась. Я помню, на свадьбе… Он со мной танцевал. Ледик этого не помнил. Я тогда выпила, не знаю сколько… Но я почувствовала, что он, оказывается, мужчина, а я — женщина. Меня легонько било. Какой-то озноб. И он это почувствовал. Он же не родной Л. И почему бы и нет? Я поила его чаем. У него были крупные руки, он взял мою ладонь в свою, и я снова поняла, что он не родной Л. И я замерла, и эта К-ка опять помешала. Я стояла на крыльце, он уходил в дождь, и я хотела крикнуть: идет ли он сегодня на смену?»
— Погоди, — поднял я глаза на подполковника, — причем здесь Васильев?
— Послушай, ты же видишь, сколько работы! — ответил он.
— Так это же характеризует Васильева! — опять сказал я. — Не такой он и плохой… Он просто это прикрыл.
— Для чего? — Струев встал передо мной. — По приказу? «Прикрой, он все-таки депутат!» Скажу, бардачное семейство! Горько думать, что все так ныне.
— Но ты же не докажешь, что отчим тоже был там!
— Не докажу. И не буду доказывать… Видишь, — он кивнул на трупы, здесь доказательство.
— Не скажи, — замотал я головой. — Раз уж за парня взялись, то добавят. Как же это тогда выйдет? Ошибался верх, ошибался низ?
— А я? Я — что? Не в счет? Я им кричал! Я говорил… Я и в первый раз его отпустил… Тогда, правда, нюхом почувствовал. А сейчас… Мне плевать, что он, этот морячок, признал себя виновным. Я не хочу, чтобы он сидел…
Мне разрешили пойти с подполковником. Мы пришли в камеру. Подполковник позаботился об охране. Решили вести Ледика на кладбище. И по его настоянию. И по его просьбе. И по-человечески, что ли… Есть же и в суде нашем человеческое. Парню, сознавшемуся в убийстве — вышка. Может же быть человеческое перед вышкой? Пусть посмотрит на содеянное!
Я шел рядом с Ледиком. Он тихо сказал мне:
— Хотите исповеди?
Я кивнул головой.
— Только не для них, — он показал глазами на подполковника. — Они садисты… Так вот… Я увидел там, когда подошел к дому, Соболева и еще многих. Они делали с ней все, что она хотела… Я вначале хотел ворваться к ним… Однако это ее желание… Вечером я вернулся… Впрочем, я все рассказал Вере. Понимаете?
По дороге к родителям, в тот вечер, когда он ушел от Ирины, что-то ему плохое виделось. Я это чувствовал. Как окоченело она лежала без движений. Он хотел вернуться, когда пришел вечером и увидел, что она лежит под куском бузины. Потом и вернулся. И он увидел, что она — мертва. Он долго сидел над ней. Примерно он помнил поселковые телефоны, ибо часто вызывал своих родителей на переговоры. И он, набрав какой-то номер и услышав старушечий голос, сообщил: там-то и там-то лежит труп.
Потом он встал за дерево и смотрел, не придет ли тот, кто ее убивал?
Но подъехала милиция…
Солдаты, которые его вели, рассказывали, так как я ничего не понял. Он побежал у кладбища. Как раз проходил груженный состав вдалеке. Он свистел этому бежавшему в сторону путей парню. Солдат — один из двоих снял с плеч автомат и выстрелил. Правда, он потом говорил и повторял:
— Я кричал: стой, стрелять буду!
…Лю вошла ко мне, в мою берлогу. Я еще слышал отзвуки ее каблучков. Я не мог понять, что со мной происходит. Я впервые любил женщину такой, какая она есть. Я ждал, что скажет она.
Она тихо сказала:
— Ледика похоронили три дня тому назад… Вера подала документы на реабилитацию. Он же не убивал Ирину.
— Да, да… — Я шептал это. Мне тоже не хотелось, чтобы его похоронили убийцей. Он был, скорее, пострадавшим.

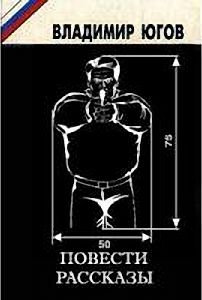
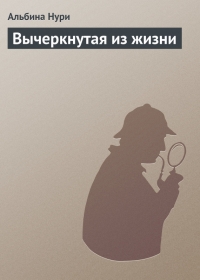
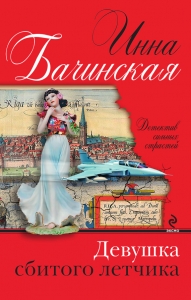







Комментарии к книге «Загадка мадам Лю», Владимир Югов
Всего 0 комментариев