Трифон Иосифов Браконьеры Роман
Трифон Иосифов
Бракониери
1984
I
Сегодня пятница. Начало четвертого. Дождя нет, но погода быстро портится. Я — на дне Чистило. Что такое Чистило — об этом потом. Я один. Гай не в счет. Он кончил свое дело и, как бульдозер, разгребает глубокий снег. Сует всюду свой нос и ищет гнездилище куропаток. Других живых существ в Чистило нет. По крайней мере зимой. Летом тут полно змей.
Такова обстановка.
Теперь о себе. Если кто-нибудь попытается проникнуть в мои мысли, обязательно скажет: «Этот просто не знает, чего хочет, — семь пятниц у него на неделе». И все это потому, что Марина была права. И поскольку она не ясновидящая, а я не верю в «чистые» случайности, приходится сделать неприятный вывод: Марина заранее знала о тайнике, который я обнаружил. Если это так — дело плохо. Этот тайник связан с одной весьма грязной историей, и мне бы очень не хотелось, чтобы Марина имела к этому делу какое-то отношение. Мне будет искренне жаль, если она обожжет свои нежные пальчики. А вообще-то я рад. Я просто балдею от счастья. Мне больше не придется шарить вслепую — и это, откровенно говоря, тоже благодаря Марине. Это она помогла играющему в жмурки найти нечто важное. Глаза в игре завязывали мне, а нечто важное — это пакет, найденный в узком проломе скалы.
Я стою у проклятого тайника и не верю своим глазам. У меня просто голова кругом идет — как же легко и просто мы открыли его! Мы — это я и Гай. Какая-то ерундовая дыра в нижней части скалы, а для меня она дороже всех сказочных пещер Али Бабы… Пакет, который я вынул оттуда, был обернут в промасленные овечьи шкуры. Пока я его разворачивал, Гай как бешеный вертелся в снегу. Пусть, пусть вертится, вечером я дам ему целую тонну костей… В овчину был завернут длинный тяжелый нож, каким орудуют мясники. Нож был острый как бритва. Именно таким ножом резали головы муфлонов. Я давно убедился в том, что они не «мясники». Они отрезают головы ради красивых рогов, а туловища бросают куда попало. И даже не пытаются укрыть их. Рядом с ножом лежал кожаный мешочек, а в нем — железная коробка. Я с трудом раскрыл ее. Внутри были позеленевшие патроны — два, четыре, шесть. Калибр — восемь с лишним миллиметров, итальянского производства, образца 1936 года. Ты погляди только, какие старые! Ударная сила тяжелых медных пуль с закругленными верхушками — как минимум тонна.
Я свистел, цокал языком, радовался, едва не пел песни. А потом на меня постепенно накатило. Ну ладно — а карабин где? Тут и дурак догадался бы, что еще недавно он был тоже здесь, в этих промасленных шкурах. Они достаточно большие, и в них не промокнешь, когда в горах падает туман или идет дождь. Мне очень нужен этот старый итальянский карабин, ох как нужен! У меня с ним давние счеты, сотни раз я видел его во сне и представлял его в воображении, сотни раз я говорил себе: ну еще немного, еще чуть-чуть, и он будет у меня в руках. Но проклятый карабин каждый раз находил способ вывернуться и ускользнуть от меня как тень.
Вечерело. Дно Чистило залито мутной чернотой, а высоко вверху небо было еще совсем светлым. Пока я ломал голову над тем, где может находиться карабин, Гай нетерпеливо скулил. Он бросил возиться с гнездом куропатки, завилял хвостом и ткнулся мне в ноги. Ничего, малость подождет. Мне нужно еще минуты две, не более того, чтобы снова завернуть все хозяйство в овечьи шкуры и сунуть пакет в рюкзак. Он, то есть рюкзак, совсем маленький, довольно-таки потрепанный и вообще ни на что не похожий, но я всегда тащу его с собой, когда иду в горы. В нем я не держу ничего особенного — ну, спички, маленький топорик, горсть сухих сосновых подпалок, полбутылки коньяка и какую-нибудь еду. Я еще ни читать, ни писать не умел, а отец уже учил меня: если не хочешь, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое, всегда бери эти вещи с собой, если идешь в горы зимой! Ничего, не надорвешься… Рюкзак этот принадлежал отцу, он ходил с ним, когда меня еще на свете не было, но брезент хорошо сохранился и год от году даже становится крепче.
Я снова заткнул отверстие тайника и стал думать, как бы словить хозяина. Очень бы мне этого хотелось. Ну, например, можно положить вовнутрь волчий капкан. Вокруг днем с огнем не сыщешь волков, как ни старайся, однако капканы, видишь ли, на базе у нас есть. Зубья у них как у крокодила, пружины крепкие, стальные. Бай Дяко регулярно чистит и смазывает их. Однажды он зарядил такой капкан, взял толстую палку, позвал меня и сказал: сейчас поглядим, что будет. Он еле коснулся лесенки, которая освобождает пружину, палка разлетелась на куски. Я тут же представил себе, как этот тип отодвигает камень, суется в щель и — рраз! — капкан перегрызает ему руку. И он воет, скулит, как собака, и тащит этот капкан на себе до самого Дубравца. И вообще это зависит от меня — я и засаду могу ему устроить: вот залягу там, где скала выдается вперед козырьком, с землей сольюсь, в камень превращусь, буду ждать дни и ночи, а когда он наконец придет, погоню его по крутой тропе вверх и кулаками буду в спину тыкать… Но это будет уже весной. А до той поры он не сунется сюда, потому что каждому ребенку известно: на снегу остаются следы. И мало ли еще чего я могу придумать, важно, что у меня опять появилось желание, да и силы начать все сначала. Да, я не нашел карабин, но я обнаружил тайник, а это, если как следует подумать, совсем не так уж мало. И теперь я чувствую себя очень неловко — ну, совсем как мальчишка, который долго хныкал и требовал забавную игрушку, не заметив, что она, игрушка, у него под носом, а потом кто-то сунул ему в руки ее — на, держи, что ж ты ничего не видишь вокруг себя? И мальчишка сгорает со стыда.
А самое странное, что этим «кто-то» оказалась Марина. Она открыла мне глаза только тогда, когда я уже дошел до ручки в этой игре в кошки-мышки и у меня больше не стало сил уговаривать себя, что я умнее этих гадов, что жажда денег все равно — рано или поздно — погонит их по следам муфлонов и тогда — хрясть! — капкан захлопнется. А вот, в сущности, оказалось, что капкана-то никакого и нет. Это я только воображал, что он есть, а на самом деле я просто рассчитывал на какой-нибудь случай и свои крепкие ноги, на которых я два года гонялся за призраками по этим пустошам. Гонялся, гонялся, пока не понял, что перед этими новоиспеченными браконьерами я просто слепой котенок. Впору перед ними шляпу снять — мастера своего дела, что ни говори, овладели им до тонкостей. Стоит Бояну Борову отлучиться куда-нибудь — хоп! — и муфлонов становится меньше на единицу.
И, как правило, убивают самых сильных самцов, поэтому моя идея скрестить муфлонов с местной породой каракачанских овец может запросто лопнуть. А ведь это идея, которая может принести миллионы! Да, слишком много сил я вложил в этот двухгодичный розыск, гордость и самолюбие мои были оскорблены, да и терпение лопнуло, и, если бы не Марина, я вчера вечером махнул бы на все рукой — конец, точка, хватит!
Вчера вечером… А почему именно вечером и именно вчера? Ну, наверно, причин тут много, и они все переплелись, как спутанный клубок ниток. Но самая главная причина может быть вот в чем — я не из тех людей, которые умеют проигрывать. Я уже привык поступать по принципу: если тебе не удается сделать дело как следует — уходи! Другие сделают его лучше. Поэтому вчера вечером, когда мы пили горячую ракию с Василом и Мариной, я им и выложил то, что уже месяцами вертелось у меня в голове:
— Все! Ноги в руки — и бегу отсюда! Как говорится — вещи уложены. И заявление уже написал шефу. Не верите? — Я положил заявление на стол и прихлопнул его ладонью. — Ну, допустим даже, что я поймаю этих гадов — мне что, памятник за это поставят? Мне уже, черт возьми, двадцать восемь лет, а я ничегошеньки не достиг!
Васил — муж Марины. Он уже набрался основательно, клевал носом и ни черта не понимал. Потом брякнулся головой на стол и захрапел. А Марина смотрела на меня с иронией, посмеивалась и вообще, похоже, не приняла всерьез мои слова. И мне очень захотелось убедить ее в том, что решение я принял бесповоротно.
— Шеф и без того считает, что я не гожусь для руководства заповедником. Он даже однажды мне прямо сказал: «Ты понял, Боров, что эта работа не для молодых, да еще неопытных? Надеюсь, понял. Конечно, ты бегаешь как шальной туда-сюда, вверх и вниз, но не получается у тебя. Два года ты отпуск не берешь, не отдыхаешь, позабыл про город, совсем не ездишь туда, семья у тебя распалась…» И знаешь, Марина, он предложил мне работу в управлении!.. Вот где красота — тихая канцелярия, часы тикают, книга, где расписываются, когда приходят и уходят, лежит на месте. Нет, он не сказал именно так, но все это само собой подразумевалось. Значит, буду я там тянуть лямку, протирать форменные штаны, пока у меня в заднице не пойдут геморрои, и считать годы до пенсии. Можешь ты себе это представить? Переписка, бумажки, отчеты, папки, переливание из пустого в порожнее… Сиди тихо и имитируй действие! Важно, что у тебя появляется тихий-тихий голосок. А много ли надо, чтобы человек стал тихим, скромным, смирным, а? И без того очень уж много удобного народа развелось вокруг, ты не находишь? Мир переполнен обтекаемыми людьми. Строительный материал из них никакой, тут же рухнет здание, а так, на вкус и цвет они приятны, не режут глаз, не царапают руку, они круглые, как яблоки, и можешь катить их, куда захочешь, хоть к черту на рога…
В общем, выпил я и был зол и чувствовал свое бессилие, оттого и дурил голову Марине и болтал что ни попадя и договорился в конце концов до того, что да, я молодой, талантливый, гордый, у меня два высших образования — одно оконченное, другое начатое, и вот увидишь — через год-два я свалю шефа и сяду в его кресло… Марина едва не уписалась от смеха. Тогда, говорю, я возьму тебя в секретарши! Будешь гостей встречать, кофе варить и иногда допустишь меня к себе… Вот так нес я околесицу разную, а в прищуренных глазах Марины то вспыхивал, то гаснул расчетливый огонек, будто она готова была принять мою игру и звала продолжать эту куплю-продажу. Хорошо, что Васил мирно спал: он ведь страшно ревнив. Наконец ей надоело слушать его храп, и она толкнула его. Он замычал в ответ — только и всего. Она опять толкнула его, он приподнялся, она подхватила его и повела наверх спать. Вернулась минут через пять:
— Если бы я была мужчиной, я схватила бы это заявление и прилепила бы его тебе на лоб! У тебя одно начатое и другое оконченное образование, а хнычешь ты как щенок!
— Что ты хочешь этим сказать? — огрызнулся я.
— А то я хочу сказать, что ты мне напоминаешь водящего в игре в жмурки с завязанными глазами — хватаешь наугад, не знаешь, куда бежать и что искать. Я бы на твоем месте поискала что-нибудь, ну, например, тайник…
— Тайник? Какой тайник?
— А такой — обыкновенный! Ну, дыра какая-нибудь, пещера или пролом. Ты ведь говоришь, что они бьют муфлонов из карабина, так? А карабин — это не охотничье ружье, его не разберешь и не сунешь под пальто. Значит, его не таскают с собой, а скрывают в каком-то тайном месте и там держат всегда. В тайном месте, понятно? Например, в Чистило… Я бы, например, именно там искала…
Вот так. Высказала она все это мне, подняла из-за стола свой ладный, стройный стан и понесла его в супружескую постель, к Василу. А я остался допивать ракию и обдумывать ее слова. Первый вывод, который я сделал, — она права на все сто. Я спускался в Чистило сотни раз, но никогда не искал там тайник или чьи-то следы. А второй вывод мне пришел в голову уже здесь — Марина заранее знала все! Я уже говорил, что она не ведьма, а я не верю в случайности. Тогда от кого она могла узнать о тайнике в Чистило? От Васила, или от других надзирателей, или от какого-то человека, не имеющего ничего общего с базой и нашей профессией? Пока я еще не могу ответить на этот вопрос, но он засел у меня в мозгу и мучает, как заноза в заднице.
В последний раз я оглядел дно Чистило, и хотя я не желторотый птенец, и не заносчивый болван, и совсем не новичок — горы эти знаю как свои пять пальцев, — но вместо обычного пути на базу взял да и дунул прямо вверх по левому ребру Крачана. Ну бывает же, делают такие глупости даже опытные люди вроде меня! И обычно так случается, когда человек возьмет и плюнет на заведенный порядок, к которому привык — ну как, например, к удобному старому рюкзаку отца. По собственному опыту знаю, что полезно иногда отклонить все, что диктуется твоими личными интересами и привычками, и признать главным вопрос принципа — он держит тебя, как колесо поезда на своих стальных рельсах, и не дает глупым амбициям, фасону и форсу увести тебя в сторону. Однако сейчас речь шла не о фасоне и не о форсе, а совсем о другом — мне просто хотелось как можно скорее добраться до базы и поговорить с глазу на глаз с Мариной.
Гай сразу понял, какой идиотизм пришел мне в голову, поглядел на меня умоляюще и рванулся назад, к выходу из Чистило. Вот так всегда — животные, стоит им почувствовать хоть маленькую опасность, становятся разумнее и практичнее людей. Ведь он, хитрюга, знает, что есть более легкий путь: можно быстро вскарабкаться по узкой горной тропинке — и прямо в лес, а там тихо, никакого ветра, идешь себе как по городскому бульвару. Я потрепал его ласково по холке, но в глазах его не таял упрек — эх ты, зачем заставляешь себя и меня продираться сквозь этот кисель? А я ему шепотом отвечаю: затем, дружище, что по удобным, накатанным дорожкам и старая бабка пройдет, не мужское это дело. А мы с тобой мужчины! Потом все-таки не выдержал и прикрикнул на него, чтоб не вел себя как те слюнтяи, которых в городе по тротуарам на поводке водят. Гай, конечно, ничего не понял из этой тирады, но вот крик на него подействовал. Высунул язык, ринулся в глубокий снег и — вперед, по склону.
Итак, лезем, карабкаемся вверх, задыхаемся, а сумерки, рваные, клочковатые, гонятся за нами по пятам, бесшумные, настойчивые, как голодные звери. Я знаю: если мы не доберемся до Предела засветло, может быть неприятность. Эта темная пелена, которая заполнила дно Чистило и ползет вверх по склону, — это не просто сумерки, а сущий дьявол. Стараюсь взбодрить себя и не глядеть по сторонам, но в голове, как муха, бьется вопрос: надолго ли хватит у этого дьявола терпения и в какой именно момент он решит стукнуть меня по спине своей ледяной лапой? Не терпит, проклятый, когда его задевают. Небось скрывается где-то поблизости, ухмыляется, прищуривает свое оранжевое око и целит в мою ничем не защищенную спину. А око у него страшное, безжалостное, совсем как дуло итальянского карабина… Я чувствую, как что-то щекочет меня меж лопаток, а это последнее дело — знать, что за тобой следят да еще смеются вслед, а ты не можешь обернуться и схватить этого «кого-то» за шиворот. Ну да что верно, то верно — пока я жил и учился в городе, каких только дьяволов мне не довелось встречать, но этот — этот горный дьявол дикий, упрямый. С ним очень трудно справиться. Я сейчас вспомнил один случай, который доказывает, что местная порода дьяволов невероятно опасна. Подстроит тебе запросто какой-нибудь фокус, и главное — именно тогда, когда ты меньше всего к этому готов.
Фамилия моего шефа Генчев. В октябре приехал он к нам в заповедник инспектировать, поругал меня за то, за се и впервые не захотел половить рыбку в водохранилище, а решил подняться на Поющие Скалы. Обычно мы гуляем до ужина по окрестностям вокруг базы. Прогулки длятся недолго, мы успеваем дойти до школы, не дальше. Там наши склады и летний лагерь косцов. (Шеф очень любит поиграть в демократа, добренького папочку-директора, на ходу заигрывает с людьми из охраны и косцами, угощает их сигаретами, даже иногда лезет в карман и выкладывает деньги на бутылку виноградной.)
Я знал, что подъем на скалы не для его легких и ног, и стал отговаривать: что там смотреть на этих Поющих — камни, провалы и ничего больше! А он — пойдем да пойдем! Я туда, говорит, ни разу не поднимался, давай, говорит, прогуляемся, поглядим с высоты на панораму, тут и есть захочется. Аппетит, значит, нагуляем. Ну, раз речь пошла об аппетите, пришлось соглашаться. Договорились с моими людьми, что приготовить на ужин, надел я рюкзак, взял двустволку и повел его вверх. А тут рогатые черти решили показать себя и совершили свое первое свинство: в Змеином овраге высыпали нам на голову целую груду камней. Генчев решил, что это муфлоны, стал шарить глазами туда-сюда и даже вообразил, что видит их. Я едва не подавился от смеха. В конце концов я не выдержал и сказал ему, что это не муфлоны, а дьяволы, и добавил — со значением, — что в последнее время их много развелось вокруг. Я говорил вполне серьезно, а он не поверил. Потому что он не здешний человек, вырос на равнине, горы наши ему чужие и ему что дикий кабан, что домашняя свинья — безразлично.
Я опять предупредил его насчет дьяволов, а он рассердился. Ты, говорит, Боров, шаржи из меня делаешь или вправду веришь в эти дикости? Какие, говорю, шаржи, какие дикости, когда и бабушка Элена рассказывала мне про них, и знахарка из Зелениц, да я и сам видел… В общем, посмеялись мы, шеф отдохнул, и мы снова потянулись вверх. Наконец добрались до подножия Поющих Скал, и тут я сказал, что никуда отсюда не двинусь, пока не соберется в узел «бабкина кудель». Он опять разозлился и спросил, что это за выдумки и кто должен связать эту кудель. День был солнечный и тихий, но вокруг вершины самой низкой скалы собирался туман, и именно это мне очень не понравилось. Я постарался объяснить шефу, что эту вершину называют Баба, а ту, что подальше, — Дед. И бывает так — нет у дьяволов более важной работы, вот они и ждут, когда Баба задремлет, хватают ее кудель из прялки и катят ее до дна Чистило. Генчев пожал плечами и прямо сказал мне, что я несу околесицу. Так или иначе, но я заставил его сесть на камни, а сам сел так, чтобы спинами мы опирались друг на друга.
Не прошло и десяти минут, как туман окутал нас со всех сторон. Я прошептал, что сейчас мы должны ждать и молчать. Дьяволы, когда разбушуются, не терпят присутствия человека, не нравится им, видите ли, наш запах… И, будто в подтверждение моих слов, от скал донесся громкий протяжный вой. Страшные звуки, как электрический разряд, ударили по натянутым нервам, и шеф прерывающимся голосом тихо спросил, кто это воет. Я бросил ему через плечо, что Баба только что проснулась, увидела расплетенную кудель и зовет на помощь Деда, потому что, если подует горный ветер, ее пряжа размотается по всем пропастям и провалам — иди собирай ее тогда!
Через несколько секунд из долины под нами донесся страшный грохот, как будто какой-то неуклюжий великан тяжело шагает по каменистому склону горы…
Думаю, что не солгу, если скажу, что после этого путешествия на Поющие Скалы шеф стал другим человеком. Как никогда прежде, за ужином он ел мало, пил едва-едва и почти не обращал внимания на Марину. Только слушал рассеянно жалобы Васила и на меня поглядывал порой как-то особенно…
Пока мы карабкались с Гаем по склону, я подумал, что не так уж страшен был бы подъем на Крачан, если бы не этот легкий ветерок. При этом, конечно же, не мешает иметь крепкие ноги и здоровые нервы, чтобы не гробануться вниз, в пропасть. Ну а если сорвешься — тут и Бог не поможет. Можешь кричать, стрелять, даже реветь белугой — никто тебя не услышит. Пропадешь здесь ни за грош. И если звери не разорвут тебя на клочки и не растащат по своим берлогам, тогда только весной обнаружат тебя — по запаху — люди из охраны или кто-нибудь из местных каракачан[1].
Ветра почти никакого, так — еле чувствуется движение воздуха, будто муха летает вокруг, а мне хочется ускорить шаги. Я неплохой специалист по этим диким местам и знаю, что зимние бури рождаются здесь, в Чистило. Из этого адского горла рогатый дьявол выдувает бесов, которые заполняют весь воздух вокруг беспощадной ледяной метелью…
Когда мне приходится делать что-нибудь неприятное или меня подстерегает опасность, я всегда насвистываю и думаю о смешном. Эта привычка осталась у меня еще со времен детского дома. Был там при мне один воспитатель, только у Диккенса я читал про таких. Это ничтожество морило нас голодом, день начинался и кончался пощечинами, которые сыпались как град, он заставлял нас делать совершенно бессмысленные вещи — и все это называлось «системой воспитания трудом». Я был самым маленьким и слабым, и бить он меня не смел, но придумал для меня особое наказание — подвешивал за поясок на медную вешалку в коридоре. И вот висел я там часами и, чтобы не реветь от обиды, научился свистеть и выдумывать разные разности. Например, я воображал, что умею летать или — это я любил представлять себе чаще всего — что у меня есть большая черная пантера, которая однажды прибежит и накажет моего мучителя. И потом, позже, я продолжал свистеть во время наряда вне очереди в армии, когда меня посылали мыть уборные или когда избивали на ринге и я сваливался в угол, как мешок с костями. И во время экзаменов, сидя напротив преподавателя, я свистел, и в издательствах и редакциях, когда отвергали мои плохие стихи, и стоя перед любым начальством… Только когда это произошло между мной и Надей, свист вроде как замер, заглох у меня внутри. Да, а поскольку свистел я всегда именно про себя, внутренне, то никто и не знает, что я, Боян Боров, лесничий по образованию, начальник заповедника по собственной воле, воспитанник детского дома, добровольно заточивший себя в этот Диарбекир[2], больше всего на свете ненавижу браконьеров, часовой график и книгу прихода и ухода, зато обладаю сверхъестественной способностью летать и до недавнего времени имел собственную черную пантеру. М-м, не совсем собственную, потому что она принадлежала и Наде, но это все равно. Я никогда никому не говорил об этом, потому что люди (я, конечно, не имею в виду болванов, таких, как я) верят в более конкретные вещи, чем в разные там полеты или в собственных пантер. И все-таки, когда лицо у меня сводит от внутренней боли и я держусь изо всех сил и ни перед кем спины не гну, находятся чудаки, которые задают мне странный вопрос: «Ты что, с неба, что ли, свалился?» Как будто они знают, что такое небо, и когда-нибудь пробовали реять над этими зубастыми ребрами гор. Вот стоит мне захотеть — и я уже сейчас могу взлететь над Пределом и темными головами Старцев, чтобы увидеть оттуда охотничью базу или старый орех и мельничный камень перед домом бабушки Элены в Дубравце. И если я полечу дальше в сторону заходящего солнца, то очень скоро достигну большого задымленного города, переполненного людьми с часами на руках. А что часы? Ведь и без них день — это день, а ночь — обязательно ночь.
А пока я пытаюсь обогнать сгущающиеся сумерки, я вспоминаю, что спектакль в театре на главной площади этого задымленного города начнется через час или два. Разодетые люди заполнят до отказа ярко освещенные фойе, потолкаются в буфетах, а потом тихо, воспитанно опустят свои задницы в удобные, мягкие кресла. В зале запахнет духами, туалетной водой и ацетоном, а еще свеженаписанной декорацией и нафталином. Наконец прозвенит последний звонок, разноцветные лучи прожекторов зальют сцену, и там — пред очарованными очами притихших зрителей — появится Надя…
Интересно, что было бы, если бы я не прервал полета, а такой, как есть, замерзший, обросший щетиной, со старым рюкзаком на спине и волкодавом Гаем у ног, вдруг возник бы перед ней, чтобы схватить ее и, по старому дедовскому обычаю, унести в тридевятое царство, тридесятое государство…
Гай уловил пугающую опасность в неподвижном воздухе, ощерился на безмолвное пространство, заворчал и рванулся вперед. Что делать — пришлось отвлечься от эффектной сцены похищения Нади из театра и погрозить псу кулаком — осторожно! А то увязнем в снегу! Мне не так уж часто случалось попадать в снежные бури у Поющих Скал, и, хотя ветер может в два счета сдуть нас в пропасть, я дорого бы дал, чтобы еще хоть раз, услышать песню Старцев.
Мне не пришлось долго ждать. В долине медленно нарастал и усиливался гул. Он поднимался вверх, повис над вершинами — и тут тысячеголосый хор Чистило запел… Звуки возникали и отрывались от Поющих Скал, стелились по онемевшему небу, от них шла разрывающая сердце нечеловеческая тоска. Я заслушался этой дикой мелодии — и пропустил начало метели. Спустя мгновение я уже не мог понять, что где, вокруг буйствовал снежный хаос, который сек лицо, слепил глаза и не давал дышать, уже не видно было ни Предела, ни обтесанного веками скалистого рельефа Старцев, не было неба, не было и земли, а была смесь снега и тьмы, в которой ослепленный Гай тыкался в мои раскоряченные ноги и затихал, зарывшись мордой в сугроб. Мне было жаль его, но сейчас не до его фокусов, и я резко подтолкнул его. Он, милый, понял меня, понял, что надо делать, ведь он очень умный и преданный пес. В общем, он выгнул спину, подставил голову напирающей стихии и рванулся левее дорожки, по которой я собирался двинуться. Чуть-чуть левее, но все же достаточно для того, чтобы не сорваться обоим со стометровой высоты в пропасть Поющих Скал. А они все поют и поют (ведь именно за это их и назвали так), подставляют свои острые ребра снежному вихрю, режут его на охающие, стонущие, воющие нити, жадно глотают их и загоняют в лабиринт скалистых проломов, чтобы тут же выдуть обратно в бушующий хаос… как из труб гигантского органа.
Мы все-таки наконец перевалили через Предел, буря осталась позади, и мы с Гаем весело бежали к базе. Лай Розы подтолкнул нас вперед и указал путь в темноте. Гай не выдержал первый и, забыв про всякую усталость, как стрела рванулся, опередив меня. Роза встретила его нахохлившись, точь-в-точь как сердитая жена, а он — мужчина же! — обошел вокруг нее с поджатым хвостом, покорно поскуливая и осторожно, ласково нюхая «даму».
Метель осталась в прошлом. Будто его никогда и не было — этого свирепого напора ветра у Поющих Скал. Тут, в долине, тихо, чувствуешь себя защищенным, в воздухе пахнет сосновыми щепками, свежей землей и сеном. Сквозь заснеженные ветки деревьев проникает свет — это окна в столовой и электрическая лампочка у входа на базу. Стоило мне войти во двор, как из-за склада появился олень Благой. Он элегантно и небрежно переступает на стройных ногах, подняв голову к небу, чутко нюхает вечерний воздух. И вообще похож на скучающего бездельника. Я протягиваю руку, он сначала чуть подается назад, потом тихо и осторожно касается меня огромными рогами, как будто приглашает: «Ну-ка, пойдем, побегаем! Посмотри, какая вокруг изумительная нежная ночь!»
По лестнице сбегает вниз Марина. По всему видно — она ждала меня. Шлепает галошами по дорожке, расчищенной от снега, останавливается в метре от меня, отбрасывает волосы назад и тихо улыбается:
— Вы сегодня совсем забыли про нас! Где пропадали?
— А Васил где? — Я умышленно не ответил на ее вопрос.
— Спит. — Она зябко поежилась в легкой безрукавке. Лицо ее оставалось в тени, но я видел — улыбка увяла.
— Как это? Как это — спит? — Я вдруг почувствовал, как во мне поднимается раздражение. — Он что — снова пьян?
— Да он еще с вечера не протрезвился… — Она протянула руку и рассеянно погладила Благого по влажной морде. — Встал во время обеда, потом снова надрался.
— А Дяко?
— Его еще утром вызвали в Дубравец — что-то с бабушкой Эленой стряслось.
Мое хорошее настроение мгновенно испарилось.
— Уборщица сегодня не приходила. Зато Митьо мотался тут недавно, — продолжала она свой «доклад».
— А ему что здесь надо? Он ведь сегодня отдыхает.
— Ты так говоришь, будто я его звала. Откуда мне знать, что ему надо…
Мне очень хотелось крикнуть ей, чтобы не изображала из себя дуру! Она очень хорошо знает, зачем здесь болтается этот породистый боров. Но я стиснул зубы и не промолвил больше ни слова. Потом попросил покормить собак, отошел в сторону и закурил. Не понимаю, откуда у меня появилась эта горечь во рту и почему сжимает горло. Может, оттого, что я просто падаю от усталости? Да нет, не от этого. Я заметил, что в моей жизни давно появились моменты, когда я и насвистываю, и даже песни пою, а настроение у меня все равно безнадежно портится.
К моим ногам прибился маленький мохнатый комочек. Я взял щеночка на руки, он смотрит на меня размытыми голубыми глазками ребенка, зверски рычит и делает отчаянные попытки вцепиться своими молочными зубками в мой палец. Месяц назад Роза родила три таких комочка. Один умер, потому что Роза рожала впервые — так объяснил Дяко. Каракачане из Большой поймы заладили как с ножом к горлу — отдай да отдай нам двоих оставшихся! Я им, конечно, отдам, но придется этот вопрос согласовывать со счетоводом управления. Он ведь что говорит? По штату нам положена одна собака, и заприходована — одна, и ревизоры записали — одна. Это Гай. А Роза живет у нас как бы нелегально. Вот этот счетовод и рассуждает: «Живет у вас на базе незаприходованная собака? Живет! Пользуется государственными продуктами (он имеет в виду объедки из нашей кухни)? Пользуется. А как это получается, если эта собака отсутствует в описи? Придет, скажем, ревизия „сверху“ и спросит — это чья собака и почему она получает государственный харч? Что я им отвечу, а?» И поскольку он и не подумает взять на себя ответственность за Розу, а я никогда и ни за что не смогу застрелить ее, придется просить управление издать приказ о дополнительной — второй — собаке…
Роза увидела у меня на руках малыша, поглядела зло и заворчала. Она у нас недавно и еще не забыла, как скиталась с одичавшими псами. Иногда она становится такой недоверчивой и злой, что даже Гай старается убежать подальше от ее волчьих зубов. И все же я думаю, что раньше она была добрым воспитанным животным, пока не накатилось на нас тотальное истребление собак. Этой весной люди объявили им войну из-за какого-то вируса бешенства. Кто бы знал, откуда он появился? Одни утверждают, что это лисицы виноваты, другие уверены, что вирус каким-то образом появился из-за границы. Только бабушка Элена говорит, что «бес» может тихо таиться где-то даже по нескольку лет, а потом вдруг выскакивает из своего укрытия и бежит гулять по свету. Вот, например, он очень любил отсиживаться в Чистило или Змеином овраге. А я попробовал возразить ей — так, мол, и так, никакого в нашем заповеднике и вокруг него беса нет. А она поглядела на меня как-то снисходительно и промолвила: «Неужто ты думаешь, что свет начинается и кончается здесь? Может, и в других местах есть и Чистило, и Змеиные овраги!..» Пожалуй, права бабушка Элена.
Так или иначе, но люди повели против собак настоящую войну, просто невиданную по размаху и жестокости. Тут пошли в ход все средства — отрава, электрический ток, пули, а чаще всего дубинки, камень и топор. Еще бы, треснешь собственного пса по голове — и все дела! А иначе тебя оштрафуют. Ну а если ты уж очень жалостливый и не можешь видеть крови, но и выложить из собственного кармана высокую собачью таксу тоже неохота, тогда сунь своего любимого друга вечером в машину и отвези за сто-двести километров от дома. А потом из-за этого в мире появляются одичавшие собаки, и их с каждым днем становится все больше — голодных, испуганных, недоверчивых, а иногда и свирепых, хуже чем волки. Они вкусили горечь человеческой неблагодарности и предательства и пережить это не могут…
Всю весну на нашей территории царил нейтралитет. Заповедник был тщательно охраняем, неприкосновенен для посторонних, которым строго запрещено было переходить его установленные границы на территории пятидесяти семи тысяч декаров, стиснутых между гигантской чашей водохранилища и скалистым горбом Предела. Война с собаками не коснулась нас — кроме единственного случая. Было это в мае. Однажды утром я увидел какого-то пса, который ворвался в заповедник и вовсю гнал дичь — остервенело, беспощадно. Я спустил Гая с цепи и науськал его по следам черного пса. И вот что меня тогда же очень удивило — вместо злобного рычания Гай, приблизившись к гонимому, издал восторженный звонкий лай. И я понял: впереди Гая бежала женская особь… Потом я увидел их вдвоем на берегу водохранилища и великодушно подарил Гаю жизнь Розы, потому что любовь среди них ничуть не слабее человеческой.
Малыш отчаянно скулил, и я спустил его на снег. Но вместо того, чтобы приникнуть к соскам матери, он мстительно накинулся на мои сапоги. Да, крепкий пес вырастет из него, каракачане будут довольны. У них и сейчас есть хорошие псы, но это не то, что было, — исчезла старая каракачанская порода собак, огромных, как телята, и к тому же молчаливых, зря никогда не лаявших. Нет ее, этой породы, как нет и тех каракачан, что жили здесь раньше. Кому-то пришло в голову приобщить их к цивилизации и расселить этих горных жителей по селам и городам. Потом их снабдили часами, устроили на работу, рассовали по курсам для получения профессии, истребили их собак. И чтобы увеличить рентабельность полудиких каракачанских овец, стали скрещивать их с какими-то иностранными рекордистами. Ну и вот что вышло — те, кто мотается сейчас по пастбищам Большой поймы, по сути, уже никакие не каракачане — потому что где это видано, чтобы каракачанин пугался «кампании ягнения» (а ведь когда-то они были настоящие профессионалы в этом деле!) и даже фураж для своего скота не мог бы обеспечить!..
Я никуда не спешу — впереди ночь. Молча наблюдаю, как Марина выносит щербатую лохань и справедливо распределяет еду между Гаем и Розой. Быстро отхожу назад, потому что собаки хоть иной раз и бывают добрее людей, но как дойдет до корыта, тут и проявляется их естество. Слушаю, как хрустят хрящи и кости в крепких челюстях Гая, как тонко посвистывает ветер в ветках старого дуба, и пытаюсь понять — почему мне было неприятно услышать о том, что Митьо был здесь. Марина странная женщина. Странная — и невероятно привлекательная, даже можно сказать, дьявольски соблазнительная. Когда она только появилась у нас, я подумал, что манера ее поведения — это просто обыкновенное кокетство, но прошло совсем немного времени, и я понял, что ей хочется не только нравиться, но и брать в плен…
Васил поступил к нам в прошлом году надзирателем и сразу же — буквально на второй день — заныл: так, мол, и так, товарищ Боров, пусть и жену мою возьмут сюда. Я пытался объяснить ему, что у нас не охотничий домик и не дом отдыха, а он все вертел и крутил и наконец признался откровенно, что боится оставить ее в городе. Молодая она, ладная, складная, из тех, что ни один бабник не пропустит без похабных приставаний. В общем, надоело мне слушать его скулеж, и я уж решил отослать его обратно в город стеречь жену, но тут нам вдруг разрешили еще одну штатную единицу: делопроизводителя и хозяйки в одном лице. Хозяйство у нас не так уж велико, но и здесь есть куча канцелярской возни. Это да еще благосклонное разрешение отца-начальника нашего Генчева решило вопрос — через неделю Марина прибыла на базу.
Мне сразу стало ясно, что отношения между супругами скверные. Васил следил за каждым ее шагом, вынюхивал и подслушивал, ревность его была открытой и грубой, а это толкало его коллег, других надзирателей во главе с Митьо, умирать от удовольствия и дразнить его всеми способами. Я пытался несколько раз и прямо и обиняком втолковать ему, что пора бы уняться, потому что, как сказал один древний писатель, легче уберечь блох в развязанном мешке, чем жену с хвостом трубой: в любой момент она, ежели захочет, наставит тебе рога. Но Васил послал к чертям древнего писателя и не пожелал больше меня слушать.
Потом я стал замечать, что Марина как-то странно ведет себя со мной. Прошло не так уж много времени, и я наконец понял причины наших «случайных» встреч в окрестностях базы и ее настойчивого стремления поговорить со мной наедине, неважно о чем — о чем угодно. Однажды я возвращался после своего обычного обхода и увидел ее — она купалась в Златинице совершенно нагишом. У меня не было сил отвести глаза от ее длинных, высоких бедер, смуглой кожи и груди с торчащими розовыми сосками. Я стоял как громом пораженный. Она видела меня, я ждал ее смущения, что ли, но она откинула назад длинные черные волосы и тихо улыбнулась. Страшное существо, просто-таки дьяволица… Все в ней трепетало и звенело, как натянутая — вот-вот лопнет — струна…
На другой день после моего позорного бегства с реки Марина стала проявлять заметный интерес к Митьо — улыбнется ему, а на меня поглядит сквозь ресницы насмешливо, даже с издевкой, и сердце у меня замрет, а потом сорвется куда-то. В общем, я очень быстро разобрался в том, что не только Митьо, но и все остальные ребята из охраны (за исключением, конечно, Дяко, который намного старше нас всех) с ума посходили из-за этой дьяволицы. Если говорить откровенно, это открытие меня огорчило, вернее, вызвало раздражение. Не то что я, например, почувствовал уколы ревности — такого не было — или я бы не мог преодолеть преграду между нами, которую сам же создал, а просто мне подумалось, что свалить замужнюю женщину — это не что иное, как грязный браконьерский номер. А Митьо, как видно, совсем другого сорта тип. Он не страдает никакими интеллигентскими комплексами, в интимных вопросах прям и лишен стыда, и, конечно же, стоит ей чуть ослабить вожжи, как он запросто завернет ей юбку.
Марина дождалась, пока собаки насытились, взяла лохань и молча пошла к базе. Мне показалось, что она хотела о чем-то спросить меня, но не решилась. И я хотел задать ей один вопрос, очень-очень важный вопрос, я мусолил его внутренне так и сяк, вертел на языке, но так и не решился произнести вслух, потому что меня пугал ее возможный ответ.
В общем, я швырнул сигарету в снег и двинулся вслед за ней. Первой моей заботой было отнести рюкзак и узел наверх к себе в комнату. Тут светло, тепло — и пусто. Так пусто, что просто в ушах звенит. Комната убрана, проветрена, печку разожгли, видимо, еще час назад. И так как уборщица не приходила сегодня на работу, значит, все это сделала Марина. Я сто раз говорил ей, что не нуждаюсь в ее заботах, но где-то в глубине души я не мог не признаться себе, что мне это приятно. Надя никогда не интересовалась, ел я или нет, что на мне надето, есть ли у меня чистая рубашка. Она вечно была занята какими-то своими проблемами и проявляла по-настоящему внимание ко мне только в постели. Она была нежной, родной, покорной, и я был счастлив этим. А в будни я привык сам о себе заботиться, и это меня совсем не тяготило. Наверно, поэтому я всегда стремился к идеальному порядку — чтобы каждая вещь была на месте и все сделано как следует. Надя называла меня педантом и раздражалась, когда я пытался как-то поддержать хоть видимость порядка в нашей сумбурной жизни. Как было не понять, что это не педантизм, а самая обыкновенная привычка, приобретенная за долгие годы детского дома, а потом казармы и студенческого общежития…
Наша уборщица, например, могла довести меня до бешенства своей неряшливостью. Она вообще немного не в себе, у нее редкие волосы, птичий нос, усохшая грудь, большой живот и тонкие, как прутья, ноги. Единственная причина, по которой мы терпим ее, — это ее трое детей. Дяко рассказывал, что муж ее подался куда-то несколько лет назад и от него ни слуху ни духу. Она приходит на базу, убирает две канцелярии, столовую и мою комнату, а потом относит в Дубравец почту — если она есть. И самое гнусное, что у этого несчастного, замордованного, полоумного существа любовь с Василом. Когда и как он успел свалить ее, черт их знает, но летом я случайно увидел, как они любились в густых зарослях бузины — в ста метрах от базы. Васил пыхтел, как перегруженный локомотив, уборщица верещала, как коза, а вокруг на траве белели разбросанные письма, отчеты, документы… Я никогда не видел со стороны, как это происходит меж людьми, и в ужасе бежал прочь. А потом узнал от Дяко и других, что Васил не пропускает и этих разнузданных толстозадых сельчанок, которые летом нанимаются к нам косить и копнить сено. Вот с той поры я возненавидел его страшно. Иногда мелькнет где-то его пьяная рожа, и меня просто трясет от одной мысли о том, что этот негодяй мог поставить рядом Марину с ее свежим, прекрасным, как изваяние, телом и эту изъеденную жизнью и годами полубезумную бабу с вздутыми синими венами на ногах…
Я швырнул одежду в гардероб, вынул из рюкзака завернутый пакет, развернул его и медленно разложил на столе шкуры, нож, патроны. Так. Проведем небольшой психологический эксперимент. Он не так уж оригинален, но все-таки надо попробовать.
Переодеваюсь, беру халат и спускаюсь на первый этаж. Становлюсь под горячий душ, стою под ним целую вечность и чувствую, как из меня выходит и вместе с потоками воды стекает прочь поглощенный за весь день холод. И когда становится совсем жарко, выключаю душ и гляжу в зеркало. На меня тупо смотрит оттуда весьма знакомый тип с мрачным небритым лицом, мокрыми волосами и приплюснутым носом. Собственная физиономия кажется мне до ужаса противной, и я едва удерживаюсь, чтобы не плюнуть в свое отражение. Ну ничего, сейчас причешусь и побреюсь (а я люблю бриться после горячего душа) и снова почувствую уважение к собственной персоне. А иначе невозможно — так ведь и до ипохондрии дойти легко! И тогда останется плюхнуться снова в ванну и резануть себе этой самой бритвой вены. Трагическая смерть Бояна Борова! Человек, отомстивший своей смертью всему миру! Боже мой, какая чепуха… Я все-таки люблю жить, я сросся с ней, с этой единственной проклятой изумительной жизнью, и никакая сила — я знаю — не может вырвать меня из круга…
Насвистывая, старательно снимаю с лица колючую щетину и с удовольствием проверяю гладкость кожи на щеках. Все в порядке. Одновременно с тем, как мое лицо очищается и снова приобретает обычный сносный вид, я чувствую, как внутри растет желание немедленно, сейчас же увидеть людей, у которых нет ничего общего с базой, с моей чертовой профессией, даже со мной лично. В последнее время желание податься куда-нибудь — куда глаза глядят — все чаще обуревает меня и невыносимо, настойчиво мучает — ну как зубная боль. И тогда мне остро не хватает шумной толпы в большом городе, детского крика у школы, набитых до отказа ресторанов, в конце концов мне даже хочется основательно нагрузиться, после чего почувствовать себя виноватым и немедленно отмыть свою отягощенную совесть. Нет, конечно же, я не собираюсь реветь, как школьница, но если откровенно — нервы мои на пределе. Если бы не сегодняшняя удача, я бы решил в понедельник явиться к шефу и положить ему на стол заявление. Потом напялить на себя нечто сугубо модное, набить карманы деньгами и двинуть куда-нибудь — например, на какой-нибудь шикарный курорт, где всякого товару — в том числе и бабья — пруд пруди… Ну а теперь, конечно же, ни о каком бегстве и речи быть не может — есть тайник и патроны для итальянского карабина, и, пока я не выужу из них всего, что мне нужно, я не сделаю отсюда ни шагу!
Через десять минут я вхожу в столовую, гладко выбритый и прибранный — как стиляга.
Марина ошалело глядит на меня. Она наверняка решила, что я сейчас заведу джип и ринусь в город. После расставания с Надей я ни разу еще не садился за руль.
— Ну что ты уставилась на меня? Дай поесть что-нибудь эдакое — царское! Беги наверх и возьми из буфета бутылку виски — из шефского фонда! Устроим сегодня вечером праздник! Если хочешь, соорудим и бар. А что, мы хуже других, что ли? Ты вот представь себе, что у тебя появилась возможность взлететь и подняться — ну, скажем, на семь километров вверх. И что ты оттуда увидишь? Проклятый Предел, Чистило и рожу своего мужа? Ну скажи, разве тебе не хочется увидеть огни, море огней — города, улицы, светящиеся рекламы, окна, витрины?.. И там миллионы людей живут своей жизнью и плюют на то, что мы двое гнием тут. Разве не так? А раз так — беги за бутылкой! И никакой второсортной ракии, слышишь? Будем пить виски за счет любимого шефа!
Марина продолжала смотреть на меня, проглотив язык от изумления, потом всплеснула руками и засмеялась:
— Ты, случайно, не слетел с катушек?
— Пока нет, но все может быть. Кроме того, у меня есть железный повод! Как узнаешь, в чем дело, сама голову потеряешь!
Та невольно схватилась за голову, расхохоталась и побежала на кухню. Через минуту передо мной на столе стояла «царская» еда: огромная миска тушеной фасоли и тарелка с солеными огурчиками. А Марина лихо повернулась и ринулась бегом на второй этаж. Я набросился с голоду на горячую вкусную фасоль, но при этом ни на секунду меня не покидала мысль о том, что вот сейчас я произведу «тонкий психологический эксперимент», выложу ей про нож и патроны, и как она к этому отнесется?..
Марина почему-то медлит, и я включаю транзистор. Батарейки к нему — ужасный дефицит, их приходится доставать с невероятными мучениями. Можно подумать, что это не паршивые батарейки, а по крайней мере атомные ракеты. Налегаю на огурчики и слушаю новости: что, где, когда произошло в мире, какие делегации и дипломаты прибыли к нам и кто их встречал, сколько мировых, европейских, межрегиональных и международных конференций, симпозиумов, встреч, семинаров, фестивалей и совещаний началось и закончилось в городах нашей страны. Я приятно удивлен из ряда вон выходящей новостью, что какая-то молочная ферма досрочно выполнила план по надою молока, умираю от смеха, слыша тупое объяснение неудач нашего футбола… А когда пошло сообщение о погоде, я готов был выключить транзистор, потому что метеорологи, как всегда, говорят только о Софии, а мы попадаем в «остальную часть страны», но на этот раз я навострил уши — «над всей страной обильные снегопады и метели, движение по многим дорогам и горным перевалам закрыто, сильный ветер вырывает с корнем деревья, опрокинуты опоры электропередачи».
Радиокомментатор берет интервью у какого-то начальника-путейца, и я чуть не падаю от смеха: он откровенно признается, что зима застала «их» врасплох (как будто мы живем на экваторе и сейчас не декабрь, а, как минимум, июнь!), но тут же обещает принять меры и преодолеть возникшие сложности…
Через полчаса возвращается Марина. Ее не узнать — хороша, как сказочная царевна! В позе манекенщицы она останавливается посреди столовой, глаза блестят, улыбка на все тридцать два зуба — падай на колени, и только. Да-а, с такой девчонкой где угодно не стыдно показаться… Но я не тороплюсь падать на колени, и Марина размахивает перед моим носом бутылкой виски.
— Мы празднуем или это одна болтовня?
— Празднуем, конечно! И музыку заведем, и сейчас бар устроим!
Марина взвизгивает от радости и кружится на месте. Платье развевается, и я вижу ее длинные, стройные, будто выточенные мастером, ноги… Вот проклятая девка, она, конечно же, соблазняет меня, и я это чувствую каждым мускулом своим. Хорошо, однако, что у меня нет этих мускулов в мозгу и я еще в состоянии рассуждать спокойно. Кроме того, я должен все время помнить: чтобы осуществить свой коварный план, я обязан вести себя непринужденно и весело. Конечно, я пока не собираюсь тащить ее в постель, но, с другой стороны, не дай бог второй раз оскорбить ее женское самолюбие! Как я тогда смогу задать ей вопрос, который не дает мне покоя целый день!
— А где музыка?
Она останавливается передо мной и ловкими нежными пальцами поправляет воротник моей рубашки.
— Беги за магом, тащи его сюда, а я сейчас создам здесь декорацию бара-ультра си!
Снова повернувшись, как в танце, и раздув легкое платье, Марина убежала. Я подбросил в камин несколько чурок, зажег три новых свечи, укрепил их на медном подсвечнике. Потом погасил электричество. Какой шикарной показалась мне наша столовая при мерцающем свете толстых витых свечей! Только из кухни пахло жареным луком, и этот резкий запах нарушал иллюзию. Еще одна идея осенила меня — я бросил к камину старую медвежью шкуру. В последний раз мы лежали на ней с Надей — и черной пантерой. Глядели на желтые язычки огня, молчали. Я еще не знал тогда, что это последняя наша ночь. Когда пробило двенадцать, у камина появилась пантера. Она лениво потянулась, зевнула и бесшумно легла между нами. Впервые пантера нас разделила — но и на это я тогда не обратил внимания, идиот. На другой день я возвращался с Предела и увидел Надю верхом на пантере у водохранилища… Платье на женщине вздулось от ветра, и я зажмурился — так ослепительно сияла ее белая кожа на черной шкуре зверя. Я осторожно уложил Надю в траву, пахнущую мятой. Пантера многозначительно кашлянула, поглядела на меня как-то особенно и, взмахнув хвостом — будто ей все это безразлично, — бросилась к подножию Старцев догонять огромных пестрых бабочек (совсем как кошка-фантазерка!).
Пантера сопровождала нас каждый вечер, пока Надя жила у меня на базе, но (удивительно деликатное животное) никогда не вскакивала на освещенный луной подоконник прежде, чем мы не вычерпаем до дна желания и нежность…
Да, все это было так давно, мне кажется — прошло уже тысяча лет… Теперь пантера редко навещает меня, иногда она пробирается в мои сны, стоит передо мной, уставится своими огненными зеницами и смотрит, смотрит… Интересно — моя жизнь изменилась бы, если бы я мог ее застрелить?..
В этот день мы любили друг друга в последний раз. Уверен — всю жизнь я буду помнить с предельной точностью каждую миллионную долю каждого мгновения этого последнего дня. Я лежал на спине, глядел в бездонное небо над Пределом и чувствовал рядом теплое благоуханное тело Нади. Она прислонилась ко мне с закрытыми глазами, подложила ладонь под правую щеку и заснула. Позади было сумасшествие ночи, она устала и спала тихо, я почти не слышал ее дыхания. Надя единственная в мире женщина, спящая так трогательно, беспомощно, как ребенок. Я сделал это открытие давно, и это наполнило мою душу еще большей — до слез — нежностью к ней. Мне очень захотелось курить, но я отбросил эту мысль — главное, не двигаться. Между высокими светлыми верхушками Старцев пробрался к нам легкий ветер, он пах чистотой и теплом. Я очень осторожно повернулся в Надину сторону (не разбудить бы ее), еще осторожнее положил руку на ее густые темно-русые волосы, мягкие, как ласковая морская волна. Потом едва-едва коснулся ее маленького прозрачного уха, потрогал губами золотистый пушок на детской тонкой шее — и тут она проснулась. Она входила в реальность сразу, без всяких переходов — просто открывала глаза, улыбалась и продолжала жить. Для нее сон был не чем иным, как детской хитростью — на одно мгновение, всего на одно мгновение опустить и снова поднять веки…
Она повернулась и обняла меня за плечи. Тело у нее было такое легкое и гибкое, что я совсем не чувствовал его тяжести. Ей передалось, видно, мое возбуждение, она слегка облизала губы, прерывисто вздохнула и позволила мне взять ее. Когда это происходило между нами, я вместе с нежностью всегда испытывал страх — такой хрупкой она казалась. Я никогда не позволял себе впасть в неукротимое безумие и дать волю жеребячьему бешенству. Иной раз создавалось впечатление, что она обладает мною, а не наоборот, и от этого я был еще более счастлив и еще сильнее любил ее… Потом мы тихо, без сил лежали рядом, и именно тогда, когда я решил, что Надя снова заснула, она встала, поглядела на меня со странной грустью и что-то сказала. Я не понял слов, потому что глядел восхищенно на ее тело, светящееся сквозь материю платья, которую пронизывало солнце. Промелькнул миг или прошла вечность, она снова повторила какие-то слова, глаза ее расширились от заполнившей их влаги и выражения ужасной тоски, она повернулась и побежала к базе.
Очень, очень медленно до меня доходил смысл ее слов, и окончательно прояснился он, когда на базе вместо нее я нашел письмо — короткое, наверно, давно написанное.
Больше я Надю не видел, если не считать того идиотского бракоразводного процесса…
Я услышал тихую музыку и обернулся — Марина стояла в дверях, держа маленький маг. Мой. Записи я старательно выбирал по своему вкусу. Я не люблю резкие, крикливые голоса и дикий вой электрогитар. Марина опустилась на стул возле меня. Она была задумчива и грустна — совершенно неожиданно для меня, ведь только что ее глаза сияли радостью, что же случилось за эти несколько минут?..
— Я закрыла наружную дверь. Мне кажется, надвигается гроза…
— А Васил где?
Это был самый идиотский вопрос из всех, которые могли бы прийти в голову. Но имя мужа не произвело на Марину ровно никакого впечатления.
— Спит.
А если бы я сейчас рассказал ей про Васила и уборщицу? Или тех толстозадых селянок? Как бы она повела себя?.. Тьфу ты, что за гадость лезет в голову… Тем более что и она наверняка не святая и тоже изменяла ему, и не раз… И что особенного в том, что она сделает это снова сегодня вечером? Да, да, со мной! Я могу немедленно заарканить ее, но не буду, не буду этого делать, потому что она сейчас похожа на испуганного ребенка. В неровных бликах огня ее глаза кажутся огромными и на самом их дне, в непроглядной черни, то и дело вспыхивают снопы искр.
Я наливаю виски, подаю ей бокал, слегка притрагиваюсь к нему своим. Раздается мелодичный звон. Она пьет, не отводя глаз от огня в камине.
— Мне хочется напиться сегодня вечером, Боян.
— Ну-ну, в барах люди не тоскуют, а веселятся и трясут задами до посинения!
Я нарочно стараюсь быть развязным, грубым. Никакого впечатления.
— Я никогда не бывала в баре. В дискотеке была, но это еще перед тем, как замуж вышла.
Глаза у нее вдруг теплеют, улыбаются — наверно, воспоминания о танцах в дискотеке приятны ей. Она опускается на медвежью шкуру, подпирает щеку ладонью, и волосы ее как черный водопад текут на белый мех. Я смотрю на нее, и в голову приходит странная мысль: интересно было бы поставить рядом ее и Надю — кто окажется красивее?! Конечно, это было глупо. Однако где-то внутри у меня беснуются сто тысяч темных зверьков… Я прошу ее:
— Расскажи мне что-нибудь о себе.
Она тянет виски, слегка морщится, потом тихо смеется, откинув голову. Блестящие глаза ее — дикие глаза жадной хищницы — искрятся. Удивительно, как быстро меняется настроение у этого странного существа…
— Зачем тебе это? Ничего нет интересного в моей жизни. Закончила экономический техникум, пыталась поступить в институт, не приняли, поболталась год-два и познакомилась с Василом, он тогда еще работал в городе…
Биография Васила мне была известна, но я решил не прерывать ее, мне было очень любопытно, как это она, Марина, умная красивая молодая женщина, могла связать свою жизнь с такой скотиной. Однако она сама остановилась на полуслове и замолчала.
— Я хочу сказать тебе кое-что, но обещай, что не будешь сердиться…
Я сжал обеими руками рюмку и опустился на шкуру. Я должен, должен ей сказать!
— Знаешь ли, по-моему, этот человек не стоит тебя, не заслуживает он такой жены!
— Знаю, — глухо ответила она и вылила виски в камин. Огонь сердито вспыхнул и заворчал. — Пошли танцевать!
Первая вскочила, рванула меня за руку и, когда я поднялся, впилась в меня, обвила руки вокруг моей шеи, положила голову ко мне на грудь. Ее густые, как грива дикого животного, волосы одуряюще пахли лавандой. Наш танец стал скорее похож на объятия.
— Если бы Васил увидел нас сейчас, он убил бы нас обоих…
Голос у меня почему-то охрип, я изо всех сил старался прогнать прочь этих черных мохнатых зверьков, а они — назло мне — совсем ошалели и бились под грудью, в руках и ногах, черти бы их взяли!
Я взял Марину за подбородок, приподнял ее голову вверх, не мог устоять от желания поцеловать ее. И вдруг увидел — она плачет. Я не успел даже спросить, что случилось, а она, задыхаясь и глотая слезы, стала быстро рассказывать: Васил давно стал чужим, с того самого дня, как она попала в его дом, пил, грубо ругался, становился бешеным от ревности… Он бы мог полечиться и перестать пить, но от проклятой ревности его не вылечит никто и никогда! А ты знаешь, что это такое — годы и годы он следит за каждым моим шагом, движением, улыбкой, случайно сказанным словом, подозревает во всех смертных грехах и ревнует ко всем и ко всему!.. Он будит меня ночью и допрашивает, почему я смеюсь во сне, роется в моих детских дневниках и письмах…
Откровенно говоря, я малость растерялся от этого потока признаний и решил подбодрить ее какой-нибудь пошлой шуткой — что еще мне оставалось делать, — но она снова тесно прижалась ко мне и, чуть успокоившись, заявила, что справится со всеми своими проблемами сама. И на развод подаст обязательно, нужно только чуть подождать. В первый раз в жизни здесь, на базе, она почувствовала, что нужна, нужна людям и животным, и готова делать любую работу, какую угодно, только бы не возвращаться в опостылевший дом мужа…
Я терпеливо ждал, когда совсем уляжется ее волнение, осторожно отстранил ее от себя, усадил на медвежью шкуру и сел рядом. Потом долго-долго шевелил кочергой угли в камине, вынул один из них совком, прикурил от него. Время будто остановилось.
— Ты знаешь, я сегодня добрался до Чистило…
Марина молча глядела на меня, в глазах у нее я увидел не столько тревогу, сколько живой интерес — а что дальше?
— И там я нашел тайник… Внутри в нем были патроны для итальянского карабина и нож…
Я внимательно следил за ней. Абсолютно никакой реакции. Я нарочно повторил еще раз:
— Патроны… и нож.
— Правда? — откликнулась наконец она без всякого напряжения в голосе. — Интересно. Именно это мы празднуем сегодня вечером?
— В какой-то мере. Только…
— Что — только? — Она слегка подалась вперед.
— А вот что: я хочу поблагодарить тебя. Ведь это ты, именно ты подсказала мне мысль о тайнике и где его искать, но целый день я не могу успокоиться и все спрашиваю себя: откуда тебе это известно?
— Что за чепуха! Я вчера сказала про тайник просто так…
— Неправда, Марина! Ты знала, знала, где его искать! От кого? — Теперь пришла моя очередь волноваться.
— Перестань воображать всякую чушь! Просто пришла мне в голову такая возможность, вот и все. Что же тут непонятного?
Голос у нее стал резким, и смотрела она на меня уже не как пять минут назад, а с вызовом и даже неприязнью.
— Послушай, милая, давай-ка поговорим по-человечески! — Я придвинулся ближе к ней, снова налил ей виски. — Я буду с тобой совершенно откровенен… Ты же сама видишь — я бьюсь в глухую стенку из-за этих муфлонов, и это длится уже два года. Я совсем одичал, день и ночь шастаю по горным тропам, а о браконьерах — ни слуху ни духу, ни единого следа обнаружить не могу! И давно у меня появилась мысль, а вернее, даже подозрение, что кто-то из наших им помогает. Но кто? Кто?! Вдруг ты так, между прочим, советуешь мне поискать тайник в Чистило — и он действительно оказывается там. Ты хотела помочь мне, понимаю и очень благодарен тебе! А теперь давай подумаем вместе — от кого ты могла узнать о тайнике? Только от Васила и Митьо. Дяко я верю как самому себе, остальным из охраны — тоже…
— А почему ты подозреваешь именно Васила и Митьо? Почему только их?
— Потому что никто другой не доверил бы тебе такую тайну! А они могли! Васил тебе все-таки муж, ну а Митьо…
— Что? Что Митьо? Ну договаривай!..
— Но ведь у тебя с ним…
На этот раз она вскочила на ноги, как разъяренная кошка, еще секунда — и она вцепится мне в глаза.
— Дурак! Ты ради этого устроил этот идиотский «бар», да?!
— Погоди, погоди, Марина… — Я схватил ее за руку и силой заставил сесть обратно. Да, надо рассказать ей обо всем, хотя это довольно старая история. — Я должен, должен выяснить все, пойми это! И дело не только в муфлонах, не только!.. Понимаешь, карабин, который я ищу, — итальянский! Тебе это ничего не говорит, но я объясню…
Я заметил, что кричу очень громко, вздохнул поглубже и заговорил чуть медленнее и тише:
— Ты, может быть, слышала, что много лет назад был убит мой отец… Точнее, с тех пор прошло двадцать лет. А ты знаешь, что его убили из итальянского карабина?! Не знаешь… Значит, тут дело идет не об одних муфлонах… это касается гораздо больше меня лично… Может быть, именно из этого карабина кто-то стрелял ему в спину там, под Пределом!.. Поэтому я должен найти и карабин, и его владельца. Без этого я теперь не успокоюсь…
— Но… — Марина застонала и попыталась вырвать руку из моих тисков. — Но я ничего не знаю… Откуда мне знать…
Тут настала моя очередь вскочить на ноги. Какой-то бес окончательно овладел мною. Я еще крепче стиснул ее руку, рывком заставил подняться и потащил по лестнице на второй этаж. Распахнув ногой дверь моей комнаты, я поволок Марину к столу и с силой нагнул ей голову.
— Ну? Ты видела эти патроны? Говори же!
— Больно…
Марина еще раз попыталась выскользнуть из моих рук, но вдруг обмякла и тихо заплакала. Вот этого я не ожидал. Если есть что-то способное вывести меня из равновесия, то это именно женские слезы. Гнев и ярость мгновенно улетучились, мне стало жаль ее, я подвел беднягу к кровати, усадил и сел рядом.
— Ну-ну, успокойся! Я не хотел причинять тебе боль, извини, ради Бога…
Прошла минута-другая, и я подумал, что, в сущности, она не такая уж скверная женщина. Если бы мы стали любовниками еще летом — а это было более чем возможно, — вся история с карабином и проклятым тайником давно выплыла бы наружу и прояснилась. Но тогда я бежал от соблазна и даже от одной мысли об этом — потому что мне казалось, что стоит хоть раз соединиться с другой женщиной, и я тотчас же навсегда забуду Надю…
Марина постепенно успокоилась, и я вдруг услышал:
— Погаси свет, иди ко мне, я расскажу тебе все…
Я подошел к выключателю, а когда вернулся, Марина лежала вытянувшись на моей кровати. Я лег рядом с ней, обнял ее, но она была неподвижна и холодна. И когда начала говорить, меня поразил ее голос — тихий, усталый и грустный.
— Я была одна в комнате, дверь была открыта, и я услышала: кто-то вертит ручку полевого телефона… Это было в июне, перед этим снова убили муфлона… Я очень удивилась — кто может звонить в школу? Там ведь никого нет… Я выглянула и увидела внизу у входа возле телефона Митьо. Он держал трубку, и было слышно, как он наказывал кому-то: «Стада наверху, под Старцами… Возьми карабин, но только с одного выстрела, понятно?..» А потом предупредил, чтобы «этот», с кем он разговаривал, осторожно вернул карабин в Чистило… И еще сказал, что тебя нет, ты уехал в город, а Дяко и другие ребята из охраны переправились на лодке на другой берег… Долго он так говорил, потом повесил трубку и вышел. А на следующий день я узнала, что еще одного муфлона уложили…
— Почему же ты сразу мне ничего не сказала?!
— Сама не знаю… Наверно, потому, что сначала не поняла, о чем идет речь, а потом никак у меня этот разговор не вязался с убийством муфлона… Это уже недавно, несколько дней назад, меня вдруг как обухом по голове ударило — а ведь здесь, наверно, есть прямая связь! Но все равно окончательной уверенности у меня не было и нет…
— Ты говорила кому-нибудь о том, что слышала?
— Нет, никому.
Так. Значит, Митьо. И кто-то неизвестный, кому он звонил в бывшую школу в Зеленицы. В ту самую школу, которую мы используем как склад и летнюю базу для косарей… Это единственное строение в заповеднике, кроме нашей базы. Кто же это был, тот «другой»? Кто-то из Дубравца?..
Вдруг я почувствовал, как тело мое обмякло, нервы, только что напряженные до крайности, расслабились и меня охватил глубокий сонный покой. Я прижался щекой к груди Марины, обнимая ее все крепче, а черные зверьки бушевали уже вовсю… И тут мне показалось, что я слышу чьи-то тихие шаги в коридоре, как будто кто-то крадется на мягких лапах к двери… Ага, значит, она все-таки вернулась и еле слышно царапает коготочками дерево… Вернулась!
— Ты слышишь? — Марина вцепилась в мои плечи, глаза ее округлились от ледяного ужаса. — Там кто-то есть…
— А, это всего-навсего пантера, обыкновенная черная пантера с зелеными глазами и красным языком! — беспечно хохотнул я и крепко поцеловал Марину в губы. — Хочешь, я познакомлю тебя с ней?
— Не шути, Боян, Бога ради… Мне страшно!
— А ну-ка марш отсюда! — зашипел я, обернувшись к двери. — Марш, проклятый котище! Ишь как напугал девчонку…
Марина внимательно посмотрела на меня, поняла, что это всего лишь шутка, и тоже тихо засмеялась.
— Это, наверно, трещат потолочные балки, здесь ведь жарко…
Я снова обнял ее и стал отчаянно и жадно мять ее божественное тело, а она еле слышно просила, чтобы я никому не говорил о том, что с нами произойдет сейчас, а я также тихо, уже почти не владея собой, зашептал, что никому не скажу, что это будет длиться, длиться и мы станем браконьерами…
Она хотела снять с меня рубашку, было действительно жарко, но у меня не было сил оторваться от нее, и я боялся снова ощутить страх, который преследовал меня с первого дня ее появления на базе, — если случится то, что произойдет сейчас, я навеки забуду… Словно подслушав, что творилось в моей душе, Марина, задохнувшись, шепнула, что пора уже забыть, забыть эту мою Надю, она, наверно, давно уже устроила свою жизнь и завела тьму любовников…
А вот этого говорить не надо было, черт бы ее подрал совсем! Не надо было…
Туман рассеялся, голова стала ясной, как зимнее утро. Я поднялся с кровати, мне хотелось выругаться и больно обидеть Марину — ну какого дьявола она произнесла это имя… Но на этот раз она совершенно не поняла, что со мной произошло, и все пыталась обнять меня и заставить снова лечь с ней рядом. Руки у нее были горячие, полуприкрытые глаза затуманились желанием. Но я грубо оттолкнул ее, ринулся к выключателю и зажег свет. Она в ужасе вскочила, одернула мятое платье, лицо ее вмиг побелело.
— Боян… Что с тобой? Почему?
Ярость накипала с каждой секундой и переполняла душу.
— Васил, наверно, прав, когда следит за каждым твоим шагом! Небось вертишь хвостом перед всяким, кто поманит… И с Митьо наверняка путалась, поэтому и молчала и скрывала все его художества!..
Она смотрела на меня с такой зверской ненавистью, что я поверил — она могла бы меня сейчас убить, будь у нее в руках нож или карабин. Но до стола, где лежал нож из тайника, было далеко, к тому же я загораживал ей путь.
— Ах ты… мерзкий, грязный евнух! Импотент! — выдохнула она на крике, рванулась к двери и вмиг исчезла.
Я стоял оглушенный; к ярости, раздиравшей меня на части, прибавились обида и боль. Как же ей не совестно, гадкой девчонке, ведь она лучше, чем кто другой, знает, что стоило мне только пальцем пошевелить, и она давно стала бы моей или здесь, у меня, на этой самой кровати, или в долине Златиницы, какой-нибудь обезумевшей летней ночью! А может, это мне только кажется, а на самом деле она лишь играла со мной, как кошка с мышью?
Да, я сам себе казался пнем, колодой, чересчур сдержанным тупицей, но мне было больно. Пню тоже больно, когда его секут топором. И не мог, не мог я преодолеть какой-то внутренний барьер, это было сильнее меня… Не мог даже тогда, в суде, когда душа рвалась сделать шаг к Наде, оттащить ее в сторону, расцеловать и увести прочь из этого полутемного затхлого зала! Какие у нее были тогда глаза… До сих пор у меня жжет внутри при воспоминании о них… Я представлял себе вытянутые физиономии судей и заседателей при виде того, как «истица» и «ответчик», обнявшись, бегут из зала суда! Ну а вдруг ее глаза лгали? Что тогда? Ах, хоть бы моя пантера появилась и подсказала, что делать. Ясно было одно: Надя не могла играть в театре в Дубравце, потому что тут нет театра, а я не мог стеречь муфлонов в городе, потому что в городе нет муфлонов. И было бы жестоко и бессмысленно мучить друг друга дальше. Но разве могла все это понять судья с бесцветным лицом и угасшим взглядом, у ее ног стояла старая базарная кошелка с продуктами, и она все время проверяла — здесь ли кошелка, не стащил ли ее незаметно кто-нибудь. Разве видела она, как Надя бросила компанию этих слюнявых сопляков и отвела меня из спортзала в общежитие по причине моей разбитой физиономии? Она и ее заседатели, такие же серые и усталые, ничего этого не видели и не знали, а теперь требовали, чтобы мы рассказывали о самом личном, о чем знали только мы двое. Дудки! Я молчал весь процесс, как тот самый пень…
На базе — невыносимо тихо. Я прислушиваюсь к тишине, похоже, метель все-таки преодолела Предел и щедро залепила мое окно снегом. Я страшно устал, мне смертельно хочется спать, но взгляд снова падает на патроны и нож. И вдруг рождается безумное, нестерпимое желание немедленно, сейчас же увидеть Надю или хотя бы услышать ее голос. Впрочем — не вдруг. Лишь теперь я отчетливо понимаю, что это желание пробивалось все эти месяцы сквозь мое ослиное упрямство и проклятую «твердость», оно давило и гнуло меня, как тяжелый пресс… Да, это было так, а я пытался вырваться из-под этой тяжести, обмануть себя, уговорить, что живу и даже к чему-то стремлюсь… Теперь я знаю, что делать: я найду, обязательно найду карабин, найду Надю, даже если она где-то на краю света, швырну ей в ноги громыхающее железо и скажу: «Вот, ради этой мерзости, ради этой блевотины человеческого мозга я не мог остаться в городе. Ради этого, да еще ради выплаканных глаз бабушки Элены и одинокой могилы под Пределом…»
Поймет ли она меня?
Лихорадочно завернул в кусок промасленной шкуры нож и патроны, оделся, погасил свет и ринулся вниз, в снежную ночь. Разогрел двигатель джипа, медленно тронул с места, поднимая задними колесами белую круговерть. Окна столовой были ярко освещены, у одного из них я заметил неподвижный силуэт Марины.
II
Чтобы сократить путь, я решил проехать прямо по стене водохранилища. По одну сторону от меня зияла пропасть, невидимая в темноте, по другую — мягко чавкала вода, миллионы кубических метров воды, затаившейся в непроглядной мгле декабрьского вечера и накрывшей собою маленькие горные пастбища Зелениц, луга и огороды, фруктовые сады и старые сельские могилы без надгробий.
Я выполз наконец на шоссе и понял, что по скользкой дороге придется ехать медленно и осторожно, иначе недолго и сковырнуться, и все-таки у меня достало времени и сил оглянуться назад, где среди океана тьмы ярко горели электрические огни дачной зоны. Она расположилась по другую сторону водохранилища и не имеет никакого отношения к нашему заповеднику, однако с завидным упорством наступает на него, как жук-древоед, крадется все ближе к нашим границам и уже подобралась вплотную к нам. Я ненавижу эту дачную зону и, если бы мог, а вернее, имел право, приказал бы срыть ее начисто бульдозерами. Так, как срыли десять лет назад сельские домики Зелениц. А потом привел бы сюда механические опрыскиватели и дезинфицировал бы почву…
Через три минуты я уже двигался по заснеженным улицам Дубравца. Еще нет и десяти часов, а село уже спит как мертвое. Яркий свет фар выхватывает из темноты огромный заиндевелый сук, свисающий из-за ограды, рванувшуюся из-под колес испуганную собаку, круглые блестящие глаза сбившихся за забором овец.
На почту идти нет смысла — она в это время наверняка закрыта. Вечером в городском отделении связи вытаскивают штекер и отключают Дубравец от всего света, оставляя в полном одиночестве. А может, это даже лучше?.. Короче, я останавливаюсь перед общинным советом. Тут должен быть дежурный, но вряд ли я достучусь в главный вход — он, наверно, спит там, как медведь в берлоге. Пожалуй, нужно обойти дом. Да, так и есть — на втором этаже, там, где здравпункт, в окошке я увидел свет. За тонкой занавеской мелькнул силуэт женщины. Вот это удача! Нажимаю на кнопку звонка раз, другой, еще и еще раз и слышу легкие быстрые шаги — кто-то бегом спускается по лестнице. Поворачивается ключ в замке, двери распахиваются, на пороге — какая-то незнакомая женщина. Она возбуждена и, видимо принимая меня за кого-то другого, спрашивает:
— Ну что? Началось?
— Что началось?
— Как — что? Роды!!!
— Простите, пожалуйста, но я пришел сюда не рожать, а звонить по телефону — он тут единственный, по которому можно связаться с городом, вон там, в комнате дежурного…
Наверно, я разглядывал ее слишком бесцеремонно, потому что она поспешила поправить волосы. Мы незнакомы, но, мне кажется, я видел ее раза два-три… Все дело в том, что в Дубравце нет акушерки. И доктора тоже нет. А вот фельдшерско-акушерский пункт есть. Сюда два раза в неделю приезжают врачи из районного центра или из города. Побудут с утра до полудня, посмотрят кого-то из стариков, рецепты напишут и — обратно.
— Понимаете, я жду сообщений об одной роженице, поэтому я думала… — смущенно пытается объяснить женщина, почему она приняла меня за кого-то другого.
Я пожелал ей успехов и двинулся к комнате дежурного, но она остановила меня:
— Если вам нужен телефон, можете позвонить из здравпункта…
— Ну если это вам не помешает…
Поднимаюсь следом за ней по лестнице, здесь пахнет лекарствами и дезинфекцией — как в больнице. Вся комната будто излучает белый свет. Женщина показывает, где стоит аппарат, и деликатно удаляется в соседнее помещение. Набираю код города и номер, от волнения влажнеют и липнут к трубке руки. Линия свободна, жду — вот-вот прозвучит ее голос. Молчание. Лихорадочно соображаю: спектакль закончился в полдесятого, пятнадцать минут в гримерной — снять костюм и грим, еще пятнадцать — добраться до квартирки, где она сейчас живет… Значит, она уже должна быть дома… упорно держу трубку, слушаю мелодичные длинные гудки и представляю себе — вот Надя выходит из ванной, поправляет перед зеркалом влажные волосы, поднимает трубку…
Акушерка возвращается, принося с собой аромат крепкого кофе. Прозвучало уже тридцать сигналов — я посчитал. Кладу трубку и вдыхаю дивный запах — больше всего на свете мне хочется сейчас выпить этот душистый кофе, большую чашку или даже кружку. На добром лице акушерки сочувствие — не отвечают? Наверно, там уже спят, надо подольше подержать трубку.
— Нет, там не привыкли рано ложиться… А вы… вы варите кофе?
Она улыбнулась, ушла в другую комнату и через несколько секунд вернулась с двумя огромными чашками на маленьком подносе. Я взял предложенную мне чашку. От нее шел густой пар. Кофе оказался действительно крепкий и на редкость вкусный.
— А у вас тут пахнет больницей, — произнес я первое, что пришло в голову, просто чтобы начать разговор.
— Знаете, все так говорят, а я совсем этого не замечаю… А вы позвоните еще раз попозже — человек, который вам нужен, наверняка откликнется…
Благодарю тебя, милая, за поддержку моего утомленного духа, но давно и хорошо знакомое мне тревожное предчувствие, увы, заставляет меня думать иначе. Вот, кажется, все вокруг меня в порядке, все как нужно, а тут обязательно случится что-то неожиданное, неприятное. И это самое «что-то» проникает в сознание сначала не как мысль, а как образ. Вот и сейчас… я будто воочию вижу неясные очертания маленькой женской фигурки на смутном белом фоне. Но нет, это не снег, а фасад дома, который я где-то видел… да-да, до омерзения роскошная постройка с венецианской мозаикой и двойной телевизионной антенной… А эта антенна там, наверху, похожа на огромные рога Благоя… От крыши вниз по фасаду на белой стене ржавеют кровавые пятна мозаики. Понятия не имею, что это за дом, но я его ненавижу. Когда этот всезнайка расписывал свою дачу с венецианской мозаикой и сиропным названием «Очарование», в Надиных глазах светилось восхищение и она с жалостью смотрела на меня. Почему я вспомнил об этом именно сейчас?..
Я попросил разрешения закурить, акушерка мило кивнула и открыла дверь в коридор. Однако ни сигарета, ни кофе не помогали, видения продолжали одолевать меня, и вот Надя уже далеко-далеко, на другом конце планеты, чужая, холодная, безразличная — не моя! Но ведь это просто невозможно, Надя — это Надя, и вдруг она попала в беду, а я не знаю этого и не могу ей помочь… Или… Следующая картина — она столь ужасна, что я едва не роняю на пол чашку! В первый раз со дня знакомства с Надей мой мозг буквально дырявит эта мысль, я готов зареветь от боли и отвращения, меня тошнит так, как это было, когда я увидел в кустах бузины Васила и уборщицу, только сейчас вокруг Нади и какого-то потного, склизкого животного не трава, а смятые простыни… Господи, Господи! Неужели это возможно? И права Марина?..
— Вам нехорошо?
Акушерка участливо смотрит на меня.
— Нет-нет, ничего, — я силюсь улыбнуться. — Просто немного устал, а так все в порядке. Спасибо большое за кофе.
— Вы еще будете звонить?
— Если я не помешаю вам — попробую к одиннадцати, то есть… — я поглядел на ненавистные часы (с удовольствием разбил бы их вдребезги!), — через двадцать минут…
— И вовсе вы мне не мешаете. Я и так жду не дождусь, когда меня позовут… А вообще-то я знаю, кто вы… — Она улыбнулась, как бы стесняясь чего-то. — Я видела вас несколько раз, когда приезжала сюда из райцентра. Сельчане зовут вас Лесничий.
— А вас — Докторша-акушерка, верно? Ну, они так привыкли, по профессиям называть, вы не сердитесь на них.
Она снова улыбнулась.
— А я и не сержусь.
Я смотрю на нее и думаю о том, что там, в Козарице, какой-нибудь доктор наверняка спит с ней. Наверняка все сельские доктора спят с акушерками и сестрами, если только им меньше пятидесяти и они не уродливее крокодила… Господи, до чего же я опустился, сижу здесь и про себя иронизирую над этой чуть увядшей, но, в сущности, доброй женщиной…
К черту, к черту все! Буду звонить в эту проклятую квартиру хоть целую ночь! До утра. Пока не ответит! И почему я до сих пор не сделал этого? Ну пусть Надя выругает меня, пошлет ко всем чертям, пусть! Но я услышу, снова услышу ее голос… Сердце замерло от одной этой мысли. И может, что-то начнется снова?
— Я вижу, вы действительно устали, вам нужно отдохнуть.
Я вздрогнул — совсем забыл об акушерке, забыл вообще, где я нахожусь. Надо бы поддержать какой-нибудь разговор и протянуть время до одиннадцати, ведь я твердо решил позвонить еще раз. Если Надя сегодня занята в спектакле, она могла после этого пойти куда-нибудь поужинать… Надо подождать.
— А почему женщины остаются здесь, в Дубравце, рожать? Почему не идут в роддом?
— Тут особый случай… я приехала сегодня автобусом, сегодня мой день консультаций… Мне позвонили, что у этой женщины начались боли, а по нашим расчетам ей осталось еще две недели до родов, но, когда я осмотрела ее, выяснилось, что ребенок уже пошел…
— А вы знаете, что путь на Козарицу закрыт? На северных склонах намело столько сугробов, что сейчас никак не добраться до города… А вы сумеете?..
— Сумею? Что? — Она не поняла меня.
— Ну… помочь ей здесь…
— Конечно, сумею! — рассмеялась женщина. — Я не знаю, будет ли это вам интересно, но я тут занялась статистикой… Это седьмой ребенок, который родится здесь, в Дубравце. За этот год. А раньше — десять, пятнадцать лет назад — в селе по сорок-пятьдесят детей прибывало. Можете себе представить.
— Десять лет назад Дубравец слили с Зеленицами.
— Зеленицы? Не знаю, не слышала…
— Село осталось на дне водохранилища, а жители переселились сюда. Вернее, не все, малая часть. Большинство сбежали в город… Да, а вы говорите, что здесь в этом году родилось семь детей?
— Седьмое еще не родилось!
— Понятно, но может родиться в любую минуту. А вы знаете, сколько стариков умерло в селе? В два раза больше. Село стареет — вот ведь в чем дело…
Она смотрела на меня не отрываясь и слушала внимательно. И мне стало интересно разговаривать с ней.
— Тут как-то приезжали сюда начальники и выступали перед людьми. У Дубравца, говорят, нет перспектив, нет будущего, село отмирает, изживает себя и еще что-то в этом роде… Отмирает. А двадцать лет назад, когда я пошел в первый класс, школа была переполнена и мы учились в две смены…
— Вы кончали местную школу? — Она была искренне удивлена. — А я думала, вы из города.
— Я и сам не знаю точно, откуда я, но здесь я учился меньше месяца.
Женщина отошла к окну, слегка раздвинула занавески и задумчиво поглядела в темноту. Я снова стал вертеть телефонный диск. Снова те же мелодичные сигналы — и снова никакого ответа. Целых пять минут я держал трубку и слушал длинные гудки, пока наконец понял, что все это бессмысленно: Нади нет дома и я не услышу ее. Мир погружен в молчание.
Я с трудом поднялся, поблагодарил акушерку за кофе, и в тот момент, когда я направился к выходу, звонок у входной двери резко зазвонил, потом чьи-то кулаки забарабанили по деревянной двери, кто-то снова бешено затрезвонил в звонок.
— Началось!
Акушерка бросилась в другую комнату, где стояла белая кушетка — я рассмотрел на ней приготовленное пальто, шаль, большой докторский саквояж и кипы чего-то белого в полиэтилене. Женщина мгновенно натянула пальто, схватила все остальное в охапку и буквально вытолкнула меня в коридор. Я припустил бегом вниз по лестнице, она следом, я крикнул ей, что отвезу ее на джипе, он стоит с другой стороны у почты.
Я распахнул дверь, и какая-то огромная неуклюжая фигура чуть не сбила меня с ног.
— Эй, люди! Да поскорее же! — раздался низкий хриплый мужской голос. — Она уже там рожает! А вы тут возитесь!
Вдруг мужчина узнал меня и крепко схватил за плечо:
— А, это ты, Лесничий, а я думал, доктор прибыл…
Я отвел обоих к джипу, усадил, включил мотор. Мужчина сзади то и дело толкал меня в спину — по всему видно, волновался очень.
— Ну давай же, Лесничий, жми на педали! К верхней улице двигай, за церковью…
Я рванул с места, погнал что есть силы, на каком-то повороте мне показалось, что я сейчас врежусь в ограду, я резко нажал на тормоз, акушерка полетела вперед и уткнулась мне в спину — я снова ощутил карболковый запах больницы, — и мне вдруг стало весело. Мы мотались по заснеженным улицам, метель била в стекла, возле меня сидел муж — уже «под градусом», — и все это было прекрасно. Тоска растаяла и унеслась куда-то вслед за снежными вихрями.
— Мальчишка родится у тебя, это я тебе говорю! — прокричал я в ухо мужу. — Чтобы ты знал, в такие ночи только мальчишки родятся!
— Эх, услышал бы тебя Господь, Лесничий! Если все пройдет как надо, ох и наколем поросят, мать вашу! А будет ли мальчишка или девчонка — это уж Божье дело…
Останавливаемся наконец у какого-то дома с освещенными окнами, и, пока я выключаю мотор, муж и акушерка уже бегут через двор. Я закрываю джип и, помаявшись некоторое время, иду следом за ними.
Не успел я сделать и двух шагов, как с верхнего этажа дома раздался такой нечеловеческий, такой душераздирающий крик, что я чуть не сел в сугроб. Меня затрясло, в голову полезли нелепые мысли — вот, акушерка задержалась из-за меня, из-за чашки кофе и телефона, а теперь там умирает человек… Мне очень жаль акушерку, она была добра ко мне, а теперь что она будет делать?..
Кто-то схватил меня за руку и втащил в дом. Обе комнаты на первом этаже были полны людей — одни сидели на скамьях у стола и вдоль стен, другие стояли, прислонившись к бушующей огнем печке. Все молчали, прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Многих из жителей Дубравца я знал, они кивнули, здороваясь, и расступились, подталкивая меня к столу. Было невыносимо жарко, я снял кожух и по привычке потянулся за сигаретами, но тут кто-то с другого конца комнаты крикнул мне:
— Не кури, Лесничий, а то мы тут задохнемся все!
Мне стало стыдно своей несообразительности. Я оглянулся вокруг. Собственно, зачем я здесь? Мне бы следовало уйти, но что-то удерживало меня, не давало уйти от этих людей. Что же? Любопытство? Сострадание? Сопричастие тревогам и нетерпению, с которыми все вокруг ждут рождения ребенка?.. Я встретился взглядом с мужем роженицы, постарался улыбнуться ободряюще, но он будто выдавил из себя гримасу ответной улыбки, закрыл глаза и снова прислонился к стене.
Сверху опять донесся страшный крик, старушка, сидевшая за столом напротив меня, вздрогнула и стала быстро-быстро креститься, что-то при этом нашептывая. Крик прекратился, чтобы через несколько секунд взорваться отчаянным, хриплым, нечеловеческим ревом. Боже мой… Я видел, как рождаются на свет детеныши у животных, у многих это происходит молча, так что неизвестно, страдают они при этом или нет. Кошки, например, испытывают ужасные боли при сношениях и блаженствуют, когда «мечут» котят. А у людей? Каждая женщина знает о тех муках, которые ее ожидают, и все-таки жаждет быть оплодотворенной. Что это — атавистический инстинкт продолжения рода? Или ожидание и надежда на то, что глубокая и неизбывная материнская любовь к новому человеку, которому она даст жизнь, стократно искупит ужас родовых мук?
Боже, Боже мой, прекратятся ли наконец эти страшные стоны? Мне уже кажется, что это меня какая-то сила раздирает на тысячу частей…
Нет, не могу больше!.. Встаю, прокладываю себе путь к двери, и в этот самый момент будто невидимая рука снимает с лиц напряжение и страх, все вскакивает на ноги, смотрят на потолок, счастливо улыбаются, наконец кто-то кричит:
— Родился!!!
Люди толкают друг друга, бьют по спине и плечам, громко хохочут как полоумные:
— Родился наконец, черт возьми!!!
Отца нельзя узнать — он смотрит вокруг с глупой от счастья улыбкой, его тащат в разные стороны, целуют, по-приятельски треплют по щекам, а кто-то уже сует ему в руки кувшин с вином. Просто сумасшедший дом! Да, а кто родился? Мальчик? Ох, мать честная!.. Все вываливаются во двор, женщины пищат и кричат на все село, поют неизвестно что, кто-то обнимает меня и опрокидывает в снег, падая с хохотом вместе со мной, и тут в толпе вспыхивает огонь и слышен выстрел, другой, и уже целый залп гремит над Дубравцем!.. Мне почему-то кажется, что выстрелы напугают мать и дитя и надо бы привести в чувство этих обалдевших людей, но кто-то подносит к моим губам кувшин с вином, и я пью лихорадочно и жадно.
Через полчаса среди бушующей радостью толпы во дворе появляется акушерка. На ее лице — ни волнения, ни радости, только темные тени под глазами. Ее просят рассказать, как шли роды, как чувствуют себя мать и ребенок, то и дело требуют, чтобы она выпила со всеми вина — за здоровье новорожденного. Она покорно подчиняется, потом незаметно кивает мне и пробирается поближе. Мы вместе прокладываем путь к джипу, к нам тянутся руки, нас обнимают, я чувствую, что винные пары и общая радость туманят мне голову. Акушерка обещает толпе вернуться через час, влезает в джип и хлопает дверцей.
И только здесь, в машине, когда она оказывается рядом со мной, я вижу в ее глазах испуг и следы слез.
— Вы знаете кого-нибудь из этих людей? — лихорадочным шепотом спрашивает она. — Нужен серьезный, авторитетный человек…
— Почему же вы молчали до сих пор? И зачем вам такой человек?
— Понимаете… — Она еще понизила голос, и глаза ее совсем округлились от ужаса. — Дело очень, очень плохо… Очень! Если вы знаете кого-нибудь такого, нужно взять ею с собой и немедленно ехать в здравпункт!..
Я не понял, что она имеет в виду, но помочь ей надо, это ясно. В толпе мелькнуло знакомое лицо бригадира с животноводческой фермы. Я открыл дверцы и крикнул ему, чтобы он шел скорее к нам. Он тоже ничего не понял, стоял раздумывая, и тут акушерка неожиданно громко и с яростью прокричала:
— Идите в машину, когда вас зовут!
Бригадир растерянно приблизился, влез в машину и сел сзади нас, пытаясь отбиться от своих веселых товарищей, пожелавших сопровождать его. Акушерка схватила меня за плечо и снова закричала:
— Быстрее! Езжайте немедленно к здравпункту! Немедленно!
И я погнал машину, по ее тону почувствовав, что произошло что-то ужасное и это ужасное надо немедленно предотвратить любой ценой. Когда-мы подъехали к здравпункту, она выскочила из машины почти на ходу, поскользнулась на снегу и помчалась к дверям, из которых мы так недавно вышли. Я побежал вслед за ней, а сзади тяжело топал бригадир.
Наверху акушерка, не раздеваясь, кинулась к телефону и стала лихорадочно вертеть диск, руки у нее дрожали, и она с трудом попадала в цифры. Потом ей пришлось довольно долго ждать — ей наверняка показалось, что прошла целая вечность, пока кто-то там ответил, и она, забыв о нас, не думая о том, что ее слышат двое посторонних, стала кричать что есть силы:
— Это дежурный отделения?! Ох, слава Богу! Это звонит акушерка из Козарицы! Из Ко-за-рицы! Нет-нет, я сейчас нахожусь не в Козарице, а в Дубравце! Тут проходят очень тяжелые роды!.. Да, да, никакой стерильности, никаких условий и удобств!.. Нет, послушайте меня, прошу вас, я потом объясню, почему роженица осталась здесь!.. Да, да, я сделала все, как нужно, ребенок в порядке, пришлось отделить плаценту рукой, а потом… потом я увидела… под ней, Господи Боже мой, целую лужу крови…
Я посмотрел на бригадира и просто испугался — он был бледен как полотно и смотрел на акушерку полными ужаса глазами. А она продолжала надсадно кричать в трубку:
— Мы не сможем довезти ее, поймите! Дорога от Дубравца до Козарицы засыпана снегом, ведь из-за этого сюда не могла проехать машина «Скорой»… Да нет, послушайте! Здесь нет никаких условий для переливания крови, нету!.. Здесь, — она огляделась вокруг, — здесь нет… ничего… — И разрыдалась, не в силах больше сдерживаться.
Не знаю, что толкнуло меня вперед, я вырвал трубку у акушерки и услышал среди треска ужасно, как мне показалось, безразличный и небрежный голос:
— Вы что, спали там? Почему не привезли ее раньше в отделение! А теперь нам из-за вас дадут по шапке…
Тут заорал я:
— Слушай, ты, умник! Хватит трепать языком! Немедленно организуй экстренную медицинскую помощь, слышишь?! На вертолете, на ракете, на чем хочешь, но только сейчас же, ясно?! Дубравец не на Северном полюсе, а всего в сорока километрах от города!
— А ты кто такой, черт возьми? — проснулся этот пижон на другом конце линии. — Ишь какие цацы отыскались в этом селе! Может, вы замените нас тут и поедите нашего хлеба? Тупицы чертовы!
— Я не тупица, а лесничий! Ясно тебе, дерьмо ты этакое! Если женщина умрет, я приду к тебе в кабинет и сделаю из тебя отбивную котлету! Немедленно отправляй экстренную помощь, иначе я привяжу к твоей заднице бомбу и заставлю тебя самого полететь!
— Ну-ка убирайся от телефона, чурбан проклятый! Дай трубку акушерке, а с тобой мы после разберемся! Чтоб ты знал — я вешу девяносто кило и могу…
Я не стал слушать, что он может, и передал трубку акушерке, а та схватила ее, как утопающий — соломинку. Слушая, она изредка кивала головой и приговаривала «да-да-да…». Потом положила трубку, прикрыла ладонью глаза и опустилась на стул.
— Эй, докторка, а докторка, — бригадир осторожно положил руку на плечо акушерке и слегка потряс ее. — Что, умрет дитя, а? Умрет?
— Нет, нет, дядя! Дитя живое и здоровенькое, будет жить… — улыбнулась она сквозь слезы.
— Я не про него, я про мое дитя спрашиваю, про дочку…
Меня будто кипятком ошпарило. Надо же — из всей толпы этих полупьяных горлопанов я выбрал именно его, отца роженицы…
— Если помощь прибудет за час-два, все будет хорошо… А если позже — не знаю… Кровоизлияние и само может остановиться, а может…
Внезапный звонок телефона ударил по нашим нервам, как разряд электрического тока. Я был ближе всех к аппарату, но акушерка буквально схватила трубку.
— Да-да, да-да… — Лицо женщины на глазах теряло свою страшную бледность и постепенно розовело. — Милые мои! Прилетят, да? Обещали? Так-так, слушаю! Четыре больших огня… пятьдесят метров между ними… квадрат… понятно! Площадку очистить от снега! И чтобы она была рядом с домом, да-да! И приготовить роженицу? Ясно! Сколько времени понадобится для?.. Час? Тогда успеем!.. Успеем, говорю!..
Она положила трубку, несколько секунд смотрела на нас совершенно бессмысленным взглядом и вдруг начала истерически хохотать. Но вот вслед за ней и отец стал смеяться и плакать, бить в ладоши и приплясывать. Выходило, что я остался тут единственным, кто не потерял разума. Я схватил обезумевшего родителя за плечи и основательно встряхнул:
— Слушай меня, человече! Хватит дурить, скажи лучше, где можно приготовить площадку! Ты же слышал — она должна быть поблизости от твоего дома! — Похоже, папа-дедушка приходил в себя. — А есть там поблизости какие-нибудь провода, ток высокого напряжения?
— Да ничего там нет, джаным, место голое, как противень! Наш дом — самый крайний в селе…
— А место ровное?
— Я же говорю тебе — как противень!
Мы рванулись вниз по лестнице — и бегом к джипу. По дороге я успел объяснить отцу задачу:
— Соберешь мужиков, много-много — с лопатами! Место должно быть очищено от снега до голой земли, ясно? Остальные — и бабы в том числе — пусть тащат вес, что ярко горит, — бензин, керосин, спирт, даже ракию!!!
Толпа все еще вертелась возле дома. Надо сказать, люди очень быстро сообразили, в чем дело, — буквально нескольких секунд хватило, чтобы они тут же бросились к соседям будить и поднимать их с постели; советчики, которых набралось не меньше десятка, правильно решили зажечь все электричество в селе — чтобы летчик сверху увидел огни. Через несколько минут и мужчины и женщины уже бежали с лопатами и граблями к поляне за домом бригадира, тащили чурки и щепки. В доме остались одни старые бабки, которые подняли такой вой, будто роженица уже умерла.
— Дайте им ракии побольше, пусть выпьют и заткнутся! — заорал кто-то и пронесся мимо меня, таща на себе тяжелый бачок с бензином. Я бросился следом за ним. Отовсюду звучали крики, ругань, команды. На площадку стекалось все больше и больше людей.
Через полчаса на расстоянии пятидесяти метров друг от друга (местный землемер постарался!) запылали четыре ярких огня. За незримой линией на границе «летного поля», совершенно очищенного от снега, столпилось едва ли не все село. А люди все прибывали. Пламя вздымалось вверх метра на три, не меньше, но сельчане не успокаивались, все время подбрасывали в огонь стружки, куски досок, щепки, обломанные сухие ветки. Вереница людей тянулась до самого дома, где роженица ждала своей участи. С ней неотлучно была акушерка, которая готовила ее к перелету, одевала и укутывала, чтобы ослабевшая женщина не простыла на этом жестоком декабрьском ветру и морозе.
Вдруг кто-то громко заорал, требуя тишины. Над селом, даже еще выше — от самого Предела, донеслось равномерное рокочущее гудение. И вот уже где-то с севера, едва заметные в ночной темноте, стали стремительно приближаться три разноцветных мерцающих огонька.
— Вертолет летит! Летит сюда, к нам!.. — закричала хором толпа, и буквально через считанные минуты на площадку медленно и осторожно опустилась освещенная огнями металлическая птица. Бешено вертящиеся пропеллеры постепенно стихли, отворилась дверка в железном «животе» птицы, и оттуда выскочили двое мужчин в белых халатах с поразительно, до смешного, маленькими носилками.
Часть людей бросилась в дом, чтобы взять роженицу и перенести ее в вертолет, другие потянулись к летчику с вином и ракией. Летчик отчаянно отмахивался и пытался объяснить, что он «за рулем», но люди не слушали его и все совали ему бутылки и кувшины, и так продолжалось, пока из дома не вынесли на носилках завернутую в одеяла и шкуры роженицу. Ее бережно внесли в вертолет. Следом шла акушерка, прижимая к груди маленький «пакетик», тоже увитый в толстое одеяло. Я понял — это новорожденный. Она увидела меня, что-то прокричала, но я не расслышал, ей помогли войти в кабину, дверцы вертолета закрылись, моторы взревели, пропеллеры завертелись что есть силы, близко стоявших людей отнесло назад — и металлический жук поднялся в ночь.
Мне здесь больше нечего было делать, и я влез в джип. Холодно, до дрожи. А в нескольких метрах от меня люди забираются в свои дома и ложатся в теплые, еще не остывшие постели… До рассвета оставалось часов пять, мне достаточно, чтобы отдохнуть. По дороге к дому бабушки Элены и Дяко я заметил, что окна здравпункта все еще светятся, дверь открыта настежь. Я остановил джип и взбежал наверх — надо хоть свет потушить! Тут уже не так пахло больницей — ветром выдуло запах. Телефонный аппарат — вот что мне сразу попалось на глаза. Попробовать еще раз? Я набрал Надин номер, ждал долго-долго, и снова молчание. Я погасил свет, спустился вниз, освободил секрет замка и захлопнул за собой дверь.
Как мне вдруг захотелось спать, ох как захотелось!..
Я тихо подъехал к бабушкиному дому, заглушил мотор, стараясь не поднимать шума, тихо поднялся на второй этаж, в свою комнату, и, не раздеваясь, плюхнулся на широкую пружинную кровать с высокими железными спинками. На спинках нарисованы длинноволосые красавицы, сидящие на берегу синего озера. Когда-то мой отец умирал от смеха, глядя на эти рисунки. Он давал мне возможность разлечься на широченной (по моим давним понятиям) кровати, а сам уходил спать на узкий деревянный топчан, стоявший во-он там, в противоположном углу.
Меня не ждали, в комнате холодно, как на улице. Я осторожно встал, разделся, разулся, укрылся двумя толстыми шерстяными одеялами — и потонул в сонном мареве. Последней мыслью было, пока сон не сморил меня окончательно, что воздух вокруг меня напоен запахом спелой айвы…
Мне снилась пантера, она глухо рычала и шла прямо на меня, а я лежал в тростниковых зарослях под холодным фиолетовым небом и терпеливо целился из итальянского карабина прямо ей в голову, в самую точку меж сверкающих изумрудом глаз, потом я хотел нажать на спуск, но что-то внутри меня сопротивлялось изо всей силы, и чем больше усилий я прикладывал, тем острее чувствовал, что никогда, нигде, ни за что на свете я не смогу выстрелить в нее, мою черную пантеру… Она смотрела на меня с насмешкой и вдруг — совершенно по-человечески — подмигнула…
Я проснулся с замерзшим носом. В комнате стало как будто еще холоднее, молочно-белый свет нового дня проникал сквозь ледяные узоры на окнах. Болела правая рука. Я стал разминать ее — может быть, из-за этой боли меня уже который раз мучает все тот же сон? Летом я просил бабушку Элену растолковать мне, что он значит. Она разводила руками и говорила: если бы там была собака, кошка, коза, даже вурдалак — оборотень, она бы попыталась, а что такое пантера — не знает, это совсем другое дело, она вообще отродясь никогда не видела такого зверя. Потом вспомнила, что в Зеленицах была одна ясновидящая, мастерица разгадывать сны, она даже предсказала точно день и час своей смерти, но с тех пор никто не разгадывает сны, потому что если делать это основательно, то это не пустяковое дело и не бабушкины сказки, как выражаются ученые, а великий талант, данный от Бога.
Я не помню эту гадалку — когда меня отправили в детский дом, мне было всего семь лет. А за год до этого моего отца пригласили на свадьбу в Зеленицы. Он взял с собой и меня, взметнул в седло, посадил перед собой, и мы двинулись прямо через красно-желтый лес. Жесткая грива и чуткие уши коня ритмично подскакивали перед глазами, ноздри заполнил запах конского пота и тлеющих листьев. А когда мы выехали из леса, отец велел крепко схватиться за гриву коня — я до сих пор еле-еле касался ее, мне казалось, что коньку больно, если дергать его за волосы… Отец рассмеялся, закричал что-то, и мы пулей понеслись к Зеленицам, и это был такой опьяняющий галоп, какой только мог представиться моей детской фантазии.
Мы спешились у какого-то большого грязного двора с полуразрушенной оградой, отец привязал коня, и мы вошли. Двор был уставлен грубо сколоченными, не застланными ничем столами, за которыми шумно ели и пили краснолицые мужчины и женщины. Кругом трещали традиционные свадебные выстрелы, пищала волынка, в воздухе густо и тяжело пахло жирной жареной бараниной. Отец сказал мне еще задолго до нашей поездки, что я «увижу свадьбу», и я вертелся во все стороны, ерзал на скамейке, пока наконец увидел среди полупьяных гостей невесту — невероятно бледную и как будто совершенно отрешенную от всех вокруг. Я смотрел на нее с восхищением, и она казалась мне княгиней из сказок, которые рассказывала мне бабушка Элена. Я только никак не мог понять — почему она плачет, а все вокруг нее, наоборот, громко кричат и хохочут? Не помню, как это случилось, но я вдруг оказался в ее маленькой комнатке с низким потолком и земляным полом. Невеста прижала меня к себе, что-то прошептала в ухо и улыбнулась. В ее больших испуганных глазах по-прежнему стояли слезы…
Чего же она хотела тогда от меня? А-а, да-да, она просила позвать отца, и, когда я потянул его за рукав и передал просьбу невесты, лицо у него стало серьезное и строгое. А потом случилось что-то очень, очень плохое, и я непременно должен вспомнить, как это было… Да, я еще повертелся во дворе, глядя на орущее застолье, вернулся в ее комнатку и увидел отца и ее: они стояли, обнявшись, и целовались. Я никогда не видел отца, целующего кого-то, кроме меня, поэтому мне стало ужасно обидно, и я уже готов был разреветься и убежать вон, но в этот момент на пороге появился рыжий и костлявый как скелет человек, тот самый, который за столом все время сидел рядом с невестой, он был очень страшный, она увидела его и закричала от ужаса, а отец обернулся, побледнел и тихо сказал скелету: «Не здесь, при ребенке, выйдем наружу…»
Какие же дураки были тогда следователи и друзья отца! Неужто они не знали, что между ним и этой женщиной из Зелениц была любовь… Куда же они смотрели двадцать один год назад, когда вели следствие? Сюда прибыли специалисты из самой Софии, торчали тут целый год, были задержаны десятки людей, допрашивали каждого десятки раз, съели полстада овец и все-таки до истины не добрались, поэтому решили, что убийство отца — это дело рук шайки браконьеров, которые в то время шатались по горам и лесам.
Единственное, что все-таки поняли раздобревшие от вкусной еды и дубравецкого вина криминалисты, — это то, что отца застрелили из итальянского карабина…
Уже около восьми. Идет снег, кругом белым-бело. Я спускаюсь вниз по лесенке, открываю дверь и вижу — Дяко во дворе очищает дорожки от сугробов. Он не спрашивает меня, когда я приехал, только говорит, что вчера вечером здесь в Дубравце был большой шум — за какой-то роженицей прибыл вертолет. Потом он снова нагибается — так, чтобы я не видел его лица, — и говорит, что бабушке Элене очень плохо.
Она, бедная, уже в дороге, и неизвестно — протянет ли еще неделю-другую или нет. Ей все-таки уже восемьдесят, это не шутка.
Что же мне-то делать? Успокаивать его? Смешно — Дяко крепкий человек, твердый как камень, вот только душа у него скукожилась от горя и тоски по ушедшим близким. Сорок лет назад не было вертолетов и жена его умерла родами. У него осталась дочь, но живет она далеко, видятся они редко, всего лишь разок за несколько лет. Отец его — самый странный чудак из всех, кого я знаю, — тоже покинул этот мир лет пять назад. Я тогда в армии служил. Он был учитель, из тех крестьян-интеллигентов, которые сами пахали, косили, ходили за животными, разводили пчел и учили детей грамоте и разным наукам. Я успел поучиться у него в первом классе, прежде чем меня отдали в детский дом. Старый учитель Митков показывал, как писать крючочки и палочки в тетрадках, ужасался моей небрежности и никак не мог понять, почему я все время верчусь за партой и нюхаю воздух. А все тем не менее было очень просто — мне ужасно хотелось понять, где лежат яблоки… Переполненный учениками класс в Дубравце пах зрелыми яблоками, а в этом проклятом сиротском доме воняло хлоркой и плохо прогоревшим углем…
Я стоял рядом с Дяко на расчищенной дорожке, ловил губами крупные снежинки и думал о том, что в этом доме, в сущности, ничего не переменилось, все осталось таким же, каким я помню его с самого раннего детства, — большое ореховое дерево, старый колодец и уложенное плитками подножие самшитового кустарника. Только нет больше старого учителя, а теперь там, в маленькой комнатке на первом этаже, таяла бабушка Элена. Она умирала тихо и скромно, так, как жила всю свою жизнь — без претензий, без криков и стенаний, с единственным желанием никого не огорчать, не затруднять. Каждый раз, когда я приезжал в Дубравец из лесничества и мы с Дяко садились пить ракию, забывая обо всем в жарких разговорах, бабушка Элена никогда не обижалась, если мы были больше заняты собой, а на нее не обращали внимания. Она, бывало, и согреет остывающую еду, и сядет рядом, и слушает, и смотрит на нас с радостью, а в глазах свет — то ли от слез, то ли от яркого солнца, и не поймешь — то ли смеется она, то ли плачет. Утрет тайком слезы кончиком фартука и снова улыбнется — наши женщины в Дубравце так уж привыкли, и в радости и в печали пускают слезу…
Мы с Дяко вошли в комнатку бабушки Элены, она увидела меня, заволновалась, сделала попытку приподняться. Как же она похудела!.. Я осторожно заставил ее снова опуститься на подушку, взял ее хрупкие пальцы и едва-едва сжал, пальцы были холоднее льда. Ни о чем меня не спрашивая и не дожидаясь моих вопросов, она тихо промолвила, что у нее все в порядке, все хорошо. Я знал, что обмануть ее пустой болтовней невозможно, и все-таки стал городить что-то — вид ее, дескать, мне нравится, она даже помолодела, и вдруг не удержался и выпалил: но, может быть, ей бы стало получше, если бы мы отвезли ее в больницу? Вижу — она испугалась, погрустнела, отрицательно покачала головой: куда вы меня отвезете, такую старую, тут по крайней мере доктор смотрит меня почти каждый день, да и что могут сделать в больнице — вернуть мне молодость, дать новое сердце? Да я с этим моим сердцем, а оно у меня все время так и норовит выпрыгнуть, уже восемьдесят лет по горам лазаю, и ничего — жива!
Она помолчала, закрыв глаза и отдыхая, потом снова оживилась и сказала, что Дяко сегодня вспоминал о Наденьке. Она как-то звонила и сказала, что приедет в Дубравец поближе к весне. Очень хотелось бы увидеть ее еще хоть раз… Бабушка Элена вдруг строго спросила меня, часто ли я езжу в город повидаться с Надей. И я солгал, что езжу часто, каждую неделю… Она снова покачала головой: да-да, конечно, муж и жена должны жить только вместе, так Господь велел. А разве в театре нет каникул на Рождество? Вот бы приехала наша красавица, а то уж очень долго ждать весны…
Старушка повернулась к комоду, стоящему у самой кровати, но почувствовала, что ей не выдвинуть тяжелый, окованный медными гвоздями ящик, и попросила сына вынуть оттуда «то, что завернуто в пестрый платочек». Дяко открыл ящик и подал ей узелок, она медленно развязала его, и на ее худой сморщенной ладони матово блеснул тонкий серебряный браслет, украшенный нежной инкрустацией. «Все приглашала Наденьку, приглашала, хотела сама подарить ей, а теперь не знаю, смогу ли… Вот приедет она, и подарю ей, пусть останется на память…»
Я не возражаю. Да и зачем возражать, я даже соглашаюсь вслух, что так будет лучше, хотя мне абсолютно ясно — они никогда не увидятся друг с другом. Великая душа у бабушки Элены, и не стоит лгать себе, вряд ли она переживет эту зиму…
В комнату вошли со смущенными улыбками две пожилые сельчанки. Они помогут бабушке Элене умыться, переоденут ее, накормят, оправят постель. Потом сядут у изголовья, пойдут воспоминания о былых временах, и старушка не будет чувствовать себя одинокой. Так принято в Дубравце. И пока в селе есть старики и старушки, так будут поступать все.
Мы с Дяко выходим из комнатки его матери. Он спешит приготовить завтрак, грохочет в кухне кастрюлями и тарелками, а я выхожу к джипу и беру из машины узел. Когда я возвращаюсь обратно, еда уже на столе — горячее молоко со свежим пахучим хлебом, миска с нарезанной и густо посыпанной черным перцем капустой, две маленькие рюмки для ракии. Мы давно привыкли так завтракать.
— Погляди, что я нашел в Чистило!
Развязываю узел и кладу на стол огромный нож, патроны и железную коробку. Дяко сразу понял, в чем дело, — молчит, смотрит на патроны, не решаясь даже прикоснуться к ним.
— Ну? Что будем делать? — спрашивает он в конце концов.
— Молчать, вот что будем делать. И чтобы никому ни одного слова! — Я наливаю себе ракию и опрокидываю ее в рот, обжигающую, терпкую. — Возьми в руки патроны, Дяко, погляди повнимательнее! Что ты об этом думаешь?
Дяко берет осторожно один патрон, долго вертит его во все стороны.
— Старый. Производство тридцать шестого года.
— И к тому же — итальянский. Там написано — ты можешь прочесть?
— Где там… Нет у меня твоего ума и образования, чтобы читать чужие слова…
— Тогда просто подумай: патроны-то старые и т а л ь я н с к и е! — Я подчеркнул это слово, глядя ему прямо в глаза.
— Погоди, парень, погоди немного…
Дяко подошел к старому кухонному шкафу, порылся в каком-то ящике, что-то вынул оттуда и положил передо мной на стол. Отстрелянная гильза. Потом снова взял патрон, сравнил с гильзой, ощупал и пальцами, и рысьими глазами каждую выемку и бугорок.
— Да, то же самое. И номера, и место удара совпадают.
— Я в этом не сомневался. И речь идет не о муфлонах. Ты вдумайся, я еще раз повторю: это патроны от итальянского карабина! — Я опять нажал и сделал паузу. Нет, он не понял, к чему я клоню. Тогда я сказал: — Ты помнишь, как был убит мой отец?
Дяко дернулся назад, как от удара.
— Ты хочешь сказать, что… Да ты соображаешь, парень, что говоришь?!
— Наверно, соображаю, ведь, по-твоему, я умный и образованный!..
Дяко облокотился о стол и посмотрел на меня растерянно, видно было, что он расстроен.
— Я скажу тебе кое-что, только ты не сердись — обещаешь?
Я кивнул головой, и он продолжил:
— На тебя какая-то злоба напала, малыш. Я знаю, что у тебя неприятности, что тебе плохо без Нади, но все равно так нельзя!.. Смотришь на всех с подозрением, сторонишься людей, чуждаешься их… Отец твой, Герасим, был не такой, совсем другой человек был…
— При чем тут это?! Каким был отец и какой я? Какое это имеет отношение к делу?! — закричал я, раздраженный нотациями Дяко.
— Вот видишь — какой кипяток стал, сразу в драку лезешь… Хочешь быть похожим на отца, а совсем не знаешь, каким человеком был Герасим Боров.
— Я понял, Дяко, — Герасим был другой, большой человек был, и по этому случаю вы даже не могли его уберечь!..
Дяко вздрогнул и сжал ладонями край стола так, что пальцы побелели. А я готов был прикусить собственный язык за то, что сказал такую обидную глупость, но слово, увы, не воробей, а упрямство мое уже схватило меня за шиворот и не собиралось отпускать.
— Да, верно, мы его не уберегли, но ты не должен корить меня через столько лет!
— Я не упрекаю тебя, Дяко, я только хочу, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов — в последнее время они не дают мне ни минуты покоя… Когда вы нашли его, неужто он не сказал тебе, кто в него стрелял?
— Да если бы он сказал, давно бы этот негодяй не пачкал нашу землю! Опять ты задаешь глупые вопросы. Может, Герасим и хотел что-то сказать, он был тогда еще жив и собрался с духом, но, как увидел, что я плачу, вместо этого спросил: «Ты что ревешь, Дяко? Забыл, что ли, что мы с тобой еще худшее переживали?» Он так и сказал, но это неправда, потому что хуже этого ничего никогда не бывало с нами…
— А ты?
— Что — я?
— Так и смирился со всем этим?
— Но ты ведь знаешь — следствие…
— Да брось ты это трухлявое следствие! Я спрашиваю тебя — ты никого не подозреваешь?
— М-м, что до подозрения — подозреваю, но по одному лишь подозрению нельзя человека вздернуть на виселицу…
Я нагнулся над ним, схватил за плечо:
— Не сердись на меня за то, что стал таким. Это правда, нервы малость разгулялись, поэтому и прошу тебя помочь. Я верю только тебе одному, поэтому и рассказываю тебе все, а ты извини, если обидел тебя чем-то. Но вот со вчерашнего дня меня не оставляет одна мысль, мне все кажется, что это тот же карабин, из которого убили моего отца, понимаешь?! Если я сумею обнаружить тех, кто бьет муфлонов в заповеднике, мне станет ясно, кто убил отца. Или наоборот…
— Чепуха какая! Одно может не иметь ничего общего с другим.
Я гляжу в его усталые глаза и вижу — он все-таки явно смущен.
— Ладно, пусть так, пусть чепуха! Тогда вспомни, кто женился в Зеленицах той осенью в сентябре, за два-три дня до того, как убили Герасима Борова!
— В Зеленицах? — Дяко крепко наморщил лоб, напрягая память. — Да где там вспомнить? Это же сколько воды утекло с тех пор… В те годы люди часто женились и выходили замуж, потому что в селах было полно молодежи…
— Жених был такой рыжий, сухопарый — неужто не помнишь его? Двор их стоял на краю села, отец взял меня тогда с собой, наверняка и ты был там. Лесничии были в те времена люди уважаемые, а вы оба ходили всюду вместе, и это я тоже помню. Ну что, не припоминаешь?.. А может, случайно вспомнишь, что у отца были шуры-муры с девушкой, которая выходила замуж в Зеленицах, а?
— Откуда ты взял это? Где слышал эти глупости? Герасим никогда не был бабником, понятно?!
Я замолчал, но никак не мог преодолеть ощущения, что Дяко что-то скрывает и между нами не все сказано. И вообще неправда, что я не похож на отца, я только стал каким-то чересчур нервным, но это все оттого, что мне просто необходимо добраться до истины. Я ведь уже не раз пытался это сделать, всех обошел в Дубравце, со всеми поговорил, но, когда дело доходило до самого важного, люди замолкали и пожимали плечами. Известный человек был Герасим Боров, во всех селах вокруг его любили и уважали, и вот кто-то взял да и убил его. И потом, как только я начну расспрашивать чуть поподробнее о его жизни — ну, например, чем он интересовался, какие у него были привычки, — так передо мной возникает стена молчания, недоверия и даже, я чувствую, меня в чем-то подозревают. И я начинаю злиться и думать о том, что жизнь моя складывается каким-то идиотским образом — ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, не стал я по-настоящему горожанином и перестал быть сельским жителем, вот почему люди здесь неоткровенны со мной.
— Как ни вертись, Дяко, а истина рано или поздно все-таки проявится — попомни мое слово!
— О чем ты, Боян? О какой истине говоришь? Меня просто пугают твои слова…
— О той истине, которую никто не сможет оспорить.
— Вот оно что? Уж не думаешь ли ты, что я что-то скрываю? — Глаза его наливаются гневом, и мне кажется, что еще минута — и он может меня ударить. — Ты что, мне не веришь?!
— Глупости! — Я обнимаю его за шею с набухшими синими венами и наклоняю его голову к своей. — Что это ты придумал?
— Тогда хотелось бы мне знать, кто тебе выскажет эту истину!
— Тот, кто над всем!
— Э-э, да ты просто готовый поп!
В конце концов мы оба рассмеялись и я рассказал ему все о тайнике — подробно о том, как «прижал» Марину (конечно же, я придал этому слову переносный, а не прямой смысл…) и как она передала мне разговор Митьо с кем-то из бывшей школы в Зеленицах. Он знал о моих давнишних подозрениях — я был почти уверен в том, что кто-то из наших помогает «им», то есть браконьерам.
Услышав мой рассказ, Дяко вскочил из-за стола, возбужденный, красный, и закричал, что сейчас же выведет этого гада Митьо на чистую воду! Я, как мог, успокоил Дяко и все повторял ему, что сейчас самое важное хранить полное молчание, никакой спешки, ни одного рискованного шага, иначе мы вспугнем «птенчиков», иди потом лови их. Да, может быть, и Марина по каким-то причинам возвела напраслину на Митьо, кто ее знает…
Был уже десятый час, когда мы добрались до базы. Чуть раньше к дому подъехал мотоцикл. С него слез — весь в снегу — Митьо. Пока я припарковывал джип, Митьо отволок машину под навес, к нему вышла Марина, и они о чем-то заговорили. При этом она обернулась в мою сторону и указала рукой на меня. В маленьких прищуренных глазах Митьо я увидел откровенный вызов, а Марина зыркнула с тем же презрением, с каким ночью окрестила меня замечательным словом «евнух». Лопнуть от смеха можно, глядя на эту женщину и слушая ее!
Если бы я был чуть более прозорлив, я мог бы догадаться, о чем у них идет речь, но я, дурак, вообразил, что она демонстративно мстит мне…
В коридоре на первом этаже я встретил Васила. От него несло ракией за версту, и вид у него был такой, будто он только что оторвал голову от смятой подушки. Он, очевидно, наблюдал из окна за своей женой и Митьо, потому что, увидев меня, кинулся тут же, размахивая руками и крича во всю глотку:
— Ну?! Ты видел их? Бесстыжие твари! Насмехаются надо мной, я знаю! Ну, ничего, ничего! Я так посмеюсь над ними, что они меня всю жизнь помнить будут!
— Не понимаю — ты о чем? — Я изобразил из себя придурка и поспешил в кухню. Обычного моего утреннего кофе не было. Впрочем, я так и знал — «оне», видите ли, сердиты за ночное. Васил шел за мной по пятам и ныл:
— Слушай, Боров, будь человеком! Вышвырни этого типа с базы! У меня душа горит, подлец этакий!
Все остальные из охраны, сидевшие за столом, подняли головы и навострили уши.
— Кого я должен вышвырнуть? — с наивным видом спросил я и налил в турчик воды из крана.
— Митьо, подлеца, кого же еще!
— А за что?
— Ты что, не видишь, как он вертится около моей жены!
— Вот оно что! Значит, он вертится около твоей жены, а ты… — я перешел почти на шепот и крепко схватил его за лацканы пиджака, — ты в это время валяешься с уборщицей! Поэтому я, пожалуй, вышвырну прежде всего тебя!.. И, конечно же, не только из-за уборщицы, но и потому, что осточертело мне твое проклятое пьянство и нытье. И вообще — всякий стыд потеряли на этой базе, черт бы вас побрал! Эй, Митьо! — закричал я из коридора. — Прекрати шушукаться с Мариной и иди сюда!
Я вовсе не собирался читать им мораль, но эти ежедневные скандалы меня просто угнетают. Выходит, Генчев прав — у меня, может быть, и вправду чего-то не хватает, чтобы стать хорошим руководителем. Эти трое действуют мне на нервы и портят и без того нелегкую жизнь — пьют, ругаются, занимаются любовью, превратили заповедник в коммуналку, а я в это время как псих мотаюсь по Чистило.
— Чего тебе надо? — Митьо стал передо мной, раздвинув крепкие ноги и насупив брови.
— И ты еще спрашиваешь?! — заорал Васил и кинулся на него с кулаками. Митьо ловко увернулся, подставил Василу ножку, и тот плюхнулся вперед, опрокинув стул и едва не перевернув обеденный стол. Охранники захохотали, но я чувствовал, что дело идет к большой драке.
— Немедленно прекратите! — Я поднял лежавший на столе половник и готов был треснуть любого, кто двинется. — Обещаю вам, что через несколько дней вы все втроем вылетите из базы! Идите ко всем чертям с вашими вечными историями!
Митьо ухмыльнулся и закурил сигарету. Марина отступила к дверям и делает мне из-за его спины какие-то знаки, а Васил шмыгает носом и пытается вырваться из цепких рук надзирателей.
— А нас-то за что? — снова захныкал Васил. — Я же тебе про этого борова говорил, а я-то в чем виноват? У меня ни порицаний, ни выговоров… И если так, то я могу… могу и в профсоюз, значит… вопрос поставить в профсоюз…
— Ставь где хочешь! Я сказал — и точка! И запомните — повторять не буду!
— Ты, однако, большая шишка на ровном месте, Боров! Ну а если я возьму да и расскажу шефу кое о чем, а? — наступает на меня Митьо и выпускает мне в лицо струйку дыма.
— Ты? Ты расскажешь шефу? О чем это, интересно знать?
— А о том, что ты выгоняешь нас потому, что Марина не дала тебе…
— Митьо! — Марина испуганно рванулась и встала между нами. — Ты что несешь?!
— А ты молчи! — И он с такой силой грохнул кулаком об стол, что турчик опрокинулся и мой несчастный, так и не сваренный кофе темным пятном разлился по скатерти.
— Этот паршивец растормошил кобылу, а я должен скакать на ней, так, что ли?
Да, насчет «паршивца» — это уж чересчур, но времени дать ему в зубы не оказалось, потому что в ту же секунду в канцелярии зазвонил телефон — и звонил, звонил, будто разрывался. Делать нечего — служба прежде всего. Пришлось ограничиться только тем, что я подошел вплотную к «герою» и четко произнес:
— Значит, так. Говорю тебе перед всеми этими людьми, — и я указал на притихших вокруг стола мужчин. — Прежде чем я тебя выгоню, я сделаю из тебя отбивную котлету… Через два-три дня ты лично убедишься в том, какой и вправду мерзкий паршивец Боян Боров!
Он смотрит на меня зверем, просто убивает взглядом. Я медленно поворачиваюсь спиной, иду в канцелярию, чтобы влипнуть в самую идиотскую историю, какую только можно себе представить.
III
Звонит кмет[3] из Дубравца, голос у него дрожит от волнения, и он выпаливает одним духом: час назад вдруг откуда-то появились одичавшие собаки. Их так много, может быть миллион!.. Там собралась огромная страшная стая, самые разные породы, впавшие в бешенство от голода и холода, с диким воем они пронеслись по полю, обошли Дубравец и ринулись к заповеднику, первыми их почувствовали охотничьи собаки в селе, уцелевшие после весенней истребительной акции, прогавкали два-три раза да и скрылись в конуры, видели их и скотники, когда грузили из скирд сено за селом. Собаки кинулись к ним, но скотники успели набиться в кабины грузовиков, как сардины, дали полный газ и рванули к дому кмета, трясутся от страха, слова сказать не могут… Особенно тяжелое положение складывается у каракачан из Большой поймы, стая бросилась к овчарням, и там идет сейчас настоящая война — у пастухов нет оружия, стрелять нечем, забрали у них винтовки из-за чертова заповедника, они только кричат, руками и вилами размахивают, а сторожевые псы просто надрываются от лая, но высунуть нос за колючую проволоку и не пробуют…
Кмет произнес эту тираду и стал сразу пугать меня, что о подобном безобразии он немедленно доложит в город кому следует. А я ему в ответ заорал, что это безобразие вызвано не мной, а теми, кто не забил своих собак весной и пустил их «из милости» на свободу в леса и горы. Потом я попросил его немедленно собрать всех дубравецких охотников, посадить на грузовики и отправить на базу. Я напомнил ему, что Дяко сейчас находится дома и может во всем помочь. Пусть люди как следует вооружатся, возьмут побольше патронов с крупной дробью, потеплее оденутся и запасутся едой. Кмет долго увиливал, все пытался как-нибудь отвертеться от предстоящей трудной акции, но, когда я напомнил ему, что заповедник — это не имение моей бабушки, а государственное учреждение, он сдался и пообещал, что охотники через час прибудут к нам.
Я положил трубку и почувствовал, что лоб у меня весь мокрый. Быстро собрал людей из охраны, велел им садиться в джип и мчаться к каракачанам.
Туда больше пяти километров, но, если поспешить, может, они успеют разогнать стаю прежде, чем она там натворит бед. Васил слонялся по столовой, но я рявкнул на него — чтобы тоже ехал.
Следующий звонок — из города. На проводе — Генчев. Кто-то сообщил ему (кмет все-таки стукнул наверх) о стае одичавших собак, и он хотел бы знать, какие я принял меры. Я вкратце объяснил ему ситуацию, а он — как генерал в боевой обстановке — закричал в трубку:
— Надо мобилизовать побольше людей! Поднимай на ноги всех и вся, если нужно! Собак истреблять беспощадно!
Я заверил его, что через час или два мы овладеем положением, и обещал «не брать пленных». Не поняв моей иронии, шеф продолжал кричать:
— Смотри, если хоть один волос упадет с головы какого-нибудь оленя или кабана — понесешь личную ответственность! Ясно?!
Я чуть не прыснул при мысли о «волосах» кабанов и оленей (кстати, Генчев совершенно лысый), но ответил бодро, что мне все ясно, и положил трубку. На самом же деле мне было не до смеха, потому что я просто не мог представить себе, как организовать облаву с таким малым количеством людей на таком огромном пространстве, как заповедник, — ведь это тысячи гектаров диких гор, пустошей, пропастей и непроходимых лесных чащоб. В самом лучшем случае мы можем рассчитывать на тридцать с небольшим охотников из Дубравца, все больше старые болезненные люди. И, наконец, тут поднимется такой шум и гам, такая круговерть, что бедные животные разбегутся куда глаза глядят и наверняка не меньше половины ринутся за границы Предела, другие в страхе повыскакивают на оживленные дорожные магистрали, ну а потом те, кто останется в живых и успокоится, вряд ли найдут в себе силы и смелость вернуться обратно.
Беда действительно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, обстановка сложнее некуда, и я начинаю нервничать. То и дело выхожу на террасу и прислушиваюсь к ожесточенной канонаде, которая доносится с Большой поймы. А иногда я явственно улавливаю злобный лай и протяжный вой с разных сторон, а это значит, что большая стая рассыпалась на более мелкие и собаки уже гонят некоторых животных, попавшихся им на пути, по самому заповеднику.
Генчев звонит каждые пять минут и требует, чтобы я докладывал ему обстановку. Черт ее знает, какая она на самом деле! Поэтому, чтобы не молчать, я мелю всякую ерунду. А если я начну мяться или крутить-вертеть туда-сюда, он разозлится и явится на базу собственной персоной. А мне только этого не хватает! Мой шеф до ужаса инициативен, и, что хуже всего, у него припасены готовые решения на все случаи жизни. И никаких возражений! Даже если у тебя сто разумных доводов против, он скажет — и точка.
Наконец-то я услышал тарахтение мотора — это буксовали в снегу два грузовика с охотниками из Дубравца. Я поискал среди них кмета, но не нашел — он велел, видите ли, передать, что остается на посту и, если он понадобится, пусть ищут его в общине. Делать нечего, надо действовать, и поскорее. Разделяю прибывших на три группы: первую отсылаю на правый берег водохранилища с целью прочесать и заблокировать район Лисьих нор (за ними находится дачная зона, и вот оттуда чаще всего в заповедник проникают люди и домашний скот); вторую даю в помощь моим людям — все они растянутся в цепочку, сойдут вниз к бывшей школе и займут оборону до самого Сухого оврага; третья расположится у стены водохранилища, чтобы ни одной дикой собаки не пропустить обратно. Таким образом, им останется только один путь к отступлению — через Чистило к южным склонам горы, туда, где находятся зимние логовища муфлонов. Но о них я не тревожусь, потому что на этом свете нет собаки, дикой или домашней, которая решилась бы выгнать муфлона и преследовать его по обледенелым склонам горных перевалов.
Отсылаю одну за другой все три группы, звоню шефу домой и, зная его начальственный гонор, прошу взять руководство операцией на себя — пусть потешится. И первое, что я предлагаю ему сделать, — это связаться любым способом с селами по другую сторону Предела и предупредить их о том, что вечером или ночью одичавшие собаки окажутся у них.
Уже половина двенадцатого, и Марина второй раз приносит мне кофе. Похоже, настроение у нее переменилось после утреннего скандала. Она вертится вокруг меня и все пристает с вопросом, нет ли и для нее каких-нибудь особых заданий.
Мне ужасно хочется послать ее подальше, но я превозмогаю себя и наказываю ей ни в коем случае не спускать сегодня с цепи Гая и Розу. Еще не хватало, чтобы кто-то из этих болванов застрелил их в суматохе.
Мне не сидится на месте, как челнок мотаюсь по базе и в сотый раз жалею о том, что не пошел с какой-нибудь группой. Вдруг в какой-то момент в канцелярию, куда я снова вернулся, влетает Марина и с расширенными от страха глазами тихо говорит:
— Телефон звонит…
В первый момент я не могу понять, о чем она говорит. Вот он, телефон, передо мной, он уже целый час молчит!
— Нет, другой звонит, из школы…
Теперь и я слышу. Тихо так стрекочет в глубине коридора, как будто это не телефон, а муха жужжит на окне. Кстати, надо объяснить, что это полевой телефон и пользуются им обычно только летом, когда в бывшей школе живут косари.
Бегу к аппарату, хватаю допотопную трубку, но в ответ — глухое молчание. Настойчиво спрашиваю — кто? Кто звонит? — и чувствую, что там, на другом конце, тихо вешают трубку. На этот раз я упорно верчу ручку, но ответа никакого. Марина стоит рядом со мной, в глазах у нее — тревога.
— Кто это может быть?
— Наверное, кто-то из наших, — на всякий случай отвечаю нейтрально, хотя вовсе не уверен в этом.
— Наши пошли к Большой пойме, и потом…
— Что «потом»?
— Ключи-то у меня, как же «этот» вошел в школу?
— Как?! — Я нагибаюсь к ней и почти касаюсь носом ее лица. — Ты же сама говорила мне вечером, что Митьо разговаривал с кем-то из школы! И тогда тоже ключи были у тебя, верно?! А это значит, что у кого-то есть вторая пара ключей или этот «кто-то» нашел способ входить в здание бывшей школы, не открывая замка! Ну-ка, быстро принеси ключи!
Марина пытается остановить меня, но я бегу к себе в комнату, и через пять минут я готов к выходу. Надеваю старый рюкзак на спину, перепоясываюсь патронташем и наполняю его целиком патронами и дробью. Подумав несколько секунд, сую во внутренний карман куртки пистолет. Черт знает что может означать этот звонок из закрытого помещения школы, да и утреннее столкновение мое с Митьо заставляет меня быть начеку.
Я быстро сбегаю вниз, хватаю из рук Марины связку ключей, достаю из стенного шкафа лыжи и палки и выхожу во двор. Гай рвется с цепи и беснуется от желания идти со мной, но я стараюсь не обращать на него внимания.
Я уже встал на лыжи и двинулся, когда меня догнала Марина.
— Подожди! Подожди, слышишь?
Я остановился и с удивлением поглядел на нее.
— Я хочу спросить тебя кое о чем… — Она подняла руку и поправила ремень ружья у меня на груди. — А если… если шеф спросит о тебе, что ему сказать?
Вряд ли она хотела спросить именно об этом — так мне, во всяком случае, показалось. Но я махнул палкой.
— Скажи ему, что я пошел с другими и вернусь самое большее через два, два с половиной часа.
Мне очень хотелось задать ей один вопрос, и я в конце концов решился:
— Ты говорила кому-нибудь, что я нашел тайник в Чистило?
— Да ты что, что ты… — она испугано отпрянула назад.
— Ладно, ладно… если что-нибудь выяснится, я позвоню из школы.
Идет густой снег. Очертания старого шоссе, некогда связывавшего Зеленицы с Дубравцем, еле видны сквозь снежную пелену. Знаю, что за мной тянется глубокий лыжный след. А я люблю смотреть на него и часто оборачиваюсь, но ничего, кроме снежной круговерти, не вижу. Тороплюсь к лесу, и тут меня сразу окружает оглушающая тишина. С веток мягко срывается и падает вниз пушистая пена, где-то далеко стучит дятел, резко отзывается сорока. Все чаще вижу вокруг следы оленей и серн. Вот — а здесь через мой путь совсем недавно промчалось в панике стадо диких кабанов. И ни один след не ведет к кормушкам. Наверняка животные бежали в самую густую часть леса, чтобы найти там спасение от стаи озверелых, одичавших собак, которые бывают, пожалуй, похуже и пострашнее волков…
Холодает и темнеет, я иду все глубже в лес — и, как ни странно, все вокруг становится тихим, нетронутым, каким-то первозданным. Впрочем, зимой тут всегда так, зато летом жизнь кипит и горы дышат лихорадочно и бурно, ополоумевшие от стойкого запаха горячей лесной земли, папоротника и дикой мяты. В те дни, когда я каждую минуту ждал известия о разводе, время в долине Златиницы будто остановилось. Дни еле тащились, как усталые потные кони, к растекшемуся красному закату, а ночи падали вниз, как чернильные волны, и небо стояло так низко, что мне хотелось взобраться на Предел, протянуть руку и схватить горсть звезд…
Ночи в то ужасное лето были шалыми и всех — и людей, и животных — сводили с ума. Даже Гай, преданнейший пес, норовил схватить меня за горло, когда мы бегали с ним по берегу водохранилища. Вроде бы это была игра, но бог знает где граница между его беспредельной привязанностью ко мне и атавистической жаждой крови — ночами я со страхом замечал в его глазах зеленые языки пламени…
Чем глубже я уходил в лес, тем яснее слышал далекие голоса облавы и грохот выстрелов — ясно, это группы прочесывают заповедник и постепенно вытесняют стаю вверх к Пределу. Это неплохо — операция, кажется, удается, большинство собак будет уничтожено, остальные, даже если перевалят через гору, наверняка отдадут Богу душу по дороге. Да и не дикие же в стае животные, а так, с бору по сосенке — от огромных овчарок (я вижу по следам) до маленьких домашних козявок. На обледенелых горных склонах они будут лихорадочно царапаться обломанными коготками и падать в пропасть — от выстрелов и от бессилия. И снег станет бурым от крови.
Выстрелы то приближаются, то отдаляются снова, в нескольких местах я уже натыкаюсь на скрюченные, окоченевшие трупы собак. Завтра охотники из Дубравца уберут их всех до единого — за каждую убитую собаку дают по пять левов…
Вдруг мимо меня проносится обезумевшее от ужаса стадо осыпанных снегом вепрей во главе с огромным самцом. По нарастающему сзади них шуму я успеваю понять, что буквально в ста метрах вслед за ними несутся охотники. Только я собираюсь крикнуть им, как на поляну выскакивают огромная косматая овчарка и маленький желтый, похожий на шакаленка шпиц. Мчатся осатанелые за вепрями и меня даже не замечают. Я быстро снимаю с плеча двустволку, они улавливают мое движение, и овчарка успевает отскочить в сторону. А желтый малыш совершенно неожиданно ложится в снег, трется об него животом и жалобно скулит. Стреляю с опережающим прицелом в овчарку, она с воем переворачивается через голову, остервенело захватывает зубами собственную шерсть и захлебывается кровью. Я навожу мушку на малыша, он сидит в десяти шагах от меня, в глазах безумие, ужас и слезы. Выстрел вминает его в снег, и я вижу ясно, как от маленького его тельца летят во все стороны желтоватые космы шерсти, смешанные с дымом и струйками пара от хлынувшей крови. Снова заряжаю ружье, чтобы добить большого — он пытается отползти от страшной поляны. Две пустых гильзы летят в снег, новые патроны уже у меня в руке, и тут внезапно, как удар, меня толкает в грудь предчувствие нависшей опасности. Трудно определить точно мое ощущение в этот момент — что-то вроде гнусной пустой тошноты под ложечкой, мурашки по спине и какой-то зуд по всему телу. Резко нагибаюсь к упавшим гильзам, и именно в этот момент — внезапный и ослепляющий, как молния, — гремит выстрел…
На голову падают срезанные пулей ветки, сыплется снег. На миг мне кажется, что Старцы на Пределе соединились, что-то выкрикнули и обрушились на меня. Потом пала тишина. Такая бездонная и звонкая, что я слышу, как сзади меня с веток падает снег. Где-то быстро удаляются шаги — туп, туп, туп, как по твердой, утрамбованной тропинке. Откуда она здесь, в глухом лесу, засыпанном снегом? Что за идиотизм! Медленно, очень медленно — проходит минута или целая вечность — я прихожу в себя и понимаю, что это не шаги по твердой тропке, а кровь, бешено стучащая в виски. Кто-то стрелял в меня? Да нет, это просто невозможно! Это абсурд, в который я не могу поверить, но на плече у меня до сих пор лежит срезанная дробью ветка, и я наконец трезво и не без страха начинаю осознавать, что и сейчас представляю собой великолепную мишень. Взгляд падает на раздробленный череп желтого малыша. На миг я представил себе, что не он, а я, я лежу там с простреленной, плавающей в крови головой. Эта воображаемая картина наконец-то выводит меня из шока, я бросаюсь в сторону, чтобы скрыться за стволом ближнего дерева, забыв, что я на лыжах, они наезжают одна на другую, я падаю в снег, ружье летит из рук, и проходит довольно много времени, пока я снова подымаюсь на ноги и в руках у меня оказывается незаряженное ружье. Я оглядываюсь вокруг.
— Кто стрелял?!
Никакого ответа. Меня окружает жуткая тишина, даже большая собака притихла, не успела, бедная, добраться до кустов на краю леса.
— Кто, кто стрелял, сволочь поганая?! — ору я во все горло и совершенно прихожу в себя. Значит, так. Кто-то прятался вот там, в тех кустах, куда полезла собака. Сидел там долго, спокойно целился мне в голову, потом нажал на спуск. Но за что? Кому и чем я мешаю, чтоб вот так хладнокровно убить меня? Забыв всякую предосторожность, я бросаюсь к кустам — никого. Даже следа никакого нет, чистый снег. Зато метрах в тридцати подальше между деревьями полно самых разных следов — и людей и животных. Куда бежать, за кем гнаться?..
Еще долго мне чудятся меж стволов направленные на меня винтовки и какие-то неясные, бледные лица убийц. Делать нечего, надо, надо взять себя в руки и продолжить путь. Я поворачиваю лыжи и снова иду к школе. Стараюсь равномерно выбрасывать вперед ноги и глубоко дышать. Движение возвращает мне способность спокойно рассуждать. Ну а если это был случайный выстрел! Кто-то целился в ползущую рядом собаку, нажал на спуск и, когда сообразил, какую беду мог натворить, испугался и кинулся прочь в глубь леса. Да нет, чепуха это! Собака ползла по снегу внизу, а стреляли гораздо выше, на уровне моей головы…
Страха уже нет, меня охватила дикая злость, которая просто не дает дышать.
Дорого бы я дал, чтобы этот подлец оказался передо мной, хоть бы на миг мелькнул меж деревьев! Тогда Герасим Боров, а теперь я, его сын, так, что ли?!
Снегопад усилился. Наверно, уже и обед прошел. Наконец-то впереди мелькнуло кирпичное здание бывшей школы. Первая здравая мысль — есть ли связь между тем звонком отсюда и выстрелом? Допустим, кто-то хотел свести со мною счеты и решил сначала позвонить, а потом, когда я рвану сюда, чтобы выяснить, в чем дело, засесть у тропинки и спокойно ждать моего приближения… Могло такое быть? Вполне. И главное, эта подлая тварь правильно предугадала события. А теперь поди разберись, кто из тридцати охотников, и плюс мои люди, кто из них топтался здесь? Вокруг полно следов, они переплетаются и ведут во все стороны, а через некоторое время и их не будет видно, все скроет глубокий снег, который сыплет, не переставая ни на секунду.
Я быстро приближаюсь к школе, стараясь избегать открытых мест. Странно — уже издалека вижу, что замок на входной двери висит как ни в чем не бывало. Марина твердит, что единственный ключ от школы у нее, но теперь, после всего случившегося, я не верю ей. Ключи могут быть и у Митьо, и у Васила, и еще бог знает у кого. Снимаю лыжи, тихо прохожу вдоль стены и наконец вижу то, что и ожидал увидеть: окна закрыты на толстые деревянные ставни, под ними нетронутый снег, но к одному из них — угловому — ведут следы… Три гвоздя, на которых крепится здесь ставень, вынуты, створки свободно раскрываются. Отодвигаю их в стороны и сую голову вовнутрь. Передо мной темный, пахнущий сыростью и мышами коридор. Я наконец-то могу расслабиться, потому что уверен: внутри уже никого нет. Я пытаюсь пойти по следу, он полузасыпан снегом, но еще различим. «Человек» (если убийцу можно назвать так) вышел из леса, пробрался в школу и вернулся обратно в лес. Следы оставлены резиновыми цервулями или сапогами, а такую обувь носит каждый сельчанин в Дубравце. На расстоянии метров пятидесяти от школы, уже в лесу, следы теряются на широкой, плотно утрамбованной тропинке. Здесь, скорее всего, побывала группа, посланная к Большой пойме, — она возвратилась и прошла к южной части водохранилища, чтобы и там прочистить лес.
Смысла нет идти дальше. Я возвращаюсь обратно, открываю замок, висящий на дверях школы, и вхожу в единственную обитаемую во время косьбы комнату. Тут некогда была учительская, и еще сохранились высокие шкафы с какими-то старыми бумагами, стол, залитый чернилами, и узкая кушетка с провисшими пружинами. Мне не хочется немедленно возвращаться на базу, я устал и озяб, хорошо бы хоть час побыть в покое и одиночестве. В комнате собачий холод, я засовываю в печку какие-то старые газеты, разламываю полусгнившие дощечки, издавна валяющиеся вокруг, и отправляю их туда же. Через минуту в печурке полыхает огонь. Я сажусь на продавленную кушетку, закуриваю, впадаю в какое-то странное забытье — ни о чем не думаю, ничего не чувствую… И вдруг меня будто кто-то бьет в грудь — это звонит телефон: на проводе Марина.
— Боян, это ты?! Сейчас к тебе прибежит Гай!
— Гай?! Я же говорил тебе, черт подери, чтобы ты ни в коем случае не спускала его! Эти дубравецкие оболтусы запросто могут застрелить его!
— Да я и не спускала его, — стала оправдываться Марина. — Но некоторое время назад он начал так жалобно скулить, а потом так рванул ремешок, что порвал его и понесся к тебе…
— Когда это было?
— Минут пятнадцать назад… Погоди, тут Дяко хочет с тобой поговорить…
— Боян, шеф телефон разрывает, тебя ищет! Говорит, случилось что-то очень страшное, но я не понял, что именно. Он велел мне найти тебя и за две минуты доставить на базу.
— Значит, за две минуты, так?! Тогда заводи вертолет и лети сюда!
— Именно это я и собираюсь сделать — сейчас оседлаю джип и приеду за тобой!
— А наши вернулись уже с Большой поймы?
— Часть группы вернулась, но я велел им обойти все кормушки по берегам Златиницы.
— Хорошо. Жду тебя.
Я погасил печку, собрался выйти наружу. И тут слышу, как Гай скребется за дверью и скулит. Стоило мне открыть двери — и он с радостным лаем бросился на меня, чуть с ног не сбил, и лижет лицо и руки, и ластится, а я глажу его умную голову и осторожно пробираюсь пальцами сквозь затвердевшую влажную шерсть к его шее. Так и есть — кровь. Содрал себе кожу, негодник этакий, когда рвался с ремня.
Через пять минут прибывает джип. Укладываю лыжи сзади, туда же прыгает Гай, а я сажусь рядом с Дяко и вынимаю из рюкзака маленькую бутылочку коньяка-НЗ. Один большой горячий глоток мне — и я передаю бутылочку старому леснику. Он не отказывается, тем более что здесь нет гаишников, да и холодно в джипе зверски — дует отовсюду.
— Понять не могу, как ему удалось оборвать такой толстый кожаный ремень! — я поворачиваюсь и тереблю голову Гая между ушами, жаль, что он не пьет коньяк, я бы и его угостил.
— Я видел его из окна базы. — Дяко снова слегка прикладывается к бутылке. — Он будто взбесился — воет, лает, ревет, скулит, и все разом. Я говорю Марине — да он задохнется, этот Гай, и в этот самый момент он оторвался и как снаряд полетел сюда… Наверно, предчувствовал что-то плохое…
Я повернулся лицом к Дяко и медленно, раздельно произнес:
— А ты знаешь, что полчаса назад в меня стреляли?
Дяко так резко нажал на тормоза, что я едва не ткнулся носом в стекло.
— Стреляли?! Кто?
— Откуда я знаю? Наверно, Гай именно тогда и взорвался…
— А может быть, это кто-то случайно, а, Боян? — Старый лесник смотрит на меня такими глазами, что мне снова хочется обнять его.
— Как бы не так — «случайно»! Ты за кого меня принимаешь? Что я — совсем дурак, по-твоему? Он целился точно в голову — вот сюда! — и я постучал по лбу. — Случайность в другом — в том, что я в этот момент нагнулся за пустыми гильзами.
— А следы? Ты видел кого-нибудь или по крайней мере нашел какие-нибудь следы?
— Как их найдешь, когда тут такая толчея была…
Лицо у Дяко окаменело.
— А Марина не говорила тебе, зачем я помчался сюда?
— Нет, об этом речи не было.
— Дело в том, что кто-то позвонил отсюда, из школы, а когда я взял трубку, никто не откликнулся. А тут я уже обнаружил, что кто-то входил — или входили — в школу через окно, что на задней стене. Там ставень открыт — и, скорее всего, давно уже.
— Ты хочешь сказать, что…
— Да-да, я хочу сказать, что «этот» позвонил и рассчитал, что я решу проверить, что тут происходит, пойду лесом, — он и засел где-то на моем пути и ждал…
— Очень мне не нравится вся эта история, если верно все то, что ты говоришь… — мрачно заметил Дяко.
— И мне, знаешь ли, не нравится! Да, следы, которые вели к школе, оставил кто-то в резиновой обуви.
— Наши из охраны ходят в сапогах с каблуками.
— Да, я знаю! А кстати, где сейчас Митьо и Васил?
— Когда мы пришли к Большой пойме, стаю уже прогнали оттуда. Я велел нашим людям пройти лесом и спуститься на восток от стены водохранилища, а охотники из Дубравца двинулись сюда.
— Сколько их было, не помнишь?
— Не больше десяти человек.
— Ты можешь вспомнить их имена и фамилии или узнать их, если потребуется? Конечно же, не сейчас, а вечером, когда все вернутся. Ну, вроде бы это нужно для какой-нибудь ведомости или протокола.
— Ладно, сделаю. А если эта сучка сболтнула кому-нибудь, что ты нашел тайник, я ей голову снесу!
— Какая сучка?
— Марина, кто же еще!
— Она не сучка, бате[4] Дяко, а женщина. Настоящая женщина, и это самое ужасное.
Мы подъехали к базе, и я не успел войти в коридор, как Марина выбежала из канцелярии и закричала:
— Быстрее! Там шеф на проводе…
Я прошу ее сварить кофе, на ходу снимаю с себя рюкзак, ружье, патронташ, хватаю трубку с твердым намерением наконец-то послать Генчева ко всем чертям.
— Эй, Боров! — кричит он. — Хорошо, что я нашел тебя! У тебя есть под рукой на чем записать?
Оглядываюсь, закуриваю сигарету, чтобы прошло некоторое время, и отвечаю:
— Все готово, Генчев, записываю…
— Так вот — слушай внимательно! Обстановка осложнилась чрезвычайно! — Шеф налегает на каждое слово, как будто я должен все это стенографировать.
— Это я должен записать? — корчу из себя идиота.
— Что? Что?
— Я спрашиваю, то, что обстановка осложнилась, — это надо записывать?
— Да нет, я скажу тебе, что писать! Сейчас слушай только! Через десять-пятнадцать минут я отправляюсь к вам…
Ох, елки зеленые… Только этого мне не хватало.
— А на чем вы отправляетесь?
— Ты зачем меня перебиваешь, а?! И какое значение имеет вид транспорта?! — сердится Генчев и наверняка от досады давится слюной и кашляет.
— Имеет, товарищ начальник! Это невероятно важно. Например, если вы собираетесь ехать на «ладе»…
— Да, да, на «ладе», черт тебя возьми, ты что отнимаешь у меня время?!
— Отнимаю, потому что на «ладе» нельзя…
— Как это так — нельзя? Почему нельзя?
— Потому что не проедете вы на ней никуда! Вчера вечером не могли даже отвезти роженицу в райцентр. Тут женщина рожала, но у нее было ужасное кровотечение, и мы вызвали специально вертолет, чтобы ее…
— Послушай ты, болтун чертов! При чем тут какая-то роженица и вертолет, когда я тебе ясно говорю, что положение действительно очень, очень серьезное! Смотри, как бы и у тебя не случилось кровотечение, когда я прибуду к вам!
До чего наш шеф забавный, когда сердится!
— Мне все ясно, шеф, но…
— Какое еще «но»? Чего там «но»? Я ему говорю, что…
— А я вам говорю, черт возьми, что «лада» не проедет! Понятно?! — прерываю его без особого почтения. — Не проедет, потому что путь между Дубравцем и Козарицей закрыт! На целый метр снегу навалило и продолжает падать до сих пор! Со вчерашнего дня ни туда, ни сюда ни одна машина не прошла, ясно? Поэтому я и говорю, что «лада» не пройдет! У вас там что — никакой информации нет о положении на дорогах?
Минуту-другую Генчев медлит с ответом, я слышу — совещается с кем-то, а потом говорит такое, от чего я бы наверняка свалился со стула, если бы Марина не стояла передо мной с чашкой кофе:
— Неправда все это, Боров! Из штаба по борьбе с природными бедствиями сообщают, что все пути в округе проходимы!
— Пошлите вы этот штаб к такой-то маме вместе с их говенной информацией! А потом поезжайте на «ладе» и посмотрите сами!
— Как это «к такой-то маме»? Ведь товарищи и в Софию уже точно так доложили…
— Они могут даже в ООН доложить, а вы слушайте, что я вам говорю! Лучше всего поезжайте на джипе с двойной передачей! И с собой возьмите по крайней мере еще двух человек. Здесь зимой небезопасно, товарищ Генчев, учтите это!
— Хорошо! Приеду на джипе! С тройной передачей, если тебе так хочется! Ты что делаешь в данный момент?
— Ну… — Я жду несколько секунд, будто обдумываю ответ. — Вот в данный момент я говорю с вами по телефону и пью кофе…
— Нет, от этого типа можно рехнуться! Вот я приеду сейчас, ты у меня выпьешь и закусишь! Ты слышишь меня, Боров?!
— Очень хорошо слышу…
— Так вот — слушай и записывай! Союз охотников и рыболовов мобилизовал восемьдесят человек!
— А для чего их мобилизовали? — Я ничего не понял.
— Запиши цифру восемьдесят! Они выедут отсюда на двух автобусах ровно в восемь часов! Понял? Сегодня вечером в восемь!
— Я понял, но куда они поедут?
— Как «куда»? На базу, конечно, черт тебя возьми совсем! Я же говорил тебе, что обстановка…
— Понял! Обстановка сложная, и восемьдесят охотников выедут из города на базу на двух автобусах в восемь часов вечера! А вы поедете через пятнадцать минут на джипе с двойной передачей.
— Совершенно верно!
— Только за каким дьяволом мне эти городские спортсмены, если через час-другой со стаей все будет кончено?!
— Ха, кончено! Как бы не так! Тут звонят, телефон обрывают из соседних округов да еще из сел за Пределом. Ты как слышишь меня?
— Как будто вы тут, рядом, товарищ начальник!
— Так вот — оказывается, по десяти-пятнадцати радиусам к заповеднику движутся огромные стаи одичавших собак! Ты понял? Записал?
Вот это новость! Или я ненормальный, или он окончательно помешался.
— Это что — организованная собачья акция или как? — опять корчу из себя идиота.
— А ну-ка прекрати наконец свои шуточки! Стаи громадные, по пятьдесят — сто собак в каждой, их видели — сосчитать невозможно! Нам уже звонили из… — И он стал перечислять названия сел, которые мне лично ничего не говорят.
— Может, они все там взбесились? — Я все еще никак не могу поверить в то, что он говорит.
— Не бешеные они! — твердо заявил Генчев. — Просто они голодные, им холодно, поэтому они и одичали…
— Я не о собаках, а о тех, которые звонили из сел.
— То есть как это взбесились, когда информация получена от ответственных людей! Даже из министерства уже звонили! Ты слышишь меня?
— Слышу, слышу, только не могу понять, почему эти собаки все как одна бросились именно сюда, к нашему заповеднику…
— Как — почему? Да потому, что сейчас зима, потому, что им холодно и они хотят есть! Неужто ты не можешь усвоить такую простую истину!
Я чувствую — он взбешен до предела. Но у меня своя логика.
— Да, все это верно, но ежели им холодно и они голодные, то почему они не могут сожрать овец, коров, кур, поросят и даже тех самых ответственных людей из тех самых сел? Почему они решили пробраться именно сюда, к нам? Вот что меня интересует и тревожит. И я спрашиваю вас совсем не ради праздного интереса, а потому, что все это кажется мне очень и очень странным… Конечно, если положение обстоит именно так, как вы говорите…
Шеф, судя по всему, впал в тяжелый цейтнот — о таких важных вещах он не думал до сих пор. Я снова слышу, как он возбужденно советуется с кем-то и наконец говорит мне:
— Пока мы не можем объяснить причину их поведения, но компетентные товарищи выскажут свое мнение, как только познакомятся с обстановкой! А пока мы тут со специалистами нанесли на карту схему движения каждой стаи…
— Дикость какая-то! — не выдержал я.
— Не дикость, а неизвестно что! Ты как — записываешь?
— Да, записываю, дуйте дальше!
— Сколько человек мобилизовано из Дубравца?
— Тридцать.
— Мало! Поэтому мы и присылаем еще восемьдесят. В селе и на базе надо организовать чай, горячую пищу, спальные места для людей. Свяжись с кметом и местным руководством! Нужны будут еще сто-двести глашатаев!
— Да если мы в Дубравце даже поднимем всех бабок, никогда нам не собрать столько народу!
— А ты не перебивай меня! Завтра в шесть часов утра чтобы на базе была группа глашатаев! Ты же сам знаешь, что это нужно для организации облавы!
У меня просто голова закружилась от всего, что я услышал.
— А этих восемьдесят городских любителей охоты кто будет кормить? Кто будет оплачивать расходы?
Марина и Дяко стояли рядом со мной и с интересом прислушивались к нашей перепалке.
— Счета будете подписывать вы, а расходы пойдут за счет фонда борьбы с природными бедствиями. Тебе все понятно?
— Господи Боже мой! — пробормотал я с отчаянием.
— Что ты все время повторяешь — «Боже» да «Боже»?!
— Но ведь это заповедник, черт возьми! Как можно пустить вовнутрь столько народу?! Да эти крикуны и городские болваны разгонят дичь так, что ее потом силой не соберешь!
— А ты считаешь, что лучше оставить эту дичь на растерзание собакам? Вот что, Боров, хватит болтать по этому вопросу! Это приказ, и ты обязан выполнять его!
— Ну что ж, хватит так хватит. Однако у меня к вам несколько просьб.
— Давай, говори скорее, а то время идет!
— Первое — эти городские охотники пусть оденутся потеплее и…
— Они не дети, знают, как надо идти в поход!
— …и кроме ружей пусть возьмут еще лопаты, потому что дорога от Козарицы до…
— Я уже слышал это, дальше!
— Второе — пусть обеспечат хотя бы двух врачей, потому что все может случиться. Вечером здесь была акушерка, но она улетела с роженицей на вертолете…
— Слушай, перестань трещать про этот вертолет, черт возьми тебя совсем! О медицинской помощи подумаем. Еще что?
— Последнее — договоритесь там, чтобы в Дубравце не закрывали на ночь почту. Тогда у нас будет связь с городом и с теми селами, которые за Пределом, а если положение еще больше осложнится — то и со всей страной! — Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, представляя себе «генеральскую» мину Генчева, с которой он всерьез принимает мои предостережения.
— Будет сделано! Мы это организуем, а ты предупреди своих почтовиков, чтобы знали! Больше ничего? Тогда записывай последнее: выдели людей, чтобы очистили от собак дачную зону, и поставь там охрану.
— Э, нет, этого не будет! Плевал я на эту дачную зону! Пусть ловят собак штанами, если хотят! Зона находится за чертой заповедника, а у моих людей своих забот хватает! — Генчев отлично знает мое отношение к дачам, но я все-таки предпочел высказаться.
А дело все в том, что эта проклятая зона все норовит расшириться и вот уже зарится на земли заповедника. И для того, чтобы все было вроде бы по закону, создали две комиссии, которые должны определить — куда и за счет чего расширяться. В комиссии включили и меня — так, для проформы, как пятую спицу в колесницу. Вот я там и взорвался в первый раз, накидал дядям из комиссий целую кучу возражений, и представьте, они внимательно слушали, кивали головами, а потом приняли решение, которое подготовили заранее. А ведь решалась судьба не только заповедника, но и всей окружающей среды! И когда я увидел, к чему они клонят, я вытащил на свет Божий целую пачку постановлений, министерских приказов и распоряжений. Господи, как вскочит тут один из тех, кто там был, да как заорет на меня! Мне не очень хотелось бы называть его имя и должность, потому что мы с ним и прежде встречались — раза два-три я и Надя попадали в его компанию. Еще тогда он произвел на меня странное впечатление — этакий всемогущий всезнайка. Зайдет речь об экономике — он тут как тут, обсуждают какое-нибудь литературное произведение — он с ученым видом излагает свое мнение, вертится, болтает без остановки и как бы между прочим нахваливает свою дачу под названием «Очарование», украшенную какой-то венецианской мозаикой. Надя слушает его развесив уши, а я — я видеть его не могу, подлеца. Так вот, разорался он на меня: тут, говорит, Боров корчит из себя единственного защитника окружающей среды и знатока законов! А мы что же — противники правительства или некомпетентные люди? Значит, всем нам, кто здесь собрался, наплевать на природу и заповедник, одному только Борову они дороги! Ну и все в таком духе…
— Ты не очень-то воображай, парень! — прервал мои «лирические» воспоминания шеф. — Один весьма ответственный товарищ предупредил меня, что там, в дачной зоне, замечены одичавшие собаки, намекнул на личную ответственность за безопасность людей. Сегодня суббота, на дачах полно отдыхающих, туристов, лыжников. Тебе все понятно?! Кончен разговор!
И повесил трубку.
Мы разговаривали с ним всего десять минут, а у меня такое чувство, будто я вышел после длительного служебного совещания. То, что я услышал от шефа, было до того нелепо, что впору бы расхохотаться. Представить себе только — по ста радиусам к центру заповедника мчатся тысячи собак! Как по команде! Большей глупости и придумать невозможно. Неужто непонятно, что сейчас, среди холодной зимы и все усиливающейся метели, эти несчастные животные, выгнанные из теплых домов и оставшиеся без крова и пищи, стремятся снова к людям, к знакомым местам. Конечно, многие из них дичают и, обиженные людьми, забывают свое домашнее прошлое. Но это все-таки единицы, а такие идиоты, как советники Генчева, воспринимают все случившееся как чудовищный собачий апокалипсис, угрожающий безопасности человека…
Но, наслушавшись шефской болтовни, я в какую-то секунду засомневался — а вдруг все же это правда? Вдруг в этих брошенных животных пробудился не знающий пределов первобытный инстинкт мщения и дикие, озверелые орды мчатся сюда? Но почему тогда именно в долину Златиницы? Что их тут привлекло? Может быть, тишина и защищенность, нет омерзительных запахов, грязного жилья, бегает дичь и природа вокруг первозданная и нетронутая, такая, какой она сохранилась в их глубокой генетической памяти… А вокруг, всего лишь в нескольких километрах от заповедника, голое, мертвое поле, над которым безжалостно свистит ветер. А дальше — села и города, но в них опасно, там стреляют, травят, ловят капканами и сетями, убивают камнями, топорами, дубинами. И люди вдруг из добрых богов превратились в злых и безжалостных тварей. Что остается бедным животным?
Я поделился с Дяко своими сомнениями. Он стоял, прислонившись к печке, и долго разминал в руках сигарету.
— А я думаю, что так оно и есть. Генчев не мальчишка, чтобы шутки шутить!
— Да ты понимаешь, что говоришь?! — прервал я его раздраженно. — Со всех сторон света именно сюда бросились все собаки! Что за чушь! Ты помнишь, весной, когда мы только начали кампанию, одна лишь Роза сумела прибежать сюда.
— Но это было весной, — спокойно ответил Дяко. — Тогда животные были напуганы, каждое старалось спастись и выжить. Ведь собаки чувствуют опасность за десятки километров. Если в тебя сегодня и вправду стреляли, то Гай не случайно так разбушевался! Но есть еще и другое — собаки привыкли жить вместе с человеком, и это длится уже тысячи лет. А теперь, когда их бросили и они увидели, что пути назад нет, вот тогда дикое начало снова пробудилось у них, и они сбились в стаю. Потому что одно дело самому добывать себе пищу и кров, а другое — когда вместе. Ведь и люди так же. А может быть, в стае и веселее, кто знает…
Да, кто знает, может, Дяко и прав. Я только спросил его, почему, по его мнению, эти стаи одичавших животных устремились именно сюда. И он мне рассказал кое-что, чего я до сих пор не знал:
— Давно-давно я слышал от деда и других стариков, что здесь, под Пределом, когда-то водились волки. Летом их редко кто видел — кругом леса, в них дичь, и летом было спокойно. А вот зимой собирались под горой большие стаи, гуляли по всей округе и страх наводили. Ты же знаешь, что сейчас время волчьих свадеб, может, у диких собак то же самое…
В общем, посоветовал мне Дяко принять к сведению то, что говорил Генчев, и выполнять его распоряжения. А я любил и уважал старого лесника и прислушался к его совету. Первое, что я сделал, позвонил на эту чертову дубравскую почту и предупредил телефонистку, чтобы ни в коем случае не выключала телефон и не прекращала связь с городом, пусть остается там и бдит. А ночью кто-нибудь сменит ее. А она — ворчать: кто ты такой, чтоб мне приказывать? Я, говорю, — это я, а ты будешь делать то, что я тебе велю! Есть такой приказ, понятно? В ответ телефонистка заявила, что я ничтожество, которое захватило власть. Так мы обменивались любезностями и комплиментами, пока мне это не надоело, и я пригрозил ей выговором от начальства, и тогда она наконец-то согласилась связать меня с кметом.
Пока я ждал разговора с ним, Дяко по моей просьбе отправился в село — надо же организовать питание этим городским охламонам. Слава Богу — дали общинный совет. Но я целую вечность не мог понять, с кем говорю, оказалось, это рассыльный, глухой как тетерев, тупой и медлительный ужасно — между его двумя словами телега может проехать.
— Где староста? — спрашиваю.
— А?
— Староста, черт возьми, где?
— А, я слышу — телефон звонит: дзыг, дзыг…
— Вот я тебе дзыгну, как только сойду в Дубравец! — ору я что есть силы. — Кмет мне нужен, понял?! Где он?
— Да здесь же, в Дубравце, почему не поищешь его, а вертишь телефон…
— Потому что я звоню с базы! Надо найти его немедленно! И скажи, пусть позвонит!
— Ага, значит, так… — тянет он душу. — А у тебя к нему дело?
— Нет, в карты будем играть! — реву я на пределе, еще секунда — и я разобью аппарат!
— Так ты так и говори! — оживился рассыльный. — Председатель сказал, что, если будут спрашивать про карты, пусть идут к учителю, потому что у них нету четвертого…
— Я четвертый! Найди его немедленно и скажи, что здесь наводнение, землетрясение, пожар! Скажи, вулкан взорвался! Нет, про вулкан не говори, все равно не сможешь запомнить это слово!
Связь вдруг прервалась — то ли рассыльный просто прекратил разговор, то ли в панике побежал разыскивать кмета.
Уже пятый час. Темнеет. Во дворе слышно тарахтение мотора, Гай громко лает и рвется с цепи. Через минуту в канцелярию входят Васил и еще двое сельчан и приникают к печке. Они проверяли на моторной лодке берега водохранилища и Лисьи норы, даже до дачной зоны добрались. Спрашиваю, как там.
— Ни одного паршивого пса не видели! — зябко подергивает плечами Васил и продолжает своим обычным ноющим кислым тоном: — А там, на дачах, такая толпа, музыка играет, народ веселится и плюет на это бедствие… И машин сколько… машины, машины…
Я велел им идти в столовую, сесть у камина и ждать. И ничего спиртного! В этот вечер у нас будет работы выше головы.
— Да какая еще работа, Лесничий? — хнычут сельчане. — Мы целый день мотаемся, мерзнем, промокли до костей в этой проклятой лодке, крошки хлеба в рот не положили!
— Поедите, когда придут все!
Пытаюсь объяснить, что произошло, но вижу, что сразу не поверили, правда, чуть позже замечаю — глаза у них становятся хитрыми-хитрыми.
— Так говоришь — много собак?
— Очень много, сказали — сотни! Скоро сюда явится наш шеф. Стал бы он нарушать свой отдых в выходной день, если бы этих проклятых собак было мало!
— Эх, так вашу разэтак! Оно и видно, что за каждую убитую пятерку дают, потому что нам с земляком ни одной не досталось. Верно, земляк?
— Верно — ни одной! — согласился земляк. — Если бы Дяко оставил нас наверху у овчарен, может, и мы бы уложили несколько.
Двор осветился фарами двух подъехавших грузовиков, поднялся невообразимый шум, в канцелярию ввалилась толпа замерзших, но веселых мужчин.
Это сельские охотники.
— Четыре штуки отстрелили по дороге! — закричал кто-то. — И четыре у каракачанских зимних загонов. Запишем это на счет первой группы!
— А мы — три, — отозвался другой. — И две нашли убитых у дороги в школу, значит — пять.
Я оглядываю прибывших, ищу Митьо. Нет его. Снова стараюсь объяснить людям, что́ нам предстоит, а они смотрят на меня как на инопланетянина и твердят одно: устали, хотят есть, пить, да и в селе у них много дел. И еще их очень интересует, как обстоят дела с деньгами, будут платить или нет.
Я вглядываюсь в их лица, стараюсь встретиться глазами буквально с каждым — может, что-нибудь замечу, может, среди них сейчас и тот, кто хотел убрать меня?.. Но нет — ничего подозрительного я в их поведении не вижу. Отвожу в сторону одного из моих людей и велю ему подробно описать, что они делали у каракачанских загонов и потом. Что делали? Ну, сперва разогнали собак, потом пошли прочищать лес. Двигались медленно, то маленькими группками, то по одному. Знает ли он, кто проходил рядом с дорогой? Нет, конечно, откуда? Там такая толчея была, хорошо еще, что друг друга не постреляли. И не заметил, чтобы кто-нибудь пробирался в школу — чего там делать?
Я отправляю его отдыхать и заглядываю в кухню. Марина уже заварила огромный казан чаю и щедро разливает его в солдатские фляги. Раздумываю — сказать ей о выстреле или промолчать? Лучше промолчу, рано еще. И Генчев ни в коем случае ничего не должен знать, а то такая тут каша заварится — не дай Бог…
В канцелярии снова звонит телефон, и я с трудом пробираюсь сквозь спины и плечи охотников к себе. На этот раз — кмет. Его голос дрожит от возмущения:
— Что там приключилось, Боров? Что за паника? Ты приказал не выключать центральную, напугал рассыльного наводнением, вулканом… Ты что, ополоумел?
— А как иначе я мог заставить его найти тебя?
Я передаю ему вкратце все то, что сказал мне Генчев, прошу обеспечить ночную смену у телефона и завтра в шесть утра прислать на базу сто крикунов.
Председатель возмущен до предела и ругается:
— Сто человек?! Да вы там с ума посходили! Я не могу организовать сто человек на работу с бесплатной едой и питьем, а ты хочешь, чтобы люди целый день бегали по зарослям на морозе за просто так?!
— Может быть, не один, а два дня понадобится, но им заплатят!
Нет у меня веры в то, что дубравцы согласятся добровольно и бесплатно выполнить распоряжение начальства, вот пусть оно и платит. Сидящие в столовой услышали мой разговор с кметом, качают головами — дело, по всему видно, серьезное. Да еще платить будут…
А староста выходит из себя:
— Все это болтовня! С каких это пор лесничий распоряжается в селе, будто это твоя вотчина! Мое начальство молчит, а без его приказа я и пальцем не пошевелю!
Давно я убедился в том, какой это упрямый человек, ему просто доставляет удовольствие делать и говорить все наперекор. И чтобы его все-таки сломать, я прибегаю к «святой» лжи (предварительно перекрестившись).
— Как же тебе дозвонятся твои начальники, когда ты целыми сутками дуешься в белот, на месте не сидишь и заставляешь своего придурка рассыльного отвечать всем, что ты вышел по делам?! А ты знаешь, откуда говорил со мной шеф? — Тут я делаю многозначительную паузу. — Он говорил из кабинета председателя областного совета! А потом сам председатель взял трубку и лично говорил со мной! Теперь тебе ясно, какая складывается обстановка? И в министерстве уже обо всем знают. Если не веришь — звони сам! Сегодня вечером из города отправляют восемьдесят человек — два автобуса, все ответственные товарищи — охотники, начальники, директора…
Меня молча слушают дубравецкие охотники, и я вижу — им не нравится эта новость, еще бы — восемьдесят городских! Это же серьезная конкуренция.
— Автобусы прибудут сюда в десять вечера! — продолжаю я свою телефонную атаку. — Целую ночь им предстоит прочесывать территорию, мерзнуть, к утру они устанут, проголодаются. Поэтому распорядись, чтобы хлебный и продуктовый магазины завтра работали, слышишь? А в корчме пусть приготовят чай, закуску и что-нибудь горячее — похлебку или еще что-то. Потом решим, как доставить еду сюда. И самое главное — скажешь в магазине и в корчме, чтобы ни в коем случае не продавали никому алкоголь!!! Таков приказ!
— А при чем тут алкоголь? — удивился кмет.
— А при том, что эти городские недоумки налакаются и спьяну перебьют друг друга! И посади сегодня вечером в общину дежурного, как полагается в чрезвычайных обстоятельствах!
— Ты меня не учи, что мне делать, смотри лучше за своим заповедником!
Кладу трубку, пытаюсь отвлечься от шума и кое-что сообразить. Значит, девять убитых собак в день. Это просто капля в море — по заповеднику гуляют сейчас около пятидесяти. Если действительно появятся новые стаи, то, вероятнее всего, они возникнут с трех сторон: на стене водохранилища, на Большой пойме — там местность ровная и есть связь с полем под горой — и в Сухом овраге, который пересекает Предел между Старцами и уходит к южным склонам горы. Хотя, если нашествие собак примет такие масштабы, о которых говорил Генчев, озверелые стаи могут хлынуть сюда откуда хочешь. И все-таки логика подсказывает, что стаи будут искать самые легкие пути к центру заповедника. Сейчас у меня совсем немного людей, и нужно попытаться прикрыть лес с двух сторон, пока не прибудет обещанное подкрепление.
Прошу всех лишних выйти из канцелярии и зову сюда моих людей из охраны. Среди прочих маячит злобная рожа Митьо. У меня пока нет оснований подозревать его в том, что это он хотел уложить меня, но все равно — с этим типом надо быть осторожнее и держать ухо востро.
— Скоро вернется Дяко, принесет еду для охотников. Я велел купить и несколько бутылок коньяку. Марина сейчас делает чай. До… — бросаю взгляд на часы, — полшестого люди должны поесть, отдохнуть, согреться. Потом разделимся на четыре группы. Один из вас возьмет шесть человек и блокирует стену водохранилища. Там, кстати, есть домик насосного мастера — можете собрать дрова и разжечь огонь.
Охранники оживились.
— Мы-то знаем, что делать, а вот ты скажи, сколько бутылок нам даешь?
— Одной хватит вам!
— Да ты что, Боров…
— Никаких разговоров! Коньяк для разогрева, а вам надо не напиваться, а стену охранять. Ну а ты, — я указал на опытного пожилого охранника Манго[5], к которому давно испытывал доверие, — выбери себе двенадцать человек, и на грузовике возвращайтесь снова к каракачанам. Скорее всего, собаки появятся именно там.
— Пастухи жалуются — у них нет ни одной винтовки. А когда мы были там, возле овчарен моталось самое меньшее сто зверей!
— Ну уж ты хватил, Манго! А овчарам скажи, что винтовки не нужны им, ни в коем случае пусть не зажигают костров. Собаки не волки, и костры могут их только привлечь. Самое важное — наладить этой ночью охрану овец. И коньяк я вам не дам.
— Это почему же?! Мы что…
— Во-первых, вы будете среди людей, а там тепло и ракии хоть залейся…
— Это справедливо, — заметил Васил, надеясь, видно, что его группе больше достанется.
— А ты, Митьо, — я посмотрел ему прямо в глаза, — возьми десять человек, и на втором грузовике поезжайте в школу. У тебя есть ключи? — в упор спросил я, но он и бровью не повел.
— Нет, конечно, откуда они у меня…
— Возьмешь у Марины. Устройтесь в школе так, чтобы наблюдать за Сухим оврагом. Если хоть одно животное преодолеет Предел с южной стороны, оно непременно окажется там. Даю вам две бутылки.
— Можешь взять себе твои засранные бутылки! — издевательски ухмыляется Митьо. — У нас есть все и сколько нам требуется.
— Ну, если они отказываются, тогда… — клянчит Васил.
— Обойдешься! — резко прерываю его. — Ты останешься здесь, на базе, вместе с теми, кто ездил с тобой на моторке. Грузовики должны немедленно вернуться, как только отвезут людей в школу и к каракачанам. Теперь дальше. Если собаки пробьются до Сухого оврага, Митьо позвонит сюда по телефону, а группе, которая пойдет к овчарам, я дам ракетницу.
— Да разве в такой снегопад увидишь ракету…
— Это не твоя забота — выпустишь ракету, и все! И смотрите в оба, чтобы в этой неразберихе не прикончить кого-то! Вы находитесь на службе и несете личную ответственность за каждый несчастный случай! Есть вопросы?
— Ну, ладно, мы будем мерзнуть целую ночь, а ты что будешь делать? — Это, конечно, Митьо с наглой ухмылкой смотрит на меня.
Мне стоило огромного труда не поддаться искушению и не смазать по его наглой роже, но я безошибочно чувствовал, что рано или поздно он узнает, какая «легкая» у меня рука. Ведь я именно это обещал ему утром. Я снова поглядел ему прямо в глаза и медленно, внятно произнес:
— Через некоторое время я двинусь с базы по направлению к школе. На лыжах. Я позвоню вам предварительно по телефону. Пойду по старой дороге…
Охрана слушает меня спокойно и воспринимает все как должное. Только Митьо — так и есть — злобно прищуривает глаза, и узкое расстояние между его веками становится похожим на щель прицела…
Прибыл Дяко. Ребята бегут разгружать джип. Марина открывает склад и начинает по списку раздавать одеяла — ими пользуются летом косари. Некоторые просят побольше патронов, и Дяко — опять-таки по списку — раздает им патроны, которые вместе с оружием хранятся в специальном сейфе. Отправляю Васила вместе с двумя его подручными в помощь Марине: она должна распределить между всеми еду. Если бы в этот момент какой-нибудь посторонний человек попал сюда, он подумал бы, что находится в военном лагере или в логове шайки бандитов. База полна людей, отовсюду слышатся крики, смех, шарканье ног. Одни уже принялись за еду и шумно прихлебывают чай, другие чистят оружие и проверяют патроны, третьи сняли обувь и вытянули ноги в грубых носках к огню.
Пять тридцать. Телефон — в который раз! — снова звонит, на этот раз на проводе райсовет, Козарица. Джип с шефом только что проехал, Генчев просил передать, что направляется в сторону Дубравца. Я поблагодарил, положил трубку и подсчитал — от райсовета до Дубравца двадцать минут спокойного хода. Ну, еще прибавим двадцать на снегопад. От Дубравца до базы еще десять, стало быть, всего пятьдесят. А это значит, если через час Генчев не появится у нас, пойду на поиски или подниму тревогу. Не хватало нам потерять любимого шефа, который вполне может сбиться с дороги и околеть на морозе…
Ровно в шесть все три группы отправляются в путь. Оставшихся прошу как следует убрать базу, которая стала очень похожа на конюшню. А что будет, когда появятся эти, городские? Просто волосы встают дыбом. Как же их разместить? Ну, допустим, пошлю основную массу в школу и в овчарни. Пусть там утрамбовываются, хоть друг на друге спят — я не приглашал их. Здесь, на базе, оставлю не больше десяти человек, постелю им матрасы на полу в столовой. Шефа и еще три-четыре человека — в комнату для гостей: его в спальню, остальных на диваны в маленький холл перед ней. Та-ак, дальше. Шоферу шефа и двум помощникам Васила хватит комнаты отдыха охраны, там уже есть две кровати, можно поставить еще раскладушку. Если шефа сопровождает большая компания, уступлю им свою комнату, а сам лягу на диван здесь, в канцелярии. Ну и Дяко найдет где спать, в крайнем случае вернется в Дубравец. И без того у меня из головы не выходит, что бабушка Элена одна. Конечно, соседки ухаживают за ней, но неизвестно, остаются ли они на ночь…
Еще ряд распоряжений (категорически запрещаю Василу пить лишнее, знаю, что напрасно, но все-таки на всякий случай предупреждаю, что выгоню вон с базы…), теперь надо бы передохнуть, но тут объявляется по телефону кмет и спрашивает, можно ли и ему прибыть на базу, раз уж такая обстановка сложная. Ну, говорю, если сам найдешь транспорт — прибывай! Не могу понять, что этому трепачу вдруг понадобилось на базе, но через минуту все становится ясно — может быть, говорит, мое начальство из района и округа тоже приедет сюда, так я кое-что привезу с собой, не с пустыми же руками ехать! Так, бутыль домашнего вина, ракию и немного мяса для разговору… Тут я не выдерживаю и вру нещадно — да, конечно, наверняка приедет начальство, как не приехать в такой момент!..
Наконец-то можно и о себе подумать. Я все еще в рабочей одежде. Поднимаюсь к себе, надеваю чистую рубашку, новый пуловер и кожаную куртку. На скорую руку прибираю комнату, уборщица потом затопит печку. Остается побриться, и я готов — еще бы, шефа надо встретить как следует!
На ходу отдаю распоряжения, но люди и без того знают, что им делать: подметают, вытирают пыль, кто-то занялся кухней, другие накрывают наш длинный стол в столовой — и все прислушиваются к тому, что делается снаружи. Не по себе мне здесь, какое-то тайное волнение гложет меня, и я иду на террасу, закуриваю, стараюсь увидеть что-то в непроглядной тьме. Сыплет крупный, густой снег. Холодно и тихо. Наконец довольно далеко отсюда, у другого конца стены водохранилища, блеснули фары.
— Едут! — крикнул один из помощников Васила, и как по команде на террасу высыпают все, кто находился в доме, образуя плотную толпу. Я замечаю, что Марина тоже приоделась и подкрасилась. До чего же хороша, чертова баба!.. Да и Васил не терял времени даром, успел-таки наглотаться из НЗ — глаза лихорадочно блестят, голос слишком бодрый и радостный, а нос красный, как у Деда Мороза…
IV
Джип останавливается перед нами, из него вылезают Генчев и еще четверо, не считая шофера. Пусть я ослепну, если это не так, но я вижу среди них двух дам!.. Шеф машет мне рукой и шумно разминается:
— Ну и роскошная же у вас зима, Боров! Тишина, красота… Настоящий курорт, верно? Живете здесь как цари!
Шофер и спутники Генчева вытаскивают из машины целый вагон багажа: рюкзаки, одежду, ружья в чехлах, массу пакетов.
— Поосторожнее, это же бьется! — кричит кто-то, и я слышу звон разбитого стекла.
По террасе ритмично топают туристские ботинки, Генчев первый приближается ко мне, трясет руку, жалуется:
— Какие огромные сугробы навалило на поворотах, между Козарицей и Дубравцем, просто не проехать! Хорошо ты посоветовал мне не ехать на «ладе». Сегодня в середине дня расчищали пути, но к вечеру опять навалило. Ну, как вы тут, завертелась машина?
— Надеюсь, все в порядке, товарищ начальник…
— Надеешься или действительно так? — И он добродушно похлопал меня по плечу. — Ладно, ладно! Давай так — сначала мы устроимся, а потом будешь подробно докладывать. — Он поворачивается к своим спутникам, широким жестом приглашая в комнаты:
— Добро пожаловать, друзья, в святая святых лесничества!
Я зову наших, чтобы помогли. Господи, сколько же у них багажа! Они что, зимовать здесь собрались?
Шеф здесь человек свой, держится по-хозяйски, не преминул представить меня гостям. Один из них — бывший экономист нашего министерства, второй — из союза охотников и рыболовов, где-то я встречал его, но, убей Бог, не помню, как его зовут, зато он держится со мной так, будто мы с ним пуд соли съели, и, чтобы не отстать от шефа, тоже этак фамильярно похлопывает меня по плечу:
— Ну как, дорогой, бдим?
— Бдим, — говорю, — работа у нас такая.
Но что меня действительно выбило из колеи, так это присутствие двух дам. Полноватая моложавая (вернее, молодящаяся) особа оказалась журналисткой из окружной газеты. Генчев шепнул мне, что она собирается писать репортаж об акции, но, к сожалению, очень неопытна в делах охоты. Какая профессия у второй, я так и не понял — мне представили ее как активистку охотничье-рыболовного союза, но с первого же взгляда ясно — это тертый калачик. Вряд ли ее привезли на охоту за одичавшими собаками, потому что охотничий деятель ни на шаг не отходил от нее и все норовил поддержать ее за талию — будто у нее зад отвалится, если она сделает два шага сама.
Представляю гостям наших людей — ну просто церемония приема делегации на высшем уровне! Генчев расчувствовался и даже кинулся обнимать Дяко:
— Ну как, старая гвардия? Держимся?
«Старая гвардия» бормочет что-то невразумительное, и шеф спешит подойти к Марине.
— А вот наша лесная царица! Все такая же красивая, свежая! — И все согласно кивают головами и ухмыляются. И действительно — наша «царица» за себя постоит!
Прошу ее устроить женщин и веду мужчин к себе в канцелярию. Генчев, конечно же, садится за стол, «охотник» плюхается на диван, а экономист с интересом рассматривает мою коллекцию рогов — я собираю только кривые, изломанные, недоразвитые.
— Ну, друзья, хоть мы еще не отдохнули как следует, все равно можем начать работать! — Генчев разворачивает на столе крупномасштабную карту и кладет на нее кучу цветных карандашей. — Прошу, садитесь поближе! Значит, так, в первый раз собак заметили в пятидесяти километрах отсюда в двенадцать ноль-ноль. Та же стая чуть попозже промчалась мимо сел Пачник, Богово, Кирпел. Вот, взгляните на карту — тут синими линиями обозначено движение каждой стаи. Если мы представим себе продолжение их маршрутов, то неизбежно окажемся в заповеднике! По нашим расчетам собаки будут здесь около полуночи. — И он ставит синим карандашом точку в середине карты, то есть в центре заповедника. — А теперь я попрошу тебя, Боров, кратко доложить о принятых мерах.
Кратко докладываю, особо нажимаю на то, что сто глашатаев мы никак не соберем в Дубравце.
— Вы посоветовались с местным руководством? — нахмурился Генчев.
— Советуйся, не советуйся — результат один! Мы едва-едва наберем пятьдесят, на большее рассчитывать ну никак невозможно!
— Что скажете вы, товарищи? — и Генчев театрально обводит своих «товарищей» вопрошающим взглядом.
— Я думаю, надо было поднять на ноги всю местную общественность, — веско заявляет экономист, при этом он назидательно поднимает палец. — И, конечно, провести индивидуальную работу с людьми. У вас было достаточно времени, чтобы наметить соответствующие мероприятия, обсудить и начать действовать. Не следует, товарищ Боров, недооценивать роль общественности при таких обстоятельствах, ясно?
— Да, ясно, но вот что до индивидуальной работы, так как раз для нее времени не было…
— При желании всегда можно найти, товарищ Боров!
Я не перечу, молчу, мысленно посылая их ко всем чертям, и только пробую осторожно объяснить им, что в Дубравце всего-то едва ли наберется пятьдесят человек сельчан, да и то в большинстве своем это старые больные люди. Вот Дяко может подтвердить это, но зачем, ведь товарищ Генчев сам лучше всех знает местные условия… Я стараюсь произнести все это тихо и кротко, но мой «проклятый» характер все же нашел лазейку и дал себя знать — я не удержался и ехидно спросил начальников: раз уж они на добровольных началах собрали целых восемьдесят охотников, почему же они не могли на тех же началах обеспечить и два автобуса крикунов? Например, взяли бы старших школьников…
— Ты что, шутки шутить вздумал?! — вспыхнул «охотник». — Да мы, если надо, и армию поднимем на ноги, но это не тот случай!
— А меня интересует другое, — и экономист с серьезной миной постучал согнутым пальцем по карте. — Какова общая длина границы заповедника?
— Не понял. Повторите, пожалуйста.
— Я спрашиваю — какова длина границы заповедника в метрах? Это настолько элементарно, что вам следовало бы знать эту цифру!
Ну, лопнуть можно от них! Черт меня побери, если мне когда-нибудь нужна была эта длина!
По воздушной линии еще можно было бы как-то рассчитать, но кто может назвать точную цифру в земных километрах, если иметь в виду горы и овраги, леса и русла рек? И все же — чтобы этот городской пижон не подумал, что перед ним непрофессионал, называю первое же пришедшее в голову число. А если не поверит, пусть идет проверять на своих спичках вместо ног…
— Значит, тридцать восемь тысяч четыреста тридцать метров, — бормочет он и с важным видом вычисляет что-то на бумажке. — Итак, из города прибудут восемьдесят человек. Вы, как я слышал, располагаете еще тридцатью. Кроме того, у вас постоянно работают пятеро людей в охране, да нас четверо — я не считаю гражданку из союза охотников и рыболовов. Что это значит? Это значит, что у нас есть в общей сложности сто девятнадцать боевых единиц. Иначе говоря, на каждого из нас падает охрана триста двадцати трех метров границы заповедника. Конечно, это многовато, но, поскольку это необходимо, надо будет справиться!
Генчев оглядывает всех и просит высказаться по поводу предложения экономиста, который так надулся от важности, что того и гляди лопнет. И тут я просто не в силах сдержаться, меня обуревает такой смех, что через секунду из глаз текут слезы, я захлебываюсь и не могу остановиться. Трое прибывших смотрят на меня с удивлением и неприязнью, шеф спрашивает (явно стыдясь моего поведения), что такого смешного сказал товарищ из министерства — это ведь математика, и все точно рассчитано до метра.
— Тут математика не играет никакой роли, — вставляет из своего угла Дяко. — Ни гроша она здесь не стоит.
— Как это? Как это не играет?
— А вот так! Вы что, и вправду собираетесь поставить одного человека на триста метров и заставить его ждать собак? Да просто глупость, простите уж за выражение… — И Дяко снова умолкает.
— Дело в том, что это предложение имеет несколько весьма существенных недостатков, — смиренным тоном начал я, изо всех сил стараясь разрядить обстановку и все еще кашляя после приступа смеха. — Во-первых, собаки не появятся в заповеднике, если вообще это случится, поодиночке, а только стаей. В таком случае одному человеку придется принять на себя целую стаю — вы можете себе представить, что это значит? Их и пушкой не расстреляешь, в один момент разорвут на куски — и все! Во-вторых, примерно в десяти километрах от окружности в заповеднике проходит цепь крутых горных массивов, глубоких пропастей, провалов. Даже если мы были бы альпинистами, нам никогда не пройти через эту полосу. В-третьих, собаки тоже не альпинисты и поэтому предпочтут прорваться сюда через более удобные ходы. И в-четвертых…
— Брось ты это «в-четвертых» и говори наконец, что ты предлагаешь!
— …и в-четвертых, — продолжаю я настойчиво, — с севера заповедник огорожен озером водохранилища, протяженность его около шести километров. Там нет необходимости ставить людей, разве что собаки решат перебраться на этот берег на понтонах, плотах и лодках…
— Я просил тебя оставить в стороне свой юмор и сказать наконец, что ты предлагаешь! — не на шутку рассердился Генчев.
Ну что — высказать им прямо свое мнение об их идиотской акции? А почему бы нет? Дальше смерти не пошлют, как любил говорить мой отец. И все-таки я молчу. Какой-то подлый, мне самому непонятный страх удерживает меня от того, чтобы сказать им в лицо — вся эта ваша «операция» просто глупая, бессмысленная шумиха и возня. Потому что, по сути, нужно было организовать дело так, чтобы перекрыть дорогу собакам не здесь, в заповеднике, а далеко за его пределами. Сами же говорили, что по пути сюда стаи минуют десятки сел! И там можно было поднять тысячи людей, а не присылать сюда этих восемьдесят городских бездельников!.. Да, именно так, но вместо того, чтобы сказать все это открытым текстом, я тычу в карту.
— Людей надо разделить на четыре группы. Три послать на те места, куда отправились наши охотники. Первая должна блокировать стену. Стаи могут проникнуть на север только по стене водохранилища. Если же одна или несколько стай спустятся на восток и пересекут овраг, тогда они выйдут на вторую группу по хребту и склонам Большой поймы. Там местность самая ровная, и людей нужно больше всего. Третья группа поможет заблокировать проход между Старцами — здесь, в Сухом овраге. Это единственная дорога, по которой в зимнее время можно преодолеть Предел с юга.
— Да, но нам непонятно, зачем нужна четвертая группа, — с недовольной миной промолвил «рыболов» и налил себе в чайную чашку чистый коньяк.
Я бросил взгляд на Дяко — тот прикрыл глаза и опустил голову: почувствовал дорогой старик мои волнения…
— Четвертая группа пойдет в самое опасное место — Лисьи норы. Это здесь — между водохранилищем и горными склонами.
— Но ведь это же дачная зона! — удивился Генчев и постучал пальцем по карте. — Что там может быть опасного?
— Да, вы правы, это дачная зона. И вот у меня такое предчувствие, что собаки завтра или хлынут именно сюда, или попытаются проникнуть в глубь заповедника отсюда, с этой стороны.
— «У меня такое предчувствие…» — передразнил меня Генчев. — Может, ты стал оракулом, а? Или снова начинается старая песня?
Шеф явно имел в виду мою ненависть к этой проклятой дачной зоне.
— Я попытаюсь объяснить. К дачной зоне ведут несколько дорог, по которым легко можно…
— Довольно, хватит, Боров, про дачную зону!
— Но ведь завтра воскресенье! — говорю я громче обычного.
— Ну и что?
— А то, что именно оттуда нахлынут в заповедник оравы лыжников, туристов и всякой прочей шушеры. Поползут на скользкие склоны, сорвутся — вот весело будет! И тогда чем мы будем заниматься — стрелять в собак или вылавливать дачников?
— Боров прав, — поддержал меня мой Дяко. — Нельзя давать людям уходить на большое расстояние. Погода скверная, надвигается метель, еще заморозим кого-нибудь, и будет это чистой воды убийство…
— Я не разрешаю блокировать дачную зону! — Генчев стукнул кулаком по столу. — И точка!
Не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы на пороге не появился кмет, а сзади него, улыбаясь до ушей, стоял директор сельской школы (вечный партнер председателя в белот).
— Приветствуем дорогих гостей и любезных хозяев! Как доехали? Все было нормально? Ну, добро пожаловать!
Обе руки директора были заняты — в одной он держал за ручку огромную бутыль домашнего вина, в другой — старую сумку с объемистыми пакетами, видно, в них и было «то-се для разговора».
Но самое ужасное — рядом с директором возникло красное женское лицо, через секунду обладательница лица решительно отстранила обоих мужчин и втолкнула в канцелярию щекастого мальчишку лет десяти.
— Скажи дядям добрый вечер, мамин сыночек! Сначала тому дяде, с усами, ты ведь его знаешь — дядю начальника!
Я продрался сквозь толчею и вышел в коридор. Навстречу мне уже спешил Васил — стол накрыт, все сделано как надо, можно звать гостей на ужин.
— Пожалуйста, одну минуту, товарищ Боров! — Толстая журналистка хватает меня за локоть и таинственно прищуривает глаза. — Вы знаете, я где-то читала о вас! Вы пишете стихи, да? Где же это?.. Сейчас вспомню. Да-да, было одно стихотворение в нашей газете и, кажется, в «Пульсе»…
— Пишу… иногда… — И я чувствую, что покраснел как мальчишка. Да тут еще Марина вертится рядом и прислушивается, а на лице — ироническая гримаска.
— Ну, тогда мы с вами почти коллеги! Давайте же знакомиться! — И она называет какую-то фамилию, которую я немедленно забываю. — Надеюсь, вы не будете возражать, если станете одним из героев моего репортажа? Мне нужен именно такой человек, как вы, — с одной стороны, посвятивший молодость и, более того, жизнь защите природы, а с другой — человек с душой и поэтическими наклонностями! Вот видите, какая возникает параллель! — И она восторженно хлопает в пухлые ладошки. — Не кажется ли вам, что между этими двумя началами в вашей душе есть некая глубокая и закономерная связь?
— Ну, мне кажется, что…
— Вы не беспокойтесь, я постараюсь не исказить ни одной черты вашего облика! Только, если позволите, хоть один намек и на поэзию…
— Надо подумать…
— Не возражаю! — Она кокетливо улыбнулась, а в глазах — телячий восторг. — У нас еще будет достаточно времени, чтобы поговорить, обещайте мне не исчезать!
Что делать — обещаю и приглашаю ее на ужин. Остальные уже заняли места за длинным столом. Я примостился на углу между Василом и шофером шефа.
— Ну, хорошо, поедим побыстрее и продолжим работу! — объявил Генчев и озабоченно глянул на часы. — Автобусы придут из города через час. А пока — закусите чем Бог послал!
Бог явно не поскупился, на столе чего только нет…
— У меня есть предложение, друзья! — Генчев этак ловко поднялся с рюмкой в руке. — Давайте на время отставим утонченные напитки и чокнемся знаменитой дубравецкой горячей ракией! Только одну рюмку, не больше, чтобы согреться, потому что, судя по всему, нас ждет долгая, бессонная ночь… — (Смотри-ка, и в нем проснулась поэтическая жилка!). — Мне приятно сообщить вам, что среди нас находится представитель министерства товарищ Бобев!
Гром рукоплесканий, Генчев, Васил, директор, даже наша неряха уборщица хлопают в ладоши, только я и Дяко курим, будто оглохли. Шеф бросает на меня злющий взгляд и продолжает:
— Предлагаю тост за успешное завершение трудного начинания! Да, товарищи! В нашей профессии есть трудности, которые мы спокойно и организованно преодолеваем! Я не сомневаюсь в успехе, потому что плечом к плечу с нами идут десятки представителей общественности Дубравца во главе с товарищем кметом и потому что через час-два сюда прибудут еще восемьдесят посланников встревоженной городской общественности! Вот как на практике осуществляется дружба между городом и селом при проведении ответственного мероприятия, связанного с защитой окружающей среды, которая, как вы знаете…
Я смотрю на шефа, слушаю его и, хорошо его зная, уверен, что сейчас он отвлечется, заговорит о другом, и тогда — конца не будет. Его тосты — это вообще чистое мучение, они длятся пятнадцать-двадцать минут, люди падают от усталости. В общем, надо как-то прервать его, но как? Черт с ней, с рюмкой, роняю ее — как бы случайно — на пол, рюмка — вдребезги, кругом все взволнованы, кто высказывает сожаление о рюмке, кто — о вине, но дело сделано — беспредельный тост прерван. Дяко под большими усами скрывает улыбку, Марина, не поворачивая головы, стреляет в меня взглядом и — подмигивает.
— В завершение моего тоста, — Генчев принужденно улыбается (надеюсь, он все понял!), — предлагаю поприветствовать и представительницу местной прессы уважаемую Жанну Малееву. — (Я тут же снова забываю ее фамилию). — От всего сердца пожелаем ей найти среди нас своих героев и правдиво отразить все, что она здесь увидит! Будьте здоровы!
Наконец-то все чокаются и пьют. А экономист Бобев (его фамилию я почему-то запомнил) слегка лизнул ракию, почмокал, как знаток, прикрыл глаза — и одним махом выпил.
— Мм-даа! Просто эликсир! У нас в Софии такого чуда не найдешь!
Васил услужливо бросился к нему с чайником, но тот запротестовал:
— Нет-нет! Я выпил просто так, за компанию! Только попробовал…
— Ничего, ничего, товарищ Бобев! Выпьем еще только по одной, потом закусим, — успокоил его Генчев.
— Ну, если только по одной… — И, прежде чем выпить вторую, снова почмокал, поцокал и прикрыл глаза. — Признаюсь, очень любопытно было бы узнать, как готовится этот божественный напиток…
— Ну, значит, так — берется ракия, — с уверенностью опытного эксперта объясняет кмет, — наливается во что-нибудь такое… чайник, например, или турчик…
— Погоди ты, куда торопишься! — снисходительно прерывает его директор школы. — Прежде чем лить ракию, чайник или турчик ставят на горячую плиту. Потом вовнутрь…
— Да-да, я пропустил! Потом вовнутрь всыпают несколько ложечек сахара. А сахар камарели… каламери… черт побери, скажи ты, учитель!
— Карамелизирует!
— Именно так! Каралеми… — снова запутывается кмет, плюет и прочищает горло большим глотком ракии. — Значит, она растворяет сахар, становится темно-коричневой, пахучей и сладкой…
— Сколько ложечек сахара вы кладете? — интересуется экономист и тут же вынимает из кармана записную книжку и ручку.
— Это зависит от вкуса! Я, например, ужасно люблю сладкое и в четверть литра карамелизирую, то есть кладу, три ложечки.
— Да-да, три! А можно и медом заправить…
— И мед тоже… карамелизирует?
— Нет, мед просто растворяется, когда ракия кипит…
Теоретическую дискуссию о горячей ракии прерывает сообщение о том, что Генчева требуют к телефону. Довольный тем, что может проявить свою деловитость даже в самый разгар пьянки, Генчев резко встает из-за стола и бежит в канцелярию, едва не потащив за собой скатерть с тарелками. Напротив меня сидят журналистка и Марина. Журналистка тихо задает вопросы, записывает Маринины ответы и бросает на меня короткие взгляды, будто хочет сказать: «Нет, этот разговор не настоящий. Настоящий будет с тобой!» Потом она незаметно поднимает рюмку, кивает и подмигивает мне — вроде бы чокается со мной. Что поделаешь — меня хоть и нельзя назвать образцовым джентльменом, однако киваю в ответ. А экономист продолжает записывать все новые и новые рецепты, но при этом не сводит глаз с Марины и как-то успевает изредка украдкой взглядывать и на активистку из охотничьего союза. Она сидит по другую сторону от него, беспрерывно шушукается с «коллегой» и время от времени так закатывается смехом, что я с ужасом жду — она вот-вот опрокинется назад и над столом покажутся ее длинные ноги (у меня такое впечатление, что опрокидываться — ее привычное занятие). «Охотник» заботливо поддерживает ее, проходясь рукой по ее спине сверху донизу, она смотрит на него, как кошка, которая с удовольствием готовится съесть мышь.
Жена кмета тут явно не в своей тарелке. Парень равнодушно и тупо взирает вокруг и жует, жует. Рука его, вооруженная вилкой, снует туда-сюда, отправляет в рот все подряд — солонину, котлеты, соленые огурцы, колбасу, крепкие челюсти смыкаются — «хруп-плям, хруп-плям», а мать ждет, когда сын с трудом проглотит прожеванное, и подносит к его жирным губам чашку с лимонадом. Ее широкое красное лицо лоснится от пота, ей жарко, время от времени она без всякого стеснения распахивает платье на огромной груди и дует вовнутрь, как мощный компрессор. Ее маленькие вороватые глазки останавливаются на мне, и, заметив интерес, с которым я наблюдаю за ними, она неожиданно высоким писклявым голосом объявляет:
— Очень у нас обтесанный мальчик, да? Ты знаешь, что он сказал мне, когда мы шли сюда? Мама, говорит, Пенчевы родители купили «москвич»! Такой тупой-тупой этот Пенчо, и еще хвалится! А я, говорит, засмеялся и сказал ему, что наша машина лучше! Вот так и было, мамин птенчик!
Мамин птенчик выпил чашку до дна.
— А скажи, мамин птенчик, этим дядям и тетям, какая у нас машина? — совсем разнежилась мамаша.
— «Лада»! — отсекает мамин птенчик и тянется через три тарелки к четвертой.
— Умное у нас дитя, верно? Пусть будет здоров! — вмешивается кмет, опрокидывая очередную рюмку ракии. — И сестра у него умная, но этот пооборотистей будет, в меня пошел.
— И ты туда же! — сердится жена. — Она девочка хорошая, только очень уж стеснительная. И из-за того, что такая стеснительная, не может в университет поступить. Ну может ли такое быть, товарищ Бобев, скажите? Что за темы дают им эти люди, что делают с детьми-то, вот девочка так засмущалась, что у нее в животе свело, и — ох! — сделалось такое, что лучше не рассказывать!.. Да если бы она даже и написала тему, разве ее бы приняли? А то мы не знаем, как эти дела делаются! Что поделаешь — нет у нас связей в Софии… Как другие устраиваются? Да просто есть у них свои люди там, наверху…
— Золотая у меня жена, ей-богу! — прокричал кмет и снова налил себе в рюмку. — Двадцать лет мы с ней, но ни на что пожаловаться не могу. И дом, и сад, и хозяйство, и дети — все на ее руках!
— А где она работает? — спросил — ни к селу ни к городу — Бобев.
— Мм… в летнее время, когда фрукты идут, продает в одной кооперативной лавке в городе. А вообще-то, домом занимается, потому что она ведь малость болезненная, да и я люблю, чтоб в доме было все прибрано, вымыто, сготовлено. Иначе как бы я мог справиться с такой большой государственной и общественной работой!
— Ну справляешься же! И за то тебя ценят товарищи наверху! — поддержала его жена.
— А ты-то что!
— А то, что раз это так, значит, так! Сколько лет уж тебя держат кметом, значит, дело знаешь! У нас все в порядке, все путем, вот только некому помочь нам дочку в студентки определить! Знаю, что это трудно, но и мы люди не последние, сумеем отблагодарить как следует! Верно, товарищ Бобев?
— Мдааа… — задумчиво протянул экономист с таким видом, будто взял на себя заботы и проблемы всего человечества и даже тут, среди болтовни охотников и красного носа Васила, не может от этих забот отвлечься.
— Вы позволите мне, друзья, сказать два слова? — Бобев медленно встал и постучал вилкой о бокал. Журналистка тут же прервала разговор с Мариной и подчеркнуто приготовилась записывать. Через день-другой в ее заметке в числе прочих сведений наверняка появится и такой пассаж: «В мероприятии принял участие и товарищ Бобев из министерства, который подчеркнул, что…», ну и так далее. Намозолила мне глаза эта Жанна… Бобев ждет, когда стихнут разговоры, и начинает:
— Для нас, людей старшего поколения, любимая профессия всегда была истинной школой мужества! Она помогала нам преодолевать плохие стороны нашего характера, обуздать в себе индивидуализм и на его месте воссоздать прекрасное чувство долга и коллективизма. То, чего не могла дать семья, давала нам любимая профессия! К великому сожалению, мы еще не научились по-настоящему ценить этот фактор и его роль в воспитании нового человека… Мдаа… Вот я смотрю, среди нас есть и молодые товарищи. Хорошие товарищи, незаметные, тихие, скромные… Я смотрю на них и думаю: что мешает молодому поколению развиваться и совершенствоваться? Соответствующая обстановка, понимание, материальные условия, забота, доверие — все это есть, а от молодых требуется только одно: отдать все свои силы, талант для построения счастливого будущего…
— Мам, а где тут нужник? — мощным гортанным голосом спрашивает обжора. Бобев замолк на полуслове и поглядел на парня, высоко вздернув правую бровь. Меня разобрал такой смех, что я вынужден был нагнуться — будто сапоги поправляю.
— Ах, мамин птенчик! Тебе по большим делам нужно или водичку выпустить? Пойдем, мамин птенчик, пока дядя Бобев тут закончит речь, мама отведет тебя туда, куда царь пешком ходил!
И она вывела своего «птенчика» из-за стола, при этом нагнувшись и стараясь ступать тихо, совсем как в кино во время сеанса.
— Мдаа… — снова протянул Бобев после вынужденной паузы. — А как вспомнишь, в каких условиях мы жили? Голод, материальная и духовная бедность, болезненное преодоление устаревших взглядов…
— Слушай, Бобев, кончай болтать! — с пьяной развязностью крикнул «охотник и рыболов». — Сказал бы два-три слова, и хватит.
Бобев бросил на него уничтожающий взгляд, но тот уже снова обернулся к «активистке» и продолжал оглаживать ее спину. Тогда экономист широким жестом поднял рюмку, повел ею во все стороны и провозгласил:
— За наше единство, друзья! За непримиримость ко всем попыткам разрушить наши добрые отношения! — и залпом выпил ракию.
Журналистка быстро дописала, захлопнула блокнот и тоже подняла рюмку. Марина смотрит на меня так насмешливо, будто я виноват во всем, что здесь творится. А вот и Генчев, он появился незаметно, и лицо у него озабоченное. И голос какой-то странный, будто неловко ему.
— Надо послать кого-нибудь в дачную зону… Мне звонили, что на территорию одной из дач хлынули одичавшие собаки. Они просят немедленно отрядить помощь…
Все вокруг замолчали и смотрят на меня.
Я не кричу, не ругаюсь, но до смерти хотелось бы выплюнуть им, что дачи меня не интересуют, потому что мы не собачники, а охрана заповедника.
— Почему они говорили с вами, а не со мной?
Если бы со мной, я послал бы их куда следует, а сейчас не могу, неудобно — шеф, наверно, дал им обещание помочь.
— Они спросили, кто тут главный, я сказал — товарищ Генчев, — смущенно объясняет Дяко (он подходил к телефону). — Ну, если надо, пойду я…
— Я пойду! — Поднимаюсь из-за стола и иду к двери. — Они сказали хотя бы, из какой дачи звонят?
Генчев выходит из столовой вслед за мной и извиняющимся тоном доверительно шепчет:
— Звонил сын товарища… — и он тихо называет фамилию того самого номенклатурщика, с которым год назад мы так ожесточенно схватились из-за этой проклятой дачной зоны. — Надеюсь, ты понимаешь, как это важно… Они сейчас находятся на даче «Очарование». Надо реагировать немедленно, иначе тут такое поднимется!.. Я знаю твое отношение к дачной зоне, но считай это моей личной просьбой…
— Ну я ведь иду, что еще надо…
— Хорошо, хорошо… Ничего не надо, спасибо тебе, дорогой, и пожалуйста — поосторожнее там. И скорее возвращайся, мы ждем тебя!
Тут на меня буквально набрасывается эта чертова Жанна — она хочет пойти со мной! Это было бы так волнующе!.. Может быть, это действительно «было бы волнующе», но у меня нет никакого желания тащить ее с собой, а вернее, на себе и выслушивать ее фантазии. И вообще мне очень хочется хотя бы на некоторое время оказаться одному на чистом зимнем воздухе. Кроме того, моя миссия почти секретная, а эта Жанна вполне может потом в газетке тиснуть заметку с упоминанием фамилии, которую Генчев так хотел бы скрыть…
Короче — через три минуты я готов. Мы с Дяко держим путь к водохранилищу, у пристани он помогает мне отвязать лодку и запустить мотор. Снежная тьма такая густая, что я даже не вижу носа лодки.
— Включи прожектор! — слышу голос Дяко. — Батареи слабые, но иначе ты…
Я знаю, что «иначе» — если не включить прожектор, можно напороться на скалы противоположного берега, и тогда…
Надо пройти наискось около километра, мне ли удается сделать за пять минут. Поворачиваю прожектор влево-вправо и наконец нахожу маленькую бухточку, где надо пристать к берегу. Выключаю мотор, но лодка по инерции скрежещет по песку, я лечу вперед и больно ударяюсь коленом о стойку прожектора. О, черт! С каждой секундой колено болит все больше, вся куртка намокла от брызг, а теперь предстоит вымокнуть и ногам — надо пройти от лодки до берега метра три по воде. На берегу ноги тут же тонут в глубоком рыхлом снегу…
Итак, сориентируемся — где это проклятое «Очарование»? Как будто недалеко, метрах в ста от водохранилища, но берег крутой, весь покрыт ямами и грудами камней, которых не видно под снегом.
Мучительно медленно преодолеваю это не такое уж большое расстояние, и с каждым шагом злость и ненависть в душе растут и крепнут. Сидят там в тепле, в уюте, испугались, видите ли, нескольких несчастных бездомных собак, тем более есть у кого потребовать помощи. Дзинь-дзинь по телефону, и готово — Боров бежит сюда, мокнет, ломает ноги… Наконец-то выхожу на ровную дорогу, весь в снегу, тяжело дышать… Вот бы зажечь спичку да и поднести к этой поганой даче… Ага, вот она, за первым поворотом. Да, и окна в обоих этажах ярко освещены, и музыка слышна — веселятся отдыхающие! На высокой террасе видны силуэты людей, а еще выше над крышей мутно чернеют распяленные спицы телевизионной антенны, похожей на оленьи рога…
— Сюда, сюда! — кричит кто-то. — Вот они, там, скрылись под летней беседкой! Там на стене есть выключатель!
Я снимаю с плеча ружье и иду к беседке. Надо быть поосторожнее, не исключено, что собаки бешеные, могут выскочить внезапно.
— Ох, не могу я видеть всего этого! — раздается вдруг высокий писклявый женский голос. — Выведи их с участка и убей где-нибудь подальше отсюда, слышишь?!
— Но… неужто он действительно их убьет? — тихо, испуганно спрашивает какая-то другая женщина, и голос ее мне кажется почему-то знакомым.
— Ха, запросто! — это уже кто-то из мужчин, так бойко, хорохорясь. — Не видели разве, что он зарядил ружье? По одному выстрелу в голову — и точка!
— Но как же это? Неужто он их убьет тут, у нас на глазах?
— Ну-ка, помолчите! — снова вмешивается первый мужской голос, дерзкий и властный. — Эй, ты там, внизу! — это он мне. — Нужно застрелить их где-нибудь подальше, потому что они обгадят кровью все беседку, ясно тебе?
Ну и тон у этого засранца, но я реагирую на него не больше, чем на падающий снег.
— Боже мой, он действительно испачкает там всю мозаику! — опять стонет писклявая.
Снова эта венецианская мозаика… Где я видел ее? Поворачиваю выключатель. В самом дальнем углу, вжавшись в стенку, дрожат до смерти напуганные два щенка нечистой породы. Я гляжу на них и вспоминаю убитого мною сегодня желтого малыша. Никакой злобы, никакой остервенелости в глазах щенков, одна только мольба, огромная безумная мольба о пощаде… Эти, на террасе, тоже увидели собачек и притихли. Мне так хочется крикнуть им, что не с ружьем надо было меня звать сюда, а кусок хлеба дать несчастным. А вообще-то в моей руке еще достаточно теплоты, чтобы приласкать перемерзших и обезумевших от голода и страха животных.
Делаю шаг-другой в глубину беседки и вижу эту пресловутую мозаику. Здорово сделано, видно, бешеных денег это стоило… В середине беседки — круглый, облицованный белым мрамором бассейн. Он слишком мал для купания, но летом здесь наверняка струится вода и плавают золотые рыбки. Я смотрю в пустую чашу бассейна и вдруг снова чувствую приступ ярости: мне гадка и эта мозаика, и бассейн, и те — наверху. Только собак мне жаль, но пусть их кровь забрызгает здесь все вокруг…
Поднимаю ружье, снова будто воочию вижу того малыша, два выстрела сливаются в один, собаки мечутся в предсмертной агонии, а мрамор и венецианская мозаика темнеют от густой крови…
Нет, не стреляю. Сострадание к щенкам побеждает гнев против людей. Я выпровожу собак отсюда, пусть бегут куда хотят… Знаю, что они обречены, поскитаются еще день-другой, самое большее неделю и в конце концов обретут вечный покой в своей собачьей жизни. Но убить их я не могу.
— Вы говорите — не здесь?! — громко кричу я тем, кто на террасе.
— Да, да, уведи их куда-нибудь подальше!
— Я уведу их, но для этого надо принести какую-нибудь еду, и побольше! И обязательно мясо, иначе они не пойдут за мной…
Я подхожу к щенкам, сажусь на корточки и осторожно глажу их мокрые головы. Чувствую, как дрожит под моей рукой каждая клетка собачьего существа, но постепенно из глаз уходит ужас, и оба они уже скулят от удовольствия. Кто-то выходит из дверей дачи и останавливается недалеко от меня.
— Я принесла еду…
Этот знакомый, родной, единственный голос… От неожиданности я едва не падаю навзничь. Передо мной — Надя. Долго не могу поверить в это, но она все стоит и не исчезает. Все такая же, какой я вижу ее в снах и мечтах все эти шесть месяцев… Только чуть похудела, лицо потеряло округлость и глаза, ее глаза, стали еще глубже… Я стою возле нее, не знаю, что делать, и говорю первую глупость, которая приходит в голову:
— Ты простудишься так…
Она слегка закутывается в дубленку с большим мохнатым воротником. Новая, наверно купила недавно.
— Я не знал, что ты здесь…
— А если бы знал — не пришел?
— Наверно, нет.
— Возьми, — и она протягивает мне пакет с едой.
Я раскрываю пакет, показываю содержимое щенкам, и они с голодным скулежом медленно идут следом за мной. А сзади идет Надя, и снег под ногами уже кажется мне горячим, как угли. С террасы кто-то кричит, зовет ее обратно, но она не останавливается и идет дальше со мной. Мы выходим из ворот на плохо освещенную улицу. Тут еще не успели ничего настроить, но это только до весны. Весь берег водохранилища займут дачи, в воду потекут грязные отходы, плодовые сады и огороды будут опрыскивать всякой отравляющей гадостью, станут мыть на берегу свои поганые автомобили и оглушать пространство магнитофонным ревом.
Кладу под куст еду и отхожу прочь. Обезумевшие от голода щенки накидываются на нее.
— Ты убьешь их?
Я вздрагиваю. Надя стоит совсем рядом, с непокрытой головой, на ее волосы падает светлый снег.
— Нет.
Снимаю свою меховую шапку и напяливаю на ее маленькую головку. Такой она кажется беззащитной — особенно под моим огромным колпаком — и так хочется схватить ее, прижать… Конечно же, я не делаю этого.
— О чем ты думаешь?
— Ни о чем. Может, о них, — и я киваю в сторону жующих щенков. Я не вру, у меня в голове ни одной четкой мысли, зато потоком проносятся воспоминания о тех временах, когда мы были вместе…
В первый раз мы по-настоящему поссорились год назад после какого-то спектакля, в котором она играла главную роль. От сюжета пьесы можно было запросто получить расстройство желудка. Молодой, самоуверенный инженер изо всех сил ратует за технический прогресс и современную организацию труда. Против него все время выступает пожилой директор-бюрократ, у которого, однако же, есть заслуги в прошлом. Вокруг молодого амбициозного передовика вертится моя Надя — конечно же, инженерша и, конечно же, с неудачной семейной жизнью. Автор и актеры всячески старались доказать, что Надина героиня — женщина со сложной психологией, что ей все хочется, чтобы жизнь, отношения между людьми и, главное, характер ее супруга были другими, но какими — никому не понятно. Через десять минут после начала уже делается намек на духовную и физическую близость между Надей и амбициозным инженером. Для колорита в сюжет втискивается осточертевший после массы фильмов эпизод, в котором любовник Нади в корчме дерется с обнаглевшими городскими бездельниками. Побеждает, разумеется, наш положительный герой. Наконец, ближе к завершению, внезапно появляется какой-то весьма авторитетный товарищ «сверху». Несмотря на старую дружбу с директором, он делает ему выволочку и назначает на его место молодого «носителя нового». Так заканчивается этот шедевр театрального искусства…
После премьеры были жидкие аплодисменты и подозрительно много цветов, объятий, поцелуев, рукопожатий. Какая-то возбужденная деятельница на ниве культуры с пионерским пафосом поздравила творческий коллектив с исключительным успехом. А известный столичный режиссер с хорошо сделанной улыбкой умело и осторожно кланялся раздосадованной публике и то и дело поднимал вверх руку Нади, потом исполнителя роли «положительного героя», потом их руки вместе. Я не выдержал этого цирка и покинул зал. Перед тем как отправиться со своим коллективом на банкет в честь творческой победы, Надя нашла меня в фойе и с блестящими от восторга глазами спросила, что я думаю о спектакле. Сзади нее столичная знаменитость продолжал принимать поздравления местных любителей театра. У него был ужасно рассеянный вид, и он ждал, когда Надя закончит разговор со мной. А мне вдруг вожжа под хвост попала, и я достаточно громко — так, чтобы слышал этот индюк, — изрек, что подобные банальные истории я видел по меньшей мере в десяти пьесах и в пятидесяти наших фильмах, так что меня от них просто воротит. Ну а потом я, конечно, понял, что совершил огромную, непростительную ошибку… Надя пришла домой на рассвете. Я не спросил ее, где она была, — не было ни смысла, ни времени: я уже завязал рюкзак и меня ждал джип, чтобы отвезти на базу под Предел. Она не звонила мне целый месяц, и у меня было довольно много времени подумать об истории развития наших отношений… Мы познакомились с ней в одной студенческой компании, и я долго не мог понять, что ее привлекло во мне. К тому времени я уже перешел в лесотехнический, в молодежной печати вышло несколько моих хилых стихотворений. Но вряд ли моя поэзия произвела на нее впечатление, особенно если иметь в виду к тому же мою вытянутую рожу и врожденную нехватку остроумия… Ну, в общем, из чистого кретинизма я позвал ее на финальную встречу студенческого турнира по боксу и тут же понял, что она никогда не была на подобных матчах. К моему большому изумлению, Надя пришла на встречу. Я должен был выступать против одного типичного прощелыги с хамскими ударами и нечистой игрой. Вряд ли у меня были бы проблемы во встрече с ним, если бы накануне мне на тренировке неожиданным апперкотом не разбили левую бровь. И вот эта сволочь в первом же раунде накинулся на меня и стал молотить рукавицами, головой, локтями по рассеченной брови. Я умоляюще глядел на судью, но тот делал вид, что не замечает грязных приемов моего противника, зато в конце второго раунда увидел зияющую рану и кликнул дежурного врача. Я просто заревел от обиды, когда мне запретили продолжать бой, и, не дожидаясь награждений (а я бы мог получить серебро), выбежал из зала. Честно говоря, я просто забыл о Наде, и, когда она догнала меня и стала прикладывать к моей кровоточащей брови пахнущий духами платочек, я готов был тут же на улице провалиться сквозь землю от стыда. Наде наверняка показалось, что я умру без ее помощи, она пришла со мной в мою студенческую комнатенку и взялась прикладывать холодные компрессы к моей избитой физиономии. В тот день, скорее всего из жалости, она согласилась остаться. Потом мы провели вместе много ночей, и, мне кажется, именно тогда у меня снова появилась пантера. Однажды вечером я увидел ее на крыше дома напротив — и показал Наде. Странно — она совсем не испугалась. Мы лежали и оба любовались прекрасным гибким телом черного зверя, подробно описывая друг другу, что каждый видит — расширенные, фосфорно блестящие глаза, гладкую шерсть… Я решил довести шутку до конца, протянул руку и позвал: кис-кис… Пантера поняла меня и прыгнула с противоположной крыши на наш подоконник. Надя взвизгнула от страха и удовольствия, а я схватил красивого зверя за круглое мохнатое ухо и заставил лечь у самой нашей постели…
Родители Нади пришли на нашу студенческую свадьбу и с ужасом убедились в том, что их дочь, вместо того чтобы выйти замуж за народного артиста, знаменитого поэта или режиссера, соединила свою жизнь с каким-то студентом-лесником, к тому же боксером и вообще голью перекатной без роду и племени. Мамочка как увидела меня, то так расстроилась, что даже заревела от обиды и руки мне не подала, а тут же сиганула в грязный ресторанный туалет и просидела там полвечера… После свадьбы, вместо того чтобы переехать в их квартиру с каким-то невероятным количеством комнат, мы остались у меня. Надя навещала родителей раз в неделю, возвращалась каждый раз грустная, испуганная. Но достаточно было мне подбросить ее несколько раз к наклонному потолку нашей комнатки, как настроение у нее немедленно улучшалось. Мы учились, сдавали экзамены, я тренировался, но все реже выступал на ринге, Надя репетировала и играла маленькие роли, а главное — мы жадно любили друг друга и радовались жизни. Пантера всегда была при нас, и все было как в сказке. За месяц до моего распределения папочка вдруг проявил невероятную заинтересованность в моей судьбе, и меня послали на работу в учреждение, надзирающее за столичными парками и садами. Более того, он торжественно сообщил мне, что со дня получения диплома я могу считать себя членом их семьи и переехать с Надей в их квартиру с невероятным количеством комнат. Перспектива сажать декоративные деревца, подрезать ветки и жить рядом с милой тещей была так страшна, что я тут же поблагодарил его и мгновенно двинулся прочь из Софии. Надя получила распределение в местный театр и поехала со мной. Мой внезапный отъезд вместе с Надей вызвал у ее родителей состояние шока. Ведь все это время мамочка внушала себе, мужу и миллиону близких и знакомых, что этот голодранец «из села» прилепился к ее дочери только для того, чтобы дорваться до софийской прописки, роскошной квартиры, дачи, машины. И на тебе — уехал, да еще дочь уволок!
— У тебя есть сигареты?
Как ни странно, однако я на какие-то мгновения забыл, что Надя стоит рядом, — воспоминания одолели меня. Роясь в карманах в поисках сигарет, я нащупал что-то круглое и холодное. Ну да, это браслет бабушки Элены… Надя вынула из предложенной пачки сигарету, я чиркнул зажигалкой и сунул ей в руку браслет.
— Возьми это. От бабушки Элены.
— Что это?
— На память. Она сегодня дала мне…
— Она все еще не знает, что мы…
— Не знает. Очень хочет видеть тебя.
— Как она?
— По дороге туда… — и я указал рукой на темное небо.
— Я тогда написала ей, ты ведь просил…
— Да, я знаю, спасибо…
Щенки уже все съели. Выдержат еще одну-две таких ночи. Но сейчас им надо бежать прочь. Я кричу на них, потом поднимаю ружье и дважды стреляю в воздух. Подпрыгнув от ужаса, они мгновенно исчезают в кустах. Во всяком случае, на дачу они больше не вернутся. И то хорошо. Медленно идем обратно и останавливаемся у ворот, ведущих во двор.
— Ну, Надя, я рад, что мы свиделись…
Подать ей руку? Смешно… Чтобы деть куда-то руки, я поправляю ремень ружья.
— Если ты не очень спешишь, войди ненадолго… Согреешься…
В ее голосе нет ни просьбы, ни приглашения. Ничего нет — одно лишь тусклое безразличие. Может быть, именно из-за этого меня охватывает злобное мстительное желание съездить кому-нибудь по физиономии или хотя бы разыграть какую-нибудь гнусную сценку, и непременно на глазах у Нади. А она продолжает:
— Ты, наверно, спешишь на эту твою… базу?
— Почему же? Вовсе нет! — и открываю ворота, пропуская ее вперед. — Могу побыть здесь две-три минуты. Ночь холодная, а я, пока добирался сюда, здорово промок.
Надя явно не ожидала, что я приму приглашение. Я иду за ней следом по дорожке и думаю о том, что, справившись с собаками, мне просто необходимо заняться этими дачными пижонами. И пусть среди них Надя и сын этого паршивого типа, который ругался со мной, это даже лучше. Я поднимаюсь по лестнице и шумно, слишком шумно топаю сапогами, сбивая с них налипший снег — глядите, ублюдки, какой я воспитанный! Ужасно воспитанный собачник, верно? Толкаю дверь плечом, пересекаю прихожую и вламываюсь прямо в холл. Батюшки, вот это обстановочка! Такого даже в рекламном фильме не увидишь! Посреди холла стоит длинный низкий стол, на нем столько бутылок и еды, что он, бедняга, видно, еле на ножках держится. В холле никого нет, но, уж ежели я решил играть роль нахала, надо идти до конца. Прохожу по пружинистому пестрому паласу к рогу изобилия, и от моих сапог остаются влажные следы. У меня просто голова кружится от обилия разных напитков, я выбираю «Куин Энн» и наливаю в рюмку до краев. Конечно, глупо пить так виски, но мне именно этого и хотелось сейчас — выглядеть неотесанным кретином. Знаю, что Надя стоит сзади и внимательно наблюдает за мной. Знаю и то, что она догадывается, ради кого я разыгрываю этот цирк, но мне уже море по колено. Я поднимаю рюмку, пью и вижу — у внутреннего входа в холл на меня с удивлением взирают полдюжины мужчин и женщин. Народ один к одному, генетика на лицах. Не вижу ни одной знакомой физиономии, но один из них ведет себя явно как хозяин. Он смотрит на меня так, будто я ему задолжал, медленно подходит к столу и властным тоном спрашивает, что это значит.
— Пусть выпьет человек, он, наверно, замерз… — тихо шепнула одна из женщин, и я благодарно улыбаюсь ей — подчеркнуто благодарно.
— Ну да, остается ему сесть и жрать! — со злобой прерывает ее надутый индюк.
Во, это идея. Хватаю какой-то бутерброд с самой близкой тарелки и запихиваю его в рот целиком.
— Значит, ты — сын, — говорю я индюку, энергично чавкая, жую бутерброд, изо рта у меня летят крошки.
— Что-что? — не понимает индюк и подходит ближе.
— Вот, «Глаз буйвола»! — Нахожу на столе непочатую бутылку «Куин Энн» и высоко поднимаю ее. — Вы подняли меня с постели, вызвали среди ночи, должны платить! Я поем, выпью немного, и все. И не бойтесь — я вас не объем! И вообще, если хотите знать — я плачу вам за жратву! За убитую собаку можете получить пятерку, если отвезете в город, а я тут оставил вам двоих…
Я схватил стул, с грохотом поставил его перед собой и сел.
— Я вышвырну его вон! — беснуется сзади «сын». Кто-то, я вижу, держит его за руки. А я снова пью.
— Ну и воспитание, однако, — замечает какой-то женский голос. — Он, наверно, думает, что это самогонная ракия!
Надя, которая силится казаться спокойной и веселой, становится рядом со мной.
— Познакомьтесь с моим бывшим супругом! — объявляет она, и будто гигантская метла в секунду выметает из холла весь шум-гам. Встаю, стуча каблуками и подобострастно кланяюсь во все стороны. Совсем как на ринге во время матча. Физиономии от неожиданности удлиняются на метр.
— Я позвала его, пусть проведет с нами несколько минут. Надеюсь, вы не будете сердиться на меня…
— Надя, ну как ты можешь даже подумать такое!
— Значит, это он…
— Ах, как я рада!
— Почему же вы не сказали об этом с самого начала?
Кто-то уже предлагает мне раздеться, кто-то чокается со мной, а одна из женщин с опаской отнимает у меня двустволку и осторожно ставит ее в угол. Только «сынок» по-прежнему смотрит на меня неприязненно — совсем как его папаша тогда на заседании.
— Если вы еще хотите есть…
— Нет-нет, благодарю! Мне очень приятно, что я попал в такую изысканную, рафинированную компанию. Со мной это случается не каждый день. Вы, наверное, знаете, какая глухомань этот заповедник по ту сторону водохранилища…
Я беру со стола несколько американских сигарет, разглядываю внимательно, одну хватаю зубами, остальные распихиваю по карманам куртки.
— Не дадите огонька?
У меня под носом чиркают сразу несколько зажигалок. Выбираю огонек из рук одной свежей красавицы, будто с обложки супермодного журнала. Только сейчас замечаю огромного пятнистого дога, он жмется к ее ногам и смотрит на меня с глубоким удивлением. Я улыбаюсь красавице, беру ее запястье в свою лапу и подношу огонек к сигарете.
— Это ваша собачка?
— Да. — Она очаровательно улыбается мне и левой рукой гладит дога по бычьей шее.
— Тогда я и его уложу! — говорю я, и, как ни ужасно, моя плоская шутка вызывает у компании смех.
— Правда, он очень забавный? — спрашивает с улыбкой красавица, обернувшись назад и обращаясь к какому-то бородатому козлу.
— Кто — дог или этот? — мрачно изрекает козел.
— Конечно, бывший муж Нади!
На этот раз компания просто надрывается от смеха. Я хохочу громче всех, потом встаю и бесцеремонно двигаюсь к дверям в глубине, за которыми слышна тихая музыка. Хозяйка дьявольского пса, видно, решила позабавиться и следует за мной, делая остальным какие-то знаки. Она думает, поганка, что я не вижу, как она виляет задницей. Входим в соседнюю комнату, я делаю вид, что удивлен, она предлагает мне сесть на низкую широкую лавку, покрытую козьей шкурой, и опускается рядом, обнимая меня за шею и призывно глядя в глаза. Пес укладывается у наших ног. Через секунду в дверях показываются один за другим все остальные и смотрят на меня во все глаза. А я вперился в противоположную стену, где во всем своем великолепии матово блестит голова рыжего муфлона, которого застрелили поздней весной… Нет никакого сомнения — это его рога, я бы узнал их даже с закрытыми глазами, на ощупь. Это открытие настолько выбивает меня из колеи, что я глаз не могу отвести от этих рогов. Надя увидела, куда я смотрю, прекрасно поняла, какие мысли вертятся у меня в голове, и испугалась. Хозяйка пса, будто учуяв напряженную паузу, игриво просит меня рассказать что-нибудь о себе.
— Как, разве Надя не говорила вам ничего обо мне? О, это большое упущение, я ей это никогда не прощу! — И начинаю врать, как цыган: — Одно время я работал лесничим на Цейлоне, вы, наверное, знаете, сколько там лесов, а народ местный такой темный, такой необразованный… Что я привез оттуда? Ну, кое-что, конечно, привез, но самый ценный дар Цейлона — большая черная пантера… — (Смотрю на Надю и вижу — она прищурила глаза). — Сейчас я оставил пантеру на базе, вот не знаю, что она делает там без меня. Ужасно забавно будет, если этот очаровательный песик встретится с моей пантерой, верно? Песик никогда не общался с кошечкой такой породы, не правда ли? Интересно, что он при этом почувствует? — Я смеюсь собственному «остроумию», доверительно наклоняюсь к красавице и этак тоном заговорщика замечаю, что мы все-таки должны быть очень осторожны при их первой встрече, потому что на одном из приемов в Кувейте моя пантера втихаря завлекла в угол сенбернара исландского атташе по культуре… и съела его…
Так. Делать мне здесь больше нечего. Встаю, стучу каблуками и выхожу в холл. Компания тащится вслед за мной и смотрит на меня так, будто я не надеваю полушубок, а раздеваюсь догола. Хватаю недопитую бутылку «Куин Энн» и засовываю в карман:
— На дорожку! — Машу им рукой и, громко стуча сапогами, выбегаю наружу. Надя догоняет меня.
— Погоди, Боян, зачем ты ведешь себя так? — В голосе ее нет ни укора, ни любопытства, одна лишь усталость.
— Затем, что я их ненавижу!
— Но они не такие уж плохие…
— Ненавижу! — Я едва сдерживаюсь, чтобы не кричать. — Я возненавидел их за этот вызов по телефону к угрозы, которыми они приперли Генчева к стенке! Все они уверены, что весь мир должен обслуживать их! Потом я еще больше возненавидел их из-за собак, а теперь, — из-за тебя. Скажи честно — что ты делаешь здесь? Неужели тебе так интересна компания этих сволочей?
Я задавал вопрос за вопросом, с силой тряс ее за плечи, потом увидел, что ей больно.
— Извини… Меня все это, конечно же, не касается. Но… — я с трудом перевел дух, — любопытно все же было бы узнать, кто из них твой любовник? Скорее всего, этот, с черепашьей рожей?
Надя положила руки мне на плечи, заглянула в глаза:
— Неужто ты стал таким злым? Не может быть…
— Может.
Она обняла меня за шею, прижалась, я чувствовал, как она вздрагивает всем телом — что это? Неужто какой-то глубоко скрытый страх, которого никогда раньше не было? Я рассуждал об этом так, как будто я был не я и рядом — чужая, вернее, ставшая чужой женщина…
— Я… я прошу тебя, обещай мне… — наконец едва слышно произносит она.
— Что? Что обещать?
— Что… мы увидимся в первый же день, как только ты приедешь в город. Обещаешь?
— Не знаю… Может быть…
Я не вижу ее глаз, но так, пожалуй, лучше.
— Когда ты будешь в городе?
— Не знаю… Наверно, в среду утром.
— Я тебе позвоню. Может быть, пойдем куда-нибудь, поговорим… Нет, не спеши отказывать мне! Ты не знаешь, как много накопилось… Так ты согласен?
Я долго молчал. Гораздо дольше, чем следовало, но она ждала терпеливо и тихо.
— Да.
Надя встала на цыпочки, приложилась губами к моим губам, медленно повернулась и пошла к даче. С веранды на меня пристально смотрела черепашья физиономия.
V
Дяко услышал шум лодочного мотора и вышел встречать меня на террасу. Из столовой доносился звон стаканов, чей-то громкий смех, пьяный голос требовал:
— Налей ему, что ты с ним церемонишься!
— Что — гуляют?
— Гуляют, что им… А как там? — Голос у Дяко глухой и усталый больше, чем всегда.
— Я принес тебе подарок от любезных хозяев дачи «Очарование»! Это американские…
Даю ему сигареты и в двух словах рассказываю обо всем — кроме встречи с Надей. Потом снова спрашиваю, чем занята компания Генчева.
— Чем заняты? Надрызгались, как свиньи. Позвонили сюда, что автобусы придут только утром, ну, тут наши герои и распустились. Те застряли в Козарице. Из города им вышлют снегорасчистку.
— К чертовой бабушке их всех!
Вынимаю из кармана куртки «Куин Энн». Пьем по очереди по глоточку.
— И этот гостинец оттуда? Неплохо там тебя встретили! — В глазах старого лесничего грустная ирония.
— Ты знаешь, что я видел там, на даче?
Я делаю длинную паузу и медленно, четко произношу:
— Я видел голову и рога рыжего муфлона, которого застрелили весной!
— Да ты что?! Неужели?
— Не может быть никаких сомнений!
— А кому принадлежит эта дача?
Я назвал ему фамилию хозяина дачи, и у Дяко просто глаза на лоб полезли.
В столовой кто-то из женщин заверещал дурным голосом «Градил Илия килия»[6], так что у меня схватило под ложечкой.
— Что ж нам теперь делать? Ведь тут может такое завертеться…
— Мы, конечно, схватим их с поличным, но прежде надо выяснить, кому принадлежит карабин и не замешан ли во всей этой истории наш Митьо, не он ли посредник между браконьерами и этими типами, которые украшают свои дачи рогами муфлонов!
— Это не так-то легко, — задумчиво произнес Дяко. — Ты же знаешь, что хозяин дачи большая шишка…
— Ну и что? Из-за того, что он шишка на ровном месте, мы должны все это замять?
— Ты расскажешь все Генчеву?
— Ни в коем случае! По крайней мере сейчас он ничего не должен знать.
В столовой по-прежнему вопили, от этих звуков у меня заболели зубы…
— Ну и дела пошли! — Дяко покачал седой головой. — Сначала Марина подбросила тебе про тайник в Чистило и ты нашел там карабин, потом кто-то звонит из школы, в тебя стреляют, и под конец ты видишь на даче рога. И все — в один день…
— А если прибавить одичавших собак и этих крикунов в столовой — картина будет полной!
— Не совсем. Я вот все время думаю, какая связь может быть между тайником, звонком из школы и выстрелом в тебя…
— Но ведь никто не может доказать, что стреляли в меня!
— Может — не может, но ведь это так! — злится старик.
— То, что я нашел вчера узел, знают только два человека — ты и Марина.
Из столовой раздавался уже целый хор орущих пьяниц: «Отнизу ииде Ииринаа… отниизу ииде Иириннаа…»
— Меня можешь не считать, — отмахнулся Дяко. — Остается Марина. Почему не прижмешь ее как следует? Может, она чего и сболтнула Митьо или Василу…
— Попытаюсь. Ты приготовил список?
— Да, чуть не забыл. Вот он, — и Дяко сует мне в руки исписанный лист бумаги. — Никого из наших не было в группе, которая шла от Большой поймы к водохранилищу.
— Однако любой из них мог поручить кому-то из Дубравца: так и так, дескать, спустись с Поймы, войди в школу, позвони на базу, потом спрячься у дороги и подкарауль Борова. Не обязательно убивать его, можешь просто напугать, пусть знает, что мы не лыком шиты!..
Скоро одиннадцать, и если мы сможем хоть немного отдохнуть, то для этого уже пора разгонять веселую компанию. Входим в столовую. В воздухе повис тяжелый запах жареного мяса, алкоголя и табачного дыма. Никто на нас даже внимания не обращает. Только Генчев вопросительно глядит на меня — «ну как?». Я делаю ему знак, что все в порядке, и он посылает мне воздушный поцелуй… Ладно, пусть старик не волнуется — пока. Завтра или послезавтра ему будет ох как трудно, когда он узнает, у кого мы нашли рога…
Пьяные гости продолжают тянуть заунывную песню про Илью — келью. В их разнобой вдруг ввинчивается писк «активистки» — «Уплываешь ты в Египет пароходом „Мажестик“!» Бобев не сводит глаз с Марины, отбивая такт вилками, шеф помогает ему, тряся спичечным коробком, получается что-то вроде «ансамбля»… Мамин птенчик, уронив голову меж тарелок с объедками, похрапывает, Васила нигде не видно, а директор школы, совершенно бухой, повернувшись красной шеей к журналистке, стучит кулаком по столу и ожесточенно выкрикивает:
— Никакой реформы в образовании провести не дадим! Запомни мои слова!..
Наконец меня видит журналистка, сладко улыбается и приглашает сесть рядом. Как бы не так, только этого мне недоставало! Приветственно машу ей рукой — дескать, погоди, милая, — вызываю Марину, и мы выходим из столовой. Бобев недовольно поднимает правую бровь и продолжает орудовать вилками, правда с меньшим энтузиазмом.
— Марина, кто где будет спать?
— Бобев ляжет у тебя, Генчев и этот, из общества охотников, — в первой проходной комнате для гостей, а обе женщины — во внутренней комнате. Тебе остается канцелярия.
— А Дяко и другие?
— Дяко вместе с кметом и учителем вернутся в Дубравец. Он и так тревожится за бабушку Элену. Двое, которых ты оставил помогать Василу, уже ушли в домик у водохранилища. Тут будет ночевать только уборщица. Мы уберем здесь весь этот свинарник, и потом я как-нибудь устрою ее в складе.
Компания в столовой уже хором орет третью песню: «Лёх, лёх, лелилёх… Поцелуи и любовь! К ним всегда везде готов!» Раздался топот, затрясся весь дом — это, видно, гости ударились в хоро[7]. Я поднял руку и осторожно взял Марину за плечо.
— Хочу спросить тебя кое о чем… Ты знаешь, что в меня сегодня стреляли?
— Стреляли?! Кто?! — В ее напряженных глазах мелькнул страх.
— Не знаю. Стреляли, когда я шел к школе. Ты говорила кому-нибудь, что я нашел тайник в Чистило?
— Нет, нет… — Она слегка отпрянула назад.
— Я последний раз спрашиваю: ты говорила кому-нибудь?
— Утром… Митьо… но это невозможно!
— Зачем ты сказала ему?
— Затем, что… — она растерянно улыбнулась, — затем, что надеялась… между нами может быть что-то очень хорошее… Дура…
— Почему же ты решила, что этого не будет?
— Ты меня вечером так обидел! — Она запнулась и вдруг выпалила: — Я хотела отомстить тебе!
Значит, месть… Я не знал, что сказать, как отреагировать на ее слова, и тут меня снова начало трясти, зубы еще не стучали, но челюсти сводило, и я почти не мог двигать ими.
— Ты знаешь, кто ты? Ты просто маленькая дуреха!
— Знаю, но почему маленькая?..
Марина едва сдерживалась, чтобы не расплакаться.
Двери столовой с треском растворились, в коридор, шатаясь, вышел экономист. Он сделал вид, что не ожидал увидеть нас здесь, выпучил глаза и поднял свою дрессированную бровь:
— О-о… воркуете? Или так, по делу?
— Договариваемся о том, кто где будет спать. — Марина повернулась и сделала попытку пройти мимо него, но он довольно грубо схватил ее за руку.
— Спать? А где ваш уважаемый супруг?
— Лег уже, он устал…
— А, это хорошо, это очень хорошо… А не покажет ли наша любезная хозяйка, где буду спать я?
— Пойдемте.
Марина пошла вверх по лестнице, он за ней, чуть не утыкаясь носом в ее задницу. На середине лестницы он обернулся и грязно подмигнул мне. Я плюнул ему вслед, закурил сигарету, и в этот момент на меня как ястреб налетела журналистка:
— Ах, как много вы пропустили! Где вы пропадали? Так весело было, так весело! Ах, какие чудесные вы люди!
— Рад, что вам здесь понравилось.
— Вы расскажете мне, что происходило в дачной зоне? Много собак убили?
Она подскакивала на одной ноге, как маленькая девочка (при этом ее увесистое тело тяжело сотрясалось), восторженно била в ладоши и едва не кидалась мне на шею.
— Если, пока вы здесь, не случится ничего более интересного, расскажу.
В столовой продолжают топать и орать. С потолка уже сыплется штукатурка.
Я смотрю вверх и, несмотря на невообразимый шум, улавливаю чей-то крик и звуки борьбы на втором этаже. Бросив журналистку, в несколько прыжков одолеваю лестницу.
— Пустите меня! — кричит Марина, и что-то тяжелое бьет во внутренние двери моей комнаты. Вхожу — ага, все понятно. Этот тип затолкал Марину в угол и пытается стянуть с нее блузку. Я крепко хватаю его за шиворот и вмиг отшвыриваю в другой конец комнаты. Он злобно рычит на меня:
— Что это значит?!
— И я хотел бы спросить — что это значит? — И вдруг на меня нападает смех, я начинаю хохотать, ну просто до колик. — Все вы… все вы грязные браконьеры! Подлецы, негодяи!..
Марина рванулась к двери, глаза ее полны слез.
— Как вы смеете?! — Экономист пытается увязаться за ней.
— Вот так — смею! — Я снова хватаю его за ворот и швыряю на постель. — Спи здесь, а завтра разберемся — если захочешь!
— Да ты знаешь, что я тебя!.. — орет он не своим голосом, и мне стоит огромных усилий не двинуть кулаком в его поганую задранную бровь…
— Знаю-знаю, но я плевал на твои угрозы! Сиди здесь и не смей вылезать из комнаты! Понял?!
Выхожу, с треском захлопываю дверь — и сразу же налетаю на Дяко.
— Что тут делается? — с тревогой спрашивает он. — Что-нибудь с Мариной?
— Товарищ Бобев решил поиграть с ней! Разминку устроил! Пошли вниз, разгоним эту кодлу. Вот где у меня все это сидит! — и я провожу ладонью по шее.
Минут через десять база постепенно успокаивается. Гости поднимаются на второй этаж и расходятся по комнатам, машина кмета увозит дубравцев домой. Хорошо сейчас подышать чистым воздухом… Выхожу наружу, пока Марина и уборщица наводят порядок в столовой. Вдруг на первый этаж быстро — насколько позволяет ее полнота — спускается журналистка и с ходу кричит:
— Где Боров? Где он?!
Она бегает по всему этажу, суется в канцелярию, в кухню, даже в туалет, потом высовывает нос на террасу. Хорошо, что я стою в тени от дома и она меня не видит… Бедная толстая Жанна возвращается в столовую и, чуть не плача, спрашивает у женщин, куда я исчез.
— Не знаю, может, подался со всеми в Дубравец, — без зазрения совести врет Марина и продолжает мести пол.
— Но это невозможно! Это непорядок! — стонет журналистка.
— А что случилось?
— Эти двое легли в спальне, а я что должна делать? Спать с Генчевым?
— Как это — легли?
— А вот так! Вошли в спальню и тут же закрылись на ключ…
Марина бросила мести и задумалась.
— Не волнуйтесь, сейчас что-нибудь придумаем… Пойдемте со мной!
Я сообразил, что она придумала — поместить журналистку в складе, там есть раскладушка и электрическая плитка, чтобы согреться. Как-нибудь перебьется. Через несколько минут уборщица выносит из склада толстый матрац и тащит его в кухню. Так, значит, и с ней вопрос решен. Осторожно пробираюсь в канцелярию, запираю дверь изнутри и, как есть, в одежде, сняв только куртку, плюхаюсь на старый диван. Теперь натянуть на себя одеяло — и спать, спать… День кончен. Надо бы уснуть немедля, но стоило прикоснуться к подушке, как в голове бешено завертелся хаос мыслей, образов, обрывков чьих-то фраз, среди которых навязчиво повторяется только одно имя: Надя… Надя… Надя…
Я уже почти заснул и в полусне услышал чьи-то осторожные шаги. Кто-то тихо подошел к двери, медленно нажал ручку и, убедившись, что дверь закрыта, отпустил. Потом — едва слышный стук и шепот:
— Боров, открой на минутку, мне надо спросить у тебя кое-что…
Фигушки, моя дорогая! Нет меня, я испарился, умер, улетел на небо, и придется тебе отложить свои вопросы до завтра…
Поворачиваюсь на правый бок и теперь уже действительно засыпаю.
Мне снится ужасный сон.
…Сквозь густую заснеженную чащу леса за мной гонятся обезумевшие от голода брошенные собаки. На бегу я поворачиваюсь, нажимаю на спуск двустволки, но выстрела нет, и я снова бегу в глубь непроходимого леса, задыхаюсь, плачу от усталости и бессилия, и снова продолжается этот нескончаемый и безнадежный бег, а собаки, их зубастые свирепые морды, уже почти настигают меня. Вдруг я вижу перед собой тропинку, на ней сидит желтый малыш и смотрит на меня заплаканными женскими глазами. Я спрашиваю, почему он плачет, а он показывает мне свою простреленную голову. Мне до ужаса жаль малыша, я хватаю его на руки и снова бегу в лес. И вот уже нет леса, кругом большие и маленькие дома, пустые улицы и никаких звуков, только бешеный лай собак и стук моих подошв. Какой-то внутренний голос говорит мне о том, что это дачная зона, здесь опасно, вокруг полно предупредительных и запрещающих знаков, грязно, воняет перегорелым бензином, тяжелым маслом и табачным дымом. Я врываюсь в какое-то высоченное — до небес — здание, захлопываю сзади дверь. Спиной ко мне стоят полураздетые мужчина и женщина. Я вздрагиваю от ужаса и кричу: «Надя!..» Они оборачиваются, и я вижу заносчивого хозяина «Очарования». Я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать, и протягиваю им несчастного малыша. Надя с холодным безразличием поднимает руку и показывает мне плакат, на котором написано, что раненых собак следует относить вниз, в подземелье. Я хочу попросить Надю о чем-то, я готов упасть перед ней на колени, но язык мой одеревенел, я не могу произнести ни слова, бегу куда-то и попадаю в огромный холл, откуда-то доносятся приглушенные голоса, по лестнице, которую я не вижу, медленно и ритмично шагают сотни ног, женский голос настойчиво спрашивает, куда делось оцинкованное ведро, гудят пылесосы, на верхнем этаже группа мужчин, подбадривая себя криками, тащит что-то тяжелое. Я оглядываюсь вокруг и вижу, что из холла можно выйти только в лифт. Вызываю его, вхожу и вижу надпись: «Лифтом имеют право пользоваться только члены комиссии по дачной зоне». Поздно, железные двери смыкаются, лифт быстро поднимается вверх (а я твердо помню, что мне с малышом надо вниз), мелькают цифры этажей, и вот последний, лифт гулко гудит и резко останавливается. Я выхожу в полутемный коридор с косым потолком, пол выкрашен темной краской, в воздухе — раздражающий запах заплесневелой бумаги и пыли. Мне нужно обратно, я поворачиваюсь, но не успеваю — лифт уплывает вниз, придется спускаться по лестнице. Она очень короткая и кончается глухой, окруженной стенами площадкой. Никого, ни звука, даже лестница исчезла. Зато вдруг я обнаруживаю двери, решительно нажимаю на ручку и вхожу в небольшое помещение, кругом стенные шкафы и полки, сломанные гардеробы, письменные столы и стулья, части пишущих машинок, ведра с прогнившими донышками, палки от метел, рваные дорожки, грязные куски материи… Жуткий запах, которого и описать нельзя, и на одном из кривых шкафов покрытая грязью надпись: «Заповедник для одичавших собак». Я кладу малыша под надпись и бегу обратно. Клетка лифта. Жду. Ни одного звука. Мотор молчит, кабины не видно. Я со злостью дергаю железную дверь, но где же лестница? Куда она исчезла? Передо мной коридор с тысячью дверей, за ними слышно, как кто-то чавкает, скребется, шелестит, стонет. И снова стена, наверху оконце, сквозь грязное стекло видно облачное небо и сотни черных крыш. Мне хочется крикнуть, позвать на помощь, но горло мое сдавлено, и я не могу произнести ни звука. Неподвижность ужасна, мне наконец удается преодолеть ее, и я бегу сломя голову по коридору, это длится час, день, век, я все бегу и открываю на ходу тысячи дверей, и за каждой те же канцелярии, столы, шкафы, полки — и ни одного человека, я оглядываюсь в напрасной надежде найти выход из этого капкана, зажигаю все лампы и слышу телефонный звонок. Мне стоит огромных трудов понять, что телефон — это связь с миром, он звонит и звонит не переставая, но я не вижу его и снова бегу по всем канцеляриям и умоляю провидение продлить этот звон как можно дольше, пока я не найду аппарат. Наконец я добегаю до какой-то скрипучей лестницы, внизу — вонючий чулан, я плечом вышибаю дверь, и в уши бьет невероятно громкий и радостный звонок телефона. Я бросаюсь к нему, лихорадочно разрываю кучу старых газет и тряпья, хватаю дрожащую, будто она живая, трубку, и кричу что есть мочи. В трубке в ответ — молчание, проходит несколько секунд, и мелодичный голос Нади предупреждает меня: если я не заговорю, она повесит трубку. Я пытаюсь произнести ее имя, но вместо этого из горла вырывается крик. Надя снова и снова повторяет, что надо все-таки сказать, где я нахожусь, что мне от нее нужно, почему я не отвечаю, я напрягаюсь так, что болит грудь, голова, руки, болит каждая мышца, каждый нерв, но по-прежнему вместо слов раздается одно лишь мычание. В трубке что-то щелкает, связь прервана — теперь уже навсегда. В бессильной ярости я мечусь по чулану, ударяюсь о шкафы и стены, все это срывается с места и с треском валится на меня, и перед глазами снова возникает желтый малыш с пробитой головой. На этот раз его глаза мечут молнии, он тихо и угрожающе шепчет что-то, и вдруг со всех сторон появляются черепа муфлонов с рогами, раздается душераздирающий вой одичавших собак, лезущих на меня своими ощерившимися слюнявыми мордами, и откуда-то взявшаяся двустволка выплевывает прямо мне в голову обжигающий ком огня…
…С криком просыпаюсь и слышу, как во дворе урчат моторы. Кто-то громко стучит в дверь канцелярии, а телефон звонит-разрывается. Хочу подняться и не могу, тело ватное, страшно болят виски, суставы горят, даже до волос больно дотронуться. Бьет крупная дрожь, зубы начинают стучать так, что унять их невозможно. В общем, ясно: я болен, у меня, наверно, высокая температура. Я собираю всю волю и силы, встаю — и тут же заваливаюсь обратно на диван. Однако надо хоть до телефона дотянуться — в гудящей голове только эта мысль. Мне удается взять трубку и, что труднее, удержать ее.
— Алло, — хрипло произношу я не своим голосом и начинаю надсадно кашлять.
— Почему, черт возьми, не отвечаете?! Вымерли вы, что ли, на этой базе?! — свирепо кричит кто-то мне незнакомый.
— Почти умираем… — (Господи, оказывается, есть еще силы юморить.)
— Кто у телефона?
— Боров.
— Боров[8] или Буков, отвечайте — прибыли автобусы с охотниками или нет?
Смотрю на часы — уже больше пяти. Скоро рассвет. Вся база ходуном ходит от топота ног, криков, хлопанья дверей.
— Прибыли. Я слышу.
— Не слышать надо, а принять их и устроить!
— Ладно.
— Поди спроси, как они добрались, и немедленно сообщи!
— Минутку, сейчас вернусь…
Сажусь к столу, с трудом поддерживаю голову ладонями. Она как чугунная. Минуту-две сижу, блуждая в каком-то странном полусне.
— Алло… Они только что вошли на базу.
— У них все в порядке?
— Да.
— Накормите людей, дайте им отдохнуть до семи и только после этого опять посылайте на мороз. Панайотов пусть держит меня в курсе, ясно?
— Ясно, а кто это звонит?
Но тот уже повесил трубку. С трудом дохожу до двери — какие-то кретины так стучат в нее, что она вот-вот сорвется с петель. Едва успеваю повернуть ключ, как в канцелярию врываются злые и мокрые «гости». У них такой вид, будто я должен им миллион и не отдаю.
— Сколько еще мы будем ждать?! Сколько?! — наседает на меня двухметровый гигант с модными начальничьими усами. — Целую ночь мы, как идиоты, мотаемся по ухабам и сугробам, в метель и мороз, а вы тут спите, черт возьми! Лентяи проклятые!
— Оставьте его, товарищ Панайотов, разве вы не видите — он же надрался! — Какой-то подлиза угоднически вылезает из-за плеча гиганта. А я на ногах не стою, перед глазами все вертится, и если бы не держался за притолоку двери — непременно упал бы.
— Кто тут старший на этой базе? Люди должны поесть, обсушиться, отдохнуть!
— Я знаю…
— А если знаешь, почему не действуешь, почему стоишь на месте как истукан?!
И я отправляюсь действовать. На ватных ногах с трудом прокладываю путь среди злобных взглядов, насмешек, оскорбительных замечаний. Едва дохожу до комнаты Васила, как на пороге появляется Марина.
— Что с тобой, Боян? Тебе плохо?
— Нет, нет, ничего… Надо кому-то заняться этими…
Ее холодная ладонь ложится мне на лоб, я испытываю невыразимое блаженство и облегчение. Закрываю глаза.
— Боже мой, да ты весь горишь!
— Ладно, надо встретить людей… Разбуди Васила и других, а я позвоню в Дубравец…
Марина куда-то исчезает и тут же возвращается, в руках у нее чашка с водой и несколько таблеток. Почти силой она заставляет меня проглотить их и запить водой. Глотать мне очень больно, но от холодной воды в голове становится чуть яснее.
— Когда они прибыли?
— Минут пять назад. Видишь, я еще даже не успела одеться.
— Чего же они скандалят! Сделай им чай, а Дяко принесет еду максимум через час…
Снова возвращаюсь в канцелярию, сажусь на диван, прячу лицо в ладони. Голова раскалывается, все тело то и дело обливают горячие и холодные волны, и ужасно клонит в сон. У меня нет сил даже пальцем пошевелить, не то что реагировать на крики, вопросы, гам вокруг. Да так-то лучше, иначе я бы завыл от ярости, как… ну, как одичавшая собака… Пусть делают, что хотят. База ихняя, пусть сожгут ее, изрубят, на куски изрежут. Могут даже выбить дичь своими ружьями, могут взорвать Старцев и стену водохранилища — меня нет! Я далеко отсюда, очень далеко, в каком-то огненном болоте, которое тянет меня вглубь, в кипящую лаву… Где-то рядом есть покой, тишина и забвение, и я, уже совершенно не владея своим телом, которое сплошная боль, заваливаюсь назад, на спинку дивана, пробиваю ее и падаю все ниже и ниже, в серую колышущуюся бездну…
— Эй, парень! Что с тобой?
Две руки осторожно ощупывают меня, причиняя боль — особенно болит голова. Ответить я не в силах и все-таки пытаюсь что-то сказать, даже открыть глаза, но нависающие надо мной лица такие уродливо кривые и страшные, что я не могу смотреть на них и снова крепко зажмуриваю глаза. Потом вроде я прошу вынести меня на снег, потому что я сейчас сгорю, потом кто-то кричит мне что-то в ухо так, что лопаются барабанные перепонки, и чьи-то сильные руки поднимают меня как пушинку, несут, и от этого мне становится дико обидно и стыдно, я силюсь встать на ноги и все время внушаю себе: «Ну-ка, Боян Боров, возьми себя в руки, что с тобой стряслось, дружище, — тебя несут, как тряпку…» Когда-то меня так носили, но когда и где — никак не могу вспомнить… Да, носили, но не так. А как? Да-да… Это было мучительно и страшно — толстые веревки, обмотанные грязным бинтом, потное злое лицо, рука в тяжелой рукавице, которая неумолимо стремится попасть мне в подбородок, рука быстро вытягивается, рукавица почти у подбородка — я не хочу, откидываюсь назад, но она настигает меня — вспыхивает яркая молния, и я лечу, лечу в пропасть…
…В комнате нестерпимо светло. Нет, это не лампа горит — свет идет от окна. Белый, снежный… Значит, уже день. Интересно, который теперь час? Поворачиваю голову и вижу над собой чье-то молодое лицо с маленькой темной бородкой. Человек одет в белое, в комнате пахнет лекарствами — как в больнице. Неужто меня сунули в больницу? Резко приподнимаюсь, человек в белом делает напрасную попытку уложить меня обратно, я оглядываюсь. Нет, это не больница, а моя комната. Рядом потрескивает моя печка, у противоположной стены мой гардероб. Это хорошо…
— Ну как? Получше чувствуешь себя?
У молодого человека в белом очень мягкий, добрый голос.
— Который час?
— Ровно два. Тебе нужно лежать. Температура уже падает, ты поспал.
— Сколько было?
— Я же говорю — два. — Человек улыбается.
— Я не про время, а про температуру…
— А-а, температура была приличная — около сорока. Здорово ты простыл, дорогой, но в легких чисто.
— А это хорошо?
— Еще бы не хорошо!
— А вы как попали сюда?
— С охотниками приехал. Это тебе повезло! С тебя магарыч.
— Там в шкафчике есть виски… или водка, возьмите, пожалуйста.
— Да ты что! — доктор от души рассмеялся. — Я пошутил!
— Я быстро выздоровею?
— Температура спадет через день-два. Думаю, что никаких осложнений не будет, но неделю тебе придется обязательно полежать в постели. Я оставлю тебе лекарства, а в пять часов еще успею сделать серию уколов.
Значит, он делал мне уколы, а я и не почувствовал…
— А что делают охотники?
— Еще не вернулись, но с собаками как будто покончено.
От неожиданности я почти сползаю с кровати и смотрю на него во все глаза.
— А… а что — они и вправду были здесь?
— Вправду. Хлынули сюда в заповедник около девяти часов, наши их окружили — в Змеином овраге это было, — и, как говорится, каюк собачкам… Страшная канонада была — как на войне. Даже тут слышно было.
— Значит, все-таки хлынули сюда…
Я все еще не могу поверить, что это правда и я ошибся в своих прогнозах.
— Хочешь есть?
— Может быть… Да.
— Хорошо, сейчас попрошу, чтобы тебе принесли что-нибудь полегче.
Доктор махнул мне рукой и скрылся.
Пробую рукой лоб. Не могу понять — есть температура или нет, но голова кружится, слабость ужасная… Однако сознание в полном порядке. Значит, их согнали в Змеиный овраг, окружили там и уничтожили. Люди наступали цепью, двести стволов против мятущихся от ужаса животных — сколько их там было? Я хорошо знаю, что такое Змеиный овраг, из него нельзя выбраться — вокруг нависают крутые, заледенелые и скользкие, как стекло, скалы. Выстрел — один пес убит, остальные, как безумные, царапают лед, ломая и кровавя лапы, воют… А люди стреляют, стреляют, и собачьи тела сваливаются на дно страшного оврага…
Кто-то тихо отворил двери. Марина. На цыпочках подходит ко мне, в руках — поднос с глубокой глиняной миской, от которой подымается густой ароматный пар, и большая чашка.
— Не надо. Не хочется есть.
— Боян, но доктор сказал…
— Не могу. Дай мне лучше чего-нибудь попить.
Марина ставит миску с супом на стол и дает мне чашку с горячим чаем. Вот, это то, что мне нужно — горячий липовый чай, мы сами его сушим. Наконец-то изо рта уходит вкус олова.
— Марина, а где Генчев, Дяко, остальные?
— Все там, — и она кивает на дверь. — Тебе еще что-нибудь нужно?
— Да. Термометр.
Марина дает мне термометр, на нем ртутный столбик остановился на 39,8°. Вот это да… Сбиваю свои прежние показатели и сую под мышку холодное стеклышко.
— Сейчас можешь идти. Спасибо.
Надо бы, конечно, потеплее и полюбезнее с женщиной, но, надеюсь, она простит. Стоило ей выйти, и я пытаюсь встать. Хорошо бы глотнуть хоть наперсток «Плиски». Однако как голова кружится… А что температура? Ха, нет и 38°, я почти здоров!.. Одеваюсь с трудом и спускаюсь вниз. Пошатываюсь — но держусь. Все в порядке! Правда, бородатый доктор другого мнения — увидев меня, он сердито кричит, чтобы я немедленно возвращался в постель и не устраивал здесь спектакля! Я твердо обещаю, что лягу немедленно, как только позвоню по телефону, и иду в канцелярию.
Очень трудно связаться с «Очарованием» — заказ идет через Дубравец и Козарицу. Наконец отвечает мужской голос — наверняка хозяин дачи. Я прошу Надю, он говорит, что два часа назад она уехала в город. А кто ее спрашивает? Я отвечаю — ее коллега из театра, он извиняется за то, что не может мне помочь, я — за то, что побеспокоил его…
Через пятнадцать минут двор базы полон народу. Акция по уничтожению одичавших собак завершена. В окно канцелярии вижу два грузовика, наполненных окоченевшими, аккуратно сложенными трупами собак. Отсюда их отвезут в город на бойню. Сверху на одном из грузовиков (или мне только кажется?) — желтый малыш с разбитой головой, смотрит в мое окно и скалится…
Возле грузовиков стоит толпа охотников, все веселые, передают друг другу бутылки — надо ж выпить за успешное окончание операции! Потом все набиваются в канцелярию, хохочут, считают: столько-то трупов по пять левов каждый, много денег! «Ну что — будем делить их? Или отдадим в фонд защиты окружающей среды? А может, просто пропьем на банкете?»
Мне не так плохо, как было на рассвете, но лучше поскорее убраться в свою комнату. Скоро в столовой начнется обед, а я и думать не могу о еде. Не хочу никого видеть, хотя и знаю, что на базе никакая изоляция невозможна. И факт — не успеваю плюхнуться в постель, как во главе с доктором в комнату вторгаются Генчев, Дяко, журналистка Жанна и этот огромный усатый амбал. Генчев и усатый хлопают меня по плечам, трясут за руки, а журналистка сует в банку с водой три сосновых веточки. Ну, умереть можно от умиления! Все спрашивают, как самочувствие, я отвечаю — лучше не бывает! Со своей стороны интересуюсь, как закончилась акция. Оказывается, собак-то было не тысяча и даже не двести, а так — штук пятьдесят. Некоторые из них все-таки сумели прорвать блокаду и перемахнуть через Предел. Молодцы!
После аудиенции поворачиваюсь на другой бок и засыпаю. Наверно, температура у меня снова поднялась, потому что остаток дня и весь вечер сплю. Проснулся я только один раз, когда доктор пришел делать укол. На прощанье он прочитал мне краткую лекцию о том, как вести себя, и оставил целую кучу лекарств. По его мнению, когда я все их выпью — буду здоров.
Два дня спустя я узнал, что Марина несколько раз за это время приходила ко мне и давала лекарство. А я ничего не помню.
VI
В понедельник утром я встал довольно поздно и обнаружил, что чувствую себя вполне прилично. Оделся, с отвращением прошел мимо канцелярии, завел мотор джипа и стал спускаться в Дубравец. По предписанию доктора я сегодня должен был еще полежать, но у меня есть одно очень важное дело, и время терять нельзя.
Поставил джип возле почты и шагаю прямо через заснеженную площадь в центр села. К нему со всех сторон ведут дорожки, которые местное население называет «мужские» и «женские». Женские — узкие, извилистые — идут мимо заборов и оград прямо к магазину и булочной. Мужские бесцеремонно пересекают пушистый снег и кончаются у общинного совета, канцелярии местного хозяйственного управления, парикмахерской и корчмы.
Оглядываюсь вокруг. Снег такой густой, что от магазина, к примеру, не видно, кто входит в парикмахерскую и выходит из нее. А я иду именно туда. Посреди площади меня настигает кмет, трясет руку, интересуется, как самочувствие. Я, оказывается, здорово их напугал! Кмет смотрит на небо и громко жалуется:
— Когда же он перестанет идти, этот проклятый снег, а, Лесничий?! Попомни мое слово — из-за этого снега автобус из города опять не придет! Вчера набрал я телефон в Козарицу, спрашиваю, что делать, а они смеются! Что делать — жди! И там пурга, но никто не виноват — погода такая… Ты что, не зайдешь ко мне как-нибудь в белот поиграть?
Прощаюсь с кметом и тут же натыкаюсь на семейную драму: впереди шагает какой-то сельчанин с красным от натуги лицом, за ним семенит жена, маленькая, сморщенная, ноющая.
— Я заколю его! — кричит что есть мочи муж. — Раз не дают фураж, заколю его, черти бы их драли!
И я понимаю, что человек ходил в сельпо за фуражом, ему отказали, и он сейчас тоже едва не плачет, как и жена.
— А иначе как? Что ж он — ноги мои будет есть?
— Не надо, Георгий!.. — хнычет жена и еле поспевает за благоверным. — Зачем же мы первые село собирать будем?..
Она знает, почему плачет. Если они заколют поросенка за неделю до Коляды, все село придет к ним в гости, и съедят и выпьют все запасы. А как начнется Коляда, у всех будут свои поросята, а у них — пустой стол…
В парикмахерской полно народу. Не то чтобы у сельчан был сегодня какой-то особый повод гладко выбрить щеки и бороду, просто им приятно постоять в тепле, среди блестящих зеркал, аромата одеколона, хотя все прекрасно знают, что ежели уж попадешь в салон Христо Хромого, то так просто уйти не удастся, непременно сядешь в кресло. Ведь это такое удовольствие опереться головой об истертую тысячами посетителей спинку, а потом тебя обовьют чистой мягкой простыней, намажут густой мыльной пеной щеки и подбородок… Бай Христо прыгает возле тебя, оттягивает ловкими пальцами нос и уши, вертит твою голову туда-сюда и все время, не переставая, говорит. Он уже больше сорока лет стрижет и бреет, лечит от перхоти и выпадения волос, украшает своим искусством дубравецких мужчин, внушает им чувство гордости и уверенности в себе…
Но сегодня я иду к нему не ради его блестящего мастерства, а потому, что слышал, что у него есть старая толстая тетрадь, в которую он записывает все более или менее знаменательные события в жизни родного Дубравца. Говорят, что Хромой никогда никому не дает тетрадь, потому что там описаны его интимные переживания в молодые и более поздние годы. Если кто-то из сельчан спорит о дате события, которое случилось двадцать-тридцать лет назад, Христо Хромой прерывает работу, достает тетрадь из ящика шкафа, в котором хранятся его бритвы, щетки, одеколоны, плюет на палец и находит страницу, на которой описано событие. Потом во всеуслышанье сообщает присутствующим истину и под взрыв восторга велит побежденному угостить всех ракией. А если все-таки найдется человек, который осмелится не поверить в точность изложенного в тетради, брадобрей рассердится, мазнет неверующего мыльной щеткой под носом и выгонит вон из парикмахерской.
Я вхожу, здороваюсь, сажусь на край старой разбитой скамейки и прислушиваюсь к разговору десятка мужчин, сидящих вокруг. Кто-то хочет уступить мне свою очередь, но я с благодарностью отказываюсь. Мне нужно остаться один на один с парикмахером, а для этого я пережду всех. Пока делаю вид, что читаю какой-то затрепанный старый журнальчик без обложки, вдруг слышу, как чей-то голос пытается преодолеть галдеж:
— Что-то кажется мне, что не сможет сегодня Хромой сказать, кого брил он двадцать первого декабря тыщу девятьсот сорокового!
— Точно — не сможет! — поддерживают сомневающегося еще несколько голосов.
Хромой делает вид, что не слышит — продолжает скоблить чью-то щеку и тихо посмеивается.
— Ну-ка, скажи! — настаивают клиенты, обращаясь уже к самому Христо.
— Да где же ему помнить! — горячится какой-то древний старец. — Ежели скажет, чего было в этот день, угощаю всех подряд по маленькой!
— Говоришь, двадцать первого декабря…
Хромой осторожно заканчивает бритье, нагибает голову клиента над круглым тазиком и как следует умывает его лицо чистой водой.
— В этот день, батенька, была свадьба Добри Станева из верхней околицы, того самого Добри, которого убили в сорок четвертом при Прокупле. Значит, я тогда брил его, а поскольку кумом был ты, значит, я брил и тебя!
— Ну, что? Верно ведь, черт возьми, а? — восхищаются сельчане, цокают языками и дергают за руки старца, чтоб вел их в корчму.
Парикмахерская пустеет, я подхожу к креслу. Хромой внимательно оглядывает мое чисто выбритое лицо и протягивает мне пахнущую дешевым одеколоном руку:
— Ну, добро пожаловать, начальство! Большое дело сделали вчера наши охотники. Я тоже хотел прийти на помощь, но куда уж мне с этой ногой… Садись, подстригу, это все приходят, чтобы языки почесать.
— Знаешь, я ведь тоже пришел не стричься-бриться… Мне надо спросить тебя об одной давней истории, только дело деликатное, и мне бы не хотелось разговаривать здесь.
Хромой аккуратно встряхнул большую простыню, сложил ее, бросил на меня острый взгляд.
— А что это за история?
— Давай-ка забежим напротив, в корчму, там и поговорим. Я угощаю.
Вижу, что он раздумывает, потом вынимает большие карманные часы, целую вечность смотрит на них и наконец говорит:
— Ладно, Лесничий! Ты иди, а я закрою заведение и тоже приду.
Снова выхожу на заснеженную площадь, бегом преодолеваю пятьдесят метров до корчмы. Внутри чисто подметено, везде порядок, но в воздухе все-таки стоит непреодолимый запах анисовой водки, лимонадной эссенции и лука. Корчмарь встречает меня радушно и тут же сажает за отдельный столик в углу. На столике чистая клетчатая скатерть. Это место — для гостей.
— Мы будем обедать вдвоем. Приготовь, пожалуйста, горячую ракию, закуску и что-нибудь настоящее поесть.
— Понятно! — Корчмарь многозначительно подмигивает мне. — К тебе, наверно, приехало большое начальство. Я слышал, вчера тут был кто-то из самой Софии.
— Никакой Софии! Мы обедаем с бай Христо, и никого больше за этот стол не пускай!
Корчмарь, конечно, обещает оставить нас вдвоем и в красках расписывает блюда, которыми он может нас попотчевать, — и свежую жареную телятину, и котлеты, и поджарку, заказывай что хочешь…
Я ничего не ел больше суток, и у меня прямо слюнки потекли от его рассказов. Он убегает на кухню, я закуриваю и жду Хромого, который является точно через десять минут, как и обещал. Мы не успеваем и двух слов сказать друг другу, как перед нами, как на скатерти-самобранке, возникает роскошная закуска под ракию: капуста, соленые огурчики и помидоры с сельдереем, маринованный сладкий перец и жареные баклажаны. И все домашнего производства и в количестве, достаточном для взвода проголодавшихся пехотинцев. Мы в восторге, корчмарь горд и счастлив, мы, едва дождавшись, пока он убежал на кухню, поднимаем рюмки. От волнения у меня еле заметно подрагивают пальцы, но я изо всех сил стараюсь держаться. Наконец, выпив первую рюмку горячего питья и порядком закусив, я спрашиваю брадобрея — так, как бы между прочим, тусклым голосом, — не помнит ли он, что было восемнадцатого сентября двадцать один год назад.
— Двадцать один год, говоришь?
Хромой вынимает из кармана пиджака огромный носовой платок, шумно сморкается, отпивает немного ракии из рюмки и морщится.
— Ты почему вдруг заинтересовался?
— Заинтересовался, — я предлагаю ему сигареты. — Если не помнишь, может, сбегаешь за тетрадью?
Христо нагибается над огоньком моей зажигалки, глубоко затягивается и достает из-под стола большой истрепанный портфель (а я еще удивился, когда он вошел, — зачем ему портфель?).
— Тетрадь здесь. Думаешь, я не догадался, о чем ты будешь меня спрашивать?
Поплевав на палец, Хромой аккуратно перелистывает страницы этой чудо-тетради.
— Восемнадцатого сентября, начальство, наверху под Пределом убили твоего отца. Ты знаешь об этом лучше меня, а спрашиваешь.
— Я знаю это, бай Христо, но меня другое интересует.
— Что тебя интересует, начальство?
— Все, что имеет отношение к смерти отца, — слухи, сплетни, разговоры…
— Ты угощать меня пригласил или допрашивать?
Делает вид, что очень рассержен, но не забывает о ракии.
— Какой там допрос, когда столько времени прошло… Может, хоть что-нибудь…
— Спрашивай, не спрашивай, — прерывает он меня, — ничего не помню. Шутка ли — двадцать один год прошел, полжизни.
— А тетрадь?
— А что тетрадь? Это ж не Библия, чтобы про все писать в ней!
— Ну а все-таки…
— Слушай, оставь ты это дело! Тебе люди давно рассказали про все, я ничего не могу добавить. Нехорошо человеку рыться в прошлом!
Молчим долго, пьем, едим, курим, а у меня внутри медленно, но с невероятно разрушительной силой закипает гнев. Опять — в который раз! — наталкиваюсь на проклятую стену молчания, на увертки, за которыми привыкли скрываться многие в Дубравце. И Дяко такой же, и Хромой, и все, кого я ни спрашивал… Корчат из себя полоумных и молчат, будто их веревками связали.
— Прошлое, говоришь?! — вынимаю из кармана заплесневелый патрон и бросаю его на стол. — Только это прошлое шастает до сих пор по Пределу и стреляет из итальянского карабина!
Хромой кладет патрон к себе на ладонь, осматривает его со всех сторон.
— Из итальянского карабина… Ну и что общего имеет этот патрон со смертью Герасима?
— А то, что этот патрон может войти в то же дуло, которое целилось в отца! Разве что в Дубравце есть не один, а два итальянских карабина!
Снова молчим. Я весь дрожу от волнения, брадобрей рассеянно ощупывает патрон, и в тот момент, когда я почти уверен в том, что он сейчас положит патрон на место и прекратит весь разговор, он вдруг говорит:
— Был тут один, принес итальянский карабин из Сербии еще до 9-го Сентября. Он был мобилизован в оккупационный корпус.
— Кто это?
— Его уже нет. В шестьдесят восьмом умер…
Корчмарь приносит тарелки с горячим, тонну хлеба, еще ракию и вино.
— Я тебя спрашиваю, кто это был? Фамилия, имя?
— Лалю Тотев из рода Бежановых.
— И ты говоришь, он умер?
— Умер, шестьдесят четыре ему было. Но это совсем ничего не значит!
Хромой насаживает на вилку огромный кусок мяса, отправляет в рот, жмурится от удовольствия.
— Знаю, что не значит, я не идиот! — и подливаю ему еще вина.
— Не то что идиот, но надо осторожно подходить к этому делу, а то большая беда может выйти от спешки…
— За день или за два перед убийством мой отец был на какой-то свадьбе в Зеленицах. И меня взял с собой туда. Не помнишь, кто это женился?
— Можно проверить.
Он снова стал перелистывать ветхие страницы тетради.
— Так я и знал… Пятнадцатого сентября в Зеленицах была свадьба сына Лалю Тотева. Тоже Лалю, по прозвищу Кожух[9]. Ты его знаешь. Женился он на Димитрине из нашего села. Все ее Димой зовут.
— Кто такая Димитрина?
— Да эта, продавщица в сельпо. Свадьбу тогда, помню, сыграли наскоро, потому что Лалю надо было уезжать куда-то. В то время Лалю был лесничим при твоем отце, но они почему-то поцапались…
Хромой вдруг нагнулся ко мне, испуганно поглядел на меня и прошептал:
— Эй, парень!.. Уж не подумал ли ты что…
— Что я думаю, при мне и останется! Ты скажи лучше, почему свадьба была в Зеленицах, а не в Дубравце?
— Так ведь род Бежановых оттуда. Это уже потом Лалю перешел в дом к Диме, когда Зеленицы выселили из-за водохранилища…
Что-то молнией блеснуло перед глазами, осветило непонятное — и все встало на свои места… Конечно же, Лалю Кожух! Тот самый долговязый детина, который показался тогда на пороге маленькой комнатки… А девушка, которую любил мой отец, — это Дима-продавщица…
Через полчаса от сердца благодарю за все Хромого, щедро расплачиваюсь с корчмарем и выхожу на площадь, так и не прикоснувшись к роскошной еде…
Мне надо, просто необходимо поговорить с Димитриной, но в это время в магазине полно народу, поэтому надо немного подождать. Напротив магазина — маленькое, холодное, как собачья конура, помещение сельской библиотеки. Меня встречает полная щекастая девица, налитая и румяная — видно, с самого рождения много ест вкусной и жирной сельской еды. Она смотрит на меня, выпучив круглые глаза, и не знает, как мне угодить. Если не ошибаюсь, это и есть дочка кмета, о которой давеча шла речь (и у которой в самое неподходящее время свело в животе…). Я, наверное, первый читатель, заглянувший сюда за все зимние месяцы. Хватаю с полки первую попавшуюся книгу и сажусь к окну — чтобы видеть магазин, а девицу прошу не беспокоиться. Она взволнованно смотрит на меня и мечтательно вздыхает. Бедняжка, ее можно понять — она лет пять назад кончила школу, а холостяков в Дубравце мало, да и те гроша ломаного не стоят. «Слова толком сказать не могут, — жалуется библиотекарша, — уставятся на тебя, как перекормленные телята, и говорят гадости или ругаются, кто лучше — ЦСКА или Левский Спартак…»
Из магазина гурьбой вышли пять старушек. Я вскакиваю, девица умоляет взять книжку, чтобы она могла записать ее в формуляр, а то ведь никто не берет! Я благодарю, обещаю прийти как-нибудь в другой раз — и мчусь прочь.
Если парикмахерская Христо Хромого — это читальня и агитпункт, где сельчане-мужчины узнают местные новости и спорят о мировой политике, то магазин Димитрины — это место, куда каждая уважающая себя сельчанка должна хоть раз в день заглянуть. Мужчины бывают здесь редко — купят сигареты, спички — и до следующего раза. Женщины же часами стоят у деревянного прилавка, скрестив руки под передником, и в который раз оглядывают застекленные и открытые полки с пестрыми коробками конфет и локумов, аккуратными стопками тарелок, тканей, ножей, резиновых цервулей[10], суют нос в кадушки с брынзой и мармеладом, ругают мужчин за треклятое пьянство, интересуются, когда поступят новые товары, жалуются на вечные болячки, хвалятся детьми и внуками и не уходят, пока не узнают все сельские сплетни. А Дима точно может сообщить, чей муж засиделся дольше всех в корчме, из-за чего ругаются соседи и родственники, как двигаются дела в общинном совете. Тут обсуждают и критикуют управленцев-чиновников, дают рецепты, как готовить пироги, как содержать животных и выращивать овощи, как лечить всяческие болезни, выясняют моральное и материальное состояние каждого дубравчанина и определяют — кому помочь, а от кого и отвернуться вовсе.
Крепкая, смелая женщина Димитрина. Мне рассказали, что несколько лет назад, натерпевшись пьяных скандалов мужа, она так отделала его коромыслом, что он ни сесть, ни встать не мог, а потом вытащила его на всеобщее посмешище из дома и пригрозила, что ноги и руки ему переломает, если посмеет еще хоть раз переступить порог ее дома. После этого Лалю Тотев из рода Бежановых окончательно спился и стал жить в маленьком чулане, пристроенном к колхозному свинарнику.
Я остановился на пороге магазина и глазам своим не поверил — внутри толпится еще целый взвод кумушек. Увидев меня, они замолчали, снисходительно поглядели в мою сторону и освободили путь к прилавку — дескать, бери, что хочешь, и мотай отсюда. Но меня это не смутило — я оглядел их всех по очереди, некоторым кивнул, с некоторыми — знакомыми — поздоровался за руку и не спеша подошел к Диме. Смотрю на нее и думаю — значит, вот кто была невеста на свадьбе в Зеленицах!.. Невеста, которая плакала в маленькой комнатке и просила меня позвать отца… я очень смутно помню, как она выглядела тогда, но, наверно, была красивой, потому что и сейчас у нее стройная ладная фигура и черты лица мягкие, правильные. Как бы объяснить ей, что мне нужно поговорить без свидетелей? А, была не была — подхожу, здороваюсь и прямо, без обиняков, прошу ее спровадить куда-нибудь бабушек, потому что есть разговор. Бабушки явно злятся и готовы меня самого выставить отсюда, но Димитрина очень тихо, вежливо просит их разойтись, и так уже пора закрывать. Через минуту мы остаемся одни, Дима закрыла дверь и встала за прилавок. Помолчали. Она внимательно смотрит на меня большими карими глазами — и я решаюсь.
— Я вспомнил… Догадываешься — о чем?
— Откуда же мне знать, о чем ты вспомнил.
— Об одной свадьбе в Зеленицах двадцать один год назад… Было это в сентябре… Невеста все время плакала — очень красивая была невеста… А я спросил у одной женщины, почему все веселятся, поют, танцуют, а невеста плачет, а она мне ответила — чтобы люди не подумали, что ей очень хочется поскорее расстаться с девичеством — такой обычай был… А потом эта самая невеста привела меня в какую-то маленькую комнатку и попросила позвать отца. Он пришел, обнял ее, и тогда на пороге вырос какой-то худой, костлявый человек, про которого я позже узнал, что он бывший лесничий… Так было или не так?
К остекленной двери снаружи снова подошла какая-то бабка, стала стучать, показывать на пустую бутылку от лимонада, которую держала в руках, губы ее энергично двигались — как у рыбы в аквариуме. Небось вспомнила, чертовка, что надо купить подсолнечное масло, уксус или еще бог его знает что… Дима безучастно смотрела на нее, потом вышла из-за прилавка и открыла дверь в подсобку:
— Пойдем туда. Эти бабы не оставят нас в покое.
Склад снизу доверху был наполнен ящиками, мешками, цинковыми ведрами, грудами пустых бутылок. Остро пахло рассолом, соленой рыбой, керосином и южными приправами. Здесь было не теплее, чем на Пределе в это время года. В углу стоял какой-то колченогий плетеный стол и два поломанных стула, а у стены примостился узкий топчан, застланный грубым потертым одеялом. Дима достала откуда-то тряпку, вытерла один из стульев и пригласила меня сесть. Потом спросила — хочу ли я чего-нибудь выпить. Мне, честно говоря, хотелось только крепкого горячего чая, потому что, попав в этот холодный чулан, я почувствовал, что меня продолжает лихорадить. Но Димитрина держала в руках дешевое бренди. Я помог ей откупорить бутылку, она налила себе половину рюмки и единым духом, по-мужски опрокинула ее. Увы, в Дубравце пьют и мужчины, и женщины.
— Ты сам вспомнил об этой свадьбе или тебе кто-то рассказал?
— Сам. Вообще-то, я все время помнил о ней, но не придавал этому особого значения. Думал — так, детские воспоминания.
— Сколько тебе лет сейчас? — с интересом спросила она.
— Двадцать восемь.
— Значит, тогда тебе было всего семь… Ну а если ты ошибся и невеста была другая, не я?
— Это легко проверить по регистрационным книгам в общине.
— Да, это верно, проверять не надо — моя свадьба была. Что еще ты хочешь знать?
Я помолчал несколько секунд, потом медленно и твердо произнес:
— Я хотел бы узнать, когда и как ты познакомилась с моим отцом.
Она поглядела на меня этак снисходительно, как взрослая на ребенка, улыбнулась, а глаза грустные-грустные…
— Я, когда окончила школу, пошла работать в лесничество, делопроизводителем. Молодая была, а Герасим — такой красивый мужчина… Перед ним ни одна бы не устояла. Он был одинокий, счастья не знал…
— И Лалю работал в лесничестве?
— Да, и он.
— Отец выгнал его из-за тебя, верно?
— Что за глупости! — Она откинула голову назад и засмеялась — а смех делал ее моложе лет на десять, не меньше. — Лалю брал взятки у пастухов, нарушал закон — пускал сельчан рубить дрова в лесничестве. За это твой отец его и выгнал.
— А потом?
— Что — потом? Мы с Лалю поженились и зажили…
— Через четыре дня после вашей свадьбы кто-то застрелил моего отца!
— Уж не думаешь ли ты, что это сделал Лалю? — Она старалась говорить спокойно, но с каждым словом голос ее делался все напряженнее.
— Не только думаю, но уверен в этом! И ты знаешь, что это правда!
— Болтай побольше! Следствие доказало, что это сделали какие-то посторонние браконьеры. И мужа моего проверяли — думаешь, не проверяли?! — но они подтвердили, что он не виноват. Через два дня после свадьбы он пошел работать в шахту, и сто человек подтвердят, что он все время был там!
— Не верю я следствию! Ничего они не могли определить! Возле отца нашли отстрелянную гильзу от итальянского карабина. Такой карабин был у твоего свекра! Где он теперь, а?
— Господи Боже мой, что тебе надо от меня?
— Чтобы ты помогла найти карабин! Из него всего за один год убили трех муфлонов, и ты мне скажешь, у кого я должен искать этот проклятый карабин! Хотя бы ради отца!.. Ведь ты же любила его!
Я поглядел на нее и испугался — лицо ее снова стало лицом стареющей, да к тому же и пьющей женщины, а по одутловатым щекам текли обильные мутные слезы…
— Мне не стыдно признаться в этом… — Она встала, отошла в угол, где стояло что-то вроде старого комода, достала оттуда большую мятую фотографию, с тоской посмотрела на нее и передала мне. Я поглядел — и глазам своим не поверил: передо мной был отец, сидевший на коне, моем любимом коне, которого он всегда привязывал к большому ореху перед домом бабушки Элены (а я прыгал вокруг и умолял подсадить меня в седло…). Отец был молод и красив, счастливо улыбался и прижимал к себе хрупкую юную красавицу с длинными русыми косами. Девушка сидела на седле боком, смотрела прямо в объектив, и в глазах ее сияли любовь и радость… Дима отняла у меня фотографию, осторожно разгладила ее на колене и продолжала смотреть на нее долго-долго.
— Я тогда так хотела стать тебе второй матерью, но… как-то вечером, когда я шла домой, меня в лесу подкараулил Лалю и сгреб под себя насильно… — Она закрыла глаза и вся затряслась от отвращения. — Не могла я после этого вернуться к твоему отцу… Что мне оставалось? Только выйти замуж за этого негодяя… А Герасим так и не понял, почему я оставила его…
— Лалю знал, что у тебя с отцом любовь?
— Знал… Он потом признался, что изнасиловал меня нарочно, чтобы отомстить Герасиму…
— Значит, если бы ты не таилась и не выходила замуж, отец до сих пор был бы жив? — Я едва заметил, что кричу не своим голосом. Лицо Димы болезненно сморщилось, она наклонилась вперед и тоже повысила тон:
— Неужто ты не понимаешь?! Не могла я вернуться к Герасиму после того, что это животное сделало со мной!
— Но ты могла и не выходить замуж за это животное!
— Да что ты знаешь про жизнь?! Мне страшно было оставаться одной, потому что я тяжела была…
Она вдруг испуганно закрыла рот ладонью.
— О Господи, Пресвятая Богородица, что же это я болтаю…
— Но тогда выходит, ты с Лалю давно была, задолго до свадьбы?
— Нет. Я понесла от отца твоего…
Во время занятий боксом я только однажды пережил настоящий нокаут. Это случилось неожиданно, когда я был совсем не готов к этому: молния перед глазами, колени мягкие, как вата, а в голове гулко, как в пустой бочке. Вот точно такое же чувство я испытал и сейчас. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя и совершенно чужим от волнения голосом спросить, что стало с ребенком моего отца… Димитрина медлила с ответом, а потом с закрытыми глазами ритмично, как маятник, задвигалась вперед-назад.
— Это не для твоих мужских ушей, но скажу… Выкинула! Нет-нет, Лалю после свадьбы и не коснулся меня, я не дала… Я выкинула, когда Герасима привезли в лесничество окровавленного, холодного… Потом не помню, что было, я долго не видела и не слышала ничего…
Она снова заплакала, у меня не было сил перенести этот тихий вой, я уж хотел прикрикнуть на нее, но она замолчала и так нехорошо, злобно осклабилась:
— А этого скелета я ни разу так и не подпустила к себе — в наказание…
Она снова налила бренди, залпом выпила, из-под темной косынки выбились ее седеющие кудри, и то, что я услышал дальше, едва не свело меня с ума от стыда и жалости к этой несчастной:
— Я так хотела отомстить треклятому и зачать от кого-то другого, но судьба наказала меня бесплодием… Я кидалась на мужиков как озверелая сучка, сколько их у меня перебывало — вот здесь, на этом топчане! Но все бесполезно, так я и осталась одна, без дитя…
Я взял шапку и пошел к выходу.
— А Лалю ты не трогай… — услышал я сзади. — Всю жизнь я мстила ему, хватит с него. Муфлонов, может, он и бил, но отца твоего уложил свекор!
Корчма полна дубравецких охотников — все гуляют на деньги, вырученные за убитых собак. Корчмарь быстро и ловко разносит ракию, вино, закуски, стоит невообразимый гам, где-то уже, обнявшись, поют песни. В углу сидят Дяко и кмет, поодаль от них — Митьо с дружками. Скользнул по мне злобным взглядом, отвернулся и продолжает разговор. Дяко машет мне рукой — иди к нам! Какой-то полупьяный дядька по дороге пытается объяснить, что и сегодня вечером автобус не придет в Дубравец. Я здороваюсь, сажусь, и кмет, отпивая ракию маленькими глотками, с ходу начинает жаловаться, что эти чиновные крысы из АПК из-за плохой погоды опять не присылают фураж для личных хозяйств. Дяко о чем-то спрашивает меня, я пожимаю плечами, отвечаю невпопад. Меня лихорадит — видно, опять высокая температура, язык ворочается с трудом. Я оглядываю всех собравшихся и наконец вижу того, кто мне позарез нужен: Лалю стоит на пороге, улыбается, кивает всем, ноздри у него дрожат от знакомых запахов вина и жареного лука.
— Закрывай дверь, Кожух! Что стоишь, холод пускаешь!
Лалю толкает плечом дверь, неверной походкой пробирается меж столами и все ищет, к кому бы пристать, но люди знают, что он за птица, и делают вид, что не замечают его. В какой-то момент он натыкается на меня взглядом и смотрит долго, пристально. И я смотрю на него с растущей яростью — но я знаю, что еще рано хватать его за грудки. Кмет дергает меня за локоть, дескать, оставь ты его, знаешь же — ты ему одно слово скажешь, а он тут же прилепится к тебе, будет смотреть просящим взглядом, льстиво улыбаться, пока ты не поставишь ему. А выпьет — и сразу становится злым как собака, и ругается, и в драку лезет… В общем, дрянь каких мало.
Через два стола от нас Митьо и Христо Хромой затеяли спор — чей кабан потяжелее будет, и так увлеклись, что не заметили, как Кожух подкрался к ним.
— Ты чем его кормишь? Чем кормишь, я тебя спрашиваю?! — Хромой почти упирается острым подбородком в лицо Митьо.
— До ноября ячменем!
— Тогда можешь поцеловать меня в то же самое место! После сентября ячмень жухнет!
— Тогда спорим! — горячится Митьо, но я вижу, что пыл у него постепенно проходит и он все чаще поглядывает на меня. — Мой поросенок не меньше ста пятидесяти кило потянет!
— Правильно говорит Митьо, — вставляет Кожух и смотрит на Митьо с собачьей преданностью. — Я видел его кабанчика, здоровый кабанчик!
— А мой сто шестьдесят будет! — стучит по столу брадобрей.
— Точно, точно, будет сто шестьдесят! — усердно кивает Кожух. — И твоего я видел — агромадный, черт! У бай Христо не глаза, а весы…
Митьо смотрит на него тяжелым взглядом, шепчет ему что-то на ухо, потом поворачивается к корчмарю:
— Дай и ему бутылку!
Корчмарь приносит Кожуху литровую бутыль вина, тот цепко хватает ее, становится у печки и пьет — долго, жадно, ни на что больше не глядя, ничего больше не слыша. Через полчаса, раскачиваясь в стороны еще больше, он снова подходит к двери, снова толкает ее плечом — и тонет в глубине снежного вечера. Я быстро встаю и бегу за ним следом, не беспокоясь о том, что подумают обо мне дубравецкие охотники…
Я настиг Кожуха за оградой сельской церкви. Он оперся о решетку, голова упала на грудь, и вид У него такой, будто он погружен в глубокие размышления. Что-то он пытается сказать мне, но язык не слушается его, и пока выходит одно лишь мычание. Потом он с трудом отрывается от ограды, делает несколько шагов и снова останавливается, ему, по всему видно, хочется сказать что-то важное, он набирает в грудь воздух, подымает руку и кричит что есть мочи в лицо всему свету:
— А я что? Свинья, а?! Свинья или человек?!
Я молчу, и все вокруг молчит. А так как его вопрос остается без ответа, он снова опускает голову и тихо бормочет, так тихо, что я с трудом понимаю его, — вот, мол, люди сидят сейчас по домам, смотрят телевизию, горячую ракию пьют, и всем им наплевать, что в какой-то вонючей конуре, в свинарнике живет какой-то там Лалю, а свиньям хуже всего под Коляду, когда их колют, а людям — когда они остаются одни, это человечья коляда, и тут люди и животные похожи…
Кожух замолк и, шатаясь, двинулся по кривым улочкам к окраине села, где темнели низкие постройки колхозного свинарника. Я стараюсь тихо ступать ему в след, и тут странная мысль приходит мне в голову — вот так же двадцать один год назад отец этого отребья тайком шел за моим отцом, настиг его и выстрелил ему в спину…
Минуту-другую Кожух постоял у скособоченной двери небольшой пристройки к свинарнику, откуда слышно было глухое похрустывание и скулеж, потом толкнул дверь и вошел. Я дождался, пока в маленьком окошке, похожем скорее на дырку в стене, блеснул огонь, набрал побольше воздуха в грудь и, как в глубокий поток, шагнул в вонючий чулан…
Лалю стоял у ржавой печки, прижимая к груди охапку сухих стеблей и листьев кукурузы, и глядел на меня с изумлением. То ли от хождения по улицам в морозную ночь, то ли от внезапного моего появления, но он явно протрезвел, взгляд стал более осмысленным, и где-то на самом дне глаз пробежала тень надвигающегося страха. Насовав в широкое горло печки топливо, он стал лихорадочно хлопать себя по драным карманам грязной спецовки — видно, искал спички. Нашел какую-то помятую коробку, дрожащими пальцами зажег спичку, поднес к печке и долго глядел, как разгорается пламя. Потом резко захлопнул дверцу печки и хриплым голосом произнес:
— В гости, значит… А ракию принес, раз приперся в такое время?
У меня не было времени объясняться с ним по поводу ракии, скоро девять, и моя лихорадка усиливается. Я шагнул к нему, схватил за ворот его грязной спецовки (две пуговицы немедленно отлетели) и громко, внушительно произнес:
— Сейчас я спрошу у тебя кое о чем, а ты мне скажешь все! Все, что знаешь! Как сказал бы на исповеди!
Его хилое, иссушенное тело отчаянно билось в моих руках, глаза от ужаса стали круглыми и безумными и готовы были выскочить из орбит… Я швырнул его на узкий деревянный топчан, а он, негодяй, еще попытался наброситься на меня, но я легким ударом оттолкнул его назад.
— Я убью тебя, если ты хоть что-нибудь скроешь, гадина! Ну? Будешь говорить?! Один, два…
У меня в руке появился пистолет. Кожух застыл, лицо его побелело, и, глядя на дуло, он стал мелко дрожать.
— Я скажу, скажу тебе все, Боров, ты только не думай, что я виноват…
— Хватит вилять! Вот тебе бумага и ручка — пиши! Пиши немедленно все, что знаешь.
— Но… но я… это…
— Пиши, с каких пор и откуда у тебя появился итальянский карабин, где ты его скрывал, сколько муфлонов убил из него! Ну?!
И он начал с трудом царапать по бумаге. При свете коптилки я едва различал его кривые буквы. Вскоре я уже мог из-за его плеча прочесть и про карабин, и про муфлонов, и про то, что продавал их головы Митьо и за каждую получал сто левов…
— Это все? — Глядя на меня все с тем же страхом, Кожух протянул мне испачканный грязными руками листок.
— Нет, не все! Сейчас ты напишешь, кто тебе велел стрелять в меня!
— А-а, а вот этого не будет! — отпрянул он, но я погрозил ему кулаком. — Да ты чего от меня хочешь, а? На виселицу хочешь меня отправить?
— А ты зачем стрелял в меня?
— А ты никогда этого не докажешь!
Я знал — не докажу. Но припугнуть попробую.
— Еще как докажу! Я подобрал дробь, которая попала в дерево. Есть люди, которые сумеют доказать, что это из твоего ружья.
— Ерунда! — Кожух впервые за все это время осклабился и нагло выставил свои гнилые зубы. — Ты что, за дурака меня держишь? Дробь для всех винтовок одинаковая, а дула — гладкие. Ты скажи спасибо, что я только припугнуть тебя хотел!..
Мне еле удалось удержаться, чтоб не избить его до полусмерти. Я снова схватил его левой рукой за шиворот и рванул к себе, а правой приставил пистолет к груди.
— Значит, припугнуть… А Герасима Борова кто убил? Говори, дрянь!!! И не пытайся выкручиваться! Ну?!
Кожух застонал, заскулил и рухнул на стул.
— Не убивал я его, Боров, вот те святой крест — не убивал! Клянусь памятью матери — другой это сделал!
— Кто?! Кто?! Говори же!!!
— Отец мой… — Губы у Кожуха стали покрываться серой пеной. — И карабин его…
— Где? Где карабин?
— Там… — и он мотнул головой в угол, где были свалены какие-то грязные, трухлявые мешки. Я разрыл ногой кучу хлама, но там ничего не оказалось. — Под досками, под досками смотри…
Я с отвращением взялся за две шаткие доски и поднял их. В зияющей неглубокой дыре лежал итальянский карабин. Вот он, наконец-то! Я держал его обеими руками, он был тяжелый, такой тяжелый, что у меня едва выдерживало сердце… Железные части проржавели, ложе и приклад были изрешечены дырками, краска давно стерлась.
— Отец признался мне только через десять лет, перед смертью, — тихо хлюпал Кожух. — А я любил Герасима, хочешь верь, хочешь не верь! Если бы я его не любил, взял бы я Диму? Она же понесла от него, а я ее взял в жены… Разве бы я…
— Шагай! — Я подтолкнул его к двери. — И не вздумай бежать! Тут же уложу!
Кожух зашатался и с трудом переступил порог. Мы пошли обратно в село. Светлая декабрьская ночь продолжалась. Я тащил его в общинский совет, там он будет под присмотром, а то, глядишь, выстрелит в себя или, например, повесится, и будет у меня на совести его смерть. Я смотрел на его костлявую, хилую согбенную фигуру и — да, да! — жалел эту кучу дерьма. Вместо удовлетворения я испытывал нечеловеческую тоску, мне хотелось поднять вверх голову и волком завыть в небо… Меня уже трясло так, что я едва удерживал в руках карабин…
VII
Утром следующего дня Дяко рассказал ребятам из охраны о моих «подвигах». Я ожидал увидеть радостные лица — еще бы, наконец-то закончилась история с истреблением наших муфлонов! Но все молчали и виновато глядели на меня. Что-то зацепилось в сознании — отведенные в сторону глаза, жалкие улыбки… Но сейчас додумывать нет сил и неохота — потом… А Митьо нет. Видно, узнал о задержании Кожуха, не вышел на работу и, скорее всего, скрылся где-нибудь в укромном месте. А мне бы надо встретиться с ним и посчитаться…
Вторая новость сразила меня наповал: Марина! На скорую руку сложила свои вещички, оставила заявление об уходе и дунула в город на грузовике лесничества. Да-а, перехитрила и опередила меня эта женщина. Я спросил у Дяко, как воспринял поступок жены Васил. А никак! Дрыхнет как убитый, его и добудиться невозможно — он вчера пил целый день до позднего вечера. Совсем от рук отбился, пора бы тебе как начальнику — Дяко сдвинул брови — сделать что-то, чтобы прекратилось это безобразие… Да, ты прав, милый мой Дяко, я сделаю, я такое сделаю, что никому и не снилось, но прежде я должен остаться один. Не хочу ни с кем прощаться, потому что это будет похоже на плохой театр. Официальные «грустные» прощания мне вообще не по вкусу. Сейчас я дам охране самое легкое задание, Дяко поведет ребят, они проведут в центре заповедника час-другой, но именно это мне и надо…
Я подождал, пока они ушли, и поднялся к себе в комнату. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы запихнуть в спортивную сумку то, что мне будет нужно на первое время, — бритву, две рубашки, пуловер, кое-какое белье… А что делать с остальным?
Запихиваю в гардероб полушубок, кожаную куртку, сапоги, оглядываюсь вокруг и спускаюсь вниз. Вряд ли я еще вернусь сюда…
Гай, увидев меня, радостно прыгает и рвется с цепи, но я стараюсь не смотреть на него — совестно. Вывожу из-под навеса свой собственный старый раздрызганный «москвич», делаю плавный разворот по двору — и врезаюсь, как вихрь, в глубокий снег дороги. В машине холоднее, чем снаружи, металлические части совершенно ледяные. А вот и водохранилище… Пересекаю узкую дамбу, и задние колеса едва не тонут в воде… Этого еще не хватало, надо быть поосторожнее. Пошли подъемы и спуски, дорога идет через перевалы, над пропастями и скалами, чуть зазеваешься, пропустишь поворот — и готово, летишь с невероятной высоты, потом бум! — взрыв, клубы пламени, и — здравствуй, святой Петр…
Я действительно едва не пропустил крутой поворот — завозился с трескучим приемником — и очень четко представил себе, что было бы, если бы… Откуда такое воображение? Разумеется, это все кино.
Треклятое кино дает рецепты на все случаи жизни — можешь представить себя в виде погибающего героя, отвергнутого любовника, вождя и учителя и бог знает еще кого…
Давно ко мне не являлась моя пантера… Но стоило мне вспомнить о ней, как на дороге показалось гибкое черное тело, она, видно, замерзла и медленно шла ко мне, поблескивая зелеными глазищами. Делать нечего — я пустил ее в машину, она разлеглась на заднем сиденье и, согревшись, стала рассуждать, что до сих пор не пробовала мясо муфлонов, а оно, говорят, повкуснее овечьего…
Мы подъезжали к городу, движение стало более оживленным, пахло бензином, то и дело попадались шумные толпы, с балконов падали на тротуары плохо закрепленные вазоны с цветами… Пантера, как и я, не любит город, не зря же она — детище моего собственного воображения…
Я припарковался возле автовокзала, отворил заднюю дверцу — прошу! Людям я наверняка казался сумасшедшим, но они, честно говоря, мало интересовали меня. Пантера медленно вышла из машины, махнула лапой на прощание, с интересом поглядела на меня и пропала в толпе. Мне было грустно — наверно, я видел ее последний раз…
Я закрыл машину и только тогда понял, что я действительно в городе. Возбужденная толпа куда-то тянула меня за собой, я глох от шума и никак не мог понять, почему люди смотрят на меня так пристально и подозрительно. Оглядев себя с головы до ног, я понял, в чем дело, — ведь я нес под мышкой узел из овечьей шкуры, из которого торчало ржавое дуло итальянского карабина…
Итак, наступило время сжечь за собой мосты, назад дороги нет. Я оторвал от себя пантеру, скоро расстанемся с Генчевым, а сегодня вечером или завтра утром мне предстоит встреча и прощание с Надей… Я попрошу Генчева, чтобы разрешили мне оставить при себе карабин хотя бы на одну ночь. Я смогу убедить его, что не собираюсь никого убивать. Просто… после долгой разлуки к любимой идут с букетом цветов, а я приду с карабином… Конечно, не для пустого эффекта в слезной сентиментальной сцене — я просто хочу объяснить Наде свое поведение за последние годы. Другой вопрос — захочет ли она понять меня. И все же — если у нее хоть что-то осталось от прежнего, если там, у этого проклятого «Очарования», она была искренна — Боже мой, а вдруг, можно начать все сначала?..
Через десять минут я уже в управлении, сдержанно отвечаю на приветствия коллег и спешу к Генчеву. Слава Богу, шеф в кабинете один.
Он поднимает глаза, и я вижу в его взгляде не только удивление, но и — очень странно! — радость.
— Привет, Боров! Только что звонил с базы Дяков, там волнуются, никто не знает, куда ты подевался. Ну, садись, я уже все знаю!
— Вот как? Кто же вам рассказал?
Я положил узел на стол, и, пока я стаскивал с себя теплый плащ, Генчев нетерпеливо разворачивал шкуры.
— Это неважно — знаю, и все. Я звонил тебе недавно, но тебя уже не было… Это тот самый карабин, да?
Он вертит его в руках и внимательно разглядывает.
— Надо же — трех муфлонов нам стоило это старое железо…
«И жизни моего отца», — произношу я про себя и сажусь за длинный, покрытый зеленым сукном стол.
— Будешь пить кофе?
— Можно… Но прежде у меня к вам просьба… Я бы хотел, чтобы этот карабин на одну ночь остался у меня. Только не спрашивайте зачем.
Шеф внимательно смотрит на меня, заказывает по селектору два крепких кофе, потом внезапно наклоняется и хлопает меня по плечу:
— Ладно, потом поговорим об этом. А теперь рассказывай!
И я рассказываю ему все, начиная с Марины и тайника в Чистило, потом про Митьо и выстрел в меня, — что скрывать, ведь все уже завершилось. Под конец описываю задержание Лалю и вынимаю из кармана несколько исписанных листков бумаги. Два из них откладываю в сторону — для них время еще не пришло. Остальные отдаю Генчеву, он читает, и лицо у него делается встревоженным. Приносят кофе. Молчим. Потом он спрашивает, нет ли еще чего.
Закуриваю, выдерживаю паузу и…
— Нет, не все, есть более неприятные вещи… Лалю Тотев убивал муфлонов и за сто левов продавал головы и рога Митьо, а тот в пять раз дороже продавал их…
— Кому? Кому продавал?
— Он сам вам скажет — должен будет сказать. Кстати, несколько дней назад я случайно наткнулся на одного из его клиентов. Помните, я в субботу вечером был в дачной зоне?
— Конечно, помню… — Лицо у Генчева посерело.
— Помните, надеюсь, и то, в чью дачу влезли собаки?
— Да, помню… — Несчастный шеф, чтобы скрыть смущение, опустил голову над чашкой и стал медленно глотать горячий кофе.
— Так вот — на этой даче я видел рога муфлона, который был застрелен весной. Очень красиво они выглядят на стене!
— Знаю…
— Что вы знаете?
— Знаю, что ты видел там рога муфлона…
От неожиданности я чуть не захлебнулся кофе. Смотрю на шефа во все глаза.
— А… кто вам рассказал?
— Твоя бывшая жена.
Я онемел. Не верю, не могу поверить…
— Она пришла ко мне сегодня утром. — Генчев прячет от меня глаза. — Сама пришла…
— Зачем? — Я едва узнаю свой собственный голос.
— Она просила… просила не разглашать, что ты видел рога на даче. Все-таки дача принадлежит… ну, ты знаешь, кому она принадлежит! Надя сказала, что она уже уладила с тобой эту проблему…
Мне показалось, что чья-то рука в перчатке крепко ударила меня по подбородку — потолок кабинета взметнулся вверх, а лицо Генчева поехало куда-то далеко назад и стало совсем маленьким.
— Она… сама… пришла или ее послали? — Я едва собрал силы, чтобы задать этот очень важный для меня вопрос.
— Об этом не было речи. Конечно же, сама…
Наше молчание длится целую вечность. Наконец я все-таки прихожу в себя — надо кончать затянувшуюся историю.
— Что же вы теперь собираетесь делать?
— А ты что бы посоветовал?
— Не знаю. Это ваше дело. Я доложил вам обо всем. А это… — и я кладу перед ним последний листок.
— Что это? А… Заявление об уходе?
Генчев вертит его в руках, потом кладет на стол. Он не кричит, не грозит порвать заявление и послать меня куда подальше. Наоборот, он осторожно гладит рукой мятый листок…
— Значит, вот как… Ты подаешь рапорт, где выдвигаешь против высокого начальства обвинение в браконьерстве, потом суешь мне заявление об уходе, потому что это не твое дело и тебя не интересует, что будет дальше! Ты — в кусты, а Генчев пусть ломает на этом свои старые зубы, так?!
— У меня нет другого выхода…
— Нет, говоришь? Забросал меня бумажками и бежишь как заяц? Ну, хорошо же! Беги! Но прежде я тоже покажу тебе кое-что!
Первое, что я вижу, — его собственный рапорт в министерство и окружной совет. Описано все подробно (наверно, от Нади узнал многое), и в конце поставлена его подпись. Ай да Генчев! А я-то думал, что он обыкновенная чиновная крыса, которая зубами и ногтями держится за свои привилегии…
Вторая бумага — официальное письмо на бланке, в котором требуют, чтобы мы высказали свое мнение по поводу отчуждения пятидесяти декаров от территории заповедника для постройки дач. Пятьдесят новых дач по одному декару земли… Указано даже, где будет строительство: они хотят захватить угол между концом водохранилища и Лисьими норами, на склоне горы. Самая прекрасная земля — я так и знал… Там еще сохранились старые запущенные сады, небольшие поля и луга с травами, где мы собираем корм для дичи. Теперь у нас хотят это отнять, и самое страшное — в конце письма стоит подпись того самого всезнающего, всемогущего владельца «Очарования». Он, видно, решил всю свою власть употребить и узаконить появление пятидесяти лисьих нор в сердце заповедника…
— Ну? Что скажешь? Согласимся?
Я смотрю на Генчева и начинаю истерически хохотать, а у самого на глазах наворачиваются слезы. Боже мой, какими же ничтожествами кажутся мне сейчас разные Лалю Кожухи и Митьо по сравнению с этими браконьерами высшего эшелона, сидящими на своих дачах с венецианской мозаикой, песком, навезенным из другой страны, и рогами убитых муфлонов! Вот они встают из дачной зоны над водохранилищем, протягивают свои длинные алчные ручищи, отрывают один за другим лучшие уголки заповедника и копаются в моем сердце, чтобы и его разорвать на куски…
— Ну, говори же, наконец, чему смеешься?
Я смотрю на Генчева и будто вижу его в первый раз, вскакиваю и сильно бью его по плечу — наверно, у меня и вправду вид ненормального, потому что он с осторожностью отступает слегка назад.
— Конечно же — нет! Не соглашаться ни в коем случае!
— Но ты, надеюсь, понимаешь, что это письмо — пустая формальность. Этот тип атакует с помощью гораздо более высоких инстанций…
— Да, знаю, знаю, что он дьявол! Но что с того? Мы встречались с дьяволами и пострашнее на Пределе, верно, шеф?!
Хватаю плащ и бегу к двери.
— Да погоди ты, черт тебя возьми! Кто напишет про наше несогласие? Ты ведь знаешь, что я не очень-то силен по письменной части…
— Я напишу, не беспокойся! Так напишу, что ему зубки-то обломают!
Уже у двери слышу:
— А карабин почему не взял? Он же нужен был тебе…
— Не нужен он мне больше, оставьте его себе, дорогой мой шеф…
Надо пересечь шумную магистраль, проделать сложный слалом по улицам, переполненным людьми и машинами, чтобы попасть на другой конец города, к дому Васила — я был у них раза два и помню, где это. Открываю калитку во двор, спрашиваю какую-то старуху, где можно видеть Марину, и не получаю никакого ответа, будто я столб или стена. В глубине двора мотается еще одна бабка, и тут из двери дома быстро выходит Марина с чемоданом, смотрит на меня как на привидение, я хватаю из ее рук чемодан и бросаю, что мне надо поговорить с ней, она лихорадочно оглядывается по сторонам и быстро шепчет: «Не здесь…» Мы идем к калитке, а сзади обе бабки провожают нас ругательствами и заклинаниями…
И вот мы у моей машины, я спрашиваю, почему она уходит.
— Это его дом.
— Хочешь, я отвезу тебя куда-нибудь?
— Да, на вокзал.
Я сажусь за руль, открываю дверцы «москвича», и Марина, чуть помедлив, опускается рядом.
— Ты уезжаешь?
— Да, я ведь не софиянка…
Вокзал недалеко, но мне так хочется побыть с ней, и я выбираю самый длинный путь.
— Сколько осталось до твоего поезда?
— Он уходит завтра утром…
— Но тогда… — я напускаю на себя равнодушный вид, а в горле застревает какой-то комок, — почему бы тебе не провести этот вечер у меня?
Краем глаза вижу: Марина улыбается.
— Только этот вечер? — спрашивает она игриво. Значит, все в порядке — Марина снова Марина.
— Можно и всю жизнь.
— Добрый ты, Боян… Добрый и чуть глупый… — Она кладет мне руку на плечо, нагибается и целует меня куда-то около уха. — Ты такой добрый, что даже страшно, и тебе нужно беречься! Ладно, вези меня к себе…
Поворачиваю и еду домой. Я давно не был здесь. Ввожу «москвич» в свой маленький дворик, открываю дверь холодной квартиры и приглашаю:
— Входи, располагайся. Здесь есть электрическая печка, можешь включить, а я сбегаю в магазин.
Через час я возвращаюсь — и не узнаю своего дома: вымытые изнутри окна зеркально сияют, в прихожей и в коридоре пахнет мылом и порошками, комната блестит, как после ремонта, а в кухне над столом колдует хрупкая стройная женщина с грустным, будто обиженным лицом. Как же много ей пришлось пережить, бедняжке… При виде ее лица у меня от жалости перехватывает горло, и я готов сделать невозможное, чтобы снять с нее эту пелену страха и боли. Марина смотрит на меня и с блестящими от слез глазами крепко обнимает за шею. Я целую ее горячие губы, она что-то говорит — быстро, бессвязно, мы стоим обнявшись целую вечность, и разорвать эти объятия нет сил ни у меня, ни у нее… Потом она все же размыкает руки, умело выкладывает из сумок пакеты, бутылки, через несколько минут на столе роскошный ужин, и рядом Марина — такая, какой я знаю ее и помню в самые лучшие дни на базе. Мы что-то едим, пьем, и она говорит не переставая, рассказывая мне всю свою одиссею, в чем-то оправдывается, за что-то просит прощения, я слушаю плохо, целую ее руки, и мы снова стоим обнявшись посреди кухни, и день переходит в вечер, а вечер падает в ночь.
За окнами уже темно, в домах напротив зажглись огни, я включаю старый приемник и удивляюсь, что он работает после столь долгого молчания. Мы слушаем дивную музыку, Марина нежно прижимается ко мне.
— О чем ты думаешь?
— Не знаю… Мне очень хорошо…
Я целую ее глаза.
— Ты устал? — Она осторожно трогает ладонью мой лоб. — По-моему, у тебя все еще температура…
Я целую ее снова…
…Резкий телефонный звонок будит меня, я вскакиваю и оглядываюсь вокруг. Марины нет, ушла. Но ничего, теперь я знаю, где ее искать. Сейчас семь часов, значит, она уже в поезде. Телефон звонит беспрерывно. Поднимаю трубку и узнаю голос Нади. Он раздается будто издалека, она о чем-то спрашивает меня, я слышу свое имя — но не отвечаю, молча кладу трубку. Все. Подхожу к окну, настежь открываю его, и меня охватывает бодрящий морозец. Я смотрю вниз на белую глухую пелену и глазам своим не верю: сегодня утром здесь пробегала и оставила глубокие следы по пути к далеким силуэтам Старцев и Предела большая черная пантера…
Примечания
1
Каракачаны — народность в Болгарии, живущая в горных районах. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Старинная тюрьма-крепость в Болгарии, куда издавна ссылали врагов царской власти.
(обратно)3
Староста общины.
(обратно)4
Уважительное обращение к старшему родственнику.
(обратно)5
Так обычно в Болгарии называли цыган.
(обратно)6
«Строил Илья келью» — болгарская народная песня.
(обратно)7
Хороводный танец-игра.
(обратно)8
Бор — сосна (болг.).
(обратно)9
Необработанная дубленка, зимняя одежда южных славян.
(обратно)10
Крестьянская шнурованная обувь без каблука.
(обратно)
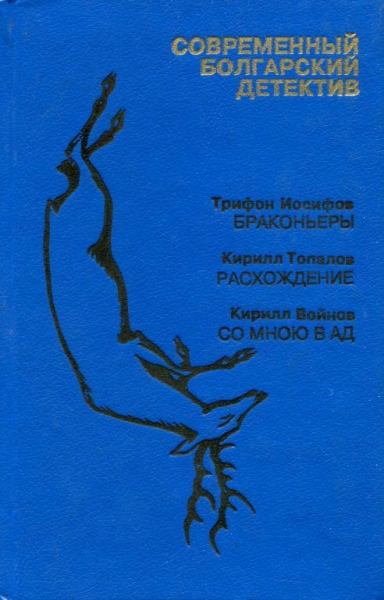


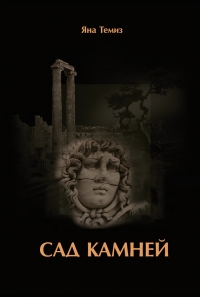



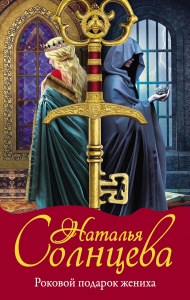

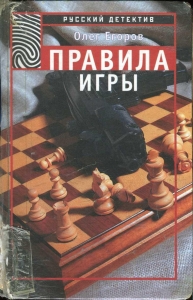

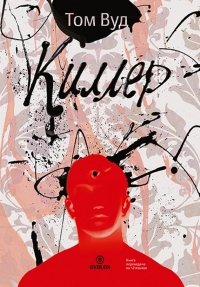
Комментарии к книге «Браконьеры», Трифон Иосифов
Всего 0 комментариев