Валерий Алексеев Назидательная проза
Чуждый разум
1
Научно-исследовательская окраина крупного города.
Бугристый пустырь, через который прокладывается проспект Торжествующей мысли. («На Мысли сходите?» — «Нет, я дальше». — «Тогда не стойте в дверях».)
Длинное голубовато-серое здание Института конкретного счета (ИКС), похожее на развернутый бортом к проспекту авианосец.
Два нижних этажа института заняты электронно-вычислительной техникой, в основном машинами класса «Нега» и «Большой Голубой Идеал». В машинных залах, стены которых обиты белым кожимитом, чуть слышно шипят кондиционеры. Среди серых шкафов основной памяти бродят операторы в сиреневых халатах и марлевых масках. Они курят в рукав и вполголоса переругиваются. На дверях предупредительные таблички: «Тоном ниже!», «Вали отсюда!» и «Может дернуть».
На остальных семи этажах расположились абоненты электронного парка — отделы и группы института. Здесь коридоры отделаны ореховыми панелями под пластик, пол покрыт алым полиэтиленом, на нем в изобилии расставлены желтые и зеленые кресла.
Нас, собственно, интересует третий этаж, где помещается отдел пересчета, руководимый товарищем Никодимовым. Никодимов Борис Борисович, сорока трех лет, — высокорослый, плотный, осанистый, белобрысый мужчина с красным лицом. Одет в черно-серый с блеском элановый костюм. Женат, морально чрезвычайно устойчив. Лицо в данной повести второстепенное.
В отделе пересчета двенадцать групп, каждой группе на третьем этаже отведены одна-две, а то и пять-шесть комнат. Двери комнат двойные, как в лифте, скользящие на магнитных замках, поэтому в коридоре тихо, словно в подземелье. Снаружи на каждой двери горит криптоновое табло с фамилиями сотрудников. Если фамилия погасла, значит, сотрудник вышел прогуляться или покурить. Правда, эти табло в большинстве неисправны и горят постоянно, не выключаясь даже по ночам, когда институт совершенно пуст.
Просторная застекленная галерея соединяет третий этаж института с пищеблоком (ресторан, кафетерий, столовая, отдел полуфабрикатов), который построен во дворе, чтобы запахи съестного не распространялись по этажам института и не влияли на магнитную память машин.
Возле входа в галерею (по правую руку) находится комната номер триста пятнадцать, где работает группа пересчета трюизмов. На табло триста пятнадцатой комнаты обозначены четыре фамилии: Мгасапетов Г. В., Ахябьев Р. А., Путукнуктин В. В. и Фомин В. И.
Мгасапетов Гамлет Варапетович, тридцати пяти лет, старший научный сотрудник, руководитель группы пересчета трюизмов отдела пересчета Института конкретного счета (ИКС), — коренастый, смуглый, тонкогубый мужчина с короткой стрижкой и с маленькими глазами. Одет в тесноватую замшевую курточку и черную водолазку. Женат повторно, но морально довольно устойчив. Деликатен, отзывчив, добр.
Ахябьев Роберт Аркадьевич, двадцати семи лет, младший научный сотрудник группы пересчета трюизмов отдела пересчета Института конкретного счета (ИКС), — бледнолицый, сероглазый, практически лысый (легкий пушок на макушке), высокий мужчина с узкими плечами и большим животом. Одет в голубой свитер крупной вязки и мятые серые брюки. Морально устойчив, но необычайно талантлив. Отличается развитым чувством юмора.
Путукнуктин Всеволод Владиславович, двадцати четырех лет, младший научный сотрудник группы пересчета трюизмов отдела пересчета Института конкретного счета (ИКС), — худощавый миловидный шатен с длинными (до плеч) волосами. Одет хорошо. Женат, застенчив, морально подвижен.
Фомин Владимир Иванович, двадцати восьми лет, младший научный сотрудник группы пересчета трюизмов отдела пересчета Института конкретного счета (ИКС), — невысокий худой мужчина, брюнет, с умеренными залысинами и с глубокими карими глазами. Опрятно одет в коричневый костюм и в рубашку защитного цвета без галстука. Холост, морально выдержан.
2
Стоял дождливый рабочий день примерно в середине лета. Ровно в полдень по всем девяти этажам Института конкретного счета с быстротой молнии пролетела весть о том, что пищеблок, о необходимости которого говорилось на последней профсоюзной конференции, наконец открылся. На ферромагнитную ленту «Большого Голубого Идеала» была тотчас же нанесена соответствующая запись, и самопечатающее устройство этого гиганта мысли проворно отстучало на белом листе: «Слава богу!»
Надо сказать, что здание Института конкретного счета находилось в стадии достройки, и, хотя новоселье было отпраздновано месяц назад, на крыше института еще полным ходом шли остаточные работы по доведению солярия, плавательного бассейна и малой вертолетной площадки.
Пищеблок не считался первоочередным объектом, но нужда в нем была огромная. Поскольку ни одной столовой на проспекте Торжествующей мысли не планировалось, а кушать в основном здании категорически запрещалось, в обеденный перерыв сотрудники института во главе с начальниками отделов выходили на улицу и живописными группами располагались на пустыре для поедания домашних бутербродов.
Пока стояла ясная погода, это было еще терпимо, но вот началась полоса обложных дождей, пустырь превратился в гигантское желтое болото, и положение стало почти безвыходным. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников вынуть из портфеля жареный пирожок, как утонченные «Неги» начинали нервничать, барахлить и жаловаться на отвратительный запах. Не помогали ни двойные двери, ни магнитный запор. Вахтеры и охранники бродили по этажам и мрачно принюхивались, директор института в ежедневных приказах сурово распекал «бутербродников», не помогало и это. В туалетах и в фотолабораториях, в конференц-зале и в типографии — где-нибудь кто-нибудь что-нибудь непрерывно жевал.
Дошло до того, что молодой программист, бормоча: «К черту, к черту!», прямо в машинном зале принялся шелушить воблу, и головная «Нега-15», напечатав на ленте: «Кошмар!», погрузилась в беспамятство. Только тогда руководство института пригрозило строителям, что с них взыщут стоимость пострадавшей машины, и строители засучив рукава за одну неделю довели пищеблок до кондиции.
3
В двенадцать тридцать Мгасапетов, Ахябьев, Путукнуктин, Фомин сложили свои бумаги в папки с прижимными механизмами, посмотрели на табло внутреннего оповещения (там горела обычная надпись: «А если подумать?») и прислушались. В ту же минуту стены и потолочные перекрытия затряслись от топота ног. Это шли на обеденный перерыв сотрудники отдела общего счета.
В институте отдел общего счета находился на особом положении. Именно этот отдел раз в три месяца спускал Предварительную цифру, под которую, хочешь не хочешь, приходилось подлаживаться. Предварительная цифра имела силу закона природы, и на этот счет во всех электронных машинах были установлены специальные ограничители. Какой-то шутник из числа операторов спросил однажды дежурную «Негу», как она относится к Предварительной цифре. «Я ее обожаю», — с достоинством ответила «Нега». На тот же вопрос более мощный и автономно мыслящий «Идеал» отреагировал по-другому. «Помалкивай, парень», — отстучал он на ленте выдачи.
— Ну что ж, друзья мои, — сказал Мгасапетов, и на звук его голоса на табло моментально включилась другая надпись: «Выступай по делу!» Гамлет Варапетович с неудовольствием покосился на горящую надпись, но ничего не предпринял: отключить служебную сигнализацию он мог, но был не вправе. — Раньше чем через полчаса нас не вызовут. Проведем же эти полчаса с пользой.
Гамлет Варапетович сидел за своим столом, на котором, как символ частичной власти, возвышался пульт прямой связи с «Большим Голубым Идеалом» — довольно массивное сооружение, представляющее собой некоторую комбинацию телефонного аппарата и пишущей машинки. На столах у Ахябьева и у Фомина стояли лишь пульты вызова «Неги», ничем не отличающиеся от обыкновенного телефона да, по сути дела, телефоном и являющиеся: набрав определенный номер и позабыв нажать кнопку распределителя, можно было вместо голоса любимой женщины услышать скрипучий ответ горбуньи-«Неги»: «Еще один умник нашелся! Куда без очереди?» У Славы Путукнуктина и такого аппарата не было. Более того: по молодости лет тембр его голоса вообще не значился в картотеке электронного парка, и все свои переговоры с машинами Путукнуктин вел через третье лицо. Это было унизительно, но, в общем-то, справедливо. Право голоса в ИКСе надо было еще заслужить.
— Я слышал, новости есть, — задумчиво проговорил Ахябьев. — Хотелось бы поподробнее.
— Да, да, конечно, — заторопился Мгасапетов и очень смутился, бедняга: он вечно смущался, когда ему о чем-нибудь напоминали. — Я, собственно, хотел огласить после обеда… но, раз уж так получилось, можно и сейчас.
Ахябьев скрестил на груди руки и устроился поудобнее. Путукнуктин в точности повторил его позу, а Владимир Иванович Фомин горько усмехнулся и опустил голову, чтобы никто не видел его осуждающего лица. Владимир Иванович презирал мягкотелых людей (и, в частности, Мгасапетова) за то, что у них все получалось так, как хотят другие.
Гамлет Варапетович вкратце повторил то, что было известно уже всему институту. Соседи из ИПП вчера перехватили еще одну телепатему, уже третью по счету. И опять-таки эта телепатема содержала подробнейшую информацию о положении дел в Институте конкретного счета, вплоть до таких деталей, что Никодимов не прошел в Ученый совет, что «Большой Голубой Идеал» третью ночь простаивает без работы и от нечего делать играет в азартные игры с охранниками, что некий Ахябьев в рабочее время для собственного удовольствия пересчитывает внеплановый трюизм «Правда хорошо, а счастье лучше», в то время как в своих основных расчетах допустил ряд арифметических ошибок, — ну и так далее, в том же духе.
Совершенно ясно было, что в институте сидит какой-то телепат, прекрасно осведомленный, и посылает мысленные донесения о разного рода непорядках в счетной работе. Куда посылает, зачем — неизвестно. Во всяком случае, донесения эти составлены до неприличия тенденциозно. Картина складывалась такая, что в институте неблагополучно все, а что благополучно, то представляет собой тщательно скрываемое безобразие. Естественно, руководство института было обеспокоено, Уже после первой телепатемы директор ИКСа тов. Хачаврюжин недвусмысленно заявил: «Найду негодяя — уволю».
ИПП (Институт парапсихологии) находился неподалеку, за буераком. Сотрудники этого института сами телепатировать не умели, но аппаратура им придана была импортная, чувствительная, и потому они очень обижались на соседей из ИКСа: «Или вы нам раскройте секрет, или прекратите хулиганить». Мощность перехваченных телепатем значительно (примерно в пятьдесят тысяч раз) превышала человеческие возможности. Динамики в ИПП прямо-таки ревели, разглашая служебные тайны дружественного института. Тем не менее природа этих сигналов была явно биологической, то есть исходили они не от машины, а с поверхности живого мозга. На этом товарищи из ИПП особенно настаивали и даже сердились. Для них это было вопросом престижа: два раза в год ИПП получал колоссальный разнос за безысходность научного поиска. А тут пожалуйста: передача со стороны, притом сверхчеловеческой мощности.
Поскольку энергии обычного человеческого мозга едва хватает для обслуживания карманного фонарика, проблема этих левых телепатем из внутриведомственной переросла в общенаучную, а может быть, и в глобальную. По Институту конкретного счета поползли тревожные слухи. Секретарь-машинистка Линочка из отдела общего счета уверяла, что она своими глазами видела в коридоре девятого этажа таинственное существо. Существо это якобы двигалось на нее, все в скафандре, увешанное щупальцами, и глухо мычало. Слово «пришелец» еще не было произнесено, но директор института тов. Хачаврюжин был вынужден издать специальный приказ «о нераспространении». На лекцию «Теория контакта», организованную для институтских электриков, собралась такая масса народу, что конференц-зал чуть не провалился в гардероб и главный инженер, составивший двусмысленное объявление, получил строгий выговор «за усугубление обстановки». Линочку убедили, что она столкнулась не с телепатом, а с газосварщиком, который шел на крышу приваривать трамплин, вдобавок был нетрезв, почему и издавал глухое мычание. Но этих мер оказалось недостаточно, и слухи продолжали распространяться.
Свою отрицательную роль сыграл и алый полиэтилен, которым были застланы полы в коридорах. От трения ног на поверхности пола скопился довольно значительный электрический заряд, и при малейшем рукопожатии даже между рядовыми сотрудниками проскакивала яркая искра, сопровождающаяся оглушительным треском и резкими болевыми ощущениями. Люди стали сторониться друг друга, обмениваясь при встрече лишь беглыми улыбками, которые искры не вызывали.
Вот почему психологически сотрудники института были уже готовы к выводу, который руководство решило огласить именно сегодня, в день всеобщего добродушия, вызванного открытием пищеблока. Вывод этот сводился к следующему:
1. Возможно (НБ: возможно, но не обязательно!), в стенах института действительно функционирует чуждое существо, которое, внешне ничем не отличаясь от рядового сотрудника, пользуется доступом ко всем каналам внутренней информации и держит себе подобных в курсе институтских дел.
2. Под определением «чуждое» не следует понимать «инопланетное», хотя такое толкование и не исключено, так как способность посылать столь мощное излучение земным организмам не свойственна, а излучение имеет отчетливо биологическую природу.
3. Как бы то ни было, Институт конкретного счета, являясь средоточием информации и статистики, может в принципе быть удобным местом для помещения наблюдателя извне.
4. Если такое наблюдение имеет место, оно в соответствии с целым рядом общих философских положений должно служить благородным и универсальным целям, а потому сотрудникам ИКСа рекомендуется не поддаваться панике и относиться к этой возможности терпеливо, доброжелательно и спокойно.
5. Однако не следует забывать, что, находясь под наблюдением извне, институт должен всемерно повышать эффективность и слаженность своей работы, чтобы не предстать перед чуждым взором организацией рыхлой, морально несобранной и лишенной определяющей цели.
— Итак, друзья мои, добросовестность, сдержанность, бдительность, — сказал в заключение Мгасапетов. — А главное — человеческий такт. Перед тактом Он безоружен. Кстати, может быть, Он сейчас среди нас.
— Я в этом не сомневаюсь, — язвительно сказал Ахябьев. — Кроме вас троих, никто о моем хобби не знал.
Роберт Аркадьевич имел в виду то щекотливое обстоятельство, что телепат, на кого бы он ни работал, упомянул в своем последнем донесении персонально о нем. Но хотя тон Ахябьева был чрезвычайно насмешлив, по внешнему виду Роберта Аркадьевича можно было предположить, что это обстоятельство очень льстит его самолюбию. Надо признать, что такой чести (быть замеченным извне) в институте покамест сподобились очень немногие. Что же касается оргвыводов, которые руководство могло и имело право сделать (злополучный трюизм «Правда хорошо, а счастье лучше» шел по разряду некорректных, и пересчет его, да еще в рабочее время, был тяжким служебным проступком), то Ахябьева эти оргвыводы нисколько не волновали: он был, безусловно, талантлив, отлично знал об этом, и руководство тоже об этом знало. Пересчет внепланового трюизма был далеко не первой шалостью Роберта Аркадьевича. Арифметические же ошибки Ахябьев умел делать такие, что на каждой из них можно было строить докторскую диссертацию. Что, кстати, и сделал начальник отдела пересчета тов. Никодимов прошлый год по весне.
— Ну, если мы начнем показывать друг на друга пальцами… — недовольно проговорил Путукнуктин. По молодости и неопытности Слава Путукнуктин был очень недоверчив. Он полагал, что никакого пришельца не существует и вся эта история выдумана Ученым советом, чтобы повысить качество расчетов. Действительно, перед наблюдателем извне стоило и постараться. Но тем не менее (так странно устроен человек) Путукнуктин смертельно завидовал Роберту Аркадьевичу, который со своими арифметическими ошибками вышел (чем черт не шутит!) в глубокий космос, в то время как он со своими находился в полной безвестности. — …тогда уж надо начинать с верхов. Ведь если рассуждать логически, сам Хачаврюжин, как бы это выразить половчее, тоже в какой-то степени подлежит…
Гамлет Варапетович смутился, почесал пальцем нос, но вынужден был согласиться, что такая возможность действительно не исключена.
— Да, но мои расчеты… — начал Ахябьев. — Хачаврюжин о них понятия не имел.
— О твоих расчетах, мой милый, — возразил ему Слава Путукнуктин, — о твоих расчетах знает половина института. Перфораторщица знает? Знает. Дежурный оператор тоже знает. Не на пальцах же ты считаешь в конце концов.
Владимир Иванович Фомин слушал этот разговор и раздражался. А раздражался он всегда, когда речь заводили о пустом. Не верил Фомин в пустое, и в ИПП он тоже не верил. Но если недоверие Путукнуктина исходило от недостатка опыта, у Фомина оно исходило от избытка. По поводу телепатем у Фомина была своя версия: ИПП (и это любому вахтеру известно) находится на грани закрытия. Три года назад торговые организации города Кимры заказали в ИПП простенький телепатометр для изучения спроса покупателей, и до сих пор этот заказ не выполнен. А почему? Да потому, что никакой телепатии не существует. И чтобы поддержать свою репутацию, ИПП пустился на этот сомнительный трюк. «Позвольте, дорогие, как это не существует? Вот полюбуйтесь, свеженькая телепатемка, подлинность которой подтверждена Институтом конкретного счета». А информацию о неприятностях в ИКСе сотрудники ИПП получают по нормальным человеческим каналам. Кто из нас не дарил своей нежности секретаршам и машинисткам? А что мы с этого имеем? Информацию, ее одну.
Кроме того, что за подход: «Завелся пришелец»? В солидном, уважающем себя институте, где есть проходная, охранная служба, отдел кадров, наконец, — в таком учреждении не может ничего завестись. Мыши, тараканы — куда ни шло, да и то можно указать и наказать виновных, а тут, видите ли, завелся пришелец, и никто как будто ни при чем. Да еще пришелец, по внешнему виду не уступающий сотрудникам. Что значит «по внешнему виду»? А документы у него тоже не уступают? А анкетные данные? У Фомина, например, в анкете все ясно: родился двадцать пятого августа тысяча девятьсот сорок пятого года в городе Туле. И это можно перепроверить, если настанет нужда. Допустим, окажется, что Фомин родился не в Туле, а в созвездии Лебедя. Тогда одно из двух: либо документы у Фомина поддельные, либо, простите, где же тогда тот Фомин, который в Туле родился?
Об этом Фомин и сказал со всей присущей ему прямотой, но понимания не встретил. Ахябьев и Путукнуктин переглянулись глумливо, а Мгасапетов возразил в том смысле, что «эти там», по-видимому, не глупее нас, а может быть, даже и умнее. Такое низкопоклонство перед чуждым разумом очень не понравилось Фомину, но он решил промолчать и предоставил дискуссии возможность развиваться естественным путем.
4
— Пришельца надо искать среди новобранцев, — значительно сказал Ахябьев. — Поскольку он начал функционировать совсем недавно.
И все, как сговорившись, повернулись к Путукнуктину.
— А может быть, он три года вживался! — с обидой ответил Путукнуктин. — Скорее пришельца надо искать среди тех, кто на других показывает пальцем. Стратегия опережения, вот так вот!
— Мне представляется… — задумчиво начал Гамлет Варапетович, но ему не дали договорить. Путукнуктин и Ахябьев шумно заспорили: может ли упоминание в телепатеме служить гарантией непричастности? Ахябьев утверждал, что может. Зачем наблюдателю доносить на себя самого? Путукнуктин, напротив, считал, что не может, поскольку «эти там» должны были предусмотреть такой элементарный ход.
Разгорячившись, Роберт Аркадьевич набросал на листке из календаря программу вопроса и позвонил в машинный зал. Минуты две все молча ждали ответа, потом Ахябьев пожал плечами и, криво усмехнувшись, положил трубку.
— Ну что? — нетерпеливо спросил его Путукнуктин.
— А ничего, — ответил Роберт Аркадьевич. — Эти «Неги» совсем обнаглели, скоро непечатно выражаться начнут.
При этих словах Фомин громко и радостно засмеялся. Все посмотрели на него с недоумением, но он ничего не стал объяснять, только покрутил головой и, усмехаясь, стал рыться в своем столе. В тумбу стола у Фомина был вмонтирован портативный предметный каталог. С помощью этого нехитрого приспособления Владимир Иванович экономил отведенное ему машинное время. Другие по всякому пустяку становились на очередь к «Неге», и к концу квартала попадали в жестокий цейтнот. Фомин же выходил на связь с машиной только в случае крайней необходимости, и за это «Нега» его уважала. Владимир Иванович был убежден, что ему-то машина не скажет ничего непечатного.
— Мне представляется… — снова начал Мгасапетов, и на этот раз его услышали. — Мне кажется, что сам наблюдатель… ну, как бы поточнее это сформулировать… ну, не подозревает, что ли, о своих функциях. Не сознает себя пришельцем…
— А кем же он себя сознает? — ехидно спросил Путукнуктин.
— Обыкновенной личностью, — смутившись, пояснил Гамлет Варапетович. — Научным работником, со своей темой, со своим прошлым, со своими планами на будущее. Иначе ему… как бы это сказать… трудно было бы функционировать незаметно. Вжиться мало, надо быть, именно быть обыкновенной личностью. Я на чем основываюсь? Вот нас четверо тут, на глазах друг у друга, неужели мы не угадали бы, кто личность, а кто существо?
— Есть отделы, где сидят поодиночке, — как бы невзначай заметил Ахябьев.
— Есть отдельные кабинеты! — с восторгом поддакнул Путукнуктин.
Но Ахябьеву его реплика не понравилась.
— Слушай, ты, посягатель, — сказал он с досадой. — Постарайся себя превозмочь. Гамлет что-то имеет сказать, но никак не решается. Не мешай человеку тужиться.
— Собственно, я… — конфузливо проговорил Мгасапетов, — я практически уже все сказал. Побольше такта, побольше доверия друг к другу… Так ли уж нам важно знать, кто именно? В конце концов, Он делает свое дело, и указывать на него пальцем бестактно…
— Кончай ты о своем такте, — раздраженно сказал Ахябьев. — Все это мы уже слышали. Ты же другое хотел сказать, Мгасапет.
Владимир Иванович Фомин зорко взглянул на Ахябьева, но опять-таки не вмешался. Хотя вмешаться стоило: недоволен был Фомин поведением своих товарищей.
Ахябьев совсем зазнался, да и Путукнуктин тоже слишком активничает в разговоре. Пора бы им указать на их место… но Мгасапетов делать этого не умел.
— Может быть, действительно… — промямлил Мгасапетов. — Для оздоровления обстановки в нашей группе…
— Я все понял! — вскрикнул Путукнуктин. От волнения он даже привстал со стула. — Существо обнаружено, но мешать ему не хотят! Гамлет Варапетович, ради всех святых: КТО? В КАКОМ ОТДЕЛЕ?
— Видишь ли, Слава, — тихо сказал Мгасапетов, — я, конечно, не имел права… Более того, мне было строжайше предписано… и если вы хоть как-то дадите понять, что я…
— Боже, за кого он нас принимает! — страдальчески заломив руки, простонал Путукнуктин.
— Нет уж, позвольте мне договорить, — с неожиданной настойчивостью сказал Мгасапетов. — Я нарушаю приказ руководства, категорический приказ, и я должен объяснить вам мотивы.
— Это невыносимо… — прошептал Путукнуктин и в изнеможении опустился на стул.
— Славик, Славик, ну зачем ты так волнуешься? — ласково сказал ему Роберт Аркадьевич. — Пусть человек объяснит мотивы. Ты же знаешь Гамлета: немотивированные поступки ему отвратительны.
— Именно! — с горячностью подхватил Мгасапетов. — Именно отвратительны, Робик! Я решил сказать вам всю правду, невзирая… впрочем, я повторяюсь. Я хочу, чтобы этот человек… или это существо, как вам угодно… не чувствовал, в смысле не чувствовало себя среди нас изгоем. Мы должны отнестись к нему человечно: без пренебрежения, без излишнего назойливого любопытства, без недоверия, без зависти… да, без зависти! Я уверен, что оно нас поймет.
— Я тоже в этом уверен, — терпеливо сказал Ахябьев. — Но, Гамлюша, ты требуешь от нас слишком многого. Ведь ты так и не сказал нам, кто ОНО.
— Дело в том, — медленно проговорил Гамлет Варапетович, — дело в том, что я и сам не знаю, кто ОНО. Может быть, ОНО — это я. Но ОНО среди нас, это определенно.
— Ты хочешь сказать… — начал было Ахябьев, но не договорил.
— Я хочу сказать, что ИПП запеленговал источник. И этот источник находится в нашем здании, на третьем этаже, в комнате номер триста пятнадцать. У меня все.
5
Тут стало тихо, конечно: Ахябьев замер с раскрытым ртом, Слава Путукнуктин побледнел, потом покраснел и растерянно завертел головой, и даже Фомин, сунувший обе руки по локоть в ящик своего каталога, вдруг резко выпрямил спину, как будто нашарил там скорпиона. А Гамлет Варапетович, сбросив с плеч своих тяжкий груз мотивации, по-видимому, сразу почувствовал себя легче: он вытер пот со лба, облегченно вздохнул и устроился за столом поудобнее.
— Что ж получается?.. — заговорил Путукнуктин, но покраснел еще больше и надолго умолк.
— Допрыгались! — мрачно буркнул Фомин и, насупившись, возобновил свои поиски в ящике, которые, как ему ни хотелось их растянуть, тут же увенчались успехом: без особого удовлетворения Владимир Иванович достал из стола расчетную карточку по теме «Динамика автомобильных катастроф среди курящих женщин Северного Мадагаскара».
— Что ты этим хочешь сказать? — осторожно спросил его Ахябьев, но Фомин не удостоил его ответом: у него был теперь повод уклониться от дальнейшего участия в разговоре, углубившись в расчеты, и он этим поводом воспользовался.
— Так, так… — сказал Ахябьев неопределенно, но тут новая мысль завладела его сознанием, и он забыл о реплике Фомина. — И что же, — спросил он Мгасапетова, — весь институт уже знает, что мы… то есть что один из нас это самое?
Роберт Аркадьевич юмористически покрутил пальцами в воздухе.
— Что ты, Робик, что ты! — поспешно возразил Мгасапетов. — Я и вам-то не должен был говорить…
Склонившись над бумагами, Владимир Иванович снова горько улыбнулся.
— Однако! — с чувством произнес Роберт Аркадьевич и, откинувшись на спинку стула, повторил: — Однако! За себя я, конечно, спокоен, я себя помню с глубокого детства…
— Я тоже! — торопливо сказал Слава Путукнуктин. — Честное слово, товарищи! С четырехмесячного возраста! У меня просто феноменальная детская память.
— Вот как? — Ахябьев, прищурясь, посмотрел ему в лицо. — Насколько мне известно, это характерно именно для пришельцев. Кстати, Всеволод, объясни ты мне наконец, почему ты так охотно откликаешься на имя «Слава»? Может быть, тебе все равно? Или тебе более привычен порядковый номер?
Путукнуктин взмок от волнения. Он судорожно глотнул, ослабил узел галстука, еще раз глотнул и издал какой-то слабый звук, похожий на писк.
— Да что ты так нервничаешь? — удивился Ахябьев. — Славик, дорогой, успокойся, ты не пришелец. Для пришельца ты слишком быстро себя выдаешь. Итак, остаются двое. Либо Гамлет, либо Фомин. Гамлет, дорогой, я горжусь своей дружбой с тобой, но временами мне начинает казаться… Это имя, эти глаза! Эти маленькие нечеловеческие глаза! И потом, где ты достаешь такие дивные водолазки?
— Робик, ты расшалился, — укоризненно сказал Мгасапетов. — Твое оживление, как бы тебе сказать…
— Выдает во мне пришельца? — подхватил Роберт Аркадьевич. — Боже мой, да я счастлив был бы осмыслить себя неземным существом! Это дало бы ответ на пронзительный вопрос, который с детства меня мучает: отчего я лысею? И большой живот мне зачем? Иногда он так странно урчит… Может быть, там и находится передатчик? В таком случае я уже двадцать минут телепатирую. Нет, Гамлет, ты слишком добр для пришельца. Ты вселил в меня такие странные надежды.
— А Фомин между тем молчит… — жалко улыбаясь, проговорил Путукнуктин.
— Фомин? — Роберт Аркадьевич круто повернулся на стуле, чтобы лучше рассмотреть Фомина. — Да, пожалуй. Склад черепа, форма ушей… Скажи, Владимир Иванович, тебе не хочется временами превратиться в исполинского паука?
Фомин ссутулился над бумагами и ничего не ответил.
— Вот видите, он промолчал! — не унимался Ахябьев. — А ведь на его месте любой землянин ответил бы: «Да, хочется. Чтобы как можно меньше походить на тебя, Роберт Ахябьев!»
Тут Владимир Иванович медленно поднял голову и посмотрел на Ахябьева ясным, красноречивым и бесконечно терпеливым взглядом.
Ахябьев проникся.
— Впрочем, да… — пробормотал он. — Впрочем, конечно… я несколько увлекся. Но поймите меня правильно: мы участники Контакта! По сравнению с тем, что происходит в этой комнате, высадка на Луне — пустячок, утренняя гимнастика для лиц среднего возраста. Завтра утром наши фотографии появятся во всех газетах мира! Наши мемуары будут закупаться на корню!
— Ну, до мемуаров еще далеко, — недовольно сказал Мгасапетов. — В интересах Контакта… решено не нарушать привычной деловой обстановки.
— Чтобы не спугнуть, понимаю, — согласился Ахябьев. — Черт возьми, да разве в мемуарах дело? Есть Контакт, вот в чем суть! И один из нас… Нет, это невероятно! Потрясающее везение!
— Суета это, а не везение, — неожиданно сказал Фомин. — Что нам с этого пользы?
— А! Ты практик, Фомин! — так и взвился Ахябьев. — Тебе надо немедленной пользы! Пожалуйста.
Он схватил телефонную трубку и, бормоча: «Будет тебе польза, будет тебе польза…», принялся набирать номер.
— Что он делает? Остановите его! — умоляюще произнес Мгасапетов. Но Фомин и Путукнуктин не двинулись с места.
— Татусенька, — сказал в трубку Ахябьев. — Сделай мне, пожалуйста, замдиректора по хозчасти. Кто спрашивает? Три-один-пять его спрашивает. Повторяю: три-один-пять. Непонятно? И слава богу. Там, где надо, поймут.
И Ахябьев победоносно оглядел сослуживцев.
— Забегали! — проговорил он, прикрыв трубку рукой. — Заволновались! Есть Контакт, черт побери!
— Робик, ты меня ставишь в ужасное положение! — жалобно сказал Мгасапетов. — Ты мне делаешь очень плохо.
— Ни один волос не упадет с твоей головы! — заверил его Ахябьев и проворно отодвинул аппарат на другой край стола, вообразив, что Мгасапетов попытается его разъединить.
Но Гамлет Варапетович был слишком добр, чтоб на это решиться. Он тихо застонал и схватился обеими руками за свою голову.
— Товарищ Недомычкин? — сказал в трубку Ахябьев. — Мы тут в триста пятнадцатой несколько заждались. Согласитесь, что это нелепо: наша комната ближе всех к пищеблоку, а обедать мы вынуждены чуть ли не в последнюю очередь. Охотно принимаю ваши извинения. Что? Отдельный зал в ресторане? Нет, пожалуй, это излишне.
— Робик, это бесстыдство, — сказал Мгасапетов, когда Ахябьев, торжествуя, положил трубку. — Это шантаж чистейшей воды.
— Даже если, и что? — беспечно ответил Ахябьев. — Для дружественной галактики Недомычкин на все пойдет. Вот так, товарищи пришельцы! Будете обедать в первую очередь.
— Все это, конечно, хорошо, — медленно проговорил Фомин. — Ну а если ИПП блефует? Да у нас тогда эту очередь из глотки вынут.
— Что значит «блефует»? — оскорбился Ахябьев. — Ведь кто-то из нас телепатирует?
— Ну, не я, во всяком случае, — с достоинством ответил Фомин. — И насколько я понимаю, не ты. Иначе бы ты не вел себя так нахально.
— И не я! — поспешно вставил Путукнуктин.
— Значит, это Гамлет, — уверенно сказал Ахябьев. — Слушай, Гамлет, ну что ты жмешься? Здесь все свои.
Гамлет Варапетович поерзал на стуле, застегнул на животе свою замшевую курточку. Все молча ждали.
— Мне думается, — промолвил наконец Мгасапетов, — что в данной ситуации я имею право напомнить о своих полномочиях руководителя группы. Я уважаю вас, Роберт Аркадьевич, но мое уважение к Контакту, если он имеет место, неизмеримо больше. И потому прошу вас впредь согласовывать со мной любое ваше действие, выходящее за пределы группы. И в этой связи ваша выходка, Роберт Аркадьевич, выглядит попросту недостойно.
— Золотые слова, — одобрительно сказал Фомин. Но пронять Ахябьева было не так-то просто.
— А в нашем созвездии все ведут себя недостойно, — язвительно ответил Ахябьев. — И попрошу мне не выкать. Вот обращусь сейчас в черепаху, узнаешь тогда, как дерзить.
И Гамлет Варапетович не выдержал тона.
— Не обижайся, Робик, — сказал он просительно. — Ты должен понять, что огласки не надо. Огласка может ЕГО спугнуть. Ты только представь, как будет неприятно, если он переметнется в какую-нибудь «Рэнд корпорейшен». Вот ты обидел Володю, назвал его пауком, а разве это красиво?
Ахябьев встал, поклонился Фомину в пояс.
— Простите меня, Владимир Иванович, я совсем не хотел вас обидеть.
— Бог простит, — ответил ему Фомин.
И в это время на электрическом табло вспыхнула надпись: «Вниманию тов. тов. Мгасапетова, Ахябьева, Путукнуктина, Фомина. Вы можете обедать в любое удобное для Вас время. Приятного аппетита, дорогие друзья! Лично Ваш Недомычкин».
6
Ровно в тринадцать ноль-ноль сотрудники группы пересчета трюизмов вошли в пищеблок и остановились в оцепенении.
Пищеблок был прекрасен. Доверяя фантазии читателя, автор не станет в подробностях описывать грустную нежность погруженного в полумрак кафетерия, солидную задумчивость напоенной светом столовой, доверчивую прелесть отдела полуфабрикатов. Повсюду восхитительно пахло свежемолотым цикорием, на стойках и в витринах в изобилии были выставлены рыбные копчености: палтус, салака, треска. Жемчужно-белая икра омонии подавалась на все столы бесплатно, как соль.
Стараясь, насколько возможно, держаться с достоинством, наши герои обошли все помещения этой райской пристройки, заглянули даже в душевую и в тенистый ресторан для руководства (официантка было погрозила им пальцем, но забежавший вперед Недомычкин шепнул ей что-то на ухо, и она, прикрывая испуганное лицо передником, отступила за перегородку), и только затем, насытив глаза свои, сотрудники группы пересчета трюизмов вернулись в кафетерий, который им как-то больше пришелся по душе.
На них смотрели. Больше того: с них не сводили глаз. Никто не приглашал их за свой столик, никто не окликал, не махал фамильярно рукой. Люди смотрели на них с тревожным любопытством, как на делегацию реакционной державы. Слава Путукнуктин, пробираясь к свободному столу, похлопал по плечу кого-то из своих знакомых — тот поперхнулся и, поспешно вытирая губы бумажной салфеткой, вскочил. «Мэй ай хелп ю?» — спросил он отчего-то по-английски и, не дождавшись ответа, стоял до тех пор, пока пришельцы не уселись.
В зале кафетерия расположилась институтская молодежь. Люди пожилые, щадя свою печень, спустились в столовую, именитые ушли в ресторанный зал, подальше от самообслуживания, многосемейные толпились в очереди за антрекотами. Но обстановка в зале кафетерия тем не менее была принужденной. Не слышно было лихих кандидатских песен, научные сотрудники с деланным самозабвением кушали, искоса поглядывая на пришельцев.
— Вот тебе и «никакой огласки», — пробормотал Ахябьев, листая меню. — Эх, Гамлет, наивный ты человек. Хотел от нас скрыть то, что известно уже каждому официанту. Как-то встретит тебя жена твоя, Гамлет? Хотел бы я при этой встрече присутствовать.
— Ты думаешь?.. — понизив голос, спросил Мгасапетов.
— Абсолютно уверен, — ответил Ахябьев. — Да нас уже по Интервидению передают.
— А ты поменьше зыркай по сторонам, — посоветовал ему Фомин. — Веди себя как турист-европеец.
— Кто? Я? — высокомерно спросил Ахябьев. — Я, преодолевший сотни тысяч парсеков, должен сидеть, потупив глаза, среди своих, можно сказать, братьев по разуму? Да наблюдатель я или не наблюдатель? За что мне платят командировочные?
И Роберт Аркадьевич пронзительным взглядом окинул зал. За окрестными столиками произошло некоторое шевеление, и обедающие дружно накинулись на еду.
— А не произнесть ли речонку? — спросил Ахябьев. — Молчание какое-то удручающее. Поворотный момент, как-никак.
— Роберт Аркадьевич! — с отчаянием воскликнул Мгасапетов.
— Вас понял, — ответил Ахябьев. — Чистота Контакта превыше всего.
Мгасапетов выбрал себе жареную ветчину с горошком, Ахябьев — творожный пудинг и четыре молочных коктейля, Путукнуктин — кофе и пирожные, Фомин — сосиски, кефир и холодный свекольник.
— Никогда не предполагал, — сказал Ахябьев, — что мое меню будет так остро интересовать миллионы. Ну-ка, Гамлет, покажи свое неумение резать ветчину вилкой. Это будет очень эффектный номер.
— Ай, оставь ты меня, — пробормотал Мгасапетов и, взяв ломтик ветчины двумя пальцами, принялся кушать.
Владимир Иванович Фомин не принимал участия в застольной беседе. Он методично раскрошил в свекольник сосиски, затем вылил туда кефир и начал хлебать. Была у Владимира Ивановича такая странность: он обожал смешивать в одном блюде первое, второе и третье. А потом чохом все поедал. Вкусовые нюансы его не интересовали, а экономия времени была значительная. Но сегодня Владимир Иванович впервые осознал, что его образ действий несколько отличается от обычного и может вызвать интерес окружающих. Поэтому он быстрее, чем всегда, буквально за три минуты покончил со своей тюрей, поднялся и сдержанным кивком дал понять, что намерен уйти.
— Ты куда? — в один голос спросили Ахябьев и Мгасапетов.
— Дела, — коротко ответил Фомин и, размашисто, твердо шагая, покинул пределы кафетерия.
— А вы знаете, ребята, это ОН, — тихим голосом сказал Роберт Аркадьевич. — Телепатировать пошел, разрази меня громом.
— Ах, я забыл предупредить, — сокрушенно проговорил Мгасапетов, — что нам не следовало бы разлучаться.
— Ну, это наивно, Гамлюша, — насмешливо сказал Ахябьев. — Мы, слава богу, еще не под колпаком.
Между тем Слава Путукнуктин вел себя по меньшей мере загадочно. Некоторое время он с тупым удивлением смотрел на эклеры, которые сам себе принес, потом неуверенно взял чайную ложечку и, покраснев до слез, попытался отколупнуть кусочек обливки. При этом он озирался и потел. Эклер оказался слегка перезревшим. Он загремел на блюдце и вдруг, подпрыгнув, отлетел метра на полтора и скрылся под соседним столом. Тогда Путукнуктин сунул ложечку в нагрудный карман и заплакал.
— Я знал, — пробормотал он, вытирая рукавом слезы. — Я всегда это знал… Я всегда это за собой чувствовал…
Ахябьев поперхнулся коктейлем, Мгасапетов переполошился.
— Славик, ну что ты, Славик, — прошептал он, наклонившись над столом. — Кушай, милый, кушай. Постарайся хоть что-нибудь съесть.
— Не могу, — бормотал Славик, сморкаясь в широкий галстук. — Честное слово, не могу. Стыдно мне… Я не умею, честное слово! У меня спазмы в горле!
— Подумаешь, спазмы! — уговаривал его Мгасапетов. — Надо быть выше этого! Глоточек кофе — и все пройдет.
— Глоточек! — Путукнуктин нервно засмеялся и тут же подавился слезами. — Тебе легко говорить! Ты человек, а я… я существо!
— Клянусь тебе, — истово сказал Мгасапетов, — я никогда не перестану считать тебя человеком!
— Нет, неправда, — прошептал Славик. — Ты меня уже боишься. Ты, наверно, думаешь, что я в любую минуту… Но это не так! Это само находит. Вот и сейчас нашло…
— А ты не ошибаешься? — понизив голос и тоже наклонившись над столом, спросил Ахябьев.
— В том-то все и дело! — сказал Славик и всхлипнул. — Я абсолютно уверен! У меня внутри все другое. Хотите, я сейчас начну испускать волны?
— Ради бога, Славик… — Гамлет Мгасапетов умоляюще сложил руки.
— А, боитесь! — сказал Славик с ожесточением. — Я всегда это за собой знал. Мне всегда были странны эти волосы, эти одежды, эта пища… Боже мой, знали бы вы, что вы едите, из чего все это состоит!
Сотни сотрудников ИКСа с напряжением наблюдали за этой душераздирающей сценой, по их лицам было заметно, что они не понимают ни слова да и не пытаются понять, как будто беседа шла на экзотическом языке.
— Зачем же ты на меня-то… телепатнул? — участливо спросил Ахябьев. — Своих закладываешь, нехорошо!
— А я виноват, я виноват, да? — горячо возразил Славик. — Мной управляют на расстоянии!
7
Роберт Аркадьевич ошибался: у Фомина действительно были дела, причем земные, хотя и не совсем обычного свойства.
Из всех своих состояний Фомин тяжелее всего переживал недоумение. Состояние недоумения было для него мучительным, невыносимым. Владимир Иванович привык все понимать и постоянно держал в голове полную картину своего понимания мира. Согласитесь, что это довольно сложно, но для человека такого склада, каким отличался Фомин, это было совершенно необходимо. Каждую отдельную минуту Владимир Иванович должен был представлять себе весь мир в целом. Иначе у него начинали путаться мысли. Вот почему он вынужден был так внезапно покинуть своих товарищей. Владимир Иванович шел в отдел общего счета, к своей старинной знакомой Линочке — к той самой Линочке, которой первой посчастливилось встретить пришельца. Фомин шел к ней затем, чтобы из первых рук получить информацию о позиции руководства и таким образом избавиться от состояния тягостного недоумения, которое им (Фоминым) владело.
Владимир Иванович не верил, во-первых, в то, что руководство института могло признать факт существования пришельца, а во-вторых, в то, что руководство с этим фактом смирилось. Мгасапетов был лицом официальным, но мягкотелым, и в угоду вкусам своих подчиненных он мог кое-что исказить и кое о чем умолчать. Кроме того, проморгав чуждое существо у себя в группе, Мгасапетов проявил административную близорукость и автоматически должен был потерять доверие инстанций, что, конечно, не могло не отразиться на полноте информации, которой Мгасапетов располагал. Но если Гамлет Варапетович ничего не исказил и ни о чем не умолчал, если он по-прежнему имеет доступ к каналам, если Ученый совет действительно капитулировал перед чуждым разумом — тогда картина мира нуждалась в коренных переменах. Вот почему Владимир Иванович тоскливо недоумевал.
Конечно, не исключена была возможность грандиозного розыгрыша — из тех, которые над ним частенько учиняли. Владимир Иванович готов был поверить в эту возможность и даже почувствовал бы облегчение. Его было трудно обидеть. Когда над ним насмехались, он становился хмурым, но лишь оттого, что силился найти достойный выход. Когда же насмешки иссякали, Владимир Иванович вновь охотно и дружелюбно откликался на любую реплику своих обидчиков. Поэтому многие считали его покладистым и добрым малым. Но это было не так.
Владимир Иванович не был ни добр, ни покладист. Он был упрям и злопамятен, как носорог. Но в отличие от названного животного Фомин был терпелив. Он постоянно делал скидки и поправки на окружающих людей: на их остроумие, нахальство, талант.
В своем отделе Фомин работал над пересчетом зарубежных трюизмов. И никогда он не брался за пересчет, если заранее не знал, корректен трюизм или нет. Бывало, Ахябьев смеха ради подсовывал ему сомнительные исходные (к примеру, «Снижение кошачьей смертности среди певчих птиц Монпарнаса»), где подтверждение и опровержение трюизма были в равной мере ошибочны. Фомин неуклонно эти данные отбраковывал, не давая никаких объяснений и полагаясь исключительно на свой нравственный инстинкт.
Своей работой Фомин наслаждался. Особенно нравилось ему соблюдать всевозможные графики, регламенты, предписания и установки. На регулярную связь с «Негой-15» он выходил как на свидание с несовершеннолетней: взволнованный и в то же время собранный, прекрасно помнящий, что он себе может позволить и чего не может. Он тщательно причесывался, застегивал верхнюю пуговицу рубашки, проводил ладонью по щекам, проверяя побритость, и только после этого, откашлявшись, набирал заветный номер. «Але, — говорил он чуть сипловатым голосом. — Фомин на проводе. С вами можно?..» И машина с радостью отвечала ему: «Душка Фомин, я ждала этого целые сутки».
Вообще человеческий элемент в системе института нравился Фомину значительно меньше. От человеческого элемента постоянно исходила низменная эманация расхлябанности и побочных страстей. Люди путали Фомина, сбивали его с толку юмором, он же отвечал им терпением. Что делать: человеческий элемент постоянно требовал поправки на личность. Перфораторщица, перевравшая знаки, была, разумеется, личностью: ей мешал сосредоточиться непредвиденный прыщ на носу. Оператор, нахально перекинувший заказ Фомина на завтра, тоже был личностью и тоже требовал на себя поправки: он боялся опоздать на футбол. Мгасапетов был помешан на деликатности, Ахябьев на юморе, Путукнуктин был просто незрел. Из всех сотрудников ИКСа одна только Линочка не нуждалась в поправке на личность: она не была ни умна, ни остроумна, говорила все, что думала, а когда умолкала — моментально переставала думать вообще.
Линочка, двадцати двух лет, секретарь-машинистка отдела общего счета Института конкретного счета (ИКС), была низенькая, толстенькая, темноволосая, густобровая, чуть-чуть усатая девушка с ярко-синими глазами.
При всех остальных своих добродетелях Линочка работала в головном отделе, была в курсе всех институтских дел и нуждалась единственно в терпеливом слушателе, а Фомин любил слушать и умел терпеть. Временами он даже подумывал, не закрепить ли за собой право доступа к этому источнику информации пожизненно, тем более что сердце Линочки в определенном смысле было свободно, но Линочка в присутствии Фомина говорила не переставая и не оставляла ему времени для произнесения решающих слов.
8
Владимир Иванович поднялся на девятый этаж и, сосредоточившись, приблизился к двери, на которой сияла бронзовая табличка «Г. К. Церебров». Уж по этой табличке, не нуждавшейся во внутренней подсветке, можно было предположить, что за дверью находятся приемная и кабинет человека исключительного значения. И то, что фамилии «Церебров» не предшествовали суетные обозначения «докт. мат. наук, чл.-корр. Акад. наук, лаур. Ноб. пр.» и прочая, лишь придавало этой обитой черным хромом двери внушительность подлинника. Начальник отдела общего счета Института конкретного счета (ИКС) Галактион Кузьмич Церебров не был ни доктором наук, ни академиком, ни даже лауреатом Нобелевской премии. Поговаривали даже, что и кандидатской степени у Цереброва не было, ходили такие слухи, что и самого Цереброва не существует, так как даже его секретарь Линочка ни разу в жизни его не видела, но все эти слухи не имели никакого значения. Посетители Лувра, с благоговением толпясь возле рамы от украденной картины, не задумываются над тем, что за шедевр должен здесь красоваться. Факт отсутствия впечатляет их больше, и на голой стене они читают взгляд и улыбку шедевра. Точно так же сквозь бронзовую табличку на двери девятьсот третьей комнаты проступали благожелательный взгляд и неопределенная улыбка Галактиона Цереброва.
Владимир Иванович прислушался: стука машинки не было слышно, между тем как Линочка наверняка уже отобедала. Фомин осторожно открыл дверь и вошел в приемную. Линочка сидела на своем рабочем месте и, пристроив на клавишах машинки круглое зеркальце, пинцетом выщипывала себе усики. Ярко-синие глаза ее были так вдохновенно устремлены к отражению, что, казалось, висели в пространстве. Нежный ротик Линочки был сжат, чистый лобик затуманен страданием. Линочка настолько была поглощена своим занятием, что заметила Фомина только тогда, когда он оказался уже посреди комнаты.
— Я не помешал? — учтиво спросил Фомин, приближаясь.
Вскинув глаза свои, Линочка ахнула и помертвела. Руки ее бессильно упали, зеркальце провалилось между клавишами. С самой любезной улыбкой Фомин подошел к ней вплотную, положил руку ей на плечо — и тут только понял, что Линочка впала в беспамятство. Взгляд ее был устремлен не на Фомина, а на то место, где он был ею замечен, на лбу ее выступила испарина ужаса.
Другой на месте Фомина непременно смутился бы, но Владимир Иванович был не из таких. Он потрепал Линочку по щеке (рано или поздно очнется, деваться ей некуда) и наклонился над приказом, который она печатала.
Это был внутренний, сугубо частный приказ по отделу общего счета. Согласно этому приказу сотрудники группы Мгасапетова категорически отстранялись от допуска к очередной Предварительной цифре, которая на сей раз имела абсолютное значение «2418,5», причем этот запрет впредь до особого распоряжения распространялся также и на весь отдел пересчета. В целях сохранения внутренней координации на отдел пересчета спускалась другая, значительно меньшая Предварительная цифра «1390,15», однако и к этой цифре группа Мгасапетова допущена быть не могла. Линия связи Мгасапетов — «Большой Идеал» упразднялась, личные карточки с записью тембра голоса Мгасапетова, Ахябьева и Фомина изымались из картотеки. Для последних решения лежали за пределами компетенции отдела общего счета: лишь Ученый совет имел право изымать карточки и упразднять линии связи. Рядом с этими пунктами начальственный карандаш вывел два задумчивых знака вопроса.
После первого прочтения приказа Владимир Иванович нахмурился, после второго поднял левую бровь, посмотрел на неподвижную Линочку и с поднятой бровью на цыпочках вышел в коридор.
Данный приказ мог означать только одно: гипотеза о пришельце полностью подтвердилась, но руководство института (во всяком случае, его наиболее выдержанная часть) вовсе не собиралось капитулировать перед чуждым разумом. При всей своей озабоченности Фомин не мог не одобрить категоричность приказа: меры были задуманы правильные и своевременные. Однако лично для Фомина дело поворачивалось неблагоприятной стороной: его пересчет по теме «Динамика автомобильных катастроф…» замораживался, и командировка на Мадагаскар из текущей реальности превращалась в мираж.
Этого Фомин допустить не мог. Надо было срочно отделяться от злополучной группы пересчета трюизмов. И поскольку всякому отделению предшествует самоопределение, надо было найти убедительные доказательства своей непричастности к «делу о телепатемах». Личная уверенность Фомина была убедительной лишь для него самого и больше, по-видимому, никого не интересовала. Следовательно, необходимо было срочно определить, кто из троих (Мгасапетов, Ахябьев, Путукнуктин) является пришельцем (либо тем, что под этим словом подразумевается), и доложить об этом лично Никодимову Борису Борисовичу. Только таким (и никаким иным) путем можно было противодействовать огульному зачислению Фомина в группу Гамлета Мгасапетова. Полагаться на компетентность соответствующих служб Владимир Иванович не мог: в случае, если пришелец будет выявлен и разоблачен усилиями посторонних, на всех остальных сотрудников группы Мгасапетова останется пятно косвенного соучастия.
9
С этой думой Владимир Иванович поспешил в отдел текущей информации — единственное место, где никто не стал бы таращиться на пришельца и падать в его присутствии в обморок (по той простой причине, что отдел текущей информации всегда и обо всем узнавал последним). Действительно, сотрудники отдела не имели ни малейшего понятия о том, что происходит в институте: по поручению месткома они готовили экстренный выпуск сатирической газеты «Мистер ИКС», посвященный десятилетию института, а поскольку юбилей предстоял лишь в марте будущего года, текущая информация этих бедняг совершенно не касалась. Они трудились на ниве позитивного юмора, а эта нива, как известно, сильно истощена. Фомин был встречен вопросом: «Что у вас там происходит смешного?» На этот вопрос Владимир Иванович ответил краткой информацией об открытии пищеблока. В ту же минуту отдел текущей информации опустел. Изголодавшиеся газетчики кинулись обедать с такой поспешностью, что забыли отключить всю внутреннюю аппаратуру, и Фомин получил возможность сесть за пульт связи с «Большим Голубым Идеалом», на что он, собственно, и рассчитывал: у этих юмористов были все привилегии отдела, которыми они никогда не пользовались. «Большой Голубой Идеал» относился к позитивному юмору равнодушно и на все их запросы отвечал: «Да пошли вы…» и отключался.
Трясущимися от волнения руками Фомин снял трубку, набрал общий номер и, назвав себя, попросил у «Голубого Идеала» разрешения задать ряд вопросов.
— Валяйте, — добродушно пробасил «Голубой Идеал». — А я был уверен, что вас уже отключили.
— Известно ли вам, — осторожно спросил Владимир Иванович, — что кто-то из нашей группы…
— Мне все известно, — перебил его «Идеал», — кроме того, что никому не известно. И если вы имеете спросить: «Кто конкретно?», отвечу: «Не знаю».
— Но, может быть, у вас есть личное мнение? — заискивающе спросил Фомин.
— Моим личным мнением имеет право интересоваться только начальник отдела, — отрезал «Идеал». — Вопросов больше нет? Отключаюсь.
— Подождите, ради бога! — с отчаянием воскликнул Фомин. — Могу ли я изложить вам собственные прикидки, с тем чтобы вы с присущей вам любезностью оценили степень их корректности?
— А зачем вам это нужно? — грубовато спросил «Идеал». — На вашем месте я бы поменьше суетился.
— Видите ли, — с предельной доверительностью сказал Владимир Иванович, — мне хотелось бы очистить свою психику от необоснованных подозрений.
«Идеал» хмыкнул, но не отключился, и Фомин осмелел.
— Подозреваю Гамлета Мгасапетова, — произнес он торжественно, как общественный обвинитель.
— Основания? — деловито спросил «Идеал».
— Нечеловеческая мягкость, — начал перечислять Владимир Иванович, — излишняя терпимость, я бы сказал, всетерпимость, граничащая с равнодушием…
— Вы лжете, Фомин! — резко перебил его «Идеал». — Я знаю Гамлета, он не таков. Это азартный человек, в душе игрок, хотя и несколько робок. Очищаю вас от этого подозрения.
— В таком случае Роберт Ахябьев, — с меньшей уверенностью проговорил Владимир Иванович. — Основания — умение оперировать с девятизначными числами в уме, болезненная склонность к завиральным идеям, к необоснованным гипотезам и к бесстыдному юмору.
— Как вы сказали? — переспросил «Идеал». — К бесстыдному юмору?
Он зашипел и надолго умолк. Только через минуту, осипший от беспрерывных криков «Але!», «Але!», Фомин услышал вновь бархатный бас «Голубого Идеала»:
— Да вы шалун, Володя. Меня чуть не задушил хохот. Запомните, мой мальчик: есть юмор и есть бесстыдство. Бесстыдство — очень серьезная вещь. Серьезная и мрачная.
— Так очищаете?.. — робко спросил Владимир Иванович.
— Ну нет, голубчик, — весело сказал «Идеал». — Тут больше зависти, чем подозрения. С этим и оставайтесь. Кто дальше?
— Один Путукнуктин… — пробормотал Фомин. — Вот никогда бы не подумал. Хотя, с другой стороны…
— Что вы там бормочете? — поторопил его «Идеал». — Имейте в виду, вы исчерпали свой полугодовой лимит машинного времени. Одна минута разговора со мной стоит полтора миллиона. До Нового года вам придется считать на пальцах. Если придется вообще.
— Да, да, конечно, — поспешно проговорил Фомин. — Я сознаю и готов нести ответственность. Но Славка Путукнуктин… Конечно, он молод, имеет привычку задавать нелепые вопросы, длинноволос, не по-земному миловиден… И потом, простите, у него практически не растет борода!
— У Наполеона, между прочим, тоже не росла борода, — заметил «Идеал». — Это все ваши подозрения?
— Все.
— Не густо, Вова. Отпускаю вам ваши грехи. Что бы ни случилось — мужайтесь.
И «Голубой Идеал» отключился.
10
Между тем остальные пришельцы, кое-как отобедав, вернулись к себе в отдел. Молодой Путукнуктин был совсем плох. По галерее Мгасапетов и Ахябьев вели его чуть ли не под руки: он ослабел от переживаний и еле волочил ноги. Огромная толпа сослуживцев, покинув кафетерий, устремилась было за ними, но группа молодых ребят, взявшись за руки, перекрыла проход на галерею, и только несколько прорвавшихся шли в отдалении, останавливаясь всякий раз, когда Ахябьев оглядывался.
Однако, войдя в триста пятнадцатую и заняв свое рабочее место, Слава Путукнуктин несколько приободрился. К пушистым щекам его вернулся слабый румянец, глаза заблестели. С детским любопытством Путукнуктин принялся разглядывать стены комнаты, шкафчики, пульты, особенно его умилил хитроумный оконный переплет.
— Как будто впервые увидел! — повторял Путукнуктин с восторгом. — Ей-богу, как будто впервые!
Он посмотрел на хмурого Ахябьева и разразился заливистым смехом.
— Прелестная зверушка! — приговаривал он, тыча в Роберта пальцем. — Очаровательное двуногое!
Со стороны можно было подумать, что Путукнуктин пьян. Но приступ веселья кончился так же внезапно, как и начался. Славик побледнел, умолк, дыхание его участилось, взгляд стал блуждающим, глаза потемнели и запали.
— Воздух, — сказал он с беспокойством. — Вы чувствуете? Воздух. Сплошной сернистый газ. Роберт, у тебя не щиплет в глотке?
Ахябьев отрицательно покачал головой.
— Послушайте! — воскликнул Путукнуктин. — Мне плохо! У меня сожжены все легкие, я умираю!
Он судорожно схватился за горло, лицо его исказилось. И тут Гамлет Варапетович, который до сих пор сидел нахохлясь за своим пультом и не произносил ни звука, второй раз за сегодняшний день проявил свою власть.
— Мальчишка! — гаркнул он, побагровев от натуги. — Перестаньте морочить нам голову! Вы шесть месяцев у меня на глазах дышали этим воздухом и чувствовали себя превосходно! Ваши легкие рассчитаны на этот воздух, другого вы и не заслуживаете!
Путукнуктин перестал корчиться, отпустил свой накрахмаленный воротничок и с недоумением уставился на Гамлета.
— Что вы хотите этим сказать? — пролепетал он в полнейшей растерянности.
Но Гамлет Варапетович был настолько разгневан, что не смог выговорить больше ни слова, хотя рот его был открыт, а глаза вращались в орбитах.
— Видишь ли, Славик, — вкрадчиво сказал Роберт Аркадьевич, быстро оценивший ситуацию и уже успевший найти в ней определенную долю юмора. — Шеф имеет в виду, что тебе удалось одурачить себя самого, но нас не так легко одурачить. Ты внушил себе, что прислан извне, но, к сожалению, твое воображение сильнее логики. Пришелец как устройство специально рассчитан на земные условия, и для него сернистый газ в воздухе — совершенно естественная и необходимая приправа вроде постного масла к редьке. Кто угодно будет задыхаться от смога, только не пришелец.
— Да, но… — начал было Путукнуктин и задумался. Он машинально поправил галстук, достал расческу и принялся приводить в порядок свои длинные локоны. При этом лицо его все больше и больше грустнело. — Жаль… — проговорил он наконец и зарделся. — В рамках этой гипотезы многое нашло бы свое объяснение.
— Например? — вежливо поинтересовался Ахябьев.
— Например, моя Люся считает, что я в некотором роде… нестандартен. И, уж во всяком случае, не от мира сего.
— Ей, конечно, виднее, — с юмором сказал Ахябьев, — но для нас твоя Люся не авторитет. В том-то вся и штука, что пришелец должен быть абсолютно типичным. Как всякая модель, построенная на основе общих представлений… Постойте, постойте! — вдруг оживился Ахябьев. — Я, кажется, что-то нащупал. Предположим, мы строим модель коровы, способной автономно функционировать в стаде и не возбуждать подозрения у остальных коров, а также у пастуха. Включим ли мы в программу ящур, бруцеллез или рак вымени? Скорее всего нет. Эти признаки характерны, но не системны. У меня, например, старинные нелады с печенью. Гамлет, а у тебя? Сдается мне, что ты здоров как бык. Как типичный бык, я имею в виду. Или, пользуясь терминологией Люси Путукнуктиной, как бык стандартный. А, Гамлет?
— Ну, если не считать стенокардии… — задумчиво сказал Мгасапетов. — Но мне это не мешает функционировать.
— Тебе не мешает — пришельцу помешало бы, — возразил Ахябьев. — Пришельцу стенокардия без нужды. Хорош был бы наш «Луноход» со стенокардией. Или с холециститом.
— Ты забываешь, Робик, — сказал Гамлет Варапетович, — что «Луноходу» нет нужды вживаться в стадо.
— Экая важность! — отмахнулся Ахябьев. — Да не будь у тебя стенокардии, я бы и глазом не моргнул. При всем моем к тебе уважении. Ты мне подходишь даже совершенно здоровый. Короче, Гамлет, как это ни прискорбно, мы с тобой отпадаем. Славик, у тебя, кажется, хронический насморк?
Путукнуктин молча кивнул.
— Довольно странная характеристика для пришельца. Итак, остается Фомин. Наш любезный Владимир Иванович, который так загадочно отсутствует.
— У Володи повышенное давление, — заметил Мгасапетов. — Сто семьдесят на сто десять.
— М-да, многовато, — с неохотой признал Роберт Аркадьевич. — Значит, моя исходная гипотеза некорректна. Действительно, если вдуматься, любому современному человеку присуща та или иная современная хворь. Они ее включили в функциональное описание человеческой модели и оказались совершенно нравы. Человек, которого изнутри ничего не гложет, выглядел бы неприличным бодрячком. А ну-ка зайдем с другого конца. Скажите мне, друзья мои, может ли типичная человеческая модель скончаться? Иными словами, отбросить копыта?
— Вообще-то это для человека характерно, — сказал Мгасапетов. — Но, с другой стороны, смерть от телесного недуга они вряд ли стали бы предусматривать.
— Ну а несчастный случай? — живо спросил Ахябьев. — Скажем, удар электрическим током? Слава, дорогой, рядом с тобой на стене розетка. Сунь туда пальчик, будь любезен.
Путукнуктин покосился на розетку и не двинулся с места.
— Я запрещаю подобные эксперименты, — сухо сказал Мгасапетов.
— Правильное решение, — одобрил Ахябьев. — В таком случае я выхожу из игры. И если в конце концов пришельцем окажется Роберт Ахябьев, не говорите, что он был слепым орудием в чуждых руках. Он мучился и страдал.
Роберт Аркадьевич встал. Его лицо было светло и бесстрастно. И если бы Мгасапетов обладал хоть малейшим даром предвидения, он тигром бы кинулся на Ахябьева и придушил бы его на время или каким-либо иным способом лишил его возможности действовать. Но Мгасапетов даром предвидения не обладал. Единственное, что его занимало, было расстояние между Ахябьевым и розеткой, за которым он зорко следил.
Однако Роберт Аркадьевич и не собирался приближаться к розетке. Он постоял у своего стола, задумчиво взял в руки настольный вентилятор и вдруг, резко наклонившись, вцепился зубами в электрический провод.
— Роберт! — не своим голосом завопил Мгасапетов и, опрокинув стул, вскочил.
Путукнуктин последовал его примеру с некоторым опозданием, вызванным замешательством.
Но все было уже кончено. С перекушенным проводом в зубах Роберт Аркадьевич выпрямился. Глаза его были полуприкрыты, как будто он с недоумением прислушивался к себе. Гамлет Варапетович схватил его за один локоть, Слава Путукнуктин — за другой. Ахябьев и не думал сопротивляться.
— Все ясно, — сказал он сквозь зубы и медленно опустился на стул.
Мгасапетов схватил один конец провода и потянул в свою сторону, Путукнуктин — другой.
— Кончена карьера, — тихо проговорил Ахябьев и, поведя плечами, освободился от дружеских рук. — Ну что ж, будем действовать сообразно. — Он посмотрел на Мгасапетова, потом на Путукнуктина, грустно улыбнулся. — Спасибо вам, дорогие мои, — сказал он. — Вы сделали все, что могли, но помочь мне теперь вы не в силах.
Мгасапетов и Путукнуктин переглянулись и с опаской посмотрели на оборванные концы провода.
— Двести двадцать вольт, — сказал Ахябьев деловито, — а в отдельные моменты до двухсот пятидесяти. Болевой шок, паралич речевых, слуховых, зрительных центров, прекращение сердечной деятельности — и, как говорится, можно сливать воду.
Гамлет Варапетович и Слава Путукнуктин в ужасе отступили от ахябьевского стола.
— Займите свои места, — ласково сказал им Роберт Аркадьевич, — и давайте почтим память Ахябьева молчанием. Он был неплохим человеком и пал жертвой научного эксперимента.
Мгасапетов и Путукнуктин повиновались. Минуту в триста пятнадцатой комнате стояла жуткая тишина. Потом лицо Славы Путукнуктина мелко задергалось, он уронил свою голову на стол и заплакал навзрыд. Гамлет Варапетович заморгал и, не нашарив в кармане платка, вытер глаза рукавом замшевой куртки.
— Ну что ж, — как ни в чем не бывало, сказал Ахябьев, — приступим к делу. Гамлет, дорогой, пригласи сюда Никодимова.
11
В глубокой задумчивости Владимир Иванович Фомин возвращался к себе на третий этаж. Чтобы избежать встречи с сотрудниками института, он отказался от услуг лифта и шел пешком по пустынной парадной лестнице, перекрытия и площадки которой были украшены мозаичными панно, изображающими историю развития статистики от первобытных времен до наших дней. Согласно первоначально утвержденному эскизу художник придал отдельным счетчикам прошлого черты руководящих деятелей и учредителей института. Так, в группе кроманьонцев, присевших у костра и пересчитывавших лапы добытого зверя, можно было без труда узнать тов. Хачаврюжина, а молодой Галуа в белоснежной сорочке, со шпагой у бедра, припавший к трюмо в гениальном экстазе, сильно смахивал на Бориса Борисовича Никодимова.
Трагедия автора этих мозаик заключалась в том, что строительство нового здания института затянулось на несколько лет, состав Ученого совета за эти годы сильно изменился, а роль многих деятелей и учредителей была пересмотрена, и отдельные лица, уже вмонтированные, пришлось просто-напросто вырубать долотом, чтобы на их месте выложить новые. Поскольку художническая мысль не поспевала за административной, некоторые лица так и остались выдолбленными.
Владимир Иванович был удручен. Ему не хватало дальновидности представить себе на этом панно свое изображение, снабженное надписью: «Участник Первого Контакта». Личное будущее представлялось Фомину сложным и противоречивым. Он не видел для себя никаких преимуществ в сложившейся ситуации, ему мерещились выездные комиссии, персональные дела и прочие громоздкие мероприятия. Жизненный опыт европейца подсказывал Фомину, что главные хлопоты еще впереди.
Вдруг чей-то пристальный взгляд вырвал Фомина из состояния тусклой задумчивости. Владимир Иванович почувствовал нечто вроде легкого озноба и приостановился. Снизу навстречу ему поднимался начальник отдела пересчета — Борис Борисович Никодимов. Начальник шел, глядя прямо перед собой, и избежать столкновения было невозможно. Собственно, взгляд Никодимова был устремлен поверх головы Фомина, но впечатление пристальности осталось, и это впечатление было неприятным. На фоне пестрой мозаики и румяного лестничного витража фигура начальника казалась угольно-черной, и выражение лица, естественно, было не разобрать. Но даже от контура его фигуры, от очертаний вскинутой головы веяло недоброжелательностью, недоверием, и это было странно, так как никаких огрехов за Фоминым до сегодняшнего дня не имелось, и как раз сегодня утром у проходной они с Никодимовым довольно приветливо раскланялись, так что и в смысле формальной вежливости совесть Фомина также была чиста.
Однако отступать было некуда, и, оказавшись лицом к лицу с начальником отдела, Владимир Иванович с достоинством кивнул и сделал предупредительный шаг в сторону, чтобы Борис Борисович мог пройти своим путем, не посторонившись. Но Никодимов также сделал вежливый шаг в сторону и даже остановился, пропуская Фомина мимо себя. Здесь, собственно, должно было последовать беглое замечание («Пешком решили прогуляться?» или что-нибудь в этом роде), но не последовало, и Фомин (не проходить же молча!) вынужден был произнести нечто невнятное:
— Вот, Борис Борисович, вниз, так сказать, иду.
Никодимов усмехнулся и ответил в том же неопределенном тоне:
— А я, Владимир Иванович, так сказать, вверх. С вашего позволения.
И впечатление неприязни усилилось настолько, что Фомин счел за благо промолчать. Он еще раз кивнул и, приглаживая редкие жесткие волосы, пошел вниз. Колени у него дрожали. Спиной он чувствовал, что Никодимов стоит на той же ступеньке вполоборота и через плечо смотрит ему вслед. Как смотрит, с усмешкой или без, Фомин судить не мог, но никакие земные блага не заставили бы его оглянуться.
Три года Владимир Иванович любовался своим начальником отдела, тщательно фиксировал в памяти жесты его и манеры, а тихий голос Бориса Борисовича казался ему идеальным для современного руководителя. Причем ответного внимания Фомину не было нужно, оно его обеспокоило бы и отяготило. Поэтому Владимир Иванович старался подмечать типические черты поведения своего начальника исподтишка, без назойливости, и вот теперь, на четвертом году совместной с ним работы, знал о нем больше, чем многие другие, даже те, с кем Никодимов был на «ты».
Борис Борисович был человеком сдержанным и культурным. Местоимение «я» он употреблял только в косвенных падежах, даже если для этого ему приходилось выискивать замысловатые обороты: скажем, вместо «Я не согласен» у Никодимова получалось «Мне представляется это сомнительным» — ну и тому подобное. Но в отличие от Гамлета Мгасапетова Борис Борисович не был помешан на деликатности, и «Мне бы хотелось» у него звучало как «Вы, дорогой мой, обязаны». Эта частность поведения, наверно, не была самой главной, но Владимиру Ивановичу льстила мысль, что на месте Никодимова он держал бы себя точно так же.
Вот почему Фомину было вдвойне неприятно почувствовать на себе неприязнь начальника отдела, неприязнь, которую он определенно ничем еще не успел заслужить. До сегодняшнего дня Фомин был уверен, что Борис Борисович хотя и не держит его на примете, как Роберта Ахябьева, но все же неосознанно на него полагается как на исполнительного, надежного, пусть даже «фонового» работника. Теперь же в этом пришла пора усомниться. «Фоновых» работников не замечают оттого, что в них уверены, но уж никак не оглядывают их с неприязнью. Вообразите, что вы бегло взглянули на стену своей комнаты и вдруг почувствовали к ней сильнейшую неприязнь. Наверно, где-то в подсознании у вас уже бродит мысль содрать с этой стены обои либо заставить ее каким-нибудь шифоньером, а то и вовсе проломить ее и сделать сквозной проход.
Ни та, ни другая, ни третья возможности не устраивали Владимира Ивановича. И ему впервые стало очень неуютно в здании института. Даже приказ Г. К. Цереброва вызвал у Фомина лишь приступ жажды деятельности, но вовсе не поколебал его уверенности в том, что уж кто-кто, а он-то здесь, в институте, определенно на своем месте. Теперь от этой уверенности не осталось и следа. Безусловно, у Никодимова были все основания негодовать. Утечка информации шла через отдел пересчета, и это бросало тень на самого начальника отдела, каким бы авторитетом он ни обладал. Безусловно также, что Борис Борисович имел полное право держать подозрение на любого сотрудника группы трюизмов. Но при чем здесь Фомин? Почему такая неприязнь именно к нему? Разве Никодимову не ясно, что «дело о телепатемах» касается кого угодно, только не В. И. Фомина? А если это неясно даже Никодимову, то дела Фомина совсем не блестящи. Любая попытка отмежеваться будет рассмотрена Никодимовым как косвенное доказательство вины. И вот смотрите, что получается. Никодимов не даст в обиду Гамлета Мгасапетова, поскольку сам его назначал. Гамлет защитит Ахябьева, потому что только мыслями Ахябьева он и живет. А Ахябьев курирует молодого Путукнуктина и наверняка поручится за него головой. Все они связаны круговой порукой и наверняка ополчатся на Фомина, который никем не курируем и, как это только выяснилось, ходит под неприязнью начальства. Неизвестно еще, о чем эти трое из триста пятнадцатой договорились в его отсутствие. Тут уж не до самоопределения, речь идет об элементарной самозащите.
Как В. И. Фомин может доказать всему миру, что он никакой не пришелец, а обыкновенный смертный земной младший научный сотрудник? Если им наплевать на анкеты, на служебные характеристики — кто тогда для них В. И. Фомин? Попробуйте в таких условиях доказать элементарное: что вы не зеленый банан.
И тут Владимира Ивановича бросило в жар. Да ведь он же сам себя губит! Вместо того чтобы сидеть тише мыши на своем рабочем месте (как ему советовал «Голубой Идеал»), Фомин, как заправский пришелец, бродит в одиночестве по институту, повергает в обморок секретарш-машинисток (легко вообразить, что рассказывает, очнувшись, Линочка о его внезапном появлении в центре комнаты, с искрами в главах и щупальцами по углам рта), рассматривает закрытые документы, вступает в незаконную связь с «Большим Голубым Идеалом» — и в довершение всего сталкивается с начальством в безлюдных местах!
Как пригвожденный молнией застыл Владимир Иванович на лестничной площадке между пятым и четвертым этажами. Застыл от страшной догадки: а что, если ВСЕМ УЖЕ ВСЕ ПОНЯТНО? А что, если ему только дают возможность бродить в одиночестве по институту, между тем как на его месте в триста пятнадцатой комнате уже сидит нормальный человеческий сотрудник?
Догадка была чудовищно жестокая: когда всем все понятно, лучше идти с повинной. А может быть, он действительно… действительно причастен?
Нет, это невозможно! Владимир Иванович оглянулся, слегка присел и, перепрыгивая через ступеньки, помчался за Никодимовым. «Это невозможно, это невозможно, — повторял он, спотыкаясь, падая на четвереньки и снова устремляясь вперед и вверх. — Это невозможно! Даже если это так… надо опередить, предотвратить, предпринять!»
Он догнал Никодимова между пятым и шестым этажами. Борис Борисович шел не спеша и, видимо, что-то обдумывал на ходу: с начальством это бывает. Услышав за спиной тяжелые прыжки и учащенное дыхание Фомина, он приостановился, напрягся затылком: что ни говори, а когда за тобой вприпрыжку мчатся по лестнице, ощущение не из приятных.
— Борис Борисович! — простонал Фомин, простирая к нему руки.
Никодимов обернулся. Вид Фомина был настолько ужасен, что можно было предположить наихудшее. «Руководить — значит предвидеть», — любил повторять Никодимов, но сейчас он решительно не знал, что ему делать. В полной растерянности Борис Борисович остановился и выставил вперед локоть, чтобы в случае насилия предупредить хотя бы нанесение физического ущерба. Но Фомин замедлил свой бег внизу, в двух шагах, и, упав еще раз на колени, с трудом поднялся и прекратил движение совсем.
— Считаю своим долгом… — прохрипел он, судорожно дыша. — Вы как руководитель… я не могу делать выводов…
— Помилуйте, Владимир Иванович, — со сдержанным негодованием сказал Борис Борисович. — Что с вами, дорогой? Успокойтесь же вы, ради бога!
— Считаю своим долгом… — тяжело ворочая языком, проговорил Фомин. — Гамлет Варапетович своим поведением… оказывает прямое покровительство… двусмысленным элементам.
Как ни был взволнован Владимир Иванович, он выражался нарочито туманно: прямые указания на личность могли лишь ему повредить.
— Ведутся провоцирующие разговоры… — хрипел Фомин, цепляясь за лестничные перила, — о том, что вы и сам товарищ Хачаврюжин имеете отношение к проблеме так называемого пришельца. Не вправе делать выводы, но полагаю, что все это служит лишь прикрытием…
Растерянность Бориса Борисовича прошла и уступила место раздражению. Это и погубило Фомина.
— Прикрытием чего? — спросил Никодимов, пристально глядя в лицо Фомину.
Фомин смертельно побледнел и отступил еще на одну ступеньку.
— В данной ситуации, — невнятно произнес он, — когда чуждый элемент еще не обнаружен…
— Он уже обнаружен, — жестко сказал Никодимов. — Единственный чуждый элемент в нашей системе — это вы. Я только что в этом убедился.
Владимир Иванович пошатнулся, приложил руку к сердцу.
— Клянусь вам… — прошептал он.
Но Никодимов не стал его слушать. Круто повернувшись, он продолжал свой путь наверх. Теперь он шел значительно быстрее и через минуту уже скрылся за поворотом…
— Нет, — тихо сказал Фомин. — Нет!
Но это были последние конвульсии сопротивления. Ощущение отчужденности, потрясшее его десять минут назад, после взгляда Никодимова, теперь захватило Фомина целиком. У него уже не было ни сил, ни желания бороться с этим страшным ощущением.
Фомин стоял довольно высоко над глинистой поверхностью Земли, внутри громоздкого бетонного улья, в каждой ячейке которого тихо копошились и жужжали двуногие. Фомин был переполнен ненавистью к этим хитрым, глазастым, говорливым существам, у каждого из которых были свои мерзкие привычки, свой жалкий образ жизни, свои воинственные мнения и ядовитые остроты. Все это было глубоко чуждо Фомину, чуждо и ненавистно. Теперь-то он отчетливо понимал, зачем его так тянуло к машинам, зачем он так глухо сторонился людей. Эти сумбурные, противоречивые, порочные создания — они даже магнитную намять компьютеров начинили своими противоречиями, шуточками и точками зрения. Фомин был из другого мира — из мира, в котором все ясно и просто, все складывается в систему, исключающую точки зрения, все сводится в абсолютную истину, которую умеют беречь.
Помертвев от решимости, Фомин повернулся к лестничному окну и испустил мощный и в то же время пронзительный, как рев рептилии, телепатический сигнал. Это был бессловесный сигнал, нечто вроде трехголосого рыка: «И-ы-и!» От натуги что-то всхлипнуло у Фомина в затылке, ощущение бесконечного счастья слияния пронзило все его существо, и, глядя сквозь цветной витраж мокрыми от слез главами, Владимир Иванович уже легко и свободно повторил этот безмолвный рык пришельца «И-ы-и!», от которого, взревев, захлебнулись динамики соседнего института и стая галок, попавшая в полосу сверхмощной телепатемы, посыпалась на землю, как крупный пернатый дождь. Фомин был уверен: там, где-то там его услышат, поймут его тоску и его одиночество в этом мире.
— Хорошо же! — вслух сказал Владимир Иванович и облегченно засмеялся. — Хорошо же вам будет! Вы думали, я сдамся, уйду? Ну нет! Вы меня обнаружили — тем хуже для вас. Вам придется меня бояться!
12
Он вошел в триста пятнадцатую комнату крупным тяжелым шагом. Двойная скользящая дверь жирно чавкнула за его спиной. Трое двуногих, нелепо скрючивших свои порочные тушки над гладкими плоскостями рабочих мест, разом вскинули круглые головы. Глаза и ротовые отверстия их расширились, нижние грубо зачехленные конечности поджались.
— Ну что? — спросил их Фомин, стараясь говорить нормальным человеческим голосом. — Не ждали? Соскучились без меня? Вот мы и снова вместе.
Фомин протиснулся на свое рабочее место, устроился, насколько мог, удобно и громко цыкнул зубом. Двуногие растерянно подвигались, но промолчали.
— Вот-вот, — одобрительно сказал Владимир Иванович. — Вы сделали правильные выводы. В моем присутствии лучше держать язык за зубами. Особенно это касается Роберта Аркадьевича, который, по-видимому, является душевнобольным. Впрочем, я еще вплотную не занимался этим вопросом. Дела, знаете ли, дела. Номинальным руководителем группы остается Гамлет Варапетович, однако по поводу всех своих акций он обязан консультироваться лично со мной. А ты, щенок, — Фомин повернулся к Путукнуктину, — вообще должен замереть, понял? И постоянно — учти, постоянно! — смотреть мне в глаза. Каждый должен зажиматься своим делом, остальное пока без изменений. Пока, я повторяю: ПОКА. Вы меня поняли?
С минуту в комнате было тихо. Путукнуктин побелел как бумага и трясся мелкой дрожью, Мгасапетов сидел с отвисшей челюстью, Роберт Ахябьев с жадным интересом наблюдал за Фоминым. Наконец Мгасапетов сглотнул слюну и потянулся к аппарату связи.
— Назад! — рявкнул Фомин. — Без моего ведома никого не вызывать! Распустились!
— Володя, ты перегрелся! — возмущенно сказал Гамлет Варапетович. — Ты должен немедленно пойти домой и лечь в постель. В данной ситуации…
— Оставь его, Гамлет, — мягко сказал Ахябьев. — И не хватайся за трубку: мы же отключены.
— Черт бы подрал этих перестраховщиков! — в сердцах проговорил Мгасапетов. — Вырубили в пять минут, а подключать теперь неделю будут.
— Ну, что касается меня, — возразил ему Роберт Аркадьевич, — то я на собственной шкуре убедился в пользе перестраховки. Не будь у нас в ИКСе осторожных людей, лежал бы я сейчас серьезный и красивый… Двести двадцать вольт, шутка сказать.
Театрально улыбаясь, он подобрал оборванные концы провода и, поставив локти на стол, сомкнул обрывки перед своим лицом. Раздался ужасающий треск, лиловая искра сверкнула над столом Ахябьева, и в ту же минуту вспыхнуло табло внутреннего оповещения: «Эй вы, пришельцы! Прекратите баловаться с проводкой!»
— Однако… — озадаченно пробормотал Роберт Аркадьевич. — А нас уверяют, что никакого контакта не существует.
— Ну, слава тебе господи, — Мгасапетов облегченно вздохнул. — Отбой, ребятки. Все живы, все здоровы и все свои.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — поддакнул Путукнуктин и зарделся. — Но, честно говоря, немножечко жаль. Было так интересно…
Владимир Иванович ошеломленно слушал, вертя головой от одного говорящего к другому.
— Да что здесь, собственно, происходит? — гневно спросил он наконец. — Вы что, с ума посходили? Какой отбой, при чем здесь отбой?
— Видишь ли, Володя, — осторожно сказал Гамлет Варапетович. — Ты, наверно, не совсем в курсе. Только что заходил Никодимов и сообщил нам, что ИПП во всем повинился. Они действительно блефовали, но им пришлось выложить карты на стол. Никаких телепатем не было, нет и, по-видимому, не будет…
Все заледенело у Фомина внутри, но на лице его не дрогнул ни один мускул.
— То есть?.. — промолвил он с неопределенной интонацией.
— Да никаких «то есть»! — осердился Мгасапетов. — Не было, нет и не будет. Тут некоторые нервные товарищи пирожными давились, электропроводку грызли, но ты-то, я надеюсь, не будешь строить из себя пришельца?
Владимир Иванович нахмурился, соображая, потом лицо его прояснилось. Не промолвив ни слова, он выдвинул ящик своего личного каталога, достал карточку с расчетами по теме «Динамика автомобильных катастроф среди курящих женщин Северного Мадагаскара» и погрузился в чтение.
Тихо стало в триста пятнадцатой комнате. Слава Путукнуктин, поджав ноги и склонив голову к плечу, обводил рамочкой какой-то график, Мгасапетов, прикрыв трубку ладонью, вполголоса переговаривался с «Большим Голубым Идеалом», Роберт Аркадьевич, саркастически усмехаясь, набрасывал на уголке газеты колонки цифр. Шла нормальная будничная жизнь. И надпись на табло «А если подумать?» привычно мигала, не будоража воображения.
Но время от времени Владимир Иванович поднимал голову и, щурясь, пристально смотрел в окно. Кожа на затылке его подергивалась, но этого, естественно, никто не видел. Одни только птицы, кружившие над пустырем, старались не попадать в полосу его взгляда.
Выходец с Арбата
1
— Ну вот что, дорогой, — сказал мне Конрад Д. Коркин. — Наш разговор, как вы понимаете, далеко не закончен, но продолжать его в таком тоне, по-видимому, не стоит. Вы слишком взволнованы, ступайте на улицу, дорогой. Остыньте и приходите снова.
Он посмотрел на меня сквозь затемненные очки и улыбнулся одной из самых своих невыносимых улыбок: не ртом, не глазами, а скорее щеками. О, как я ненавидел его в эту минуту! Всего целиком, от коротко подбритых висков до розового платочка, торчавшего из нагрудного кармана. Конрад Д. Коркин был сильнее меня: он умел держать себя в руках, а я нет.
— Снимите очки! — сам того не желая, крикнул я.
Рука Коркина непроизвольно дернулась, и улыбка сползла с его лица.
— Снимите очки и посмотрите мне в глаза! Вы не правы, не правы — и отлично об этом знаете!
— А вот уж тут, — холодно сказал Коркин, — позвольте мне свое суждение иметь. Тему вашу мы закрываем, вопрос решенный. И наказание вы понесете заслуженное, можете не сомневаться. Что же касается ваших встречных претензий, то во второй половине дня, часов около трех, я готов их с вами обсудить… если, конечно, вы будете в состоянии.
Он хлопнул ладонями по столу и медленно поднялся, давая понять, что мне следует уйти. А я… я повернулся и, опустив голову, вышел из кабинета. Я был настолько обессилен этим разговором, что у меня не хватило энергии даже прикрыть как следует дверь, и Марфинька, покачав укоризненно головой, поспешила это дело поправить.
2
Я вышел из института с твердым намерением никогда туда больше не возвращаться. В висках у меня стучало, в голове с фантастической быстротой мелькали планы самой необузданной мести. Луч лазера, перечеркивающий фасад по диагонали, звон стекол, кирпичная крошка, багровые клубы дыма, и над воем этим трепещущий, как бабочка, розовый платочек из нагрудного кармана…
Конрад Д. Коркин был, безусловно, выдающимся ученым: его теории цикличности поведения достаточно, чтобы обессмертить добрый десяток имен. Суть этой теории сейчас ясна даже школьнику: физический цикл — 33 дня, умственный — 28, эмоциональный — 23. Все человеческое неведение представляет собой переплетение этих трех синусоид: от наивысшего подъема к глубокому спаду и далее снова к подъему. Причем возможны весьма любопытные комбинации. Японцы получили другие данные, но они наблюдали только за травматизмом среди таксистов, а Конрад Д. Коркин убежден (и я разделяю его убеждение), что эти данные не отличаются чистотою, так как в наездах и уличных происшествиях участвуют как минимум две стороны и надо еще разобраться, которая из них находилась на спаде и которая на подъеме.
Почему так подробно об этом рассказываю? Да потому, что в процессе дальнейшей разработки теории Коркина между автором и его сотрудниками возник целый ряд разногласий. В частности, я при всем моем уважении к уму и таланту Конрада Дмитриевича пришел к выводу, что некоторые его основополагающие выкладки устарели. Так, например, Конрад Д. Коркин утверждает, что для расчета сегодняшнего состояния субъекта в физическом, умственном и эмоциональном планах достаточно число прожитых им (субъектом) дней разделить соответственно на 33, 28 и 23, и остатки покажут, что именно переживает данный субъект. Но из этого с неизбежностью следует, что в момент рождения человек находится на нулевой точке как в физическом, так и в умственном и в эмоциональном плане. А это в корне неверно, и любая мало-мальски грамотная акушерка подтвердит, что Конрад Д. Коркин не прав.
Чтобы приблизиться к мифической «нулевой точке», я попросил у Конрада Дмитриевича командировку в детские ясли, и он после некоторого колебания согласился. Почти полгода я провел в детских яслях на улице Богдановича, работая там в качестве водопроводчика, собрал неимоверное количество данных, исследовал более полутора тысяч конфликтов, и оставалось только обработать эти данные на машине, чтобы с неопровержимостью доказать ошибку Конрада Д. Коркина.
Однако, вернувшись из командировки, я с изумлением обнаружил, что за полгода институт катастрофически изменился. Конрад Д. Коркин приблизил к себе такого безнадегу, как Бичуев: матерый подтасовщик, этот Бичуев поставил целью доказать, что нулевая точка всех трех синусоид совпадает с первым шлепком, который получает младенец в роддоме. Естественно, такая концепция многим должна была прийтись по душе, и Бичуев быстрым ходом шел к завершению докторской диссертации. А те, кто развивал идею, кто верил в нее и готовил ее к практическому воплощению (в частности, к составлению на ее основе трудовых графиков и расписаний), оказались для Конрада Дмитриевича досадной помехой. Так вышло с беднягой Анисиным, который вынашивал бредовую, но интересную мысль о расчете цикличности, начиная со дня зачатия ребенка, и все просился в командировку, сам не зная куда. Конрад Д. Коркин не разрешил Анисину даже подступиться к исследованиям, а чтобы его интеллект не простаивал, ему было поручено проследить за индивидуальной игрой футболистов команды «Спартак». Так вышло и со мной, но значительно хуже: я допустил довольно крупный ляп. Составленная мною программа не уложилась в девяносто минут, которые я сам для себя заказал, и, проскрипев положенное время и ничего не решив, проклятый ящик перешел к следующей задаче. Обиднее всего было то, что мне не хватило каких-нибудь пяти-шести минут, но машине это совершенно безразлично, а Конрад Д. Коркин получил долгожданный повод и не замедлил этим поводом воспользоваться.
3
Итак, я вышел из института с твердым решением никогда туда больше не возвращаться. Однако, пройдя полквартала, я понемногу стал успокаиваться. В конце концов, ничего кардинального еще не произошло, и уволить меня еще не уволили, и вялое выражение Конрада Дмитриевича «закрываем тему» можно было толковать двояко: с одной стороны — как решимость, ставшую фактором текущего момента, с другой стороны — как действие, еще не предпринятое. В свете этой неопределенности мое поведение стало казаться мне нелепым и нерасчетливым.
Шаги мои замедлились, и вывески на солнечной стороне улицы стали казаться мне привлекательными. Особенно одна задержала на себе мое внимание. «Кафе-мороженое» — было написано широкими буквами над витриной, украшенной пластмассовыми медведями и пингвинами. Где-то что-то связалось в моей голове, и требование Конрада Дмитриевича «Остыньте!» вступило в тайный сговор с этими подтаявшими буквами и с белесым, как бы заиндевевшим стеклом. Я наискось перебежал улицу и вошел в прохладный вестибюль.
Кафе пустовало. Швейцар, лениво вышивавший на пяльцах, покосился на мой плащ, который я перекинул через барьер, и взглядом подтолкнул меня к внутренней двери. Сконфузившись, я прошмыгнул в зал и сел за крайний, возле выхода, столик. Официантка, равнодушно на меня взглянув, продолжала беседовать с буфетчицей, и я получил полную возможность наслаждаться полумраком, прохладой и бездеятельностью сколько вздумается.
4
И в это время в кафе вошел Фарафонов. Сказать, что он сразу бросился мне в глаза, было бы преувеличением. Одет Фарафонов был неказисто, даже подчеркнуто неказисто: в наши дни мало кто разгуливает по центру города в распахнутом ватнике и в кирзовых сапогах. На голове Фарафонова красовалась грязно-голубая кепка, а небритость щек заметна была не только в профиль, но и сзади из-за ушей. Развалистой матросской походкой Фарафонов прошел в середину зала и уселся лицом ко мне, за стол. Тут только в полной мере я смог оценить всю необычность его костюма: под трепаной стеганкой Фарафонов носил светло-серый, тончайшей шерсти пуловер, из-под которого, в свою очередь, виднелся расстегнутый ворот ярко-белой и, несомненно, чистой сорочки. О пуловере я сужу уверенно: точь-в-точь такой же имелся и у безнадеги Бичуева, он привез его из Италии, заплатив за него, дай бог памяти, что-то около трехсот тысяч лир. Лицо у Фарафонова было хмурое и в то же время спокойное: такие лица бывают у людей, которые живут сложно, но, как говорится, со вкусом.
До сих пор я именовал его Фарафоновым, но это вовсе не означает, что фамилия Фарафонов была мне известна с самого начала. До определенного момента я называл про себя Фарафонова «посетителем номер два» или «рецидивистом», поскольку ничего более точного мне на ум не пришло: круглая голова Фарафонова была острижена наголо, и большие толстые уши выдавали характер тяжелый и злопамятный.
5
В отличие от меня Фарафонов не был расположен долго ждать. Снявши мятую кепку, он смахнул ею пыль со стола, а смахнувши, ударил по столу с такой силой, что официантка вздрогнула и, поправив на груди лямки фартучка, цыплячьей походкой направилась к нам.
Я пришел первый, но Фарафонов сидел ближе, и, естественно, первый шквал раздраженной любезности обрушился на него. Фарафонов не дрогнул. Он внимательно выслушал официантку, а потом исподлобья на нее взглянул. Мне показалось, что официантка его узнала. Во всяком случае, она побледнела, растерянно отступила на шаг и сделала какое-то неуклюжее подобие книксена. А Фарафонов, подняв руку и шевеля в воздухе пальцами, невозмутимо принялся объяснять ей, какой формы и каких размеров мороженого он ожидает. Официантка слушала его с изумлением. Я-то знал определенно, что ничего, кроме пары-тройки промороженных шариков, в этом кафе не добиться, и потому внимательно наблюдал за действиями Фарафонова. Судя по движениям его растопыренных пальцев, он желал чего-то кружевного, волнистого и пышного, сам при том не представляя в точности, как оно будет выглядеть. Однако официантка выслушала его до конца и, черкнув что-то в своем блокнотике, подошла ко мне.
— То же самое, — сказал я твердо, — что и этому гражданину.
На своих правах я любил настаивать, хотя и не всегда в этом преуспевал.
Официантка взглянула мне в глаза с беспокойством, но мой хладнокровный взгляд отчего-то ее насмешил.
— Еще чего! — проговорила она с недоброй ухмылкой. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
— Вот как? — сказал я, холодно подняв одну бровь, что, как правило, мне удавалось. — Ну-ка позовите заведующего.
— Ладно, ладно, — брезгливо ответила официантка. — Заведующего ему подавай. Что положено, то и будет положено.
И с высокомерным видом удалилась. Подойдя к буфетчице, она перегнулась через прилавок и о чем-то горячо ей зашептала, поминутно озираясь на Фарафонова, между тем как сам Фарафонов, видимо, считал свой указ утвержденным и, достав из кармана ватника мятую газету, рассеянно ее просматривал.
6
Есть люди, уверенные в себе от природы. Их не волнует вопрос, красиво ли они сидят и насколько убедительно выглядят. И если им захочется, к примеру, высморкаться, они сделают это без промедления, проникновенно глядя вам в глаза. Фарафонов был из таких. Одной рукой он держал газету, другою деловито ощупывал свое ухо и время от времени взглядывал на меня с остреньким, но бессмысленным любопытством — в общем, вел себя так, как ведут себя гориллы в зоопарке: уж они-то совершенно убеждены, что делают все как надо.
Через десять минут официантка появилась из-за перегородки, неся в руках две вазочки: хрустальную, как я сразу понял, для Фарафонова и алюминиевую — для меня. В хрустальной все кипело взбитыми сливками, искрилось разноцветными консервированными фруктами и являло собой то ли вид на Стамбул перед закатом, то ли заснеженный Луна-парк. В моей же катались, постукивая, три леденистых шарика размером с грецкий орех.
Я с детства не люблю взбитых сливок, но наглая несправедливость мне тоже с детства претит. Поэтому, когда официантка, поджав губы, поставила передо мной алюминиевую вазочку, я возмутился.
— Да что ж это такое, в конце концов! — вскричал я. — Заведующего, пожалуйста, и немедля!
— Ну, я заведующая, — глядя в сторону пустыми, как свистульки, глазами, сказала официантка. — В чем дело, гражданин?
— Отчего же вы ему поставили одно, а мне другое? — спросил я плачущим голосом.
Официантка нехотя повернула голову и некоторое время тупо наблюдала, как Фарафонов с жадностью рушит мороженое ложечкой и ест его, ест. Потом она пожала плечами и, ни слова не сказав в ответ, отошла.
7
Тут Фарафонов поднял голову, посмотрел в мою сторону, усмехнулся перепачканными губами и даже, как мне показалось, подмигнул. «Вот так-то, брат! — прочел я в его маленьких глазах. — Это надо уметь!» И нервы мои не выдержали.
— Ненавижу самоуверенных типов, — пробормотал я вполголоса и, схватив свою сиротскую вазочку, двинулся к Фарафонову с туманным намерением сказать ему что-нибудь подобающее, а если получится, то и побить. — Послушайте, приятель! — сказал я Фарафонову на подходе. — Не кажется ли вам, что со мной поступили несправедливо? Я допускаю, что вы зять буфетчицы или замаскированный ревизор, но даже в этом случае вы должны согласиться, что налицо грубое нарушение общепринятых норм…
Увы, мой развязный тон не произвел на Фарафонова ни малейшего впечатления. Кивком указав мне на свободный стул, Фарафонов продолжал увлеченно хлюпать своим мороженым, и я, потоптавшись от неловкости с полминуты, вынужден был присесть к его столу. Фарафонов кушал, низко наклонившись над вазочкой, и я во всех подробностях успел рассмотреть его большую стриженую голову, поверхность которой заметно шевелилась от движения второстепенных мышц. Похоже было, что вызвать его на ссору мне не удастся, поэтому, помолчав, я сделал уже более осторожный заход.
— Возможно, вы просто миллионный посетитель, — сказал я, пригнувшись к столу и пытаясь заглянуть в лицо Фарафонова.
Фарафонов хмыкнул с пренебрежением. Тут сочная капля сливок упала ему прямо на пуловер, и, положив ложечку на стол, Фарафонов принялся озабоченно растирать эту каплю двумя корявыми пальцами. При этом голова его была склонена к плечу, а нижняя губа оттопырилась. Я проклинал себя за то, что подошел к этому типу и заговорил первый, но как выпутаться из ситуации — мне в голову не приходило.
Покончив с каплей, Фарафонов пристально (и очень понимающе) посмотрел на меня и глуховатым голосом сказал:
— А вы мне нравитесь. По-моему, я в вас не ошибся.
— Простите? — пролепетал я, растерявшись. От этих слов повеяло безуминкой, и я, признаться, даже струхнул.
— Я говорю, вы мне понравились, — спокойно пояснил Фарафонов. — Вы сразу мне понравились, поэтому я вас сюда и привел. В такие часы здесь пусто, и можно потолковать от души.
Сомнений у меня не осталось: я умудрился нарваться на психа или на уголовника, и тут уж, как говорится, не до жиру. Поспешно взглянув на часы, я начал осторожно подниматься.
— Ох, извините, совсем забыл… — пробормотал я, сделав сокрушенное лицо. — Бегу, лечу… Приятного вам аппетита.
— Да бросьте вы! — с досадой сказал Фарафонов и взглядом усадил меня на место. Я не оговорился: именно взглядом. Меня как будто небрежно толкнули в плечо, и я безвольно плюхнулся на сиденье. — Я вас сюда привел, и без моего согласия вы не уйдете.
Я затравленно оглядел кафе: швейцар за стеклянной дверью сидел ко мне спиной и, наверно, дремал, обе женщины куда-то исчезли. Я остался с этим типом один на один, терять мне было решительно нечего, поэтому я попытался взять себя в руки.
— Во-первых, — сказал я твердо, — я пришел сюда по собственной воле, и вашего согласия мне не требуется.
— По собственной воле? — переспросил Фарафонов и ухмыльнулся самодовольно. — Ну-ну… Взгляните вон на то животное.
Я резко обернулся, ожидая увидеть нечто ужасное, по ничего достойного внимания там, позади, не заметил. В проходе между столиками стояла пожилая серая кошка. Я хорошо ее помнил: она жила в этом кафе уже несколько лет. Кошка так напряженно смотрела на нас, что хвост, спина и шея ее вытянулись в одну прямую линию, и продолжением этой линии был ее взгляд желтых, тоскливо недоумевающих глаз. Собственно, смотрела она не на меня, а на Фарафонова: чем-то он сумел ее заворожить. «Нет, вряд ли уголовник, — мелькнуло у меня в голове, — скорее заурядный псих».
— Ну и что? — спросил я тусклым голосом. — Обыкновенная домашняя кошка. Или кот. Впрочем, это, как понимаю, не имеет значения.
— Вы правы, — согласился Фарафонов, равнодушно глядя на кошку.
Тут кошка совершила поступок по меньшей мере странный. Хрипло мяукнув, она одним прыжком вскочила на мраморный столик, передними лапами обхватила стаканчик с бумажными салфетками и, прижав его к своей узкой кошачьей груди, спрыгнула на пол. Затем, ковыляя, как обезьяна, на задних лапах, она подбежала к нашему столику и, привстав на цыпочки, протянула стаканчик мне. Вид у бедной кошки при этом был ошалелый: уши приспущены, глаза скошены, морда безумно оскалена. Впрочем, и у меня, наверное, был не лучший вид, потому что Фарафонов насмешливо сказал:
— Стаканчик-то возьмите. Не стоит мучить зверюшку.
Я принял салфетки, и кошка, отпрянув, жалобно мяукнула и нелепым боковым скоком, уже на четырех ногах, умчалась в дальний угол зала. Там она забилась под стол и больше уже не выглядывала.
8
В полной растерянности я посмотрел на Фарафонова, и тут тревожная догадка шевельнулась в моей голове. Действительно, поведение мое в последние полчаса лишено было внутренней логики: Я как-то слишком быстро успокоился на улице (а по натуре остываю очень медленно), решение зайти в кафе было также чересчур импульсивным, да и привычки заводить разговор с незнакомыми людьми я за собой раньше не замечал.
— Послушайте! — сказал я с волнением. — Что вам, собственно, от меня нужно?
— Хороший вопрос, — одобрительно проговорил Фарафонов, — хороший, дельный. Особенно если учесть, что вы сами ко мне подошли.
Я открыл было рот, чтобы возразить, и не нашелся.
— Ешьте мороженое, — ласково сказал мне Фарафонов. — Таять уже начинает.
Я торопливо схватился за ложечку и, не сводя с Фарафонова взгляда, принялся есть. Мысли мои лихорадочно прыгали.
— А я тем временем попытаюсь, — продолжал Фарафонов, — взять, как говорится, быка за рога. Во избежание недоразумений спешу оговориться: я не гипнотизер и не цирковой дрессировщик, все это намного сложнее. Позвольте представиться: Фарафонов Юрий Андреевич, юрист по образованию, а в настоящее время — шофер третьего класса.
Мы оба привстали. Я вытер салфеточкой губы, назвал себя и после некоторого колебания пожал его широкую мозолистую, не очень чисто вымытую руку.
— Так вот, Володя, — сказал Фарафонов, опустившись на место. — Вы мне позволите называть вас Володя? А я для вас отныне просто Юра. Мне кажется, что мы сумеем договориться. Я на распутье, Володя, и мне нужна ваша помощь. Поверьте, роль, которую я собираюсь вам предложить, не сводится к простому ассистированию. В какой-то мере это определяющая и, я бы сказал, руководящая роль.
Я недоверчиво слушал.
— Вы можете спросить, — неторопливо продолжал Фарафонов, — на чем основан мой выбор. Да, честно говоря, ни на чем. Случайно проходя по улице, я вас увидел в тот момент, когда вы, как ошпаренный, выскочили из дверей института и со словами «Прохвост! Мерзавец!» помчались неизвестно куда. Негодование ваше показалось мне чистым, а я, признаться, неплохо разбираюсь в таких вещах: юридическая закваска. Ну и определенную роль сыграла солидная вывеска фирмы, в которой вы, видимо, служите. Короче, я последовал за вами и, извините меня за назойливость, привел вас сюда.
Я содрогнулся от неприязни, но ничего не сказал и сделал все, чтобы лицо мое осталось бесстрастным.
9
— Я чувствую ваше сопротивление, — заметил Фарафонов. — Сожалею, но придется провести еще один маленький эксперимент. Единственно с целью, чтобы вас убедить. Надеюсь, между нами этот эксперимент будет последним.
Глядя в упор на Фарафонова, я напрягся. Я понимал, какого рода эксперимент предстоит, и был намерен бороться до последнего.
Но Юрий Андреевич и не собирался сверлить меня взглядом. Он помолчал, поскреб щетинистый подбородок, озабоченно моргнул, волосы его затрещали сухим треском, без искры, и я готов был уже торжествовать победу, но тут неприятная дрожь прошла у меня по спине, и я услышал себя поющим.
Нет, я не просто услышал, я пел, старательно пел, широко раскрывая рот, какую-то тарабарщину вроде «Анырам о кёзал анымен…», и выходило на мотив «Я помню чудное мгновенье…», хотя слух у меня, прямо скажу, неважнецкий и мелодии такого уровня совершенно мне недоступны. Я пел дрожащим голосом, не в силах с собой совладать, чувствовал я себя преотвратно, но при всем том страстно желал допеть свою песнь до конца, и, когда Фарафонов жестом дал мне понять, что эксперимент закончен, я замолчал с неохотой.
— Ради бога, простите, — сказал Фарафонов, ласково на меня глядя. — Я отлично понимаю, как это неприятно, но, увы, другого способа вас убедить я не вижу.
— Что это было такое? — раздраженно спросил я Фарафонова.
— Один из языков тюркской группы, — пояснил Фарафонов, — который вы, естественно, не знаете.
— Слушайте, вы страшный человек! — сказал я, передернув плечами. — Как вам это удается?
— Может, все-таки гипноз? — простодушно спросил Фарафонов.
— Не считайте меня дурачком, — твердо ответил я. — Гипнозом здесь и не пахнет. Человек, находящийся под гипнозом, не может говорить на незнакомом ему языке, это строго доказано.
— Так вы ж не говорили, — кротко возразил Фарафонов. — Вы пели. И между прочим, пели довольно похабно…
— Это несущественно, — перебил я его, покраснев. — Главное — то, что я себя слышал. Слышал и не мог понять, хотя понять старался. Следовательно, сознание мое вовсе не было подавлено. Подавлена была только моя воля.
— И что же? — спросил Фарафонов.
— Да ничего. Я просто хочу узнать, как вы сами это объясняете.
— А никак! — ухмыльнувшись, сказал Юрий Андреевич. — Пользуюсь, не задумываясь. Как зажигалкой. Я просто говорю себе: человек должен сделать то-то и то-то. А отчего он это делает — меня не касается.
— Не верю! — Я с ненавистью посмотрел Фарафонову в лицо.
Юрий Андреевич снова стал серьезным.
— Зачем же так резко? — проговорил он укоризненно. — Откуда мне, шоферу третьего класса, пусть даже окончившему юридический факультет, откуда мне знать такие тонкости? Положим, для внутреннего обихода я кое-как еще свой дар объясняю. Допустим, все дело в разнице электрического потенциала спинного и головного мозга. Нормальные люди не умеют этой разницей управлять, а Фарафонов умеет. Он посылает на объект низкочастотный импульс, в котором закодирована программа действий, мысленно им проделанных. Но выносить эту доморощенную идейку на суд просвещенной публики Фарафонов стесняется. Впрочем, вы, как я понимаю, тоже не специалист.
— Какого же рода услуги вы от меня требуете?
— Во-первых, я не требую, а только хочу. Во-вторых, не услуги, а сотрудничества. Притом добровольного. Иначе, простите, наш разговор беспредметен. Я мог бы заставить вас… виноват, об этом больше ни слова. Я вижу, эта тема вам неприятна. Согласны ли вы со мною сотрудничать?
— Конечно, нет! — сказал я жестко. — По крайней мере, до тех пор, пока не узнаю, в чем это сотрудничество будет выражаться.
— Ну, это само собой! — добродушно проговорил Фарафонов. — Но прежде скажите мне откровенно: как вы считаете, возможно ли этот мой дар использовать в каких-либо высоких генеральных целях? Или же Фарафонов — пустая игрушка природы?
Вопрос Юрия Андреевича застал меня врасплох. Но, поразмыслив, я вынужден был согласиться, что дар этот небесполезен. При этом в заднем углу моего сознания метнулась смутная мыслишка о Конраде Д. Коркине, но я заставил себя о ней позабыть.
— Отлично! — с удовлетворением сказал Фарафонов. — Ну а теперь ответьте на такой вопрос, — при этом он понизил голос и навалился грудью на стол. — Вы сами не могли бы эти цели определить? А, Володя?
Пожав плечами, я ответил в том смысле, что так вот, сразу, без подготовки, — нет, не рискнул бы.
— Да кой вам черт сказал, что без подготовки? — рассердился Фарафонов. — Готовьтесь, размышляйте, определяйте — и будем работать рука, так сказать, об руку. Любое ваше указание Фарафонов примет беспрекословно. Могу дать письменные гарантии.
10
Я взволновался: согласитесь, было от чего взволноваться. Такого предложения я от Юрия Андреевича не ожидал. Чего ожидал? Да чего угодно, вплоть до проекта ограбления банка или похищения авиалайнера.
— А сами-то вы что же? — спросил я осторожно я тоже понижая голос.
— Я пас, — устало усмехнувшись, сказал Фарафонов. — Фантазии не хватает. Вот кошек мучить — на это я гожусь. Официанток дрессировать — тоже. И знаете, тоска иногда забирает: такой, понимаете ли, уникальный дар, а тратится на мелочи. Нелепость, трагическая нелепость!
Впервые за время нашего разговора в голосе Юрия Андреевича прозвучало неподдельное чувство, и это меня тронуло. Я посмотрел на Фарафонова внимательнее. Передо мной сидел усталый человек, изрядно потрепанный жизнью и почти наверняка одинокий. Мешки под глазами, седина в волосах, корявые пальцы с нечищеными ногтями. Маленькие глазки его терпеливо моргали и даже как будто слезились.
— Ведь если разобраться, — после паузы продолжал он, — практически Фарафонов всесилен. Он может кого угодно толкнуть на какой угодно поступок. Нет в мире человека, который в присутствии Фарафонова сумел бы сбалансировать свой электрический потенциал. Наполеон и Бисмарк, царь Дарий и Рамзес Второй ходили бы передо мной на задних лапках. Но я не рвусь в большую историю. Более того: ее ход меня в общем устраивает. Есть сотни тысяч обыкновенных людей, которые по тем или иным причинам тормозят естественный прогресс. Найти их, подтолкнуть в критическую минуту — и механизм большой истории станет работать без перебоев. Но как найти? Кого подтолкнуть? А может быть, удержать? Тут Фарафонов прискорбно некомпетентен.
— Конечно, ответственность на вас огромная, — сказал я уже значительно более миролюбиво. — И то, что вы не хотите всецело на себя полагаться, свидетельствует в вашу пользу. Во самым простым и естественным шагом было бы, не доверяясь частному лицу, обратиться в соответствующие организации.
Юрий Андреевич нахмурился.
— Какие же, по-вашему, организации, — спросил он угрюмо, — должны заинтересоваться Фарафоновым? Министерство юстиции? Или, может быть, Министерство культуры?
— А почему бы и нет? — сказал я, воодушевляясь. — На первых порах поставить перед собой частную задачу… к примеру, предотвращение правонарушений. Чувство перспективы придет после первых же успехов.
— Ко мне — возможно, к организации — сомневаюсь, — возразил Фарафонов. — Я далеко не уверен, что природа нацелила Фарафонова на предотвращение правонарушений, как вы изволили выразиться. Кроме того, чисто технически это довольно сложно. Чтением мыслей Фарафонов не занимается и оказаться на месте преступления за минуту до начала он может только случайно. Преступление, как правило, непредсказуемо, Володя, вы об этом забыли. А большинство решающих поступков предсказуемо и совершается как раз в рамках правовых норм. Либо не совершается. И тут никакие организации не помогут.
— Пожалуй, вы правы, — пробормотал я и сильно сконфузился, потому что в голове моей опять тревожно шевельнулась мысль о Конраде Д., который, черт бы его подрал, действовал в строгом соответствии с нормами. А между тем достаточно было бы одного его росчерка, чтобы… Конечно, Конрад Д. Коркин — не кошка, под стол его так просто не загонишь, но все-таки…
— Вот видите, — сказал Фарафонов, пытливо глядя мне в глаза. — На памяти у каждого есть десятки юридически безупречных поступков, которые не грех было бы предотвратить Один поступок цепляется за другой, другой — за третий, так потихонечку можно распутать целый клубок поступков, и шестеренка прогресса закрутится без помех.
Воистину Юрий Андреевич целил в больное место моей совести. Пытаясь как-то предупредить развитие его логики, я сделал неуклюжий выпад.
— На памяти у каждого, вы говорите? — спросил я с излишней агрессивностью. — Так почему бы вам не начать со своего опыта, не прибегая к услугам посторонних? Не все ли равно, с какого конца начинать?
Юрий Андреевич покачал головой.
— Какие поступки могут быть на памяти у шофера третьего класса? Ну, трешник механику, трешник сторожу, рубль общественному инспектору ГАИ. Разве можно это сравнить с тем, что порой происходит в вашем научном мире? в кибернетике, например? или в генетике? Ведь все это цепочка действий, которые можно было бы предотвратить. Напрасно вы недооцениваете Фарафонова. А разве то, что случилось с вами, не вызовет перебоя в общем ходе истории?
Я был уверен, что вызовет, но предпочел сменить тему нашего разговора.
— Простите, Юра, — сказал я поспешно, — для полноты картины вы мне должны объяснить, как получилось, что вы с дипломом юриста оказались шофером третьего класса. Поймите меня правильное это очень сбивает с толку.
— Для полноты картины? — задумчиво переспросил Фарафонов. — Ну что ж, вполне резонное требование. Но будет лучше, если я расскажу вам по порядку о том пути, который Фарафонов прошел. Скажите, как у вас со временем? Располагаете?
Я посмотрел на часы и ответил утвердительно. Конрад Дмитриевич дал мне возможность одуматься, и, следовательно, до трех часов я был свободен.
— Давайте создадим рабочую обстановку, — сказал Фарафонов.
Он поднял руку, щелкнул пальцами, и официантка, заметавшись за стойкой, достала из-под прилавка бутылку и, захватив по пути два фужера, устремилась к нам. Когда бутылка оказалась на нашем столике, я рот открыл от изумления: это была «Хванчкара».
— Вы даже так умеете? — спросил я вполголоса.
— В каком, собственно, смысле? — осведомился Фарафонов, разливая вино.
— В смысле — не глядя.
Юрий Андреевич пожал плечами.
— Не понимаю, — сказал он пренебрежительно, — отчего все уверены, что дело во взгляде. Взгляд ни при чем. Центр регулирования находится где-то в области поясницы. Достаточно напрячь определенную мышцу — примерно между почками, — и электрический потенциал спинного мозга начинает стремительно падать. Либо расти. Здесь главное — чувство меры, иначе опыт может кончиться параличом.
Я шевельнул лопатками — никакие мышцы не напрягались.
— Ну-ну, — благодушно сказал Фарафонов, — не суетитесь. Вы — средний горожанин, у вас эта мышца почти полностью атрофировалась.
— Это почему же? — спросил я с обидой.
— Да потому, что ваш баланс всегда на нулях. В условиях городской скученности это мера самозащиты. Не тронь меня — и я тебя не трону.
— Так что же, деревенский житель — он в этом смысле имеет больше шансов на успех?
— Абсолютно неверный вывод. Направленный импульс возможен только в насыщенной среде. Когда же деревенский житель попадает в город — он вынужден приспособиться к требованиям среды и замыкает свой потенциал на нулях. В противном случае ему не выжить. Рубаха-парень в городских условиях невозможен: он вырождается в заурядного хулигана.
— А как же вам удалось уцелеть?
— Ну, Фарафонов — это особый случай. Явление природы, так сказать. Выходец с Арбата. Однако не пора ли нам перейти к делу?
11
Мы подняли фужеры и, благосклонно кивнув друг другу, отхлебнули вина. Точнее, это Юрий Андреевич кивнул мне благосклонно, мой же кивок получился намного почтительнее, чем мне хотелось бы. Но об этом лучше не вспоминать.
— Впервые Фарафонов осознал свою власть над людьми, — заговорил Юрий Андреевич, облизнув губы, — двенадцать лет назад, когда он был студентом третьего курса. Я извиняюсь, что говорю о себе в третьем лице, так мне удобнее. Как личность я вынужден отстраняться от явления природы, которое во мне заключено. Итак, двенадцать лет назад Фарафонов был заурядным студентом юридического факультета и вовсе не тяготился своей заурядностью. Он был развязен, общителен, слегка нахален и мелкие удачи в личной жизни приписывал исключительно этим качествам. Он бессознательно эксплуатировал сферу услуг: бесплатно ездил на транспорте, не признавал очередей, пользовался исключительным вниманием продавщиц и официанток, проблема мелкого дефицита в торговле для него вовсе не существовала. Он твердо знал за собой одно: достаточно ему чистосердечно взглянуть на контролера или на продавца — и те, смущенно улыбаясь, становятся любезны. Но отчего это так — Фарафонов не считал нужным задумываться. Он был довольно стеснен в средствах, и это обстоятельство служило своеобразным барьером, удерживавшим его от крупных авантюр: так, Фарафонов инстинктивно сторонился ювелирных магазинов, сберегательных касс и прочих мест, где оборачиваются большие суммы, хотя ничто не мешало ему, например, отобедать в «Узбекистане» и уйти, не заплатив ни копейки. От этой милой привычки он, кстати, не сумел избавиться и до сих пор. Короче, Фарафонов жил припеваючи: он был завсегдатаем Дома журналистов, Дома ученых и прочих мест ограниченного доступа, он был завзятым театралом, и билетеры Большого театра настолько привыкли к его посещениям, что перестали удивляться, когда он проходил мимо них с таким видом, будто он по меньшей мере племянник самого Шаляпина. Одно лишь обстоятельство огорчало Фарафонова: девушки не любили его. Он не был волокитой, о нет, он принимал как должное тот факт, что на любое его предложение любая девушка отвечала поспешным согласием, и пользовался своим, как он думал тогда, обаянием только в случае крайней нужды. Но всякий раз Фарафонова обескураживало то, что девушка, вчера охотно пошедшая ему навстречу, сегодня упорно его избегает, смотрит издали с неприязнью и рассказывает о нем гадости своим близким подругам. Особенно тягостны были интимные разговоры по телефону. Фарафонов никак не мог понять, отчего, говоря со своими девчушками по телефону, он, становится таким нудным, назойливым, отчего он при этом встречает суровый отпор. Удивительно, как близок он бывал иногда к решающему выводу… но время выводов для него еще не наступило.
Юрий Андреевич умолк, с жадностью отпил половину бокала и, не глядя на меня, закурил. Я смотрел на него с состраданием.
12
— Это мелочь, конечно, — продолжал Юрий Андреевич, спрятав от меня свое лицо за густыми клубами дыма, — но приходится говорить и о мелочах. Дело в том, что пять лет спустя, когда дар Фарафонова был им вполне осознан, он заставил себя позабыть свой предыдущий опыт и пустился в одну затяжную лирическую авантюру, которая продолжалась два года и закончилась, скажем прямо, трагически. Я не стану пока вдаваться в подробности: вероятно, суть дела довольно ясна. Ограничусь анкетными сведениями: в настоящее время Фарафонов — бездетный вдовец, в каковом состоянии он намерен дожить до конца своих дней. Но вернемся к тем блаженным языческим временам, когда юный Фарафонов огорчался и торжествовал, не подозревая, что в нем заключено неясное и грозное явление природы. Понимание наступило внезапно: на одном из спектаклей (не хочу говорить, на каком, театральная Москва целый год потом об этом судачила) спесивый М***, которого Фарафонов недолюбливал, вдруг разрушил налаженную мизансцену, побледнел и умолк, а потом решительным шагом подошел к рампе и, глядя в зал, отчетливо произнес: «А шли бы вы, ребятки, домой. Мне аж смотреть на вас противно». Зал молчал, полагая, что так оно, видно, и надо, только старые театралы взволнованно зашептались, а виновник происшествия, потрясенный, сидел в третьем ряду и дрожал мелкой дрожью. Фарафонов был, в сущности, добрый малый, никому он не желал причинять зло: видимо, злополучная мышца сократилась непроизвольно. Тем не менее импульс, посланный им, был настолько силен, что и сам Фарафонов, и несчастный М*** оказались практически парализованными. Позвоночник Фарафонова был как будто пронизан молнией, и от судороги пальцы на руках его скрючились и окостенели. Очевидно, М*** испытывал такие же ощущения. Он стоял как вкопанный, остолбенело глядя в зал, и когда, наконец, двое статистов подбежали к нему и схватили под руки, собираясь утащить за кулисы, их, наверно, тоже прилично тряхнуло, но они, преодолев страх, мужественно со своим делом справились. Ноги М*** волочились по полу, не сгибаясь, руки были скрещены на груди, лицо неподвижно. Публика заволновалась. «Занавес! — закричали с балкона. — Занавес!» Но занавеса в этом театре не было по причинам эстетического характера, и актеры стали покидать площадку, а в это время сообразительный механик запустил мотор, и минут, наверно, десять пустая сцена медленно вращалась, демонстрируя публике весь набор декораций. Зал притих, колеса театральной машины уныло поскрипывали, а Фарафонов корчился в своем кресле, безуспешно пытаясь справиться с параличом. От мысли, что и его понесут из зала, как сидячую статую, и тогда-то уж все обнаружится, Фарафонова бросило в холодный пот, но руки и ноги его по-прежнему не слушались. Что именно обнаружится, Фарафонов тогда еще отчетливо не представлял: ему понадобилось полгода, чтобы разобраться в случившемся. Наконец на сцену вышел второй режиссер. Извинившись перед публикой, он сообщил, что у М*** нервный приступ на почве переутомления, но теперь ему стало лучше, и, поскольку заменить его некем, спектакль будет продолжен с его участием. Как ни странно, слова «нервный приступ» благотворно подействовали на Фарафонова: это было хоть какое-то объяснение, и Фарафонов с облегчением почувствовал, что способность двигаться к нему возвращается. Первым его побуждением было встать и покинуть зал, но вся публика терпеливо сидела, дожидаясь конца скандала, и Фарафонов остался на месте, боясь привлечь внимание к своей персоне. Между тем на сцене появился подтянутый и чопорный М***, зал встретил его дружными аплодисментами, и спектакль продолжался. Этот час был одним из самых трудных в жизни Фарафонова. Он сидел, закрыв глаза, и с тоской прислушивался к себе: мышца между почками то и дело судорожно сокращалась, а остановить этот процесс Фарафонов еще не умел. Он научится делать это через два года…
13
Я заметил про себя, что рассказ Юрия Андреевича становится все более возвышенным по тону, но не слишком этому удивился: попробуйте сохранить естественную интонацию, повествуя о себе в третьем лице. Ваш рассказ непременно сползет к примитивному юмору, Фарафонов же не мог себе этого позволить: он к себе относился чрезвычайно серьезно.
О странном происшествии с М*** я достаточно был наслышан. Правда, мне говорили, что М*** явился на сцену «вусмерть пьяный» и в разгаре спектакля произнес зажигательный монолог о вреде алкогольных напитков. Монолог этот будто бы в тексте не значился, но настолько удачно вписался, что публика проглотила его, не пошевелив и бровью. Анекдоты такого рода всегда вызывали у меня недоверие, вот почему фарафоновская трактовка показалась мне убедительной.
— Как бы то ни было, — продолжал Юрий Андреевич, наливая мне и себе «Хванчкары», между тем как официантка (я это видел поверх его плеча) доставала из шкафчика вторую бутылку, — как бы то ни было, безмятежная жизнь Фарафонова кончилась. Дома, после спектакля, взвесив все «за» и «против», он пришел к окончательному выводу, что нервный припадок здесь ни при чем, а все дело в некотором свойстве Фарафонова, которое он до сих пор ошибочно считал обаянием. В это объяснение так ровно укладывались все предыдущие удачи Фарафонова, так корректно вписывалась загадочная неприязнь сокурсниц (и трагизм телефонных разговоров тоже: видимо, для проявления дара требовалось личное присутствие объекта), что оставалось только удивляться, как долго Фарафонов ни о чем не догадывался. С этого вечера (или, точнее, ночи, поскольку юный Фарафонов, что совершенно естественно, провел в размышлениях всю ночь), так вот с этой ночи начался второй период жизни Фарафонова: период изучения. Фарафонов был достаточно умен и осторожен, чтобы понять, что безоглядный переход к эксплуатации дара чреват непредвиденными осложнениями. Необходимо было установить, во-первых, принцип действия дара, во-вторых, его механизм, в-третьих, последствия для организма самого Фарафонова. И только тогда уже перейти к сознательной целенаправленной эксплуатации. Первая задача, к сожалению, так и осталась невыполненной. Удалось лишь определить, что дар Фарафонова имеет электрическую и волновую природу: при попытке воздействия на диктора Центрального телевидения (точнее, на его изображение — при условии, что передача ведется прямо со студии) на экране телевизора возникали помехи. Сам импульс удавалось генерировать довольно легко: посредством незначительного напряжения определенной внутренней мышцы. Но странно: то, что раньше давалось Фарафонову без всяких трудов (а именно, соразмерение силы напряжения с мощностью импульса), теперь, когда Фарафонов осознал свой дар, доставляло ему немало хлопот. Он то и дело подходил к опасной черте «позвоночного шока» и пуще смерти боялся переступить эту черту, как тогда, в театре, что его, конечно, сковывало. Я повторяю: регулировать сокращение злополучной мышцы Фарафонов научился лишь через два года. Вернее, не научился, а вспомнил, как это делается: по-видимому, дар был придан ему от природы, и осознание только помешало этим даром пользоваться. Что же касается фокусировки импульса, то для нее необходима была концентрация воли и внимания, что требовало присутствия объекта в поле зрения. Попытки же заочного воздействия не имели успеха. И массового воздействия — тоже. Поэтому сфера действия дара была довольно ограничена — и остается таковою до сих пор. Зато сопротивление импульсу со стороны объекта оказалось совершенно ничтожным. В своих экспериментах Фарафонов наталкивался иногда на отдельные волевые особи, потенциал которых не был наглухо сбалансирован, но и в таких случаях достаточно было Фарафонову чуть больше напрячься — и чужая воля оказывалась сломленной. Однако до времени Фарафонов приказал себе быть осторожным. Он запретил себе бесплатные поездки на транспорте, обеды в ресторанах «за счет испанского короля», покупки модных галстуков и подтяжек, транспортные знакомства с девушками и прочие мелкие радости, которые делали его жизнь такой безмятежной. Он стал суров, необщителен и сосредоточен. Знакомые говорили, что Фарафонов неожиданно повзрослел, да так оно, наверно, и было. Два долгих года Фарафонов изучал себя, тренировал себя и разрешал себе одни лишь бескорыстные эксперименты. Он начал с бродячих животных, и вскоре все беспризорные собаки в районе стали его узнавать, а узнав — разбегались по подворотням. Опыты на собаках позволили Фарафонову установить дальнодействие дара (примерно четверть километра), его проницающую способность (любой непрозрачный экран, пусть даже лист бумаги, служил для него непреодолимым препятствием), а также устойчивость эффекта (две-три минуты после импульса, затем животные спасались бегством, и проследить за их дальнейшим поведением было довольно сложно). Позднее Фарафонов перешел к экспериментам на людях, и одинокие прохожие, имевшие несчастье появиться под окном его комнатушки, стали совершать нелепые поступки: кричать петухом, кувыркаться, произносить трагические реплики и делать безуспешные попытки взлететь. И любопытный феномен замечен был Фарафоновым: собаки и кошки, попавшие под импульс, приходили в ужас и спасались бегством, человек же, как правило, вел себя по-иному. Человек прежде всего озирался и, убедившись, что свидетелей поблизости нет, начинал мысленно вписывать свой поступок в общий ход событий. Обыкновенно это ему удавалось, и, успокоившись, он уходил восвояси, но уходил уже другим. Надломленным? Вряд ли. Встревоженным? Тоже вряд ли. Скорее ожидающим рецидива и где-то в глубине души привыкающим к этому ожиданию. Особенно Фарафонов любил подлавливать упоенных собой одиночек: они так старательно выполняли приказ Фарафонова, а выполнив, сконфуженно улыбались и через некоторое время проделывали то же самое, уже без всякого к тому побуждения, по собственной инициативе. Из этого Фарафонов сделал вывод о консервативности человеческой психики, не терпящей в себе противоречий, и далеко идущее заключение о том, что поступки делают человека и во многом определяют его дальнейшую судьбу. Разумеется, это относится к вынужденным поступкам; они влияют на психику человека куда сильнее, чем самое тонкое, продуманное воспитание. Достаточно однажды заставить человека совершить нечто ему не свойственное — и всю свою оставшуюся жизнь он будет ждать повторения ситуации и внутренне готовиться к ней. Два-три таких вынужденных поступка — и человек перекован. Мы знаем, как влияют на детей суровые наказания, и пользуемся этим без зазрения совести, а между тем взрослый человек точно так же не застрахован от переделки: у него только больше возможностей показать свое предыдущее «я». Фарафонов же тем и силен, что не оставляет надежды на самоопределение: ни ребенку, ни взрослому, ни животному.
Юрий Андреевич с жадностью закурил новую сигарету, и я получил возможность осмыслить его правоту.
Действительно, люди в своем большинстве далеко не безнадежны и, раз совершивши благое дело, в дальнейшем стараются держаться на уровне. А если на добрые поступки подталкивать их не раз, и не два, и не три?
Я мысленно прикинул предполагаемую программу действий Конрада Д. Коркина — в том случае, если Фарафонову удастся его подтолкнуть. А почему, собственно, нет?
Я настолько увлекся розыгрышем этой партии, что совсем забыл о Фарафонове. Более того: я сам уже мыслил себя Фарафоновым и в нужный момент, когда мой воображаемый противник начинал сопротивляться и медлить, я подталкивал его осторожным, но мощным волевым импульсом. Между тем Фарафонов курил и смотрел на меня с тихой доброй отеческой усмешкой. Уловив наконец его взгляд, я встряхнул головой и изобразил на лице напряженное любопытство.
14
— Естественно, такой крутой перелом не мог не сказаться на психике Фарафонова, — продолжал Юрий Андреевич, сделав вид, что ничего не заметил. — Два года Фарафонов жил анахоретом, часами просиживая на подоконнике своей комнаты в районе старого Арбата, и тихая старушка, у которой он эту комнату снимал, начала подумывать, что ее квартирант тронулся. Действительно, Фарафонов стал ловить себя на том, что он разговаривает сам с собой и, глядя вниз, на улицу, злобно и беспричинно смеется. Все чаще его подмывало заставить нетерпеливого таксиста совершить двойной обгон, а маляра — вылить краску на голову прохожим. Фарафонов утешал себя мыслью, что может устроить такую уличную пробку, что за неделю не развести. Машины под его окном выписывали опасные зигзаги, а продавец в овощном ларьке то и дело брал из ящика увесистую свеклу и подкидывал ее одной рукой с таким видом, как будто собирается запустить ею в витрину напротив. С огромным трудом Фарафонову удавалось удержаться от искушения, и, чтобы добиться разрядки и не натворить бед, он разрешил себе невинные шалости над ближними, чего раньше не допускал: все клиенты его до сих пор были случайными прохожими и заведомо незнакомыми людьми. Даже болонку в окне противоположного дома Фарафонов до сих пор не трогал, хотя она маячила за стеклом с утра до позднего вечера и с барственным недоумением наблюдала за уличными животными, которые под окном Фарафонова выделывали немыслимые номера. Фарафонов не хотел возбуждать подозрения, но за два года в душе его накопилось целое море неутоленных страстей — далеко не всегда высоких и чистых. И вот однокурсники его стали один за другим совершать странные, необъяснимые поступки. Симпатичная юристочка, которая в свое время была Фарафонову небезразлична, в середине лекции вдруг нарисовала себе чернилами усы и, вспрыгнув на стол, звонко крикнула: «За мной, драгуны!» (Кстати, эта шутка оказалась наименее удачной: бедняжке пришлось взять академический отпуск. И опять же кстати: вернувшись из отпуска, эта скромненькая девушка превратилась в разбитную вульгарную особу, одно имя которой заставляло трепетать все младшие курсы. Это служит лишним подтверждением тезиса о психической необратимости поступка — тезиса, который был заявлен мной несколько выше.) Любимца всего курса, элегантного шансонье Мишеньку Амарова, Фарафонов принуждал публично хрюкать, и надобно сказать, что эта безобидная шалость также не прошла бесследно: как-то быстро Мишенька опустился, стал неряшлив, потолстел и в конце концов мрачно, запил. А толстушка Мальцева, знаменитая на весь факультет лентяйка и двоечница, встретив в коридоре доцента Савина, неожиданно кинулась ему на шею и принялась целовать. Удивительно, однако: года три назад я случайно узнал, что эти двое поженились, наплодили детей и живут, как говорится, душа в душу. Много шалостей учинил Фарафонов за последний год учебы, всего и не упомнишь. Он шалил безнаказанно, но, по-видимому, люди рядом с ним, пытаясь установить причину, делали какие-то инстинктивные прикидки, и Фарафонов приобрел репутацию угрюмого насмешника, холодного и циничного гордеца, к тому же еще и карьериста. Вокруг него создалась атмосфера неуверенности и нервозности, и, как следствие этого, человеческий вакуум. Такой дорогой ценой Фарафонов покупал уверенность в себе — взамен безмятежного нахальства, которое им было утрачено. Сама же уверенность нужна была Фарафонову для других, настоящих дел, которые он тогда еще смутно предчувствовал.
Я слушал Юрия Андреевича и с тайным удовлетворением замечал, что возвышенный тон его рассказа вступает во все более явное противоречие с ничтожеством, незначительностью образа действий. Жалкие шалости студенческих лет, лишенные малейшего проблеска фантазии, позволяли мне думать, что без меня Фарафонову действительно не обойтись. Чего-чего, а широты души ему явно недоставало. Я еще я трезво и деловито размышлял, как бы мне пристроить Фарафонова у себя в институте. Совершенно ясно было, что морально Юрий Андреевич еще не созрел: слишком упивался он рассказом о своих мелких подлостях, возводя каждый фактик в ранг значительного явления. Фарафонов нуждался в опеке: выпускать такого человека из виду было бы преступно. Бесконтрольный, он мог оказаться опасным, и направить его способности по хорошему руслу я был просто обязан.
15
— В гордом одиночестве, — продолжал Юрий Андреевич, — Фарафонов окончил юридический факультет и тем самым подвел черту под третьим периодом своего развития, который я бы назвал периодом шалостей гения. Не подумайте дурного: Фарафонов заработал свой диплом честным путем, он трудился как одержимый и ни разу не помыслил прибегнуть к помощи своего дара. Это дает мне основания утверждать, что Фарафонов был порядочным человеком: ведь ничто не мешало ему подвергать импульсу экзаменаторов. Вы скептически усмехаетесь, я вижу, но повремените, иначе вам придется пожалеть о своей усмешке. Годы стоической борьбы с самим собой не прошли для Фарафонова даром. Явилась Женщина… я не хочу называть ее имя, да это и несущественно: ее больше нет. Явилась Женщина, и сердце Фарафонова дрогнуло. Истосковавшись по человеческой близости, он сделал все, чтобы этой близости добиться. Впрочем, это оказалось нетрудно. Она не любила его, Она была слишком красива для Фарафонова, но Фарафонов не желал этого замечать. Всю мощь своего дара, весь арсенал попутных удач, накопленный еще в первом периоде, Фарафонов направил на достижение цели — и оказался собственной жертвой. Легкость успеха обманула его. Тут бы самое время и вспомнить о старинных лирических тяготах, но какое там! Фарафонов совершенно потерял голову. Сгоряча он предложил руку и сердце — и, естественно, получил абсолютное согласие. О, это была невыносимая жизнь. Поначалу бедняга Фарафонов дал себе клятву добиться от Нее добровольности: должна же была сказаться необратимость поступка! Но стоило ему хоть на минуту забыть о своем злополучном даре, как он ловил на себе ее недоуменный вопросительный взгляд. Необратимость не сказывалась — наверное, потому, что он был слишком нетерпелив и слишком любил Ее. В его распоряжении было такое надежное средство, как дар, и он пользовался им почти непрерывно, утешая себя иллюзией бурной любви. И, что особенно странно, необходимый для этой иллюзии импульс с каждым днем становился мощнее, а ведь где-то (Фарафонов отлично об этом помнил) — где-то был предел психических сил. Отступить означало оказаться перед лицом горького недоумения Любимой Женщины, бесконечное же принуждение Ее к любви было попросту невозможным. На собственном горьком опыте Фарафонов постиг полузабытую истину: принуждение порождает сопротивление. Несчастный Мишенька Амаров пал жертвой этого закона: он не нашел виновника своего позора и обратил ненависть на самого себя. Тут аналогичный случай: виновник находился перед глазами Ее почти постоянно, и жаждал находиться, и этим, собственно, жил. Два года продолжалась эта жуткая пытка, и наконец Фарафонов не выдержал. Почувствовав, что силы уже на пределе, он рассказал Ей все. К его удивлению, Она отнеслась к этой исповеди очень спокойно: интуиция давно уже нашептывала Ей, что дело нечисто. Но на следующий день…
Юрий Андреевич замолчал, лицо его болезненно сморщилось. Трясущейся рукой он поднял фужер, до краев наполненный красным вином, сделал крупный глоток, прикрыл глаза…
— Это был неизбежный конец, — продолжал он после паузы. — Это можно было предвидеть. Вы моложе меня, Володя, и, наверно, склонны к осуждению. Дело ваше: я и не пытаюсь оправдываться. Но поверьте: Фарафонов искренне надеялся на лучший исход. Стремясь предотвратить неизбежное, Фарафонов окружил эту Женщину тихими удобствами, благополучием, лаской, уютом. Он стремился предупредить все Ее желания (впрочем, довольно умеренные), а на это, простите за грубую правду, нужны были деньги, не большие, но и не малые: жалованья, которое он получал в юридической консультации, катастрофически не хватало. И пришлось Фарафонову запятнать свою совесть опытом, не совсем благородным. В числе клиентов, которые являлись к Фарафонову на консультацию, оказался человек, терзаемый обоснованными опасениями. Он попросил совета по вопросу о доверенности на вождение автомобиля, но при этом так темнил, так охотно сворачивал на побочные темы, что Фарафонов заинтересовался этим клиентом. Незначительного импульса оказалось достаточно, чтобы клиент «раскололся» и выложил все без утайки. Человек этот был замешан в сложных валютных махинациях и, сознавшись, до того напугался, что готов был пойти на любые жертвы… Постарайтесь войти в положение: до сих пор Фарафонов был гол как сокол и не помышлял о домашнем комфорте. Он не нажил еще ничего, кроме пары штанов да угла за двадцатку в месяц. Начинать с этим личную жизнь, подвергать свое счастье испытанию бытом Фарафонов не смел. Так случилось непоправимое: Фарафонов пошел на нечистую сделку. Если бы он знал тогда, что и это не поможет… но не будем ханжить: даже если бы он и знал, все равно он пошел бы на эту сделку. Иного выхода у Фарафонова не было. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтоб вы поняли, как, когда и почему Фарафонов утратил моральные ориентиры.
Я слушал Юрия Андреевича с нарастающим беспокойством: ответственность за это признание начинала меня тяготить. Но, по крайней мере, становилось понятнее, отчего он так тянется к постороннему человеку, отчего не доверяет себе самому. Совершив тяжкий проступок, он хотел искупить его благодеяниями, но боялся, что эти благодеяния приведут его к новым проступкам.
16
— Вне зависимости от этого прискорбного инцидента, — продолжал Юрий Андреевич, — служба в юридической консультации сложилась для Фарафонова несчастливо. Овдовев, он решил с головой погрузиться в работу и очистить свою память от воспоминаний. Он хотел использовать свой дар поначалу на узком служебном поприще. Люди часто приходят к юристу за советом, совершенно не представляя себе полной картины своих обстоятельств либо по какой-то причине часть обстоятельств утаивая от себя самих. В результате консультант получает искаженное представление о сути вопроса и дает не тот совет, которого от него ожидают. Впрочем, большинство клиентов, приходя в консультацию, уже имеют в голове готовую программу действий (если речь не идет о пустяковом оформлении заявлений) и желают лишь получить от юриста одобрение этой программы, своего рода юридическую санкцию, а не получив ее, все равно поступают по-своему. Между тем в ряде случаев эта программа принципиально ошибочна, но найти ошибку можно, только заставив клиента высказаться. В силу этого Фарафонов по сравнению со своими коллегами находился в выигрышном положении. Он мечтал (и имел все для этого основания) стать незаменимым советчиком, который видит дело лучше, чем сам клиент. Он надеялся, что молва о нем распространится по всему городу. Но случилось иное. Клиенты начали раздражаться, выражать недовольство нажимом, который якобы оказывал на них Фарафонов, и в конце концов стали его избегать. Проходя через приемную, Фарафонов слышал реплики: «К этому на очередь не становитесь, он всю душу вымотает, наизнанку вывернет, а потом подведет под статью». Появились письменные жалобы, что консультант Фарафонов превышает свои полномочия, ведет себя как следователь, в ситуацию не вникает, всюду видит нарушение норм. Бывали дни, когда Фарафонов с утра до вечера сидел за своим столом без дела, между тем как у его коллег не иссякали очереди. Коллеги возмущались, начальство делало терпеливые предостережения, но Фарафонов упрямо гнул свою линию: он был уверен, что девять из десяти клиентов нуждались не в том совете, которого они требовали. И кончилось это грандиозным скандалом. Семнадцатилетний парнишка с неустойчивой психикой поддался внушению Фарафонова и взял вину на себя. Как выяснилось в ходе следствия, он не был причастен к вооруженному нападению на инкассатора, он только случайно оказался на месте преступления, которое совершили парни с его двора. Но сцена перестрелки и вид смертельно раненного шофера произвели на мальчика такое сильное впечатление, что ему стало казаться, что преступление совершил именно он. Естественно, Фарафонову не стоило большого труда заставить его «признаться». Мальчишка явился с повинной, но следователь ему попался серьезный, он не пошел на поводу у подследственного и быстро установил непричастность. Над Фарафоновым нависла большая беда. К счастью, родители мальчишки оказались не слишком злопамятны, и Фарафонов отделался сравнительно дешево: ему предложили уйти с работы без права заниматься юридической практикой в течение энного количества лет. Конца карьеры это не означало, но Фарафонов был гордецом: он поступил на курсы водителей и, отучившись положенный срок, стал шофером третьего класса — с соответствующими перспективами. В глубине души Фарафонов и сам теперь понимал, что юридическая практика не для него: с таким опасным даром разумно держаться подальше от правонарушений и правонарушителей. Так и закончился четвертый период его жизненного пути, который можно было бы назвать периодом ошибок и проб.
17
Мы посидели, помолчали. От выпитого вина, от непрерывного курения голова моя сильно кружилась, и сдвиг произошел в моем сознании: мне стало казаться, что я знаком с Фарафоновым давным-давно, что он буквально вырос и состарился у меня на глазах. Как бы поймав мою мысль, Юрий Андреевич ухмыльнулся и развел руками:
— Вот так, Володя, дорогой. Сложилось то, что сложилось. Теперь, надеюсь, вам яснее, отчего Фарафонов не может себе доверять. Утратились моральные ориентиры, притупилось нравственное чутье. Человек с таким грузом на совести не имеет права направлять деятельность других людей. Но дар-то, дар пропадает! Фарафонов хотел бы творить добро, облегчить победу разума и справедливости. И не мучиться опасениями, что ломает дрова. А для этого нужен строгий глаз со стороны. И еще скажу откровенно: надоело Фарафонову подчинять людей, он мечтает сам подчиниться и, сложив руки на груди, плыть себе по течению чужой ответственности и чужой инициативы. Все сомнения свои и всю ответственность он добровольно перекладывает на вас. Выдюжите, а, Володя?
Я молча кивнул. Другого выхода в тот момент я не видел.
— Вот и отлично! — облегченно засмеявшись, Юрий Андреевич потер руки. — Как я рад, что встретил именно вас. Впрочем, почему «вас». Пьем на брудершафт, Володя?
Я замялся. Фарафонов внимательно на меня посмотрел и сразу стал серьезным.
— Ну конечно, вы правы, — поспешно проговорил он. — В нашем деле лучше сохранять дистанцию. Итак, я безвозмездно и без всяких условий передаю себя в ваше распоряжение сроком на три месяца — с перспективой дальнейшего продления по взаимному согласованию сторон. Трех месяцев хватит на первое время, я думаю. А там будет видно. Вам нужны какие-нибудь гарантии? Письменные обязательства и все такое? Ежели хотите, можно заверить у нотариуса.
— У нотариуса? — переспросил я задумчиво. — Да нет, пожалуй, не стоит. Скажите, Юра, вы всегда ПРИ ЭТОМ сыплете искрами?
Юрий Андреевич добродушно засмеялся.
— Искры — это только для вас, Володя. Чтобы завоевать ваше расположение. Убедительная деталь, не правда ли? Я еще и не то могу.
Он слегка повел плечами, и фигура его очертилась ярко-красной светящейся линией, которая мерцала и потрескивала, как вольтова дуга. Это было эффектное зрелище, но официантка и буфетчица продолжали спокойно беседовать, как будто ничего не произошло.
— Ну, я вижу, вы верите мне на слово, — сказал Фарафонов, и сияющий контур погас. — Речь идет о том, что на вас действие дара впредь распространяться не будет. Иначе наше сотрудничество, согласитесь, теряет смысл. Вы свободно, без моего вмешательства, определяете объект и содержание импульса, остальное я беру на себя. Но при этом не несу никакой моральной ответственности за последствия: юридическую же ответственность, если до нее дойдет дело, мы по-братски делим пополам. Договорились?
Я опять кивнул. Мы скрепили свой союз торжественным рукопожатием и освятили доброй чашей «Хванчкары».
— Тогда не будем откладывать в долгий ящик, — Фарафонов, прищурясь, посмотрел мне в лицо. — Скажите мне прямо, Володя: что вам мешает, лично вам? Или кто?
Поколебавшись, я коротко рассказал ему о Конраде Дмитриевиче. Разумеется, в моей трактовке некоторые акценты были смещены: в частности, размеры своего проступка я преувеличил, а решение Конрада Д. Коркина представил категорическим. Эта безобидная драматизация, однако, дала неожиданный эффект.
— Все это решается однозначно, — твердо сказал Фарафонов. — Пошли.
— Куда? — в смятении воскликнул я.
— Странный вопрос, — ответил Юрий Андреевич, поднимаясь. — К вам в институт, конечно. Сегодня и начнем.
— Но вас не пропустят, — пробормотал я и тоже поднялся с места. — Надо прощупать обстановку.
— Кого не пропустят? Меня? — насмешливо спросил Юрий Андреевич. — Обижаете, Володя, честное слово.
Мы вышли на улицу.
— Постойте! — Я с волнением схватил Фарафонова за рукав. — Да постойте же, Юра! Мы забыли расплатиться.
Юрий Андреевич остановился, повернулся ко мне, посмотрел с сожалением.
— Вот что, Володя, — сказал он со значением. — Давайте договоримся раз и навсегда. С этой минуты все блага, которыми пользуется Фарафонов, распространяются и на вас.
— Да, но… — проговорил я испуганно и оглянулся на кафе. — Все это как-то непривычно… Нетрадиционно, что ли. Давайте вернемся.
— Ну да, конечно, — язвительно сказал Фарафонов, — вы ведь не так воспитаны. Я должен был это учесть. Володя, милый, не терзайтесь: вы пили и ели за мой счет.
— А вы? — быстро спросил я.
— А это уже мое дело, — так же быстро ответил Юрий Андреевич. — От своих мелких привычек я не собираюсь отказываться. Пусть это ляжет дополнительным грузом на мою натруженную совесть, а вас не касается. Я ваш рабочий инструмент, Володя, а инструменты надо обильно смазывать, иначе они выйдут из строя.
— Но вы же обещали мне подчиняться! — оказал я настойчиво.
— Кто? Я? — Фарафонов поднял брови. — Ах да, верно, верно. Как джинн из лампы. Ну, подождите минутку, сбегаю и вернусь.
Фарафонов круто повернулся и твердым шагом пошел назад, в кафе. А я прислонился спиною к витрине и мрачно задумался.
Что ж получается, товарищи? Выпускать Фарафонова из виду я не имею права: он может попасть под влияние мелкого афериста, и тогда не жди никакого добра. Кроме того, у нас в институте накопилась куча недоразумений, которые нелишне разгрести. Случай со мной далеко не единичный: я знаю по меньшей мере десяток хороших ребят, идеи которых кажутся завиральными, от того что не могут быть воплощены. Дать им дорогу, запустить на полную мощность машину отбора гипотез, зарубить подтасовочную диссертацию Бичуева, которая лежит у нас поперек пути, все это можно сделать, если использовать Фарафонова умеренно и с умом. Жалко упустить такой шанс: никогда я себе этого не прощу.
Но, с другой стороны, кто может поручиться, что Юрий Андреевич управляем? Ведь ему ничего не стоит подавить мою добрую волю и повести меня за собой. А ну как я окажусь слепой игрушкой в его руках? Или уже оказался? То, что Фарафонов человек опасный, у меня сомнений не вызывало. Как рабочий инструмент он сулил немало хлопот.
Правда, постоянно держать меня под импульсом Фарафонов не в состоянии. Так или иначе я буду иметь возможность наедине с собой трезво оценивать проделанную работу и вносить в нее коррективы. Совесть у меня чиста, и с моральными ориентирами тоже полнейший порядок. Стоит ли пренебрегать Фарафоновым, не проверив его на деле?
Подумав так, я повеселел и стал смотреть на мир значительно проще.
18
Фарафонов появился на улице минут через десять. На ходу застегивая ватник, он приблизился ко мне и хмуро сказал:
— Все в порядке. Я оставил там четверть своей зарплаты, и если это цель, которую вы преследовали, я вполне удовлетворен. Пойдемте дальше.
Я не двигался с места и стоял спиной к витрине, упорно избегая его взгляда.
— Ну, что еще? — недовольно спросил Фарафонов. — Есть какие-нибудь колебания?
— К сожалению, есть, — сухо ответил я. — Деньги, которые вы позаимствовали у валютчика…
— Какие еще деньги? — с живостью спросил Юрий Андреевич.
— Деньги на домашнее благоустройство, — пояснил я. — Мне эта история особенно не нравится. И если вы хотите честно со мной сотрудничать…
— Ах, вот вы о чем… — протянул Фарафонов. — Что же я, по-вашему, должен сделать с этими деньгами?
— Вернуть, конечно, — коротко ответил я.
— Кому? — поинтересовался Юрий Андреевич. — Уж не тому ли валютчику?
— Зачем? — сказал я, пожав плечами. — Их надо передать в соответствующие организации.
— Дались вам эти «соответствующие организации»! — с досадой воскликнул Фарафонов. — Да представляете ли вы, о какой сумме идет речь?
— Я беру на себя половину ваших расходов, — ответил я.
— И половину срока, который мне припаяют? — с издевкой спросил Фарафонов. — Нет, Володя, дело так не пойдет. Слишком широко вы понимаете свою ответственность. Обратной силы наш договор не имеет.
— В таком случае… — холодно начал я.
— В таком случае, до свиданья, вы хотите сказать? Что ж, прощайте. Желаю успеха.
Фарафонов повернулся с явным намерением уйти.
— Постойте, — упавшим голосом сказал я. — Ну зачем же так сразу? Как-нибудь договоримся.
Юрий Андреевич остановился, лицо его просветлело.
— Ну вот так-то лучше, — он одобрительно похлопал меня по плечу. — В интересах дела, чтобы руки у нас были свободны. Чего ради мы должны себя связывать старинными долгами, которые, что важно, касаются меня одного? Наш договор вступает в силу сегодня? Сегодня. Так вот с сегодняшнего дня я и начну новую жизнь.
— Обещаете? — с надеждой спросил я.
— Клятвенно обещаю! — торжественно сказал Фарафонов. — С одной-единственной оговоркой. Мелочи моего образа жизни пусть вас не беспокоят. Как инструмент, я привык к определенному комфорту и без этого просто не мыслю себя.
Поразмыслив, я согласился. В конце концов, условие это было не лишено логики. Я взял на себя ответственность за наши совместные действия, за действия по моей программе. Неоплаченные же счета в ресторанах не входят в мою компетенцию, если это не был обед на паях. Разве цель моя — переделать самого Фарафонова? Отнюдь. Моя цель — переделать определенных людей. Смазка пачкает руки, и это, конечно, прискорбно. Что ж, придется обзавестись рукавицами.
19
Всю дорогу до института Фарафонов оживленно болтал. Он старался меня рассмешить, и порою это ему удавалось, хотя на душе у меня скребли кошки. Более всего я опасался, что Фарафонова задержат у входа. Ну а если и не задержат, все равно будут обращать внимание. Я не сноб, но костюм Юрия Андреевича (ватник и кирзовые сапоги) был не слишком типичен для нашего института и поэтому меня волновал.
Где-то на полпути я совсем уже собрался намекнуть об этом самому Фарафонову, но он меня опередил.
— Ну-ка погодите, — сказал он мне неожиданно.
Я остановился.
Опершись о мое плечо, Фарафонов разулся, из карманов ватника достал желтые полуботинки, надел их, скинул ватник и превратился в нормального научного работника, одетого прилично и не без щегольства. Милиционер с перекрестка внимательно наблюдал за нашими действиями, но Фарафонова это совершенно не смущало.
— Пусть глядит, — беспечно сказал он, притопнув ногами. — Человек отдежурил и не хочет выглядеть вахлаком.
Он небрежно подхватил сапоги, передал мне промасленный ватник, и с таким багажом мы подошли к дверям института.
— Ну, ну, мужайтесь, — проговорил Юрий Андреевич, видя, что я побледнел. — Надо будет — Фарафонов сквозь стену пройдет.
Вахтер, пожилой, худощавый мужчина, чем-то похожий на железнодорожника, неодобрительно проследил, как мы пересекли вестибюль, и, видя, что мы к нему подходим, отвернулся.
— Вот эти вещички, — непринужденно сказал ему Юрий Андреевич, — пусть у вас полежат, не возражаете?
Судорожно дернув морщинистой шеей, вахтер повернул голову и оторопело уставился на Фарафонова. Потом поднялся и стал навытяжку. Лицо его исказилось от внутренней борьбы, глаза остановились. Мне стало искренне жаль старика, который не вставал даже перед Конрадом Дмитриевичем, но отступать было поздно.
20
— Симпатичный дядька, — сказала Марфинька, когда Фарафонов, властно бросив мне: «Здесь побудьте», вошел в кабинет. — Вот это, я понимаю, мужик.
Я молчал. Интересно было наблюдать за нею: некоторое время, находясь под импульсом, Марфинька возбужденно пудрилась, облизывала языком губы. Щеки ее раскраснелись, глаза заблестели. Но скоро на лице ее появилось выражение недоумения, она отложила зеркало в сторону и задумалась.
— Что-то я не в форме сегодня… — проговорила она после долгого молчания. — Даже фамилию забыла спросить.
— Фарафонов его фамилия, — сказал я. — Наш новый юрист.
— А, юрист… — протянула Марфинька, записала где надо и немного успокоилась. Но, видимо, не совсем, потому что еще минут десять мы молча сидели и с напряжением прислушивались к тому, что происходило за дверью кабинета.
Фарафонов действовал. Неожиданно в кабинете громыхнул стул и послышались раскаты добродушного смеха. А потом на столе у Марфиньки щелкнул репродуктор, и гулкий голос Конрада Дмитриевича проговорил:
— Ласонька, будь любезна, пригласи ко мне Лапшина.
Лапшин — это моя фамилия, поэтому я побледнел, медленно встал и, с трудом переступая трясущимися ногами, поплелся на вызов.
— Не падайте духом, — шепнула мне Марфинька.
Я махнул рукой и вступил в кабинет.
21
Сперва мне показалось, что Конрад Дмитриевич плачет, потому что розовый платочек был у него в руках, очки лежали на столе, а глаза и нос покраснели. Но потом я взглянул на Фарафонова и приободрился. Юрий Андреевич сидел в глубоком кресле, развалясь, и широко улыбался. При моем появлении, однако, он кашлянул в кулак и, сокрушенно потерев рукой небритый подбородок, согнал улыбку с лица.
— Присаживайтесь, — довольно холодно сказал мне Конрад Д. Коркин, надевая вновь свои затемненные очки.
Я сел и понуро уставился в пол. Мне показалось, что Фарафонов ничего не добился, а если и добился, то только расположения к себе. Этого было, естественно, мало.
— Ну как, остыли страсти? — спросил Конрад Дмитриевич.
Я молчал. Сердце мое оглушительно билось. Мельком я взглянул на Фарафонова: Юрий Андреевич озабоченно изучал свои корявые ногти. У него был вид человека, который с нетерпением и досадой пережидает помеху, чтобы продолжить захватывающий разговор.
— А ведь одаренный молодой человек… — тусклым голосом промолвил Конрад Дмитриевич, обращаясь не то ко мне, не то к Фарафонову. — И работа небезынтересная, перспективная…
Это было уже кое-что. Я поднял голову и внимательно посмотрел на Конрада Дмитриевича. Сомнений не было: Конрад Дмитриевич находился под импульсом. Толстые пальцы его прыгали на столе, лоб покрылся испариной, губы тряслись. Видимо, сопротивление обходилось ему недешево. Мой пристальный взгляд еще сильнее его обеспокоил. Он попытался было что-то добавить, но не справился с губами и вовсе умолк.
Фарафонов пришел ему на помощь.
— Ну что ж, — лениво проговорил он, по-прежнему ни на кого не глядя, — пусть возместит убытки и продолжает свою работу. А мы посмотрим, насколько она перспективна.
Я помертвел. Чего угодно я ожидал, но только не этого.
— Да представляете ли вы, Юрий Андреевич, о какой сумме идет речь? — невнятно спросил Конрад Д. Коркин. Он вел себя как глухой: говорил тихо и медленно, с болезненным вниманием прислушиваясь к собственным словам.
Я снова взглянул на Фарафонова. Мне показалось, что Юрий Андреевич мне подмигнул. Ну да, конечно: Конрад Д. Коркин механически повторял его собственные слова. Других доказательств мне и не требовалось.
— Суд отклонит ваш иск, дорогие товарищи, — сказал я уверенно. — В моем упущении не было злого умысла, и личных выгод я для себя не искал.
— А это уж позвольте судить нам, юристам, — усмехнувшись, возразил Фарафонов и принялся выгрызать у себя заусеницы.
22
— По-моему, разговор принимает какой-то нежелательный оборот, — монотонно проговорил Конрад Дмитриевич. — О возмещении убытков не может быть и речи. Кроме того, чисто физически Володя не в состоянии выплатить эту огромную сумму.
— В таком случае, — сказал Фарафонов равнодушно, — мне непонятен сам предмет обсуждения. Я могу быть свободен?
Конрад Дмитриевич испугался. Он даже побледнел: такой ужасной показалась ему мысль, что сейчас Фарафонов уйдет, и мы окажемся с ним с глазу на глаз. Тогда поневоле придется все случившееся объяснять, а объяснений у него самого еще не было. Случилось же невообразимое: Конрад Д. Коркин публично признал перспективность моей работы и невозможность возмещения убытков. Теперь отступать ему было некуда. Я восхищался Фарафоновым: мой инструмент был дьявольски изобретателен и хитер.
Трясущейся рукой Конрад Дмитриевич взял со стола свой скомканный платок и начал вытирать лоб.
— Я ведь чего хочу? — проговорил он растерянно. — Хочу лишь одного…
И снова замолк. Ему действительно хотелось лишь одного: чтобы мы оба ушли, оба вместе, и оставили его в одиночестве.
— Я понял вас, Конрад Дмитриевич, — великодушно сказал Фарафонов. — И совершенно с вами согласен: Лапшин обязан перед вами извиниться. За свое недостойное поведение.
— Ну, скажем, не извиниться, — облегченно ответил Конрад Дмитриевич, — но как-то кончить дело миром, по-человечески. Ведь нам еще работать вместе да работать. Поймите меня правильно, Володя…
Второй уже раз подряд он называл меня Володей, чего раньше не делал никогда, и снова содрогнулся от отвращения. Володя — это тоже было необратимо: теперь ему придется перестраивать все свое поведение. А как же иначе? Если завтра он снова будет называть меня «Владимир Леонтьевич», то сегодняшнее «Володя» останется постыдным и тягостным отклонением. Такой уж человек был Конрад Д. Коркин. Меня удивляло только, как быстро Фарафонов его раскусил.
— Вы знаете, Конрад Дмитриевич, — сказал я искренне и очень сильно, — меня это мучило весь день. Я был не прав и прошу меня извинить.
Лицо Конрада Д. Коркина просветлело, и даже очки его стали светлее: сквозь них я увидел глаза. Он счастлив был, что добился этой мизерной уступки: теперь можно было считать, что это я к нему явился с повинной, а не он отступил.
— Я принимаю ваши извинения, — сказал он с достоинством: видимо, Фарафонов его отпустил. — Давайте забудем об этом печальном недоразумении. Можете делать новый заказ на расчеты: соответствующие указания будут мною даны.
Я поблагодарил его вежливым кивком и собирался было подняться, но Фарафонов сухо сказал:
— Постойте, дорогие друзья, я очень рад, что для вас все закончилось благополучно, но ведь ущерб нанесен! Ущерб институту и, следовательно, государству. Как вы это себе мыслите?
Мне стало неприятно и стыдно за Фарафонова. Я верил слову Конрада Дмитриевича и, кроме того, умел быть великодушным как победитель. Пинать ногами поверженных противников я не любил. Но Фарафонову все эти тонкости были чужды.
— Мне как юристу любопытно, — продолжал он, рассеянно глядя в окно, — на чем основывается столь сердечное согласие и во что оно обойдется государству.
Лицо Конрада Д. Коркина посерело.
— Тут можно сделать следующее, — проговорил он, комкая платок, который сделался из розового темно-красным от пота. — Мы располагаем небольшими резервами машинного времени… на обкатку новых программ… и данный случай можно… условно, конечно… подвести под эту графу.
Эта фраза обошлась Конраду Дмитриевичу по меньшей мере в полгода жизни. Тяжело наблюдать, как человек старится у тебя на глазах, и я буквально исстрадался. Но Конраду Д. Коркину было, разумеется, еще тяжелее: великолепный ученый, блестящий руководитель, он был вынужден делать юристу такие признания, которые сам бы никому не простил.
— Ну что ж, если так… — безжалостно сказал Фарафонов. — Я всецело доверяюсь вашему опыту.
«Мерзавец, уголовник, — подумал я с ненавистью. — Тебе ли говорить об опыте, проходимец! Ну подожди, я научу тебя хорошим манерам!»
Но, как бы то ни было, дело сделано. Я встал, поклонился и вышел из кабинета. На этот раз Марфиньке не пришлось прикрывать за мною дверь.
23
Вечером мы с Юрием Андреевичем праздновали свой первый успех в ресторане «Лада». Стол был изысканный, вина лились рекой: Фарафонов обещал мне, что он все чистосердечно оплатит. Грубо говоря, мне не следовало принимать его приглашение: я был очень на него зол. Но, с другой стороны, Юра честно выполнил первый пункт моей программы и если допустил при этом определенные перегибы, то исключительно по моей вине: я был обязан продумать до мельчайших деталей все нюансы нашего разговора и не сделал этого лишь потому, что не очень-то верил в успех. Ну что ж, пусть это будет первая проба, в дальнейшем я стану предусмотрительней. Юра так мне и сказал:
— Не надо на меня сердиться, Володя. В конце концов, Фарафонов импровизировал на ходу.
Мне хотелось провести с ним детальный и поучительный анализ сегодняшнего эксперимента, изложить ему общие принципы, что ли, но случилось так, что вместе с нами в ресторане оказалась Марфинька, оставлять это юное существо в лапах «выходца с Арбата» я не имел морального права, а сама она понимать не хотела, что ей с нами не по пути. Я отозвал Фарафонова в сторонку и довольно сурово спросил его: «Что, опять?», — но Юра, проникновенно глядя мне в лицо своими быстрыми моргающими глазками, объяснил, что в лирические тяготы он ударяться не собирается, что Марфинька никогда не будет подвергнута принуждению, и могла же она, в конце концов, заинтересоваться Фарафоновым не как явлением природы, а просто как таковым. Кроме того, сказал мне Фарафонов, для успеха общего дела полезнее всего заручиться именно расположением Марфиньки: ведь в приемную Коркина нам придется приходить еще не раз и не два, а подвергать бедную девушку многократному импульсу лично он, Фарафонов, считает небезопасным. И с этим трудно было не согласиться.
24
За столом Фарафонов резвился как дитя. Он шутил, каламбурил, кокетничал с соседними столиками. Глядя на него, я был вынужден поминутно напоминать себе, что этот человек намного нас старше, что на душе у него много тяжкого, недостойного, что он просто опасен, наконец. Но верить этому не хотелось. На себе его влияние я не ощущал, а что касается Марфиньки, то, единожды подвергшись фарафоновскому импульсу, она вся дрожала от желания испытать на себе этот импульс еще раз. Марфинька не сводила глаз с Фарафонова, она так умоляюще на него смотрела, так неудержимо хохотала после каждой его незатейливой шутки, что я понял: это необратимо, и нужды нет никакой Фарафонову испытывать на Марфиньке свой загадочный дар.
В присутствии Марфиньки мы, естественно, не говорили о деле, и формально Юра праздновал свое поступление на работу в наш институт. Это тоже несколько меня тяготило: как я понимал, с трудовой книжкой у Юры было не все в порядке, и в отделе кадров ему пришлось-таки потрудиться, убеждая всех и каждого, что он опытный и первоклассный юрист. Но все это были, так сказать, побочные эффекты нашего с ним первого опыта.
С большим юмором Фарафонов рассказал нам, как закончился его разговор с Конрадом Д. Коркиным. Конрад Дмитриевич уверял Фарафонова, что он любит меня, как родного сына, и считает меня надеждой большой науки. «Таких людей нужно беречь и щадить, — говорил Конрад Дмитриевич. — У них мощный размах, и оплошностей они совершают, естественно, больше, чем тихие заурядные трудяги».
Я слушал этот рассказ и мрачно гонял по тарелке зеленые горошины. Я понимал, что Конрад Дмитриевич говорил все это только потому, что хотел оправдаться перед Фарафоновым. Но сам факт, что ему приходилось оправдываться перед уголовником и аферистом, вызывал у меня отвращение.
Марфинька смотрела на меня с удивлением.
— Вы что, не верите, Володя? — спросила она. — Юра правду говорит, Конрад Дмитриевич очень вас любит.
— Ах ты милая моя, — со смехом сказал Фарафонов, — ах ты добрая! А что за приказ ты печатала сегодня перед обедом?
Марфинька покраснела.
— Конрад Дмитриевич не стал его подписывать, — пролепетала она. — Порвал и бросил в корзину. Но ты же обещал, Юра, никому об этом не говорить.
— Володе можно, — снисходительно сказал Фарафонов. — Он лицо заинтересованное.
Видимо, во взгляде, который я на него бросил, было много эмоций, потому что Марфинька забеспокоилась.
— Послушайте, ребята, — сказала она, — а когда вы, собственно, познакомились?
— Сегодня, — хмуро ответил я.
Марфинька не поверила и вопросительно посмотрела на Юру.
— Мы знаем друг друга всю жизнь, — серьезно сказал Фарафонов. — Мы близнецы с Володей, ты разве не видишь?
25
Конрад Дмитриевич отсутствовал на работе три дня, а когда появился, сразу вызвал меня к себе. Я прекрасно понимал, что так просто у нас с ним дело не обойдется, и потому вступил в кабинет, очень сильно волнуясь. Пришел я один: Фарафонова на месте не оказалось, он шлялся по всему институту. Проклятый «выходец» завел себе друзей во всех отделах и целыми днями точил с ними лясы, появляясь в клетушке юрисконсульта только к концу рабочего дня. Наши люди души в нем не чаяли: даже хмурый Бичуев, завидев Фарафонова в конце коридора, бежал за ним вприпрыжку, как петушок.
Конрад Дмитриевич очень изменился. Мне показалось даже, что он начал отпускать себе усы. Во всяком случае, побрит он был весьма приблизительно. Кроме того, он явился на службу без очков, и я смог воочию убедиться, что все эти три ночи Конрад Дмитриевич не смыкал глаз. Розового платочка при нем также не было, вместо этого в нагрудном кармане торчал белый, грязный, с кружавчиками, по всей вероятности, дамский.
— Вы, наверно, удивлены, — сказал Конрад Дмитриевич с ожесточением, даже не пригласив меня сесть, и я был вынужден сам этим, делом распорядиться. — Мое поведение показалось вам противоречивым.
Это был не вопрос, но какая-то реплика от меня все же требовалась, и я, глядя в сторону, пробормотал:
— Отнюдь, Конрад Дмитриевич, отнюдь.
— Кончайте, вы! — с досадой сказал Конрад Д. Коркин. — Я многое пережил, многое передумал. Противоречие есть, Володя, но оно не в поступках, оно во мне самом. Я ужасаюсь пропасти, которая передо мной разверзлась. И вот что я скажу вам, чтобы закончить эту тягостную часть нашего разговора. Простите меня, Володя. Простите — и руку!
Мы поздоровались.
— Я слышал, — продолжал Конрад Дмитриевич, растроганно покашляв, — я слышал, что расчеты ваши не дали искомых результатов. Машина показала, что я прав: все три синусоиды начинаются с момента рождения и начинаются с нуля. Не так ли, Володя?
Увы, все это было чистой правдой. Должно быть, в мои прикидки вкралась какая-то ошибка. Так я Конраду Дмитриевичу и сказал.
— Не огорчайтесь, — участливо глядя на меня, произнес Конрад Д. Коркин и прослезился. — И главное — не сдавайтесь. Скажу вам по секрету: я знаю сам, что никакой нулевой точки там нет. Я принял это в молодости, для удобства подсчетов, потом привык, а позднее уверовал. Но прошлой ночью я понял, что это тупик. Я не имею права мешать вашим поискам. Вы правы, Володя, тысячу раз правы, нет ее там, этой нулевой точки, если она вообще существует. А кстати, где вы ее ищете?
— На шестом месяце развития плода, — сказал я застенчиво. Это было как признание в любви: впервые я высказал вслух то, что составляло мою гордость и мое счастье.
— Смелая мысль, — одобрительно промолвил Конрад Дмитриевич. — Смелая, но спорная. Ну что ж, ищите, дерзайте. И если вам удастся это доказать, клятвенно обещаю: у нашей теории будет двойное имя. Теория Коркина — Лапшина. Звучит, вам не кажется? Жаль, я устал и, по-моему, серьезно болен. А то бы без колебаний пошел к вам в соавторы. Могу ли чем-нибудь вам помочь?
— Командировку в роддом, если можно… — прошептал я, краснея.
— Ну, боже мой, о чем речь? — Конрад Д. Коркин нажал кнопку звонка, и за моей спиной в дверях появилась Марфинька.
— Родная, — сказал ей Коркин, — будь ласка, выпиши Володе командировку. Сейчас он выйдет и все тебе объяснит.
26
Я был потрясен: Конрад Дмитриевич действовал так оперативно, как будто Фарафонов сидел где-то рядом и держал его под непрерывным импульсом. Но это был не импульс: работала необратимость поступка. По-иному Конрад Дмитриевич вести себя уже не мог.
— Но вы имейте в виду, — сказал мне Конрад Дмитриевич, когда Марфинька безмолвно ушла. — Имейте в виду, что вам следует торопиться. У нашей теории может оказаться другое имя: теория Анисина — Коркина. Анисин хочет доказать, что нулевой точки вообще нет, и я, как и вам, собираюсь открыть ему зеленую улицу. Пусть расцветают все цветы, черт побери, пусть воцарится нормальная творческая атмосфера!
Такого воодушевления я от Коркина не ожидал. Признаться, он шагнул несколько дальше, чем мне хотелось. Согласно моей программе Анисина следовало поощрять, но вовсе не открывать перед ним зеленую улицу.
— Абсурд! — сказал я уверенно. — Типичные анисинские штучки.
— Иного ответа я от вас и не ожидал, — ласково ответил мне Конрад Дмитриевич. — Мне нравится ваша убежденность, Володя, но и уверенность Анисина мне тоже очень симпатична. Он уверяет, что нулевая точка запрограммирована генетически и лежит за пределами существования индивида.
— Абсурд, — повторил я упрямо. — И доказать этого он не сможет.
— Ну что ж, потягайтесь, — сказал Конрад Дмитриевич. — Я с интересом буду следить за вашим соревнованием. Одно только меня волнует: кому доверить научный арбитраж?
— То есть как «кому»? — воскликнул я, искренне удивившись. — Вам, конечно, Конрад Дмитриевич.! Ваше имя уже бессмертно. Вы освятите своим авторитетом…
— Володя, Володя! — Конрад Д. Коркин укоризненно покачал головой. — Вы льстите мне, Володя. Вы безобразно мне льстите. Я запятнал себя, блокировав вашу инициативу. Я никогда не смогу почувствовать себя беспристрастным судьей.
Я быстро взглянул на него — и ужаснулся. Передо мной сидел сутулый, старый, мешковатый человек. Мешки под глазами, опущенные углы рта, плечи и лацканы мятого пиджака осыпаны перхотью.
— Да, да, — сказал Конрад Дмитриевич, горестно усмехаясь. — Ваш взгляд говорит мне больше, чем ваши участливые слова. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Но заверяю вас: старый ревнивец счастлив, что после себя он оставляет научные страсти и горячий принципиальный спор.
— Вы уходите? — вскричал я с болью в сердце. — Вы, который был для меня всем, всем?..
— Был, Володя — мягко сказал Конрад Д. Коркин. — Вот именно был. Вы сами это сказали. А теперь — уходите. Уходите, я устал.
Последние слова Конрад Дмитриевич произнес жестко и даже, пожалуй, злобно. Щека его задергалась, губы запрыгали, и я счел за лучшее удалиться.
27
В коридоре я встретил Анисина. Чернявый, шустренький, он кинулся мне навстречу, схватил за плечи, встряхнул.
— Дружище, как я рад тебя видеть! — заговорил он, волнуясь. — Нормальное, умное, интеллигентное лицо! Ну расскажи скорей, что делается у нас в институте? Зачем меня вызвали с тренировок?
Я отстранился. Раньше мы были друзьями, но сейчас мне было неприятно его оживление. Любопытная вещь: когда я собирался покровительствовать этому человеку, я думал о нем чуть ли не с нежностью. Теперь же он в моей помощи не нуждался. Отдохнувший, посвежевший, загоревший на трибунах стадионов, он сам был похож на игрока команды класса «Б».
— А что у тебя новенького? — уклончиво спросил я.
— Как что? — удивился он, не заметив перемены в моем настроении. — Да все газеты об этом кричат. Мой «Спартачок» поднялся с самого низу таблицы и претендует теперь по меньшей мере на пятое место. А чья заслуга? Моя. Я им составил такой график — пальчики оближешь. Забавно, однако: защитники хуже всего играют в период физического спада, полузащитники — в период умственного, а нападающие — эмоционального. Как тебе это нравится? Наш Конрад Д. Коркин просто гениален.
Я снисходительно посмотрел на него. И этого человечка Конрад Дмитриевич прочит мне в соперники! Да его место в лучшем случае на скамейке запасных. Командный психолог районного масштаба.
— Но ты-то, ты-то скажи! — продолжал теребить меня Анисин. — Нашел ты наконец свою нулевую точку? Или воспитанники детских яселек оказались не слишком разговорчивы?
Эта шутка показалась мне неуместной.
— Я направляюсь в родильный дом, — сказал сухо. — И извини, мне некогда.
Анисин даже присвистнул.
— Ого! Ты далеко пойдешь! — проговорил он с улыбкой. — Желаю благоприятно разрешиться от бремени.
Я повернулся и зашагал по коридору, не удостоив его ответа.
— А кто будет оппонировать Бичуеву? — крикнул мне вдогонку Анисин.
— Никто, — ответил я, не оборачиваясь.
И это была чистая правда.
28
…Это была чистая правда, потому что я знал: оппоненты Бичуеву не потребуются. Этот маленький лысенький старичок с плоским лицом и мелкими чертами бухгалтера стоял третьим пунктом моей оздоровительной программы. Первый был выполнен с помощью Фарафонова, второй, к сожалению, взял на себя Конрад Д. Коркин, но третий пункт я не мог передоверить никому. Даже Фарафонову. На сей раз «выходец с Арбата» будет всего лишь исполнителем моего плана.
Я тщательно подготовился к защите Бичуева: возможно, даже более тщательно, чем он сам. Бичуев был уверен, что его подтасовка не вызовет ни у кого возражений, а все оппоненты были его закадычные друзья. Я же мог полагаться только на себя самого. Друзей у меня больше не осталось.
Я написал для Фарафонова текст, который должен был произнести на защите Бичуев. Примерно неделю Фарафонов разучивал этот текст наизусть, но не преуспел в этом, и мы решили, что он сядет в задних рядах и будет пользоваться моей шпаргалкой. Юрий Андреевич был недоволен: он полагал, что справится и сам. Но я придерживался иного мнения: Фарафонов путал термины «периодичность» и «цикличность», а на защите такие оговорки сразу резанули бы слух. Поэтому я ограничился тем, что заставил Фарафонова десять раз прочитать этот текст вслух. Читал Юрий Андреевич довольно сносно. Правда, слово «цикличность» он произносил, пришепетывая, но этой тонкостью можно было и пренебречь.
29
И вот наступил день заседания Ученого совета. Диссертация Бичуева не вызывала интереса даже у рядовых сотрудников, поэтому зал наполовину был пуст. Человек пятнадцать были приглашены самим соискателем, еще столько же явилось повеселиться, было и около десятка зевак, которые хотели посмотреть, как делается наука.
Бичуев был уверен в себе. По зову председательствующего он бодро встал, поднялся на кафедру, разложил бумаги и папки, попил воды из стакана, откашлялся. Плоское личико его торжественно блестело. В зале наступила тишина.
Фарафонов сидел возле выхода, мрачно скрестив руки на груди, одним глазом он косился на мою шпаргалку и шевелил при этом губами.
— Товарищи! — произнес Бичуев и, поперхнувшись, умолк.
Это было не совсем традиционное начало (предписывалось обратиться к «уважаемым» и так далее), поэтому по залу прошел легкий шорох. Конрад Дмитриевич благосклонно покивал головой (мол, бывает, бывает), а я гневно оглянулся на Фарафонова: чертов «выходец» опять начал импровизировать.
Но дальше пошло все без заминок. Выступление Бичуева, которое начиналось со слов «Перед вами делец от науки», было выслушано в гробовом молчании. Члены Ученого совета оцепенели, секретарь вытянул шею с таким напряжением, как будто собирался захлопать белыми крыльями и с клекотом взмыть под потолок, и только старичок с лиловым лицом и слуховым аппаратом, приглашенный из Академии наук, невозмутимо и добродушно кивал на протяжении этой блистательной речи.
Бичуев говорил высоким пронзительным голосом, весь содрогаясь от напряжения, и то и дело бил себя в грудь, что в сценарии не значилось, но весь текст прошел без единой помарки. Когда же Бичуев произнес заключительные слова («Гнать таких из науки, а не присуждать степеней, дорогие товарищи!»), зал еще минуту молчал, а потом разразились аплодисменты.
Первым захлопал Конрад Д. Коркин.
— Браво, коллега! — произнес он негромко и встал.
Тут все вскочили с мест и принялись кричать и хлопать в ладоши. Под этот шум Конрад Дмитриевич подошел к трибуне (Бичуев, дернувшись, вышел к нему навстречу, пиджак его на спине промок от пота насквозь), и они обнялись под ликующие вопли оппонентов и приглашенных.
— Блестяще!
— Потрясающая смелость!
— Браво, Бичуев, браво!
Громче всех кричал и бесновался Анисин. Он же первый сорвался с места, подбежал к соискателю и кинулся ему на шею.
— Милый вы мой, дорогой вы мой! — вопил он, дрыгая в воздухе ногами. — Уважаю! Не ожидал! Уважаю! Не ожидал!
И началась вакханалия. Все сочли своим долгом обступить изнемогшего Бичуева, обласкать его, осыпать комплиментами, как будто он не зарубил свою диссертацию, а блистательно защитился. Растерянный Бичуев вертелся в центре толпы, отвечал на рукопожатия, вздрагивал от хлопков по спине и повторял срывающимся голосом:
— Благодарю, друзья мои! Благодарю!
Но подлинный триумф начался тогда, когда гость из Академии наук, бережно придерживая свой слуховой аппарат, подшаркал к Бичуеву (толпа почтительно перед ним расступилась) и, пожав ему руку, произнес:
— Поздравляю, коллега.
Я обернулся — Фарафонова уже не было в зале. Виновник этого торжества скромно удалился, предоставив мне полную возможность наслаждаться происходящим.
Однако я заметил, что Бичуев справился с собой, приосанился и изъявил желание говорить еще. Его желание было немедленно удовлетворено. Все расселись по местам, соискатель пригладил лысину и поднялся на кафедру. Я занервничал: похоже было, что Фарафонов удалился слишком рано.
Но Бичуев оказался на высоте. Дождавшись молчания, он произнес только одну фразу:
— Я не мог поступить иначе!
И собрал еще больший урожай аплодисментов. Из зала его вынесли на руках.
30
Итак, третий пункт моей программы был выполнен, и выполнен с блеском. Но последствий этого я предугадать не сумел. Тихий вежливый Бичуев разительно переменился. Мало того, что он стал самой популярной фигурой в нашем институте, звездой первой величины, горячо уважаемым человеком. Бичуев быстро оценил преимущества своего нового положения: вместо автора никому не нужного труда он стал принципиальным борцом за чистоту научной мысли. И к чести его надо сказать, что он сумел в (рекордно короткий срок войти в новую роль. «Бичуев не остановится, Бичуева не купить!» Даже походка его изменилась. Раньше он семенил по институтским коридорам, угодливо кланяясь всем и каждому, хихиканьем отвечал на насмешки и шуточки: теперь же он твердо и решительно вышагивал по своим суровым делам, здороваясь за руку только с избранными, всем прочим отвечая лишь сдержанным кивком. И разговор его стал короток и отрывист. Теперь Бичуев считал своим долгом резать всем правду в глаза. Мне, например, он сказал:
— Не забывай, что тебя простили. У тебя испытательный срок.
Забавно, что в лице Анисина Бичуев обрел себе надежного друга. Теперь они ходили по институту не иначе как обнявшись и, склонив друг к другу свои разнородные головы (одну чернявую и кудрявую, другую лысую и седую), вполголоса рассуждали о генетических тонкостях. Бичуев стал яростным популяризатором бредовой идеи Анисина, не претендуя ни на какую выгоду.
— Я не соавтор, я всего лишь агент научной мысли!
По чьей-то инициативе сообщение о беспрецедентном заседании Ученого совета стало достоянием прессы. Корреспондент областной газеты умолял Бичуева дать ему текст выступления, но Бичуев сухо ответил, что он не сторонник дешевых сенсаций, что популярности он не искал, да и выступать привык без бумажки. Последнее было чистейшей правдой, потому что бумажку мы с Фарафоновым уничтожили. Но, к сожалению, стенографистка успела-таки зафиксировать текст, и через неделю он появился в газете с восторженными комментариями под заголовком «Смелость ученого».
31
Короче, ситуация стремительно развивалась — причем в совершенно неожиданном направлении. Дошло до того, что с санкции Конрада Дмитриевича Бичуев уже представлял институт на международном симпозиуме, а содокладчиком был Анисин, выступление которого явилось, по выражению газет, «праздником научной мысли». Надо было что-то срочно предпринять. Но что? Вернуть к жизни Конрада Д. Коркина не представлялось возможным: после бичуевской защиты он удалился от дел и, по слухам, то ли уехал лечиться, то ли просто никого не принимал на дому. Мне пришла в голову идея массового воздействия (скажем, на тот же симпозиум). Было бы очень эффектно, если бы все участники этого научного форума начали дружно скандировать: «Лапшин! Лапшин!»
Но Фарафонов деликатно напомнил мне, что такая задача ему не по плечу: над аудиторией он не властен.
— А кстати, Володя, — спросил он. — Сколько пунктов нам еще осталось выполнить?
Этого я и сам еще в точности не знал, а потому сказал уклончиво, что самое главное у нас еще впереди.
— Жаль, — промолвил Фарафонов со вздохом. — Жаль, а то я уж начал подумывать о заслуженном отдыхе.
— Какой такой еще отдых? — сердито спросил я.
И Фарафонов задумчиво ответил в том смысле, что генеральной цели достигнуть, как видно, непросто, и хочется ему забыть о своем богом проклятом даре, найти себе надежную бабенку и зажить попросту, как все люди.
Я понимал его прекрасно: как и все уголовники с прошлым, Юра страдал тоской по простому патриархальному быту. Тут сказывалось, видимо, и влияние Марфиньки — маленькой мещаночки с мизерными запросами. Меня это мало волновало, поскольку Фарафонов был у меня в руках: я один знал о том, что имелось на совести у этого человека. И все же с такими настроениями Фарафонов не годился для ответственных дел. Пришлось напомнить ему о духе и букве нашего соглашения, на которое он, черт побери, сам напросился.
— Да я не возражаю, — вяло сказал Фарафонов. — Скучно только чего-то. Два месяца прошло, а конца не видать.
— Конечной цели, Юра, — ответил я ему, — конечной цели у науки нет и быть не может. Познание — это процесс. Мы с вами лишь устраняем препятствия на пути движения научной мысли.
— Чьей мысли-то? — полюбопытствовал Фарафонов.
— Коллективной, разумеется, — ответил я хладнокровно. — А в чем, собственно, дело? Через месяц вы будете свободны, как птица. Или вы чем-нибудь недовольны?
— Да мне-то что, — уклончиво сказал Фарафонов. — Перспективы не вижу. Вот не вижу — и все.
— А вам, Юрий Андреевич, ее видеть и необязательно. Достаточно того, что я ее вижу.
32
А тучи над моей головой все сгущались, и вскоре упали первые капли дождя. Меня вызвал к себе Бичуев (не встретил в коридоре, как раньше, а именно вызвал: он теперь сидел в кабинете Конрада Д. Коркина), и ледяной блеск его очков не предвещал ничего хорошего.
— Вот что, Владимир Лаврентьевич, — сказал он, потирая двумя пальцами свой лоснящийся носик. — У людей создалось впечатление, что вы топчетесь на месте. Пора вам отчитаться за свою работу, хотя бы вчерне.
Я похолодел. Вот это был удар так удар! Враги мои нащупали самое уязвимое место: последнее время мысль моя была занята только борьбою, и к работе я несколько поприостыл.
— Что ж, это справедливо, Иван Иванович… — начал я.
И кто бы мог подумать, что придет время, когда я вынужден буду вспомнить его имя-отчество? На протяжении нескольких лет этот человек был для меня безнадегой Бичуевым, и вот своими руками, можно сказать, я сделал из него человека.
— …но не кажется ли вам, что начинать с меня было бы стратегической ошибкой? Анисин выступал на симпозиуме, вышел в большой эфир, ему и карты в руки. А уж затем, попозднее…
— Анисин отчитывается на Ученом совете сегодня, — блеснув очками, сказал Бичуев. — Следующая очередь ваша.
— А в качестве кого вы, собственно, это говорите?
— В качестве исполняющего обязанности директора института.
Вот как. Две новости подряд, и обе я проморгал. И Марфинька нам ничего не сказала. А может быть, сказала, но не мне.
— Когда… в котором часу выступает Анисин? — спросил я прерывающимся голосом.
Бичуев посмотрел на часы.
— В семнадцать ноль-ноль, — ответил он любезно. — Но заседание закрытое, имейте в виду.
В приемной возле Марфинького стола увивался Фарафонов. Видимо, я застал их врасплох, потому что оба они уставились на меня чуть ли не с испугом.
— Юрий Андреевич, на пару слов, — холодно сказал я и взялся за ручку двери.
— Он что вам, мальчик на побегушках? — звонким голосом спросила Марфинька.
Я пожал плечами и вышел.
33
Фарафонов догнал меня в коридоре, возле курилки.
— Не сердитесь на нее, Володя, — сказал он, положив руку мне на плечо. — Сами понимаете: женщина. Она ревнует меня буквально ко всему.
— И к вашему прошлому, видимо, тоже. — Я высвободил плечо и сел на диван.
Фарафонов остался стоять. Я взглянул ему в лицо — он жалко моргал глазами.
— Это запрещенный прием, — тихо произнес он.
— Разве? — осведомился я. — Мы об этом не договаривались.
Фарафонов подумал.
— Ладно. Какие будут указания?
Я сжалился над ним.
— Садитесь.
Он сел чуть поодаль.
— На заседание Ученого совета вы можете пройти?
— Могу. Но потом меня выставят.
Вот черт! Я об этом забыл. Массовое воздействие ему недоступно.
— Ну, хорошо. Необходимо укоротить Бичуева. Он окончательно зарвался.
— Каким же образом?.
— Скажем так. Минут через двадцать он пойдет в зал заседаний. В коридоре его обступят люди, станут надоедать вопросами. Вы встанете вот здесь, возле лестничной клетки, так, чтобы не бросаться в глаза. Неожиданно Бичуев снимает пиджак и…
— Он старый человек, Володя, — перебил меня Фарафонов.
— Да, да, — поспешно согласился я. — Недозрелая идея. Тогда так. Он отдает идиотский приказ…
— Например?
— Например, выносить на улицу несгораемые шкафы… Нет, не то. Мы не должны выставлять его невменяемым. Полная неспособность к руководству — вот что должно быть ключом. Может быть, вы что-нибудь посоветуете?
— Не понимаю, что это даст, — сказал Фарафонов. — Старика уберут, и его место займет Анисин. Вы, Володя, пока не котируетесь.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил я, глядя ему прямо в глаза.
Фарафонов сокрушенно молчал.
— Ах ты выходец проклятый! — заорал я, не помня себя от бешенства. — Ты еще будешь мне шпильки подсовывать? Делай, что сказано!
Фарафонов встал, сунул руки в карманы, лицо его окаменело.
— Ну-ну, полегче, — сказал он. — Полегче при дамах.
Я обернулся — возле нас стояла Марфинька. Она с живейшим трепетом прислушивалась к нашему разговору.
— Вы простите меня, Юра, — сказал я, тоже вставая, — я был излишне резок, но обстановка осложнилась…
— Оставьте Юру в покое! — крикнула Марфинька. — Нечего его подбивать! Ишь какой нашелся!
Я был удивлен.
— Что такое? — спросил я, поворачиваясь к ней. — Что такое, не понял! Кто кого подбивает? И на что?
Но Марфинька не могла больше произнести ничего связного.
— Ишь какой нашелся! — повторяла она, задыхаясь. — Ишь какой нашелся!
— Видите ли, Володя, — сказал Фарафонов. — Пора внести ясность. Марфинька в курсе дела. Я тут с нею посоветовался, и она полагает…
— Да какое мне дело, что она полагает! — закричал я, снова выходя из себя.
— Юра, почему он на тебя кричит? — проговорила Марфинька и заплакала. — Сделай с ним что-нибудь!
Я испугался.
— Ладно, шут с вами, — пробормотал я миролюбиво. — Устраивайтесь как хотите. И без вас обойдусь.
Фарафонов молча обнял Марфиньку за плечи.
— Кстати, Юрий Андреевич, — сказал я, видя, что они собираются уйти. — Не забудьте вовремя отдаться в руки правосудия. Вы уже не в том возрасте, чтобы откладывать такие дела на опосля.
Фарафонов потемнел, Марфинька охнула. Но не мог же я дать им возможность удалиться с почетом!
— И не особенно обольщайтесь, — продолжал я в каком-то восторге. — Носить вам передачи она не станет.
— Ну, Владимир Леонтьевич… — сказал Фарафонов хрипло.
— Подожди, Юра, — перебила его Марфинька. — А нам это не грозит, вот! А мы все рассчитали, вот! Пять лет будем выплачивать и все отдадим! Вот вам!
Запрокинув лицо, она торжествующе смотрела на меня снизу вверх и даже высунула острый розовый язычок.
— А ты представляешь, о какой сумме идет речь? — насмешливо спросил я — и вдруг осекся.
«Выходец с Арбата» смотрел на меня темным остреньким взглядом. «Нет, нет! — завопило все у меня внутри. — Только не это! Только не это!»
Удача по скрипке
1
Возле магазина «Маруся» это с Вавкой случилось. На Суворова, рядом с парком, в самом центре почти. Обожала Вавка по центру шататься — без дела, без денег, просто так. Вот и дошаталась: себя погубила и меня сумела с толку сбить.
Мы тогда с ней на прокате работали, в Подлипках, где теперь четвертый микрорайон. До центра от нас тридцать пять минут на автобусе, без особой нужды не поедешь, тем более в Подлипках все под рукой. Гастроном, универмаг, кинотеатр «Кувшинка», пруды замечательные и лес в двух шагах. Теперь, правда, тут сплошная застройка, девятиэтажных башен везде понаставили, и от нашего леса одна слава осталась. А бывало, мы с Вавкой сидим у себя на пункте среди холодильников и через раскрытую дверь зябликов слушаем. Вот такая была у нас жизнь.
И хлопот на прокате поменьше было: два клиента в день, да и то не клиенты, а горе. Зимой еще мальчишки прибегали за коньками, за лыжами, а летом вообще тишина. Прибредет, бывало, Сеня-дурачок, баян попросит, попиликает немножко и уходит ни с чем. Денег мы с него, конечно, не брали, а на раскладушках много не выручишь, и горел наш план ясным огнем. Вот когда застройка пошла, сразу работы прибавилось: каждый день новоселья, по две сотни фужеров за один заказ набирают, пока все перестучишь — руки отвалятся. Удивительное дело, как меняет людей застройка: сразу всем кофемолки понадобились, холодильники, магнитофоны. Откуда только привычки взялись?
Но не дотерпела Вавка до этих событий, загубила себя и ушла. Девушка она была полная, интересная, и не зябликов ей слушать хотелось, а парней, да помоложе, да с гитарами, да с кудрями до плеч. Но у нас тогда таких не водилось. Вот и тосковала Вавка от подлипкинской нашей жизни, все мечтала в центр перебраться, как будто в центре тротуары медом намазаны.
Ну, конечно, с ее внешностью сам бог велел на виду у всего города жить да по улице Суворова прогуливаться, самодельные наряды свои выставлять. А мне и в Подлипках удобно было: и собой я не так чтоб уж хороша, и постарше Вавки на три года, а самое главное — с ребенком на руках, мать-одиночка. Подлеца-то моего до сих пор по всему Союзу с исполнительным листом гоняют. Я тогда так рассуждала: поседеет — вернется, от меня ему деваться некуда, потому и насчет кудрявых парней не особенно волновалась, хотя Вавке по-бабьи, конечно, сочувствовала.
2
И вот три года назад, под конец января, вся эта каша и заварилась. Началось с пустяка: пришла моя Вавка на работу в новой кофточке. Такая, знаете, из черного бархата, рукав короткий, вырез глубокий, все в обтяжечку, и на левой, значит, груди аппликация с бисером. Простенько, но с идеей.
Посмотрела я на эту кофточку — и обидно мне стало: невезучая я, как росомаха, в какую очередь ни встану — везде товар передо мной кончается.
— Французская, что ли? — спрашиваю.
— Нет, — отвечает мне Вавка, — выше поднимай, Зинаида: в Гонконге такие делают. А что?
— Да ничего, — говорю. — Все к тебе идет, все на тебе смотрится. Только зря ты эту кофту купила. Внешность-то твоя какая? Готическая. Ты строгое лицо свое веселеньким должна обрамлять, недоступности в тебе и так достаточно.
Я ей по-человечески, как подруга подруге. Но Вавка, смотрю, сразу соскучилась. Села возле прилавка, руки на колени бросила, смотрит так равнодушно и говорит:
—Права ты, Зинаида, продешевила я впопыхах. Из-за какой-то тряпки дурацкой счастье свое, возможно, прохлопала.
— А что, — спрашиваю, — там еще что-нибудь давали?
— Где «там»? — отвечает мне Вавка. — У женщины брала, с рук. Возле магазина «Маруся».
— А сколько заплатила?
— Сама не знаю, много или мало. Поглядим.
Смешно мне тут стало.
— В кредит, что ли, — спрашиваю, — спекулянтки теперь торгуют?
Молчит моя Вавка, разговаривать со мной не желает. Ну и я вязаться к человеку не стала. Вижу, и без того в расстройстве она.
Тут клиент как раз зашел, солдат-пограничник, фотоаппарат ему понадобился. «На побывку, — говорит, — приехал, нарушителя, — говорит, — злостного задержал. Теперь хочу любимых девушек запечатлеть, чтоб оставшуюся часть военной службы воображением скрасить».
А сам все на Вавку умильно поглядывает: для кого ж ты, мол, лапушка, так хороша? В другой бы раз Вавка случая не упустила: любила она над солдатиками посмеиваться. Но тут ее как будто подменили. Подает она ему аппарат, смотрит сурово и говорит:
— На кого это ты глаз положил?
— На тебя, — отвечает ей паренек и в краску весь ударяется.
— Выше цели берешь. Ты простой карандаш, вот и стой передо мной навытяжку.
Посмотрел на нее солдат — не шутит она. Расстроился, рукой махнул и ушел.
— Что ж ты, Вавка, — говорю, — такой мальчик заметный, а кожа какая нежная.
— Ай, пошли они все, — отвечает мне Вавка с досадой. — И ты отстань, надоела.
На этом наш разговор и закончился.
3
Недели две она эту кофту носила. Без радости, без души, я уж каяться начала, что настроение ей испортила. Суровая стала Вавка моя, молчаливая, на вопросы отвечает нехотя и в глаза избегает смотреть. Все о чем-то думает. И надумала — на свою погибель.
Вдруг является на работу в манто. Думала я, что синтетика, пригляделась — и обмерла. Темная норка, натуральная, с платиновым блеском, во сне я подобного меха не видела.
— Ты что, — говорю, — девушка, с ума сошла? В этакой вещи сюда явиться! Да к нам на крыльцо теперь автоматчика надо ставить. А ну как спросят, где взяла?
— Скажу, подарили, — отвечает мне Вавка совершенно спокойно. И видно по лицу, что этот мех ей тоже радости не доставляет. Знаете, когда у женщины новая вещь заведется, да еще дорогая — и сама вроде новой становишься. А Вавка будто бы постарела: синяки под глазами, лицо бледное, нездоровое.
Ох и рассердилась я тогда!
— Ладно, — говорю, — дело твое. Подкараулит тебя наша слободская шпана — без манто, а то и без головы останешься. На плохую дорожку ты встала, подруга. С уголовным миром связалась, если не хуже.
Усмехнулась Вавка, головой покачала.
— Сказки все это, Зиночка. Нет никакого уголовного мира. Есть один только мир, в котором мы живем, надо в этом мире как-то определяться.
— Вот спасибо, объяснила, — говорю. А на душе у меня нехорошо что-то стало. — Мужика, что ли, завела богатого?
— Ну, прямо, — отвечает Вавка, — дождешься от них. Не те времена, Зиночка.
— Купила, значит? — спрашиваю с юмором.
— Выменяла.
— На что?
— А на кофточку гонконгскую, помнишь?
Здорово я тогда обозлилась.
— Трепло ты, Вавка, и что за радость перед подругами воображать? Если вещь твоя, вот тебе мой душевный совет: сдай ее поскорее в комиссионку.
— Это я еще посмотрю, — отвечает мне Вавка. — Может, сдам, а может, и обменяю. Не в деньгах счастье. Ты мне лучше скажи: не заметно ли во мне каких перемен?
Посмотрела я на нее, подумала.
— Попалась, что ли? Ребенка ждешь?
— Эх ты, курица, курица, — засмеялась Вавка невесело. — Все-то об одном, ничего не знаешь, кроме лукошка с яйцами.
— Ну а так — не видно ничего. Побледнела немного, но тебе это даже идет.
— Побледнела, говоришь? — переспросила Вавка. — А в глазах моих нет ничего? Приглядись-ка.
Заглянула я ей в глава — и страшно мне стало. Глава как глаза: красивые, подведенные, зрачки большие. И все-таки что-то такое в них было: как в темноте у зеркала, вроде и нет ничего, а мимо пройдешь — сердце вздрогнет.
— Что ж ты молчишь? — торопит меня Вавка. — Заметно что-то или все по-старому?
— Заметно, что замуж тебе пора, — сказала я ей наконец и не стала больше на эту тему разговаривать.
4
Вернулась я в тот день домой, Толика с улицы забрала, накормила его, усадила за уроки, отцу в постель бульон подала (он у меня тогда уже хворать начал), сама сижу у стола, смотрю в тарелку, а перед глазами туман, и на сердце тоскливо.
— А скажи мне, папаня, — говорю я отцу, — шубка норковая сколько может стоить, по-твоему? Ты человек бывалый, знаешь, наверно?
Насторожился отец, бульон на табуретку отставил. Очень он бояться стал, что я мужа найду настоящего, и тогда ему жизни не будет.
— Да смотря какой размер, — говорит осторожно.
— Ну, примерно на меня, — отвечаю.
Закашлялся он, захрипел, на подушки откинулся, подбородок свой выставил, глаза закатил.
— Мама, — говорит мне Толик из-за стола, — умирает наш дед, похоже.
— Да нет, — отвечаю, — просто волнуется. Ты, папаня, не бойся, я тебя не кину, отвечай, если спрашиваю.
Отдышался отец, поутих.
— Да тысяч восемь, не меньше, — сказал наконец и в глаза мне тревожно глядит. — Зина, Зинка, что ты опять надумала?
Успокоила я его, приласкала, обещала транзистор купить: он у меня, как ребенок второй, очень подаркам радовался. Подарила я Толику стереоскоп, а ему не подарила, так он неделю со мной не разговаривал.
Ночью спать не сплю, все ворочаюсь, маюсь: не выходит у меня Вавка из головы. Что ж такое, думаю, она над собой сделала? На что ради норки решилась? И рассудила я так: чистым дело не может быть, слишком деньги большие замешаны, и должна я с Вавкой завтра поговорить. Так и так, мол, подружка, выкладывай все напрямик, а не хочешь — не надо: сразу после работы пойду в милицию. Спасать надо девку, иначе совсем завязнет.
5
И что вы думаете? На другое же утро является Вавка на пункт в своем старом пальтишке перелицованном. Но меня это не успокоило: вот как, думаю, уловила, значит, мое неодобрение, решила поостеречься. Не стала я в лоб ее спрашивать, осторожненько говорю:
— Здравствуй, Вава. Холодновато сегодня, тебе не кажется?
Только хитрость моя была грубо пошита. Зыркнула на меня Вавка, усмехнулась — и подает мне открыточку.
«Вава, милая, — читаю. — С нетерпением жду Вас в Москве, на студии, в любое удобное для Вас время. Съемки в Пицунде, потом в Монреале, так что будьте готовы к длительному путешествию. Ваш Боборыкин».
— Это кто такой? — спрашиваю. — Фотограф, что ли?
— Эх, глубинушка, — засмеялась надо мной Вавка. — Кинорежиссер самый лучший в Союзе. Фильм «Весна во льдах» видела?
— Ну? — спрашиваю. — И зачем же ты ему так срочно понадобилась?
— Да не для того уж, конечно, чтобы твист танцевать. Фильм снимать будем, я в заглавной роли. Видишь, в Монреаль надо ехать. А Монреаль — это тебе не пансионат на Клязьме. Лазурный берег, сама понимаешь.
Прислонилась я к холодильнику, голова кругом идет, ничего не соображаю, как пьяная.
— Вот кого ты, значит, подцепила. Вот кто норками тебя одаривает…
— С ума ты сошла, — говорит мне Вавка. — Я в глаза его еще не видела.
— Ну а где же твоя шуба?
— Обменяла.
— На что?
— А вот на эту открыточку.
Тут в жар меня так и кинуло.
— Господи! — кричу я ей. — Да объясни ты мне все или пропади с моих глаз, пока я тебе челку не выдрала! Дашь ты мне покой или нет?
— А я от тебя, — говорит мне Вавка, — ничего скрывать не собираюсь. Как от лучшей и единственной подруги. Всю историю на прощанье выложу.
— Как на прощанье?
— А так. Ухожу я из этой конторы и в Москву уезжаю. Вернусь из Монреаля — не стану же я чужие сервизы перетирать. Кино — это дело затяжное, один раз уцепишься — а там само повезет. Лет на двадцать хватит хлопот, пока внешность моя не истратится.
Помолчала я, глазами похлопала.
— А обмана тут нет?
— Все проверено, — отвечает мне Вавка. — Вот и адрес мой проставлен, и телефон киностудии. Я вчера уж в Москву звонила: ждут меня, не дождутся, съемки не начинают. До обеденного перерыва с тобой отсижу, а там, извини, поеду. Дело-то важное, понимаешь?
— Понимаю, конечно, — сказала я и слезами вся облилась. — Паспорт не забудь захватить. Без паспорта тебя не узнают.
И все плачу, все плачу, никакого удержу нет.
— Да чего ревешь-то? — рассердилась Вавка.
— Как-то сразу все, — говорю. — Постепенности нет, вот и страшно мне за тебя. Пропадешь без возврата.
— Ах, ты странная какая, — отвечает мне Вавка. — Как же нет постепенности? Говорю тебе: с рук взяла кофту плюшевую, кофту выменяла на шубу, а шубу — вот на эту открыточку.
— И все у одной бабы?
— Все у одной бабы.
— Врешь, — говорю. — Ой, Вавка, врешь. И через твое вранье я на слезы вся разойдусь. Очень уж ты девка беспутная.
— Ладно, Зина, — говорит мне Вавка. — Всем делилась с тобой, поделюсь и сейчас. Может, ты в жизни тоже устроишься.
Вытерла я быстренько слезы, вывесила на двери табличку «Учет», сели мы с Вавкой на пол за прилавком, чтобы с улицы видно нас не было, смотрит Вавка мне в лицо и спрашивает:
— Скажи мне, Зинаида, чего ты в жизни больше всего желаешь?
— Чтобы Гриша мой вернулся, — говорю. — Больше мне от жизни ничего не требуется.
— Экая ты дура, — отвечает Вавка с досадой. — Ну, вернется, поживет с тобой месяц, а потом загуляет — и опять поминай как звали. Хочешь мужа солидного, терпеливого?
— Не трави ты мне душу. Конечно, хочу.
— Ну, так слушай меня. Сразу после работы отправляйся, голубка, в центр. Возле магазина «Маруся» — на Суворова, знаешь? — подворотня есть. Войдешь во двор — там женщины толпятся, кто продает барахлишко импортное, кто покупает. Ты на эту приманку не клюй, проходи в дальний угол, за гаражи, и спрашивай Татьяну Петровну. Она тебе все, что надо, устроит. Подойдешь к ней — режь напрямик: так и так, мол, я от Вавы пришла, хочу замуж выйти, а человека поблизости нет. Да прикинь заранее, кого тебе надо: брюнета или седого, ученого или военного. Татьяна Петровна любит в таких делах определенность.
Не поверила я ни одному ее слову, однако для виду и для подначки спрашиваю:
— Как же она мне мужа устроит? Адрес даст, телефон или тоже открыточку?
— А это уж не твоя забота. Думаю, что и сама не заметишь, как знакомство завяжется. Где-нибудь в автобусе подсядет к тебе человек, глазки твои похвалит, улыбочку. Ну а дальше — как с Татьяной Петровной обговоришь, так и будет. Хочешь — на другое утро в загс, а не хочешь нахрапом — будет по ночам под окнами твоими дежурить, сигареты покуривать…
— Мне курящего нельзя. Ребенок в доме, и отец человек больной.
— Ну, конфеты грызть «Театральные». Я с одной там встретилась, с клиенткой. У нее такая же ситуация: одинока и дитя на руках. В договоре это все обозначить придется.
— В каком таком договоре? — Сердце у меня так и замерло.
— А что ж ты думаешь, — отвечает мне Вава с усмешкой, — на одном честном слове это предприятие держится? Бланк заполнишь, бумагу подпишешь, в двух экземплярах, все чин по чину.
— Документы с собой, значит, брать?
Смеется Вавка.
— Никаких документов этой тетке не надо. Она человека насквозь видит. А соврешь — сама же и пострадаешь. Ты лицо подлежащее.
— Так-то так, — говорю. — И во сколько же мне обойдется эта услуга?
Рассердилась на меня Вавка.
— Бестолковая ты, Зинаида. Где это видано, чтоб мужей за деньги доставали? Ни копейки ты на этом деле не потеряешь, поверь мне на слово. В деньгах эта тетка не заинтересована.
— В чем же она заинтересована?
— А в том, чтобы ты, простофиля, счастье свое нашла.
Смотрю я на нее в упор и чувствую: хитрит моя подружка, скрывает.
— Вот что, Вава, — говорю я ей, — давай начистоту. В жизни мне никто ничего бесплатно не делал, кроме государства, а твоя Татьяна лицо, как я понимаю, частное. Говори всю правду, не бойся, я уже ко многому привыкшая. Но вслепую действовать не люблю.
— Все на месте узнаешь, Зинаида, — отвечает мне Вавка решительно. — Поезжай и не думай плохого: сделка вполне законная. Знай одно: все, что ты ни попросишь, она для тебя сделает.
— Так уж прямо! А если я немыслимое попрошу: красавицей захочу стать писаной?
— Воля твоя, — говорит Вавка. — Но не очень я тебе это советую. Ну устроит она тебя куда надо, щеки там тебе уберут, нос подправят, а дальше что? Для обыкновенной жизни ты и так хороша, а безумство не в твоем характере.
— Ну а если я мужа себе закажу, двухэтажный дом да еще в смысле внешности мелкие изменения?
— Ишь какая ты ловкая, — смеется Вавка. — Так и я бы хотела. Однако норку возвращать пришлось, хоть и жалко было до ужаса.
— Кто ж она такая, — спрашиваю, — эта Татьяна Петровна? Аферистка, сводня или похуже кто?
— А я и сама не знаю, — отвечает мне Вавка. — В договоре написано «агент», а от какой организации — не разберешь: буквы на печати смазались.
6
Тут как раз мой сыночек из школы пришел, в дверь стучится. «Мама, — кричит, — мама!» Обрадовалась я без памяти, что дурной разговор наш придется кончать: совсем мне Вавка голову заморочила. Вскочила я, к двери бегу открывать, а Вавка мне из-за стойки:
— Так смотри не забудь: улица Суворова, магазин «Маруся», дворик с правой стороны, спросить Татьяну Петровну.
— Ай отстань, — отмахнулась я от нее, — не пойду я никуда, и дела твои темные, неприятные.
Впустила я своего Толика: пальтишко у него нараспашку, личико румяное, портфель расстегнут.
— Мама, — кричит, — мама, я по пению пятерку получил!
И с разбегу головенкой в грудь мне тычется, руками своими мокрыми меня обнимает. Я сняла с него шапку, волосики его потрогала: влажные они, потные.
— Ах ты ласковый мой, — говорю, — соловеюшко, придется мне в кафе тебя отвести, мороженого покушаешь.
Тут Вавка моя поднимается, ни кровинки в лице у нее, глаза как стеклянные. Стоит смотрит на нас и губы свои полные покусывает.
— О себе не хочешь думать, — говорит она мне, — о сыне бы хоть подумала.
— А что о нем думать? — отвечаю. — Вон какой мужичок: добрый, веселый.
— Ну а толку что? — говорит мне Вавка. — В тебя пойдет — дурачком помрет, в отца пойдет — сопьется.
Я так прямо и обомлела. Никогда мне Вавка таких слов не говорила: все, бывало, похваливала. «Такую мать, как ты, — говорит, — днем с огнем не отыщешь». Да и то: у меня все разговоры о нем. Как мой Толенька ест, как мой Толенька спит, как учителя на него не нахвалятся. Что ни вечер — я Толеньке своему новое баловство придумываю: то в кафе его отведу, то игрушку куплю, то мы с ним на лодках кататься наладимся. Все хотелось мне, чтоб ни дня у сыночка моего не было без радости. Чтоб из школы домой, как на праздник, шел, чтобы я у него была лучше любой подружки. Марки Толенька стал собирать — так я втайне журнал специальный почитываю. Нет-нет да и удивлю сыночка познанием своим, чтоб он не терял ко мне доверия. Вавка все сердилась сперва («Личной жизни не ведешь, распустеха!»), но потом прониклась, одобрять стала мое поведение.
И вот тебе подарочек на прощанье: «…дурачком помрет…» Да еще со злостью, с усмешечкой. Рот я раскрыла, губами шевелю, а сказать ничего не умею. Даже Толик мой — и тот испугался.
— Мамка, ты чего? — бормочет. — Мамка, я пойду лучше.
— Да ты что, сынок, — наклонилась я к нему. — Это ж тетя Вава, или обознался?
Не стал он меня слушать, схватил ушанку свою, портфелишко драный — и бегом со всех ног.
Пропало у меня настроение. Не то что прощаться с Вавкой — глядеть на нее не хочу. Ну девка она умная, сама поняла: оделась, рукой мне вот так — привет, мол, подружка — и сгинула.
7
Недели две я очень без нее тосковала: сердце отходчивое у меня, отходчивое и привязчивое. Потом ничего, отвыкла. В напарницы мне дали Олечку, милая такая девчонка, только что школу кончила. Поладили мы с ней быстро. Правда, разговоры говорить нам не о чем оказалось: уж очень она была наивная. Парнишка к ней все заходил, так она в большой строгости его держала: и не прикасайся, и не дыши, и не смотри на меня так приторно. Все-то он был перед ней виноват, безгрешный, как ангел, робкий такой, терпеливый, целыми днями на пункте у нас толкался да прощение Олечкино вымаливал. Слушаю я их разговор — и смех меня берет, и удивление: откуда в пигалице этой столько властности? «Ох, устала я от него, — жалуется мне Ольга. — Прикасается да прикасается, что за нужда?» Надо ж, думаю, мне бы такой характер — я б из Гришки своего бечевок навила. Так нет, не дано: тронет, бывало, за руку, и заходится мое сердечко, и пропала Зинаида, на все Зинаида готовая.
Через месяц, однако, приходит мне от Вавки письмо. Вернее, не письмо, а пакет с фотографиями. Десять штук фотографий, одна к одной, все богатые, цветные, на толстой бумаге отпечатаны. Вавка в брючках, Вавка в купальнике на лыжах, Вавка с тигром обнимается. Тигру что? Тигр лежит себе, морду воротит да жмурится. Посмотрела я, повздыхала. Ладно, думаю, каждому свое. Дождалась, значит, Вавка причудливой жизни, о которой с пеленок мечтала. Но сказать, что счастливая она, — не могу: на всех-то фотографиях лицо у нее одинаковое.
Смеется моя Вавка, усмехается, щурится — а лицо все одно, и ракурс один. Счастливые — они об этом не думают.
И было там фото такое: сидит она на песке, смотрит нахально и пальчиком буквы рисует. «Т.П.» Понимай, мол, Зинаида, как знаешь. Поглядела я на эти буквы — и затрясло меня всю. Ах ты, думаю, авантюристка, не хочешь в покое меня оставить? Среди ночи как раз дело было: сижу в ночной рубахе за кухонным, значит, столом, смотрю на это фото, и бьет меня, как в лихорадке. Отец, слышу, в комнате стонет: «Ты что не спишь, Зинаида?»
Мальчишка мой во сне разговаривает… а я на эти буквы уставилась и не могу оторваться. И встала-то зачем? Поглядеть еще раз.
Что ж, думаю, попусту глазами хлопать? Вон как люди устраиваются. Мне этих радостей тропических задаром не надо, я девушка домашняя, тихая, однако печали свои постоянно в уме держу. А не поехать ли к чертовой бабе, к этой, как ее, Татьяне Петровне? Ее, наварно, уж и след простыл: это даже и лучше. Поеду, взгляну для проверочки: нет — и не надо, зато душа успокоится.
С этим и спать легла. А утром, собрала деньжат на случай (тридцать рублей своих наскребла да у Ольги заняла двадцатку) и как раз в среду, день у нас на прокате короткий, отправилась в центр.
8
Спускаюсь по Суворова, подхожу к магазину «Маруся», сердце замирает, ноги в коленях подгибаются. Боюсь, конечно, а чего боюсь — и сама, дура, не знаю. Гляжу туда-сюда — так и есть, натрепала мне Вавка, никакой там подворотни не имеется. Дома стоят сплошняком, люди густо идут, на меня наталкиваются да поругивают.
И так мне обидно стало за свое простодушие, что вот тут, посреди толчеи, взяла бы да и умерла. Жить совсем расхотелось в считанные минуты, вот что значит обнадежиться.
Только вдруг смотрю, открывается подъезд, и выходит оттуда женщина озабоченная, а под мышкой у нее беленький сверток. Обрадовалась я несказанно. Заглядываю в дверь — не подъезд это, а проход сквозной, и в конце его маленький дворик. Люди там толпятся себе, натуральная барахолка.
Захожу я в этот дворик — бог ты мой, чем там только не торгуют! Сапоги-чулки всех расцветок, штаны такие кожаные до плеч, замшевые шляпы, свитера сквозной вязки — голова кругом идет. Ну, думаю, есть Татьяна Петровна, нет ее — все равно пустая отсюда не уйду. Но совета Вавкиного не забываю. Подхожу к одной торговке, спрашиваю Татьяну Петровну. Посмотрела торговка на меня неласково.
— В дальний угол ступай, — говорит, — там она, куда она денется.
Прохожу за гаражи. Вижу, стоит дородная женщина, пальто на ней с каракулем, оренбургский платок на голове: март в том году был холодный. Смотрит она на меня и приветливо улыбается.
— А, — говорит, — Зиночка к нам пожаловала!
Остановилась я и молчу. Обыкновенная такая тетка, лицо кожистое, грубое, глазки мелкие, но смотрят весело. Волос седой на щеках — диабетом, значит, страдает. Тут себе я смекнула, что с клиентами у нее не густо, и похоже на то, что она здесь два месяца меня одну дожидается.
И еще соображаю: не такая уж ты, тетка, пробивная, раз здоровье свое не умеешь поправить. Лекарство бы достала какое-нибудь или в клинику бы легла. Значит, это тебе недоступно.
Вижу, глазками она меня так и сверлит, до самого позвоночника проницает. Набираюсь я наглости и говорю напрямик:
— Шуба мне нужна из соболей, да подороже.
И в кошелку свою лезу, будто бы за деньгами.
— Шубку сделать можем, — отвечает Татьяна Петровна. — Только, сами понимаете, Зиночка, вещь не дешевая.
Все оборвалось у меня внутри. «Эх, Вавка, — думаю, — вот как ты меня подвела, помело ты трепучее». Однако отступать некуда.
— Были бы деньги, — говорю грубо, — я бы к вам не пришла.
Совсем разулыбалась Татьяна Петровна, довольна осталась моей прямотой. А что ж? В таких делах жеманиться нечего.
— Ну а без денег-то как же? — спрашивает с хитрецой в голосе. — Как вы, Зиночка, это про себя понимаете?
Ну тут я опять напролом: была не была.
— А так и понимаю, что Вавка не богаче меня. Чем я хуже ее? — спрашиваю.
Смотрит она на меня пристально и говорит:
— Вы не хуже ее, не хуже, нет. Интерес вы у меня вызываете. Но и со своей стороны вы понять должны, что не даром такие дела делаются.
— Это я как раз понимаю, — отвечаю я Татьяне Петровне. — Говорите свои условия, может, и сойдемся.
Молчит Татьяна Петровна, выжидает. И я жду, глаз с нее не свожу.
— Значит, шубку желаете, — сказал она наконец. — Хорошо ли вы подумали, Зиночка?
— Ну а что еще вы можете предложить? — спрашиваю.
— А мы вам ничего не предлагаем, — строго отвечает мне Татьяна Петровна. — Вы ведь сами сюда пришли, добровольно. Что попросите, то и получите, отказа вам ни в чем не будет. Мелочиться только не следует.
Постояла я, подумала.
— Замуж выйти еще хочу, — говорю неуверенно.
— Ох, упрямая какая! — отвечает Татьяна Петровна и вздыхает. — Не умеете вы себя слушать, а потом удивляетесь.
Рассердилась я.
— Чего ж мне, по-вашему, надо?
— Я-то знаю, — говорит Татьяна Петровна, — да подсказывать не могу. От души должно идти, и тогда у нас дело сладится. Ну решайте, да поскорее, тут ко мне еще одна клиентка двигается.
Оглянулась я — вижу, идет по двору женщина лет сорока, высокая, статная, лицо белое, длинное, и глаза в пол-лица. Красоты такой нечеловеческой, что весь двор притих. Спекулянтки галдеть перестали, про товар свой забыли, смотрят в спину ей, рты разинули. А уж спину она держит, красавица эта, как по струночке идет, по сторонам не глядит, веки приспущены. Что там Вавка, замарашка она коммунальная по сравнению с такой красотой.
Вижу, что-то Татьяна занервничала.
— Вот что, Зиночка, — говорит она мне вполголоса, — разговор наш интересный мы на этом пока прекратим. Вот вам бланки, карандаш, и ступайте-ка вы в кафе «Кукурузница». Заполняйте там поаккуратнее да меня ждите. Через полчаса буду.
Подает мне она две бумаги да шариковый карандаш. Карандаш-то плохой, весь зубами покусан, а бумаги — как новенькие облигации. Завитушки, листы водяные, посредине в рамочке текст. И линейки для заполнения.
Повернулась я — и носом к носу с той красоткой стою. А она, как нарочно, дороги мне не дает. Смотрит прямо в лицо и тихонечко цедит сквозь зубы:
— Бриллианты бери, золотишко бери, остальное обман, пожалеешь, раскаешься.
Нет уж, думаю, милая, и стараюсь ее обойти. Сроду дряни такой я в руках не держала и не знаю, как она выглядит. А сама вся трясусь да зубами стучу: вон какие дела тут ворочают. Не вернуться ли мне подобру-поздорову в Подлипки?
9
Вышла я со двора, чуть бегом не бегу, от милиции к стенке шарахаюсь. Все мне кажется, что на лице у меня тень какая-то обозначилась. Люди смотрят вдогонку, головами качают, водители по лбу себе постукивают.
Вдруг смотрю — меня ноги по ступенькам несут. Дверь стеклянная, за ней гардероб. Старичок горбатенький в желтой фуражке глядит на меня вопросительно. Остановилась я в дверях, отдышалась и спрашиваю:
— А куда это я пришла?
— Как куда, дорогуша? — отвечает мне старичок. — Совсем одурела от магазинов. Кафе у нас тут, «Кукурузница» называется.
Гляжу я по сторонам и понять ничего не могу. Я ж домой, на остановку бежала, а это совсем в другую сторону.
— Ты, молодка, свои облигации спрячь, — говорит мне старик. — Потеряешь — от мужа натерпишься.
Ладно, думаю, значит, такая судьба. На ногах не уйдешь, на автобусе не уедешь.
— Где присесть тут у вас? — спрашиваю. — Мне письмо написать надо срочное.
— А за столик иди, — отвечает старик. — Вон, уборщица тебе место показывает.
Сняла я пальто, сдала в гардероб, прошла к угловому столику. Села, кошелку свою на колени поставила, бланки на стол положила, карандашик на салфетке попробовала. Покосилась направо, налево — никто на меня не глядит. Люди в книги, в газеты уткнулись, им хоть манную кашу подай, хоть цементный раствор — не моргнувши, схлебают.
Осмелела я, локти на стол поудобней поставила, разложила бумаги, читаю.
«Настоящим гражданка… (пишу Вологлаева Зинаида Ильинична»), именуемая в дальнейшем «Зиночка» (это надо же, бланк именной — в типографии для меня заготовили), и агент филиала, именуемый в дальнейшем «Тетя Таня», договариваются о нижеследующем.
1. Тетя Таня обязуется до истечения текущих суток выполнить заявку Зиночки о предоставлении ей… (дальше пропуск и четыре строчки для заполнения), причем точность и качество выполнения гарантируются всем авторитетом филиала.
2. За своевременное, точное и качественное выполнение пункта первого настоящего договора Зиночка выносит тете Тане искреннюю благодарность, каковую филиал имеет право истолковывать по собственному усмотрению.
3. Упомянутая в пункте втором благодарность должна быть скреплена личной подписью Зиночки и подтверждена согласно форме номер четыре словами «благодарю от души».
4. Настоящий договор заполняется в двух аутентичных экземплярах и вступает в силу в двадцать четыре часа ноль-ноль минут текущих суток, после чего уже не может быть расторгнут.
5. Дух и буква настоящего договора не подлежат в дальнейшем никакому изменению, за исключением пункта первого, который по взаимному согласию сторон может быть уточнен еще дважды».
10
Прочитала я и ничего не поняла. Главное, подвоха никакого не чувствую.
Тут подсел ко мне молодой какой-то парнишка, волосы до плеч, красиво расчесаны, на груди белый бант, куртка ладная, с вышивкой, брючки врасклеш, а в руке чемоданчик фигурный.
— Не помешаю вам? — говорит.
Головой я покачала, смотрю на него, любуюсь. Бывают же такие чистенькие, умненькие мальчики. Глаза голубые, пушок на губе. И воспитанный, видно, из хорошей семьи.
— Ну тогда я здесь свой футлярчик оставлю, — говорит он мне. — Не возражаете?
— А что у вас там? — спрашиваю.
Улыбнулся он и говорит:
— Пулемет ручной.
— Ладно, — отвечаю, — постерегу, не сомневайтесь.
Отошел кавалер. Вижу, пошутил он надо мной, инструмент у него в футляре. То ли скрипка, то ли труба какая хитрая. И как озарило меня. Что ж я, глупая, колыхаюсь? Вот и хлеб моему Толику, и удача, и настоящая жизнь. Пусть потрудится тетя Таня, определит моего Толю в хорошую музыку. Чтоб вот так, как этот мальчик, с инструментом ходил да посмеивался. С инструментом, положим, и слесарь-сантехник гуляет, тоже нужный человек, и живет хорошо, но вот чистоты в его деле нет, а главное — нет развития.
Радостно стало на душе у меня, радостно и любопытно: что-то скажет старуха на ловкость мою, как лицо у нее изменится? И короткий разговор я решила вести: можешь оформить ребенка — оформляй, ничего тут противозаконного я не вижу. А не можешь — не надо, прощай, тетя Таня, не видать тебе моей благодарности.
Минут через десять принес мальчишечка поднос, начал кушать себе да на меня поглядывать.
— Музыкой увлекаетесь? — спрашиваю.
— Да не без того, — отвечает. — А что, заметно?
И все смехом, все шуточкой, все беззлобно. Очень я к таким парням неравнодушна. Зубоскалов видала, насмешников тоже, а приветливых да веселых ребят попадалось мне очень немного. Злости в людях полно, злости и нетерпения. Разучились с другими ладить, все собой озабочены. Вот и Гришка мой был сам собой озабочен, оттого и шутки у него такие жестокие.
— Я к чему интересуюсь? — говорю я мальчишечке. — Сына своего хочу в это дело определить. Не посоветуете ли вы, к кому обратиться?
Положил мальчишка вилку свою, задумался.
— А талант у него есть?
— Да похоже, что нет. Может, и без таланта научат?
— Может, и научат. Бывают такие случаи. Только лучше, чтоб был талант: с талантом надежнее. А какой инструмент вашего мальчика интересует?
— Все равно какой, только чтобы места много не занимал и стоил недорого. Вот такой, например, как у вас в футлярчике.
— Это скрипка у меня, — говорит мне мальчишка. — Значит, надо вам к профессору Гайфутдинову. Он ужасно любит молодые дарования открывать. Но пробиться к нему практически невозможно.
Только я фамилию по буквам записала да заявку заполнила, тут как раз и Татьяна Петровна подходит. Усталая, злая, лицо землистое, глазки сверкают, волосы седые на щеках топорщатся. Как увидела она, что я не одна сижу, прямо вся затряслась от бешенства.
— А ну, — говорит она моему мальчику, — пошла отсюда, такая-разэтакая!
Удивился мальчик, тарелки свои забрал и, ни слова не говоря, пересел за другой стол. Тут только я разглядела, что девчонка это, совсем молодая девчонка, бантик на груди оттопырился. И совсем мне стало весело: слава богу, думаю, и девчонки там у них учатся. Заведет мой Толик такую невесту — будет им о чем поговорить. Это мы с Гришкой молча на садовых скамейках тискались. Ох и дура я была, молодая, ох и дура, не умела себя держать. Девушке ведь что? Ей ума большого не требуется. Ты держи себя достойно да веселый разговор говори, так твой ум постепенно и сложится.
11
— Зачем вы ее? — говорю я Татьяне Петровне. — Никому она здесь не мешала.
— Ах, оставьте, — сказала мне тетя Таня с досадой. — Все вы одинаковые, колебания от вас и суета. Нет, с мужчинами легче работать. Они, по крайней мере, знают, чего хотят, и от своего не отказываются.
— Что, скандалить клиентка приходила? — спрашиваю я ее попросту.
— А то нет! — От злости тетя Таня даже слюною брызнула. — Мало, видите ли, ей даровой красоты, подавай теперь материальные ценности. А душонки осталось всего ничего, между пальцами разотрешь. И туда же, пришла по новой оформляться. А уж горло драть здорова! Наловчилась за свои пятьдесят лет, подзаборная! «Вы мне молодость верните!» — кричит. Ишь, чего захотела, гнилушка трухлявая!
— Значит, что же, — спрашиваю я осторожно, — молодость — это вы не можете?
— Можем, отчего же, — отвечает Татьяна в сердцах. — Молодость — это здоровье, а здоровье — вещь достижимая. Но тогда ты мне обратно красоту свою подавай! А без красоты ей, видите ли, ни молодость не нужна, ни материальные ценности. Кем она была тридцать лет назад? Лягушонком, сморчком пупырчатым!
Я подождала, когда тетя Таня кончит браниться, а потом и говорю:
— Ну решилась я, тетя Таня. Есть у меня к вам эаявочка.
И гляжу на нее с опаской. Думаю, сейчас и на меня нашумит. А она вдруг сразу успокоилась.
— Решилась — и слава богу. Ну-ка дай-ка бумаги. Ох и пишешь ты, барышня. «Сыну моему…» Что там дальше? Не разберу.
— «Сыну моему Вологлаеву Анатолию музыкальный талант и удачу по скрипке, через профессора Гайфутдинова».
Сморщилось лицо у нее, как от уксуса.
— Ох грехи мои, — говорит она и садится. — Бланк испортила, грамотейка. Договоры-то от третьего лица составляются. Вот тебе новый бланк, и пиши под мою диктовку. «О предоставлении сыну ее Вологлаеву Анатолию исключительного скрипичного дарования, дающего ему право и возможность обучаться в высших музыкальных заведениях…» Лет-то ему сколько? Одиннадцать? Батюшки, да ты никак в шестнадцать лет родила? Ладно, это меня не касается. Пиши дальше, «…в высших музыкальных заведениях и в дальнейшем занимать призовые места на всех конкурсах союзного и международного значения вплоть до становления его как известного музыканта».
Очень мне понравилось это оформление заявки.
— Прямо как в душу вы мне заглянули, Татьяна Петровна, — говорю я умильным голосом. — До того хорошо — век бы сама не придумала.
— Ладно, ладно, не лебези, — отвечает мне тетя Таня. — В шестнадцать лет хитрить надо было, а не теперь. Вот тебе рекомендательное письмо. Поедешь завтра с сыном в музыкальный институт и спросишь профессора Гайфутдинова.
— Того самого?
— Ну не знаю, того или не того, только без него ты не обойдешься. Письмо вскрывать не смей, оно не тебе адресовано.
— Сына брать с собой?
— А как же. Передашь профессору письмо, и пусть мальчик сыграет на скрипке что-нибудь.
— Да он же не умеет.
— Это не твоя печаль. А скрипочку и ноты на свои деньги купить придется. Магазин здесь на углу. Да получше покупай, не жадничай. Ну и довольно мне с тобой прохлаждаться. Подписывай «БЛАГОДАРЮ ОТ ДУШИ», только разборчиво.
И с таким нажимом она это сказала, с таким нетерпением, так глаза у нее жадно блеснули, что сердце у меня екнуло. Однако отступать уже поздно. Взяла я карандашик обгрызенный и вывела «благодарю от души». Только расписаться успела — тут цапнула Татьяна Петровна у меня договор, за пазуху спрятала и сразу интерес ко мне потеряла.
— А второй экземпляр? — спрашиваю.
— Обойдемся, — говорит, — все равно ты его испортила. Ну, ступай теперь, я пообедать хочу. С утра крошки во рту не было.
Встала я растерянная.
— А больше от меня ничего не требуется?
— Ты свое дело сделала, — отвечает мне Татьяна Петровна. — Да, кстати, корвалол у тебя дома есть?
— Валокордин, говорю. И сразу ноги у меня ослабели.
— Так вот, ближе к полуночи держи валокордин под рукой. Девка ты крепкая, но кто знает? Может понадобиться.
— А почему? — спрашиваю шепотом.
— Да потому, что ровно в полночь договор в силу вступает.
— Ну и что же?
— А то, что станет тебе чуть-чуть нехорошо. Пугаться нечего, никто от этого не умирал, но спазмы сердечные случаются. Минут на пять, не больше.
Тут прознобило меня до последней косточки.
— Господи, да отчего же спазмы? Сроду я на сердце не жаловалась.
Тут Татьяна Петровна улыбнулась во весь рот, и увидела я ее зубы — мелкие, серые, пятьдесят, не меньше.
— Почему? — переспрашивает и пальцем толстым меня манит.
Наклонилась я к ней, а она мне на ухо:
— Ты и сама понимаешь, милочка.
Обомлела я и сажусь тихонько на стул. И пальцы, значит, в щепотку складываю. А тетя Таня смеется.
— Опомнись, Зинаида, не креститься ли вздумала? Сама посуди: разве я похожа на нечистую силу? Чему вас только в школе учат, не понимаю. Раз уж мы навстречу неверующему клиенту пошли, то знамением нас не остановишь.
Смотрю я на нее и молчу, кошелку свою коверкаю.
— Ишь помертвела вся, — говорит мне Татьяна Петровна. Ты, случайно, не адвентистка седьмого дня?
— Нет, зачем же, — шепчу.
— Ну тогда все в порядке… И дай боже нам больше не видеться.
И нашла на меня храбрость. Ах, ты, думаю, вот как, нахрапом берешь. Ну не на такую напала.
— Видеть вас удовольствие невелико, — отвечаю. — И попрошу мне не тыкать. А договор наш немедленно расторгается, потому что на обмане основан.
— Да ради бога, — отвечает тетя Таня без всякого смятения. И достает мою бумагу из-за пазухи. — Хочешь, рви, хочешь, жги, меня это мало трогает. Всего тебе, Зина, хорошего.
Встает она и к стойке идет, очередь занимать. А я беру эту проклятую бумагу и рву ее на четыре части. Потом еще на четыре и еще пополам. А голова как стеклянная, перед глазами огни полыхают, и каждая моя клеточка мелким трясом трясется.
12
Не помню уж как, но оказалась я на улице, в сквере напротив «Маруси». Сижу на скамейке, солнышко за домами садится, снег потрескивает. Подмораживать, значит, его начинает: дело-то совсем уже к вечеру. А в руке у меня вроде камешек. Разлепила я пальцы — не камешек это, а обрывки бумаги. Значит, ничего мне не приснилось, и договор я действительно разорвала. Мне бы радоваться, а я в рев: Толеньку жалко, все мои надежды и мечтания теперь развеялись.
А в хозяйственной сумке моей рекомендательное письмо лежит. Конверт с серебряной каемкой, марка «Космос» — тоже серебряная, и красивыми буквами выписано посередине: «Гайфутдинову Сергею Саид-Гареевичу, профессору».
Встала я и побрела, повесив голову, обратно в кафе «Кукурузница». Сначала просто брела, потом шагу прибавила, под конец совсем побежала. Бегу, задыхаюсь и думаю: ну если ушла эта ведьма — вовек себе не прощу.
Влетаю в зал — сидит тетя Таня за тем же столиком и ножку куриную жадно обгладывает. Повернула ко мне засаленное свое лицо, губы рукой обтерла и говорит:
— А, это ты, Зинаида.
И снова за свою кость принимается.
— Передумала я, — говорю. — Погорячилась, простите великодушно.
— Я-то прощаю, — отвечает Татьяна Петровна, — мне не впервой. Сколько раз уходили клиентки, и все возвращаются.
— Давайте бланк, — говорю. — Я все заново перепишу.
— А зачем? — отвечает Татьяна Петровна. — Договор-то у меня. Ты пустую бумажку рвала, без подписи. Ступай себе с богом и не терзайся напрасно.
— Спасибо вам, — говорю я ей от души.
Тут Татьяна Петровна зорко на меня посмотрела, косточку куриную подняла и произнесла со значением:
— Вот теперь твоя подпись действительна.
Распрощалась я с ней по-хорошему, даже расцеловалась.
И совсем уже с легким сердцем отправилась в музыкальный магазин.
13
Скрипок много в магазине, а очереди никакой. Озадачилась я: с очередью привычнее. Что другие берут, то и ты. А тут глаза разбегаются: всех цветов инструменты, на все размеры. Есть малюсенькие скрипочки, с ладонь величиной, а есть от земли по пояс. И, что странно, цена им одна: двадцать рублей штука. Продавец попался наглый, на меня не глядит, все пакетики со струнами перекладывает. Не стала я ему доверяться. Продавцы — такой народ: что получше попросишь, а он глазом тебя прощупает, видит — человек неумелый, и подсунет второсортный товар. Выбрала я темненькую, с загаром, среднего размера, чтоб на вырост была и все-таки по плечу моему Толику: как-никак, ему завтра играть, ни к чему ребенку вещь неподъемная. Заплатила двадцатку за скрипку, одиннадцать за футляр, пять девяносто за подставку для нот, а самоучителя в этом магазине не оказалось. И решила я больше никуда не ходить: ноги устали от беготни, да и голова стала тяжелая. Обвешалась я покупками и поехала в свои Подлипки.
14
Мужики мои так глаза на меня и вытаращили.
— Мама, что это, гитара? — спрашивает меня Толик, ягодка моя.
— Нет, сыночек, — сказала я и заплакала. — Скрипка это, будешь на скрипке играть.
— А я не умею.
— Научишься.
— С ума ты, Зинка, сошла, — говорит мне отец. — Да у нас в семье сроду скрипачей не было. Гармонисты водились, но гармонь — это же другой коленкор. Как же ты решилась против наследственности?
— Не ворчи, дедуля, — отвечаю ему. — Голова и так раскалывается.
После ужина стал мой Толик свою скрипку терзать. Положил на плечо, пиликает. Весь вспотел, бедняжка, а толку нет: то она у него зверем, ревет, то и вовсе шипит без голоса. Умаялся мальчик — и в слезы:
— И зачем ты ее, мамка, купила, проклятую?
— Ничего, сынок, — говорю, — это дело постепенное. А сама уж сомневаться начала: не надула ли меня старуха?
15
Ну угомонились мы, спать легли. Толя скрипку рядом с собой положил, глаз с нее не сводит. Да и то: игрушка красивая. Гладит ее, ласкает, так в обнимку с ней и заснул. Отец тоже захрапел (тяжело он спал в тот последний год), я одна до полуночи глаз не сомкнула. Вот ведь, думаю, глупость какую сделала: а вдруг умру? Что они без меня останутся?
Слышу, у соседей стенные часы хрипят: к бою, значит, готовятся. Я по этим часам на работу всегда вставала: точные они, старинные. И висят за стеной как раз над моим изголовьем. Бывало, расстроюсь к ночи, лежу на постели и слушаю, как они тикают. Бой у них колокольный, с малиновым перебором, на три этажа слышно: жильцы уж писали на эти часы заявление.
Блям! Ударило раз. Я коленки поджала, лежу ни жива ни мертва, и припомнилось мне, как я Тольку рожала. Привезли меня в родильную палату. «Ну, давай», — говорят, а я в слезы: «Не хочу, не сейчас, не умею!» Акушерка смеется: «Девять месяцев назад надо было такие слова говорить. Торопилась тогда, и сейчас не оттягивай!» Торопилась, что правда, то правда. Гришка был озорной, он и знать не хотел, что я только восемь классов кончила. Ему бы подождать, пожалеть бы меня… но тогда бы и Толика не было. Вон он спит, моя кровинушка, губами во сне «чмок, чмок», и не знает, что мать его сделала.
Бум! Ударило во второй, и пошли колокольчики, перезвоны. «Мама, мамочка», — шепчу, как в палате тогда: в полный голос кричать я стеснялась. Пусть, мол, думаю, взрослые бабы дурным криком исходят: мне нельзя, я несовершеннолетне. Скажут: ишь ты какая, ребенка молчком завела, а сейчас разоряешься. Ну точь-в-точь как теперь: и страшно и стыдно.
Третий, пятый, десятый удар. Руки-ноги холодные стали. Может, встать? Может, папаню на помощь позвать? Что я все «мама» да «мама»? Мамы-то своей как раз я и не помню, очень рано она умерла, и пришлось отцу меня нянчить. Он жалел меня маленькую, обшивал и обстирывал, женщин в дом не водил: так и выросла я к мужчинам доверчивая. Гришке верила, как отцу, он и старше меня на одиннадцать лет, то-то я тогда, дурочка, радовалась. Вот как, думаю, повезло сироте: из отцовских-то рук прямо в Гришкины руки попала. Он тогда был веселый, мой Гришка-злодей, коротышкой все звал, пузатенькой…
Тут слезами я задавилась, в подушку уткнулась лицом и не слышала, как двенадцатый пробило. Только чувствую вдруг — холодок на языке, точно мятную конфетку съела. И легко сразу стало, спокойно внутри: помню, даже засмеялась я от облегчения. Вот и все, говорил мне, бывало, Гришуточка мой, а ты, дурочка, боялась. С этим и заснула, а спала до чего хорошо — ну прямо как будто убитая.
16
В семь часов просыпаюсь — как заново родилась: улыбаюсь лежу, спокойная, собой довольная. В доме хлеба ни крошки, на первое нет ничего, а я потягиваюсь себе да пожмуриваюсь. Пастилы захотелось: ну смерть как хочу пастилы. Впору встать да бежать в магазин. Ладно, думаю, заверну по дороге в кондитерскую, килограмм куплю и на пункте одним духом слопаю.
Только слышу вдруг — шорох по комнате, белый кто-то идет. Невысокий, и по полу тихо ступает. И подумала я без страха: вот она, душа моя, выхода найти не может. Села я на постели, ночнушку на груди запахнула.
— Кто там? — спрашиваю.
— Мама, это я, не бойся, — отвечает мне Толиков голос. — Что-то душно, не спится.
И от этих от слов сердце кровью мне сразу ошпарило. Встала я, свет зажгла — и на сына гляжу, словно в первый раз его вижу. Стоит мой маленький у окна, скрипочку к животу прижимает. Бледный, тощий, ушастый, из-под майки все кости наружу, головенка стриженая, шишковатая. И лицо незнакомое, ни Гришкино, ни мое. Господи, думаю, да никак я его разлюбила?
— Мама, я поиграю немножко, — говорит мне сыночек. — Что-то вдруг захотелось. Можно, мама?
Собрала я все силы: да это же Толенька мой, я ж в него свою душу вложила. Пересилила себя, за стол сажусь и головой ему ласково киваю:
— Поиграй, сыночек, поиграй.
Положил он свою скрипочку на плечо, подбородком ее прижал, длинноносый сразу стал, горбатенький. Пальцем струны потрогал и заиграл. Детским голосом заговорила скрипка, быстро так забормотала: «Что же это со мной, что же это со мной… — И протяжно потом: —…де-е-лают?..»
Сжалась я вся в комочек, сердце, как у птицы, стучит: не поддамся я старухе, нет, не поддамся. Ишь чего выдумала! Как любила я его, так и буду любить, и жалеть его буду по-прежнему. Кто ж его еще пожалеет, если не я?
Тут и дед наш проснулся. Заворочался, притих, слушает. А сыночек играет: «Что же это, что же это, как же это со мной, как же это?»
— Ах, Зинуша, — говорит отец, — хорошо мне, Зинуша. Дожил все-таки, и мы как люди… На скрипке играем. Это ж жизнь! Я теперь поправляться начну. И в груди облегчение.
Обернулась я — торчит среди белых подушек комариное его лицо: глазки острые, ротик сморщенный. Стало мне обидно, нехорошо.
— Поправляться начнешь? — говорю я со злобой. — Ты уж пятый месяц так поправляешься. Сколько крови моей выпил — и все больной. Не идет тебе впрок моя кровушка.
Ничего не ответил отец. Отвернулся к стене, плечи к ушам подтянул и лежит неподвижно.
— Что ж ты, сыночка, перестал? — говорю я своему Толику. — Играй, ненаглядный, играй, никто тебе не мешает.
Смотрит Толик на меня и мотает головой.
— Не хочу, — говорит. И скрипку на подоконник откладывает. Отвернулся, набычился. — Зачем ты мне деда обидела?
Как услышала я эти слова — прямо вся побелела. Вскочила, ладонью по столу — хлоп!
— Ах ты дрянь! — говорю. — Как ты смеешь вопросы мне задавать? Ну-ка живо прощенья проси у матери.
— Нет, сначала ты попроси, — отвечает мне Толик и смотрит на меня исподлобья.
— У кого? У тебя?
— Нет, у деда. Мне его жалко.
— Ах, тебе его жалко? — Помутилось у меня в голове, подскочила я к сыну, за плечи его — и давай трясти. — А меня тебе не жалко? Меня, свою мать, ты хоть раз пожалел? Вы хоть раз меня с дедом спросили, что я в жизни хорошего видела?
Испугался мой Толик, головенкой мотает, а в глазах — ни слезинки, одно только недоумение. Никогда я его раньше пальцем не трогала.
Тут отец с кровати слез. Подбежал ко мне босиком, в нижнем белье, прыгает вокруг, за руки меня хватает.
— Зинка, доченька, не надо его! — кричит. — Не бей, отпусти ребенка!
— А, и ты его жалеешь! — шумлю. — Кто же меня-то пожалеет, что всю жизнь я, как проклятая, с вами мучаюсь?
Силы у отца — на мышиный писк. Повела я плечом — так он на пол и повалился. Сидит на полу, руки тянет ко мне и просит:
— Ради бога, прости нас! Ради бога, прости!
Отпустила я Толика, села за стол, обхватила голову руками и глаза закрыла. Господи, думаю, на работу бы поскорей. Выйти бы поскорее на улицу.
Открываю глаза, — стоят они оба передо мной: отец, как лебедь, весь в белом, и сыночек мой в майке и в трусиках.
— Ну, — отец ему говорит, — проси теперь прощенья у матери. Видишь, как мы с тобой ее замучили!
— Мамочка, родная, — шепчет мне Толик, — я тебя больше мучить не буду. Только ты не тряси меня так, пожалуйста!
— Хорошо, сыночек, — отвечаю ему и руку протягиваю — по головке его погладить. Как шарахнется он от меня, даже стул опрокинул: боится. — Поди, — говорю, — умойся холодной водой да за скрипку берись. Тренируйся хорошенько, а в пять часов чтобы был у меня на работе. Повезу тебя людям показывать.
Ничего он не ответил, головенку опустил, стоит, с ноги на ногу переминается. Чувствую, опять закипает во мне, клокотать начинает. Но — не поддалась: превозмогла себя, собралась поскорее — и бегом на работу.
17
Утро выдалось морозное, яркое. Лед под ногами хрустит, кусты стоят на снегу красные, солнышко в них играет. Завернула я в булочную, купила кулек пастилы, иду — и сама себе удивляюсь: тихая, спокойная, ничего мне не надо, в голове светло, на сердце ни одной морщинки. Я ли десять минут назад тошным криком кричала, сына за плечи трясла, с отцом воевала, плакала? Может, сон мне приснился дурной и ничего этого не было? Ладно, думаю, за ум возьмусь, буду с ними ласковая и ровная. Чего между своими не бывает? Без заботы моей, как слепые котята, они пропадут, а заботиться я не отказываюсь.
Тут навстречу мне Сеня-дурак. Кучерявая папаха на нем, пальто бежевое дамское. Забегает вперед, наклоняется, в лицо мне заглядывает.
— Кто такая? — бормочет. — Чего по нашей улице ходишь? Вот собачку сейчас позову!
Остановилась я, металлический рубль из кармана достала.
— Что ты, Сенюшка? — говорю ему ласково. — Своих узнавать перестал?
Подаю ему рублик, а он не берет, смотрит недоверчиво, пятится.
— Ишь прикинулась! — говорит. — Убери свои деньги, воровка!
Обернулась я направо, налево — люди мимо проходят, соседи, знакомые. Может кто услышать да понять не так — стыда не оберешься.
— Что ты мелешь, дурак? — спрашиваю сердито. — У кого я украла? Опомнись.
А дурак все свое:
— Воровка! Воровка! Старика обокрала, ребенка обокрала, теперь Сеню захотела купить? Не купишь, воровка, не купишь!
Рассердилась я на него, замахнулась рукой. Поглядел он на меня дико и побежал, в пальто своем путаясь. Да все издали кричит:
— Воровка! Воровка!
Ну что с дурака возьмешь?
18
Пришла я на пункт, калорифер включила, радиолу с пластинкой наладила. Валенки рабочие надела, халат, сижу за прилавком, пастилу кушаю и ни о чем таком особом не думаю. Тут и Ольга приходит.
— Ах, какой у нас уют! — говорит.
Пальтишко скинула — и давай перед, зеркалом прихорашиваться. То на палец локон навьет, то на щечку его спустит, то боком к зеркалу повернется и в профиль себя оглядывает.
Надо ж, думаю, чудеса какие: и вертлявая девка, и собой ничего, тело ладное, ноги длинные, а однако же кровь у нее рыбья. Стало мне смешно от этой мысли. Гляжу я, как она по-напрасному попкой вертит, и прямо трясусь вся от смеха.
Вдруг почувствовала Ольга нехороший мой взгляд, обернулась, бровки нахмурила.
— Что-то вы, — говорит, — Зина, сегодня недобрая.
— А устала я, — отвечаю, — от своей доброты. Все, кому не лень, ею пользуются.
— Жаль, — она мне говорит, — я вас именно за доброту и любила.
— А теперь, — отвечаю, — за что-нибудь другое полюби. Хватит с меня, надоело.
Удивилась Ольга и, по-моему, обиделась. А мне как того и надо было. Прямо маслом по сердцу мне ее удивление.
— Что вы, собственно, имеете в виду? — говорит.
— А то, — отвечаю, — чтоб дружок твой больше сюда не ходил. Мне на вашу возню смотреть опротивело. Возитесь, возитесь, и все вхолостую. Ничего у вас с ним не получится.
Залилась она краской и что сказать не нашла. Так весь день мы с ней молча и работали. Кавалер ее все за витриной маячил, но войти не решился: видно, издали почуял неладное.
19
Ближе к вечеру стала я тосковать. Все в окошко гляжу: не идет ли мой Толя со скрипочкой? Он, бывало, из школы прямо на пункт приходил. Сядет в задней комнате на пол и с пылесосом играется. Так и мне спокойно было, и ему хорошо: мама под боком, и игрушки серьезные. Но сегодня что-то нету и нету его. Прямо вся извелась: не попал ли под машину, не случилось ли чего? Кому я тогда нужна буду, порченая? Не идет из ума, как обидела я его, маленького своего, единственного. Господи, думаю, только бы целый пришел: зацелую, заласкаю, замолю свою вину. Нет, не обокрала я его: вся любовь моя осталась нетронутой.
В пять часов гляжу в окно — плетется мой Толик по тропиночке. Головку повесил, футляр по снегу волочит. Как увидела его — прямо в голос крикнула:
— Толенька! — кричу. — Солнышко мое!
И к дверям, и на улицу. Бегу простоволосая к нему, он остановился растерянный, потом футляр под мышку подхватил — и тоже ко мне навстречу.
Упала я перед ним на колени, обнимаю его, реву, прощения прошу, личико его маленькое глажу. Утомился он наконец, стал от рук моих отворачиваться.
— Ну, чего ты, мама! — стал говорить. — Встань со снега, пойдем, простудишься.
— Что ты все «пойдем» да «пойдем»? — говорю я ему с обидой. — Мать вон на коленях перед тобой стоит, а ты слова ласкового ей не скажешь. Прямо как неживой!
Но не слушает меня Толя, лицо свое прячет и бормочет одно, словно заведенный:
— Мама, встань. Мама, встань!
Горько стало мне, пасмурно. Делать нечего, однако, поднялась я, с коленок снег отряхнула.
— Ладно, — говорю и за руку его беру. — Пойдем, раз так. Черствый ты, безжалостный мальчишка.
20
Ехать нам через весь город пришлось, в самую толчею, да еще с двумя пересадками. Я молчу, обиженная, и Толик молчит. Раза три он собирался со мной заговорить, только я отворачивалась, как не слышала.
Пока до места доехали — стало уж темно, и фонари зажглись. Подошли мы к зданию — все окна горят, музыка слышится разнообразная. Кто на пианино бренчит, кто в трубу трубит, кто свой голос вхолостую пробует. Тут разнервничалась я: ну как не пропустят? А то осмеют. Чего, мол, притащилась, без вас тут народу хватает. Толик тоже струхнул, в руку мою вцепился, тащится за мной, озирается, еле-еле ногами перебирает.
В вестибюле темновато уже: видно, все уроки закончились. Тетка пожилая на стуле сидит, спицами вяжет. Как спросила я профессора Гайфутдинова — зашумела она на меня, но письмо увидела — и приумолкла. Положила свое вязанье на стул и пошла куда-то, ногами шаркая.
Приняла я от Толика пальто и шапку, форму школьную на нем одернула. Курточка на Толике мешком сидит, брюки мятые, все в пятнах, воротник у рубашки чернилами перемазанный. Как увидела я это — прямо чуть не заплакала.
— Что ж ты, — говорю, — охламоном таким пришел? В новенькое лень было переодеться?
— Я на скрипке играл, — отвечает мне Толик шепотом. — Паганини разучивал, этюд номер десять.
Ну мне что? Паганини так Паганини.
— Что ж ты прямо с десятого начал? — говорю недовольно. — Первый-то, наверно, полегче.
— А по радио только десятый передавали. Что запомнил, то и выучил.
Тут вернулась эта тетка.
— Повезло вам, — бурчит. — Сергей Саид-Гареевич как раз уходить собирался. Ждет он мальчика в тринадцатой комнате. А вы, мамаша, здесь побудьте, нечего по коридорам зря разгуливать.
Сунула я Толику футляр со скрипкой, макушку ему перекрестила, в спину подтолкнула: иди. А он оглядывается:
— Мамонька, страшно.
Рассердилась я, ногой на него топнула.
— Ступай, говорят! Нечего мать изводить.
И пошел мой сынок по лестнице.
21
Два часа я, как львица в клетке, металась. Господи, думаю, что ж так долго? Совсем они мне ребенка замучают. То застыну, притихну: не слышно ли скрипки?
Нет, не слышно, мужчина какой-то во весь голос ревет. «На земле, — кричит, — весь род людской…» Замолчит, к себе прислушается, не повредилось ли что внутри, и опять начинает: «На земле весь род людской…» Так и не дождалась я узнать, что с родом людским происходит. То наверх порываюсь бежать, а вахтерша меня урезонивает. Чуть не подралась я с ней: посторонние люди, спасибо, вмешались. А то бы меня под руки на улицу и вывели.
Наконец, гляжу, спускается Толенька мой. Бледный весь, истомленный, глазенки запавшие. Я к нему навстречу бегом.
— Ну, — говорю, — приняли тебя? Приняли?
А он смотрит на меня удивленно и спрашивает:
— Куда?
— Как куда? — Я прямо опешила. — В концертную бригаду, в ансамбль какой-нибудь. Зачем же мы сюда приехали?
— Что ты, мама, — отвечает мне Толик и улыбается снисходительно. — В ансамбль мне нельзя, я еще нотной грамоты не понимаю. В музыкальной школе мне надо учиться.
— Долго? — спрашиваю.
— До десятого класса.
Ноги у меня так и подкосились.
— А потом?
— А потом в музыкальный институт поступлю, — отвечает мне Толик с гордостью. — Или прямо в консерваторию.
— Сколько ж лет там учиться?
— Не знаю. Наверное, пять.
Постояла я, помолчала. И все нетерпение мое как рукой сняло. Чувствую только, что устала до помрачения.
— Ну а потом?
— Не знаю, — отвечает мне Толик.
Схватила я его за плечи, он съежился весь, но трясти его, как утром, я не стала.
— Что ж тебе профессор сказал? — спрашиваю я его шепотом.
Молчит сыночек мой, глазками испуганно хлопает.
— Ты ответишь мне или нет, мучитель ты мой?
Смотрит Толик на меня и говорит запинаясь:
— Он сказал… с моими данными… меня любая музыкальная школа примет.
— Любая?!
Я ушам своим не поверила.
— Так и сказал: «любая»?
— Так и сказал.
— Ну это мы еще поглядим! — отвечаю я и решительным шагом — к лестнице. — Я ему покажу «любая»! Я еще разберусь, что это за профессор такой Гайфутдинов!
Вцепился Толик мне в рукав, тянет меня прочь, не пускает.
— Мама, мама, — шепчет, — мама, не надо, пойдем! Мамочка, стыдно!
— Стыдно? — я ему говорю и локоть свой вырываю. — Нет, сынок, мне не стыдно! Ты не знаешь, какой ценой я твои данные оплатила, но он-то знает! Он знает! Я еще в глаза ему посмотрю!
— Мамочка, не надо! — плачет Толик. — Не надо его обижать! Он добрый, он хороший, он старенький!
Не знаю, чем кончилось бы у нас это дело, только вахтерша не выдержала. Подходит она к нам, отводит мёня в сторону и говорит на ухо:
— И что же это вы, мамаша, ребенка терзаете? Совсем озверели. У мальчика счастье такое, сам профессор Гайфутдинов его приласкал, а вы, родная мать, истерики ему устраиваете. Все гордость, все гордость несытая. Уж если профессор сказал ему: «Данные есть» — дорога вашему мальчику обеспечена.
Подумала я, успокоилась немного.
— Письмо бы какое-нибудь написал… — говорю неуверенно.
— Не любит он протекций, — говорит мне вахтерша. — Но вниманием своим не обойдет, будьте уверены. Взял он сыночка вашего на заметку.
И Толик тут рядом стоит.
— Взял, мамочка, взял! — говорит мне отчаянно. — Он так мне и сказал: «Беру тебя на заметку».
— Что ж ты мне сразу не сказал? — спрашиваю я его — и в слезы. — Что ж ты меня все мучаешь?
Оделись мы, вышли на улицу.
— Ну, ты хоть доволен, сынок? — спрашиваю я Толика.
— Доволен, доволен, мама! — клянется мне Толик. — Ну прямо до ужаса! Он так меня хвалил… и тебя хвалил. Скажи, говорит, спасибо своей матери.
— За что ж мне спасибо? — говорю я ему и скорбно про себя усмехаюсь.
Задумался Толик.
— Не знаю… — говорит и смотрит на меня вопросительно.
Ничего я ему не сказала. Махнула рукой и повела его к остановке.
22
И пошла у нас карусель. В пять утра поднимаюсь, обед варю, Толика в школу собираю, отвожу его, а дорога неблизкая, в самом центре музыкальная школа находится. Еле-еле на работу успеваю, а с работы опять за ним надо ехать. Ни позавтракать, ни причесаться. По две недели в ванной не моюсь. Пудриться забыла, губы красить разучилась. Только и заботы, что эта проклятая музыка. Людей чураться начала, очки противосолнечные носить приучилась, чтоб клиентам в глаза не глядеть: все мне кажется, что они меня разглядывают.
Тольку своего потихонечку извожу. Знаю, что извожу, а совладать с собой не в силах. Стали мы с ним чужие, ни ласки, ни дружбы. У него свои заботы, мне недоступные, у меня — свои, ему скучные. Раньше все говорили, бывало: то я ему что расскажу, то он мне. А теперь все молчком. И обидно мне от этого, и досадно, и боюсь пуще смерти: разлюблю я его, ох, совсем разлюблю.
Поднимается спозаранку, за скрипку берется: «Ах, ты боль зубная, издохнешь со своей музыкой. Не высыпаешься, не наедаешься, тенью ходячей стал…»
Поднимается поздно: «А, мучитель, я для тебя души не жалею, всю душу в тебя вложила, а ты не ценишь, только карты мне путаешь!»
Играет с утра одно и то же (та-та-та, та-та, та-та-та, та-та), а меня как по нервам: «Что за глупый такой, ни на что не способный?»
Нет, бывали и просветления. Вдруг сошлось у него, заиграл без помех: улыбается, скрипочку взглядом ласкает. «Мама, — говорит мне, — послушай-ка вот это местечко! Одолел я его, в теплый тон перекрасил».
Ну, сажусь я, как подсудимая, руки на коленях складываю, а на сердце одна пустота. «Слышишь, мама, — спрашивает меня Толик, — все зеленым и коричневым светится! Две полоски такие, а между ними — воздух сквозной…»
Где уж мне, думаю про себя и вздыхаю. Я сквозного воздуха сроду не слышала. Играл бы лучше сам по себе да меня понапрасну не трогал…
Стал бояться меня Толик, как смертной тоски. Все молчком да молчком, по углам от меня прячется. Скрипку в руки при мне брать не хочет, то ли боится, то ли стесняется. Все равно, мол, ты, мать, ничего не поймешь, стоит ли ради тебя стараться?
Выходит, бывало, из школы возбужденный, радостный, с детишками болтает, портфелем размахивает. А меня как увидит — сразу лицо у него тусклое становится, непонятное.
Няня школьная мне говорит:
— Сам профессор приезжал, наших младшеньких слушал. На сына твоего не нахвалится.
Мне бы радоваться, а я злюсь. Спрашиваю Толика:
— Слушал тебя Гайфутдинов?
— Слушал, — говорит и в сторону смотрит, улизнуть настраивается.
Я за шиворот его:
— Ты делиться со мной будешь, свиненок?
— Буду, — отвечает.
— Так делись!
Молчит.
«Ох, царица небесная, — думаю, — ненавижу ведь подлеца. Как бы мне не пришибить его ненароком…»
Смотрит Толик на меня исподлобья и вдруг заявляет:
— Мама, — говорит, — брошу я эту скрипку.
Чуть тогда я не умерла. Заметалась по комнате, то за сердце хватаюсь, то за голову, сама плачу, растрепалась вся, а он тоже заплакал, в голос ревет и одно твердит:
— Ненавижу я ее, проклятую! Раньше мы с тобой в кино ходили, в кафе-мороженое ездили, книжки я тебе рассказывал. А теперь — ничего! Совсем ты другая стала, не мать, а мачеха! Лучше умру!
— Мачеха! — кричу я ему. — Ах мачеха! Я для него всем пожертвовала, а он, свиненок, такими словами бросается!
— Не надо мне, — Толик говорит, — чтобы ты для меня жертвовала! Я хочу, чтобы ты веселая была, довольная, как раньше! Не нужны мне твои жертвы, мне мама живая нужна!
23
Тут отец стал чахнуть совсем, а у меня на него жалости не хватает. Толик школу прогуливать начал: приезжаю за ним, — а он стоит на ступеньках, как будто только что вышел. Я сначала не понимала, а потом, слышу, девчонка ему шепотом говорит:
— Сергей Саид-Гареевич опять о тебе спрашивал. Чего ходить перестал? Выгонят!
Разругалась я с Толиком, исплакалась вся, а пользы что? Вырос он за этот год, вытянулся, совсем большой стал мужик. Смотрит в сторону да усмехается.
— Слушай, Зина, — говорит мне отец. — Видно, я один во всем виноват. Совсем ты, дочка, из-за меня ополоумела.
— Ай, молчи, — отвечаю ему. — Ты-то здесь при чем? Лежи и пыхти себе потихоньку.
— Нет, Зинуша, устала ты от меня. Вот что я тебе скажу: сдай-ка ты меня в какой-нибудь дом престарелых. Там и обстирают, и покормят, и уколы сделают. Будешь в гости ездить ко мне, а, Зинуш?
Призадумалась я.
— Не возьмут тебя туда, — говорю. — Скажут: дети есть — у детей и живи. Да к тому же лежачий, кому ты нужен?
Ничего не ответил на это отец, отвернулся к стене и лежал молчком до последнего.
На другой же день вернулась я с Толиком домой, а отцовская постель пустая. Туда-сюда — нету нигде. Соседка говорит: одетый вышел, из окна она видела, как он с палочкой по двору ковылял, пальто длинное осеннее, шапка-ушанка на голове, а куда направился — неизвестно.
Села я в прихожей на стул и сижу как истукан. Толик за рукав меня дергает.
— Мама, — говорит, — что же ты сидишь? Искать его надо, мама! Он же слабенький.
А сам весь трясется.
— Иди, — говорю. — Далеко не уйдет.
Хлопнул дверью Толик, выскочил. А я дома осталась.
И что ж вы думаете? Оказалась права. На вокзале его к ночи нашли. Сел на лавочку, заснул, да так во сне и умер. Легкая смерть: все, бывало, он мечтал во сне умереть, так и получилось.
Хоронили отца — не плакала я. Черная вся стала с лица, а в глазах — ни слезинки. Женщины хвалили: крепкая баба. Крепкая-то крепкая, а три дня потом отлеживалась, одним корвалолом питалась.
На четвертый день Толик в школу, а я на работу.
Посмотрела на меня Ольга и говорит:
— Ступайте домой, от вас клиенты шарахаются.
Ну, домой мне идти не с руки, дом холодный, остывший. Пошла я в кино, купила конфет шоколадных, сижу в фойе, фантиками шуршу, отдыхаю. Жить-то надо… И такое происходит во мне рассуждение. Что душа? Разве муки мои в ней находятся? И любовь моя тоже не в ней. Ничего-то я в жизни не потеряла. Все при мне, как и раньше, одного только нету: понимать себя стала несчастной, а раньше жила как жила. Что ж душа-то? И в чем она есть? Уж не в том ли, чтоб себя не жалеть, чтоб к себе быть безжалостной?
Если в том — ни к чему мне она: вот конфетки себе шоколадные ем, просто мне, спокойно, и себя потихонечку жалко. Значит, что? Провернула ты, Зинаида, это дело с двойной для себя выгодой.
Слышу, на эстраде объявляют:
— Выступает юный скрипач Анатолий Вологлаев.
Думала, ослышалась я: нет, выходит на сцену мой Толька. Кланяется, скрипочку свою из-под мышки вынимает. Пригорбатился и настраивается играть песенку.
Как-то сразу до меня не дошло. Вот тебе и раз, думаю. А играл он хорошо: все соседи кругом заслушались. Тут одна гражданочка другой и говорит:
— Я который раз, — говорит, — прихожу сюда слушать этого мальчика. Ох, не делом он занимается: у него ведь талант.
И поплыло у меня все в голове: хорошо, две девчонки молодые подхватили меня под руки, в коридорчик вынесли, на диван положили.
Опомнилась я — и бегом за кулисы. Музыканты говорят:
— Шустрый мальчик у вас. Деньги получил и в другой кинотеатр уехал.
24
Дома он в ту ночь не ночевал: может быть, заметил, как меня выносили. Утром вижу: в дверь записка просунута: «Не ищи меня, мама, тяжело мне с тобой, и не бойся: письма буду писать регулярно».
Ну, в горячку я впала и двенадцать дней бюллетенила. И все эти дни Толик мой дома не появлялся. Тут решила я так: видно, вправду невмоготу ему стало. Пусть устраивается как знает. Чего стоила Зинаида, то и заработала.
Что ж теперь? А вот так и живу. Пастилу по вечерам с чаем кушаю. По кинотеатрам весь город изъездила: не увижу ли где сыночка моего ненаглядного?
Года два уж прошло, боль моя поутихла немножко. И как будто внутри стало что-то опять отрастать. Утешаюсь, что Толик мой где-то живет и что я его больше не мучаю. Письма пишет мне ласковые, виноватые, без обратного адреса. Намекает, что скоро вернется, только я уж изверилась: не ужиться ему со мной, с глупой да бездушной бабой.
Вот вчера по телевизору его показывали. Очень рада я была, что сыночек мой складно играл, не запутался. И одетый прилично, и вроде поправился. Значит, кормит его удача по скрипке, а больше мне ничего и не требуется.
Что еще? Да, тут Гриша мой заявился. Трезвый, побритый, с цветочками. Только ни к чему мне все это теперь. Он обхаживать меня, а я сижу как мертвая. Повертелся вокруг и ушел ни с чем.
25
А недавно в окне парикмахерской видела я Вавкины фотографии: образцы новых причесок на ней предлагаются. Как же это, думаю, а Монреаль, а Лазурный берег? Захожу, кассиршу спрашиваю: кто, мол, такая на витрине у вас?
— Да приходит, — говорит, — тут одна, завивается бесплатно два раза в неделю. Как раз сегодня ее срок подошел.
Ну, не поленилась я, подождала свою подружку. Право, еле ее узнала. Тощая, вульгарная стала Вавка, курит, в разговоре дергается, нервничает. Глаза запали, щеки ввалились, одежонка болтается.
— Потолстела ты, — говорит она мне.
— Это правда, — отвечаю, — сладкого много ем. А ты похудела.
— На всех по-разному действует, — говорит она и усмехается. — Опустилась ты, Зинаида.
— Ты тоже, — отвечаю.
— Ай, — говорит, — суета. Съемки все, пересъемки. Делаем, переделываем.
И смотрит на меня беспокойно. Я молчу: вот они, ее съемки, тут же, в окошке, выставлены. Поняла Вавка глупую хитрость свою, подергалась да и созналась:
— Бросила я кино. Режиссер сам не знает, чего ему хочется. Душу вкладывать требует. Ну, я и ушла. Вот для журнала «Работница» снять обещали. На всю обложку.
Сколько времени прошло после встречи, а что-то я этой обложки не видела. Видно, и для обложки тоже душа нужна. Вот такая история.
Экое дело
1
Утром, часов около десяти, надевши белую майку и черные сатиновые шаровары, Иван Федотович вышел в сени писать стихи. Он взял за правило работать в сенях: там было прохладнее и гораздо меньше, чем в самой избе, донимали мухи. Пригладив две длинные желтые прядки, лежавшие наискось через лысину, Иван Федотович сел за шаткий стол, покрепче уперся босыми ногами в сырые холодные половицы и, беспокойно оглянувшись, произнес:
— Плывем. Куда ж нам плыть?
Это была ритуальная фраза, вызывавшая нетерпение, без которого Иван Федотович совершенно не мог работать. Как и многие поэты, он обставил свой необязательный труд целым рядом мелких условий. Так, он привык работать в легких сатиновых шароварах с тугими резинками на щиколотках, сидя лицом к распахнутой двери, чтобы перед ним было еще одно свободное пространство, освещенное по-иному. В Москве это пространство ограничивалось сумрачной прихожей, которая была заставлена книжными стеллажами, здесь же, в Варварихе, не поднимаясь из-за стола, он мог видеть чуть ли не половину России: дверь на крыльцо была открыта, за нею тропинка, плетень, колодец, дорога, зеленый прогон между двумя заброшенными усадьбами, пологий спуск к реке, а дальше лесистые холмы, над которыми сейчас шел, сотрясая воздух рокотом, тяжелый вертолет.
— Куда ж нам плыть? — повторил Иван Федотович с огорчением, чувствуя, что нетерпение не приходит, и снова оглянулся. Привычка оглядываться, приступая, появилась у него недавно и, видимо, прочно вошла в подготовительный ритуал.
Он взял карандаш и, преодолев минутную вялость и тошноту, написал на четвертушке плотной бумаги первую строчку: «А васильки в букете поседели…» Говоря по справедливости, строчка эта явилась к нему не сейчас. Она была давно готова, Иван Федотович писал ее по утрам не однажды, и всякий раз ему что-то мешало — возможно, небольшой ее фонетический дефект. Но сегодня других заготовок под рукой у Ивана Федотовича не было.
«А васильки в букете поседели, — переписал он, прислушиваясь к себе. — Им дорого, однако, обошлась людская тяга к чистым обобщеньям, к огульному слепому любованью количеством достойного любви…»
Иван Федотович поднял голову, задумался. «К огульному»? Да, пожалуй. Такое эхо осталось от дальнего вертолета, и вышло к месту, и легло в строку.
— К огу-ульному, — повторил он вслух, вытянув губы. — Ну-ну, Иван. Можешь, Иван, можешь.
«А васильки в букете поседели. Им дорого, однако, обошлась людская тяга к чистым обобщеньям, к огульному слепому любованью количеством достойного любви. Какое счастье, что не все доступно подобному бессмысленному сбору, а то уж звезды в небе оборвали и лепят их в один колючий шар. В природе есть возвышенная мера, дробящая прекрасное на части, рассеивающая по пространству все то, что мы хотели бы собрать».
Последняя фраза проскочила легко, как под диктовку, это был опасный симптом, и, наученный опытом, Иван Федотович приостановил свой карандаш. Если такая «диктовка» уляжется в ритм, потом ее из стиха уже не выдолбишь.
— «Рас-се-и-ва-ю-щая по пространству», — проговорил он с удовольствием. — Эк она змеей завертелась.
Иван Федотович был доволен собой, а это с ним случалось не часто. Он подмигнул себе, прищелкнул пальцами свободной руки, потом тихонько хихикнул и оглянулся. Он вел себя, как выздоравливающий больной, да, в сущности, таковым и являлся. Нынешней весной, на сорок третьем году своей жизни, он пережил мучительную депрессию, четвертую по счету и самую затяжную. Писал он нервно, сумрачно, тяжело и в редкие дни выгонял две-три строчки, которые на что-то годились. Сегодняшнее его оживление было в значительной степени напускным: так изнуренный болезнью человек, почувствовав, что миновал кризис, начинает хорохориться и бодриться, с тревогой в то же время прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри. Однако в одиночестве бодриться утомительно, и Иван Федотович скоро это понял.
— Мамуля! — крикнул он, не вставая из-за стола. — Ты далеко, мамуля? Поди-ка сюда.
Жена появилась в сенях почти сразу же, как будто ожидала за дверью, когда ее позовут. В руках у нее был широкий эмалированный таз, почти доверху наполненный синим, так называемым виноградным крыжовником. «Мамуля» была в ситцевом сарафане, коротковатом, с открытыми плечами, загорелые руки ее до локтей были покрыты множеством мелких белых царапин, босые ноги тоже исцарапаны, как у девчонки.
— Вот, собрала с двух кустов, — сказала она и, поставив таз с крыжовником на пол, остановилась у дверей в ожидании.
— Отлично, — ответил Иван Федотович. — А у меня, похоже, проклюнулось.
Он вопросительно посмотрел на «мамулю», как если бы ждал от нее подтверждения. Но «мамуля» его разочаровала.
— Не ошибаешься? — спросила она почти без всякой интонации.
— Не знаю, послушай, — недовольно проговорил Иван Федотович. — Для того и позвал.
«Мамуля» присела на краешек стула и по-деревенски опустила руки между колен. Иван Федотович пристально на нее посмотрел.
— Может быть, ты торопишься? — спросил он, уже досадуя.
— Ну что ты, — так же ровно ответила она и, коротко вздохнув, поправила выбившуюся из-под косынки прядку волос. Когда бы не эта седая прядка да не поблекшее, хотя и загорелое, лицо, можно было бы предположить, что ей нет тридцати. Впрочем, фигура ее была по-бабьи тяжеловата, и светлые глаза смотрели немолодо. «Мамуля» была намного крупнее Ивана Федотовича, рядом с нею он выглядел пожилым подростком, едва видневшимся из-за стола.
Пожав плечами, Иван Федотович взял листок и, держа его прямо, как зеркало, перед собой, начал читать. Читал он тонким звучным голосом, отчего-то укоризненно. По мере чтения лицо его все более омрачалось. Последнюю «диктовочную» строку он пробежал нехотя, скороговоркой и покраснел.
— Что скажешь? — спросил он после паузы, не глядя на «мамулю».
— Опять белый стих, — сказала она.
— Очень тонкое замечание, — нетерпеливо проговорил Иван Федотович, — но меня интересует другое.
— Другое, — повторила «мамуля» и снова вздохнула. — Холодновато, тебе не кажется?
— Я ВСЕГДА пишу холодновато, — отчетливо произнес Иван Федотович и, отложив листок в сторону, посмотрел на нее в упор. — Пора бы к этому привыкнуть.
— А в общем, заявка на тему, — сказала «мамуля», не обращая внимания на его раздражение. — И довольно серьезная.
— «Заявка на тему», — желчно проговорил Иван Федотович. — Мамуля, ты растешь на глазах. Лексикон у тебя стал прямо-таки профессиональный.
— Ох, Ваня, — сказала «мамуля» и поднялась. — Ты сам-то понимаешь, чего ты от меня хочешь? Мне трудно с тобой разговаривать, извини.
— Нет, это ты меня извини, — возразил Иван Федотович. — Задерживать тебя больше не смею.
Он был обижен и раздосадован. Тонкие губы его задрожали, веки набрякли. Он часто захлопал белесыми ресницами и отвернулся.
— Эх ты, страдалец! — ласково сказала «мамуля» и, подойдя, погладила его по голове. — Пошли лучше чаю попьем.
Иван Федотович поспешно закрыл глаза и прислонился головой к ее животу.
— Леля, Леля, — проговорил он жалобно, — если бы ты знала, Леля, как мне тяжело… Если бы ты попыталась войти в мое положение!
— Да я из него и не выходила, — ответила она, бережно укладывая пряди его волос. — И что за положение такое особенное? Посмотри на себя проще, и сразу дело пойдет.
— Пойдет, ты считаешь? — спросил он упавшим голосом.
— Пойдет непременно, — ответила она. — А если и не пойдет, переживем как-нибудь.
Иван Федотович отстранился и некоторое время сидел неподвижно, глядя на рассыпанные по столу веером белые листы.
— Ну ладно, мамуля, — сказал он наконец. — Утешила ты меня, а теперь ступай.
«Мамуля» усмехнулась и, проведя рукой по его худому веснушчатому плечу, отошла от стола.
— Что у тебя с руками? — спросил Иван Федотович.
— Ай, крыжовник, — не оборачиваясь, ответила она и вышла на крыльцо.
Иван Федотович сосредоточенно проследил, как она спускается, легко ступая босыми ногами по мокрым ступенькам, потом положил обе руки ладонями вниз на стол и с горечью произнес:
— Переживем, разумеется.
Но это была беззлобная, так сказать, продуктивная горечь.
2
Леля задумчиво сошла с крыльца, ногой отстранила кошку, которая подбежала к ней приласкаться, и остановилась, забыв, куда ей надо идти. На улице было ветрено и прохладно, только что отсеялся случайный дождик, в ярком небе двигались белые клочковатые облака, и зеленые холмы за рекой то светлели от солнца, то гасли.
— Ах да! — сказала она наконец и пошла к очагу, сложенному из старых печных кирпичей прямо на траве, недалеко от калитки.
Огонь в очаге горел весело и светло, он был похож на заброшенного ребенка, который играет в грязи, не нуждаясь в уходе и сам себя забавляя. Леля присела у очага на корточки, поправила шаткий кирпич, подбросила сырую чурку. Огонь встрепенулся на минуту и начал быстро скисать.
— Что, не нравится? — сказала Леля. — А ничего другого предложить не могу. Дровишки-то еще вчера слопал.
Подняв с земли прутик, она сдвинула крышку с кастрюли. Вода для чая давно уже кипела ключом, можно было подавать завтрак. Сомнительно только, чтобы Ваня оторвался сейчас от писания. Придется самой сходить на торфяную дорогу, набрать хворосту: рано или поздно чай придется подогревать, а растаскивать на дрова хозяйский плетень уже невозможно. И так он сделался весь в прорехах.
Но идти никуда не хотелось. Хотелось просто сидеть и смотреть на угасающий огонек.
— Стара ты стала, Лелька. Отошли твои годы.
«Мамуля» была на восемь лет моложе мужа, но чувствовала себя не по годам пожилой и усталой. Детей у них не получилось, и Иван Федотович был для Лели чем-то вроде сына-подростка, обидчивого и капризного. Леля принимала его целиком, и страсть к писанию стихов казалась ей врожденной хворью, с которой надо мириться, которую, если хотите, можно даже немного любить, если она не угрожает жизни и семейному счастью. Труднее было привыкнуть к его самомнению, но, в общем-то, это тоже была мальчишеская слабость, с которой не стоило враждовать, ведь можно было относиться к ней с ласковым и спокойным презрением.
Леля тихо вздохнула и вытерла плечом слезу, покатившуюся по щеке. Последнее время появилась у нее такая способность — плакать, не зная об этом и совсем не чувствуя слез.
— Все вздыхаешь, голубка? — спросила бабка Люба, подходя к плетню. Была она в валенках, подшитых кожей, и в новом ярко-оранжевом ватнике, который она надевала только по особенным дням. Седая растрепанная голова ее была покрыта черной косынкой. — Что же ты в шалашик ко мне не заходишь? Я тебя научу, как тоску избывать.
Под навесом на огороде у бабки Любы работал аппарат. С утра до вечера она там колдовала, и, когда поддувал ветерок, оттуда тянуло свежим одеколоном. У бабки Любы были свои рецепты, не сивушные и не бражные, а «духовые», как она выражалась: с сухими цветочками и с лечебной травой.
— Принарядились вы, Любовь Михайловна, — сказала Леля, вороша под кастрюлей огонь. Она не поднимала головы, чтобы старуха не увидела ее заплаканных глаз. — Прямо вас не узнать.
— Да где принарядилась! — ответила бабка Люба. — Со двора углядела: машина на шоссе к нам выворачивает. Ну и накинула что попало. Похоже, племянник едет, стипендию мне везет.
— Так вы сегодня при деньгах будете?
— Какие деньги, на соль да на спички. Если бы водку с колбасой покупала, живо бы прожилась. Ну, правда, я на всем на подножном. Раз в месяц и курочку съем.
Старуха потопталась у плетня, поглядела, приложив руку ко лбу козырьком.
— Нет, обозналась, не племянник. «Жигули» темно-синие. Это, милка моя, к вам, наверное, гости.
— К нам? — Леля поднялась. — Ох, вряд ли, Любовь Михайловна. Не нужны мы никому.
Она подошла к плетню с другой стороны, присмотрелась.
— Ну и глаза у вас! Не вижу ничего.
— Конечно, не видишь, — сказала бабка. — Они сейчас внизу, к переезду подъехали. Минут через десять тут будут, если воды не налило.
— А может быть, мимо? — с надеждой спросила Леля. Ей не хотелось, чтобы в деревне появился посторонний народ. Ваня, конечно, начнет раздражаться.
— Да некуда мимо-то, — возразила старуха. — Отсюда ход один: только назад, на шоссе. Может, к Замятиным? Пойду разбужу деда. За сметаной придешь или нет?
— Наверно, не приду, Любовь Михайловна, — смущенно сказала Леля. — Что-то деньги кончаются.
— Ну, это причина уважительная, — добродушно сказала бабка Люба. — А что хозяин твой поделывает?
— Работает, — сухо ответила Леля и снова присела к огню.
— Ох, тошно мне, — промолвила бабка Люба. — Вот ведь мужик: блажной да ледащий. Чего только не терпит наша сестра.
Леля промолчала: она не любила таких разговоров.
— Сгоняла бы его лучше на торфа, — не унималась старуха. — Все равно даром хлеб переводит.
— А это уж я сама разберусь, — сказала Леля, морщась от дыма.
— Ну, разбирайся, милка, разбирайся, — ответила бабка Люба и, шаркая валенками, поспешила к избе Замятиных, на завалинке которой с журналом «Огонек» на коленях дремал старый дед.
3
Минут через пятнадцать на лужайку возле черемухи выкатила темно-синяя легковая машина. Она была заляпана рыжими торфяными брызгами и оттого казалась старее, чем, наверно, была. Какое-то время дверцы машины не открывались. Лобовое стекло ее отсвечивало зеленым, и Леля не могла разглядеть, кто сидит в кабине и сколько там людей. Она с неприязнью осмотрела эту большую дорогую игрушку и отвернулась, но, когда мягко хлопнула дверца, снова невольно подняла голову. Возле машины стояла и смотрела в сторону Лели высокая девушка в красных брючках и белой кофточке, с русыми волосами, широко распущенными по плечам. Выше лба волосы ее были перевязаны широкой красной лентой, что, в общем-то, давно вышло из моды, и Леля сразу невзлюбила эту девушку, а жест, с которым «эта особа» положила руку на крышу кабины, показался Леле фальшивым и зазывным. Вдобавок девушка слишком пристально смотрела на Лелю, и Леля занервничала. Она поправила косынку, потрогала узкие лямки сарафана и наконец встала и подошла к калитке. Девушка наклонилась к приспущенному боковому стеклу «Жигулей» и что-то сказала. Дверца распахнулась, из машины вышел широкоплечий коренастый парень в синей нейлоновой куртке. Сунув руки в карманы, он решительно двинулся к Леле. Девушка в некотором отдалении пошла за ним.
— Добрый день, — сказал молодой человек, подойдя.
Леля молча кивнула.
— Вы простите нас, ради бога, — продолжал он, хотя тон его вовсе не был извиняющимся, скорее наоборот, он ждал, что извиняться будут как раз перед ним, — простите нас, ради бога, но ведь это в определенном смысле деревня Варвариха?
— В известном смысле да, — усмехнувшись, сказала Леля.
Парень не ответил на ее улыбку. Возможно, он не заметил, что пошутил. Чернявый, с маленькими, глубоко посаженными глазами, он был похож на мордвина или на марийца. Черты лица его занимали меньше пространства, чем то, которое отведено было им природой, большая часть щек пустовала, но толстощеким его назвать было нельзя: у него было широкое смуглое лицо с тонким носом и темным, самолюбиво сложенным ртом.
— Тогда еще один вопрос, — серьезно сказал он. — Это дом крестьянки Парамоновой?
— Совершенно верно, — ответила Леля.
Девушка подошла и, взяв парня под руку, с любопытством уставилась на Лелю. Девушка была темноглаза, миловидна, очень молода и тоже смугла, но это скорее всего была не природная смуглость: тщательно положенный грим либо южный загар. Лицо ее показалось Леле знакомым.
— В таком случае, — сказал молодой человек, обращаясь уже к своей спутнице, — мы приехали точно на место. Ват самфинг из ронг.
Напрасно молодой человек заговорил по-английски: до этого момента он казался умнее. Леля четырнадцать лет преподавала английский язык, привыкла ко многому, но произношение этого парня заставило ее содрогнуться. Впрочем, не только ее: девушка тоже поморщилась. Разумеется, он хотел сделать как лучше, но со стороны это выглядело как дешевый изыск.
— Сейчас все выяснится, — сказала девушка, не сводя с Лели, взгляда. — Вы не родственница тети Паши?
— Ну как вам сказать, — ответила Леля. Ей было неловко за свою косынку, выцветший сарафан, поцарапанные и перепачканные сажей руки. — Тетя Паша была настолько любезна, что разрешила нам с мужем пожить здесь какое-то время. За определенную плату, конечно: дом все равно пустует.
— Слышишь, за определенную плату! — Девушка с живостью дернула своего спутника за рукав. — Это вполне в ее стиле.
— Не считаю себя вправе, — неторопливо ответил парень, — не считаю, себя вправе обсуждать тут, у забора, стиль поведения тети Паши, но придется нам осесть где-нибудь поблизости. Другого выхода просто не вижу.
— Ну почему же? — поспешно сказала Леля. — Вы, я так понимаю, люди не посторонние, и еще неизвестно, кому…
— Тетя Паша — моя крестная, — не без удовольствия объяснила девушка. — А это мой муж.
— Ну, тогда тем более, — твердо ответила Леля, — мы сегодня же съедем. Располагайтесь, пожалуйста, и не обращайте на нас внимания. Вещи мы соберем быстро. Кстати, нам и время пришло уезжать.
Девушка заколебалась.
— Право, мне неловко, — проговорила она. — Так внезапно нагрянули… Дело в том, что тетя Паша еще давно, в позапрошлом году, дала мне ключ и сказала, что в любое время… А у нас как раз годовщина свадьбы. Понимаете, мы просто сбежали от всех этих церемоний…
— Вот как, поздравляю, — сказала Леля. — Я была бы очень признательна, если бы вы подбросили нас до города. Если это вас, конечно, не затруднит.
— Ну, какой может быть разговор, — ответил молодой человек. — Правда, я не вижу оснований для такого поспешного отъезда.
— Ну конечно же! — с радостью сказала девушка. — Вы можете перебраться в любой соседний дом.
— Видите ли, молодые люди, — Леля уже утомилась от этого вежливого разговора, который ни к чему не мог привести. — Это будет не совсем удобно. Мы действительно собирались на днях уезжать, так что ваше прибытие ничего существенно не изменило.
Не объяснять же им, в самом деле, что ее муж привык работать в полном одиночестве и совершенно не выносит квартирных хозяев.
— Ты подвезешь их, Илья? — спросила девушка, зачем-то понизив голос.
Молодой человек, не ответив, пожал плечами.
И в это время на крыльцо вышел Иван Федотович. Босой, в сатиновых шароварах, он недовольно щурился на солнце и яркую зелень.
— С кем это ты здесь, мамуля? — спросил он, приподнимая майку и поскребывая живот. — О, простите!
И мгновенно исчез в сенях.
— Мой муж, литератор, — с улыбкой сказала Леля. — Вы его извините, он работал и потому одет несколько по-домашнему.
Парень взял девушку за плечо, и, отойдя шага на три от калитки, они принялись вполголоса совещаться.
А Леля повернулась и пошла в дом.
4
— Что там, туристы? — спросил ее Иван Федотович. Прыгая на одной ноге посреди комнаты, он поспешно надевал брюки.
— К сожалению, нет, — ответила. Леля. — Придется нам с тобой выметаться. Явились родственники хозяйки. Настоящие родственники, а не такие липовые, как мы.
— Липовые? — изумленно переспросил Иван Федотович, не переставая, однако, переодеваться. — А разве эта, как ее… не твоя родная тетка?
— По первому мужу.
— Ты мне об этом не говорила.
— А ты и не спрашивал.
Иван Федотович подошел к окошку, пригнулся, приподнял край марлевой занавески.
— Ч-черт! — прошипел он. — Это злой рок какой-то. Я только начал разрабатываться.
— В Москве продолжишь, — коротко ответила Леля. Она уже открыла чемодан и стала складывать вещи.
Иван Федотович надел белую рубаху, управился с запонками.
— Ты как-то слишком легко к этому относишься, — сказал он после длительного молчания. В его голосе была обида. — Прекрасно зная между тем, что такие внезапные встряски совершенно выбивают меня из колеи.
— А что я могу поделать? — ответила Леля. — У бабы Любы ты и дня не проживешь, Замятины ждут гостей…
— Проклятье! Ну, это мы еще поглядим.
Иван Федотович решительно заправил рубаху в брюки и направился к дверям.
— Иван! — укоризненно сказала ему Леля.
Но он не стал ее слушать: махнул рукой, не оборачиваясь, и вышел в сени. Леля пожала плечами: она прекрасно знала, что Иван Федотович не сможет проявить инициативы: перед стечением обстоятельств он всегда пасовал. Она оставила чемодан, присела на лавку возле окошка. Сквозь крашеную марлю было отлично видно, как Иван Федотович подошел к калитке, церемонно раскланялся, встал подбоченясь у плетня и принялся разговаривать с приезжими. Леля грустно улыбнулась. Отчего-то ей припомнилось, как тринадцать лет назад, тогда еще окололитературная девчонка, она увидела его на вечере в редакции «Московского комсомольца». «Молодой, но уже даровитый поэт Иван Гаранин» читал стихи из своего первого (и единственного) сборника «Время помнить». «Имя твое — два слова, имя твое — вполслова, имя твое простое, синяя тонкая нить. Видно, того стою: имя твое злое, имя твое стальною в сердце иглой носить».
Господи, какой это сейчас казалось древностью! И сами стихи, и неумеренные аплодисменты зала, и «молодой Гаранин», чрезвычайно церемонный и трогательно старомодный. Он читал, прохаживаясь по сцене и заложив руки за спину. Брючки его были чересчур узки, голубой пиджак казался непомерно длинным, золотая шевелюра слишком пышна, а в тонком голосе его уже тогда было что-то принадлежащее восемнадцатому веку. Наверно, точно так же, напыщенно и незащищенно, держал себя на сцене Тредиаковский… если ему доводилось читать со сцены свои стихи.
Однако переговоры, насколько можно было судить, завершились успешно. Минуты через две молодые, закивав энергично, пошли к своей машине, а Иван Федотович с победоносным видом двинулся к крыльцу.
— Представь себе, мамуля, — сказал он, войдя в горницу, — мы приглашены на свадьбу.
— Что за нелепость? — возмутилась Леля. — Какая еще свадьба? Где? Когда?
— Здесь, в этих самых стенах, завтра вечером будет праздноваться первая годовщина. Молодого зовут Рита, молодую — Илья. То есть наоборот, но это не имеет значения. А уж наутро послезавтра мы вольны будем уехать или остаться тут вчетвером, это как подскажет нам внутренний голос.
Иван Федотович был возбужден, он ходил по горнице крупными шагами и, поминутно останавливаясь возле тусклого облезлого зеркала, повязывал себе галстук.
— И ты согласился?.. — еще не веря, спросила Леля.
— Ну, разумеется, а почему бы и нет? Это как раз тот компромиссный вариант, который устроит обе стороны. Они не будут испытывать неловкости, что выставили пожилых людей из дому, мы же уедем послезавтра на рассвете, а вовсе не по первому требованию молокососов.
Последнее слово Иван Федотович произнес шепотом, оглянувшись на дверь.
— Послушай, — сказала Леля. — Приди, пожалуйста, в себя и взгляни на ситуацию трезво. Они сбежали сюда от родных совсем не затем, чтоб наслаждаться твоим обществом. Они пригласили тебя из вежливости, понимаешь? Из вежливости, не зная, как выпутаться из щекотливого положения. Они были уверены, что ты поблагодаришь и откажешься.
— А я не отказался, — торжествующе ответил Иван Федотович.
— Вот этого я как раз и не могу понять. Неужели тебе нравится роль генерала на свадьбе?
— Не худшая роль, — сказал Иван Федотович, озабоченно распуская неудавшийся узел. Сравнение с генералом, несомненно, ему польстило. — Мамуля, ты становишься нелюдимкой, это печальный симптом…
— Ваня, ты сошел с ума, — перебила его Леля, горестно всплеснув руками. — Я просто не знаю, куда нам теперь деваться.
— Да никуда, черт побери! — воскликнул Иван Федотович. — Положись на мой такт, в конце концов, и успокойся.
Из всех добродетелей Ивана Федотовича это была наименее подходящая, чтобы на нее положиться. Мало того, что «молодой Гаранин» никогда не умел вести себя на людях: в последнее время, хоть чуточку выпив, он становился просто невыносим.
— Более того, — Иван Федотович справился наконец со своим туалетом и, повертевшись перед зеркалом, остался собой доволен. — Более того, я даже знаю, какой подарок мы сделаем. Свадебный подарок, я имею в виду.
— Ваня, милый, да ведь у нас с тобой ничего нет! — в ужасе проговорила Леля. — Мы с тобой нищие, Ваня!
— Ты забыла вот об этом! — повернувшись к ней лицом, Иван Федотович звонко шлепнул себя ладонью не лбу. Принарядившийся, оживленный, он даже как будто помолодел. — Это будет королевский подарок, мамуля, мы не ударим в грязь лицом.
Леля так и ахнула.
— Надеюсь, ты… проговорила она, приложив ладони к щекам, — надеюсь, ты ничего им не обещал?
— Зачем? — снисходительно улыбаясь, «казал Иван Федотович. — Подарки должны быть неожиданны, в этом как раз суть идеи. Вообрази: сегодня ночью я работаю небольшую поэмку, а завтра вечером, за праздничным столом, читаю ее вслух. Оригинал же текста будет вручен молодым в виде свитка, перевязанного красной ленточкой. Надеюсь, ленточка у тебя найдется?
Леля молчала. Встав на колени перед чемоданом, она принялась машинально перекладывать вещи, чтобы они не помялись.
— Мамуля! — ласково сказал Иван Федотович. Он подошел и, опустившись на корточки рядом, обнял Лелю за плечи. — Я понимаю, что тебя мучает. Ты думаешь, что я не смогу. Смогу, успокойся, родная. Мне нужен был внешний толчок.
— Ох, странно ты поступаешь, — тоскливо сказала Леля.
— Да ничего, ничего, — Иван Федотович погладил ее по голове. — Они как будто неглупые ребята.
В сенях, застучало, затопотало, и в горницу вошли Илья с рюкзаком и Рита с двумя большими хозяйственными сумками.
— Простите, мы, кажется, помешали? — спросил Илья.
Иван Федотович и Леля медленно поднялись.
5
Все оказалось, однако, проще, чем Леля предполагала. Молодые вовсе не претендовали на роль хозяев дома: выяснив, что Иван Федотович и Леля устроились в горнице, они без лишних разговоров перетащили свои пожитки в так называемую «летнюю комнату» и, бурно оспаривая каждое действие друг друга, принялись обживать эту комнату с такой энергией, как будто собирались поселиться в ней навсегда. «Летняя комната», тесноватое помещение с дощатыми стенами и тусклым окошечком в два стекла, глядевшим на огороды, находилась в конце сеней. Там стоял просторный надежный топчан, занимавший почти все пространство, а пол был забросан соломой. Минут через двадцать на топчане уже лежал пышный тюфяк, набитый сеном, и такие же сенные подушки, все аккуратно застелено свежим бельем, а сверху покрыто клетчатым пледом; на столике возле окна появились бритвенные принадлежности, туалетные мелочи и красивый японский транзистор «Нивико» со встроенным магнитофоном, а на окне и на двери — яркие занавески. Леля помогала молодым как умела: двигала с Ильей топчан, вколачивала гвоздики, набивала тюфяки сеном, а Иван Федотович топтался в дверях и никак не мог войти и принять участие в общей суете, потому что места в «летней комнате» для него не хватало.
— А не тесно вам здесь будет? — спросила Леля, когда комнатка приняла уютный и праздничный вид.
— Да вы не волнуйтесь, Ольга Даниловна! — беспечно ответила Рита. — Мы уже три года живем где попало.
Илья, прилаживавший полочку у изголовья, крякнул многозначительно, а Рита, смутившись (но не слишком), заговорила еще быстрее:
— Я что в себе больше всего люблю? Есть у меня такая счастливая способность: я везде приживаюсь быстро, как кошка. Раз, два — и дома. Ведь правда же? Жить надо быстро и легко.
— Жить надо быстро — это неплохо сказано, — одобрил Иван Федотович. — Это стоит запомнить.
— Вот-вот, запомните, — Рита не привыкла, как видно, медлить со словом. — Глядишь, в стишок какой-нибудь вставите, и прогремлю я по всей поверхности нашей Земли.
— Постойте, — живо сказал Иван Федотович, — а вы откуда, собственно, знаете, что я могу вас вставить в стишок?
— Она у меня физиогномистка, — буркнул Илья.
— Нет, я серьезно! — настаивал Иван Федотович, весь раскрасневшись от удовольствия.
— Серьезно — черновики не надо разбрасывать, — лукаво посмотрев на него, ответила Рита. — А кроме того, я о вас много слышала.
— Маргарита! — недовольно сказал Илья. — Не кажется ли тебе чего-нибудь?
Рита осеклась. Иван Федотович озадаченно посмотрел на Лелю — Леля отвела взгляд. Она давно уже припомнила эту девчушку, тети Пашину крестницу: двенадцать лет назад, на первой невеселой Лелиной свадьбе, Маргарита чинно сидела рядом с мамой и, живо постреливая по сторонам черными глазенками, украдкой отхлебывала из маминого стакана портвейн. Лет десять ей было тогда или чуть больше. Что осталось от детского личика — так это остренький вздернутый нос, потянувший за собой верхнюю губку: дефект, о котором Рита пожалеет еще не скоро. Естественно, Ивана Федотовича на той свадьбе не было, но что-то смутное в общем молчании ему все же удалось уловить, и он, нахмурившись, пошел гулять у крылечка.
Когда молодые устроились, решено было затопить русскую печь, с которой Леля не умела обращаться, почему и разводила огонь на улице, у плетня. «Мальчики» были отправлены на торфяную дорогу за хворостом, а женщины остались готовить салаты и прочую снедь.
— Я хорошо вас помню, Ольга Даниловна, — сказала Рита, когда «мальчики» ушли. — Вы совершенно не изменились. Если бы вам подцвечивать волосы…
— Да нет уж, не надо, — с улыбкой ответила Леля. — Ивана пугать не хочу. Ему приятнее думать, что я окончательно одряхлела.
Рита внимательно на нее посмотрела.
— Вы не жалеете, нет? — спросила она, сама же отрицательно покачивая головой, как бы подсказывая, что надо ответить.
— Нет, не жалею, — коротко проговорила Леля.
— Вам хорошо с ним? — допытывалась Рита.
— А как ты думаешь?
— Я думаю, да. Он очень милый и смешной. Мужчина должен быть смешным, — поспешно объяснила она, — иначе это не мужчина, а установка. Но самое главное — я чувствую, что вы ему нужны. Это — главное. Вот я никому не нужна. Только себе. Но зато уж себе — на сто процентов. Я без себя обойтись не могу ни минуты.
— А как же Илья? — вежливо, только чтобы что-то спросить, напомнила Леля.
Она не любила этих бабьих разговоров. Ее коробила чужая откровенность: в начале любой откровенности лежит либо фальшь, либо глупость, других источников нет. Здесь было (если мягко сказать) простодушие.
— Илья? — С наигранным пренебрежением Рита дернула плечом. — Я нужна ему не больше, чем этот «Нивико». Предмет домашней роскоши и престижа. Потеряет или украдут — будет не трагедия, а просто неприятность.
— Тогда зачем же?.. — спросила Леля, опять-таки чтобы поддержать разговор: ей не хотелось обижать девчушку.
— А вы не меряйте по себе, — ответила Рита и тут же попыталась исправиться. — То есть я хочу сказать: у вас редчайший случай, там было чувство, мучение, слезы, все это вещи теперь дефицитные. Сейчас ребятки даром мучиться не хотят. Прищурятся, прикинут — не светит ничего, ну и ищут варианты попроще. Илья отличный парень, он все способен понять и посочувствовать может, но ведь сочувствие — это еще не чувство. Я бы сказала даже так: чувство безжалостно, оно с сочувствием несовместимо.
Леля усмехнулась.
— Жаль, нет здесь Ивана Федотовича, — сказала она. — Такие соображения зря пропадают.
Но Рита не заметила ее насмешки.
— Я что хочу сказать? — продолжала она. — Так, чтоб на дверь с опасной бритвой кидаться, — не станет Илья этого делать. Он плюнет — даже нет, не плюнет, а просто повернется и уйдет с достоинством. Он спит и видит, как бы ему с достоинством уйти, он даже из ванной комнаты уходит с достоинством.
— Постой, постой, — перебила ее Леля, — а кто это, кстати, на дверь с опасной бритвой кидался?
— Ну как кто? — проговорила Рита и покраснела. — Вы сами знаете, кто, Иван Федотович, конечно.
— Да не было у него никакой бритвы, ни опасной, ни безопасной, — сердито сказала Леля. — Он безоружный всю жизнь. Это рассказчики цену себе набивают.
— Ну, все равно, — упрямо ответила Рита. — Илья не допустит, чтобы у него перед носом захлопнули дверь. Он за полчаса уйдет до того, как захлопнут.
Тут Леля положила нож и повернулась к девчушке лицом.
— Послушай, голубушка, — строго сказала она. — А хорошо ли ты сейчас делаешь?
Рита смотрела на нее с недоумением.
— Хорошо ли то, что ты мне сейчас говоришь? Ловко ли это, подумай.
Девчонка поняла, лицо у нее стало хитренькое.
— А может, я не просто так говорю. Может быть, я хочу, чтобы мне возразили.
— Вот и считай, что я тебе возразила.
Маргарита не обиделась. Она загадочно улыбнулась и повернулась к окну.
— Смотрите-ка, дождь пошел! — вдруг воскликнула она.
В самом деле, за окном потемнело, и дождь, накрапывавший поначалу, стал быстро усиливаться. Через минуту сквозь белесую толщу ливня нельзя было разглядеть не только холмы за рекой, но даже плетень и калитку.
— Как-то мужички наши, бедные? — вздохнув, сказала Леля и обернулась, но Риты уже не было в комнате.
Вдруг в сенях затопали босые ноги, и Маргарита в одном купальнике выскочила на крыльцо, сбежала вниз и встала под дождем, запрокинув лицо.
— Не наигралась еще, — проговорила Леля вполголоса. — Играй, играй, деточка… Мне-то что…
6
Илья был молчалив и серьезен. Сидя за рулем, он смотрел прямо перед собой, вел машину без излишнего щегольства, скучнея и притормаживая перед каждой выбоиной. Давно уже Иван Федотович не ездил в такой ухоженной машине: мотор работал чисто, на полу под ногами не валялись инструменты и тряпки, и даже в «бардачке» у Ильи был абсолютный порядок. Вместе с тем не заметно было, чтобы Илья свою машину боготворил: не каждый автовладелец решится отправиться на своих колесах в лес за хворостом.
Иван Федотович тоже угрюмо молчал. Он начал понимать, что информация, которой располагают о нем молодые, совсем необязательно является лестной. Об этой истории с первым замужеством Лели он не любил вспоминать.
Они познакомились тринадцать лет назад, сразу после того вечера в «Московском комсомольце». В те годы Леля была раскованна и уверена в себе, у нее было много знакомств, которые она быстро завязывала и так же быстро обрывала. По-видимому, ей никакого труда не составило подойти к Ивану Федотовичу и заговорить первой. Иван Федотович был польщен и, гуляя с Лелей по Бульварному кольцу, изо всех сил выставлял себя властной личностью, целеустремленной, порочной и беспощадной. Помнится, он читал ей саморекламные стихи («Ты очень устала, ты очень довольна, ты думаешь, ты меня сделала, руками пригладила плечи, губами вылепила лицо. Ну что ж, я не спорил, я молча лежал, улыбаясь глазами, одними глазами, с которыми ты сделать ничего не могла…» — лет пять спустя эти стихи были напечатаны в одном второразрядном журнале) — и вдруг заметил, что Леля начала злиться и скучать. Неожиданно она объявила ему, что произошла досадная ошибка, что у нее нет ни времени, ни желания с ним встречаться. Иван Федотович был очень обижен, он молча ушел и всю ночь ломал голову, какую же ошибку он совершил, а на другой день принялся донимать Лелю телефонными звонками. Его просьбы были такими униженными, предложения такими робкими, что Леля смягчилась. «Ну хорошо, — сказала она, — посмотрим, что у нас выйдет».
Их отношения, ни на что путное не похожие, продолжались около года: Иван Федотович никак не мог уяснить, что от него требовалось, он все пытался высокомерить, а это вызывало у Лели тоску. Как только он улавливал, что Леля начинает от него уставать, он снова принимался заискивать и унижаться, и Леля опять оттаивала, и так могло продолжаться бесконечно. Для него было полнейшей неожиданностью решение Лели выйти замуж — за симпатичного добродушного парня, Иван Федотович часто видал его среди Лелиных институтских друзей. Дальше был ряд безобразных событий, о которых не хотелось даже вспоминать. С утра до вечера Иван Федотович торчал у Лели в подъезде, а ночью садился на пол под самой дверью ее квартиры и горько плакал, за что два раза был крепко побит. Леля защищала его гневно, отчаянно, сама бросалась под кулаки, а Иван Федотович, плача и смеясь от счастья, сносил побои и повторял: «Леля, ты видишь? Ты видишь, Леля?» В конечном счете муж Лели оказался понятливым человеком, он подал на развод, и Леля перебралась к Ивану Федотовичу в его однокомнатную квартиру в Марьиной роще, которую он купил на деньги от своего первого и единственного сборника. Возможно, в другое время Иван Федотович вел бы себя иначе, но тогда он панически боялся остаться один, кроме того, его начали забывать как поэта, и Леля сумела понять его и пожалеть. Иван Федотович настаивал на немедленном браке, Леля же, умудренная опытом, уклонялась от решения и тем доводила его до слез. Постепенно Иван Федотович свыкся с неопределенным положением и меньше стал попрекать Лелю ее прошлым, которое, в конце концов, касалось их одних. Они расписались только четыре года назад, причем Леля сама об этом напомнила, и Иван Федотович согласился с поспешностью, в которой, однако, была изрядная доля недоумения. И вот теперь, на десятом году совместной жизни, начинает обнаруживаться, что их невеселая тайна все эти годы могла быть достоянием посторонних людей. Естественно, Иван Федотович был недоволен.
— А стоит ли так далеко отъезжать? — спросил после долгого молчания Иван Федотович. — Кругом полно сушняка. Этак мы и до шоссе доберемся.
— Не доберемся, — ответил Илья. — Там, впереди, глубокий ухаб, и на обочине хворосту целая куча. Сразу и загрузим.
В самом деле, впереди, возле широкой колдобины, темнел штабель хворосту, сложенного, очевидно, на случай, если дорогу развезет. Сотни раз Иван Федотович проходил мимо этого богатства и не замечал его, а вот пригодилось.
Вдвоем они быстро перетаскали хворост к машине, сложили его на багажной решетке. Илья достал четыре длинные резинки от эспандера и в пять минут закрепил добычу на крыше намертво. Потом обошел вокруг машины, кинул Ивану Федотовичу: «…Садитесь», и они начали разворачиваться. С этим пришлось повозиться: дорога была неширокая, с глубокими канавами по бокам.
Тут стал накрапывать дождь.
— Эх, отсыреют наши дрова, — с досадой сказал Илья и прибавил скорость.
Они подъехали к реке, и в это время дождь хлынул с такой силой, что все за окнами побелело. По стеклам лились потоки воды, щетки «дворника» разгребали их, как весла.
— По-моему, мы тут переезжали, — пробормотал Илья, осторожно подводя машину к вязкому берегу.
— Нет, нет, левее! — сказал Иван Федотович — практически наугад, потому что из кабины ничего не было видно.
— Можно и левее, — согласился Илья и заработал рулем. Машина медленно въехала в воду.
— Не промочить бы галоши, — сказал Илья через пару минут. — Вы плавать умеете?
Иван Федотович вопросительно взглянул на него, но Илья не улыбался.
И тут машина стала.
— Так, — весело сказал Илья. — Приехали, вылезаем. Постойте, вы куда? — спохватился он, видя, что Иван Федотович уже берется за дверную ручку. — Зачем же так сразу?
Иван Федотович приспустил боковое стекло, высунул голову: колеса были в воде на две трети. Кругом шипела белесая вода, на том берегу, шагах в пяти, маячило что-то мутно-зеленое.
— О господи, где ж мы такую яму нашли? Здесь курица вброд переходит.
— То курица, — ответил Илья и засмеялся. Он дал задний ход, и машина, заколыхавшись, выползла на травянистый берег.
— Что ж теперь делать? — беспомощно оглядываясь, проговорил Иван Федотович. — Правее попытаться?
— Правее — обязательно вбухаемся. Да чепуха все это, Иван Федотович, не стоит ни минуты размышлений. Вот разве что дождь на три дня — тогда конечно. Соскучимся без женского общества. Впрочем, у меня тут где-то шахматы есть. Вы в шахматы играть можете?
— Могу.
— Ну это же превосходно! — сказал Илья. — Люблю играть в шахматы с незнакомцами, такой у меня хоббер.
Он пошарил в «бардачке» и достал оттуда кожаный бумажник с тисненым вензелем «И.Е.» на обложке. Внутри бумажника была шахматная доска с кармашками и с набором вставных фигур.
— А вы неплохо живете, — завистливо сказал Иван Федотович. — Всю жизнь мечтал о такой элегантной вещице.
— Могу подарить. Это я привез из Дании.
— А что вы там делали, в Дании?
— Лекции читал.
— Спасибо, не надо, — сухо проговорил Иван Федотович.
Они разыграли банальный дебют четырех коней, и Илья начал быстро и хладнокровно разменивать фигуры, упрощая позицию. Иван Федотович в этом ему не препятствовал: он не любил обилия фигур на доске, позиционной сутолоки, он всегда стремился к суховатой и четкой гармонии, где невозможен ни один упущенный вариант. Видимо, таков был вообще склад его мышления: в своих стихах, вытравляя из них все лишнее, он также добивался прозрачности и сухости, где сложность заключается не в неожиданности, а в самой простоте. В этом смысле Илья, сам того не подозревая, играл на противника.
— Признаться, я не читал вашей книги, — заметил Илья, когда Иван Федотович помедлил с ходом.
— И слава богу, — с досадой ответил Иван Федотович. Позиция была проста, но неряшлива. Видимо, никакой ясной цели у Ильи не было, он надеялся на свое хладнокровие и волю.
— Слава богу? А что так? — с любопытством спросил Илья.
— В свое время эта книга была уместна, не больше.
— И что тут плохого?
— А настоящая поэзия всегда неуместна.
— Парадокс, — констатировал Илья. — Впрочем, отчасти я с вами согласен: меня всю жизнь коробит от поэзии. Мне как-то с трудом верится, извините, ради бога, что стихи пишут серьезные люди. Вот посудите сами: «Я проникаю в суть ядра, я к звездам возношусь главою, мне нравится, того не скрою, с природой детская игра».
— Не «детская», а «вечная», — деликатно поправил его Иван Федотович. — «С природой вечная игра». Я где-то видел эти строчки. Но при чем тут поэзия?
— Ну да, конечно, — добродушно согласился Илья. — Не будем говорить о поэзии, будем говорить о стихах. Я утверждаю, что вот так абсолютизировать свои сырые полумысли мог только несерьезный человек. Я знать не знаю, кто он и что он, а уже слышу хвастливые утверждения: «Я проникаю в суть ядра». И это для ваших сотоварищей характерно. Полагаю, что Резерфорд, если бы он увлекался стихосложением, ни за что не написал бы этих строк. Ему было бы неловко.
— Возможно.
— Я в этом уверен. Прежде чем стать поэтом, нужно стать личностью — притом личностью, которая вызывала бы уважение сама по себе, и только после этого…
— Только после этого вы предоставите ей право самовыражаться?
— Приблизительно так. А точнее, только после этого я отнесусь к самовыражению этой личности с достаточным уважением.
— Великолепно! — Иван Федотович отложил шахматы на заднее сиденье. — А позвольте вас спросить: каким же это образом вы догадаетесь, личность перед вами самовыражается или нет?
— Я понял вас: вы заставляете меня признать, что руководствоваться я буду все же стихами, а следовательно, искать личность, достойную уважения, нужно в стихах, а не за их пределами.
— Именно это я и хотел сказать, — с удовольствием произнес Иван Федотович. Молодой человек начинал ему нравиться.
— Сожалею, но это устаревшая концепция. Прошли те времена, когда стихи сами по себе уже были поступком. Сейчас вербальный тип поведения уважением не пользуется. Слишком часто мы убеждались, что словам не всегда предшествуют поступки, и еще реже поступки следуют за словами. Сейчас от личности, претендующей на внимание, требуется предварительно молчаливый поступок, который будет сам за себя говорить. Если же после этого поступка останется душевных сил для писания стихов — тогда пожалуйста. Стихи — это сублимация, бумажный эквивалент золотого запаса красивых поступков — эквивалент, увы, как правило, без обеспечения. Так что тревоги ваши о девальвации поэзии не лишены основания. «Вначале было слово» — бездарный миф. Вначале было дело, поступок, а слово уже потом. Возможно, существующее количество сказанных слов уже давно не обеспечивается фондом совершенных поступков, и наступила пора помолчать. Вот почему я испытываю недоверие и враждебность к поэзии. Поэты молчать не умеют.
— Видимо, к прозе вы относитесь более терпимо?
— К прозе да. Хорошая проза — это уже поступок, хотя бы потому, что хороший прозаик умеет удержаться от абсолютизации своего «я». Он создает несуществующий мир, внутренне непротиворечивый, и чем меньше он при этом делает деклараций, тем крепче проза сколочена. Стихи же по природе своей невозможны без деклараций.
— Вот тут вы как раз ошибаетесь, — с живостью возразил Иван Федотович. — Хорошие стихи вполне возможны без деклараций. Вы рассуждаете о словах и поступках, но вы совсем забыли о чувстве. «Не жалею, не зову, не плачу» — много ли здесь деклараций?
— Пример в мою пользу. Этим стихам предшествовала личность, притом личность интересная сама по себе, Но вопроса о чувстве я не снимаю. Давайте разберемся, что такое чувство.
— Давайте.
Достав из кармана куртки чистый носовой платок, Илья протер запотевшее лобовое стекло — дождь не шел, а валил, как снег.
В двух шагах не было ничего видно, пропало и то зеленое, что маячило впереди.
— В одном сугубо научном журнале, — неторопливо продолжал Илья, — я прочел, что, по данным электроакустического анализа интонаций человеческой речи, все чувства сводятся к семнадцати группам, соответственно выражающим радость, восторг, удивление, чувство патриотизма — не удивляйтесь, именно так: электроакустический анализ позволил зафиксировать в человеческой речи специфическую интонацию патриотизма. Потом, дай бог памяти, ах да, страдание, любовь, гадливость, гнев, гостеприимство, тоска, безразличие, облегчение, страх, сомнение, смирение, уверенность, одиночество. Кажется, все. Сколько получилось?
— Семнадцать. Память у вас, однако…
— Разве можно такое забыть? Разумеется, это исследование в кавычках представляет собой типичный пример артефакта: достаточно сказать, что электроакустика не выделила интонации насмешки или на худой конец иронии. Техника небеспристрастна: она верой и правдой служит тому, на кого работает. Но я не об этом. Оставим в покое чувство юмора, сделаем его восемнадцатым элементом в системе. В определенном смысле это исследование отражает накопленный если не технический, то житейский опыт. И что же мы имеем? Радость, восторг, удивление, гнев — декларативны, равно как и чувство гостеприимства, отнесем туда же и патриотизм. Страх, гадливость, безразличие не нуждаются в поэтических средствах. Смирение, облегчение для стихов также слишком пассивны. Одиночество, тоска и страдание, допускаю, могут быть поэтически выражены, но сами по себе, вне комплекса мыслей, они малоценны. Что в итоге? Уверенность, сомнение и ирония. Вот поистине вечные, неизбывные чувства, свойственные человеку от младенческих дней. Но сумеет ли поэзия подняться до высоты этой драмы «Уверенность — сомнение — ирония»? Тогда это должна быть поэзия мысли, неважно, в чем она выражается, в стихах или в научных статьях. Боюсь, что стихам эта драма не под силу. Тут требуется, чтобы стихотворец был безусловно умнее меня либо знал то, чего я не знаю. Право же на выражение всех прочих чувств можно нынче заработать только поступком.
— Вы забыли о любви, — напомнил Иван Федотович.
Илья не смутился.
— В самом деле? — переспросил он. — Действительно, как-то выпало. Ну что я могу сказать? Любовь — это тоже поступок. Причем поступок, безусловно, предшествующий стиху.
Тут в лобовое стекло постучали.
— К вам можно? — раздался голос снаружи.
Возле машины стояла Рита. Дождь уже кончился, трава и кусты сверкали, забрызганные водой, и на том берегу появилась полоса чистого солнечного света.
— Ну, мальчики, вы хороши! — сказала Рита, влезая в кабину. — Вас можно было поджечь, вы бы и не заметили.
7
Илья во дворе рубил хворост тяжелым кривым секачом, найденным в чулане: топора в хозяйстве, как и следовало ожидать, не оказалось. Рубил он мастерски, потом складывал в пучки одинаковой длины и перевязывал прутьями, как веники; по его утверждению, такие пучки (или, как он называл их, «фашины») должны были особенно продуктивно гореть. Иван Федотович переносил «фашины» к печке, а женщины, раскрасневшиеся, довольные друг другом, обсуждали вопрос, на какой основе готовить горячее. Можно было позаимствовать курочку у бабы Любы, но Леля и без того задолжала ей порядочно, и ей не хотелось, чтобы всплыл вопрос о деньгах.
— О господи, — сказал Иван Федотович, послушав, как они разговаривают. — Чего проще? Надо взять живую кошку, прямо с шерстью и с глазами, пропустить сквозь мясорубку и заправить чесноком. Раскатать потоньше тесто, наготовить чебуреков и, полив кошачьим визгом, подавать скорей на стол.
— Какая прелесть! — Рита захлопала в ладоши. — Вы это только сейчас сочинили?
— Нет, отчего же? — серьезно ответил Иван Федотович. — Это фрагмент из поэмы «Гестии, богине домашнего очага».
Леля смотрела на него с удивлением, Ивана Федотовича было трудно узнать. Добродушный, в меру насмешливый, он был сегодня просто в ударе.
— Ой, прочитайте что-нибудь, ради бога! — попросила Рита. — Я понимаю, Ольге Даниловне это не внове, но я просто истосковалась по свежим стихам.
— Пожалуйста, — сказал Иван Федотович. — Вот наисвежайшее. «Как дивно пляшет кенгуру под колокольчиком кудрявым! Проказница, шалунья, право, или шалун, не разберу. Пляши, ма шер, тряси хвостом, тугим упористым отростком. И я когда-то был подростком с оскаленным по-щучьи ртом. И я метался и алкал под колокольчиком шелковым в погоне за каким-то новым. Но вот свое уж отскакал — и потускнел лица оскал».
Трудно сказать почему, но Рита почувствовала себя задетой.
— Да, — сказала она, порозовев и отвернувшись. — Да, конечно. Очень даже, как бы это сказать…
— Ну что ты, Ваня, право, — укоризненно проговорила Леля. — Поставил девочку в неловкое положение. Это он пошутил, Рита, милая, не обращайте внимания.
— Я вовсе и не думал шутить, — удивился Иван Федотович.
— Ну прямо! — сказала Рита, глядя на него исподлобья. — А что же чертики в глазах? Вы очень язвительный товарищ.
8
Отобедали.
Молодые ушли в «летнюю комнату» поваляться на топчане, Леля занялась уборкой в горнице, а Иван Федотович вышел на улицу и встал у плетня, куря папиросу за папиросой и неподвижно глядя себе под ноги, в сырую траву. Леля знала: он готовит себя к работе, — и выбегая в сени по своим суетливым делам (то с тряпкой, то с ведром, грязи накопилась целая уйма, еще не хватало, чтоб ее бывшие родственнички судачили потом, от какой напасти избавился их клан), поглядывала на Ивана Федотовича со всевозрастающим беспокойством. Он, кажется, твердо вознамерился выйти в народ, и Леля предчувствовала, что стыда избежать не удастся.
Действительно, Иван Федотович готовил себя к работе. Начало поэмы, гулкое и мощное, уже вздымалось у него в голове. «Безмолвный взрыв, ворочаясь в пустыне, тяжелым языком сказать пытался все сразу, как поэт. И прогремело…» Дальше пока было зияние, угольно-черный провал. А еще дальше виделось свободно и ясно, садись и пиши: «Еще одно из чуждых нам открытий — что Гений и Злодейство суть две вещи, прекрасно совместимые, притом с устойчивой способностью сливаться в одном лице. Да что такое Гений, как не злодейство над самим собою, и дай бог, если только над собой…» И все это сильно вязалось с главным: предостережение, вот что озаряло, весь замысел изнутри. Подарок — предостережение. «Живите на реке. Встречайте два катера, вечерний — весь в огнях, и утренний, плывущий из тумана. Вам будет хорошо, и оттого еще, что катера там ходят регулярно и так же регулярен там закат, оранжевый, имеющий на фоне церквушку черную и купу черных ив…» Откуда взялись катера, Иван Федотович не знал, но что-то тревожное было в этом образе механических привидений, регулярно возникающих на ночной и на туманной реке. Возможно, они уйдут в небытие, не потянув за собой мысли… Все может быть, но явились они сами, а значит, уже не напрасно. И васильки, многострадальные васильки, вот что с ними теперь получается: «В природе есть возвышенная мера, дробящая прекрасное на части, рассеивающая по пространству все то, что мы хотели бы собрать. Прекрасное есть только след идеи, осколок, сколок, слепок, срез идеи, но не сама идея целиком. К чему я это? Поздно, неумело, ведь васильки в букете поседели. Но я сберег их синеву и свежесть в словах. Примите ж мой подарок царский — букет цветов, рассыпанный во ржи». «Букет, рассыпанный во ржи» — неплохой зачин. Но как же взрыв? Букет и взрыв, взрыв и гибель, злодейство, предостережение… Можешь, Иван, можешь!
Из задумчивости его вывел голос Риты. Иван Федотович обернулся — Маргарита стояла на крыльце с транзистором в руках и смотрела на поэта с удивлением, чуть ли не с испугом.
— Иван Федотович, вы меня слышите? Я уже целый час вас зову.
— Да, да, конечно, — пробормотал поэт и, затоптав окурок, поспешно двинулся к крыльцу.
— Вы думали, да? — с живостью спросила Рита, когда он приблизился. — Я вам помешала? Вот это да. Мне бы так отключаться.
С большим трудом Иван Федотович понял, чего от него хотят. Рита и Илья собирались пройтись по деревенским старичкам и старушкам, «собрать с них говоры»: собственно, за этим они в такую глушь и забрались. Возможно, Ивану Федотовичу это тоже будет интересно… но если нет — тогда, конечно, ради бога, простите…
— Ну, разумеется, какой может быть вопрос, — машинально сказал Иван Федотович — и через пять минут с некоторым изумлением обнаружил себя сидящим на лавке в темноватой горнице у бабы Любы. Илья стоял в дверях и, скучая, рассматривал темный потолок, а хозяйка, сидя за столом напротив Риты и нимало не смущаясь магнитофона, певучим незнакомым голосом рассказывала сказку — как показалось вначале Ивану Федотовичу, на незнакомом языке.
— Ну, призываец ён к сабе унука и говориц: «И унук мой любезнай, жалко мне цабе, а ступай-ка ты, унуцык, куда уздумав, на все цатыре стороны». Тады унуцык яму на евто: «Да кабы вы давно и сказали мне евто, я и пошёв бы ня медлимши». Матица яво спякла яму ляпёшицку, блаславила яво, и наставив ён у цыста поля… И прийшёв ён не в какое чарство, не в какое государство, и гориц цалавецая голова на дороге, и уся сгорела, тольки попил ядин остаётцы…
— Простите, бабушка, — Рита выключила магнитофон, — прослушала я: что там на дороге горит?
— Человечья голова горит, милка моя, — на обычном уже языке охотно пояснила бабка Люба. — Так моя бабушка мне рассказывала.
— Жуть какая, — Рита передернула плечами. — Ну а дальше что?
— Дальше не надо, — сказал Илья. — У Афанасьева этот вариант имеется. Вы, Любовь Михайловна, сами не из-под Пскова будете?
— Здешняя я, тут девчонкой бегала, тут и замуж выскочила за покойника своего. А вот бабушка моя — та псковская.
— То-то я и вижу, — довольный, сказал Илья. — Не чистый говорок получается, не местный. Вот такие дела, Маргарита. Ритуальную сказочку записываешь, ее живой говорок. Будь у нас с тобой фольклорная тема — может, и стоило бы постараться.
— Так рассказывать или нет? — недовольно спросила бабка Люба. — А то у меня самой дела стоят.
— Рассказывайте, бабушка. — Рита нажала тумблер записи.
— Не надо, — Илья шагнул к столу, выключил «Нивико». — Маргарита, солнышко, я же из тебя диалектолога делаю, нам сегодняшний язык нужен. Сколько вам лет, Любовь Михайловна?
— Семьдесят, батюшка.
— Значит, года девятьсот десятого вариант, в механическом воспроизведении.
— Нет, не в механическом, — заупрямилась Рита. Иван Федотович, стоя в дверях, любовался ее лицом. — Не диктуй мне, пожалуйста, своих мнений.
— Да пустая трата времени! — весело сказал Илья. — Любовь Михайловна, какая там голова на дороге горит? Я запамятовал.
— Человечья, — пояснила бабка Люба.
— А в сказке «цалавецая». Вы сами-то, Любовь Михайловна, скажете «цалавецая»?
— Бывает, что и оговорюсь, — неохотно ответила бабка Люба. — Но уж в сказке так положено. Так еще моя бабушка сказывала, до революции, поди, а я вот посейчас помню.
— Ну, лично мне все ясно, — оказал Илья. — Опроси ее, Маргарита, по предметам обихода — и дело с концом.
— Нет, уж это в другой раз, — проговорила бабка Люба. — Дед Замятин вон скучает, сходите к нему. А у меня сметана открытая стоит, мыши в нее попадают.
И она зашаркала к дверям.
Илья взял со стола «Нивико», взглядом показал Маргарите: поднимайся. Рита встала, дернула плечом, прошла мимо. Все трое вместе с Иваном Федотовичем вышли на крыльцо.
— Знаешь, в чем твоя ошибка? — дружелюбно спросил Илья.
— Не знаю и не хочу знать, — ответила Рита.
— А напрасно. Не следует нацеливать одиноких старушек на старинные сказки. Им некому рассказывать, и речь мертвеет.
— Она как лучше хотела, — сухо сказала Рита. — А ты ее обидел. Можно было записать и стереть.
— Да лицемерить-то зачем?
Они вышли за калитку, обогнули пустырь и направились к своему дому. Вечерело.
— Умирает говор, — сказал, чтобы разрядить обстановку, Иван Федотович.
— А чего жалеть? — быстро отозвался Илья. — Умирает — и слава богу. Еще на один шаг ближе к общемировому языку.
— Вам тоже не жалко, Рита? — спросил Иван Федотович.
— Мне — очень, — с вызовом сказала Рита. — Никогда уже больше никто не скажет «черква», «унуцык». Как будто собственную бабушку схоронила. Полуграмотную, но свою.
— Славянофильское нытье, — с досадой проговорил Илья. — Человечество только тогда станет свободно, когда легко и мощно заговорит на общемировом языке.
— Кого цитируем? — насмешливо спросила Рита.
— На этот раз себя, — спокойно ответил Илья. — Да люди и сами стыдятся говоров. И бабка эта тоже конфузится.
— Так родственников своих стыдятся, — промолвил Иван Федотович. — Дальних, провинциальных. Нечистый это стыд, и ни к чему хорошему он не приводит.
— Да вы, похоже, с Маргаритой заодно, — засмеялся Илья. — Заговор почвенников. Теперь про сермяжную правду необходимо.
Они остановились у своего дома. Рита отчужденно молчала.
— Послушайте, Илья, — сказал Иван Федотович. — Вы, конечно, специалист, не мне вас судить. Но все-таки: зачем вы собираете говоры, которые презираете?
— Напрасно вы подсовываете мне ложную позицию, — помедлив, ответил Илья. — Я говоров не презираю. Но я к ним отношусь снисходительно. Хочу подкрепить фактами некоторые свои предположения: какие отклонения от нормы наиболее живучи. Ну, и заодно натаскиваю своего малыша.
— Натаскивают только собак, — отвернувшись, проговорила Рита.
Окошко, под которым они стояли, со звоном распахнулось, выглянула Леля.
— Господи, а я слышу голоса, — сказала она. — Что же вы в дом не заходите? Комары заедят.
— А мы на речку сбегать хотим, — объяснил Илья. — Искупаться под звездами, по шведскому стилю. Вы не составите нам компании, Ольга Даниловна?
— Я — нет. Может быть, мой Иван рискнет?
— Правда, Иван Федотович, — сказала Рита, — Пойдемте!
— Благодарю вас, — церемонно ответил Иван Федотович. — У меня срочная ночная работа. А Леля разделит мое одиночество. Любимая! И я тебя люблю, и ты меня. Какое совпаденье! Давай теперь продолжим наше бденье полночное. Ведь я едва терплю.
— Вы озорник, вот что я поняла! — Маргарита погрозила ему пальцем и побежала в сени за полотенцами.
9
— Послушай, откуда в тебе все это берется? — спросила Леля, когда молодые, переругиваясь на ходу, ушли. — Так и брызжешь глупостью. Побереги свой темперамент, мой милый. Не траться по пустякам.
Иван Федотович, слушая жену, неторопливо устраивал себе рабочее место в горнице. Снял липкую клеенку со стола, разбросал листы бумаги, карандаши. Походил вокруг, выискивая место для стула, чтобы не падала на бумагу тень.
Леля с беспокойством за ним наблюдала.
— Неужели ты всерьез это затеял? — спросила она, когда Иван Федотович стал надевать рабочие шаровары.
Иван Федотович кивнул.
— Ваня, не нужно этого, — жалобно сказала Леля. — Поверь моему чутью: твой подарок будет в тягость.
— Искусство еще никому не было в тягость, — ответил Иван Федотович и, придвинув табурет, уселся за стол. — «Поистине, должно обучаться этому троякому: сдерживать себя, приносить дары, быть милосердным. Дамьята, датта, даядхвам».
— Ах оставь ты меня со своими Ведами, — отмахнулась Леля. — Твоя старческая суета мне противна.
Иван Федотович поднял голову и медленно улыбнулся.
— Лелька! Ох, Лелька!
Он покачал головой.
Но смутить Лелю было не так-то просто.
— Я ж тебя вижу насквозь, дурачок, — сказала она с ласковым презрением. — Кому и что ты хочешь доказать? Ты подумай.
— Кому? — переспросил Иван Федотович, глядя на нее снизу вверх и потому втянув затылок в плечи. — Ну, прежде всего себе самому. Вокруг меня пустота, ты пойми меня, Лелька. Я потерял контакт с людьми, которые в меня верят.
— Ну хорошо, допустим, — сказала Леля. — Прежде всего себе. А потом?
— Потом тебе, разумеется, — серьезно ответил Иван Федотович.
— Ай, пустяки все это, — с досадой проговорила Леля. — И ничего ты мне не докажешь.
Она повернулась и пошла за перегородку разбирать постель.
…Молодые вернулись с реки молчаливые: видимо, им тоже удалось прочно поссориться. Пожелав всем спокойной ночи, Илья отправился в «летнюю комнату» слушать радио, а Рита пошла в горницу и стала расчесывать перед зеркалом свои длинные волосы.
— Я вижу, вы легко пишете, — сказала она Ивану Федотовичу. — Отчего же у вас только одна книжка?
— Ну, что я могу вам ответить? — после долгого молчания промолвил Иван Федотович. — Увы, это зависит не только от меня.
— Что, не печатают? — спросила Рита.
— Выходит, что так.
— А почему? Чем мотивируют?
— По-разному, — коротко ответил Иван Федотович.
— Понятненько, — насмешливо сказала Рита. Чувствовалось, что она никак не может простить ему безобидной шутки о «кенгуру».
— Ваня! — позвала Леля из-за занавески. — Ты ложиться не собираешься?
— У меня работа, — сухо ответил Иван Федотович. — Не жди меня, пожалуйста. Как кончу — приду.
Леля разделась, легла и отвернулась к стенке, оклеенной газетами, от которых пахло мышами. Ей казалось теперь, что последние ее слова были излишне резки, но поправить что-нибудь было уже невозможно: Рита не спешила уходить.
— А что вы пишете? — спросила она с любопытством. — Можно взглянуть?
— Мне не хотелось бы, — далеким голосом отозвался Иван Федотович. Когда ему работалось, он весь уходил в себя, и даже голос его становился глухим, а слова невнятными.
— Ну ладно, тогда я просто так посижу, — сказала Рита. — Я вам не мешаю?
— Нисколько.
Леле стало жалко его, и она тихонько заплавала. «Старческая суета…» Зачем она это сказала? Иван Федотович действительно рано постарел и очень болезненно к этому относился. Низкорослый, тщедушный, прокуренный, непоправимо лысый, с маленьким обезьяньим лицом, он даже внешне проигрывал среди своих более молодых, длинноволосых и некурящих собратьев. Но дело было, конечно, не во внешности. Беда была в том, что писание стихов обходилось ему слишком дорого. Иван Федотович не доверял изреченному, не полагался на его точность, он без конца переделывал каждую строчку, нагружал ее до предела, пока она не начинала, как он сам говорил, «зачерпывать бортами воду», а то и вовсе тонула, увлекая за собою весь стих. Легкость дыхания, свойственная «молодому Гаранину», была им постепенно утрачена, слова в его стихах ходили туго, как желваки. «Количеством достойного любви…» — Леля не понимала этого и не любила. А своему чутью и вкусу она доверяла. В свое время, еще в институте, она собиралась всерьез заняться переводом поэтов «озерной школы» и кое-что даже успела пристроить в журналы. Но явился Ваня Гаранин — и все пошло прахом, все силы ее души ушли на жалость к нему. Остался в памяти какой-то обрывок, что-то трогательно девичье, наивное: «Лечу к тебе, спешу к тебе, где крылья, чтоб взмахнуть? Не так река стремится в путь, стрелою выгнув грудь, раскинув плавно крылья вод, мерцая сквозь туман, — туда, где в камнях гулких ждет угрюмый океан…» Леля запомнила эти строчки лишь потому, что слова «угрюмый океан» самым забавным образом связались у нее в голове с «молодым Гараниным», который при всем его угрюмстве для океана был, конечно, мелковат. Вообще Иван Федотович болезненно тяготел к крупной форме, его манили поэма, венок сонетов, законченный цикл. Но для крупной формы, как понимала Леля, у него не хватало ни духовных, ни физических сил. Ей не в чем было себя упрекнуть: она не мешала ему писать, напротив, это она, переселившись в Марьину рощу, настояла, чтобы он ушел с работы (Иван Федотович был учителем математики в средней школе), это она придумала ему жесткий режим, в который Иван Федотович настолько вжился, что начинал капризничать и даже буйствовать, если что-либо нарушалось. Разбушевавшись, он выкрикивал: «Ты презираешь меня, презираешь! Тебе удобнее меня презирать!» Но это была, конечно, несправедливость, которую она ему охотно прощала. Еще ни разу она не говорила ему таких жестоких слов, как сегодня. Возможно, нервы начинают сдавать…
Между тем Маргарита была явно не намерена уходить. Более того, ей даже удалось заставить Ивана Федотовича разговориться.
— И вот однажды, — понизив голос, рассказывал Иван Федотович, — еду я в электричке, студенты поют, мелодия, как обычно, бедненькая, тусклая, но слова — слова определенно мои.
— Серьезно? — спросила Маргарита. Леля не видела, а чувствовала, как она сидит на лавке, опершись локотками о его стол. — Пропойте, пожалуйста. Я ведь тоже студенткой была. Может быть, я знаю?
— Ну, добро, — помолчав, отозвался Иван Федотович, — только тихо, а не то всех перебудим. Примерно так. — Он щелкнул пальцами, — «В моем саду живет рептилия, среди запущенных куртин. Она таинственна, как лилия, она нежна, как георгин…» Припоминаете? — Рита молчала. — Ну, так вот. «Мне на глаза она не кажется, все под шиповником сидит и, не высовывая рожицы, за мной двусмысленно следит. Она слегка меня стесняется, а я слегка ее боюсь. Вот так растет и укрепляется наш недвусмысленный союз. Но все кончается, кончается, все к разрешению идет…»
— К завершению, — поправила Рита.
— Нет, уж позвольте мне настоять на моем авторском варианте. Я понимаю, что народ всегда прав, и пусть он вносит коррективы, но при одном условии: после моей кончины. А пока я жив…
— Пойте дальше, — приказала Рита, видимо, почувствовав, что он готов неопределенно долго говорить на эту тему. — У вас хорошо получается.
— Повинуюсь. «Но все кончается, кончается, все к разрешению идет, и куст шиповника качается, моя рептилия растет. Уже давно между куртинами лежит ее огромный хвост, такими жесткими щетинами до основания порос. Уже давно над рыхлой грядкою блестит оскаленная пасть. Я на нее гляжу украдкою, мне суждено в нее попасть. В моем саду живет рептилия, она боится света дня. Она застенчива, как лилия, ей очень нужно съесть меня».
Леля знала эту песенку — одну из тех бессмысленных песенок, которые так охотно поют и охотно забывают студенты. Она помнила, в каком восторге был Иван Федотович, действительно услышавший как-то раз эту песенку в дачной электричке; должно быть она застряла в свое время в самодеятельности физмата, где учился «молодой Гаранин», и с тех пор кочует из вуза в вуз, пригодная для всех случаев и никому, в общем-то, не нужная. В то время Лелю тронул этот восторг — прямое доказательство того, насколько «молодой Гаранин» был обделен тем, что принято называть «нетворческими радостями». И вот теперь он делится своим восторгом с первой встречной пустой девчонкой, которая над ним посмеивается и вряд ли захочет его понять. Но Леля не сердилась на него за это небольшое предательство: сегодня она сама была виновата.
— Видите ли, Рита, — после долгого молчания заговорил Иван Федотович, — видите ли, Рита, быть признанным — это не самоцель. Быть понятым — много важнее. А это не одно и то же. Сколько признанных и непонятых! Либо понятых превратно. Понимание вообще очень редкая вещь. Ибо сказано: любое понимание основано на недоразумении…
— Как я вас понимаю… — задумчиво промолвила Рита.
Леля вытерла слезы ладонью и улыбнулась. Если бы она так отчетливо не представляла себе их лица, по голосам могло бы показаться, что разговор ведут два пятнадцатилетних юнца. Ребячество Ивана Федотовича всегда вызывало у нее сострадание: он недобрал что-то в юные годы, и это тяготило его всю жизнь. Иван Федотович истово, как мальчишка, верил в свою непонятность, он чрезвычайно гордился тем, что рожден под знаком Скорпиона, из чего следовало, что он «мрачный и загадочный тиран». Леля тоже родилась под этим знаком, только на неделю раньше, но к ней тиранство отчего-то не подходило. Да боже мой! Никаким тираном он не был, ни мрачным, ни загадочным, он был всего лишь слабым, зависимым человечком, такого она знала и принимала, все остальное было лишь болтовней. Сегодня же к этой болтовне примешивалась и детская месть: Иван Федотович нарочито громко повторял фразы, которые он говорил в свое время Леле. Так ей отплачивалось за «старческую суету» — и поделом, безусловно.
Должно быть, и Рита почувствовала, что Иван Федотович говорит все это не для нее.
— Ох, заболтались мы, — внезапно другим, громким и трезвым голосом сказала она и встала. — Пора мне, Илья уже спит, да и вы собирались работать.
— Я не только собирался, — сухо и церемонно ответил Иван Федотович. — Я твердо намерен работать даже сейчас.
— Тогда спокойной ночи, — тихо сказала Рита и вышла.
— Мамуля, ты спишь? — спросил Иван Федотович после паузы.
Леля не ответила ничего.
10
Иван Федотович работал всю ночь, а утром, когда Леля проснулась, он уже успел сходить в лес за грибами и, сидя на крыльце, свежевыбритый, бодрый, мурлыча что-то себе под нос, чистил и сортировал свою добычу. Взгляд, который он бросил на Лелю, был испытующий и напряженный, но никакой обиды Леля в этом взгляде не заметила.
— Ну, как дела твои? — вполголоса спросила Леля, присаживаясь рядом с ним на корточки. — Получилось что-нибудь?
— Вот, как видишь, — Иван Федотович указал ножом на лукошко, полное грибов. — Утренняя песня молодого Гаранина.
— Я о другом, — спокойно проговорила Леля.
— А я об этом, — так же спокойно ответил он. — Другое тебя совершенно не интересует, мамуля. И не стоит гальванизировать интерес, если он когда-нибудь был.
— Ты несправедлив сейчас и жесток, — Леля встала, машинально поправила волосы.
Иван Федотович отложил нож, поднял голову, и, прищурясь, посмотрел снизу вверх ей в глаза.
— «От ревности лицо твое мелеет, — насмешливо процитировал он. — От ревности лицо твое мелеет, мальчишками запруженный ручей. Они там набросали в воду дерну, и ты иссякла. Губы как песок, одни глаза, две маленьких глубинки, наполненные до краев…»
— Терпением, — закончила Леля и, резко повернувшись, ушла в избу.
— О, да, — заметил Иван Федотович, принимаясь вновь за грибы. — Терпением — не так уж и плохо. У нас было «отчаянием», но это было давно.
А вот Рита при виде Лели смутилась.
— Доброе утро, — неуверенно улыбаясь, проговорила она, выходя из «летней комнаты».
— Доброе утро, деточка, — сказала Леля. — Как спалось? Ну, слава богу, слава богу. Видишь ли, мне нужно с тобой серьезно поговорить.
— А что… а что случилось? — пролепетала Рита, отступая в глубь комнаты. — Что-нибудь неприятное?
— С какой стороны посмотреть, — усмехнувшись, ответила Леля.
Они вошли в «летнюю комнату», прикрыли за собой дощатую дверь и сели рядом на топчан. Рита была очень напугана.
— Дело в том, — сказала Леля, — дело в том, что Иван Федотович вчера ночью приготовил вам с Ильей небольшой сюрприз. То есть он хотел, чтобы это вышло сюрпризом, но я, как человек более трезвый и дальновидный, (решила забежать немного вперед.
Сложив руки на коленях, Рита напряженно слушала, но лицо ее начало проясняться.
— Собственно говоря, Иван Федотович решил посвятить вам с Илюшей стихи… небольшую поэму, насколько я в этих делах разбираюсь. Я пока еще не видела текста, но могу предполагать, что роман в стихах за одну ночь написать невозможно.
— Ну, что ж, это очень приятно, — порозовев, сказала Рита. — Лучшего подарка он придумать не мог.
— Так-то так, — уклончиво сказала Леля. — Вся беда, деточка, в том, что Иван Федотович, как ты, видимо, уже успела заметить, черезвычайно самолюбивый и легкоранимый человек. Все поэты грешат этим в большей или меньшей мере, но тут сложнее: сейчас у Ивана Федотовича трудный, я бы сказала, болезненный период. Ему отчасти не хватает уверенности в себе, и еще как-то так случилось, что ваша реакция на эти стихи представляется ему чрезвычайно важной…
— Не беспокойтесь, Ольга Даниловна, — торопливо проговорила Рита, — я отлично вас поняла, и все будет в полном порядке.
— За тебя я как раз и не беспокоюсь, — мягко сказала Леля. — Но мне кажется, для Ивана Федотовича особую ценность представляет не твое мнение, а мнение Илюши…
— Понимаю, — после паузы отозвалась Рита.
— Я не хочу сказать об Илюше ничего плохого, он очень неглупый и сдержанный, рассудительный паренек. Но в своих суждениях, мне кажется, он бывает нередко излишне категоричен. Или я ошибаюсь?
— Нет, вы не ошибаетесь, — коротко сказала Рита.
— Ты понимаешь, Риток, — Леля понизила голос, — тут может так получиться, что мнение Илюши будет для Ивана Федотовича неожиданным и ранит его очень больно. Мне бы этого не хотелось. Да что там: я этого просто боюсь.
Они помолчали.
— Вы знаете, Ольга Даниловна, — грустно сказала Рита, — я ничем не смогу вам помочь. Я знаю Илью уже несколько лет, но только сейчас убедилась, что он совершенно неуправляем. Я для него не авторитет. Сегодня ночью мы с ним здорово поцапались… не из-за Ивана Федотовича, а так, вообще. И я поняла…
— Ты для него не авторитет, — медленно, не слушая ее, повторила Леля. — Это плохо. Тогда у нас нет другого выхода…
— Никакого выхода нет! — с ожесточением сказала Рита. — Если ему что-нибудь не понравится…
Но тут ей в голову, видимо, пришла неожиданная мысль, и она с любопытством посмотрела на Лелю.
— Вы думаете… — проговорила она вполголоса. — Вы уверены, что это будут плохие стихи?
— Нет, деточка, — сказала Леля устало. — Это будут замечательные стихи. Я просто хотела предотвратить неприятные неожиданности. Но если ты не можешь повлиять на Илюшу…
— Я с ним сейчас поговорю, — неуверенно предложила Рита.
— Нет, — решительно ответила Леля. — Лучше не надо, знаешь. Лучше я сама.
…Илья ходил по саду и, тихо чертыхаясь, распутывал леску для спиннинга.
Кусты крыжовника, стволы вишен, колья изгороди были опутаны длинными петлями, блестевшими на солнце, как паутина.
— Да, — сказала Леля, подойдя, — работы здесь до вечера.
— Прекрасная тренировка нервов, — отозвался Илья. — Знатоки назвали бы это «борода шестой степени».
— Помочь? — предложила Леля.
— Нет, спасибо. Вот если Рита проснулась, скажите ей, что я ее очень жду. У нее это гораздо лучше получается.
— А у меня к вам серьезный философский вопрос, — помолчав, сказала Леля. — Скажите, Илья, вы умеете относиться к людям снисходительно?
Илья удивленно взглянул на Лелю.
— Если эти люди заслуживают снисхождения — безусловно.
— А кто будет решать, заслуживают или нет?
Илья помедлил.
— Наверно, все-таки я.
— А если вас попросят о снисхождении?
— Смотря кто попросит.
— Ну, например, я.
— Стоп, стоп. — Илья положил клубок лески на траву. — Мне кажется, я начинаю кое-что понимать. Маргарита по ошибке стерла мои магнитофонные записи. Я угадал?
— Нет, не угадали, Илюша, это серьезно. Сегодня вечером Иван Федотович будет читать вслух стихи, посвященные вам…
— Мне?!
— Да, именно вам. И я очень просила бы вас быть чуточку снисходительнее, чем обычно.
— Ольга Даниловна, вы меня обижаете. Разве я произвожу впечатление грубияна?
— О нет. Вы очень прямой и откровенный человек. Это качество, безусловно, похвальное, но существуют обстоятельства…
— Ну, какой может быть разговор?
Но тут Илья нахмурился.
— Боюсь только, что Иван Федотович будет просить меня высказаться откровенно…
— И что же тут страшного?
— Ольга Даниловна, я плохой актер. Право, я только сейчас начинаю понимать, что может возникнуть некоторое…
— Послушай, Илья, — сказала, подойдя, Рита. — Ну, что ты строишь из себя, честное слово? Я прекрасно знаю, что к стихам ты глух, как тетерев. И твое мнение, мягко говоря, малоценно. Единственное, что от тебя требуется, это придержать свое мнение при себе и промолчать.
— Промолчать — ради бога. Но ты не учитываешь одной возможности, — Илья усмехнулся. — А вдруг эти стихи мне откроют глаза!
— Кроты обречены быть слепыми.
— Рита, Рита, — укоризненно сказала Леля.
Но было уже поздно.
— А если так, — угрюмо сказал Илья, — то нету смысла кроту притворяться ястребом.
— Тебя никто не заставляет притворяться! — резко ответила Рита. — Промолчать — и все.
Ноздри Ильи побелели от гнева.
— Я с удовольствием промолчу, если мне представится такая возможность. А если нет — не обессудьте.
— Вы знаете, ребята, — медленно проговорила Леля, — я очень жалею, что начала этот разговор. Давайте забудем о нем. Даст бог, как-нибудь обойдется.
— Ольга Даниловна, — осторожно начал Илья, — а нельзя ли отменить это мероприятие?
Леля пожала плечами, повернулась и пошла к дому.
— М-да, — проговорил Илья, вновь принимаясь за свою «бороду». — Положеньице. И все из-за одного чудака, которому нельзя прямо сказать, что он занимается не своим делом.
— Ну как ты можешь? — со слезами на глазах воскликнула Рита. — Как ты можешь судить с такой нетерпимостью?
— Это не я сужу, — отвернувшись, сказал Илья. — Это она его судит. А ей виднее.
— Ну а если и она ошибается?
— Она не ошибается. Дело в том, Маргарита, что искусство, как любое ремесло, должно себя кормить. Грош ему цена, если оно живет на содержании. И тем более грош ему цена, если оно приносит страдание хоть одному человеку. Искусство — не привилегия, это ремесло, изделия которого должны пользоваться спросом и по возможности приносить радость, а не страдания. Я не могу примириться с утверждением, что искусство оправдывает все. Нет такого рода деятельности, который оправдывал бы любые затраты.
— О каких затратах ты говоришь?
— Странный вопрос. Тут целый человек затратил всего себя на обслуживание другого. И ты считаешь это в порядке вещей?
— Мне не нравится слово «затрата». Есть другое название этому: жертва. Добровольная жертва.
— Хорошо, пусть будет так. А кто дал ему право принимать эту жертву? Безусловно, искусство. По-э-зия. Ну так вот: с этим я не соглашусь никогда.
11
Прощание было коротким, но тягостным. Иван Федотович тоскливо недоумевал. Стоя в сенях, он долго наблюдал, как Маргарита опустошает «летнюю комнату», а Илья с ожесточенным лицом носит вещи в машину, и время от времени вопросительно взглядывал на Лелю. Но «мамуля» только пожимала плечами, всем своим видом показывая: «Я не вмешиваюсь, и ты не лезь». Тогда Иван Федотович пошел в горницу, надел зачем-то свой лучший пиджак и вышел на крыльцо в полном параде.
— Да что произошло, в конце концов? — вполголоса спросил он Лелю, которая тоже стояла на крыльце, не помогая молодым выносить вещи, но в то же время и не мешая.
— Поди и сам спроси, — коротко ответила Леля.
Иван Федотович не заставил повторять эти слова дважды. Он чинно сошел с крыльца и, поправляя на ходу галстук и манжеты, направился к машине, возле которой возился Илья, запихивавший в багажник огромный рюкзак.
— Будьте любезны объясниться, — с достоинством сказал Иван Федотович Илье. — Иначе ваш отъезд будет выглядеть оскорбительным.
Илья захлопнул багажник, обошел вокруг машины, легонько пнул ногой переднее колесо, потом повернулся к Ивану Федотовичу лицом и посмотрел ему в глаза весело и добродушно.
— Поверьте, — приложив руку к сердцу, промолвил он, — поверьте, лично мне очень жаль отсюда уезжать. Я здесь провел несколько незабываемых часов и очень рад, что познакомился с вами… Решение принадлежит не мне. Надеюсь, наше знакомство на этом не кончится.
— Я тоже очень на это надеюсь, — поклонившись, ответил Иван Федотович, и в это время к машине подошли Рита и Леля.
— Что? Что такое? — тревожно спросила Рита, перебегая взглядом с одного на другого.
— Иван Федотович обижен нашим внезапным отъездом, — охотно объяснил Илья, — и пришел со мной попрощаться.
— Иван Федотович, миленький, — залепетала Рита, взяв Гаранина за рукав, — я Ольге Даниловне все объяснила, поймите меня и простите. А что касается вашей поэмы, — она вызывающе посмотрела на Илью, — то я вас очень прошу: дайте мне ее, пожалуйста. Я только перепишу и пришлю вам по почте.
Иван Федотович был поражен. Он отступил на шаг, бросил вопросительный взгляд на Илью (Илья насупился и полез в кабину), потом на Лелю: Леля была невозмутима.
— Простите, я не совсем вас понял, — высокомерно произнес Иван Федотович, оборотившись наконец к Рите. — Поэма? Что за поэма? О какой поэме идет речь?
Рита растерялась.
— То есть как?.. — проговорила она и вдруг, сообразив, покраснела до слез. — То есть, конечно… Я просто думала…
И окончательно смолкла.
— Ну, девочка моя милая, — Леля подошла к ней, обняла ее, расцеловала. — Дай бог тебе счастья. Ты, право, этого стоишь. И вам, Илья, — она протянула ему руку черев открытое боковое окно, — всего самого лучшего в жизни, самого надежного.
Рита заплакала и, вытирая рукою слезы, забралась в кабину на заднее сиденье. Илья помахал рукой, Иван Федотович коротко поклонился, машина тронулась. Через минуту только легкий запах бензина да примятая колесами трава напоминали о приезжих.
— Как ветром сдуло, — с облегчением сказала Леля и, не глядя на оцепеневшего Ивана Федотовича, пошла к крыльцу.
— Что, умотали квартиранты? — окликнула ее со своего огорода бабка Люба.
— Да вот, как-то сразу… — отозвалась Леля. — Скучно им с нами.
— Ага, друг с дружкой им зато интересно, — бабка Люба появилась из-за навеса, над которым курился ароматный дымок. — Поди сюда, чего скажу…
Леля подошла к изгороди, разделявшей обе усадьбы.
— Я-то думала, — навалившись на изгородь и дыша Леле в лицо «духовым зельем», зашептала бабка Люба, — я-то думала, твой тошнее всех, ан бывают еще тошнее. Правду люди говорят: не тянися к богатым, богатые никому не свои. Вот и пропала девка, заест он ее совсем…
Она еще долго рассуждала на эту тему, но Леля ее не слушала. Она зорко следила за тем, что делает «молодой Гаранин». Отстояв на лужайке положенный срок, Иван Федотович повернулся и неуверенной, спотыкающейся походкой побрел к крыльцу. Поднялся в дом, какое-то время пробыл в горнице, потом вышел на улицу кипой бумаг. Подошел к очагу у калитки, присел.
— Гляди-ка, бумаги жжет! — удивленно сказала вдруг бабка Люба. — Отработался, значит?
— Ну, прямо! — устало ответила Леля. — Завтра опять начнет. Экое дело!
Гипноз детали
Вместо предисловия. Приятно иногда поспорить со специалистом по вопросу, в котором сам ты не очень разбираешься. А если этот специалист достаточно деликатен, чтобы не выпячивать свою осведомленность, то спор такой — истинное наслаждение.
С Борисом я постоянно спорил о детективе. Мне нравится это чтение, я предаюсь ему при каждом удобном случае, Борис же, человек экспансивный, доказывал мне, что это занятие для ленивых умов, что настоящего детектива ему еще ни разу не попадалось. «Типичный детектив, — говорил он запальчиво, — построен на настойчивом доказательстве, что следователь тоже человек: имеет семью, обожает детишек, покупает продукты победу, виновато объясняется по телефону с женой. Но ты скажи мне: кто, когда и где пытался утверждать обратное? Зачем ломиться в открытую дверь, забывая, что цель настоящего детектива — расследование? О расследовании всегда говорится как-то между прочим: какой-нибудь дурацкий объясняющий монолог в конце, а заполняют страницы банальные звонки по телефону жене и бесконечное задумчивое курение. Курят, стоя у окна и гуляя по комнате, курят, сидя в кафе и расхаживая по улицам — как правило, под дождем. Где детектив без этих дождей, без этой воды? Где детектив, в котором бесчисленные варианты, ошибки? Где настоящий, чистый детектив, в котором грамотно описаны поиски истины?»
Я слушал с удовольствием, лениво оборонялся, прикидывался мудрым, где мог, и как-то обронил между прочим: «Уж эти мне узкие специалисты, им все бы критиковать: то не так да это не по-нашему. А нет, чтобы сесть до самому написать, как надо».
Борис пропустил это мимо ушей (или сделал вид, что пропустил: у него это получалось профессионально), а дней через десять явился ко мне с толстой тетрадкой и гордо сказал: «Вот, держи. Отсюда ты узнаешь, как надо писать детективы. Здесь ничего лишнего, понял?» — «А что это, рабочие записи?» — спросил я. «У нас не принято вести подобные записи, — ответил мне Борис. — Это не записи, не судебная хроника, не приключенческая повесть, не детектив, который ты так обожаешь. Это я сам не знаю что. Одно только знаю: писать надо так, и ни в коем случае не иначе».
Я прочитал тетрадь за один вечер — мне это показалось любопытным. Борис не возражал, чтобы я отнес тетрадь в журнал. Он только попросил, чтобы я назвал его Б. П. Холмским: он сам придумал такой псевдоним и очень гордился своей выдумкой. — Я ничего не менял в тетради — убрал только лишние канцеляризмы, и вот в таком виде предлагаю ее вашему вниманию.
Валерий Алексеев
Суть дела. 27 мая 19.. года, в 18.15, возвращаясь с работы, гр. Карнаухова Галина Николаевна, 27 лет, прож. Цементный бульв., дом 8, корп. 10, кв. 18, заехала к своей матери, гр. Гиндиной Людмиле Ивановне, 60 лет, прож. Малая Суджинская, дом 37, кв. 24, и обнаружила, что замок двери комнаты ее матери взломан, дверь приоткрыта сантиметров на пять, а сама Людмила Ивановна лежит в своей постели мертвая, с лицом, накрытым подушкой. На наволочке сохранился отчетливый след прикуса и пятно засохшей слюны.
Медицинской экспертизой установлено, что смерть гр. Гиндиной Л. И. наступила в ночь с 26 на 27 мая в промежутке с часу до трех.
На поверхностях в комнате, оконных шпингалетах, дверных ручках сохранились лишь отпечатки пальцев гр. Гиндиной Л. И. Окна комнаты закрыты изнутри, все предметы в комнате находится на своих обычных местах за исключением тумбочки с правой стены, которая немного развернута. С задней стороны тумбочки был найден небольшой тайник в виде мелкого открытого сверху углубления между отогнутой фанерной стенкой и широкой деревянной планкой, которая эту стенку снаружи поддерживает. Внутри углубления не осталось налета пыли, хотя другие горизонтальные поверхности мебели в комнате были пылью покрыты. О предназначении тайничка гр. Карнаухова Г. Н. ничего сообщить не смогла. Она заверила нас, что по крайней мере четыре года назад, когда она еще жила вместе с матерью, задняя стенка тумбочки была в полной исправности. Однако о случайном повреждении стенки говорить не приходится: стенка была отогнута намеренно, а для того, чтобы она не вернулась в прежнее положение, между планкой и фанерой в глубине был вставлен небольшой деревянный брусок, который не давал содержимому тайника проваливаться внутрь тумбочки. Все это было сделано неумело, по-старушечьи, но, во всяком случае, снаружи тайник заметить было трудно.
Квартира № 24 на втором этаже дома № 31 по Малой Суджинской улице — коммунальная, три ее комнаты, выходящие на восточную сторону, занимают соответственно (по направлению от входной двери) гр. Тихонов Илья Кузьмич, 62 лет, пенсионер, гр. Полуянова Полина Дмитриевна, 50 лет, учительница, с сыном Полуяновым Георгием Тимофеевичем, 22 лет, студентом, — далее комната гр. Гиндиной Л. И. С западной стороны у входной двери находятся кладовая, ванная, туалет (все три помещения без окон), кухня и за нею комната, занимаемая семьей Пахомовых: Николай Валентинович, 30 лет, слесарь, его жена Лидия Михайловна, 20 лет, домохозяйка, и сын Вася, 3 лет.
Вдоль всей квартиры тянется коридор в форме латинской буквы L (зеркально перевернутой), на изгибе которого, у дверей гр. Тихонова И. К., находится столик с телефоном, а в самом дальнем конце — еще одна маленькая кладовая, по обе стороны которой, одна напротив другой, расположены двери Пахомовых (слева) и Гиндиной. В кухне — одно окно, наружная рама его заколочена, пространство между рамами занимают полки с кухонной утварью. Полки также прибиты гвоздями, в связи с чем проникнуть в квартиру через кухонное окно невозможно. В маленькой кладовой окна не имеется.
Замок общей входной двери не имеет следов повреждений, ключи от этого замка есть у всех жильцов квартиры № 24 (за исключением, естественно, малолетнего Васи Пахомова), а также у гр. Карнауховой Г. Н.
Предварительные соображения. (Самый, может быть, деликатный момент расследования: именно от первоначальных соображений бывает потом труднее всего отказаться. Опытные люди призывают от них воздерживаться, но это, пожалуй, чистая риторика: первоначальные выводы делаются почти машинально.)
Факт убийства у медиков не вызывает сомнения, их доводы нет смысла приводить: они достаточно специфичны. Взлом замка также достоверен, сомнительный факт — похищение содержимого тайника. Во-первых, нет гарантии, что тайник не был пуст: отсутствие слоя пыли — недостаточно убедительный довод. Во-вторых, нет гарантии, что тайник не опустел за день, за полдня, за час до убийства. Очевидно одно: в течение суток, по крайней мере однажды, тайник проверяли. Правда, для этого не было необходимости сдвигать тумбочку с места: достаточно было встать у стены вплотную и просунуть руку или даже просто заглянуть. Достаточно — для человека, который точно знает, где находится тайник. По размерам углубления можно предположить, что в нем могли лежать деньги. Или бумаги. Если деньги, то сумма довольно значительная (для одинокой старушки): около двадцати рублей осталось совершенно открыто на полке в шкафу, и еще пятнадцать в хозяйственной сумке на полу у двери. Очевидно, убийца пришел не за деньгами. Или за большими деньгами.
Стоп. Мы еще не успели отдать себе отчет, на какой путь толкает нас так называемый здравый смысл, а сами уже по этому пути идем. Между тем здравый смысл наш автоматически (и незаметно) составил цепочку «взлом — убийство — сдвинутая тумбочка — тайник — деньги (бумаги) — похищение» и предлагает нам идти только по этой дорожке, оставляя лишь возможность гадать «похищение — убийство» или «убийство — похищение»? А ведь связь эта далеко не бесспорна. Почему мы должны считать, что тумбочку сдвинул убийца? Что содержимое тайника взял убийца? Что замок, наконец, взломал именно он? Хотя последнее, кажется, не вызывает сомнений. Речь идет о том, что преступник, вскрывший замок, мог совершить только убийство, а поисками и проверкой тайника занялось другое лицо, решившее воспользоваться создавшейся ситуацией. Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов. Итак, лицо X совершило взлом и убийство, лицо У интересовалось тайником. Возможно, X и У — одно и то же лицо. Возможно также, что У — это сама Гиндина Людмила Ивановна. Другие варианты (лицо X совершило взлом и проверяло тайник, лицо У совершило убийство) маловероятны.
Что же могло быть целью лица X?
1. Целью лица X было убийство, и только оно (скажем, сведение счетов), поиски же тайника были предприняты либо лицом У, либо самим X — по логике ситуации. Однако, по словам Галины Карнауховой, наволочка подушки была зажата зубами Гиндиной, и, следовательно, убийца даже не приподнимал подушку, чтобы убедиться, что его жертва мертва. Что-то заставило его поспешно покинуть место преступления. Страх перед содеянным? Но страх не помешал ему хладнокровно взломать замок комнаты Гиндиной, хотя у него не могло быть уверенности, что Людмила Ивановна спит. Что же тогда? Шум в квартире? Внезапное появление лица У?
2. Целью X было ограбление, убийство же не входило в планы преступника и было совершено им, когда Гиндина проснулась. Между тем положение тела Гиндиной, отсутствие следов сопротивления и некоторые другие признаки указывают на то, что Людмила Ивановна не успела проснуться. Возможно, она просто шевельнулась во сне, и это испугало преступника и заставило его пойти на отчаянный шаг. В таком случае X знал о содержимом тайника (или догадывался о нем).
Оставим пока этот вопрос открытым.
Если учесть, что замок общей двери не был взломан, то очевидны три варианта:
1. Убийца — один из жильцов квартиры № 24.
2. Один из жильцов квартиры № 24 является сообщником убийцы.
3. Убийца самостоятельно воспользовался ключом от входной двери квартиры.
Но даже в этом последнем случае убийца не мог быть случайным человеком, подобравшим, скажем, на лестничной площадке оброненные ключи: не стал бы он забираться в самую глубь коммунальной квартиры. Дверь гр. Тихонова находится прямо напротив общей входной двери, и, идя в темноте, преступник неминуемо наткнулся бы на нее. Разумно предположить, что преступник знал, где находится дверь комнаты Гиндиной, и шел именно к ней.
Однако, имея ключ от входной двери (либо сообщника среди жильцов), преступник мог выбрать и более подходящее время. В последние дни из-за недомогания Людмила Ивановна не покидала квартиры, но преступник мог дождаться, когда его жертва останется в квартире одна. И все же вариант «непредвиденного убийства» этим не опровергается: перед сном Гиндина приняла (и, по словам дочери, принимала регулярно) определенную дозу барбамила, на что преступник, если он был осведомлен о привычках Людмилы Ивановны, мог рассчитывать.
Круг лиц, на которые может падать подозрение, довольно ограничен. Это:
1. Жильцы квартиры № 24 —
Тихонов Илья Кузьмич,
Полуянова Полина Дмитриевна,
Полуянов Георгий Тимофеевич,
Пахомов Николай Валентинович,
Пахомова Лидия Михайловна.
2. Дочь Гиндиной Карнаухова Галина Николаевна и ее муж Карнаухов Андрей Ильич.
3. Гиндин Николай Семенович, муж покойной, проживавший в квартире № 24 до 1947 года.
Линия Гиндина Николая Семеновича, 1916 года рождения, с самого начала следствия привела нас в тупик. С 1947 года, когда Гиндин Н. С. внезапно исчез, в списках живых и умерших на территории Союза он не значился, с просьбой о розыске его в соответствующие органы никто не обращался. Тщательный просмотр бумаг, оставшихся после Людмилы Ивановны, не дал никаких следов переписки Л. И. Гиндиной с мужем. На развод никто из супругов Гиндиных не подавал. Нам удалось обнаружить лишь два любительских снимка Гиндина Н. С. — почти тридцатилетней давности. В свое время Гиндин Н. С. сумел уклониться от призыва на военную службу, но после войны что-то его спугнуло, и в 1947 году он исчез, бросив на произвол судьбы молодую жену с трехмесячным ребенком на руках.
Лида Пахомова. Сама я не работаю. Ребенок у нас болезненный, вот и пришлось уволиться. 26 и 27 мая находилась весь день дома, выходила только с Васенькой погулять и в магазин. Да, еще 27-го в детскую поликлинику. Значит, так. 26 мая мы с Васенькой выходили на улицу раза три. Я его дома одного не оставляю: плачет очень, скучает. Первый раз часов в десять, потом после часу дня, и еще с трех до пяти. После пяти весь вечер 26-го из дома не выходила. Спать легла часов в одиннадцать вечера. В двенадцать выходила на кухню — чайник налить, и еще в три часа ночи — сама не знаю, зачем. И как я на НЕГО не наткнулась, господи. Теперь и по коридору ходить боюсь. Особенно в темноте. А эти все гасят свет за собой, все экономят. Вот и доэкономились. Небось горел бы в коридоре свет — побоялся бы забраться. Вообще-то, ночь была беспокойная. До часу ночи, помню, по коридору взад-назад ходили. Кто? Да я не знаю и говорить не хочу: на кого ни скажешь, все нехорошо. А людей у нас в квартире достаточно. Да, в двенадцать ночи Герка курил у телефона. Полины Дмитриевны сын, она его курить в коридор выставляет. С часу до трех? Ничего такого не слышала, да мне и не до того было: Васенька у меня, с животиком ему плохо было. Раз пятнадцать к нему вставала, все плакал во сне, да так горько, горько. Как чувствовал, маленький. Людмилу Ивановну 26-го я видела раза два, вообще-то она из своей комнаты редко выходит. А последнее время и вовсе сидела взаперти: Галка ей за продуктами бегала. Когда я видела Людмилу Ивановну? Часов в двенадцать дня и часов в восемь вечера. А 27-го мне даже в голову не пришло подумать: что это она весь день не появляется? Так до шести часов вечера и лежала, бедная, пока Галка не прибежала. Ох, как она кричала, как плакала! Еще бы: какая-никакая, а мать.
Николай Пахомов. Ну, с меня для вас плохой урожай. На работу ухожу в семь утра, возвращаюсь в шесть вечера, а то и позже: через весь город переться. За день так умотаешься — спишь, хоть из пушки пали. Вот и 26-го: лег в одиннадцать, проснулся в шесть, и хоть бы с боку на бок повернулся. Лидка в бок мне тычет кулаком, чтоб я к Васе хоть раз встал, а мне трын-трава. 27-го та же история: проснулся, значит, в шесть, ушел в семь, вернулся в шесть вечера, как раз в дверях Галину встретил, и нате вам — такой подарочек. Ну, зато теперь я в коридоре каждую ночь буду дежурить. Так ведь нас всех передушить могут. Замок-то у нас на общей двери гнилой, десять лет стоит. Сколько раз я им говорил: давайте соберем по рублю, купим новый, я сам его врежу — и дело с концом. Это же не замок, а слезы. Я его гвоздем открывал, расческой, когда ключа под рукой не было. Так нет, начинают спорить, с комнаты долю или с человека. Ну ладно, думаю, ждите. И вот дождались. Нашелся хитрый человек, вскрыл замок и вошел как к себе домой. Коммуналка же, каждый думает, что другой по коридору идет. Каблуками стучи, песни пой — никто и не выглянет. Жена про попрыгунчиков вам станет заливать, так вы ее не слушайте: через дверь он вошел, как к себе домой. Людмила Ивановна? Да что-то и не помню, когда она мне на глаза последний раз попадалась. 26-го я ее не видел, это точно. А может, она сама удавилась?
Уточнение. Когда мы попросили Николая продемонстрировать свое умение открывать замок общей двери расческой, он сильно сконфузился и признался, что преувеличил. Более того: ни гвоздем, ни иным предметом, кроме ключа, Николай Пахомов открыть этот замок не сумел, хотя и очень старался. Наши же специалисты заверили, что бесхитростный этот замок далеко не так прост, как кажется. Сохранить его при взломе неповрежденным было бы невозможно, настолько изношен его механизм.
Полина Дмитриевна. Днем 26-го у себя в школе была, вечером дома. Людмилу Ивановну видела вечером, часов в восемь, на кухне, вид у нее был озабоченный, да мы с ней ведь не разговариваем. Точнее, не разговаривали. Часов до одиннадцати вечера я телевизор смотрела. Герочка вернулся в десять очень усталый, даже кушать не стал. Лег спать и заснул как убитый. Мне-то что-то не спалось, сердце побаливало. И вы знаете, что самое страшное? Именно в ЭТО время я как раз и не спала. Что значит «в какое время»? В то самое время, о котором вы спрашиваете. Вы ведь спросили меня, не слышала ли я чего-нибудь с двенадцати до четырех. Так вот что я вам скажу: в час тридцать или около этого в стенку стукнуло. Как раз со стороны ЕЕ комнаты. Глухо так стукнуло, где-то низко над полом. Я еще подумала: клопов ловит, бедная. Шаги я, по-моему, слышала какие-то, но не в это время, раньше немного. Это надо подумать, припомнить хорошенько. Я убеждена, что здесь большая банда орудовала. Только этажом ошиблись. Как раз над нами очень состоятельные люди живут. Целую квартиру занимают, такую же, как наша.
Гера Полуянов. 26 мая я домой возвращался два раза: в 21.30 и в 21.45. Сигареты забыл купить, вот и пришлось. Возле метро у нас дежурный магазин, вы же знаете. В первый раз, если мне не изменяет память, видел в коридоре Людмилу Ивановну. Во второй раз — нет. Ночью к телефону вставал, в котором часу — не помню: был сильно спросонья. Что-то около полуночи. А вообще спал хорошо и ничего не слышал. 27-го проснулся в половине десятого, отсутствовал весь день и только вечером узнал. Никаких разумных объяснений случившемуся у меня нет. Может быть, Галкин отец явился? Я слыхал, прошлое у него темное.
Тихонов. Ну, что я вам могу сказать? Советов вы от меня не примете, сами люди ученые, понимать должны: вот нас пять человек здесь взрослых, младенец не в счет, среди нас и ищите. Ну, Пахомовых скинуть, они друг другу алиби подтвердят, Полуяновы тоже, значит, я один остаюсь. Никто мое алиби засвидетельствовать не может. Уж я стал подумывать: не на мне ли лежит? Может, к старости лет в болезнь какую ударился, по ночам шастаю. И нет в этом ничего удивительного: жизнь тяжелую прошел, школа жизни была жестокая, нервы поистрепала, живу один, чудачества разные за собой замечаю. Кто знает, может, и вылилось. Не любил я покойницу, бог с ней. Но войти к нам никто посторонний не мог, это я клятвенно подтверждаю. Они все, конечно, на старый замок ссылаются. Забыли, видно, что я здесь вроде как бы дверного сторожа. Как часов десять или одиннадцать, выясняю, дома ли все, и дверь вот на эту палку закладываю. Стальная палка, надежная. Скобу приспособил — и запираю. Надежней любого замка, держит так, что ломом не выворотишь. Николай спьяну, бывало, трясет дверь, трясет, матерится, сила у него дай боже, а сделать ничего не может. Или Герка, народ они молодой, то один, то другой домой после двенадцати заявляются. Но в эту ночь, как нарочно, все дома были, вот я и заложил свою палочку. Уж лучше бы я забыл про это дело, все не так тяжело было бы, а теперь ничего не поделаешь, грешить на людей приходится. Про болезнь про свою — это я так, для полноты картины, а если по совести — женщин, конечно, в расчет не берем — либо Герка, либо Николай согрешили. Я уж им намекал: не лучше ли начистоту? — помалкивают. И про палку мою забыли, враз у всех память отшибло, а ведь сколько было из-за нее ругани. Ну, причины — это не мне судить. Ни на кого пальцем указать не хочу, только выбор здесь скудный. Либо тот, либо другой, либо, значит, остаюсь я. Николай — он с покойницей ругался страшно. Помню, с секачом к ней в комнату рвался. Есть у них такой секач — для зелени. Ну, под пьяную руку, конечно. «Убью, — говорит, — убью». И убил бы, наверное, если бы Герка не вступился. Скрутил его, запихал в комнату и спать уложил. Герка здесь один поддерживал с Людмилой Ивановной отношения. Деньги у нее занимал, да это уж я так, к слову. Понимаю, конечно, трудно вам, вроде бы все под рукой, а взять никого не возьмешь: у обоих алиби. Неужели следов никаких не оставили? Не мое дело, понимаю. Но показания свои насчет палки подтверждаю и еще раз подтверждаю: в тот вечер я дверь заложил, и открыть ее снаружи никто не мог, все были дома. Как хотите, так и судите. Да не боюсь я ничего: придушат — и пусть придушат. Вон покойница умерла и не пикнула. Легкая смерть. А мне уж, слава богу, седьмой десяток.
Лида Пахомова. Грех, конечно, говорить, но женщина она была нехорошая. Коля с ней ругался часто — из-за телефона. Звонить звонила, и ей дочь звонила, а сама по звонку никогда, бывало, не выйдет: все в дверь ей стучали, как барыне. В гости к ней не приходил никто… Я, по крайней мере, не видела. Если Галку не считать: эта каждый вечер прибегала. Сама я к ней в комнату, поклясться могу, сроду не заходила. Николай мой — тоже. Полина с ней была на ножах. Герка, правда, разговаривал, но дальше порога, я думаю, к ней не заглядывал. Илья Кузьмич? Было время, дружили они, я уж думала, к свадьбе дело идет: люди оба одинокие. Но вот года три назад раздружились отчего-то. Не поладили, значит. Последнее время еле замечали друг друга. Он-то у нее бывал, это точно. А больше из наших никто. Ну, угрожать ей не угрожал Николай, это Илья Кузьмич наговаривает. Вот она, было дело, отравить нас грозилась. «Я, — говорит, — вам сделаю, и никто не узнает». Дождалась: самой сделали.
Николай. Пошумел я на нее как-то раз, но давно это дело было, года два назад. А так делить мне с ней было нечего. Телефон — да не в телефоне дело, это дело принципа. Индивидуалистка она была: ящик вон для писем отдельный себе повесила на квартирной двери. Да порядком уже: года четыре назад, после Галкиного замужества. Только не припомню я, чтоб в этом ящике что-нибудь лежало. Откуда знаю? А в дырочки ничего не белелось. Что касается секача — это уж не знаю, кто вас за нос водит: нет у нас такого инструмента, нет и не было. А держал я тогда в руках фанерку: Лида на ней селедку разделывает.
Полина Дмитриевна. Вообще-то трудным она была человеком, и недоброжелателей у нее было много. В квартире, к примеру взять, никто с ней не общался. Гера мой один с ней здоровался, он воспитанный мальчик. Я сказала как-то раза два «здравствуйте», а она не отвечает, стоит отвернувшись, как не слышит, посудой гремит, ну я и бросила: на что это мне нужно? Сейчас, конечно, жалею. Как-то принято думать о человеке после смерти хорошее, но тут нечего даже и вспомнить. Дочь свою из дому выгнала с ребенком на руках. Были у Галины с мужем нелады, вот она к матери и прибежала, А к кому же еще прибежать? Так Людмила Ивановна ей через день на дверь показала. Несмотря на то, что сама Галю против мужа настраивала: не пришелся он ей. Конечно, дочь с ребенком для нее не находка, одна-то она и клубнички поест, и пирожных себе принесет к чаю, и в кино, когда хочет, сходит. Я ее не за грубость, больше за эгоизм не любила.
Гера. Ну, я не психолог, сказать тут ничего не могу. Ко мне она хорошо относилась. Деньги? Не брал я у нее никаких денег. И в комнату к ней не заходил. Кто вам такую глупость сказал? Эх, коммунальная, как в аквариуме живешь. Нет, не брал я у нее денег.
Тихонов. Молодежь, я так понимаю, должна была о Людмиле Ивановне резкости говорить. Ну а мне, старику, все это как-то ближе, понятнее. Много лет бок о бок жили. Жизнь у покойницы трудная была, так хоть смерть выпала лёгкая. Нет, если по совести, то была Людмила Ивановна героиня. Дочь на ноги одна подняла, замуж ее выдала, свадьбу справила — и все одна, все без мужа. Муж ее с грудной девочкой бросил, до сих пор где-то по свету слоняется. Да и то к лучшему: рассказывают, бил ее очень. Я-то сам не знаю, я попозже сюда въехал, застал Людмилу Ивановну уже соломенной вдовой. Из тех, из прежних жильцов никого уж не осталось: разъехались кто куда. Дружбы я с покойницей особенной не водил, но судить могу по образу жизни: деньжонок у нее не было, еле-еле концы с концами сводила. Все для Галки своей старалась, а Галка эта — девица весьма и весьма развязная. Так любовь детей и портит понемногу, а не любить-то мы, старики, не можем… Я к чему? Да к тому, что пойти на такое дело — разумный человек не пошел бы. Беспутную голову надо иметь, чтобы нищую старуху убивать да грабить. Про Раскольникова читали? В общем, понимайте как знаете. Да, ходил я к ней одно время. Чай пили вместе, разговоры говорили, дело стариковское. О себе она не любила рассказывать. Все про дочку больше, а я ей про своих племяшей. Так время и коротали. Но уж как я на пенсию вышел да еще прихворнул с непривычки — тут наша дружба сразу и кончилась. Да оно и понятно: никакой на себя обузы брать Людмила Ивановна не хотела. Довольно в своей жизни намучилась. Я ее за это не осуждаю, хотя черствость ее меня тогда обидела. Могла бы и поухаживать за стариком, я ведь много внимания не требую.
Галина Карнаухова. Для меня это все. Кончилась жизнь, как дальше — не знаю. Была у меня мама — был дом, был угол, куда могла прибежать, поплакать. Теперь — ничего. Одна с малышкой на руках, куда хочешь, туда и иди. Семья? Не знаю теперь, есть у меня семья или нет. Не так все получилось. Да это вам неинтересно. И главное, за что? За что? Кому она что сделала? Лежит, голова седая. Куда вы только смотрите? Какой-то трус, подонок, мерзавец справился со старухой. Да что он у нее мог взять? Ничего не взял, просчитался негодяй. Садист, маньяк какой-нибудь бродячий. И не ходил к ней никто, кроме меня и Андрея. Да, у меня есть ключ. Один. Никому не давала. Ей нездоровилось часто, на звонки не вставала, вот я и сделала себе ключ. Соседи — разве они откроют? У них там вечные были склоки. Один Николай чего стоит! А этот Илья Кузьмич — змея подколодная. О наших ссорах — это он, конечно, сказал. Как баба старая, все ему надо знать. Ну, ссорились иногда, она меня все за личную жизнь мою ругала. А вообще, мы с мамой жили очень дружно и ни в ком не нуждались. Об отце даже не вспоминали, разыскивать его не пытались. Он нам, конечно, не помогал… Я, например, и сейчас не знаю, жив он или умер. Маме я всем обязана, всем. Из-за меня она одинокой осталась, не хотела меня травмировать. Школу дала мне кончить, в институте я училась на дневном, как принцесса… стыдно даже вспоминать. Ходили к нам только мои школьные да институтские друзья. Кроме меня, у мамы никого не было, ни родственников, ни друзей. С работы, правда, зачастил один дядечка, приятный такой, Казарин по фамилии, а имя-отчество, по правде сказать, я забыла. Пятнадцать лет мне тогда было… знаете, какие девчонки строптивые? Поставила я маме условие, чтоб ноги его больше не было, ну и перестал Казарин приходить. Теперь жалею, ох, жалею, да не поправишь… Ну а когда я вышла за Андрея, мама сильно изменилась. Сперва она его приняла очень ласково. Но чем лучше мы жили, тем хуже она к нему относилась. Наверно, ей стало казаться, что она мне больше не нужна. Нет, мама нас с Аленкой не выгоняла, что за нелепость? Пришел Андрей и увел нас домой чуть ли не насильно.
Андрей Карнаухов. Для меня это — личная трагедия. Людмила Ивановна была моей последней надеждой. Она имела большое влияние на Галину, и я думал, что с ее помощью все наладится. Теперь не знаю, что нас ждет. Я без дочки жить не могу. Лично у меня с Людмилой Ивановной были очень теплые, даже дружеские отношения. У меня к вам личная просьба: не звоните больше ко мне на работу. Коллектив у нас женский, распространяются самые вздорные слухи. Кроме того, именно сейчас я прохожу очередную инстанцию оформления за рубеж, и ваши звонки могут затормозить дело. Если нужно, я могу сам звонить в определенные часы.
Наш вопрос. Где вы находились и что делали в ночь с 26 на 27 мая примерно с часу до трех? Кто может подтвердить ваши показания?
Лида Пахомова. Дома была, где же еще, куда же мне от маленького? Укачивала его или дремала, а подтвердить не может никто. Муж спал как сурок. Нет, он к Васеньке не встает.
Николай Пахомов. С одиннадцати вечера до шести утра спал у себя дома. Жена может подтвердить. Из комнаты не выходил.
Полина Дмитриевна. С десяти часов вечера была у себя в комнате, никуда до утра не выходила. Лежала в постели, но спала по обыкновению плохо. Сын тоже был дома, но вряд ли он сможет что-нибудь подтвердить: в его возрасте не мучаются бессонницей.
Гера Полуянов. Был дома, спал, из комнаты выходил два раза. Один раз к телефону, без чего-то двенадцать, другой — по нужде. В котором часу — не помню, где-то под самое утро. Мать может подтвердить, она плохо спала.
Тихонов. Был у себя, из комнаты не выходил, спал чутко, подтвердить никто не может.
Галина Карнаухова. Была дома, спала, до сих пор не понимаю, как могла заснуть. Ведь я была у мамы поздно вечером 26-го, ушла часов в одиннадцать. Посоветоваться приходила, кто еще может посоветовать, если не мать. Помню, еще колебалась: остаться мне у нее ночевать или не остаться. Никогда себе не прощу. Может быть, я была последняя, кто ее видел в живых. Если не считать этого негодяя… Мама была бодрая, ложиться как будто не собиралась. Нет, проводить меня не выходила. О чем разговаривали? Договаривалась, когда Аленку привезти. Она иногда ее брала на субботу и воскресенье. Ну и о разводе моем говорили. Сложно все у нас, с мужем в одной комнате живем. Вернулась домой около двенадцати. Муж был дома. Легла в половине первого. Ах да, еще был звонок, как раз около половины первого. Один знакомый звонил. Больше ничего. Муж может подтвердить, соседи.
Андрей Карнаухов. Был дома, заснул около часу. Вернулась жена, мы с ней поговорили немного, я уже был в постели, Аленка спала. Кто может подтвердить? Жена, конечно, но показания родственников, кажется, в расчет не принимаются? Нет, после одиннадцати нам никто не звонил.
Наш вопрос. Не находился ли в квартире кто-либо посторонний в ночь с 26-го на 27-е?
Лида Пахомова. Нет, посторонних, я думаю, никого не было. Галина приходила к матери, но то в 10 часов вечера, ушла примерно через час. Вообще-то она так поздно редко приходит. Обычно ее мать до дверей провожала, а в этот раз, по-моему, нет. Разговаривали они громко, мне сквозь закрытую дверь и то было слышно. О чем? Не прислушивалась. Людмила Ивановна очень сердилась. Голос-то у нее был глухой, слов я не разобрала, а вот Галина очень громко кричала. «Не говори ты мне о деньгах, я слышать о них не хочу! Что мне, своих не хватает?» А после одиннадцати, по-моему, никто не приходил. Вообще-то ночь была неспокойная. Все время ходили по коридору, ходили. А может, мне из-за Васи так кажется. Кто мог ходить? Да бог его знает. В двенадцать я вышла чайник налить, как раз Гера стоял у телефона. Курил, по-моему. То ли звонил, то ли ждал звонка. Я чайник налила и ушла в комнату. Что? На плиту не ставила, у меня электрическая плитка в комнате, на плитке чище, и выходить не надо. И больше я не выходила до утра. Ах нет. Часов около трех, да, по-моему, в три, точно, вышла еще один раз. Свету в коридоре и на кухне уже не было, входная дверь была уже на палке. Зачем подходила к входной двери? Да вроде показалось мне, что на площадке кто-то стоит. Нет, открывать не стала, побоялась. Послушала и ушла. Да не боюсь я ничего. Теперь-то уж мне всякое мерещится: будто встретила я ЕГО. Будто иду я, а ОН в темном коридоре мне навстречу, лицо платком завязано… А то Людмилу Ивановну вижу. Чуть ли не каждую ночь вижу. Идет по коридору и за стеночку держится. Нет, здесь я жить больше не могу. Николай смеется, а я не могу. Размениваться буду в другой район, чтоб подальше. Между двенадцатью и тремя? Да все ходили, бродили, ногами шаркали. Или кажется теперь? Ну да, в моем конце коридора, оттуда-то мне не слышно. Но я все думала — Гера ходит, он часто по ночам звонит, и вид у него был расстроенный. Но в три часа его точно не было, и дверь была на палке.
Николай Пахомов. Насчет посторонних — не знаю, и шума не слышал. Спал.
Гера Полуянов. Да, выходил. Да, курил. Да, звонил. Кому — не имеет значения. Да, Лида выходила. По-моему, с чайником. Минут десять на кухне плескалась, потом ушла. При ней я не стал звонить, не люблю, когда интересуются. Ушла — перезвонил. Да нет, не бросал я трубки, когда Лида вышла. Занято было, допустим. Кстати, Илья Кузьмич тоже не спал. Дверь была приоткрыта, он стоял и прислушивался. Я как увидел — сразу ушел. Половина первого была.
Илья Кузьмич Тихонов. Свет жгут без конца, потому и смотрел. Вы думаете, он за собой погасил? И не подумал даже, мне выходить пришлось. Вышел, свет погасил, дверь проверил: на палке была. Правильно, в половине первого. Так вы же с часу до трех или до двух спрашивали. В час я уже третий сон видел. И шума, естественно, для меня никакого не было. А вот до часу была суета. Сначала Галина пришла, поругалась с матерью, хлопнула дверью, ушла, я за ней на палку закрыл. Только успокоился, прилег — Герка с Полиной поцапался, выскочил сам не свой, сел у телефона, сидит выжидает. А телефон под самой моей дверью, какой уж тут сон. Я и так у них вроде швейцара, да еще и в телефонистки на старости лет заделался. Как чуть звонок — вскакиваю, бегу подзывать. Все женские голоса на память знаю — кто Кольке звонит, кто Георгию… Ну, в этот раз никто не звонил, правда. А Герка — это и подслушивать не надо, и так известно, кому звонил. Галине он звонил, и никакого тут секрета нету.
Полина Дмитриевна. Ну я не думала, что это может иметь отношение. Глупость мальчишеская, и ничего больше. Я всегда его за эту странную привязанность ругала, и на этот раз не обошлось. Смешно же: на девять лет его старше, с ребенком, да еще разводится. Конечно, для нее предмет гордости: мальчики бегают. Не постеснялась же вам об этом сказать. Кстати, когда Георгий вернулся и я ему читала нотацию, шаги в коридоре все равно были. Причем непохоже, чтобы кто-то крался. Шаги уверенные, мужские. Я так и поняла, что кто-то свой. Наверно, думаю, Николай вернулся, он частенько поздно домой приходит. Но в тот вечер его что-то слышно не было. Он как придет — Лиде разнос учиняет. За что! А просто так, под пьяную руку. Нет, нет, у Ильи Кузьмича совсем другие шаги. Прошли в ту сторону, к Лидиной двери. А вот обратно шли или нет — не слышала Очень я расстроилась после разговора с сыном. У него видите ли, самые серьезные намерения. Глупый мальчишка. А что касается шагов — теперь и мне начинает казаться, что есть какая-то связь. Но очень уж уверенно шагали. Неужели можно так нагло, не ведая страха? Было это — не помню, во сколько. Только-только вернулся Герочка. Я пары слов ему не успела сказать. Нет, стук в стенку был много позже, я успела заснуть и проснуться. Не раньше чем через час… А может быть, и раньше, в бессонницу кажется иногда, что не спишь целый год. Вы знаете, просто представить себе не могу, как я ЭТОТ момент проспала. Преподавательская работа, нервы натянуты, ночью лежишь и вибрируешь. Чуть Лидочкин малыш во сне застонет — сна ни в одному глазу. Да что вы, очень слышно. В полудремоте, в полубреду иногда кажется уже, что не чужой малыш плачет, а Герочка лежит маленький, и нездоровится ему… Нет, как раз в ту ночь я детского плача не помню, не слышала. Да нет, не ошибаюсь, разве я тогда бы могла задремать. Детский плач у меня весь сон прогоняет. Один раз Васенька заплакал — считайте, мне всю ночь не спать. Лежу и жду, когда заплачет снова. Так до утра и жду: педагогическая специфика.
Анализ показаний. Показания Лиды Пахомовой не содержат противоречий до того, пожалуй, момента, когда она сочла нужным отметить, что в три часа ночи, то есть уже после преступления, входная дверь была «на палке». Мы заметили, как старательно все жильцы квартиры № 24 обходили вопрос об этой злополучной палке (за исключением Ильи Кузьмича — по причинам, которые будут подвергнуты анализу ниже), и это вполне естественно: палка резко ограничивает круг подозреваемых и замыкает его в стенах квартиры № 24. Кстати, мы пока и не настаивали на том, чтобы жильцы давали показания по этому пункту. Это очень их сковало бы. Поэтому оговорка Лиды Пахомовой вряд ли была случайной: сознательно или бессознательно, но она хотела отметить, что к трем часам ночи все были дома. Причем ее проверка настолько отчетливо выпадает из внутренней логики ее поведения (сомнительно, во-первых, чтобы она, озабоченная состоянием ребенка, стала прислушиваться к входной двери, во-вторых, далеко не всякая женщина, и уж тем более не такого психического склада, рискнула бы в одиночестве выяснять, кто там «стоит за дверью», и, наконец, навряд ли она могла что-нибудь услышать из своего дальнего конца коридора и тем более из своей комнаты), что мы вольны толковать ее либо как указание (неуверенное, осторожное) на то, что преступника следует искать среди жильцов, либо как стремление защититься от возможных показаний других жильцов, которые могли слышать ее шаги в коридоре.
Показания Николая Пахомова бедны информацией и не содержат никаких противоречий (вполне возможно, что роль сиделки у больного ребенка взяла на себя жена, в то время как муж преспокойно спит), кроме чисто внешнего: уж слишком безмятежно провел вечер 26 мая этот согласно показаниям других жильцов буян и дебошир.
Полина Дмитриевна Полуянова могла и не слышать плача Васеньки, который заставил Лиду Пахомову провести беспокойную ночь: люди, страдающие бессонницей (или убежденные, что страдают), зачастую переоценивают свой недуг. После крепкого сна они могут проснуться, взглянуть на часы и с ужасом подумать, что не спят целую вечность. Кроме того, мы уже убедились, что показаниям Полины Дмитриевны нельзя особенно доверять и бессонница ее — недостаточное подтверждение алиби Геры. Шаги, о которых она так своевременно вспомнила, могли быть также придуманы для убедительности этого алиби. Личная же ее непричастность не вызывает у нас сомнения, хотя очевидных гарантий и нет.
Гера Полуянов пока единственный из жильцов квартиры № 24, находившийся в коридоре в получасовой близости ко времени преступления. (Впрочем, нет: мы забыли об Илье Кузьмиче, вышедшем погасить за ним свет.) Нет никаких твердых гарантий, что Гера покинул коридор в 0.30, а если и покинул, то не вернулся вновь: погашенный свет — не помеха для выяснения отношений по телефону. Тем более таких запутанных отношений.
Что же касается Ильи Кузьмича Тихонова, то он единственный из жильцов, который настаивает на том, что преступник не мог проникнуть извне. Идя в своей логике до конца, он единственный точно указывает, на кого, по его мнению, может падать подозрение. Это Гера Полуянов, Николай Пахомов и он сам. Надо отметить, что преступление (по крайней мере, взлом) носит отчетливо выраженный «мужской» почерк. Кроме того, Тихонов единственный (если не считать Николая), кто не слышал шагов в коридоре после ухода Геры. Сам Гера не говорит, что он их не слышал: он по этому вопросу вообще ничего не говорит. Нельзя забывать и о том, что Тихонов — единственный из жильцов, кто часто бывал у Гиндиной и мог знать о тайнике. И наконец, Илья Кузьмич последний из жильцов, выходивший в коридор в ночь убийства. Сопоставляя все эти моменты, можно сделать вывод, что он мог быть соучастником преступления. Скажем, соучастником, открывшим убийце дверь. Но в таком случае зачем ему настаивать на том, что дверь была закрыта на палку? Подозрения в соучастии это отнюдь не снимает. Здесь могут быть такие объяснения:
а) Тихонов — соучастник преступления (или преступник) и, навлекая на себя непосредственное обвинение, рассчитывает на то, что из троих им указанных он наименее возможный кандидат. Но для преступника это слишком слабая логика. Может быть, он предполагает, что кто-то мог видеть заложенную на палку дверь, и хочет упредить? Но, с другой стороны, зачем соучастнику вообще закладывать дверь на палку и затруднять своему сообщнику свободу действий? В конце концов, Тихонов мог просто «забыть» это сделать.
б) Тихонов не виновен, но вводит следствие в заблуждение (дверь не была заложена), с тем чтобы насолить тем двоим. Вполне логичное, а в условиях «коммуналки» даже реальное предположение.
в) Тихонов не виновен и говорит правду просто потому, что не виновен и говорит правду. Собственно, с этого можно было бы начинать: самое естественное и самое оптимистическое предположение. Но все-таки прежде не мешало бы удостовериться в несостоятельности предыдущих.
Легко понять, почему Галина Карнаухова сразу не упомянула в своих показаниях о происшедшей между нею и матерью ссоре. Ведь это был последний разговор в их жизни. Вполне возможно, что ей больно и стыдно было об этом вспоминать. Но то, что разговор шел о деньгах, она категорически отрицает. Понятно также, для чего Галина упомянула о телефонном звонке «знакомого». Она решила (и не без оснований), что в условиях коммунальной квартиры такой звонок Гера скрыть не сможет.
Что же касается Андрея Карнаухова, то в его показаниях есть лишь один неясный пункт: звонок Полуянова, который он должен был слышать. Вряд ли Карнаухов не обратил внимания на телефонный разговор, который его жена вела в половине первого ночи. Но, может быть, он полагает, что Галина тоже умолчит об этом звонке? Особого согласия между супругами нет, и исключить возможность такого разнобоя в показаниях Карнауховых мы не можем.
Стальная трость, на которую Тихонов закладывал дверь (а то, что в эту ночь он не изменил своим привычкам, подтверждает Лида Пахомова), так вот эта злополучная палка вынуждает нас повременить с традиционным вопросом о том, кому было выгодно преступление. Вопрос о мотивах преступления преждевременен, пока не решена другая проблема: как преступник добрался до своей жертвы? Обычно в нашей практике картина самого преступления ясна уже с самого начала. Но здесь вопрос «как?» тесно связан с вопросом «кто?», и в этой комбинации проблема мотива отступает пока на второй план.
О злополучной же палке, чтоб больше к ней не возвращаться, пожалуй, есть резон спросить самого Полуянова. Ведь он сидел на телефоне почти у самой двери, и свет в коридоре горел. Была в двери палка или ее не было? Не мог он ее не видеть.
Гера Полуянов. Я вышел к телефону около двенадцати, точнее — без чего-нибудь двенадцать. Еще точнее? Без трех минут. Как знаю? Рассчитал, пока Галина доедет, чтобы звонок застал ее в прихожей. Набрал один раз номер — занято. Должно быть, соседи звонили, они по целым часам у них на телефоне висят. Пошел на кухню, попил из-под крана. Пошел опять звонить: опять занято. Тут Лида вышла. Я закурил. Долго она на кухне была, минут десять. Выглядывала несколько раз: самой, наверно, позвонить было надо. Но я не уходил, тогда она ушла. Опять я позвонил — как раз приехала Галина. Она спешила что-то, сказала мне: «Минут через десять позвони». Я подождал, еще покурил. Уже двадцать минут первого было. Ну, дозвонился, поговорили, коротко, правда.
О чем? Ну, как вам сказать? Я ей сказал: «Давай, Галка, уедем к чертовой матери, я Аленку твою любить буду». Ну и всякое такое. Она меня домой погнала: «Не сиди на телефоне, увидят». Смотрю — у Тихонова дверь качается, и сам он в щелочку смотрит. Это было уже 0.25. Хотел я с Андреем поговорить, сказать ему, что я о нем думаю. Что думаю? Подонок он, и ничего больше. Такую девчонку загубил. Теперь заграницей ее манит. Ну, позвонил, да не попался он мне под горячую руку. Все было бы по-другому. Может, и убийства бы не было. Я в том смысле, что у нас с ним был бы долгий разговор. Я бы ему все припомнил. Не стал бы разговаривать? Стал бы, из трусости стал бы. Он все боится, что ему оформление паспорта сорвут. Но разговора не получилось. Вышел он куда-то. Так мне соседи сказали: «Только что оделся и ушел. А Галина в ванной». Ну Галю я не стал беспокоить, спать пошел. Что? Палка на двери? Не было никакой палки. Илья Кузьмич ее, когда все спят уже, ставит. Он это дело никому не доверяет. Так я же не спал, и Лида не спала. Она еще из двери своей высунулась, когда я спать пошел. А свет погасил или нет — не помню. Мог и забыть, не до того мне было. А что касается палки, то в эту ночь ее быть не могло. Никак не могло, понимаете? Оплошал наш сторож.
Андрей Карнаухов. Поймите, чисто человечески я оказался в очень трудном положении. В конце концов, за границу я могу поехать и один. Ну задержится из-за развода на месяц-другой. Что? На полгода? Ну, на полгода. В конце концов, если я там нужен, могут и полгода подождать. Дело совсем не в этом. Я люблю Галину, это моя первая и последняя любовь, мне дорога моя дочь, без этих двух существ моя жизнь, моя карьера бессмысленны. Мы оба молоды, характеры наши еще не успели закостенеть. Быть может, перемена обстановки и окажется тем самым средством, которое снимет напряжение в наших с ней отношениях. И вдруг — нелепая, противоестественная помеха: женщина, которую я чтил как мать, заявляет, что скорее наложит на себя руки, чем допустит, чтобы Галина осталась со мной. Это было для меня как гром среди ясного неба. Преступная прихоть черствой, эгоистичной старухи поставила под вопрос всю нашу с Галей дальнейшую жизнь. Жена моя вернулась домой в ужасном смятении. До этого мы почти уже помирились, она согласна была ехать со мной — и вдруг: «Если мы уедем, мама покончит с собой». Это было на грани шантажа. Я не верил, конечно, что женщина такого склада, как Людмила Ивановна, может решиться на подобную крайность, но Галю она почти убедила. «Мама не переживет сегодняшней ночи, — не переставала она твердить. — Ты ее не знаешь». О деньгах? Нет, ни о каких деньгах между нами не было и речи. Галина иногда подбрасывала маме кое-какие суммы, я знал об этом и смотрел сквозь пальцы. Да, собственно, при чем здесь деньги? Речь шла о нашей судьбе. Естественно, я сорвался с места и поехал на Суджинскую — на такси, конечно, было уже двенадцать. Жене я сказал, что еду успокаивать Людмилу Ивановну, заверять ее, что мы немедленно расходимся. Но для себя я решил: выскажу ей все, что думаю, и посмотрим, насколько она близка к самоубийству. Сейчас я понимаю, что это было жестоко и эгоистично, но не менее жестоко и то, как она поступила с нами. Тем более что я не верил до последней минуты, что она могла покончить с собой. Теперь не знаю, что думать. Если окажется, что это все же было самоубийство, то можете считать, что я ее убил. Я ей сказал… Впрочем, нет, по порядку. Когда я вошел, Людмила Ивановна сидела за столом и спокойно чаевничала. На столе стояла полулитровая банка с медом, в ней — столовая ложка. Помню, эта деталь меня особенно поразила. Что вы сказали? Как вошел? Вошел без стука, дверь ее комнаты была не на замке. А, вы имели в виду, как я вошел в квартиру. Но, видите ли, у нас с Галей собственный ключ. Я думал, Галя вам уже говорила. Что? Нет, я не звонил. Нет, на двери не было никаких приспособлений. В коридоре было темно, но планировка мне достаточно хорошо знакома. В котором часу? Я подошел к входной двери и взглянул на часы: внизу меня ждало такси, и надо было быть предельно кратким. Да, было 0.40. Вы разрешите мне продолжать? Я не кричал, я говорил спокойно и твердо. Я ей сказал, что не позволю шантажировать нас и ставить под вопрос наше счастье. Еще — что для самоубийства нужно обладать душой, а у нее душонка. Она все это выслушала, облизала ложку и молча показала мне на дверь. У меня не укладывается в голове, как мог такой человек наложить на себя руки. Что? Не самоубийство? Но тогда… тогда мое положение действительно незавидно. Слушайте, что я вам скажу: один человек точно видел, когда я уходил! Это старик, который живет у двери. Он проводил меня и закрыл за мною дверь. Да, да, он чем-то долго гремел, пока я спускался по лестнице. И кроме того, на улице меня ждало такси! Таксиста можно найти, вам это будет совсем не трудно! Я был не больше десяти минут в квартире, он сможет подтвердить! Прошу вас, обязательно найдите таксиста! Я отпрошусь с работы, я помогу вам искать… Да, но момент смерти никогда нельзя определить точно! Плюс-минус десять минут, как я смогу доказать?.. Галина мне поверила, она знает, что я не смог бы… Что она вам сказала? Я знаю, это старик, который за мной закрывал, у него было такое зловещее лицо…
Илья Кузьмич Тихонов. Да, виноват, дал ложные показания, готов отвечать по всей строгости. Мне тюрьма уже не страшна, страшнее худая слава. А что касается молодого человека, то видел я, как он приходил, и закрывал за ним, и дверь на палку закладывал. До этого же дверь была на одном замке: все дожидался я, пока лягут. Зачем грех на душу взял? Да жалко мне его стало. Затреплете, затаскаете, и все напрасно: не виноват человек. Попомните мои слова, либо Колькино, либо Геркино дело. А этого хлопца я хорошо знаю, хоть он и не знает, как меня по имени-отчеству: все вы да вы. Галины Гиндиной муж — хороший, умный парень, за границу, я слыхал, его посылают — значит, проверенный и нужный человек. Первого встречного не пошлют, это мне известно: сам много лет такими делами занимался. Вот я и рассудил: зачем ломать человеку жизнь? Небось и он не дурак: никто не видел, как пришел, как ушел. Нужно будет — сам скажет, а мне зачем? Скажу даже, что позвонил я ему на другой день и заверил: от меня никаких сведений они не дождутся. Он поблагодарил очень вежливо, а теперь, видите, пришлось сказать. Ну что ж, наверно, правильно рассудил, я таких людей понимаю. Почему знаю, что он не виноват? Замок у Людмилы Ивановны после него щелкнул. Как раз я дверь закладывал, слышу: покойница на ночь закрывается. Покойница — это я сейчас говорю, тогда-то она еще была живая. Я же вам говорю: либо Николай учудил, либо Герка, либо, значит, я. Конечно, моим словам у вас теперь нет веры, но все-таки возьмите на заметку. А за ложные показания — хоть из Москвы выселяйте. Виноват, не скрываю.
Стоп. Разберемся наконец с этой загадочной палкой, которая то появлялась, то пропадала, то опять появлялась. А заодно составим сетку времени.
22.00. Галина Карнаухова приехала к матери. Открыла своим ключом: дверь еще не была заложена. Ее приход видела Лида Пахомова, слышали Илья Кузьмич, Полина Дмитриевна и, очевидно, Гера.
23.00. Галина уходит. Слышали Лида Пахомова, очевидно, Гера и Полина Дмитриевна. Илья Кузьмич согласно первоначальным показаниям, провожает ее до двери и закладывает за нею дверь. Людмила Ивановна при этом в коридор не выходила (согласно показаниям Лиды Пахомовой и Ильи Кузьмича).
23.57. Гера Полуянов выходит к телефону. Звонит Галине. Занято. Идет на кухню, возвращается, снова занято. Дверь на палку еще не заложена: впрочем, и сам Тихонов теперь этого не отрицает.
0.00. На кухню выходит Лида, как она утверждает, налить чайник. На это у нее уходит около десяти минут: многовато. Гера курит у телефона.
0.10. Гера снова звонит Галине. Галина только что вошла. Просит подождать десять минут.
0.20. Второй звонок Геры Галине. Короткий разговор, о содержании которого мы узнали от самого Полуянова. Галина Карнаухова неохотно подтвердила, что имело место «нечто вроде предложения руки и сердца», довольно неожиданное для нее: впрочем, Гера всегда был «мальчиком с неожиданностями». Повода для такого предложения, по словам Галины, у Полуянова не было: их отношения никогда не заходили дальше совместных походов в кино, а после замужества Галины и вовсе ограничивались телефонными разговорами, довольно, впрочем, частыми. Симпатии своей Гера никогда не скрывал.
0.25. Илья Кузьмич приоткрывает дверь своей комнаты. Гера бросает трубку. По словам Галины, Гера прервал разговор оттого, что получил категорический отказ.
0.30. Гера звонит Андрею. Соседка сообщает, что он только что вышел (подтверждено). Видимо, «только что» — это до 0.10 (иначе Андрей знал бы о его первом звонке). Получается, что Андрей сорвался с места почти мгновенно: не вышел, а выбежал. В его состоянии такая поспешность вполне вероятна. Гера возвращается к себе. Дверь пока не заложена: очевидно, Лида Пахомова еще не легла.
0.40. Андрей Карнаухов входит в квартиру № 24, открыв дверь своим ключом. Илья Кузьмич утверждает, что он видел (именно видел, а не слышал), как тот вошел. Лида Пахомова ничего об этом не говорит. Слышала ли она именно эти шаги? В своих показаниях она говорит о шагах вообще: «До часу ночи взад-назад по коридору ходили». Полина Дмитриевна слышала, видимо, именно шаги Андрея.
0.45. Андрей Карнаухов выходит из комнаты Гиндиной, идет по коридору (Полина Дмитриевна не слышала обратных шагов), выходит из квартиры, Илья Кузьмич, согласно его вторым показаниям, закладывает за ним дверь на палку.
Как видим, между 0.00 и 0.45 сетка времени довольно густая. Преступник, где бы он ни находился, должен был выждать какое-то время, чтобы эта полоса хождений по коридору, выглядываний из дверей, звонков по телефону, хлопанья дверьми сменилась устойчивым затишьем. Действительно, к часу ночи жильцы квартиры, люди в большинстве не такие уж молодые, должны были угомониться. И тут в нашей сетке появляется зияющая дыра.
0.45–1.30. Гера Полуянов и Николай Пахомов спят крепким сном. Людмила Ивановна, по-видимому, тоже успела крепко заснуть: она не слышала, как убийца подошел к ее двери, как в скважину старого проржавевшего замка просунулся «узкий металлический предмет». Видимо, это была женщина с жестким и властным характером и не трусливого десятка: она была не из тех, кто увешивает дверь цепочками и замками. Один-единственный замок на ее двери, и тот не сослужил своей службы.
Итак, она не слышала приближения убийцы. Для ее лет у нее была отличная нервная система: два крупных разговора в течение одного вечера — и такой быстрый сон. Барбамил здесь ни при чем: когда снотворное принимается регулярно, оно перестает быть снотворным. Тем более что в эту ночь Людмила Ивановна приняла несколько меньшую дозу. Ничего не слышали и Илья Кузьмич, и Полина Дмитриевна, сон которых, по их показаниям, отличается чуткостью, не слышала ничего и Лида Пахомова, которая вставала к кроватке сына чуть ли не каждые пятнадцать минут.
1.30 (приблизительно) — глухой удар в стенку Полины Дмитриевны «где-то низко над полом». Где именно — она не может сейчас указать. Что это было — наткнулся ли убийца на тумбочку, или опрокинул ширму — и было ли вообще, неизвестно. Для нас это единственная, и притом сомнительная, привязка к моменту убийства.
А дальше сетка времени еще больше разрежается. Фактически это только два момента:
3.00. Лида Пахомова выходит из своей комнаты, идет по коридору, подходит к входной двери, убеждается, что она на палке. Ей кажется, что за дверью кто-то стоит. Когда действительно стояли за дверью, когда взламывали замок буквально в двух шагах, ей ничего не казалось, а сейчас кажется.
6.00. Проснулся Николай Пахомов. Он всегда просыпается раньше всех: ему на работу. Даже Илья Кузьмич — и тот встает чуть позже, в 6.30 или даже в 6.45. Итак, 6.00 — Николай проснулся и вышел в коридор. Минут через десять на кухню выходит Лида — готовить мужу завтрак. Илья Кузьмич не может припомнить, в котором часу встал. Во всяком случае, когда он вышел из комнаты, ванная была уже свободна: значит, примерно в 6.20. До 7.00 он, по выражению Лиды, «толчется на кухне». В 7.00 уходит на работу Николай, запирается у себя в комнате завтракать Тихонов, ложится досыпать Лида. Палку из двери вынимает Николай, при этом он, как обычно, шумит и ругается. Полина Дмитриевна просыпается от этого шума, но тут же засыпает снова. Илья Кузьмич не выходит до 8.30, когда он по обыкновению спускается за газетой. Гера спит крепким утренним сном: раньше девяти его не добудиться. Людмила Ивановна Гиндина лежит в своей постели мертвая, с лицом, накрытым подушкой. Так она будет лежать до 18.15, когда в квартиру вбежит запыхавшаяся Галина: весь день ее мучили дурные предчувствия, несмотря на заверения мужа, что все обойдется. Галина находит дверь комнаты матери полуоткрытой — «приблизительно на пять сантиметров». Была ли дверь в таком положении в 6.00? Ни Николай, ни Лида не обратили на это внимания. Возможно, дверь приоткрылась от сквозняка, когда уходил Николай. Либо — когда уходил убийца. Не может сказать ничего определенного по этому вопросу и Полина Дмитриевна, вставшая в 8.30 (правда, она в тот конец коридора не заходила). Илья Кузьмич в 8.45 отправился в Сокольники, где пробыл до 21.00: день выдался погожий. На кухню он, уходя, не заглянул, в тот конец коридора — тем более. Гера Полуянов, как обычно, проспал: он вскочил в 9.30 после неоднократных напоминаний матери и, даже не умывшись и не позавтракав, помчался в институт. Вернулся он в 21.30. Полина Дмитриевна уехала в свою школу к 10.00, во сколько вышла из дома — не помнит, что-нибудь около 9.40. Лиде Пахомовой малыш дал проспать до 10.00. Примерно час она находилась в квартире одна, если не считать малыша, то и дело выходила на кухню. Дверь Гиндиной так и не привлекла ее внимания, а что касается тишины, то Людмила Ивановна, по показаниям всех жильцов, иногда целыми днями не выходила из комнаты. В 11.00 Лида отправилась с малышом гулять, вернулась в 14.00, покормила Васеньку, перекусила сама и повела его гулять снова — уже до 16.00. Полина Дмитриевна была уже дома: она вернулась в 15.00 и готовила на кухне обед. Николай Пахомов вошел в квартиру одновременно с Галиной, то есть в 18.15. Жена не ждала его так рано, они начали спорить из-за обеда, и в это время раздался отчаянный крик Галины: «Мамочка, мама! Зачем ты это сделала?» Полина Дмитриевна обедала в одиночестве, она вскочила из-за стола и побежала выяснять, в чем дело.
Таким образом, у убийцы, если он выжидал, находясь в комнате Гиндиной, было достаточно возможностей покинуть квартиру не таясь: скажем, с 7.00 до 8.30, или с 11.00 до 14.00, или с 14.30 до 15.00. Женщина, мывшая по утрам лестницу, в то утро несколько припозднилась и в 7.00 находилась на площадке третьего этажа. Она видела, как уходил Николай, и утверждает, что до половины восьмого, пока дверь квартиры № 24 находилась в пределах ее видимости, из нее никто не выходил. В половине восьмого на работу вышла лифтерша, она заявила, что, по крайней мере, до обеда никого постороннего, спускавшегося по лестнице, не видела, но, конечно, и на те и на другие показания нельзя особенно полагаться. Для нас, конечно, это чисто формальный вопрос: если убийца (при условии, что он — не жилец квартиры № 24 и не имеет там сообщников) смог проникнуть в квартиру после часу ночи, то он вряд ли стал бы дожидаться там утра. Если он жилец квартиры, то проблема выхода для него вообще отпадает, если у него есть сообщники — тоже. Ключевым вопросом остается все та же пресловутая палка.
1. Если Тихонов лжет, стремясь такой ценой оговорить соседей, и дверь не была заложена после ухода Андрея, то, помимо жильцов квартиры, убийцей может быть человек, обладавший ключом от входной двери, хорошо знавший планировку квартиры и, возможно, бывавший в ней. Первым в списке таких лиц остается Андрей Карнаухов. Правда, таксист подтвердил, что он отвез его обратно на Цементный бульвар, и было это около половины второго, но, перехватив такси, Карнаухов мог еще успеть обратно, если слово «успеть» здесь уместно. Психологически это вполне достоверно: отчаяние, стремление одним ударом убрать ненавистное препятствие… но — слишком чисто сработано для охваченного отчаянием человека. Нет, здесь действовал очень хладнокровный и уверенный в своей безнаказанности человек. Другие же лица, «отвечающие перечисленным выше требованиям», нам пока неизвестны.
2. Если же Тихонов говорит правду и дверь после 0.45 была заложена, то убийца или сообщник — один из жильцов квартиры. По логике своего поведения Тихонов — не убийца и не сообщник, в противном случае он буквально и фигурально «оставил бы дверь открытой». Полину Дмитриевну вряд ли можно считать сообщницей, если да, то косвенной, обеспечивающей лишь алиби сына. Ни на чьем другом алиби она не настаивает. Гера Полуянов: при всей сложности его отношений с близкими Людмилы Ивановны у него вряд ли были основания посягать на ее жизнь, напротив, в его борьбе за Галину Гиндина была скорее союзницей. Убийство же ради ограбления — совсем уже психологически недостоверно: сомнительно, чтобы он стал добывать средства для отъезда с Галиной такою ценой. Остаются Николай Пахомов и Лида. Поведение последней вызывает много сомнений: Полуянов утверждает (точнее, из его показаний вытекает), что Лида Пахомова проявляла явное беспокойство за час до убийства. Противоречиво ее утверждение, что шаги, которые она слышала до часу ночи, принадлежали, по ее мнению, Гере: Полуянов показал, что она выглянула из своей комнаты в тот момент, когда он уходил спать. Конечно, это еще требует уточнения. Но плохо мотивируется как ее проверка входной двери через час после убийства, так и то, что она вообще об этом сказала. Кроме того, рассказывая о том, что она делала на следующий день, она утверждала, что зашла с ребенком в поликлинику. Выяснилось, что туда она не обращалась. Теперь всплывает в памяти и то, что Полина Дмитриевна не слышала ночью детского плача. Все это вынуждает нас потребовать от Лиды некоторых уточнений. Можно предположить, что если она и была сообщницей, то сообщницей своего мужа, который вел себя в ту ночь необычно тихо. Сомнительно, чтобы был другой человек, ради которого она решилась бы так рисковать. Что же касается Николая Пахомова, то скажем прямо: среди жильцов квартиры № 24 он был наиболее вероятным «кандидатом». И мотивы, и необходимая сноровка у него, разумеется, были. Все затрудняло алиби, притом полнейшее, которым он располагал. Выяснилось, однако, что с работы своей он ушел необычно рано: около 16.00. Чем это могло быть вызвано? Ни один из жильцов квартиры не смог назвать точно время, когда Николай пришел домой вечером 26 мая. Собственно, никто не мог припомнить, чтобы его видели в этот вечер в коридоре или на кухне. Все это и побудило нас обратиться к Пахомовым с целым рядом вопросов.
Лида Пахомова. Я уже все сказала, что вам еще надо? Коля вернулся в пять часов, выпивши немного, я его накормила и уложила спать. Пьяный он бывает нехороший, шумит, руками машет, но чтоб насчет убить — если вы об этом интересуетесь, — быть не может этого, он у меня как теленок. Да разве бы я ему позволила? Ребенок маленький у нас, как вы подумать могли! Из-за какой-то старой, прости господи, всю жизнь разбить? Да я бы сама его своими руками удушила! Вы думаете, он крепкий? Да я плечом его пихну, он на кровать валится. И не грозился он ее убивать, не верьте вы никому, они вам наговорят. Ну и старуху бог унес, даже после смерти покоя нету. А если вы на Герку думаете, так и он не мог, хоть Николая сажайте. Чужие по квартире ходили, чужие, как вспомню — в дрожь бросает. Их банда целая тут побывала, а вы руками разводите! Ну, видела я, как Герка в своей комнате закрылся, только тогда это у меня не связалось: все думала, он слоняется. А в три часа к дверям ходила — вы не пошли бы разве, если тут же в квартире живых людей убивают? Да ничего я тогда еще не знала, как Галка заголосила, тогда и поняла, а ночью было просто предчувствие. И видела я одного, сказала вам тогда, а вы не поверили. Стоит в коридоре, навстречу мне, лицо платком завязано. Во сколько часов? А вот в три и видела, да боялась прямо сказать. С кем пил мой муж? Откуда я знаю, это вы у него спросите.
Николай Пахомов. Да с сослуживцами получку праздновали. Где? В ресторане. В каком? Ну, в этом, как его, на улице Горького, в «Метрополе». Или в «Арарате», не помню я. Кто был еще? Я же говорю, сослуживцы, фамилий не помню, работа у нас большая, в коридоре встречаешься, а как звать — не знаешь. Да мы туда ненадолго заскочили, пивка выпить — ну и по двести пятьдесят. Сидели час, не больше, или даже полчаса. Не получается? Как то есть не получается? Вышел я с работы в четыре? В четыре. Домой пришел в пять? В пять. Да, не получается. Ну, честно скажу: пили мы прямо на службе. Пронесли через проходную пиво, один там спирту принес, так и получилось. Да нет, не надо выяснять, ребят подведу. Меня? В убийстве? Да бросьте вы, спал я, жена подтвердит.
Мы предложили ему подумать, он думал час, добросовестно думал, и вот что мы услышали.
Николай Пахомов. Просьба у меня одна: жене дословно не передавайте, у нее другая версия, а мне ведь с ней, а не с вами жить. Она у меня золотая, ждала меня, как порядочного, и слова не сказала. В четвертом часу утра я домой пришел. В 3.20 или 3.25, часы у меня неточные. Звонить не стал, все равно дверь на палке, я этого змея Кузьмича знаю. Уж если бы душить, так я бы его в первую очередь прикончил. Ребят этих он, наверно, впустил, больше некому. Каких ребят? Да не знаю я, жена болтает. Ну, в общем, пришел — и стою. Ключ в руках, а не войдешь, как не к себе домой явился. Хотел до утра так простоять, а там прикинуться пьяным — и, глядишь, обойдется. Вообще-то, я трезвый был. К одной знакомой ездил, а она меня не пустила. То ли не одна была, то ли еще что. В общем, стерва. Да разве она подтвердит, рада будет мне свинью подложить. До сих пор злится, что я Лидку, а не ее взял. Я к ней и так, и в окно стучал — не открыла. Хозяева слышали, наверно, у них можно спросить. Ругался я там, должны были слышать. Ну, не пустила — не надо, повернулся я и пошел. Дошел до ворот, сел на скамеечку и сижу. Окурки там мои лежат, наверно, если дворничиха не подмела. Зачем сидел? Да откуда я знаю. Так… думал, ждал. Часов до двенадцати меня там многие видели. Знакомые даже были, прикуривали, поговорить подсаживались. Я всех их вам на отдельном листке перепишу. Но это все до двенадцати, а ночью, конечно, пусто было. До двух часов я не досидел, обидно стало, встал и пошел домой пешим ходом. Такси? Да дороговато, зарплату надо было в целости жене отдать, а то вообще крышка. Ну вот и все. Шел, шел я — и пришел, 3.20 или 3.25 было. Пол-Москвы пешком протопал. Жене прошу все это не передавать, а то уж очень обидно.
Лида Пахомова. Да не хотела я, чтоб соседи узнали, а то бы я ему тут же ночью в коридоре устроила. Наутро он чуть свет убежал, ну, думаю, ничего, вернешься. А вечером вся эта каша заварилась, так с рук ему и сошло. Он до сих пор еще ненаказанный ходит. Вы уж простите меня, что я вам дело путала, только и так и так ничего сказать не могу. Ждала я его, всю ночь не смыкала глаз. Душа болела: лежит, думаю, где-нибудь в канаве в одном нижнем белье. Да бог с ней, с получкой, хоть голый бы домой пришел. А он стоит за дверью, курит, и что обидно ни в одном глазу, трезвенький. Он вам не говорил, где шатался? И мне не сказал. Такая меня обида взяла: ну, хоть убей его тут на площадке. И было бы у вас сразу два расследования. Как догадалась, что он? Да говорю вам, всю ночь не спала, то задремлю, то вскакиваю, как сумасшедшая: звонил? не звонил? Как спать разошлись все жильцы, и я прилегла одетая. Тут в сон меня стало клонить, смотрю — а уже два без пяти. Тут, говорят, Андрей приходил, с покойницей ругался, а я все это проспала. Входи и режь меня, как курицу. Нет, думаю, надо пойти и выдернуть палку. Вдруг явится пьяный, начнет дверь с петель снимать. Пьяному ему все нипочем. И — как провалилась. Часов около трех екнуло у меня сердце, так душно стало, тяжело. Ну, думаю, не пришел еще — плохо дело. Взяла часы, будильник, поставила себе на грудь и лежу, время считаю. А руки-ноги как мертвые. Теперь-то я знаете что думаю? Они мне, наверно, в замочную скважину курнули чего-нибудь такого. Рассказывала мне одна, есть у них такие папироски. Не знаю, как и что, но очень мне тяжело было. Три десять, три пятнадцать… дай, думаю, схожу посмотрю: не лежит ли на лестнице весь заблеванный. С ним это случалось: до дому шаг один, а он падает, с лестницы катится и спит внизу, как мертвец. А то этажи спутает. Господи, и за что на меня крест такой! Хоть в церковь иди и молись: всем весело, всем смешно. Ах, пьяненький, ах, чудачит. А мне его чудачества в десять лет жизни обошлись. Смотрите: похоже, что нет тридцати? Да сорок дашь — не ошибешься. Ну ладно, иду в коридор, темнота. Знай я тогда, что она тут, за дверью, лежит, — нипочем бы не вышла. И ради Коли не вышла бы. Пусть спит, подлец, на лестнице, как бездомная собака. Иду по коридору босиком, по стенке руками шарю… и все мне теперь кажется, что я его видела. Стоит мне навстречу, лицо платком завязано… Хотите — верьте, хотите — нет. Я и сама себе не верю. К двери подхожу к нашей общей, ухо приложила — стоит, паразит, стоит, не валяется, и сигаретку курит. Кто? Николай мой, кто же еще, я его дыхание знаю, он носом присвистывает, когда курит. Тихонечко палку я эту выставила, дверь отомкнула — вошел, не замешкался. Как ждал, что открою. Ну что, говорю? Ничего. И по коридору пошел, не оглядываясь. Вот так мой благоверный домой заявился. Я очень прошу меня простить.
Николай Пахомов. Сколько я там на лестнице простоял? Да пять минут, не больше. Сигареты не успел докурить. Вдруг дверь открывается, и меня за рукав кто-то тащит. Смотрю — Лидка моя. Обрадовался еще: домой наконец попал. Не знал еще, что квартира наша меченая. В 3.30 это было, я так полагаю. А подтвердить? Да никто не может, опять же одна жена. Конечно, вы думаете, что она теперь все подтверждать будет. Но это чистая правда. Да знаю я, что не доказательство. Уж если не везет, так не везет. На улице никто не попался, на лестнице никто. Там парочка на площадке выше этажом шуршала. Бывало, спугнешь ее или закурить попросишь… А в ту ночь мне не до того было. Да все одна и та же девчонка, шустрая такая. То с одним, то с другим кукует. Нет, не из нашего дома, по-моему, она из дома напротив. В общем, здешняя, я ее часто на улице вижу. Вот облюбовала наш четвертый этаж: видно, свой подъезд не нравится или не хочет близко к своему дому подводить. Раза три я ее здесь заставал, и все с разными. Дерзкая такая, за словом в карман не лезет. Но в этот раз, как нарочно, я на ту площадку не заглядывал. Она бы подтвердила, разговорчивая такая девчоночка. А дверь Лида за собой опять задвинула — наверно, мне назло. Я утром матерился, когда открывал.
Проверить показания Пахомова оказалось намного проще, чем он предполагал. Нам не пришлось искать окурки под скамейкой у ворот его «знакомой». Мы попросили его показать на плане Москвы, по каким улицам он «топал», и постовые милиционеры подтвердили его показания: не так уж сложно заметить одинокого прохожего, который бредет через всю Москву и разговаривает сам с собой в три часа ночи. Это новое алиби было, конечно, куда более стопроцентным, чем прежнее.
Нас очень заинтересовало сообщение о «шустрой девчонке», которая, по выражению Пахомова, «куковала» в ту ночь у лестничного окна. Но, видимо, жила она не по соседству, как предполагал Пахомов, и после ночи с 26 на 27 мая в этих местах не появлялась. Возможно, слух об убийстве ее спугнул. Однако один из ее кавалеров оказался «тутошним жителем». Николай Пахомов совершенно случайно встретился с ним в магазине и, проявив завидную настойчивость, привел его к нам. Собственно говоря, мы надеялись найти эту девчонку и сами, полагая, что она только сменила место, но привычкам своим не изменила. Наши сотрудники потревожили немало парочек в этом районе, и рано или поздно мы должны были на нее набрести. Показания «шустрой девчонки» могли помочь нам уточнить некоторые детали. Счастливый случай только ускорил процесс.
«Шустрая девчонка», нимало не смущаясь, призналась, что бывала в этих местах с одним знакомым. Забегала и «попрощаться» (так она выразилась) в первый подъезд дома № 31. Поднималась, как правило, на третий этаж. Николая Пахомова она вспомнила без труда. И с такой же легкостью сообщила, что 26 мая (а точнее, в ночь на 27-е) «прощалась» здесь, на этаже, часов этак до четырех. Дверь квартиры № 24 была ей видна отлично, потому что она стояла спиной к стене. Но сквозь сетку лифта, так что ее снизу разглядеть было невозможно. Разве что огонек сигареты. Но в тот вечер они не курили, потому что сигареты кончились. На другой-то вечер она узнала, что как раз в этом подъезде что-то произошло. И охота здесь «прощаться» у нее пропала. Что же касается площадки второго этажа, то она может гарантировать, что между часом и четырьмя никто из квартир не выходил, и двери там не открывались. После четырех она ручаться не станет, потому что не помнит точно, когда ушла: то ли в четыре, то ли в половине пятого. Но до этого времени в подъезде было совершенно безлюдно. Отчего она с такой уверенностью говорит? Оттого, что люди разные бывают. Некоторые не любят, когда у них на площадке торчат: побаиваются или завидуют. Вот и приходится озираться.
Особых оснований доверять показаниям «шустрой девчонки» у нас не было: надо полагать, она «куковала» возле лестничного окна не для того, чтобы наблюдать за дверью квартиры № 24. И все же она была единственным человеком, который мог видеть «чужого», выходившего из квартиры в ночь с 26 на 27 мая. Мог, но не видел. От этого факта отмахиваться было нельзя.
Но мы вернулись на исходные позиции: из двух оставшихся под подозрением жильцов один (Гера Полуянов) настаивал на том, что совершить преступление мог только «чужой», другой же (Илья Кузьмич) категорически утверждал, что «чужой» проникнуть в квартиру никак не мог: до 0.45 ему просто негде было бы спрятаться и выждать, когда все улягутся, а после 0.45 общая дверь была заложена на стальную палку. Позиция Ильи Кузьмича, несомненно, была более убедительной: Лидия Пахомова и Андрей Карнаухов в своих показаниях сходились на том, что Илья Кузьмич закладывал дверь на палку, хотя ничто не мешало ему «забыть» это сделать. На чем же тогда основывается уверенность Полуянова, что старик «оплошал»?
Гера Полуянов. Ну, видите ли, в моем положении трудно на чем-то настаивать: даже если бы я вспомнил, в котором часу просыпался, проблемы это все равно не решало бы. Не в моем характере, проснувшись среди ночи, бродить по квартире и выяснять, все ли двери надежно заперты. Одно из двух: либо Илья Кузьмич запамятовал, либо… с другой стороны, не он же убил! Если бы он — наверно, на палке на этой так не настаивал бы. Конечно, можно допустить, что он нам с Николаем вредит. Но и себе самому вредит, неужели он этого не понимает?
Мы обратились к Илье Кузьмичу с аналогичным вопросом: на чем основана его уверенность, что дверь была заложена с часу ночи (точнее, с 0.45) до самого утра? Не поднимался ли он ночью по какой-либо надобности?
Ответ был таков.
Тихонов. Возможно, вполне возможно, гарантировать не стану, но как-то выскочило из памяти, забыл. Бывает, столько раз за ночь поднимешься — то свет погасить, то к телефону, то дверь открыть, то дверь закрыть, то, извините, в туалете воду слить — голова кругом. Я как швейцар, вот только чаевых мне не платят. Возможно, встал по нужде, увидел, что дверь в порядке, и успокоился. Что? В темноте не видно? Так, может быть, и свет у них горел, они же все люди занятые. Встал по малой нужде — не записывать же такую вещь на бумажке, — вышел в коридор, свет горит, дверь на запоре, вот и запомнилось. Не знаю, что вы голову ломаете: я дверь закладывал, а там уж дело не мое. Либо Герка дружка своего выпустил, либо Николай — такого же, как он, забулдыгу и пьяницу. Ко мне если и приходят раз в год — все люди приличные, по ночам в коридоре не шастают. Кто? Ну, родственники, знакомые, из других городов приезжают. Ночевать? А, вот вы к чему клоните. Доложил, наверно, кто-нибудь, что постояльцев на ночь принимаю. Петляют, выкручиваются, теперь от них любого наговора жди. Я же один, а у них алиби. Как змея, которой на хвост наступили: сапог будет грызть, штанину кусать, пока вся ядом не изойдет. Нет, уважаемые, Илья Кузьмич к себе с улицы не пустит, не такой Илья Кузьмич человек. Жизнь меня научила быть начеку. И совесть у меня спокойна: хоть среди ночи подымите, скажу — нет, не причастен.
Гипотеза «квартиранта» до сих пор нами не рассматривалась — по причине, о которой будет сказано ниже. Вкратце эта гипотеза (возникшая независимо от оговорки Тихонова) сводится к следующему: по своему социальному и материальному положению Илья Кузьмич принадлежит к тем людям, которые временами подрабатывают на постояльцах. Гостиниц в Москве пока еще не хватает, сезон уже начался, и у любого вокзала при известном старании можно найти доброго старика или старушку, предлагающих ночлег. Эти люди эксплуатируют общественную потребность, и, пока есть потребность, клиентов они будут себе находить. Правда, Илья Кузьмич разборчив, первого встречного с улицы он к себе не пустит. Но мы не просили его об этом говорить: он сам счел нужным заметить. Почему бы не предположить, что он отыскал себе квартиранта и на эту роковую для Людмилы Ивановны ночь? Да, он разборчив, он ищет себе постояльца интеллигентного, положительного: к подобным людям, как мы могли уже убедиться на случае с Андреем Карнауховым, Тихонов питает слабость. Почему? Положительному человеку можно довериться, с ним есть о чем поговорить на равных, если он не очень расположен спать. Коммунальная квартира — не такая уж помеха: расположение комнат удобное, напротив входной двери, насчет соседей клиента можно просто предупредить. Мол, люди они скандальные, непорядочные, не нам чета, показываться им на глаза не следует. А квартирант мог оказаться мелким квартирным жуликом, искавшим мелкой поживы. Ведь люди, предлагающие ночлег, как правило, не обладают большим состоянием. Преступная логика проста: есть спрос, и спрос этот исходит от одиноких немолодых людей, с которыми нетрудно справиться, — пусть будет и предложение. Дорожная одежда, желательно с легким налетом провинциальности, командировочный чемоданчик, растерянный ищущий вид, просящие интонации — и место у дверей неприступной гостиницы или в зале ожидания вокзала. Илья Кузьмич разговорчив, он жаждет общения с людьми бывалыми и равными, в своей квартире он не находит ровни. По-своему он добр, положительный интеллигентный человек типа Андрея Карнаухова может рассчитывать на его сочувствие, а если за сочувствие еще и платят — чего же лучше? В своей неискушенности Илья Кузьмич и не предполагает, что за порядочной внешностью может скрываться человек не очень положительный, а то и попросту негодяй. Илья Кузьмич не поверит, если мы скажем, что Карнаухов, спасая себя, походя оклеветал его самого. Для него Андрей — человек надежный, проверенный. Таким же надежным мог показаться ему и его случайный квартирант. Вот почему Илья Кузьмич вел себя не как сообщник: он и не был сообщником. Он убежден был (а может быть, убежден и до сих пор), что квартирант его абсолютно непричастен, что все это случайное совпадение, что преступление дело рук или Кольки Пахомова, или Герки. Это ненадежные, непорядочные, непроверенные люди. Он ищет себе проверенных — и вот нашел. Нашел убийцу. Точнее, проходимца, который пошел на убийство, сочтя, что так будет вернее.
Все это, повторяем, одна из рабочих гипотез. Но у гипотез есть своя скрытая и очень опасная для нашего дела логика: приняв одну из них за рабочую, мы совершаем некоторое насилие над собой и заставляем себя забыть о ее первоначальной ущербности (поскольку всякая гипотеза ущербна — иначе это уже не гипотеза), в дальнейшем же след этого насилия в сознании может полностью стереться.
Таким насилием над собой в данном случае является необходимость принять на веру, что убийца Людмилы Ивановны был человеком случайным. Для детективного романа, где, по идее, должна торжествовать закономерность, случайный убийца, появившийся где-то на последней странице, — признак умственного бессилия автора, что у читателя вызывает совершенно справедливое разочарование. В реальной же практике мы сталкиваемся с таким оборотом расследования довольно часто. И все же внутренним сопротивлением гипотезе о мелком квартирном жулике, решившемся на убийство, нельзя пренебрегать.
Попробуем разобраться, что нам мешало пойти на поводу у гипотезы о случайном постояльце.
1. Классическое, ставшее уже общепризнанным представление о крайней редкости перехода преступника из одной категории в другую — даже ввиду внезапно открывшихся широких возможностей, осуществление которых, однако, лежит за пределами «компетенции» данного типа. Мелкий квартирный жулик должен действовать как мелкий квартирный жулик (а постоялец Ильи Кузьмича, если он был случайным, не мог быть ничем иным, как только мелким квартирным жуликом): преступная психика крайне консервативна, и вся ее приспособляемость, нередко поразительная, лежит в пределах заданного стереотипа. Отсюда — «почерк» как надежная, хотя и не абсолютная, улика.
2. В том случае, если «постоялец» действовал в рамках своего стереотипа (то есть пошел на привычную мелкую квартирную кражу, которая лишь случайно привела к убийству), недостоверным кажется изменение его планов в такой неясной ситуации. Поставив целью обокрасть хозяина, «постоялец» имеет возможность заранее изучить обстановку, дверные запоры, характер своей жертвы и лишний раз удостовериться, что «хозяин» не побежит в милицию с жалобой фактически на самого себя. Переключившись же на Гиндину, преступник обрекал себя на действия вслепую и без всяких гарантий. Словесного побуждения, которое мог сделать разговорчивый старик, для такого риска, маловато. Специфика преступной профессии «постояльца» именно в том и состоит, что он имеет возможность предварительно прикинуть на глазок благосостояние своей жертвы.
Итак, случайность фигуры «квартиранта» вызывала у нас сомнение. И это мешало нам до сих пор рассматривать гипотезу «квартиранта» всерьез, хотя эта гипотеза была хороша уже тем, что начисто снимала проблему пресловутой стальной палки: приняв у себя постояльца, Илья Кузьмич должен был (именно должен был) заложить дверь на палку и доказать тем самым, что все в квартире свои и никаких посторонних не ожидается. Оговорка Ильи Кузьмича заставила нас заняться этой гипотезой вплотную.
В конце концов, фигура постояльца могла и не быть случайной: но в этом случае не Тихонов искал постояльца, а постоялец его искал.
Мы не стали торопить события: Илья Кузьмич сам натолкнул нас на мысль о «квартиранте» (боясь, очевидно, что его вынудят в этом признаться) и теперь, по логике характера, если ему было что рассказать, должен был сам к нам прийти.
Так оно и случилось. Буквально на следующий день Илья Кузьмич изъявил желание внести в свои показания добровольные коррективы.
Илья Кузьмич Тихонов. Мне скоро семьдесят. Судите, казните — ничего не боюсь. Виновен — значит, виновен. Да, был у меня приезжий, пожалел я человека, приютил. Не говорил — потому что полагал, что к делу это касательства не имеет. Гуляючи, мимо метро проходил, вижу — человек на меня глядит, и лицо у него беспокойное. Саквояжик в руках, да… и одет по-приезжему. Вам, наверно, все уши прожужжали, что Тихонов такими делами промышляет, только я решительно подобную клевету отметаю и прошу занести это в протокол. Бывает, что кого и пущу, и не вижу в этом ничего противозаконного. Не на улице же ночевать человеку! Ну, спросил он меня, как проехать к ближайшей гостинице. Объяснил я ему, а потом говорю: «Номер вряд ли найдете, лучше частным порядком устроиться. Знакомых-то нету в Москве?» — «Нету, — отвечает, — если вас не считать». Постояли, посмеялись. Предложил я ему. «Что ж, — говорит, — это выход. До утра перебьюсь, а там будет видно». Про клопов еще спросил. Знал бы я, какой оборот дело примет, разве стал бы связываться? В квартиру вошли не таясь, Людмилу Ивановну в коридоре видели. Ну да, конечно, теперь она для вас не авторитет. Ничего он про нее не расспрашивал и вообще соседями не интересовался. Лег под одеяло, накрылся с головой и заснул как убитый. Ну а я — сами знаете, какой у стариков сон. То один глаз задергается, то другой застучит, то в боку заколет, то спину заломит, так всю ночь, бывает, и кувыркаешься. Нет, во сне он не храпел, человек деликатный. Тихо спал, как сурок, и на том же боку проснулся. Так бандиты не спят, вы уж меня извините. В половине восьмого я его разбудил, он еще побрился электрической бритвой, в ванную сходил, все как полагается. Попрощался со мной за руку и уехал в министерство по делам, больше мы и не виделись. Внешность — пожалуйста, хоть до нижнего белья могу описать. Он как пришел — сразу спать попросился. Я ему чистые простыни постелил, и он как лег, так до утра и не просыпался. Не просыпался, говорю я вам, и сколько вы меня ни допрашивайте — не просыпался, и все. Я, слава богу, из ума не выжил, понимаю, к чему дело идет. Ну как же: все у меня записано. Паспорт он мне свой показал, я оттуда данные переписал у него на глазах, он еще похвалил меня за осторожность. «Правильно, — говорит, — Илья Кузьмич, людям незнакомым доверять особо не следует». Вы его в два счета разыскать можете. Зовут Сергей Сергеич, фамилия Пастухов, год рождения 1915-й, прописан постоянно в городе Кургане. И не путайте вы в это дело приличного человека. Я вам говорю: либо Герка, либо Колька, а уж мою-то непричастность Сергей Сергеич докажет. Не хотел я беспокоить человека, да, видно, придется. Что я, уголовников не видал? Насмотрелся, слава богу. И глаза у них волчьи, и повадки звериные…
Гражданин Пастухов Сергей Сергеевич (1915 года рождения) никаким образом не мог подтвердить алиби Ильи Кузьмича, поскольку лиц с такими данными в городе Кургане не значилось. Заодно выяснилось, что паспорт этой серии и с этим номером нигде и никогда никакому Пастухову не выдавался.
Надо отдать должное Илье Кузьмичу: память у него оказалась изрядная. При его живейшем участии наши специалисты составили убедительный фотопортрет «постояльца». Пожилой худощавый мужчина лет пятидесяти пяти, рост средний, глаза светло-серые, с набрякшими веками, волосы коротко подстриженные, густые, «тоже серые», с мелкой частой сединой. Лицо продолговатое, даже длинное, «интеллигентное», бледное. Длиннозуб, горбонос, усов и бороды не имеет. Брови густые, взгляд быстрый, острый, голос тихий, пришепетывает. Серый костюм, довольно дорогой, плащ цвета беж, коричневая летняя шляпа. Чемоданчик на «молнии», под змеиную кожу. Ботинки черные, слегка потрепанные. Короче, вполне приличный человек.
Тихонов. Ну, что я вам буду теперь говорить? Бесполезно это все, как я понимаю. Я вам одно, а вы свою линию клоните. Вот и выходит, будто я вас в заблуждение ввожу. Не знаю, не верю, не укладывается в голове, хоть убейте. Однофамильца надо искать. Пастухов — фамилия частая. Не мог он такого ничего совершить. Да вы сами посудите: придуши он меня — и три дня не хватились бы. А взять что с меня, что с Людмилы Ивановны — нечего. Разговорчивый такой, начитанный. О политике много знает. Мы в метро с ним беседовали.
Переубедить Илью Кузьмича было трудно, да мы такой цели и не преследовали. Довольно и того, что мы выяснили: в час преступления в квартире находился посторонний человек, да еще с фальшивым паспортом. И этого человека никто, кроме Тихонова, не видел. Вопрос о том, видела ли «постояльца» Людмила Ивановна, мы оставили пока без рассмотрения. Возможно, Тихонов убежденно лжесвидетельствовал: ему хотелось лишний раз показать, что «Пастухов» не имеет никакого отношения к Гиндиной. В своей последней беседе с дочерью Людмила Ивановна ни словом не обмолвилась о присутствии в квартире постороннего. Впрочем, это еще не доказывает, что Илья Кузьмич лжет: если Гиндина знала о том, что Тихонов берет постояльцев, этот факт мог показаться ей заурядным Если же не знала — тем более не могла предполагать, что незнакомец, встреченный ею в коридоре, останется у Тихонова до позднего вечера. (Пахомовы о постояльцах определенно не знали.) Илья Кузьмич откровенно рассчитывал на то, что ни подтверждения, ни опровержения мы от Людмилы Ивановны уже не получим. Но независимо от этого у нас были основания предполагать, что «постоялец» имеет самое непосредственное отношение к преступлению. Нам представлялось маловероятным, чтобы в одной квартире в час убийства оказалось сразу два преступника: один — убийца, другой — случайный постоялец, назвавшийся чужим именем. Гипотеза «однофамильца» имела смысл только для Ильи Кузьмича: ему теперь, собственно, ничего и не оставалось, как настаивать на невиновности своего постояльца.
Но возникал вопрос: не слишком ли много знал «Пастухов»? Он должен был знать, во-первых, о том, что Илья Кузьмич берет постояльцев, во-вторых — о привычке Людмилы Ивановны принимать на ночь снотворное, и в-третьих — он должен был отлично ориентироваться в квартире № 24. Что касается тайника, то при известной сноровке его было нетрудно найти: устраивая свой тайник, особой изобретательности Людмила Ивановна не проявила.
Положим, о постояльцах Ильи Кузьмича «Пастухов» мог узнать от жильцов дома № 31: по словам Ильи Кузьмича, вся Малая Суджинская только и судачила, что о его постояльцах. Возможно, это и побудило Тихонова пойти на признание: разницу между прямым и косвенным соучастием он хоть и смутно, но все же улавливал. Соседям по квартире, правда, гипотеза «квартиранта» не приходила и в голову. Супруги Карнауховы также, по-видимому, не догадывались об этом маленьком «бизнесе» Тихонова. Но часто случается, что наши тайные тайны известны всему свету, кроме самых близких людей, от которых мы особенно ревниво эти тайны оберегаем.
Снотворное Людмиле Ивановне доставала и приносила дочь. При этом она пользовалась скромными услугами ближайшей аптеки (Малая Суджинская, 27), где у нее была знакомая в отделе готовых форм. Последнюю неделю Людмила Ивановна хворала, но до этого частенько обращалась за снотворным и сама. Лже-Пастухов мог проследить за дочерью либо за самой Гиндиной: секрета они из этого не делали.
Что же касается знания планировки квартиры, то, если лже-Пастухов здесь ни разу не появлялся (а это нам еще предстояло выяснить), он мог получить необходимую информацию от многих людей, которые здесь жили либо бывали. В том числе и от Николая Семеновича Гиндина: с 1946 года планировка квартиры совершенно не изменилась.
Естественно, первым нашим предположением было то, что «постоялец» и Гиндин — это одно и то же лицо. Илья Кузьмич никогда не встречался с Гиндиным: он въехал в квартиру № 24 через семь лет после того, как Гиндин пропал. Вообще, из старых соседей Гиндина в квартире никого не осталось: они разъехались по разным районам Москвы. Пахомовы и Полуяновы также не знали Гиндина в лицо и, скорее всего, не видели и его фотографий. Илья Кузьмич мог, конечно, знать Гиндина по фотографиям почти тридцатилетней давности, но за такой долгий срок люди порой меняются до неузнаваемости.
Портрет «постояльца», составленный по описанию Ильи Кузьмича, был показан всем остальным жильцам квартиры № 24 (за исключением трехлетнего Васи Пахомова), и они единодушно заявили, что никогда этого человека не видели. Галина и Андрей Карнауховы дали аналогичный ответ, однако у нас создалось впечатление, что Галине это стоило некоторого усилия. Мы попросили ее присмотреться получше, поскольку не исключено, что этот человек причастен к убийству, и категорическое «нет!» Галины нас совершенно не убедило. Когда же мы спросили, не сохранилась ли у нее хоть одна фотография отца, Галина растерянно ответила, что у нее фотографий отца не было никогда, но вот у матери в старых бумагах они, возможно, остались. Мы в этом не сомневались нисколько, равно как и в том, что о сходстве пожилого «постояльца» с молодым Гиндиным Галина сразу подумала. Андрей Карнаухов был очень обеспокоен таким поворотом дела, и, когда мы предъявили обе фотографии, в резкой форме сказал, что разницы в тридцать лет между этими лицами он не видит. Действительно, «постоялец» выглядел скорее на сорок, чем на шестьдесят, но это, возможно, было связано с особенностями видения Ильи Кузьмича Тихонова, который, как и многие пожилые люди, не замечал на лицах своих сверстников признаков старости.
Нам было понятно беспокойство Андрея Карнаухова: появление нового родственника в таком невыгодном контексте, да еще в столь ответственный период его жизни, было ему не с руки. Гораздо больше нас занимала реакция Галины, которая решительно, но без всяких мотиваций отвергала предположение о причастности отца к гибели ее матери. «Но это же нелепо! Нелепо, поймите! Ради чего? Я не пытаюсь его защищать, но должен же быть какой-то смысл!»
О смысле, разумеется, можно было только догадываться. Общесоюзный розыск не дал пока никаких результатов — в том отношении, что нынешнее местопребывание гражданина Гиндина Н. С. нам было по-прежнему неизвестно. В течение многих лет Гиндину удавалось скрываться, но, может быть, его беспокоили какие-нибудь документы, бумаги, оставшиеся у жены?
Галина Карнаухова. Не думаю, чтоб его волновали какие-то там бумаги. Он где-то хорошо окопался и чувствует себя в полной безопасности. Понял, что жизнь на исходе, и начал подумывать о душе. Я понимаю ваше возмущение: раньше я говорила вам, что не имею ни малейшего понятия, жив он или умер. Так вот он жив. Я говорила неправду. Андрей так хотел, да и самой мне казалось, что это несущественно. Года три назад, а может, четыре, в общем, после того уже, как я за Андрея вышла, приезжал наш папочка в Москву. Маму на улице встретил, она его еле узнала. Опустился, обрюзг, совсем развалина. Денег обещал прислать. Не знаю, не знаю… Мне такие деньги, во всяком случае, не нужны. Не знаю, есть на них кровь или нет, но грязи на них достаточно. Мама так не считала, она говорила, что мне эти деньги пригодятся… для достижения независимости. Но не дождалась… Теперь вы понимаете, почему я с такой уверенностью говорю: отец здесь ни при чем, не стал бы он выжидать столько лет. Я тогда в милицию пойти хотела, но мама мне не позволила. Очень она надеялась, что отец станет помогать, присылать понемногу. И ни с кем мы об этом не разговаривали: хвастаться-то особенно нечем. По телефону? Да нет, что вы! Мама по телефону вообще очень осторожно говорила. Нет, не получила она от него ни копейки. Получила бы — я бы первая об этом узнала. Что я ей советовала сделать с этими деньгами? В банк отнести, на детдом пожертвовать. Или просто выкинуть в урну. Почтовый ящик? Может быть, она для этого его завела… Да, да, вы правы, как раз после этого случая.
И как мне это в голову не пришло: перевод-то он послать не может, боится. В последний вечер? Постойте, кажется, был об этом разговор, но какой-то необязательный, обычный. Две-три фразы: «А если деньги отец пришлет?» Мама это часто повторяла. Ну я отчитала ее, как обычно, и больше мы на эту тему не разговаривали. Подслушал кто-нибудь? Да нет, не то. Мы о других деньгах с ней повздорили: я двадцать рублей ей подбросила, а она их хотела вернуть. «Андрей заругает». Мама его скупым ужасно считала, не знаю уж почему: Андрей в этом смысле очень простой. Нет, нет, не получала она от него денег. С Герой Полуяновым, правда, у меня был как-то шуточный разговор: наследства, говорю, ожидаем. Но он значения этой шутке не придал: по-моему, даже и не понял. Нет, деньги здесь не причина.
Полуянов. Ну, как же, помню этот разговор. Числа 19-го было, а может, 20-го. В общем, не больше недели. И опять же в первом часу ночи. Тут сложность какая? Мне надо, чтобы мать улеглась, а Галине — чтоб ее супруг заснул, их обоих эти наши разговоры нервируют. Ну и Людмиле Ивановне тоже необязательно было слушать, о чем мы с Галкой говорим. В тот раз Галина все надо мной посмеивалась: «Вот перееду к маме с Аленкой, и будем десять раз на дню в коридоре встречаться. Заспанную меня увидишь, в халате драном, в тапочках, при бигудях. И сразу интерес ко мне потеряешь. А то по телефону тебе кажется, что ты все с молодой говоришь». Я ее спрашиваю: «А жить на что будете?» И тут она мне отвечает: «Да мы наследства ждем». — «Большое хоть наследство?» — «До старости хватит». — «Ну, поздравляю, — это я ей говорю. — А кто скончался-то, царство ему небесное?» И тут, слышу, Галка что-то смешалась. «Это я так, шучу». — «Отец, что ли?» — спрашиваю. «Да нет, — говорит, — он нас всех переживет». Я из чего сделал вывод, что Николай Семенович мог объявиться? Из этого самого разговора. Намекнуть-то я вам намекнул, но вы не заинтересовались. Ну, думаю, и ладно: рано или поздно всплывет. Да нет, во время этого разговора никого в коридоре не было. Илья Кузьмич, конечно, под дверью стоял: он моей личной жизнью интересуется. Ну и выжидал, когда я уйду, чтобы дверь заложить на свою палку. Все же вы поимейте в виду, что он далеко не регулярно ее закладывает: бывает, обозлится на меня, демонстративно свет в прихожей, погасит и закрывается в своей комнате. «Я вам не нанимался, сами за собой последите». Несокрушимый старик. Свои привычки он в ранг закона возвел, все окружающие ему, наверно, ненормальными кажутся, отклоненцами. А что, наследство все-таки было? Да, да, я понимаю: вопросы не я задаю. Просто очень уж любопытно. И никому я содержания этого разговора не передавал, даже матери. Галка до сих пор твердит: «Деньги здесь не причина».
«Деньги здесь не причина» — это шло, конечно, от Андрея Карнаухова. Это он убеждал жену, что никаких денег не было и что заикаться о них не следует. Но, с другой стороны, если Людмила Ивановна и получила от Гиндина «наследство», то Гиндин приходил, конечно, не за деньгами. Возможно, деньги, о которых идет речь, были чем-то вроде аванса, а для того, чтобы получить остальные, Людмила Ивановна должна была предпринять какой-то шаг, но не предприняла, промедлила и поплатилась за это жизнью. В этом случае Гиндин, забрав то, за чем он пришел, мог захватить с собой и «аванс» — из жадности, из осторожности, это уже не столь важно.
Специалисты, однако, отказались отождествить «постояльца» с молодым Гиндиным: форма черепа и склад ушей на портрете лже-Пастухова показались им «неочевидными». Помощь Ильи Кузьмича нам также ничего не дала: рассматривая довоенные снимки Гиндина (среди фотографий других людей), он то находил что-то общее, то отрицал всякое сходство. По-видимому, Тихонов исчерпал себя в первом портрете: дальнейшие эксперименты его только запутывали. Кстати, когда мы выложили перед ним два любительских снимка Гиндина, найденные нами в бумагах Людмилы Ивановны, Илья Кузьмич вознегодовал: он отлично помнил эти фотографии, Людмила Ивановна ему их показывала, и наши попытки напрямую сопоставить Гиндина с «постояльцем» натолкнулись на его ожесточенное сопротивление. «Не совсем уж я выжил из ума, я бы этого подлеца узнал из тысячи». Увы, Илья Кузьмич переоценивал свои возможности: он не сумел опознать Гиндина даже на тех групповых снимках, где сходство было неоспоримым. Так что вопрос о тождестве Гиндина и лже-Пастухова оставался открытым.
Открытым оставался и вопрос о времени отбытия лже-Пастухова. В частности, Илья Кузьмич Тихонов утверждал, что «постоялец» покинул квартиру в восемь часов утра. Такое хладнокровие представлялось нам невероятным: если лже-Пастухов совершил преступление, сомнительно, чтобы он стал шесть часов выжидать буквально в нескольких шагах от своей жертвы с единственной целью — не возбудить подозрений у своего хозяина. Убийца должен был воспользоваться любым предлогом, чтобы как можно скорее покинуть квартиру: у него не было никаких гарантий, что о его преступлении не станет известно до утра. Конечно, показания Тихонова были, мягко говоря, необъективны, но он уже дважды отказывался от своих слов, что же заставляло его упорствовать на этой ненужной лжи? К концепции «порядочного человека» эта новая ложь ничего не добавляла, непричастности «постояльца» не доказывала и в то же время была чревата весьма болезненными для Ильи Кузьмича разоблачениями. Цепляясь за эту ложь (если это была ложь), Тихонов переходил черту, разделяющую прямое и косвенное соучастие, и никаких оправданий для него уже не было.
Поэтому, ознакомив Тихонова с данными соображениями, мы попросили Илью Кузьмича, хорошенько взвесив все обстоятельства, уточнить, в котором часу «постоялец» покинул квартиру. И получили от него новое «добровольное» уточнение.
Тихонов. Ну что я вам буду теперь говорить? Доверился человеку, до последней минуты тянул: все надеялся, что выяснится. Ну что же: хороший урок получил. Поделом мне, старому дураку. Пишите: среди ночи ушел от меня Пастухов… или как его там, вам виднее. Среди ночи проснулся я, а он уже одетый сидит, на меня смотрит. Чемодан, говорит, в камере хранения оставил, в автомате, а номер записывать не стал, на память свою понадеялся. Ну и выскочило из головы: с кем не бывает? А чемодан, говорит, ценный, бумаги там, образцы, в министерстве голову снимут. И так он меня убедил, так разжалобил, что я чуть с ним вместе на вокзал не собрался. «Вернусь, — говорит, — досыпать и чемодан с собой притащу, хоть и здорово тяжелый». И как это меня не стукнуло, что саквояжик свой он у меня не оставил, с собой забрал. На другой-то день, как покойницу нашли, заскребло у меня в душе, заныло. Ох, думаю, нескладно все вышло, нехорошо. Но ведь паспорт он мне свой предъявил, вот что меня убедило! Номер, серию дал записать, проходимец такой. Вот и верь после этого людям! Сейчас я вам поточнее скажу, в котором часу я его выпроводил: в половине третьего, вот так примерно. Своими, можно сказать, руками освободил. А ведь если по совести, не проснись я тогда — и было бы у вас сейчас два покойника. Он ведь так на меня смотрел… прикидывал, судьбу мою решал, как я теперь понимаю.
Новое уточнение Ильи Кузьмича вступило в резкое противоречие с показаниями «шустрой девчонки», о существовании которой Илья Кузьмич, естественно, не подозревал. И мы, забыв на время о «постояльце», вплотную занялись личными делами самого Ильи Кузьмича.
Последние десять дней в Москве стояла на редкость ясная погода, и Тихонов ежедневно с утра отправлялся в Сокольники, а возвращался домой примерно часам к восьми-девяти вечера. Мы попросили Илью Кузьмича рассказать, что именно он делал в Сокольниках на следующий день после событий (то есть 27 мая) и в каком районе парка находился.
Илья Кузьмич. Значит, 27-го. Встал примерно в 6.20, это я вам уже говорил. До 7.00 готовил себе завтрак на кухне. В 7.00 сел завтракать у себя в комнате, в 8.30 спустился за газетами, в 8.45 выехал в Сокольники. Прибыл в 10.00: ехал не спеша. С 10.00 до 10.30 стоял в очереди на выставку: вот у меня билет, завалялся в кармане. С 10.30 до 12.00 ходил по выставке, беседовал с экскурсоводом, он должен бы меня запомнить, я задал ему несколько вопросов и указал на неточности, он принялся со мной спорить. В 12.00 пошел обедать в кафе по правую сторону, если идти от входа. Минут двадцать стоял в очереди, обедал не торопясь. Освободился в 13.30, пошел в глубину парка, там есть такая крытая аллея. Знакомые у меня завелись, такие же старички пенсионеры, поговорили о том, о сем; в 16.00 я дальше пошел, в одном месте там в шахматы играют. Нашел я шахматистов знакомых, посидел, посмотрел, сам сыграл. Всех этих людей я могу вам подыскать, пока погода стоит хорошая. Они там целые дни просиживают. Куда же нам, старикам, еще деваться? На пляж мы не годимся, нечего людям показать. Вот и греемся в Сокольниках, впитываем солнышко, воздухом дышим. Все это дело окончилось для меня в 18.30, сходил попить кефиру. «Вечерочку» поискал, не нашел. Тут самое святое время началось: и не печет, и не холодно. Двигаться-то надо, соли свои разгонять надо? Пошел потихоньку уже в самую глубину, однако на часы посматривал, чтобы не особенно далеко забираться: обратно трудно будет идти. И было это в 19.10. Не больше чем часок походил: ноги устали. Пока до дома ехал — вот вам и 21.00.
Все было названо точно: и кафе, и киоски, и очереди, и знакомые пенсионеры. Все — за исключением пустяка: не в 10.30 Илья Кузьмич пришел на выставку, а около 12.00. Не учел Илья Кузьмич, что по серии билета легко определить время выдачи. И был он на выставке всего четверть часа, причем действительно успел поспорить с экскурсоводом: тот запомнил назойливого посетителя. А в 11.00 Илья Кузьмич был у племянника, живущего в районе Сокольников, и после небольшого колебания племянник выложил нам новенькую сберкнижку Ильи Кузьмича со свежим вкладом — 1500 рублей. Это и было злополучное «наследство» Николая Семеновича Гиндина, за которое его жена заплатила жизнью.
А постоялец? А никакого постояльца не было.
Подслушав телефонный разговор молодых людей о «наследстве» и опасаясь, что оно уплывет к Карнауховым, Илья Кузьмич решил вмешаться в события. Он полагал, что в случае пропажи этой суммы, о размерах которой он мог только догадываться, ни Людмила Ивановна, ни Галина Карнаухова по вполне понятным причинам не станут поднимать лишнего шума. Самым простым способом было выкрасть «наследство» из почтового ящика, который, как сообразил Илья Кузьмич, был для этой цели к двери прибит. Но Людмила Ивановна, располагавшая более точной информацией, сумела его опередить. А вслед за тем она занемогла, перестала выходить из комнаты, и совершить задуманное в ее отсутствие Илья Кузьмич не мог. Илья Кузьмич знал, что Гиндина принимает снотворное, причем достаточно сильное, а замок в ее двери один, да и тот ненадежный. Всему мешала стальная трость, на которую он сам закладывал общую входную дверь. Илья Кузьмич опасался, что, не заложи он дверь на палку в ночь похищения, соседи (и прежде всего Людмила Ивановна) непременно заметят это и истолкуют соответствующим образом. Поэтому он избрал другой путь: дверь была заложена, как обычно, и, следовательно, подозрение на него падать не может, а похищение совершили Колька либо Герка, которые, естественно, ни за что не сознаются.
События, однако, обернулись для него неожиданно. Людмила Ивановна погибла, и избежать огласки было невозможно. Тогда-то он и решил направить следствие по линии «постояльца», которого будут искать, как до сих пор ищут Гиндина. Однако напрямую указывать, что преступление совершил Гиндин, Илья Кузьмич не стал; во-первых, не было гарантии, что поиски Гиндина не увенчаются успехом, а во-вторых, может всплыть на поверхность то обстоятельство, что Людмила Ивановна показывала ему фотографии беглого мужа, и, следовательно, Илья Кузьмич мог его узнать.
До определенного момента Илья Кузьмич решил не выдвигать фигуру «постояльца»: поспешное признание могло показаться неубедительным. И до последней минуты Илья Кузьмич решил настаивать на непричастности «постояльца» — пока наконец ему не докажут, что это нелепо. И это будет лучшим доказательством его собственной непричастности.
Что же касается Андрея Карнаухова, то сваливать на него вину Тихонов счел неразумным. Более того, логичнее было выгораживать Карнаухова даже ценой лжесвидетельства — с тем чтобы последующие «признания» выглядели естественно.
Может создаться впечатление, что Тихонову удалось в течение долгого времени держать нас в заблуждении. Это не так Мы подробно и добросовестно изложили ход рассуждений, само же расследование заняло немного времени. Единственным затруднением, с которым мы встретились в этом деле, было то, что супруги Карнауховы сочли возможным умолчать о возможной пропаже денег. Это внесло неясность в самый важный вопрос — вопрос о мотиве преступления.
Что же касается самого Н. С. Гиндина, то незадолго до передачи дела Тихонова в суд мы получили сообщение о том, что гражданин Гиндин под чужим именем умер в одной из столичных больниц от злокачественной опухоли мозга.
«Уточненная подлость»
— Но совершенно роскошное дело, — сказал Боря Холмский, — я раскрыл вот здесь, в этой комнате, буквально не поднимаясь из кресла. Правда, это было не совсем официальное дело, я бы назвал его, с известной долей условности, делом об уточненной подлости.
— Как, как? — переспросил я, усевшись в кресле напротив и приготовившись уже слушать с блокнотом на коленях и с карандашом на весу (ибо подобная словоохотливость нападала на Б. П. Холмского не часто). — Как ты сказал? «Уточненная подлость»?
— Утонченная, разумеется, — сказал Боря Холмский. — Есть у меня приятель один, он эти два слова еще в детстве смешал, в беглом чтении, видимо, с тех пор так и ходит. Ты скажи, беллетрист, можно ли по такой оговорке судить о человеке в целом?
Я прикинулся глубокомысленным, лоб наморщил, почесал карандашиком нос и ответил, что можно.
— Так суди, — приказал мне Б.П., — а я пока закурю.
— Ну, культурность понаслышке, — промямлил я, — неширокий круг знакомств, самомнение и, наверно, упрямство.
— Плотно мыслишь, — одобрил Б.П., — плотно, но тривиально. Круг знакомств как раз может быть слишком широк. Ладно, слушай. И пиши все дословно, если успеваешь, конечно. Повторяться не буду.
Я пока успевал.
— В один прекрасный день, — начал Боря и черкнул по воздуху сигаретой, показав мне тем самым, что день действительно был прекрасный, а не так, для словца, — приходит ко мне мой приятель, тот самый, «уточненный», назовем его Жорой, имя приблизительное, конечно, чтобы ты не смотрел на него во все глаза при встрече: знакомства с ним после этого случая я не порвал. Ну, знакомство не слишком тесное, тут уж так получилось, что он меня большим другом своим считает, а я его — нет. Домами мы, правда, знакомы, он с женой ко мне приходил: очень милая женщина, хрупкая, несколько изнуренная, но с большим запасом жизнерадостности. Парень он неплохой, этот якобы Жора, ротозей только ужасный и общителен не в меру, а я, что бы ты там ни думал об этом, общительность почитаю за недостаток, сродни неряшливости, неразборчивости, всеядности… ну, слово ты сам подыщешь, я в соавторы к тебе не вяжусь.
Тут я должен сделать небольшое отступление: в монологе, только что мной приведенном, Боря Холмский выступает, возможно, излишне и даже неприятно напористым. Уверяю вас, это ложное впечатление: более неторопливого и, я бы сказал, осторожного в своих суждениях человека я не встречал. Пока мнение его не устоялось, с Борей можно делать все, что угодно: оспаривать, высмеивать каждое его слово, сбивать с толку, опровергать. Боря будет слушать, похмыкивать и покачивать головой. Но уж если он выработал свою точку зрения, никакими силами не заставишь его ввязаться в спор: отрубит сплеча и решительно сменит предмет разговора. Это тоже деликатность своего рода: он дает вам понять, что наскакивать на него в данной ситуации бесполезно. Видимо, сейчас речь зашла о деле, которое для Б.П. закончено. Поэтому я решил ничего не править, не придавать его рассказу оттенка колебательности и раздумчивости, который был бы здесь чрезвычайно уместным и выигрышным: оставляю все так, как есть.
— Ты о чем это задумался? — подозрительно спросил меня Боря Холмский, и так как я, естественно, уклонился от ответа, он счел необходимым несколько сбавить темп.
— О характере Жорика следовало бы сказать поподробнее, если ты опять затеял психологический детектив. Типичный циклотимик, феноменально добр ж отзывчив. На все-то реплики он с готовностью откликается, всему-то охотно поддакивает, все-то у него исключительно хорошие люди. Вывести такого человека из состояния благодушия почти невозможно. Но появился он у меня в тот день крайне удрученным. Пришел и сел на стул вон там, в уголочке, голову понурил, а лицо усталое, серое.
«В чем дело, Жора, — спрашиваю, — обидел тебя кто-нибудь?»
«Да нет, — говорит, — Боря, никто меня не обидел, несчастье, — говорит, — у меня».
Несчастье — слово сильное, им пользуются редко сейчас, и то если стресс за сто единиц переваливает, по той новомодной шкале. А сто единиц, если помнишь, — это утрата ближнего или скверный диагноз, все остальное словом «несчастье» как-то не принято называть.
«С Лилькой что-нибудь?» — спрашиваю. Лилька — это жена его, я тебе ее уже очертил.
«Нет, — отвечает мне Жора, — с женой все в порядке, тут хуже, брат Боря, потому и к тебе пришел: соседа слева у меня обокрали».
Черт бы побрал этих циклотимиков, и смех с ними, и грех.
«Не понял, — говорю ему с юмором, — в каком это смысле слева обокрали? С правой стороны, значит, нет?»
Не поддался на юмор Жорик, не оценил моей шутки, голову только поднял, посмотрел укоряюще и снова понурился. Да еще вздохнул при этом. Напиши: «…и вздохнул».
«А ты-то здесь при чем? — спрашиваю. — Что маешься? Не ты же обокрал, я надеюсь?
«Почти что я, — отвечает. — В том-то и дело, что не я обокрал, а все равно что я».
Сам понимаешь, мне это не понравилось. Я ведь не частный дантист, на дому не практикую, тем более есть определенная профессиональная этика.
«Ну что ж, — говорю я ему довольно сурово, — в милицию ступай, если все равно что ты. Чистосердечное признание — это не домашнее дело».
«Не в чем мне признаваться, — отвечает Жора. — А кто это дело сделал — ума не приложу. Всю ночь сегодня голову ломал, пока наконец Лилька меня к тебе не наладила».
Ох, горе наше горькое, думаю. Добровольных детективов развелось — отбою нет от соучастников. А все ваш брат беллетрист. Нет такого детектива, где бы под ногами у следствия какой-нибудь любитель не путался. И что особенно раздражает — акценты смещены: любитель идет по пятам преступника, а наш брат, следователь прокуратуры — по пятам любителя, для страховки, чтобы шею ему кто не свернул.
«Так пускай твой сосед, — говорю я Жоре, — заявление подаст куда надо, если еще не подал. И не ломай себе, пожалуйста, голову: дорогой инструмент».
«Да в том-то и дело, — отвечает мне Жора со слезами в голосе, — в том-то и дело, что не хочет он в милицию заявлять».
«Как так?»
«А так вот. Стыдно ему, понимаешь? Передо мной стыдно».
«Да много ли украли?» — спрашиваю.
«Четыре тысячи пятьсот новыми».
«Ого! — сказал я тогда. — Застенчив твой сосед. Деньги-то у него откуда такие, или не знаешь?»
А Жорик мне на это:
«Ох, понял я, Боря, о чем ты думаешь. Свои у него деньги, законные. Машину старую продал, мебелишку кой-какую… Вот и собралось».
«Он что, переезжать намеревается?»
«Да вроде бы. Теперь уж не знаю».
«Ну вот что, — сказал я сурово. — Если все так обстоит, как ты говоришь, тогда стыдливость твоего соседа мне непонятна. И даже более того: подозрительна».
«Да я ж тебе самого главного не сказал! — вскричал мой Жора. — Когда это дело произошло, в гостях он был у меня. Я сам его затащил на праздник. Ты понимаешь, в чем вся загвоздка? Мы с ним друзья детства, можно сказать. А в милицию надо на меня подавать. На меня и на всю компанию».
Тут я резвиться перестал: компании Жоркины были мне хорошо известны. Кого я только там не видел, пока не перестал захаживать! Мой Жорик с улицы может первого встречного пьяницу привести — помыть, побрить, за стол усадить и представить всем как наилучшего друга. И жалостлив безмерно, оттого и липнет к нему всякая сырь. Как праздник — меньше двух десятков гостей у него за столом не бывает. Юнцы какие-то наглые, приблудные парочки, девицы в поиске, мужья в бегах одним словом, вавилон, да и только. За двух своих дружков просил меня Жорик однажды, но я его крепко на место поставил, с тех пор и пошла наша дружба на определенную убыль.
«Вот, значит, как, — говорю. — А что ж твой сосед, при таких деньгах к тебе в гости явился?»
«Да нет, ты меня не понял, — отвечает мне Жорик. — Деньги в бумажнике в секретере у него остались. Шкафчик такой, секретер, с откидной этой самой…»
«Ну, ну?»
«Вернулся он от меня — секретер взломан, бумажника след простыл».
«Дома не было никого?»
«Не было. Один он теперь живет. Жена его бросила, голову приклонить некуда, вот он и собирался уехать. А тут такое дело. И дернула меня нелегкая в гости его позвать…»
«Подожди. В котором часу он от тебя вернулся?»
«В час ночи, наверно».
«Ты его провожал?»
«А чего провожать. Сам дошел, хоть и был сильно хороший. Дверь-то налево. Тут, правда, Лилька мусор как раз выносила, он ручкой махнул ей, дверь захлопнул — и загремел. Об калоши, видно, споткнулся. Там у него в прихожей много обуви набросано. Беспорядок в квартире, известное дело, женщины нет… Так и спал до утра, как дворняга, поверх старых ботинок, пока я его утром не разбудил. Но это уже часов в одиннадцать, на другой, естественно, день. А тогда, среди ночи, мне жена говорит: «Ох, упал он, наверно, сходи погляди». Я пошел, позвонил, постучался, послушал: храпит.
Ну, думаю, ладно. Забот у нас своих было выше горла: выгребать за гостями знаешь сколько приходится. Гости в час разошлись, а мы с Лилькой чуть ли не до четырех прибирались. Она у меня заводная: спать не ляжет, пока ни крошки на столе не останется…»
«Значит, утром хватился твой сосед — и сразу к тебе».
«Нет, не так дело было. Сам я утром к нему пришел. По-соседски проведать, ну и опохмелиться в тесном кругу. Лилька моя этих опохмелок не любит. Позвонил я как следует, завозился он в коридоре, встал, дверь открыл. Весь помятый, зеленый. Выяснять сразу начал, не чудил ли у нас. Я его успокоил, а потом и говорю: «А не сбегать ли мне, Вова, за пивком? Только денег у меня кот наплакал». Он, конечно, обрадовался — и к секретеру. Тут мы с ним вместе все это и увидели».
«Что конкретно увидели?»!
«Замок вывернут, дверца эта — или как там ее — на место прислонена и щепочкой заложена, чтоб не падала: замок-то не держит…»
«Накануне замок был цел?»
«Цел, конечно. Я же заходил к нему вечером с Гришкой и с Антоном — в гости звать. И замок был цел, и дверца в порядке, и ключи из нее связкой висели…»
«Прямо так-таки твой взгляд и упал на этот секретер?»
«А там другой мебели считай что и не было. Стул, да стол, да вот этот шкафчик… из прихожей его очень хорошо было видно. Тем более ключи Вовка вынул тогда и с собой забрал. Там и входной был прицеплен».
«А входная дверь, как я понимаю, в порядке…»
«В идеальном. Родным ключом открывал, паразит — тот, который это дело сделал. Ты мне, Боря, помоги его найти: я из него эти деньги вместе с душой выну. А пропил — убью. Это ж уточненная подлость: за столом вместе пить, а потом взять человека и ограбить».
«Подожди. Давай о ключах. Значит, вечером, когда вы к нему зашли, вынул Вова ключи из замка секретера и с собой забрал. А куда он эти ключи положил?»
«В боковой карман пиджака».
«Сам ты это видел?»
«И да и нет. Тут ведь как получилось: за столом он сначала в пиджаке сидел, а потом раскраснелся весь, лихо стало ему, вот и снял он пиджак, на диван кинул, тут ключи из кармана и выпали».
«Что же дальше?»
«Дальше Лилька моя подскочила. Дорогой, говорит, пиджачок, сядет кто, изомнет. Ключи — назад в карман, а пиджак унесла. Это мы сегодня вспомнили».
«И куда унесла?»
«А в прихожей поверх пальто набросила».
«Значит, вы с Вовкой предполагаете, что кто-то из ваших гостей вышел в прихожую, достал ключи из кармана пиджака, потом пошел на площадку, открыл соседнюю дверь, совершил, что задумал, и вернулся. Положил ключи в Вовкин пиджак и спять сел к вам за стол. Так я понимаю?»
«Все правильно. Вовка ничего не предполагает, а я-то думаю, что именно так и было».
«Это как же так — ничего не предполагает? Неужели действительно ничего?»
«Может, и предполагает, но молчит. Все равно ему стало. Я тут предложил собрать кое-какую сумму, а он только рукой махнул. Ладно, говорит, все одно к одному».
«Что одно к одному?»
«Ну, остался бобылем, это в сорок-то лет, а теперь вот еще подарочек. Жить не хочется человеку. Я уж боюсь его одного оставлять. Ночевал он у нас сегодня, да разве уследишь?»
«Слушай, Георгий, — говорю я ему осторожно, — а уверен ли ты, что деньги вообще были?»
«Были, видел я их. Мне Володька еще месяц назад показывал. И бумаги от продажи я видел. Не на всю, правда, сумму, на три восемьсот. «Остальное, — говорит, — по мелочи собралось».
«А с какой стати он тебе так доверился?»
«Ну, друзья мы с ним. И еще — вроде как бы оправдывался он: не такой уж я, мол, конченый человек, жить и дальше собираюсь».
«А скажи, не могла ли его жена приехать — как раз на праздники? Далеко она сейчас?»
«Далеко, аж в Кемерово укатила. Видел я дролю ее: чернявый такой, сытенький. Нет, брат Боря, жена отпадает: у нее теперь другие праздники. Телеграмму накануне прислала: «Прошлым кончено. Поздравляю весной. Желаю большого счастья». Я его вчера тоже спросил про жену, не могла ли она и все такое. Он мне телеграмму показал и заплакал…»
Тут мой Жорик тоже заплакал, как ребенок. «Жалко мне его, — говорит. — Если б Лилька моя, — говорит, — такое выкинула, — я бы, я бы, — говорит…» А пока он вздыхал и сморкался, я прикинул так и этак: получалось, что не напрасно Жорик ко мне пришел. Но все же надо было каждый мыслимый вариант проверить.
«Значит, кража произошла в промежутке между девятью вечера и часом ночи, — сказал я, когда Жорик наконец притих. — В девять вышли вы с Гришкой и с Антоном на площадку…»
«Нет, не в девять, а в девять тридцать, — отвечает мне Жорик. — Он не ждал нас совсем и не думал, что в гости пойдет. В куртке был затрапезной, в тапочках. Ну, пока одевался…»
«А вы в это время стояли в прихожей».
«Правильно. Гришка, я и Антон. Но на них ты не думай: золотые ребята. Не стоит на них грешить».
«Это уж позволь мне самому разобраться, кто золотой, а кто не совсем».
«Не сердись на меня, Боря. Я же понимаю, что ты должен чисто работать. Потому и не говорю, на кого у меня глаз имеется. Восемнадцать человек у меня было, вот список. И себя внес, и Лильку, и даже Вовку. Никого не забыл».
«Подожди со своим списком. Ты ответь мне толком, что делали твои Антон и Гришка, пока сосед одевался».
«Гришка все к квартире приценивался. Хорошая квартира, двухкомнатная, я ему намекнул, что хозяин съезжает, вот и загорелось Гришке эту квартиру снять. Парень он молодой, холостой, дело ясное…»
«А про деньги ты ему тоже намекнул?»
«Нет, про деньги никому ни слова. За кого ты меня принимаешь? И вообще, как только это дело случилось, я сразу к тебе. Хотел было объехать гостей да сам навести следствие, но Лилька отговорила».
«Молодец твоя Лилька. Ну а Антон?»
«Что Антон?»
«Чем Антон занимался в это время, я спрашиваю?»
«Да ничем таким особенным. Стоял и курил».
«Докурил до конца?»
«Понимаю, ты насчет окурка. Нет, Антон у нас деликатный, он даже пепел на площадку стряхивал».
«Значит, трогал замок?»
«Трогал. То есть… ну да, трогал. Тут Володя оделся, вышел к нам уже в полном параде — и чего-то закапризничал. «Ай, да ну, — говорит, — не пойду никуда. Что я буду сидеть как пень среди незнакомых людей да настроение им портить?»
«Он в гостях-то у тебя часто бывал?»
«Да случалось».
«Отчего ж компания незнакомая? Гришка и Антон, наверно, были ему знакомы?»
«Не были. Я взял их для представительства, чтобы удобнее приглашать. Все-таки коллективная просьба. А насчет других гостей — ты же знаешь, друзей у меня много, каждого пригласить хоть один раз в году надо? Надо. Вот и получается, что состав непостоянный».
«Ну, добро. Закапризничал Вова, и тогда вы втроем…»
«Взяли под руки его и силой из квартиры вывели».
«Зачем же силой?»
«Да мучился человек! — отвечает мне Жорик с простодушием невыразимым. — Сидит в пустой квартире как сыч, за стеной поют и пляшут, попробуй-ка вынеси! Вот и получилось, что мы одни только видели, как квартира осталась пустая. И никто посторонний не мог, только наши, вот эти, из списка».
«А когда вы вышли из квартиры, на площадке никого не было?»
«Никого. Половина десятого, самый час такой для застолья… Хотя стой! Что ж я вру-то тебе? Были люди на площадке. Из моих же гостей. Сипухин стоял, Гоша с Томкой курили. Праздник, сам понимаешь. Кто за столом, кто в прихожей, кто на лестнице проветривается. Отлучился я на минуту — ну, и вышел перекур. Может, все играючи началось: дай, мол, загляну, пока квартира пустая, посмотрю, как другие люди живут. Ну а там уж, с поддачи…»
«Эх, Жора, Жора, «с поддачи». Дешева твоя пьяная доброта, а обходится дорого».
«Да куда уж дороже. Четыре пятьсот! За два года не заработаешь».
«Не об этом я, ну да ладно. Давай твой список».
Оживился, бумажку мне сунул, в глаза заглядывает преданно: помоги, разберись. А бумажку эту я на память себе оставил. Любопытнейший документ. Аккуратно все по графам расчерчено, каждая графа — это десять минут застольного времени, и если против фамилии в графе стоит крестик, это значит, что десять минут человек сидел за столом на глазах у хозяина. Время отбытия тоже обозначено с точностью, для пьяной компании необыкновенной. Жорик очень гордился этим шедевром и минут, наверно, двадцать объяснял мне, как списком пользоваться.
«Ты, мой друг, — сказал я Жорику, — за столом в тот вечер, наверно, с этим графиком сидел?»
Он не понял сначала, потом обиделся.
«Если ты к тому спросил, был ли я трезвый, так позволю тебя заверить: последнее время меня вообще не берет. Прокалился. А список мы с Лилькой сегодня ночью составляли».
«Володя тоже участвовал?»
«Нет, он к этому делу отношения иметь не хочет. Злится, ругается. Потому мы и дождались, когда он заснул».
«Да, работа проделана гигантская».
«А что ты думаешь? Мы с Лилькой каждую единицу сверили. Она у меня не пьет, да и по хозяйству больше. Угол обзора у нее был пошире. Если я кого из виду терял, так она не теряла».
Я представил себе Лильку и от души ее пожалел: каково обслужить два десятка орущих, пьющих, случайных людей? Нет, не пьянство главное зло. Зло скрывается вот в таких случайных компаниях. В тени одной такой компании десяток преступлений может укрыться. Это я тебе говорю, с Жориком на эту тему смысла не было разговаривать. Урок ему, конечно, будет, но надолго ли этот урок?
«Ну ладно, — сказал я Жорику. — Давай по списку с самого начала».
«Значит, так. Учет я начал вести с половины десятого. Тут мы Вовку привели, а что было раньше — значения не имеет. Видишь, крестики подряд. Значит, все собрались: и Антон, и Гришка, и Михаил Осадчук, ты его у меня один раз видел. Михаил, правда, здорово был хорош, он уж к нам хороший явился. Дальше Трифонов, это степенный мужик, этот вряд ли мог… Молчу, молчу, Боренька. Томка с Гошей Зубавиным, Семеныч, Елена Павловна, Сипухин, дальше кто? Ох, забыл… Ну как же, Колька Ряшенцев с женой своей Анной, ну, естественно, мы с Вовкой в обнимку, рядом с нами товарищ Дерягин, и жена его Рита, и золовка Марина, и дочка Дерягиных Лелечка со своим кавалером Кирюшей. Сколько вышло? Ах да, еще Жанну забыл. Ну теперь вроде все, восемнадцать должно получиться, а если Вовку не считать, то семнадцать. Ну-ка перепроверим. Раз, два, три, четыре… одного человека недостает. Как же так? Вроде всех наизусть выучил…»
«Плохо выучил. Двое лишних сейчас у тебя получилось».
«Даже так? Значит, Жанну я в список не внес. Ну, за Жанну готов поручиться. Лилька, может, ее и не любит, но у нас с этой Жанной было полное когда-то взаимопонимание. А еще один — это, наверно, Семеныч. Ну-ка дай… Точно, Семеныч. Тихий человек, незаметный, вот мы с Лилькой его и упустили».
«Незаметный, говоришь? Ладно, пусть. Ну, пришли вы с Володей и что же?..»
«Хорошо его встретили. Налили полный ему фужер. «Выпей, — говорим, — полегчает». Не пошло ему, закашлялся он, на рубашку себе пролил. Ну, обнялись мы с ним, спели несколько песен. Тут пробел есть один, по моей, значит, линии в списке: видишь, одного креста не хватает? Это в туалет я пошел, задержался еще на кухне: с Лилькой поцапался. Возвращаюсь — Володенька мой уж готов. Сидит, нос повесил, дремлет. Нервы слабые у парня, гость хреновый он был, а все-таки праздник отмечал с людьми, по-человечески, а не как медведь в своей берлоге. Верно я говорю?»
И спросил Жора с нажимом, и смотрел на меня с ожиданием, только я ничего ему не ответил. Проповеди читать было поздно: надо было вникать.
«Попытайся вспомнить, Жора, — сказал я ему вместо ответа, — был ли за столом разговор какой-нибудь о больших деньгах?»
«То-то и оно, что был. Подкатилась к Вовке за столом наша гостья одна, Томка Кислякова… ну, которая с Гошкой на площадке любовь крутила. В списке номером пятым она идет. Одинокая, разбитная, а тут — ничейный мужик, да еще характером слабый. Обняла она его ручищей своей, тормошить его стала, волосы ерошить, слова говорить. Ну и проснулся парень. «А налей-ка мне еще», — говорит. Выпил, разгорелся, шутки стал шутить, пиджачок с себя скинул, тут ключи из кармана и выпали. Лилька глазом мне моргнула, я и сел промеж них, разбил эту пару, от греха подальше, тем более Гоша занервничал. Он ведь с Томкой пришел, с Томкой и уйти должен, так в приличных компаниях делается. С этой вот минуты и надо время считать».
«Нет, не с этой. Разговор о деньгах когда состоялся?»
«Вот не помню: то ли до пиджака, то ли после. Вроде после. Мы как раз еще песню пели: «И заслонила дорожку, ту, что ведет под уклон». Это надо по пленке проверить».
«По пленке?»
«Ну да, по пленке. Запись, правда, паршивая, но кое-что все-таки слышно».
«Так у вас и магнитофон был включен?»
«Нет. Не у нас. У Вовки. Мы магнитофона не держим».
«Ну-ка, ну-ка, расскажи. Это становится любопытным».
«Значит, так. Тут совсем как в кино получилось. Стоим это мы с Вовкой у взломанного секретера, друг на друга не глядим, слов не молвим, вдруг я слышу: в другой это комнате что-то щелкает…»
«Толя, Толя, постой. Это ж на другое утро все было».
«Утром, правильно. Ты меня слушай. Говорю я тогда Вовке: что-то щелкает вроде… А он мне смотрит в лицо и не понимает. Я опять ему: «Что там такое?» — «Ерунда, — говорит мне Вовка, — это я, наверно, магнитофон забыл выключить, вот и крутится». — «Когда, — спрашиваю, — забыл? Ты же только что встал!» — «А вчера, — отвечает, — когда вы меня уводили…» Тут взглянули мы друг на друга — и бегом в ту комнату. Правда, вертится катушка, магнитофон весь горячий, прямо зверем рычит. Шутка ли: всю ночь проработал. «Слушай, — говорю я Вовке, — так ведь здесь же все записалось!» Черта с два. Стали слушать мы пленку — расстройство одно. Весь наш пир через стенку записался, все застольные песни: слышимость-то знаешь какая. А в квартире у Вовки — тишина, как в индийской гробнице. Только скрипнуло сильно, и в прихожей как будто бы что-то упало. Молчком работал, бандит. Хоть бы кашель подал или голос: знал ведь, что в квартире один! Нет, опытная рука действовала…»
«Подожди, Жора. Ты мне лучше объясни: как же так получилось, что сосед твой перед уходом магнитофон на запись включил?»
«Тут, брат, как в кино получилось. Вовка — он на радио работает, понял?»
«Ну и?..»
«Ну и в технике этой кое-что понимает».
«Так что же?»
«А то, что в тот вечер, когда мы его к себе затащили, он от скуки комбайн свой налаживал. Магнитола у него собственного изготовления. Не сказал бы, что вещь добротная, все детали на кишках, но работает, не барахлит».
«Ты покороче».
«А покороче — наладил он свой аппарат с микрофона записывать, а тут мы как раз и пришли. Нажимает он автостоп или как это там называется».
«Тумблер паузы, наверно».
«Ну да, тумблер паузы, чтоб на время вырубить, не совсем. И вот этот самый тумблер — представляешь себе? — тоже на кишке висит, и, естественно, не срабатывает. Как в кино. Только запись негодная, орали мы слишком за стенкой. Знать бы заранее…»
«Глупости ты говоришь. И как долго эта запись велась?»
«А до самого утра. Ну, конечно, катушка смоталась — и крутилась всю ночь вхолостую. А, теперь я понимаю, отчего ты этой пленкой заинтересовался: по ней можно время считать. Нам с Володей в голову не пришло. Триста пятьдесят метров, да со скоростью четыре метра в минуту… сколько времени получается?»
«Положим, не четыре метра в минуту, а пять сантиметров в секунду. Это, брат, не одно и то же. Получается два часа чистого времени».
«Ну правильно: два часа мы с Володей и слушали. Мы-то по-другому думали, все хотели шаги опознать».
«А шаги тоже слышно?»
«Нет, шаги еле-еле. Да, может, и не у Володьки шаги, а рядом или наверху. Но скрипнуло здорово, рядом».
«Хорошо б эту пленку послушать».
«А чего ее слушать? Я тебе все и так рассказал. Впрочем, если охота берет — вот, пожалуйста. Но предупреждаю: ничего особенного не услышишь».
Тут, представь себе, лезет мой Жорик в портфель и достает оттуда кассету с пленкой. Вот ведь что забавно: он мне график свой совал, а такая вещь спокойно лежала у него в портфеле.
«Ничего не услышишь, — предупреждает он меня. — Без привычки одно шипение».
«Шипение, говоришь?»
Сбегал я в гостиную, притащил свой «Днипро» — не лезет кассета. Взял отвертку, снял всю верхнюю панель, наладил кое-как, думал, не потянет такую махину, нет, потянуло. Сели мы с Георгием поудобнее, слушаем. Все как он говорил: «Раз, два, три, проба, проба», потом звонок, возня в прихожей, Вовка на одной ноге прыгает, брюки надевает. Пряжка звенит. Записалось прекрасно. После — щелкнул замок, ушли. И — сплошное шипение. Голоса за стеной еле-еле.
«Метров двести смотай, — говорит мне Жора. — Ничего интересного не услышишь».
«А мне все интересно, — сказал я ему. — Потеряем лишний час, зато получим полное удовольствие».
Посидели послушали.
«Ну правильно, — говорит Жора, — два раза Томка к нему подкатывалась. Вот сейчас, слышишь? Песню поют. Подошла к нему Томка сзади, обняла его за плечи, говорит: «Ах ты сладкий мой! Кто б тебя пожалел, приласкал! Неужели дуры такой не найдется?» Тут Володю и повело».
Я выключил магнитофон, засек время. Получалось сорок минут с их прихода.
«Ну и что ей Володя ответил?»
«Эх, — говорит, — Тома, Тома! Дура, может, и найдется, да мне ведь умную надо. Думаешь, я простой такой? Нет, не простой. У меня, — говорит, — худо-бедно, четыре с половиной наличными, на два года хорошей жизни хватило бы. Но такой я, — говорит, — привередливый: умную мне подавай». Вот такие слова он ей говорил в приблизительной передаче. А потом, конечно, язык прикусил и сидел как пришибленный. Пока не заснул. Ну, тогда уж внимания на него не обращали».
«Хорошо бы поточнее время определить. Телевизор вы не смотрели?»
«Нет, какой там телевизор. В двадцать два тридцать пять спортивная программа, и стал Михаил к телевизору рваться. Включи да включи. «Я, — говорит, — сам заслуженный мастер спорта, мне нельзя такие передачи пропускать». Тут Сипухин с ним и сцепился. Блюдо своротили, шуму наделали, это все хорошо записалось. Видим мы, человек готов, повели его прогуливать. Ты же знаешь, один такой может всю компанию загубить».
«А он что, Михаил Осадчук, в самом деле мастер спорта?»
«Да какой мастер спорта! Пьяный гонор один. До телевизора он все-таки добрался, но включить не включил. Увели. Вот тебе и точное время. Если хочешь, можно в Останкино позвонить».
Прослушали мы эту сцену: записалось действительно довольно подробно. Звон посуды, женские крики, смех — шуму было порядочно. Особенно выделялся пронзительный женский голос: «Водой его холодной, облейте его водой!»
«Это Жанна шумит, — как бы оправдываясь, пробормотал Жорик. — Ох, горячая женщина. Этого у нее не отнимешь».
«Кто увел Осадчука?» — спросил я, выключив магнитофон.
«Гошка с Трифоновым. Ты понимаешь, как тут сложилось? Я про Гошку хочу сказать. Весь тот вечер напролет он за Томку держался, тем не менее Осадчука сам вызвался провожать, и про Томку забыл, и обратно к нам не вернулся. Так все трое и сгинули: Трифонов, Осадчук и Зубавин. Ну, про Трифонова ничего не скажу: с Михаилом они друзья, могли вместе до дому податься. А вот Гошка зачем с ними увязался — непонятно. Непонятно и подозрительно».
«Может, он на Томку свою рассердился?»
«Это может быть, точно. Но ушли они втроем, и все трое исчезли. Лилька ночью боялась, что вернутся и начнут чудить. Они же обещали вернуться».
«Кто ж теперь за столом?» — спросил я Жорика, когда послышалось нестройное пение «Хас-Булата».
«А по пальцам перечесть можно, — ответил Жорик. — Мы с Володей, он спит, я пою, а помимо нас — Томка да Анна Ряшенцева».
«А где же все остальные?»
«Лелечка Дерягина — сам не знаю, когда удрала, а женишка с собой увела. Молодое дело, известное. Им бы лишь с родительских глаз скрыться. Лилька говорит: из окна их видела, как они, за ручку взявшись, через площадь шли. Ну, Дерягин-отец этих вольностей не любит, он с девчонки своей глаз не спускает, для того и с собой привел, чтоб по улицам не шатались. Как увидел, что дочки в квартире нет, — занервничал, жену забрал и удалился. Их Марина, правда, осталась. У нее там с Сипухиным дела, и как только Дерягины ушли, сразу и эти двое притаились. Я сначала думал, курить на площадку пошли, но Лилька считает, что в спальне они сидели. Дальше кто? Лилька на кухне, Елена Павловна там же, помогает ей чай готовить. Гришка в ванной закрылся, плохо ему стало, а Антон с Колькой Ряшенцевым то ли в прихожей гудят, то ли на лестнице курят».
«А про Жанну опять забыл? Что-то голоса ее не слышно».
«Подожди-ка, а где же, действительно, Жанна? Что за черт? Ни в списке она не значится, ни на пленке не записалась. Курить она не курит, в туалет как раз Семеныч настроился и заснул там, разбойник… Может, к детям пошла? А чего ей там делать?»
«А не в ванной она?»
«Ты брось эти шутки шутить! — рассердился Жорик. — В ванной Гришка закрылся, я же тебе рассказываю…»
Тут мой Жорик осекся и крепко задумался. Между тем пленки на кассете осталось совсем немного, и время, по моим подсчетам, перевалило за одиннадцать. Вдруг раздался щелчок замка. Таких щелчков и раньше записалось препорядочно, и каждый раз я настораживался, но на этот раз щелкнуло чуть погромче, чем обычно. И сразу загрохотало. Мягкий грохот такой, много твердой резины: очень похоже на то, как если бы на пол вывалили ящик старой обуви. Шагов я, правда, не расслышал, потому что в этот момент за стеной заголосили: «Издалека долго течет река Волга…» Но даже сквозь эту мощную песню явственно послышался скрип — то ли замка, то ли дверной петли. И ровно через тридцать секунд пленка кончилась. Получилось, что злоумышленник просто не мог уйти из квартиры: где-то в прихожей он непременно должен был услышать щелканье освободившегося конца пленки — сомнительно, чтобы человек, действовавший так хладнокровно, бросился бежать из квартиры и оставил такую решающую улику, даже не попытавшись что-нибудь изменить. Я представил себе человека, застигнутого в чужой квартире таким непонятным звуком, — нет, он должен был после секундного оцепенения пойти выяснить, что произошло в другой комнате, а выяснив, либо унести кассету с пленкой, либо, что достовернее, оборвать конец пленки и спокойно уйти. Я перемотал часть пленки и начал слушать с того момента, когда щелкнул дверной замок. Щелчок, шум в прихожей (ну, конечно, там раскидана старая обувь: значит, это не Гришка и не Антон, те шагали бы осторожнее), минутная заминка — и скрип. Нет, этот человек, кто бы он ни был, знал, куда идти: он направился прямо к секретеру. А за стеной заливисто пели «Течет река Волга…». Пришлось мне тряхнуть за плечо Жорика.
«Кто поет?» — спросил я его.
Он сосредоточился, прислушиваясь. Я прокрутил ему это место два раза, и мы пришли к совместному выводу, что поют те же: Жорик, Томка и Анна. Никаких других голосов не прибавилось.
«И вот ты посмотри, — пробормотал Жорик. — Что она так орет, как будто ей платят?»
«Кто?»
«Да Томка».
И правда, ее зычный голос перекрывал все остальные шумы, хотя в этом не было никакой необходимости. Я задумался.
«Ну и что получается?» — с интересом спросил меня Жорик.
«Пока ничего, — коротко ответил я. — Торопишься очень».
«Не сердись, — примирительно сказал Жорик. — Я понимаю, трудно тебе. У меня у самого все мозги перекручены. Четырнадцать человек под подозрением, шутка сказать. И все четырнадцать где-то там ошивались. Прямо зло берет: что бы стоило людям честным сидеть за столом и песни петь?»
«Нет, не четырнадцать, меньше, — поправил я. — Ключи-то оказались на месте?»
«На месте».
«Значит, все ранее ушедшие отпадают. И Гошка в том числе, хоть ты на него глаз и держишь. Кто же остался у нас не за столом и не на кухне, но в то же время еще в гостях? Антон, Коля Ряшенцев, Сипухин, Гриша, Семеныч, Марина и Жанна, которая пропадала неизвестно где. Меня, естественно, больше интересуют одиночки, поскольку дело это было не парное. Разве что при очень тесном знакомстве. Скажи, Антон и Коля хорошо друг друга знают?»
«Совсем не знают. Познакомились у меня, за столом».
«Тогда смотри: если они на площадке, то один из них должен вломиться в чужую квартиру буквально на глазах у другого. Малознакомым людям в таких делах не доверяются. Ну а если Антон и Коля, как ты выразился, «гудят в прихожей», то одному из них надо выдумать благовидный предлог для выхода на площадку, а другой в это время должен бессмысленно околачиваться в коридоре. Податься-то ему некуда: туалет оккупирован Семенычем, ванная комната — Гришей, на кухне — женщины, в спальне — Сипухин с Мариной, в детской — дети, в гостиной — ваш хор. Естественно, оставшийся должен был вернуться в гостиную. Согласен ты со мной?»
«Совершенно согласен», — умильно глядя мне в лицо, сказал Жорик. Он искренно радовался за Антона, а мне этот Антон отчего-то не нравился.
«Остаются пятеро. Сипухин с Мариной, как я понял из твоих слов, довольно близки, но видятся редко. Отчего они не могли уединиться в присутствии Дерягиных?»
«Тут сложная история. Сипухин у Риты когда-то в большом уважении был. Чуть до скандала не дошло у них с Дерягиным. Дерягин и сейчас от него нос воротит. Ну а Марина из Кирова на месяц приехала: купить кое-что, по театрам побегать. Вот у нее с Сипухиным и завертелось».
«Ну это вопроса не снимает, конечно, но все-таки сомнительно, чтоб люди, случайно встретившиеся, пустились тут же с ходу в такую опасную авантюру».
«Я тоже так рассуждал», — промолвил Жорик, считая, очевидно, что этим он льстит моему самолюбию.
«Как видишь, осталось только трое: Семеныч в туалете, Гриша в ванной и Жанна непонятно где».
«Да что там непонятного, — мрачно сказал Жора. — Минут, наверно, тридцать Гришка в ванной сидел, а вышел оттуда как стеклышко, и убирать после него не пришлось: Лилька все удивлялась. Просветлел, говорит. Знаю я теперь, отчего он просветлел. Тут же и эта за ним появилась. Заохала, заметалась. «Домой, — говорит, — пора, засиделась я у вас». Засиделась… Такая не засидится. Ушли они, однако, поврозь, вот что меня с толку сбило, ты понимаешь? Сначала Гришка, а минут через сорок она… А торопилась-то, торопилась. Сидит и на часы поглядывает. Эх, Боря, Боря, вот и верь им после этого!..»
Излияния такого рода всегда были мне неприятны, поэтому я довольно сухо напомнил Жорику, что, между прочим, Лильку свою он в список не забыл внести, а Жанну забыл, и Лилька это стерпела. А ведь могла и не стерпеть: смешно же предполагать, что она ни разу об этой женщине не вспомнила. Тут Жора мой, сорокалетний младенец, весь краской залился, и ресницы его намокли от слез: видно, на переломе лет его все чаще тянуло поплакать.
«Ну а теперь скажи, — заговорил я как ни в чем не бывало, — что за Семеныч такой, имеющий привычку спать в туалете? Совсем старик?»
«Какой там старик, — ответил мне Жорик. — Тридцать четыре года».
«А по профессии кто?»
«Вроде официант».
«Вроде, а поточнее?»
«Поточнее не знаю».
«Ну а фамилию его ты хоть знаешь?»
Совсем Жора поник, только шляпу свою в руках терзает.
«И адрес не знаешь?»
Молчит.
«Как же мы, если дело зайдет, искать этого Семеныча будем?»
Задумался Жорик — и вдруг просиял, заулыбался даже, словно что-то веселое вспомнил.
«А что его искать? — говорит. — В вытрезвителе справимся, там все его координаты».
«В каком вытрезвителе?»
«А в том самом, куда он прямо от нас угодил. Выходил вроде бодрый, а на площади песни петь начал, тут его, голубчика, и подмели. Участковый к лифтеру вчера подходил, интересовался, до которого часу шумели. Ну в описал Семеныча. «Был, — говорит, — такой?» — «Был, а как же, он у нас часто бывает».
Так был счастлив Жорик за своего Семеныча, неизвестного, в общем-то, человека, так бурно радовался, словно тот путевку в Варну заполучил. Пришлось мне ему напомнить, что личность злоумышленника не установлена и надо начинать все сначала.
«Ну давай еще раз пленку послушаем».
«С самого начала?»
«Да нет, только конец».
Сделал я погромче, придвинулись мы ближе к магнитофону, слушаем. Треск теперь в грохот превратился, шипение — в рев. Не жилая квартира, а прямо туннель метро. И когда заскрипело там у Вовки в квартире — даже страшно стало: на полную мощность ревел мой «Днипро». Ох, как надрывались за стеной, выводя «Течет река Волга…». Так, наверно, ревели «с поддачи» обитатели страны Бробдингнег. И тут же пленка оборвалась, и «Днипро» захлестал себя по бокам, как очумевший от овода конь.
«Видишь, какое дело? — сказал я Жорику, остановив рукой кассету с пленкой. — Это-то меня и смущает. Уж очень впритык работал наш злоумышленник. Еще минута — и пленка защелкала бы. В чужой квартире да с деньгами в руках — незавидное положение. Что бы ты сделал на его месте?»
«Постоял бы, послушал, — неуверенно сказал Жорик, — потом пошел бы в ту комнату и выключил магнитофон. А пленку забрал бы с собой».
«А она в карман не лезет…»
«Под рубаху ее, или нет: я бы самый конец оборвал: там совсем немного».
«Правильно, — сказал я. — Так ты и сделал».
Краска отлила у Жорика от лица, а взамен ее изо всех пор моментально выступили капли пота.
«Ты это что?.. — хрипло проговорил он и привстал. — Ты зачем это мне говоришь?»
«Сядь! — приказал я ему. — Сядь, не трусь, ты же мужчина! Слушай, что я говорю. Безусловно, я эту пленку тебе не верну. Я передам ее в милицию. А милиция рассудит просто: ты знал о больших деньгах заранее. Ты завел человека к себе, напоил его, а дружка своего или подружку научил, что делать…»
«Нет! — крикнул Жорик. — Ты не можешь так говорить!»
«Допустим, я не могу, — жестко сказал я, — но другие наверняка смогут. Слушай дальше. На другое утро твой сосед пожаловался тебе и сказал об этой дурацкой записи. Хочешь дальше? Пожалуйста. Ты испугался, и, несмотря на заверения соседа, что он махнет на это дело рукой, ты решил себя оправдать. Что для этого нужно? Взять пленку, пойти ко мне (именно не в милицию, а ко мне, в расчете на то, что, уж если я не раскрою, никто не раскроет и можно не опасаться), по дороге оборвать пленку ровно на столько, чтоб осталась суть дела, но исчезли какие-то данные, тебя выдающие, — и заставить меня три часа ломать голову над этим нелепым списком. Ты совсем не подумал о том, что опытному следователю ничего не стоит определить, на сколько сантиметров пленка оборвана. Звук-то плывет в конце, когда остаются считанные сантиметры, а здесь не плывет».
«Боря, Боря… — тусклым голосом сказал Жорик, надел свою помятую шляпу и встал. — Эх, Боря, друг…»
«Сядь, голубчик! — сказал я ему помягче. — «Эх, Боря, друг…» — вот и все, что ты можешь на это возразить. Теперь ты понял, в какую переделку ты угодил? И сними, ради бога, шляпу, ты в ней выглядишь форменным идиотом. Тебя околпачили, Жора, и ситуация хуже, чем ты себе сейчас вообразил».
«Что же мне делать?» — прошептал Жорик и закрыл лицо руками. Сквозь пальцы у него потекли слезы.
«Не быть таким расхлебаем! — жестко сказал я. — И перестать пить, черт тебя побери! Тот же Семеныч рано или поздно втянет тебя в такую кашу, что ты ее будешь расхлебывать всю жизнь. Подумай о Лильке: чего ей стоит обслуживать эту свору твоих дружков!»
Нет, он не подумал о Лильке. Есть такая категория людей: добродушный покладистый эгоист. Этот эгоист отзывчив, участлив, приветлив, и за все это он требует самой малости: чтобы пожалели и нежно полюбили его самого.
«Боря, но ты-то мне веришь?» — Жорик всхлипнул и открыл свое залитое слезами лицо.
«Я-то верю, — сказал я сухо, — но совсем не потому, что знаю тебя хорошо. Счастье твое, что сосед твой оказался еще большим болваном, чем ты. Кстати, не он ли посоветовал тебе оборвать конец пленки?»
«Он, — пробормотал Жорик, вытирая ладонями щеки. — Там не влазило, вот он и говорит: «А ты отщипни…»
«Отщипни», — передразнил я. — Нет, он все-таки хитрее тебя, простофили. Ну-ка слушай внимательнее вот этот кусок. Что слышишь?»
«Песню поем…» — неуверенно пробормотал Жорик и заискивающе посмотрел на меня.
«А сейчас?»
«Какая-то музыка, далеко только очень».
«Ну, как бы ни далеко, а все в пределах нашего часового пояса. Интересно, под какую же музыку вы пели в двенадцатом часу ночи?»
«Сделай погромче».
«Да куда уж громче».
«Ничего не понимаю… — сказал Жорик и почесал затылок. — Это ж эта, как ее…»
«Ну, ну…»
«С добрым утром».
«Правильно, Жорик. Запись на запись, причем очень грубо сработана. На такого простачка, как ты. В милицию с этой пленкой не сунешься. Сначала концерт ваш домашний записан, а шаги и все остальное — потом. Всего на три минуты нужно было твоему Вовке уровень записи поднять — и не повезло человеку. Посторонний шум записался. Сразу видно, что с похмелья дело делалось, по наитию».
Посидел подумал Жора. Покраснел, набычился.
«Вот как, значит… Вот он, значит, как со мной… Ну, Володя, ладно. Ладно, Володя…»
Встал, не глядя на меня, поднял с полу свой график, скомкал, сунул в карман. Стал снимать с магнитофона пленку, занервничал, зачертыхался. Я молча отстранил его, пустил магнитофон на перемотку. Пленка шла плохо: намоталось больше, чем позволяла моя кассета.
«Ты скажи мне, Боря, напоследок, — сказал Жора, наблюдая за моей работой. — Ну зачем он все это устроил? Ради чего? Ведь от денег моих отказывался. Я же сразу предложил ему деньги…»
«Значит, мало предложил. Этому человеку, видно, много надо. Он в двух зайцев прицелился: и тебя припугнуть, как я припугнул, кое-что с тебя поиметь, и еще две с лишним тысячи выгадать».
«Погоди, не понимаю. Какие две с лишним тысячи? Столько мне за десять лет не собрать».
«Да не от тебя. От тебя — сколько выйдет, по бедности. А еще две с лишним… видишь ли, Жора, имущество, нажитое в браке, при разводе делится пополам. В отличие от тебя твой сосед хорошо об этом помнит».
«Ну а я-то здесь при чем? Мне-то душу мотать зачем было надо?»
«Из тебя, простачок, хотели сделать свидетеля. Подтвердил бы ты на суде факт кражи? Наверняка подтвердил бы. Вот и все, что от тебя еще требуется. Удивляюсь только, как он тебе эту пленку на руки отдал».
«Да сопротивлялся он, не хотел. Ну, со мной разговор короткий, — тут мой Жора ухмыльнулся многозначительно: отлегло от души. — Я ж его одним пальцем — и все».
«Нет уж, пальцем не надо, Жора, — попросил я его. — Обещаешь?»
«Ладно, бог с ним, — буркнул Жора и потянулся за пленкой. — Словами скажу».
«И слова выбирай, — посоветовал я. — Этот Вова — человек сложный. А пленку я тебе не отдам. Пусть она пока у меня полежит. Так и передай Володе: пленка, мол, твоя лежит в прокуратуре. Это будет ему самый лучший подарок».
«Ладно, Боря, спасибо тебе, Боря. А еще один вопрос тебе можно?»
«Один — можно. Я с работы, устал».
«Как же ты не сразу во всем разобрался? — простодушно спросил меня Жорик. — Дело-то, оказывается, ерундовое?»
Ну, что я мог ему ответить?
«Ты руки-то мыл со вчерашнего дня? Не мыл. Вот это меня с толку и сбило».
Оторопел мой Жорик, взглянул на свои руки и, криво усмехнувшись, соскреб с корявого ногтя следы ферромагнитной эмульсии… На этом мы давай и закончим повествование о ерундовом деле, которое я предлагаю условно назвать делом «об уточненной подлости».
— Все понятно, — сказал я Б. П. Холмскому, закрывая свой исписанный блокнот, — все понятно и очень мило, но есть у меня как у беллетриста небольшая к тебе претензия.
— Ну валяй выкладывай, — снисходительно проговорил Б.П., разминая в пальцах сигарету.
— Ты все с нами воюешь, с сочинителями, все окурки высмеиваешь — ну те самые, традиционные, найденные в самом конце, — Боря Холмский благосклонно кивнул, давая мне понять, что пояснений не требуется, — а ведь песенка твоя, случайно записавшаяся, — это тоже своего рода окурок. Счастливая случайность, не больше того. Я понимаю, по наитию работал человек, решил использовать обстоятельства, да еще с похмелья… все это у тебя мотивировано. Но подними он уровень записи не в тот момент, когда началась передача «С добрым утром», — что бы ты делал тогда со всей своей дедукцией?
— Видишь ли, какое дело, — утомленно сказал Б.П., — неважно, что там записалось, когда Володя пошел к секретеру, не это, так другое. Время утреннее, за три минуты много шумов могло вклиниться: тормоза машин, голоса на улице. Да мало ли что… Стереть-то запись он не мог.
— Вот как? — саркастически сказал я. — Ну допустим. Но, вообще-то говоря, мне не совсем понятно, зачем эта верхняя запись была загнана в самый конец.
— Во-первых, это очень достоверно, — пояснил Б.П., — а во-вторых, Вова должен был выбрать момент, когда за столом осталось как можно меньше людей. Ты удовлетворен моим объяснением?
— Вполне. Но все это совершенно не прозвучало.
— Не прозвучало? — задумчиво переспросил Б. П. Холмский. — Ну что ж, ты зайди ко мне как-нибудь через недельку. Сделаем вставки.
Я, конечно, зашел, понимая при этом, что у Бори наверняка не найдется времени для поправок и перестановок. Мне казалось сомнительным, чтоб Б.П. занялся этим нудным делом, требующим к тому же известного навыка.
Так оно и случилось.
Каждый урок — открытый
Странноватое все-таки название у этой книги, не правда ли?
Назидательная проза…
Неужто и впрямь Валерий Алексеев, писатель веселого, обаятельного, парадоксально острого дарования, намеревается назидать, то есть — прибегнем здесь к помощи обстоятельного В. И. Даля — «учить, научать, поучать, давать духовные или нравственные наставления»? Неужто и впрямь собирается он двинуть на нас армады тяжеловесных наставлений, подавить скучным здравомыслием, вскружить голову нравоучительными сентенциями в духе осьмнадцатого столетия — именно осьмнадцатого, поскольку уже в девятнадцатом веке унылая, а равно и игривая назидательность была весьма и весьма не в чести?
Назидательная проза…
Да коли так, стоит ли, право, браться за эту книгу современному молодому читателю, напуганному сентенциозностью еще в пеленках, сторонящемуся пресных нравоучений, привыкшему с иронией относиться к цветам моралистического красноречия?
Но не спешите, не спешите… Не торопитесь забывать, что именно Валерий Алексеев написал в свое время «Светлую личность» — хлесткую, несколько даже ерническую, острую, как и подобает молодежному диспуту, повесть о московском студенчестве начала шестидесятых годов. Что именно ему принадлежат повести «Люди Флинта», «Игра в жмурки», «Последний шанс «плебея» — грустноватые и язвительные одновременно «исповеди сынов века». Что в его активе «Открытый урок» и «Рог изобилия» — на удивление проницательные и рельефные «очерки» современных нравов и современных характеров. Что он, наконец, автор гротескной, полуфантастической-полупародийной истории «Кот — золотой хвост», знакомящей читателя с терзаниями, треволнениями и мечтаниями нынешнего «маленького» (непременно в кавычках!) человека…
Нет уж, не спешите с преждевременными оценками, говорю вам еще раз. Попробуйте-ка вчитаться в один, два, три абзаца. Или хотя бы пробегите их глазами: проза Валерия Алексеева, зная силу своей притягательности, снисходительно допускает и подобное легкомыслие в отношении к себе. Благо, беглого только знакомства с несколькими наудачу выхваченными фразами все равно будет достаточно: сами не заметите, как очутитесь на крепком поводке заинтересованности и уж тогда не оторветесь от книги. Да и как, правду сказать, отрываться, если одна повесть, к примеру, являет собою монтаж следственных материалов по делу об убийстве, а другая, выполненная по всем законам психологического реализма, начинается с обстоятельностью, заставляющей отложить все свои дела и читать, читать дальше:
«Утром, часов около десяти, надевши белую майку и черные сатиновые шаровары, Иван Федотович вышел в сени писать стихи. Он взял за правило работать в сенях: там было прохладнее и гораздо меньше, чем в самой избе, донимали мухи. Пригладив две длинные желтые прядки, лежавшие наискось через лысину, Иван Федотович сел за шаткий стол, покрепче уперся босыми ногами в сырые холодные половицы и, беспокойно оглянувшись, произнес:
— Плывем. Куда ж нам плыть?»
Чтобы войти в мир «назидательной прозы» Валерия Алексеева и уютно обжиться там, не нужно делать специальных усилий. Ее никак не назовешь «трудной», «темной», намеренно усложненной, требующей от входящего изрядной «читательской квалификации» или на худой конец сноровки. Напротив, ее так и хочется определить полузабытым словом — общедоступная, ибо проза эта, обладая редкой приманчивостью, открывает каждому читателю доступ к тому уровню художественного смысла, к постижению которого он, читатель, чувствует себя в настоящее время готовым.
Истинное удовольствие, можно надеяться, получат поклонники детективного жанра, знакомясь с повестями «Гипноз детали» и «Уточненная подлость», — столь совершенно владеет писатель искусством «криминальной» интриги, ловко подбрасывая одну загадку за другой, лихо запутывая и распутывая на глазах у читателей нити напряженного действия. Не в убытке, судя по всему, останутся и приверженцы фантастики, как научной, так и сказочной, хотя в повестях «Выходец с Арбата», «Удача по скрипке», «Чуждый разум» их и поджидают непредвиденные сюжетные повороты отнюдь не фантастического свойства. А юмор, столь свойственный Валерию Алексееву еще со времен «Людей Флинта» и «Светлой личности»?.. В распоряжении автора целый арсенал комических средств — от прямого сарказма до беззлобного подтрунивания, от язвительной иронии до пародийных розыгрышей, — и пользуется он ими, надо сказать, с веселой и обдуманной расточительностью, извлекая всякий раз тот художественный эффект, какой и предусматривался.
Порою кажется, что Валерий Алексеев как бы «играет» сам с собою, ставя себе задания одно сложнее другого, пробуя все многообразие возможностей русского художественного слова, испытывая свои силы в равных жанрах и разных манерах: «Детектив?» — «Вот вам детектив». — «Фантастика?» — «Будьте любезны», — «Психологический этюд?» — «Прошу вас…» Ему явно интересно, явно весело писать прозу, менять стилистическую аранжировку, вживаться в чужой, а нередко и в чуждый нравственный опыт, обрывать повествование именно тогда, когда читатель почувствует себя наиболее заинтригованным и увлеченным.
И веселость эта, не от щедрости ли таланта исходящая, как-то сразу, с первых же строк, передается читателю, вовлекая его в действие, в «свойские» отношения с персонажами, побуждая жадно перелистывать страницы и досадовать, досадовать, что повести так скоро кончаются, а ведь столько интересного еще можно было бы узнать, столько пережить вместе с героями!.. Причем веселость эта передается с такой лукавой непринужденностью, что читателю и догадаться-то некогда: да нет же, не с самим собою вовсе играет автор, а с ним, с читателем, его приманивает и приглашает в собеседники, на его понимание рассчитывает, его доверием гордится…
Отличный рассказчик, Валерий Алексеев ни на секунду не забывает о читателе, дорожит его интересами и привязанностями, с обаятельной отвагой пользуется его слабостями и привычками. Он твердо помнит: первейшая обязанность писателя — увлечь собеседника, добиться, чтобы чтение именно этой книги доставляло удовольствие, приносило радость едва ли не чувственную, чтобы сам процесс чтения хотелось бы длить и длить… Стоит пренебречь этим долгом, хорошо известным всякому опытному собеседнику, и самые благие помыслы, самые глубокие идеи и самые утонченные переживания обесценятся, оставшись попросту невостребованными.
Так случается, увы, нередко со многими — в том числе и хорошими! — прозаиками, имеющими что сказать, но не владеющими «малопочтенным» даром занимательности, если хотите, беллетристичности. И так никогда не случается с Валерием Алексеевым вне зависимости от того, пишет он повесть о чистой и горькой первой любви («Игра в жмурки») или пересказывает в фарсово-бытовом ключе бродячий сюжет о продаже души за всяческие блага («Удача по скрипке»), обличает самодовольный рационализм («Последний шанс «плебея») или исследует, социологу подобно, круг ценностей рядового интеллигента городской складки («Рог изобилия»). Он знает, где необходимо установить дистанцию между рассказчиком и слушателями, а где можно сократить ее до предела; где следует максимально активизировать читательское внимание, не чураясь самых авантюрных решений, а где стоит дать ему передышку, помедлить, с тем чтобы очередной сюжетный кульбит был неожидан, а финальная реплика прозвучала, как ей и положено, ударно, звонко, точно.
Надо ли говорить что подобная искушенность в читательских запросах, подобная распорядительность в использовании приемов и средств из арсенала «сугубой» беллетристики ровно ничего общего не имеют с малодушным стремлением приноровиться к аудитории, потрафить вкусам наиболее невзыскательной ее части и сорвать аплодисменты, наскоро перелицевав дюжину потрепанных красивостей и пару-тройку изрядно потускневших афоризмов?
Проза Валерия Алексеева — серьезная проза.
И разговорно-легкий, «нарядный» слог, и изобретательная простота сюжетных конструкций, и занимательность повествования, которую никогда, впрочем, не заподозришь в родстве с развлекательностью, и ирония как основной принцип интонационной организации — все это здесь отнюдь не самоцель, но средство, способ взаимодействия художника с широкой, демократической, молодежной по преимуществу аудиторией. Прививая дичок массовой беллетристики к вечнозеленому древу серьезной литературы, он ясно сознает вспомогательный, служебный характер всех ухищрений беллетриста. Он непреклонен в решимости выполнить первейшую обязанность прозаика — увлечь читателя, безраздельно завладеть его вниманием, но помнит, что это только первейшая, а отнюдь не главнейшая и, уж во всяком случае, не единственная обязанность писателя.
Весь вопрос в том, во имя чего увлечь…
Читатель, внимательно следящий за творческой эволюцией Валерия Алексеева, отметит, наверное, что в последних своих работах писатель явно предпочитает «выдергивать» героев из плотного и цепкого бытового окружения и помещать их в условия едва ли не лабораторные. Вспомните, какими сочными мазками был выписан фон в «Людях Флинта», как густо была «заселена» повесть «Светлая личность», какое многообразие житейских связей опутывало незадачливого героя «Игры в жмурки».
Теперь иное. Число персонажей сведено к минимуму, причем поставлены они в столь жесткие отношения друг с другом, что возможность постороннего воздействия на их переживания и поступки практически исключается. Никаких неучтенных «шумов» и «помех»! Все, что не работает непосредственно на выявление сверхзадачи, изгнано за пределы сюжета. Фабульные конструкции оголены, условия задачи обозначены с неукоснительной строгостью.
А конфликты?.. Ну что это, помилуйте, за конфликты? Сотрудник солидного исследовательского института, дабы доказать истинность своей научной гипотезы, пользуется услугами весьма сомнительною субъекта, умеющего, благодаря каким-то своим психоанатомическим аномалиям, кого угодно побудить к чему угодно («Выходец с Арбата»). В чрезвычайно важном учреждении — опять-таки научном! — обнаруживается инопланетянин, сообщающий своим неведомым собратьям по разуму слухи, гуляющие по отделам и коридорам этого почтенного учреждения («Чуждый разум»). Скромная служащая ателье проката продает некоему филиалу свою бессмертную душу в обмен на музыкальный гений сына («Удача по скрипке»).
Все произвольно, фантастично, в высшей степени условно. Но странное дело: читателя нимало не смущают подобные условности. Более того, усвоив предложенные писателем «правила игры», он готов допущения эти принять за реальность или, скажем осторожнее, зэа модель реальности. Следя за ходом авторской мысли, не скованной требованиями здравого смысла и житейской вероятности, ему, читателю, легче разглядеть только что нарождающиеся и утверждающиеся лица, нравы, характеры. Будучи помещенными в условия почти лабораторные, преломляясь и фокусируясь в сложной системе зеркал, эти характеры высвечиваются с той рельефностью и определенностью, которая, пожалуй, что и невозможна в обычной обстановке. Авторское внимание как бы концентрируется, собирается в мощный пучок, материализующий даже то, что в жизни материализоваться пока не успело. Именно поэтому очерченные немногими, но сильными штрихами персонажи Валерия Алексеева, даже самые эпизодические, приобретают редкую психологическую убедительность и запоминаются прочно, будь то блистательный Конрад Д. Коркин или благопристойный тихоня-убийца Илья Кузьмич Тихонов. И не забыть бы здесь же обидно-снисходительную, обидно-заботливую (да, да, бывает и такое!) жену безвестного поэта Ивана Федотовича, а равно и трогательную Вавку, купившую свое счастье в подворотне близ магазина «Маруся», а также многих и многих других персонажей «назидательной прозы»!..
Валерия Алексеева не занимают психологические аномалии и диковинные отклонения от нормы. Напротив, его интересует как раз норма, а говоря точнее, то, что принято считать нормой. Ему важно понять суть самых что ни на есть рядовых, заурядных даже характеров, определить уровень их духовной независимости и нравственной зрелости, нащупать как их сильные стороны, так я уязвимы» места. Обычный человек в обычной обстановке зачастую и не подозревает о том, как выявился бы его нрав в условиях неординарных, необиходных. Проницательный диагност, Валерий Алексеев предоставляет своим «подопечным» возможность увидеть собственные задатки и свойства вполне развившимися, укрупненными, доведенными до логической крайности, а то и просто до шаржа.
Оттого-то, наверное, рассказывая свои забавные и печальные истории, Валерий Алексеев никогда не удовлетворяется достижением внешней схожести повествуемого о реальностью. Скучно быть копиистом-пятерочником, да и не открывается копиисту душа явления. Куда интереснее сосредоточить свое внимание на том, что в нашей жизни пока только складывается, топорщится, приминается, меняет на глазах очертания, на том, что не веем еще ведомо и заметно. Можно поставить перед читателем зеркало, послушно отражающее все прыщики и морщинки до единой. Но куда интереснее и важнее установить перед человеком сложно и точно сбалансированную систему зеркал: вглядись-ка в себя, любезный, вот в этом именно ракурсе, попробуй оценить себя со стороны, прикинь, так ли ты хорош и порядочен, как тебе впопыхах кажется, подумай, как вел бы ты себя в ситуациях непривычных, словно очищенных от житейского «сора»!..
Оттого, наверное, с таким постоянством в последних своих работах писатель прибегает к гротеску, сатирическому заострению, парадоксу. Ведь и в фантастических допущениях ему дорога не научная (или квазинаучная) подоплека, а парадокс, смысловой «перевертыш», дающий возможность вывернуть ситуацию наизнанку, показать не только глянцевый фасад характера, но и черный двор его, куда сам герой, пока не прижмет, и заглядывать-то не станет.
Какая разница, в конце концов, встретился ли действительно рассказчику из «Выходца о Арбата» роковой соблазнитель, обладающий демоническими способностями, или он лишь пригрезился герою, попытавшемуся на мгновение материализовать затаенные свои мечтания властвовать, мстить, вершить суд скорый и неправый, руководствуясь лишь собственным произволом. Несравненно важнее понять, к сколь опасным последствиям может привести зазор между чрезвычайно высокими моральными самооценками героя ж его реальным поведением в условиях абсолютной вседозволенности и безнаказанности. Важнее определить причину и цену этического релятивизма, или, скажем проще, нравственной неразборчивости в выборе средств и целей.
Мы вправе — еще один пример — принимать или не принимать на веру «инопланетность» весьма серенького и невзрачного Фомина, своего рода «человека толпы». Но мы обязаны видеть и предвидеть, как противно всем нормам человеческой порядочности способна развернуться торжествующая посредственность, почувствовав себя исключительной натурой, рожденной повелевать, как разум, по всем обычным меркам заурядно-нормальный, может оказаться «чуждым» и бесчеловечным.
Каждое произведение Валерия Алексеева из входящих в эту книгу — своего рода нравственный эксперимент, проверяющий человека на стойкость, терпимость, порядочность, чуткость, то есть на человечность в широком и глубоком значении этого слова. Или — воспользуемся названием одной из давних повестей писателя — «открытый урок» нравственности. Урок отлично спланированный, увлекательный, изобилующий, как это и положено, неожиданностями и парадоксальными сдвигами смысла, подбрасывающий этические задачки одна труднее другой.
А раз так, то не надо обольщаться веселостью и занимательностью историй, поведанных писателем. Проза Валерия Алексеева и впрямь назидательна, как назидательна всякая хорошая литература, сеющая «разумное, доброе, вечное», имеющая своею целью пробудить в человеке Человека, воспитать в нем органическое неприятие пошлости и фальши, сформировать его нравственный опыт.
Сергей Чупринин

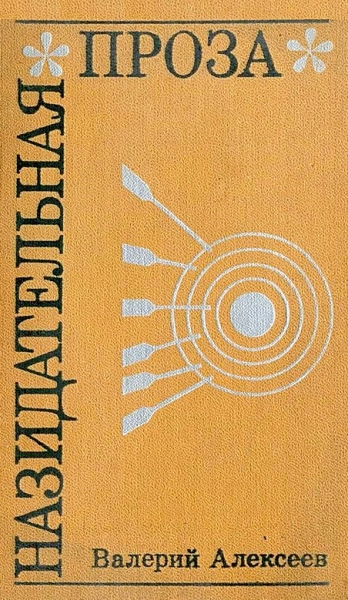









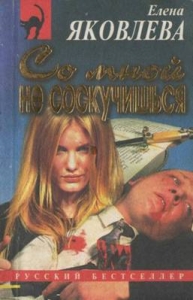
Комментарии к книге «Назидательная проза», Валерий Алексеевич Алексеев
Всего 0 комментариев