АНАТОЛИЙ Афанасьев
ГЛАВА 1 ГОД 2024. ПОИСКИ ПРЕСТУПНИКА
На центральной площади Раздольска народу тьма — человек сорок, пятьдесят набежало. Можно сказать, все трудоспособное население: женщины преклонных лет, инвалиды да и кое–какой молодняк. Две ярко накрашенные девчушки, Света и Зина, покуривали травку под навесом, к ним прибился Сашка Прохоров, двадцатилетний бездельник, недавно вернувшийся с лесоповала. В городке Сашку побаивались, он был бритоголовый, фашист. Вот и сейчас, средь бела дня, никого не стесняясь, сосал из горлышка «Клинское» и, матерясь на всю площадь, заманивал девушек в лесок. Света и Зина шутливо отнекивались. Обе были профессионалками, работали на трассе Раздольск — Москва, им бесплатные утехи западло, хотя бы и с Сашкой.
Народ третий час топтался на площади; ждали гуманитарную помощь, но фургон, как всегда, запаздывал. Мог и совсем не приехать. Последний раз продукты подвозили месяц назад, да и то — выдали на рыло по пакету ячневой крупы, по пачке черных галет и по упаковке корма «Педи- гри» — смех и слезы. Однако уже стало доброй традицией по вторникам, в день выдачи, всем, кто еще вставал с постели, собираться на площади. Все ж таки какое–никакое общение, соборность. Да и где еще было встречаться? Школы позакрывали в связи с окончательным падением рождаемости, церковь оборудовали под приют для наркоманов, а в ночной клуб «Харизма» аборигенов не пускали. Там на дверях висела табличка: «Вход — 100 долларов». Шутка, конечно. С тех пор как перестали выдавать пенсию (пенсионная реформа!), деньги в городе превратились в фантом.
Далеко за полдень, когда разочарованный народец уже собрался было расходиться, на площадь, чихая простуженным движком, влетел знакомый фургон, опоясанный по бортам рекламными плакатами. Но не успели люди выстроиться в гомонящую цепочку, как следом выкатился автобус «Мицубиси» с миротворцами. Толпа обреченно замерла.
Высыпавшие из втобуса вооруженные бойцы споро взяли в каре гранитное возвышение, где в незапамятные времена стоял батюшка Владимир Ильич с воздетой к небесам рукой. На постамент поднялся Зиновий Германович Заши- балов, бессменный в течение двадцати лет мэр Раздольска. Правда, в последние годы горожане видели его редко, разве что в день всенародных выборов, когда Зиновий Германович обращался к ним по местному телевидению с пламенной речью. Поговаривали, будто Зашибалов давно перебрался на постоянное место жительства в Ниццу, что, впрочем, только усиливало к нему народную любовь. Разумеется, все сразу поняли: произошло что–то чрезвычайное, если посреди мертвого сезона мэр бросил все свои дела и примчался в город вместе с миротворцами.
Перед самым выступлением Зиновия Германовича случился неприятный инцидент. Среди миротворцев выделялся красивый, могучий негр, на две головы выше своих товарищей. Со своей верхотуры он разглядел девчушек и парня, распивающих пиво под навесом, сделал знак другому миротворцу, из тех, кого не так давно пресса именовала не иначе как «лицами кавказской национальности», и вдвоем они ринулись через толпу, пинками расшвыривая не успевших посторониться старух и инвалидов. Приблизившись к молодняку, негр грозно потребовал:
— Аусвайс!
Забалдевший Сашка Прохоров не понял, чего от него хотят, и вместо того, чтобы предъявить справку о временном освобождении, протянул с улыбкой недопитую бутылку.
— Выпить хочешь, земеля? На, держи.
Негр забрал бутылку и ею же хряснул Сашку по башке, кавказец добавил прикладом автомата. Следующие несколько минут упавшую на площадь тишину нарушали лишь хруст ломающихся костей да утробные повизгивания девчат. Окончив экзекуцию, негр по–отечески их пожурил:
— Ай–яй–яй, такой симпатичный девочка связался с террористом.
— Маму, папу не слушал — и вот результат, — поддержал кавказец.
— Мы не знали, не знали, — взволнованно оправдывались Света и Зина. — Он сам подвалил.
Никого из горожан сценка не удивила. В Раздольске, как и по всему региону, второй год действовал комендантский час, но на мужчин моложе пятидесяти лет он не распространялся. С ними расправлялись на месте, если не оказывалось положенного допуска на передвижение. Меры суровые, но оправданные. Ничего беззаконного в них не было. Волны терроризма и фашизма, захлестнувшие цивилизованные страны, докатились наконец–то и до России, только–только укрепившейся на рыночных рельсах. Чтобы справиться с этой бедой, потребовались адекватные средства. После долгих дебатов и консультаций с Евросоюзом Дума приняла закон о так называемой «идентификации личности», по которому каждый гражданин, независимо от национальности и социального положения, не сумевший по первому требованию подтвердить свою лояльность, приравнивался к преступнику первой категории и подлежал уничтожению. Дабы новый закон не вступал в противоречие с незыблемыми основами демократии, Дума одновременно продлила на пятьдесят лет мораторий на смертную казнь.
Полицейским свистком Зиновий Германович успокоил загомонившую толпу и объяснил цель своего прибытия в Раэдольск. Оказывалось следующее. В городе, по сведениям Интерпола, скрывается некий Митька Климов, местный уроженец, подозреваемый в связях с экстремистской организацией «Крестоносцы». Организация известна тем, что не признает свободу слова и частную собственность. Митьку надлежит немедленно сдать в комендатуру. Только после этого начнется раздача продуктов.
— Сограждане! Братья и сестры! — торжественно возвестил Зашибалов. — Чем скорее мы покончим с этим маленьким дельцем, тем скорее разойдемся по домам с чистой совестью. Кстати, дорогие мои руссияне, хочу сообщить радостное известие. Сегодня в каждом пайке, кроме ячневой крупицы, банка тушенки и — внимание, мужики! — бутылка спирта. Ну!.. Кто знает про Митьку? Шаг вперед.
Сперва никто не откликнулся, толпа шушукалась, по ней пробегали круги, как от камешка по воде, наконец к возвышению, опираясь на суковатую палку, выдвинулся старец Иосиф. На вид ему было далеко за сотню, но многие из здешних помнили его молодым, шустрым секретарем райкома партии, а позже одним из учредителей офшорной компании «Монако», сгоревшей синим пламенем при правлении Кириенки.
— Отец родной, Зиновий Германович, мы бы со всей душой, — прошелестел старец в динамик, который держала у его губ старуха Матренушка, — кабы мы знали, кто таков этот самый Митька и что он есть на самом деле. Климовых в городе было много, цельных десять семей, но ото всех осталась одна братская могила. Последнего из Климовых, деда Пашу, в прошлом году туберкулез скосил. У нас тут есть к тебе встречное предложение.
— Какое? — заскучав, спросил сверху мэр.
— Мы твоего Митьку разыщем, ежели он где прячется. Но дай хотя бы пару деньков. А пока выдели покушать авансом, под наше верное стариковское слово.
Зашибалов хохотнул, и по взводу миротворцев тоже пробежал снисходительный смешок.
— Рад бы помочь, дедуля, да не в моей компетенции. Я ведь, как и вы, родимые, не вольный человек. Чуть оступлюсь — пожалуйте в международный трибунал. Но это справедливо. Только сообща можно одолеть эту заразу. Если бы не Америка, нам всем кранты. Разве не так, господа руссияне?
Толпа ответила одобрительным гулом, но старец Иосиф покачал головой.
— Побойся Бога, Зиновий Германович. Людишек осталось всего ничего, подкормить бы последний разок. На выборах голосовать за тебя некому будет.
Зашибалов оценил хитрость парламентера.
— Умен ты, дедуля, но за меня не переживай. Об земляках подумай. Говорю же, задеты международные интересы. Не сдадим Митьку, вообще получим шиш с маслом вместо жратвы. Ну да ладно, даю час времени, посовещайтесь, а я пока навещу кое–кого в городе.
На площади не было ни одного человека, который не знал бы, кого собрался проведать Зашибалов…
Митька Климов, недоучившийся студент двадцати двух лет от роду, уже сутки скрывался в подвале заброшенного дома на окраине. С этим домом у него были связаны приятные воспоминания. Семь лет назад тут располагалось общежитие ткацкой фабрики, где Митька провел много счастливых ночей. О благословенные времена! В ту пору весь пятиэтажный дом неумолчно звенел веселыми девичьими голосами, и во множестве потаенных уголков желанного гостя ожидали головокружительные приключения. Как сказано поэтом: «Будь смелым, мой милый, и будешь со мной…» Все кануло в Лету. Ткацкую фабрику приватизировали и закрыли, чудесные обитательницы общежития разлетелись в разные края, большинство, кто пошустрее, на панель, в доме на первых порах несколько фирм устроили свои офисы, потом кавказцы забрали его под перевалочную базу, а уж после того, как дом взорвали, снеся большую часть несущих конструкций, определили его на слом.
Прокололся Митя по–глупому. Последнее время в Москве он вел рассеянную жизнь мелкого добытчика. Подрабатывал то тут, то там, в основном на рынках и вокзалах — подай, принеси, толкни — на побегушках у хачиков, но не жаловался, на пиво и на плату за комнату хватало. Жил в полупьяной одури с утра до ночи, как и большинство его сверстников, не прибившихся толком ни к одной солидной группировке. Особенно и не жаждал прибиться, высоко ценя личную свободу. В тот день ему повезло: раскатал двух залетных пожилых бизнесменов на малолеток, подсунул им прыщавую тамбовскую Нюрку с подружкой и слупил стольник чистоганом. Зеленью, разумеется. Видно, у мужиков свербило, раз клюнули, ведь такие, как шалопутная четырнадцатилетняя Нюрка, на вокзале шли по двести, триста рублей за сеанс. Тем более что спидоносицы.
С деньгами Митя позволил себе плотный обедец в любимой харчевне близ Даниловского рынка, а ближе к вечеру заторчал в скверике с незнакомым, прилично одетым господином лет тридцати. Ему сперва померещилось, что опять поперла халява. Господин, назвавшийся Семеном, угостил его натуральным «Мартелем» и туманно намекнул на приятное для них обоих дальнейшее времяпрепровождение. По правде говоря, Митя был уверен, что наткнулся на бродячего педика, и уже прикидывал, как половчее вытянуть аванс, а потом крутануть динамо. Тут у Мити был богатый опыт. Обвести вокруг пальца распалившегося педика намного проще, чем стибрить подгнившую грушу у кавказца. Похоже, эта уверенность его и подвела. Он расслабился, дымил травкой, попивал сладкий коньячок, а когда педик завел речь о политике, охотно ему поддакивал и сам не заметил, как приблизился к опасной черте. Семен, яростно сверкая глазами, нещадно крыл и глобализацию, и поганых американосов, и весь миротворческий корпус, который распоясался и ведет себя в столице, как в борделе. «Надеюсь, Митя, ты патриот?» — сурово поинтересовался обличитель, и в ответ Митя обиженно ударил себя в грудь кулаком. Педик долил в пластиковый стаканчик остатки коньяка, подождал, пока Митя выпьет, и, оглянувшись по сторонам (уже темнело), тихо спросил:
— Про крестоносцев случайно ничего не знаешь?
Тут бы Мите спохватиться, уразуметь, что к чему, но в нем играл коньяк, вот он и нагородил с три короба. Ни про каких крестоносцев он, естественно, слыхом не слыхивал, решил, что речь идет о какой–то религиозной секте, но торжественно заявил, что эти самые крестоносцы ему как родные братья, и если Семену требуется рекомендация…
После этого заявления педик Семен изменился в лице, посмурнел, достал из кейса, где до этого у него был коньяк, штатовские браслеты и нормальным, не педерастическим голосом объявил:
— Все, парень, спекся… А ну, давай лапки.
Митя не сопротивлялся, сознавая, что слишком пьян и выйдет только хуже. Новый знакомый, оказавшийся сексотом, отвел его в ближайший полицейский участок, где с него сняли показания, установили личность, адрес и слегка отволтузили для профилактики, выбив два передних зуба. После чего заперли в клетке до утра.
Среди ночи он почувствовал, что у него разрывается мочевой пузырь, и кое–как уговорил дежурного полицейского отвести его в сортир. И тут ему повезло: дюжий детина с медной американской бляхой на груди оказался еще пьянее, чем Митя был несколько часов назад, и, выйдя из сортира, Митя увидел, что тот уснул на табурете мертвым сном, свесив буйную голову на грудь. Поборов соблазн освободить мента от автомата, висевшего на боку, Митя на цыпочках прокрался к входной двери — и без препятствий вышел на улицу.
К полудню следующего дня он уже был на малой родине и вот теперь сидел в подвале заброшенного дома. Прокрался задами, кажется, его никто не заметил. Домой заходить не собирался, там его никто не ждал. Отца три года назад забрали на торфоразработки, откуда он так и не вернулся, пропал без вести, что было чрезвычайно распространенным явлением. Матушка Мити после исчезновения единственного кормильца запила горькую и в пьяном кураже завербовалась на два года на рисовые плантации в Китай. Изредка Митя получал от нее короткие весточки на Московский главпочтамт до востребования. В последнем письме мать сообщала, что у нее все хорошо, не голодает, и, хотя работа круглосуточная, братья–китайцы относятся к русским рабам милосердно, почти как к людям… Ключ от квартиры в Раздольске Митя однажды потерял вместе с паспортом, так что, можно считать, у него не было и родного дома, и все же, когда пятки прижгло, примчался именно сюда.
Он прекрасно понимал, какая ему угрожает опасность. Одно дело влететь на мокрухе или, скажем, на наркоте, и совсем другое, если потянут за политику. В лучшем случае, коли не станет финтить и запираться, получит от десяти до пятнадцати, в худшем грозило пожизненное.
Митя пока не отчаивался, у него был план спасения, который вчерне созрел еще в участке. Он собирался уйти на Кубань, оттуда в Европу, но для этого надо было сначала
разыскать Димыча, Диму Истопника, единственного человека, который, если захочет, сможет помочь.
…Только днем казалось, что Раздольск вымер. С приближением ночи в юроде начиналось утробное копошение, словно в туше зверя, оккупированной червями. Подтягивались людишки из окрестных лесов, оживали подвалы и чердаки, фантастическим цветком, разбрасывая неоновые радуги, распускался ночной клуб «Харизма», обосновавшийся в восьмиэтажном здании бывшего горсовета…
ГЛАВА 2 ПАШИ ДНИ ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Здесь меня прервали. Зазвонил телефон, и я оставил строку недописанной. Кто бы это мог быть? В последнее время мне редко звонили, тем более в половине десятого утра… В трубке мужской голос, незнакомый, нейтральный.
— Господин Антипов?
— Да, с кем имею честь?
— Вы автор книги «Жизнеописания странников»? Я не ошибся?
— Не ошиблись… И в чем дело?
— Виктор Николаевич, — голос в трубке потеплел, обрел живые интонации, — у меня предложение, которое, надеюсь, вас заинтересует.
— Слушаю.
— Обсуждать по телефону не имеет смысла. Желательно встретиться.
— Вы не представились…
— Извините, меня зовут Гарий Наумович Верещагин. Юрист концерна «Голиаф». Слышали о таком?
Я напряг память.
— Который спонсирует телешоу «Жадность» и торгует итальянской сантехникой?
— Не только это, Виктор Николаевич. — Собеседник коротко хохотнул, словно услышал удачную шутку. — «Голиаф» — многопрофильная организация, но… все–таки проще встретиться. Как у вас со временем? Скажем, в районе двух–трех часов?
— Гарий Наумович, хоть намекните, о чем речь. Я ведь в сантехнике не разбираюсь.
— Вы остроумный человек, это приятно… Нет, Виктор Николаевич, вам не придется заниматься сантехникой. Вы же писатель?
Ответить на этот вопрос однозначно было непросто. О том, что я писатель, кроме меня, знал небольшой круг знакомых и родственников, да еще, пожалуй, трое–четве- ро издателей, кому я носил свои романы (их у меня целых четыре). С завидным постоянством эти романы возвращались ко мне обратно, иногда через два–три месяца, иногда через год. Три рукописи вообще затерялись, исчезли, но, естественно, это были копии. Оригиналы хранились на дискетах и в компьютерной памяти. Выход небольшим тиражом «Жизнеописания странников» можно считать приятной случайностью, слегка польстившей моему самолюбию, не более того. Книга представляла собой беллетризованные биографии Леонардо да Винчи, Коперника и Ньютона, объединенные мыслью, что все трое были пришельцами. Смелый человек Сева Парфенов, рискнувший выпустить «Странников» в свет, вскоре после того и разорился. Как–то за дружеским винопитием Сева поделился со мной любопытной догадкой. Оказывается, он считал, что причиной его разорения был не дефолт, не коммерческие просчеты, а тот факт, что он прочитал подряд все мои сочинения. Летом мне стукнет тридцать шесть лет, и в связи со всем вышесказанным я без энтузиазма оглядывался на прожитую жизнь, если к этому еще добавить, что даже те, кто знал, что я писатель, частенько в этом сомневались.
— Допустим, — сказал я с вызовом. — Допустим, писатель. И что из этого следует?
— Зачем же так? — мягко заметил Гарий Наумович. — Вы писатель без всяких «допустим». На мой взгляд, один из лучших. Ваших «Странников» я прочитал за одну ночь. Замечательная вещь.
Я буркнул что–то невразумительное, не веря в его искренность. Давненько не слышал таких комплиментов. В прежние годы меня иной раз похваливала жена, особенно если удавалось слямзить приличный гонорар за какую–нибудь статейку в журнале, но с ней мы развелись три года назад.
— Кстати, Виктор Николаевич, мое предложение может оказаться для вас неплохим финансовым подспорьем. Насколько мне известно, настоящие писатели в наше время не самые богатые люди. Или деньги вас не интересуют?
Тут он, разумеется, попал в точку. Если что–то меня и интересовало по–настоящему, то именно они, родимые. На плаву я держался лишь благодаря тому, что калымил по вечерам на своей старенькой «девятке». И так уже пять лет подряд. Иногда, правда, подворачивалась возможность устроиться на более или менее приличную постоянную работу, но всякий раз я находил причины, чтобы отказаться. Не то чтобы я считал себя гением, который не имеет права растрачивать драгоценное время на ерунду, но что–то все же удерживало. Видно, сказался неудачный опыт, когда я несколько месяцев проработал репортером в «Вестнике демократии», а потом еще с полгода ходил словно вывалянный в дерьме.
— Хорошо, Гарий Наумович, говорите, где и когда?
…Кафе под названием «Орфей» на улице Чкалова я разыскал легко — и удачно припарковался. В вестибюле сообщил (как было велено) метрдотелю, что я к Верещагину; пожилой дядька приветливо заулыбался, несколько раз поклонился и отвел меня в отдельный кабинет, огороженный плетеными ширмами. Как я понял, проходя через зал, это было одно из тех загадочных заведений, где новые русские удовлетворяют свои изысканные кулинарные капризы. Цены в таких местах диковинные, обстановка богатая, всегда с уклоном в интим, обслуживание на европейском уровне. Гарий Наумович уже меня ждал. Это был осанистый мужчина лет за пятьдесят, в добротном дорогом костюме, при галстуке и с приклеенной к пухлому лицу доброжелательной улыбкой. Впоследствии я узнал, что таких улыбок- масок у него было несколько, на разные случаи жизни. Первая, какую я увидел, означала примерно следующее: наконец–то мы встретились, душа моя!
— Прошу, — радушно пригласил он к накрытому столу, после того как мы обменялись рукопожатием. — Перекусим, как говорится, чем Бог послал.
Единственное, что мне в нем сразу не понравилось, это глаза под припухшими, веками — чуть слезящиеся и такие, словно он смотрел на вас сквозь оптический прицел. Взгляд неуловимый, расплывчатый, как у медузы, никак не соответствующий общему выражению лица. Осторожный человек, встретившись с таким взглядом, наверное, приложил бы максимум усилий, чтобы не вступать в контакт с его владельцем, но, во–первых, думать об этом было поздно, а во–вторых, голос разума дремал во мне далеко не первый год.
Стол являл взору полный джентльменский набор: холодные закуски, салаты, икра, чуть позже на горячее подали осетрину на вертеле. Из запивок — водка, белое и красное вино, крюшоны и минералка. Но я сразу предупредил, что не пью за баранкой. Гарий Наумович огорчился, но не слишком. Сам он лихо опрокидывал рюмку за рюмкой, бесстрашно мешая водку с вином.
Однако вскоре все эти мелочи — еда, питье, психологические нюансы — утратили всякое значение, слишком необычным мне показалось то, что я услышал. Речь шла о Леониде Фомиче Оболдуеве, крупном предпринимателе, банкире, спонсоре, защитнике прав неимущих и так далее, то есть об известной, замечательной в своем роде фигуре. Леонид Фомич, ласково прозванный в народе «Боровом», был одним из тех, кто сказочно обогатился при царе Борисе, когда растаскивали страну по сусекам, а теперь, вместе с сотней–другой себе подобных везунчиков, тайно управлял бывшей империей.
Суть предложения, переданного Гарием Наумовичем от лица магната (чему я до конца еще не верил), заключалась в следующем: написать биографию господина Оболдуева, но не просто биографию, а художественное произведение, знаковую книгу, нечто подобное «Исповеди…» Боба Ельцина или «Запискам о галльской войне» Юлия Цезаря. Сей замысел был якобы продиктован отнюдь не самолюбием Оболдуева, о нет, он являлся важным социально–общественным деянием. Мотив такой: молодежи необходимы примеры для подражания, иначе она вся целиком скатится в бездну цинизма и апатии. Коммунисты, как к ним ни относись, это прекрасно понимали, и, начиная с Павки Корчагина, поставили производство идеологизированных кумиров на конвейер, не жалея на это денег и средств. Пусть это были не живые персонажи, тряпичные куклы, но они были, как есть и сегодня в любой цивилизованной стране, задумывающейся о своем будущем. Взять ту же Америку, пожалуйста — Рэмбо, Рокки, Терминатор, Фредди Крюгер — и еще с десяток привлекательных, полноценных образов, на которых можно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма.
— Уверяю вас, Виктор Николаевич, — Верещагин глубокомысленно наморщил лоб, — босс относится к этой затее очень серьезно. Можно сказать, душевно ею увлечен.
Слегка ошеломленный, я только и нашелся, что спросить:
— Но почему он выбрал именно меня? Разве мало литературных живчиков, которые уже набили себе руку? Да их пруд пруди.
— По моей рекомендации, Виктор, по моей рекомендации. Полагаю, вы еще меня поблагодарите.
— А если не справлюсь?
Расплывчатый взгляд толстяка на мгновение сфокусировался на моей переносице.
— Об этом не стоит говорить. Справитесь.
— Пожалуй, разумнее отказаться. Вряд ли я достоин того, чтобы…
— Не откажетесь, Виктор Николаевич. — Он алчно нацелился вилкой на ломоть бледно–розовой семги. — Вы же не враг себе, верно? Торопить никто не будет. Полгода, год — сколько понадобится. Естественно, какое–то время уйдет на адаптацию. Войдете в семью. У вас будут помощники. Все что угодно. Возможно, Леонид Фомич сочтет нужным посвятить вас в свой бизнес… Условия такие: пять тысяч долларов ежемесячно и сто тысяч гонорар по окончании работы.
— Сколько?
— Сумма не окончательная. — Соблазнитель улыбался, точно шулер, скинувший из рукава козырного туза. Я почувствовал, что бледнею. Гонорар в сто тысяч долларов не
умещался в сознании. Я даже не спросил себя, зачем мне такие деньжищи? Куда их спрячешь? Как пропьешь? Впоследствии не раз вспоминал эту минуту, роковым образом изменившую мою жизнь.
— Конечно, это большие деньги, но…
— Никаких «но», Виктор Николаевич, никаких «но». Удача, как красивая женщина, не любит, когда ею пренебрегают. И мстит порой жестоко. — Он обтер замасленные толстые губы салфеткой с алой эмблемой «Орфея», достал из кармана мобильник и, глядя мне в глаза, но как бы и в разные стороны, набрал какой–то номер. В ту же секунду на его лице возникла улыбка, обозначавшая: ваше высочество, я здесь!
— Леонид Фомич, извините, что беспокою… Да, все как уговорено, писатель со мной… Разумеется, счастлив, еще не совсем пришел в себя… Конечно, конечно… Через полчаса будем у вас… Нет, никаких сомнений… Слушаюсь, Леонид Фомич.
Окончив разговор, взглянул на меня победно, но, как мне почудилось, с оттенком сочувствия.
— Что ж, Виктор Николаевич, теперь все зависит только от вас.
Трудно описать первое впечатление от знакомства с знаменитым магнатом, вершителем судеб. Человек будущего. Добрый дядюшка, примеривающийся, как ловчее разрезать именинный пирог. Внешность: ушастый, блеклые глаза навыкате, словно после нервического припадка, взъерошенный, с корявым туловищем, затянутым в костюм стоимостью, наверное, не меньше двух–трех тысяч баксов. Благообразный, основательный, расчетливый в каждом жесте, улыбке, слове. Аудиенция заняла не больше пяти минут. Разговор происходил в кабинете. Из обстановки поразили меня не столько роскошная офисная мебель и телевизор во всю стену (нагляделись в магазинах и в кино, нагляделись, слава демократии!), сколько картины на стенах, принадлежащие, без сомнения, гениальному художнику–параноику — все в багряно–лилово–синих кричащих тонах и все с кровью, — где рука, где голова с выколотыми глазами, а где и сизые кишки, вываленные на синюю травку. При беседе присутствовал юрист Верещагин, прямо с порога ставший ниже ростом на голову. На его щеках цвела новая смиренная улыбка: хочешь дать оплеуху, хозяин, пожалуйста, я готов.
— Некоторые так называемые писатели, — мягко объяснил магнат, — пребывают в убеждении, что только их род занятий связан с вдохновением, с парением духа и прочее такое. Надеюсь, вы не принадлежите к их числу?
— Нет, — сказал я.
— Бизнес, уверяю вас, требует не меньшего таланта и творческих усилий… Кстати, я с вашими сочинениями не знаком, полагаюсь на мнение Гарика. Хочу предупредить: от своих сотрудников я требую полной отдачи. Так что придется попотеть. Я человек занятой, не всегда распоряжаюсь своим временем, как того хотелось бы, поэтому вы, Виктор, должны быть постоянно на расстоянии вытянутой руки, если я понятно выражаюсь… Какой сегодня день?
— Пятница, — ответили мы с Гарием Наумовичем.
— Правильно. Значит, завтра в половине десятого жду у себя на даче. Гарик объяснит, где это. С ним же будете решать все бытовые вопросы. Если… — Он не договорил — зазвонил один из телефонов на столе, позолоченный, с перламутровой трубкой. Оболдуев некоторое время слушал молча, хмурясь, потом недовольно буркнул: — Хорошо, подготовьте документацию, сейчас буду.
Обернулся к Гарию Наумовичу:
— Поедешь со мной, придется кое–кому прочистить мозги.
У меня спросил:
— Тебя как зовут, напомни, писатель?.
Я сказал: Виктор Николаевич. Магнат протянул руку.
— Правильно. Значит, Витя, до завтра. Постарайся не опаздывать. Не люблю.
ГЛАВА 3 У ДРУГА В РЕДАКЦИИ
Не долго думая я поехал к Владику Синцову, в «Вечерние новости». Мы вместе учились на журфаке, когда–то дружили, делили хлеб–соль. До сей поры поддерживали приятельство и иногда оказывали друг другу мелкие услуги. Нас связывала ностальгия по беззаботным студенческим временам и кое–что еще, о чем сказать нельзя, чему не учат в школах… Владик не одобрял мое затянувшееся писательство, не приносившее ни доходов, ни славы. Сам он сделал приличную карьеру в журналистике и сейчас процветал, входя в совет соучредителей крупного информационного агентства. Кроме того, заделался политологом и даже вел еженедельную (правда, ночную) колонку на кабельном канале. Приглашал и меня пару раз и за каждое выступление платил двести долларов, из рук в руки, минуя всякую бухгалтерию. Он был хорошим парнем, не жадным, веселым, всегда готовым посочувствовать чужой беде. Конечно, поварившись несколько лет в адовом котле, да еще соприкасаясь с политическим бомондом, Владик волей–неволей перенял характерные черты интеллектуальной деградации, но в этом было больше актерства, чем истинной сути. К примеру, мог некстати зайтись ужасным, визгливым смехом, как Починок, либо изрекал сентенции с грозным рыком, подражая удалившемуся на покой Борису, но внутри — уж я‑то точно знал — по–прежнему оставался добрым, задумчивым человеком, с которым мы когда–то проводили целые ночи в блаженных беседах за бутылкой портвешка.
Я приехал к нему, чтобы получить информацию.
И я ее получил. Услышав, о какой акуле идет речь, Владик увел меня из своего кабинетика, напоминавшего небольшой склад макулатуры, в нижний буфет, где подавали наисвежайшие бутерброды, прекрасный кофе с пенкой и бочковое немецкое пиво. Я пожалел, что за баранкой, а то бы тоже заправился кружечкой–другой. Мы устроились в уголке, но разговор то и дело прерывался, Владика окликали знакомые, и по тому, как с ним здоровались и как он отвечал, можно было легко догадаться, кто и какое занимает положение в здешней иерархии. Я рассказал, что Боров предложил мне работу, но какую, не уточнил, и как Владик ни допытывался, все равно темнил, неизвестно почему. Только намекнул, что работенка клевая, высокооплачиваемая и перспективная.
— В чем перспектива? — поймал меня на слове Владик.
— С допуском в святая святых. Завтра поеду к нему на дачу.
— В Барвиху?!
— Нет, в Звенигород.
— Иди ты?! — Владик поперхнулся пивом. — Там же у него все домочадцы. Можно сказать, семейное логово.
— Да, так и есть. — Я скромно потупился.
— Хорошо, и что ты хочешь от меня узнать?
— Кто он такой? Насколько опасно с ним связываться?
Владик кивнул. Задумчиво пережевывал бутерброд с икрой, прихлебывая темное пиво из высокой кружки. У меня аж слюнки потекли. Кофе и пиво — неравный брак.
— Тут еще нюанс, — добавил я. — Его сиятельство желают, чтоб я познакомился с нашим бизнесом.
— Теперь все?
— Нет. Они желают, чтобы я с их дочкой Лизонькой занимался грамматикой. Видно, неграмотная она.
После этих слов Владик осушил полный бокал водки. Я давно не видел, чтобы он так делал. Он был активным сторонником культурного пития. В отличие от меня. Мне где нальют, я и рад. Похоже, сильное впечатление произвели мои новости.
— Ты ее видел?
— Кого?
— Лизу.
— Где я мог ее видеть? А что она? Особенная?
Владик сделался предельно серьезным.
— Вот что я скажу, старина, ты даже отдаленно не представляешь, куда лезешь. И никто не представляет. Это, милый мой, дела тьмы.
Я решил, что Владик по давней традиции меня разыгрывает, но что–то в его тоне настораживало. Да и глаза подернулись ледком, как у покойника.
— Не темни, Влад. Я ведь не пиво приехал пить.
…Открылись диковинные вещи. К примеру, всем было известно, что люди из окружения господина Оболдуева имели обыкновение исчезать бесследно. Так, минувшей осенью канул в воду коммерческий директор одной из его многочисленных фирм, некто господин Загоруйко, известный на Москве как Жора Попрыгунчик. Не раз они с Оболдуевым вместе появлялись на телеэкране, где обычно философствовали о благе для матушки-России капиталистического уклада. Писали, что господин Загоруйко отмыл для хозяина через офшоры несколько миллиардов, в частности из тех, которые МВФ давал в долг. Пропал Загоруйко без всякого скандала, просто промелькнула информация, что уехал, дескать, стажироваться в Штаты, как все они уезжают периодически, включая членов правительства, — и с концами.
То же самое с последней подружкой Оболдуева Зинкой Ключницей, точнее Зинаидой Петровной Потешки- ной, примадонной Большого театра. Ключница в «Мазепе» — это роль, которую купил для нее Оболдуев, * отсюда и прозвище. Зачем прелестную девицу потянуло на оперную сцену — трудно сказать. До того, как вскружить голову Оболдуеву, Зинуля была звездой стрипварь- ете на Арбате — худо ли! Но — потянуло. Амбиция — мать прогресса. Может, сказалось то, что Оболдуев запретил ей оголяться на людях в варьете. Он все делал солидно. Купил Ключнице трехкомнатную квартиру на Садовом, провел в Думу, где она возглавила подкомитет по культуре и туризму. Она действительно была женщиной достойных качеств, хотя полностью так и не избавилась от повадок стриптизерши. Выказывалось это в мелочах, искушенному глазу, впрочем, заметных. То у Зины, вроде случайно, спадала бретелька платьица от Диора, то некстати вываливалась наружу грудь. Но все это лишь придавало пикантности ее публичным выступлениям. Естественно, телевизионщики в ней души не чаяли и приглашали практически на все шоу, включая такие серьезные, как «Под столом». Ее любимым коньком было раннее половое воспитание подрастающего поколения. Самым упертым домостроевцам она в два счета, ссылаясь на западных авторитетов, могла доказать, что все комплексы, заключенные в человеке и преждевременно сводящие его в могилу, имеют в своей основе всего лишь две причины: либо раннее изнасилование, либо пренебрежение к занятиям мастурбацией.
Зина Ключница, цвет и гордость всех московских тусовок, исчезла так же внезапно, как и Загоруйко, но в отличие от него, уехавшего якобы на стажировку, про нее пустили слух, что она отправилась рожать в Англию (чтобы сразу получить двойное гражданство), да так и рожает там третий год.
Эти двое — из крупняков, мелочовку и считать не пересчитаешь. То есть таких, как мы с Владиком. Немного я был ошарашен этими сведениями. Оболдуев — и фамилия какая–то зловещая, вызывающая смутные книжные ассоциации с врагом рода человеческого.
— И что ты об этом думаешь? — спросил я. г Владик после долгого говорения раскраснелся, а от водки слегка забалдел. Тут к нам за столик некстати подсела длинноногая девица с зелеными волосами, как ведьма, но при других обстоятельствах я бы не отказался с ней поближе познакомиться.
— Влад, — сказала ведьма. — Ты сволочь.
— Я знаю, — грустно признался Владик, у которого всегда были сложные отношения с ведьмами. — А почему я сволочь, Нателлочка?
— Ты обещал!
— Что обещал? У тебя же вроде Ванька Прошкин в кавалерах.
— Дурак, я не про это. Ты обещал поставить фельетон в субботний номер, а сейчас мне сказали, что его вообще вдвое сократили и перенесли на вторник.
— Кто сказал?
— Не придуривайся, Влад. Со мной такие штучки не проходят. Хочешь, чтобы все про тебя узнали?
Владик испугался.
— Нет, не хочу… Девочка моя, но ведь это очень взрывной материал. Если его поставить в субботу, он спалит весь номер. Люди устали от потрясений. У тебя там труп плачет в канализации. Причем детский. Какой же это фельетон?
Девица посмотрела на меня, почесала коленку.
— Вы тоже журналист?
— Нет, — сказал я. — Я у Влада на содержании. Вроде приемного сына.
— Это так, — подтвердил мой друг. — Кстати, я вас не познакомил. Если будет желание, Нателла, он все сделает, чего попросишь. Витькой его зовут. У него связи на самом верху.
— Юмористы, мать вашу, — почему–то выругалась зеленоволосая — и умчалась. Я повторил вопрос, но Владик не понял. То есть сперва не понял, водка в нем играла, решил, что я его редакционной шлюшкой заинтересовался, и это было странно. Многое было странно в нашем разговоре, а это — особенно.
— Чего тут думать? — бодро посоветовал он. — Бери бутылку и вези к себе. Кстати, окажешь мне услугу.
— Влад, кончай керосинить, тебе еще работать… Я спрашиваю, что значат все эти исчезновения? Он что — вроде Синей Бороды?
Владик начал вдумчиво шелушить креветки, жирные, будто промасленные.
— Много тебе посулил? — спросил проницательно.
— Деньги не главное, — соврал я в ответ. Или не соврал?
— Нет, он не Синяя Борода, он страшнее. И сколько бы ни обещал, все равно кинет… Витька, я тебя люблю, ты же талантливый человек… Вот если бы он мне лично обещал миллион, я бы все равно постарался смыться. Хотя…
— Что — хотя?
— Если он уже глаз положил, не смоешься. От него не смоешься. Он хозяин в России. Их всего таких, может, с пяток или чуть больше.
— И откуда же они взялись?
Вопрос был риторический. Мы оба с Владиком знали, откуда взялись Оболдуев и ему подобные, и откуда взялась вся нынешняя власть, и что она собой представляет. Судачили об этом не раз по пьяни и на трезвяка. Но где лучше? Где лучше жить, черт возьми, чем в наших Богом проклятых палестинах? Вот одна из сокровеннейших тайн бытия. Сидим по уши в дерьме, нюхаем дерьмо, жрем дерьмо, а чувство такое, будто по–прежнему парим.
— Вить, мне пора, — трезво сказал Владик.
— Иди, — напутствовал я его таким тоном, словно провожал в последний путь.
— Все–таки не пойму; зачем именно ты ему понадобился… С другой стороны, ты производишь впечатление недалекого честного парня. Это дефицит. Может, поэтому?
— Узнаю — сообщу, — пообещал я.
— Позвони вечерком, чего–нибудь накопаю.
— Спасибо, Влад. Только не хорони меня прежде времени.
— Сам себя хоронишь, и по роже видно, что этому рад.
Он ушел к себе, а я остался в буфете. Взял еще кофе и пару бутербродов и начал размышлять о сюжете, который вдруг развернула передо мной сама жизнь. Обычно в это время я сидел дома и работал, и эта привычка стала второй натурой. Сюжет прекрасный, суперсовременный. Олигарх, его дочь от проститутки. Или от герцогини. Один юрист Гарий Наумович стоил целого романа, если хорошенько взяться. Не за роман, а за юриста. Все–таки я был писателем и уважал себя за это. А иногда, напротив, презирал. Писательство, в сущности, самое никчемное занятие на свете, но в нем есть капелька волшебства, поэтому люди к нему и тянутся. Свои четыре романа я не любил и в душе был согласен, что их не надо печатать. Но силу в себе чувствовал. Ту самую, от которой стонут по ночам. Писатели бывают разные, но, как правило, это чрезвычайно самолюбивые люди и обязательно с какими–нибудь закидонами, фобиями. Без этого нельзя. Если у тебя нет никакой фобии, то ты не писатель, а щелкопер. Фобии бывают опасные, на грани членовредительства, а бывают вполне невинного свойства. Я был знаком с литератором (известная фамилия), который свихнулся на медицине, и любимым его присловием было: кто медленно жует, тот долго живет. Бедолага дотянул до сорока лет, хотя питался червями и орехами по системе Голдмана, зато оставил после себя сборник прекрасных рассказов, который до сих пор иногда переиздают крошечными тиражами. Другой пил мочу. Третий совершенно всерьез считал себя реинкарнацией Будды, но сочинял романы на бытовые темы, правда перенасыщенные чудовищными непристойностями. Жизнь представлялась ему ужасным кошмаром кровосмесительства, и этот кошмар он старательно втискивал в рамки сюжета. Был моден, знаменит, владел изящным стилем. Особая статья — писатели–женщины, коих особенно много развелось перед самым нашествием. Эти вообще — сплошная фобия, клади любую в психушку, но не надейся на излечение.
Если же говорить без шуток, то истинное писательство, как всякое художество, — это род недуга, психическая болезнь, сродни мании величия. Художник стремится создать мир нерукотворный, уподобляясь Творцу. Червяк — а туда же. Конечно, сбивают с толку примеры великих, у кого это, кажется, и получалось, кому это почти удавалось. «Илиада». «Божественная комедия». «Братья Карамазовы»… Но это все только видимость. Обман зрения и души. Миры создаются не здесь и не грешными людишками.
На этом месте глуповатых, обычных для меня размышлений за столик вернулась зеленовласая Нателла. Была она еще больше возбуждена, чем в первый раз.
— А этот гад где?
— Владислав Андреевич?
— Где он? В кабинете его нет.
— Не знаю. Вроде туда пошел.
— Виктор, да?
— Можно и так.
— Ты его друг? Можешь на него повлиять?
— А в чем дело?
— Мне фельетон в субботу нужен вот здесь. — Она почему–то ткнула себя в живот. — И все от него, от гада, зависит.
Девушка мне нравилась: тугая грудь, молодое, ловкое тело. Но слишком перехлестнутая. Интеллектуалка. Ведь тоже чего–то накропала. Тоже писатель.
— Что могут изменить три дня?
Придвинулась ближе, зеленоватые глаза пылали чистосердечным безумием.
— Между нами, Вить. Я подписалась. Если выйдет в субботу, получу штуку зеленых. Во вторник — ноль. Понял?
Конечно, я понял. Обычные журналистские приколы. Все на продажу.
— Почему прямо не сказала Владу?
— Он не в теме.
— А почему у тебя зеленые волосы?
— От природы такие. Я не виновата.
— Может, тогда дунем ко мне?
Моя логика ей понравилась, но к предложению она отнеслась без энтузиазма. В ее воображении маячила штука зеленых, которая могла уплыть.
— За кого ты меня принимаешь, Витя?
— Ни за кого. За красивую молодую женщину–фелье- тонистку.
— Ладно, проехали… В принципе я не против развлечься, не барыня. Но услуга за услугу. Сперва пойдем к твоему корешу. Если он тебе кореш.
Я, как идиот, поперся за ней опять на верхний этаж, в кабинет к Владику. Но опять тут вышла странность. Он на сей раз оказался на месте и ничуть не удивился моему появлению, да еще вдвоем с его сотрудницей. И даже не дал Нателле открыть рот.
— Давай так, девушка. Подрежешь на сто строк — и ставим в информационную полосу.
— Влад, ты хоть иногда думай, что говоришь, пусть ты и большой начальник. Там уже и так осталась половина.
— Не мути, Ната. Я ведь прекрасно знаю, отчего у тебя такая творческая прыть.
— Я и не скрываю. Да, просил Егудов. В понедельник заседание суда. Надо успеть до этого. Егудов, кстати, вам, Владислав Андреевич, не раз помогал.
— Пигалица, — психанул Владик. — Заткнись и катись отсюда. Подожди в приемной.
Зеленовласая послушно покинула кабинет, а у меня Владик заботливо поинтересовался, не шизанулся ли я?
— Так заметно?
— Да чего–то тебя все тянет на приключения. То Обол- дуев, то эта. Ты хоть знаешь, чья она протеже?
— Влад, ты сам сказал, бери бутылку и так далее.
Мой старый товарищ немного поник головой.
— Бери бутылку… да… однако… Не нравится мне твое настроение, Витюня. С Нателкой переспать — ладно, святое дело, но Оболдуй… Я тут успел сделать пару звонков… Не советую, Вить. Последнее мое слово, не советую.
— Что — не советуешь?
— Мы с тобой двадцать лет в обозе, верно? Имеем право на откровенность. Ты художник, Витя. Ты настоящий художник. Я редко тебе говорил, но я это знаю. Я все твои вещи читал. Там много воды, но ты все равно художник, следовательно человек не от мира сего. Я — другое дело. Я раньше тоже… А потом понял, не мое. Я бизнесмен, мелкая щучка рынка. А он — удав. Один из самых прожорливых. Удавы питаются мечтателями, это для них деликатес. Вот зачем ты ему понадобился. И еще… Мы друзья и сейчас одни в кабинете, прослушки здесь нет, а мне страшновато. Потому что речь идет именно об удаве. Заговори с кем угодно и почувствуешь то же самое. Страх. Понимаешь меня?
— Влад, что ты узнал?
На лице друга появилась гримаса, которая меня всегда раздражала: ну что, дескать, взять с малохольного.
— Он уже троим предлагал написать о нем бестселлер, и все трое отказались. Один из этих троих — драматург Кумаров. Знаешь такого?
Да, я знал старика Кумарова. Добродушный старый пьяница, вечный сиделец ЦДЛ. Неделю назад на него напали в подъезде и изуродовали до неузнаваемости. Темная история. Брать у него нечего, денег у него отродясь, с со
ветских времен не водилось. Писали: скинхеды, фашисты. Возможно, приняли за кавказца. У Кумарова действительно была характерная еврейская физиономия. Еще писали, что началась давно ожидаемая охота на интеллигенцию. Старик умер в машине «скорой помощи», не приходя в сознание.
— Ладно, — сказал я. — Спасибо за информацию, Влад. Честное слово, спасибо. А вот если с Нателкой?..
— С Нателкой можешь, — устало разрешил друг. — Это не смертельно.
ГЛАВА 4 ГОД 2024. ПОИСКИ ПРЕСТУПНИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Ближе к ночи в клуб «Харизма» подтянулся Дима Истопник со своими ребятишками, хотя обычно он избегал риска. Бывший учитель пения, а ныне некоронованный ночной король Раздольска и его окрестностей, Димыч сознавал ответственность, которую взвалил на свои плечи, поэтому не только не совершал непродуманных поступков, но и был предельно немногословен. Даже побратимам иногда трудно было добиться от него вразумительного ответа на какой–нибудь самый простой вопрос.
В «Харизму» он явился, чтобы публично подтвердить свою неприкасаемость. Время от времени это было необходимо делать. Днем по голубиной почте пришло известие, что ожидается большая сходка с участием мэра Зашибалова, а главное — генерала Анупряка–оглы из миротворческого корпуса. Видимо, готовилось что–то грандиозное, коли в маленький обезлюдевший городок слетелись такие господа. Истопник догадывался, что именно. Давно шел слух, что их территория подлежит затоплению и превращению в экспериментальный полигон для выращивания белковых кормов. Раздольск, самой природой опущенный в низину, окруженный лесами, по многим параметрам прекрасно подходил для этой цели. Еще год назад лазутчики добыли для Истопника копию проекта Мичиганского научного центра, где доказывалась безусловная коммерческая ценность предприятия. Скорее всего, Зашибалова прислали для последней прикидки, а генерал–миротворец прибудет в качестве куратора. Истопника забавляло, что для такого важного дела придумали несуразный повод: якобы разыскивали вольнодумца и опасного государственного преступника Митьку Климова. Это тоже давняя традиция, идущая еще со времен всеобщей умственной стерилизации. Чтобы устроить глобальную пакость, обязательно придумывали мизерную, нелепейшую причину. Что и говорить, это всегда действовало. Митька Климов — враг государства, представляющий угрозу свободе слова. Можно сочинить что–нибудь более нелепое, но трудно. Значит, попали в яблочко. Климова Истопник помнил, когда–то тот был его учеником. У него были неплохие вокальные данные, но дело не в этом. Митька Климов давно стал мутантом и врос в новую среду, как в свою родную. Он теперь почти бессмертен, как останкинская крыса. Сам по себе, один, он ничего не значит, но много митек, много переродившихся русси- ян — вот главная проблема миротворцев. Как их уничтожить? Каким ядом вытравить с земли?
В «Харизму» Истопник приехал с тремя подручными — Цюбой Малохольным, Жориком Сверлом и Аликом Петерсоном. Из всей троицы, пожалуй, самым опасным был Алик. Он был единственный по–настоящему выхолощенный. Это означало, что его реакции доведены до предела интуитивного всечувствия, а психика не подвержена никакому воздействию, кроме прямого разрушения. Но чтобы разрушить психику Алика, понадобилось бы по меньшей мере прямое попадание кумулятивного заряда, что не так просто устроить в интимной обстановке ночного клуба. Bfce трое были вооружены плазменными пистолетами «Рекорд», сам Истопник оружия не носил никогда.
Едва они поднялись на второй этаж и обосновались за столиком в красном (представительском) зале ресторана, как началось представление. Свет померк, по стенам поплыли красочные сцены голографического стриптиза, сопровождаемого зомбирующей музыкой кантри. И тут же Дима Истопник увидел генерала Анупряка–оглы, сидящего неподалеку от подиума. За столом генерала кучковались несколько полуголых девиц незатейливого пошиба из разряда «русских матрешек», мода на которых держалась уже пятый год, что было своеобразным рекордом.
Генерал выглядел внушительно. Чем–то походил на мумию Тутанхамона, если бы ее вдруг оживили и насытили
чрезмерной, апоплексической кровью. Среди руководителей миротворческого корпуса были в основном азиаты и турки, но Анупряк–оглы был вообще неизвестной национальности. Поговаривали, вроде англичанин, но арабского рода. Знаменит он был своей лютой непримиримостью к инакомыслию. Ходила шутка, что он даже президента Соединенных Штатов подозревал в терроризме и пренебрежении правами человека. С другой стороны, ни для кого не было секретом, что Анупряк–оглы увлекался поэзией. Противоречивая, сложная натура, порождение межеумочной эпохи глобализации. Права над руссиянами у него были огромные. Совсем недавно по приказу Анупряка–оглы уездный город Чугуев спалили вместе с жителями по пустому подозрению, что там завелась какая–то православная ересь. Впоследствии выяснилось, что просто какая–то безумная старуха выбрела на площадь христарадничать.
Анупряк–оглы тоже заметил Истопника, выпрямился и насторожился. Пластиковая броня на нем издала характерный шорох настройки на самоотражение. Генерал подозвал одного из янычар и что–то прошептал ему на ухо, ткнув пальцем в сторону Истопника.
Янычар отдал честь и, тяжело ступая, приблизился к столу Истопника. Это был человек лет сорока, монгол и, по многим признакам, бывалый вояка.
— Добрый день, господа, — поздоровался он учтиво, прозвенев амуницией. — Привет вам от хозяина.
— Спасибо, — небрежно отозвался Истопник. — И чего надо от нас генералу?
— Убирайтесь отсюда подобру–поздорову. Вот чего надо.
— Ах, вот оно что… Нет, любезный. Мы хотим посмотреть представление и пожрать. Заплатили деньги. Имеем право. По Конституции.
— Тогда покажите документы.
Истопник кивнул Жорику Сверлу, который заведовал канцелярией, и тот вывалил перед янычаром целую груду удостоверений. Выбрал самое примечательное, кожаное, с золотым тиснением, с серпом и молотом, аббревиатурой СССР и чуть ниже КГБ, протянул янычару. Тот раскрывать не стал.
эо
— Можно взять с собой?
— Бери, — великодушно разрешил Истопник. — Дарю насовсем. У меня еще такое есть.
Янычар вернулся к столу Анупряка–оглы, передал ему ксиву, оба долго ее разглядывали, чуть ли не нюхали, и о чем–то переговаривались, поглядывая изредка на Истопника с соратниками.
— Если что, — сказал Истопник, — уйдем через крышу.
В этот момент в зале появился мэр. Его явление было со вкусом театрализовано, сопровождалось пением свирелей и жутчайшей голографической оргией на настенных экранах. Одновременно с помощью искусных подсветок в зале возник эффект реющего американского флага. Плюс ко всему вокруг важно шествовавшего Зиновия Германовича приплясывали гусляры и гудошники в цветастых рубахах. Все цыганского обличья. Эффектный выход, ничего не скажешь. Но не успели они обняться с Анупряком–оглы, как генерал раздраженно ткнул пальцем в сторону Истопника. Зашибалов поглядел в указанном направлении и словно в изнеможении опустился на стул. На колени к нему тут же кинулась одна из «матрешек», он ее злобно спихнул. Начал что–то объяснять генералу, отчаянно жестикулируя. Истопник ему не завидовал. Ситуация для мэра складывалась пикантная. Он должен рассказать о нем генералу таким образом, чтобы тот не взбеленился. Штука в том, что Зиновию невыгодно разоблачение ночного владыки Раздольска. Конечно, если бы можно было пристрелить Истопника прямо за столом, Зиновий Германович пошел бы на это не задумываясь, но Анупряк–оглы, как культурный либерал, обязательно сперва захочет провести хоть небольшое дознание, а этого мэр не мог допустить. У Истопника, у Димы- ча, имелась против него такая горячая лепешка, что… Пять лет назад он помогал Зиновию пробиться в мэры, официально участвовал в предвыборной кампании, накопал в ту пору много мусора про благороднейшего кандидата и, главное, имел на руках неопровержимые доказательства того, что Зиновий Германович ухнул несколько миллионов в фонд социальной защиты «Белая звезда», являющийся крышей коммунячьего лидера Прошуковича. В силу политической необходимости, разумеется, но какая теперь разница. Если неуравновешенный Анупряк–оглы узнает, что его ближайший соратник, с которым у них совместный бизнес, тайно повязан с красно–коричневым отребьем, он способен в пылу справедливого возмущения порвать Зиновию глотку. Сначала сделает, а потом, возможно, задумается, правильно ли поступил, как в случае с городом Чугуевом. Двусмысленность положения проступила на склеротических щеках Зиновия сиреневыми пятнами. Истопник приветливо помахал ему рукой. Зиновий Германович холодно поклонился в ответ.
— Пронесет, — сказал Истопник охране. — Мы их, сук, сегодня крепко тряханем.
* * *
Митя Климов до «Харизмы» добрался с огромными трудностями, два раза чуть не нарвался на патруль, а третий раз нарвался — и уходил под пулями, перекатом, от одного мусорного бака до другого. Одна пулька все же зацепила мякоть бедра, и нога кровила, но Митя, как всякий руссиянин, привык к боли и просто не обращал на нее внимания. Редкий месяц его жизни обходился без увечий.
Подвал «Харизмы» был ему хорошо знаком, и он надеялся здесь чем–нибудь поживиться. Подвал был устроен таким образом, что часть его спускалась в канализацию, каменный желоб тянулся в подземную гнилую реку; этим путем обычно избавлялись от свежих трупаков. Под потолком тускло горела старинная электрическая лампочка, освещая горы мусора, какие–то ящики, свалку тряпья и пустых бутылок. Эти бутылки в первую очередь интересовали Митю. Он нашел пластиковый стаканчик и за полчаса, сцеживая из бутылок по каплям, а то и по глотку, сумел напиться превосходным иноземным пойлом. Даже немного переборщил. Спиртное легло на пустой желудок комом, зрение затуманилось. Кое–как Митя перетянул ногу куском изоляционной ленты, потом полежал на груде ветоши, мечтательно глядя в потолок. О том, что Димыч сегодня появится в клубе, ему никто не говорил, он сам это вычислил, и теперь размышлял, насколько рискованно предстать
перед ним прямо здесь, в «Харизме». Допустим, если добраться до туалета на втором этаже… У Димыча, об этом многие знали, больные, отбитые почки, в туалет он придет непременно, но вот в какой? Их в «Харизме» восемь, и у каждого сидит по охраннику. Охранников Митя не опасался, вряд ли кто–нибудь из них знает его в лицо. Перехватить Димыча в сортире — это идеально, но ведь не угадаешь. А на улице точно не удастся. Только сунься из темноты — без разговора получишь в лоб световой луч.
Но первое, что предстояло сделать, это все же уточнить, здесь ли учитель. Одет Митя Климов был прилично: свитер с продранными локтями, старенькие линялые джинсы, куртачок из кожзаменителя, — на людях показаться не стыдно. Большинство руссиян донашивали военное обмундирование немцев времен первой мировой войны, щедрый дар Евросоюза, куда Россия входила на правах развивающегося туземного государства. Проблема была не в этом. Даже если его вдруг опознают, он сумеет ускользнуть. А вот не подведет ли он Димыча публичным контактом? В чем Митя Климов плохо разбирался, так это как раз в тонкостях отношений между знатью, особенно в присутственных местах. Если он вызовет неудовольствие Истопника излишней настырностью, тот просто откажется ему помочь. Это в лучшем случае. Про худший нечего думать, конец, как поется в песне, у всех один, на братской свалке. Но выхода не было. Погоня поджимала, пятки горели, а не только подраненное бедро.
Жрать хотелось невыносимо.
Сделав последние два глотка из пластикового стаканчика (кажется, джин и водка), Митя вздохнул и потащился к двери. Пустой коридор освещен люминесцентными прожекторами, до лестницы на первый этаж метров десять. Но Митя на лестницу не пошел, поступил хитрее. Добрался до мусоросборника и нажал кнопку вызова грузового лифта. Действовал по наитию. Чутким слухом улавливал разноголосицу увеселительного дома и, глотая слюни, представлял, сколько тут собрано вкуснейшей еды. Кроме того, дом был набит монетой, как раздутый каменный кошель. При других обстоятельствах Митя Климов, попав по случаю в столь шикарное заведение, нашел бы, конечно, более удачное применение своим талантам, чем изображать крадущегося зверька.
На последнем, шестом этаже он вышел из лифта и очутился в просторном холле, уставленном мягкой мебелью, с кадками цветов по углам. В одном из кресел дремала, свернувшись калачиком, рыжеволосая девушка в желтом трико. Она выглядела так невинно, что у бедного Мити вдруг перехватило дыхание. Сцена была из другой, прекрасной жизни, про которую он давно забыл, вернее которой никогда не знал. Девушка напомнила ему Мальвину из какой–то детской сказки. На звук прошуршавшей двери лифта она распахнула огромные синие глаза.
— Пятьдесят баксов, — сказала, зевнув, — и ни центом меньше.
— Согласен, — обрадовался Митя. — Но хотелось бы в кредит. Временные затруднения с наличкой.
— Еще чего… — протянула девушка, но не договорила — в ту же секунду они оба узнали друг друга. Это была Даша Семенова, его одноклассница. Умница, золотая медалистка. Их выпускной класс был последний, на другой год все школы уже закрылись на инвентаризацию. Со всего района в нем набралось одиннадцать человек. И всем на выпускном вечере выдали по золотой медали, сделанной из папье–маше. Директор школы Петр Иванович Сидоров выступил со странной речью, Митя до сих пор ее помнил. Директор говорил о том, что если у их многострадального отечества еще и осталось какое–то будущее, то это зависит целиком от образованных мальчиков и девочек, которым сегодня по шестнадцать лет. И медали, и речь директору дорого обошлись. На другой день он пошел с ведром к колонке за водой, и его переехал невесть откуда взявшийся автобус «Мицубиси». Митя помнил и похороны, и красивый синий целлофановый мешок, в котором опустили в землю директора- вольнодумца. На ту пору среди туземцев смерть давно стала такой же обыденкой, как дождик либо утренние заморозки, но вот проводить Сидорова собрался весь его последний в районе десятый выпускной класс.
— Ты, что ли, Митька? — вскинулась Дарья.
— Ну я, а кто же.
— Да ты что! Тебя же миротворцы ищут. Весь город на ушах стоит. Ты чего натворил–то, Мить?
— Да на ерунде прокололся. С нюхачом выпил, ну и повязали. Вроде я против демократии… Слушай, Дашк, поможешь мне?
— Чем, Мить? — Ее глаза, бездонные, как две проруби, блудливо сверкнули, и Митя понял, что это не та Дашенька Семенова, с которой они когда–то отчаянно и бескорыстно обучались любви по учебнику Лахендрона. Мутантка, добытчица, стерва рыночная. Но это не имело значения. Вряд ли она его сдаст. У каждой переделанной, как и у него самого, оставался в душе огонек, который никому не погасить. И те, в ком этот огонек еще тлел, свято соблюдали некоторые табу. Одно из них — ни за какие бабки не выдавать своих чужакам на расправу. Лучше сам убей. Другое дело, что с той минуты, как Дарья его узнала, она тоже очутилась в зоне повышенной опасности.
— А ты почему здесь сидишь? — спросил он.
— Так положено. Миреки повсюду шныряют, и наши девочки должны быть везде, чтобы обслужить, если приспичит.
— Понятно… Так поможешь или нет?
— Говори, Митя.
Он объяснил, что ему нужно узнать, прибыл ли в «Харизму» Истопник, и если да, то где он сейчас находится. И какая вокруг него обстановка.
— Димыч здесь, — сказала Дарья. — Он в красном зале. И там же генерал Анупряк и мэр Зашибалов. Тебе к нему не подойти, Мить. Даже не пробуй.
— А тебе?
— Что — мне?
— Сможешь шепнуть ему пару слов?
Сказав это, он заранее ее пожалел. Если согласится, за ее хрупкую жизнь никто не даст и гроша. Риск безумный. Но мутантки ведь изворотливые, как химеры. Дарья смотрела на него, не отвечая. В синих омутах запылал наркотический огонь. Она словно возвращалась откуда–то к нему на свидание. Была здесь, рядом — и возвращалась. Выплывала из мглы. Он ждал спокойно. Ему некуда было спешить.
— Зачем тебе это? — спросила наконец.
— Без Истопника мне из города далеко не уйти.
Опять затянулась пауза, неподалеку раздался такой звук, будто лопнул волейбольный мяч, оба испуганно повернулись к дверям. Но никто не появился. Дарья достала пачку сигарет, нервно закурила. Митя почувствовал горечь во рту, но сигарету не попросил. Дальше услышал такое, от чего опять зашлось сердце.
— Возьми меня с собой, Митя.
— Чего?
— Что слышал. С собой возьми
Митя разозлился. Женская глупость — ужасная штука.
— Хоть понимаешь, о чем просишь? Я не знаю, что через час со мной будет, а вдвоем… Чем тебе здесь плохо?
— Плохо, Мить. Не знаю чем, а плохо. Скучно как–то. Не хочу больше.
— С жиру бесишься, Дашка. Сколько девок мечтают о твоем положении. Вам даже уколы бесплатно делают, ведь так?
— Да не в этом дело, Мить. Материально все хорошо, действительно. Я родителям помогаю, продуктишки ношу каждый вечер. Но не могу больше. Что–то сломалось внутри. Возьми с собой, пожалуйста!
Разговор нелепый, чудной. С Дарьей творилось что–то неладное. Митя и раньше сталкивался со случаями, когда переделка, зомбирование заканчивались неудачно. По Москве таких, наполовину выхолощенных, бродило сколько угодно. Сунься в любой подвал, там сидит не доведенный до ума чинарик и хнычет. Их отлавливают, вычищают, зомбируют заново, отбраковывают целыми пачками, но они снова возникают. Наполовину ссученные. Хуже ничего не бывает. Разве что целяки, те, кто каким–то чудом вообще избежал психодрома. Сам Митя был завершенным мутантом и чувствовал себя превосходно. Знал, что он раб, пусть беглый, и не тяготился этим. Готов был сдохнуть в любую секунду. Жизнь прекрасна именно потому, что в ней светится конечная кровяная точка. Как вечный фонарик в глазу.
— У тебя чип какой стоит? — спросил осторожно. — Японский или китайский?
— Не дури, Митя. — От девушки приятно потянуло травкой. — Ты на юга пойдешь?
— Тебе какая разница?
— Скоро все переменится, Митя. Разве не чувствуешь?
— Переменится, когда нас не будет.
— Дай руку, Митя. Пожалуйста!
Он сжал ее теплую, голубоватую ладонь, придвинулся ближе и успел ощутить удивительное просветление. Как будто за один присест сожрал кило колбасы. Он страшно испугался. Синеглазая, недоделанная дурочка почти проникла в его тайну. И она знала, что делает. Она явно стремилась вочеловечиться. Потом кто–то сзади шарахнул его по башке, и Митя кувырнулся в темноту.
ГЛАВА 5 ВАШИ ДНИ. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
В поместье Оболдуева я въехал через стрельчатые железные ворота, где меня и машину тщательно обыскали с помощью хитрой аппаратуры. Против ожидания оказалось, что Оболдуев обитает не в обычном загородном особняке стиля «помпезо», а в помещичьем гнезде застройки, как гласила табличка, конца XIX века. Архитектор тоже был указан — некто Адам Тарлеус. Удивило не то, что магнат сумел прикупить охраняемую государством собственность — чего они только не прикупали, — а бросавшийся в глаза контраст между идеально ухоженным парком с множеством экзотических растений, цветочных клумб, тенистых аллей, прудов и, вероятно, укромных уголков, и не- отреставрированной, с облупленными, потемневшими, поросшими мхом стенами центральной усадьбы, производящей впечатление выставленной на продажу антикварной вещицы. Улыбчивое, солнечное майское утро делало этот контраст особенно впечатляющим. Сам дворец как дворец, вероятно помещений на тридцать, не больше.
Шустрый мальчонка в промасленном комбинезоне забрал у меня ключи от «девятки» и погнал ее к гаражам, а я поднялся на высокое крыльцо и нажал электрический звонок. В вестибюле меня встретил пожилой дядька в лиловой ливрее — ни дать ни взять английский привратник, — и проводил в каминный зал, проведя через несколько комнат, уставленных роскошной старинной мебелью.
— Сейчас к вам выйдут, — важно объявил привратник. — Если угодно, курите, это не возбраняется.
С этими словами он удалился, а минут через пять в зал, где я толком не успел оглядеться, впорхнула девушка лет шестнадцати, в домашнем платье и узких сапожках лимонного цвета. У нее было смуглое лицо, серые внимательные глаза и волосы, какие показывают в рекламе шампуней. Двигалась она изящно и гибко, мое старое сердце невольно дрогнуло. Но ничто не подсказало мне, что наконец–то я встретился со своей судьбой.
— Я Лиза, — тихим голосом произнесла она. — Папа попросил побыть с вами, пока он освободится.
Дочь всесильного магната, Боже ты мой! И так сразу. И так по–домашнему.
— А я Витя, — представился я. — Но можете называть Виктором Николаевичем, так приличнее.
Ее красивые глаза смотрели мимо меня, куда–то в за- оконный мир, на мои слова она отозвалась заученной полуулыбкой, ничего не выражающей. Мы стояли друг напротив друга посреди огромного зала, и я чувствовал себя идиотом, не понимая почему.
— Если хотите, — предложила Лиза все тем же ровным, тихим голосом, — можно пока погулять, посмотреть парк. Там много всякой всячины. Или, если вы не завтракали…
— Леонид Фомич что же, не скоро появится? — догадался я.
— Честно говоря, папа еще не вернулся из города. Но он едет, он звонил.
…Через час мы сидели на каменной скамье в средневековом гроте, откуда открывался вид на сосновую рощицу и на пруд с плавающими утками. Пейзаж слегка портила массивная фигура охранника с автоматом, стоявшего шагах в двадцати, уважительно повернувшись к нам спиной. К этому времени я уже знал, в чем главная проблема Лизы: при всей здешней роскоши и жизни по принципу «чего душа пожелает», она была самой натуральной узницей. В прошлом году отец разрешил ей начать учебу в университете (на юридическом), но после кое–каких досадных происшествий, на которые Лиза лишь намекнула, ее оттуда забрали. Ее неволя не была строгой, ей принадлежали прекрасный парк, и дворец, и московская квартира, но все- таки она была натуральной заключенной, потому что шагу не могла ступить без надзора. За час я узнал про нее довольно много, Лиза трещала без умолку, будто с тормозов сорвалась. Или давно у нее не было собеседника, с которым хотелось бы пооткровенничать. Мы быстро почувствовали душевное родство. Я поддакивал, хмыкал, иногда вставлял умные фразы. Выкурил за час семь сигарет. Ее тихий, торопливый голос, взволнованное лицо, манера прикасаться к моей руке своими тонкими пальчиками с доверчивостью домашнего зверька, полное отсутствие кокетства и какая- то странная отрешенность, и еще что–то в ее облике, в гибкой, стремительной фигурке, — все вместе подействовало на меня одуряюще. Могу даже сказать, что сто лет не испытывал таких пряных ощущений от общения с существом противоположного пола. Внезапная ее доверчивость ко мне, думаю, объяснялась отчасти тем, что Лиза, оказывается, прочитала моих «Странников», книга ей понравилась, и она считала меня известным писателем и, наверное, пожилым человеком.
Ее матерью была никакая не проститутка, а некая Марина Колышкина, одна из жен Оболдуева, тоже, как я сумел понять, к тому времени пропавшая без вести. Лиза носила ее фамилию (не приведи Господь прослыть Оболдуевой!). Матушка ее, пока была жива, работала врачом в районной поликлинике, и Леонид Фомич высмотрел ее прямо на улице из окна лимузина… Все, точка. Дальше в своем рассказе на эту тему Лиза не пошла. Она и во многих других местах обрывала себя на середине, на полуфразе, будто споткнувшись. При этом взглядывала на меня с испугом, словно спрашивая: я глупая, да? С первых минут я испытывал чувство, что тут какой–то обман, какая–то мистификация: не могло это простодушное создание быть дочерью Оболдуя, одного из отвязных властителей нации.
О нем мы тоже поговорили. Лиза заметила с задумчивым и отстраненным видом, что ее отец сложный человек, но, в сущности, добрый и безобидный. Всем верит, а его частенько обманывают, водят за нос. Услышав такое, я закурил восьмую сигарету, и Лиза обеспокоенно заметила:
— Вы много курите, Виктор Николаевич. Это ведь не полезно.
— Я знаю, — ответил я. — Организм требует. Он у меня сожжен табаком и алкоголем.
Я обнаружил, что изо всех сил стараюсь произвести впечатление остроумца и, если удавалось вызвать на лице ее вежливую улыбку, готов был прыгать от радости. Про то, какую книгу я должен состряпать, Лиза сказал так:
— Если бы я обладала хоть капелькой вашего таланта, Виктор Николаевич, то написала бы об отце не сухое документальное произведение, а настоящий роман. Его жизнь дает массу материала. Ведь если вдуматься, в ней, как в зеркале, отразился весь наш век, со всеми его страстями, победами и поражениями.
Если вдуматься, согласился я про себя, в этой мысли почти нет преувеличения.
Из грота Лиза повела меня на конюшню, где в стойлах били копытами два гнедых ахалтекинца и могучий рысак–тяжеловес. Лиза дала мне сахарку, чтобы я угостил лошадей. Я это сделал не без душевного трепета. В лошадях я не разбирался (хотя был период, когда носил денежки на ипподром), но глядя на этих грозных, большеглазых, похожих на испуганных детей представителей породы, понял сразу, что они стоят целое состояние и вообще с ними лучше не связываться.
Еще Лиза познакомила меня с собаками. Сперва с огромным мраморным догом, как раз вышедшим на крыльцо подышать и оглядывавшимся с брезгливым выражением хозяина, которому надоело все на свете и в первую очередь незнакомые людишки, пытающиеся набиться к нему в приятели. Дога звали Каро. Лизе он учтиво поклонился, вильнув хвостом, а в меня, по–моему, плюнул. Но не укусил, и за это спасибо. Потом на псарне меня облаяли две овчарки и свирепый будь, который при моем появлении сделал ужасную попытку перегрызть массивную железную цепь, на которой сидел. От злобы чуть не упал в обморок, как мне показалось. Лиза сказала смущенно:
— Его зовут Тришка. Он только прикидывается таким. На самом деле добрейший песик. Увидите, вы подружитесь.
— Вряд ли, — усомнился я. — Он хоть и добрейший, но чего–то у него пена на морде. Он не бешеный?
— Так мы часто обманываемся, — грустно заметила Лиза. — И в людях тоже. Боимся не тех, кого надо, а к тем, кто несет зло, тянемся в объятия.
Она умела говорить длинно и литературно, и это так не соответствовало времени и моим представлениям о молодых девицах, что производило опасное воздействие на мой мозг. Мало сказать, что я был растерян. Я почти изнемогал от мысли, что нам предстоит встречаться каждый день и заниматься — ха–ха! — грамматикой.
Мы вернулись в дом, Лиза привела меня на кухню (просторное помещение с закопченным потолком и чугунными плитами), собственноручно сварила кофе и достала из холодильника тарелку с пирожными. Наша дружеская беседа продолжилась, но теперь девушка перестала говорить о себе, напротив, начала осторожно выспрашивать. Вопросы ее сводились к следующему. Что такое художник? Трудно ли писать книги? Есть ли на свете занятие, которое достойно того, чтобы посвятить ему жизнь?.. Неожиданно для себя, будто выпил не кофе, а стакан водки, я разболтался, как старый мельник. Сказал, что книги писать немудрено, с этим справится, пожалуй, любой мало–мальски грамотный человек, а вот жить, занимаясь писанием книг, трудно и противоестественно. Так же противоестественно, как если писать музыку или картины. Человек рождается на свет для реального дела, а не для химер. И если он возомнит, что в искусстве есть какой–то высший смысл, то, считай, пропал. Через некоторое время это будет уже не человек, а сгусток отвратительной неврастении: такова расплата за опустошение души.
Лиза раскраснелась, и взгляд ее обрел уж и вовсе бездонную глубину.
— Как же так, Виктор Николаевич, вы говорите, в искусстве нет смысла… А чем тогда жить?
— Молиться надо. И работать. Табуретки строгать, землю пахать. Женщинам вообще просто. Рожай детей — и ты состоялась. Но я не сказал, что в искусстве нет смысла. Оно развлекает, а если качественное, то даже воспитывает, просвещает. Нет смысла в самих художниках. Это всегда пустоцветы. Включая гениев. Более того, гении так называемые — это просто сорняки на грядках человеческого бытия.
— Виктор Николаевич, но как можно отделить одно от другого? Художника от искусства? — Мне показалось, девушка готова заплакать, и я догадался, что пришла беда.
— Можно и нужно отделять, — сказал твердо. — Искусство — это искусство, а те, кто им занимается, — полное дерьмо….
Разговор наш оборвался на этой щемящей ноте: приехал Леонид Фомич. На улице пропела переливчатая сирена, Лиза тут же вскочила, извинилась передо мной («Подождите здесь, пожалуйста, я скоро вернусь») и пулей вылетела из кухни. Я выглянул в окно. Леонид Фомич как раз выходил из продолговатого серебристого лимузина, подкатившего к самому крыльцу. Он протянул руку, и из салона выскользнула молодая женщина в кокетливой соломенной шляпке. К хозяину подошел дог, ткнулся крутой башкой в бок. Леонид Фомич потрепал собаку по холке, а женщина ухватила за уши и потянула к себе. Дог завыл от унижения. Потом с крыльца спустилась Лиза и подбежала к отцу. Они обнялись, Леонид Фомич чмокнул ее в лоб. У него были пухлые негритянские губы. Женщина что–то сказала, видимо смешное. Леонид Фомич гулко загоготал (через форточку звук долетал, как будто заработал отбойный молоток), а Лиза отвернулась с безучастной гримасой. Отец взял ее под руку и повел в дом. Женщина чуть отстала. За ними плелся дог, явно прикидывая, не вцепиться ли обидчице в тугие ягодицы. Идиллическая сценка. Но я не верил в чадолюбие Оболдуева. Тут было что–то иное. Возможно, какой- то тонкий финансовый расчет. В чем он заключался, кто знает, но я не допускал мысли, что люди, подобные Обол- дуеву, способны на простодушные отцовские чувства.
Через несколько минут вернулась Лиза и сообщила, что отец ждет. Она проводила меня на второй этаж. По дороге пролепетала извиняющимся тоном, что у Леонида Фомича не очень хорошее настроение, но мне не стоит обращать на это внимание.
— У папы столько работы, он никогда не отдыхает, поэтому у него бывают депрессии. Он иногда ворчит, но это совершенно беззлобно, уверяю вас, Виктор Николаевич.
— Не беспокойтесь, Лиза, я не из обидчивых. Жизнь достаточно потрепала.
Леонид Фомич принял меня в рабочем кабинете. Обстановка обычная, офисная. На стене над дубовым столом развернут небольшой российский штандарт. Единственная оригинальная деталь. Ну и размеры кабинета — маленький стадион. Леонид Фомич уже переоделся в бухарский халат с кистями. Благодушно посасывал крохотную пенковую трубочку. Со мной разговаривал не то чтобы как со слугой, а как бы рассуждая наедине с собой. Вкратце набросал контуры предстоящей работы. Он подготовил папку с основными сведениями о своей жизни: вырезки из газет, журналов, фотографии и прочее такое. Это для ознакомления. Папка весила килограмма два. Дальше Леонид Фомич обрисовал канву наших будущих отношений. По возможности он будет наговаривать на диктофон какие–то фрагменты и, если возникнет необходимость, отвечать на мои вопросы. В связи с его большой занятостью и трудностью выстроить прогнозируемый график я должен всегда находиться в пределах досягаемости. Леонид Фомич дал неделю, чтобы я представил варианты возможной композиции книги. Это ни в коем случае не должно быть скучное последовательное повествование в духе мемуаров военачальников: родился, учился, добился, одерживал победы, совершал… Не годится и мозаика всевозможных биографических эпизодов, пусть и впечатляющих, ярких. Надобно придумать что–то особенное, соответствующее общей задаче. Общую задачу Леонид Фомич сформулировал скромно, как создание жития героя в поучение потомкам. Впрямую так не сказал, но топтался на этом месте до тех пор, пока я не врубился и не подтвердил, что понял, чего от меня ждут. Я это сделал с присущей мне прямотой.
— Вы гений, Леонид Фомич, — сказал я просто. — Постараюсь дотянуться.
Появилась кое–какая дополнительная информация, с которой я сразу не смог сообразоваться. Оказывается, для того чтобы проникнуть в глубину деяний и размышлений прогрессивного олигарха, следовало напитаться их истинным духом, а для этого лучший способ — принять в них посильное участие. Иными словами, мне придется время от времени выполнять конкретные поручения героя, связанные с его бизнесом. Я спросил, какие именно поручения. Я ведь не специалист и ничего не умею делать, кроме как марать бумагу. Оболдуев чуть раздраженно ответил, что над этим он еще подумает, но, наверное, даже писатель сумеет справиться, допустим, с деловыми переговорами по заданной теме. Допустим, по поводу приватизации какого–нибудь предприятия.
— Справитесь, а, Виктор? — с какой–то неожиданной хитринкой усмехнулся Оболдуев.
— Можно попробовать.
— А как вам Лизетга? — неожиданно переменил он тему.
— В каком смысле?
— Есть у нее филологические данные?
Я секунду подумал, прежде чем ответить. В вопросе был подвох, но почти неуловимый.
— Леонид Фомич, — сказал я с важностью доцента, — мы общались около часа, одно могу сказать твердо: необыкновенная девушка, тонко чувствующая, несколько, я бы даже сказал, несовременная. Насчет способностей мне пока трудно судить.
— Смотри не влюбись, Виктор.
Вот он, подвох. Шуточная фраза прозвучала как предостережение, завуалированная угроза.
— Мы свое место знаем, Леонид Фомич.
— То–то, дружок… Что касаемо несовременное ™, эго в мать. Мать у нее была чудная баба. Три года ее натаскивал, так и не научилась доллар от евро отличать. Представляешь?
Его внезапная откровенность привела к тому, что у меня в нервном тике дернулась левая щека.
Леонид Фомич нажал клаксон золотой дудки, висевшей на ножке стола, и в комнату явился мужик с седыми волосами, обряженный в шотландского горца, в клетчатой юбочке, только что без волынки на боку. Это оказался управляющий поместья Осип Федорович Мендельсон. Почему он был в юбочке, я вскоре узнал от Лизы. Леонид Фомич был англоман, полагал, что англичане самая культурная нация на свете, правда после евреев. Но у англичан было преимущество, они умели пожить, а евреи умели только делать деньги. В поместье все слуги, включая садовника, носили англо–шотландско- ирландские одеяния и худо–бедно изъяснялись по–английски. По мнению Оболдуева, это создавало в его вла
дениях здоровую ауру и хоть немного перешибало зловонный руссиянский дух. Сам себя он называл греком по отцу и арийцем по матери. Какие у него были для этого основания, не мне судить.
Он распорядился, чтобы управляющий показал предназначенные мне покои, что и было исполнено. Покои были такие: зала метров тридцать с высокой кроватью под балдахином в стиле Людовика XIV, уставленная аппаратурой — компьютер, музыкальный центр, стереотелевизор «Шарп» последней модели стоимостью 15 тысяч долларов. Мебель старинная, тяжелая, в мрачновато–темных тонах. Если бы несколько дней назад кто–нибудь сказал, что мне предстоит жить в подобном помещении, я бы не поверил.
— Обед в пятнадцать часов, — торжественно уведомил управляющий Мендельсон. — В малой гостиной. Просьба не опаздывать, владыка строг. Платье к обеду в шкафу, там все по вашему размеру.
Когда он ушел, я первым делом заглянул в этот самый шкаф, пузатый, черного дерева. Одежды там было примерно на роту пехотинцев — костюмы, рубашки всевозможных фасонов. На полках груды нижнего белья. В первый раз у меня отдаленно мелькнула мыслишка, не прав ли Владик, не сошел ли я с ума, ввязываясь в подобную авантюру.
За столом нас было четверо: добрый хозяин Леонид Фомич, молодая женщина по имени Изаура Петровна, которая оказалась новой женой владыки, Лиза — и чуть поодаль от этой троицы, как бы на застольной галерке аз грешный. Прислуживал смешной курносый арапчонок с коричневой продолговатой головенкой и сверкающей, ослепительной улыбкой, которого Леонид Фомич самолично с гордостью отрекомендовал:
— Натуральный людоедец. С Алеутских островов. Приобрел с оказией. По–нашему ни бельмеса не смыслит.
— А вот нет, барин, а вот нет! — счастливо закудахтал арапчонок. — Мой тебя понимай!
Оболдуев ласково потрепал мальчонку по лоснящейся щечке.
Я вполне отдавал себе отчет, какая мне оказана честь. Тем более что Леонид Фомич счел нужным сделать некоторые уточнения:
— Будешь с нами столоваться, когда гостей нету. Но иногда придется перемещаться на кухню, не обессудь, дружок.
Я заметил, как Лиза покраснела при этих словах. Бедняжка, видимо, все, что касалось отца, воспринимала буквально.
Не нужно было быть психологом, чтобы понять, какие отношения сложились у нее с новой мачехой. Та была лет на пять старше Лизы и, конечно, выглядела суперсексуально. Ничем особенным внешне она не выделялась, крашеная блондинка из числа тех, которые сидят во всех «мерседесах», но было в ее облике нечто неуловимо влекущее, действующее непосредственно на половой инстинкт, заставляющее мужчину стыдливо ерзать. В ней, как в ее прародительницах Лилит и Еве, таился смертельный вызов всему мужскому роду. Безусловно, надо обладать бесшабашностью новых русских завоевателей, чтобы держать такую дамочку возле себя постоянно. Диковинное имя Изаура подходило к ней идеально. Не уверен, что она была супругой Оболдуева в общепринятом смысле. Допускаю, что они вкладывают в это слово — супруга, жена, — что–то иное, внятное только им, оболдуевым, но, во всяком случае, за столом Изаура Петровна держалась хозяйкой. Леонид Фомич насыщался сосредоточенно и угрюмо, большей частью молча, Лиза тоже притихла, собственно, мы с Изаурой Петровной вдвоем вели светскую беседу. Она, по всей видимости, успела пройти некую выучку в английском духе, потому что для завязки первым делом сообщила мне, что простолюдинов почти невозможно обучить пользоваться столовыми приборами. Подумав, добавила, что это так же трудно, как заставить их поддерживать чистоту в местах общего пользования. Это родовое клеймо на руссиянине: он за столом жрет как свинья и в сортире ведет себя так же. Поинтересовалась, согласен ли я с ней. Я ответил, что не только согласен, но восхищен меткостью ее суждения. К нему можно лишь присовокупить, что руссиянин отвратителен и в любви. Он и здесь ведет себя как животное. Эти три вещи — стол, сортир и постель — в сущности, представляют собой бездонную пропасть, которая отделяет нас от цивилизованного западного обывателя, и вряд ли ее удастся преодолеть в ближайшее столетие.
— Виктор Николаевич, вы же не всерьез это все говорите? — с ужасом воскликнула Лиза.
— Лизонька у нас романтическая особа, — мягко заметила Изаура Петровна, — и совершенно не знает жизни. К тому же, — тут она обернулась к Лизе, — последнее время читает всякие вредные книжки. Кто, интересно, их тебе подсовывает, Лизонька?
— Неужто вы собираетесь руководить моим чтением? — саркастически осведомилась Лиза, но прозвучало это жалобно.
— И не желает прислушиваться ни к чьим добрым советам, — закончила тему Изаура Петровна. Я сразу начал испытывать к ней сложное чувство вожделения, смешанного с отвращением и страхом. Она умела любую фразу произнести так, что в ней звучало тайное предложение: хочешь, купи меня, но учти, это обойдется недешево.
Арапчонок–людоедец по имени Яша на первое подал осетровую ушицу, на второе — телячьи отбивные с жареной картошкой. Кроме того, стол ломился от закусок, солений и копчений. Из напитков — соки, клюквенный морс и водка. Водку пила одна Изаура Петровна, но тоже в меру. Осушила две–три рюмки. Как раз за отбивными Леонид Фомич сделал дочери замечание:
— Лизетга, ты совсем не ешь. Суп не ела, мясо не ешь, а ведь все очень вкусно. Так недолго ноги протянуть… Ну–ка, наложи себе картошки. Простая пища здоровее всего. Только хорошенько пережевывай.
— Папочка, я не голодна, честное слово.
— Потому что налопалась пирожных перед обедом.
Лиза бросила беспомощный взгляд в мою сторону. За нее заступилась Изаура Петровна:
— Тут ты не прав, дорогой. Хорошо, что Лиза малоежка. Если хочешь знать, это признак внутреннего аристократизма. Только плебеи жрут, сколько ни дай (ишь как ее зациклило!). И потом, женщина никогда не должна забывать о своей фигуре. Когда я работала в театре, откуда ты забрал меня, любимый…
— Заткнись! — небрежно обронил Оболдуев.
— У нас был очень строгий директор, — продолжала Изаура Петровна как ни в чем не бывало. — Данила Востряков, ты его видел однажды. Он следил за актрисами, как кто питается. Из–за обжираловки мог снять с роли. Какие там пирожные! Запрещалось любое тесто. Капустка, салатик — пожалуйста. Как–то Клавку Паршину застукал, она в гримерную притащила бутерброды с ветчиной, да еще — дура полная! — пива две бутылки. Он так распсиховался! Бутылкой дал по башке и выгнал из театра. С тех пор Клава на панели. Вот тебе, попила пивка с ветчинкой.
— В каком театре вы работали, Изаура Петровна? — полюбопытствовал я.
За даму ответил муж:
— Помойка — вот как назывался ее театр. Стриптиз–шоу. Публичные совокупления. Ничего духовного.
— Неправда! — возмутилась Изаура Петровна. — Ты просто ревнуешь, любимый. Мы занимались высоким искусством. Даже собирались поставить Акунина. Как ты можешь так говорить, причем постороннему человеку? Что он подумает? Что ты женился на шлюхе?
— Других нету, — обрезал Оболдуев. — Меня не волнует, кем ты была. Но уговор, надеюсь, помнишь.
Изаура Петровна заметно побледнела, ей это шло. Она действительно была хорошенькой девочкой, с узким, тонко вычерченным личиком, на котором выделялись необыкновенно страстный рот и пылающие сумрачным огнем глаза.
— Ты не сделаешь это, любимый.
— Еще как сделаю, — усмехнулся Оболдуев.
Невинная семейная размолвка, не совсем понятная человеку со стороны. К концу обеда у меня возникло стойкое ощущение, что меня куда–то засасывает. Так бывает в кошмаре. Увязнешь в черной жиже, дергаешься, дергаешься, как червяк, и погружаешься все глубже, и понимаешь, что если не проснешься, то конец.
ГЛАВА 6 ПОПАЛСЯ
Через две недели я уже много знал про Оболдуева, намного больше, чем мог рассказать о нем Владик или кто–нибудь другой. То в поместье, то в московском офисе, иногда в машине, иногда где–нибудь прямо на приеме я включал запись и уже записал несколько кассет. Материала хватало, чтобы начать работать непосредственно над текстом. Вразнобой, конечно, из разных периодов неординарной жизни.
Говорю «неординарной» без иронии. Да, Оболдуев был участником разграбления, не имеющего аналогов в истории, когда богатейшая страна без войны в считанные годы превратилась в жалкую международную побирушку; уже одно это давало пищу для всякого рода психологических размышлений и сопоставлений. Представьте: вороватый, капризный мальчик, мелкий пакостник (в школе Ленечка был грозой учителей, а от наказания его всегда спасал отец–грек, исполкомовский деятель высокого ранга) вдруг составил миллиардное состояние и делит власть над «этой страной» всего лишь с десятком себе подобных. По кирпичикам, день за днем мы вместе с ним восстанавливали этапы большого пути. Вчерне канва выглядела так: элитарный детский садик (с ежегодным выездом к морю), элитарная средняя школа на Ленинском проспекте, Институт международных отношений, райком партии, перестройка с благородным лицом Горби. И дальше сразу неслыханный рывок, прыжок в неизвестность. Кооператив «Грюндик», посредническая фирма «Анаконда», банк «Просветление» и, наконец, качественный переход, — алюминиевая война, в которой Оболдуев чудом уцелел. Одновременно грянул волшебный праздник приватизации по Чубайсу. Оболдуева он застал уже в нужном месте у корыта, уже своим среди своих. Итог известен — как поется в песне, не счесть алмазов в каменных пещерах. Фабрики, заводы, оборонные предприятия, земля, доли в крупнейших монополиях и концернах… могущество, равное мечте. Я едва успевал фиксировать. Под настроение Леонид Фомич становился столь же словоохотлив, сколь откровенен. Откровенен до жути.
Но всегда выдерживал определенный угол зрения на собственные подвиги. Я встретился с ним в пору, когда он был уже крутым патриотом. Все, что ни делал, делал для будущего России. Цитировал Маяковского: дескать, кроме свежевымытой сорочки ему лично ничего не надо. Подумав, добавлял: ну еще две–три сочные девки в постели. Без этого, Витя, не могу, уж прости старика… В сорок три года прошел обряд крещения и с тех пор ни одного самого занюханного казино не открыл без батюшкиного благословения. Батюшка у него был свой, не московский, выписал его из Киева. Отец Василий. О нем речь впереди.
В суждениях Оболдуев был предельно независим. Взять того же Маяковского. Приличные люди в высшем обществе, коли нападала охота козырнуть образованностью, давно называли другие имена — Маринину, Дашкову, Жванецкого, на худой конец Приставкина или Сорокина, Леонид Фомич же оставался верен юношеской привязанности. Некоторые его неожиданные высказывания просто- таки меня пугали, граничили с кощунством. «Бухенвальда на него, на суку, нету», — говорил о знакомом банкире, перебежавшем ему дорогу. Или: «Если судить по уровню дебилизма, американосы намного превосходят руссиян». Или: «Товарищ Сталин — гениальный политик, прав Черчилль. Поэтому пигмеи его и мертвого до сих пор кусают за пятки». Он уважал не только Сталина, но и Горби, над которым добродушно посмеивался. Дескать, из колхозников, из трактористов, с оловянным лбом, а вон куда шагнул — прямо в светлое рыночное завтра.
Со мной он разговаривал покровительственно, как и со всеми остальными, но без хамства. Ему нравилось, что я записываю каждое его высказывание. И вся затея с книгой была, как я понял, выстрадана давно, тут Владик не соврал. Постепенно мы немного сблизились, но не до такой степени, чтобы я мог задавать вопросы без разбора. Язычок придерживал и, к примеру, о том, почему выбор пал на меня и чем объясняли свой отказ некоторые другие литераторы (вместе с задавленным драматургом), спросить не решался. В сущности, я вел себя как проститутка, как продажный независимый журналист; к моему собственному удивлению это оказалось легче легкого, даже доставляло неизвестное мне дотоле удовольствие. Особенно остро это я ощутил, когда Оболдуев выдал аванс. У себя в офисе молча достал из ящика стола конверт и не то чтобы швырнул, а эдак небрежно передвинул по полированной поверхности стола. Я сказал: «Спасибо большое!» и спрятал конверт в кейс. В машине пересчитал — три тысячи долларов. За что, не знаю. Вероятно, в счет обещанной ежемесячной зарплаты. Я старался во всем угодить, умело, именно как телевизионная шлюха, строил восхищенные рожи и старательно подбирал выражения с таким прицелом, чтобы любое можно было расценить как хотя бы небольшой, но искренний комплимент. По нему нельзя было угадать, клевал он или нет. Но, повторяю, не хамил, как прочей обслуге. У него в центральном офисе работало больше ста человек, и никого из них Оболдуев, кажется, не считал полноценным человеческим существом. Хамство заключалось не только в высокомерном тоне или грубых издевках — он заходил значительно дальше. Как–то на моих глазах пинком выкинул из лифта замешкавшегося пожилого господинчика в роговых очечках, по виду сущего профессора. Оплеухи раздавал направо и налево, не считаясь ни с полом, ни с возрастом, поэтому офисная челядь старалась держаться на расстоянии. Я ловил себя на том, что в принципе разделяю его отношение ко всем этим говорливо–пугливым менеджерам–пиарщикам, с той разницей, что ни при какой погоде не смог бы позволить себе ничего подобного. Уж тут кесарю кесарево. Умел он быть и обольстительным, если хотел. Надо было видеть, какая слащавая гримаса выплывает на его ушастую, с выпуклыми глазищами рожу, когда он вдруг решал поухаживать за дамой или произвести впечатление на какого–нибудь упыря из президентской администрации. Метаморфоза происходила поразительная. В мгновение ока он перевоплощался в милого, немного застенчивого интеллигента чеховского разлива. Остроумно шутил и — ей–богу! — чуть ли не вилял своим могучим корявым туловищем.
Каждый день спрашивал, когда будет готов предварительный композиционный план и макет будущей книги, но как раз с этим вышла заминка. Наилучшей формой мне пока представлялась сборная солянка из его достаточно ярких монологов, газетных и журнальных статей (тут выбор был огромный) и комментариев, состоящих из воспоминаний близких ему людей (в идеале — родителей и жен), видных политиков, деятелей культуры, бизнесменов и так далее. Этакая рваная словесная ткань, соответствующая духу его многотрудной, насыщенной событиями жизни. Но проблема была не столько в фабуле, сколько в тональности. Я никак не мог услышать, уловить интонацию, общий звук, который сцементирует разнородные куски. В этом не было ничего удивительного: для писателя музыка текста, его стилистика, пластика абзацев, не вступающих в противоречие друг с другом, и главное, — хотя бы минимальная самобытность всего этого в целом всегда важнее содержания. Но как объяснить это Оболдуеву? Я попробовал. Начал внушать, что спешить не стоит. Хорошая книга, как вино, должна пройти несколько этапов предварительного брожения и выдержки, иначе выйдет суррогат. Прокисшее пойло. Я увлекся, углубился в тему, употребил филологический контекст. Магнат слушал внимательно, не перебивал, потом, когда я закончил, хмуро сказал:
— Ты, Витя, умный парень и, наверное, талантливый, но я плачу деньги не за этапы брожения, а за конечный результат. И за сроки. Ты понял меня?
Я его понял, а он меня нет. По–другому и быть не могло.
…В один из дней рано утром позвонил Гарий Наумович и сказал, что через двадцать минут заедет, чтобы я был готов.
— Куда едем?
— Как куда? На переговоры, Виктор Николаевич.
Что–то в его тоне меня кольнуло, но я вспомнил Оболду- ева. Чтобы постичь его сложную сущность, я должен познакомиться поближе с его бизнесом. Там, как у Кощея в яйце, прячется его душа. Я думал, это было сказано на ветер, тем более прошло почти две недели и никаких намеков, но оказалось, нет. Еще одно подтверждение, что такие люди, как Оболдуев, ничего не говорят попусту. И ничего не забывают.
Встреча предполагалась в одном из филиалов «Голиафа», расположившемся в двухэтажном особнячке в Сокольниках. По дороге, сидя в машине, я попытался выяснить у юриста, что за переговоры и какая роль отведена мне. Гарий Наумович дышал тяжело, задыхался, глаза у него почему–то слезились, как у простуженного, и ничего вразумительного я не добился.
— Переговоры с черными братьями. Все поймете по ходу дела, Виктор Николаевич.
— Через час меня ждет хозяин.
— Уже не ждет. Неужто вы думаете, я действую по собственному почину? Кстати, как продвигается работа с книгой?
— Нормально, — ответил я. — Материал накапливается.
— Советую поторопиться. Наш босс не из тех, кто ждет у моря погоды.
— Это я уже понял.
Нашим деловым партнером оказался импозантный пожилой господин по имени Сулейман–паша. У него были курчавые черные волосы, красиво спускавшиеся с затылка на воротник. Лукавые, смолянистые глаза. Быстрый говорок с акцентом, напоминающим воронье карканье. Гарий Наумович представил его как «нашего друга с Ближнего Востока», а меня обозначил референтом по внешним связям. Описать все, что произошло дальше, можно в трех словах. Уселись в кабинете, секретарша (или девушка, похожая на секретаршу) подала кофе, вино, конфеты, фрукты. Минут пять друг с Ближнего Востока и Гарий Наумович обменивались любезностями, стараясь перещеголять друга друга, потом между ними зашел небольшой спор о пакете акций концерна «Плюмбум–некст». Я про такой концерн слышал впервые и в суть спора не успел толком вникнуть, хотя старался изо всех сил. Гарий Наумович разлил вино по бокалам и предложил выпить за порядочность в бизнесе. Су- лейман–паша радостно закивал и залпом опрокинул бокал, как будто его мучила жажда. Свою рюмку Гарий Наумович поставил на стол нетронутой. Мне он вина и не предлагал.
Буквально через минуту Сулейман–паша посреди фразы:
— …Не могу согласиться с многоуважаемым Оболдуй- беком в том… — начал клониться набок, глазки у него страдальчески закатились в графитную черноту, и он повалился на ковер.
Пораженный, я растерянно прошамкал:
— Что это с ним?
— Похоже на сердечный приступ, — спокойно ответил юрист «Голиафа». Подошел к дверям, кликнул секретаршу и велел вызвать врача. Врач явился через пятнадцать минут, и все это время мы сидели рядом с рухнувшим другом с Востока и едва обменялись несколькими репликами.
Я только спросил:
— Вы его отравили, Гарий Наумович?
— Ну что вы, Виктор. Вам идет во вред чтение детективов.
— Но он же…
— Вот именно… Такова се–ля–ви, как говорится.
Пока не было врача, секретарша прибрала со стола и вместо вина поставила вазу с гвоздиками. Ей было лет тридцать, нормальная девица с пышными статями. Я встретился с ее взглядом и увидел в нем промельк приветливого безумия. Приехавший врач, солидный мужчина с отвисшим брюшком, поставил диагноз, не утруждая себя долгим осмотром. Померил пульс и коротко доложил:
— Инфаркт миокарда. Бич века.
— Бич века — это СПИД, Саша, — поправил Гарий Наумович. — Отвези в нашу клинику, хорошо? Когда очухается, дашь знать…
— Не уверен, что очухается.
— Не уверен — не обгоняй, — пошутил юрист, пребывавший в отличном настроении, как будто выиграл в рулетку.
Пришли двое санитаров с носилками, перевалили на них обездвиженную тушу друга с Востока — и унесли. Врач еще чего–то ждал.
— Ах да, — спохватился Гарий Наумович и сунул ему конверт, довольно увесистый на глазок. Любезно поинтересовался:
— Как наша малышка Галочка? Пристроил ее?
— Да, все в порядке. Учится в Сорбонне.
— Привет от меня.
— Непременно…
Когда он скрылся за дверью, мы с Гарием Наумовичем подошли к окну и полюбовались выносом тела. Сулейман- пашу загрузили в микроавтобус с красными крестами на боках, вокруг суетилась его охрана. Пятеро абреков свирепого вида попытались отбить хозяина у медиков, но появившийся врач что–то им объяснил, тыкая перстом в небо, и абреки успокоились. Попрыгали в серебристую иномарку и двинулись следом за санитарной перевозкой.
— Гарий Наумович, может быть, все–таки скажете, что все это значит?
— Не волнуйтесь, Виктор Николаевич. Вы же слышали — инфаркт. Саша — известный профессор–кардиолог. Ему вполне можно верить.
— Какой–то странный инфаркт.
— Увы, эта беда всегда застигает врасплох. У вас у самого еще сердечко не пошаливает?
— Вроде нет.
— Ну и хорошо. Неприятная вещь… Поехали, отвезу вас в Звенигород.
— Как в Звенигород? Леонид Фомич велел быть на улице Строителей.
— Планы немного изменились… Да не волнуйтесь вы так, Виктор Николаевич. Вы же не мальчик. Или никогда не видели, как это бывает?
Действительно, я в первый раз видел, как травят людей. Легко, без всякого напряга. Даже с прибаутками. Мне было по–настоящему страшно, но я не хотел, чтобы Гарий Наумович это заметил.
ГЛАВА 7 ГОД 2024. МИГИ И А ПРОМАШКА
Очнулся Климов в пыточной. За то время, пока он был в коме, в нем произошел «перекос сознания». Такое случалось и раньше, и он знал, какая это опасная штука. Теперь он видел мир тайным зрением «отчужденного». В этом состоянии он был абсолютно беспомощен, потому что к нему вернулись (отчасти, конечно) человеческие рефлексы, определяемые в новейших учебниках как «код маразматика». Привязанный к разделочному столу, он испытывал тоску, страх и желание покаяться неизвестно в чем. Первая попытка вернуть себе защитные свойства мутанта ни к чему не привела. Он сразу вспотел и раздулся, как мыльный пузырь. Закатив глаза, увидел нависший с потолка универсальный агрегат «Уникум», напоминавший компактную летающую тарелку. Щупальца агрегата плотно обхватывали его туловище, длинная игла торчала из кистевой вены правой руки. «Уникум» рекламировался по телевидению как высокотехнологичное и гуманное средство дознания. Это действительно было последнее слово современной науки. После того, как «Уникум» считывал всю информацию из подкорки, он впрыскивал жертве порцию «животворящего яда», который навсегда превращал ее в говорящее животное, не способное к размышлению и поступку. Его создатели, двое ученых из Мозамбика, заслуженно получили Нобелевскую премию мира. За всю свою историю человечество еще не имело более надежного средства для подавления первичных инстинктов. Митя встречал людей, прошедших обработку «Уникумом». Внешне они мало чем отличались от обычных мутантов, но стоило обменяться с ними парой слов или предложить какую–нибудь сделку, как сразу становилось ясно, что они напрочь лишены способности к самосохранению. Зато были всегда веселы и беспечны, как порхающие над лугом мотыльки. Ткни такого ножом в брюхо, он сам будет радостно наблюдать, как вытекают из него остатки крови. Жалкие твари. Еще более жалкие, чем болванчики на службе у оккупационной администрации.
Митя видел, что «Уникум» готов к работе, но отключен, и не мог понять, в чем заминка. Он вспомнил, как глупо, чудовищно глупо подставился, и заскрежетал зубами. Дашка Семенова ловко его одурачила, проклятая шлюха. Напустила в глаза гипнотического тумана, и он не услышал шороха за спиной. Тоска и страх давили с неумолимой силой. Митя попробовал еще раз ввести в действие автономную психозащиту, но с тем же результатом. Перед смертью он очеловечился, с этим ничего нельзя было поделать, с этим оставалось смириться.
Неподалеку за столом, накрытым черной клеенкой, двое миротворцев резались в «жучка». По внешности оба выходцы из Средней Азии, но разговаривали на родном для руссиян языке, на английском, правда с характерным акцентом. Похоже, оба были талибами, что сулило Мите дополнительные прощальные муки. Впрочем, Митю, даже в его человеческом воплощении, это как раз не волновало: болью меньше или больше — какая разница… Играли вояки с азартом, карты впечатывали в клеенку с утробным кряканьем, словно мясо рубили. Ставки повышались от кона к кону. По азартным репликам Митя понял, что в банке скопилось не меньше трехсот тысяч долларов. Как всякий перевоплощенный, он сам был заядлым картежником, но такой масштаб игры ему и не снился. Обычно они с корешами играли по маленькой, по центику либо по бутылке пива, в приличные игорные заведения руссиян вообще не пускали. По всей Москве для них были поставлены специальные игровые павильоны с надувными стенами. Эти павильоны не пользовались особой популярностью. Конечно, там можно было отвести душу, вдобавок подавали бесплатный чай с сахарином (один стакан на рыло), но выиграть было нельзя. Все автоматы фиксированные, а если какому- то головастику (случалось и такое) удавалось перехитрить подержанную электронику, он все равно бесследно исчезал вместе с выигрышем. В рекламе назойливо, год за годом, показывали счастливчика (явно куклу), выходящего из летучего игрового павильона с зажатым в кулаке миллионом, но это была лажа. Вживую никто и никогда не видел человека, который ускользнул хотя бы с выигранной сотней.
— Господа, — прокашлявшись, окликнул Митя игроков. — Господа, дозвольте обратиться?
Миротворцы подняли головы, словно на звук комара. По–английски Митя тоже говорил с акцентом, чтобы не задеть их самолюбие. Самолюбие у талибов обостренное, как их отравленные пыточные иглы.
— Чего тебе, смерд? — спросил один недовольно. — Не видишь, заняты?
— Только одна просьба, господа. Нельзя ли передать на волю последнюю весточку?
— Какую весточку? — заинтересовался азиат. — Ты же голодранец.
— Прощальную записку, — объяснил Митя. — В Раз- дольске у меня матушка живет.
— В хлеву, наверное, — пошутил миротворец. — Откуда у тебя матушка? Ты же инкубаторский.
— Нет, — возразил Митя. — Я вольнорожденный.
— Ну и закрой пасть, — посоветовал талиб. Он обернулся к товарищу: — Чего дальше ждать, Ахмет, включай аппарат. Играть не даст. Видишь, неугомонный.
— Анупряк не велел, — ответил второй. — Зачем нам проблемы?
Хоть Митя и утратил (на время или насовсем?) звериный настрой, изворотливость в нем сохранилась. Стремление выжить было сильнее желания вечного покоя.
— Если нельзя перемолвиться с матушкой, передайте записку Диме Истопнику.
— Кому–кому? — Произнесенное имя подействовало на обоих как щелканье взметнувшегося в воздух бича. Они побросали карты, один поднялся и навис над Митей сто лет не бритой рожей, дохнул перегаром и чесноком. — Нука повтори, чего сказал?
— Димычу послать привет. Он мой учитель. Я пел у него в хоре.
— Врешь, хорек вонючий!
— Слово раба, — поклялся Митя. — Истопник меня знает. Я был у него солистом.
Миротворец вернулся к кунаку, оба оживленно загомонили, перейдя на незнакомый Мите язык. Но одно слово, мелькавшее чаще других, он отлично понял: выкуп!
Наконец, придя к какому–то решению, оба миротворца подошли к пыточному ложу.
— Если врешь поганым языком, знаешь, что будет? — строго спросил тот, который был Ахметом.
— Знаю.
— Нет, не знаешь. Ты не умрешь легкой смертью, будем резать по кусочкам целых три дня. Это очень больно. Намного хуже, чем ты можешь представить пустой башкой.
— Я знаю, — повторил Митя. — Я говорю правду. Истопник любит меня. Он думает, я его внебрачный сын.
Митя делал все правильно: с миротворцами всегда так, чем гуще нелепость, тем скорее в нее поверят. Это происходило оттого, что в перевернутом мире, где все они пребывали, и победители, и рабы, только ложь казалась правдоподобной. И только бред принимался за истину. Но пользоваться этим следовало с осторожностью, поднимаясь по ступенечкам от обыкновенной туфты к абсурду. Разрушение логики требовало строго научного подхода.
— Он тебя любит, значит, за тебя заплатит. Я верно тебя понял, хорек?
— Вряд ли, — усомнился Митя. — Почему он должен платить? Димыч на государственном обеспечении. Ему все платят, а не наоборот.
Миротворцы опять залопотали по–своему, а на Климова накатил приступ невыносимой скуки. Эта черная, вязкая, как смола, скука соседствовала с небытием. Все казалось зряшным, ненужным. Одна заноза торчала в мозгу: Дашка–одноклассница. На что попался? В сущности, на влагалищный манок. В страшном сне не приснится. А ведь из каких передряг выходил сухим.
— Хорошо, — перешел на английский Ахмет (второго звали Ахмат). — Если даст миллион, можно выпустить.
— Через аппарат? — уточнил Климов.
— Через трубу, — посулил миротворец.
В принципе, это была бы нормальная сделка. Труба означала рутинную психотропную стерилизацию. За свою жизнь Митя прошел их с десяток и умел преодолевать, как похмелье. Одно из его собственных ноу–хау. Большинство руссиян уже после первой стерилизации впадали в хроническое слабоумие. Но не Климов. Господь его хранил. Он научился блокировать мозжечковые пласты, выпадая в осадок. Еще до начала процедуры успевал усилием воли превратить собственную психику в смазанное информационное поле, куда не доходили никакие сигналы извне. Стерилизационный зонд тыкался в него, как в комок ваты.
— Миллион Истопник отстегнет не глядя, — сказал Митя. — Это для него не деньги. Но придется самому попросить.
— Как это самому?
— Очень просто. Отвяжите на пять минут, я сбегаю и сговорюсь. Потом опять привяжете.
Делая столь смелое предложение, даже на первый взгляд наглое, Митя был почти уверен, что миротворцы согласятся. Тому были две причины. Во–первых, талибы слышали про Истопника, знали, кто он такой, были в теме, значит, им известен упорный слух о том, что у Димыча в лесах запрятана казна бывшей КПСС, ЛДПР и СПС, то есть что он почетный хранитель общепартийного общака. Совсем недавно по всем масс–медиа прошли сенсационные разоблачения, в которых утверждалось, что общая сумма отмытых партийных капиталов составляет несколько годовых бюджетов Евросоюза. Митя видел, как при упоминании имени Димыча глаза азиатов вспыхнули в четыре желтых пучка. Второе, он не мог сбежать. Сразу после задержания ему наверняка вживили так называемый «электронный охранник». Если он удалится от пульта дальше, чем на сто метров, то просто разорвется на тысячу кусков, как ходячая граната.
— Разве Истопник сейчас в клубе? — недоверчиво спросил Ахмет.
— Ну да, внизу, в красном зале. Там же, где ваш Анупряк–оглы.
— Откуда знаешь?
— Он сам меня вызвал, — застенчиво объяснил Митя. — Соскучился по мне.
Миротворцы в третий раз перешли на тарабарщину, горячо заспорили, и кончилось тем, что Ахмет в ярости толкнул друга в грудь. Поверженный на пол талиб, скаля зубы, выдернул из–за пояса старинный кинжал, каким резали гяуров еще в прошлом веке, упруго вскочил на ноги и со зверской рожей кинулся на обидчика. Но, как ни странно, до смертоубийства не дошло. Ахмет что–то гортанно выкликнул, будто леший гукнул, прижал руки к груди и склонил повинную голову почти до пола. Потом они обнялись и долго гладили друг дружку по стриженым затылкам. Трогательная сцена не произвела на Митю никакого впечатления. Он сделал свой ход, оставалось только ждать.
* * *
Наверное, Митя удивился бы, увидев, что тем временем происходило в красном зале. Получилось, он как в воду глядел. В ресторане продолжалось представление, голографический бордель переместился на подиум, где теперь с десяток полуобнаженных пастухов и пастушек в натуре изображали упоительные сцены свального греха. Первобытным шоу увлекся даже суровый Анупряк–оглы, он раскраснелся, гулко покрякивал в такт тамтаму и, казалось, того и гляди готов был ринуться на помост, чтобы принять непосредственное участие в потехе. Дима Истопник со товарищи заканчивали ужин и собирались откланяться. Сегодняшнюю задачу они выполнили, продемонстрировали всему городу свою независимость и силу, на большее Истопник не претендовал. В этот момент к их столу скользнула прелестная рыжеволосая «матрешка» и, делая вид, что напрашивается на ласку, что–то быстро зашептала на ухо Истопнику. Тот слушал внимательно, но на мгновение в его глазах промелькнуло выражение, напугавшее девушку. Маска мертвяка. Про Димыча все знали, что он шагает в ногу со временем и способен на быструю расправу точно так же, как все прочие, тайные и явные властители этой страны. Правда, народная молва придавала его самым ужасным деяниям оттенок благородства. Дескать, безропотных обыва-. телей он чаще милует, чем казнит, если, конечно, не нарываться. А вот с богатенькими, надежно упакованными гражданами, кому щедро обломилось на чумном пиру, строг и непреклонен, никому не дает поблажки. Даше Семеновой, приметившей в его зрачках ангела смерти, не хотелось проверять на себе справедливость молвы. На всякий случай она отпрыгнула на безопасное расстояние, убежала бы и дальше, но один из телохранителей Истопника, а именно Цюба Малохольный, цепко ухватил ее за тонкую щиколотку, будто в капкан защемил. Истопник спросил:
— Говоришь, отнесли в пыточную?
— Да, сударь, но я тут не при чем. Клянусь преисподней. Он просил передать, что хочет с вами встретиться. Я передала, только и всего… Отпусти ногу, парень, больно же!
— Митю давно знаешь? — продолжал допрос Истопник.
— Учились вместе… в последнем выпускном… Мы когда–то любили друг друга.
— Ишь ты, какие слова еще помнишь… Что–то ты, девушка, чересчур смышленая. Уж не затеяла ли какую–нибудь гадость по наущению супостатов?
— Нет, я чистосердечная.
— Что Митя хотел мне сказать?
— Не знаю, — соврала Даша. — Спасите его, господин Истопник. Он хороший мальчик. Он отслужит.
Димыч щелкнул пальцами, Цюба разжал железную хватку. Теперь Истопник удерживал ее на месте только силой взгляда.
— Из–за чего рискуешь, девочка? Кто такая?
Даша побледнела и не ответила. Истопнику ответ и не требовался. Он и так все понял.
— Ладно, беги, крошка. Коли уцелеешь и надумаешь порвать с бесами, приходи. Найду занятие по душе.
Дашу как ветром сдуло, а Истопник поднялся из–за стола и в сопровождении Алика Петерсона направился через зал к господарскому застолью. По мере того как он приближался к генералу Анупряку–оглы, маска мертвяка полностью скрыла его истинную сущность, лик его стал отвратителен. Да и ноги он передвигал так, словно только что выкарабкался из могилы. Мэр Зашибалов затрясся и дернул за рукав генерала, увлеченного стриптизом. Ануп- ряк раздраженно обернулся, увидел Истопника и тоже почувствовал холодок под ложечкой. Он знал цену перевоплощению, которое считал с лица нежданного визитера. Явившийся без приглашения руссиянин уже распрощался с жизнью и способен прихватить с собой на тот свет всех, кто попадется под руку. Эффект взрывного отбытия, описанный во всех учебниках по глобальным катаклизмам. Миротворцы–янычары, охрана генерала, рассевшиеся за соседними столами, насторожились и приняли боевую стойку. Засверкали плазменные стволы и приборы, способные в мгновение ока окружить генерала электронным щитом. Однако создание такого щита в замкнутом пространстве грозило непредсказуемыми последствиями. Свойства этого недавнего изобретения были еще не до конца изучены, но его разрушительная сила была велика. При определенной настройке щит мог разнести вдребезги все здание. Разумнее было не спешить. Анупряк–оглы поднял руку в перчатке в римском приветствии, пытаясь изобразить на волосатой роже добродушную ухмылку.
— Я тебя не звал, Истопник, — произнес он на странной смеси английского с татарским, — но если пожаловал, объясни, чего хочешь?
— У тебя мой человек, генерал, — ответил Истопник по- русски, что само по себе было неуважением к собеседнику. На варварском языке общались между собой лишь плебеи — согласно указу Евросоюза 2013 года. — Отдай его мне.
— Я слышал, ты смелый человек, и теперь вижу, это не досужие домыслы. Но разве ты не понимаешь, в каком положении находишься?
— В каком же?
— Подам знак — и от тебя и твоих псов останутся только ошметки.
Истопник оскалил зубы в замогильной улыбке.
— Возможно, и так, генерал. Но дом заминирован. Одно неверное движение, и похоронной команде тут нечего будет делать. Я умру легко, а ты, генерал?
— Блефуешь?
Истопник обернулся, оставшийся за столом Жорик Сверло добавил громкости в передатчик, и зал наполнился громким хрипловатым тиканьем, хорошо знакомым большинству присутствующих. От зловещего звука много сердец погрузилось в обморочный спазм. Морок близкой смерти затуманил десятки глаз. Эти люди пришли в эту страну не погибать, а царствовать и делить остатки добра. Для них надвигающийся взрыв был такой же неожиданностью, как если бы начался всемирный потоп. Исчезли стволы, потухли зрачки электронных приборов. В зловещей тишине слащаво затараторил мэр Зашибалов:
— Ну что ты, Димыч, в самом деле, разбушевался некстати. Портишь праздник. Никто тебя не трогает. Генерал готов обсудить твою просьбу в спокойной обстановке. Разве не так, господин Анупряк–оглы?
Хуже всего, конечно, было генералу. На глазах у своей своры он терял лицо. Естественно, Анупряк не собирался подыхать от руки обезумевшего аборигена, но его воинский дух был уязвлен до такой степени, что он вдруг ощутил непомерную усталость, напугавшую его больше, чем угрозы дикаря. Будто из него выкачали всю силу помповым насосом, и он почувствовал себя маленьким и дохлым, как выброшенный на сушу акуленок, совсем недавно резвившийся в морских глубинах. На скулы генерала выпрыгнули коричневые желваки, хранившие в себе остаток энергии, жалкий остаток.
— Это не просьба, — уточнил Истопник из–под маски мертвяка. — Это деловое предложение. Вы мне мальчишку, я вам всем помилование.
Очередной удар по самолюбию не достиг цели. Генерал лишь пожал плечами.
— Зачем тебе этот слизняк? — спросил без интереса. — Он не имеет никакой ценности.
— Об этом предоставь судить мне самому, — возразил Истопник. — Я же не спрашиваю, зачем ты явился в мой город.
— Ты знаешь, в чем его обвиняют?
— Глупости. Мальчишка закодированный, он не способен к сопротивлению.
— Он государственный преступник. Если его отпущу, как объясню командованию?
— Не блажи, генерал. Я не торгуюсь. Десять секунд на размышление, и я взорву эту чертову мельницу.
— Пожалуйста, — забормотал Зашибалов. — Господин генерал, прошу вас! Этот человек безумен, вы же видите. Он сделает, что говорит. Отпустите щенка. Завтра его опять поймаем.
— Зиновий! — Истопник посмотрел на него озадаченно. — Неужто так боишься подохнуть?
— Конечно, боюсь. Не вижу в этом ничего зазорного. Ты не боишься, потому что на самом деле давно умер. А я живой. У меня в Штатах две жены и трое детей. Как их бросить?
— Ты же бесплодный, Зиновий, — еще больше удивился Истопник. — Откуда дети?
— Какое это имеет значение? Они есть, и я несу за них ответственность. Для тебя это дико звучит, ты никогда не бывал в цивилизованных странах. Там принято заботиться о своем потомстве.
— Чудны дела твои, Господи, — произнес Истопник и обернулся к Анупряку–оглы. — Десять секунд истекли. Дайте ответ, генерал. Пожалейте Зиновия, он сейчас заплачет. Такого преданного пса вы больше не сыщете.
— Чистая правда, — торжественно подтвердил Зиновий Германович. — Господин генерал, умоляю. Сегодня же приведу десять других Климовых. Они будут ничуть не хуже, и все как один — враги свободного мира.
— Не врешь?
— Как можно, ваше превосходительство? Плюс — с меня в подарок десять «матрешек».
— «Матрешки» зачем? Их вон здесь сколько. Захочу — всех возьму без твоего подарка.
— Мои особенные, герр генерал. Разнузданные. Вы таких еще не пробовали.
— Где их прячешь?
— Их подращивают. По новой методике господина Брауна из Филадельфии. В некотором роде опытные экземпляры. Не пожалеете, герр генерал.
Истопник потерял терпение и медленно начал поднимать правую руку. Секрет воздействия маски мертвяка состоял в том, что рискнувший примерить ее на себя делал это с открытой душой и не испытывая никаких сомнений Истопник их не испытывал и в своем обычном облике. Ступив один раз на тропу войны, он больше с нее не сворачивал и спокойно жил приговоренным. Его ничуть не волновало, куда он сам попадет после крохотного ядерного взрыва — в ад или в рай. Главное — психологический эффект. Жители Раздольска его боготворили, но это ничего не значило. Оболваненных, их с места не сдвинешь, хоть кол на голове теши. Зато превращенный в легенду он потянет их за собой, собьет в колонну и бросит на Москву. Их всех перебьют по дороге, но это тоже второстепенный фактор. С чего–то надо начинать борьбу, разумнее всего начинать ее с собственной героической гибели.
Зашибалов истошно взвизгнул, скакнул козликом и повис у него на руке. Анупряк–оглы, будто просветленный, поспешно произнес:
— Хорошо, хорошо, не торопись… Пойдем поглядим, что за диковинное существо, из–за которого ты готов на такие издержки.
— Пойдем, — согласился Истопник, не радуясь полученной отсрочке. — Только не хитри, генерал. Ультиматум действует до первых петухов.
В пыточной комнате они застали чудную сцену. Отключенный от «Уникума» Митя Климов резался в карты с двумя талибами–миротворцами. Все трое так увлеклись игрой, что не сразу заметили генерала со свитой. Голубоглазый худенький руссиянчик показался Анупряку–оглы чем–то вроде козявки, спрыгнувшей с гнилого древесного листа. Он обрадовался возможности разрядить скопившуюся в сердце злобу.
— Нарушение воинской дисциплины! — рявкнул с порога, уже грея в ладони рукоятку пневмопушки. — Четвертая континентальная поправка. Расстрел на месте.
Ахмет и Ахмат, только что удачно сбросившие по взятке, ухватились за собственные «шмайсеры», но это было все, что они успели сделать. Сверкнули две голубые вспышки, и в туловищах того и другого образовались отверстия размером с чайное блюдце. Из дыр с обугленными краями на пол посыпались зеленовато–бурые кишки и хлынула черная кровь.
— Так–то, голубчики, — услышали они напоследок напутствие генерала. — Будете знать, как самовольничать.
Расправа, принесшая удовлетворение военачальнику, никого особенно не смутила. Ничем не примечательный, рутинный эпизод. Тем более что все очевидцы, в том числе и Митя Климов, съежившийся на стуле до размеров чесночной головки, понимали, что Анупряк–оглы поступил по справедливости. Его бойцы не только нарушили четвертую поправку (смертная казнь за неповиновение), но и переступили еще одну строжайшую инструкцию, гласившую, что обоюдовыгодный контакт с государственным преступником возможен лишь в присутствии члена миротворческой администрации. Обуянные алчностью талибы зашли слишком далеко, что подтвердит или опровергнет служебное расследование. Если комиссия признает, что бойцы действовали в рамках провокационного эксперимента, они будут реабилитированы и их семьи получат соответствующую компенсацию.
Генерал, поигрывая пневмопушкой, теперь с любопытством разглядывал беглеца–руссиянина.
— Скажи, Истопник, это действительно тот, кто тебе нужен?
— Да, генерал.
— Из–за этой мошки ты готов пожертвовать своей и нашими жизнями?
— Не старайся понять, генерал, это чисто семейное дело.
Анупряк–оглы озадаченно покрутил башкой.
— Я не стараюсь. Я воюю в этой стране пятый год, защищаю от посягательств общечеловеческие ценности, но с каждым днем все больше убеждаюсь, насколько это бессмысленно. Как можно научить ящерицу летать или отбить у обезьяны охоту чесать свою задницу? Эй, гаденыш, — обратился он к Мите, — на что вы играли?
Климов, убедившись, что третьего выстрела пока не будет, вскочил со стула, вытянул руки по швам и задрал подбородок, как положено при разговоре не только с миротворцем, но с любым иностранцем.
— На миллион долларов, ваше превосходительство, — на чистейшем английском языке отрапортовал Митя. — Против моей головы.
— Как это? — не понял Анупряк.
— В случае проигрыша я обязан собрать выкуп.
— У тебя есть миллион долларов?
— Никак нет, ваше превосходительство. Я их надул. У меня нет ни гроша.
— Что ж, гаденыш, сегодня тебе повезло, благодари сородича. Но когда попадешься на глаза в следующий раз, никакого «Уникума» не будет. Проделаю точно такую же дырку, как в твоих приятелях.
— Благодарю, ваше превосходительство. — Демонстрируя хорошие манеры, Митя поклонился до пола, а когда выпрямился, встретился глазами с учителем. Как у всех нынешних руссиян, их взгляды несли больше информации, чем речь. «Не переживай, дружок, я вытащу тебя отсюда», — пообещал Истопник. «Я не переживаю, — ответил Митя. — Счастлив видеть вас, Дмитрий Захарович».
Миротворцы из свиты, наблюдавшие за ними со стороны, увидели лишь голубоватые сполохи в пустых глазах дикарей. Маска мертвяка по–прежнему оставалась приклеенной к загорелым скулам Истопника.
ГЛАВА 8 В ЛАГЕРЕ ИСТОПНИКА
Подземный бункер располагался в живописном месте, на островке посреди непроходимых Коровьих болот. Название свое они получили после того, как здесь утопилось последнее стадо раздольских коров, зараженное экзотическим «вирусом долголетия». Вирус привез в пробирке тщедушный американец в модных роговых очках, закрывавших половину лица, как маска аквалангиста. Сперва он опробовал вирус на раздольских старухах под видом лечения от ревматизма. Вместо того чтобы молодеть, старухи поумирали одна за другой, и огорченный специалист, чтобы не пропала сыворотка, вкатил остаток для пробы быку Григорию. Эффект был поразительный. Уже на другое утро коровы, сбившись в кучу, предводительствуемые Григорием, мыча и подвывая, устремились в леса, достигли глухих болот (тогда они назывались Лебедиными) и попрыгали в трясину одна за другой, все десять штук. С тех пор молоко в Раздольск завозили только по большим праздникам — на День Валентина и 4‑го июля.
Бункер на островке был построен еще в 80‑е годы прошлого века и предназначался для военных маневров, точнее для испытания крылатых ракет «воздух–земля». В ту пору Россия располагала второй по мощи армией в мире, что сегодня, конечно, звучало фантастикой. Бункер находился на глубине двадцати метров в специальной шахте, заблокированной водяными подушками, и был снабжен всем необходимым для того, чтобы вполне комфортно, не поднимаясь на поверхность, укрываться в нем не меньше полугода, начиная с запасов консервов и питьевой воды и кончая системой генераторов. Попадали в бункер через лифтовой отсек, который, в свою очередь, был оснащен тройной электронной защитой. Дверь в отсек, надежно упрятанная в ствол столетнего дуба, могла выдержать прямое попадание реактивного снаряда. Разумеется, это не означало, что, укрывшись в бункере, Истопник со своей дружиной был в полной безопасности. В двадцать первом веке на земле не осталось укромного уголка, куда не могли бы дотянуться щупальца Пентагона. Рядовое подразделение спецназа, вооруженное плазменной техникой, управилось бы с бункером элементарно: либо выкурило бы его обитателей, либо замуровало их в братскую могилу. Однако командование миротворческого корпуса об этом и не помышляло. На территории покоренной страны то тут, то там возникали очаги сопротивления, и обычно они подавлялись жестоко, но в некоторых случаях, как с Истопником, их держали как бы в законсервированном виде, не вступая в открытое соприкосновение, и сам Димыч понимал, что в этом был резон. Точно так же в недавние времена в крупных городах, Москве и Петербурге, продолжали выходить небольшим тиражом некоторые коммунячьи газетенки типа «Советской России» — этакие отстойники, незарастающие свищи, через которые вытекала, выплескивалась дурная энергия умерщвляемой нации. Позже, когда надобность в них отпала, произошло их автоматическое усекновение вместе с так называемыми журналистскими коллективами.
Вокруг бункера, прямо на болотах, живописно раскинулись хижины туземцев, большей частью обыкновенные шалаши, сплетенные из еловых лап, и трудно было представить, как люди, пусть и обросшие звериной шерстью, перемогались в них долгой зимой. Время от времени Истопник делал слабые попытки очистить болота от незваных гостей, но проще было их всех утопить, чем прогнать. Несчастные существа, лишенные всякого понятия о смысле своего существования, тянулись к нему из последних сил, ища то ли защиты, то ли легкой смерти. Среди них были молодые и старые, мужчины и женщины, а то, бывало, и заполошный ребенок начинал вдруг верещать, точно лягушка из трясины. Смирившись с неизбежным, Истопник поставил над стихийным поселением старосту из своего окружения, Леху Смурного, бывшего профессора–социолога из Центра Карнеги, для которого на берегу подняли сруб из нетесаных бревен. Главной и единственной его задачей было следить за тем, чтобы доведенные до отчаяния болотные жители не переколотили друг дружку. Ссоры и драки вспыхивали между ними постоянно, но азарта на настоящую бойню у них не хватало. С прокормом люди–звери справлялись сами: охотились в окрестных лесах со старинными дробовиками, ставили проволочные силки на мелкую живность, ловили в болоте змей и синюшных тритонов.
Еще не пришедший в себя от потрясений ночи, Митя Климов сидел в одном из отсеков бункера, оборудованном под лабораторию, с компьютером и телевизором, и с аппетитом уплетал из деревянной миски брюквенный суп, который принес Цюба Малохольный.
— Покушаешь, отдохни маленько, — посоветовал Цюба. — Димыч попозже к тебе заглянет.
— Не знаешь, — робко спросил Митя, — учитель очень на меня сердится?
— За что ему сердиться? — успокоил Цюба. — Видно же, что ты чокнутый и за свои поступки не отвечаешь.
— Сразу видно?
— Со ста метров, — уверил дружинник и оставил его одного. У Мити тоска помягчала, но он по–прежнему оставался в человеческом воплощении, потому мысли накатывали грустные. Он не радовался спасению, хотя совсем недавно всеми силами сопротивлялся погружению в растительный мир. Он действовал, подчиняясь естественному инстинкту, хотя разум, пробужденный, как хотелось надеяться, на короткое время, подсказывал другое. Двадцать два, двадцать три года — прекрасный возраст для мужчины, чтобы уйти. Он уже испытал все, что предназначено руссиянину в этом мире, но еще не так стар, чтобы пускать слюни у порога богатых домов. Уходить надо красиво. Что ждет его дальше, кроме скучных повторений? Поиски добычи, маленькие радости от спиртного и наркоты и постоянные, с утра до ночи, пинки и унижения. И в конце все равно — «Уникум». Тем более он уже объявлен в розыск.
Ужас просветления как раз в том, что оно ясно прорисовывает контуры завтрашнего дня.
Хлебной корочкой Митя подобрал остатки супа, потом, как положено, досуха вылизал миску. Собрался вздремнуть, надеясь, что во сне сама собой произойдет обратная мутация. Но только расположился под теплой батареей, как вошел Истопник. Махнул Мите рукой, чтобы не вставал, и уселся напротив на железный табурет. Под его испытующеприветливым взглядом Митя почувствовал себя лучше, как будто зудящую душевную рану полили марганцовкой.
— Помнишь ли, Митя, наш школьный хор? — мечтательно спросил Истопник.
Митя кивнул, глаза его увлажнились, и он тихонечко напел:
— То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой. Детство наше золотое…
— Хватит! — прикрикнул Истопник. — Чересчур не расслабляйся. Объясни, как влип в передрягу?
Митя рассказал коротко: нарвался на шептуна в парке, наговорил лишнего — вот и все.
— Давно в обратной стадии?
— Со вчерашнего дня, учитель.
— Как это случилось?
— Не знаю. Скорее всего, результат психошока. Дашка Семенова меня слила. Вы ее, наверное, помните, рыженькая такая. Сейчас в «Харизме» пашет.
— Она не сливала. Наоборот, если бы не она, ты бы сейчас торчал на грядке…
Истопник задал еще несколько вопросов, которые касались Митиного преображения, неожиданного возврата в человеческую сущность, а также его пребывания в Москве. Митя отвечал как на духу, понимая, что понадобился учителю для какого–то поручения, сознавая при этом, что мало на что пока способен. И все же от сердца отлегло: спокойная речь Димыча действовала лучше всякого лекарства. Пожалуй, он впервые так охотно поддавался гипнозу более сильной личности.
— Похоже, дружок, — улыбнулся Истопник, — ты из категории неусмиренных. Я на это надеялся. Это очень важно.
— Чего тут хорошего? — возразил Митя. — Я теперь для них как мишень. И для вас только обуза.
— Ошибаешься, Митя. Как раз такой ты мне нужен. Мутантов пруд пруди, сам знаешь, а раскодированных единицы.
— Зачем нужен?
Учитель смотрел с сомнением: говорить или нет?
— Куда хотел бежать? На Кубань?
— Ну да. Оттуда морем в Турцию. Маршрут известный.
— А придется пойти на Севера. Конечно, отдохнешь, подучишься кое–чему. Но времени мало. Боюсь, Анупряк- оглы направит петицию в Евросовет, получит разрешение — и возьмется за меня всерьез. Против коалиции мне не устоять. Придется мигрировать в глубину, в дикие места… А ты, Митя, наперед смотаешься порученцем к одной важной персоне.
— К какой еще персоне?
— Так сразу все хочешь узнать… Про кудесницу Марфу что–нибудь слышал?
— Нет. Кто такая?
— Говорят, замечательная личность. В печорской тайге обитает. Там у нее скит. Вернее, раньше был скит, а теперь, по слухам, целый таежный городок. Ополчение она собирает. Газет не читаешь, дружок, телик не смотришь, а зря. За ее голову Евросовет объявил награду десять миллионов.
Митя был поражен.
— Разве такое бывает, учитель?
— Что именно?
— Десять миллионов за какую–то лесную бабу?
— Не какую–то, Митя, не какую–то. — Истопник загадочно улыбался. — Хранительница она. Говорю же, ополчение собирает.
— Какое еще ополчение?
— Вооруженное, Митя, а ты как думал! На Печору второй год тайными тропами караваны идут. Не строй рожу, будто у тебя запор. Я сам к ней в том месяце пару «стингеров» забросил.
— Не верю, — сказал Митя. — В сказки не верю.
— Напрасно, — огорчился Истопник. — Без веры жить нельзя, особенно в подлое время. Марфа существует на самом деле, и ты установишь с ней контакт. Он мне нужен позарез. Ладно, на сегодня хватит с тебя. Отдыхай, поспи. Детали обсудим в другой раз…
Следующие несколько дней Митя прожил как в горячке. Бесконечные тренировки, чтение древних книг, долгие беседы со старцем Егорием. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы задуматься о том, что происходит. Опытные спецы натаскивали его, как охотничьего пса. Разминали, укрепляли мышцы, обостряли до предела интуицию, зрение, слух. Старец Егорий внушал мысли, которые вступали в вопиющее противоречие со всем опытом его предыдущей жизни. Алик Петерсон (это большая часть) обучал хитрым рукопашным приемам. Димыча Митя в эти дни не видел, тот куда–то отъехал на неделю. Как намекнул Алик, заручиться поддержкой казанской группировки. Митя не знал, где правда, где ложь. Состояние мутации к нему так и не вернулось.
Старец Егорий повторил слова учителя, повернув их на свой лад:
— Человек до той поры живет, Митяй, покамест верует, а коли усомнится, тут и погибель.
— Во что верует, дедушка?
Они сидели на двух кочках посреди трясины, но старец все равно цепко огляделся по сторонам. Неподалеку двое поселенцев выуживали из зеленой воды тритонов нитяной сеткой. Больше никого не видно. Старец изрек кощунственные слова:
— В Святую Троицу, Митяй, и в Господа нашего Иисуса Христа. В кого же еще?
Прежний Митя, закодированный, услыша такое, ломанул бы через лес куда глаза глядят, а нынешний, вочело- веченный, лишь передернулся, как от укола.
— Аннигиляция, дедушка. Сектантство в особо опасных размерах.
— Не дури, Митяй. Не так ты глуп, как кажешься. Или очко сыграло? А еще к Марфе собираешься. Марфа трясунов не любит, на деревьях их вешает.
Может, играло у Мити очко, когда слышал от старца провокационные откровения, но вместе с тем опускалась на душу тишина, как при вечернем закате.
Алик Петерсон показал удар открытой ладонью, оглушающий противника, и два способа перекрытия кислорода — «шланг» и «тихую пристань». При этом добавил, что дело не в приемах. Главное — эмоциональная насыщенность. В каждом ударе боец должен выкладываться целиком, умирать в нем, превращая во вспышку всю свою энергетику. Пока этого не постигнешь, все рукопашные приемчики, даже проведенные искусно, не сильнее комариных укусов.
— Запомни, Митя, в каждом ударе умираешь. Алгоритм взрыва. Вот, смотри…
Алик Петерсон подобрался, сощурил глаза, уставясь в какую–то точку в бетонной кладке, и, коротко выдохнув, шарахнул в стену кулаком. Мите показалось, рука Алика хрустнула сразу в нескольких местах, но это был обман слуха. Петерсон показал неповрежденную кисть, зато в бетоне образовалась вмятина с неровными краями, какая могла быть следствием разве что попадания фугаса. Митя глазам своим не верил. Подошел, понюхал кладку, с горечью сказал:
— Так я не смогу никогда.
— Сможешь, если поймаешь пружину. Представь себя заряженной базукой и нажми на спуск, только и всего. Не такая хитрая штука.
— Димыч тоже умеет?
— О том, что умеет Димыч, нам лучше не думать. Чтобы спать спокойно.
Старец Егорий внушал то же самое — как не пропасть задаром, но заходил с другого бока.
— Вон те людишки в хижинах, видишь их сколько, сынок. И все живут после смерти. Они и не похожи на живых, приглядись получше. Каждый прошел через ад, поднимался к небесам, потом вернулся на землю. Теперь собрались здесь все вместе и ждут знака Господня. Многие даже не подозревают, что они бессмертны. Ловят тритонов, жуют кору и молча благодарят Его за лишний прожитый денечек. Учись терпению, Митяй. Через великие муки лежит путь к Престолу. Другого пути нет.
Поучения старца пропадали втуне, Митя не понимал, о чем он говорит, но мягкие, сочувственные слова действовали умиротворяюще.
Много времени Митя проводил, восстанавливая в памяти способы ненавязчивого контакта, подзабытые в городских скитаниях, но необходимые для предстоящего путешествия по зонам смерти. В их основе лежал сложный прием психологического саморастворения. У новых поколений руссиян, если в семье случайно рождался ребенок, этому приему начинали обучать с детства… Однажды Митя углубился в лес, покинув болотный поселок, уселся на поваленное дерево и замер. Примерно через час сосредоточенных волевых усилий почувствовал, как его тело, от макушки до пяток, окутала прозрачная серо–голубая аура, похожая на сигаретный дымок, с рваными краями, но достаточно устойчивая. Значит, получилось, не забыл. Отступили все мелкие мысли и страхи. Лишь приятно покалывало в кончиках пальцев, под ногтями. Постепенно аура приобрела более насыщенный, синий цвет, на котором изредка вспыхивали огненные крапинки. Аура словно сигналила лесным обитателям, что существо, окутанное ею, не несет в себе опасности: подойди и потрогай. Убедись самолично. Первыми решились на это шустрые желтые ящерки с нежными кристаллическими головками, затеявшие у его ног веселый хоровод, просеивающиеся между пальцами босых ног. Затем из чащи выглянул молодой волчонок, подкатился боком и смело ткнулся влажной черной пуговкой носа в живот. Митя сидел неподвижно, следя, чтобы в защитной ауре не возникло прорех. Толстая черная гадюка с золотой каймой на спине важно поднялась из травы, нырнула под штанину, щекоча, проскользила по туловищу и ласково обвила шею, будто хотела что–то нашептать на ухо. Лосенок–двухлетка с острыми рожками тяжело сопел за спиной, не решаясь на соприкосновение, пугливый, как весенний ветерок. Сверху, с сосновых ветвей черный старый ворон, истошно заорав, прицельно сбросил ему на макушку липкие шарики кала. Митя укоризненно покосился на него. От долгого неподвижного сидения затекла спина… Наконец на поляну осторожно высунулась взрослая волчица, крупная, со вздыбленной холкой, возможно мамаша малыша, который давно покусывал Митю за ноги, приглашая поиграть. Волчица не спеша пересекла открытое пространство, вытягивая морду, принюхиваясь. Подойдя, присела на задние лапы, задрала морду, открыв в оскале желтоватые клыки, способные раздробить бедренные кости. При этом издала звук, похожий на скрип дверных петель. Митя медленно опустил руку и почесал ее за ухом, как собаку.
— Благодарю за доверие. — Митя заговорил с характерным подсвистыванием: так зверю легче понимать человеческую речь. — Надеюсь, ты не собираешься напасть?
Волчица хрипловато прокашлялась. «Кто ты? — вкатилось Мите прямо в мозг. — Зачем пришел в мой лес?»
— Мне предстоит большая дорога, — объяснил Митя. — Хочу, чтобы лес помог мне.
В желтых волчьих глазах блеснула усмешка.
«Лес не верит людям, — ответила она. — Они всегда несут с собой зло».
— Это не про меня, — возразил Митя. — Я даже не помню, когда последний раз ел мясо.
«Вижу, — согласилась волчица. — И все–таки ты человек и поэтому способен на любое коварство».
— Почти человек, — поправил Митя. — Ты ведь тоже не овечка. Твои братья никого не жалеют.
«Волки убивают, когда голодные. Не для забавы, как люди».
Митя не собирался спорить, его пальцы добрались до нежной мякоти ее подвздошной артерии.
«Что ж, мне приятно, — проурчала волчица, валясь на спину. — Поостерегись, так можно далеко зайти».
— У тебя славный малыш, — польстил Митя. — Из него выйдет могучий охотник. Только он чересчур кусачий.
Волчица дотянулась и отпихнула волчонка лапой. Из ее пасти вырвался хрип: она смеялась. Это был полноценный контакт, чище не бывает. Митя остался доволен собой.
Чуть позже, когда звери заполнили всю поляну — белки, зайцы, какой–то перевозбужденный рысенок, видимо раздумывавший, присоединиться ли к общей игре или немедленно начать охоту, — появились две старухи–отщепенки из болотного поселка. Обе предельно изможденного вида, с берестяными туесками, наполненными клюквой.
Митю они не заметили — благодаря защитной ауре, скрывавшей его сущность, он был неразличим для их подслеповатых глаз, — зато с вожделением разглядывали живность, собравшуюся на поляне.
— Была бы у нас хорошая палка, Настена, — прошамкала одна, — можно бы настегать зайчат на ужин. Вона их ско- ко, и все ручные.
— Хорошо бы, — согласилась Настена. — Токо у нас силенок не хватит палку поднять.
— Может, сбегать за Потапом? Он где сейчас?
— Кака ты бегунья, известно, — отозвалась первая отщепенка. — Вчера с кочки соскользнула, едва не утопла. Куда тебе.
— Жить тяжельше, чем бегать, — возразила Настена. — Давай, говорю, Потапа звать.
— Ага, пока обернемся, пока то да се, пока его раскачаем, отседа все разбегутся. Тумаки нам достанутся. Потап с утра злобится, ему Химера отказала.
— Иди ты?! Дак он разве способный еще?
— А то! Химерушка не жаловалась, пока с Игнашкой- деревянным не спуталась…
Переговариваясь, старухи исчезли в кустах.
«Вот твои люди, — презрительно проронила волчица. — Жалкие, бессмысленные твари, думают только об одном».
— Голодные, — заступился Митя за отщепенок. — Что с них взять.
Возвращаясь в бункер, сигая с кочки на кочку, Митя издали заметил диковинный желтый шар, распустившийся среди пожухлой травы, и сердце у него заколотилось. Так и есть. Дашка Семенова сидела на корточках рядом с большой пластиковой сумкой, из которой что–то доставала, разглядывала и раскладывала вокруг себя. Митя неслышно подкрался к ней. Вокруг никого не было, дверь лифтового отсека в стволе дуба подмигивала фиолетовыми электронными глазками. У Мити возникло странное желание напасть на девушку, повалить и изнасиловать. Трудно предугадать, как Дашка это воспримет. Возможно, как месть за предательство, возможно, как вспышку любовного чувства. Она наводила порядок в
своем девичьем хозяйстве: на траве лежали упаковки прокладок, флакончики и баночки с косметикой, пачки сигарет «Манхэттен» (одна доза травки на пачку), мобильная трубка из самых дешевых (радиус охвата — сто метров, больше руссиянам не положено), какая–то мелочь непонятного предназначения. Пластиковая сумка еще битком набита.
— Эй, — окликнул Митя. — Ты как сюда попала?
Девушка среагировала адекватно: подпрыгнула, перекувырнулась через голову и, обернувшись к нему, заняла боевую стойку. Что ж, неплохо их натаскивают в «Харизме». Возможно, тесное общение с миротворцами само по себе повышает боевой дух «матрешек». Увидя, кто ее напугал, Дашка опустила худенькие кулачки и рассмеялась. О, Митя хорошо помнил, как в оные годы его умиляли эти звонкие, беззаботные колокольчики.
— Митька! Негодяй! Скотина! Так можно заикой сделать.
Никакого смущения в голосе, отчаянные ясные глаза с знакомой оранжевой искрой, без следов марафета. Ах, бестия рыжая!
— Как сюда попала? — повторил Митя. — Шпионишь?
— Ты что, пошатнулся, Митя? Я еле ноги унесла. У нас такой шмон был. Всех девчонок на детектор таскали.
— Почему?
— Как почему? Из–за тебя. Догадались, что кто–то из своих стукнул. Я на газон с третьего этажа сиганула. Коленки до сих пор не гнутся.
Смотрела жалобно и честно. Митя не верил ни одному ее слову. Она могла провести Димыча, который, несмотря на свою грозную репутацию, по–старинному чувствителен, но не его. Подлая красотка, конечно, нарушила священное табу. Непонятно только, как посмела явиться сюда.
— Ты что, Мить, правда думаешь, я тебя сдала?
— Кто же еще? Дядька незнакомый?
— Тебя робот засек. Они там повсюду и маскируются подо что угодно. На тебя напала холодильная установка, я сама видела.
ВО
— Ага. И как она догадалась, что я преступник?
— Говорят, у этих роботов какие–то особые датчики, улавливают импульсы… Точно не знаю.
— Ты не ответила, зачем сюда приперлась? Анупряк послал?
— Димыч пригласил. — Горделивость в голосе Даши тут же сменилась растерянностью: — Я уже часа три здесь торчу. Из двери никто не выходит, а как открыть или позвонить… Помоги, Митя.
— Бесов обслуживаешь, а врать так и не научилась. Как Димыч мог тебя пригласить? У него на «матрешек» аллергия, всем известно.
Даша обиделась.
— Спроси у него сам, раз мне все равно не веришь.
— Спрошу, конечно… — Митя подошел к дубу, нащелкал на панели цифровой код. Девушка поспешно побросала свое барахло в сумку, подбежала к нему. Из динамика донесся строгий голос:
— Пароль или пуля, пришелец.
— Курица не птица, — ответил Митя и добавил: — Видишь, кто со мной?
— Вижу… Ничего, ей можно. Входите.
— Но как же… (это может быть? — хотел спросить Митя, но вовремя осекся).
Щелкнули замки, Митя нажал потайной рычажок, и дверь вобралась внутрь. Вдвоем они вошли в лифтовую кабину, дверь сама собой задвинулась и лифт медленно, поскрипывая металлическими суставами, поплыл вниз. В кабине было тесно, они стояли почти прижавшись друг к другу. В смятении Митя вдыхал аромат женского тела. Припомнил, когда в последний раз занимался сексом: три месяца назад, и его партнершей была одноразовая проститутка с площади Макдоналдса, которая отдавалась с энтузиазмом резиновой куклы, зато высосала из горлышка сразу полбутылки сивухи.
В бункере укрывалось много людей, по Митиным прикидкам не меньше сорока, но мало с кем он успел познакомиться. Так здесь заведено. Ему отвели клетушку рядом с радиорубкой — железный столик, стул и деревянный ле
жак, — показали дорогу к лифту и проинструктировали: больше ни в какие помещения не соваться. Митя и не совался, даже плохо представлял истинные размеры бункера, понимая, чем грозит непослушание. Будь он на месте Ди- мыча, наверное, принимал бы еще более жесткие меры предосторожности. В бункер возвращался ночью, чтобы покемарить в безопасности часок–другой; кормежка, занятия и собеседования проводились на природе.
Выйдя из лифта, Митя оказался в затруднении. Никто их не встретил. От лифта коридор, экономно освещенный ультрафиолетом, тянулся в обе стороны — в одну к радиорубке и оружейному складу, Митин маршрут, в другую — по всей видимости к жилым помещениям, пищеблоку и апартаментам Истопника. Митя поднял голову к видеотрубе, ожидая какого–нибудь распоряжения, — тщетно. За ними, разумеется, наблюдали, но молча. Выходит, ему позволяли, вернее, его вынуждали принять самостоятельное решение, но какое? Придушить, что ли, рыжую лазутчицу прямо здесь, на бетонном пятачке?
— Иди за мной, — распорядился Митя — и свернул к радиорубке. По пути никто не встретился.
В его кубрике они уселись на лежак, но на расстоянии друг от друга, и Даша с облегчением вздохнула: «У–у–у-ф». Потом попросила разрешения закурить.
— Нет, — сказал Митя. — В бункере не курят. Здесь забудь свои блядские привычки. Давай, рассказывай.
— О чем, Митенька? — Ее лукавый взгляд и давно не слышанное «Митенька» размягчили его мозги, но он не позволил себе никакой глупости. Был суров, насторожен.
— Чего будешь плести Димычу, меня не касается. Я хочу знать правду.
Даша забавно склонила набок огненную головку. Все ее движения были изящны, двусмысленны и преследовали лишь одну цель — возбудить желание в партнере. Для этого девочек натаскивали еще в школе, и Даша Семенова в совершенстве овладела этой наукой. Среди «матрешек» вообще дурочек не водилось. Можно сказать, сексуальная элита, обслуживающая в основном капризных миротворцев, вынужденных жить среди дикарей. Изредка, естественно, обламывалось и соотечественникам, прислуживавшим забугорным хозяевам. Таким, как, допустим, мэр Зашибалов.
— Я не вру, Митенька. Ни словечка не соврала. Помнишь, просила взять с собой? Почему не захотел?.. С меня дурь слетела, Митенька. Так бывает у некоторых девочек, не я первая. Рано или поздно их вычисляют и ставят на правило. О-о, это страшная смерть, муки ада. Мне тоже недолго оставалось, бригадир начал подозревать. Чудо, что удалось сбежать… Можно теперь мне спросить?
— Ну?
— Почему ты мне не веришь? Ведь ты знал меня таку- сенькую. — Она опустила руку ниже лежака. — Мы были парой когда–то. Почему, Митенька?
Митя вдруг осознал, что не может ответить на этот вопрос. Действительно, почему? Все, что она говорила, могло быть правдой. С него тоже слетела дурь и никак, увы, не возвращается. Да вокруг полно перевертышей и в ту, и в другую сторону. Мир текуч, как прохудившееся корыто. Если она сообщила о нем Истопнику… Но точно так же вся эта история могла быть всего лишь ловким внедрением агента под бочок Димычу. Как угадаешь.
— Хорошо, — сказал он миролюбиво, — а ты сама веришь кому–нибудь, кроме себя?
Даша поерзала, устраиваясь поудобнее, и, как–то так вышло, придвинулась вплотную к Мите.
— Пожалуй, нет. Не верю.
— Правильно делаешь. Поверить кому–нибудь — все равно что грудь себе прострелить навылет. Закон выживания. Не нами придумано.
— Митя.
— Чего?
— Я тебе верю.
— Ты же только что сказала?..
— Только что не верила, а сейчас верю. Не пойму, что со мной творится. Может, солнышко напекло.
Она подставила пухлые губы, соблазнительно сверкнул алый язычок, Митя не смог отвертеться. Впился в ее рот, как кровосос. Оторвался не скоро, чувствуя себя на грани обморока. Ее сладостная энергия хлестнула по жилам покруче, чем спирт. Он забыл, а может, не знал никогда, что такое бывает. Сдавил податливые бока так сильно, что «матрешка» запищала.
— Больно? — спросил он, подслеповато моргая.
— Подожди, миленький, я сейчас, — пробормотала Даша и поползла с кровати вниз головой. Оказывается, ей понадобилась сумка, откуда она, покопавшись, вытащила упаковку резинок с лейблом «Сделано в США» с пляшущей негритянкой на картинке. Самые модные, по доллару за штуку.
— Нет, — сказал Митя с обидой.
— Как же нет, Митенька? Без этого нельзя, запрещено. Статья восемьдесят первая. Размножение без санкции прокурора. Публичное распыление.
— Со мной будешь без этого.
— С тобой буду без этого, — эхом откликнулась Даша, улыбаясь одними глазами. Потом движением, от которого у Мити кольнуло в затылке, расстегнула молнию на джинсах.
…Вечером Митю отвели к Димычу. После секса с «мат- решкой» — одноклассницей он натурально потерял сознание, а когда очнулся, в комнате не было ни Даши, ни ее сумки, и чувствовал он себя так, будто рыл котлован двое суток подряд. Голова еще кружилась от терпкого, одуряющего запаха ее кожи, пропитанной специальными эротическими добавками. О, теперь он знал, что такое настоящая, дорогая любовь, а не за бутылку сивухи или фальшивый стольник. Но не успел погрезить, как явился вестовой.
Обиталище Димыча доказывало, что он ни в чем себя не ограничивал, хотя по молве слыл аскетом и бессребреником, как Иосиф Виссарионович. Просторное помещение метров пятнадцать, сплошь застеленное коврами, с мягкой мебелью, с электрообогревом. Но главное, с пофыркивающим кондиционером, насыщающим воздух ароматами цветущего луга. Не всякий руссиянский олигарх мог себе такое позволить. Не без удовольствия Митя вдохнул глоток чужой красивой жизни. Он не завидовал Димычу. С какой стати. В этом мире каждый получает по заслугам.
Истопник усадил его в плюшевое кресло, поставил на подлокотник чашку, которую собственноручно наполнил чернцм кофе из серебряного кофейника. Спросил неопределенно:
— Нравится?
— Пример для подражания, — сказал Климов. — Как и вся ваша жизнь, Дмитрий Захарович.
— Однако ты льстец… Ответь–ка лучше на несколько вопросов. Давно ли соскочил с иглы?
— Да я по–настоящему и не торчал никогда. Выше травки не поднимался. Конечно, когда заметали, на пунктах прививки впрыскивали гуманитарную дозу, как положено. Но меня как–то не брало, не знаю почему. Сейчас уже около месяца чистый.
— Ломки не было?
— Тоска. Не больше того.
— Любопытно, да… — Истопник налил себе в чашку красного вина, Мите не предложил. — Что думаешь про Дарью Семенову?
— Что тут думать. Она вам, наверное, то же самое рассказала, что и мне. Дурь слетела, чудом оторвалась из «Харизмы» и все такое… Я ей не верю. По–моему, засланная.
— Переспал с ней?
Сегодня, раньше — нет.
— И ни в чем не убедился?
— «Матрешки» запрограммированные, Дмитрий Захарович. У них своего сознания нет и двойная защита… Не пойму, зачем она вам?
— Тут такое дело, дружок, засланная или нет, а на Севера пойдете вместе.
Митя поперхнулся кофе, Димыч заботливо похлопал его между лопаток. Старинный жест.
— Да, да, не удивляйся. Дорога дальняя, опасная. Цепочки все оборваны. Парой легче одолеть. Ну и второе: коли с одним что случится, второй доковыляет. Даша не знает цели путешествия. Информацию загоним в подкорку.
— Дмитрий Захарович, да с ней нас повяжут на первом перекрестке. Она же неуправляемая, как все они.
— Ошибаешься, Митя. По уровню выживаемости «матрешки» дадут фору даже каликам перехожим. Статистика.
Не волнуйся, проверим ее на детекторе. Подчистим, если что. Но пойдете вдвоем.
Митя догадывался: учитель недоговаривает, что–то скрывает, но иначе быть не может. Молча склонил голову, а Димыч подлил ему из кофейника.
— Причем обстановка такая, завтра надо отправляться. Как твои успехи? Алик тобой доволен, и старец хорошо отзывается.
— Я тоже всем доволен. Завтра так завтра.
— Но ты готов или нет?
— Сами сказали, обстановка. Чего тут обсуждать.
— Вот и умница. — Истопник пересел за стол, поманил Митю. Разложил несколько компьютерных карт из тех, которые выпустили уже завоеватели — с новыми границами, названиями городов и поселков, с указанием опасных по тем или иным причинам зон. За час детально изучили маршрут, по которому Мите предстояло двигаться.
— Память у тебя не исчерпана?
— Сберег процентов на восемьдесят, — похвалился Митя.
На крайний случай Истопник дал две явки, одну в Петербурге, другую в Архангельске, переименованном в Агарай–сити, по имени знаменитого военачальника–албан- ца, много сделавшего для внедрения прогресса на гнилую руссиянскую почву. Потом проинструктировал, как вести себя с Марфой–кудесницей, если доберется до нее.
— По всему, что о ней известно, должна принять хорошо, но не вздумай ни в чем супротивничать. Дня не проживешь. Если хочешь о чем спросить, спрашивай сейчас, другого времени не будет.
Митя с наслаждением проглотил кофейную гущу.
— Не о чем спрашивать, Дмитрий Захарович. Все понятно без слов. Разве что… По телику день и ночь талдычат, для руссиян, мол, обратного хода нет. Это правда? Кончилась Русь?
— Нет ответа, — скупо усмехнулся Истопник. — Когда, даст Бог, свидимся, тебя об этом спрошу.
Он взял его с собой в лабораторию, где приготовили для допроса «матрешку» Дарью. Опутанная проводками,
подключенная к аппарату, Даша мирно посапывала на клеенчатом лежаке. Возле нее стоял пожилой человек в стерильно–белом медицинском халате, следил за показаниями приборов.
— Ну что, Данилыч? — окликнул Истопник. — Как она?
Увидев главаря, человек в халате просиял, слоЬно глотнул веселящего газа.
— С медицинской точки зрения вполне здоровенькая, одного, Димыч, не пойму, кровь чистая, не зараженная. Как такое может быть? Она же из «Харизмы», да?
— Все бывает, — заметил Истопник. — Ладно, начинай, включай свою игрушку… Митя, садись вон туда на стул.
— Глубина заброса? — уточнил Данилыч.
— Пожалуй, последние пять дней. Думаю, достаточно.
Митя впервые видел, как работает знаменитый дознаватель «Скорциум», разработка японской фирмы «Акутага- ва». Данилыч пощелкал тумблерами, загорелся монитор. Сначала экран был перегружен сверкающими разноцветными спиралями, не несущими никакой информации, потом Данилыч перевел стрелку на табло и возникла первая живая картинка — «матрешка» Даша ублажала негра–ми- ротворца в голубом джакузи. У Мити перехватило дыхание. До того неправдоподобно ярким и четким было изображение похабной сцены, сопровождаемое утробным рычанием негра и профессиональным постаныванием «матрешки». Данилыч, морщась, умерил звук.
— Крути побыстрее, — распорядился Истопник. — Мы тут не собираемся всю ночь сидеть. Верно, Митя? В его взгляде Климов прочитал что–то похожее на сочувствие.
Оператор отрегулировал настройку, и картинки, высасываемые из Дашиной подкорки, замелькали со скоростью перемотки. Некоторые кадры Истопник требовал вернуть, прокрутить помедленнее. Просмотр занял около двух часов, ничего компрометирующего они не обнаружили. Зато многое узнали о жизни «матрешки» в фешенебельном ночном клубе. В основном она состояла из бесконечной случки, прерываемой для сна и жратвы. Между «матрешками» иногда возникали драки, кончавшиеся, как правило, покаянными слезами. Нашлось кое–что, подтверждающее Дашину легенду. Несколько раз было отчетливо видно, как она только делала вид, что вкатывает шприц в вену, это была лишь искусная имитация. Один из Дашиных клиентов заинтересовал Истопника. Оператор по его указке зафиксировал и укрупнил кадр. Истопник долго вглядывался в нарумяненное, подгримированное лицо пожилого, бодренького сладострастника, наконец, уверенно объявил:
— Братцы, да это же Зиновий Германович! Какой день, Дан ильм?
— Пятница. Четыре дня назад.
— Точно. Значит, врал, сучонок. Я сам слышал, как он сказал генералу, что накануне вернулся из Штатов. А зачем врал? С какой целью?
Довольно потирая руки, Истопник взглянул на Митю — и нахмурился. Хотя Митя пытался делать вид, что процедура его забавляет, но все равно выглядел утопленником. Распустил нюни, досадный прокол. Кто не способен подавлять эмоции, тот не жилец на белом свете, серьезные люди никогда не будут иметь с ним дело. Полная блокировка чувств — первейший способ выживания в новые времена. Умные родители учили этому детей с колыбели, мечтая довести их до уровня бизнес–класса.
— Никак ревнуешь, дружок? — осторожно спросил Истопник.
— Вам показалось, Дмитрий Захарович. — Митя взял себя в руки и последние сцены, где сам занимался сексом с «матрешкой», просмотрел с застывшей на губах беззаботной улыбкой. В этих сценах что–то было не так, чем–то они отличались от предыдущих, но он никак не мог уловить, в чем разница. Внешне все одинаково: отточенные многолетними тренировками эротические движения, тысячу раз отрепетированные стоны и крики, но было что–то еще, неуловимое, настораживающее, воздействующее на вторую сигнальную систему. Но что? На мгновение Даша на экране открыла затуманенные глаза и в них мелькнуло победное, ликующее выражение, совершенно не подходящее к техническому акту. Словно девушка вспомнила о солидном авансе за свою работу, на который не рассчитывала.
Просмотр закончился, оператор отключил аппарат и снял датчики с висков спящей «матрешки». Произнес извиняющимся тоном:
— Все, Димыч. Больше ничего не выжмешь. Сухая.
— Уверен?
— Ее могли обработать антигравитатором, через него «Скорциум» не пробьет. Участки левого полушария покрываются непроницаемой пленкой. Но это вряд ли. Антигра- витатор искрит, на мониторе возникла бы характерная серебристая сыпь. Нет, девочка без подвоха. И какая умелица. Согласны, молодой человек?
Митя не ответил шутнику. Он, наконец, понял, что его встревожило в последних сценах. Не Даша, а он сам. Он сам занимался сексом с пылом неандертальца. Он сам погружался в ее мякоть с блаженством недочеловека, для которого смысл жизни заключается в сексуальной самореализации. Он сам ничем не отличался от насилующего очередную жертву миротворца. Это было чудовищно, невероятно. Истопник угадал его мысли.
— Ты относишься к ней всерьез, — заметил он успокаивающе. — Это иногда бывает. Редко, но бывает. Не переживай, это всего лишь означает, что ты, дружок, несмотря ни на что, сохранил в генах исторический код.
ГЛАВА 9 БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С ВЕЧНОСТЬЮ
Странный случай с Сулейман–пашой стал только началом моего нового послужного списка. Следующее поручение оказалось еще чуднее, хотя сперва выглядело забавным. Получил я его опять через Гария Наумовича Верещагина. Я должен был выступить в популярном телешоу «Под столом» и как бы между прочим обнародовать два–три жареных факта, касающихся неких влиятельных московских персон. Смысл акции был мне понятен. Ничего особенного, обычные пиаровские штучки накануне приближающихся выборов в городское собрание. Но это не все. С каким–то ядовитым смешком Гарий Наумович сообщил, что заодно я должен соблазнить и трахнуть ведущую телешоу «Под столом». Желательно сразу после передачи и в определенном месте, в гостиничном номере, где будет установлена видеокамера.
— Эго еще зачем? — разозлился я. — Какая в этом необходимость? Объясните, пожалуйста, будьте любезны, Гарий Наумович. Насколько я знаю, телеканал принадлежит Оболдуеву. Арина Буркина его наймитка, пашет на него как проклятая…
— Не нам с вами, Виктор, обсуждать идеи господина Оболдуева, но уверяю, он ничего не делает просто так. У него времени нет на пустяки, как вы, наверное, успели убедиться.
— Хорошо, выступление в шоу — понятно, я готов, но при чем тут ведущая? Арина пешка, ничего собой не представляет, кормится из его рук. Удовлетворите мое любопытство, Гарий Наумович.
— Не стоит особенно умничать, Виктор. Невелика работа.
— Кажется, я нанимался написать книгу, а не спать с телешалавами. Я литератор, я не бычок–производитель.
Юрист «Голиафа» хитро прищурился.
— Книгу, говорите? За сто тысяч зеленых? Где вы слышали про такие гонорары?
Он был прав, поздно кочевряжиться. Мы сидели в моей квартире в Теплом Стане, куда Гарий Наумович взял обыкновение являться без предупреждения, как к себе домой. Накануне я вернулся из Звенигорода поздно ночью (отпросился на денек), плохо выспался и был зол на весь мир, но в первую очередь, конечно, на себя самого. Предупреждали добрые люди, нет, полез, погнался за длинным рублем, ну и расхлебывай, не стони.
— Когда передача? — спросил я хмуро.
— Сегодня вечером Буркина позвонит около двенадцати, обо всем договоритесь. Кстати, не понимаю, чем вы недовольны? Вполне аппетитная самочка. На телевидении считается секс–бомбой. Кто с ней имел дело, все довольны.
— И имя им — легион. Ради бога, Гарий Наумович, не сыпьте соль на рану. Раз надо, сделаю. Только с чего вы взяли, что она согласится?
— Шутить изволите? Аринушка никому не отказывает, тем более знаменитому писателю… — И дальше он без всякого перехода выдал такое, что я побледнел: — Или вам больше по душе дочки миллионеров? Оно, конечно, заманчиво, но ведь небезопасно, а?
Хитрая квадратная рожа расплылась в слащавой улыбке, глаза оставались холодными.
— Грязный намек, — сказал я. — Не ожидал от вас.
— Какой намек, драгоценный мой. Скорее дружеское предостережение. В какой–то мерб я несу за вас ответственность как рекомендатель. Не хочется, чтобы вы пострадали из–за любовного каприза. Может быть, вы не совсем точно представляете себе ситуацию. Для нашего благодетеля Лиза входит в понятие частной собственности, а для таких людей, как он, это святое. Леонид Фомич будет очень огорчен, если узнает про ваши шашни, а он непременно узнает. За девочкой ведется неусыпное наблюдение.
В гневе (актерство, конечно) я вскочил на ноги.
— Выбирайте выражения, господин юрист. Или получите по морде. Мы с Лизой занимаемся грамматикой, не более того. По распоряжению Леонида Фомича, к слову сказать.
Гарий Наумович, смеясь, поднял руки перед собой.
— Ах, какие мы бываем грозные. Простите великодушно, коли что не так. Мое дело предупредить.
Через пять минут он ушел, а я, сварив кофе, уселся перед окном и задумался. Честно говоря, предостережение юриста поступило вовремя, но не совсем по адресу. С Лизой все обстояло не так, как он цинично предполагал. Как бы я ни увлекся ею, у меня, надеюсь, хватило бы рассудка не переступить роковую черту. Иной расклад с Изаурой Петровной, супругой Оболдуева. Она была из тех дамочек, которые не пропускают мимо себя мальчиков любого возраста, не надкусив. Самоутверждение через половое сношение — суть их безалаберной, нимфоманской натуры. В одном из неизданных романов я описал подобный экземпляр. Моя героиня переступала все грани приличий. Доходила до того, что особо угодившим ей любовникам подсыпала зелья в вино, а после у спящих, убаюканных неистовыми ласками, бритвой отмахивала гениталии, обжаривала их на постном масле и с жадностью поедала, запивая кошмарный ужин бургундским. Большинство редакторов советовали убрать эти сцены, находя в них некоторое преувеличение, кроме одного, маленького чернявого господинчика с филологическим образованием по имени Невзлюбин. Как раз ему весь роман показался бредом, за исключением сцен, описывающих похождение сладострастницы. «Увы, — сказал он, возвращая рукопись, — женщины часто так поступают, только об этом не принято говорить. Мы с вами, Виктор Николаевич, живем в обществе, которое с наслаждением внимает самой подлой лжи, но фарисейски возмущается, услыша словечко правды».
Пассивное сопротивление мужчины обычно выводит таких дамочек из себя, как случилось и с Изаурой Петровной. Я не отвечал на ее сумасбродные заигрывания, и это привело лишь к тому, что она удвоила усилия. Бук
вально не давала прохода, не считаясь с риском. Захотелось — значит, вынь и положь. Под столом прижимала свою ногу к моей или пинала носочком острой туфли, наставив изрядно синяков. Иногда попадала по косточке и я невольно вскрикивал от боли. Лиза и Леонид Фомич поднимали на меня изумленные взоры и я, как попугай, бормотал одно и то же: прошу прощения, косточкой подавился. Леонид Фомич произносил укоризненно: «А ты не спеши, Витя, кушай спокойно. Никто у тебя не отымет»… Озорница заливалась дьявольским смехом. Обычно хозяин привозил и увозил ее с собой, но однажды оставил в поместье на ночь, а сам уехал. Эта ночь превратилась в сущий кошмар. Изаура Петровна навещала меня трижды. Сперва тихонько скреблась в дверь, потом начинала колотить в нее каким–то тяжелым предметом, возможно, головой, вопя на весь дом, что если я, гад, не открою, мне не поздоровится, а уж какими словами обзывалась, не всякая бумага стерпит. Конечно, ее слышали все домочадцы и охрана, Изаура Петровна ничего не боялась. Но безумной не была, как не была и идиоткой. Напротив, она была здравомыслящей и, по всей видимости, достаточно (для нашего времени) образованной особой. Что и продемонстрировала наутро после ночной вакханалии. Ей удалось застукать меня в беседке, где я, воору- жась письменными принадлежностями, пытался набросать план хотя бы первой части книги. Накануне вечером Леонид Фомич перед отъездом рассмотрел варианты названий будущей книги и, к моему удивлению, легко утвердил на мой взгляд самое неподходящее, вставленное для количества «Через тернии — к звездам». «Может, еще подумать?» — смутился я. «Конечно, подумай, — согласился Оболдуев. — Но мне нравится. Есть в этом какая–то солидность, оптимизм. Сравни, к примеру, «Исповедь на заданную тему», как у Борьки Ельцина. Тьфу! Какое–то школьное сочинение».
Изаура Петровна подкралась к беседке и уселась напротив меня. На ней было умопомрачительное бирюзовое платье с глубоким декольте, откуда свежо и сонно выглядывали изумительных очертаний груди. Лицо печальное и чуточку торжественное, словно она собиралась сообщить о задержке месячных.
— Витенька, друг мой, — робко заговорила Изаура Петровна, — объясни, пожалуйста, в чем дело? Неужто я тебе совсем не нравлюсь?
— Что вы, Изаура Петровна, вы роскошная женщина. О такой можно только мечтать. Но ведь вы замужем за Леонидом Фомичом. Я думать ни о чем таком не смею. Не понимаю, как вам–то не страшно.
— Мои страхи, Витенька, давно в прошлом. Относительно нашего брака я не строю иллюзий. Не я у него первая, не я последняя. Мы с тобой, голубчик, оба обречены. Ты сегодня ночью сделал большую ошибку. Было бы хоть что вспомнить.
— Почему вы считаете, что обречены?
— Господи, какой простак, а еще писатель. Оболдуй есть Оболдуй, чудовище с гипертрофированным самомнением. Сейчас ты ему нужен, и мной он пока не натешился, но это все вопрос времени. Для него люди, Витенька, все равно что туфли. Только в отличие от других людей он старую обувь не выбрасывает, а сжигает. Чтобы никому уже не досталась.
— По–моему, вы преувеличиваете, Изаура Петровна. Что значит сжигает? В крематории, что ли?
— Как придется. — Красавица беззаботно улыбалась, глядя на меня с материнским превосходством. — Можно в крематории, можно в котельной. Можно растворить в кислоте. У Оболдуюшки много способов избавиться от старья.
— И, зная все это, вы согласились выйти за него замуж?
— Мы даже в церкви венчались, — с гордостью сообщила Изаура. — Как же, это модно. Некоторые из них крестятся по нескольку раз. Считается хорошей рекламой… Согласилась я, Витенька, потому же, почему и ты согласился. Дескать, вдруг пронесет, а денежек подкалымлю. Теперь знаю, не пронесет. И ты, Витенька, не надейся. Он следов не оставляет.
От ее обычной игривости не осталось и следа, рассудительная речь текла грустно, как на похоронах. На наших поминках. Ну, меня она не напугала, нет, не хватало еще верить на слово многоликой профессионалке. Правда, волчонок тоски заскребся под сердцем, но он и без того копошился там третью неделю.
— Сударыня, — начал я с унылой гримасой, — все, что вы говорите, тем более наталкивает на мысль, что нам лучше поостеречься. В доме полно ушей и глаз, ну как донесут?
— Успокойся, он и так все про меня знает. Только я ему не болонка ручная… Витенька, а может, у тебя другая ориентация? Вроде непохоже. Глазенки–то масленые.
— Я нормальный… Всегда готов соответствовать, но…
— Витька, сволочь! — вспылила Изаура Петровна. — Не хватало еще, чтобы я навязывалась. Кто ты такой? Я с клиентов по пятьсот баксов в час брала, и считалось дешево. А ты тут будешь целку из себя строить.
— Никого я не строю, Изаура Петровна. Почитаю за честь, что обратили внимание… Только вы девушка отчаянная, беззаветная, а я мужичок трусоватый, привык жить с оглядкой. Но коли твердо решили, давайте устроимся где- нибудь в городе, подальше от соглядатаев.
— Еще чего! — фыркнула Изаура. — По свиданиям мне бегать некогда, я мужняя жена.
Около беседки, словно ниоткуда, возникла сгорбленная фигура садовника Пал Палыча, разговор наш прервался. Но я понимал, что пока она не удовлетворит свой каприз, не оставит в покое. Что подтвердил свирепый, какой–то голодный взгляд, которым Изаура одарила меня, убегая.
Пал Палыч перегнулся через перегородку беседки и на английском языке попросил сигаретку. В который раз я ответил (по–русски, моих знаний английского не хватало, чтобы свободно болтать), что нахожусь в завязке, поэтому не ношу сигарет.
— Да, да, естественно, прошу прощения, — забормотал Пал Палыч, пугливо озираясь. Он явно хотел сказать еще что–то важное, но не решился, заметив двух охранников с автоматами, совершающих обход территории. Еще раз извинился неизвестно за что и сгинул в кустах можжевельника.
С некоторыми здешними обитателями, и в первую очередь именно с Пал Палычем, бывшим профессором юрфака, у меня уже сложились приятельские отношения, которыми я очень дорожил. Вживание в незнакомую среду, точнее выживание в ней, предполагает такого рода контакты. Человеческий фактор, как любил говаривать Горби, подписывая разорительные соглашения с иноземцами. С Пал Палычем мы сошлись на том, что оба испытывали ностальгию по разрушенной великой цивилизации, которую демократы прозвали совковой. Литература, музыка и даже многажды преданная анафеме сталинская архитектура — все, все вызывало у нас сопли умиления. Пал Палыч был старше почти вдвое и сперва думал, что я над ним посмеиваюсь, но когда убедился в моей искренности, чуть не прослезился. Сказал с горечью:
— Ох, Виктор, хотел бы я, чтобы мой сын вас послушал.
— А что с ним? — спросил я, заранее угадывая ответ.
— Ничего особенного. Торгует тряпками в бутике, меня считает мастодонтом. Правда, когда Леонид Фомич взял меня садовником, снова зауважал. А мне такое уважение…
— Пал Палыч, а как вы познакомились с Оболдуевым?
— О-о, курьезный случай, но не могу рассказать. Не мой секрет…
Как все истинные интеллигенты минувшей эпохи, он был пуглив и трепетен, на его лице словно навеки застыло выражение: ох, придут за нами, не сегодня–завтра обязательно придут. Повсюду им мерещилась кожаная куртка чекиста или, как нынче, окровавленный нож бандита.
По–доброму отнесся ко мне и управляющий поместьем Осип Федорович Мендельсон. Старательно изображавший чопорного англосакса, на самом деле был он из обрусевших немцев с солидной примесью удалой еврейской крови. Первые дни я его сторонился, полагая не без оснований, что о каждом моем неверном шаге он непременно доложит хозяину, но как–то вечером в каминном зале мы неожиданно разговорились за пинтой горьковатого эля, попахивавшего дымком. У нас нашлись общие интересы: и он, и я в свое время отдали дань учению Рериха — Блаватской, потом разочаровались в нем, и сейчас оба тяготели к традиционным христианским ценностям. Меня поразило, когда он небрежно, вроде бы ни к селу ни к городу заметил:
— Вы, Виктор Николаевич, умеете ловко приспосабливаться к собеседнику, меняете типажи, но не утруждайте себя понапрасну. При дворе господина Оболдуева это ни к чему.
— Что вы имеете в виду, Осип Федорович? — растерянно спросил я, задетый не столько смыслом фразы, сколько озорной искрой, блеснувшей в черных глазах.
— Да уж то, Виктор Николаевич, что, как ни силься, судьбу не объедешь на кривой. Господин Оболдуев для всех нас и есть общая судьба.
— Допустим, так. Но с чего вы взяли, что я меняю личины?
— Не смущайтесь, Виктор, это естественно. Кто не умеет приспосабливаться, тот для жизни непригоден. Бракованный материал. В соответствии с законами природы и звери, и рыбы, и растения — все так или иначе маскируют свою истинную сущность. Меняют цвета, запахи, даже размеры… Завел я речь об этом единственно из дружеского чувства, чтобы вы поняли: здешнее наше положение не требует дополнительных усилий для самосохранения. Напротив. Чем натуральнее будете себя вести, тем скорее заслужите расположение Леонида Фомича.
— Это так важно — заслужить его расположение?
— А как же! — Мендельсон посмотрел на меня так, будто пытался понять, не шучу ли я. — Во–первых, он нам платит. Во–вторых, никому я не пожелал бы испытать на себе его гнев. Всегда, разумеется, справедливый, но ужасный.
В таком духе, с затейливым подтекстом протекали все наши беседы, даже на отвлеченные темы, допустим о некоторых христианских догматах, которые мы трактовали по–разному. Осип Федорович был непростой человек, мне ни разу не удалось заглянуть в его прошлое, где, вероятно, было много темных пятен, если судить по случайным оговоркам. Вдобавок он, конечно, наушничал, но это как бы входило в обязанности управляющего, тут не на что было обижаться. Но погубить меня он не хотел, в этом я был уверен. Захоти, не сомневаюсь, давно сделал бы.
Был еще человек, с которым мы успели подружиться: повариха баба Груня. Женщина смурная, чудная, лет около пятидесяти. Весь ее облик простой русской бабы противоречил духу помещичьей усадьбы в западном варианте. Незатейливые наряды — цветастый передник, длинные плиссированные юбки, модные сто лет назад жакеты с отложными воротниками, розан в волосах — добавляли несуразицы в ее внешность, и я поначалу недоумевал, как она оказалась на кухне у миллионера–англомана. Все–таки он мог подобрать себе что–нибудь более приличное, выписать повара из Шотландии или, на худой конец, взять грузина или турка. Ларчик, как обычно, просто открывался: баба Груня была поварихой от Бога, как другие бывают прирожденными художниками или хирургами, умела приготовить любое блюдо, от черепахового супа до рябчиков на вертеле, да так, что гости Леонида Фомича, в основном представители новорусской элиты, пальчики облизывали, стонали от восторга и умоляли уступить кудесницу за любые деньги. Добавлю, и нашел ее Оболдуев не на помойке, а в ресторане «Палац–отеля», где она руководила поварским коллективом аж в тридцать человек. Сманил ее оттуда не деньгами, а вольной волюшкой. В «Палац–отеле» баба Груня не прижилась, всегда чувствовала себя не в своей тарелке и помирала от тоски. Оболдуев повязал ее крепко, купив ей в ближайшей деревеньке Захаркино деревянный дом с пристройками и с подсобным участком в тридцать соток. И хотя теперь у нее было только два по- мощника–поваренка и корячиться приходилось втрое тяжелее, чем в «Палац–отеле», да еще разрываться между кухней и деревенским домом, баба Груня впервые, как она говорила, почувствовала себя счастливым человеком.
Ко мне баба Груня отнеслась с жалостью, с первого взгляда почему–то решив, что я чахоточный. Мне тоже как- то сразу приглянулось ее круглое, покрытое оспинами лицо, обветренное и навеки сожженное печным жаром. Когда бы я ни заглянул на кухню, меня поджидали горячие пироги и жбан с медовухой. По твердому убеждению бабы Груни, именно это сочетание, да еще с добавлением настойки чеснока с алоэ способно поднять на ноги самого запущенного страдальца. Ни в какие аптечные лекарства она, естественно, не верила.
Разговаривали мы, как правило, о ее незаладившейся личной жизни. Пока я лакомился пирогами и медовухой, баба Груня сидела напротив, подперев пухлый подбородок кулачками, скорбно покачивая головой, туго замотанной алой косынкой с вензелем английского королевского дома. Я задавал наводящий вопрос, баба Груня отвечала сперва неохотно, затем постепенно увлекалась воспоминаниями и с милой, застенчивой улыбкой разматывала заново нить своей постылой бабьей судьбы.
Никогда ей не везло с мужиками, и все потому, что чересчур им благоволила. Первый муж ей попался хороший, из себя видный, офицер из Мытищинского гарнизона, но оказался таким пьяницей — не приведи Господь. Груня сама тогда жила в Мытищах и только начинала поварскую карьеру, торговала горячими пирожками возле гарнизонной проходной. Там и познакомилась с суженым, но из вооруженных сил его вскоре после свадьбы поперли. На дворе еще стояла худая коммунячья пора, сильно пьющих в армии не держали, избавлялись от них. После демобилизации лейтенант Шурик, голубоглазый ангел, взялся керосинить уже всерьез и буквально за год пропил все что смог: холодильник, телевизор, приемник, свое и женино барахло, а также здоровье и любовь. Помер тоже нескладно: в гаражах налакался с друзьяками тормозной жидкости, отлакировал ее пивом и в тяжких мучениях, но без особых сожалений покинул земную юдоль. На прощание через стоны и боль успел покаяться перед любимой супругой за то, что поломал ей жизнь, уродившись алкашом. От страшного потрясения у Груни случился выкидыш, да так неудачно, что после не могло быть детей. Второй раз вышла замуж уже за сорок, потеряв всякую надежду. И как–то играючи. Подружка пригласила встречать Новый год в клуб завода «Каучук», где собрались господа разных сословий, от новомодных брокеров до простых инженеров, что по тем временам еще было возможно. Груня повеселилась от души — пила, плясала, орала частушки, — потому что кто на нее позарится, на рябую, толстую и старую. Но все же нашелся ухарь, который позарился, да не какой–нибудь проходимец, а владелец бистро «Килиманджаро» на Садовом кольце и пяти палаток на Даниловском рынке. При этом не занюханный руссиянин без зубов, а достопочтенный, всеми уважаемый выходец с Кавказа с золотой серьгой в ухе. Груня, пьяная и счастливая, уже собиралась домой, когда он присоседился к ней с шампанским в руке и завел учтивый разговор. С нее хмель и дурь разом слетели, когда прислушалась к тому, что он говорил. Любезный горец признался, что наблюдал за ней весь вечер и пришел к твердому убеждению, что такую женщину он искал всю жизнь. Больше того, он успел навести справки у подруги и узнал, что Груня знатная повариха и вообще привержена к домашнему очагу, хотя и безмозглая руссиянка. Поэтому он с чистой душой предлагает ей руку и сердце, а для скрепления союза дарит вот эти драгоценные сережки с бирюзовыми камушками… Шел межеумочный период между пребыванием на троне лучшего немца Горби, который уже получил пинка под зад, и окончательным воцарением пьяного Бориски, приведшего с собой несметную рать молодых чикагских реформаторов; независимые, свободолюбивые жители гор еще только приглядывались, принюхивались к ничейной Москве, готовясь к набегу, и предпочитали жениться на аборигенках, вместо того чтобы брать их в рабыни, как в последующие годы. Груня второй раз за вечер захмелела, но теперь не от вина, а от умиления: никто отродясь не делал ей подарков, если не считать случая, когда первый муж, куражась, прицепил к ее кофте погон, а после заставил маршировать мимо него, отдавая честь и выкрикивая: «Слава героям Шипки!»
На другой день Груня уже хозяйничала в бистро «Килиманджаро», со скандалом оставив работу в «Славянском базаре», но счастье длилось недолго. Не прошло и полугода, когда она прознала, что таких жен, как она, у основательного, предприимчивого горца еще пяток раскидан по разным губерниям; кроме того, у него две жены в Махачкале, которые считаются законными, потому что он отдал за них богатый калым. Баба Груня ушла от Руслана тихо, безо всякой обиды, унеся с собой светлую память о ночах и днях любви, которыми он ее одарил.
— Что же, больше с ним так и не встретились? — сочувственно спрашивал я.
— Как не встретились? Много раз. Вызывал, когда нужда. Гости важные или что… Плов им готовила, разные блюда, но больше ничего такого, хотя Русланчик настаивал, тянулся иногда. Никак не мог поверить, что я ожесточилась. Да и то. Самолюбие у них обостренное, у южан. Дескать, он кто — абрек, бизнесмен, а какая–то баба–распустеха дала от ворот поворот. Только я в обмане жить не умею. Я и денег за стряпню не брала, это тоже его уязвляло. Убить грозился. Но вскоре его самого прибрали на каком–то ихнем толковище. Исчез без следа. Хотела молебен заказать на помин души, да батюшка запретил. Сказал, за басурмана нельзя, грех. Свечку–то за него все равно ставлю, когда в церкви бываю. Басурман не собака, верно? Скажу секрет, Витенька, я ведь моего Русланчика до сих пор люблю. Жалко его до слез. Важный, злой, а сердцем дите малое. Все мечтал, как они Рассею покорят и поставят над ней своего правителя. Как мальчишка, ей–богу. Небось, и не похоронили по–людски.
От воспоминаний на и без того красные щеки бабы Груни наплывал свекольный румянец, в очах загорались зеленые звезды. Полные груди тяжко вздымались. Если правильно понять, она была очень красивая женщина, слиян- ная с природой. Иногда заходила речь о моих делах, я с ней советовался.
— Ну что ты, Грунечка, — говорил я, изрядно глотнув медовухи. — Так смотришь, будто я уже умер. Полагаешь, напрасно ввязался в это дело?
— Конечно, миленький, конечно. Чахотку вылечить легче, чем спастись от нашего доброго хозяина. Он опаснее, чем десять Русланчиков, вместе взятых.
— Ты же работаешь на него, ничего, не боишься.
— Мне нечего бояться, миленький, я для него не человек, навроде мошки. Леонид Фомич мою стряпню любит, а самое меня, коли встретит на улице, в глаза не признает. Ты — другое дело. Писатель, можешь навредить. Горе ты мое луковое.
Помнится, я разозлился.
— Что вы все как сговорились? Каркаете, каркаете. Не такое уж он чудовище. Дочку любит, жену любит. Ничто человеческое ему не чуждо.
Баба Груня совсем пригорюнилась.
— Мне не веришь, погляди, как охрана к тебе относится.
Тут она в точку попала. Охраны в поместье было, по моим прикидкам, человек двадцать, в основном осетины и латыши, командовал ими маленький темноглазый крепыш Гата Ксенофонтов, бывший полковник спецназа. И все они, включая Гату, старательно избегали контакта со мной, неохотно вступали в разговоры, подчеркнуто уважительно здоровались, но старались поскорее отделаться, словно я нес в себе какую–то заразу. Я не придавал этому значения, думал, их поведение объясняется специальными инструкциями, но, возможно, ошибался.
— Как же быть? — спросил я у бабы Груни.
С улыбкой сострадания она поставила передо мной новую порцию пирогов, только–только из печки.
— Деревенская баба что может посоветовать? Кушай побольше, авось пронесет. С книжкой не торопись. Пока книжку пишешь, не тронет. Аванс дал?
— Небольшой.
— Это не важно. Хозяин денежки считать умеет. На ветер копейки не бросит. Пока не отработаешь, беречь будет.
— А потом?
— Миленький, все в руце Божией. Молиться надобно почаще. Ты хоть крещеный?
После таких разговоров пироги в рот не лезли, но медовуха шла хорошо… Ах, Лиза, Лиза, душа моя, что же нам делать с тобой?
…Кто не знает Арину Буркину? Ее знают все. Красавица, умница, всем режет правду–матку в лицо, самым высокопоставленным персонам. Ничего не боится. Никого не боится. В вечерних новостях запросто общается со всем миром. Всегда возбужденная, порывистая, страстная, настроенная на мозговую атаку, на скандал, на духовное парение — в зависимости от темы. Шоу «Под столом» побило все рекорды, рейтинг перешагнул все мыслимые пределы. После блистательной программы «За стеклом» — второе точное попадание прямо в сердце обывателя. Самое поразительное, в новом шоу не было стриптиза или актов дефекации перед камерой, столь притягательных для вписавшегося в рынок руссиянина. Коллеги с других каналов с завистью взирали на триумф Арины Буркиной, но никто не мог внятно объяснить причины столь ошеломительного успеха. Арина не раздавала призы, не оголялась, не выпытывала с пристрастием у очередного гостя, как он поступит со своей женой, если случайно застукает ее с Рексом. Более того, в передаче редко появлялись знаменитости, властители дум. Возможно, тут и крылась отгадка. Просто наступило время, когда очумелого зрителя, измученного бесконечной рекламой прокладок и пива, идиотскими спорами политиков и экономистов, задыхающегося от потоков крови, льющихся с экрана, наконец потянуло на что–то необременительное для души, не переперченное, с дымком уютного домашнего очага. Плюс — обаяние самой Арины Буркиной, умеющей так натурально рыдать и смеяться, как если бы она была вашей близкой подругой. В конце нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту, писал поэт, и был, разумеется, абсолютно прав.
Мы заперлись в кабинете, заставленном всевозможной аппаратурой, и Арина на скорую руку меня проинструктировала. Как сидеть, что говорить. Предполагалось, что эпизод с моим участием займет четыре минуты, и надо было успеть сделать все, что заказывал Леонид Фомич. Слушая ее быструю речь, глядя в тоскующие коровьи, с поволокой глаза, я почему–то припомнил Арину образца 1993 года, когда она металась на экране в разорванной кофте, простоволосая, с подозрительными ржавыми пятнами на щеках и, заламывая руки, заклинала: «Борис Николаевич! Неужто допустите?! Это же не люди, звери!»
После того как танки сокрушили парламент и чернь угомонилась (услышал Боря, услышал!), Арина появилась в новостях только две недели спустя, счастливая, с горячечным блеском в очах, как будто еще не отдышавшаяся после великой победы. Такой она впоследствии оставалась постоянно, словно сию минуту с баррикады.
Проводя инструктаж, Арина выкурила подряд три сигареты. Я от сигареты отказался, чем, по всей видимости, поставил на себе крест как на личности. Интересно вообще, за кого она меня принимала? Наверное, Гарий Наумович отрекомендовал меня писателем, но таковым я быть не мог: писатели начинались для нее лишь после получения премии Букера, подтверждающей масштаб и лояльность их дарования. Скорее всего, Арина видела во мне обыкновенного (не курит, может, и не пьет?) недотепу, который, если не подстраховать, обязательно выкинет что–нибудь непотребное, совковое… Главный наводящий вопрос звучал так: а что вы, дорогой, думаете о состоянии нынешней политики? Ответ я записал на шпаргалке и показал ей. Арина осталась довольна, хотя наморщила носик.
— Можно смягчить выражения, — поспешно заметил я.
— Ничего не надо менять, — резко сказала она. — У нас свобода слова, каждый имеет право на собственное мнение.
— Это верно, — согласился я и решил сразу покончить со вторым пунктом программы. — Хотелось бы после передачи, мне намекнули… пригласить вас… э-э…
— Да, да, я в курсе. — Арина раздраженно выпрямилась. — Попозже поедем в гостиницу. Не знаю только, зачем это нужно. Надоели бесконечные проверки.
— Совершенно с вами согласен. — Я учтиво поклонился и был награжден теплой коровьей улыбкой…
Мизансцена шоу примитивна, без затей, но выстроена в точном соответствии со сценарием. Что–то вроде комнаты в деревенской избе. Стулья с высокой спинкой (а-ля рюс, XIX век), на столе самовар, чашки, корзинка с черными сухариками. Из одного угла наполовину высунулось обшарпанное пианино, знак приобщения к культуре. Стена завешена иконками и фотографиями в рамочках, на которых трудно что–либо разобрать. На другой стене огромная репродукция квадрата Малевича, но почему–то в алом цвете. Над головами собеседников угрожающе нависает мраморная (из папье–маше) столешница, как бы опирающаяся на три тесаные ножки–бревна. Столешница обозначает, символизирует крышу мира, куда обыкновенному человеку подняться не дано. И тут еще изюминка. Два–три раза в течение передачи гремит гром, крыша раскалывается пополам и сквозь ломаную трещину в студию врывается звездное небо. Происходит это вне всякой связи с тем, что делается внизу, под столом. Выше я упомянул, что Арина Буркина не раздаривает призы, но это не совсем так. Везунчикам, над которыми распахнулся небесный купол, тут же вручается гостевая виза на проживание в США. Некоторые не выдерживают свалившегося на них счастья. Я сам видел, как в одной из передач самоуверенный молодой человек атлетического сложения, знаменитый стриптизер из ночного клуба «Розы Каира», получив из рук Арины визу, свалился от сердечного удара и скончался у нее на руках. Вот и верь после этого, что от радости не помирают.
Мой выход был после двух премилых лилипутов и перед бабушкой Матреной, колдуньей из Люберец, «нашей Вангой». Для разрядки, сказала Буркина. Я не понял, что она имела в виду. Лилипуты, оба мужского пола, вдохновенно рассказывали о своих невзгодах в мире больших людей, о том, какие несправедливости им постоянно приходится терпеть. «Начать с того, — сетовал один из лилипутов, — что никто из наших никогда не избирался в парламент. Мы и не пытались. Кто, интересно, будет за нас голосовать? Вопиющая дискриминация. И так во всем». Арина Буркина умело направляла беседу, задавая вопросы, которые наверняка больше всего интересовали телеаудиторию. К примеру, спросила, эффектно выкатив силиконовую грудь: «Скажите, мальчики, а мог бы кто–нибудь из вас полюбить обыкновенную женщину нормального размера, вроде меня?» Мальчики (вместе им, думаю, было за полтораста) заулыбались с пониманием. «В этом нет ничего особенного, — рассудительно ответил один. — Женщины к нам тянутся, они скорее, чем мужчины, способны понять наш духовный мир, но им приходится скрывать свои чувства. Общественность косо смотрит на подобные связи. Ведь это только на словах мы теперь самая демократичная страна в мире после Америки. На самом деле… Хотя, вспомните, совсем недавно с таким же предубеждением относились к гомосексуалистам, и к лесбиянкам, и к серийным убийцам». «Да, да, — поддержал второй лилипут. — Общество постепенно освобождается от пещерных стереотипов, но все же чересчур медленно…»
Перед выступлением я ничуть не волновался, хотя на телевидении оказался первый раз в жизни, да еще сразу в прямом эфире. Вероятно, это потому, что меня занимали проблемы поважнее.
Проводив лилипутов, Буркина объявила, что «следующим гостем будет знаменитый, начинающий писатель… — заглянула в бумажку и все же перепутала, — Архипов (в действительности я Антипов), а за ним, — она выдержала театральную паузу, — к нам пожалует наша Ванга из Люберец, великолепная бабушка Матрена…». На экране возникла рекламная заставка: старуха с седыми взъерошенными космами, с недобрым, угрюмым лицом делала пассы над желтым черепом, внутри которого бродил, перемещался голубоватый светлячок.
Наш фрагмент передачи прошел как по маслу. Арина Буркина, умильно гримасничая, попросила рассказать, как я стал писателем и что уже написал, но едва я начал говорить, нервно взглянула на часы и перебила, задав, как условились, центральный вопрос — о политической ситуации в России. Бодрым, самоуверенным тоном я доложил, что расцениваю ситуацию как пока еще переходную, но благоприятную для бизнеса. Беда, однако, в том, что некоторые политики видят свою роль не в служении народу, то есть мелким и средним предпринимателям, делегировавшим их во власть, а используют свое положение лишь для достижения личных целей. Дальше я назвал тех, кого было велено. Господина К., возглавляющего фракцию в Думе, обвинил в пресмыкательстве перед западными корпорациями; про банкира Н. сказал, что тот сожительствует со своей малолетней дочерью, но прокуратура даже не чешется, потому что сама на подкормке у негодяев; вице–премьера упрекнул в том, что он половину бюджетных денег с помощью Центробанка переводит на свои личные счета, ворюга! Вдобавок у него в служебном кабинете висит на стене портрет Сталина с трубкой во рту, который он — мерзавец! — цинично задрапировывает звездно–полосатым американским флагом, когда принимает иностранные делегации.
В заключение уже от себя, а не по шпаргалке, добавил, что, к сожалению, среди наших политиков очень мало истинных патриотов, таких, скажем, как многоуважаемый олигарх Леонид Фомич Оболдуев. Слушая меня, Арина Буркина умело изображала священный трепет.
— Не слишком ли вы категоричны, господин Архипов? У нас, конечно, слава Богу, полная свобода слова, но не боитесь ли вы, что вас могут обвинить в клевете?
— Волков бояться, в лес не ходить, — ответил я удачным экспромтом. Четыре минуты истекли, Буркина жеманно поблагодарила меня за то, что нашел время заглянуть на огонек, — и я отбыл восвояси.
Ждал в буфете часа два, посасывая один за другим безалкогольные коктейли. Наверное, еще два года назад я был бы преисполнен энтузиазма, очутившись в сердцевине медийного спрута, за десяток лет отштамповавшего у двух третей руссиян совершенно одинаковые, стерильные мозги. В этом смысле до американцев нам было, пожалуй, еще далеко, но со старушкой Европой, кажется, почти сравнялись. Рынок всему голова, святая частная собственность, права человека, коммуно–фашизм не пройдет, еще два–три клише и дальше — пустота, космический вакуум. Во мне самом что–то сломалось: затухло любопытство, угас интеллектуальный азарт, не осталось и спасительной злобы. Ничто уже по–настоящему не волновало и не побуждало к действию. Все происходящее я воспринимал с умиротворением столетнего старца, подслеповато оглядывающегося по сторонам на краю разверстой могилы. Скучно жить на белом свете, господа. Никудышны дела твои, Витенька.
Публика в буфете, сновавшая туда–сюда, не вызывала желания прислушаться к разговорам, приглядеться поближе. Стайки озабоченных девчушек, важные дамы с пивными кружками в руках, импозантные мужчины, целующиеся при встрече взасос, молодые люди агрессивного вида, на бегу опрокидывающие рюмки спиртного, еще какие–то бесполые, безликие существа, словно наощупь пробирающиеся к стойке бара и обратно к выходу, — все, все они казались призраками с бледной кожей, с запавшими, пустыми глазницами, отделенными от меня незримой стеной.
Тягостное ощущение. Театр теней. Может быть, я сам давно заражен страшной, неизлечимой душевной болезнью и здесь, в подходящей обстановке, впервые различил ее грозные симптомы: колокольный звон в ушах, парад мертвецов перед глазами…
Появление Арины Буркиной обрадовало меня, хотя она тоже была по ту сторону стены, куда мне не было хода. Ничего, общими усилиями мы эту стену проломим. Во исполнение загадочной воли работодателя.
— Уу–уф! — Она плюхнулась на стул, будто переломанная в пояснице кукла. — Чего–то вымоталась до жути… Принеси, пожалуйста, коньяку.
Я сходил к стойке, взял большую рюмку и тарелочку с нарезанным лимоном. Арина жадно выпила, прикурила новую сигарету. У нее были особенные глаза, как у всех здешних обитателей, молодых и пожилых, за которыми я наблюдал битых два часа. При малейшем возбуждении — обмен репликами, смех — эти глаза наполнялись серебристой пылью, но едва их носитель успокаивался, в них проступала загробная тоска.
— Послушай, э-э, как тебя… Витя, может, поедем лучше ко мне?
— Приказу следует подчиняться буквально, — возразил я. — Велено в гостиницу.
— А зачем, не знаешь?
— Что — зачем?
— Зачем нам это делать? Ты кем ему приходишься? Может, Оболдуй хочет, чтобы я научила тебя кое–каким особым приемчикам?
— Я знаю не больше, чем ты.
— Но какие–то версии есть? Может, он собирается устроить тебя на телевидение? А это так, вроде первого экзамена?
— Не понимаю. В чем заключается экзамен?
— Как в чем? Проверить твои возможности. Наши–то мужики почти все импотенты. Остальные педики.
— О телевидении пока разговора не было.
Некоторое время мы сидели молча, с Ариной то и дело здоровались. Час был поздний, около двенадцати, но жизнь на телестудии шла полным ходом. Внезапно из коридора донесся пронзительный, режущий уши крик.
— Что это? — спросил я. — Кого–то зарезали?
— Вряд ли, — полусонно отозвалась Арина. — Это Вов- чик Сокруладзе из шоу «Интервью с вампиром». Полный дебил. Никак не привыкнет к привидениям.
— У вас и привидения есть?
— Уж этого добра хватает. — Буркина беспечно махнула рукой.
В гостиницу добрались к часу ночи, покинули ее около пяти утра. О том, что между нами там происходило, лучше не вспоминать.
ГЛАВА 10 ШАГ В СТОРОНУ
К концу третьей недели я представил Оболдуеву не план книги, который он требовал, а три странички текста, как бы авторское введение в повествование о великом человеке. Думал его этим умаслить и получить дополнительное время для творческого разгона. Текст, на мой взгляд, удался, говорю без ложной скромности. Если не знать имя персонажа, читатель вполне мог настроиться на жизнеописание Александра Македонского либо Джорджа Сороса, не ниже рангом. Убойные фразы типа: «Надеемся, что руссия- не извлекут полезный урок из знакомства с громокипящей судьбой уникального представителя человеческой расы…» придавали тексту эпически возвышенный тон, настраивали на серьезное размышление. Конечно, искушенный литературный критик способен был уловить некий намек на пародию, но, насколько я успел узнать магната, он стремился именно к патетическому изложению, без всякой бытовщины и перебирания грязного белья.
Леонид Фомич прочитал предисловие дважды, второй раз нацепив на нос очки, которыми пользовался в исключительных случаях, когда, допустим, подписывал финансовые документы. Потом поднял на меня печальные глаза, в которых светился укор.
— Вот уж не думал, Витя, что ты принимаешь меня за идиота.
Я растерялся.
— Что такое, Леонид Фомич? Что–то не так?
— Зачем ты сравниваешь меня с Наполеоном? Чтобы смешнее было?
— Леонид Фомич, да я… Ни в коем случае… я…
— Что я? Головка от… если ты, милый мой, хочешь отделаться рекламным роликом… Ладно, давай разберемся, но только в последний раз. Странно, Верещагин рекомендовал тебя как смышленого парня, да ты действительно не дурак, и язык ловко подвешен, и перо есть, а все–таки чего–то главного ты, Витюша, видно, в жизни не понял. Вот скажи, на фига мне эта книга?
Совершенно обескураженный, я пробормотал:
— Ну как же, увековечить память… в назидание потомкам… Вы и сами так говорили.
Оболдуев досадливо морщился.
— Каким потомкам, Витя, окстись… Такие книги, дорогуша, стряпаются не для внутреннего пользования. Мне наплевать на потомков, а тем более на современников. И тем более на твоих руссиян. Не только мне наплевать, но и всем, у кого выходят подобные книжки, включая наших всенародно избранных. Думаешь, их интересует мнение соотечественников? Если так думаешь, тогда и говорить больше не о чем. Понимаешь, о чем я?
— Не совсем.
Мы беседовали в его кабинете. Леонид Фомич подошел к окну, постоял под открытой форточкой, поглаживая ладонями припотевшую лысинку. Его массивная спина, крутой затылок, кривоватые бревна ног были красноречивее слов: грозный властитель разочаровался в незадачливом подданном. Или был на грани разочарования. Но, обернувшись, заговорил спокойно, тоном учителя, в сотый раз разъясняющего тупице элементарный урок.
— Такие книги выходят, чтобы их прочитали там. — Оболдуев ткнул перстом в потолок. — Дело в том, что в цивилизованном мире о нас, о российских деловых людях, сложилось превратное мнение. Тут, конечно, сыграли зловещую роль и телевидение, и пресса, раскрутившие русскую мафию. Неблагодарные подонки! Пилят сук, на котором сидят. Какая мафия? Где она? На Западе, естественно, подхватили: ах, мы не знали, ах, не ожидали! Русские все бандиты. Отмывают через наши банки награбленное. И посыпалось — ату их, ату! Так вот, Витя, книгу, когда ты ее напишешь, сразу переведут на все языки мира. И каждый прочитавший ее западный недоумок должен прийти к простой и внятной мысли: как же меня обманули! Оказывается, русские миллионеры — прекрасные ребята и ничем, в сущности, не отличаются от нас. А в чем–то, может быть, еще благороднее. И господин Оболдуев, гляди–ка, гляди–ка, открывает сиротские дома, жертвует на храмы, спонсирует независимые газеты… Ты, Витюша, сможешь считать, что справился со своей задачей, если через какое–то время после выхода книги со мной свяжутся парни из «Дженерал моторе», или из Всемирного банка, или… Короче, из любой престижной, с отменной репутацией мировой корпорации и предложат контракт о долгосрочном сотрудничестве… Я понятно объяснил?
Мне не только было понятно, я был восхищен.
— Не умею говорить комплименты, Леонид Фомич, но вы удивительный человек. Каждый раз открываете новые горизонты. А что, если… Что, если, не умствуя, составить книгу в виде открытого письма западному другу? Эдакое прямое, честное обращение к единомышленникам. Такого еще никто не делал. Это может дать совершенно неожиданный результат. Это…
— Неожиданных результатов не надо, — поумерил мой пыл Оболдуев. — Ладно, ступай, Витя, работай. Но больше не показывай такую чепуху… Погоди–ка, — окликнул, когда я уже был у дверей. — Вернись–ка!
Я повиновался, неся на лице выражение абсолютного внимания. В армии это называется — пожирать глазами.
— Вечером за тобой заедут, поприсутствуешь на допросе одного человечка.
— На допросе?
— Ты писатель, верно? Значит, психолог. Понаблюдаешь за ним. Человечек задолжал мне большие деньги, а строит из себя невменяемого. Вот и определишь, симулирует или нет.
— Леонид Фомич…
— Кстати, — он поднял руку, — мне понравилось, как ты управился на телевидении. Молодец. Ну а как тебе понравилась Буркина? Не обманула ожиданий?
По его кривой усмешке можно было догадаться, что он удосужился просмотреть видеозапись наших с Аринушкой развлечений.
— Леонид Фомич, я ведь не отказываюсь выполнять ваши поручения, но какие–то они… не совсем адекватные, что ли. Сперва Сулейман–паша, внезапно скончавшийся. Потом эта нимфоманка… Не улавливаю, почему я…
— Тебе, Витя, и не нужно ничего улавливать.
— Простите, Леонид Фомич, но, кажется, в нашем договоре… Я не подписывался на противоправные действия.
Реакция на мою дерзость была на удивление мягкой. Правда, Оболдуева немного перекосило, шевельнулся мох в ушах, похожих на два лопуха, в тусклых, навыкате глазах на мгновение вспыхнул нехороший огонек, но ответил он без раздражения:
— Позволь мне, дорогуша, самому решать, как использовать тех, кому плачу. Или тебя не устраивает сумма?
— Вполне устраивает, спасибо. Но…
— Ступай, Витя, ступай. Ты и так отнял массу времени неизвестно на что…
Лиза ждала в каминном зале, где мы обычно занимались. Накануне я дал ей задание — написать заметку о романе Толстого «Война и мир». Хотел прояснить непонятный момент: Лиза была грамотной, даже сверхграмотной девушкой, без затруднений, блестяще справлялась с экзаменационным вузовским диктантом, но стоило ей чуть- чуть разволноваться, как она начинала делать одну за другой самые нелепые ошибки. Штука в том, что за мной водился тот же самый недостаток: увлекшись текстом, возникающим из–под пальцев, я пропускал слова, ставил как попало знаки препинания и в слове «корова» путал гласные. Значило ли это, что у нас родственные души, вот что я хотел узнать. В том, что я хотел обладать ею, как никакой другой женщиной прежде, у меня сомнений не было. К этому понятному мужскому чувству, сопровождаемому гипертоническим звоном в ушах, на сей раз примешивались страх и… благоговение, иначе не скажешь. Благоговение, страх и похоть — совместимо ли это? Могу засвидетельствовать: вполне.
В лаконичном, на четыре странички, Лизином эссе меня поразила одна мысль: «Человеческую жизнь, — написала она, — можно, наверное, сравнить с чертовым колесом: в ней все постоянно повторяется, только на разных уровнях. Лев Толстой, описывая любовь князя Андрея…»
Лиза сидела в низком кожаном кресле. На ней было короткое летнее платьице персикового цвета, длинные стройные ноги упирались в каминную решетку. На худеньком личике застыла обычная холодноватая полуулыбка. Ее волнение выдавали лишь плотно сцепленные пальцы рук.
— Да, — сказал я, — очень хорошо. Есть предмет для размышлений. Посмотри сама. Первые две странички чистые, а дальше… Вот, вот, вот… А это что? Лизетта! Как пишется «восприятие» (у нее было написано «васприетие»)?
Ее щеки словно окрасились солнечным лучом.
— Ты вычитывала собственный текст?
— Да, — едва слышно.
— И ничего не заметила?
— Не надо со мной так, Виктор Николаевич.
— Как?
— Как будто я дефективная.
— О-о, нет. Скорее я дефективный, раз впутался в такую аферу.
Лиза была не из тех, кому надо что–то разжевывать, и резкие переходы ее не смущали.
— Вы предубеждены в отношении папы, как и многие другие, — заметила она с укоризной. — Когда–нибудь вы поймете, как заблуждались. Если бы у меня был ваш талант, Виктор Николаевич, я написала бы о нем десять книг, а не одну.
— Не сомневаюсь. Тогда прочти вот это, — я протянул ей забракованные олигархом три листочка. Лиза читала внимательно, но на второй странице сдавленно хихикнула, потом рассмеялась звонким, ликующим смехом. Смутилась и прижала ладошку к губам.
— Извините, Виктор Николаевич, но очень смешно. А папа что сказал?
— Примерно то же самое, — буркнул я. — И что здесь смешного?
— Но вы же это понарошку написали, да?
— Почему понарошку? Нормальное предисловие. Не понимаю, что тебя так развеселило. Правда, есть девушки, палец покажи — со смеху помрут. Ты вроде не такая.
Лиза покраснела еще пуще.
— Не хотела вас обидеть, Виктор Николаевич, но… Наверное, не сумею объяснить… Я где–то читала или слышала, что дурака в глаза хвалят. И тут получается что–то похожее. Папа великий труженик, а не чудо–юдо морское. Представляю, меня кто–нибудь сравнил бы с Жанной д’Арк или Ахматовой. Я сразу поняла бы — издевается.
— Вопрос не в том, с кем сравнивают, а насколько искренне. Для меня твой отец — пример бескорыстного служения отечеству, как можно иронизировать?.. Ладно, проехали. Давай вернемся к твоим ошибкам. Если учесть, что ты, в принципе, грамотная девушка и вполне способна их не делать, — это настораживающий симптом. Твои грамматические ляпы, на мой взгляд, — следствие разбалансированной психики. (Я не упомянул, что то же самое могу отнести к себе.) Может быть, тебе вообще нужен не учитель русского языка, а хороший психиатр.
— Думаете, я чокнутая?
— Не больше, чем каждый из нас. Но у тебя переходный период, когда многие элементарнейшие житейские проблемы кажутся неразрешимыми. Будем откровенны, Лиза, жить, как ты живешь, не совсем нормально для девушки. Согласна?
— Допустим. И чем тут поможет психиатр?
— Добрым советом, участием. Возможно, лекарственными препаратами.
— У вас уже не осталось житейских проблем, Виктор Николаевич? Вы со всеми с ними справились?
— С житейскими проблемами справиться нельзя, они преследуют до последнего часа. Но можно переменить свое отношение к ним. Давай попробуем разобраться. На сегодняшний день что тебя мучает больше всего? Неволя? Отношения с молодой мачехой?
— С этой прекрасной дамой, Виктор Николаевич, у вас тоже, кажется, отношения складываются не совсем так, как вам хотелось бы?
Лиза выпалила эту фразу скороговоркой, глядя мне прямо в глаза, и я с удивлением обнаружил, что между нами, по всей видимости, затеялась маленькая война, обыкновенно вспыхивающая перед тем, как мужчина и женщина лягут в постель, а потом либо затухающая, либо приводящая к неизбежной разлуке. Очутившись на этой опасной черте, я испытал приступ животного страха.
— Лиза, — сказал я как можно мягче. — Как тебе не стыдно?
— Мне? — Изумление было не наигранным. — Скорее вам должно быть стыдно, Виктор Николаевич. Разве вы не видите, кто она такая?
— Лиза, опомнись, ты говоришь о законной супруге своего отца.
— Отец тут ни при чем. Для него все женщины на одно лицо. Он берет первую, какая подвернется под руку, а когда она ему надоест, меняет на другую, обычно равноценную. Женщины не задевают его души. Вы совсем другой, Виктор Николаевич, вы — художник. Такая женщина, как Иза, способна причинить вам большое зло.
— Вон оно что… А я было подумал, ты заботишься о моей нравственности. Лиза, ты как–то странно смотришь на меня. У меня что–нибудь на лбу?
Ее глаза затуманились, с ужасом я увидел, как она приближается ко мне, соскальзывает с кресла, по–прежнему упираясь ногами в каминную решетку.
— Виктор Николаевич, — выдохнула, словно ветерок по траве прошелестел, — вам ведь хочется меня поцеловать?
— Допустим, — сказал я, сохраняя присутствие духа. — Что же из этого следует?
— Почему не решаетесь?
К чему–то подобному я был готов уже несколько дней, но надеялся, что ситуация под контролем и уж, во всяком случае, инициатива принадлежит мне. Оказалось, ошибся.
— Тому есть много причин, Лиза, но думаю, и так все понятно. Эти игрушки не для нас.
— Ах, игрушки? Тогда я сделаю это сама.
И сделала. Обвила мою шею руками и приникла к моему рту. Ее поцелуй был искушеннее, чем я ожидал. В открытых глазах мерцало сумрачное любопытство. Я вел себя с достоинством и, как герой под пыткой, даже не разжал губ. Только в голове что–то жалобно скрипнуло. Лиза резко отстранилась, и я вынужден был поддержать ее за талию.
— Вам неприятно?
— Нет, почему… Помнится, лет десять назад…
В это роковое мгновение, как в сотнях плохих киношек, в комнате возник не кто иной, как Гата Ксенофонтов. Этот маленький востроглазый полковник имел обыкновение появляться неслышно, подобно материализовавшемуся фантому.
— Прошу прощения, господа. — Он смущенно кашлянул. — Профилактический обход.
Лиза уже переместилась в кресло и нервно смеялась.
— Вы всегда так подкрадываетесь, Гата, как рысь на тропе.
— Привычка, — конфузливо проговорил полковник, оправдываясь. — У нас ведь как, барышня? Кто тихо ходит, тот долго живет.
— Не называйте меня барышней, пожалуйста.
Я почувствовал, что пора и мне вставить словцо. Но что- то в глотке застряло, вроде банного обмылка.
— Не смею мешать, — откланялся полковник. — Еще раз извините.
Вот ты и спекся, писатель, пронеслось у меня в голове.
Не взглянув на Лизу, я вышел следом за Ксенофонто- вым. Догнал его в длинном коридоре со сводчатыми потолками, со стенами, увешанными картинами, в основном первоклассными копиями передвижников.
— Господин Ксенофонтов, не подумайте чего–нибудь плохого. Мы тут с Лизой репетируем сценки из жизни российской буржуазии. У девушки, знаете ли, несомненный артистический талант.
Гата приостановился, взглянул на меня без улыбки.
— Вам нечего опасаться. Кроме службы, меня ничего не касается.
Он видел меня насквозь.
Распрощавшись с полковником, я вышел под палящее июньское солнце. Пейзаж привычный: контуры парка,
стрелы дорожек, мощенных разноцветной плиткой, благоухающие цветочные клумбы, живописные беседки, японские горки, пруд с красными карпами, где по зеленоватой, словно мраморной поверхности величественно скользила лебединая пара, — далеко не полный перечень красот, располагающих к созерцательной неге. Умеют люди жить и с толком тратить деньги. У меня денег не было, и жить к тридцати шести годам я так и не научился. Грустный итог.
Невесть откуда подобрался к ногам дог Каро. Я сел на ступеньку и осторожно почесал у него между ушами. Пес покосился красноватым глазом, зябко засопел и тоже перевел могучее туловище в сидячее положение. Ну что, брат, говорил его мутноватый взгляд, опять чего–то натворил? Мы с ним давно подружились и частенько, когда выпадала минутка, беседовали на отвлеченные темы. Каро был внимательным слушателем, и, кроме того, это было единственное живое существо в поместье, которого я не боялся. Если ему что–то не нравилось в моих рассуждениях, он лишь пренебрежительно сплевывал на землю желтые сопли.
— Видишь ли, дружище, — сказал я на этот раз, — обстоятельства, видимо, складываются так, что скоро нам придется расстаться. Правда, если повезет, меня зароют в одну из этих прекрасных клумб, куда ты любишь мочиться. Самое удивительное, Каро–джан, я сам себе не могу объяснить, зачем ввязался во все это. Сочинитель хренов. Неужто алчность так затуманивает мозги, как думаешь?
Под тяжестью вопроса пес покачнулся и издал короткий, хриплый рык, похожий на воронье «ка–ррк».
ГЛАВА 11 ГОД 2024. ОДИЧАВШИЕ ПЛЕМЯ
В первый день одолели лесом тридцать верст с лишком и к вечеру вышли к заброшенной деревушке, где от большинства домов остались лишь обгорелые головешки. По всем приметам, сюда давно, может быть уже несколько лет, не ступала нога человека, и это понятно. Оставляя зачищенные населенные пункты, миротворцы повсюду разбрасывали гуманитарные гостинцы: отравленные консервы, взрывпакеты, замаскированные под курево, баллончики с газом «Циклон‑2» в виде пасхальных яичек, а в колодцы сливали быстродействующие яды новых поколений. Газеты писали, что должно пройти не меньше трехсот лет, чтобы природа в этих местах вернулась в естественное состояние, пригодное для жизни.
Они разглядывали мертвую деревню с бугорка возле леса, подступившего к ней вплотную. Пониже деревню огибала безымянная речушка, казавшаяся оттуда, где они стояли, черной асфальтовой лентой с неровными краями.
— Видишь кирпичный дом? — сказала Даша. — Совсем целый. Как думаешь, почему?
— Мало ли, — ответил Климов. — Может, пластидом накачали. Дотронься до двери — и рванет.
— Вряд ли, Митенька. Что–то тут не так. Даже стекла в окнах не побитые. Давай поглядим.
— Зачем? — спросил Митя для порядка, хотя понимал, что ей просто не хотелось коротать первую ночь в лесной чащобе. Его любопытство тоже было задето. Не в обычаях у миротворцев оставлять посреди общего разора нетронутую домину. Их тактика известна: хороший руссиянин тот, у кого ни кола ни двора. Действительно, здесь что–то не так.
— Интересно же. Давай посмотрим, Мить.
— Вдруг ловушка?
— Какая, Мить? Ты же видишь, здесь аура спокойная.
Улица, заросшая по пояс травой и лопухами, вроде подтверждала ее правоту, но внушала добавочные опасения. Лесные обитатели всегда рыщут в оставленных человеком местах, ищут, чем поживиться, а тут ни единого следочка. И в воздухе опасная, ничем не нарушаемая тишина, словно они подступили к зараженной зоне.
— Если боишься, — предложила Даша, — давай одна схожу. Ты только подстрахуешь.
— Давно так осмелела?
— Мить, я устала… а там, наверное, кровать. Печка. Ужин приготовлю.
— Из чего? — Он старался смотреть на нее как можно строже. — Кстати, какое ты имеешь право говорить, что устала? Знаешь, что бывает с теми, кто устает?
— Знаю, Митенька, но ты ведь не сделаешь это со мной, правда?
За день пути они отдыхали всего два раза. Один раз разожгли костер и попили настоящего сладкого чая с черными сухариками. Второй раз просто посидели на пеньках, выкурили по сигаретке, но без дури. Обычная махра. В рюкзаках у них был запас еды дней на пять — консервы, соль, сахар, сухари. Из огнестрела Истопник ничего с собой не дал, но у Мити за поясом торчал короткий плотницкий топорик, а Даша прятала под курткой нож из нержавейки с наборной ручкой. Это правильно. Если бы их поймали с чем–то таким, что стреляет, то и допрашивать бы не стали. Еще у них имелись волосяные силки на любого мелкого зверя, а также рыболовные принадлежности — леска, крючки, грузила. Впрочем, вопрос пропитания перед ними не стоял. Начиналось лето. Лес легко накормит даже таких неумех, как они.
Разговаривали мало, и разговор большей частью почему–то сводился именно к этой теме: что Даша имеет право делать, а что не имеет. И еще — не так уж, видно, мудр учитель, раз послал ее на такое ответственное задание. На язвительные выпады Мити девушка отвечала с обычной для «матрешек» покладистостью. Он только и слышал от нее: увидишь, Митенька, я тебе еще пригожусь…
К кирпичному дому подобрались задами, продравшись сквозь заросли крапивы. Вспугнули стайку голубей, давно разучившихся летать, жирных и неповоротливых. Митя успел двух прихватить палкой, свернул им хрупкие шейки и сунул за пояс — вот тебе и ужин. На завалинке возле дома на вечернем солнышке грелись коричневые змейки с черными головками. Даша охнула, ухватилась за Митино плечо.
— Ты чего? — не понял он.
— Боюсь. Вдруг кинутся.
— Не дури. Они не ядовитые. Но это хорошо, что они здесь.
Внутрь проникли через заднее оконце, которое Митя ловко выставил вместе с рамой, воспользовавшись своим топориком. Быстро обследовали оба этажа, подсобку, кухню, заглянули во все углы — никаких сюрпризов. Более того, никаких следов погрома. Правда, бедновато. На все пять комнат (две наверху и три внизу) несколько стульев, один деревянный лежак, застеленный серым шерстяным покрывалом, и два стола — один в большой комнате на первом этаже и второй на кухне, рядом с газовой плитой. Здесь же, у плиты, стояли два газовых баллона с туго закрученными вентилями. Повсюду, во всех помещениях, чистота, как после генеральной уборки. В большой комнате на стене единственное украшение — портрет пожилого печального мужчины с белой бородкой, вставленный в потемневшую от времени раму.
— Кто это? — шепотом спросила Даша.
— Икона. Никола–угодник, — ответил просвещенный Митя. — Не нравится мне все это.
— Ой, мне тоже, — согласилась Даша. — Давай сбежим отсюда.
Настораживала именно прибранность, ухоженность дома, даже полы издавали влажный запах недавно вымытых. Словно хозяева навели порядок и вышли ненадолго прогуляться. И еще — как во всех деревенских домах, пусть и кирпичных, здесь полагалось быть печи, что подтверждала и труба на крыше, высокая, с жестяным козырьком, но печи не было. Вдобавок входная дверь была заперта изнутри на массивный железный засов, что вообще не поддавалось осмыслению. Краем уха Митя что–то слышал о виртуальных ловушках, наподобие рыбных садков с лягушкой на дне, которые оккупанты расставляли тут и там на очищенных территориях для заманивания и поимки беглых преступников. Возможно, кирпичный дом — одна из таких ловушек. Тогда где–то тут должна быть замаскированная записывающая аппаратура. Возможно и другое — дом сам по себе является капканом, способным умерщвлять и аннигилировать угодивших в него рус- сиянчиков. Если так, то чего он ждет? Почему не расправился с ними сразу?
— Бежать поздно и нет смысла, — сказал он. — Если это западня, то мы уже в ней.
— Не хочу, — заныла «матрешка». — Митенька, не хочу умирать. Я только жить начала.
— Никто не спрашивает, чего ты хочешь, — отрезал Митя. Он бросил на кухонный стол голубей и велел заняться ими. Сам обследовал баллоны и подключил шланг к плите. Чиркнул спичкой — над горелкой взвился синий огонек. И никакого взрыва — напрасно Даша в ужасе присела на корточки и закрыла лицо ладонями.
В углу стоял железный бидон с водой. Митя понюхал, слил немного в пригоршню, пригубил. Гнилью не пахло, нормальная вода, но этому он уже не удивился. Кого–то здесь определенно ждали, необязательно их с Дашей.
За ужином все страхи отступили. Жирное, чуть горьковатое голубиное мясо, запеченное в собственном соку, нежные сладкие косточки, чай с солоноватыми сухариками — пир горой. На закуску по целой сигарете, показавшейся дурманнее вина. Даша смотрела на него влюбленными глазами.
— Митенька, хорошо–то как, правда? А говорят, нет счастья на свете. Да вот же оно.
Утолив голод, Митя начал испытывать все усиливающуюся тяжесть в паху, но мужественно боролся с собой. Нельзя показывать Даше свою слабость.
— Лихо ты управилась с голубями, — похвалил он. — Вас в «Харизме», что же, и готовить учили?
— Нет, Митенька. Нас учили только одному: возбуждать и удовлетворять клиента. В большой строгости держали. Клиент недоволен — первый раз прощали. Второй раз — на привалку. Что это такое, тебе лучше не знать.
— Догадываюсь, — буркнул Митя. — Ты стерилизованная?
— Конечно, как же иначе. У нас все девочки стерилизованные. Почему спросил?
— Нипочему, к слову пришлось.
На втором этаже, где стояла кровать, улеглись под шерстяное покрывало на поролоновый матрас. Некоторые свойства мутантов остались при них: в темноте оба видели так же хорошо, как днем. Митя лежал на спине, чувствуя непонятную вялость, душа его притихла. Даша ерзала, вздыхала. Не понимала, почему он медлит.
— Тебе помочь, Митенька? — заботливо прошептала.
— А ты хочешь?
— Я всегда хочу, я же измененная. От меня не зависит. У «матрешек» психика функциональная. Заводимся с пол- оборота.
— И тебе все равно, с кем?
Дикий выскочил вопросец, но Даша ответила без раздумий:
— Я себя за это презираю.
— Ага, йюнятно… — С тяжким ощущением, что с ним происходит что–то противоестественное, противоречащее здравому смыслу, Митя выпал из реальности, отключился.
Проснулся — и л первое мгновение показалось, что продолжается сон, как! это бывает при передозировке «экстази». Весь дом — Ш 4 ны, потолок, пол — светился, точнее был пронизан розовым излучением, и слегка вибрировал, как лодка на тихой волне. Даша ровно дышала, глаза закрыты, грудь мерно вздымалась и опускалась. Но кроме них в комнате было еще одно живое существо: благообразный старец с белой бородой согнулся на стуле рядом с кроватью и смотрел на него, Чуть склонив голову, подслеповато щурясь. Он был удивительно похож на Николая–угодника на иконе. Митя попытался сесть, но тело не слушалось. Как ни чудно, страха он не испытывал, одно только любопытство. И тоска вдруг отступила, грудь наполнилась чистым, свежим дыханием.
— Здравствуйте, — поздоровался Митя. — Это, наверное, ваш дом? Извините, что мы без спросу завалились.
Старец ответил не сразу, пожевал губами и забавно почесал затылок длинными, как у пианистки, пальцами.
— Нельзя сказать, что дом мой, — ответил глухо и с некоторым напряжением. — Всеобщий. Кого впустит, тот и жилец.
— Почему его не разрушили?
— Дом появился позже, когда ушли окаянные.
— Дедушка, можно спросить, кто вы такой?
— Можно, почему нет. Зовут меня дед Савелий, я в здешних местах вроде соглядатая. Приставлен для охраны реликвий.
— Кем приставлен, дедушка?
— То нам неведомо… — Чем–то вопрос старику не понравился, он насупился, но тут же лицо смягчилось, вокруг глаз побежали озорные лучики. — Больно ты, Димитрий, говорливый для мутанта.
— Откуда вы знаете мое имя?
— Какой тут секрет, ежели положено напутствие тебе дать.
Розовое свечение в доме мерцало, голова у Мити кружилась. Глянул на Дашу: по–прежнему спит беспробудным сном, а ведь они разговаривают громко, не таясь.
— Какое напутствие, дедушка Савелий?
— Такое напутствие, чтобы знал, куда идешь и зачем.
— А вы знаете?
— Я‑то, может, знаю, да сперва хотел тебя послушать, Димитрий.
Митя еще раз попробовал привстать, но опять неудачно. У него мелькнула мысль, что все это могло быть лишь изощренной формой допроса с помощью направленной галлюцинации. Метод современный, отработанный во многих странах при проведении гуманитарных операций. Митя, естественно, о нем слышал, но в России он применялся редко из–за дороговизны. Руссиян обычно допрашивали либо через «Уникум», либо дедовскими способами, используя обыкновенные пытки.
— Нет, Димитрий, об этом не беспокойся. — Старик перестал чесаться, вместо этого начал заботливо оглаживать пушистую, как снег, бороденку. — Я не из тех, кто за тобой гонится.
— Зачем тогда допытываетесь?
— Не так уразумел, Димитрий. О твоем задании нам все известно. Несешь кудеснице весточку от Димыча, мы это одобряем. Но надобно убедиться, тот ли ты посредник, какой нам нужен.
— Кому это вам?
— Не спеши, Димитрий, все узнаешь в положенный срок. Сейчас некогда калякать по–пустому. Ответь на самый простой вопрос: как понимаешь суть быстротекущей жизни, а также смысл происходящих в мире перемен.
— Извини, дедушка Савелий, никогда об этом не думал. Некогда было. Двадцать лет, как всякий руссиянин, от смертушки спасаюсь, какой уж тут смысл.
— Верю, — чему–то обрадовался старец, — так и должен отвечать. А помышлял ли ты когда–нибудь, Димитрий, что ты не вошик, а человек, сотворенный по образу и подобию?
— Какой же я человек? — Митя почувствовал раздражение не столько от никчемного разговора с таинственным стариком, взявшимся невесть откуда, сколько от того, что никак не мог овладеть своим телом. Он давно привык к разным видам насилия, умел перемогаться и терпеть, но внезапная недвижимость, паралич мышц казались почему–то особенно унизительными. Похоже, стойкое душевное просветление влекло за собой все новые нюансы, и сейчас в тонких структурах психики возродилось то, что прежде называлось самолюбием. Знобящее и неприятное ощущение. — Какой я человек, — повторил он уныло, — когда меня все гонят, плюют в рожу, издеваются кто как хочет, а я никому не могу дать сдачи. Истопник — вот человек, а не я.
— Ты хотел бы стать таким, как Димыч?
— Такими, как он, не становятся, ими рождаются.
к — Тоже верно. — Старец расцвел в улыбке, из глаз про
лились голубые лучи, под стать мерцанию стен. — Только, Димитрий, каждый на своем месте хорош, коли помнит отца с матушкой.
— Человек! — Митя завелся, талдычил свое. — Какой я человек, если ты меня к кровати пригвоздил и я пошевелиться не могу. Вошик и есть. Зайчонок ушастый. Лягушка препарированная. Вот и все подобие.
— Преодолей, — посоветовал старец. — Возьми и преодолей.
— Как? Против лома нет приема. У меня вдобавок все лампочки закоротило. Отпусти, дедушка, не терзай понапрасну.
— Сам себя отпусти. Соберись и отпусти. Отмычка в тебе самом.
— В каком, интересно, месте? В жопе, что ли?
— Сообрази, Димитрий. Докажи, что можешь. На тебе печать проставлена. Сорви ее. Всегда помни, враг твой лишь внутри тебя.
От темных слов старца на Митю обрушилось прозрение, как ком снега с крыши. Он скосил глаза на спящую «матрешку» и мысленно со всей силой отчаяния позвал: «Проснись, Дашка, проснись! Помоги, девушка. Одолжи свою силу».
Даша услышала. Резко повернулась на бок. Смотрела не мигая, с изумлением.
— Что с тобой, Митенька? У тебя что–то болит?
С треском лопнула в груди зудящая жилка, и Митя почувствовал, что свободен. Вот оно! У тебя что–то болит? Сколько жил, не слышал таких слов и сам их никому не говорил. Кого нынче волнует боль ближнего?
Митя сладко потянулся и положил руку на Дашино плечо.
Дом потух, розовое мерцание исчезло, старец испарился, словно привиделся. Лишь белая бороденка осыпалась на стекле рассветными бликами. Но не привиделся, нет. Старец беседовал с ним. А о чем, сразу и не вспомнишь.
— Что с тобой, что, Митенька? — настаивала Даша, подвигаясь ближе, опаляя кожу своим жаром.
— Ничего, — нехотя отозвался Митя. — Спишь крепко, гостя проспала. ч
— Какого гостя, Митенька? — Даша испуганно обернулась себе за спину.
*— Старик бродячий заходил, на Николу–угодника похожий. Потолковали о том, о сем. Он загадки загадывал, а я блеял, как овца.
Измененные, а Даша одна из них, не страшатся безумия, оно всегда рядом, но девушка жалостливо хлюпнула носом.
— Может, сон снился плохой?
Митя догадался, о чем она думает, но ему вдруг все стало безразлично. Ее рыжие космы жгли висок, призывно кривился припухший рот. Митя со стоном прижался к ней, сдавил руками податливое тельце — и укатился в обморочную негу…
На четвертый день пути, перебравшись вплавь через черную реку с вонючей водой, наткнулись на одичавших. Отдувались, отряхивались на берегу от плотных ртутных капель, когда из прибрежных зарослей с разных сторон выкатилась целая орда кривоногих волосатых существ, кое- как прикрытых по чреслам звериными шкурами, и с ужасными воплями накинулась на них. Митя сопротивлялся отчаянно, сломал две–три скулы, кому–то выбил глаз, одному, особо азартному, захватив в горсть, раздавил тугую мошонку, и смирился лишь когда на него верхом, прижав к земле, уселись сразу четверо полудурков.
— Свои мы, свои, — хрипел Митя, харкая кровью, пытаясь разглядеть хоть одну разумную морду. — Не убивайте, пожалеете.
— Свои давно в могилах, — отозвался вязкий голос, и Митя обрадовался, услышав человеческую речь. По лесам и угодьям бывшей империи шатались толпы переродившихся, недобитых аборигенов, среди них было мною всяких и разных, но самые опасные и беспощадные бьши те, кто разучился говорить. Об этом Митю предупреждал, напутствуя в дорогу, Димыч. Дал и несколько советов, как вести себя при столкновении. Одичавшие не были мутантами в привычном значении слова, то есть не проходили
цивилизованную обработку в гуманитарных пунктах, и все первичные инстинкты утратили естественным путем от непомерных лишений и тотального отравления ядохимикатами. В животном мире им не было аналогов. В отличие от нормальных мутантов, одичавшие соплеменники ничего не боялись и ненавидели лютой ненавистью всех, в том числе и себе подобных. Поладить с ними можно было единственным способом: телепатически внушить, что находишься на ступеньку ниже, чем они, хотя в действительности таких ступенек уже не было. В научном смысле одичавшие являли собой последнюю степень вырождения мыслящей протоплазмы.
Мите заткнули рот какой–то вонючей дрянью, обмотали телеграфным проводом, как и вырубившуюся Дашу, зацепили их автомобильным тросом и, точно падаль, поволокли через чащу. Раня бока на колдобинах и сучьях, стараясь уберечь глаза, Митя ни на секунду не забывал о том, что Даше, не умеющей группироваться, наверное, приходится еще хуже. От этой мысли сердце обливалось слезами — вот следствие позорного очеловечения.
Притащили в самую глушь, двумя колодами свалили у кострища, оставили одних. Митю ткнули мордой в землю, но для одного глаза остался обзор: лесная прогалина, шалаши из еловых веток… Лагерь отверженных.
— Эй, — окликнул он. — Даша, ты живая?
Даша отозвалась глухо:
— Мы здорово накололись, да, Митя?
— У тебя руки–ноги целы?
— Вроде да.
— Значит, ничего страшного… Будут допрашивать, не груби, отвечай радостно, искренне… — Не успел досказать, набежали опять волосатые хлопцы, быстренько вынули кляпы, развязали, потом снова примотали тем же проводом к толстой сосне: теперь они не могли видеть друг друга, но, пошевелив пальцами, Митя коснулся ее бока, даже почувствовал сквозь полотняную ткань куртки, как бьется, частит ее пульс.
— Слышишь меня?
— Слышу, Митя… Что с нами сделают?
— Скоро узнаем. Потерпи маленько.
— Убьют, да?
— Нет, накормят и отпустят… Даша, мне понадобится твоя помощь.
— Не понимаю. Шутишь?
— Чувствуешь мои пальцы?
— Думаешь, так получится?
— Что получится?
— Хочешь секса напоследок?
Митя ощутил першение в горле и странное давление в висках, и тут же сообразил, что смеется. Увы, одна за другой возвращались прежние человеческие эмоции. Перевоплощенные не умеют смеяться. Они лишь корчат рожи, когда под кайфом, но и это бывает редко.
— Придется поделиться энергией, своей мне мало. Ты должна настроиться на передачу. У меня уже получилось один раз… там, в доме… Это как прямое переливание крови. Ничего особенного. Поможешь мне?
— Зачем это?
— Объясню, если удерем. Поможешь или нет?
— Пожалуйста… Хоть забери меня всю. Давно пора… Митя, откуда ты знаешь, что это был Николай–угодник?
Митю не удивило, как скачут ее мысли. Похоже, в психической регенерации она отставала от него на фазу.
— У деда была икона. Прятал в матрасе. За это его и сожгли вместе с домом.
После паузы Даша мечтательно прошелестела:
— Я помню. Дедушка Захар. Славный старик. Однажды перенес меня через ручей и отшлепал. Мне было четыре годика. Митя, а ты помнишь, как был маленький?
Ответить он не успел. На поляну выступила процессия особей мужского пола, вооруженных чем попало: калеными дротиками, старинными саперными лопатками, у двухтрех на пузе болтались проржавевшие «калаши», у других за спинами охотничьи луки, на поясах колчаны со стрелами. Впереди вышагивал главарь столь впечатляющего вида, что у Мити засосало под ложечкой. Коротконогое, до неприличия исхудавшее существо, словно выбравшееся из могилы, с круглой, несоразмерно раздутой башкой, поросшей чер
ной шерстью, сквозь которую лихорадочно сияли маленькие алые глазки, разя окружающих неистовым блеском разума. В когтистой лапе главарь сжимал мобильную трубку эпохи погружения во тьму, служившую ему, скорее всего, амулетом. Кроме того, на волосатой груди на золотой цепочке болтался пластиковый рожок для обуви.
Главарь со свитой обошел три раза сосну, к которой были привязаны пленники, при этом почмокивал, приседал и подскакивал, как кузнечик. Обход имел, вероятно, ритуальное значение. Дашу, обвисшую на проводах, главарь ткнул мобильником в грудь и что–то проверещал радостное, но неразборчивое, что–то такое:
— Утю–тю–тютеньки!
Потом остановился перед Митей, и тут же кто–то услужливо вывернулся с колченогим стулом. Главарь уселся, запахнул острые коленки волчьей шкурой и эффектно харкнул, попав Мите на ногу. Маленький, тщедушный, он разглядывал жертву с таким видом, будто прикидывал: проглотить целиком или раскромсать на куски. Митя на мгновение встретился с ним взглядом и опустил глаза: это было все равно что смотреть на пламя электросварки. «Нет, не справлюсь», — подумал он печально.
Наконец главарь заговорил, на удивление внятно, хотя медленно и глухо, словно из мегафона. Походило на то, как если бы каждое слово выуживал из закоулков памяти.
— Тебя кто прислал, сволочь? — На этот вопрос у главаря ушло минуты две.
— Никто. — Митя тоже не торопился, выдержал ритм. — Мы сами по себе. Мы беженцы.
— Беженцы? — Слово, кажется, было ему знакомое, но он не мог вспомнить, что оно значит. — Бегаете по лесу?
— По жизни, — сказал Митя. — Она для нас темный лес.
— От кого бегаете? От меня?
— Никак нет, сэр. От всех остальных. У вас мы надеялись попросить защиты.
— У нас? Защиты? — Главарь в недоумении покрутил огромной башкой на тонком стебельке шеи — и вдруг рассыпался жутковатым, хриплым смехом. И вся свита подхватила: заухала, заулюлюкала, а некоторые попадали на землю и колотили по ней кулаками, как в припадке. «Дикие, — отметил Митя, — но зомби среди них нет».
Главарь успокоился и важно произнес:
— Хорошо, сволочь, развеселил Ата — Кату. За это мы тебя пожалеем. Будем мало–мало пытать и сразу в котел. Доволен? Большая честь.
— Честь большая, — согласился Митя. — А в котел зачем? Я бы вам живой пригодился.
Думал, опять заржут, нет, задумались. Главарь задумался, а свита заскучала. Двое особенно расторопных волосатиков подобрались к Митиным ногам и расшнуровали кроссовки — драгоценный дар Истопника, каучук дорежимной выделки. Потянули в разные стороны, но Митя напряг ступни — у них никак не получалось сдернуть.
— А ну отзынь! — прикрикнул главарь. — Я с ним дальше говорить буду. Успеете раскурочить.
Недовольно ворча, дикари присели на корточки, не выпуская обувку из рук.
— Девка твоя или чья? — спросил главарь.
— Ничейная, — ответил Митя. — Тоже беженка. Не советую с ней связываться, сэр.
— Почему?
— Липучая она. Скоро помрет. К ней лучше не прикасаться.
Его слова произвели эффект взрывной волны, на который он и не рассчитывал. Волосатики отпустили кроссовки и откатились ближе к деревьям. И вся свита отшатнулась, один лишь главарь не двинулся с места.
— Врешь, сволочь. Если она липучая, почему ты не липучий?
— Я привитый, сэр. Из группы доноров. Седьмой инкубатор. Готовили к пересадке печени, чудом удалось сбежать, сэр.
Митя балабонил наобум, не надеясь, что главарь поймет, и незаметно вдавил пальцы в Дашин бок, как штепсель в розетку. Теперь все зависело от нее. И «матрешка» не сплоховала, послала ответный импульс. У Мити закололо кончики пальцев, искра пошла. Дыхание сбилось, в глазах
полыхнуло, как при разрыве аорты, но через мгновение все жизненные позиции восстановились и он, висящий на проводах, почувствовал необыкновенный прилив сил. Казалось, ничего не стоит разорвать путы, только рвани посильнее. Увидел, как вокруг головы атамана возникло фиолетовое с черными крапинками светящееся облачко наподобие нимба. Аура жизни и смерти. Никто не учил этому Митю, но он не сомневался, что внезапно обрел дар телепатического контакта, которым владели истинные хозяева леса и равнинных пространств. Прекрасное, волнующее состояние, как если бы удалось в один присест умять барашка и выпить десять бутылок вина. Главарь Ата — Кату в растерянности поднес мобильник к уху и прогудел в пустоту:
— Кто там? Говорите, слушаю.
— Это я, — отозвался с дерева Митя. — Это я с вами разговариваю, сэр.
Алые очи главаря налились неземной тоской.
— Что ты сделал со мной, сволочь?
— Ничего не сделал, Ата — Кату, сэр. Что может сделать такое ничтожество, как я, с могучим воителем? Только покорнейше прошу выслушать меня.
— Чего?
— Могу дать богатый выкуп. От нашей смерти вам мало пользы, тем более девка липучая, ее даже жрать нельзя. Во мне тоже одна желчь. После обработки в инкубаторе мясо больное. А выкуп — это выкуп.
— Врешь, сволочь. У тебя ничего нет. Что у тебя есть, сам возьму. — Слова грозные, но в голосе жалобные нотки: дикарь потерял уверенность в себе. Одновременно Митя услышал, как Даша взмолилась, прошептала не в уши, а от сердца к сердцу: «Поторопись, Митенька, мочи нет, всю высосал. Сейчас усну»… «Продержись самую малость, — так же, не разжимая губ, ответил Митя. — Видишь, я стараюсь».
Вслух объявил торжественно:
— В двух днях пути отсюда есть подземный склад. Его никто не охраняет, кроме роботов. К ним у меня отмычка. Отведу туда ваших людей, сэр, и вы станете самым богатым человеком в этих лесах, сэр.
— Что на складе? — Фиолетовая аура главаря побледнела, словно покрылась лаком, увеличилась в размерах: не нимб, а летающая тарелка, удерживающаяся на черном отростке, торчащем из черепа.
— Вы слышали, кто такой Анупряк–оглы, сэр?
— Поганка американская.
— Правильно. Это его личный схрон. Чего там только нет. Герыча — тонна. Оружие, консервы, спирт, о-о, не пожалеете, сэр!
Контакт не прерывался, но вибрировал: Даша слабела.
— И никакой охраны?
— Роботы безмозглые. Японские попугайчики. Анупряк- оглы никому не доверяет. Разве вам не хочется дать ему по мозгам, сэр?
Ата — Кату стушевался, края его ауры обуглились — вот- вот исчезнет.
— Страшно, — признался он с горечью. — Они сильнее нас. Они нас с говном сожрут.
— Там только роботы, — терпеливо напомнил Митя. — У меня к ним код. Плевое дело, сэр. Склад уже ваш. Спирт прямо в бочках.
— Как тебя зовут, сволочь? — Это была победа. Для одичавших спросить имя — все равно что обменяться рукопожатием. Оставалось только зафиксировать установку в его подкорке, чтобы не переменил решение, когда развеется гипнотический туман.
— Митя Климов, сэр. Всегда к вашим услугам. — Он последний раз, чувствуя, как Даша иссякает, вдавил пальцы в ее теплую розетку. Получил мощный искрящийся заряд — и из глаз в глаза — переслал дикарю. Ата — Кату передернулся, опять поднес мобильник к уху, — аура скукожилась, почти прилипла к коже тускло мерцающим бесцветным ободком.
— Дам бойцов, — прошамкал, как из ямы. — С утра пойдете. Самых лучших. Обманешь, Митя–сволочь, на нитки размотают, в землю живьем зароют.
— Это уж как водится, сэр, — почтительно поддакнул Климов.
Пока разговаривали, постепенно подтянулась из кустов свита, но все же держалась в отдалении. Липучая болезнь — ужасная штука, хуже всякого СПИДа. Еще ее называли Никой и Антоновной. СПИД победили десять лет назад, от него теперь не умирали, Антоновна пришла на смену. В глаза ее никто не видел, но это и понятно. Кто видел, тех уже самих никто не видел никогда. По приказу Ата — Кату Митю отвязали, но к Даше не посмели прикоснуться. Митя самолично ее распеленал, мертво спящую, упавшую в руки, как спелый плод.
В сопровождении трех одичавших, знаками указывавших дорогу, перенес ее в шалаш, бережно уложил на низкое ложе из сосновых лап. За то время, пока происходили все эти события, Митя примерно прикинул численность одичавшего племени — около ста человек, не больше. Безусловно, все они отличные охотники и следопыты. И все без царя в голове, но не зомби. Кто угодно, но зомби среди них не было, а это означало, что действия одичавших, в принципе, предсказуемы, поддаются анализу и корректировке. По–видимому, их жизнь мало чем отличалась от бытования болотных людей, обретавшихся возле ставки Истопника, как, впрочем, и от жизни большинства руссиян, согнанных со своих извечных поселений, а их еще от океана до океана — тьма–тьмущая.
Вскоре один из волосатиков заглянул в шалаш и швырнул к ногам Мити связку сушеных корешков и поставил у входа пластиковую бутылку с водой. Состроил диковинную рожу, прорычал что–то насмешливое — и исчез.
Митя потер «матрешке» щеки, подергал за волосы, подул в нос — и она очнулась. Бледная, осунувшаяся. Глаза без блеска. На голове рыжий ком. Кожа в крапинках — следы злоупотребления колониальной косметикой с возбуждающими добавками. И вот такая она была Мите дороже всего. Дороже всего, что он когда–либо имел.
— Страшная, да? — привычно отгадала она его мысли.
— Какая есть…
Дал ей попить из бутылки, сунул в руку пару корешков.
— На, пожуй… Только не спеши глотать.
— Митя, я уж думала — все. Думала, помираю. Не пойму, как ты справился. Митька, ты же настоящий пронырщик.
— Есть маленько. Жуй, тебе говорят.
— Что дальше делать, Митенька? Они ведь нас все равно убьют.
— Ночью уйдем. Охрана — два волосатика, пустяки. Худо, нож забрали и топор. И рюкзаки со всем запасом — тю–тю. Ничего, перебьемся.
— Что ты, Митенька, — испугалась Даша. — Пошевелиться нет сил. Куда я пойду?
— Значит, оставайся, — без раздумий, холодно бросил Митя.
«Матрешка» подавилась корешком, глаза увлажнились.
— Правда уйдешь? Один?
— Куда деваться. У меня задание… Ладно, не дрожи. Верну должок, встанешь.
— Митя, кто мы такие? Зачем все это с нами происходит?
Митя не удивился вопросу и вполне его понял, но ответа не знал. И все же был рад, что она его задала. Он сам все чаще задумывался об этом. Кто он такой? Зачем родился на свет? Неужто лишь затем, чтобы его пинали и преследовали все кому не лень?
…Под утро слиняли. Митя подкрался к двум волосатикам, дремавшим на корточках неподалеку от входа в шалаш, и с такой силой стукнул их кочанами друг о дружку, что шишки просыпались с веток. Бежать по ночному лесу трудно, но через час быстрым шагом они добрались до черной речки, погрузились в смолистые воды и поплыли вниз по течению. Плыли долго, сколько смогли, до тех пор пока оба не выбились из сил.
ГЛАВА 12 ПАШИ ДНИ. ДОПРОС ДОЛЖНИКА
Типичная сценка из жизни руссиянских бизнесменов: допрос оборзевшего соратника. На сей раз ему должен был подвергнуться некто Зосим Абрамович Пенкин, коммерческий директор «Голиафа». По дороге Гарий Наумович (юрист!) рассказал, что собой представляет этот Пенкин. Блестящий комбинатор, ас финансовых махинаций, ценитель изящных искусств, короче, во всех отношениях незаурядный человек, а в чем–то гениальный. Можно считать — коммерческий бог концерна. Рука об руку с Обол- дуевым они поднимались на финансовый олимп, но на каком–то этапе у бывшего (в совке) министерского клерка началось головокружение от успехов. Он и в прежние годы, разумеется, химичил, как без того, вел двойную бухгалтерию, сливал в собственную мошну не меньше десяти процентов от каждой крупной сделки, запараллелил денежные потоки на подставные фирмы, и прочее в том же духе; но Оболдуев относился к его шалостям на удивление снисходительно, пока Пенкин окончательно не зарвался. На днях служба безопасности «Голиафа», которую возглавлял бывший генерал КГБ Жучихин, представила неопровержимые доказательства того, что хитроумный соратник задумал вопиющее злодейство, нацелился прибрать «Голиаф» к рукам целиком и готовит покушение на своего благодетеля, для чего законтачил с известной охранно–киллерской фирмой «Пересвет». Убойные факты — видеоматериалы и записи телефонных разговоров — 'тем не менее не убедили Оболдуева, и он, прежде чем решить судьбу друга, потребовал провести дополнительное, контрольное расследование.
Я выслушал все это с интересом, но заметил, что не понимаю, почему я должен принимать участие в чисто семейной разборке. Гарий Наумович, рискованно огибая пробку по встречной полосе (с включенной мигалкой), снисходительно улыбнулся.
— Виктор Николаевич, я вам просто удивляюсь. Неприлично в вашем возрасте задавать такие наивные вопросы.
— Извините, Гарий Наумович, но я работаю над книгой, а это…
— Именно книга… Разве не важно своими глазами увидеть, с какими ничтожествами иногда приходится иметь дело великому человеку? По моему слабому разумению, как раз в таких нештатных ситуациях как нельзя ярче проявляется благородство господина Оболдуева и величие его души. Или вы не согласны?
Думаю, мое согласие интересовало его примерно так же, как меня цвет его нижнего белья. Общаясь с Верещагиным, я пришел к выводу, что он не видит во мне равноценного собеседника и, обращаясь ко мне, разговаривает как бы сам с собой, разыгрывая короткие интермедии для собственного развлечения. Для него, как и для Оболдуева, я был всесо лишь забавным человеческим экземпляром, страдающим повышенной, ни на чем не основанной амбициозностью. Суть в том, что российское общество уже лет пятнадцать как разделилось внутри себя на тех, кто грабит, и на быдло, чернь, которая по старинке пытается заработать деньги трудом. Это разные миры, и между ними неодолимая пропасть, которая день за днем углубляется. Грабители, расписавшие страну в пулечку и рассовавшие выигрыш по бездонным карманам, естественно, не считают остальных за полноценных людей, что и понятно, но и быдло инстинктивно отвечает им взаимностью. Я сам не раз ловил себя на том, что, увидев на экране какую–нибудь до боли знакомую сытую, самодовольную рожу, вещающую о святой частной собственности, о правах человека и т. д., испытываю желание перекреститься и в испуге бормочу: «Чур меня! Чур меня!»
Приехали на «Динамо», долго петляли переулками и очутились возле каких–то складских помещений, огоро
женных железным забором с каменными воротами. Гарий Наумович сказал охраннику несколько слов через спущенное стекло, и тот опрометью бросился открывать. Подрулили к кирпичному домику с металлической входной дверью с электронной защитой. Гарий Наумович позвонил — ее тут же открыли.
Комната, где проводилось дознание, была большая, с обитыми пластиком стенами, с необычным черным (резиновым?) покрытием на полу. Посередине длинный, наподобие операционного, стол, вокруг разная аппаратура, по всей видимости особого назначения. Одна стена сплошь заставлена стеллажами, тоже с разными инструментами и приборами, у другой стены медицинский шкаф со стеклянными дверцами. В комнате, когда мы вошли, находились трое мужчин, все примерно одинакового возраста, за пятьдесят. Один в белом халате. Четвертый мужчина, обнаженный до пояса, с унылым лицом, испачканным кровью, сидел в кресле в характерной позе пытаемого бизнесмена, руки пристегнуты к подлокотникам изящными браслетами. Наверное, это и был не кто иной, как коммерческий директор «Голиафа» господин Пенкин.
Гарий Наумович представил меня присутствующим — генералу Пучихину и двоим его ассистентам — как референта по конфликтным проблемам. Вряд ли он сам мог объяснить, что это означает, но генерал почему–то сразу проникся ко мне доверием. Пожаловался:
— Черт знает что такое. Пятый час бьемся, а воз, как говорится, и ныне там. Упертый сучонок.
— Сыворотку вводили? — спросил Гарий Наумович.
— А как же. Прекрасный французский препарат нового поколения… И током пробовали растормошить — никакого толку. Я уж думаю дедовский метод применить: подвесить на растяжку да яйца оторвать.
Вид у генерала был внушительный: короткий ежик над низким лбом, светлые глаза, подернутые звериным холодком. Так как он продолжал смотреть на меня, я поинтересовался:
— А что вы, собственно, хотите от него узнать?
— Да, в общем, ничего, нам и так все известно. Мокрушник хренов. Но хозяин настаивает на чистосердечном признании. Чтобы все, как говорится, по закону. — Генерал повернулся к креслу и в сердцах замахнулся кулаком.
— У-у, подлюка! Будешь признаваться или нет?
Коммерческий директор, внимательно прислушивающийся, испуганно вжал голову в плечи и захныкал:
— Не в чем признаваться, Иван Иванович. Навет все это. Вам самому потом стыдно будет. Невинного человека терзаете.
— Вот, извольте. — Генерал в отчаянии развел руками. — И так все время одно и то же. Навет, завистники… Кончать с ним надо. Что нам тут, до ночи маяться? Гарик, позвони хозяину, пусть дает добро.
— Бесполезно, Иван Иваныч. Вы же знаете, какой он щепетильный в этих вопросах.
Ассистент в белом халате (Юрий Карлович, кажется) несмело предложил:
— Иван Иванович, может быть, по маленькой для променаду?
— И то правда, господа, — оживился генерал. — Прошу следовать за мной.
Следовать пришлось недалеко — в угол комнаты за пластиковую ширму, разрисованную алыми гвоздиками. Там обнаружился стол с водкой и закусками. Мы все пятеро удобно расположились на низких железных табуретках. Второй ассистент, богатырь с шеей, равной моему туловищу, — его звали без имени и отчества, а просто Купоном, — разлил водку по серебряным стопарикам. Когда все выпили, генерал поделился своими соображениями. По его мнению, допрос продвигался туго по той причине, что негодяй боялся своих сообщников из «Пересвета» больше, чем Оболдуева. Для этого у него были веские основания. Киллеры–охранники из «Пересвета» славились своей неумолимостью и любое нарушение контракта воспринимали как личное оскорбление.
— Похоже, Абрамычу так и так хана, — заметил генерал. — Доигрался подлец. Но уж лучше принять смерть от руки хозяина, чем стать подопытным кроликом на старости лет. У них в «Пересвете» полный беспредел. Эксперименты по многоступенчатому умерщвлению. Жуткая штука, господа. Говорят, у них договор с Аль — Кайедой и с военной базой в Гуантанамо. Ничего не скажешь, широко развернулись.
— Все же, Иван Иванович, — Верещагин закусил маринованным огурчиком, сладко почмокал, — босс вряд ли удовлетворится вашими объяснениями. Ему нужен результат.
— Понимаю… Но вот же вы привезли специалиста, а, Виктор? Может, попробуете с ним потолковать тет–а–тет? Может, перед вами откроется, облегчит душу?
— Да, Виктор Николаевич, — поддержал юрист. — Попробуйте, покажите, на что способны инженеры душ.
— Иначе Купон им займется, — генерал скабрезно ухмыльнулся. — Нет смысла дальше тянуть.
Делать нечего, я наспех хлопнул стопку и вышел из–за ширмочки. При моем приближении Пенкин вскинул голову и напрягся. Несмотря на перенесенные страдания и выбитые зубы, он не выглядел сломленным человеком. Напротив, в круглых беличьих глазенках светилось даже какое–то сумасшедшее озорство. Я не испытывал к нему сочувствия. Как каждый руссиянин, я давно привык к виду крови и чужих мук. После того как Гата Ксенофонтов застукал меня с Лизой, мое положение было, вероятно, ненамного лучше, чем коммерческого директора. Немудрено, если через день–два я сам окажусь в этом кресле.
— Ай–яй, Зосим Абрамович, — я покачал головой, изображая недоумение, — как же вы так опростоволосились?
— Миллион, — ответил он шепотом, предварительно попытавшись заглянуть себе за спину.
— В каком смысле миллион?
— Вижу, вы культурный человек, интеллигент… Не чета этим питекантропам… Помогите отсюда выбраться — и миллион ваш.
— Долларов?
У Пенкина хватило мужества снисходительно улыбнуться.
— Не знаю, как вас зовут…
— Виктор.
— Послушайте сюда, Виктор. Меня подло подставили, и я знаю кто. Естественно, Леонид Фомич сейчас в ярости, ничему не поверит. Ему нужны доказательства. А мне нужно два дня, чтобы их собрать. Вспомнил, кто вы такой. Вас наняли, чтобы воспеть осанну Оболдую. Это прекрасно. Жаль, мы не встретились раньше. Уверяю, помочь мне в ваших интересах.
— В моих?
— Юноша, вы плохо себе представляете, куда попали. Как только перестанете быть нужным, от вас избавятся, как от многих других. Раздавят, как клопа, простите за прямоту. Оболдуй безжалостен, впрочем, в бизнесе по–другому нельзя. Не мне его упрекать. Вы не могли бы дать сигарету? Страсть как хочется покурить.
Разговор становился занятным. В быстрой, пугливой речи коммерческого директора не было и следа той заторможенности и обалделости, которая непременно наступает после вливания сыворотки правды. Что же это за существо? Я сходил за ширму за сигаретами, заодно принял еще стопаря и прихватил дозу для Пенкина. Заметил, что на столе появились две новые бутылки.
— Ну что, сынок, колется мерзавец? — спросил генерал.
— Пока нет, но, кажется, близок к этому.
— Уж вы постарайтесь, Виктор, — ехидно проговорил Гарий Наумович. — Вся Европа на вас смотрит.
За мое короткое отсутствие они все успели как–то здорово надраться. Ассистенты кемарили с открытыми глазами, окруженные сладковатым ароматом травки. Видно, утомились, сердечные, выбивая признание из упертого Абрамыча.
Пенкин жадно выпил водку из моих рук, после чего я сунул ему в рот зажженную сигарету. На его лице проступило выражение полного умиротворения, на мой взгляд, совершенно неуместное в его положении.
— Зосим Абрамович, почему бы вам не предложить деньги Верещагину? У него больше возможностей помочь. А я…
— О чем вы говорите, Виктор? Это же изверг рода человеческого. Ничего святого за душой. Вы знаете, кем он был при коммунистах?
— Не имею понятия.
— Обыкновенный сексот. Его засылали в диссидентские компании, он там косил под вольнодумца, втирался в доверие, а после сдавал всех органам. Препаскуднейшая личность. Скорее всего, он–то и затеял всю эту чудовищную провокацию с «Пересветом».
— С какой целью?
— Как с какой? Хочет посадить на мое место своего человечка. Неужели непонятно?
— Ну а генерал?
— Пенек гэбэшный. Это несерьезно. У него в башке одна извилина, и та ржавая. Только вы, Виктор, только вы. Подумайте — миллион долларов. Представляете, что на них можно купить?
— Это я представляю, но не вижу способа… Зосим Абрамович, вы явно переоцениваете меня.
— Ничуть. — Окурок от резкого выдоха слетел с разбитых губ, я поймал его на лету и запихнул обратно. — Ничуть, дорогой друг. Ничего, что я так вас называю?
— Напротив, польщен…
— Вы, Виктор, плохо знаете Оболдуя. Он великий человек, ему глубоко насрать на всех генералов и юристов, но у него тоже есть маленькие слабости. Он любит разыгрывать из себя гуманиста, особенно перед новыми людьми. Два дня, мне нужно всего два дня. И мы с вами оба на коне.
— Хотите, чтобы я похлопотал перед Оболдуевым?
— Похлопотать мало. На жалость его не возьмешь. Надо внушить, что если он даст отсрочку, это будет выгодно для него во всех отношениях — и в моральном, и в практическом. Тут есть нюансы. Представьте дело так, будто этот эпизод станет одним из ярчайших в книге, засвидетельствует его сверхъестественную проницательность и сердечную доброту. Взял и помиловал якобы предателя. На это способен далеко не всякий. Убедите его в этом, Виктор, вы сумеете, вижу по глазам. Поручитесь за меня, в конце концов. Миллион, Виктор! Когда еще представится такой случай?
Обмотанный проводами, с прилипшим окурком на губе, с пятнами крови на щеках, с безумно сверкающими глазами, маленький и жалкий, коммерческий директор, честно говоря, нравился мне все больше. Он не мог не понимать, что обречен, что жить ему, возможно, осталось всего ничего, считанные часы, но отчаянно сопротивлялся. Его ловкий умишко напряженно искал лазейку к спасению. Дитя смутного времени, в некотором философском смысле он был мне родня. Разница лишь в том, что он успел присосаться к трубе, выкачивающей жизненные силы из миллионов руссиян, а я нет. Присосавшись к трубе, он перешагнул в элитное сословие, а я остался с теми, кому предназначено стать унавоженной почвой, на которой пышно расцветет новый мировой порядок. Каждому свое, сказано у апостола. И там же сказано, что каждому воздастся по его делам. Ни вчера, когда он жирел и купался в шампанском, ни тем более сегодня, когда расплата приблизилась вплотную, я ему не завидовал, но «сочувствие имел». Мне было стыдно смотреть в его буйные, молящие, озорные глаза.
— Зосим Абрамович, скорее всего, вы не поверите, если я скажу, что мне наплевать на миллион. Что готов и так сделать все, что в моих силах, чтобы отвести беду. Но вы не сказали ничего конкретного. Только общие слова. Вряд ли это подействует на Леонида Фомича. А вот если бы вы…
Окурок прижег губы, и он выплюнул его на пол вместе с кровяным ошметком.
— Конкретного? Пожалуйста… Назовите ему два имени — Жорик Маслов и Витторио Альманде.
— И что дальше?
— Ничего. Проследите за реакцией. Если клюнет, добавьте: вся документация, связанная с этими людьми, хранится в надежном месте.
— Если это так важно, почему же вы не сказали об этом тому же Жучихину или Гарию Наумовичу?
— Это секретная информация, о ней не должен знать никто.
Зловещий подтекст, прозвучавший в последних словах, он уловил одновременно со мной, и поспешил поправиться:
— Нет, нет, вы не так поняли, Виктор… Конечно, я бы сказал. Но надеялся, Оболдуй соизволит лично поговорить со мной. Однако ошибся. Видимо, многолетняя дружба для него пустой звук. Не соизволил. Отдал на растерзание опричникам. Да-с. Печальный урок для такого романтика, как я.
Из–за ширмы донесся зычный голос генерала:
— Ну что там, сынок? Прислать Купона в подмогу?
— Прошу вас, прошу вас, Виктор! Миллион зеленых. И это только начало, — прошелестел, простонал Пенкин, и из его глаза — о Господи! — медленно выкатилась слеза, похожая на смолистый подтек на древесной коре.
Я вернулся за ширму, бодро доложил:
— Лед тронулся, господа. Кое в чем он признался, но только для личной передачи боссу.
Ассистенты мирно дремали, привалившись к стене. У Гария Наумовича тоже был довольно осоловелый вид, и лишь генерал, казалось, обрел второе дыхание. Чокнулся со мной серебряной стопкой.
— Что же такого он тебе открыл, сынок, чего мы, грешные, не знаем?
— Да, да, поделись, Виктор Николаевич, — вяло поддержал юрист.
— Конфиденциальная информация, — важно ответил я.
— Ах, даже так? — Гарий Наумович встряхнулся, усмешливо переглянулся с генералом. — В таком случае спорим на сто баксов, сам отгадаю.
— Откуда у меня такие деньги?
— Ха–ха–ха, остроумно… Нашим так называемым творческим интеллигентам, — пояснил генералу, — нравится изображать обездоленных. Этим они подчеркивают свою близость к народу. Хорошо, Виктор Николаевич, отгадываю за бесплатно. Небось наплел про Жорика с Аль- мандой? Да?
— Вы все слышали?
— Не без этого. — Юрист самодовольно усмехнулся и подмигнул Жучихину, который, в свою очередь, зачем–то подмигнул мне. На мне это дружеское перемигивание пресеклось. — Не без этого, уважаемый писатель, но суть в другом. Знаешь, кто такие эти Жорик с Аль- мандой?
— Откуда же?
— Это, брат мой, чистое фуфло. Фантомы, призраки, возникшие в воспаленном воображении Абрамыча.
— Мерзавец! — вставил генерал, разливая водку.
— Нет, не спорю, — продолжал Гарий Наумович, блаженно щурясь, — прежде, года три назад, эти персонажи существовали в реальном мире и даже занимали солидное положение в «Голиафе». Скорее всего, вместе с Абрамычем начинали прокручивать свои мерзкие делишки…
— Подлецы! — буркнул генерал и, не дожидаясь нас, опрокинул стопку.
— Но в один прекрасный день оба они, так сказать, растворились в нетях. Улавливаете, Виктор Николаевич?
— Не совсем.
— Не удивляюсь. Мы и сами, будучи рядом, не совсем тогда поняли, что произошло. В некотором роде мистическая история. Помните, Иван Иванович?
— Отпетые негодяи!
— Так вот, в один прекрасный день Жорика Маслова сбивает машина прямо у входа в офис. Грузовик без номерных знаков. Насмерть. Все мозги по стенке. Пришлось вызывать пожарных, чтобы смыть грязь. Казалось бы, рутинное происшествие. Кто–то заказал, кто–то исполнил. При Жориковых запросах давно следовало ожидать чего–либо подобного…
— Смирно! — вдруг рявкнул генерал. — Руки по швам. Вольно. Спите спокойно, дорогие мои.
Ассистенты, Купон и Юрий Карлович, выполнили команду буквально: вскочили, вытянулись, откозыряли, повалились на стулья и снова погрузились в спячку. Генерал счастливо улыбался. Похоже, алкоголь, достигнув критической массы, нащупал какую–то трещинку в его мозгу. Гарий Наумович не обратил внимания на его выходку.
— И все бы, как говорится, нормалек, — продолжал он после короткой паузы, — если бы не одно странное совпадение. В тот же день и буквально в тот же час, когда Жорика задавил автомобиль, его поделыцик, этот псевдоитальяшка, повесился у себя в номере, в гостинице «Националь». Конечно, возникли вопросы, но расследование проводилось поверхностно и ничего по сути не дало. Хозяин рвал и метал, он не любит, когда сотрудники выкидывают подобные фортели без его ведома. Но главное не в этом. Именно с тех пор у нашего Абрамыча возникла шизофреническая идея, что двойное убийство связано с некоей тайной, грозящей благополучию «Голиафа». Он даже пытался шантажировать этим господина Оболдуева… Нет, друзья мои, с Абрамычем, видно, каши не сваришь, пора его гасить.
Генерал Жучихин встрепенулся, мотнул башкой, пробасил:
— Давно пора, давно. Не ночевать же всем здесь из–за одного мерзавца. Эй, мужики, подъем!
Ассистенты, Купон и Юрий Карлович, мигом очнулись. Дружно потянулись к стопарям, но генерал прикрикнул:
— Отставить! Сперва дело сделаем.
— На посошок бы, Иван Иванович, — заканючил Юрий Карлович с умильной миной.
— Никаких посошков.
Гуськом, один за другим мы выползли из–за ширмы и окружили прикованного к креслу коммерческого директора. Пенкин сразу все понял, позеленел, зрачки расширились, он не мигая смотрел на Гария Наумовича, одновременно охватывая взглядом всех остальных.
— Ну что, голубчик, — грозно загудел юрист, — пришло время держать ответ за всю свою подлость. Доинтриговал- ся, сучий потрох. Ведь я тебя предупреждал, не становись на дороге. Предупреждал или нет?
— Гарик, ты не посмеешь! — Пенкин заерзал, рванулся, но куда там, прикрутили надежно. — У тебя нет санкции на нулевой вариант. Ее дает только хозяин.
— Об этом не беспокойся. Все по протоколу. Можешь даже высказать последнее желание. Мы же не звери, верно, Иван Иванович?
— Ах ты, гнида! — завопил приговоренный. Казалось, его острые зрачки выпрыгнули из глазниц и впились в Гария Наумовича. — Одумайся, пока не поздно. Ты что делаешь? Самому себе яму роешь. Ведь за мной следом пойдешь.
— Заботник ты наш, осиротеем мы без тебя. — Верещагин протянул руку и потрепал директора по слипшимся черным космам. От его ласкового голоса у меня заиндевело в груди. Не верилось, что все это происходит наяву. Гарий Наумович повернулся к ассистентам.
— Купоша, заряжай.
— Все готово, босс. — Неизвестно откуда в руках у ассистента появился шприц, наполненный зеленой жидкостью. Пенкин сделал еще одну попытку освободиться от пут, опять неудачную.
— Виктор, Виктор! — взмолился он. — Скажите им! Вы же знаете, я ни в чем не виноват. Это произвол. Виктор, вы нормальный человек, остановите это безумие.
— Действительно, Гарий Наумович, — начал я деревянным голосом. — Вы же не хотите, в самом деле… Надо же разобраться…
— Уже разобрались. — Юрист улыбнулся улыбкой Фредди Крюгера, жить буду, не забуду. — Приступайте, Виктор Николаевич, нечего тянуть кота за хвост.
— Что значит?.. — В ту же секунду я почувствовал, что шприц каким–то образом перекочевал ко мне в руку. Ассистенты, Купон и Юрий Карлович, стеснились за спиной, предостерегающе сопели. Генерал подбодрил:
— Не робей, сынок. Коли гаденыша в вену.
— Вы все с ума посходили! При чем тут я?
— Мы не посходили, — вкрадчиво объяснил Гарий Наумович. — И ты, Витя, не сходи. Хозяин распорядился. Ему будет приятно узнать. Доверие огромное… А ты как думал, писатель? В речке искупаться и муду не замочить?
Я протрезвел до звона в ушах. Вот и наступил момент истины. Головорезы за спиной. Обжигающе любопытные, сверлящие, жалящие глаза Гария Наумовича. Отрешенносочувственный, добрый взгляд генерала. Мученик в кресле, от ужаса утративший дар речи.
— Не могу, — сказал я твердо.
— Еще как сможешь, — возразил Гарий Наумович. — Коли жить захочешь. Действуй, Витя, действуй, голубок. В противном случае, не обессудь, велено вас на пару экипировать.
— Куда экипировать?
Ответом было зловещее молчание.
ГЛАВА 13 ГОД 2034. ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Необозрима Россия, если продираться через нее на своих двоих. Затерянные в лесах, они не чувствовали себя одинокими. Митя Климов вполне оценил мудрость Истопника, давшею в дорогу попутчицу. Бывшая «матрешка» оказалась добрым, верным товарищем: не хныкала, не скулила, мужественно переносила все тягости нескончаемого пути. Без нее он одичал бы. На пятый день Даша потревожила в высокой траве черную гадюку и та ужалила ее повыше лодыжки. Митя отсосал яд, прижег ранку огнем, но к вечеру нога у нее распухла, посинела, и следующие несколько дней Даша прихрамывала, не могла идти быстро. Но ни разу не пожаловалась на боль. Лишь когда на ходу потеряла сознание и повалилась в коричневый мох, Митя понял: придется сделать привал. Три дня она отлеживалась в неглубокой пещере, где Митя изготовил удобное ложе из еловых веток, и почти все время спала. Он кормил ее ягодами, поил ключевой водой, а на второй день подстерег в кустах возле норы ленивую толстую зайчиху и убил ее, нанеся точный удар палкой по голове. Запек зайчиху в золе, и они умяли сочное, горячее мясо в один присест, хотя, конечно, Мите досталось побольше.
Одичавшие их не преследовали, деревни они теперь огибали стороной, звериное чутье, свойственное всем рус- сиянам, выжившим на обломках империи, не подвело их ни разу: они шли и шли в одном направлении — на север. Погода благоприятствовала: стояло чудесное континентальное лето, с жарким, но не злым солнцем, с головокружительными запахами цветения. Единственный, кто им досаждал, так это свирепые комары–мутанты размером с полевого шмеля. Их было не так уж много, вдобавок они вытеснили всю остальную разнообразную мошкару, что роилась прежде в лесах, зато обладали повадками убийц–ка- микадзе. Обрушивались сверху, подобно пикирующим бомбардировщикам, впивались в открытую часть тела или прокалывали острым хоботком рубашку и, если сразу не укокошить, если зазеваться, в мгновение ока отсасывали по полстакана крови, раздувались в синий шар и лопались с противным хрустом раздавливаемого стекла. На месте укуса оставалась кровоточащая ранка, через два–три часа превращавшаяся в болезненный волдырь. Как путники ни остерегались, но в первые дни были с ног до головы покрыты этими волдырями и гнойными расчесами, пока Даша не раскопала в торфяной низине какие–то незнакомые Мите корешки вроде желтых грушек, надавила из них горькой, остро пахнущей жижицы и растерлась ею где только могла. Митя последовал ее примеру без рассуждений. С тех пор нападения комаров–камикадзе прекратились, то есть они продолжали делать попытки, но, покружившись над жертвой, с обиженными воплями взмывали вверх. Пораженный, Митя спросил: «Как ты догадалась?» Смущенно потупясь, Даша буркнула себе под нос что–то невразумительное. Это Митю не удивило. Чем дальше, тем меньше они разговаривали, привыкая понимать друг друга по взгляду, по жесту, а иногда по прикосновению. Какое–то главное объяснение они, не сговариваясь, оставили на потом, хотя недосказанность мучила обоих.
С пропитанием не было проблем. Еще в тот день, когда оторвались от одичавших, они наткнулись на заброшенный хутор, где в горнице за столом, как в какой–то давней сказке, сидели три скелетика, двое взрослых и один поменьше, явно ребенок. На столе миска с подернутым зеленой плесенью супом, куски черняги, превратившиеся в камень. Клешни скелетов покоились на столешнице, словно все трое раздумывали, продолжать трапезу или разойтись по своим делам. Кое–где на желтоватых костях прилепились обрывки разноцветных тканей, следы кошмарного маскарада. Ни Даше, ни Климову не надо было объяснять, что люди, которым принадлежали скелеты, умерли не своей смертью, а стали жертвами какого–то биологического опыта. Зато в подсобных помещениях, в сарае и кладовых, они обнаружили массу полезных вещей. Там были новехонькие, еще с заводской смазкой инструменты — вилы, ножи, топоры, лопаты, рабочая одежда, тоже как будто вчера со склада, залежи съестных припасов — ящики со всевозможными мясными и рыбными консервами, водка, прохладительные напитки. По руссиянским меркам целое богатство. Даша с порога, радостно взвизгнув, кинулась к бутылкам, но тут же опомнилась. Разумеется, это ловушка, подстава. Биологический опыт, которому подверглись хозяева хутора, наверняка продолжался во времени. Гостей тут ждали, не конкретно Дашу с Митей, любых. Оставленные без присмотра сокровища очевидное тому свидетельство. Экспериментаторы не особенно маскировались, что тоже понятно. Это в первые годы нашествия, когда руссиянин был осторожнее, осмотрительнее, применялись изощренные мировые технологии, чтобы привести его в состояние всечеловека, теперь же с ним больше не церемонились. Ставили простейшие ловушки по типу мышеловок. Банка консервов, бутылка водки — иди, недоумок, разговейся на халяву напоследок.
И все же, используя навыки выживания в городских условиях, путники солидно отоварились. К еде и питью не притронулись, но забрали кое–что из инструментов — большие садовые ножницы, топорик с короткой пластиковой рукоятью, пару длинных ножей, годных и для метания, моток бечевки отличного качества, походный ранец, ну и кое–какую мелочь, включая коробку спичек и слесарный набор фирмы «Зингер». В доме, стараясь не смотреть на пирующие скелеты, запихнули в сумку тонкий шерстяной плед, разукрашенный символикой всемирной ассоциации антитеррористов. Даша умоляла взять с собой хотя бы упаковку гигиенических прокладок с усиками, раскиданных повсюду, у нее глаза разгорелись, как у нимфетки, но Митя поостерегся. Энтузиазм Даши объяснялся просто — для целых поколений руссиян женские прокладки были ярчайшим символом красивой жизни, но именно их изобилие на заброшенном хуторе внушало серьезные опасения. Вышел спор. Даша уверяла, что не собирается их использовать, а только поносит недолго в сумке, но Митя не смягчился.
По–настоящему смертушка чуть не прищемила им хвост всего два раза. Первый — когда переправлялись через искусственное водохранилище на утлой лодчонке, обнаруженной в камышах. В ней оказались и прочные алюминиевые веселки, хотя небольшие. Этого озера не было на карте, закодированной в подсознании у Мити. Огромное, с берегами, цепляющимися за горизонт, оно, скорее всего, образовалось десять лет назад, когда миротворцы испытывали новейшие баллистические ракеты класса Зэд, кардинально изменяющие ландшафт. Акции, проводившиеся в рамках гуманитарной программы «Помоги себе сам», наделали много шуму в СМИ и в конце концов были запрещены специальным постановлением Евросоюза. Но цель была достигнута: сотни тысяч едоков, жители неперспективных регионов, превратились в труху, что заметно облегчило колонизацию.
В озере, по которому они плыли, под взмахами весел просверкивали ртутные прожилки. Вода не давала брызг, было такое ощущение, будто они скользят по вощеной поверхности. Размеренные толчки весел убаюкивали Митю. Зеркальная гладь, рыжая, как солнышко, голова Даши, медленно надвигающаяся зеленая стена леса, — все казалось обманным, хрупким, моргнешь — и растает. И вот, когда до берега оставалось рукой подать, необозримое водяное стекло с треском раскололось и из трещины прямо по курсу, метрах в десяти высунулась, всплыла огромная, словно лунный кратер, пасть, которой позавидовало бы чудовище Лох — Несса. Митя крепко зажмурил и открыл глаза, надеясь, что кошмар развеется, но это был, увы, не кошмар. Над оскаленной пастью, усеянной сотнями белых, длинных, как напильники, кривых зубов, сверкали маленькие глазки, заглянувшие Мите прямо в душу. Он забурил весла, пытаясь остановить движение лодки. Даша, увидев его изменившееся лицо, оглянулась, вскрикнула и как–то в одно мгновение ловко распласталась на днище. Еще раз выглянула поверх борта и в растерянности пропищала:
— Митя, что это такое?!
Он не знал, но догадывался. Скорее всего, это не живое существо, а робот–чистильщик, оставленный для присмотра за водным плацдармом. Если так, то вопрос в том, как он запрограммирован. Варианта только два: аннигиляция или выемка информации с временным усыплением биообъекта. Против механических чистильщиков защиты нет; конечно, его можно расплавить кристаллическим огнеметом, но где его взять? Вдобавок Митя не был вполне уверен, что это робот, а не водоплавающий мутант. Ему удалось затормозить в трех метрах от безразмерного зева, куда лодка уместилась бы целиком вместе с пассажирами. Из розоватоглянцевой, утыканной металлическими (?) зубьями пещеры ощутимо смердело.
— Замри, — приказал Митя — и усилием воли вызвал в себе импульс отрешения. Этому нехитрому охотничьему приему его обучил в лесном лагере Алик Петерсон. Точно так маскировались лесные хищники, сливаясь с природой, превращаясь в ее неразличимый фрагмент. Биолокаторы не обманешь, но если это живое существо… Наступила пауза абсолютного штиля, лишь где–то далеко в лесу высвистывала одинокая горлица, жалуясь на свою судьбу. Постепенно у Мити возникло ощущение, что перед ним не робот и не мутант, а что–то третье, совершенно неизвестное. Красноватые глазки чудовища пронизывали насквозь, ощупывали, но одновременно казались незрячими. Так продолжалось целую вечность. Чудовище не делало попытки напасть, Митя пребывал в прострации, Даша тихонько поскуливала на дне лодки. Однако она первая разгадала смысл происходящего. Пяткой потерлась о его ногу.
— Оно нас не тронет. Надо плыть.
— Почему ты так думаешь? По–твоему, кто это? — Они оба говорили, почти не разжимая губ, слова глохли на дне лодки.
— После, Митя, после… Греби потихоньку, потихоньку…
Митя медлил, не решался последовать ее совету. Покой был жизнью, движение означало смертельный риск. Вдруг чудовище ожило, да еще как. С лязгом щелкнуло пастью, из отверстия по бокам головы вылетели струйки пара, подсинив неподвижную воду. Оно тяжко, по–человечески вздохнуло, обдав их такой вонью, как если бы включился дизель. Блестящие глазки вспыхнули и погасли, словно перегоревшие лампочки, и чудовище медленно, как и возникло, начало погружаться. Через мгновение поверхность озера разгладилась, по ней пробежали голубоватые искры, будто скользнули в разные стороны сотни ящерок–белохво- сток, и уже ничто не напоминало о том, что под водой что- то таится — живое ли, мертвое ли, но ужасное. Мираж исчез.
Митя сделал осторожный гребок, потом — смелее — второй, потом заработал веслами с утроенной энергией. Не помня себя, разогнались, причалили к берегу, спрыгнули на твердь и упали в траву, дрожа от пережитого страха. Даша прижималась к нему, в бездонной зелени глаз — восторг и упоение.
— Если хочешь знать, я совсем не испугалась.
— Да, я видел… Ты очень смелая девушка.
— А ты? Ты не хотел умирать?
«Матрешка» в который раз проверяла, насколько она очеловечилась. Измененные не боятся смерти, она им неведома. Митя ответил уклончиво:
— Неохота помирать котлетой… Так кто это был?
Даша перевернулась на спину, мечтательно глядела в небо, разукрашенное сизыми облачками.
— Механический гуманоид. Мне клиент проболтался под паром. Из штатных. Последнее достижение бионики. Они несколько штук запустили на вольный выпас. Природная адаптация. Я толком не поняла, как их делают. Ну, вроде машине вживляют мозг рептилии. Я тогда страшно перетру- хала: вдруг вспомнит, когда протрезвеет, чего нес.
— Не вспомнил?
— Нет, я гада так обработала, маму родную забыл. Митя, у них бывают матери? Или они все клоны? Мы с девочками часто спорили. Вот…
— Заткнись, — попросил Митя. — Почему твой гуманоид нас не тронул?
— Разве ты не понял? Он подыхает. У него программу заклинило.
— Может быть, — уныло согласился Митя, пораженный (тоже не в первый раз) ее кругозором.
Второй случай, когда их путешествие чуть не оборвалось, был совсем нелепый. Они очутились на открытом пространстве, пересекали цветущий луг — и зазевались. Засмотрелись на очертания горной гряды, внезапно проступившей на горизонте, словно черное ожерелье. Когда услышали подозрительное металлическое жужжание, до леса оставалось метров сто. Побежали, но Даша споткнулась, подвернула ногу. Все ту же самую, укушенную змеей. Возможно, это их спасло. Поисковый вертолет «Гепард» завис над ними, распластавшимися в траве, из люка высунулись два хохочущих негра. Улюлюкали, визжали, тыкали в них лазерными стволами, но стрельбу так и не открыли. Митя догадался почему. Это были знаменитые «охотники за черепами», палить по неподвижным целям было ниже их достоинства. Поисковые «Гепарды» обычно занимались выслеживанием беглых руссиян, но частенько использовались для увеселительных прогулок, как, вероятно, было на этот раз. Охотники кончили тем, что швырнули в них сверху несколько консервных банок, видно, на спор. Одна угодила Мите в плечо, негры восторженно завопили. Потом захлопнули люк, вертолет чихнул, развернулся — по длинной дуге исчез в облаках.
— Ну, — сказал Митя. — Что с ногой?
Обследовали — растяжение связок, пустяк, Митя хмыкнул ядовито:
— Если на каждой кочке спотыкаться… Ничего, к зиме дойдем.
— Бежал бы один. Чего остановился?
Митя увидел в ее глазах выражение, никак не соответствующее сказанным словам. Не сразу вспомнил, как это называется. Но все же вспомнил — из детства. Уважение. Она смотрела на него с уважением. Почему? Что он такого сделал? Да уж сделал, конечно, не стоит хитрить перед собой. Нарушил первую заповедь выживания: спасаясь, думай только о своей шкуре, ни о чем другом. Правило такое же безусловное, как таблица умножения, которой заканчивается образовательный процесс в школах для туземного населения. Любое отвлечение на что–то постороннее ведет к потере темпа, а в худшем случае — к разбалансировке всего внутреннего энергетического потенциала. Нарушил — и гляди как обернулось. Побежал бы и, наверное, спаленный лучом, сейчас валялся бы в траве грудой дымящегося мяса. Охотники за черепами владеют оружием в совершенстве, не промахнулись бы. Везенье — или что–то иное? Некогда думать. В любую минуту вертолет мог вернуться, капризы миротворцев непредсказуемы.
Митя запихал консервы в ранец, подал Даше руку.
— Ты не ответил, Митенька. Почему меня не бросил? Пожалел?
— Давай не будем, — сказал он…
По Митиным прикидкам, если делать в сутки по пятьдесят–шестьдесят километров, не ломать ноги и не поддаваться на Дашкины уговоры пожить денек в каком–нибудь райском уголке, им оставалось преодолеть не больше тысячи километров. Никаких проблем. Поселения попадались все реже, иногда за два–три дня не встречалось следов человеческого присутствия, зато леса и водоемы превратились в продовольственные кладовые: грибы, ягоды, рыба, непуганая мелкая живность, которая сама шла в руки. В буквальном смысле. Однажды в речной заводи, зайдя по колено в воду, они с Дашей за полчаса накидали на берег с десяток то ли лещей, то ли жерехов, упитанных, жирных, вялых от перенасыщения радиацией.
В ту ночь, обожравшись рыбой, запеченной в углях, долго лежали без сна на еловой подстилке, любуясь звездным небом. Обоим было хорошо, как никогда прежде. Наркотическая хмарь предыдущей бессмысленной жизни давно повыветрилась, и они чувствовали себя словно новорожденные. От этого было немного жутковато. Не убирая твердой ладошки из его руки, Даша нарушила привычное необременительное молчание.
— Зачем? — спросила с печальным вздохом.
— Что — зачем? — Митя, конечно, знал, о чем она думает, но хотел получить подтверждение.
— Зачем куда–то идти, когда можно остаться здесь? Погляди, Митя. Лес, река, тихо, чисто. Зверюшки ручные.
Или тебе плохо со мной? Зачем возвращаться к людям? Они злые, отмороженные. Мне кажется, я раньше вообще не жила.
— Ты не жила, и я не жил. Разве в этом дело?
— А в чем, Митенька?
— Твои предки тоже не жили, дедки с бабками. Никто в России никогда не жил, как хотел. Кроме приватизаторов. Это не причина, чтобы Димыча кинуть. Придумай чего- нибудь получше.
Митя не заметил, как мимоходом нарушил вторую заповедь измененных. Не вдумывайся в слова — вот что она гласила. Хуже будет. Даша мягко попеняла:
— Ты слишком быстро вернулся, Митенька. Слишком быстро вернулся в прошлое.
— Ну и что?
— Ничего. Я рада… Но почему ты меня избегаешь?
— С чего ты взяла?
— За целый месяц у нас не было секса. Только один раз, да и то когда спал.
— Как это — спал и секс? Разве так бывает?
— По–настоящему только так и бывает. Все хорошее нам снится, все плохое происходит на самом деле.
Верная мысль, подумал Митя. Измененные всегда счастливы, потому что живут с помраченным сознанием. Им худо, если не удается вовремя принять очередную дозу, но это ерунда по сравнению с тем, что испытывает вочелове- ченный. Множество страхов заново поселяются в его душе и отравляют жизнь. И главное, он всегда сознает, что ему не уцелеть в том мире, где восторжествовало зло.
…Настоящая беда, как и крупная удача, приходит всегда неожиданно. Оторвавшись от дикой Печоры, катящей отравленные воды вспять, они со дня на день ожидали, что вот–вот появятся из лесных сумерек сторожевые разъезды. Тому было много признаков. Все чаще попадались следы от костров, на деревьях встречались засеки. Мелкий зверь сторожился, не кидался обморочно под ноги, ищя знакомства. На рассвете ноздри улавливали горьковатый жилой дымок. Однажды откуда–то, будто за тридевять земель, донесся собачий лай. В пространстве ощутимо присутствовал свирепый человеческий дух. Стояла макушка лета, они оба к концу пути обратились в дикарей. Исхудали до коричневого блеска, одежда истрепалась, глаза лихорадочно блестели. Оба знали, что дойдут, и не верили в это…
Брели березовым перелеском, след в след, как обычно, Даша впереди, Митя сзади на пять шагов. Девушка что–то грустно курлыкала себе под нос. Под утро в укромной пещере она все же добилась от Мити секса, но вроде сама была не рада. Секс получился грустный. В самый неподходящий момент она вдруг разрыдалась — и тут же хлопнулась в обморок. Испуганный, Митя тряс ее, колотил по щекам, допытывался:
— Что с тобой, что? Ты ведь этого хотела?
— Не этого, — крикнула она. — Отстань от меня, урод!
Митю озадачила ее повышенная чувствительность и неожиданная грубость. По дороге он несколько раз возвращался к утреннему эпизоду. Даша отнекивалась, дескать, не лезь, потом кое–как, нехотя объяснила, что, оказывается, есть разница между тем, когда обслуживаешь клиентов, и тем, когда занимаешься сексом бесплатно. Бесплатные занятия сексом причиняют боль, она сама столкнулась с этим впервые.
— Какую боль? Физическую? — допытывался Митя.
Не получил ответа.
Он не спросил, почему она обозвала его уродом. Это как раз ясно. Норма — это мутация, вочеловечение — отклонение от нормы, другими словами уродство. Конечно, не ей упрекать. Но… женская логика…
В березовом перелеске Митя загляделся на низкие предвечерние облака, вьющиеся по небу, будто стая диковинных птиц с гигантским размахом крыл, — загляделся и не заметил, как Даша, идущая впереди, исчезла, словно провалилась под землю, что и оказалось. Обнаружив, что ее нет, Митя тихонько позвал:
— Дашка, Дашка, ты где?
Из–под земли глухо отозвалось: «Митя, я здесь», — и наконец он различил узкую, как ранка, трещинку на земной коре. Девушка угодила в ловушку, приготовленную для крупного зверя. Так он подумал, но когда подполз к краю и свесил голову вниз, увидел: что–то не так. Яма чересчур глубокая, как колодец, с гладкими, словно отполированными краями, сходившимися конусом вверх. Далеко внизу бледной точкой светилась Дашина голова. Если это западня, то какая–то особенная и вряд ли оборудованная человеком. Конус и полировка стен — вот что смущало. Возможно, такая воронка могла образоваться при взрыве пневматической мины, какие миротворцы использовали, выкуривая туземцев из пещер. Что–то Митя где–то слышал об этом, но точно не помнил. Да это было сейчас и не важно. Надо поскорее вызволить «матрешку».
— Эй, Даша, — окликнул он. — Ты целая? Руки, ноги не поломала?
— Все хорошо, — услышал из земной толщи. — Вытащи меня, Митя, тут что–то плохое бродит.
Он не стал вдумываться в ее слова. Кто там мог бродить в глубине, чушь какая–то. Уже прикинул, что бечевка, которая в ранце, не годится, чтобы вытащить «матрешку». Лучше срубить подходящую тонкую березку и опустить в яму. Поднялся на ноги, обернулся — и увидел перед собой в двух шагах здоровущего медведя. Хозяин тайги укоризненно покрутил башкой, похоже, осуждая его, Митю, за легкомыслие. Митя не удивился, что тот подкрался неслышно, медведь — великий охотник, но поразился, что, кажется, улавливает мысли и намерения зверя. Мысли плохие.
— Значит, на людишек ямку нарыл, — не сказал, а подумал Митя. — Но зачем? Ты же не людоед.
— Для порядка, — ответил медведь, — чтобы совместить границы бытия.
Почудился или нет Мите этот разговор, но когда он полез за топором, медведь протянул лапу и толкнул его в грудь. Несильно, но точно. И с той же укоряющей усмешкой. Митя кувырнулся в яму и на лету успел подумать, что раздавит «матрешку», если… Но Даша посторонилась, и Митя аккуратно приземлился на корточки, потом шмякнулся задом, да так, что в затылке хрустнуло.
— Ой, — сказала Даша. — Вот и ты, любимый.
— Да, я, — с достоинством отозвался Митя. — Ну, покажи, кто тут бродит?
— Сам услышишь… Зачем ты это сделал? Как мы теперь выберемся?
— Сделал и сделал. Соскучился…
На дне ямы свалка древесного мусора, смягчившего удар. Размером она по низу — метра три в диаметре, не тесно, просторно. И действительно, такое ощущение, будто рядом кто–то дышит. Митя обследовал стены, простучал глину, слепившуюся в камень, костяшками пальцев. В некоторых местах звук замирал, в других чуть прозванивал. Там явно были полости, и именно там кто–то копошился, попискивая и сопя.
— Что, что? — торопила Даша.
— Не блажи, кроты ходы роют, что еще?
Сам обеспокоился не на шутку. Кто из руссиян не слышал об ужасных существах, их называли землеройками, пожирателях мертвечины, разорителях кладбищ. О них писали в газетах, пугали ими непослушных детей, но в натуре их никто не видел. Если землеройки существовали на самом деле и если воронка ихняя, то им с Дашей недолго осталось мучиться. В голову пришла бредовая мысль: а что если медведь и землеройки действуют заодно? Медведь сверху поставляет пропитание, а землеройки что–то отдают взамен.
Даша прижалась к нему, мелко дрожала.
— Митенька, ну зачем ты прыгнул? Ну, пожалуйста, скажи?
— Поскользнулся.
— И что с нами теперь будет?
— Ничего. Как–нибудь выберемся.
— Охотники придут, да?
— Может, они, может, кто другой… Не волнуйся. Помнишь, как старики говорили: еще не вечер.
— Ага, говорили. Среди ночи. Скажи лучше правду, Митенька, нам крышка?
— До этого далеко, — авторитетно соврал Митя. — Но если даже так, чего особенно трепетать. Не деньги отнимут, всего лишь жизнь.
На эти слова Даша ответила значительно позже, когда, после неудачных попыток прорубить топором ступеньки в
наклонной стене, они лежали, обнявшись, на сырой глине, пытаясь уснуть.
— Митя, Митенька?
— Чего тебе еще?
— Митенька, мне так хорошо с тобой, не хочется помирать. Ну почему, почему?
— Что — почему?
— Почему, когда хорошо, после обязательно бывает еще хуже?
Она права, что тут возразишь. Теплая волна печали прихлынула к его сердцу.
— Не нами придумано, — сказал он. — Так мир устроен. Постарайся уснуть, дорогая.
ГЛАВА 14 ГОД 2024. ЛЮДИ И ЗВЕРИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Без еды и питья, в сырости и холоде на третьи сутки они начали унывать. Никакие землеройки не появлялись, хотя шуршание и попискивание за стеной не прекращалось, причем со всех сторон. Они не признавались друг ДРУГУ, но у обоих было чувство, что сотни крыс с нетерпением дожидаются, пока они ослабеют настолько, что можно будет приступить к трапезе. Изредка сверху свешивалась косматая медвежья башка, наблюдала за ними. Митя его окликал: «Эй, косолапый, вытащи нас отсюда. Поговорим».
Медведь недовольно сопел, презрительно фыркал и исчезал.
На третий день, словно по наитию, Митя взял топор и врубился в то место, где — по звуку — находилась самая глубокая полость. Земля поддавалась легко, за несколько минут лаз был расчищен. Шуршание и писк моментально стихли. Перед ними открылся проход с такими же гладкими, утрамбованными стенами, как и у конусообразной ямы, куда они провалились. По нему вполне можно было передвигаться на четвереньках.
Митя пополз первый, Даша за ним. Вскоре темнота сгустилась настолько, что Митя, оглянувшись, не увидел Дашу. Ночное зрение больше не справлялось с могильной чернотой. И время замедлилось, почти остановилось. Митя не смог бы определить, сколько они ползут — час, два или сутки. Даша то и дело хватала его за ноги. Это нервировало.
— Ты что, боишься заблудиться? — бросил он зло.
— Прости, — пробормотала она. — Я не нарочно, просто натыкаюсь. А куда мы пробираемся?
— Еще раз так спросишь — получишь, — огрызнулся Митя.
Вечности не прошло, как добрались до подземного бункера с низким потолком, куда вывалились из лаза один за другим. В бункере стоял стол с компьютерной приставкой, металлический сейф старинного образца с электронным кодовым набором — и больше ничего, если не считать пластиковой бутылки с минеральной водой на крышке сейфа, словно предусмотрительно поставленной для случайных, изнемогающих от жажды гостей. Даша стремглав кинулась к этой бутылке, Митя едва успел вырвать ее у нее из рук.
— Ну что ты, дай! — заныла «матрешка». — Это же вода.
Митя не посчитал нужным ответить. Больше всего его поразило освещение, бледное, призрачное, сочившееся, казалось, прямо сквозь стены. Что это, как, откуда? Вообще, где они?
Следом возник еще более тревожный вопрос: кто они? Те ли они с Дашей, кем себя представляют? Привыкший к перевоплощениям, он легко мог представить, что все их путешествие, как, возможно, и встреча с Истопником, и дни, проведенные на болоте, всего лишь игра воображения, а на самом деле они (или он один?) стали участниками (жертвами!) эксперимента и все их действия корректируются оператором, сидящим за пультом психотропного манипулятора. От этой мысли по волосам пробежал слабый электрический разряд. Он слышал об этих опытах, когда ошивался в Москве. Многие руссияне, будучи давно покойниками, тем не менее продолжали виртуальное существование и даже внешне оставались людьми с обычными физиологическими проявлениями: жрали, совокуплялись, добывали дозу…
— Кажется, нас ведут, — произнес он, без сил опустившись на земляной пол.
— Кто ведет? Куда? — обеспокоилась Даша. — Митенька, что с тобой?
— Со мной ничего. — Он разглядывал ее с тяжелым подозрением. — А с тобой?
— Митенька. — Даша присела рядом на корточки. — Давай попьем водички, тебе сразу полегчает. У тебя мозги прочистятся.
Митя открыл бутылку, понюхал, налил каплю на ладонь, слизнул — и вылил воду на пол. На нежном Дашином личике отразилось такое горе, словно у нее оторвали ноги, лишив тем самым возможности существования.
— Зачем? — спросила она с тоской.
— Ни цвета, ни запаха, — ответил Митя. — Универсальный модификатор.
— Не знаю, что это такое, но, по–моему, Митенька, ты спятил.
Митя поднялся, подошел к столу, потянулся к компьютеру, но в то же мгновение вспыхнул монитор и на экране возникла предостерегающая надпись: «Не трогай, придурок. Изувечу».
Митя, помешкав, отстучал на клавишах: «Кто ты?»
Ответ не заставил себя ждать. «Не твое собачье дело. Сам–то ты кто?» Митя отщелкал: «Мы бродячие. Идем куда глаза глядят. Никого не трогаем. Помогите нам».
Дальше разговор с компьютером пошел в убыстренном темпе, и почему–то Митя знал, что его нельзя замедлять.
Компьютер: «Помочь можно, почему не помочь. На халяву не надейся, придурок».
Митя: «Что вам нужно? У нас ничего нет».
Компьютер: «Сколько у вас крови на двоих?»
Митя: «Литров десять. Мы недоенные».
Компьютер: «Сольешь половину, столкуемся».
Митя оглянулся на рыжую, которая стояла за его спиной с открытым ртом и вытаращенными глазами.
— Закрой рот, — посоветовал он. — Воробья проглотишь.
— Митенька, что это?
Митя пробежал по клавишам: «Предложение бессмысленное. Без крови сдохнем».
Компьютер: «Вольешь плазму. Посмотри направо».
Митя глянул и заморгал, протер глаза ладонями: нет, не мерещится. В углу образовался стеклянный сосуд с пузатыми боками, наполненный темно–коричневой жидкостью.
Только что его не было. Подумал: что–то тут опять не вяжется. Те, кто разговаривает с ним через компьютер, по всей видимости, всемогущи, раз способны на такие штуки, как фантомная материализация. Зачем им торговаться? Они и так могут сделать с ним, что захотят. «Я согласен, — написал он. — Как обменяемся?»
Компьютер: «Еще условие. Девка лишняя. Ей плазмы нет. Дальше пойдешь один. Понял, придурок?»
Его внезапно озарило: это тест. Безусловно, тест. Медведь наверху, поскребывание землероек, конус–ловушка — все это условия психотропного теста. Его испытывают, но кто и с какой целью? Вряд ли миротворцы, с какой стати им забираться в такую глушь. А возможно, и они. Возможно, тест предполагает погружение бывшего гомо советику- са в природные условия. Митя обернулся. Даша смотрела на него почти как мертвая, почти как свинченная.
— Соглашайся, Митенька. Спасайся один.
Митя потрогал ее плечо, шею. Живая, дышит. Но он уже не доверял своим ощущениям. На монитор вывел: «Подавитесь своей плазмой, подонки».
Компьютер (с недовольным урчанием): «Не дури, парень. Не заставляй идти на крайние меры. Нужно, чтобы отдал кровь добровольно. Кислая не годится».
Митя: «Или отпускаете обоих, или никого».
Компьютер: «Твое последнее слово, придурок?»
Митя: «Да, умники. Последнее».
Компьютер: «Ты еще не знаешь, что такое боль».
В ответ Митя отстучал одну из тех оскорбительных фраз, за которые по колониальному биллю полагалось четвертование, после чего монитор, покрывшись стыдливой рябью, потух.
Даша тихонько всхлипывала, по–старушечьи сгорбясь.
— Что ты наделал, Митенька, что ты наделал!.. Они нас теперь запытают.
— Кто такие, догадываешься?
— Какая разница? Они те, против кого мы бессильны. Посмотри… — Она показала на лаз, откуда они вывалились: обратного хода больше не было — лаз затянулся железной решеткой.
— Круто, — восхитился Митя. — На ходу подметки режут.
Он подошел к решетке, подергал — настоящая или морок? Вроде настоящая, прочная, руки холодит. Если только он сам не проекция, не подобие прежнего Климова. Если они все — и он, и «матрешка», и все остальное не перемещены в условный мир, где только кажутся себе реальными. Или ему одному показана новая условность как прежняя реальность. Или… Если… Очень много «или» и «если»… Чтобы сохранить рассудок (если это рассудок, а не что–то тоже уже иное), следует утвердиться в чем–нибудь одном: либо ты в первоначальной жизни, либо витаешь в инете. Совмещать два полюса, пребывая в расщепленном сознании, долго невозможно. Он помнил, как это бывает. Раздвоенный подходил к стойке, брал кружку пива, подносил к губам — и бесшумно взрывался, аннигилировался, оставляя после себя облачко сизого дыма и расколотую кружку на полу. Раздвоенные, расщепленные — самые безобидные и недолговечные существа.
— Эй, Дашута. — Митя стряхнул мозговую мутоту. — Как думаешь, кто тут колдует? Против кого мы бессильны?
— Их много и они разные. — Даша подошла и тоже подергала решетку. — Митенька, а мне здесь нравится. Здесь лучше, чем в других местах.
— Чем лучше?
— Больше некуда бежать. Добегались. Каюк. Давай напоследок займемся сексом. Если нам позволят.
В ее глазах переливалась лиловая невменяемость, предвестница абсолютной свободы.
— Возьми себя в руки, — разозлился Митя. — Нельзя поддаваться.
— Почему нельзя, Митенька? Как раз можно. Поддашься — и уже в раю. Пусть сопротивляются измененные, а мы с тобой опять люди… Хочешь верь…
Досказать она не успела — осветился монитор, на нем незатейливые слова: «Еще не подох, придурок?»
Митя поспешил к столу, опустил пальцы на клавиши.
«Почему обзываешься? Я же не называю тебя механической скотиной, какая ты есть на самом деле».
По экрану прошла голубоватая рябь, выражающая, возможно, удивление.
К о м п ь ю т е р: «У тебя есть самолюбие? Этого не может быть».
Митя: «Много ты понимаешь, электронная чушка».
Компьютер: «Сосредоточься, парень, на связи судьбоносный».
Митя: «Насрать на вас на всех».
К о м п ь ю т е р: «С прибытием на независимую территорию, Дмитрий Федорович».
От этих слов Митя ощутил тягостную истому, как при гипнозе. «Кто ты?» — с усилием отбил ответ.
Компьютер: «Не важно. Узнаешь, когда приготовишься к постижению. Пересчитай пальцы на руках. Сколько их?»
Митя: «Десять. Я человек».
Компьютер: «А теперь?»
Митя поднес руки к глазам, пальцев стало много, лес густой. Даша подсказала:
— Куражатся, Митенька. Хотят ошеломить.
Множеством пальцев, раскоряченных в разные стороны, Митя напечатал: «Чего добиваетесь?»
Компьютер: «Как себя чувствуешь, Дмитрий Федорович?»
Митя: «У вас ничего не выйдет. Я не сойду с ума».
Компьютер: «Почему так уверен?»
Митя: «По опыту. Мозг законсервирован».
К о м п ь ю т е р: «В каком состоянии эмоциональный фон?»
Митя: «По шкале Багриуса — 8 единиц».
Компьютер: «Откуда такие познания?»
Митя: «Переподготовка в центре Клауса. Пересадка гипоталамуса».
Компьютер: «Когда вернулась память?»
Митя: «Окончательно только сейчас».
Даша пихнула кулачком в спину.
— Митя, Митя, очнись! Почему дрожишь?
— Заткнись, — цыкнул Климов. — Не лезь не в свое дело.
Он сознавал важность происходящего. Компьютерный допрос был не просто допросом, каким–то новым переходом. Он действительно обрел дальнее зрение и припомнил свое пребывание в суперсекретном центре по кардинальному перевоплощению. Увидел себя тонущим в канализационной жиже, с двумя крысами–гигантессами, вцепившимися в правое бедро. Впоследствии, утратив память, гадал, откуда взялись узорчатые, будто наколка, шрамики.
Компьютер: «Истопник знал об этом?»
Митя боролся с нахлынувшей сонной одурью. Значит, этот бункер не что иное, как испытательный стенд. «Не знаю никакого Истопника».
Компьютер: «Не сопротивляйся, побереги силы. Мы друзья. Мы не причиним зла».
Митя: «Вы — друзья? Поймали в каменный мешок, подсунули яд вместо воды — и вы друзья? А враги тогда кто?»
Экран пожелтел: признак смущения, что ли? Митя все больше воспринимал компьютер как живого собеседника, улавливал его настроение. Может, зря похвалился, что не сойдет с ума? Может, это уже пройденный этап?
— Посмотри на себя! — Суетливая Даша поднесла сбоку круглое зеркальце (откуда взяла?). Митя поглядел и не узнал своей рожи. Что–то чужое, с вздыбленными волосами, с потухшими глазами, с фиолетовыми полукружьями до середины щек.
— Не понимаешь, да? — прошипела бесценная «матрешка». — Они высасывают, высасывают.
Компьютер: «Не обижайся, Дмитрий Федорович. Обычная проверка. Мы не вступаем в контакт без предварительного обследования. Нам нужна ваша кровь. Без принудительной блокировки».
Кто бы с ним ни разговаривал, он был прав. В свободной России, где Митя прожил двадцать с лишним лет, всякая незнакомая вещь могла нести в себе смертельную опасность. Что уж говорить об одушевленных существах. Принадлежа к порабощенной расе, Митя знал об этом лучше других. «Кровь берите, девушку оставьте со мной», — пе
редал дрожащими от недавнего размножения пальцами. «Условие принято», — мгновенно отозвался экран.
— Митя, держи меня! — истошно крикнула Даша. Повернувшись, он едва успел подхватить ее на руки и вместе с ней повалился на пол. Бункер потихоньку завибрировал, а потом заходил ходуном, как вагончик подземки на допотопных электрических рельсах. — Обними меня крепче, любимый, — вот что услышал Митя напоследок.
ГЛАВА 15 НАШИ ДНИ ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
Оставалось попрощаться с родителями и оставить им хоть сколько–то деньжат. Бежать было некуда. После истории с Зосимом Абрамовичем, беги не беги, догнали бы все равно. Суть простая: я свидетель преступления, но прямого участия в нем не принял. То есть стал косвенно опасным насытить его неистощимое любопытство к вывертам человеческой психики. В том, что это любопытство, наравне с жаждой власти, присутствует в Оболдуеве и частенько подталкивает его к неординарным поступкам, я не сомневался.
Заехав сначала домой и выудив из–под стрехи все свои сбережения (около трех тысяч долларов), я сел в машину и без звонка отправился на улицу Кедрова. Старики наверняка были дома, где им еще быть в половине двенадцатого ночи.
Да что там в половине двенадцатого, они теперь всегда были дома, если только не выбирались на прогулку, поодиночке или дружной парой. Эти прогулки имели отнюдь не оздоровительное значение, цель была всегда одна и та же — пополнить запасы спиртного. Что скрывать, мои любимые спивались. Но делали это деликатно, с достоинством, никого не обременяя своими проблемами. На еду и питье им вполне хватало пенсий и того, что я подкидывал, у них была приличная двухкомнатная квартира в элитной (по прежним временам) двенадцатиэтажной башне, шмотками они обеспечили себя на две жизни еще при совке, когда оба были уважаемыми членами общества, — донашивай на здоровье. Отец всю жизнь преподавал физику в институте, имел профессорское звание, матушка с медицинским образованием, работала терапевтом в «районке», и оба принадлежали к славной плеяде интеллигентов–шестидесятников, а этим многое сказано. Поднаторевшие в чтении самиздата, много лет подряд внимавшие ежевечерним руладам радиостанции «Свобода», они были по–настоящему счастливы при правлении Горби и даже некоторое время после воцарения пьяного Бориса. Хотя в их восторженные души уже исподволь закрадывалось подозрение, что все опять пошло как–то наперекосяк в Датском королевстве. По инерции они еще долго посещали демократические тусовки, и еще долго заклинания о свободе, правах человека и общечеловеческих ценностях отзывались в их сердцах щемящей, истомной нотой, вызывая слезы умиления. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Как известно, все закончилось быстро и подло. Как и миллионы одураченных в который раз руссиян, прозрев, мои драгоценные родители с изумлением обнаружили, что, как всегда, наподобие знаменитой пушкинской старухи, очутились у разбитого корыта, а власть в бывшей великой державе принадлежит вселенскому ростовщику с погано ухмыляющейся мордой образованного хама. И впереди у вольнодумцев, как встарь, замаячила колючая проволока и дробный перестук через глухие стены каземата.
Батюшка первый ухватился за спасительную бутылку, а уж матушка привычно, как верная жена, его догоняла.
К чести отца, он исправно, вплоть до пенсии, посещал кафедру в институте, и никто из сослуживцев даже не подозревал, что всеми любимый и уважаемый профессор Антипов тайно и самозабвенно предался пагубной страсти. В духовном отношении мои старики тоже совсем не изменились, продолжали верить в торжество добродетели и в неизбежность Божиего суда, разве что на прежний социально–политический бред накладывалась иной раз безутешная алкогольная депрессия.
У них, у любимых, я перенял великую науку цепляться за соломинку, свято веря, что она, как плот, вынесет к берегу из самого бурного потока.
Дверь в квартиру я открыл своим ключом и отца застал на кухне, где он, важный и насупленный, сидел перед недопитой пол–литрой и слушал радиостанцию «Маяк». Увидев меня, отец не обрадовался и не удивился, из чего я заключил, что он находится в философской стадии опьянения. Выглядел отец намного старше своих шестидесяти пяти — белый хохолок на макушке, запавшие глаза, ввалившиеся щеки. И сидел на стуле так, будто держал на плечах бетонную плиту. Чтобы разглядеть меня как следует, ему пришлось зажмурить один глаз, а второй, напротив, широко открыть.
— A-а, Витя, — протянул удовлетворенно. — Ну, как успехи? Сдал зачет?
На этой стадии отцу всегда мерещилось, что я вернулся из института. Разубеждать было бессмысленно. Я согласно кивнул и поинтересовался, как мама, спит, что ли?
— Плохи дела у матери, сынок, совсем плохи.
— Что такое?
— А то не знаешь. Пьет много, меру потеряла. Заговаривается. Я уж подумываю обратиться к медикам. Но как ее уговорить? Она теперь ни с чем не соглашается, такая, прости Господи, поперечница. Ей слово, она два. Лишь бы поспорить, а разуменье бабье.
По тому, как отец говорил, невозможно было определить, насколько он пьян. Просто слегка усталый, задумчивый человек, самый родной на свете. Он потянулся к бутылке.
— Выпьешь за компанию?
— Нельзя, папа, я за баранкой.
— Правильно, за баранкой нельзя. А я, извини, приму немного. Так–то не хочется, но от бессонницы помогает. Какие только таблетки не пробовал, а вот эта, очищенная, лучше всего.
Смущаясь, опрокинул полчашки, положил в рот розанчик соленого огурчика, зацепив из тарелки пальцами.
— Значит, говоришь, в институте все в порядке?
— Абсолютно, папа.
— Ну и слава Богу. Мать обрадуется. Волнуемся мы за тебя, Виктор. Плохую привычку ты взял, пропадать неделями. Эльвира тоже нас забыла. Неужто трудно снять трубку, позвонить старикам?
В голосе отца послышались нотки раздражения, это значило, что рюмка–другая — и он плавно перейдет в состояние сумрачного отчуждения. Эльвира — моя бывшая жена, с ней мы расстались три года назад. Она ему никогда особенно не нравилась: читает мало, рожать не хочет, профессия какая–то чудная — модельер–дизайнер. Однако как раз перед тем, как у нас с Элей все окончательно разладилось, между ними наметилось потепление. С удивлением я узнал, что Эля иногда заглядывала к родителям по вечерам и они втроем керосинили. Но он быстро в ней разочаровался. В чем было дело, я не сумел докопаться, думаю, какая–нибудь ерунда. Эльвира болтушка, всегда несла что в голову взбредет, короче, нормальная современная женщина с уклоном в Машу Арбатову, а отец не прощал никому малейших отклонений от нравственных постулатов. Даже если это выражалось не в поступках, а в словах. Почему Эля к нему потянулась, это другой вопрос, тут как раз все понятно: безотцовщине, воспитанной одной матерью, ей всегда хотелось заполнить этот пробел. Может, еще чего–нибудь хотелось, додумывать не буду. Но не удалось. Скорее всего, влепила что–нибудь сугубо прогрессивное, феминистское, поперек христианских добродетелей, батя и сник. Трезвый больше слышать о ней не хотел, она тебе не пара, Витя, но трезвый он теперь бывал редко, а пьяный вспоминал о ней с нежностью, как сейчас: где Эля, как Эля? Если бы еще я знал ответ.
Я оказался в затруднительном положении. Как быть с деньгами? Оставить ему, он назавтра про них не вспомнит, а если вспомнит, неизвестно, что с ними сделает. Мать в этом смысле надежнее, казна на ней.
— Пап, пойду с мамой поздороваюсь.
Отец вскинул почти уже незрячие очи.
— Конечно, пойди, сынок. Полюбуйся на старую пьянчужку.
Вдогонку окликнул:
— Эй, Витя.
— Да, папа?
— Скажи ей, поперечнице, никакие путины и анютины нас не спасут, сметет всю мразь волна народного гнева. Вооруженное восстание. Запомнишь?
— Конечно, папа.
— Никто этого не понимает. Даже Солженицын. По- прежнему носятся со своей сказочкой о добром царе. Морочат людям головы. Не слушай их, сынок.
— Хорошо, папа.
В спальне меня охватил приступ отвратительной черной тоски. Матушка лежала поперек двуспальной кровати (сколько я себя помню, столько и этой кровати), одетая, натянув одеяльце до уха, наружу высунулись ноги, затянутые в шерстяные носки со штопкой на пятках. Носки меня, наверное, и добили. Мамочка пьяненькая, в толстых штопаных носках, чтобы ножки не мерзли. Господи, за что наслал эту кару? Ладно, я заслужил, но им за что? Их жизнь была безгрешной, я знал ее назубок. Виноваты лишь в том, что верили в царствие земное.
Я не стал ее тревожить, нашел карандаш и бумагу, нацарапал записку: «Мамочка, не хотел будить. Заходил попрощаться. Уезжаю в командировку, возможно надолго. Деньги в верхнем ящике — вам на расходы. Не волнуйся, у меня все в порядке. Скоро дам о себе знать. Берегите себя, не экономьте…» Что–то было в этой записке не так: куда уезжаю? Зачем? Но как объяснишь, что скорее всего на тот свет, где буду ждать их с нетерпением. Подумав, приписал: «…Очень люблю вас обоих, Витя». Так вроде хорошо.
Листок сложил в несколько раз и спрятал в ее черную сумку, с которой она ходит в магазин. Прямо в кошелек. Здесь найдет обязательно.
Пока отсутствовал, отец успел добавить — бутылка была пуста. И лицо у него тоже было пустое, уплыл куда- то за горизонт. И увидел там нечто такое, чем счел долгом со мной поделиться.
— Чубайс бессмертен, — изрек торжественно. — Его душа заключена в фарфоровую чашечку на высоковольтном столбе, но никто не знает где. Чтобы ее извлечь, придется разрушить всю энергетическую систему. Но игра стоит свеч, как полагаешь?
— Раз надо, так надо, — согласился я. — Пойдем, папа, провожу в постель.
— Грубишь? — обиделся отец. — Думаешь, пьяный? Лучше принеси дневник. Посмотрим, как ты там сегодня отличился.
В его сумеречном сознании я уже опустился до школьной парты. Верный признак скорого и счастливого — до утра — забытья…
По ночной Москве прокатился, как по скользкому льду. Машин мало, улицы пусты, безмолвны, лишь зловеще рубиновыми строчками сияет реклама да из ночных клубов выплескиваются ядовитые пучки света, словно отблески костров, ждущих нас всех впереди. Народец давно забился по норам, а те, кому принадлежит ночная Москва, подтянулись ближе к центру, где у них пастбище, где они проводят досуг. Там хорошо, но мне туда не надо.
Какая–то одичавшая проститутка выскочила из кустов и сиганула под колеса, размахивая руками, будто белыми крыльями: еле–еле успел свернуть. Девица что–то кричала вслед и грозила кулаком. На мгновение мелькнула шалая мысль, не взять ли с собой. Голодная, небось. Сексуальный бизнес в Москве, контролируемый свободолюбивыми, добродушными кавказцами, приобретал все большее сходство с разбоем, но в этом была своя органика.
Подъезжая к дому, вспомнил Лизу, и на душе стало еще больнее. Ее отчаянный поцелуй, ее сумеречные глаза, сулящие невозможное. Мои три книги, не прочитанные ею. Четвертой, видно, не бывать. Но, может, не так все скверно? Может, морок смерти, подступивший вплотную, — это обман, тень, порожденная страхом? Кому сегодня не страшно в этом мире обреченных? По–настоящему на мне лишь две серьезные вины. Тот самый поцелуй, где была не моя инициатива. Что легко доказать, если барин захочет слушать. К тому же вдруг Гата Ксенофонтов сдержит обещание, повременит с доносом? И второе, смалодушничал, не вколол Абрамычу яд, сбежал, но это и вовсе ерунда. Чтобы стать убийцей, нужен особый дар, особое рыночное призвание, рожденный ползать летать не может. Леонид Фомич интеллигентный человек, он наверняка это понимает. Опасаться меня как свидетеля нелепо. Да и перед кем свидетельствовать против хозяина жизни? Перед президентом Соединенных Штатов? С другой стороны, Оболдуй вложил в меня копеечку, которую я еще не отработал. У них не принято бросать деньги на ветер. Оболдуй тянется к этой книге, как младенец к соске, а где он найдет второго такого олуха, как я? Не так просто. Он это знает. У него уже был опыт…
Черный «мерс» с зажженными фарами и работающим движком стоял впритык к моему подъезду. Свою «девятку» я оставил на стоянке, запер, включил сигнализацию. Интересно, думал, дадут домой подняться или сразу увезут?
Из «мерса» вывалился Вова Трубецкой. Это большая честь для меня, все равно что самого Гату прислали, Трубецкой его правая рука. Обаятельнейший человек, интеллектуал, циник, из той же конторы, что и Гата. Сколько мы с ним ни сталкивались в поместье, всегда обменивались шуточками и подначками. Как–то сразу сошлись. Трубецкой — мой ровесник, значит, духовный опыт приобрел уже при нашествии, со всеми вытекающими из этого последствиями.
— Витюха, а ты загулялся, — весело приветствовал меня он, разводя руки как бы для объятий. — Небось, в своем клубе писательском пьянствовал, а? Творческие споры, начинающие поэтессы, а?
— Сущая правда, — подтвердил я. — Давно ждешь?
— Часа три будет.
— И все время с включенным движком?
— О-о, это тест. Поехали, по дороге расскажу.
Я не стал испытывать судьбу, отпрашиваться домой, чтобы сделать звонок, то да се, без разговоров нырнул в салон на заднее сиденье. За баранкой глухонемой Абдулла — второй сюрприз. Абдулла из личной гвардии Оболдуева, из самых отборных, борзых. Что же получается? Похоже, собираются свалить меня где–нибудь по дороге?
Едва тронулись, Трубецкой оживленно заговорил, перегибаясь с переднего сиденья. Оказывается, он провел проверку на лояльность жителей нашего дома. Вроде тех, которые по поручению правительства проводят в государственном масштабе спецслужбы. Впрыскивают в общественное сознание разные дезы и фиксируют реакцию населения. К примеру, перед очередной реформой, проще говоря перед очередным ограблением, допустим перед общим подорожанием, сперва повышают цены на один бензин, и то ненамного, и следят, не будет ли чего. Нет, все спокойно. Приступайте, господа, без опаски к дележке нового пирога. Социальный зондаж можно вести и на тонких уровнях. Помнишь, Витя, историю с фильмом Скорцезе о Христе? Его прокрутили по НТВ вопреки просьбе патриарха не оскорблять чувства верующих. Проглотила Святая Русь — и не пикнула. Значит, что? Значит, все позволено, полная победа. Нет народа, остались племена. Прежде надежным инструментом для проверки лояльности нации была Дума. Там обкатывали самые чудовищные «экономические» проекты вроде продажи земли иностранцам или семейной приватизации сырьевых монополий. Но с тех пор как Дума стала ручной, ее показатели ненадежны. Более объективную картину дают выборы в органы власти, контролируемые криминальными кланами и Кремлем. Но и там при анализе данных разброс вероятностей чрезвычайно широк, отсюда досадные сбои при назначении выборных губернаторов. Мой дом Вова Трубецкой прозондировал кустарным способом, используя собственное ноу–хау. Три часа пускал бензиновую гарь в открытые окна, а также время от времени включал сигнализацию и клаксонил, создавая видимость технологической катастрофы.
— И что? — торжествующе закончил Трубецкой. — Тихо, Витя. Ни одна крыса не рискнула высунуться и хотя бы узнать, в чем дело, кто над ними куражится. Какой вывод, Витя? Не ломай голову, сам скажу. В вашем доме не осталось ни одного настоящего мужчины. — Он подумал и грустно добавил: — А может, их во всей России теперь не больше ста человек. Как думаешь, Витек?
— Никак не думаю.
— Сопротивляемость на нуле, Витя. Массовый суицидальный синдром. Нации капут. Делай с руссиянином что хошь, будет только руки целовать. В какой–нибудь занюханной Италии повысят цену на проезд в автобусе — и миллионы людей на улице. Правительство качается. Вся страна на ушах. Не лезь в мой кошелек, пасть порву. А у нас? Витя, как у нас? Ваньку ободрали до нитки, говном в харю тычут, на, жри. Он жрет, доволен. Глазом зыркает, где бутылка, чтобы запить. Мало тебе? Хорошо, добавим. Отключили электричество, поморозили, как тараканов, — и что? Нет, кто–то побежал на площадь с плакатиком. На плакатике мольба: государь–батюшка, президентушка родный, оборони, заступись! Детишки мрут, старики околевают, сделай милость, окороти супостата. Витя, это сопротивление, да? Реформаторы правильно говорят: такой народ не имеет права на существование. Тупиковая ветвь, Витя.
— Не понимаю, чему ты радуешься?
— Не радуюсь, нет, ты не понял. Поражаюсь, как могло такое быть? Гитлеру хребет сломали, против всей Европы выстояли, а сотню обнаглевших ворюг не способны по камерам рассажать. Что все это значит, Витя? Объясни, ты же писатель.
При других обстоятельствах я охотно посудачил бы на эту тему, но сейчас, на темной дороге вертелось в голове совсем другое. Набрался духу, спросил:
— Куда едем, Вова? Куда меня везете?
Майор изобразил недоумение.
— Ты о чем, Витя? В Звенигород, куда же еще?
— Почему такая спешка? Почему нельзя было утром?
— Так тебе виднее… Я сам удивился. Гата сказал, привези писателя. Значит, хозяин распорядился.
— А почему вдвоем? Почему с Абдуллой?
— Кто был под рукой, того взял… Да ты что подумал, Вить?
— Ничего не подумал, но чудно как–то… Ночью. Спят все добрые люди.
Глухонемой за баранкой сдавленно хмыкнул. Трубецкой протянул мне сигареты.
— Покури, Витя. Нервы у тебя. Воображение художника. Говорят, страшная штука. Где–то я читал, в принципе, все художники шизанутые. А если не шизанутый, то не художник.
Сигарету я прикурил от его зажигалки. Голос у Трубецкого дружеский, но на самом донышке издевка. Все он понимал, скотина, и мой страх, и то, что я лишил себя выбора, продавшись олигарху. Он тоже был в схожем положении. В чем я не сомневался, так это в том, что Вова Трубецкой, такой, как он есть, веселый и беззаботный, при необходимости не задумываясь влепит пулю в лоб. При этом будет вот так же безмятежно балабонить. И все равно он был из тех, к кому я испытывал симпатию. Он был из перерожденных, но не смирившихся и вел с миром собственную маленькую беспощадную войну.
— Скажи, Володя, а вот если тебе хозяин прикажет?..
Ему не требовалось уточнять, ответил честно:
— Черт его знает, Витя. Мы люди подневольные. Но не скажу, что мне это понравится. — Он покосился на Абдуллу. — А ты что, всерьез прокололся?
— Видно, кто–то очень хочет, чтобы так выглядело.
— Кто, Витя?
Разговор перешел в опасную плоскость, я первый спохватился.
— Да это я так, к слову… Ты правильно заметил. Не знаю, какой я художник, но психика травмированная — это точно. Всякая чепуха в голову лезет. У меня в медицинской карте диагноз: канцерофобия.
— Типичный случай, — с облегчением откликнулся Трубецкой. — Социальная неврастения — болезнь века на
равне со СПИДом. Главное — восстановить глубокий сон. Поверишь ли, я сам долго хандрил после пустяковой контузии. Один отморозок огрел железякой по тыкве. Ничего не помогало. Неделями не мог уснуть. Одна бабка спасла, Аграфена Тихоновна. Никаких патентованных средств, только травы, Витя, только травы. Месячишко попьешь — и как новорожденный. Считай, адрес у тебя в кармане.
— Спасибо, — поблагодарил я без энтузиазма. От сердца малость отлегло, лишь когда свернули на боковое шоссе к поместью. Там еще поблизости имелось удобное для захоронения болотце, но и его благополучно миновали.
Дом без света в окнах. Абдулла повел тачку в гараж, а мы с Трубецким распрощались на развилке — он во флигель, я в центральное здание. Взаимно пожелали друг другу спокойной ночи, и еще он сказал:
— Не бойся, Витя. Вряд ли он тебя приговорил. Рано еще.
Неподалеку от парадного подъезда из кустов налетел, как черная молния, добрейший будь Тришка, прыгнул на спину, повалил, сомкнул клыки на кадыке, но нежно, дружески. Такой ритуал встречи у нас наладился уже несколько дней. Я почесал охотника за ухом. Эх, Триха, Три- ха, все–то тебе озоровать, дурачку.
Буль самодовольно заурчал и помог мне подняться, осторожно покусывая то тут, то там.
В дом я проник через боковую дверь, от которой, как у почетного поселенца, у меня был собственный ключ. Разумеется, это не значило, что вошел незаметно. Наш приезд во всех деталях отследила умная электроника, записала на пленку, и вежливый оператор в дежурной комнате, когда за мной закрылась дверь, включил ночное освещение в коридорах. Добравшись до своих покоев, я сразу залез в душ и битый час с азартом соскребал, смывал с себя дневные страхи. Не помогло. Душа тихонечко, жалобно повизгивала, и никак не проходило ощущение, что лежу на влажной, прохладной земле, головой в кустах, там, где повалил безумный Тришкин прыжок.
Но главный сюрприз был впереди. В спальне, инстинктивно стараясь не шуметь, я зажег нижний свет, подошел к бару, достал початую бутылку бурбона, нацедил полстакана, но выпить не успел. Услышал капризный женский голос, пощекотавший правое ухо:
— А ты, писатель, эгоист. Почему даму не угощаешь?
Я резко повернулся, расплескав питье, и увидел на царском ложе голую Изауру Петровну. Она жеманно улыбалась, глядя на меня предательскими глазами.
Господи, как же я сразу не заметил, подумал я.
ГЛАВА 16 ЛЮБОВЬ КУРТИЗАНКИ
Изумительное тело — пухлые груди, впалый живот, стройные ноги, бедра с таинственным изгибом, манящим в самую глубину… У меня с женщинами, как у человека, идущего в ногу с прогрессом, разговор короткий — или я ее имею, или вообще с ней не разговариваю. Но о чем разговаривать с женщиной (с современницей), если она водит за нос? При нашем нынешнем либерализме, когда девочек и мальчиков растлевают прямо в колыбели (на худой конец, в детском саду, а если дотянул до школы с непромытыми мозгами и в относительном целомудрии — это уже просчет, упущение наставников, за что лишают премиальных), так вот, при либералах — честь им и слава, — когда наконец–то все тайное стало явным и отношения между полами упростились до экономической формулы «товар — деньги — товар» и женщина озабочена лишь собственной ценой на рынке услуг, все–таки бывают исключения, противоречащие рыночной благодати. К примеру, Изаура Петровна предлагала возвышенную, бескорыстную любовь, иначе как расценить ее слова: «Мне ведь от тебя ничего не нужно, писатель, но меня бесит, как ты морду воротишь».
— Как ты сюда попала? — поинтересовался я.
— Это так важно?
— Ты уверена, что нас не слушают?
— Не считай меня идиоткой, не суди по себе.
— Хозяин не помилует, когда узнает.
— Поздно бояться, миленький.
— Почему поздно?
Этот разговор происходил уже после того, как мы выпили и Изаура по моей просьбе укрылась простыней, но
только до пояса. Я сидел рядом на кровати, и время от времени ее шаловливая ручонка опускалась на мое колено и норовила скользнуть к заветному месту. При этом я вздрагивал, как от тока. Вряд ли когда–нибудь прежде я чувствовал себя так неуютно с женщиной.
— Ты так ничего и не понял, писатель.
— Что я должен понять?
— Ничего не понял про нашего милейшего Оболдуя. Когда он что–нибудь покупает, то потом никому не оставляет ни кусочка. Ты был уже покойником, когда переступил порог этого дома.
— Надеюсь, ты преувеличиваешь. У нас с Леонидом Фомичом деловой контракт. Я не его собственность, просто пишу о нем книгу.
Изаура нервно рассмеялась.
— Книгу? Контракт? Какой ты наивный. У меня тоже с ним контракт. Брачный. Все как на Западе. Но, в отличие от тебя, я не строю иллюзий.
— Почему же согласилась стать его женой, если заранее знала, чем это кончится?
— Алчность, дорогой мой. И наша исконная надежда на «авось». Принеси–ка лучше еще выпить.
Я сходил к бару, вернулся, мы выпили и закурили. Пепельницу в виде ползущей черепашки Изаура поставила себе на живот.
— Хорошо, — заметил я глубокомысленно. — Пусть все так. Но объясни, зачем тебе понадобился я? Что за странная прихоть? Мало ли в доме молодых кобелей.
— У тебя бывают заскоки, писатель?
— Сколько угодно, и что?
— У меня тоже. Не выношу, когда мужик на меня не реагирует. Это меня старит. Я могла бы тебя изнасиловать, но лучше, если ты сделаешь это добровольно и с радостью. Витя, чего ты в самом деле из себя корчишь? Или ты голубой? Вроде не похоже.
— Слушай, а он тебя не хватится?
— Его нет, он в Москве.
— Как в Москве? Зачем же меня вызвал?
— Это я тебя вызвала, Витенька. — В затуманенных гла-
1 ПЗ
зах возникло выражение, которое можно сравнить с полетом потревоженной пчелы. — Чего тебя перекосило?
— Но ведь…
— Мальчик мой, да не дрожи ты так, никто тебя не тронет, пока меня не разозлил. Может, хватит языком молоть? Скоро утро, а мы еще не начинали. Учти, я намерена все сливки с тебя снять. Ну–ка, покажи своего петушка… Или нечем похвастаться?
— Может, все же не стоит?
— Стоит, милый, стоит… Да что же ты как деревянный!..
Она рывком сбросила простыню, и между нами завязалась нелепая борьба, из которой я временно вышел победителем с двумя болезненными укусами на плече. Чувствовал, силы на исходе. Безумная вакханка своего добьется, иначе быть не может. Ее кожа пылала жаром, пухлые губы раскрылись, как влажные лепестки на заре, она что–то неразборчиво бормотала, настраиваясь на упоительную победу. Вряд ли найдется мужчина, способный устоять перед таким напором, если он не паралитик. Правда, я, возможно, был хуже, чем паралитик, я был трус, но сейчас это уже не имело значения, мы оба это понимали.
— Подожди, Иза, — взмолился я. — Давай сперва еще по глоточку.
— Не спасет глоток, — уверила насильница. — Но если настаиваешь…
Очередная выпивка привела к тому, что я каким–то образом оказался снизу, а женщина меня оседлала, но я совершенно не чувствовал ее тяжести.
— Эй, — начиная задыхаться, проворчала Изаура Петровна из–под пышной шапки внезапно слипшихся волос, — не строй из себя мертвяка, а то больно будет…
После этого мы поскакали сразу галопом, и лишь первые светлые лучи, заглянувшие в окно, позволили мне отдышаться. Что она вытворяла, не берусь описать, стыдливость не позволяет. Единственное, в чем я абсолютно уверен, так это в том, что за ночь исчерпал энергию, отпущенную природой на целые годы. К сожалению, не могу утверждать, что Изаура Петровна осталась довольной. Она
лежала на спине с изнуренным, осунувшимся лицом, на искусанных губах застыла отрешенная улыбка.
— Что же, писатель, на троечку справился. Но еще надо учиться и учиться… Погляди, что там осталось в баре.
Я сполз с кровати, как, вероятно, новобранец опускается с крупа коня после сумасшедшей скачки. Ноги почти не держали, в башке стоял подозрительный гул. Однако полбутылки массандровского портвейна меня освежили. И у Изауры Петровны на бледных щеках проступили розовые пятна.
— Неужто, Витя, с этой молоденькой стервой тебе будет лучше, чем со мной?
Мой дремавший разум мигом включился.
— Постыдись, Иза. Знаю, теперь это модно, но я не педофил.
— Не придуривайся. — Она устроилась поудобнее, поднесла Массандру к губам, кровь к крови. — Объясни мне лучше, старой бляди, чем она мужиков приманивает. Клюют наповал, а с виду ни кожи ни рожи. Сю–сю–сю, одна амбиция. Инженю вшивая. Только не рискуй, Витя, погоришь. Хозяин ее для себя пасет. Или тоже не понял?
Злоба вспыхнула в ней, как сухой хворост, она враз подурнела.
— Тебе не пора? — спросил я. — День на дворе.
Спохватилась, улыбнулась вымученно. Но было видно, что припасла еще какую–то гадость. Я хребтом почуял.
— Витенька, херувимчик мой, а ведь я тебе важное забыла сказать. Отвлек своими домогательствами, ненасытный мой.
— Что такое?
— Ты когда вчера Гарика видел?
— Верещагина?
— Один у нас Гарик, вечная ему память.
— Что значит — вечная память? Шуточки у тебя не смешные, Иза.
— Какие уж тут шуточки. Суровая проза жизни. Был Гарик и нет Гарика. Кто–то петельку на шейку накинул и придавил прямо в ванной. На тебя, Витя, грешат.
— Что-о?! — У меня под сердцем похолодело. — Не верю.
Допила вино, потянулась по–кошачьи.
— Ой ты, шалунишка маленький… Я тоже сперва не поверила. Не может быть. Писатель, творческая, тонкая натура — и такое изощренное убийство ни в чем не повинного человека. Чем он тебе так досадил?
— Иза, прекрати комедию!
— Доказательства неопровержимые, жестокий мой. Часики у него оставил на ночном столике. И еще Гарик записку написал перед смертью, назвал маньяка. Ее Оболдую вчера доставили… Хочешь совета, родной мой?
— А-а?
— Ни в чем не признавайся. Скажи, к случке принуждал, а ты отбивался… Ну и нечаянно… Все знают, Гарик по этой части был неукротимый…
Она еще что–то нашептывала, издевательски гладя меня по голове и как–то подозрительно сопя, но я уже плохо слушал. Все это было нелепо, чудовищно, но я не сомневался, что это правда. Кто–то искусно меня топил. Но зачем, с какой целью?
— Давай, миленький, соберись, не отвлекайся, — горячечно бормотала Изаура. — Полакомься напоследок. Утренний стоячок самый клевый…
ГЛАВА 17 ГОД 2024. ПОЛКОВНИК УЛИТА
Изба не изба, дом не дом, шатер не шатер, а что–то вроде берестяной кубышки на бетонных ножках и с одним окном. Митя Климов и «матрешка» Даша медленно приходили в себя после психотропного шока. Сидели каждый на своем стуле и еще рядом с ними была кровать, застеленная лоскутным одеялом. На ней они оба проснулись. Одежда на них была прежняя, драная, но сознание замутненное. Час или два сидели молча, потом Даша сказала:
— Как хорошо, когда солнышко.
— Летом тепло, — согласился Митя. — Но зимой тоже неплохо, если печку растопить. Спинкой прислонишься, глаза закроешь — кайф!
— А я знаешь, о чем мечтаю?.. В баньке попариться. У нас, где я… Ой!
— Что «ой»? Комарик укусил?
— Не могу вспомнить. Про баню помню, а где это было, не помню. Не помнишь, Митя, где я раньше была?
— Откуда? — Митя пятерней почесал затылок, как когда–то делал его дед. — Меня другое беспокоит. Никак не пойму, где мы сейчас.
На самом деле они с Дашей особенно не тревожились, оба были в приподнятом настроении, в ожидании чего–то приятного, что должно вот–вот случиться с ними. Они не испытывали ни жажды, ни голода, ни каких–либо других сильных желаний. Казалось, могли просидеть на этих стульях хоть целую вечность. В берестяной капсуле они чувствовали себя как в материнской утробе. Митя зачем–то полез в карман брезентухи и с удивлением обнаружил там початую пачку сигарет «Голуаз».
— О-о, погляди, Дашка. Можем курнуть. У тебя есть огонек?
— Какой огонек, Митя?
— Ну, такой… чирк, чирк! Зажигалка или спички?
Даша обшарила себя, залезла глубоко в полотняные штаны, лоскутами висевшие ниже колен, и достала черную пластиковую штуковину с кнопкой и экраном, размером как раз со спичечный коробок.
— Что это, Митя?
Митя обследовал приборчик, даже понюхал.
— Да что угодно это может быть. Внимание. Нажимаю кнопку.
— Ой, — испугалась Даша. — Не надо, Митя. Вдруг взорвется.
Митя беззаботно рассмеялся: наивные девичьи страхи. Вдавил зеленый пупырышек, экран засветился и раздраженный голос произнес:
— Чего вам, ребята? Выспались, что ли?
— Видишь, типа рации, — авторитетно сообщил Митя, радуясь, что соображает. — А ты боялась.
— Спроси у него, спроси, — заспешила Даша.
— Что спросить?
— Да что–нибудь, какая разница.
Митя поднес коробочку к губам и строго потребовал:
— Кто ты? Жду ответа!
После шороха и потрескивания мини–рация, по–прежнему раздраженно, отозвалась:
— Включаю настройку. Проверка на вшивость. Не рыпаться, господа.
— Какая про… — заблажил Митя, но прикусил язык. Кубышка на курьих ножках завибрировала, через пол, через пятки потекло дурманное тепло, в помещении посветлело. Даша, постанывая, вцепилась в Митино плечо. Неприятные ощущения кончились так же быстро, как и начались: капсула замерла, свет потух, но результат был поразительный. У обоих сознание словно промыли ключевой водой.
— Дозу, что ли, впендюрили? — хмуро предположил Митя. — Ты как?
Даша смущенно улыбалась.
1S»
— Кажется, кончила, Митя.
— Паршивой куме одно на уме, — начал Митя, но его перебил голос из коробочки:
— Готовность установлена. Реакции в норме. Выходи по одному, молодежь.
Что имелось в виду, стало понятно, когда узкая дверь в стене отворилась и в проем хлынул чистый лесной воздух, наполненный множеством знакомых звуков. Митя спрыгнул на землю — ступенек и крыльца у капсулы не было — и протянул снизу руку «матрешке». Неожиданный, учтивый жест из какого–то далекого прошлого. Даша с улыбкой оперлась на руку мужчины, хотя и раскраснелась.
Двух шагов не отошли, как из–за деревьев появилась загадочная фигура. Кривоногий, подбористый мужичок с обветренным, иссеченным шрамиками лицом, одетый не по–летнему и не по–русски — в короткой кольчужке, сверкающей начищенными латунными звеньями, в кожаных штанишках до колен, в меховых унтах. Кудлатая голова не покрыта, на поясе клинок с наборной рукоятью в расписных ножнах. Даша спряталась за Митину спину.
— Не боись, — успокоил мужичок простуженным голосом. — Я свой. Егоркой кличут. Велено проводить.
— Куда проводить? — спросил Митя.
— К батюшке–полковнику на правеж.
— А где мы, Егорка?
— Того знать не положено.
Пока пробирались едва зримой лесной тропой, Мите чудилось, что их отовсюду сопровождают чьи–то зоркие глаза. Он еще сделал несколько попыток разговорить проводника, но безуспешно. Мужичок был настроен дружелюбно, контактно, но на большинстве вопросов его словно заклинивало. При этом он не производил впечатления измененного. Может быть, был даже нормальнее всех тех редких нормальных, нетронутых, кого Мите изредка доводилось встречать в прежней скитальческой жизни. Прежде всего это выражалось в открытой и простодушной улыбке, измененные так не умели смотреть. Они лыбились, кривились, ухмылялись, но всегда с опаской, с настороженностью, без знака дружбы. Егорка улыбался по–человечески, беззаботно, с любопытством и приветом. Но все же его кли- нило, а это верный знак поврежденной психики. Присмиревшая Даша тоже попробовала выведать у него хоть какую–то информацию. Льстиво поинтересовалась:
— Егор–джан, куда вы все–таки нас ведете с Митей?
— К полковнику, девица, куда еще.
— Кто такой полковник? Большой человек, да?
— Полковник — он и есть полковник. Улита Терентьич. Кого хошь спроси.
— Он, раз полковник, командует кем–то?
— А как же. Дружина у него. Я тоже в ней состою. Гонец по особым поручениям.
— Это мы с Митей — особое поручение?
— Не наше дело, — засбоило мужичка. — С вами без нас разберутся.
— Убьют, да?
Егорка сбавил шаг, поглядел с удивлением.
— Почему убьют? Необязательно. Смотря какая вина. Может, помилуют. Бывает, и наградят.
— Выходит, судить будут?
— Скажешь тоже, девушка. Не такая ты величина, чтобы судить. Определят по анализу.
— Полковник определит, да?
Очередной сбой с синей вспышкой в глазах и все тот же неопределенно–глуповатый ответ:
— Нам неведомо, кто определит. Сказано — на правеж, значит, на правеж… Ух ты, мать честна!
Возглас относился к крупному пушистому зверьку, похожему на рысенка, выкатившемуся Егорке под ноги. На Митю и Дашу зверек угрожающе рыкнул, потом заскакал вокруг мужичка, как припадочный.
— Ну хватит, хватит, Петюня. — Мужичок беззлобно отбивался от назойливых прыжков, зверек норовил то ли лизнуть, то ли укусить в губы. — Поозоровал — и баста. Отрыщь, тебе говорят!
— Кто это? — спросил Митя. — Мутант?
— Сам ты мутант, — неожиданно обиделся Егорка. — Поостерегись в другой раз, пришелец, Петюня не всегда ласковый.
Зверьку тоже не понравилось, как его обозвали, он задержал на Мите продолжительный, изучающий взгляд.
— Да я без намека, — смутился Митя. — Для меня все животные братья родные.
— Сам ты животное, — еще больше построжал Егорка — и надолго замкнулся, не отвечая ни на какие вопросы, будто оглох.
Шли часа три буреломом, потом тропа перетекла в узкий, хорошо утрамбованный тракт с отпечатками гусениц- волокуш. Рысенок Петюня, трусивший рядом с проводником, забежал вперед, плюхнулся на задницу и коротко, жалобно взвыл. Егорка потрепал его по холке, и они любовно потерлись лбами.
— Дальше ему нельзя, — пояснил Егорка попутчикам. — Ничего, Петюня, не навек расстаемся.
Петюня остался на дороге и с укоризной глядел им вслед, пока тропа не свернула.
— Какой хорошенький, — пожалела Даша. — Господин Егор, почему ему нельзя с нами?
— Петюня стиховой, а там соблазнов много. — Мужик сам явно был огорчен, что пришлось оставить зверя. — Никакой я тебе не господин, девушка. У нас господ нету, все равнозначные.
Вскоре лес кончился и прямо перед ними, в излучине реки открылось поселение. Отсюда, с бугорка, оно было видно как на ладони. Десятка четыре неровно разбросанных изб, огороженных общим высоким забором да еще окольцованных рвом, похожим издали на черную свернувшуюся змею. Среди изб выделялось двухэтажное здание из кирпича, вдруг напомнившее Мите родной многоквартирный барак в Раздольске.
Их впустили в городище через узкую, обитую железными пластинами дверь сбоку от деревянных ворот, в которые упирался дощатый настил. Двое стражников, одетые так же причудливо, как Егорка, да еще вооруженные музейными арбалетами, поочередно с ним обнялись, хлопая по спине, как после долгой разлуки. На Митю с Дашей лишь повели раскосыми очами, а один вдобавок сплюнул в их сторону. И позже, когда шли по улице, на них подчеркнуто не обращали внимания, хотя людей в палисадниках, на грядках копошилось изрядно: преимущественно пожилые бабы да малые ребятишки, мужчин не было видно. Бабы выпрямлялись от земли, весело окликали Егорку, поздравляли с благополучным возвращением, будто он прибыл с того света, а на попутчиков взглядывали, как на пустое место. Все это было немного странно. Весь поселок затронул в Мите какое–то давнее воспоминание, будто выплывшее из ночного сновидения. По Дашиному лицу он видел — она тоже испытывает что–то подобное. Можно было предположить, что они очутились в голографическом мире, если бы не вполне осязаемые запахи и звуки. Митя сорвал яблоко с дерева, перекинувшего ветки через штакетник, надкусил, дал попробовать Даше. Яблоко было настоящее, незрелое, кислый сок обжег гортань, усилив стократно ощущение, что все это уже было с ним когда–то: низкие, закопченные избы, похилившиеся оградки, картофельные и овощные плантации… и, главное, свежие голоса и обветренные лица женщин… Где было, когда было, да и было ли вообще…
— …Что ты сказала? — переспросил он Дашу.
— Не знаю, — испугалась она. — Горе–горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело.
— Какое горе? — разозлился он. — Не каркай, накличешь еще.
— Митенька, мне страшно. Как будто, как будто…
На кирпичном доме над дверью полыхал чудной плакат: суровая женщина с взволнованным лицом, в распахнутом платке на темных волосах, грозила пальцем прохожему. На плакате грозная надпись: «Ты записался, сволочь, в военно–морской флот?»
На каменном крылечке восседал здоровенный детина в тельняшке, с непримиримым лицом. Подождав, пока они приблизились, детина ловким движением выдернул из–за спины звуковой ускоритель. Митя от удивления аж глазами заморгал. Он знал, как действует эта продолговатая черная штука, похожая на полицейский жезл. Если детина чокнутый, от них с Дашей останется только голубоватый дымок.
— Стой, кто идет! — рявкнул детина.
— Не дури, Тимоха, — засмеялся гонец–порученец Егорка. — Оставь свои хохмы для клуба. Полковник на месте?
— Ничего не знаю, — не сдавался страж. — Говори пароль. Стреляю без предупреждения.
— Счас так стрельну, — окрысился Егорка, — язык проглотишь.
После этого детина смягчился, убрал ускоритель за спину, заискивающе прогудел:
— Куревом не богат, Егорий?
— И было бы, не дал. Ишь, шутник. Мало вас песочат, все бы лемеха крутить. А у нас дело срочное.
— Проходи, коли так. — Детина отстранился, толкнул дверь ногой, но, когда протискивались мимо, успел прихватить Дашу за бочок.
Полковник Улита принял их в обыкновенной комнате с одним окном и почти без мебели — тесаный стол с компьютером, три табуретки да деревенские полати поперек стены, — и если Митя ожидал увидеть одного из тех головорезов, чьи портреты красовались на расклеенных по Москве листовках с надписью: «Враг свободной России. За укрывательство — смертная казнь», то здорово ошибся. На полатях сидел человек преклонного возраста, предельно изможденного вида и с таким выражением в запавших глазах, что сидеть ему трудно и он сейчас ляжет, за что заранее просит прощения. Но вокруг реденьких кудрей Митя различил характерное свечение, знак высшей принадлежности; из всех встреченных Митей прежде людей таким знаком обладал лишь Истопник, но у того аура не имела такой упругой насыщенности. У Мити сердце оттаяло: больше не надо хитрить и изворачиваться. Дошел.
— Именно так, Климов, — подтвердил его мысли полковник Улита. — Дошел, и, полагаю, это было не так–то легко… Что ж, располагайтесь, детишки, разговор будет долгий. А ты ступай себе с Богом, Егорка.
Гонец–порученец склонился в почтительном поклоне и приложился губами к желтоватой, точно древесный слиток, руке старика. Митя воспринял увиденное как должное, как что–то вполне естественное, но Даша испуганно ойкнула. Полковник с улыбкой обернул к ней страдальческий лик.
— Ишь как изломали тебя окаянные. Ничего, дай срок, вернется покой в твою душу.
Даша, не выпуская Митиной руки, опустилась на табуретку.
Егорка, пятясь, покинул комнату, и полковник снова заговорил. Его голос звучал как течение глубоководной реки; серебристое сияние над головой покачивалось и меняло очертания, словно поддуваемое ветерком. Он поздравил их с тем, что они находятся в зоне отчуждения, где не действует власть супостата. Если они не таят в сердце зла, то бояться им больше нечего, у них будет время, чтобы заново понять смысл земного бытования и самим решить свою дальнейшую судьбу.
К Даше он обратился отдельно и сказал нечто такое, от чего «матрешка» зарделась, как маков цвет.
— Беду твою вижу, девушка, но шибко не кручинься. Любовь все превозмогает.
Даша метнула быстрый взгляд на Митю.
— Любовь тут ни при чем, господин Улита. Это физиология. С ней не поспоришь.
— Про умные слова забудь, они для того придуманы, чтобы правду темнить. Пятерых детишков родишь, помяни мое слово. Нам солдатиков много понадобится.
После этого Даша затуманилась и умолкла, а Митя остро ощутил, что наступил час откровения и, если он им не воспользуется, другого раза может не быть.
— С детишками понятно, господин полковник, — сказал он с вызовом. — И с любовью тоже. А со мной что будет, хотелось бы удостовериться.
— Наскучило вслепую жить, отрок? — усмехнулся Улита.
— Давно наскучило, — согласился Митя.
— Спешить не надо. Сперва доложи, что в клюве принес? Что велел передать Истопник?
— Зачем спрашиваете? И так ведь знаете. Вы же всю информацию слили.
— Нет, Митя, не всю. Твой Димыч не дурак. Он предусмотрел, что можещь в нехорошие руки попасть. Кое–что заблокировал намертво.
— Разве такое возможно?
— Почему нет? Чужая душа потемки. Наука вершки соскребла и почила на лаврах. Но много в человеке такого, что ей неподвластно. И никогда подвластно не будет. Ты, Митя, лучше ответь на мой вопрос, не тяни.
Сияние над головой полковника потускнело, почти исчезло, но что это означает, Митя не знал.
— Не гневайтесь, господин Улита, — ответил он в тон допросчику, — но если вы впрямь о чем–то не дознались, значит, Димыч не зря подстраховался. Мне велено до Мар- фы–кудесницы добраться, ей лично передать весточку. Кем буду, если нарушу указ?
— Будешь кем и есть, отрок. Странником всесветным.
Митя затаил дыхание.
— Что за странник такой? По этапу погонят?
— Странник — это не путь, а судьба. Она дается не по достигнутой цели, по неизбежному промыслу. Не по уму и заслугам, по вере сердечной.
— Путано. Не понимаю.
— Значит, не созрел, чтоб понять… Теперь о Марфе Ильиничне. Ее увидишь, но вряд ли узнаешь. У ней много обличий, и открывается ее суть не всем. Говори, чего принес, не сомневайся. Дойдет по назначению.
— Митька, — вмешалась очнувшаяся Даша. — Хватит дурачиться. Спрашивают, отвечай.
Он видел, что «матрешка» полностью подпала под чары полковника. Лицо отрешенное, как у бредящей. В глубоких очах ледяной восторг. Там детишки нерожденные скачут. Это его разозлило.
— Не знаю, кто вы, господин Улита, но уж больно ловко управляетесь с нами. Нет, мое слово твердое. Или Марфе, или никому.
— А коли скажу, что я и есть та самая Марфа?
— Не поверю, — ответил Митя.
— И правильно сделаешь, — одобрил полковник.
Он стал слезать с полатей, да зацепился ногой за половик и чуть не грохнулся на пол. Митя успел подхватить. Тельце легкое, как у девушки, но в ладонях ощутил ожог.
— Вам плохо, полковник?
— Погоди, не суетись. — Старик высвободился из его рук, доковылял до стола. Там, кроме компьютера, стоял какой–то прибор наподобие электрического чайника, с прозрачным сосудом, наполненным чем–то голубоватым — жидкостью или паром. Полковник подобрал витой проводок от прибора, свободный конец сунул в ухо, как штепсель в розетку. Щелкнул тумблером, прибор заурчал, жидкость в сосуде вспенилась и помутнела, зато сияние над белыми прядками старика, уже еле заметное, озолотилось и обрело ровные очертания. Лицо посвежело, глаза заблестели. Даша привычно ойкнула, Митя отвесил ей легкий подзатыльник, на него самого нахлынуло подозрение: человек ли Улита, не биоробот ли? По прежнему опыту знал, как их трудно различить. Первую партию биороботов (пилотную) миротворцы запустили в народ с десяток лет назад, но те были несовершенной конструкции, и хотя внешне походили на обыкновенных руссиян, у них имелись отличительные признаки, по которым мужики раскалывали их элементарно. К примеру, если биоробот забредал в пивную, а они там большей частью и околачивались, то стоило ему лихо осушить кружку суррогата, как в башке щелкал неотрегулированный клапан и сразу становилось ясно, кто это такой. Чтобы убедиться, что нет ошибки, следовало подойти сзади и хорошенько хрястнуть по позвоночнику, от чего у биоробота происходило короткое замыкание, он дрыгал всеми конечностями и вопил одно и то же: «Сдавайся, русс, ты покойник!» Впоследствии их усовершенствовали, скрестили с клонами, так что нынешние биороботы и по эмоциональному настрою, и по утробным проявлениям ничем не отличались от аборигенов. В городах они занимались сбором информации (списывали с подкорки), и, в принципе, даже длительный контакт с биороботом был неопасен, но, естественно, до определенного предела. Фирмы–производители этих тварей, дабы избежать лишних потерь (штука–то дорогая), снабдили их мини–аннигиляторами, которые включались автоматически при малейшей угрозе разрушения микросхем. В этом смысле особенно нежелателен был половой контакт с биороботом–самкой, от коего самый смышленый туземец не был застрахован. Изготовители для куража придавали своим изделиям облик самых неотразимых супергерлз…
— Нет, нет, — успокоил полковник Улита, — это совсем не то, что ты подумал, отрок. Обыкновенная подзарядка.
— Люди так не подзаряжаются.
— Нужда заставит… последствия операции, — смущенно признался полковник. — Трансплантация жидких кристаллов в мозг.
— И где вам ее сделали? В соседней избе? Егорка оперировал?
Старик, покряхтывая, взобрался обратно на полати, обратил на него незамутненный, как у младенца, взор.
— Ты вправе усомниться, отрок, но ты еще ничего не знаешь.
— Что я должен знать? По–моему, господин Улита, вы водите нас за нос. Зачем? Мы и так в вашей власти.
— Как не стыдно, Митька?! — вспыхнула Даша.
Старик успокоительно поднял палец.
— Вспомни изотопную ловушку, Митя. По–твоему, ее тоже сделали в соседней избе? Хорошо ли, худо ли, но мы не дикари, хотя стараемся, когда можно, жить по старинке, в единении с природой и по заветам предков. Давай вернемся к этому разговору через несколько дней. Сейчас грустное сообщение, дети мои. На какой–то срок вам предстоит расстаться.
Молодые люди переглянулись.
— Как это расстаться? — пролепетала Даша. — Я не могу без Мити, — и в подтверждение повисла у него на руке.
— Ничего страшного, — уверил полковник. — Поживешь с женщинами, переймешь наши обычаи, даст Бог, покрестим тебя… Аты, отрок…
— Нет! — завопила «матрешка» и внезапно бросилась на старика, выставив руки с растопыренными пальцами. Немного не добежала, что–то словно ударило ее сзади под коленки: она перегнулась и рухнула лбом в половик.
Митя как сумел объяснил поведение подруги.
— Она в «Харизме» работала, у нее стойкий эмоциональный крен. Пощадите, господин Улита. Это не бунт.
— Не беспокойся, ничего худого не случится. — Старик щелкнул пальцами, в комнату вошли две пожилые бабки крупного телосложения в серых, под брови, одинаковых платках и, кажется, с одинаковыми лицами, как у близняшек. Ни слова не говоря, одна взвалила обеспамятовав- шую «матрешку» на плечо, вторая облобызала руку Улиты.
— На Белое подворье, — напутствовал полковник. — Кликните Устину–печальницу. Пусть побеседует с ней подольше. После к работе приставьте.
— Будет сделано, батюшка, — отозвались хором бабки, и первая ухитрилась поклониться даже с ношей на плече.
— С тобой, Митя, проще, — обратился к Мите старик, потряхивая серебряной аурой, как длинным козырьком. — Не хочешь открыться, твое дело. Но прежде чем стать на довольствие, придется искус пройти.
— Какой искус? — взмолился Митя. — О печку башкой? Отдохнуть бы да пожрать с дороги.
— И пожрешь, и отдохнешь, но не сразу. Искус легкий, необременительный. Испытание огнем. Для дружинника — детская забава. Кровь у тебя плохая, Митя, микроб в ней импортный. Повечеру запалим святой огонь и на виду у честного люда шагнешь в костер. Хватит духу?
— Лишь бы у вас ума хватило, — дерзко отозвался Митя. У него на душе стояла черная муть. Заполошный голос «матрешки», ее отчаянное «Неет!» звенело в ушах. Он стыдился показать свою слабость Улите. Чувствовал себя так, будто могучие бабки вырвали у него печень и унесли с собой.
ГЛАВА 18 ПАШИ ДПИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЧЕТА
«Из школьной хроники. Ленчик Оболдуев староста 7‑го «Б». Зачатки общественного темперамента. Его любят учителя, ему беспрекословно подчиняются одноклассники, за исключением Васьки Кутепова. Васька — хулиган, бузотер, плохой мальчик пролетарского происхождения. Родители: отец — слесарь, алкаш, мать — поломойка, алкашка, при случае промышляет проституцией, но украдкой. Времена дикие, коммунячьи, проституция под официальным запретом. Правда, под давлением прогрессивной западной мысли разрешены аборты. Любовь к Оболдуеву учителей отчасти объясняется высоким положением его отца: Оболдуев–стар- ший — крупный министерский чиновник (впоследствии инструктор ЦК партии). Несколько попыток образумить хулигана Кутепова, неудачные. Васька избивает двух девочек, подкладывает учителю физики в портфель дохлую крысу, грозит самому Ленчику оторвать ему все яйца. Частичное исполнение угрозы: побои в туалете. У Ленчика Оболдуева выбиты два зуба. Стойкий интеллигентный мальчик никому не жалуется. Пробует еще раз договориться с хулиганом по–хорошему. Объясняет, что его могут отчислить из школы и тогда ему прямой путь в колонию. Вторичные побои на заднем дворе школы. Побои сопровождаются глумом. Для расправы над отличником и старостой хулиган приглашает двух уличных дружков, и они втроем мочатся в ранец Оболдуева. Ленчик огорчен. Его самолюбие страдает оттого, что он ничем не может помочь озорнику. Виноваты гены, среда. Наконец он испытывает последнее средство. Просит Кутепова задержаться после уроков и предлагает сделку. За каждый день, проведенный в школе без замечаний, рубль премиальных. Кутепов, думая, что над ним издеваются, пытается выбить Ленчику глаз. Это ему не удается. Ленчик выдает аванс — пять рублей, сразу за пять дней вперед. Хулиган ошеломлен. Что ж, можно попробовать, бормочет, растроганный. Начинает понимать, как ошибался в «папином сыночке», возможно, впервые сталкивается с человеческой добротой и бескорыстием. Ему тревожно. «Тебе–то, гаденыш, зачем это нужно?» Ленчик отвечает уклончиво: дескать, честь класса и прочее такое. Он верит, что в глубине души Кутепа хороший, смышленый мальчик и может учиться на одни пятерки. Сделка заключена. В отпетом хулигане начинается процесс духовного возрождения, катарсис. С помощью Ленчика он постепенно изживает свои недостатки: садизм, коварство, онанизм, склонность к надругательству над святыми для каждого пионера понятиями. К седьмому классу они лучшие друзья. Кутепов становится его телохранителем и слугой. Побеждает на районной олимпиаде по математике…»
Я поинтересовался у Леонида Фомича, как сложилась в дальнейшем судьба Васьки. К сожалению, не слишком удачно. Поступив в институт, Леонид Фомич потерял его из виду, но стороной узнал, что бедный Кутепа, лишившись духовного наставника, связался с дурной компанией, колобродил, кого–то зарезал в пьяной драке, и впоследствии следы его затерялись в местах отдаленных. «Может, верно сказано, черного кобеля не отмоешь добела, но я до сих пор чувствую ответственность, испытываю вину за несложив- шуюся судьбу этого, в сущности, талантливого паренька. Времена были глухие, не забывай, Виктор. В свободной стране Кутепа мог сделать приличную карьеру, кем угодно стать — и бизнесменом, и депутатом. Да вот не сложилось, сгорел, и водка сгубила…»
Хороший эпизод. Вполне годный для первой главы жизнеописания. Таких у меня набралось достаточно. Я исписал уже три толстые тетради, простой шариковой авторучкой. Никаких компьютеров, прихоть гения. Но по–прежнему никак не мог уловить общей интонации. Именно общей. Естественно, разные главы, в зависимости от содержания,
потребуют оттенков — от патетики до иронии, — но сквозной звук–мелодия… Трудность заключалась еще в том, что интонация не должна быть моей собственной, отражающей неповторимый, как отпечатки пальцев, литературный почерк, а принадлежать главному персонажу, выражать его сущностные характеристики. Это совершенно необходимо, если подходить к работе добросовестно, не настраиваясь на художественную поделку… Имитация душевного стиля — вот как это можно назвать.
Спросонья, не открывая глаз, я тешился привычными мыслями, но негромкий стук в дверь вернул меня на землю. Надо заметить, возвращение было малоприятным. Инстинктивно я покосился на подушку, где час назад возлежала прекрасная Изаура, сколупнул пальцем с наволочки длинный черный волос, будто поймал крохотного ужика. Стук повторился настойчивее. Я раздраженно крикнул: «Да кто там в такую рань? Сейчас иду!» — и спустил ноги с кровати. Оказалось, не час я проспал, было позднее утро, около одиннадцати.
На пороге стоял управляющий Мендельсон в своей забавной шотландской юбочке, седовласый и напыщенный. — Поздоровавшись и извинившись за вторжение, сообщил:
— Вас ждут-с, Виктор Николаевич. Извольте поторопиться.
По его лицу я попытался понять, какой мне уготован приговор; это было все равно, что гадать по ромашке.
— Кто ждет, Осип Федорович?
— Леонид Фомич к себе требуют.
— Он здесь? Когда приехал?
— Пять минут назад — и сразу распорядился.
— Что–нибудь еще говорил?
— Полюбопытствовал, не захворали ли.
— С чего это я должен хворать?
— Обыкновенно рано встаете, а тут почивать изволите. Он и усомнился.
— Хорошо, сейчас буду, только умоюсь. Где он ждет?
— В овальном кабинете, Виктор Николаевич… Позвольте дать совет.
— Да?
— Уж не затягивайте с умыванием. У хозяина, как мне показалось, не самое благоприятное настроение.
Дружеское предостережение и, возможно, сделанное без задней мысли, но, увы, запоздалое.
— Не в курсе, Осип Федорович, отчего у него испортилось настроение?
— Так вы не знаете? Давеча Гарий Наумович, безгрешная его душа, изволил преставиться при загадочных обстоятельствах. Оттого и переполох.
Мендельсон скорбно потупился, но не совсем справился с лукавой улыбкой. Я изобразил крайнее изумление, а затем горе — на уровне мхатовских подмостков. Во всяком случае, надеялся.
— Что?! Как преставился? Да мы вчера с ним беседовали…
— То было вчера, — философски заметил управляющий. — А ныне бедолага уже не с нами. Вряд ли теперь побеседуете.
Все же что–то он недоговаривал, излишняя словоохотливость его выдавала, но у меня не было охоты выяснять.
— Через минуту буду, — сказал я и захлопнул дверь.
В ванной комнате присел у зеркала, разглядывал свое осунувшееся, опухшее после ночи любви лицо и пытался угадать, что происходит. Куда меня занесло и, словами поэта, мой конец близок ли, далек ли?
По роже видно было, что близок, но сердце вещало другое. И если уж признаваться во всем, я был полон сладостных воспоминаний. Безумная Изаура задала жару, но попутно словно вернула мне давно утраченную уверенность в себе.
В конце концов, истинная беда всегда меньше воображаемых страхов. Даже если Леонид Фомич разочаровался во мне и решил дать отставку, то, насколько я его узнал, он не станет спешить, постарается выжать из ситуации максимум удовольствия. Гурман во всем, и в наказании провинившихся людишек он больше наслаждался приготовлениями, чем самой расправой.
Однако стоило мне переступить порог кабинета, как все утешительные соображения рассыпались прахом. Таким я его еще не видел. Огромные уши торчком, бледные, обычно бесцветные глаза выкатились на середину лица и пылают праведным гневом. Низкорослый и корявый, весь он напоминал (чудная ассоциация) лесной пень с буйно расцветшей верхушкой. Но еще проступило в нем что–то по- мальчишески обиженное, когда, скрестив руки на груди, он скорбно прогудел:
— Зачем ты это сделал, Витя? Заметь, пока не спрашиваю как, а спрашиваю — зачем? Ты разве не знал, кем был для меня Гарик?
— Вашим юристом?
— Нет, Витя, не только юристом. Гарик верой и правдой служил мне двадцать лет и стал как бы заместо сына. Можешь ты это понять, отчаянная твоя голова?
Смелое заявление, если учесть, что покойный (покойный?) Гарий Наумович старше Оболдуева лет на десять.
— В чем вы меня обвиняете, Леонид Фомич?
— Смеешь спрашивать? — Оболдуев придвинулся ближе, и я смотрел на него как бы сверху вниз, что было по меньшей мере неучтиво. — Выходит, для писателя убийство пожилого, беспомощного человека такой пустяк, что не о чем и говорить? Виктор, ты меня ужасаешь.
Большой актер в нем пропадал. Он так талантливо разыгрывал сценку по собственному сценарию, что я охотно подыграл бы, если б знал, какой реплики он ждет.
— Леонид Фомич, вы прекрасно понимаете, все это сущая нелепость. Кого я мог убить? Не верю, что вы говорите всерьез. Да, я встречался вчера с Верещагиным, мы вместе допрашивали господина Пенкина, вернее, я присутствовал на допросе. Оттуда сразу поехал домой. Это легко проверить.
Оболдуев плюхнулся в кресло, делая вид, что задыхается от возмущения. Теперь я смотрел на него не просто сверху вниз, а как бы с горы. Но сесть без приглашения не решался. Испытывал лакейскую оторопь, род недуга.
— Уже проверили, Витя, уже проверили, — сообщил он с трагической ноткой. — В его квартире твои вещи, часы и прочее, и повсюду твои отпечатки. Мне стоит снять трубку, и тебя запрут в камеру. Но сперва хочу выяснить подробности. Что побудило? Есть же хоть какие–то причины для такого кошмарного злодейства? Ты ведь не маньяк?
— Нет, не маньяк. Но совершенно не понимаю… Если вы решили избавиться от меня, к чему такие сложности?
— Избавиться? От тебя?
— А что еще можно подумать? Леонид Фомич, мы заключили договор, что я напишу книгу. Ни о чем больше. Скажу прямо, работа продвигается успешно, и…
— Погоди о книге, есть вещи поважнее.
— Потом начались все эти поручения, нисколько не относящиеся к делу. Хорошо, допустим, чтобы узнать вас получше, имело смысл познакомиться с вашим бизнесом, но история с господином Пенкиным — это вообще что–то запредельное. Театр абсурда. Я даже не уверен, что все это мне не померещилось. Ведь именно Гарий Наумович требовал… ох, да вы сами все знаете.
— Ну–ка присядь, Витюша… Что я должен знать? Что от тебя требовал Гарик?
Я опустился на стул, чувствуя, как к горлу подступил липкий комок. Уж больно изощренно он издевался, его растерянность казалась абсолютно неподдельной. Хотя я мог дать голову на отсечение, что сцену допроса Оболдуев (при желании) еще вчера просмотрел по видику.
— Гарий Наумович склонял меня к тому, чтобы вколоть яд господину Пенкину, — доложил я обреченно.
— Ах, вот как? За это ты его кокнул?
— Кого?
— И как только справился, откуда сила взялась? Подвесить в ванной на крюк! Да в нем, поди, живого весу было пудов семь. А ты с виду не такой уж богатырь…
— Леонид Фомич, позвольте…
— Нет, голубчик, не позволю… Напрасно ты затеял со мной в кошки–мышки играть. Ежели хочешь внушить, что был невменяемый и ничего не помнишь, то симулянт из тебя, Витя, никудышный. Лучше бы признался как на духу, так, дескать, и так, не было другого выхода… Ну?!
Выпученные глаза гипнотизировали, под их неумолимым напором я словно погрузился в некую фантасмагорию и уже готов был взять на себя не только вымышленную вину, но заодно и убийство Джона Кеннеди, случившееся до моего рождения. Поддавшись искушению, я едва не последовал совету Изауры Петровны. На языке так и вертелось, что коли уж на то пошло, то ваш прекрасный Гарик чуть меня не изнасиловал, и вот в порядке самозащиты… Вертелось, да не сорвалось. Мысли смешались, я натурально онемел.
Несомненно, Оболдуев видел, в каком я состоянии. Он благодушно почесал живот, потом поднялся и сходил к бару, принес бутылку нарзана. Пока ходил, я отдышался и вернул себе крупицу самообладания. Подумал, что, вероятно, Оболдуев, как и другие люди, подобные ему, оказавшиеся победителями в процессе естественного отбора, обладают, должны обладать незаурядным даром воздействия на простых смертных, подобных мне, мучимых всевозможными комплексами и фобиями. Управляются с нами, как с кроликами. И все же не укладывалось в голове, что весь этот спектакль он затеял только от скуки. Наверняка преследовал какую–то иную цель, неведомую мне. Но какую — вот вопрос.
Оболдуев вернулся в кресло, нацедил нарзану в хрустальный стакан и, морщась от пузырьков, отпил сразу половину мелкими глотками, плотоядно причмокивая. На меня глядел с укоризной, но без прежнего возбуждения и гнева, похоже, горе от потери любимого сына Гарика немного поутихло.
— Ладно, Витя, сделанного не воротишь, жмурика, как говорится, не воскресишь, надо как–то дальше жить. Правда, не понимаю, как ты сможешь жить с таким пятном на совести… — Он опять чуть было не завелся, но взял себя в руки, отпив водички. — Денежки, Витя, придется вернуть.
Чутко улавливая его настроение, я воспрянул духом, но от последней фразы едва не свалился со стула. Как обухом по голове.
— Какие денежки, Леонид Фомич?
— Будет тебе, Витя, здесь все свои… Кстати, откуда узнал про тайник?
— Я… я…
— Ты, Витя, ты, больше некому. Ровно полтора лимона в пятисотдолларовых купюрах. Зря на них позарился. Это плохие деньги, хотя и отмытые. Они ворованные, Витя. Он их у меня украл.
— Леонид Фомич, вы же сами сказали, заместо сына…
— Да, Витя, именно так… — Скорбь в его голосе приобрела вселенский масштаб. — Кто же нас предает, как не близкие наши. Дети, друзья, компаньоны… Никому нельзя верить в наше время, хоть бы и матери родной. Обязательно продадут с потрохами… Так где, говоришь, спрятал чемоданчик? Небось, в банке ячейку забронировал, как в кино показывают?
Кто–то из нас, безусловно, был сумасшедший, и скорее всего, если трезво все взвесить, им был я, а не он.
— Все–таки мне кажется, вы меня разыгрываете, Леонид Фомич. Не могу представить, чтобы вы верили в то, что говорите. Я убил Верещагина? Забрал у него деньги? Ведь это все чушь собачья. Ведь не можете вы в действительности…
— Какой уж тут розыгрыш, Витя. Шутка ли, полтора миллиона. Беда наших интеллигентов в том, что сами заработать копейки не умеют, зато хапнуть на халяву всегда готовы. Но если начистоту, от тебя не ожидал. Талантливый молодой человек с большим будущим — и польстился. Вообще, зачем тебе такие деньги, милый? Что намерен с ними делать? Солить, что ли?
— Вы правы, мне такие деньжищи ни к чему. Ни ворованные, ни какие другие.
— Вот и отдай подобру–поздорову. А уж там решим, как дальше быть.
Мы глядели друг на друга, будто в беспамятстве. Будто стопор на обоих нашел. У меня мелькнула мысль, что он вдруг сейчас расхохочется и мы сумеем как–то поладить. Весь этот бред забудется — и вернемся к разговору о книге. Но не тут–то было.
— Дело даже не в деньгах, как сам понимаешь, — тряхнув головой, будто отгоняя мираж, продолжал Оболду- ев. — Я не самый нуждающийся в России человек. Больше того, если бы ты, Витя, подошел по–человечески, объяснил, что тебе без этого миллиона просто зарез, возможно, я понял бы тебя. Знаешь, сколько у меня уходит на благотворительность? А должен бы знать, как литератор… Повторяю, не в деньгах дело, в принципе. Нельзя позволять запускать себе руку в карман, даже если симпатизируешь человеку. Пойми меня правильно. Против тебя лично я ничего не имею. Вернуть деньги — тебе самому на пользу. Скажи, милый, о чем ты можешь писать, что хорошего можешь сказать людям, если нарушаешь Божьи заповеди, которые гласят: не убий и не воруй? Или ты сатанист?
Его серьезный, наставительный тон произвел какие–то чудные превращения в моем мозгу. Слезы подступили к глазам. Я был на грани того, чтобы признаться во всем и умолять о прощении, лишь бы он прекратил изуверство. Видимо, гипноз продолжался, но вышел на новый уровень.
— Я не сатанист, но у меня нет этих денег.
— На нет и суда нет, — с неожиданной легкостью согласился Оболдуев. — Значит, напишешь, Витя, расписочку и будешь выплачивать по частям. Что–то отработаешь. За книгу вычтем гонорар… Ну и так далее.
— Не хочу, — прокукарекал я.
— Чего не хочешь, Витюша?
— Не хочу никаких расписочек, ничего не хочу. И книгу больше не хочу писать. Отпустите меня, Леонид Фомич. Ну, право, на что я вам сдался?
— Не понял? — искренне удивился магнат. — А как же контракт?
— Расторгнем. Заплачу неустойку.
— Нет, Витя, так не бывает… — Будто спохватившись, он взглянул на меня, на бутылку, где еще плескалось с палец. — Попить хочешь нарзану?
Тоже элемент издевки и гипноза, но какой–то неуловимый.
— Нет, благодарю.
— Так, Витя, не бывает. Такие контракты, как у нас, расторгает суд, а что ты там скажешь? Дескать, погорячился, убил старичка–юриста… Кстати, чувствуешь ассоциацию с Раскольниковым? Старичок, старушка… Хе–хе–хе… Значит, убил, забрал казну, а теперь желаю расторгнуть договор, так как больше ни в чем не нуждаюсь. Витя! Да
тебе намотают пожизненное, и то только благодаря мораторию. А мораторий скоро отменят. Не слыхал про это?
— Почему отменят?
— Поторопились с мораторием. Руссияне ропщут. Я тоже думаю, смертная казнь необходима, мы не Европа. Грозила бы тебе, Витя, смертная казнь, может, пожалел бы Гарика. Хотя куш большой, удержаться трудно, не спорю… Нет, горячку пороть не стоит. Напиши расписку и спокойно работай дальше. Дать бумагу?
Никакой бумаги он давать, естественно, не собирался* и по лицу было видно, что забава ему прискучила. Но он явно ждал от меня еще каких–то реплик, соответствующих его сценарию, и начинал злиться на мою медлительность. У меня же осталось одно желание: поскорее закончить постыдную, нелепейшую сцену, забиться в свою нору и там, наедине с собой, попытаться понять, что, собственно, происходит.
— Леонид Фомич, я могу дать сто расписок, но за тысячу лет не заработаю такой суммы.
— Это ничего, Витя, не страшно. Не заработаешь, и не надо. Главное протокол соблюсти. С распиской надежнее. Сними груз с души.
Со мной случилась маленькая истерика.
— Не знаю, зачем вам все это понадобилось, — прошамкал я, словно зубы вываливались, — но со мной этот номер не пройдет. Хрен вам, а не расписка.
Похоже, именно этого он и ждал. Расцвел в улыбке, как примадонна, лоснящиеся щечки порозовели. Хлопнул в ладошки — и в кабинете появился Абдулла. Склонился у дверей в церемониальном восточном поклоне.
— Проводи господина писателя, — распорядился Обол- дуев. — А ты, Витя, подумай хорошенько. Зачем нам ссориться? Нам ссориться ни к чему.
Еще под впечатлением своего «хрена» я задумчиво последовал за бритоголовым абреком, и лишь когда спустились на первый этаж, осведомился, куда он меня ведет. Абдулла смешливо скосил черные, как две пули, глаза.
— Пересыльный пункт… Не бойся, товарищ. Там будет хорошо.
Обращение «товарищ», услышанное от глухонемого диковатого горца, меня окончательно подкосило.
Пересыльный пункт оказался сыроватой комнатушкой на цокольном этаже. Без окон, с зарешеченным смотровым глазком в двери. Обстановка небогатая: железная табуретка, привинченная к полу, железный стол и железный лежак, накрытый ватным матрацем в подозрительных желтых пятнах. На столе стопка бумаги, несколько шариковых авторучек, пепельница и красная пачка сигарет «Прима». В общем, ничего устрашающего, никаких пыточных приспособлений.
— Сиди пока тут, товарищ, — сказал Абдулла. — Если чего надо, крикни в дверь.
— У меня зажигалки нет.
— Зажигалку нельзя, — добродушно засмеялся горец. — Вдруг пожар будешь делать.
Ошибся я в нем, он не был глухонемым.
ГЛАВА 19 ГОД 2024. ОПОЛЧЕНИЕ
К концу лета Митя Климов сам себя не узнавал.
Он спал на влажной земле, подложив под голову камень, ел полусырое мясо с ножа, пробегал в день десятки километров ровной звериной рысью и на излете молодости (к тому времени средний срок жизни руссиянина сократился до тридцати лет против восьмидесяти — ста в цивилизованных странах) почувствовал, что вырвался на новый виток судьбы и она наконец–то стала к нему благосклонной.
У него завелись друзья, и первый среди них — Леха Жбан, смуглоликий, русоголовый, поджарый, как натянутая тетива, ратоборец. Поначалу Леху приставили к нему опекуном и отношения между ними складывались не всегда ровно. Глазастый весельчак пользовался любым случаем, любой Митиной промашкой, чтобы доказать свое превосходство, но делал это беззлобно, с юмором и ни разу не использовал свою ловкость, чтобы нанести серьезное увечье. Во многом он превосходил Митю, но не во всем.
Через месяц Митя с блеском прошел первое испытание. Он должен был продержаться в течение часа против трех дружинников, но не одолеть их и не уйти от них (это невозможно), а сбить с толку, предстать перед ними неузнанным. Игра в призраки, так это и называлось. Митя поразил и своих преследователей, загнавших его в болото, и сотника Данилку Гамаюнова, принимавшего экзамен. Когда дружинники, радостно улюлюкая и размахивая ременными петелками, продрались через чащу, то встретили не Митю, а волоокую речную русалку, выходящую из трясины и на ходу выжимающую мокрые волосы. Бойцы так и замерли, очарованные, а Митя подошел к ближайшему из них, приставил нож к горлу и насмешливо посоветовал: «Не зевай, парень, смерть проморгаешь».
Ошеломленный дружинник щелкнул пастью, будто капканом, а вышедший из кустов сотник озадаченно поинтересовался:
— Как ты это проделал, Митяй? Ведь этому тебя не учили.
— Кое–что из старых запасов. — Митя самодовольно ухмылялся. — Трансформация вегетатики. Передача образа на расстояние. Несложная штука, но требует подготовки.
Сотник дружески похлопал его по плечу, смущенно отводя глаза от пышных зеленоватых русалкиных грудей.
— Хватит скоморошничать. Убери эту гадость. После доложишь в письменном виде. А вы, ребятки, — он обернулся к дружинникам, — все трое покойники. Поздравляю. Охмурил вас странник.
Рослые бойцы что–то невнятно залопотали, еще не придя в себя от изумления, хотя Митя уже вернулся в свой натуральный облик.
После этого испытания Леха Жбан его зауважал и сбавил гонор. Как все в отряде, он понимал, что Митя временный гость, недаром его уже дважды водили в поселок на беседу с полковником Улитой. Большая честь, но никто ему не завидовал, напротив, поглядывали с сочувствием. Из тех, кто покидал свободные территории в одиночку, ни один не воротился назад. Погибали или нет, неизвестно, домысливали разное, но с Митей, конечно, случай особый. Из оккупированной зоны он появился целехонький, да еще привел с собой справную девку, значит, при необходимости сумеет повторить маршрут. Относились к Мите нормально, но он так и не смог стать в дружине своим, постоянно чувствовал вокруг себя этакий дружеский холодок. В отряде числилось сорок пять человек, все молодые неустрашимые воители, живущие одним днем, от рассвета до заката, самому старшему, по званию и по возрасту, сотнику Гамаюнову было едва за тридцать. Обитали в землянках, утепленных сосновыми бревнами, в каждой по три–четыре бойца. Время проводили в изнурительных упражнениях и тренировках да еще на охоте и рыбной ловле, служивших основными источниками пропитания. Таких отрядов на свободных территориях, накрытых космическим зонтиком, непроницаемым якобы даже для спутниковых систем слежения, по уверениям Лехи Жбана, было множество, десятки и сотни, единственный смысл их существования заключался в готовности по первому сигналу выступить в поход.
Когда Леха сказал об этом, Митя подумал, ратоборец шутит. Но тот и не думал шутить. Спросил: а что такого, что тебя удивило, брат? Митя стушевался и не сразу ответил, но, видя, что опекун чем–то вроде обижен, объяснил, как понимает обстановку. Неужели, спросил он, Леха Жбан или его командиры всерьез рассчитывают, что они вдруг выскочат из лесов и болот со своими копьями, луками да топориками и напугают супостата, владеющего современными военными технологиями и уже накинувшего на весь мир электронную удавку Интернета? Надеяться, по мнению Мити, можно только на то, что у какого–нибудь генерала Анупряка начнутся корчи и он лопнет от смеха.
— Ах, вот ты о чем, — понял наконец Леха Жбан. — Значит, непосвященный. Но мог бы сам догадаться: все, что ты видишь, маскировка. Почему не расспросил ни о чем Улиту, с ним у тебя вроде бы вась–вась?
— Маскировка? Хочешь сказать, все эти блиндажи, голубиная почта и все прочее — только видимость? И что же за этим скрывается?
— Будет приказ, сам увидишь, — важно ответил Леха. — Вроде ты парень башковитый, Митяй, личину умеешь менять, а иногда такое ляпнешь, тошно слушать.
— Что же такое я ляпнул, от чего тебе тошно? — в свой черед насупился Митя. Они сидели у вечернего костра вдвоем, поблизости затихал к ночи лагерь. Дозорный Тишка Кафтан от скуки поглядывал за ними из–за соснового ствола. Молоденький совсем, лет пятнадцати, играл в чукчу.
— Как думаешь, — сощурился Леха, — Россию отдали и назад не заберем? Зачем тогда жить?
Митю поразил и сам вопрос, и какая–то неожиданная злоба, проступившая в голосе мирного ратоборца. Злоба, не сулившая ничего хорошего. Никому. И ее носителю тоже. Митя ответил растерянно:
— Как вернешь, она давно не наша.
— Кто тебе наплел? Болтуны московские?
— Это правда, Леха. Пустыми мечтами бабы себя тешат. История обратного хода не имеет. Наши предки все просрали.
— Предки, значит, виноваты?
Злоба в зрачках и в голосе не утихала, и Мите показалось, опекун нацелился врезать ему по рогам.
— Успокойся, ты чего? Я ведь не радуюсь, горюю. Но чего не вернуть, того не вернуть. Подохнем холопами, как и жили.
— За себя отвечай, не за всех, — посоветовал Леха. — Только запомни, холопы не те, кто на самом деле холопы, а те, кто про себя так думает. Так–то, москвич. Каша у тебя в голове.
Митя не захотел продолжать опасный разговор. Он выудил из золы картофелину, обдул, покидал из ладони в ладонь — и съел, обжигаясь, вместе с похрустывающей корочкой. Чуть позже спросил:
— Леха, а ты сам видел Марфу–кудесницу?
Он и раньше об этом спрашивал, но опекун как–то ловко уклонялся от ответа. Сейчас вдруг заговорил охотно.
— Вот именно, Марфа. По–твоему, тоже холопка?
— Откуда мне знать. Какая она?
— Какая? Как и все, обыкновенная женщина. Из бывших пенсионерок. Пришлая, как и ты. На Северах десять лет назад про нее слыхом не слыхали.
— Так ты видел ее или нет?
— Видел, не видел, ну чего заладил? — Леха хотел вторично разозлиться, но внезапно заулыбался. — А знаешь, сколько за нее деньжищ дают?
— Вроде десять лимонов?
— Ага, десять. Но поймать не могут. Был случай, Марфа в скиту жила, силу копила, не здесь, в срединной полосе, куда колпак не достает… Выследили ее, окружили. Весь лес взяли в кольцо. Технику согнали со всего региона, самых крутых коммандос послали, чтобы взять живой или мертвой. Представь, Митяй, на одну бабу — целое войско.
А Марфа в хибенке сидит, из оконца поглядывает. Главный генерал, сука отвязная, по кличке Проколотый Баллон, команду дал: выкурить стерву напалмом. И чем кончилось, как думаешь, Митяй?! — У опекуна глаза светились вдохновением.
— Почем я знаю.
— Взрыв произошел наподобие ядерного. Вся округа запылала, все войско полегло, кроме Проколотого Баллона. Он заговоренный оказался, с легкими из нержавейки. От него потом сведения получили, как из черного ящика. А на месте скита, слышь, Митяй, забил родник чудодейственной силы. Кто набредет, кому удастся водицы испить, тот две жизни живет заместо одной…
Возбуждение у Лехи угасло, глядел на новобранца с подозрением.
— Кажись, Митяй, не совсем веришь, а?
— Почему не верю? Очень даже верю. Мало ли чудес на свете. У меня был знакомый бомж, дядька Григорий…
— Погоди со своим Григорием… Марфа и есть чудо. Напряги умишко–то. Как ее можно увидеть, пока сама не позовет?
— И то верно, — согласился Митя. У него прежде не было друзей, Леха первый, кто открыл ему душу, и Митя испытывал такую нежность к сильному, ловкому, неустрашимому, чуть–чуть заколдованному ратоборцу, как если бы увидел свое отражение в проточной воде.
В награду за успешный экзамен ему разрешили свидание с Дашей. Причем тут была такая тонкость: он на это свидание не напрашивался. Вообще никого о «матрешке» не спрашивал и не знал, что с ней. Даже бывая у полковника, из гордости делал будто и не помнит ее, а Улита, лукаво поглядывая, молчал. Митя строго соблюдал неписаное правило: настоящий мужчина, хоть и руссиянин, не станет переживать из–за бабы, это стыдно, унизительно, но тоска томила с каждым днем все пуще. Рыжая крепко запустила ноготки в его сердце, не отпускала ни во сне, ни наяву. Бывало, после утомительного дня только приклонит голову на камушек, только веки сомкнет в блаженной усталости, кажется, пинками не подымешь, а она, рыжая затейница, тут как тут. Присядет рядом, пальчиком прикоснется к губам: «Бедный Митенька, устал мой мальчик, ой–ой- ой!» Он руки протянет, чтобы обнять, а в них пустота. Откроет глаза — да вот же она, озорница, смеется, строит умильные рожицы. Глубокая зелень, как тина, в очах. «Ну, что же ты, Митенька, хочешь, возьми, я не прячусь»… Разбери после этого, где сон, где явь.
А тут, после утренней пробежки через бурелом Данилка Гамаюн отозвал в сторонку:
— В монастырь найдешь дорогу, Митяй?
— В какой монастырь?
— Дак в тот, где зазноба осталась.
Митя насторожился, но в глазах у сотника ничего, кроме приязни.
— Найду, коли надо, а что?
— Ничего. Можешь навестить, но так, чтобы к вечеру вернуться.
— Зачем мне это? — не поддался Митя.
— Не хочешь, не надо. Я ведь…
— А кто разрешил?
— Моего слова, выходит, мало? — ненатурально нахмурился сотник.
— Сам знаешь, что мало, Гамаюн.
— Что ж, верно… Улита тебе кланяется. Доволен старик, как ты русалку изобразил.
* * *
У ворот в поселок, на дощатом настиле встретил его не кто иной, как кудлатый Егорка, гонец по особым поручениям. Заплясал, обрадовался, словно вернувшемуся родичу. Когда шли по улице, женщины в палисадниках приветливо их окликали, махали платками — и не только Егорке, как в первый раз, но и Мите. Двое голопузых детенышей вывалились из калитки, с визгом покатились под ноги. Егорка подбросил к небу одного, Митя — детеныш повис на ноге — второго. Значит, его принимали за своего. Он и сам чувствовал себя своим. Серые избы, огороды, скотину на дворах, просветленные лица женщин — все вокруг видел каким–то новым, умиленным зрением.
Миновали кирпичное здание, где его принимал полковник Улита (следующие два раза Митя встречался с ним в лесном бункере); так же на крылечке сидел дюжий детина в тельняшке, с звуковым ускорителем, но на сей раз не грозился пульнуть, напротив, весело окликнул:
— Эй, Егорша, заходи, чайку попьем. Баранки свежие есть.
— Некогда, — отозвался гонец. — Тетка Дуня вернулась, не знаешь?
Детина надулся.
— Не сторож я твоей тетке, Егорша.
В самом конце улицы, у крайнего дома, на огороде молодая женщина, низко согнувшись, пропалывала клубничную грядку. Митя ее не сразу узнал. В длинном сером платье, раскинувшемся колоколом, с головой, туго схваченной темной косынкой, волос не видать, — крестьянка и крестьянка. Женщина подняла голову, сверкнули изумруды глаз, и Митя обмер, будто от изнеможения. Даша выпрямилась, уронила руки, покачнулась — и снова он услышал заветное, сердечное:
— Ой, Митенька!
Чуть позже сидели в избе у оконца, и Даша угощала его клюквенной настойкой. Егорка откланялся, не заходя на двор. Понимал, времени у них мало, и не стал мешать.
Разговор вязался плохо, Митя чувствовал, перед ним другая женщина, незнакомая, не та, которая была раньше, не «матрешка», не мутантка, не просветленная, а какая–то чужая. Как поживаешь, спросил Митя. И Даша охотно рассказала, что поживает хорошо, в трудах и молитвах, ни о чем не жалеет и никуда больше не стремится. С ней еще восемь на- сельниц, но сегодня с утра все отправились в лес по грибы.
— Тебя почему не взяли?
— На мне ужин и уборка по дому, — спокойно ответила Даша. — Сам ты как, Митенька?
Митя сказал, что у него тоже все в порядке, на днях поставили в дружину. Похвалился, что прошел первое испытание и все им довольны, включая полковника Улиту.
— Не о том говорим, да, Митенька? — улыбнулась Даша.
— О чем еще говорить? — будто удивился Митя. — Повидались, и ладно.
Черная тоска его давила, похожая на наркотическую ломку.
— Спасибо за угощение… Пожалуй, пойду. К вечеру добраться надо, а путь неблизкий.
Стал подниматься, круша железо в позвоночнике, но Даша первая вскочила, повисла на нем. Так тяжко повисла, что оба упали на пол. И там, лежа на полу, Даша по секрету прошептала в ухо:
— Не могу без тебя, Митенька. Как хочешь, а вовсе не могу. Пожалей меня, голубчик.
Также шепотом Митя уточнил:
— Может, без секса скучаешь?
— Наврала я все, Митенька. Ничуточки мне не хорошо, плохо. Покоя как не было, так и нет. Не могу без тебя, миленький мой.
— Что же делать? Надо терпеть.
— Возьми с собой.
— Куда? В лагере женщин нету, мужики одни.
Поплакала Даша немного, и так они крепко обнялись, что усыпили друг дружку. Разбудили их женщины, когда вернулись домой. Солнце уже пошло на закат, и Митя заспешил. Даша кинулась провожать, но ее не пустили. Пожилая бабенка напутствовала его в сенцах:
— Не оставляй ее надолго, женишок. Точится бедняжка.
— Как это точится?
— Худеет, линяет, разве не видишь? Старается, как умеет, а выйдет худо. Помочь только ты можешь. Иначе помрет.
— От какого же вируса?
— Любовь — самая страшная болезнь на свете, москвич. — В печальных женских глазах мерцало высшее знание, какое дается лишь страданиями, но Митя даже именем ее не поинтересовался.
В$ю обратную дорогу думал о Даше, о том, что могло случиться с крохотным матрешкиным умишком.
Допустим, Даша занедужила любовью, о которой писали в старых книгах, и допустим, это смертельно. Но эта штука не может быть заразной, почему же тогда, обнимая ее, погрузившись в глубокий сон, он сам вдруг поверил, что они уже на небесах? И почему так тягостно пробуждение?
В лагере, едва на подламывающихся ногах добрел до блиндажей, к нему кинулся Леха Жбан и сообщил потрясающую новость, которая враз вышибла из башки все глупости.
— Завтра пойдешь в стратегический центр, — выдохнул Леха.
— Что еще за центр?
— Не верил про Марфу, сам ее увидишь.
В сдавленном голосе Лехи звучало нечто большее, чем уважение. Может быть, зависть.
— Откуда знаешь? — спросил Митя.
— От верблюда, — ответил друг.
ГЛАВА 20 ПАШИ ДПИ. ДОКТОР ПАТИССОН
Он похож на игральный автомат, это трудно объяснить. Плотный, в светлом костюме, с круглым, добрым лицом, украденным очечками с сильной оптикой и с золотыми дужками, аккуратно, в стиле «ретро» причесанный, на высоком, розово–влажном лбу как минимум два высших образования, а приглядишься и мелькнет в голове — да это же игральный автомат.
Вошел он незаметно, я дремал на топчане и во сне думал, куда действительно подевались часы «Сатурн»? Где снимал их в последний раз?
Привиделось и другое: я душил тучного, усатого Гария Наумовича, давил в ванне, наполненной кислотой, и попутно пинал по ребрам, нога проваливалась, как в глину. Сон был не то чтобы злобный, но какой–то примитивный, с криминальным душком.
Гостя я увидел уже воссевшим на один из привинченных к полу табуретов и сперва не мог разобрать: кто это, незнакомец, или бедный Гарий Наумович вырвался из кислотной ванны? Свет в комнату посылала тусклая, без плафона лампочка с потолка.
— Герман Исакович Патиссон, — звучным голосом представился гость. — Послан, батенька мой, провести профилактическую беседу.
— А вы кто?
— Хороший вопрос, — одобрил гость, почесав подбородок. — Свидетельствует о здравом рассудке. А то уж мне доложили, будто вы немного не того… Честно говоря, я не удивился. С писателями это часто бывает. Пишут, пишут, сочиняют, а после — хрум! — необратимый психопатогенный сбой. Обыкновенно это связано с неудовлетворенным авторским самолюбием. Скажу больше, моя бы воля, я каждого из тех, кто именует себя литератором, прежде чем взять у него рукопись, непременно отправлял бы в Кащенко на экспертизу.
Я уселся на топчане, спустил ноги на пол.
— Почему в Кащенко, не в институт Сербского? Там вроде всех проверяют…
— Не всех, голубчик мой, далеко не всех. Только особо важных персон. К примеру, серийных убийц либо крупных бизнесменов. А у вас–то что? Подумаешь, замочили адвокатика. По совести, Гарику туда и дорога. Мерзопакостный был человечишка.
— Я никого не замачивал.
— Охотно верю. Но хитрить со мной не надо, Виктор Николаевич. Я вам не враг. Больше того, возможно, я единственный человек, кто может помочь в вашей беде.
— Каким образом?
— Видите ли, я специалист как раз в области психических аномалий. Пользовал и знаменитостей, к сожалению, не могу называть фамилии, врачебная тайна. Поверьте, от моего заключения зависит, как обойдется с вами многоуважаемый Леонид Фомич. Отдаст под суд или сперва попробует подлечить. Сколько вы денежек заныкали? Неужто впрямь полтора миллиончика?
— Ни копейки не брал… Вас не затруднит подать сигареты?
— Извольте. — Герман Исакович протянул пачку «Примы», взяв со стола. Под выпуклыми стеклами глаза походили на налимьи.
— Хорошо бы еще огонька.
— Чего нет, того нет. Не курю. — Он сокрушенно развел руками, будто извиняясь за такую промашку. — У вас что же, спичек нет?
— Не дают, гады. Сигареты дали, а спичек нет. Издеваются.
— Ай–яй, изуверы, — посочувствовал психиатр, — Впрочем, их можно понять. Среди писательской братии в последнее время участились случаи самосожжения. Причем, заметьте, не на какой–то банальной идеологической почве, а исключительно в знак протеста против нищенских гонораров. Короче, от недоедания.
Пока он кривлялся и ухмылялся, улыбчиво меня изучая, я пришел к мысли, что с этим человеком лучше всего изображать беспомощного, придурковатого интеллигента, впавшего в отчаяние. Погрузился ли я в отчаяние на самом деле, я не мог со сна определить. Кошки скребли на душе, так это не первый день. Не первая зима на волка, как любил выражаться один мой приятель. Совершенно беззубый при этом. Кстати, литературный критик.
— Герман Исакович, вы культурный человек, вы же понимаете, что меня оболгали. И я не могу сообразить, кому это нужно. Помогите Христа ради, походатайствуйте перед господином Оболдуевым. Кто–то сознательно ввел его, добрейшей души человека, в заблуждение.
— Конечно, конечно… Обязательно помогу, Виктор Николаевич, но при вашем содействии. Ведь что от вас требуют? Подписать какую–то бумажку. Так, кажется? Полная чепуха. Что значит какая–то бумажка, подписанная или не подписанная? Есть вещи намного более важные. Ваша жизнь, например.
— Признание в убийстве — не совсем уж такая чепуха. И потом, господин Оболдуев требует расписку на полтора миллиона долларов. Представляете, что это такое?
— Деньги, всюду деньги. — Психиатр горестно сжал ладонями виски, но тут же глаза его радостно блеснули, словно он обнаружил спасительный выход из положения.
— Батенька мой, но вам не надо отдавать всю сумму сразу. Вернете по частям, когда окажетесь при деньгах.
— Я не убивал Верещагина, ни разу не был у него на квартире. Даже не знаю, где он живет.
— Конечно, не убивали. То есть вам кажется, что не убивали. Состояние аффекта допускает… Но труп–то налицо. И свидетели есть.
— Не может быть. Какие свидетели?
— Соседка. Кстати, милая девчушка, студентка. Она видела, как вы вышли из квартиры с окровавленными руками. И почтальон видел.
— При чем тут окровавленные руки, если Гария Наумовича задушили?
— Ну вот, батенька мой, мы и признались, — психиатр довольно похлопал себя по груди, как по подушке. — Видите, как просто. А ведь я не следователь. Следователь знает много всяких штучек, которые непременно выводят преступника на чистую воду. Давно перечитывали «Преступление и наказание»?
— Не помню… Герман Исакович, если можете, проясните, пожалуйста, совершенно непонятное обстоятельство.
— Слушаю вас.
— Оболдуев не может не понимать, что я никогда не наберу полтора миллиона. Это абсурд. Зачем ему расписка?
Психиатр обрадовался.
— В самую точку, государь мой. Прямое попадание. Зачем ему эта расписка! Прекрасно сказано. — Он внезапно посерьезнел. — Видите ли, психология олигархов не менее запутанная, загадочная вещь, чем капризы так называемых писателей. Полагаю, дело вот в чем. Они любят, чтобы все вокруг были им должны. Неважно в чем. Деньги, услуги… Так они чувствуют себя увереннее. Распиской вы даете понять, что как бы признаете его превосходство. Только и всего.
— Ну, если это так важно… — Я взял жалобную ноту. — Как–то все сразу обрушилось на меня, как ком с горы. Вот она, судьба человеческая, доктор. Вчера еще полное благополучие — прекрасный контракт, возможность общения с великим человеком, радужные планы — и вдруг… Вот эта клетушка, лишение всех прав, туманные перспективы, нелепое обвинение… Что будет со мной, Герман Исакович?
— В каком, извините, смысле?
— Что будет, если откажусь от расписки?
— О-о, что вы, что вы, Виктор! — Он замахал руками, отгоняя от глаз какие–то кошмарные видения. — Не надо отказываться. Не надо даже думать об этом.
— Но все–таки? Заставят силой?
— Что вы, к чему такие ужасы. Никто не будет настаивать. Кольнут пенбутальчик, пять кубиков, и вы, батенька мой, признаетесь в том, что собственную матушку четвертовали, зажарили на сковородке и съели. Ха–ха–ха! Извините за черный юмор. Силой заставят. Скажете тоже! Чай, в Европе живем.
— Понятно… — Я сам себе был противен со своим плаксивым голосом. — А ведь меня, доктор, даже не покормили, хотя я здесь уже неизвестно сколько.
— Как так?! — Возмущение было искренним, с гневным блеском золотых очечков, с горловыми руладами. — Не может быть! Вопиющее нарушение Венской конвенции… Сейчас мы это поправим.
Он подкатился к двери, отворил, кого–то позвал, пошушукался — и вернулся удовлетворенный.
— Что же сразу не сказали, Виктор? Голодом морить — последнее дело. Не басурманы какие–нибудь. Не генералы с лампасами. Вон вчера передачу смотрел у Караулова — жуть. Воруют продовольствие и из солдатиков делают дистрофиков. Фотографии — как из Бухенвальда. Вот тебе, батенька мой, и демократия. За что, как говорится, боролись. Нет, нам до настоящей демократии еще далековато. Народ наш темен, необуздан, семьдесят лет идолам поклонялся, такое даром не проходит. Перед руссиянским народом, Виктор, лишь два пути открыты: либо нового тирана посадить на трон, либо, как встарь, к варягам на поклон. Согласны со мной?
В каком я ни был плачевном состоянии, скачки его мыслей меня заинтересовали.
— При чем тут народ, если генералы воруют?
— A-а, проняло. Задело писательскую жилку… Народ, батенька мой, глумиться над собой позволяет, собственных детей отдает на растерзание. Вы сами по убеждениям какого курса придерживаетесь? Полагаю, либерального? Как вся творческая интеллигенция?
— Никакого. Мне на все курсы наплевать.
— Вот именно! — возликовал Герман Исакович. — Вот оно — лицо руссиянского властителя дум. Ему на все наплевать. А уж коли ему наплевать, то народу тем более. Приходи и владей, кто не ленивый… Но давайте, голубчик мой, посмотрим на проблему мироустройства с другой стороны…
Досказать он не успел — дверь отворилась, и прелестная блондинка в коротких шортиках внесла поднос с ужином. Кокетливо поздоровавшись, она поставила на стол тарелку с чем–то серым и на вид вязким, зеленую кружку с бледным чаем и положила краюху черного хлеба, намазанную чем–то желтым.
— О-о, Светочка, — проворковал Герман Исакович. — Чудесное дитя, как всегда ослепительна… Погляди, узнаешь этого джентльмена?
Девушка бросила на меня игривый взгляд и смущенно пролепетала:
— Конечно, Герман Исакович.
— Это он, не ошибаешься?
— Как можно, Герман Исакович? Я же не слепая.
— Умница. — Психиатр заботливо огладил ее ягодицы и пояснил, глядя на меня: — Наша Светланочка своими глазами видела, как вы выходили от Верещагина. Свидетельница наша лупоглазая. Кстати, студентка пятого курса.
Я ничуть не удивился появлению в комнате соседки покойного (?) юриста, это вполне укладывалось в фантасмагорический спектакль, разыгрываемый господином Обол- дуевым. Лишний виртуальный штрих. Однако по–прежнему не понимал, какова моя роль в нем.
— Что скажете, Виктор Николаевич?
— Что я могу сказать? Видела и видела, что теперь поделаешь.
— Напрасно вы так с ним обошлись, — порозовев, укорила прелестница. — Дядя Гарик был добрый человек, всем бедным помогал.
— Это точно, — посуровев, подтвердил Герман Исакович. — Известный спонсор и меценат. И тебе, голубка, помогал?
— А как же. Учебники покупал, оплачивал жилье. В оперу иногда водил.
— Видите, батенька мой, свидетель надежный, лучше не бывает. Скоро золотой диплом получит. Получишь, дитя мое?
— На все ваша воля.
Меня больше не интересовала их дешевая, хотя и забавная интермедия, разыгрываемая в традициях театра абсурда.
Я придвинул к себе тарелку, понюхал и уловил тошнотворный запах собачьих консервов.
— Что это? Я же не пес подзаборный, в конце концов.
— Ну–ка, ну–ка… — Герман Исакович ложкой подцепил серое, вроде каши, вещество, слизнул чуток, почмокал. — А что? Вроде ничего? Мясцом отдает. Где взяла, голубушка?
— Как где? На кухне. Что дали, то принесла.
Жрать все–таки хотелось, сгоряча я сунул в пасть краюху, откусил, прожевал — и тут же вывернуло наизнанку. Хлеб был сдобрен чем–то вроде машинного масла. Так меня не трепало даже после доброй попойки. Изо рта вместе с горечью хлынула коричневая пена и какие–то желеобразные сгустки.
— Голубчик вы мой, — забеспокоился Герман Исакович. — Может, не надо так спешить?
Отдышавшись, с проступившими слезами я угрюмо заметил:
— Если вы этими паскудными штучками намерены лишить меня воли, зря стараетесь. У меня ее отродясь не было.
— Известное дело, откуда ей взяться у руссиянского писателя… Но я бы вам, Виктор, от всей души посоветовал, не упрямьтесь. Черкните расписочку и все беды останутся в прошлом. А так только хуже будет для всех.
— Мне надо подумать.
— Это сколько угодно, хоть до завтрашнего дня… Пойдем, Светочка, грех мешать. Господин писатель думать будут…
— А что же с кашкой? — растерялась девушка. — Кашку забрать? Господин писатель, вы не станете больше кушать?
У меня было огромное желание влепить тарелку в ее смеющееся хорошенькое личико, но я его переборол. Они так славно на пару потешались надо мной, но ведь тем же самым до поры до времени занимался и Гарий Наумович, юрист «Голиафа»…
* * *
Проснулся я оттого, что где–то рядом мыши скреблись. Горожанин, я ни разу не слышал, как скребутся мыши, но первая мысль была именно такая: мыши. Тусклая лампочка все так же мерцала под потолком, и я не мог понять, сейчас день или ночь. Но тревожное ощущение неопределенности во времени было ничто по сравнению с терзавшей меня жаждой. По кишкам словно провели наждаком, и во рту скопились горы пыли. Я кое–как собрал и протолкнул в горло капельку сухой слюны.
Скрип, как ногтем по стеклу, усилился и шел явно от двери. Я тупо смотрел на нее, потом сказал:
— Войдите, не заперто.
Дверь отворилась (или сдвинулась?), и в образовавшуюся щель проскользнула Лиза. Осторожно прикрыв за собой дверь, она одним махом перескочила комнату и очутилась у меня на груди. Замолотила крепкими кулачками.
— Не верю, слышите, Виктор? Не верю, не верю!
— Во что не веришь, малышка? — Я деликатно прижал ее к себе, чтобы успокоилась. Если это был сон, то самый сладкий из всех, какие довелось увидеть в жизни.
— Не верю, что вы это сделали.
— Что сделал?
— Убили Верещагина. Он подонок, подлец, но вы не могли это сделать… Скажите, что это неправда!
— Так ты из–за этого переживаешь? Конечно, неправда и правдой не может быть никогда. Странно, что усомнилась.
— Я усомнилась? — Она отстранилась — и я разжал руки. — С чего вы взяли? Я просто хотела услышать это от вас. Теперь утром пойду к папе и все ему расскажу. Он найдет того, кто вас оклеветал, будьте уверены.
— Утром? Значит, сейчас ночь?
— Разумеется… Что с вами, Виктор?
В ту же секунду я осознал, чем грозит ее визит.
— Кто–нибудь видел, как ты пришла сюда?
— Нет, вроде нет.
— Что значит «вроде»? Ты прошла по всему дому ночью и никто тебя не заметил? Здесь повсюду глаза и уши.
— Я… Ну я… не особенно задумывалась об этом…
— В твоем возрасте, Лиза, пора бы научиться задумываться кое о чем.
В бездонных глазах забрезжила обида.
— Вы как–то странно со мной разговариваете. Разве я виновата… Ох, простите меня! Я бездушная девчонка- эгоистка. Я даже не спросила, как вы себя чувствуете?
— Пить хочется, спасу нет.
Я не успел удержать, она метнулась к двери… Вернулась не скоро, не меньше получаса прошло, зато счастливая, улыбающаяся. Из плетеной корзинки достала пластиковую бутылку кваса «Очаково», бутылку портвейна, а также уставила стол всевозможной снедью: бутерброды с рыбой и с бужениной, яблоки, апельсины… Богатый улов. Опережая мои упреки, уверила:
— Никто не видел, нет, нет… Это все из кладовки.
Можно подумать, кладовка на Луне и она слетала туда в шапке–невидимке.
— Пейте, Виктор, что же не пьете? — и потянулась сама открывать бутылку с квасом. От радости вся светилась, у меня язык не повернулся сказать какую–нибудь гадость.
Вскоре мы сидели рядышком на топчане и ворковали, как два голубка. Идиллию нарушало лишь какое–то злобное и громкое бурчание у меня в брюхе, с чем я никак не мог справиться. Но после того, как осушил полбутылки массандровского портвешка, оно утихло. Со стороны мы, наверное, походили на влюбленных заговорщиков, какими, возможно, и были на самом деле, но никак не на учителя с прилежной ученицей; в голове у меня мелькнула мысль, что если нас отслеживают, то мне каюк (как будто до этого не был каюк), но мелькнула как–то необременительно, не страшно. Пожалуй, впервые за последние дни я чувствовал себя, вопреки обстоятельствам, сносно; больше того, рядом с этой необыкновенной девушкой испытывал приливы душевной размягченности, свидетельствовавшей разве что о сумеречном состоянии рассудка. Не удивляло меня и то, что сначала мы сидели далеко друг от друга, но как–то незаметно, дюйм за дюймом сближались и сближались, словно под воздействием загадочной вибрации, и наконец ее мягкая ладошка, как теплый воробышек, затихла в моей руке.
— Конечно, Лизетта, — говорил я при этом со строгим выражением лица и занудным голосом, — твой поступок нельзя назвать адекватным. Ни в коем случае не следовало сюда являться, да еще среди ночи. Что подумает папочка, когда ему доложат? Я тебе скажу — он безусловно решит, что я негодяй, воспользовался твоей юной доверчивостью, чтобы, чтобы…
— Что же вы, договаривайте, раз уж начали.
— Заманил, чтобы соблазнить, что еще?
— Но ведь у вас и в мыслях этого нет, не правда ли? Чего же бояться.
— Конечно нет, — сказал я, крепче стиснув ее ладошку, будто в забытьи. — Но это ничего не значит. Если мы не хотим дать пищу кривотолкам, следует соблюдать предельную осторожность.
— Признайтесь, Виктор, вы считаете меня молоденькой дурочкой, да?
— Не совсем понимаю… — В это мгновение — о, Боже! — нас прижало боками, как если бы топчан провалился посередине.
— Виктор, чего вы боитесь?
— В каком смысле?
— Вы робеете, как первоклассник на свидании с девочкой из детского сада. И вообще, мне кажется, ведете не совсем честную игру.
— Лиза, ты хоть вдумываешься в то, что говоришь?
В ее глазах шалый блеск.
— Да, вдумываюсь. Почему не сказать, что у вас есть женщина, которую вы любите?
— Лиза!
— Хотите, чтобы я первая призналась? Да?
Разговор превратился в издевку над здравым смыслом, но в действительности не это меня смущало, а то, что каким–то загадочным образом нас опять притиснуло друг к другу и ее губы… Будучи человеком, склонным действовать по наитию, я поцеловал ее. Лиза пылко ответила. После чего некоторое время мы молча, с энтузиазмом предавались взаимным ласкам, и дело зашло довольно далеко, при этом я пыхтел как паровоз, голова кружилась, и в брюхе опять позорно заурчало. Лиза вдруг вырвалась из моих объятий и гибко переместилась на табурет. Растрепанная и раскрасневшаяся, торжествующе изрекла:
— Вот видите, видите!.. Вы любите меня, любите, да?
— Возможно, — сказал я. — Но что из этого следует? Об этом и думать смешно.
— Почему? Не подхожу вам по возрасту?
— Лиза, давай успокоимся и поговорим здраво.
— Давайте.
— Меня втянули в какую–то нелепую, зловещую историю, и я ума не приложу, кому и зачем это понадобилось.
— Но если вы не убивали…
— Подожди, Лиза, послушай меня…
Я рассказал все как на духу. Может быть, с излишне живописными подробностями. Утаил лишь то, как ее папа велел переспать с Ариной Буркиной, и, разумеется, про отношения с Изаурой Петровной. Но и того, что рассказал, оказалось достаточно, чтобы она притихла. Часики на ее руке показывали половину четвертого утра. Я надеялся, если ее до сих пор не хватились, то не хватятся вовсе.
— Трудно во все это поверить, — заговорила она в присущей ей книжной манере, — но раз вы говорите, значит, так и есть. Ряд ужасных недоразумений. Могу только догадываться, кто плетет эту чудовищную интригу, но уверяю вас, все не так плохо, как кажется. Я встречусь с отцом, и все встанет на свои места.
Бедняжка все сознательные годы провела в воображаемом мире, куда не проникали потоки подлой жизни. Крепость не только вокруг нее, но в ней самой. Когда оба эти замка рухнут, ей придется несладко. В романтическом мире, созданном ее детским воображением, отец был рыцарем без страха и упрека, этаким наивным мечтателем–миллионе- ром, которого легко обводят вокруг пальца фурии с пылающими очами и алчные мерзавцы вроде покойного (?) Гария Наумовича.
— Думаешь, мачеха мутит воду?
— Конечно, кто же еще? — воскликнула она с жаром. — Это страшная женщина, она околдовала отца. Вы художник, сами все видите.
— Наверное, ты права, — согласился я. — Непонятно другое. Какая ей выгода от того, что из меня сделают убийцу и казнокрада.
Лиза посмотрела покровительственно.
— Все просто, Виктор. Ей вовсе не нужно, чтобы вы написали книгу. Она боится.
— Чего?
— Вдруг вы опишете ее такой, какая она есть. Папа прочитает и наконец–то прозреет. Как же не бояться? Конец брачной афере.
В голосе абсолютная уверенность в своей правоте, мне ли ее разубеждать. Я лишь пробурчал:
— Мог бы сам сообразить… Лизонька, а ты знакома с доктором Патиссоном?
— С Германом Исаковичем? Конечно… Почему ты спросил?
Дрогнуло сердце от милого, внезапного «ты».
— Да так… Познакомились недавно… Он кто такой?
— Гений… Нет, нет, не преувеличиваю. В медицине он гений. Папа помог ему, у него собственная клиника под Москвой. Папа говорит, когда Герман Исакович обнародует результаты своих исследований, ему наверняка дадут Нобелевскую премию.
— В какой же области?
— Кажется, в психиатрии. Или в нейрохирургии. Точно не знаю. Во всем, что касается работы, доктор очень скрытный человек. Суеверный, как моряк. У него принцип. Как- то сказал: если ты, Лизок, хочешь чего–то добиться в жизни, никого заранее не посвящай в свои планы. Он немного чудаковатый, как все гении. Похож на добрую фею из сказки.
— Эта добрая фея сегодня навестила меня.
— Да? И что ему нужно?
— Пообещал вставить в научное исследование отдельной главкой. В раздел, посвященный маньякам.
— Ха–ха–ха… А если серьезно?
— По поручению Леонида Фомича уговаривал поскорее написать расписку на полтора миллиона. Я ведь из–за них укокошил Гарика.
Лиза размышляла не дольше секунды.
— Значит, и его ввели в заблуждение. Коварная тварь.
Она смущенно покосилась: не слишком ли крепко выразилась.
— Гении всегда доверчивы, как младенцы. Тем более есть свидетельница убийства.
— Откуда вы знаете?
— Гений привел с собой. Забавная такая девчушка, студентка. Принесла на ужин тарелку помоев.
Лиза пересела на лежак, взяла меня за руку. Глаза в пол–лица. Лицо худенькое, нежно–прозрачное. Я думал, опять будем целоваться, оказалось, нет.
— Неужели все так плохо?
— Лиза, мы с тобой оба чужие в этом доме.
Целая гамма чувств отразилась на ее лице, и главным среди них было отчаяние. Я здорово ошибся в ней. Лиза знала больше, чем высказывала, и еще о многом догадывалась. Ее прозрение, вероятно, началось задолго до моего появления, но душа отказывалась принимать правду в ее ужасающей наготе. Ой, как ей было трудно, бедняжке. Сейчас, в тиши подвала, мне открылась взрослая женщина, умная, сосредоточенная, искушенная — и до каждой своей клеточки желанная. Я подумал, если она хоть отчасти чувствует то же самое, что я, нам обоим хана. Объединившись, мы станем вдвое беззащитнее перед господами оболдуевыми и патиссонами.
Лиза улыбнулась ободряюще.
— Дайте мне один день. Я должна убедиться, что вы ничего не напутали.
— И что дальше?
— Убежим отсюда вместе.
Я не придумал ничего глупее, как спросить:
— Скажи, Лиза, вдруг я на самом деле убийца и вор? Как бы ты себя повела?
Рука дрогнула, но ответила она твердо:
— Вряд ли это что–нибудь изменило бы, Виктор Николаевич.
ГЛАВА 21 ДОКТОР ПАТИССОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Денька через три я перестал соображать, что со мной происходит. Большей частью валялся на лежаке, бездумно пялясь в потолок. Один раз среди ночи выводили на ложную казнь. Абдулла с двумя напарниками. Оба русачки с характерной внешностью, как будто с тяжкого, многодневного похмелья. Отвели недалеко, в конец парка, к озерку. Дали совковую лопату и велели копать яму. Я спросил: зачем? Абдулла дружески пояснил: «Будет твоя могила».
Пока рыл, парни курили, вяло обменивались замечаниями о завтрашнем матче с Бельгией. Как я понял, они крупно поставили на наших — один к трем. Земля поддавалась легко, рыхлый чернозем, но все равно здорово выдохся. Сто лет не занимался физической работой — и вот напоследок такой курьезный случай. Вдобавок ноги промокли в легких кроссовках. Когда углубился на метр, Абдулла прикрикнул:
— Хватит, эй! Глубже не надо, поширше сделай, чтобы уши не торчали.
Сперва поставили лицом к яме, потом спиной: не могли решить, как лучше. Гоготали, обменивались шуточками, в руках у всех черные стволы.
Абдулла спросил:
— Как хочешь помереть, писатель? Морду завязать?
Я не ответил. Любовался природой. Чудесная была ночь, ясная, ароматная, теплая, с отлакированным до блеска звездным шатром. Вот, значит, как бывает. Ужас смерти обострил восприятие до сверхъестественной чувствительности.
Бойцы встали кружком, наставили пушки. Абдулла провозгласил:
— Проси, чего хочешь хозяину передать. Прощальный слово.
Я молчал, парил в небесах. Тут из кустов вышел Гата Ксенофонтов, сделал знак. Парни опустили оружие. Гата объявил, что приговор временно отменяется. Подошел ко мне.
— Обратно сам дойдешь или помочь?
— Дойду. — Между лопаток кольнуло, будто шилом ткнули. — Что за комедия, Гата?
— Какая там комедия. Благодари своего ангела, что уцелел. Не знаю, какие у вас дела, но босс рвет и мечет. Поостерегся бы дразнить.
Мы шли впереди, Абдулла с компанией поотстали. Сзади доносился бубнеж: «Три впарят, к бабке не ходи… Румянцев твой давно сдох как тренер. В раздевалку годится за- место коврика…» По дороге я все же пару раз споткнулся, ноги были какие–то ватные, Гата деликатно поддержал за локоток, как девушку. Я все сомневался: спросить не спросить, но он сам заговорил приглушенно:
— Молодец, неплохо держишься. Не ожидал.
— Думал, скулить буду?
— Помирать никому неохота, стыдного ничего нет.
— Гата, скажите, пожалуйста, если можно. Гария Наумовича действительно убили?
Полковник что–то хмыкнул под нос, но после паузы все–таки ответил, хотя и туманно:
— Есть такие ухари, Витя, которых по нескольку раз убивают, а потом они опять как новенькие.
— Значит, тот самый случай?
— Я тебе этого не говорил.
Еще я хотел спросить про Лизу, не случилось ли с ней беды, но подумал, что будет чересчур. Нагловато прозвучит…
С едой наладилось. Все та же студентка Светочка (свидетельница убийства) два раза в день приносила горшок баланды (более или менее съедобной, в отличие от первого раза), чай в медном котелке, хлеб. В туалет не водили, в углу комнаты стояло эмалированное ведро с пластиковой крышкой. Параша. Наутро после имитации казни Света пришла с уколом. Заразительно смеясь, достала из–под фирменного фартука в крупную клетку большой шприц, наполненный голубой жидкостью.
— Это тебя подкрепит, Витенька. Чистая глюкоза.
— Не надо глюкозы, — возразил я. — Питание нормальное, зачем еще глюкоза?
— Не нам решать, милый. Сказано, укол, значит, укол. Если отказываешься, напиши официальный протест. Вон бумага и ручка. Только это ни к чему не приведет хорошему. Я уж знаю, поверь… А правда, ты раньше книжки писал?
— Почему писал? Я и сейчас пишу. Жизнеописание господина Оболдуева.
Мое замечание вызвало у девушки приступ смеха, она чуть не выронила шприц. К слову заметить, у нас с ней сложились вполне доверительные отношения, почти задушевные. Света была доброй, чувствительной девицей, может быть чрезмерно смешливой и склонной к незатейливому женскому озорству. Крутясь по комнате, то, бывало, ущипнет за мягкое место, то, хохоча, в шутку повалит на лежак. Я сопротивлялся заигрываниям как мог, но чувствовал, бесполезно. Еще в первый раз, когда Света пришла одна, попробовал выяснить, как она могла видеть меня выходящим из квартиры Гария Наумовича с окровавленными руками, если живет в Звенигороде. Оказывается, она здесь не жила, ее специально вызвали и приставили ко мне для услуг. Кроме того что она училась на пятом курсе МГУ, у нее был диплом медсестры. Такая вот разносторонне образованная современная девушка. Я спросил, приходилось ли ей прежде выполнять подобные поручения, то есть ухаживать за арестантами. Эротически смеясь, Светочка ответила, что, конечно, приходилось, но я никакой не арестант, а просто нахожусь на профилактике. Арестанты сидят в другом отсеке, туда ее не пускают. «А что потом бывало с теми, за кем ты ухаживала?» — поинтересовался я. Ответила весело: «Некоторых переводили куда–то, других выпускали, но самых занозистых, вроде Герки Буркача, отдавали доктору». — «Кто такой Герка Буркач?» — спросил я. Светочка прикрыла ротик ладошкой, видно, сболтнула лишнее. Про Буркача ничего не рассказала, но уверила, что мне лично опасаться нечего, меня ведут в щадящем режиме. Надо только перестать дурачиться и сделать все, что требуют. «А ты знаешь, чего от меня требуют?» — «Конечно. Про это все знают. Лепят вечного должника. Витюша, это вовсе не страшно. Мы все в таком положении». — «Кто это все, Светочка?» — «Ну-у… — Она неопределенно повела рукой. — Все, кто не вампирит».
По–своему она была добросердечной девушкой, но с уколом уперлась. Я предложил:
— Давай сделаем так, Светланчик. Шприц в ведро, а я прикинусь, что получил дозу.
— Никогда на это не пойду, — ответила она твердо. — Проси, чего хочешь, только не это. Мне еще пожить охота.
После глюкозы у меня в башке все шарики спутались, и появление в комнате Изауры Петровны я воспринял как пугающее сновидение.
— Подгоняют моего мальчика, подгоняют, — пропела она, оглядев меня со знанием дела, и даже ухитрясь ловко приподнять веко на правом глазу (у меня, а не у себя). — Скоро станешь как шелковый.
— Я давно как шелковый, — прошамкал я, блаженно щурясь. — Чего пришла, Иза? Потрахаться хочешь?
— Придурок, — бросила беззлобно. — Если даже так, грех, что ли?
— Не грех, что ты. Напротив. В нашем обществе блядство — наипервейшая из добродетелей. Беда в том, Изочка, что не смогу тебя удовлетворить, хе–хе–хе.
— Почему, дурачок?
— Глюкозу принимаю, — ответил я многозначительно. — Научный опыт. Сил нет задницу почесать.
— Хватит кривляться. — Изаура нахмурила выщипанные бровки. — У меня серьезное дело. Хочешь выбраться отсюда?
— Зачем, Иза? Везде одинаково.
— Скоро придет Патиссон, делай все, как он скажет. Подпиши любую бумагу. Будешь дальше кочевряжиться, превратят в растение. Опустят так, что не вынырнешь.
— Тебе какая разница, что со мной будет?
— Значит, есть разница. Не надейся, долго с тобой нянчиться не будут. Здесь не хоспис.
Напрягшись, я задал вечный вопрос:
— Иза, душа моя, объясни дураку, зачем твоему мужу все это понадобилось?
Изаура Петровна выпустила мне в нос сизую струю дыма, аппетитно припахивающего травкой.
— Не понимаешь, глупыш? Ах, да где тебе понять. Скучно папочке, ску–учно… Хочется чего–то новенького, горяченького. Ты и подвернулся под руку. Книжки пишешь? Романы сочиняешь? Миллионеров презираешь? А не угодно ли на карачках поползать? Не желательно говнецо пососать? Уловил, убогонький?
— Дай затянуться, — заныл я. — Дай хоть разочек.
Смилостивилась, сунула мне косячок в зубы. Ах, как хорошо! Потом внезапно исчезла…
Герман Исакович явился не один, за ним Абдулла внес в комнату телевизор с видеоприставкой. Абдуллу он тут же отправил восвояси, мне сказал:
— Кино сейчас посмотрим. Хочешь кино посмотреть, Виктор Николаевич?
— Еще бы, — радостно отозвался я (час назад Светочка вкатила еще глюкозы, мир в глазах радужно переливался).
— Триллер любительский, — предупредил Патиссон, — съемка некачественная, но сюжет вас заинтересует, надеюсь.
Сюжет был такой. Пожилая пара, мужчина и женщина, вышли из магазина. Прилично, неброско одетые, на мужчине серый опрятный костюм старинного покроя, на женщине темное длинное платье. У мужчины в руке холщовая сумка с покупками. По виду — пенсионеры совкового поколения, но еще не опустившиеся до помойки. Из тех, кто вечно всем недоволен, чересчур медленно вымирающий электорат. Черный камень на пути рыночной благодати. Именно таких показывает телевидение, когда они по праздникам собираются на свои потешные маевки и, сотрясая воздух худыми кулачками, требуют какой–то социальной справедливости. Реликты минувшей эпохи. Женщина взяла своего спутника под руку, и они, воркуя о чем–то, двинулись по тротуару. Фильм шел без звука, съемка скрытой камерой. Навстречу пожилой паре выдвинулись трое молодых людей, которые шли как–то так, что занимали весь тротуар. У всех троих в руках, естественно, по бутылке пива, у одного мобильник. В зубах сигареты. Смеющиеся, приветливые лица уверенных в себе пацанов. Случайная встреча поколений, победителей и побежденных. Разойтись по–доброму не сумели. Пенсионеры замешкались, не уступили сразу дорогу, и один из парней в праведном возмущении пихнул пожилого дядьку так, что тот вылетел на шоссе и едва не угодил под проносившийся мимо «мерс». Женщина беззвучно заголосила, беспомощно замахала руками, но куролесила недолго. Ближайший молодой человек, с отвращением кривясь, вырубил ее двумя ударами, ногой в живот и кулаком по затылку. Женщина распласталась на асфальте, распушив реденькие прядки седых волос, и хотя звука не было, я словно услышал ее тяжкий, болезненный стон. Мужчина, подняв сумку, ринулся к ней на помощь, но его тоже быстро успокоили, осадили с двух сторон бутылками по черепу. Так он и улегся рядом с подругой, неловко подломив руки под туловище. Камера проследила, как изо рта на асфальт вытекла черная струйка. Парни встряхнулись, как псы после купания, плюнули по разу на безмозглую парочку — и не спеша удалились. На этом фильм закончился.
Обычная уличная сценка, но я не сразу пришел в себя. Даже глюкозная вялость чуть отступила. Дело в том, что нерасторопные пенсионеры были моими родителями, отцом с матушкой. Как я ни клонил голову набок, как ни щурился, все равно получалось, что это они. Герман Исакович наблюдал за моей реакцией с любопытством, белая пенка выступила на губах, золотые очочки сверкали.
— Что это значит? — спросил я, наконец. — Зачем вы это показали?
— Скинхеды — бич нашего времени, — горестно ответствовал доктор. — У нашей Думы не хватает мозгов, чтобы поскорее принять надлежащий закон об экстремизме… Но вам нечего беспокоиться, голубчик мой. Наши люди позаботились о стариках, доставили в больницу. Сейчас оба в полном здравии.
— Каким же образом ваши люди там оказались, да еще с видеокамерой?
— Благодарите господина Оболдуева. По его личному распоряжению к вашим родителям приставлена охрана. Иногда я сам поражаюсь его прозорливости. Кстати, это в его правилах.
— Что в его правилах? Калечить стариков?
Патиссон улыбнулся снисходительно.
— Понимаю ваши чувства, но зачем так грубо, батенька мой? Леонид Фомич всегда окружает отеческой заботой ценных сотрудников. Не жалеет затрат. Его забота распространяется и на их семьи. Разумеется, если вы вынудите его расторгнуть контракт…
— Что я должен делать?
— Да будет вам, Виктор, что вы как маленький? Напишите расписку, нотариус быстренько заверит, и дело с концом. Все, как говорится, свободны. Думаете, мне приятно с вами возиться? Думаете, у меня других дел нет? Открою вам по секрету, час назад я имел аудиенцию у Леонида Фомича. Он расспрашивал о вас. Я доложил, что, по моему мнению, разумнее перевести вас в стационар, чтобы в более подходящих условиях провести кардинальное обследование психики. Это не моя блажь. У вас, сударь мой, действительно неадекватное восприятие реальности, Грозный, скажу вам, признак… К сожалению, Леонид Фомич отказал. Я не сумел его убедить. Он все еще надеется на здравый смысл. Но, конечно, его терпение не беспредельно.
— Герман Исакович, вам не снятся кровавые мальчики по ночам?
Доктор снял очки, протер стеклышки алым шелковым платком. Без очков его круглое лицо с наивными голубыми глазками, с беспомощным выражением вселенской доброты стало удивительно похожим на широкую масленицу с ее блинами и икрой.
— Сударь мой, вы даже отдаленно не представляете себе, с какой проблемой столкнулись, — произнес он
проникновенно. — Вам ли, обыкновенному руссиянскому интеллигенту, хвост задирать?.. Себя не жалеете, пожалейте папу с мамой. Вы же видели, каково им приходится без моральной поддержки сына–писателя. И ведь это только начало.
Глюкоза снова подействовала, и я увидел, как на его светлом костюме проступили бурые пятна в виде неких рунических знаков, то тут, то там. Самое крупное и яркое пятно — почему–то на ширинке. Я сказал:
— Уговорили, согласен. Напишу расписку. Господь вам судья, доктор Патиссон.
ГЛАВА 22 ГОД 2024. МОСКВА В ЛИХОЛЕТЬЕ
За десятилетия, прошедшие со времени коммунистического ига, Москва так похорошела, что ее было трудно узнать, и мало чем отличалась теперь от других европейских столиц, а кое в чем, безусловно, их превосходила. Так, без преувеличения можно сказать, это был самый интернациональный город во всей вселенной, и получилось это как–то само собой. Для того чтобы придать Москве современный лоск, подрумянить ее древнее лицо и загнать в небытие сталинские и хрущевские трущобы, понадобилось огромное количество иноземных рабочих, в основном турок; одновременно в город за легкой добычей и на постоянное обустройство хлынули Кавказ и Средняя Азия; за ними потянулись караваны инвесторов со всего мира; и хотя до сих пор по инерции считалось, что Москва принадлежит руссиянам, в ней даже сохранялась городская управа (мэрия), которая, правда, на три четверти состояла из хохлов, немцев и литовцев, образовавших три самостоятельные, враждующие между собой фракции, а возглавлял ее сухоликий англичанин по имени Марк Губельман, повторим, хотя в силу еще не упраздненной ельцинской конституции Москва по–прежнему называлась (на бумаге) столицей руссиянских племен, в действительности это было далеко не так. Отчаянного западного туриста, рискнувшего провести уик–энд в самом экзотическом уголке земного шара, в первую очередь поражало пленительное многоязычие и многоликость столичного населения. В прессе древний русский город иначе и не именовали, как Новый Вавилон.
Реальная власть в Москве, как и во всех других столицах третьего мира, подвергнутых глобализации, принадлежала миротворческому корпусу, чей главный штаб расположился в Кремле. В знаменитых путевых заметках француза Шарля де Кутюра, названных им «К берегам семи морей», так описаны его первые впечатления: «…Я вошел на Красную площадь, благодаря изобилию красочной рекламы похожую на художественный вернисаж, и сразу со всех сторон ко мне устремились аборигены в живописных нарядах, лепечущие на разных языках. Большинство просили милостыни, но были такие, кто предлагал немедленно заключить выгодную сделку. Из того, что удалось разобрать, три предложения показались мне заманчивыми: за небольшой взнос вступить в фонд академика Сахарова; приобрести задешево (1 доллар) партию самогладящих утюгов из Малайзии, а также пройтись в ближайший переулок и получить какой–то хороший приз. Тем временем две цыганки гадали мне по руке, тоже требуя доллар (впоследствии я узнал, что это обычная цена за любую услугу), остальные аборигены, с криками отталкивая друг дружку (двоих ребятишек лет по десять затоптали в свалке насмерть), шарили у меня по карманам. В заключение подошел пастор в черном костюме и согнутым пальцем пребольно постучал меня по лбу, прибавив на чистом английском: «Зачем пришел в наш садик, нечестивец?»
Ошеломленный, я уже не чаял выбраться с площади живым (припомнились увещевания добрых друзей, отговаривавших от путешествия), как из кремлевских ворот вырвался броневик (на бортах знакомая эмблема: череп с костями) и на полной скорости понесся к нам. Аборигены кинулись врассыпную, но из броневика выскочили с десяток миротворцев и, припав на одно колено, осыпали бегущую толпу праздничными петардами, из которых при взрыве высвобождались сотни мельчайших ядовитых иголок типа «Зодиак». Разумеется, я читал о подобных (довольно варварских) методах усмирения, но воочию наблюдал впервые. Честно сказать, неприятное, но завораживающее зрелище. В мгновение ока площадь покрылась недвижными телами… Ко мне приблизился командир миротворческой команды и потребовал документы. Хотя у меня была при себе всепланетная виза Зэд–уровня, обеспечивающая неприкосновенность на всей территории, где действовал устав Евросоюза, все же я испытал тревожную минуту, когда встретился взглядом с грозным человеком, то ли турком, то ли мексиканцем, увы, я так и не научился отличать их друг от друга. Во всяком случае, передо мной стоял представитель чуждой мне расы, и в его глазах было нескрываемое желание при малейшей оплошности стереть меня в порошок. Однако все обошлось. Против всепланетной визы он оказался бессилен и лишь угрюмо посоветовал не соваться без специального прикрытия в людные места.
— Лучше всего, мистер Шарль, садитесь на самолет и убирайтесь в свой Париж.
— Неужели так опасно? — спросил я.
— Чернь непредсказуема, — нехотя объяснил миротворец. — Несмотря на все наши усилия, руссияне по–прежнему плодятся, как крысы.
На площадь уже выехали уборочные машины и железными крюками ловко забрасывали трупы в кузова. Я успел заметить вспыхнувшие радугами платья незадачливых гадалок…»
Как известно, Шарль де Кутюр пробыл в Москве целых две недели, но впоследствии всю оставшуюся жизнь провел затворником в своем загородном поместье, не принимая даже репортеров. Зато книга «К берегам семи морей» мгновенно стала бестселлером и разошлась немыслимыми тиражами, получив вдобавок Пулитцеровскую премию — за гуманизм и правдивое отображение жизни вымирающих народностей….
* * *
Митя Климов вернулся в Москву аккурат к невольничьим торгам, ежегодному народному празднику, проводившемуся в первых числах сентября. Об этом празднике, учрежденном специальным указом Евросоюза в 2015 году, следует сказать особо, ибо в нем, как в капле воды, отразились многовековые чаяния сотен поколений руссиян. Собственно, невольничьими торгами светлый праздник прозвали простолюдины, в официальном постановлении он именовался как «День всеобщей справедливости», выражая в названии сокровенную суть торжества. В этот единственный день в году каждый обыватель имел право продать самого себя любому желающему за самолично назначенную цену. Веселье усугублялось тем, что все заключенные сделки имели юридическую силу только до следующего утра. Кроме того, в этот день объявлялся мораторий на отлов преступников, поэтому москвичи чувствовали себя в полной безопасности и спозаранку, одетые в свои лучшие наряды, собирались на площадях, где были установлены дощатые помосты для бесчисленных аукционов, а также накрыты столы для раздачи бесплатных угощений за счет городского бюджета. Любой мог на халяву выпить кружку крепчайшего солодового пива и сожрать ароматную, свежую черную булку из отрубей. Многие с голодухи набивали брюхо сразу, а потом весь день завистливо поглядывали на более терпеливых сограждан. Подступиться к халяве вторично было невозможно; тем, кто отоварился, ставили на ладонь несмываемый темно–синий знак в виде летящего голубка. С утра до ночи над взбудораженной, счастливой Москвой гремела музыка, артисты давали бесплатные концерты, а ближе к вечеру всенародно избранный мэр Марк Губельман объявлял начало карнавала чудес, по пышности не уступавшего тем, какие проводят в Бразилии и других южных странах. Естественно, на карнавале, особенно если отключали электричество, не обходилось без перестрелок и массовой резни, но это ничуть не омрачало праздничное настроение аборигенов, которые в этот день чувствовали себя настоящими людьми, бизнесменами и предпринимателями, и старались выжать из этого максимум удовольствий. Заканчивались народные гулянья далеко за полночь ритуальным возжиганием вечного огня у мавзолея первого всероссийского царя Бориса (остальных до 1917 года новейшая история признала самозванцами). Рядом с мавзолеем в мраморных ковшах, испещренных американской символикой, покоились останки его ближайших соратников и учеников — пламенного Чубайса, блистательного Гайдара (отец нации), неустрашимого, вечно молодого Немцовича, великого правдолюбца Березовского (второй отец нации) и многих других героев, патриотов, преданных сынов отечества, порубивших на куски гидру коммунизма.
…Едва Митя Климов сошел на перрон бывшего Курского вокзала, ныне носящего гордое имя Буша–младшего, как к нему кинулся оборванный пацаненок лет десяти с истошным воплем:
— Купи меня, дяденька, купи меня!
Стряхнув ребенка с ноги, Митя приподнял его за шкирку и, глядя в мутные от анаши глаза, строго спросил:
— Чего орешь, пигалица? Зачем мне тебя покупать?
Малыш извивался, как червяк, но продолжал блажить:
— Дешево, дяденька, совсем задаром… Пять зеленых или сотня деревянных… Купи, не пожалеешь. Давай поторгуемся.
Только тут Митя вспомнил, какой сегодня день, но сразу не мог решить, хорошо это или плохо. Наверное, все- таки скорее хорошо, чем плохо. В праздничной суматохе он, пожалуй, меньше будет бросаться в глазах со своей нормальной аурой и скорее разыщет Деверя. Вдобавок малыш показался достаточно смышленым, в этом возрасте процесс дегенерации иногда замедлялся.
— Как тебя зовут?
— Ванька Крюк. А тебя?
— Сможешь дворами провести на Самотеку?
— Хоть куда проведу. — Пацаненок обнажил гнилые, еще молочные зубки. — Денежки вперед… Ладно, два доллара и пятьдесят деревянных. Дешевле соску не купишь.
Чего у Мити было много, так это денег, не пожадничал Улита, хотя сто раз повторил, что средства народные, чтобы не сеял как попало. Набитый валютой кожаный пояс со специальной пропиткой, выдерживающий прямой укол стального жала, обтягивал туловище под рубахой, да в карманах босяцкой куртки–брезентухи полно было мелочи на текущие расходы. Митя дал пацаненку замусоленный доллар, тот завизжал от восторга и сунул бумажку за щеку. Митя предупредил:
— Только без фокусов, Ваня. Не вздумай лыко драть.
— Я не фраер, — обиделся пацаненок. — Сделка честная. А ты не простой, да?
— Почему решил?
— Вроде держишься без оглядки.
Сообразительность пацана Митю не удивила. Дети канализации, беспризорники, городские ошметки рано взрослели и так же быстро превращались в маленьких, тихих старичков–недоумков. До зрелого возраста, до четырнадцати, пятнадцати лет редко кто доживал.
На то, чтобы добраться до Самотеки, ушло полдня. Ваня Крюк не соврал, вел Митю такими путями, где черт голову сломит. Так называемая полоса отчуждения начиналась сразу за сверкающими фасадами жилых проспектов и была заполнена всевозможными свалками, пустырями, развалинами и кое–где пересекалась бурлящими сточными водами, подобными разливам рек. То был как бы город в городе, миротворцы без особой нужды сюда не заглядывали, опасаясь ядовитых испарений, радиации и банд отщепенцев, которые хозяйничали на этой территории наравне со стаями одичавших собак и крысами–мутантами, обладавшими такими зубами/ что запросто перекусывали стальные тросы. Раз или два в месяц на задах города проводили общую дезинфекцию, пускали в стоки ртутную массу, а также под давлением закачивали мертвящие смеси типа «Циклон‑2» и «Бикозин-П», но практически безрезультатно. Одичавшее зверье давно адаптировалось к любой отраве, а отщепенцы на время дезинфекции прятались в подземных катакомбах, где вообще становились недосягаемыми и не поддавались никакому учету. К слову сказать, именно они, отщепенцы, составляли главную головную боль городских властей. Доподлинно про них было известно лишь то, что это маргинальное новообразование, подобное социальному нарыву, сформировалось из пролетарских слоев, но подпитывалось отчасти технической интеллигенцией, не вписавшейся в рыночный рай. Считалось, что отщепенцы не представляют реальной угрозы городу в силу своей малочисленности и неорганизованности, но, возможно, это было не так. Время от времени из этой клоаки поступали тревожные сигналы, пугавшие верноподданных горожан. К примеру, недавно по государственному каналу показали двух отщепенцев, мужчину и женщину, отловленных на полосе отчуждения. По внешнему виду обыкновенные дикари, обросшие волосами, с едва прикрытыми срамными местами, которые не отвечали ни на какие вопросы ведущих, а лишь забавно кланялись да крестились, но когда к ним попробовали (на глазах у телезрителей) применить гуманитарные средства воздействия — иглу и ток, — оказалось, что они невосприимчивы ни к тому, ни к другому. То есть, подключенные к шоковому агрегату «Эллада» (гарантированная эффективность — 100 %), они тряслись и трепыхались, но как–то по- лягушечьи, без всякого просветления. Затем, когда им вкололи по слоновой дозе препарата «Нирвана», они, вместо того чтобы, как все разумные твари, заняться совокуплением, начали зевать, опять же смешно креститься — и, наконец, рухнули в глубокий обморок, из–за чего пришлось прекратить прямую трансляцию.
Что за существа? Чего от них ожидать? Ответа на эти вопросы не было даже у виднейших биологов.
На столе у мэра Марка Губельмана лежал проект затопления всех станций метро за пределами столичного кольца, что, по аргументации авторов проекта (шанхайская группа реформаторов) кардинально решит вопрос, во всяком случае выдавит отщепенцев на дальние окраины, где можно будет без урона для фешенебельных районов проживания иностранцев дожечь их напалмом. Проект одобрили в штабе миротворцев, но у самого Губельмана были кое–какие сомнения. Станции метро, как и вся территория Москвы, были проданы и перепроданы по нескольку раз, и водное отчуждение окраин могло привести к судебным тяжбам, чреватым непредсказуемыми последствиями для него лично.
Митю с его юным проводником группа отщепенцев окружила на одном из пустырей, заваленном горами зловонных мешков с какой–то органикой. Человек шесть выскочили из развалин и в мгновение ока взяли их в плотное кольцо. Нападавшие представляли собой живописное зрелище: оборванные, исхудавшие, многие с ярко–красными пятнами проказы на бледных, синюшных лицах, все неопределенного пола и возраста, но передвигавшиеся быстро, слаженно и явно вменяемые. Это поразило Митю больше всего. Как любой горожанин, он много чего слышал про отщепенцев. Однако столкнулся с ними впервые. Митя не испугался, был уверен в себе, но внутренний голос подсказывал, что ссориться с ними не стоит, хотя бы по той причине, что он у них в гостях.
Предводитель группы, косматый, с пергаментным лицом, но с лукавыми огоньками в иссиня–черных глазках ткнул его в грудь тонкой железной пикой:
— Лазутчик? Шакал? Мародер? Говори.
— Странник, — ответил Митя. — Иду по своим делам на Самотеку. Никого не трогаю.
— Почему прячешься?
— Я такой же отверженный, как и вы.
— Что надо на Самотеке?
Митя помедлил мгновение. У отщепенца в глазах нет и намека на дурь, и дикция совершенно отчетливая, как у непогруженного.
— Деверя ищу. — Его слова произвели среди отщепенцев сотрясение, они все разом сдвинулись ближе. Пацаненок Ваня Крюк заполошливо забулькал:
— Не трогайте его, он не врет. Он с поезда, у него доллары есть. — В подтверждение он выудил из–за щеки мокрую заветную бумажку.
Предводитель поднял пику к Митиной шее.
— Зачем тебе Деверь?
— Послание имею.
— От кого?
Опять Митя колебался недолго.
— Из дальних краев. От Марфы–кудесницы. Слыхал про такую?
По группе отщепенцев пробежал легкий общий вздох, словно перед нырком в глубину. В глазах предводителя появилось странное выражение, недоверчивость, смешанная с надеждой.
— Раздевайся, — приказал он.
Митя подчинился. Медленно снял куртку, рубашку, полотняные брюки со штопкой на коленях (новая одежда на руссиянине автоматически вызывает подозрение), размотал и аккуратно сложил пояс, спустил трусики из ситчика, остался в чем мать родила. Отщепенцы в десять рук его ощупали, обстукали, нырнув во все дырки. Митя зябко поеживался. Такой вроде бы поверхностный обыск, конечно, имел смысл. Даже если бы Митю подзарядили умельцы из миротворческих лабораторий, все равно где–нибудь на коже или (что чаще всего) на черепушке обнаружилось бы входное отверстие. Из карманов брезентухи отщепенцы высыпали на землю содержимое: сигареты, зажигалку, упаковки питательных таблеток, складной нож с десятком приспособлений, включая миниатюрный миноискатель, а также деньги в мелких купюрах — доллары, рубли, монгольские тугрики, иены, евро… Предводитель собрал деньги в горсть.
— Зачем столько разных?
— Для отвода глаз, — сказал Митя.
Нехорошо кривясь, предводитель поднял кожаный пояс, бегло прощупал. Митя ожидал, что потребует вскрыть, но тот, покачав головой, вернул пояс.
— Одевайся.
Митя оделся. Поведение отщепенцев его озадачило. Никто не польстился ни на деньги, ни на что другое. Это вступало в противоречие с расхожими представлениями о маргиналах. Чувствовалось, все они слепо подчиняются воле главаря, что могло свидетельствовать о наличии коллективного разума. Митя покосился на пацаненка, тот грезил наяву, следя, как богатство исчезает обратно в карманах. Счастливо открытый рот, побледневшие от алчности детские глазенки.
— До Деверя трудно добраться, — сказал предводитель, понизив голос, хотя, казалось бы, кто мог подслушивать на зачумленном пустыре. Пятеро других отщепенцев синхронно зажали мохнатые уши ладонями, пацаненок Крюк что–то тихонько пискнул, как в первый раз, когда услышал это имя.
— Я доберусь, — заверил Митя.
— Время «Ч»? — шепнул предводитель, не отворяя губ, и Климову показалось, глаза у него нырнули в череп и потухли.
— Чего не знаю, того не знаю. Это не в моей компетенции.
— Если повезет и найдешь Деверя, скажи, мы давно готовы.
— Скажу. Но я не знаю, кто ты.
— У нас нет имен. Он поймет… — Предводитель перевел вернувшиеся на место глаза на пацаненка. — Эту каракатицу оставь здесь, он ненадежен.
Ваня Крюк с воплем рванулся бежать, но не сделал и двух шагов, как очутился под мышкой у одного из отщепенцев. Мите это не понравилось.
— Отпустите его, — потребовал он. — Он купленный.
— Я купленный, купленный! — заверещал пацаненок. — Я его раб до утра… Я…
Отщепенец, поймавший пацаненка, прикрыл визжащий рот ладонью.
— Хочешь, забери, — удивленно сказал предводитель. — Но после не пожалей. Маленький зомби иногда опаснее большого зомби.
— Я за ним пригляжу.
Отщепенец стряхнул пацаненка с руки — тот подскочил к Мите и вцепился в его колено.
— Никогда не играй по их правилам, гонец, — посоветовал предводитель. — Все равно обманут.
Дальше двинулись в сопровождении всей группы, по дороге к ним присоединились еще десятка два отщепенцев, полуголые, угрюмые, передвигающиеся как бы во сне. Изредка то тут, то там возникали дикие собаки, но близко не подходили. Тявкнут раз, другой, порычат — и исчезнут. Расклад сил на этой территории был Мите понятен. Они с главарем вели приятельскую беседу.
— Первый раз в Чистилище? — поинтересовался главарь.
— Бывал раньше. С год назад.
— Ну да? — не поверил тот. — Ты же просветленный.
— Длинная история. — Пацаненок путался у Мити под ногами, хватал за руку. Митя сам не понимал, зачем тащит его с собой. Главарь безусловно прав: дети Москвы опаснее ядовитых тараканов, ужалят — и не уследишь, но Митя теперь часто поступал неадекватно. В свою очередь, он спросил:
— Твои люди… На каком коде?
— Ни на каком… На них не действует глубинная стерилизация. Почти животные.
— И как объясняет это наука?
— Науке пока не до нас, — усмехнулся главарь. — Мы для нее отработанный материал. Вторичная переплавка…
Когда сквозь курчавые дымки горящих свалок проступили черные шпили Самотеки, главарь остановился, удержал Митю за плечо. Остальные отщепенцы сбились в кучу в отдалении.
— Все, дальше нам ходу нет. — Он теперь чем–то неуловимо напоминал Мите учителя Истопника. Неторопливость речи, внимательный взгляд, внушительность жеста. — Скажи, ты правда от Марфы? Это не блеф?
— Не сомневайся, от нее.
— Разговаривал с ней?
— Как с тобой. — Митя блаженно улыбнулся.
— И какая она?
— Спроси что–нибудь полегче.
Предводитель нахмурился, погрустнел, и Митя, понимая его состояние, добавил:
— В конце концов, командир, разве так важно, какая она? Важнее, что существует.
Предводитель тяжко вздохнул, как проснулся.
— Конечно, я тебе не верю, гонец, но слушать приятно… Да, чуть не забыл. У Деверя есть двойники, не попадись на эту удочку.
— Лабораторные?
— Какие же еще. Говорят, по виду не отличишь.
— Отличу, не волнуйся. — Митя повернулся и пошел. Ваня Крюк за ним. Едва отошли на безопасное расстояние, он облегченно забулькал:
— У-уф, страшно было, а тебе, босс?
— Не очень… Чего боялся?
— Да ты что? Они все отвязные, человечину жрут. Я на плакате видел. Отрежут ногу или руку — и хрум, хрум. Даже не варят, сырятиной едят… Как думаешь, почему они башли не взяли?
— Где им их тратить?
На Самотеку прошли длинным, закопченным проходным двором, словно из тени в свет, и сразу окунулись в буйство праздничного дня. Мите повезло: они оказались на площади, окольцованной громадными рекламными плакатами, где предлагали себя на продажу в суточное рабство гулящие девки, то есть те из горожанок, которые еще надеялись зашибить копейку старинным женским ремеслом. Одна задругой под ритмичную музыку выскакивали на дощатый помост и демонстрировали свои прелести, кто как умел. Некоторые, помоложе, успевали исполнить стриптизик, более зрелые матроны, не полагаясь на свою сноровку, выбегали уже полуголые — каждой отводилось на показ три минуты, что было вполне оправданно: иначе не успели бы попытать счастья все желающие. Покрутившись на помосте, очередная стриптизерша выкрикивала свою цену, и толпа зевак, сгрудившаяся на площади, отвечала доброжелательным ревом и свистом. И хотя цены были бросовые, торговля шла худо, можно сказать вообще не двигалась. На площади в основном скопилась раздухарившаяся чернь, у которой не было денег на лишнюю дозу дури, не то что на рабыню. Однако это обстоятельство ничуть не снижало накал невольничьих торгов.
Митин план розысков заключался в том, чтобы пустить слушок впереди себя: дескать, какой–то чудик–приезжий активно ищет контакта. Слух, разумеется, дойдет до Деверя, и тот сам выйдет на связь, если захочет. Если захочет. Если нет, придется придумать что–то другое. У плана был единственный, но большой недостаток: глазастая, ушастая агентура миротворцев может опередить Деверя. Смехотворный риск по сравнению с тем, что Мите предстояло сделать в ближайшие дни.
Оглядевшись, он выделил среди гомонящей, веселящейся публики смурного мужика с черной бородой, державшегося как бы поодаль. То ли от халявного пива, то ли от утренней дозы вид у него был обалделый. Митя послал пацаненка, чтобы привел мужика. Ваня Крюк выполнил поручение с неохотой, он увлекся торгами и уже минут пять уговаривал купить «вон ту сисястую». «Зачем она тебе?» — удивился Митя. «Как зачем, как зачем? — ершился угорелый мальчуган. — Красивая телка, ты что?! На пару оприходуем. Обоим хватит».
Мужик приковылял и уставился на Митю мутными гляделками.
— Купить хочешь? Сколько дашь?
— А сколько просишь?
Мужик стукнул себя в грудь кулаком, надеясь поразить возможного покупателя молодецкой удалью.
— Не ниже десятерика, парень.
Пацаненок забился в истерике.
— Старая перечница, во заломил, да, Митрий?! Десятерик! Наглый, гад!
— Заткнись, — цыкнул на пацаненка Митя, тщетно ловя в глазной мути мужика хоть искорку человеческого сознания. Нет, мерцающая пустота.
— Хорошо, — согласился он. — Дам десять баксов и сверх еще пятерку, если поможешь в одном деле.
Мужик вскинулся, как старый конь при звуках походной трубы.
— Чего надо? Говори.
Митя подобрался, пригнулся, промолвил значительно:
— Деверя ищу, понял, нет?
Мужик сник с лица, отступил на шаг. Показалось, нырнет в толпу, но жадность пересилила.
— Не знаю такого, — ответил хмуро.
— Не важно, помоги найти, пятнашка твоя.
— Покажи бабки.
Митя наугад вытянул из кармана пучок зелени. Тусклые очи руссиянина дико сверкнули, правая клешня инстинктивно дернулась.
— Риск большой, добрый господин. Дай задаток.
Митя отшелушил два доллара, сунул в узловатую лапу.
— Сделка, сделка! — не удержался, завопил пацаненок и получил от Мити подзатыльник, перевернувший его с ног на голову.
Пока он вставал и отряхивался, мужик шепнул Мите:
— Купи Зинку Сковородку. Только что выставлялась. Сотый лот.
— Хорошо, куплю… — С мужиком, который назвался Петюней, сговорились, что ближе к вечеру встретятся в таком–то месте (у шашлычной «Манхэттен» на трех вокзалах), Петюня пообещал навести справки у каких–то авторитетных бомжей, якобы владеющих запретной информацией. Митя в сопровождении неугомонного пацаненка пошел искать Зинку. По дороге пацаненок обиженно бухтел: «Как же так, дяденька Митрий, отвалить за старую рухлядь такие бабки, да я бы его за трояк сделал не глядя…»
С Зинкой разговор сложился напряженно. Она только что повздорила с товаркой, схлопотала фингал под глаз и сидела на ящике из–под пива, удрученно разглядывая себя в осколок зеркала. Товарке досталось больше. Она получила пивной бутылкой по башке и в отключке, скрюченная, валялась на земле. Зинка поставила на нее ногу. Несколько других продажных девок возбужденно обсуждали подробности короткой схватки. Общее мнение сводилось к тому, что Скороводка поступила правильно, замочив Муню. Оказывается, та давно возомнила о себе невесть что. И на подиуме сбивала цену, повесила на себя плакатик с 50 центами. Кому это понравится? Вот Зинке и не понравилось.
— Дельце есть, — сказал Митя девице.
Зинка покосилась на него угрюмо, явно хотела послать куда подальше, но, вглядевшись, кокетливо улыбнулась. Мите она приглянулась еще на помосте: высокая, длинноногая, с круглыми, большими сиськами, и видно, что из хорошей семьи, судя по чистым, промытым волосам. У большинства московских шлюх кудри как пакля, приходится экономить на мыле.
— Отойдем в сторонку, — добавил Митя.
— Хоть отойдем, хоть не отойдем, пять баксов, и ни центом меньше, — жеманно пропела Зинка, строя блудливые глазки. — Иначе девочки не поймут.
— Хочу угостить пивком, — сказал Митя.
— Приглашаешь, что ли? — изумилась девушка, и все ее подруги разом притихли. '
— Ну да, что–то вроде того, — подтвердил Митя. Пацаненок у его ног скорбно загудел.
Зинка вскочила, уцепилась за Митин локоть и залилась диковатым смехом, напоминавшим скрежетание колес по рельсам.
Расположились в ближайшем бистро, где над дверями висела предупреждающая надпись: «Только для туземцев». Зинка сама привела их сюда, сказав, что здесь прикольно готовят конские отбивные. Конечно, это была метафора. Как и во всех подобных едальнях, предназначенных исключительно для руссиян, здесь не водилось ни официантов, ни кухни, со всем справлялась электроника: ленточный конвейер подавал дежурные блюда и напитки, стоило лишь нажать соответствующую кнопку, предварительно опустив в щель деньги. Удобство было в том, что все блюда, от брюквенного салата до упомянутой отбивной с привлекательным названием «Столичная котлета по–техасски», стоили одинаково, один доллар. За бутылку водки Митя тоже заплатил оптовую цену — 50 центов. Народу в бистро не было никого, кроме них. Москвичи избегали заходить в такие шикарные пункты питания по двум причинам: из экономии и оттого, что слишком на виду. Стеклянные окна делали посетителей легкой добычей для какого–нибудь вольного стрелка–миротворца, вообразившего себя на охоте в родных горах или джунглях.
Зинка осторожно закинула удочку, когда стояли у раздаточной ленты:
— Может, и рыбки возьмете, добрый кавалер?
Митя не поскупился, оплатил три порции «Белуги под лимонным соусом». Впрочем, мясо и рыба по виду мало отличались друг от друга: по шматку чего–то серого, похожего на обмылок, прикрытого пожелтевшими стрелками лука.
Выбрали столик почище и в стороне от линии огня. Зинка рукавом смахнула на пол остатки чьей–то трапезы: бумажные стаканчики, крошки, окурки, дососанные до фильтра. Бросала на Митю пылкие взгляды.
— Ешь, — сказал он. — После потолкуем.
Зинка управилась с угощением за пять минут, не отставал и беспризорный ребенок, норовя и с ее тарелки сцапать кусочек. Митя тоже поел, но-к водке не притронулся. Бутылку распили Зинка и пацаненок на двоих, тут уж девушке досталась львиная доля. Насыщаясь, она исподтишка наблюдала за Митей и к концу трапезы сделала какие–то свои выводы.
— Я готова, — объявила под конец, промокнув губы платочком, и, чтобы у него не осталось сомнений, к чему готова, откинулась на стуле, выпятила грудь и многозначительно подергала себя за соски. Беспризорник воспользовался случаем и хлебной коркой подчистил соус с ее тарелки. — К тебе пойдем или ко мне?
— Никуда не пойдем, — ответил Митя. — Мне нужна всего лишь информация.
— Так и знала, — горестно кивнула Зинка. — Сразу поняла, что малохольный. Учти, втянуть меня в аферу не удастся. Я законопослушная «давалка». Трижды зарегистрированная. Кто навел на меня?
— Какая разница… За информацию заплачу.
— Еще бы… И чего нужно?
— Я ищу Деверя…
— Че–его?! — Зинкины глаза подернулись фиолетовой дымкой. — Спятил, парниша? Протри зенки. Где я и где Деверь. Я вообще не знаю, кто это такой. Отстань, понял? Думаешь, купил жратвой? На–ко–ся! — Зинка сунула ему под нос синеватую дулю. Митя взял ее кулачок в ладонь и тихонько сжал. От боли Зинка побледнела, но не пикнула.
— Чего с ней базаришь, дядя Митрий! — вмешался пацаненок. — Дай доллар, расколется до пупка. Подстилка полицейская.
— Могу еще водки взять, — предложил Митя.
— Возьми. — Зинка обмякла, осела на стуле, будто пар из нее выпустили. Митя недоумевал, почему бородатый Петюня направил его именно к ней. Она ничем не отличалась от всех прочих жриц любви, которые жили, думали и священнодействовали только одним местом, круг желаний у них был еще уже, чем у мужского электората: жранина и кайф, больше ничего. Митя общался с ними в прежней бытности, до перевоплощения, и всегда относился к ночным бабочкам с пониманием. Простые и безобманные, как цветы луговые. И если пользоваться гигиенической пастой «Ландомет», безопаснее, чем резиновые куклы. Сливай им в уши любую говорильню, ничего не застревало в маленьких головках со стерильно промытыми мозгами. Все равно что лить воду в решето. Однако фраза Зинки — «Где я, а где
Деверь» — безусловно, свидетельствовала о зачаточной способности к самооценке, чего у серийной «давалки» не могло быть в принципе.
— Почему тебя прозвали Сковородкой? — поинтересовался он, пока пацаненок ходил за водкой.
— Удар справа. — Зинка с гордостью сжала литой кулачок. — Видел, как Муньку завалила? Кому хоть могу врезать.
Уже явно забыла, о чем говорили до этого. Что ж, подумал Митя, повторим. Подождал, пока красотка с жадностью вылакала из горла треть бутылки.
— У-ух, — вздохнула с наслаждением. — Как скипидар жгет… Спасибо, Митенька. Хочешь, ко мне пойдем? У меня кроватка прикольная, с сексдопингом.
Митенька! На миг сердце сжалось. Только одна женщина в мире так его называла. Она сейчас далеко, и неизвестно, удастся ли еще ее увидеть.
— Приведешь к Деверю, — отрубил он, — отстегну полтинник.
Пацаненок Ваня трагически заухал, тщетно пытаясь завладеть бутылкой, а Зинка вторично возмутилась, но как–то более покладисто.
— Зачем тебе Деверь, Митенька? Он плохой, злобный, частную собственность не признает. Его все ловят, а когда поймают, сразу повесят.
Она знала Деверя!
— Полтинник, — повторил Митя, глядя в прозрачные, налитые спиртом глаза. — Зелеными. Обновишь весь прибор.
— Кто ты, Митя? Не баламут?
— Пришелец… сама видишь. Не бойся, Зин, не выдам. — Он попытался напустить гипнозу, лишний раз убедился: с «давалками», как с «матрешками», это не проходит. Все равно что завораживать деревянную чушку. Пацаненку удалось присосаться к бутылке, но он не сделал и двух глотков, как получил кулаком в лоб и с визгом покатился на пол.
— Эй, зараза чумная! Меня нельзя бить, я «тимуровец».
— Спрашивать надо, ворюга!
— Сама ворюга! — вопил пацаненок. — Скажи ей, дядя Митрий. Глаз выколю.
— Нет, Ваня, ты не прав, — мягко заметил Климов. — Бутылку я даме купил, значит, хоть ты и «тимуровец», надо было попросить.
Услышав про себя, что она дама, Зинка оторопела, глаза подозрительно блеснули, будто слезой, но «давалки» никогда не плакали, это тоже всем известно. Даже если их резать на куски. «Тимуровец» Ваня Крюк тоже был обескуражен, молча влез обратно на стул, обиженно моргал.
— Ладно, малыш, — пожалела его Зинка. — Погорячилась я. На, глотни, если хочешь…
Обернулась к Мите.
— Про кого говоришь, не знаю, но есть одна женщина… Она может помочь.
— Что за женщина?
— Вроде сестренка моя. — Зинка потупилась. — Но она не такая, как я. Привилегированная.
— Ну да? — восхитился Митя. — И кем она приходится Деверю?
— Сам знаешь кем… Кем же еще… — Зинка раскраснелась. С ней происходили загадочные метаморфозы. Митя и рассчитывать не мог на такой успех. Конечно, помог пацаненок, с лихвой отработал затраченные на него деньги, но главное — сама Зинка. У нее привилегированная сестренка. Трудно поверить. Откуда? Привилегированных краль в Москве (еще их называли стеаринщицами или лохматками по особой форме причесок, которые только они имели право носить) не больше сотни; чтобы добиться такого высокого положения, мало угодить высокопоставленному лицу из миротворческой администрации, необходимо доказать лояльность режиму громким деянием во славу демократии. К примеру, в популярном телешоу «Женские причуды» обслужить одновременно взвод пехотинцев, либо в благотворительном сериале «Руссияне — тоже люди» прочитать без запинки задом наперед молитву «Боже, храни Америку». Многим победительницам присваивали звание посмертно, а тем, кто уцелел, пройдя все испытания, выдавали пожизненный аусвайс, гарантирующий их качество, а также ставили на спину роскошное тавро с изображением статуи Свободы. «Лохматок» обыватели знали в лицо: они не слезали с экранов телевизоров наравне с политиками и бизнесменами. Глянцевые журналы печатали их портреты на обложках и отводили целые развороты описанию их привычек и образа жизни. Молодежные кумиры XXI века…
Митя уточнил:
— Если у тебя, Зина, привилегированная сестра и она знакома с Деверем, то почему она живая?
Зинка вдруг разозлилась, вырвала бутылку у «тимуровца», который втихаря успел отсосать половину.
— Хочешь подкалымить на ней?
Видя, как недобро полыхнули ее глаза, Митя примирительно заметил:
— Не волнуйся, Зин, я не продажный… Кстати, как ее зовут по аусвайсу?
Зинка пропустила вопрос мимо ушей, допила бутылку, бросила многозначительный взгляд на окошко раздачи.
— Что ей передать?
— Передай, странник разыскивает Деверя. Готов заплатить.
— Сколько? — Разговор пошел по–деловому, и Зинка вернулась в привычный облик честной «давалки»: взгляд обрел наглинку, голос окреп, в него добавилась эротическая хрипотца. Не верилось, что минуту назад это самое существо то краснело, то бледнело от прилива каких–то полузабытых эмоций.
— Если выведет прямо на него — сотня.
— И пятьдесят мне?
— Уже сказано.
— А аванс?
— Никакого аванса, не борзей.
Митя мог бы подкинуть ей деньжат, не жалко, но не хотел выказать себя олухом, что непременно навело бы девушку на размышления о кидке.
— Хорошо. — Зинка зачем–то начала себя ощупывать в разных местах. — Не знаю, о ком говоришь, но попробую… Где тебя искать?
— Нигде. Встретимся утром здесь же.
— Могу устроить с ночевкой.
Все еще надеялась затащить в постель. Он отказался.
— В другой раз. Только не делай глупостей, Зинуля. Один неверный шаг…
— Не пугай, Митя. Вижу, кто ты такой. Не считай меня дурочкой…
ГЛАВА 23 МОСКВА В лихолетье (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Митя снял номер в «Гостиничном дворе» для туземцев, расположенном в корпусах бывшей 1‑й Градской больницы. Это было рискованно, но игра стоила свеч. С одной стороны, он вроде бы подставлялся, а с другой — заявлял о себе как о легитимном руссиянине, что давало некоторые преимущества, в первую очередь небольшой запас времени. Здесь селились те, кому нечего бояться властей. В основном руссияне, состоявшие на доверительной службе, уже доказавшие свою беззаветную преданность рыночной глобализации, заслужившие пластиковую карточку гражданина 3‑й категории. В Москву они наведывались иногда по делам, но чаще чтобы просто гульнуть, с толком потратить нажитый капитал, столица предоставляла все возможности оттянуться по полной программе. Десять–пятнадцать лет они с таким же пылом и удалью куролесили по Европе и по всему миру, но после принятия Евросоветом нового закона об эмиграции, ограничивающего оборот грязных денег, дальше литовско–польской границы их уже не пускали. Зато в Москве они могли веселиться как угодно, естественно не выходя за рамки международной статьи об идентификации, действующей на территориях стран–изгоев. В статье было около ста пунктов, нарушение каждого из них каралось смертной казнью.
Карточка свободного гражданина, выданная полковником Улитой, оказалась в порядке, хотя он немного напрягся, когда администраторша сунула ее в компьютер. После этого пришлось пройти еще несколько не слишком приятных процедур: у него сняли отпечатки пальцев и радужной оболочки глаз, взяли необходимые пробы крови и спермы — на СПИД, на лучевую болезнь, на наличие космического вируса, — прокатали на детекторе лжи, и в заключение двое служек (разбитные, озорные парни, по облику — австралийские аборигены) сводили его в «моечную», где устроили кислотный душ из двух шлангов, сдирая, местами вместе с кожей, возможную инфекцию. Кроме того, он со всем вниманием заполнил гостевую анкету, в которой любая ошибка могла дорого обойтись, ибо подпадала под статью об идентификации. Пол — средний, национальность — руссиянин, вероисповедание — либерал, род занятий — бизнес, и так далее. Наконец пожилая администраторша (цыганка?), криво ухмыляясь, вручила ему ключ от номера и пожелала «приятного времяпровождения».
Митя очутился в одноместной клетушке на первом этаже, пропахшей хлоркой от плинтуса до постельного белья, и через окно за шкирку втащил пацаненка Ваню. Предупредил: пикнешь, линчуют обоих. Пацаненок сам это понимал, но был в полном восторге. Развалился на покрывале, дрыгал ногами и счастливо повизгивал.
В номере, помимо кровати, стола, стульев и старого платяного шкафа, имелись умывальник и огороженный бамбуковой ширмочкой писсуар. На полочке над умывальником — кусок хозяйственного мыла и упаковка дешевых презервативов «Плейбой». Вскоре Митя воочию убедился, что достиг небывалого уровня комфорта. На столе чернел телефон, который с первой минуты после его заселения звонил не переставая. Звонившие наперебой предлагали разные услуги: девочек, мальчиков, редкие лекарства, травку, герыча — и вообще все, что душа пожелает.
Митя собирался выспаться и как следует обдумать свое новое положение.
Едва прилег, сбросив на пол пацаненка, как в дверь вломился детина лет пятидесяти, взъерошенный, потный, громогласный, с лопатообразным туловищем, над которым болталась несообразно маленькая головка. Глазки маслянистые, как два желудя. Одет по последней моде граждан третьей категории: вязаная фуфайка канареечного цвета, узкие брючата с бельевыми прищепками внизу. В руках литровая посудина чего–то спиртного. Вкатился без стука, двери в туземных гостиницах запирались только снаружи. Пацаненок еле успел нырнуть под кровать.
Бухнулся на стул, представился. Джек Невада, банкир из Саратова. Услышал, как въехал постоялец, заглянул познакомиться. В нескольких словах обрисовал ситуацию. Пирует вторую неделю, скука смертная. Все надоело, рад каждому новому лицу. А туг тем более — сосед.
— Шарахнем по стопочке?
Митя, сидя на кровати, в изумлении пялил глаза. Он впервые видел живого банкира, вдобавок принимавшего его за ровню. Понятно, в «Гостиничном дворе» кого попало не селят. Престижное место.
Джек Невада отпил из литровой склянки, протянул Мите.
— Не брезгуй, вчера анализ сдал. Гавайский ром… Сам надолго в первопрестольную?
— Как получится. На день, на два.
— Откуда, брат?
— Издалека.
— Оброк привез — или как?
— По–всякому.
— Как звать–величать?
— Митя Климов.
Вполне удовлетворенный ответами, посчитав, что знакомство состоялось, гость предложил смотаться в казино за углом, где у него все схвачено.
— Приличное заведение. Крупье ассириец, девочки на любой вкус. Рулетка, конечно, фиксированная, ничего не попишешь, выиграть нельзя, зато каждому игроку бесплатно наливают хоть всю ночь. А главное, быдлом не пахнет. Пропуск только по пластиковым карточкам.
Митя отказался, поблагодарив. Сказал, что не спал три ночи, только что с поезда. Может быть, завтра. Опять затрезвонил аппарат на столе. На этот раз предложили круиз по подвалам ночной Москвы, а также участие в черной мессе исключительно для господ офицеров. Митя, дослушав, оборвал телефонный провод.
— Вот это напрасно, брат, — пожурил банкир. — За это могут выселить или чего похуже. Неосторожно, брат.
Ввдно было, что напуган, и быстро ретировался. Ваня Крюк выбрался из–под кровати по уши в какой–то красноватой пыли. Отчихался, жалобно проблеял:
— Дяденька Митрий, жрать хочу.
— Опомнись, тимуровец. Мы же недавно из ресторана.
— Пузо требует, дяденька Митрий. Пожалейте сироту. Со вчерашнего дня без дозы.
— Вот что, маленький засранец. Я ложусь — и если разбудишь, башку оторву, понял, нет?
Пацаненок понял. Молча улегся на коврик возле кровати и свернулся калачиком. Последнее, что Митя запомнил наяву, были недреманные оранжевые глаза «тимуровца», как у кошки перед мышиной норой.
* ★ ★
..Летящей походкой Жаннет пересекла улицу и остановилась перед массивной дверью, над которой светилась неоновая надпись: «ОНИКС-ПЕТРОНИУМ» — и чуть пониже и пожиже: «Сталелитейная корпорация. Услуги по всему миру». В двадцатиэтажной коробке, собранной из алюминия и пластика, контора «Оникса» занимала два нижних этажа. Жаннет нажала кнопку звонка и, подняв смазливое личико вверх, к объективу, некоторое время стояла неподвижно. Наконец в двери щелкнул электронный замок — и девушка ступила внутрь. Еще через две минуты вошла в кабинет директора «Оникса» господина Переверзева — Шульца.
Из–за дубового стола поднялся мужчина средних лет, загорелый, круглолицый, кареглазый, статный, одетый в офисную униформу, приличествующую этому времени года — темно–синяя тройка, бежевая рубашка, широкий галстук темных тонов. Мужчина приветливо улыбался, но не успел он и слова сказать, как Жаннет, будто ласточка, перелетела кабинет и с жалобным писком кинулась ему на грудь, уткнулась носом в галстук. Мужчина неловко обнял ее за плечи, погладил по спине, словно утешая. Заговорил властно и нежно:
— Будет, будет, малышка, не надо соплей… Садись–ка вот сюда, на диван, успокойся, вытри красивые глазки и расскажи папочке, что у нас случилось такое срочное? Только учти, времени в обрез.
Пока ее вел, почти тащил на руках, девушка пыталась упасть на ковер, но, услышав, что времени в обрез, мгновенно взяла себя в руки. Гордо выпрямилась на краешке дивана, взгляд смелый, открытый, ясный. Вряд ли кто–нибудь, увидев ее сейчас, признал бы в ней привилегированную «лохматку», по слухам наложницу прославленного генерала Анупряка–оглы.
— Ты совсем не любишь меня, Деверь, — произнесла она с грустью. — И так будет всегда. Ты просто используешь меня, как и всех остальных.
— Мы договаривались, малышка, никогда не называть меня этим опасным именем, верно? — Мужчина взял ее руки в свои, придав укору любовный оттенок. — Что же касается остального, ты не права, Жаннет. Вчера я видел тебя в шоу «Девушка на обочине» и гордился тобой. Ты была великолепна. До сих пор не пойму, как тебе удаются все эти штучки. У меня было впечатление, что ты на самом деле полная идиотка.
Девушка слушала внимательно, склонив каштановую головку набок, в глазах мелькнула усмешка.
— Не подлизывайся, господин Шульц. Наверняка ты такой меня и считаешь. Но я ведь ни на что особенное не претендую, разве не так? И все же мужчина, который не выполняет свои обещания…
Деверь поднял руку и прижал к ее губам.
— Давай оставим выяснение отношений на другой раз. У меня правда нет времени…
Жаннет попыталась укусить его за палец, но он, смеясь, отдернул руку.
— О чем ты хотела сообщить таком важном, что нельзя передать по обычной связи?
— Думаешь, ищу предлог, чтобы повидаться с тобой? Увы, если хочешь знать, я действительно занята этим день и ночь, но не сегодня.
— Слушаю, слушаю, — поторопил Деверь, придав голосу строгость.
— В Москве появился человек, и, по–моему, это тот, кого ты ждешь.
Переверзев — Шульц, он же Деверь, он же гражданин Канады Дик Стефенсон и прочее, прочее, сделал неуловимое движение, и в пальцах у него возникла зажженная сигарета, а по добродушному лицу скользнула гримаса, которой Жаннет побаивалась. Ничего угрожающего, но все лицо на мгновение застывало, превращалось в гипсовый слепок, Ч из него уходила жизнь, и оно становилось зримым воплощением того, что сам он называл принадлежностью. Принадлежностью к чему, Жаннет не знала, зато понимала другое: в такие минуты он удалялся от нее на световые годы, и такая, как есть, с горячей, влюбленной кровью, она переставала для него существовать. Умри, не заметит.
— Почему решила, что это он?
Поборов оторопь, Жаннет рассказала о ночном запо- лошном звонке сестрицы Зинки. Суть такая: молодой, деловой, судя по всему, богатый пришелец сообщает каждому встречному–поперечному, что ищет встречи с Деверем.
— Только ты, малышка, способна относиться всерьез к бреду обкурившейся сестренки, — сказал Деверь.
— Самая подзаборная шлюха в Москве узнает просветленного, если его встретит.
— Просветленных не бывает, — возразил Деверь. — Это бабушкины сказки.
— Он так ее напугал, что Зинка боится встретиться с ним, хотя юноша обещал ей сто баксов.
— Чем напугал?
— Могу только догадываться… он владеет гипнозом. Зинка чуть водкой не подавилась, когда он смотрел на нее. Она предложила ему себя, но он отнесся к ней, как к прокаженной. Ему не нужны ни женщина, ни еда, ни что–то еще. Ему нужен только ты, Деверь.
— Господи, и чего я тебя слушаю, развесив уши, когда дел по горло.
Они препирались, но Жаннет видела, что Деверь поверил, и в ту же секунду поверила сама, что в Москве появился просветленный. Ее робкое сердце сковало льдом.
— Пошли меня, пожалуйста… Я сумею узнать, кто он такой.
— Куда послать?
— Он придет за ответом в бистро «Микки — Маус».
— Сегодня? Завтра? Когда?
— Сегодня. Я сумею… — Жаннет не уследила, как Деверь переместился за компьютер — ив руке у него уже была не сигарета, а какой–то прибор, похожий на большого коричневого лягушонка. Деверь любил ошарашивать людей такими детскими фокусами вроде перемещения в пространстве, и это ее умиляло. Такой могучий владыка и такой глупый.
Со своего места она не видела, над чем он колдует, но подойти ближе не решилась. Чего он действительно не терпел, так это излишнего любопытства. Впрочем, ее любовные стенания он тоже выносил с трудом.
— Эй, малышка, — Деверь оторвался от компьютера, — как, говоришь, зовут пришельца?
— Митя Климов.
— Кто подослал его к Зинке?
— Какой–то удрученный из толпы.
— Ничего не путаешь?
— Если б я путала, — резонно заметила Жаннет, — то вряд ли дожила бы до своих лет.
* * *
Климов вошел в бистро около двенадцати, за доллар снял с раздаточной ленты кружку экспресс–кофе и уселся за тот же столик, что накануне. Понюхал черную бурду: запах густой, как в общественном сортире.
В отличие от вчерашнего, бистро не пустовало: три влюбленные пары ворковали за столиками в разных углах. Более очевидного знака, что его взяли на заметку, не могло быть. Причем повели грубо, бескомпромиссно. Никаких влюбленных пар в Москве, как и по всей России, давно не было в помине, а если бы они вдруг где–то завелись, бистро «Микки — Маус» было последним местом, куда они могли сунуться. Вопрос лишь в том, кто его засек: люди Деверя или СД (служба досмотра). Вариантов дальнейшего
поведения было немного, не хотелось считать. Через несколько минут все прояснится само собой.
Митя спокойно пил кофе и не думал ни о чем.
Чуть за двенадцать двери распахнулись и в зал с гомоном и грохотом влетели трое вооруженных миротворцев. Молодые, накачанные, азартные. Все трое в летней полевой форме: широкие брюки, имитирующие звездно–полосатый флаг США, голубые просторные рубахи с закатанными рукавами. Двое азиатов и один европейского вида, с загорелым лицом дебила. У европейца голову обхватывал обруч биофиксатора, реагирующего на враждебную ауру: командир. Миротворцы действовали слаженно и быстро. Сперва повалили на пол, посбивав со стульев, влюбленные парочки, сопровождая затрещины истошными криками: «Шнель, шнель, русише швайн!», потом окружили Митю. Влюбленные слишком удобно развалились на полу, без всяких увечий. Обычно при таких проверках кости трещат и кровища хлещет ручьями. Необходимый элемент устрашения. Спектакль?
— Аусвайс! — рявкнул европеец, а один из азиатов выбил у Мити из руки кружку, поймал на лету и на всякий случай выплеснул остатки кофе ему в рожу.
Митя медленно, как положено, опустил руку в карман и достал пластиковый допуск гражданина 3‑й категории.
— Что надо сказать? — на ломаном английском напомнил командир.
— Верноподданный Климов. Северная резервация. В Москве по бизнес–плану, — тоже по–английски, соблюдая восьмую поправку к закону об ограничениях, ответил Митя.
Пока европеец изучал допуск, двое помощников подняли Митю со стула, обыскали, отвесили с двух рук по оплеухе и бросили обратно на стул.
— Где взял? — Европеец потряс перед его носом документом, задев по губам. Линза биофиксатора светилась зеленой точкой, меняя фон. Митя отметил это с удовлетворением. Натаска в дружине у специалиста по биозащите Данилки Хромого не пропала даром: его мозг в автономном режиме блокировал направленное излучение прибора.
Митя вытянулся и, сидя, сложил руки по швам: поза готовности к абсолютному подчинению. Слизнул кровь с губ.
— Пропуск выдан официально оккупационным магистратом, сэр.
— Где выдан, скотина?
— Город Пенза. Второй округ. Отделение для граждан, допущенных к свободному передвижению, сэр.
— Фамилия магистра?
— Сиятельный граф Левенбрук, сэр.
— Хочешь сказать, граф самолично подписал эту филькину грамоту?
— Никак нет, сэр. — Митя позволил себе почтительную улыбку. — Пропуск вручен через сектор распределения благ. По обычным туземным правилам.
— Что за правила?
— Первичная лоботомия, замена крови на плазму, профилактическая прививка антиагрессанта, сэр. — Митя распушил волосы и продемонстрировал характерный шрам.
— Цель проникновения в столицу?
— Бизнес, сэр. С вашего позволения, сэр.
— Издеваешься, скот? — Миротворец замахнулся, но почему–то не ударил. Зато один из азиатов сладострастно пнул носком ботинка по коленной чашечке. — Какой бизнес? Назови уровень дозволенности?
— Как освобожденный руссиянин, не могу этого знать, сэр.
— Все, попался, подонок. — Европеец довольно потер руки. — Неужто впрямь надеялся, что такой ублюдок, как ты, может обмануть службу досмотра? Тащи его на улицу, парни!
Митя был уверен, что миротворец блефует: документ в порядке, и отвечал он правильно. Вдобавок, пока его с заломленными руками волокли через зал, успел поймать взгляд одного из влюбленных с пола, наполненный не ужасом, скорее любопытством. Топорная работа, но чья? Кто его задержал и что делать дальше? На размышление оставались буквально секунды.
Пустынная улица, у входа приткнулся миротворческий микроавтобус с лазерной пушкой на крыше. Из кабины выглядывал водитель, разрисованный в маскировочные красные и зеленые цвета. Маскарад, чистый маскарад.
Митя решился. На его стороне было преимущество якобы заторможенной, приведенной в паническое состояние жертвы, от которой нелепо ждать сопротивления. Преимущество усиливалось тем, что миротворцы в Москве слишком долго (десятилетиями!) не встречали никакого отпора любым своим действиям (если не считать униженного верещания измененных), потому свыклись с приятным ощущением собственной неуязвимости. Митю втаскивали в заднюю дверь машины, но он раскорячился, застрял в ней, как паук, и, легко войдя в экстаз атаки, мощно выбросил кулак и разбил линзу на башке европейца, раздраженно покрикивавшего: «Ломай мерзавца, ломай!»
Секундное замешательство азиатов (а было от чего) обошлось им дорого. Свирепым ударом локтевых суставов Митя раздробил обоим драгоценные платиновые зубные протезы. Любознательный, раскрашенный в боевые цвета водитель наполовину высунулся из кабины, и, чтобы достать его оттуда, обхватив за голову, и швырнуть на асфальт, Мите, превратившемуся в сгусток энергии, понадобилось мгновение. Ящерицей он скользнул за баранку, ударил по газам. Очухавшийся, но ослепленный европеец развалил полдома плазменной вспышкой, но это все, что он успел сделать. На первом же повороте Митя соскочил с горящей машины и нырнул в глухой переулок. Вихрем пролетел одну улицу, другую, третью, все время петляя, и наконец выскочил на площадь, где, как ни в чем не бывало, смешался с праздной толпой горожан.
Пока бежал, в голове билась одна мысль: что это, инсценировка или реальный захват? Как ни крути, могло быть и так, и этак.
1 ЛА 11А 24
ПАШИ ДПИ.
НАВЕРХУ БЛАЖЕНСТВА
Прочитал Оболдуеву половину главы. Ковыряя во рту зубочисткой, он задумчиво произнес:
— Кажется, ты опять не понял, писатель, зачем мне нужна эта книга.
Слово «писатель» он теперь произносил с интонацией «чтоб ты сдох, скотина!».
— Почему же, — возразил я, — послание просвещенному Западу… Своего рода духовное завещание… Ну и…
— Витя, ты действительно так глуп или только представляешься?
После такого вопроса я должен был смутиться, и я это сделал. На сей раз беседа происходила на застекленной веранде (поздняя пристройка), я присутствовал на утреннем чаепитии Оболдуева. Сидел за отдельным столиком, наряженный в клетчатую юбочку и белую шляпу с убором из гусиных перьев. Более нелепого убранства придумать нельзя, но Оболдуев полагал, что именно так выглядел придворный летописец в средневековом шотландском замке. Юбочку и прочую амуницию (полосатые носки, сапоги с раструбами, домотканый блузон с красным воротом) любезно выделил управляющий Мендельсон из собственных запасов, из личного гардероба. Как ни странно, все пришлось впору, хотя седовласый управляющий шире меня на обхват и на голову выше ростом. Когда четыре дня назад я впервые вышел в обновах на двор, то произвел фурор. Вся охрана сбежалась поглазеть. Подошел поздороваться дог Каро, и в его желудевых глазах, могу поклясться, блестели слезы. Лишь садовник Пал Палыч, бывший профессор права, как и следовало ожидать, отнесся к моему новому облику философски. Заметил рассудительно: «Что ж, человек ко всему привыкает, а к неволе тем более».
В тот же день я опять увидел Лизу, в первый раз после заточения. Накануне за обедом (меня теперь в столовой тоже сажали отдельно, накрывали столик возле камина, то есть я занимал положение как бы между прислугой и господами. Два дня подряд с нами обедал доктор Патиссон, похоже, он жил теперь в замке. Со мной доктор держал себя по–приятельски, окликал, спрашивал, как понравилось то или иное блюдо. Еще придумал такую забаву: кидал с господского стола то кисть винограда, то банан. Леонид Фомич не выносил никакой суеты за трапезой, но затея доктора пришлась ему по душе, тем более что тот подвел под нее научную базу. Творческие интеллигенты, объяснил он Оболдуе- ву, чрезвычайно смышленый, цепкий народец, все хватают на лету. В новой России их вполне можно использовать для увеселения солидной публики, в качестве фокусников или шутов. Тем самым они достойно завершат свою историческую миссию. Улучив минутку, Изаура Петровна намекнула, что больше я не увижу свою пассию, дескать, Лизу отправили учиться за границу, от греха подальше. Услышав эту новость, я ничем не выдал своего отчаяния, но, видно, что–то все же проскользнуло, потому что Изаура Петровна сочувственно добавила: «Не переживай, дурачок, утешу за двоих…»
Обманула или ошиблась: Лиза была здесь. Я курил возле пруда, где в прозрачной воде, пронизанной солнечными лучами, плавали важные карпы и доверчивые беззубые гибриды мелких декоративных акул, услышал сзади шаги. Оглянулся — то была она, моя безнадежная любовь.
Лиза присела на парапет, смахнула с ладони в воду хлебные крошки. Рыбы метнулись к добыче сверкающими трассами, словно пруд закипел.
Я затаился, не знал, что сказать. На Лизе было длинное светлое платье, выглядела она осунувшейся, бледной. Тоже ведь переживает, маленькая.
После довольно продолжительной паузы она проронила небрежно:
— Вам к лицу, Виктор Николаевич… Особенно шляпа с перьями.
— Тебе правда нравится? Батюшка распорядился. Я его, кстати, понимаю. По законам эстетики все детали должны соответствовать общему замыслу.
— В человеке все должно быть прекрасно… — поддержала она.
— Чехов, — подхватил я. — Когда–то им все увлекались. В нынешней прогрессивной России ему вряд ли нашлось бы место. Скукожился бы, подобно своим говорливым персонажам.
Покосилась на меня, в глазах нет и намека на обычную учтивую полуулыбку.
— Почему же… Я и сейчас люблю его читать.
После этой короткой разминки резко повернулась ко мне.
— Виктор Николаевич, нам надо кое–что обговорить… Дело в том, что, похоже, наши занятия откладываются на неопределенный срок…
— Почему?
— Не важно. Важно другое. Согласны ли вы бежать вместе со мной?
Ее лицо запылало, в очах — бездна. В этот момент я поверил ей окончательно. Поверил, что она лучше, мудрее, мужественнее и старше меня. А также в то, что она любит меня. Незаслуженный подарок судьбы — и слишком запоздалый. Моя воля была уже сломлена, вдобавок я подозревал, что мне в пищу добавляют какое–то снадобье, размягчающее психику. Иначе как объяснить, что, превратившись в домашнего клоуна, в ничтожное пресмыкающееся, в забавную игрушку олигарха, я радовался жизни и тому, что жив, как никогда прежде?
Мы сидели на расстоянии, кто–то наверняка наблюдал за нами, но мне показалось, Лиза обняла меня. Чувство нежного прикосновения было даже острее, чем в реальности.
— Объясни, — отозвался я холодно, — куда и от кого ты собралась бежать? Если это, разумеется, не шутка.
— Шутка? — В ее взгляде светилось недоумение. — Ради Бога, не подумай, что навязываюсь. Как только окажемся в безопасности, мы оба вольны делать, что хотим… Но без моей помощи ты не сможешь выбраться отсюда. Даже с моей помощью это непросто.
Опять это внезапное «ты», словно мягкая кошачья лапка пощекотала сердце.
— Давай рассмотрим проблему без эмоций. — Я потер левое ухо, которое как будто оглохло. — С одной стороны, нам от твоего папочки в Москве бежать некуда. Разве что в омут с головой. Но есть и моральный аспект. Не выглядит ли наше гипотетическое бегство как похищение наивной романтической девушки пожилым ловеласом? Подлость — и больше ничего.
— Виктор, что с тобой? Тебя били? Или что–нибудь вкололи?
— Не старайся внушить мне комплекс неполноценности, я с ним родился, милая.
Лиза разглядывала меня с таким выражением, как будто увидела впервые. Вероятно, ей открылась неприглядная картина. Но она с собой справилась.
— Виктор Николаевич, кажется, вы не совсем правильно понимаете свое положение.
— Ага… А ты понимаешь. С каких, интересно, пор? Не ты ли совсем недавно утверждала, что твой отец святой человек? Что–то вроде реинкарнации Христа.
— Да, так я думала и, возможно, ошибалась. — Она выглядела безмятежной, но в подчеркнуто спокойном голосе чувствовалось огромное напряжение. — У меня есть оправдание, я его дочь.
— И в чем ошибалась, если не секрет?
Я не собирался ее щадить, чем скорее прозреет, тем лучше для нее. Может быть, прозрение обойдется ей слишком дорого, но нельзя прожить всю жизнь впотьмах. Даже если у твоего папочки миллионы.
— У нас еще будет время поговорить о моих ошибках. Сейчас мне пора идти. Не стоит давать почву для лишних подозрений… Но вы так и не ответили…
— На что, Лиза?
— Вы предпочитаете ждать, пока из вас сделают Пятницу?
Я прекрасно понимал, что она искренне собирается принести себя в жертву. Моим долгом было отговорить ее от этого. Доказать, что эта жертва бесполезна и в чем–то безнравственна, ибо она, Лиза перекладывает таким образом на меня ответственность за свою чуткую, но незрелую душу. У меня были весомые аргументы, чтобы убедить ее в этом. Наша взаимная симпатия, если предположить, что она взаимная, абсолютно бесперспективна. У нас нет будущего. Даже очутись мы вдвоем на необитаемом острове, иллюзия любви развеется через два дня. Мы разные. Мы из разных миров, не соприкасающихся друг с другом. Наши планеты следуют параллельным курсом. То, что произошло, проникновенные беседы, смех, шутки, поцелуи, — все это лишь следствие случайных обстоятельств и нервных перегрузок. Игра двух воспаленных воображений, волею случая совмещенных в замкнутом пространстве. И прочее, прочее в том же роде…
Вместо того чтобы поделиться столь разумными и дельными соображениями, я тупо спросил:
— А когда?
— Скоро, очень скоро, — прошептала Лиза, расцветя улыбкой, которую нельзя назвать иначе как безумной. — Я дам знак, Виктор Николаевич.
С тем исчезла, натурально растворилась в воздухе. Как я ни вглядывался в просвет аллеи, не заметил и следа. Зато, пугливо озираясь, забрел к пруду садовник. У него я спросил:
— Пал Палыч, вы никого сейчас не встретили?
— Неосторожно, ох как неосторожно, Виктор. Я специально подошел, чтобы предупредить.
— О чем, профессор?
— Всякие ходят слухи. Говорят, вы в немилости у его превосходительства. Зачем же усугублять свое положение? Здесь повсюду глаза и уши.
— Вас ввели в заблуждение, профессор, сами подумайте, как я могу быть в немилости, если мне доверили такую ответственнейшую миссию.
— И как продвигается ваш труд?
— Медленно, но успешно. Вы же знаете, Леонид Фомич слишком сложный человек, чтобы охватить весь масштаб его личности за месяц. Боюсь, на это уйдет намного больше времени.
Садовник воровато оглянулся по сторонам.
— Может быть, не нужно во всем масштабе?
— Почему же… Оболдуев щедро платит. Он хочет, чтобы весь мир узнал о его благородных деяниях и помыслах. Хватит ли у меня способностей, вот в чем вопрос.
Неизвестно, кто из нас вкладывал больше яда в реплики, но мы вполне понимали друг друга.
— И все же, Виктор, призываю вас к осторожности. Лиза изумительная девушка. Но… ах, извините, кажется, меня зовут.
Никто его, разумеется, не звал и не мог звать, но, возможно, ему почудилось. Воздух поместья был насыщен звуковыми галлюцинациями, а по ночам в помещениях дворца, как и в парке, немудрено было наткнуться на призраков. Я уже встречался с ними дважды. Один раз, когда пошел среди ночи, засидевшись над рукописью, на ближайшую кухню сварить себе кофе, навстречу из бокового коридора выскочили две весело щебечущие девчушки в развевающихся белых накидках, обе чем–то похожие на Лизу. Пронеслись мимо меня, словно не заметив, обдав свежим ароматом мокрых цветов, и все бы ничего, если бы у одной не стекала со лба на грудь тоненькая, яркая струйка крови, а вторая вообще была с оторванной головой, которую, хохоча, тщетно пыталась укрепить на тонкой, кривой шейке. Видение мелькнуло и исчезло, а я стоял с открытым ртом, забыв, зачем вышел из комнаты. Второй раз призрак заглянул ко мне в окно под утро, синий, как баклажан, со свирепыми, вращающимися глазами. Непонятно, мужчина или женщина. Обиженно просипел через стекло: «Ну что, писатель, хрен тебе в жопу, долго будешь мне нервы мотать?»
Я не успел ответить на грубость — призрак растворился в предутренней дымке.
Я допускал, что все это хитрые штучки доктора Патиссона, рассчитанные на то, чтобы поселить во мне вечный страх. Известно, сон разума рождает чудовищ. Для чего это нужно Патиссону, я не совсем понимал. Мой дух и без того был порабощен, я униженно выказывал готовность служить олигарху не щадя живота своего; бумагу о том, что задолжал полтора миллиона, подписал, убийство Гария Наумовича признал, больше не пытался отпираться, — что же еще? Третьего дня доктор заглянул ко мне в комнату с «эвкалиптовой настойкой» («Для промывки кишочек, батенька мой»), и я покорно выпил целую бутылку. Потом прямо спросил:
— Герман Осипович, зачем вы это делаете? Чего добиваетесь? Я ведь и так целиком в вашей власти.
Круглое лицо осветилось улыбкой, просияли золотые дужки очков.
— Вы абсолютно правы, дорогой мой, вам нечего больше опасаться… Однако вся эта история, расправа с бедным Гариком, похищение денег не прошли даром для вашей психики. Моя задача как врача постараться вернуть вам душевное равновесие. В конце концов, мы все когда–то давали, клятву Гиппократа, не правда ли?
— И как вы узнаете, что я здоров?
Доктор хитро прищурился.
— В первую очередь по вашим реакциям, голубчик мой. Сейчас вам кажется, вы самый несчастный человек на свете, возможно, опасаетесь, что вас постигнет участь Гарика или что похуже. Так называемый комплекс Раскольникова. Мой долг вернуть вам полноценную радость бытия.
— Но зачем, скажите, зачем?!
— Дотошный вы субъект, Виктор, все–то вам надо знать. Хорошо, вот вам правда. Я, как и вы, работаю на многоуважаемого господина Оболдуева, и в мои прямые обязанности входит медицинский контроль над его ближайшим окружением… Посудите сами, какую вы напишете книгу о нем, если в глубине души относитесь к нему как к чудовищу, как, простите за выражение, к кровавому аспиду?
— Неправда! — пылко возразил я. — Я с глубочайшим почтением… Все, что он делает для руссиян, сравнимо с деяниями Петра, прорубившего окно в Европу. Молю Всевышнего лишь о том, чтобы хватило скромных способностей запечатлеть…
— Не перебарщивайте, голубчик мой. — Патиссон поморщился, в глазах блеснула светлая искорка, свидетельствовавшая о том, что за благодушной физиономией простака таился проницательный ум. Он видел меня насквозь. — Речь не о ваших способностях. Как ни крути, сударь мой, вы принадлежите к категории руссиянских интеллигентов, а это порченая порода. На ней иудина печать. Признаюсь, все ваше поведение пробудило во мне исследовательский зуд. Хочется установить с научной достоверностью, возможно ли в опустошенной, циничной душе, порабощенной дьяволом, пробудить хотя бы отблеск искреннего христианского чувства.
Если пользоваться старинным слогом, у меня глаза на лоб полезли от удивления. Ну что тут можно добавить?
Заглядывала и бесстрашная Изаура Петровна, дабы поддержать морально. Меня вернули в прежние покои, но в коридоре обязательно дежурил охранник из гвардии Гаты, Абдулла или ему подобный. Изаура Петровна навещала меня среди ночи, наспех склоняла к соитию (не зажигая света) и поспешно убегала. Мы даже не успевали покалякать ни о чем. Так повторялось два–три раза за ночь, причем и тогда, когда Леонид Фомич был в наличии. Я не удержался, спросил: «Как ты не боишься, вдруг донесут?» Она жеманно захихикала: «Не волнуйся, ягодка, Оболдуюшка не ревнивый». На второй раз, когда пристал с тем же вопросом, ответила раздраженно:
— Хоть ты и писатель, но должен немного соображать. Неужели ничего не понял?
— А что такое, Иза?
— Дурашка, да он сам меня подсылает…
После долгого раздумья, уже в процессе коитуса, я обронил любимое:
— А зачем?
Изаура недовольно запыхтела, она не любила сбиваться с ритма.
— Ему виднее, не отвлекайся, пожалуйста, укушу…
Я не знал, чему верить.
В ту ночь, после свидания с Лизой у пруда, Изаура Петровна опять оказала мне честь, и я поинтересовался, зачем она обманула, сказав, что Лиза уехала за границу. Изаура смолила косячок, блаженно отдыхая после акта.
— Видел ее?
— Из окна… Какой смысл обманывать?
— Никакого обмана, солнышко. Для тебя она все равно уехала. Прокололись вы с ней. Хоть успел оттрахать? Или струсил?
— Иза, прошу тебя!..
— Ах да, мы же порядочные, совестливые… Ну и кретин, что не уважил скороспелку. Девка насквозь протекла, а ты… Вот и упустил пташку.
Я молчал, напряженно ожидал продолжения. Когда заходила речь о падчерице, Изауру прорывало. Так вышло и на сей раз.
— Должна тебя огорчить, сладость моя, плохи дела у твоей целочки.
Она зажгла лампу, чтобы полюбоваться моей реакцией. Я был бесстрастен, как сфинкс, лишь для понта выковырнул из уха несуществующую мошку.
— Тебе неинтересно, солнышко?
— А что с ней? Грипп? Простудилась?
— Крыша у целочки поехала… Довыпендривалась. Оболдуюшка не верит, но Герман своего добьется. Положит в клинику. Ничего, там ее успокоят. Перестанет корчить из себя принцессу.
— Она изображает принцессу? Что–то не заметил.
Изаура Петровна со смаком дососала косячок, остаток расплющила в пепельнице. Ее пухлые, нежные пальчики не боялись огня.
— Маленькая, хитрая ведьмочка, — протянула сладострастно. — Там ее подлечат. Небольшой профилактический курс — и мама родная не узнает. Все упирается в Оболдуя. Вбил себе в голову, что такая, как есть, она ему больше подходит. Ничего, теперь убедился, что шизанутая. Не без твоей помощи, солнышко, спасибо тебе за это.
— Иза, чем она тебе так досадила? Вроде безобидная.
— Жалко стало? Понимаю. Такая свежая дырочка ускользнула. Не строй иллюзий, лапочка. Какая она целоч- ка, спроси у Вовки Трубецкого.
— Иза, ты же знаешь, я не люблю, когда ты такая.
— Какая?
— У тебя добрая, нежная, чистая душа. Все твои приколы, показной цинизм — это все наносное, не твое. На самом деле ты только и мечтаешь, как бы поскорее уйти в монастырь.
— Ну, залудил, Витюня! Да если бы я об этом мечтала, я бы давно отравилась.
— Послушай, а что все–таки собой представляет Патиссон? Никак не могу разобраться. Он действительно профессор?
— Монстр и вампир. Как раз тот, кто нужен малышке для вразумления.
— Ты с ним спала?
Изаура помедлила с ответом, легла поудобнее, готовясь начать привычное священнодействие любви.
— Почему спросил?
— Я его боюсь.
— И правильно делаешь… Спала? Да, дала ему разок из любопытства. Прокусил вену и высосал пинту крови.
Чтобы я не усомнился, показала шрам чуть повыше запястья, две красных черточки, действительно как след укуса…
Лучше всех, без фарисейства и уверток, относился ко мне Гата Ксенофонтов, особенно после того, как я подписал долговое обязательство. Не скрывал, что видит во мне загнанную конягу, которую не сегодня завтра обязательно пристрелят.
— Смотрю на вас, малохольных, — пуча темные глаза, смежая к переносице, как бы прицеливаясь, говорил он, — чудно становится. Писатели разные, артисты тоже. Политики сраные. Трепло всякое. Я раньше тоже, бывало, сяду у телика, развешу уши и слушаю вашего брата. Жу–жу–жу, жу–жу–жу! После скумекал, такие, как вы, Россию и заболтали. Отдали на съедение крысам.
Гата любил подковырнуть, он был прирожденный полемист и единственный человек в поместье, с кем не страшно было спорить, хотя как раз он мог придавить меня одним пальцем, точно мошку.
— По–твоему, единственное достойное занятие для мужчины — убивать, так выходит?
— Необязательно. Мужик должен строить, землю пахать, делать что–то полезное. Ну а коли понадобится, конечно, защищаться. Близких защищать. А как же…
— От тебя ли слышу, Гата? Тебя учили родину спасать, а ты к Оболдую нанялся, ворованные деньги охранять.
Смутить Гату ни разу не удалось.
— Думаешь, уел, писатель? Хорошо, давай разберем вопрос научно. Да, служу пока олигарху, но ведь цыганское счастье переменчивое. Случись что с хозяином, как полагаешь, кому перейдет добро? Лизке твоей? Навряд ли, Витя. Государству вернется, откуда изъято… Теперь возьмем тебя. Ты подрядился о нем поэму состряпать. Как о герое капитализма. Наврешь, как водится, с три короба, и получится, хозяин — святой человек, мухи за всю жизнь не обидел и людоедством отродясь не занимался. Детишки книжку прочтут, поверят по малолетству. Пример станут брать. Теперь скажи по совести, кто из нас больше подлец, ты или я?
Он был прав на все сто процентов, возразить было нечего…
* * *
Многое пронеслось в голове, пока слушал наставления Оболдуева, а он говорил следующее:
— Допустим, ты убийца, допустим, я тебя скрываю от правосудия. По юридическим понятиям становлюсь как бы твоим сообщником, верно? Но это только часть правды. Другая правда в том, что я тебя спасаю, даю шанс снова стать человеком. Почему так делаю? Да потому что ты не прирожденный убийца, не маньяк какой–нибудь серийный. Алчность погубила, польстился на крупный куш, с кем не бывает. Человек слаб… Какой прок от того, что посадят? В тюрьме люди озлобляются, тем более из тебя, как из писателя, сразу сделают петушка. Будешь ублажать уголовников, разве это тебя исправит… Теперь посмотрим, как ты опишешь этот эпизод в книге, какую правду поставишь наперед. Ту, что покрываю убийцу, или ту, что человека воскрешаю к праведной жизни. Ну, ответь?
— Я никого не убивал, Леонид Фомич. Это навет.
— Так вот… — Оболдуев положил в рот клубничину, предварительно повозив в блюдце со сметаной. Почмокал, проглотил.
— Так вот, постарайся запомнить. Правда души всегда главнее правды поступка. На этом должно быть построено жизнеописание, можно сказать, суть книги — жизнь души, а не факта… А что получается у тебя? Ну хотя бы в этом отрывке. Написано бойко, ничего не скажешь, читается с интересом. Но какая мораль? Действительно, когда я был старостой класса, требовал, чтобы никто не нарушал дисциплину, а если кто провинился, чтобы платил по десять, двадцать копеек. Да, помогал Жорик Костыль, будущий главарь мытищинской группировки. И какой ты делаешь вывод? Ну–ка, прочти, как там у тебя?
Я нашел требуемое место и со вкусом прочитал: «Наверное, записной радетель морали расценит этот эпизод негативно, но внимательный, умный читатель безусловно отметит, как рано в Ленечке Оболдуеве, отличнике и острослове, забродила рыночная закваска, впоследствии приведшая его на вершину финансового Олимпа. Его деятельная натура не вмещалась в рутину совковых представлений, он искал, пусть пока на ощупь, свой собственный путь…»
Оболдуев поднял руку.
— Ишь как завернул… И ведь все пустословие, смешал все в кучу, а сути не ухватил. От чего все нынешние беды в государстве, как думаешь?
— От бедности?
— Пусть от бедности. А бедность от чего? Думаешь, как вонючие газетенки пишут, Чубайс с Гайдаром ограбили народ и в этом вся причина? Тогда почему им так легко это удалось? Нигде во всем мире не удалось, а у нас — пожалуйста. Почему?
— Православный народ доверчивый…
— Чушь, бред… Вся беда в беспределе, в разрушительном начале. Человечишка вообще создание путаное, мерзопакостное, а руссиянин вдвойне и втройне. Раб и бандит в одном лице. Ему дали волю, он и закусил удила, поскакал вразнос во все концы, а те, кто поумнее, конечно, воспользовались.
— Леонид Фомич, не вижу связи…
— Погоди, не гони… Научись, Витя, внимательно слушать, иначе останешься пустоцветом. Что такое беспредел? В общем смысле, а не только бандитский, как в кино показывают? Объясню популярно, раз ты такой бестолковый. Допустим, ты убийца…
— Вы уже этот пример приводили, Леонид Фомич.
— Допустим, ты убийца. Другой человек — строитель или ученый, третий — бизнесмен и так далее. У каждого сословия свой устав. У слесаря — один, у врача с учителем — другой. По одному общему уставу они жить не смогут, получится бардак. Но кто свой собственный устав нарушает, из своей житейской ниши выскакивает, тот уже маленький беспределыцик, несущий в себе вирус смуты и анархии. Вернусь к твоей главке. У школьников тоже есть свой устав, свои обязательные правила игры. Не нарушай дисциплину, учись хорошо, слушайся старших и так далее. Кто не подчиняется, того надо жестко образумить для его же пользы, ибо в нем подспудно зреет будущий беспредель- щик. Маленький Ленечка, как ты написал, раньше других, острее других это почувствовал и пытался помочь одноклассникам, как умел. Дело не в детском рэкете, не в копейках, не в рыночной закваске — тьфу, как тебя повело, — а в природной тяге к справедливости и порядку. У тебя об этом ни слова. Значит, соврамши, а за вранье писателям деньги не платят. То есть платят, конечно, но не я.
— Перепишу, Леонид Фомич, — пробормотал я, сраженный железной логикой.
— Уж постарайся. — Он иронически хмыкнул. — Лента не в тон.
— Что, извините?
— Лента на шляпе к юбке не подходит. Зеленое к коричневому. Почему надо всему тебя учить?
— Спасибо, Леонид Фомич, учту… Просьбишка есть небольшая.
— Ну?
— Стариков бы съездить повидать. Хоть на часок.
— Даже не думай, — огорчился Оболдуев. — Как тебе в голову пришло? Да тебя повсюду стерегут.
— Кто, Леонид Фомич?
— Как кто? У Гарика подельщики остались, крутые, доложу тебе, ребята. Ты им весь бизнес разрушил. Они с тобой нянчиться не станут, как я. Надо же хоть это понимать… Ладно, на, попей кофе и ступай работать.
Протянул недопитую чашку с вензелем Кентерберийского аббатства. Большая честь. Я подлетел из–за своего столика на полусогнутых, с поклоном принял чашку, окунул морду в коричневую жижу. У Оболдуева блеклые выпуклые глазенки дьявольски фосфоресцировали. Наслаждался моим унижением, а моя душа скулила.
Побег, думал я. Но куда, Лиза, куда?
ГЛАВА 25 ГОД 2024. ДЕВЕРЬ
Неподалеку от «Гостиничного двора» из кустов Мите наперерез накатилась худенькая, маленькая фигурка — «тимуровец» Ваня Крюк. Митя от неожиданности чуть не поддал ему ногой: «тимуровец» вцепился в него, пытаясь оттащить из светового круга.
— Ты чего, Вань, обкурился, что ли? — пристыдил Митя пацаненка. — Так ведь недолго погибнуть под жерновами истории.
Пацаненок пищал что–то несуразное, все же пришлось дать подзатыльник, чтобы успокоился. Наконец из путаных объяснений удалось понять, что, пока Митя отсутствовал, «тимуровец», как велено, сидел в номере, гонял чаи, жевал жвачку и разглядывал картинки в журнале «Секс и прогресс». Подшивка этого журнала, издаваемого в Штатах специально для руссиян, имелась в каждом гостиничном номере вместо Библии. Потом пришел какой–то черномазый и выкинул его из окна. Успокоившись, пацаненок похвастался, что успел откусить черномазому палец. Врал, конечно, жался к Митиной ноге, как щенок.
— Что ж, — сказал Митя, — спасибо, что предупредил. Посмотрим, что за черномазый… а ты, вообще, зачем здесь? Сутки давно прошли, свое отработал. Больше ты мне не раб.
— Могу еще поработать, дяденька Митрий. Даже бесплатно.
Смотрел умоляюще, личико сморщилось в кулачок. Митя его понимал. Какой из московских беспризорников не мечтает обрести постоянного хозяина. Он и сам симпатизировал смышленому «тимуровцу», но к чему ему такая обуза.
— Нет, Ваня, придется расстаться. Вот тебе еще доллар и вали отсюда.
— Дя–денька Митрий, — захныкал пацаненок. — Не гони меня, вдруг пригожусь.
Он сам вряд ли верил в то, что говорил. Митя, не оборачиваясь, направился в гостиницу.
Он еще не совсем пришел в себя после столкновения в бистро, хотя уже пришел к мысли, что повязать его хотели, безусловно, не миротворцы. Если бы это были они, автоматически вступила бы в действие городская система перехвата «Беги, русак, беги» и на многочисленных табло, в метро, в шопах, на улицах высветилась бы его физиономия с присовокуплением суммы награды за поимку. А раз этого не было… Но кто тогда? По всему выходило, Деверь. Кроме него, в Москве нет силы, способной разыграть подобную мистификацию. Тогда вставал другой вопрос: зачем ему это понадобилось? Митя сам искал с ним встречи…
В номере не оказалось никакого черномазого, зато двое мужчин, передвинув стол к окну, пили спирт. Одного Митя знал, сосед по гостинице Джек Невада, банкир из Саратова, загулявший провинциал. Второго, импозантного, крупнотелого господина, одетого как подобает туземцу, добившемуся высокого положения при оккупационных властях, то есть ни единой руссиянской пуговки, с крупной головой, чем–то напоминавшей медную отливку, хотя живые, быстрые глаза на загорелом лице смягчали впечатление окаменелости, — этого господина Митя видел впервые. Судя по всему, сидели они давно и выпили изрядно: банкир успел облить белоснежную манишку томатным соком, отчего казался израненным, а у незнакомца на лице застыло блаженное выражение невесомости. При появлении Мити оба сделали попытку подняться на ноги, но не смогли.
— Давай, Митяй, — устало махнул рукой банкир, — присоединяйся. Третью бутьыь ублажаем, а веселья как не было, так и нет. Верно говорю, Савельич?
Незнакомец пытливо смотрел на Митю, и не было заметно, что он пьян.
— Извините за вторжение, — произнес он сильным, рокочущим голосом. — Если вам не по душе наше общество, мы сейчас уйдем.
Митя насторожился: голос он узнал, казалось, мерное звучание дотянулось к нему из северных лесов, но как такое могло быть? В непривычном, старомодном обращении чудилась легкая насмешка, но не злая, свойственная лишь уклонившимся от перевоплощения.
— Почему же, — возразил он в тон. — Всегда рад гостям… Вы тоже здешний постоялец?
— Не совсем. — Мужчина улыбался. — Заглянул по делам, встретил Неваду, у нас общие знакомые в Саратовской губернии. Вот, засиделись… Мы все равно уже собирались уходить.
— В казино потопаем, — поддержал банкир, потянувшись за бутылью. — Вчера африканских телок завезли, можно славно оттянуться.
Митя не спросил, почему они засиделись именно у него в номере. Лишний вопрос. Взгляд меднолобого незнакомца натурально гипнотизировал, пришлось подключить блок психологической защиты. Тот сразу это почувствовал, насмешка стала откровенной. Кто он? Враг или друг?
— Не желаете составить компанию? — предложил незнакомец. — Втроем веселее, и дешевле выйдет… Ах, извините, забыл представиться. Прокл Савельевич Переверзев, бизнесмен.
— Митя Климов, уполномоченный по Северам. — При этих словах у него повело челюсть, будто заклинило. Психоблок едва выдерживал напор незнакомца, но страха не было. Он принял из рук Невады чашку со спиртом, осушил одним махом. Питье отменное: свекольный суррогат с добавкой табачной крошки. Банкир и Прокл Савельевич последовали его примеру, но Невада не сдюжил. Неизвестно какая по счету доза произвела на него отрезвляющее действие. Бормоча извинения, он кинулся в угол комнаты и там долго, с наслаждением блевал, согнувшись в дугу. Вернулся за стол одухотворенный. Набулькал новую чашку. Заметил с облегчением:
— Ну вот, теперь можно и к девочкам.
— Уполномоченный по Северам, — пророкотал с улыбкой Прокл Савельевич, — это что же такое? Работаете на СД?
Митя понюхал черную хлебную корочку.
— По–всякому бывает, — похвалился он. — Имею звание почетного осведомителя миротворческих сил.
— О-о! — воскликнул Джек Невада. — За это надо выпить. Прошу встать. За великую Америку. Виват, господа!
Выпил в одиночестве, но лихо. Ни Митя, ни Прокл Савельевич не пошевельнулись.
— Значит, тебе, Митяй, положена плазменная пушка? — уважительно спросил Невада, хрустя огурцом.
— Положена, — согласился Митя. — Я ее потерял.
— Где, как?!
— Наширялся до усрачки. Проснулся в борделе. Ни пушки, ни наградного листа, — огорченно признался Митя.
— Но ведь за это полагается..
— Ну да, — подтвердил Климов. — Последние денечки гуляю. До очередной перерегистрации.
В глазах меднолобого прочитал одобрение: дескать, складно врешь. Но гипнотический напор ослабел, возможно, гость уже выяснил все, что ему было нужно. Митю это особенно не тревожило. Он никак не мог избавиться от смутной, нелепой догадки.
— Что ж, братовья, — весело прогудел Прокл Савельевич. Надо решать. Либо в казино, либо баиньки. Ночь на дворе.
— На посошок, — возбужденно воскликнул Невада.
…В казино время понеслось оглушительно. У входа им вкатили по обязательной для каждого посетителя «дозе счастья» (укол бесплатный, за счет заведения), но Мите показалось, что Переверзеву впрыснули пустышку. Громила–санитар, обернутый в темно–вишневую ткань с японским орнаментом, дружески похлопал Прокла Савельевича по плечу и после укола что–то получил в протянутую ладонь. Мощная вакцина, наложившись на свекольный спирт, дала поразительный результат. Зеленое сукно карточных столов, игровые автоматы, пестрый веер рулетки, музыка, жуткие гримасы игроков, потные тела стриптизерш, крики и хряск ударов (перепивших клиентов вышибалы колотили мордами о паркет), цифровые вспышки на световых табло… — все смешалось в помраченном сознании и обрело очертания сбывшейся мечты. Меньше чем за час Митя продул все, что было в карманах, и это привело его в отличное настроение. Он вырвал из руки щеголеватого крупье горсть алых фишек, за что получил сзади резонатором по ребрам, растянулся на полу и корчился от смеха до тех пор, пока не подошла очаровательная негритянка в набедренной повязке и не сообщила, что она его утешительный приз. Своих приятелей он давно потерял, поэтому безропотно ухватился за протянутую жилистую женскую руку.
Негритянка отвела его в одну из комнат во внутренних помещениях казино, усадила на желтую банкетку и ласково объяснила, что прежде всего необходимо соблюсти маленькую формальность и подписать контракт.
— Контракт? Да хоть сотню! — счастливо ухнул Митя и жадно потянулся к раздутому, как шарик от пинг–понга, бледно–фиолетовому соску прелестницы. Негритянка шаловливо стукнула его костяным пальчиком по губам, подала бумагу и ручку. Но едва Митя, сощурив глаза, чтобы прояснить зрение, нацелился поставить закорючку в указанной графе, как от двери раздался укоризненный, рокочущий голос:
— Не спеши, гонец. Еще успеешь вываляться в дерьме.
На пороге стоял меднолобый Прокл Савельевич, трезвый как стеклышко, и надо сказать, Митя ничуть не удивился его появлению. В ту же секунду и с его глаз спала пелена.
— Хоть поглядел, что там написано? — спросил Прокл Савельевич насмешливо.
— В этом нет необходимости, — ответил Митя. — Я везде ставлю крестик, который не поддается идентификации.
— Ах так. — Прокл Савельевич плотно прикрыл дверь, подошел к ним и положил руку на затылок негритянки, застывшей в позе ожидания. Прекрасная женщина, тихо охнув, опустилась на пол у его ног.
— Уроки премудрой Марфы, — продолжал он непонятно с каким выражением, то ли укора, то ли одобрения. —
Святая женщина убеждена, что мир не меняется с тех пор, как она его покинула. Увы, это не так. Еще как меняется, причем, уверяю тебя, Димитрий, все время в худшую сторону.
Прокл Савельевич удобно устроился в кожаном кресле напротив Мити.
— Вы — Деверь? — утвердительно уточнил Климов.
— Называй, как хочешь, но, похоже, я тот, кого ты ищешь.
Митя испытал большое облегчение: половина дела сделана. Он дошел. Хотя, конечно, оставались сомнения, но такого свойства, какие сопутствовали каждому душевному движению руссиянина. Привычный мистический фон. К примеру, человек, сидящий перед ним, мог оказаться всего лишь фантомом, как и вся Москва, в которой он очутился, возможно, была чем–то вроде киношного павильона. Больше того, ни один из обитателей северных резерваций не мог с полной уверенностью утверждать, что он не привиделся сам себе.
— Здесь можно говорить? — Митя повел рукой к потолку и по стенам.
Деверь усмехнулся.
— Как в любом другом месте. Все зависит от того, что хочешь сказать.
— Я всего лишь передаточное звено, но у меня есть инструкции.
— Какие же?
— Во–первых, прежде чем передать информацию, я должен получить адресное доказательство.
— Наверное, ты имеешь в виду это? — Деверь распахнул рубашку и обнажил плечо, на котором вспыхнул знак касты, производящий жутковатое впечатление. Это не была привычная татуировка, какая имелась и у Мити, а что–то иное, более убедительное. Словно живой, мохнатый паук вцепился в мышцу и готовился к смертельному прыжку. У полковника Улиты точно такой же паук грыз бедро.
Митя опустил глаза на негритянку.
— Спит, — успокоил Деверь. — Говори, никто не слышит.
Митя не сдавался.
— Почему здесь? Почему тогда не в штабе СД?
— Упрямый, — одобрил Деверь. — Это хорошо… Однако напомню тебе, гонец, в Москве право принимать решения принадлежит только мне. Или не согласен?
Митя смирился — тянуть дальше резину не имело смысла. Он закрыл глаза, сосредоточился на точке возбуждения и коротко, четко передал, зачем пожаловал в Москву. То, что он говорил, звучало довольно фантастично, но Деверя это не смутило. Он выслушал не перебивая, однако, открыв глаза, Митя увидел перед собой уже совсем другого человека, предельно измотанного, глубоко опечаленного. Сейчас ему можно было дать лет сто, не меньше.
— Значит, Марфа считает, время пришло?
Если бы только Марфа, подумал Климов, но лишь молча кивнул.
— Жертвоприношение, — сказал Деверь. — Попахивает средневековьем.
— По многим признакам мы туда и вернулись, разве не так?
— И ты готов стать жертвенной овечкой?
— Я же здесь.
— Да здесь, вижу… — Деверь задумался, глаза потухли. — На подготовку уйдет не меньше месяца.
— Кудесница так и сказала.
— Ты разговаривал с ней сам?
— Я разговаривал с тем, что она собой представляет.
— Понимаю. — Каким–то неосознанным движением Деверь дотронулся до его плеча. — Сколько тебе лет, юноша?
— Двадцать два. Это имеет какое–нибудь значение?
— Откуда ты родом?
— Из города Раздольска, из самых недр. — Митя решил, что любопытство Деверя дает и ему право спросить кое о чем. — Правду ли говорят, Прокл Савельевич, будто вы владеете тайной погружения?
— Это все глупости. Вечный сумрак, как и вечная жизнь, доступны лишь Господу нашему… Почему выбрали генерала? По моему разумению, Марк Губельман больше подходит. Символическая фигура. На все времена.
Митя удивился: Деверь говорил с ним, как с посвященным.
— Не моя компетенция, Прокл Савельевич. Я исполнитель.
— Нет, Митя, ты не просто исполнитель. Кто дважды безнаказанно пересек зону… Скорее запечатленный, хотя сам этого не осознаешь… Хорошо, оставим до времени… Вернешься в «Гостиничный двор» и будешь жить там как мышка. Связи не ищи. Встретимся перед самой акцией.
— В бистро были ваши люди, Прокл Савельевич?
— Возможно, наши, возможно, ваши… Просьбы, пожелания есть?
— Банкир этот саратовский?..
— Без подмеса, не опасайся. — Он тронул носком ботинка мирно посапывающую негритянку. — Через минуту очнется. Справишься с кобылицей?
— Постараюсь. — Митя скромно потупился.
Деверь хотел еще что–то сказать, но передумал. Поднялся из кресла — высокий, громоздкий — неловко обнял Митю:
— Держись, герой! — Бесшумно ступая, скрылся за дверью.
* * *
Проснулся Митя оттого, что кто–то возился, сопел на полу. Свесил голову вниз: на тебе, «тимуровец» Ваня Крюк. Голубенькие, мутноватые глазенки на бледном личике лукаво сияют.
— И что дальше? — спросил Климов. — Что прикажешь с тобой делать?
— Известие принес, — солидно отозвался «тимуровец».
— Какое?
— Дядьку помнишь, Митрий, на площади? Который к Зинке Сковородке отправил? Петюней погоняют.
— Ну?
— Я его видел. Просил передать, на ваше поручение еще деньги нужны. Из той пятнашки, какую обещали. Я его на хрен послал. Старый хрыч, халявщик, да, Митрий?
— Это все известие?
«Тимуровец» ужом переместился на середину комнаты, там ему казалось безопаснее.
— Мало, что ли? Хочешь, перчиков надыбаю?
— Каких еще перчиков?
— Которыми черти похмеляются. Сладенькие такие. Кроме меня, никто не знает, где взять.
Диво не то, что пацаненок к нему привязался, это нормально, но как в номер просочился: окно–то закрыто. Вместо того чтобы выяснить это, Митя спросил:
— Ты реальный «тимуровец», Ваня?
— А то? На две больницы подписался.
За последние месяцы Климов обвыкся с человеческими эмоциями, но неожиданный прилив жалости к бесприютному маленькому сородичу был все же в диковину. Звание тимуровца, в честь великого просветителя России Егора Гайдара, присваивали любому беспризорнику (их в Москве легион), после того как брали на учет в городском диспансере и вживляли под кожу регистрационный чип. По достижении десяти, двенадцати лет, в зависимости от состояния здоровья, меченые проходили окончательную пересортировку для сдачи тех или иных органов. Самых крепеньких в законсервированном виде отправляли в свободный мир.
— И сколько тебе осталось куролесить? — полюбопытствовал Митя, сглотнув комок в горле.
— Может, полгода, а то и больше, — равнодушно ответил пацаненок и, розовея от собственной смелости, вдруг добавил: — Можно посижу на кровати, дядя Митрий?
Митя чуть подвинулся — и «тимуровец», просияв, взлетел с пола и примостился у его ног. Такое счастливое, обалдевшее и вместе с тем испуганное выражение Митя видел только у стерилизованных, перевоплощенных руссиян на пунктах голосования, куда их сгоняли два–три раза в год для свободного волеизъявления. Та же смесь тоски и очарованности. Похоже, панцирный лежак с лакированными спинками, прикрытый серым гуманитарным одеялком, представлялся ему царским ложем.
— Прямо не знаю, как быть. — Пацаненок не отводил прояснившихся глаз, спокойно ждал верховного решения. — Видишь ли, Ваня, — развил мысль Климов, — по любому тебе не стоит таскаться за мной. Сам сказал: полгода не тронут, а мой путь, поверь, намного короче. 4
— Как это может быть, дядя Митрий? При твоих бабках? — При чем тут деньги… Убирайся, Ванька, отсюда подобру–поздорову. Я тебе не отец и не мать.
Теплым тельцем мальчик прижался к его пяткам.
— Дядя Митрий, я много чего умею, обузой не буду. Так одиноко одному в городе. А вдвоем помирать намного легче. Не гони, пожалуйста.
Митя подумал: когда–нибудь они заплатят за все.
ГЛАВА 26 ИЗ ДВОРЦА НА ВОЛЮ
Патиссон прописал желатиновую успокоительную ванну, ее делали два раза, утром и на ночь: под присмотром доктора я опускал ноги в тазик с раскаленной коричневой жижей, густой, как масло, на ушах болтались клеммы, подключенные к незнакомому прибору, на котором доктор с важным видом делал какие–то замеры. Ванна производила двойное воздействие — нижняя часть тела до пупка горела, как в огне, зато грудь и голову словно прихватывало морозцем, — новейшее, как уверял Патиссон, достижение психотерапии. После этой процедуры я лежал на кровати час–полтора совершенно без сил, борясь с чудовищной депрессией, похожей на черный смог… И вдруг в приоткрывшуюся дверь проскользнул Вова Трубецкой, удалой помощник Гаты. Меня не то чтобы озадачил его приход, но перепугал до смерти. Всегда улыбчивый, синеглазый майор был хмур, сосредоточен и двигался так, как будто стал невидимкой. Грешным делом я принял его за посланца смерти и решил, что пробил последний час. Не хватало Абдуллы, но, скорее всего, азиат ждал в коридоре.
— Опять на расстрел? — поинтересовался я. — Или придушите прямо здесь?
— Не сходи с ума, писатель. — Трубецкой приблизился кошачьей походкой. — Я к вам от известной нам обоим особы.
— Я уж догадался… Но чем я провинился? Главу переписал с поправками, приступил к следующей. Можешь передать господину Оболдуеву.
Наконец–то Трубецкой раздвинул губы в привычной улыбке — и у меня немного отлегло от сердца. Может, он случайно заглянул полюбоваться на писателя–зомби. К таким посещениям я привык, кто только ко мне теперь не заглядывал.
— Отдыхаю после желатиновой ванны, — добавил я неизвестно зачем. — Сейчас опять начну печатать.
— Я от Лизы, — сказал майор многозначительно.
— От Лизы? А что ей понадобилось? — На мякине меня не проведешь. — Ведь ее батюшка отменил занятия.
Трубецкой немного посуровел, присел на пуфик возле кровати.
— Конечно, Виктор Николаевич, у вас нет оснований мне доверять. Но у меня записка. Вот, прочитайте.
Он протянул клочок бумаги и я, притворясь идиотом, отшатнулся. Замахал руками, словно увидел змею.
— Какая записка? Зачем мне читать? За кого вы меня принимаете, Вова? Это что, провокация?
— Обыкновенная записка, что с вами? Да возьмите же, возьмите…
— Не надо мне ничего, не надо!
Некоторое время мы были заняты тем, что он протягивал, а я отталкивал его руку, юлой вертясь на постели, все глубже вдавливаясь в угол. И лишь когда он замахнулся кулаком, я выхватил записку и прочитал. Почерк Лизы, вряд ли кто–нибудь его подделал, не тот случай. «В. Н., смело доверьтесь Т… Л.».
— Шифровка? — спросил я.
Трубецкой залез двумя пальцами в рот и покачал левый клык. Пугал, что ли?
— Да, Патиссоныч веников не вяжет, — сказал он задумчиво. — Но я не могу ждать, пока ты очухаешься.
— Никто вас не заставляет.
— Сегодня ночью будь готов. Ничего лишнего с собой брать не надо.
— Чушь какая–то, — сказал я. — Слушать ничего не желаю.
Майор скривился и потрогал клык справа. Уже уходя, небрежно обронил:
— Никак не пойму, чего она в тебе нашла?
— Кто? — спросил я.
…Как обычно, ужин принесла Светочка, свидетельница убийства Гария Наумовича. Она не оставляла меня своим попечением и при желатиновых ваннах, как и при всех других процедурах помогала доктору Патиссону. В его присутствии вела себя безукоризненно, строго, как настоящая медсестра, ни словечка лишнего, зато когда оставались наедине, превращалась в простодушную, добрую девушку, может быть излишне шаловливую. У меня от ее щипков и покусываний все бока были в синяках.
Кормили теперь хорошо: на сей раз Светочка подала свиную отбивную на косточке с жареной картохой (шедевр бабы Груни), овощной салат, сдобренный оливковым маслом, и жбан английского черного эля, благоухающего, как сырой погреб. Я внутренне паниковал, поэтому жевал энергично, как мясорубка, пиво отпивал сразу по полкружки. Светочка следила за мной с умилением, подперев подбородок кулачками. Видно, что жалела.
— Скажи, Светлана Игоревна, — прошамкал я с набитым ртом, чтобы как–то отвлечься от мрачных мыслей. — Какой прок в желатиновых ваннах? Что они дают организму?
— Ну как же! — Она всплеснула ручками. — Ви–итечка! Посмотрели бы в зеркало, какой вы были три дня назад и какой теперь. Небо и земля. А аппетит! Конечно, если бы не ваша застенчивость… Не повредили бы сеансы сексотера- пии. — Светочка ненавязчиво поддернула ладошками пухлые грудки: лифчики не носила.
— Что ты, Света, Господь с тобой. — Я отмахнулся свиной косточкой. — Сексотерапия! До постели бы добраться после проклятых ванн.
— Вы не правы, Витенька. Умелая женщина, которая сочувствует партнеру, всегда сумеет его растормошить.
Вкусный ужин меня взбодрил, и к приходу Патиссона с его датчиками и тазиком я успел собраться с мыслями. Теоретически я допускал, что записка Лизы была искусной подделкой и надо мной затевали какой–то очередной опыт, но было возможно и другое: Лиза действительно доверяла Вове Трубецкому, какая–то была между ними связь, и с его помощью готовила побег, но если она в нем ошибалась (пятьдесят на пятьдесят), то этот эпизод можно использовать как последнее и неопровержимое доказательство моей подлости. Когда Оболдуев его получит, ему ничего не останется делать, как спустить незадачливого летописца и донжуана по кускам в канализацию. Правда, по–прежнему не было ответа на важный вопрос: какая польза Патиссону или кому–то другому избавляться от меня столь радикально? И зачем было городить огород с убийством Гария Наумовича и с полутора миллионами моего долга?
Доктор Патиссон, проницательный как ведьмак, заметил, что я даже против обыкновенного не в своей тарелке, и, подключив прибор, со смешком поинтересовался у Светочки:
— Похоже, чем–то ты нашего писателя огорчила. Неужто отказала в утешении?
— Напротив, профессор, — с обидой отозвалась милая девушка. — Намекала, что ему не повредит, но, видно, не нравлюсь как женщина чем–то.
— Кушал он как?
— Все съел, что принесла. И пива выпил кувшин.
— Ах, даже так? — Доктор обернул ко мне доброе лицо, украшенное золотыми очочками. — Голубчик мой, ежели вас что–то гложет, поделитесь со своим папочкой. Любой нарыв разумнее вскрыть, чем загонять болезнь внутрь.
Говоря это, он увеличил напряжение на приборе и с любопытством следил за моей реакцией. Я послушно затрясся, как эпилептик, разбрызгивая на пол коричневую жижу из тазика, но быстро оправился.
— С чего вы взяли, герр доктор? Ничего меня не гложет. Ваши процедуры отвлекают от работы — это да. Это беспокоит. Тем более что Леонид Фомич поторапливает.
— Позвольте с вами не согласиться, — возразил Патиссон, умильно улыбаясь. — Как могут повредить процедуры, направленные на снятие стресса? Тем более желатиновые ванночки совокупно с электрическим током. Без лишней скромности скажу, это мое собственное ноу–хау.
— После вашего ноу–хау я три часа валялся, как паралитик.
— Превосходно, батенька мой! Значит, идет активнейший выброс психотропных шлаков. Некоторые горе–медики рекомендуют чистку кишечника, применяют голодание и разные диеты. Бред, шарлатанство. Пользуются невежеством публики и заколачивают на этом, заметьте, приличные бабки. Чистить следует душу, а не кишки. Особенно когда речь идет об интеллигенции, к которой мы с вами, к несчастью, принадлежим. Душа, дух руссиянского интеллигента представляет собой не что иное, как вонючее отхожее место, наполненное словесной блевотиной. Или вы и с этим будете спорить?
— Вообще не имею привычки спорить, но факт остается фактом. Ваши так называемые чистки отнимают уйму времени, а результат нулевой, если не сказать хуже.
— Как это нулевой? — возмутился Патиссон. — Голубчик мой, да вы знаете ли, что такое стресс? Возможно, это главная и единственная, а по теории француза Селье так и есть, человеческая болезнь. Стресс держит в напряжении все внутренние органы, и какое–то слабое звено — почки, печень, сердце — в конце концов не выдерживает, выходит из строя. По моему глубокому убеждению, если удастся победить стресс как первопричину всех недугов, человек, вполне возможно, обретет бессмертие. И вы еще говорите мне о нулевом результате. Постыдитесь, сударь мой.
Трудно сказать, глумился ли он, как обычно, надо мной или впрямь, будучи маньяком, верил в научную ценность своих теорий. Когда процедура окончилась, он снял датчики с моих ушей, а Светочка перекинула мою руку себе на плечи и помогла доковылять до кровати, родная.
Ушли они вместе. Я попробовал читать — не тут–то было, выключил лампу, закрыл глаза, сна тоже ни в одном глазу. Тело постепенно расслабилось, но это не принесло облегчения. Не помогла и попытка погрузиться в воспоминания, хотя это лучший способ уйти от действительности. Так и промаялся несколько часов, ворочаясь с боку на бок. О Лизе и о том, что предстоит, старался не думать, словно боялся, что подслушают.
Вскоре после полуночи завыл добрейший бультерьер Тришка. Жаловался на судьбу. После того как он загрыз любимца Оболдуева, персидского кота Барсика, порвал двух китайских обезьянок — Жеку и Жуку и покалечил массажистку Шурочку, вышедшую спозарайку на двор, чтобы облиться ведром холодной воды по завету Порфирия Иванова, — после всех этих подвигов, уместившихся в один календарный день, Тришку перестали спускать с цепи даже ночью, только Лиза иногда прогуливала его на поводке.
Минуты три пес выл в одиночестве, потом к нему присоединились овчарки, наполнив тишину сумасшедшим лаем, а закончил ночной концерт, как всегда, с трудом проснувшийся дог Каро, утробно бухнув несколько раз, как в бубен. На время все стихло, затем, набирая силу, ночь наполнилась жалобными, щемящими повизгиваниями и стонами, доносившимися, казалось, отовсюду — с потолка, из–под пола, в окно… Наконец надо всем вознесся истошный бабий вопль: «Ратуйте, люди добрые!» — оборвавшийся на запредельном си–бемоле. Я знал, что происходит. В отсутствие хозяина свободные от дежурства гвардейцы Гаты смотались, как обычно, в ближайший поселок и притащили оттуда деревенских молодух, сколько смогли поймать. В стеклах внезапно вспыхнул отблеск близкого пожара и так же быстро угас. Раздался скрежещущий звук, как при разрываемой материи: так еще иногда вскрикивает напоследок человек с расколотым черепом…
Знакомые ночные звуки, ставшие почти родными. Далеко за полночь отворилась дверь в комнату, и голос Трубецкого тихо окликнул:
— Готов, Витя? Подымайся, пора.
Дальнейшее происходило будто и не со мной. Вместе с майором мы пересекли парк и выбрались к бетонному забору, откуда особняк казался бесформенной смутной горой. Ночь стояла теплая, с пригашенными звездами. По дороге нам никто не встретился. Даже овчарки куда–то подевались. Трубецкой шел чуть впереди упругим, звериным шагом. Я не удержался, спросил:
— Зачем вы это делаете, Вова?
На секунду остановился, чтобы ответить:
— Эх, писатель, если бы я сам знал.
— Хорошо заплатили?
— В том–то и дело, что нет.
И все, больше не разговаривали.
Пролезли через колючие кусты, майор подсветил фонариком. В бетонной стене обнаружилась дверь, узкая, в человеческий рост, и так надежно замаскированная плющом, что, не подозревая о ее наличии (я сто раз ходил мимо), упрешься носом и не разглядишь.
Трубецкой открыл небольшой висячий замок — и мы очутились с наружной стороны. Все произошло так буднично и быстро, что я не успел испугаться.
Шагах в двадцати на обочине темнела легковуха с включенными подфарниками (потом выяснилось, «форд» — двухлетка с незначительным пробегом).
— Водить, надеюсь, умеешь? — спросил Трубецкой.
— У меня своя тачка.
— Все документы в бардачке… Смелее, тебя ждут.
Он распахнул левую переднюю дверцу, слегка подтолкнул меня в спину. Я забрался внутрь — теплые руки Лизы обвили мою шею.
— Как ты долго, родной мой!
Автоматически я ответил на поцелуй.
— Ничего не долго. Спешил как мог. И что дальше?
— Заводи, поехали.
В дверцу просунулся Вова Трубецкой.
— Лиза, все запомнила?
— Спасибо, Володечка!
— Если какие проблемы, знаешь, что делать, да?
— Конечно. Не волнуйся, все будет в порядке.
Меня майор напутствовал так:
— Береги девушку, писатель. Она того стоит.
В сомнамбулическом состоянии я разобрался с передачами, включил движок — мотор отозвался благозвучным урчанием, как бы предупреждая о своей могучей силе. Несмотря на обстоятельства, моя водительская душа сладко обмерла: еще не доводилось оседлывать такого рысака.
Не помню, как выбрались на трассу. Лиза прижималась ко мне и что–то бормотала себе под нос. Когда выкатились на шоссе, я спросил:
— Вовка тебе кто? Жених, что ли?
Конечно, мог придумать и поглупее вопрос, но остановился на этом.
— Никак ревнуете, Виктор Николаевич? — отозвалась Лиза с непонятным удовлетворением.
— Да нет… Но все же любопытно… Не меньше нас рискует, а ради чего?
— А вы ради чего, Виктор?
Может, надеялась услышать, что ради нее или ради любви, или ради еще чего–то подобного, как свойственно романтическим героям, но я ответил правду:
— Я вообще не знаю, рискую ли… Туман в голове. Неутешительный итог бестолковой жизни…
Вот так, с невинных пустяков началось наше долгое путешествие по темной дороге.
ГЛАВА 27 ИЗ ДВОРЦА НА ВОЛЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Туда, куда устремились, мы добирались больше суток, сначала по шоссейному тракту, потом грунтовыми дорогами, а позже — буераками и колдобинами. Заехали в такую глушь, куда и ворон не летает, — в деревню Горчиловка, в двухстах верстах от Саратова. Около тридцати дворов, одна улица, поросшая лопухами и крапивой ростом с человека, колодец, несколько телеграфных столбов с обвисшими проводами — электричество Чубайс отключил зимой за долги.
За то время, пока ехали, я узнал Лизу лучше, чем за предыдущие два с лишним месяца. Точнее, узнал не лучше, а другую Лизу — простую, смелую, очаровательную девушку, ластившуюся, как котенок. От прежней Лизы — тоже милой и прекраснодушной, но все же немного взбалмошной и чересчур задумчивой, — не осталось следа. Теперь она болтала без умолку и смеялась по любому поводу, что бы я ни сказал, хотя смеяться было особенно нечему. На черной машине, по немецкому асфальту, а позже по русским колдобинам мы мчались в никуда.
Делали привалы, выбирая укромные места. Я допускал, что, как только обнаружится наше бегство, Леонид Фомич объявит по всей стране какой–нибудь хитрый план типа «Перехват» или «Сирена». То, что я совершаю безумие, меня мало беспокоило, оно не первое и, коли Господь попустит, не последнее, важнее было понять, что делать с этой девушкой, так слепо, беззрассудно доверившейся мне? Куда ее деть? С другой стороны, не давала покоя фантастическая мысль: если Лиза исчезнет, растворится вдруг в голубой небесной дымке, мне нечего будет делать на этой бескрайней земле.
На первом привале (ранним утром, на опушке соснового леса) разобрались с имуществом, что было в машине. Я покинул гостеприимный барский дом налегке, не запасшись даже сменой белья, зато у Лизы на заднем сиденье стояли два кожаных чемодана, битком набитых, а также в багажнике лежала большая спортивная сумка на молниях, раздутая, как мяч. Меня заинтересовал пакет с документами, который я обнаружил в бардачке: паспорт, водительское удостоверение, талон и купчая на машину. Пластиковая банковская карточка — все на имя какого–то Букина Вениамина Сергеевича, но с моими фотографиями и повсюду с точной копией моего автографа.
— Как это, как это? — запыхтел я. — Какой–то Букин с моей рожей.
— Временно, Виктор Николаевич, временно.
— Выходит, я теперь нелегал?
— Я тоже, я тоже.
— Документы хоть настоящие или липа?
— Господи, да кого это интересует в наше время.
В первый раз у меня мелькнула догадка, что это небесное создание, проведшее жизнь в заточении, с боннами и гувернерами, возможно, намного практичнее, чем я думал, и не так уж плохо ориентируется в жизни. Взять хотя бы наш побег. Ведь чтобы его спланировать и организовать, продумав множество деталей (те же документы, кто–то же их изготовил… а машина, а маршрут…), нужна, кроме всего прочего (деньги!), крепкая житейская хватка, какую трудно заподозрить в субтильной затворнице.
В деревню Горчиловка прибыли под утро третьего дня, и последние часы я вел машину почти вслепую, едва отличая дорогу от обочины, до того измотался. За весь путь мы поспали часа три на заднем сиденье машины, да и то вряд ли можно назвать это полноценным отдыхом: после обморочного забытья я вдруг обнаружил Лизу у себя на коленях и при этом мы целовались, как придурочные. Какой уж тут сон.
Юсупова разыскали легко: пожилая баба у колодца, замотанная синим платочком до бровей, не только показала дом (третий от конца улицы), но заодно растолковала, что дед Антон отправился со светом на рыбалку, его нету, зато старуха Лушка дома, только надо громко кричать, чтобы дозваться. И еще надо опасаться ихнего оголтелого пса, который уехал с дедом, но в любой момент может вернуться и напасть на пришлых. Псина зловредная, а старуха глухая. Забавная деталь: в разговоре женщина на нас, кажется, не взглянула ни разу, пялилась на черную машину, из которой мы вылезли. Из чего я сделал вывод, что появление в этой глуши гостей на иномарках — большая редкость.
Юсупов, как рассказала Лиза, приходился ей двоюродным дедом по материнской линии, короче близкой родней. О ее существовании он мог и не знать, она сама о нем узнала из материного дневника, который остался ей в наследство и который она много раз перечитала от корки до корки, чуть ли не выучила наизусть. В дневнике была запись о том, как к Колышкиным (Марина, матушка Лизы, на ту пору была еще девочкой) из деревенской глубинки, из Саратовской губернии, в 1971 году нагрянула целая депутация, человек шесть родичей, молодых и старых, и их московская двухкомнатная квартиренка на несколько дней превратилась в цыганский табор. Депутация преследовала две цели: одну духовную — полюбоваться хоть разок стольным градом, вторую практическую — сбыть по хорошей цене на рынке молодого бычка. Мясо привезли в трех полотняных мешках и, пока добирались на перекладных да пока устраивались с рынком, оно, естественно, из парнин- ки превратилось в тухлинку; перед тем как вывозить на продажу, его полночи промывали в ванной уксусным и соляным раствором, отчего еще с месяц после отъезда деревенских квартира благоухала сытным мясным духом. В дневнике описание злоключений, происшедших с лихими добытчиками в Москве, занимало пять страниц, исписанных мелким, убористым почерком, и свидетельствовало, по словам Лизы, о незаурядном литературном даровании ее матушки, впоследствии ставшей педиатром. Скоро я сам смогу это оценить как профессионал, дневник в одном из чемоданов. Я не стал спрашивать, почему она решила, что в деревне мы будем в безопасности, но поинтересовался, почему она думает, что старик Юсупов, если он жив, примет нас с распростертыми объятиями. Зачем ему лишняя докука? Лиза ответила обстоятельно. Во–первых, оказывается, в деревне еще действуют законы гостеприимства, во- вторых, она везет подарки и у нее есть деньги; в-третьих, если прием будет прохладным, мы всегда сможем купить себе дом, представив это как каприз новорусской четы, которой наскучило шляться по заграницам и потянуло на провинциальную экзотику. Все, что она говорила, трогало меня до слез. Как и Лиза, я предпочитал не заглядывать в будущее, которого у нас скорее всего не было, а жить одним днем по завету премудрого графа Льва Николаевича.
Машину мы оставили на улице, возле привязанной к забору на длинную веревку козы, а сами, войдя в незапертую калитку, пересекли двор и поднялись на невысокое крыльцо. Я постучал в дверь костяшками кулака, а Лиза весело прокричала: «Хозяюшка, ау!»
Повторив нехитрую процедуру три раза, толкнули дверь и очутились в темных сенцах, откуда, миновав еще одно маленькое, тоже полутемное помещение, попали в большую комнату, где на низкой кровати, сплошь заваленной одеялами и подушками, без всяких признаков постельного белья, восседала тучная пожилая женщина с красным одутловатым лицом, похожим на топорно сработанную посмертную маску. Женщина смотрела на нас без всякого выражения, в позе крайней усталости: толстые руки брошены на колени, прикрытые серой холстинной юбкой, выгнутая горбом спина уперта в стену. В комнате было так жарко и душно, так шибало в нос едким запахом прели и какой–то кислоты, что у меня сразу закружилась голова и пришлось опереться о шкаф. Кроме кровати и шкафа в комнате стоял круглый стол со следами недавней трапезы (оттуда и кислило?) да несколько разномастных стульев. Еще большой деревенский сундук у стены, покрытый белой вышивкой, и образ Богородицы в красном углу.
Лиза, чуть смущаясь, начала громко объяснять, кто мы такие и зачем пожаловали, говорила довольно долго, убедительно жестикулируя, а когда замолчала, женщина пожевала губами и изрекла:
— Денег нет! Ступайте себе с Богом, ребятки.
Тут уж я подключился, наклонился к ней.
— Какие деньги, бабушка Луша? Гости мы, гости, родичи ваши. Погостить приехали.
— Не ори, милый, авось не глухая. — Она сделала жест пухлыми ладонями, будто я ее оглушил. — Хоть и гости, все одно денег нету. Когда пензию дадут, тогда будут. Тогда и приходите. Когда дадут, неизвестно. Полгода обещают… Чего ж теперь орать.
Неведомо, за кого нас она приняла, кто нынче на деревне стариков додавливает, но когда спустя три часа все разъяснилось, когда вернулся с рыбалки дед Антон, когда, распустив часть забора, загнали машину на двор, когда уселись наконец за самовар, наступила идиллия.
Старик выглядел, как опаленный солнцем дубок, не подвластный времени. Золотистые глазенки в глубоких глазницах посверкивали проницательно. Двухполосная, белая с черным, бородища на грудь. Узловатые руки, словно клешни. Он быстро разобрался, кем ему приходится Лиза, хотя приблизительно. Про давнюю поездку в Москву он не помнил, в семейном альбоме, который Лиза выложила на стол, никого не узнал даже в очках, зато сообщил, что Лизу на самом деле зовут по–другому, Манечкой Егоровой, — и она ему внучатая племянница по брату Степану, сложившему голову в далекую войну под Волоколамском. Сказал, что это особого значения не имеет, будь ты хоть кочергой запечной, но каждое земное существо обязано откликаться на природное имя, ничего дополнительно придумывать не надо. Мы с Лизой стали свидетелями трогательного феномена: баба Луша нас почти не слышала, но все, что говорил супруг, разбирала до запятой и ни с чем не соглашалась. Как раз по поводу Лизиного имени они яростно заспорили, но тут начались подарки — и хозяева обомлели. Антону Ивановичу досталась кожаная куртка итальянской фирмы «Франческо», наручные часы с серебряным браслетом, электробритва в кожаном чехле, набор курительных трубок и шелковая пижама, пылавшая всеми цветами радуги; Лукерья Евдокимовна получила белоснежный банный халат с золотой оторочкой, меховые ночные тапочки, соковыжималку, миниатюрный, как пачка сигарет, приемник («Будете слушать «Ретро», баба Луша!»), косметический набор «Шанель» в нарядной коробке, перевязанной разноцветными лентами… Оглядев все это богатство и оправившись от потрясения, дед Антон жестко распорядился:
— Убери, мать, и никому не показывай… А то, сама знаешь, нагрянут.
Баба Луша послушно метнулась к сундуку, и выглядело это так, как если бы грозовая тучка слегка покачнулась на небе.
Но это еще не все. Следом Лиза начала выкладывать на стол из спортивной сумки съестные гостинцы, и чего тут только не было: блестящие упаковки с копченостями, колбасами и сырами, баночки икры, коробки со сладостями и прочее такое, рассчитанное на то, чтобы поразить воображение туземного руссиянина. В довершение установила меж богатой снеди полуторалитровую бутыль шотландского виски из тех, на какие и я иногда заглядывался в винных отделах, напуганный непомерной ценой. Окончательно деморализованный Антон Иванович только и нашелся сказать: «Это уж вовсе ни к чему, племянница, баловство одно»…
Бутыль с виски сразу куда–то унес, заметив, что это «на потом».
Позже, когда баба Луша накрыла стол для чаепития, а мы с дедом приняли «с приездом» по стопке голубого пшеничного первача и уже обсудили кое–какие насущные вопросы, осталось главное: определиться нам с Лизой на постой. Дед с бабкой категорически заявили, что отдают вот эту большую гостиную и кровать, на которой баба Луша мигом перестелит все чистое, а сами отменно устроятся в сенцах либо, если это для нас помеха, перейдут пока на прожиток к свояку, у которого целый дом пустует. Лиза бросила на меня победный взгляд, но я, хотя клевал носом, с этим предложением не согласился. Как мы будем чувствовать себя в хоромах, если хозяева ютятся в клетушке? Не годится, не по–людски. Теперь Лиза посмотрела на меня с гордостью, а дед Антон сказал:
— Безвыходных положений не бывает. И что, Луша, коли Клавкин дом откроем?
Хозяйка неожиданно захихикала, прикрыв рот ладошкой, но сразу посерьезнела и перекрестилась.
— Почему не открыть, Антоша? Все одно Клавка уж не воротится.
— Ну, это как сказать, — возразил дед.
Я попросил объяснений и тут же их получил. Клава (тоже Юсупова), их двоюродная правнучка, жила своим хозяйством через два дома от них. Молодая вдовица. Мужик ее на заре капитализма угорел от паленой водки, детей у них не было, не дал Господь. Клава так и вдовела потихоньку, ничего больше от жизни не требуя, хотя была хороша собой. И тут получилось как бы маленькое чудо. Иначе не назовешь. Три лета назад в Горчиловку по оказии завернули трое иноземцев, то ли англичане, то ли шведы, кабанчика пострелять. Охота в окрестных лесах знатная, зверя немерено и с каждым годом прибавляется. Подселились как раз у Клавы, у нее дом просторный, прокантова- лись трое суток, а когда наладились обратно в Швецию, забрали Клаву с собой. Чем–то она им приглянулась, что ли. Да, в общем, понятно чем. Клавка прибегала прощаться, от счастья была сама не своя, билась вот здесь головой о притолоку, ревела в три ручья и все одно повторяла: «Он хоть старый, да ласковый… Старый, да ласковый… Обещал весь мир показать».
— История, надо сказать, загадочная, — закончил повествование дед Антон, обретший после трех стопок необыкновенную ясность ума. — До сей поры в толк не возьму, на каком языке Клавка с ими изъяснялась? Второе: зачем ей весь мир, коли она в здешней речке купаться боялась?
Дальнейшее, честно говоря, помню смутно — дорога, крепчайший самогон, утомление, — но вдруг обнаружил, что лежу на чистой постели в светлой горнице с открытым на волю окном в лазоревых занавесках. Чувствовал себя, будто заново родился. Лиза сидела поодаль за столом и смотрела на меня. Увидев, что я проснулся, важно изрекла:
— Что ж, Виктор Николаевич, пожалуй, осталось выяснить совершенный пустяк… Кто я тебе, жена или попутчица?..
* * *
Выясняли мы этот пустяк пять дней — и пронеслись они, как волшебный сон.
Время разбилось на какие–то маловразумительные фрагменты, наполненные солнцем, негой, бесконечными разговорами и любовью. О да, это была она — с ее томительным дыханием и светопреставлением в душе. Полагая себя литератором, оказывается, я до сих пор представления не имел, как она сушит мозг, как превращает человека в примитивное существо, озабоченное только одним…
Сидим на берегу речки Свирь. Сколько глаз хватает — небо, лес, травы, вода и больше ничего. На Лизе перламутровый купальник, на мне плавки в синюю полоску. Я немного стесняюсь неуклюжести собственного тела, замордованного городской жизнью, с плохо развитой мускулатурой. Но стыдиться особенно нечего: я молод. Я так молод и глуп, как не бывал даже в пору полового созревания.
Лиза, щурясь от солнца, бросает из–под ладони лукавый взгляд.
— Витенька, ну пожалуйста, расскажи про свою жену.
— Зачем тебе?
— Она была красивая, умная, необыкновенная, да?
— Все это прошлое, к чему ворошить.
Пригорюнилась, в темных глазах огонь потух.
— Что ты, Витенька… Прошлой любовь не бывает. Она всегда настоящая.
— Тебе–то откуда знать?
— Действительно, откуда? Но все–таки я не понимаю, как это может быть. Любишь, любишь, а потом вдруг — прошлое. Значит, было что–то другое, не любовь… Она тебя обижала?
— Кто? Моя жена? С чего ты взяла? Надоели друг другу — вот и расстались.
— Значит, ты не любил, — подвела итог со вздохом облегчения и добавила сочувственно: — Несчастная женщина. Как она теперь страдает без тебя.
Я поймал себя на том, что плохо помню Эльвиру, но несчастной она не была — это точно. Какой угодно, обворожительной, лживой, злой, бескорыстной, себе на уме, но не несчастной. Лиза права в одном: я никогда не любил по- настоящему маленькую татарочку, хотя одно время мне было с ней хорошо, головокружительно, как и ей со мной.
— Пойдем в воду, — позвал я, поднимаясь. Лиза опередила, кинулась с обрыва на глубину, погрузилась с головой — и на мгновение я обмер: где она? Все оставалось на своих местах, солнце, река, блистающий, прекрасный мир, а Лизы не было. Она плыла под водой, она мастерица нырять и плавать. Я уже убедился в этом, но я ее не видел, поверхность воды разгладилась, и я испытал огромное, невыразимое страдание, как будто лишился чего- то такого, что неизмеримо дороже жизни…
Пьем чай у старика со старухой, по вечерам ходим к ним в гости. Породнились. Теперь я деду Антону тоже внучатый племянник. Но по линии другого брата, Прохора. Он уже три раза извинялся за то, что не сразу признал. Годы, глаз уже не тот, как в шестьдесят лет. Я отвечал одно и то же: с кем не бывает. На столе керосиновая лампа, только что ее запалили. В лампаде под иконкой мерцает огонек, как с другого конца вселенной. Чай богатый: баба Луша вынула из печи картофельные шаньги, поставила варенье трех сортов: брусника, малина, смородина. Плюс шоколадные конфеты и разные печенья из Лизиных гостинцев. Разговор неспешный, обстоятельный. Витийствует в основном Антон Иванович, баба Луша ему возражает, мы с Лизой соответствуем, внимаем умным поучениям.
— Без электричества жить можно, — сообщает старик, стряхивая мучные крошки с бороды. — Больше скажу, безо всего можно жить, даже без пищи, кроме совести. Как у вас об этом в городе понимают? Небось, забыли, что такое совесть?
Не успеваю ответить, встревает баба Луша:
— Дай людям спокойно покушать, старый. Проповедник нашелся. У самого–то она где?
На подковырки жены дед не обращает внимания, разве уж сильно допечет, но это редко бывает.
— Совесть, детки мои, такая штука, противоположная алчности. Меж ними боренье идет. Так в Писании сказано. Кто поддался алчности, потянулся на золотой манок, тому не видать царства Божия. Да и на земле ему худо. Без совести, вытесненной алчностью, человек становится как бы душевно слепой, немощный и бесприютный. С виду, конечно, как сыр в масле катается, а внутрь загляни — там темень и вонь. Не позавидуешь такой жизни. Мы по телику раньше смотрели, когда свет был. Их там всех показывают, которые скурвились. Ну как они живут? Страшно подумать. Все вроде есть, всего в изобилии, пир горой, а толку–то что. От страха перед неизбежной расплатой с ума сходят. Пуляют друг в дружку почем зря, пытками пытают, детишек малых не жалеют. Все от страха одного. Кто первым ближнего не сожрет, того самого сожрут. Хуже зверей, право слово.
Старик горестно качал бородой, будто грудь подметал, захотелось его утешить. Его печаль была безнадежной и такой понятной. Лиза опередила.
— Дедушка, но разве обязательно если человек богатый, то зверь? Разве по–другому не бывает?
Дед поглядел на нее с каким–то проницательным сочувствием.
— Не бывает, не надейся.
— Как же так, дедушка? Слишком просто получается. Выходит, каждый богатый человек преступник, а любой бедняк — праведник? Зачем тогда работать, учиться, дома строить, книги писать? Чтобы в лапти обуться и сухую корочку жевать?
— Путаница у тебя в голове, племянница, — доброжелательно отвечал старик. — Богатство богатству рознь. Важно, как нажито. У меня вон прадед тоже был богатым, лавку имел, два дома, много скотины и птицы, но все ведь нажил горбом, никого не ущемлял. В этом вся суть и есть. Каждому по труду воздается, а не по лихости. Нынешние богатей сами копейки не заработали, чужое поделили и скоко людей вокруг себя обездолили. Потому нет им спасения, и на праведном суде с них взыщется полной мерой.
— Взыщут, как же, жди, — буркнула баба Луша.
— Есть миллионеры, — не унималась Лиза, щечки у нее раскраснелись, — которые церкви строят, больницы, дома для престарелых. Раздают деньги направо–налево. О бедных заботятся.
— Ну да, — усмехнулся дед. — Раздели догола и подачку бросили. На, дескать, голодранец, купи себе бублик. И ведь подают тоже не по душе, опять от страха. Ну, как ограбленный народец озвереет, набросится скопом, ноги поломает, дворцы пожгет. В истории всякое бывало и еще не раз будет.
— Не спорь с им, доча, — посоветовала баба Луша, подкладывая Лизе в тарелку моченой брусники. — Чернокнижник. Ему хошь кол на голове теши, не уступит. Такой уродился поперечный дед.
Понятно, Лиза косвенно пыталась как–то защитить, оправдать отца, но ей это не удалось…
…Сварила картофельный супец — эпохальное событие. С утра было видно, задумала что–то грандиозное, выпроваживала из избы, чтобы не путался под ногами. С вечера условились пойти за грибами, но она передумала: «Сходи один, Витенька, искупайся, что ли. Ну что ты, как маленький, нельзя так держаться за женскую юбку». Я заподозрил неладное, но послушался, пошел, правда, не в лес, к Юсуповым. Дело в том, что несколько дней вынужденного безделья подействовали угнетающе на психику. Впервые за долгие годы я оказался как без рук: без пишущей машинки, без компьютера, даже без бумаги. Незаписанные слова, фразы, обрывки сюжетов напрягали сознание, словно малые, голодные, ненакормленные детки.
Обратился к деду со своей нуждой, у него бумаги не было, но нашлось несколько обглоданных шариковых ручек с высохшей пастой и пяток разноцветных карандашей. Дед сказал, пойдем к Митричу, самый культурный человек в деревне, бывший библиотекарь. Бумагой наверняка запасся.
Пока шли деревней, из огородов кое–где подымались женщины, все в изрядных летах, окликали деда Антона, церемонно здоровались, интересовались самочувствием. Дед останавливался и каждой обстоятельно докладывал, что идем к Митричу за бумагой, каковая понадобилась племяннику (мне), чтобы отправить важное послание в город. Мужики не попадались, словно повымерли. Про молодежь и говорить нечего. Дед еще раньше рассказал, что те, кому поменьше ста лет, давно подались в коммерцию и теперь, надо полагать, мало кто остался в живых. Все посек зловещий молох маммоны.
Митрич жил на другом конце деревни и оказался сухим, выскобленным солнцем до черноты мужичонкой лет шестидесяти, с запахом свежей браги. Когда мы все трое уселись на скамеечку возле дома, запах обрел материальные очертания в виде серого облака вокруг его головы. Бумаги у него тоже не нашлось, но прежде, чем об этом сообщить, он долго, нудно выспрашивал, кто я такой и зачем мне бумага. Затем безо всякого перехода предложил:
— Что ж, земляки, нешто сымем пробу по кружечке?
Дед Антон весомо изрек:
— Я все сижу и думаю, спохватишься ай нет людям поднести. Почему не попробовать, коли она есть.
— Суть не в этом, Иванович, — смутился библиотекарь. — Тут вопрос глубже. Веришь ли, буквально помрачение нашло. Третий раз заквашиваю и никак до перегонки довести не могу.
— Леший тебя водит, потому что без бабы живешь. Крепкому мужику без бабы жить вредно. Спиться можно.
Пока Митрич ходил в дом, дед поведал его историю. Баба у Митрича раньше была, хорошая баба, работящая, веселая, Настеной звали, но пропала три года назад. Пошла однажды за малиной — и сгинула. Может, медведь задрал, может, еще что, кто знает. Пропавших теперь не ищут. Митрич с тех пор керосинит денно и нощно. И бумагу, похоже, на махорку извел. Была у него бумага, как не быть. Какой библиотекарь без бумаги. Я хотел спросить, где в Горчилов- ке библиотека, откуда взялась, но поостерегся. Митрич вернулся с трехлитровой посудиной и тремя гранеными ста- кашками. Самолично наполнил все три до краев. Банку поставил на землю. Мутная белесая жидкость пенилась и отдавала сивухой. На вкус оказалась кисленькой, как квасок; Мне понравилась. Снова закурили мою «Яву». Потом повторили, как водится, потом еще. Утешное получилось сидение. Все, что томило душу, отступило, истаяло в чарующем мареве летнего дня. На задворках вселенной, возле картофельного поля, явственно чувствовалось дыхание вечности, а может, и благодати. Вели неспешную беседу с пятого на десятое, приличествующую трем мужикам разного возраста, но одинаково истомленным загадочными видениями жизни и вдруг обретшим минутный покой. Митрич предупредил, что квасок, с виду слабенький, — коварная штука и может так вдарить, что мало не покажется. Я не поверил, пил и пил, как соску сосал. Митрича с его сухим лицом и как–то безобидно осоловевшего деда Антона воспринимал совершенно как родных людей, как встреченных неожиданно задушевных братьев.
Сперва помянули пропавшую без вести Настену, супругу Митрича, и я, спохватясь, выразил соболезнование. На что Митрич, блеснув внезапной слезой, возразил, что хоронить ее рано. Пустили по деревне слух вздорные старухи, что ее, дескать, обратал медведь, но это, конечно, чушь. Не такая Настена баба, чтобы поддаться косолапому или любому другому лесному насильнику, да и медведи в их местах приветливые, с руки едят, как в зоопарке. Ежели встретится шатун, так, скорее всего, одичавший коммерсант из города. Такие действительно в район иногда забредают, но с ними у Настены разговор короткий… Морщась от насмешливых похмыкиваний деда, Митрич признался, что подозревает другое. Последнее время Настена шибко убивалась из–за пенсии, мечтала ему, Митричу, на зиму бахилы прикупить, старые совсем прохудились, и вполне могло статься, не согласовав с мужем, чтобы сделать сюрприз, подалась искать правду в областной центр. По ее характеру станет. Да что там, недавно надежный человек сообщил, что видел Настену аж в Саратове на митинге и в руках у ней плакатик с надписью «Долой антинародный режим Чубайса!»
— Надежный человек! — не выдержал дед Антон. — Чего баки заливаешь? Кто такой? Небось Шурик Трухлявый из Назимихи, твой вечный собутыльник?
— Хотя бы он, — вскинулся Митрич, расплескав стакан. — Чем тебе не угодил? Тогда с сохатым наколол? Что ж, век будешь помнить?
— Святая ты, Митрич, душа, — загрустил дед Антон. — Пей хоть с чертом, хоть с Трухлявым, но зачем сказки рассказывать. Не спорю, мертвую Настену никто не видел, выходит, по юридическому закону она как бы живая, но тебе какой прок? Пока молодой, подбери сопли и начинай судьбу заново. Не нами придумано. Скоко раз говорил, вон Анфиса Павловна чем тебе не пара? Ведь она хоть завтра со всем душевным расположением. Не кобылу насуливаю, Митрич. На нее без тебя охотники найдутся, как бы локти не пришлось кусать.
— Заткнись, дед, обижусь, — с опозданием пробурчал Митрич и поспешно осушил стакан, смягчил боль потери кваском. Придвинулся ко мне поближе, посмеиваясь, просияв просмоленным ликом, заговорщически шепнул:
— Тебе, Витя, остерегаться не надо. В деревне такого нет подлеца, который донесет.
— О чем ты, Митрич? — На мгновение я протрезвел. Оказалось, ничего страшного. Просто, как мы с Лизой ни темнили, деревня давно догадалась, кто мы такие. Выдал черный красавец «форд». На подобных тачках всем известно, кто ездит. Отнюдь не законопослушные граждане. У тех ежели был при советской власти велосипед, давно его пропили.
— Какого вы колера, ребятки, никого не касается, — уверил Митрич. — И сколько наличности имеете, тоже не наше дело. Но вот что скажу, Витя, как будущему зэку. Главное вам до осени отсидеться. Как дороги размоет, в Горчиловку ни одна тварь не сунется.
Польщенный, что многоопытный Митрич принял меня за героя нашего времени, за нового русского, я все же возразил:
— Все так, Митрич, но, с другой стороны, мы родственники Антона Ивановича. Типа приехали отдохнуть.
— Это мы понимаем, — глубокомысленно кивнул Митрич. — Все мы чьи–нибудь родичи. Но послушай доброго совета, Витек. Тачку загони в амбар, не свети.
К этому моменту дед Антон уже не принимал участия в беседе, он с белыми слюнками на губах, с мечтательной улыбкой мыслями витал где–то далеко.
Митрич, потряся зачем–то над ухом пустую банку, ушел в дом за добавкой, а я начал собираться к Лизе. Но первая попытка не удалась. Едва поднялся на ноги, как они мягко подкосились в коленках и я, хохоча, рухнул на сухую, теплую травку, к которой так хотелось прижаться щекой. Так и сидел, блаженный, пока не вернулся Митрич. Он сразу оценил ситуацию и сказал, что в моем положении лучше всего выпить настоящего самогонцу, да где ж его взять.
Очнулся от грез дед Антон. Не найдя меня глазами, заговорил преувеличенно громко и отчетливо:
— Чудное дело, Митрич, племяша слышу, как регочет, а видеть не могу. Подлая у тебя бражка. Может, с того и Настена ушла.
Подкрепившись белым кваском, любезно поднесенным Митричем, я кое–как встал и попрощался с собутыльниками. Деду пожал руку, а с Митричем расцеловались в губы.
— Помни, служивый, до осени, — напутствовал он. — Осенью ты их крепко озадачишь.
— Запомню навеки, — пообещал я.
По деревне прошел, как балерина на сцене Большого театра.
И вот уже передо мной прелестное, безмятежное личико Лизы, парящее над крыльцом.
— Боже мой, Витя, да ты же пьяный в стельку!
Обнялись, как после долгой разлуки, и я так любил ее в эту минуту, как никого и никогда.
Затем началось поедание супа. Лиза сидела напротив, а я поглощал тарелку за тарелкой, подхватывая капли ломтем серого влажного хлеба. Хотя и очумелый, я хорошо сознавал, что происходит. Дочь миллионера, особа дворянских, новорусских кровей, возможно, за всю жизнь не испачкавшая ручек у плиты, приготовила еду своему мужчи- не–избраннику. Я был бы последним скотом, если бы не оценил событие по достоинству. Вкуса того, что ел, я не чувствовал, что–то пресное и постное, но на третьей тарелке, умильно сощурясь, спросил:
— Харчо, дорогая?
— Сам ты харчо, негодяй! Это картофельный суп по бабы Груни рецепту. Скажешь, невкусно?
— Вижу, что картофельный, потому удивился. Картофельный, а впечатление такое, будто харчо, как в ресторане «Арагви». Как тебе удалось, любовь моя?
Приняла ли за чистую монету, не знаю, но лицо осветилось счастливой улыбкой.
— Твоя Эльвира, скажешь, лучше готовила?
— Милая моя, она вообще не умела стряпать. Обычно я покупал пачку пельменей, и мы съедали на двоих, причем ей доставалось две трети, а мне с пяток самых худосочных пельмешек, из которых мясо вывалилось. Больше скажу, до этого дня я ни разу полноценно не питался.
Она подумала над моими словами, склонив русую головку. Чистое дитя.
— Если бы ты не был такой пьяный, Витенька, я сказала бы что–то очень важное.
— Я не пьяный. Голова–то соображает.
Посмотрела с сомнением.
— Хорошо, слушай… Я ведь знаю, кем тебе представляюсь. Балованная дочурка нувориша, дитя воображения и книг, никчемное создание… Но тебе вовсе не обязательно на мне жениться, у тебя есть время подумать…
— Как порядочный человек…
— Подожди, — милая гримаска досады. — Это важно, чтобы ты знал. Отныне единственная моя цель — быть полезной тебе. Понимаешь? Пиши спокойно свои гениальные книги, а я буду делать все остальное. Готовить еду, стирать, ходить по магазинам, обустраивать домашний очаг, ну и… рожать и воспитывать детей, наших детей… если захочешь. Больше я ни о чем не мечтаю. По–твоему, это слишком много?
Мне стало грустно и больно. Пьяная одурь рассеялась, и суп показался горек. Лиза сделала свое признание с глубокой, я бы сказал, выстраданной убежденностью, оттого ее попытка придать моей и своей жизни нормальную, естественную перспективу выглядела еще более жалкой, смахивающей на приступ девичьего идиотизма. Точно с таким же чувством обреченности и тоски наблюдал я, к примеру, брачные процессии, подкатывающие к дверям ЗАГСа на роскошных белоснежных лимузинах, украшенных цветами.
Невесты в прекрасных подвенечных платьях, от которых (не от платьев, а от невест) за версту несло клинским пивом, молодые люди в черных костюмах и при галстуках, смущенные и как бы немного растерянные, вероятно, оттого, что пришлось ненадолго оторваться от привычной рыночной среды. Затем, покончив с регистрацией, брачую- щиеся пары со своими свитами в иномарках следовали к могиле Неизвестного солдата и к Вечному огню, где толпились у мраморных плит с таким выражением на лицах, описать которое не хватит сил у самого тонкого стилиста. Потом (или до того?) они еще обязательно венчались в церкви, не смущаясь тем, что непорочная невеста нередко была на сносях. Какое–то бессмысленное, кощунственное ретро.
— Все будет, как ты хочешь, — пообещал я Лизе. — Хотя не могу до сих пор понять, почему из всех мужчин на свете ты выбрала именно меня? Уверена, что не ошиблась?
— Ты лучше всех. — Она покровительственно взъерошила мои волосы. — Даже когда пьяный.
Это был наш последний счастливый день, хотя мы об этом, естественно, еще не подозревали. Но провели его с толком. После того, как я, объевшись супа, проспался, схо- дили–таки в лес за грибами. За час набрали корзинку белых и подосиновиков. Лиза радовалась каждой находке (особенно нарядным мухоморам) так, как если бы подымала с земли золотое колечко.
— Витя! В–и–тя! — вопила на весь лес. — Скорее сюда. Посмотри, что это? Съедобный фиб? Не ври! Как это может быть опять мухомор? Издеваешься, да?
Грибы отнесли родичам, и баба Луша приготовила жа- ренку с картошкой, а к ней подала желтую деревенскую сметану в глиняной плошке, в которой ложка стояла торчком.
После ужина вернулись к себе, пили чай при свечах. Потом вышли посидеть перед сном на лавочке. Деревня давно спала, ни огонька, ни звука. Небо высокое, чистое, весь Млечный путь в пределах одного взгляда. Тишина такая, хоть руби топором. Лиза прижималась к моему боку, что–то по детской привычке долго обдумывала. Наконец, спросила:
— Витенька, ты мог бы прожить так всю жизнь?
— Хоть две, — ответил не задумываясь. Я и впрямь был благодарен судьбе за этот кусочек земного покоя, как ни за что другое прежде.
Утром, стараясь не разбудить Лизу, вышел на двор облегчиться. Напротив дома, зарывшись носом в крапиву, стоял джип «мицубиси». Надо же, а я и не слышал, как он подъехал, вот к чему приводит злоупотребление счастьем. Возле машины, картинно опираясь на капот, с сигаретой в зубах стоял Абдулла и улыбался проникновенной улыбкой. В глубине салона еще кто–то маячил. Я довел свое дело до конца, подошел к забору.
— Привет, Абдулла! Как поживаешь?
— Хорошо поживаю, спасибо.
— За мной приехал?
— За обоими. Собирайся поскорее. Хозяин очень сердитый.
— Как нас нашел, Абдулла?
— Россия маленькая страна, — охотно объяснил абрек. — В ней вся дичь на виду.
ГЛАВА 28 ГОД 2024. ИЗОЩРЕННОЕ УБИЙСТВО
Анупряк–оглы, достославный покоритель северных территорий, возлежал на кумачовом ложе в отведенных ему кремлевских покоях и поедал чернослив. Послеобеденная сиеста. Две белокурые рабыни чесали ему пятки, огромный, будто выточенный из черного дерева эфиоп черным с белыми перьями опахалом отгонял от головы несуществующих мух. У военачальника было превосходное настроение. Наконец–то командование миротворческих сил оценило его заслуги и назначило день триумфа. Празднование должно было начаться с торжественного въезда в Москву через Триумфальную арку, под вопли несметных ликующих толп благодарного электората. Там же произойдет символическое вручение ключей от города. С наступления эры глобализации он был всего лишь четвертым героем, удостаивающимся такой чести. Завершится праздник всенародным гуляньем и веселыми показательными казнями террористов на центральных площадях. Радость воина слегка омрачало неприятное известие, полученное накануне от лазутчиков из Евросовета. У могущественного человека всегда мн*ого врагов, а Анупряк–оглы был из тех, кого уже несколько лет прочили на самые высокие посты в мировом правительстве, более того, он был удостоен аудиенции у всемирного президента Фреда Неустрашимого. О-о, незабываемая церемония! Фред Неустрашимый (Джексон–младший) принял его в Овальном кабинете в присутствии всех пятерых почетных меченосцев — Харрисона, Гибсона, Рокки–старшего, Узельмана и сэра Симановича, владеющих 99 процентами акций корпорации «Всепланетный благотворительный капитал» и,
таким образом, контролирующих все финансовые потоки земного шара. Прославленные меченосцы расположились в разных точках кабинета, образуя тайный знак власти, а сам Фред Неустрашимый пошел к нему навстречу, поднял с колен, по–братски обнял и облобызал и лишь затем произнес положенную по протоколу священную фразу: «Веруешь ли ты в общечеловеческие ценности, сын мой?» Анупряк–оглы, борясь с неожиданным и странным желанием укусить президента за нос, взволнованно ответил: «О да, господин мой, верую и повинуюсь». — «Готов ли предоставить великому братству свою жизнь и кошелек?» — «Всегда и везде, отныне, и присно, и вовеки веков», — отчеканил Анупряк–оглы заученную формулу.
Фред Неустрашимый собственноручно вручил наградной знак — золотого паука, запутавшегося в паутине, вытканной из изумрудных нитей, — и на том аудиенция закончилась. Но с этой минуты, об этом написали все газеты, Анупряк–оглы официально вошел в круг претендентов, каждый из которых при благоприятных обстоятельствах мог рассчитывать…
Понятно, как после этого события активизировались его многочисленные враги. Последняя их кознь, как доносил лазутчик, заключалась в том, что они ухитрились запустить в Интернет якобы копию заключения о результатах медицинского освидетельствования будущего — ха–ха–ха! — всемирного президента, где черным по белому было написано, что при ежемесячной проверке высших чиновников на лояльность у него был случайно обнаружен обезьяний хвост. Прилагалась и фотография хвоста — короткого, с затейливой завитушкой, — по которой, естественно, невозможно было определить, кому он принадлежит. Тем убедительнее, по замыслу негодяев, должна была подействовать информация.
Ничего особенного, конечно, гримасы черного пиара, но все–таки неприятно.
На ковре возле рабынь примостился старый приятель генерала, мэр Раздольска Зашибалов. Пожилой сатир развлекался тем, что пощипывал пухлых блондинок за разные укромные места, отвлекая их от работы, а у одной, расшалившись, сорвал с лобка пучок кудрявых волосков, отчего рабыня завизжала дурным голосом. Генерала раздражало легкомыслие Зашибалова, но он терпел, зная, что игрун не угомонится, пока не распалит себя до предела. Отчасти ему сочувствовал. Увы, детские забавы — это все, на что способен бедолага. Генерал наслаждался любимым лакомством, сосал черносливину, потом разгрызал вместе с косточкой ядреными зубами — и проглатывал. Его личный медик, итальянец синьор Паколо уверял, что ничего нет лучше для нормального стула, чем перетолченный таким образом чернослив.
Одна из рабынь неосторожно прихватила кожу на лодыжке и, почувствовав боль, Анупряк–оглы резко пнул ее ступней в грудь. Женщина опрокинулась на ковер и потянула за собой Зашибалова, захрюкавшего от удовольствия.
— Оставь их, наконец, в покое, Зиновий, — не выдержал генерал, выпрямился и спустил ноги с ложа. Запахнул парчовый халат.
— Пошли прочь, мандовошки! — рыкнул он на рабынь, и те с такой быстротой исчезли, что показалось, ушли сквозь стену. Генерал перебрался за низкий ореховый столик, накрытый для угощения. Туда же переполз Зиновий Германович, все еще перевозбужденный, посиневший, как мертвяк.
— Напрасно ты так, Ануприй–джан, — с укором сказал он. — Сбил с волны. В кои–то веки… Я ведь чувствовал, чувствовал, вот–вот и получится. Уже был почти наготове.
— Будет тебе, Зина, — скривился генерал. — Сколько раз тебе так казалось, а толку?.. Пиколу надо слушать, виагру с водкой пить, а ты не слушаешься. Ты никого не слушаешься, Зиновий. У тебя скверный характер. Вешать пора.
— От виагры у меня изжога, — пожаловался мэр. — Если пить. А от инъекций — судороги. Тупик. Но я надежды не теряю. Есть и другие средства.
Анупряк–оглы догадывался, о чем речь, но ему надоело без конца обсуждать личные проблемы Зиновия, на которых тот особенно зациклился после того, как остался не у дел. На месте города Раздольска, где Зашибалов был мэром, торчали одни головешки. Плацдарм подготовлен для гуманитарной акции затопления, операцию они провели блестяще, без потерь и кровопролития (несколько тысяч упертых руссиян, отказавшихся переселяться в соседние резервации, усыпили «Циклоном‑802», потом безболезненно сожгли вместе с домами, при этом уложились в начальную благотворительную смету), теперь Зашибалов ожидал нового назначения и, разумеется, рассчитывал на протекцию влиятельного друга–триумфатора, но вел себя совершенно по–дурацки.
Генерал налил обоим по стакану малинового пунша, заправленного вытяжкой из пятимесячных человеческих эмбрионов. Драгоценное снадобье, доступное лишь миротворческой элите, по мнению ученых продлевающее жизнь до бесконечности. Возможно, преувеличение, но думать об этом приятно.
— Сегодня улетаешь, Зина, — напомнил Анупряк- оглы. — Может быть, поговорим немного о делах, а не только о твоей эрекции, хотя, поверь, это тоже очень важная для меня тема. Ведь мы компаньоны.
Зиновий посмотрел удивленно. Улыбнулся наивной улыбкой, делающей его похожим на легендарного реформатора Гайдара, чем он чрезвычайно гордился.
— О чем говорить, Ануприй? Я ведь только в Париж и обратно. К триумфу вернусь. Что может случиться за такое короткое время? Или ты что–то знаешь, чего я не знаю?
— Ничего серьезного, — успокоил генерал. — Датчики отмечают повышенную биологическую активность руссиян, скорее всего, это связано, как обычно, с сезонными мутациями… Но все же кое–что меня беспокоит. Зина, мы не должны расслабляться, если хотим осуществить наш план.
Зашибалов, отхлебнув пунша, важно кивнул. Их план, многократно обсужденный во всех деталях, действительно требовал неусыпного внимания, ибо его реализация зависела от множества нюансов, иногда трудноуловимых. В Париже он должен был получить от некоего высокопоставленного чиновника гарантии, что его утвердят членом большого совета корпорации «Всепланетного капитала». Это наконец- то открыло бы перед ним путь в кресло московского мэра, которое пятый срок подряд занимал поддельный раввин
Марк Губельман, изрядно всем надоевший. Губельман кичился своей родовитостью, голубой кровью, но в действительности был бездельником и краснобаем, каких свет не видывал, неспособным принимать судьбоносные решения. Сейчас обстоятельства складывались благоприятно для того, чтобы дать ему пинка. Никто не умалял его былых заслуг перед цивилизованным сообществом, но Губельман сам себе был наихудший враг. Недавняя поздравительная телеграмма Фреду Неустрашимому по случаю его дня ангела, где он ничтоже сумняшеся приравнивал себя к меченосцам, неприятно поразила даже его единомышленников, ибо свидетельствовала о необратимом умственном расстройстве. Дни Губельмана сочтены, и вопрос только в том, кто сумеет занять его место на ближайших всенародных выборах.
— Как я понимаю, Ануприй–джан, у тебя какое–то поручение ко мне?
— Хочу, чтобы ты кое–что выяснил. Подключил своих европейских осведомителей.
Зашибалов знал генерала давно, вместе они нагородили немало чудес, но не переставал удивляться его умению принимать разные обличья: то это был дикий волосатый наемник, остервенелый в бою, с нечленораздельной речью, состоящей из междометий и мата, а то, напротив, воспитанный господин европейского закваса, цитирующий Ницше и Чубайса, умеющий при случае галантно облобызать ручку даме, — и между этими двумя были еще несколько промежуточных, столь же убедительных ликов. Сейчас он общался с тем Анупряком–оглы, которому больше всего доверял: с изворотливым бизнесменом, знающим цену каждой копейке, просчитывающим наперед самые каверзные ходы конкурентов. Даже его устрашающая первобытная внешность смягчилась, облагородилась, в маленьких свинячьих глазках мерцал тусклый свет познания.
— Что значит «кое–что выяснил»? Выражайся яснее, Ануприй–джан.
Анупряк–оглы смущенно почесал волосатую грудь под халатом.
— Не притворяйся, Зина. Ты же знаешь о последнем наезде этих лощеных демокряков из Интернет–клуба?
Зашибалов напрягся, вспомнил.
— Ах, вот ты о чем? Неужто воспринял всерьез? Да кто их слушает, этих помойщиков? И какая кому разница, есть у тебя хвост, нет хвоста? Кого это волнует по большому счету?
— Ошибаешься, Зинуля. — Генерал слегка поморщился от бесцеремонности компаньона. — Не такая уж мелочь. Разве забыл, наш душка–президент уже не раз предлагал провести биологическую чистку в высших структурах? Го- веныш позорный! В Америке любой алкаш знает, что у непогрешимого Фреда козлиные копытца… Но если ему подадут информацию под нужным соусом, результаты могут быть непредсказуемыми.
— Как кавалер золотого паука, ты личность неприкосновенная.
— Не будь придурком, Зинуля, речь не о моей башке, о вещах более важных… Нет, я должен знать, кто стоит за подлым вбросом. Поименно. И быстро. До триумфа, а не после. После поздно. Справишься с этим?
Озадаченный Зашибалов допил свой пунш будто в забытьи.
— Наверное, это возможно, хотя рискованно.
— В чем риск, Зинуля?
— Если активно наводить справки, подумают, ты чего- то боишься. Нам это надо? Кто поверит в героя, опасающегося собственного хвоста, прости за невольный каламбур, Ануприй… Разумнее дать встречную опровергающую информацию.
— Какую? Фотку голой жопы без хвоста? А рядом мою рожу?
— Ты остроумный человек, Ануприй, чернь тебя любит за это, но сейчас мне не до смеха… Когда ты последний раз сдавал анализы?
— Первого числа, как и ты, Зинуля.
— Почему бы не опубликовать результаты на нашем сайте? И сопроводить комментарием. Дескать, задумайтесь уважаемые сограждане. Может ли человек с таким духовным потенциалом иметь обезьяний хвост? Начнется бурная полемика, тем лучше. Мерзавцы поневоле высунутся из нор. Тут им и крышка.
Анупряк–оглы смотрел на друга с уважением. Налил еще по стакану пунша.
— Звучит идиотски, но именно поэтому может выгореть. Коварный ты, Зинуля, как змея. Тем более не понимаю, почему так тянешься к креслу московского мэра? Почему не хочешь занять пост в совете «Всепланетного капитала»? Совсем другие перспективы.
Зашибалов опустил глаза, чтобы генерал не заметил мелькнувшую в них усмешку.
— Ты великий воин, мой генерал, — заметил он вкрадчиво и почтительно. — Но, как все великие, рожденные повелевать, не придаешь значения таким пустякам, как история.
— И что говорит твоя история?
— Один из ее уроков в том, Ануприй–джан, что ни одно крупное мировое событие, ни один глобальный передел мировых богатств не происходил без прямого или косвенного участия этой дикой и подлой страны. Не вижу оснований, почему бы этой тенденции не сохраниться в будущем. Поэтому, полагаю, когда придет срок валить американского ковбоя, мне лучше оказаться здесь, чем в любом другом месте. Чтобы было, на кого опереться.
Генерал немного подумал, собрав лоб в узкую, как спичка, коричневую складку.
— Только не ошибись, Зинуля. Сам знаешь, что стоит на кону.
— Прозит! — поднял стакан Зашибалов.
* * *
В то же утро Митя Климов собирался на встречу с Деверем, но никак не мог избавиться от банкира Невады. Третий день пьяный в дупель банкир не покидал его номер, можно сказать загостился. Питье и закуски им доставлял половой из нижнего ресторана, а девок, когда приходил каприз, по–европейски вызванивали по телефону. Номер превратился в притон, заполненный одуревшими от паленой водки людьми, среди которых, надо отметить, больше всех шума и грохота производил «тимуровец» Ваня Крюк, произведенный Митей в пажи. Климова нездоровая обстановка не угнетала, на улицу он предпочитал не соваться, а в веселой неразберихе время летело незаметно. Джек Невада пил круто, но скучно. Его интересы замкнулись на трех вещах: водка, бабцы и желание втолковать Климову, каким необыкновенным существом является руссиянский банкир. Стоило ему продрать зенки, опрокинуть стакан, как он начинал внушать Мите, что преуспевающий банкир может быть только евреем или немцем. Самые надежные банкиры — в Самаре. Банкир — не профессия, а медицинский диагноз. Банкир двигает прогресс, как мотор тачку… И прочее в том же духе, повторяемое и расписываемое на все лады. Налив бельма, Джек Невада обыкновенно затевал покер с Ваней Крюком. Играли «на запись», понарошку, но за несколько дней Невада спустил пацаненку все, что мог: одежду, пластиковую карточку, документы, Самарское и все остальные отделения банка «Континенталь», после чего начал подбивать Митю утопить «тимуровца» в ванне. У него случился настоящий приступ буйства. Растопырив пальцы, орал, что не потерпит, чтобы малолетний катала засирал ему мозгу. Мальчик от ужаса забился в свое вечное пристанище под кроватью. Митя успокоил разбушевавшегося банкира, напомнив, что в элитных отелях для руссиян нет ванн, есть только рукомойник и сортирное очко. Но если утопить пацаненка в сортире, им самим негде будет оправляться. С этим банкир вынужден был согласиться.
В первый раз, когда банкир отрубился, они с Ваней тщательно обследовали его от пяток до макушки, ища подслушку. Банкир оказался чистым. «Ничего не значит, — заметил Ваня. — Надо брюхо вскрыть. Им в брюхо часто засовывают». — «Тебе–то, шпингалет, откуда знать?» — удивился Митя. «Тимуровец» не ответил, потому что начал задыхаться. Его часто теперь корежило и ломало. Митя оставил его при себе с условием, что тот откажется от наркоты. Ваня с радостью согласился и тем самым обрек себя на адские муки. Климов жалел страдальца, готов был взять условие назад, но «тимуровец» проявлял какое–то патологическое упрямство, словно в нем ожили гены предков. Когда пришлые девки кололись при нем, дразнили, лишь гордо отворачивался. Климов испытывал к нему неподдельное уважение, если не сказать больше. Увы, скоро им предстояло расстаться навсегда.
…По телефону ему передали кодовую фразу — место и время встречи. В половине двенадцатого на пересечении проспекта Троцкого (бывший Комсомольский) и улицы Алика Коха. Оставалось полтора часа, но ускользнуть незаметно не удалось. Джек Невада вцепился в него, как клещ. К несчастью, выпал редкий пересменок, когда он был почти трезвый.
— Куда, Митек?! — вопил банкир, как оглашенный, разбудив двух дремавших на полу красоток. — А я?
Мите не в первый раз пришло в голову, что, возможно, служба Деверя ошиблась в этом человеке и, наверное, зря он не последовал мудрому совету «тимуровца».
— Отдохни, развлекись, Джек… Я ненадолго и сразу вернусь.
— Не–не–не! — Банкир подпрыгивал на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину престижных холщовых джинсов. — Я с тобой, я с тобой.
— Куда со мной? Джек, послушай. Мне надо с одним человечком побазарить без свидетелей. Бизнес, Джек.
— Врешь, врешь, врешь, — капризно ныл банкир, напялив наконец штаны. — Думаешь, у Невады монета кончилась? На–ка, гляди! — Он вывернул из потайного кармана пучок баксов, перехваченный резинкой. — Сволочь ты, Митек! Без меня к цыганам, да? А Невада подыхай от скуки. Не по понятиям, Митек.
«Тимуровец» высунулся из–под кровати, гримасничал. Девицы на полу опять мирно посапывали. Кто–то еще копошился за перегородкой на толчке. Митя прикинул: выхода нет. Банкир, кем бы он ни был, сам по себе не угомонится. Митя ткнул его пальцами в солнечное сплетение. Когда тот согнулся, оглушил несильными ударами по тыкве и по позвонкам. Банкир, тяжко вздохнув, распростерся рядом с дамами.
— Пригляди за ним, Ванюша, — велел Митя. — Как проснется, сразу наладишь покерок.
— А если спросит?
— Скажешь, слезал с кровати и хряснулся.
— Про тебя если спросит, Митрий?
— Скажи, блевать побежал, скоро вернется.
— Дядя Митрий, вы правда вернетесь?
В словах маленького человечка было столько муки. Митя почувствовал себя киллером.
— Куда я денусь… Хочешь, пока на кровати полежи.
— Не надо меня обманывать, дядя Митрий.
— А ты не будь сопляком. Вон конфеты, марафет, водочка. Пируй, пока пируется. Все когда–нибудь расстаются.
Ваня пыхтел, сопел. Ручки, ножки тряслись, выдавил с лютой тоской:
— Хоть бы поскорее в больницу забрали.
Митя ничего не ответил, ушел.
К месту встречи приехал за десять минут до срока, расположился на скамейке в тени под липой. Закурил, любуясь городским пейзажем. Асфальт парил и прохожие передвигались, как сонные мухи. Будто в мареве, покачивались на проспекте потоки машин, одолевая по метру в час. Но те, кто сидел в дорогих тачках, предпочитали хоть целый день добираться с одной улицы на другую, лишь бы не смешиваться с быдлом на тротуарах. В Москве давно было два города: тот, где наслаждался покоем Митя Климов, и другой, скользивший на иномарках мимо; они нигде не смыкались. Был, конечно, и третий, в подбрюшье столицы, за фасадами Садового кольца, через который провел Митю недавно «тимуровец», где обитали существа, горделиво отрекшиеся от людского звания… Митя не хотел думать о том, что все равно неподвластно уму, прикрыл глаза и окликнул Дашу, но как ни напрягал чувства, любимая «матрешка» против обыкновения не явилась на зов. Зато рядом на скамейку, словно выткавшись из городского смога, опустился Деверь. На сей раз он выглядел не преуспевающим барином, а, скорее, рядовым обывателем после посещения пункта прививки. Помятый костюм с латками на локтях, стоптанные ботинки, в руке авоська с пятком пустых пивных бутылок. На лице блаженная гримаса руссиянина, удачно наведавшегося на помойку. Лишь стойкий офисный загар и чересчур вольная осанка могли натолкнуть внимательного наблюдателя на мысль, что это перевертыш.
Митя бросил взгляд по сторонам и не увидел ничего подозрительного.
— Поздно спохватился, — недовольно пробурчал Деверь. — Выходит, не научили, что нельзя спать в городе на скамейке?
— Я не спал, — возразил Митя. — Я думал.
— О чем?
— Не знаю. — Это был честный ответ, Деверь так его и воспринял. Но посочувствовал.
— Не огорчайся, не ты один. Большинство из нас вряд ли смогут объяснить, о чем думают. Последствия глобального психотропного штурма. Больше того, мало кто понимает, зачем живет. Крутимся, как рыбы в аквариуме. Ждем, когда сверху подсыпят корма. Писатели пишут книги, крестьяне пашут землю, кто–то рассчитывает траектории бомбовых ударов, нищий просит подаяние, бандиты убивают, политики вещают о светлом будущем… Спроси любого, зачем он это делает, не ответит… Но это ничего, Митя, скоро все изменится… Догадываешься, зачем позвал?
— Конечно. Когда?
Деверь потер одну из пуговиц на пиджаке, включил на всякий случай портативный скрадыватель шумов.
— Четырнадцатого. На день триумфа. Слышал про такой праздник?
— Я смотрю телевизор… Вы сказали, скоро изменится. Как это может быть? Разве реки поворачивают вспять? Разве убитые воскресают?
— Бывает и так, представь себе. Еще как бывает. Но у нас никто не умирал. Это морок, страшный сон наяву… Митя, у тебя сомнения, колебания? Говори сейчас, другого раза не будет.
— Сомнений нет. — Митя усмехнулся. — Откуда им быть. Но есть вопрос. Разве не надежнее послать робота? Я в хорошей форме, но всего лишь человек.
— Господи, помилуй нас грешных. — Деверь провел рукой по глазам, словно ослеп от весеннего солнца.
— Это весь ответ? — спросил Митя.
— Мальчик мой, но в этом вся суть. — Деверь выглядел изумленным и встревоженным. — При чем тут робот? Ну скажи, при чем тут робот?
— Действительно, при чем тут робот…
— Тебя послали и ничего толком не объяснили. Жертвоприношение. Древний ритуальный обряд. Пролитие живой, безвинной крови. Апелляция к высшим инстанциям. Робот способен подать сигнал к кормежке, но не к бунту. Нация крепко спит и не способна к сопротивлению. Ее может разбудить лишь укол в сердце. Скажу больше, я не верю в быстрый успех, процессы стагнации зашли слишком далеко. Но нельзя сидеть сложа руки. Надежда меркнет день ото дня. Если мы ничего не предпримем, это сделают следующие поколения, но начнут они с того, что проклянут нас, своих предков. О Господи, как сказать, чтобы ты понял…
— Успокойтесь, зачем так нервничать? — Мите вдруг стало жалко этого растерянного человека, почти как недавно «тимуровца». — Вы хорошо растолковали. Дело житейское. Я должен умереть, чтобы спящий проснулся.
Деверь смотрел оторопело.
— Климов, кто ты такой? Кем себя ощущаешь?
Климов ответил уклончиво:
— Вам повезло, господин Деверь, вы не зомби. А я им был почти всю сознательную жизнь. Это большое паскудство. Обратно в то состояние я не вернусь.
Деверь отвернулся от Мити, глядел себе под ноги. Митя его не торопил, хотя пора было перейти к делу. Хватит пустого трепа. На этой скамейке он окончательно распрощался со своим прошлым. А будущего у него не было никогда. Его не было уже в момент зачатия. Не то место выбрали родители, чтобы затевать любовные игры.
Деверь придвинулся ближе, положил ему руку на колено.
— Не горюй, Климов… Человеком быть нелегко, но это единственный путь к спасению.
— Я все понял, — повторил Митя, избегая сочувственного, обволакивающего взгляда Деверя, наполненного энергетической глубиной, — эманацией духовной поддержки. Он в ней не нуждался. Он ни в чьей поддержке больше не нуждался. Отныне слишком тесный контакт с себе подобным существом мог его только расслабить.
— У меня есть просьба.
— Говори.
— «Тимуровец» ко мне прилепился, Ваня Крюк…
— Видел, знаю.
— Хорошо бы изъять его из регистрационных списков и вывезти из Москвы.
— Не важно куда?
Митя на секунду представил, как любимая «матрешка» получает запоздалый подарок — озорного пацаненка с тихим, нежным сердечком. Нет уж, лучше не надо. Слишком много хлопот и слишком романтично. Попахивает дурью.
— Куда не важно, но в хорошие руки. Можно к Истопнику.
— От Раздольска остались лишь головешки.
— Видел по телику. Но часть электората вроде законсервировали?
— В смежной резервации… Ладно, «тимуровца» спрячем. Теперь о деле…
Проговорили еще минуты три. Деверь сообщил, где, когда и от кого Митя получит инструкции. Накануне акции. Еще сказал, что, если есть желание, можно организовать короткий сеанс связи в любом пункте северных территорий. Конечно, влетит в копеечку, учитывая стоимость космической блокировки, но… Митя вежливо отказался. После этого Деверь исчез так же таинственно, как появился. Почти неуловимо. Митю это позабавило. Все–таки дешевые фокусы из арсенала невидимок не соответствовали уровню подпольного вождя.
До рокового дня оставалось совсем немного, трое суток. Но их тоже надо было как–то прожить.
* * *
К полудню праздник достиг апогея. К Поклонной горе согнали толпы благодарных москвичей, с раннего утра их вытаскивали из квартир, вылавливали в подземных трущо–бах, собирали в просторных накопителях. Десятки тысяч людей разместили за ограждением из колючей проволоки причудливыми цветовыми фрагментами. Декораторы массовых зрелищ потрудились на славу. Взволнованное, как при легком бризе, человеческое море, разукрашенное флажками, гирляндами разноцветных шаров, поздравительными транспарантами, напоминало гигантскую живую цветочную клумбу. При появлении кавалькады триумфатора, по сигналу главного распорядителя, поданному через динамики, вся эта многоликая масса в едином порыве преданности и счастья осела на колени и послушно окаменела. Лишь кое–где торжественную тишину нарушили вопли раздавленных малолетних дегенератов, но полиция быстро навела надлежащий порядок.
К этому часу триумфатору Анупряку–оглы уже вручили символические ключи от Москвы (вручала почетная комиссия во главе с Марком Губельманом), и сейчас он восседал в бархатном кресле на импровизированной трибуне и принимал поздравления от многочисленных депутаций. Все тот же суровый, могучий эфиоп шелковым опахалом с акульими пластинами отгонял от его головы назойливых, черных весенних мошек–мутантов, скопившихся над трибуной в неимоверном количестве. Для непривитого человека, а все аборигены были непривитые, укус такой мошки обычно заканчивался судорогами и необратимым параличом мозга.
Перед креслом триумфатора проходили полномочные посланцы стран, входящих во всепланетное содружество, лидеры независимых партий, представители крупнейших промышленных и финансовых корпораций, а также правительственные чиновники, возглавлявшие страховые и благотворительные компании, и каждый из них, ритуально преклонив колено, с выражением почтения и восторга преподносил ему какой–нибудь памятный сувенир. Гора подарков на помосте росла и росла. В зависимости от ценности сувенира, которую Анупряк–оглы определял на глазок, он церемонно кивал, протягивал руку, иногда ронял небрежное: «Мерси, приятель!», а какого–то невзрачного японца, представлявшего фирму «Якутские алмазы» и презентовав- ззз
шего чудный ларец, усыпанный бриллиантами, сойдя с кресла, обнял и расцеловал в морщинистые щеки, сдавив лапами так, что японец утробно запищал.
Церемония затягивалась, но Анупряк–оглы не выказывал признаков усталости, был так же багроволик, весел и подвижен, как вначале. Он хорошо представлял, сколько сейчас устремлено на него завистливых, ненавидящих взглядов, и это его бодрило. Единственный, кто слегка подпортил ему праздничное настроение, был как раз мэр Москвы, фальшивый раввин Губельман. Вручая ключи от города (нанизанная на золотое кольцо связка каменных ис- туканчиков, изящные копии всех американских президентов, включая Фреда Неустрашимого, кстати, дорогая вещь: один из прежних триумфаторов, сенегалец Махмуд, продал свои ключи на аукционе Сотби за два миллиона долларов, правда туземных, буро–малиновых, имеющих хождение лишь на территории России), льстиво улыбаясь, мерзавец проткнул ему ладонь острым носиком одного из болванчиков, и сделал это нарочно, Анупряк–оглы это понял по темному пламени, блеснувшему в очах старого прохиндея. Губельман поспешно принес извинения, участливо спросил: «Надеюсь, не больно, господин триумфатор?» — «Ничего, терпимо. — Анупряк слизнул капельку черной крови с ладони. — Бывает намного больнее. Скоро сам убедишься, Губа». Фарисей захихикал, показывая, что оценил слова Анупряка как добрую солдатскую шутку.
Анупряк–оглы поклялся себе, что, когда придет час расплаты, припомнит ему наглую выходку.
До конца церемонии было недалеко. Остались на подходе лишь две депутации: от лиги сексуальных меньшинств и от партии «Молодая Россия», созданной недавно по прямому распоряжению Центра координации в Стокгольме. Косвенно Анупряк–оглы принимал в этом участие, отбирая и рекрутируя в новую партию молодых недоумков из богатых туземных семей с подведомственных ему резерваций. Политическая программа партии определялась простым доходчивым лозунгом: «Все старье на свалку — и сжечь!» Каждый из членов партии носил в ладанке на груди портреты вож- дей–теоретиков: Новомирской и Немцовича. Кто такой
Немцович, генерал не знал (видно, из немецких переселенцев, управляющих Зауральской республикой), а Калерию видел по телевизору, где она читала воскресные проповеди о непротивлении злу насилием. Кроме того, она непременно участвовала в публичных казнях фашистов и скинов (те же члены «Молодой России», но в чем–либо провинившиеся). За древностью лет тучную старуху обыкновенно четверо дюжих миротворцев поднимали на носилках на помост, где она оживала и ловко недрогнувшей рукой снимала скальп с очередного, трепещущего, накачанного препаратами вольнодумца, никогда не давая осечки и дико хохоча.
Депутация лиги сексуальных меньшинств — гомики, педофилы и трупоеды — подарила ему изумительной красоты двухметровый фаллос с золотым набалдашником, — его с трудом несли на худеньких плечах три очаровательные лесбиянки–нубийки. Необычный дар вызвал оживление и звучные почмокивания на гостевой трибуне, где на пестрых коврах, наряженная в римские тоги, расположилась городская знать. Анупряк–оглы вторично спустился с возвышения и, капнув из пузырька кислотой, проверил подлинность золота. Невесть откуда подскочил Зашибалов. Забормотал восторженно: «Сильная вещь, Ануприй–джан! Ох, сильная вещь»… Генерал пихнул его локтем: «Опомнись, Зина, люди смотрят… После примерим».
Депутация «Молодой России» приблизилась под конвоем парней из СД. Обычная мера предосторожности, когда речь шла о туземцах. В последние годы совершенно излишняя, применяемая скорее по инерции. Покоренные руссия- не давно не представляли никакой опасности. Полицейское сопровождение, если подумать, выглядело даже нелепо, как если бы стадо овечек вели под прицелом плазменных автоматов. Хотя Анупряк–оглы, прибывший в Россию еще с первым миротворческим контингентом, помнил иные времена. Поначалу руссияне пытались бузотерить. Выходили на несанкционированные митинги, организовывали маевки, посылали вздорные коллективные послания во все инстанции, вплоть до Евросовета, выклянчивали зарплату, пенсии, но бывали и случаи вандализма. Однажды какой- то обкуренный негодяй пальнул из игрушечного гранатомета и разбил два стекла в американском посольстве. Расстрелянный на месте, в агонии он еще долго выкрикивал: «Янки гоу хоум, янки гоу хоум!» Смех и грех, конечно. Но особенно в ту пору досаждали законным властям бритоголовые, искусственно выращенные в подготовительный период для запугивания обывателей, но потом каким–то образом бесконтрольно расплодившиеся. Именно молодому полковнику Анупряку–оглы поручили решить эту проблему, и он справился с заданием блестяще. В анналах контрразведки СД операция осталась под кодовым названием «Ночная лилия». Неделя понадобилась Анупряку на раскрутку акции и всего одна ночь на реализацию. Еще с вечера бурлили все городские дискотеки, отравляя воздух дымом анаши, рыскали в переулках стайки ошалевших подростков, отлавливая припозднившихся прохожих, а уже наутро Анупряк–оглы послал в штаб лаконичное донесение: «С заразой покончено. Город чист». Правда, еще несколько дней с полной нагрузкой работали мусороуборочные бригады, очищая улицы и подворотни от липких человеческих останков, и строители в ускоренном темпе (запах невыносимый) бетонировали места бывших скоплений молодняка и возводили там игровые павильоны всемирной компании «Четыре туза». За эту операцию Анупряк–оглы получил орден «Герой демократии первой ступени».
И все же на то, чтобы окончательно искоренить в туземцах дрожжевой бродильный элемент, ушло не меньше пяти лет. Объяснялась столь долгая затяжка устойчивостью исторической памяти в коллективном сознании руссиян, на генном уровне хранивших представление о себе как о великом народе. Современная наука справилась с этой иллюзией, хотя пришлось применять комплекс дорогостоящих мер, от тотальной промывки мозгов по методике, удачно опробированной во всех странах Европы, до вживления индивидуальных микрочипов «стабилизации интеллекта» целым социальным прослойкам, выказывавшим те или иные пассионарные признаки.
Депутация «Молодой России» состояла из трех белокурых юношей приятного педерастического вида и пяти длинноногих красавиц с лунными очами, в которых сияло очарование беззаветной готовности. Явно отбирал их кто–то, хорошо знающий вкусы генерала, тяготеющего к гиперсексуальности. Все молодые партийцы были наряжены в белоснежные балахоны, головы убраны венками из незабудок (символ покорности в любви), и у всех на груди одинаковые таблички с надписью: «Навеки твой раб, о великий триумфатор!»
Анупряк–оглы окинул туземцев рассеянным взглядом, благосклонно нахмурил брови и уже готов был повернуться спиной, дать знак, чтобы подавали носилки: пора следовать на праздничное пиршество в Кремль; но в последнюю секунду его внимание привлек синеглазый юноша, шагнувший вперед, держа на вытянутых руках что–то вроде хрустального магического шара. Подарок, но какой?
— Что это у тебя, раб? — небрежно поинтересовался генерал.
Молодой руссиянин склонился в глубоком поклоне, подставляя шею для усекновения (поза примиренности).
— Дар волхвов, государь. Через него познается судьба.
Голос у раба чувствительный, наполненный искренним благоговением. Ишь ты, государь, подумал Анупряк–оглы. Выходит, и дикаря можно обучить культурным манерам.
— Дай–ка поглядеть поближе.
Руссиянин затрепетал, но не совершил роковой ошибки, не переступил запретную черту.
— Не смею, государь!
— Правильно делаешь, что не смеешь, — ухмыльнулся генерал и, подталкиваемый любопытством, в третий раз покинул кресло. Приблизился вплотную к дарителю. Одобрил:
— Смотри в лицо, не дрожи.
Перенял тяжелый кристалл, мерцающий внутри лазоревыми переливами. От него перетекла в мышцы знобящая прохлада.
— Сколько же стоит такая штука?
— Ровно твою жизнь, палач, — услышал спокойный ответ, отшатнулся, но поздно. В последний миг Анупряк- оглы, триумфатор и истребитель славян, испытал два слож–ных чувства: почти радостное узнавание, — где–то он видел прежде этот уклончивый, струящийся лик, напоминающий облачное небо; и горечь непоправимой утраты. Из руки рус- сиянина, как молния из тучи, выскользнуло стальное лезвие и снизу вверх пробило ему подбородок и вонзилось в мозг, обломив кончик о черепную кость. Удар был такой силы и точности, что Анупряк–оглы умер мгновенно, у него лишь чудно лязгнули зубы, точно попробовал перекусить клинок. Да из ушей, как из дупел, с гулким хлопком выскочили серные пробки.
На несколько мгновений на площади установилась мертвая тишина, разрушенная затем множеством звуков: жутким, многоголовым воем толпы за колючей проволокой, секущими криками команд, свистом пневматических дубинок, выстрелами — и вдруг все перекрыл мерный, литой гул невесть откуда взявшегося вечевого колокола. Потом все смешалось. Полиция смяла худосочную группу партийцев из «Молодой России», принялась с завидным старанием втаптывать ее в асфальт, но вскоре и ее, полицию, подхватил и увлек за собой закрутившийся в бешеном водовороте поток обезумевших людей, из которого то тут, то там выплескивались тоненькие ручейки, стремившиеся укрыться в прилегающих улочках. Откуда–то сверху, словно с прохудившихся небес, на площадь обрушились свирепые клинья хлорированной пены, и, наконец, все скрылось в серых облаках слезоточивого газа…
Примерно через час, когда видимость восстановилась, приступили к работе санитарные команды. Энергично расчистив площадь мощными брандспойтами, сваливая в кучи покалеченных, убитых в свалке, растоптанных и расстрелянных людей, молодчики в противогазах приблизились к эпицентру трагедии. Командовал санитарами знаменитый на всю Москву спасатель, швед по национальности, полковник Свенсон. Перед ним открылась мрачная картина. Господин в черном цилиндре, в перепачканной кровью тунике сидел подле кресла, держа на коленях голову убитого триумфатора, и что–то как будто ему нашептывал. Свенсон узнал известного политика и инвестора Зашибалова, персону, в общем–то хотя, и влиятельную, но второстепенную,
зза
происхождением из руссиян. Зашибалов, в свою очередь признав спасателя, горестно изрек:
— Видите, полковник, какая невосполнимая потеря для мировой демократии.
Свенсон кивнул, пригладил ежик рыжих волос. Сухо спросил:
— Вы были рядом, когда это случилось?
— Да, конечно… Полагаю, я должен быть на месте генерала. Убийца просто промахнулся.
— Запомнили его в лицо?
— О, на всю жизнь. Это, безусловно, политический маньяк.
— Помогите его отыскать.
Вместе они долго копались в кровавом месиве, в том, что осталось от депутации «Молодой России». Потом несколько раз пересчитали количество трупов. Их было семь, а не восемь.
Труп убийцы исчез.
ГЛАВА 29 В ПОМЕСТЬЕ ОЛИГАРХА
Все возвращается на круги своя. Я снова в подвальной каморке, и условия содержания примерно те же, что и прежде. Как будто ничего не изменилось. Прелестная Све- точка–студентка, свидетельница убийства юриста Верещагина, приносит пожрать, но держится скованно, как с приговоренным. Несколько раз заглядывал доктор Патиссон, но накоротке, не вступая в долгие беседы, и никаких новых процедур пока не назначал. Я набрался духу и спросил у него, что теперь со мной будет. «То и будет, что должно быть после вашей безобразной выходки», — мрачно ответил он и тут же ушел. Правда, появилась одна льгота: если раньше я опорожнялся в цинковое ведро в углу, то теперь два раза в день, утром и вечером, незнакомый молчаливый охранник, похожий на трубочиста, выводил меня в туалет, расположенный чуть дальше по коридору. Пауза неопределенности затягивалась, и я предполагал, что господин Оболдуев никак не мог решить, какое применить наказание. Я его понимал: тут какую кару ни придумай, все будет мало.
Все эти дни, во сне и наяву, я жил погруженный в воспоминания, вновь и вновь перебирал в памяти эпизоды нашего побега с таким наслаждением, как скупец разглядывает накопленные сокровища, одно за другим извлекая их из сундука. Лизу я видел в последний раз сладко, блаженно спящей, с раскиданными по подушке волосами, с тенями ночной неги под глазами; потом, когда меня запихивали в «джип», показалось, она мелькнула на крыльце, но это могло быть игрой воображения.
В какое–то утро, еще в полусне, я вдруг всей кожей, нервами ощутил, что она тоже здесь, в поместье, и это принесло мне огромное облегчение.
На четвертое или пятое утро в каморку ворвался Герман Исакович, и по его вернувшейся словоохотливости и бодрому, озадаченному виду я понял, что судьба моя наконец- то, кажется, определилась.
— Что же вы наделали, батенька мой, Виктор Николаевич, о чем думали своей умной головушкой? — начал он с таким выражением, как будто меня только что привезли. — Вот уж истинно сказано, никто не причинит человеку столько вреда, сколько он сам себе. Особенно это касается, конечно, руссиянских интеллигентов… На что, позвольте спросить, рассчитывали, затевая эту мерзость? И это после всех благодеяний, какие видели от господина нашего Оболдуева. Неужто у вас похоть сильнее рассудка?
— Действовал будто в помрачении ума, не могу объяснить.
— Объяснять ничего и не надо, поступки говорят сами за себя. Поглядите, сколько греха взяли на душу. Убийство, кража, а теперь вдобавок — растление малолетней. Да какой малолетней! Которая благодетелю нашему дороже жизни. Чем только улестили несмышленую девушку? Небось, клялись в вечной любви, как водится у вашего брата, у соблазнителя?
— Ни в чем не клялся, говорю же, как в затмении был. Надеюсь, с Лизой ничего не случилось?
— И он еще спрашивает! — Доктор всплеснул ручонками. — И никакого раскаяния. Нет, ничего не случилось, кроме того что опозорили, погубили невинное создание… Хотя бы хватило у вас совести предохраняться?
Я не сразу понял, о чем он, потом честно ответил:
— Не знаю, не помню.
— Ах, не помните, ваше благородие? Ну, это уж совсем не дай Господи! Ведь если понесли от тебя, сударик мой, ведь монстриком разродится. Или аборт прикажете делать?
— Почему, обязательно монстриком?
— А как же, голуба моя? — На круглом, добром лице доктора, под золотыми дужками проступило не столько негодование, сколько растерянность. — В руссиянских интеллигентах, хм, не та беда, что сами пакостны, а еще, главное, норовят род свой продлить. Да господин Оболдуев лучше своей рукой Лизоньку придушит, чем допустит такое. И будет абсолютно прав с точки зрения высшей морали.
— Кого же ей, по–вашему, надо, к примеру, в мужья?
На этот вопрос Патиссон не ответил, совсем закручинился. Лишь посоветовал поскорее про Лизу забыть, тем более что я ее никогда не увижу. Потом вернулся к моей персоне. Оказывается, доктор защищал меня перед Оболдуе- вым, уговаривал поместить в клинику, обещал, что трехмесячный курс лечения по его собственной методике приведет меня в нормальное человеческое состояние, но Леонид Фомич решил иначе. После долгих размышлений магнат пришел к выводу, что за мои бесчинства — убийство, воровство, растление несовершеннолетней — равноценного наказания не бывает, а потому он дает мне еще один шанс принести напоследок хоть какую–то пользу людям на земле.
— Выполнишь условия контракта, вернешь награбленное, а там видно будет.
— Вы про книгу? — уточнил я несмело. — Но у меня даже бумагу забрали. И все черновики.
— Не о том беспокоишься, батенька мой. — Доктор хлопнул в ладоши, и в комнату влетела Светочка, словно подслушивала за дверью. В руках шприц, каким колют лошадей. В шприце розовой жидкости не меньше ведра.
— Витамины? — спросил я с надеждой.
— Не совсем, — ответил доктор с неприятной улыбкой. — Мера предосторожности. Чтобы еще чего не натворил подобного. Хотя бы с нашей милой Светочкой.
— Ой, да не боюсь я никаких развратников, — захихикала студентка.
Укол был болезненный. Но перенес я его хорошо, в глазах только потемнело. Доктор и Светочка ушли, а вместо них вскоре пришел охранник, который принес пластиковый пакет, куда были собраны все мои блокноты, черновики и готовые куски текста. Я сел за стол и не мешкая приступил к работе, прочел (почему–то вслух) один из эпизодов, в котором рассказывалось, как молодой Оболду- ев с помощью некоего Г. С. Растопчина, сотрудника райисполкома, оборудовал в Сокольниках свой первый торговый павильон. Эпизод был неплохо написан, с характерными деталями времени, с превосходными диалогами, но что–то меня не устраивало, какой–то пустяк. Оболдуева в его первом коммерческом начинании нагрели на две тысячи рублей (кстати, немалые по тем временам деньги), и он, подсчитав убытки, обругал себя: «Ну и болван ты, Ленечка! Провели как фраера последнего…» Это рассмешило меня до такой степени, что я никак не мог успокоиться и хохотал до слез, до колик. Перечитывал и снова смеялся, пока не свалился со стула на пол и не уснул.
Во сне повидался со своими бедными родителями и уже не смеялся, плакал, просил прощения за то, что оставил их, бросил на произвол судьбы, избитых, покалеченных. Оправдания мне не было, я это видел по суровым, пьяным отцовым глазам. Печальный сон внезапно сменился странной картиной: передо мной на крестьянской телеге, какие видел в Горчиловке, провезли Лизу, но в каком ужасном состоянии! Она сидела в клетке, скованная цепями, через прутья тщетно выискивала кого–то глазами, и ее бледная, растерянная улыбка пронзила мое сердце. От ужаса я проснулся и сразу увидел, что в комнате уже не один.
Благоуханная Изаура Петровна склонилась надо мной, трясла за плечо. «Ну–ну–ну, — влажно шептала в ухо, — хватит притворяться чурбаком, подлый обманщик. Пора приниматься за дело».
До меня как–то не сразу дошло, что она елозит по мне с явным намерением изнасиловать бездыханного. Но, как ни старалась, толку не выходило. Окончательно проснувшись, я высокомерно следил за ее изощренными потугами, будто это происходило не со мной.
Наконец она утомилась, зло попеняла:
— Вот как тебя, значит, Лизка высосала, проклятая лицемерка.
— Это укол, — возразил я важно. — Доктор лечит от сухостоя. Здравствуй, И за, дорогая.
В комнате горела тусклая лампа на потолке, Изаура Петровна смотрела на меня ошарашенно.
— Что он тебе вколол? Неужели препарат «Ц»? А ты знаешь, что после этого вообще никогда мужиком не будешь?
— Так надо, — сказал я. — Леонид Фомич распорядился. Чтобы я не шалил…
— Витя, ты в своем уме?
— А что? Потеря небольшая. Зато больше времени останется для работы над книгой… Иза, ты вроде какая–то расстроенная? Что–нибудь случилось?
Пригорюнилась. Стала задумчивой. Прежде я ее такой не видел. Всегда это был сгусток сексуальной энергии, опасной и неуправляемой. Сейчас, когда ссутулилась на кровати, тихая, безвольная, в ней проступило что–то цыплячье.
— Хочешь знать? Да зачем тебе?
— Все же не чужие. И хозяин у нас общий.
Оказалось, именно в хозяине все дело. Оказалось, срок пребывания Изауры Петровны на месте любимой жены незаметно подошел к концу. И хотя это не было для нее большим сюрпризом, она знала, что так кончится, все же по- женски была уязвлена и огорчена. Появилась на горизонте некая молодая итальянка Джуди из посольства. Между прочим, шлюха высокого полета, чуть ли не племянница господина посла. Появилась не вчера, месяцев несколько назад, Оболдуев ездил к ней, иногда ее потрахивал, но Изаура Петровна не придавала этой связи большого значения. Оболдуева не тянуло на западных окультуренных шлюх, пересекался с ними разве что из спортивного интереса. Серьезная связь с иностранкой к тому же противоречила его имиджу крутого руссиянского патриота. А для него это было святое. Каждую свою очередную жену он обязательно собственноручно крестил, затем с ней венчался, а после этого, если, допустим, с любимой женой приключался несчастный случай, заказывал богатейший сорокоуст в храме Христа Спасителя, где на благодарственной стеле среди имен прочих глубоко набожных спонсоров высечено и его имя.
— Я думала, так, баловство, для слива дурнинки, ан нет, ошиблась девочка. Тут посерьезнее.
— Почему так считаешь?
— Он уже предложение сделал, мне осведомитель донес.
Я немного удивился, хотя давно понял, что жизнь таких людей, как Оболдуев, протекает не по тем законам, какие годятся лишь для нас, мелких букашек.
— Как он мог сделать предложение, если у него есть жена?
— Милый, не строй из себя идиота.
Я пересел с пола на стул. Голова слегка кружилась, но в общем чувствовал себя неплохо, примерно как на высоте десять тысяч метров над землей. Изаура Петровна протянула сигарету.
— С травкой?
— Только для запаха. Кури, не бойся.
Я закурил, не побоялся. К Изауре Петровне испытывал сложное чувство, вроде как мы с ней в чем–то породнились — породистая куртизанка и бывший литератор.
— И что теперь собираешься делать?
— А что мне делать? Ничего не собираюсь… Честно говоря, раньше подумывала устроить ему напоследок такую гадость, чтобы навек запомнил. Увы, не в моих это силах. У нас с тобой, миленький, одна дорога — в клинику Патиссона.
Сказала без горечи, даже с лукавым блеском в глазах. Может, действовала травка, а может, была мудрее, чем я о ней думал. У меня тоже от пары затяжек приятно посветлело в башке.
— Почему ты думаешь, что нас заберут в клинику?
— Не думаю, знаю. Тебя чуть попозже, меня чуть раньше. Я подслушала. Доктор два дня его обхаживал, чтобы тебя немедленно отправить, но Оболдуй уперся. Он тебя еще не на полную катушку раскрутил. Пока книгу пишешь, это время твое. Наслаждайся. А я уже отрезанный ломоть. Может, у нас последнее свидание, а ты, видишь, как смалодушничал. Но я тебя не виню. Против адского зелья никто не устоит.
— А в клинике что с нами сделают?
— Ничего особенного. Примерно то же, что здесь. Сперва опыты, потом разборка на органы. Если они в порядке.
— Какие опыты?
— О-о, Герман Исакович гений. Он из людей производит таких маленьких послушных зверьков. Или наоборот, злобных неуправляемых тварей, зомби. Зависит от спроса, от количества заявок. У него экспорт по всему миру.
— Иза, ты бредишь?
— Я — нет. Витя, неужто до сих пор в облаках витаешь? Протри свои слепенькие глазки. После того, что ты натворил, у тебя не осталось ни единого шанса. Впрочем, его и раньше не было. Кто угодил в эти сети, тот обречен.
Беззаботность, легкий тон, с каким она произносила страшные, в сущности, слова, могли, конечно, свидетельствовать об умственном повреждении, но я не сомневался, что она права. Мы все теперь жили на острове доктора Моро, раскинувшемся между пяти морей.
— По–твоему выходит, нам надо сидеть и покорно ждать, пока за нами придут?
— Почему? Можешь потрепыхаться. Патиссон обожает, когда трепыхаются. Он это называет «живучая протоплазма, с хорошим резервом сопротивляемости». Ему это в кайф как ученому… Мы с тобой сами виноваты, любимый.
— В чем?
— За легкими денежками погнались, а они даром не даются.
Обманутый ее откровенностью и какой–то новой, чисто человеческой расположенностью ко мне, я задал неосторожный вопрос:
— Иза, если все так плохо, то скажи хоть, что с Лизой?
— Зачем тебе?
— Веришь или нет, совесть замучила. Ведь она может невинно пострадать из–за моего безрассудства.
Окинула ледяным взглядом, из которого мигом исчезли все сантименты.
— Забудь об этой сучке. Я же говорила, Оболдуй ее для себя выращивал. Видел, как сластена слизывает мороженое потихонечку?.. Ты только ускорил процесс. Лизку он теперь дрючит во все дырки. Потом отдаст нукерам, чтобы посмотреть, как она извивается. Потом к Патиссону. Там все и встретимся, если повезет.
С жадностью я докурил сигарету. Не хотелось больше ни о чем разговаривать. Не хотелось даже знать, правду она говорит или по своей зловредности делает мне побольнее. От острого осознания своей беспомощности я словно таял, уменьшался в размерах, как медуза на берегу.
— Никак загрустил, любимый. — Изаура Петровна игриво ткнула меня пальчиком в живот. — Не переживай, было бы из–за чего. Зачем тебе Лизка? Теперь тебе никакая баба не нужна. А захочешь поквитаться с Патиссончиком, могу помочь.
— Что?
— Есть у гения уязвимое местечко. У Оболдуя нет, а у доктора есть. Если взяться с умом…
— Говори яснее, Иза.
— Ах, какие мы сурьезные… Хватит ли только духу? Погляди, миленький… Она колдовским жестом извлекла из своих одежд, а были на ней ткани нежнейших оттенков, нечто вроде длинной серебристой спицы, но это была не спица, а клинок с пластиковой рукояткой. — Видишь?
Я потрогал мини–пику пальцем.
— Острая.
— Еще какая острая… У Патиссончика вот тут под ушком мя–я–якенькая ложбиночка, видишь, как у меня. Не бойся, потрогай.
Я потрогал и ложбиночку. Действительно, мягкая, пульсирующая.
— Вся штука в том, что он тебя не опасается. Кто тебя может всерьез опасаться, верно? Хотя ты убийца ужасный, Гарика удавил, но для Патиссончика все равно что лягушка. И вот представляешь, нагнется он сердечко послушать, а ты ему эту чудную иголочку тык под ушко. Как в масло войдет. Тут Кощею и конец, понимаешь?
Завороженный, я смотрел в ее ясные глаза, наполненные влажной истомой, как при оргазме. Как удачно господин Оболдуев подобрал себе пару.
— Сумеешь, миленький? Ты же был мужиком когда–то.
— Конечно, — уверил я. — Для меня это пара пустяков. Но что это изменит в нашем положении?
— Ничего, — беззаботно отмахнулась Изаура Петровна. — Зато одним гадом меньше на свете. Разве этого мало?.. Спрячь.
С многозначительным выражением я сунул опасную игрушку под матрас. Изаура Петровна прижалась ко мне и крепко поцеловала в губы. Я привычно ответил на поцелуй.
— Буду молиться за тебя, любимый… Ах, как все–таки жалко, что ты больше не мужик…
Вскоре после этого она ушла.
На другой день меня отвели к Оболдуеву. Я приготовился к самому худшему, но магнат встретил меня так, как будто ничего не случилось и мы лишь вчера ненадолго расстались. Милостиво указал на стул.
— Вытри рожу, Витя, смотреть срамно.
Я ладонью собрал с подбородка остатки кирзовой каши (только что позавтракал, вкусная кашка с солидолом).
— Значит так, душа моя. Время поджимает. Сколько еще надо, чтобы закончить книгу хотя бы вчерне?
— Леонид Фомич, да я, честно говоря, по–настоящему еще и не принимался.
— Что же мешало? Отвлекался на убийства?
— Вы прекрасно знаете, чем я был занят.
Оболдуев непроизвольно пряданул ушами. Выпуклые глаза блеснули: озадачил мой тон, вызывающий, непочтительный, я сам это отметил. Беседовали в рабочем кабинете — Оболдуев, сидя в кресле, нависал над лакированной поверхностью стола, как скала над морем; я так и не рискнул (что–то удержало) присесть на стул.
— Давай, Витя, начнем с чистого листа. Забудем, что было, вернемся к контракту. Книга. Вот главное. Давай четко определимся, в каком она состоянии. Наброски, которые ты показывал, никуда не годятся. Кажется, тут мы сошлись во мнении. Честно говоря, мне не нравится твое настроение. Какое–то легкомысленное. Хочу наконец услышать конкретно: ты продолжаешь работу или намерен дальше лоботрясничать?
Спрашивал совершенно серьезно, так хозяин распекает нерадивого наемного работника, батрака, и бредовость этой сцены, как и всего происходящего, меня ничуть не смущала. Как большинство граждан страны, я давно привык к шутовским, смещенным, вывернутым наизнанку отношениям и знал: чтобы выжить в новых условиях, главное — им соответствовать.
— Леонид Фомич, весь материал собран. Контуры вашей биографии, ее пафос мне понятны. Я могу уложиться в три–четыре месяца, но есть некоторые обстоятельства, которые нам следует уточнить. Не относящиеся к тексту.
— Витя, все, что делает доктор, — это для твоей же пользы. Чтобы не натворил новых бед. Откуда я мог знать, что у тебя такой неуправляемый темперамент? Каюсь, писателей я представлял себе несколько иначе. Во всяком случае, как добропорядочных граждан, не склонных к злодейству. А ты, видишь, оказался наособинку. Яркая творческая индивидуальность. Выдающийся фрукт.
— Речь не об этом, — возразил я, переступив с ноги на ногу. — Доктору я глубоко благодарен за неусыпную заботу, но у литературной работы своя специфика, для нее необходимы не только минимальный физиологический комфорт, но и душевное спокойствие. Равновесие духа и ума. Как раз этого я лишен.
— Совесть, что ли, мучает? Из–за убиенного Гарика? Или из–за денег?
— Конечно, и это тоже. Но тут уже ничего не поправишь, что случилось, то случилось. Просьба к вам, Леонид Фомич, можно сказать, пустяковая. Я должен быть уверен в безопасности моих стариков. Что бы со мной ни произошло, это не должно их коснуться.
— Что ж, добродетельный сын, пекущийся о престарелых родителях, одобряю… Значит, не совсем зачерствел душой… Хорошо, согласен, даю слово бизнесмена. Надеюсь, этого достаточно?
— Вполне… Но еще я должен с ними повидаться.
— А это еще зачем?
Мы встретились взглядами, сирый и сильный, и я, набрав в грудь воздуха, сказал твердо:
— Хочу получить их благословение, Леонид Фомич.
— На что благословение? На какое–нибудь очередное преступление?
— Нет, Леонид Фомич, на законный брак с вашей дочерью.
В кабинете стало тихо, как в склепе. Мужественное лицо олигарха с выпученными, будто стеклянными глазами претерпело ряд мгновенных изменений, и последняя застывшая на нем гримаса означала лишь одно: мне крышка.
— Пошел вон, наглец, — обронил Оболдуев с какой–то неожиданно писклявой интонацией. Я не успел выполнить распоряжение. В кабинет ворвались двое дюжих слуг (как он подал сигнал, я не заметил), подхватили меня под руки и дружным рывком выкинули в коридор.
ГЛАВА 30 В ПОМЕСТЬЕ ОЛИГАРХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Почему я, вот неразрешимый вопрос.
Почему именно на мне замкнулось все извращенное, подлое, что есть в этом мире? За какие такие особенные грехи наказал Господь?
Нет ответа.
Я лежал на операционном столе голенький, освещенный мощными пучками света со всех сторон. Над головой нависли густые заросли проводов и шлангов, в запястья воткнуты иглы, соединенные с аппаратом искусственного кровообращения. Вокруг с озабоченными лицами шушукались люди в белых халатах и главный среди них — усатый, тучный хирург в белоснежной кокетливой шапочке на темных кудрях. Я был в трезвом уме и ясной памяти. Мне предстояла операция по пересадке почки, но не больной на здоровую, а замена правой на левую, моих собственных, которые обе здоровы. Операция должна была проходить под местным наркозом, и, как объяснил Герман Исакович, это обстоятельство имело чрезвычайно важное значение для науки.
Вообще–то утром, во время подготовки к операции, мы обсудили все ее волнующие аспекты. Выяснилось, Оболдуев дал на нее добро не сразу, а лишь после того, как убедился, что моя психика повреждена больше, чем он предполагал, и в таком состоянии трудно надеяться, что я отработаю условия контракта, не говоря уж о том, чтобы вернуть похищенные полтора миллиона. По словам Патиссона, моя наглость, в принципе свойственная любому творческому интеллигенту, являющаяся как бы его родовой чертой, зашкалила за все мыслимые параметры и стало ясно, что обычные средства вразумления уже не помогут. Однако хирургическое вмешательство, проведенное по методике Шульца — Певзнера, как ни парадоксально, косвенным образом должно восстановить покореженную эмоциональную сферу. «Если операция пройдет удачно, батенька мой, — заметил Патиссон, радостно потирая руки, — вам самому покажутся нелепыми ваши притязания. Жениться на Лизоньке! Надо же такое ляпнуть! И кому? Родному батюшке. Вот вы и подписали себе при- говорчик, любезный мой. Придется немного помучиться. Ничего, даст Бог, пронесет…»
Я начал нудить, что без всякой операции осознал глубину своего падения и про Лизу помянул больше для красного словца, чтобы узнать, что с ней, никак не предполагая, что хозяин воспримет мои слова буквально. Не думает же он, Патиссон, с его знанием человеческой природы, что я мог так зарваться, не понимать разницы ее и моего социального положения, и прочее, прочее, — но доктор лишь ласково посмеивался: дескать, поздно, голубчик мой, надо было раньше думать… Сообщил и хорошую новость: он временно отменил успокоительные инъекции, может, они больше вообще не понадобятся, зачем зря переводить дорогой препарат. О Лизе посоветовал не беспокоиться, у нее свой скорбный путь, который она пройдет до конца соответственно своей провинности перед любящим батюшкой…
Одну из стен операционной занимал прозрачный экран, за которым в удобных креслах расположились Леонид Фомич и доктор Патиссон, наблюдая за приготовлениями к вивисекции. Я их не только видел, но и слышал, как они переговаривались. Звуки вливались в ушную раковину, будто через динамик. Оболдуев сетовал: «Все–таки доигрался писатель. Очень прискорбно. Небесталанный человечек, я искренне надеялся, переборет интеллигентскую гниль. Опекал по–отечески, старался высокие понятия внушить. Да вы сами свидетель. Результат, конечно, плачевный, только пуще о себе возомнил, дурья башка. К сожалению, опять вы оказались правы, любезный Герман.
Черного кобеля не отмоешь добела. Не оценил щелкопер, какая ему выпала честь. Видно, плебейскую сущность не переделаешь. Одно у негодяя на уме: только бы напакостить, только бы фигу показать исподтишка». Доктор Патиссон мягко возражал, успокаивал босса: «Я так полагаю, многоуважаемый Леонид Фомич, еще не все потеряно. Действительно, вы с ним чересчур либеральничали, от чего я вас предостерегал. С интеллигентами так нельзя. Они добра не помнят. Чем больше для них стараешься, тем они наглее. Об этом вам любой психиатр скажет. Особенно это касается руссиян. У руссиянского интеллигента вообще нет души, он живет исключительно рефлексами, как, к примеру, собака, не в обиду ей будь сказано. Подтвержденный наукой факт. Интеллигент уважает исключительно силу, чем похож, извините за сравнение, на свободолюбивого чеченца. Под воздействием разумного принуждения становится как шелковый… Поручиться могу, батенька мой Леонид Фомич, после этой маленькой операции наш писатель резко переменится к лучшему». «А если околеет? — обеспокоился Оболдуев. Доктор замахал руками: «Что вы, никак не может быть! Это нас с вами, кольни в брюхо шилом, и каюк, руссиянский же интеллигент живуч, как крыса. Он от физического насилия только крепчает. Могу привести поучительные примеры из новейшей истории. В тех же лагерях, где обыкновенные заключенные мерли как мухи, интеллигент ядреным соком наливался, а ежели его по ошибке выпускали на волю, поражал всех своим долголетием и цветущим видом. Таких примеров десятки, их сами бывшие зэки описывали в мемуарах. Вспомните того же Солженицына. Он на зоне рак одолел, как мы с вами насморк…» «Мне бы хотелось, — как бы слегка смущаясь, заметил Оболдуев, — чтобы Витюня сохранил литературные навыки». «Господи! — воскликнул доктор. — Да разве я не понимаю? Как раз, милостивый государь, в этом вся сложность лечения интеллигента. Мы действуем с предельной осторожностью, чтобы не повредить гипоталамус. Там сосредоточены клетки, несущие как ген подлости, так и ген краснобайства. Но чу, Леонид Фомич, кажется, началась…»
Он не ошибся. Юная медсестра с глазами голодной рыси побрызгала на меня эмульсией из блестящего пульверизатора, напоминавшего маленькую клизму, и усатый хирург, вооруженный скальпелем, сделал стремительный надрез на моем левом боку. Я завопил благим матом и забился на кожаных помочах, растягивая сухожилия на кистях и лодыжках. Хирург укоризненно покачал головой.
— Потерпи, сынок. А будешь дергаться, чего–нибудь лишнее отчекрыжу.
Вторая медсестра сунула мне в нос ватку с нашатырем, и я обрел членораздельную речь.
— Не надо резать, — попросил голосом, донесшимся, как мне самому показалось, из подземного царства. — Я все понял, отпустите меня, пожалуйста.
— Как можно? — удивился хирург. — Только начали и уже отпустите. Даже странно слышать. Мы же не в бирюльки играем. Медицина серьезное дело, сынок.
С его скальпеля, который он держал на весу, соскользнула капля крови, а бок мой начал дымиться.
— Леонид Фомич! Слышите меня?! Прекратите изуверство. Вы же не сошли с ума!
С ужасом я увидел на экране, как доктор Патиссон показывает мне рожки, а Оболдуев печально отвернулся.
Второй надрез я перенес легче, а на третьем вырубился, спрыгнул с коня на скаку…
Очнулся, чертенята шерудят уже над правым боком, а мне совсем не больно. Ясность сознания необыкновенная, блаженная. Услышал глубокомысленный баритон Оболдуева:
— … Нет, конечно, евро против доллара как жучок против быка, но загрызть сможет в конце концов, не исключено…
И рассудительно–покладистый ответ Патиссона:
— Вам, Леонид Фомич, конечно, виднее, я не экономист, но, по моему обывательскому мнению, вся Европа- матушка, хоть с евро, хоть без него, свой век отжила. Как беззубая старуха, к мясцу по привычке тянется, а жевать нечем…
Усатый хирург заметил, что я продыхнулся, дружески подмигнул.
— Молодец, сынок, так держать. Если отторжения не будет, еще на твоей свадьбе попляшем. Покажи ему, Сонечка.
Медсестра с нежным, тонким лицом, на котором застыло выражение небесного восторга, подняла повыше стеклянный сосуд, где плавало, пузырилось в кровяной пене что–то похожее на раздувшуюся сливу. Тут на меня заново накатило, как будто туловище рассекли бензопилой. Пик чудовищной боли совпал с озарением. Этого не может быть, подумал я, убывая…
Следующее пробуждение могу сравнить лишь с воскрешением из мертвых. Боль терпимая, но ничего не хотелось, ни дышать, ни умолять. С экрана Оболдуев с какой–то ненасытностью вглядывался прямо в мои зрачки. Говорил доктору:
— …Проспорил, Гера, голову даю на отсечение, проспорил… Хана писателю. С тебя, значит, неустоечка…
Патиссон лукаво посмеивался:
— Не спешите, государь мой, не спешите. Вы их не знаете, как я. Я над этими, с позволения сказать, существами пятнадцать лет опыты произвожу. Поберегите голову, она еще вам пригодится. Недели не пройдет, как будет про ваши подвиги сагу сочинять. Заметьте, не по принуждению. Даже не из–за денег. По зову, как говорится, сердца. В этом вся соль…
Яд его слов я проглотил как лекарство, они были справедливыми. Действительно, принадлежа к гнилой прослойке (как и Патиссон), я давно и без него знал, что в массе своей интеллигенция — не что иное, как сточная яма, куда нация столетиями сливала энергетические отходы — вот и досливалась. Окрепший на народной халяве монстр второе столетие методично пожирал свою прародительницу с безрассудным упорством саранчи… Думать об этом в моем положении было, по меньшей мере, нелепо. Я прикрыл глаза, притворился покойником, но усача обмануть не удалось. Хирург бодро прокаркал:
— Крепись, сынок, все плохое позади. Сейчас быстренько подштопаем — и на нары.
— Что вы со мной сделали, доктор?
— Трудно сказать, вскрытие покажет… — Он задумчиво пожевал губами — окровавленный, вспотевший — с гордостью добавил: — Но если не будет осложнений, не сомневайся, войдешь в Книгу Гиннесса.
— Живой! — по–отечески обрадовался на экране Обол- дуев. — Витенька, как себя чувствуешь, гений ты наш?
— Вашими молитвами, Леонид Фомич, — ответил я в тон. — Хоть завтра под венец.
— Ну, что я вам говорил? — язвительно вмешался Патиссон. — Эти так называемые творческие личности…
Дослушать не удалось. В глазах вспыхнули звезды, голова распухла, как мяч, и я заново укатился в спасительную вечную тень.
* * *
Не в таком уж я плачевном состоянии. Голова ясная, на толчке сижу без посторонней помощи. После операции пошла вторая неделя, потихоньку начал работать. Из подвальной каморки меня перевели обратно в гостевые покои, в мою старую комнату с роскошной кроватью и с ванной, принесли все бумаги, поставили компьютер… Вообще исполняли каждое мое желание и кормили на убой. В себе самом я никаких особых изменений не чувствовал: дня два- три жгло и покалывало в боках, но точно так, как если бы вырезали аппендикс с двух сторон. Опекали меня, заботились обо мне все те же Светочка–студентка, охранники (часто дежурил Абдулла, принявший в моей судьбе неожиданно горячее участие и подбивавший как можно скорее сделать обрезание), доктор Патиссон… Добавилось лишь одно новое лицо — пожилая, добродушнейшая Варвара Демьяновна, операционная медсестра, так умело делавшая перевязки, что я воспринимал их как материнскую ласку. Однажды поблагодарил ее, растроганный: «Спасибо за ваши ласковые руки, Варвара Демьяновна!» Покраснела, как девушка, подняла печальные глаза: «Что же ты хотел, голубь? Сорок лет вашего брата обихаживаю»…
Первые дни навещал усатый тучный хирург, проводивший операцию, но имени его я так и не узнал. «Зачем тебе? — усмехнулся он на мой вопрос. — Зови просто «доктор». Нам с тобой детей не крестить».
Все попытки выяснить, в чем суть произведенной надо мной экзекуции, какой в ней смысл, также натыкались на незлую, но твердую уклончивость. «Говорю же, вскрытие покажет, — повторял он любимую шутку. — Нам еще самим не все ясно. Понаблюдаем, соберем материал. Главное, выжил, вот что удивительно само по себе».
Конечно, все бы ничего, можно жить дальше. Но смущало, угнетало одно обстоятельство. С надутым и важным видом Патиссон передал, что господин Оболдуев, не найдя обоюдного взаимопонимания, по своей воле установил срок, за который я должен закончить рукопись хотя бы в первом варианте — три месяца, считая со дня его ангела, с 10 июля. Естественно, я поинтересовался, что будет, если не уложусь, допустим, по состоянию здоровья. Получил ответ, что Оболдуев склоняется к тому, чтобы в таком случае сделать повторную пересадку. «Опять почки?» — полюбопытствовал я. «Ну зачем же? — Патиссон улыбнулся с пониманием. — На очереди у вас печень, батенька мой. Перспективнейший, доложу вам, эксперимент с медицинской точки зрения». «Как можно пересаживать печень, если она одна?» — «Так мы вам, сударик мой, бычачью подошьем. Глядишь, и потенция восстановится…»
Я был не дурак и понимал, что дни мои сочтены. После того что они уже сделали со мной, на волю меня не отпустят при любом раскладе, напишу я книгу или нет. Не могу сказать, что меня при мысли об этом охватывали тоска и страх. Я жил теперь как бы в двух измерениях: в том, где была Лиза и светлые, будоражащие воспоминания о ней и куда невозможно вернуться; и в скучной, серой реальности, наполненной какими–то разговорами, чьими–то визитами, перевязками, обедами и ужинами, снами, больше похожими на кошмары, долгим сидением за компьютером, проблемами с пищеварением и, главное, постоянным желанием, чтобы все это поскорее закончилось. Постепенно, как–то незаметно для себя я втянулся в работу, но не в ту, какую ожидал Оболдуев. Я спешил закончить собственную книгу, пятую по счету и, скорее всего, последнюю, хотя радость от литературных перевоплощений, близких моему сердцу, омрачалась мыслью, что Лизонька никогда не прочитает этих страниц, которые, плохи или хороши, смешны или занудны, внутренним чувством обращены только к ней…
Все чудесным образом переменилось, когда однажды ночью меня разбудил странный звук за дверью, словно кто–то поскребся, и я, обмерев (неужели пришли?!), запалил лампу и увидел, как в дверную щель скользнул листок бумаги. На цыпочках подобрался к нему, поднял и прочитал несколько слов, начертанных ее рукой: «Жди. Не падай духом. Я с тобой».
Листок я порвал на мелкие клочки. Положил в рот, разжевал и с наслаждением проглотил. Потом толкнул дверь и выглянул в коридор. Тишина, мерцающий свет старинных плафонов и дремлющая фигура охранника в кресле, возле лестницы.
Лиза, сказал я себе, ты живая. Я тоже с тобой, не сомневайся, моя кроха.
Потрясение было столь велико для измученных нервов, что, едва добравшись обратно до подушки, я мгновенно погрузился в гулкое, продолжительное забытье, из которо го меня вывело звонкое щебетание Светы, явившейся? утренним чаем. С тех пор как у нее пропала надежда (после успокоительного укола) на невинное совокупление, она стала относиться ко мне как добрая сестра и всегда указывала на глупости, которые я делаю и которые могут привести к беде. Конечно, не в присутствии Патиссона. В его присутствии она резко менялась и становилась послушной исполнительницей его указаний, иной раз чересчур усердной. В это утро разбудила меня по–приятельски, шаловливо подергав за поникшее навеки мужское достоинство.
— Ну хватит, хватит, — проворчал я с деланым раздражением. — Лучше меня знаешь, что бесполезно.
— Ничего, Виктор Николаевич, есть и другие радости, — успокоила девушка, не слишком веря в свои слова. — На сексе свет клином не сошелся… Конечно, хотелось попробовать с писателем, но раз не получилось, то и не надо. Я же не переживаю.
На подносе, который она поставила на стол, белая свежая булка, масло, сыр, плошка с медом. Фарфоровый расписной чайник благоухал свежезаваренным, крепким чаем. Я жадно втянул ноздри.
— Ух, ты! Светочка, я голоден как черт. Позавтракаешь со мной?
— Ого! — Она посмотрела внимательно. — А вы сегодня совсем на себя не похожи. Прямо помолодели. Сон хороший приснился?
— При чем тут сон… — Я густо намазывал булку маслом и медом. — Уныние — большой грех. Нельзя вечно кукситься. Кстати, какой сегодня день?
— Четверг. — Светочка сунула в рот сигарету с золотым ободком, я поспешно щелкнул зажигалкой. — Ох, Виктор, вы такой любезный, прямо джентльмен. Как все–таки жаль…
— Светочка, спрашиваю, какой сегодня день после операции?
— Когда вам почки переставляли?
— Ну да.
— Десять дней прошло, а что?
— Да я как–то не слежу за временем, а оно у меня ограниченное. Наверное, слышала, как хозяин распорядился? Через три месяца готовую книгу на стол. Социальный заказ. Читатель заждался.
— Слышала, слышала, — пробурчала она, пряча глаза. — Вы уж постарайтесь, а то как бы не вышло хуже.
— Думаешь, если поспею, выйдет лучше?
— А то! Хоть какая–то надежда.
— На что надежда, Светочка? Здесь или в клинике, все равно уморят. Патиссон уже грозился печень пересадить.
— О-о, — вскинулась девушка. — Так это же клево. Одному старичку пересадили, так он потом всех сестричек загонял. Никому проходу не давал, валил, где поймает. Никакой управы не было. Пришлось усыплять… — поняла, что ляпнула что–то не то, поправилась: — Правда, он, кажется, был англичанин. У иностранцев особые привилегии.
— Откуда ты все знаешь?
Смутилась, поперхнулась дымком.
— Ну как же, то тут, то там что–нибудь услышишь. Я штатная. От нас не скрывают.
Разговор становился опасно откровенным. С набитым ртом я прошамкал с безразличным видом.
— Я хоть не штатный, а тоже кое–что слышал.
— Да?
— Вроде у хозяина в семье неблагополучно.
— A-а, вы вот о чем. — Светины глазки масляно заблестели. — Так еще я удивляюсь его терпению. Давно пора разобраться с этой тварью.
— С Изаурой?
— Осуждать грех, но девка совсем зарвалась. Возомнила себя владычицей морской, а кто она такая? Актрисулька недоделанная. Со всей охраной перетрахалась, ни стыда ни совести. Никого не стесняется. Всю прислугу поедом ест, все ей не так, все не по ее. Да что прислугу, Лизку со свету сжила… Ой!
— Не бойся, Светочка. Я не трепло. У меня как в могиле.
— Чего мне бояться, про это все знают. Если на то пошло, Виктор Николаевич, больше скажу. Вы, наверное, думаете, Лизка из дома ломанула от большой, внезапной любви? Нет, не спорю, как писатель вы мужчина привлекательный, но бедняжка спастись хотела. У нее другого выхода не было. Актрисулька ей прямо сказала: или ты, или я. Это не пустая угроза.
— В каком смысле?
— В самом простом. Тут до вас еще, когда Изаура только в дом въехала, двух беженок босс приютил, обогрел. Джамилку и Томку. Обоим лет по тринадцать. Забавные такие девочки, все их любили, никому они не мешали. Когда босс приезжал, ноги ему мыли, массаж делали, а он им книжки вслух читал. Как–то привязался к ним, как к родным. Собирался из басурманок в христианство обратить. И что же? Появилась Изаура благодатная, поглядела на девочек, что–то у нее в башке щелкнуло — и конец. Может, приревновала сдуру, может, еще что… вечером пошла к ним в спаленку, угостила «фантой», к утру обе окоченели. Правда, без мук отошли, яд сильный был. Так она еще, стерва, над мертвенькими поглумилась. Оголила и ножками–ручками сцепила, будто лесбияночек. Босс ей, конечно, поверил. У него сердце трепетное, как у ребенка… Ох, заболталась я с вами…
Вдогонку я спросил:
— Как думаешь, Леонид Фомич дочку простит?
Задержалась в дверях, выглянула в коридор, потом вернулась на шажок.
— Не нашего ума дело, Виктор Николаевич, как они между собой разберутся, но вы тоже хороши. Неужто впрямь надеялись, что не поймают? Это же наивно.
— В помрачении был после таблеток. За то и страдаю.
— Ох, Виктор Николаевич, не хочется пугать, но настоящих страданий вы еще не видели.
С тем и убежала, крутнув хвостом.
Следующие два дня прошли без всяких происшествий. Я выздоравливал, несколько раз в день делал гимнастику, сидел за компьютером… Просился у Патиссона на прогулку, но он сказал, пока рано об этом думать.
Постепенно стало казаться, что записка Лизы мне приснилась.
На третью ночь проснулся от какого–то шума в доме. Долго лежал, прислушивался. Пытался понять, что происходит. То тихо, то чьи–то крики, топот в коридоре и словно гудение огромной бормашины. Подошел к окну. По небу метались лучи прожекторов, и вроде бы даже постреливали. Неспокойная ночь.
Ждал Свету, чтобы расспросить. Но она пришла только во второй половине дня, причем вместе с Патиссоном. Оба нехорошо возбужденные и словно из парилки.
— Пожрать–то мне сегодня не давали, — напомнил я с обидой, когда они уселись. Светочка заохала, всплеснула руками и метнулась из комнаты. Герман Исакович дал пояснения:
— Извините, дружочек мой, не до вас было. ЧП у нас неприятное, вас, конечно, как почти члена семьи можно посвятить, вдруг пригодится для книги… Супруга Леонида Фомича придумала, как отблагодарить благодетеля, руки на себя наложила.
— Вы шутите?
— Какие уж шутки, именно так. Да еще изволила устроить сию гнусность в отсутствие хозяина. Вот будет ему сюрприз.
— И как это произошло? — Я не знал, верить или нет, уж больно двусмысленно сверкали золотые очечки мудреца.
— Понимаю ваш интерес, любезный мой… Сперва шебутная девица, возможно в подражание вам — дурной пример, как известно, заразителен, — замыслила побег. Подбила трех дураков–охранников и хотела бежать с ящиком золота… Сказать по правде, сколько живу, никак не могу привыкнуть к человеческой подлости. Вот вы как инженер человеческих душ объясните, чего ей не хватало?
Я пожал плечами.
— Вы вроде сказали — руки наложила?
— Конечно, наложила. Когда увидела, что попалась, деваться некуда, дружков постреляли, заперлась в спальне и… Господи, как доложить хозяину, ведь он страдать будет. На меня вину возложит, недосмотрел, дескать, старый пень. А что я мог сделать? Я ее уговаривал, обещал подлечить…
— Через дверь уговаривали?
— Через дверь, через окно — какая разница? Сердце себе проткнула стальной спицей. На руках у меня померла. Пожурил ее напоследок, что же ты, говорю, засранка, наделала, грех–то какой… А она, можете представить, собралась с силами — и плюнула в меня. Виктор Николаевич, откуда столько злобы в нынешней молодежи? Столько неблагодарности откуда?
Стеклышки очков увлажнились — и тут я поверил, что это правда. Отмучилась заблудшая душа. Обманула своих палачей. А давно ли…
Вернулась студентка с судками: борщ, жаркое. Батон хлеба. Под мышкой бутылка коньяка. Извиняющимся тоном обратилась к доктору:
— Герман Исакович, прихватила на всякий случай… Может, помянем стерву?
— Не говори так, Светлана. Все же про покойницу… Помянуть можно, почему не помянуть. Наливай!
Диковинные получились поминки. Патиссон был какой–то непривычно тихий, как будто пришибленный. Светочка после двух рюмок и косячка разнюнилась, заревела. Я тоже был не в своей тарелке, хотя коньяку мне не дали. Патиссон сказал, что в моем состоянии алкоголь противопоказан. Может наступить преждевременное отторжение почек и мозгов. А мне еще книгу дописывать. Его замечание меня заинтриговало.
— Про почки понятно, доктор, а мозги при чем? Они не пересаженные.
— Батенька мой, все в организме взаимосвязано. У интеллигента какой самый уязвимый и слабый орган? Правильно, голова. Малейшее повреждение любого другого органа вызывает цепную реакцию. В моей практике бывали поразительные случаи. Какая–нибудь бородавка на руке, катар горла, да любой пустяк, мгновенно превращают его в идиота. Первый признак интеллигентского кретинизма — защищенность на собственном здоровье. Для интеллигента, впавшего в идиотизм, а таких у нас девяносто процентов, нет на свете ничего более важного и значительного, чем состояние его желудка, сердца, железок и прочего… Кстати, самое омерзительное и отталкивающее существо в мире, вам, наверное, особенно интересно, это интеллигент–идиот, ставший импотентом.
Светочка похлюпывала носом, мужественно осушила еще рюмку.
— Как все ужасно, как ужасно!
— О чем ты, дитя? — поинтересовался я. — Ты же ее не любила.
— Вы не понимаете, вы мужчина, ну, я имею в виду, у вас психика мужская… У женщины все по–другому. Она каждую букашку жалеет. Зойка дрянь была, пробы негде ставить, ведьма проклятая… А теперь, когда ее нету, у меня у самой будто гвоздь в сердце.
— Вполне возможно, — благодушно подтвердил доктор, забрав у Светочки бутылку. — Женщины по научному определению относятся к подвиду простейших и все соединены между собой в этакую биологическую плесень наподобие грибницы в лесу.
— Значит, на самом деле ее звали Зоей? — спросил я.
— Ох, ну какое это имеет значение? — Светочка потянулась за бутылкой, доктор чувствительно шлепнул ее по руке.
— Хватит, малышка, нам еще отчет составлять.
Бутылку допил сам — и вскоре они ушли.
К еде я не притронулся, лежал, глядя в потолок. Безвременная кончина прекрасной Изауры меня не огорчила: что ж, она знала, что делала. Не захотела ложиться в клинику к Патиссону, я ее хорошо понимал. Передо мной стоял тот же выбор. Ее решение казалось разумным, однако сам я еще не приготовился к уходу, хотя исподволь, разумеется, перебирал разные варианты. Но как бы не для себя, а для кого–то постороннего. Трусливому человеку так проще… Увы, во многом, во многом прав доктор, когда поливает грязью руссиянскую интеллигенцию, которая разучилась жить по чести и не умеет с достоинством умирать. Но ко мне все его рассуждения относились лишь косвенно: я никогда по–настоящему не ощущал своей принадлежности к ней. Больше того, когда другие называли меня (в тех или иных обстоятельствах) интеллигентом, всегда испытывал нечто вроде стыда. Особенно это ощущение усиливалось после того, как властители дум начали писать коллективные доносы и бегать к пьяному царю на дачу, умоляя раздавить какую- то гадину.
Лиза, позвал я в тоске, слышишь ли меня, мой маленький, бесстрашный друг?
Наверное, не слышала, но бывали минуты, когда я остро чувствовал ее приближение. Занавеска колыхнулась на окне, вспыхнул солнечный зайчик на лакированной поверхности шкафа, кукушка прокуковала в лесу — и я невольно вздрагивал, настораживался: не она ли посылает привет?..
Незаметно задремал — и пробуждение было загадочным, будто проснулся во сне. За столом, за компьютером сидел улыбающийся Володя Трубецкой и с увлечением гонял по экрану лопоухого зайчонка. Я тоже любил эту игру, она называлась «Не буди Лешего». Выглядел майор совершенно мирно, и выражение лица у него было точно такое — снисходительно–ободряющее, как в тот раз, когда выпроваживал нас с Лизой за дворцовую ограду.
— Это вы, Володя? — окликнул я негромко, готовый к тому, что общаюсь с фантомом.
— Нет, тень отца Гамлета, — ответил он напыщенно — и тут же, оставив зайчонка в покое, переместился на стул возле кровати. — Ну–ка дай руку, писатель.
Я протянул ладонь, и он сжал ее с такой силой, что у меня хрустнул позвоночный столб. Но я не пикнул. Только спросил:
— Зачем ты так сделал, Володя?
— Проверяю, в каком ты состоянии…
— Ну и как?
— На горшок сам ходишь?
— Да, хожу… Что с Лизой, Володя?
— Ничего, могло быть хуже. — Улыбка на мгновение потухла и вспыхнула вновь. — Значит так, готовься. Завтра или послезавтра прорыв.
— Какой прорыв, Володя? Это иносказание?
— Иносказания все кончились. Пора сваливать к чертовой матери. Помнишь, как вождь учил: вчера было рано, завтра поздно?
Я посмотрел на стены, на потолок, перевел взгляд на свой перевязанный живот. Трубецкой ухмыльнулся.
— Все под контролем, писатель. Никто нас не слышит… Важно другое: сломали тебя или нет?
— Зачем тебе знать?
— Не хочу второй раз Лизу подставлять. Третьего может не быть.
Разговор шел без напряжения, весело, в быстром темпе и привел меня в хорошее настроение. Была и еще причина радоваться: впервые после долгого перерыва я не ощущал необходимости притворяться, разыгрывать то одного, то другого персонажа в чужой пьесе. Оказывается, я сильно от этого устал. Сейчас все слова ложились набело, и я снова мог играть собственную роль.
— Кем тебе приходится Лиза, майор? Не очень ты похож на доброго самаритянина.
— Все очень просто: я ее двоюродный брат.
— А Гата Ксенофонтов крестный, да? Ничего, говори. Я всему поверю. Мало ли на свете чудес.
Трубецкой нахмурился, улыбка совсем ушла из глаз. Без нее, как без маски, он выглядел еще моложе.
— Хочешь верь, хочешь нет, не время препираться. Повторяю вопрос. Сломал тебя доктор или не успел? Это не праздное любопытство. Вполне возможно, завтра придется туго. Не хотелось бы тащить тебя на закорках. Но если понадобится, для Лизки сделаю и это.
— Так любишь сестру? Очень трогательно.
— Ладно, считай, ответил… Признаюсь, я ее выбор не одобрял, но теперь вижу, может, она не ошиблась… Человека способен грохнуть?
Резкий переход меня не обескуражил.
— Вряд ли… Это тоже понадобится?
— Не бери в голову, классик. Отдыхай… Мне пора… Компьютер у тебя хитрый, но не настолько, чтобы водить за нос босса. Заметь на будущее…
Он уже был у двери — гибкий, пружинный, смеющийся. Супермен, черт бы их всех побрал.
— Володя, но….
Прижал палец к губам, исчез.
ГЛАВА 31 ПРОРЫВ
Через два дня на третий — вот когда это произошло. В светлое летнее утро, после девяти. Все это время я безвылазно сидел в комнате, работал, усиленно занимался гимнастикой, насколько позволяли почти затянувшиеся швы. Через силу, через боль гнулся, тянулся, отжимался. Ко мне никто не приходил, кроме Светочки, дверь теперь запирали снаружи, я не мог понять, с чем это связано.
Светочка держала меня в курсе происходивших в доме событий. Леонид Фомич, нагрянув, устроил страшный разнос домочадцам, но больше всех почему–то досталось Патиссону, которого Оболдуев посчитал главным виновником смерти Изауры Петровны. Он сомневался в том, что его супруга покончила с собой, поэтому поручил Гате провести дознание по всем правилам и, хоть кровь из носу, выколотить из доктора правду. Из этого ничего не вышло. Патиссон держался стойко и даже под пытками утверждал, что ему не было смысла убивать Изауру по той простой причине, что у них с хозяином уже была достигнута договоренность о переводе ее в клинику на лечение. Наконец после сеанса электрошока, проведенного приглашенным специалистом из Института Сербского, доктор все–таки признался, что убил Изауру Петровну собственными руками: отравил крысиным ядом, придушил и для верности проткнул сердце железной иглой. И все из–за того, что бедная женщина, храня верность супругу, наотрез отказалась участвовать в какой–то сатанинской оргии. Доктор Патиссон, едва снятый с клемм, оформил показания в письменном виде, но Оболдуев, как и дознаватели, хорошо понимал, что им грош цена. Однако Леонид Фомич никак не
мог справиться с уязвленным самолюбием (какая–то прохиндейка подло его кинула, точно фраера) и распорядился посадить на кол двух охранников, дежуривших в ту ночь у покоев супруги. Светочка поманила меня к окну, чтобы посмотреть на несчастных юношей, еще трепыхающихся, выставленных на всеобщее обозрение возле парадного крыльца, но я отказался.
Еще Светочка сообщила, что в четверг ожидается приезд в поместье новой хозяйки, какой–то молодой итальянки по имени Джуди, новой жены Оболдуева, но еще не венчанной; а на субботу назначен торжественный прием и бал с приглашением огромного количества гостей. На праздник соберется вся московская знать — крупные чиновники, политики, бизнесмены, главари криминальных кланов, церковные иерархи; для их увеселения нагонят целую кучу певцов, юмористов и творческих интеллигентов. Будет необыкновенная иллюминация и пышный фейерверк, для чего выписаны из Европы самые лучшие пиротехники. Приготовления идут в такой спешке, что кажется, наступил конец света. Поведала Светочка (как–то чудно жеманясь) и неприятную для меня лично новость. Оказывается, в культурной программе праздника сперва предусматривалось отдельным пунктом чтение (автором) отрывков из новой книги — для редакторов крупнейших газет и для иностранных журналистов, но Патиссон что–то нашептал хозяину, и тот отказался от этой идеи.
— Ох, Виктор Николаевич, похоже, доктор против вас сильно интригует.
— С чем это связано?
— Это как раз ежу понятно. Зойка с крючка сорвалась, вот он и спешит побыстрее вас в клинику утащить.
— Не боишься об этом говорить?
— Виктор Николаевич, не считайте меня такой уж бесчувственной тварью. Хотя вы больше не мужчина, мне будет вас очень не хватать. Я ведь привязчивая. Это мой большой недостаток. Современные девушки совсем другие. Ухватистые, предприимчивые, никаких сантиментов. К примеру, как Зойка.
Я не удержался от упрека.
— Если бы ты меня действительно жалела, не стала бы участвовать в этой мерзкой комедии. Прекрасно знаешь, что я не убивал Гария Наумовича.
— Так и думала, что обижаетесь. Но это совершенно разные вещи. Я могу даже боготворить человека, но контракт есть контракт. Подписалась — выполняй. Или тебя саму уроют. Вы хоть писатель, а должны понимать.
Двое суток дом ходил ходуном, будто его разносили по кирпичику. Окрестности поместья среди ночи пылали ослепительным электрическим заревом. Неумолчно выли и тявкали собаки, которых всех загнали на псарню вместе с моим другом, благородным Каро. Уж я как никто понимал, каково ему приходится в окружении злобных, озверелых сородичей, обуреваемых единственным желанием — вырваться из загона и перекусать наглых пришельцев. Изредка я подходил к окну. Как на дрожжах, поднимались в парке башенки всевозможных павильонов, туда–сюда носились рабочие–турки, успевшие переодеться в шотландские юбочки, некоторые даже с полными стрел колчанами за спиной. Грустным диссонансом всей этой предпраздничной суете еще какое–то время пульсировали на позорных столбах двое охранников, но потом их убрали, и на этом месте в мгновение ока вознеслась декоративная арка, словно вспыхнула под солнцем громадная цветочная клумба с черной полуоткрытой пастью…
В начале десятого щелкнул наружный засов на двери, и вместо Светочки с завтраком на пороге возник доктор Патиссон, но в таком измененном виде, что я, каюсь, не сразу его признал. Под глазами, под золотыми очочками крупные фиолетовые пятна, на скуле ссадина, светлый «аглицкий» костюм выглядел так, словно его вместе с хозяином извлекли из стиральной машины, а отгладить забыли; но особенно удручающее впечатление производила прическа: веселые серебристые прядки волос вырваны с корнем, и вместо них высокий лоб мыслителя обрамляли два ручейка красных пупырышков, как при вторичном проявлении сифилиса. При всем при этом доктор был больше обычного оживлен и лучезарно улыбался.
— Никак с кем–то подрались, Герман Исакович? — посочувствовал я. — С другим психиатром?
— А вы, батенька мой, кажется, в добром здравии? Что ж, тем лучше. Я за вами. Собирайтесь.
— Куда собираться? Зачем?
Услышав в моем голосе протест, доктор изумленно вскинул бровки.
— Что–то вы сегодня на себя не похожи… какая вам разница куда? Впрочем… — На добром круглом лице возникла плотоядная гримаса. — Секретов тут нет. Во избежание возможных недоразумений велено забрать вас отсюда. Поедем, дружок, в стационар для лечения. Можно надеть штанишки, а не юбочку. Сегодня дозволяется.
— Я вам не верю, — сказал я. — Никуда не поеду, пока не увижу письменного распоряжения работодателя.
Доктор опустился на стул и смотрел на меня, по–птичьи склонив изуродованную головку набок.
— Похоже на бунт, а, голубчик мой? К лицу ли вам такое поведение? Вы же не какой–нибудь красно–коричневый фашист. Все–таки писатель, творческая личность. Ая–яй–яй!
— Сказано, не поеду!
Доктор удовлетворенно хмыкнул.
— По правде сказать, чего–то подобного я ожидал и предостерегал Леонида Фомича. Существа с повышенной рефлексией способны на самые неожиданные реакции, причем всегда во вред себе… Благороднейший человек Оболдуев, вот его женушка и отблагодарила его за гуманность. Может, хоть чему–то научила… Эй, ребята! — гаркнул он вдруг во всю глотку, и в комнату влетели двое битюгов, одетые в серые халаты и с какими–то подозрительными сверкающими бляхами на груди, как у грузчиков на вокзале.
— Ну–ка, мужички, — ласково обратился к ним Патиссон, — помогите Гоголю одеться — и вниз его…
Битюги подступили к кровати, кривясь в нехороших кирпичных гримасах, но сделать ничего не успели. Следом за ними в спальне возник Вова Трубецкой, и я впервые увидел его в деле. Он двигался бесшумно, с грацией большой кошки, эластичным движением ухватил обоих санитаров сзади за гривы и резко хрястнул башкой о башку. Раздался звук как при раскалывании полена, и битюги осели громоздкими тушами на пол. Доктор Патиссон вскрикнул, начал подниматься со стула, но получил пяткой в брюхо, хрюкнул по–поросячьи и упал на колени. Очечки соскочили с лица и повисли на одной дужке. Взгляд у него сделался остекленелый, как у моллюска.
Трубецкой продолжал действовать без пауз, лишь молча послав мне дружескую улыбку. Все у него было с собой. С удивительной сноровкой он связал битюгов зеленым шнуром, сматывая его с пластиковой катушки, а пасти заклеил широкой серой лентой так, что торчали одни ноз- дрюшки. Стенающего от боли Патиссона водрузил обратно на стул, сказал примирительно:
— Хватит корчить рожи, профессор, ты еще не в аду. Где Лиза?
— Юноша, вы сошли с ума!
— Это уже не твои проблемы. Хочешь жить?
— В каком смысле? — Доктор сопел, никак не мог отдышаться.
— В обыкновенном. Могу сейчас раздавить тебя, как клопа, причем мне не терпится это сделать, но могу повременить. Где Лиза, пиявка медицинская? Только не ври, что в клинике.
— Володя, вы не даете себе отчет в своих действиях. Что с вами? Если Леонид Фомич…
Трубецкой хлестнул его по губам ладонью.
— Заткнись, вонючка. Спрашиваю в последний раз, где Лиза?
— Как больно, Володя, не надо так. — Доктор обтер кровяной пузырь с губ. — Хорошо, хорошо… Леонид Фомич держит ее при себе.
— Точнее. Что значит при себе? В кармане носит?
— В янтарной комнате за его покоями.
— Там дышать нечем.
— Вы не правы, Володя. Там нормальная атмосфера, как раз для терапевтического лечения сном.
— Когда хозяина нет, кто охраняет?
— Э-э… — Доктор замешкался и получил еще одну затрещину по губам, после чего Трубецкой брезгливо протер руку носовым платком. Мне он сделал знак, но я и так уже одевался: натянул спортивные брюки, свитер.
— Там Ашкенази со своими людьми, — заторопился доктор, сплюнув красную пенку на ковер. Мне показалось, Трубецкой чуть побледнел.
— Откуда взялся Мосол? У него пожизненное.
Патиссон, хоть и через силу, снисходительно усмехнулся.
— Ну что вы, Володя… Босс его сразу выкупил. Вы же знаете его слабость к уникальным явлениям природы.
Трубецкой посмотрел на меня. Я кивнул в знак того, что готов.
— Теперь запомни, профессор. — Трубецкой заговорил странно шелестящим голосом, от которого у меня самого пробежали мурашки по коже, а Патиссон, почуя неладное, выпрямился на стуле, нагнав на румяную морду подобострастное выражение. — Временно тебя оставлю в живых, так интереснее. Оболдую наплетешь что хочешь, но не то, что было. Если всплывет мое имя, умрешь в таких мучениях, какие не снились даже твоим пациентам, скотина. Ты мне веришь?
— Конечно, Володечка, я знаю ваши возможности… Одного не могу понять, что вас заставило связаться с этим… с этим… Ведь рано или поздно Леонид Фомич…
Трубецкой не дослушал, рубанул сверху вниз кулаком, как молотком, по круглой тыковке доктора. Обмякшего, обхватил под микитки, сложил рядом с битюгами и точно так же обмотал зеленым шнуром, а морду заклеил пластырем.
— Что нужно, бери, — сказал мне. — Сюда не вернемся.
Мне ничего не нужно было, кроме компьютера, и я обругал себя за то, что не удосужился слить текст на дискету. Пожаловался Трубецкому, он пообещал, что позаботится об этом.
— Столько труда псу под хвост, — сказал я.
— Ничего, — ответил он. — Главное, голову сберечь, остальное приложится.
Когда вышли в коридор, Трубецкой запер дверь на засов и повесил табличку: «Не входить. Идут процедуры».
Поднял с пола небольшой коричневый саквояж наподобие тех, в которых слесаря носят инструменты. Мы прошли мимо дежурного охранника, который вежливо поздоровался и спросил, все ли у нас в порядке.
— Нормалек, — ответил Трубецкой. — Будь повнимательнее, Сева.
— Есть, — козырнул охранник.
Я мало что понимал в происходящем, но с расспросами не лез, готов был ко всему. Трубецкой сам, заведя меня в уютный грот с пальмой в кадке, с двумя кожаными креслами, коротко растолковал диспозицию. В его изложении предстоящие нам действия выглядели элементарными. Сейчас сходим заберем Лизу. Потом пройдем в гараж и там распрощаемся. Надежный человек на машине доставит нас к вертолету. На вертолете, управляемом другим надежным человеком, доберемся до Шереметьева. Там третий надежный человек, которого Лиза знает, передаст нам документы, деньги и все прочее, что необходимо в путешествии. В Шереметьево мы с Лизой сядем в самолет и через три часа приземлимся в Хитроу. Вот вкратце и все. Никаких проблем. В Хитроу нас тоже встретят.
— Справишься, классик? — улыбнулся Трубецкой.
— Пустяки, — уверил я. — А вот если Леонид Фомич…
— Хозяин вернется к вечеру… Тут другая накладка. Мосол со своими хлопцами — это сюрприз. Не просчитал я его. Он Лизу добром не отдаст.
— Кто такой?
Оказалось, Ашкенази — Мосол — выродок, изувер, серийный убийца, при этом прошел отличную подготовку в спецподразделениях. В своих зверствах Мосол дошел до такого предела, что от его услуг отказался даже руссиянс- кий бизнес, после чего его, естественно, мигом упрятали в зиндан и быстренько приговорили к пожизненному. Откуда, как я сам слышал, Оболдуев его благополучно выкупил.
— Зачем, Володя? — ужаснулся я.
— Капризы олигарха. Патиссоныч прав, нашего барина всегда тянуло на остренькое.
— Но ведь он может…
— Нет, Лизе он не опасен. Наоборот, за ним она как за каменной стеной. Он теперь служит Оболдую, как цепной пес… Трудность в том, что я не могу привлечь своих парней. Не имею права. Это семейное дело. Должны сами разобраться. — Майор раскрыл молнию на саквояже, покопался в нем и протянул мне черный пистолет.
— Умеешь с этим управляться?
— Покажешь, сумею.
Трубецкой объяснил, как снимать с предохранителя, что надо нажать, чтобы вылетела пулька,
— Видишь, ничего хитрого. Только меня не застрели сгоряча. Сунь за пояс под свитер.
Пока длинными переходами добирались до покоев Леонида Фомича, нам встретилось несколько человек, все куда–то спешили, и на нас никто не обратил внимания. В большом зале, предназначенном, по всей вероятности, для бальных танцев, со стенами, обитыми трехцветной парчой, символизирующей руссиянский флаг, группа рабочих на тросах подтягивала к потолку хрустальную люстру размером с «КамАЗ». Командовала хрупкая пожилая японка, затянутая в кимоно. Все это было очень интересно, но мы не стали останавливаться, чтобы поглазеть. Нам было некогда. Мы преследовали совсем другую цель.
На третьем этаже остановились возле дубовой двустворчатой двери и Трубецкой со словами: «Ну, Виктор Николаевич, соберись, пожалуйста», — постучал костяшками пальцев. На уровне наших глаз открылось смотровое окошко и раздалось грозное:
— Чего надо?
Трубецкой ответил авторитетно:
— Для господина Ашкенази пакет.
После щелчка дверь распахнулась почти во весь пролет, перед нами стоял господин средних лет респектабельного уголовного вида — в тельняшке, на которую был накинут малиновый пиджак с множеством карманов. Вообще–то такая одежда вышла из моды лет десять назад.
— Давай, — сказал, презрительно цыкнув зубом.
Трубецкой дал ему так, что тот согнулся пополам, но майору показалось мало, и он, перестраховываясь, ухватил детину за уши и пару раз, как вытряхивают половик, шарахнул башкой о дубовый косяк. Пока я обходил поверженного, Трубецкой уже стоял посередине комнаты и озирался. Саквояж оставил у входа, в руке у него, прижатый к боку локтем, был короткоствольный автомат, невесть откуда взявшийся.
— Дверь закрой, — распорядился. — И достань пушку.
Из комнаты, в которой мы очутились — просторной, уставленной дорогой мягкой мебелью, выходили еще две двери, помимо той, в которую мы вошли. Я выполнил распоряжение и по собственной инициативе защелкнул английскую собачку.
Я не очень хорошо понимал, почему Трубецкой ничего не делает, а просто стоит в напряженной позе, будто к чему–то прислушивается в лесу. Хотел даже спросить об этом, но в следующую секунду обе двери резко, одновременно открылись, как от толчка, и в комнату с разных сторон ворвались двое поджарых, каких–то полусогнутых мужчин, паля на ходу из пистолетов. Они целили в майора, и он ответил им тем же: раскрутился спиралью, опоясав себя жужжащим кольцом. Что–то ударило меня по правой скуле, как палкой, и я машинально шлепнулся на пол. Нападавшие тоже попадали, один ткнулся в ковер, будто нырнул, второй замедленно повалился на бок. Трубецкой опустился на колени. Его лицо страдальчески искривилось, плечо под белой рубахой зажглось свекольным костерком. Автомат упал на пол.
Все произошло намного быстрее, чем я пишу — цокающие звуки свинцовой капели, вязкие падения тел, — и мгновение спустя на сцену выступило новое действующее лицо, чернявый громила в строгом вечернем костюме, улыбающийся, с непременным для всех сегодня пистолетом в руке. По мне лишь полоснул косым взглядом, от чего я ощутил легкий озноб, и весело обратился к Трубецкому:
— Ба-а, кого я вижу?.. Ты ли, Вован? Значит, все такой же по–прежнему неугомонный? Ничего, это поправимо… Знаешь, я даже рад, что это именно ты. Если помнишь, за тобой должок?
Трубецкой, сидя на полу и радостно улыбаясь в ответ, потянулся за автоматом. Но чернявый (Мосол, конечно) пальнул навскидку, и оружие Трубецкого, подскочив, отлетело к дивану.
— Не надо, Вова, не напрягайся. — Мосол подошел ближе, поигрывая пистолетом. — Давай лучше поговорим напоследок. Каково быть ягненочком? Непривычно, да?
Трубецкой молчал, улыбка поблекла, казалось, он вот- вот отрубится. Темное пятно на плече сделалось крупнее, расплывалось. Мне было не страшно, а как–то горько. Я понимал, что не успею вытащить пистолет. Мосол хоть и не смотрел на меня, но, конечно, не выпускал из поля зрения. В каждом его жесте чувствовалась звериная сноровка, какой у меня не было вовсе. Спасения нет, какого бы паралитика я ни изображал. Вопрос лишь в том, с кем он разделается с первым.
— Ведь знал, что придешь за сестренкой, — вкрадчиво, ехидно продолжал Ашкенази. — Второй день жду, Вован. Чего ж так слабо экипировался? Привел какого–то ханурика. Или за тобой уже никого не осталось, Вов? Раскусили тебя, да?
Трубецкой молчал, и это, по–видимому, начало раздражать триумфатора. Он придвинулся еще ближе, почти навис над майором. В голосе зазвучало нетерпение.
— Что хочу спросить, Вован, ты зачем дал показания? Надеялся, не узнаю? Карьеру делал, да, Вов? За счет боевых побратимов?
— Какой ты мне побратим? — наконец отозвался Трубецкой. — Ты маньяк и сволочь. Но я тебя не виню. У тебя, Мося, психика разрушенная. Чеченский синдром. Тебе надо к доктору, вдруг подлечит. Можно к Патиссонычу.
Ашкенази ударил его ногой в раненое плечо, отчего майор совсем перевернулся и привалился к стене. Сидел в неловкой позе: одна рука заломлена за спину и весь перекошенный. Но в сознании. В момент удара (или мгновением позже) убийца перевел пистолет в мою сторону, предупредил:
— Не шевелись, сучара!
Как будто угадал мои мысли. Я как раз хотел пошевелиться.
— Ну что, Вован, уважить тебя, а? — опять обратился Ашкенази к Трубецкому. — Все–таки из одного котла щи хлебали. Чего тебе лучше? Пристрелить или ножичком уделать? А могу придушить, как шлюху. Чего выбираешь?
— Надо подумать, — ответил майор, слепо моргая.
— Было бы чем тебе думать, не валялся бы здесь! На кого замахнулся, Вова? Кого хотел наколоть?
— Мося, это беда.
— Ты о чем?
— Медицина перед твоей болезнью бессильна. Поможет только могила.
Хмыкнув, Ашкенази шагнул вперед, но Трубецкой выпростал руку из–за спины и с его ладони, словно луч света, спрыгнул клинок. Ашкенази качнулся в сторону, железо чиркнуло у него возле уха, пронеслось через комнату и вонзилось в перекладину книжного шкафа. Взревев от ярости, Ашкенази прыгнул и замолотил кулаками, как цепями, замешивая майора в кровавое тесто. Бил рукой и рукояткой пистолета, потом, видя, что враг не сопротивляется, наступил ногой на горло, на кадык и начал медленно давить, приговаривая: «Не больно тебе, Вова, не больно? Если больно, скажи»…
Увлеченный расправой, он на короткое время забыл про меня, и я сумел этим воспользоваться. До сих пор вспоминаю об этом с гордостью и уважением к себе. Я оторвался от стены и побежал через комнату (казалось, одолел целую милю), на ходу зацепил со стола бронзовый, массивный подсвечник и, добежав, обрушил его на затылок палача. Ашкенази гулко крякнул и развернулся ко мне лицом. В его глазах сквозило изумление, смешанное с глубокой обидой. Он чудно хватал ртом воздух, словно не находил слов, чтобы высказать все, что думает, о моем подлом поступке. Тем же подсвечником я ударил его в лоб.
Сперва он выронил пистолет, потом, печально закряхтев, разлегся на полу.
Несколько минут я был словно не в себе, отрешенно любуясь делом рук своих, в чувство меня привел голос Трубецкого:.
— Помоги–ка сесть, Витя. — Я оторопело наблюдал, как
из перекореженного туловища высунулась голова и насмешливо сверкнул одинокий глаз.
Я помог. Трубецкой, цепляясь за меня, уселся, оперся спиной о стену. Не мигая, разглядывал лежавшего рядом своего истязателя.
— Он живой, это неправильно, — сказал глухо. — Подай–ка его пушку.
Я подал. Трубецкой поднял руку, будто подтянул каменную плиту, и дважды нажал курок. Наконец–то я воочию убедился, что значит прежде только читаное выражение «снес половину черепа». Зрелище не для нервных любительниц латиноамериканских сериалов.
— Только Лизе не говори, — попросил майор как–то вяло. Он вообще произносил слова затрудненно, возможно, у него была сломана челюсть, а может, обе. Велел достать из саквояжа походную аптечку и, когда я принес, показал, как перетянуть жгутом плечо. Рубашку снял сам. Кровь уже запеклась, не текла. С перевязкой я справился сносно, Трубецкой похвалил:
— Молодец, Виктор. Еще пара ходок, и станешь боевиком. Какого быка завалил.
— Сам удивляюсь, — признался я.
— Что ж, двигаем дальше. Привал окончен.
Я сомневался, что ему удастся встать. Но он проделал это без особой натуги. Стоял, покачивался, привыкал к неустойчивости. Улыбнулся одним глазом (второй не открывался пока).
— Все в порядке, не волнуйся. Минут на двадцать меня хватит.
Лизу нашли, пройдя через спальню, в боковой, освещенной малиновым плафоном комнате, похожей на малахитовую шкатулку, увеличенную в размерах. Она мирно почивала на полосатом поролоновом матрасе, укрытая до талии серым пледом. На полу хрустальный графин, наполненный коричневой жидкостью (квас?), и хрустальный стакан. В спящем лице, в прикрытых голубоватыми веками глазах сосредоточилась вся безмятежность мира, давно отлетевшая от наших палестин. Вздохнув, я опустился на колени и прикоснулся губами к прохладному лбу. Лиза очнулась сразу, обвила мою шею руками и пылко ответила на поцелуй, воскресив в памяти недавние, лучшие времена.
— Родной мой, как я тебя заждалась, — пролепетала едва слышно.
— Вставай, маленькая. — Я бережно разнял ее тонкие руки. — Нам пора идти.
— Конечно, конечно… — Лиза поспешно села — и тут увидела стоящего в дверях Трубецкого. Испуганно ойкнула.
— Володечка, что с тобой? Опять с кем–то подрался?
— Ничего страшного… Поторопись, Лиза. Все расписано по минутам.
…По дому пробирались медленнее, чем шли сюда. Майор был в неважной форме, хотя бодрился. Он с досадой отстранился, когда я попытался его поддержать. Я уже понял, что случай свел меня с человеком редкостной живучести, известной мне лишь понаслышке. После таких побоев и с такой раной я сам, наверное, пролежал бы месяц бездыханный, а Трубецкой передвигался, разговаривал и улыбался почти прежней очаровательной улыбкой. И заботился не о себе, а о нас с Лизой. О Лизе, точнее сказать. Я ему ни сват, ни брат, увы.
Минут пять подождали Лизу у ее комнаты. Она появилась переодетая в дорожные брюки, куртку, с кожаным чемоданом средних размеров. Если сравнивать с нашим первым бегством, то багаж, конечно, пожиже. Я хотел взять чемодан — не отдала.
— Витенька, он легкий, не надо…
У выхода на улицу, возле стрельчатого высокого окна спиной к нам стоял коренастый крепыш со стриженым затылком, одетый в форму десантника. Обернулся на наши шаги — Гата Ксенофонтов. У меня кишки заныли, но ничего особенного не произошло. Нас с Лизой начальник безопасности будто не видел в упор, зато с Трубецким перебросился несколькими фразами.
— Наследил крепко? — хмуро спросил.
— Не очень, но прибраться надо.
— Вижу, что не очень. Иди ляг. Сам провожу.
— Нет. Извини, Гата. Хочу посмотреть, как уедут.
— Ладно… — Тут он изволил наконец заметить меня. —
Видишь, писатель, сколько из–за тебя хлопот добрым людям. Мой совет, никогда не связывайся с миллионщиками.
Лиза за меня заступилась.
— Что вы такое говорите, Гата Анатольевич? Разве Виктор Николаевич мог предположить, что угодит в гадюшник?
Полковник не ответил, опять повернулся спиной: дескать, делайте что хотите, я вас знать не знаю.
В поместье царило оживление, как на огромной стройплощадке. Множество турок–рабочих, переодетых в шотландцев, сновали среди техники: подъемных кранов, грузовиков со стройматериалами, лебедок, фур непонятного назначения. До гаражей было недалеко, метров сто по липовой аллее, но по дороге наткнулись на управляющего, на Мендельсона, выступившего из кустов можжевельника как бы случайно. Вид у него был деловой: очки на лбу, руки в краске. Встреча получилась такой же, как с Гатой, с той разницей, что Осип Федорович из всей троицы выделил как бы одного меня. Вежливо поинтересовался:
— Кажется, опять в добром здравии, Виктор Николаевич? Был слух, приболели? Я волновался.
— Перемогся кое–как… Осип Федорович, что за сооружение вон там, сбоку от бассейна? Чем–то удивительно напоминает виселицу.
— Виселица и есть. В натуральном виде.
— А почему такая большая? Полк можно разместить.
— Американский аттракцион, новинка сезона. Называется «Повесь сам». Никто еще в действии не видел. Говорят, эффектная штука. Для любителей острых ощущений. Вечером подвезут десяток пенсионеров из приюта на пробу. Ежели будет охота, сможете сами опробовать…
Я не понимал, говорит ли он серьезно, но учтиво поблагодарил и сказал, что коли обернусь к вечеру, обязательно для смеха вздерну собственноручно парочку стариканов. Лиза толкнула меня локтем в бок, довольно чувствительно.
В гараже стояло с десяток иномарок разных калибров, от трудяги «фордзона» до темно–вишневого, устремленного в будущее «феррари». Худенький молодой человек в джинсах
и светлой рубашке полировал замшей капот голубого «Ситроена». Увидев нас, засуетился, открыл заднюю дверцу.
— Валера, — представил его Трубецкой. — Довезет до вертолета… Валер, не подведи, вся Европа на тебя смотрит.
Юноша засмеялся, сверкнув ослепительно белыми зубами. Можно сказать, был копией Трубецкого, только пожиже. Не заматерел еще. Трубецкого шатало. Он держался рукой за створку гаражных ворот.
— Давайте, ребятки, с Богом. Когда–нибудь увидимся.
Мне хотелось его обнять, но я лишь осторожно тронул за плечо.
— Спасибо за все, брат. Выздоравливай скорее.
— Не сомневайся… Береги эту куклу.
Я сидел в салоне на заднем сиденье, Лиза все еще прощалась с Трубецким, поднявшись на цыпочки, гладила ладошками его опухшие щеки. Я поймал себя на мысли, что почти не думаю о ней. Какая–то красивая юная девушка, куда–то вместе бежим. От кого? Зачем?
За ворота поместья выехали без проблем. Лиза тихонько всхлипывала, привалившись к моему боку. Чудно. Я опять ничего не чувствовал, как–то внутренне обмерз. Не прочь бы закурить, но лень доставать сигареты. Какая–то вязкая накатила усталость. Как после большой температуры.
Ехали недолго, минут десять, и все лесом. Подмосковный лес полон неодолимого очарования для тех, кто понимает. Европа и Азия тут дышат рядом. Лиза перестала хныкать, спросила:
— О чем думаешь, Витенька?
— Слишком много трупов, — сказал я. — Непривычно как–то.
Она крепко сжала мою ладонь.
Небольшой частный аэродром открылся неожиданно и весь целиком: две взлетно–посадочные полосы — бетонная и грунтовая, домик с диспетчерскими службами, с круглой стеклянной башней, ретрансляторная вышка, радары… На стоянке две «сессны», как уснувшие стрекозы, а чуть поодаль — зеленый вертолет, похожий на земляного жука, размером чуть побольше нашего «ситроена», вероятно, спортивная модель, я в этом не разбираюсь.
Пилота звали Степан Степаныч, мужчина лет около сорока, веснушчатый и курносый. Встретил нас как родных. Они о чем–то коротко пошушукались с водителем Валерой, потом он (Степан Степаныч) помог нам подняться через неудобный люк в салон (?) и усадил на кожаные полу- кресла лицом друг к другу. Отсюда, если вытянуть голову, была видна приборная панель. Зарокотал двигатель, зашуршали лопасти, будто град обрушился на крышу, и мы взлетели. Когда поднялись повыше, началась качка и у меня возникло неприятное ощущение, будто мои хрупкие почки окликают одна другую с целью опять поменяться местами. Наверное, я побледнел, и Лиза мгновенно отреагировала.
— Тебе плохо, да, плохо, Витенька? — В темных очах испуг.
— Ничего не плохо. Так хорошо никогда и не было.
Заглядывала сбоку, стараясь поймать взгляд. Мне это не нравилось.
— Витя, хочешь, скажу что–то очень важное?
— Валяй.
— Трупы, кровь — все это, конечно, ужасно. Но это все позади. Главное, мы вместе. Пока мы вместе, с нами ничего не случится. Ты только поверь в это. Пожалуйста, поверь.
Мне стало стыдно. Балованная девушка, почти ребенок, утешает старого мудака, пытается вселить в него мужество.
— Уверена, что мы поступаем правильно?
— У нас нет выбора… И потом…
— Что потом?
— Не стоит так уж все драматизировать. — Лиза говорила чуть смущенно. — Давай лучше думать, что совершаем свадебное путешествие. Я вот, например, вообще мало путешествовала и всегда об этом мечтала. Ты часто бывал за границей?
— Никогда, — ответил я гордо. — Знаешь, в чем мы с тобой, безусловно, похожи?
— В чем? Оба ненормальные?
— Мягко сказано. Мы для Патиссончика самые перспективные пациенты.
— Ох, не вспоминай о нем.
— Свадебное путешествие. Надо же такое придумать. С таким же успехом приговоренный к повешению может расценивать виселицу как спортивный снаряд для разминки.
— Брр, Витя! Как не стыдно?..
Самое удивительное, что, несмотря на качку и все прочее, мы вдруг одновременно сладко задремали. По–настоящему очнулись уже на земле. Степан Степанович помог нам спуститься (высадились на бетонной площадке, огороженной забором) и самолично на неприметной «Газели» доставил к зданию аэропорта. Здесь распрощались.
Дальше бразды правления забрала в свои руки Лиза. В зале ожидания, в меру переполненном, уселись на скамье неподалеку от окошек регистрации, прямо напротив светового табло с расписанием маршрутов. Наш рейс через два часа — и еще пятнадцать минут до встречи с человеком, который передаст документы. Мы ни о чем не разговаривали, просто сидели рядышком и глазели по сторонам. Я давненько не бывал в международных аэропортах (приходилось иногда провожать или встречать кого–то) и все было мне интересно, в первую очередь — публика. Случайных людей здесь не было, а лишь те, кто так или иначе преуспевал в жизни, плюс аэропортовская обслуга, плюс многочисленные искатели приключений, ворье, бандиты, женщины смежных профессий и еще всякая шушера помельче, которую, впрочем, трудно отличить от обычных пассажиров. Полюбовавшись этим разноголосым и многоликим букетом, я сказал, вздохнув:
— Пойду, что ли, позвоню. Сколько можно откладывать.
— Конечно, — поддержала Лиза. — Все равно это надо сделать.
Дала жетон — и из ближайшего автомата я с первой попытки дозвонился до родителей.
Мамин голос зазвучал так близко, как будто из комнаты в комнату. Ей же, вероятно, напротив, показалось, что звоню с того света, она несколько раз, не веря ушам своим, переспрашивала и окликала:
— Витя, Витя, это ты? Правда ты?!
Потом сразу передала трубку отцу, и по его суровому голосу и по ее заполошности я догадался, что старики успели похмелиться и, значит, у них не так все плохо. Во всяком случае, они пока ведут привычный образ жизни.
— Если бы у тебя, сын, были свои дети, хотя до этого, судя по всему, не дойдет, ты сумел бы оценить свое поведение по достоинству.
По затейливости фразы я легко определил, на какой он стадии — стакан беленькой, не больше.
— Папа, сейчас у меня, к сожалению, нет времени, но…
— Ты хоть знаешь, что нас с матерью чуть не убили? И это при ее гипертонии.
Об этом я знал, но предпочел бы не знать. И не собирался расспрашивать. Все равно что сентиментальный преступник допытывается у своей жертвы о нюансах ее страданий.
— Как вы сейчас, папа? Здоровы более или менее?
— Здоровы? Странный вопрос. С каких пор это тебя интересует?
Я увидел, как мимо Лизы продефилировал импозантный господин в светлом летнем костюме, загорелый, с пузцом — типичный бизнесмен или чиновник среднего звена. Лицо невыразительное, но дающее понять, что его владелец не промах и сумеет отличить фальшивый доллар от настоящего. В руке опять входящий в моду коричневый министерский портфель. Чуть помешкав, господин словно нехотя развернулся и присел на скамью рядом с Лизой. Они о чем–то заговорили. Лиза улыбалась рассеянно.
— Папа, вы меня простите… Я действительно веду себя как свинья, но есть причины, поверь… При встрече все объясню.
— Зачем? Кто мы такие, чтобы объяснять? Старая рухлядь. На свалку обоих, на свалку. Так держать, сынок.
— Папа, я уезжаю в командировку… Может быть, длительную… Звоню с вокзала…
— Напрасно затруднялся. Большому кораблю большое плавание.
— Дам знать о себе буквально через несколько дней…
— Мать бы пожалел. У нее вчера за двести зашкалило. Еле коньяком отпоил.
— Господи, надо было вызвать «Скорую».
В трубке возник мамин голос, чуть пьяненький.
— Витя, Витя, ты где? Приехал бы хоть ненадолго. Мы так ждем, так ждем. Отец места себе не находит… У него бок сильно болит.
Еще секунда, подумалось, и я все брошу и помчусь к ним. Но это будет акт отчаяния и ничего больше.
— Мама, мама, подожди, послушай!.. Я вас очень люблю, очень. Слышишь меня?
— Слышу, заинька, слышу… Приезжай скорее. Пирожков с капустой настряпаю, какие ты любишь…
— Мама, здесь очередь… До свидания, до встречи. Берегите себя…
Я повесил трубку и почувствовал себя так, будто спрыгнул в пропасть, в чернильную мглу. Почки опять затрепыхались, как рыбки в аквариуме. Но длилось это недолго.
Господин уже раскланивался с Лизой, оставив портфель на скамье. Я подождал, пока он уйдет, плюхнулся на его место. Нас разделял коричневый портфель. Никто на нас вроде не смотрел.
— Все в порядке? — спросил я.
— Да. А у тебя?
— Нормально… Если паспорта и билеты в портфеле, наверное, надо достать их оттуда?
— Ты очень умный, Витенька. Я всегда рядом с тобой робею.
Еще могла пошучивать!
Мы нашли укромный уголок в мраморном переходе возле туалетов. Устроились за большой кадкой с фикусом и, открыв портфель, быстро, в четыре руки исследовали содержимое. Паспорта с визами, водительские удостоверения на меня и на Лизу, несколько пластиковых карточек на предъявителя и на Лизу, но не на меня, авиабилеты — все это упаковано в пластиковый пакет с пуговичными застежками. Там же две пачки денег, одна толстенная, с купюрами достоинством в десять и двадцать долларов, вторая, потоньше, с сотенными. Еще — компьютерная распечатка с какими–то адресами, телефонами и именами. Кроме того, туалетные принадлежности, среди которых я обнаружил новенькую электробритву «Жиллет», о какой прежде мог только мечтать, и бирюзовый фен для сушки волос японского производства — истинное произведение искусства. Заботливая, предусмотрительная рука собрала нас в путешествие. Конечно, следовало узнать, кто нас опекает, но это не к спеху.
— Пора делать очередной бросок, — сказал я бодро. — Рейс уже регистрируют.
Бросок прошел без сучка и задоринки. Как нормальные туристы (папа с дочкой или новый русский с эскортни- цей?), заполнили таможенные декларации, потоптались в отстойнике и через час очутились в салоне аэрофлотовско- го «Боинга», в первом классе, где тоже было много для меня нового — кожаные сиденья, в которых можно развалиться, как в гамаке, ковер на полу, чистый, прохладный воздух, живые цветы в вазах, внушительный экран телевизора прямо перед глазами и много еще всяких мелочей, составляющих усладу богатой жизни, не обремененной заботами о хлебе насущном.
В самодовольных лицах, в неспешных движениях немногочисленных пассажиров абсолютная уверенность в том, что все они имеют полное право здесь находиться. Чего я не мог сказать о себе. Я бы не удивился, если бы кто–то из этих господ возмущенно поднялся со своего кресла, ткнул в меня пальцем и потребовал выкинуть самозванца, переселить куда–нибудь поближе к параше. Ощущение для меня отнюдь не новое, да и каждому нормальному руссиянину, у которого не сломана психика, оно хорошо знакомо. Он всегда будет чувствовать себя неприкаянным на чумовом пиру эпохи. Не с того ли денно и нощно бьются в истерике на экране творческие интеллигенты, убеждая друг дружку, как им хорошо, вольготно живется на крысином рынке, ибо они имеют теперь счастливую возможность даже среди ночи выскочить на улицу и раздобыть себе водки и девку…
В отличие от меня Лиза чувствовала себя совершенно естественно, блаженная улыбка не сходила с ее губ.
Едва набрали высоту, худенькая стюардесса, не сказать чтобы хорошенькая, скорее скромных достоинств, но чем- то неуловимо совпадающая с общей атмосферой салона, мило шепелявя, поинтересовалась, не желаем ли мы что- нибудь выпить. Говорила, разумеется, по–английски. Я попросил коньяку, Лиза минеральной воды. Напитки явились мгновенно, коньяк в хрустальной плошке и вода с ледяными пузырьками в высоком бокале с золотой фирменной нашлепкой. На закуску нарезанный лимон на фарфоровом блюдце и коробка шоколадных конфет в виде пурпурного сердца с тем же вензелем, что на стакане. Конфеты — сувенир авиакомпании, пояснила стюардесса. Я тут же ее открыл и съел три штуки, давясь от сладости. Про коньяк скажу: пивали и получше, но сразу поднялось настроение.
— Не пора ли, дитя мое, — важно начал я, затянувшись «Парламентом» — тоже дар компании, — определить конечную цель нашего турне?
Лиза фыркнула, прижалась бедром.
— Что ж, если господину угодно… Сперва отправимся в уютный пансион на улице Пикадилли…
— Знаю, — перебил я. — Там жила Лайза Вайкуле.
— Ваша осведомленность, сударь, поражает девичье воображение…
— А дальше? Поселимся в пансионате — и что? Будем ждать, пока папочка пришлет Абдуллу?
— Ни в коем случае. В Лондоне пробудем не больше трех дней… Чтобы папочка не застукал, придется первое время довольно часто переезжать с места на место, из страны в страну. Беглецы всегда так делают, разве вы не читали в романах?
— Я‑то, допустим, читал, но все это несерьезно.
— Почему, сударь?
Господи, подумал я, заглядевшись, какие бездонные, сумасшедшие глаза!
— Да потому, что в романах правды нет. Я ведь сам ими балуюсь, не забыла?.. Кстати, кто оплачивает наши маленькие шалости? Ведь все это, думаю, стоит кучу денег.
Чуть покраснела, потупилась.
— Конечно, ты должен знать… Витенька, боюсь, будешь меня презирать…
— Ничего, говори.
— Когда я родилась, отец положил на мой счет миллион долларов. Таково было мамино условие, и он его выполнил.
— Миллион? Не верю… Наверное, такой же миллион, как тот, что я спер у Гарика Наумовича.
— Не такой, настоящий. — Лиза вдруг загрустила, отодвинула шторку иллюминатора. Серо–голубая пена облаков ударила в глаза — и я зажмурился. Допил коньяк. Лиза повернулась ко мне. Лицо строгое, как у монахини.
— Но ты правильно делаешь, что не веришь. По условиям контракта я должна получить эти деньги только после замужества.
— Иными словами, никогда.
— Скорее всего, так… Но я поняла это только недавно… Когда ты… Один человек помог. Теперь деньги принадлежат мне. Они в Женевском банке… Правда, не все. За эту услугу он взял с меня двести тысяч.
— Что за человек?
— Банковский служащий… Один из папиных сотрудников…
— Погоди, хочешь сказать… ты сама, одна провернула такое дельце?
— Да, я сделала это, — подтвердила она отрешенно и с мечтательностью во взоре. Сказать, что я был поражен, значит лишь поверхностно определить мои ощущения. Воображая себя писателем, я, как положено, полагал, что разбираюсь в людях, знаю, чего от них можно ожидать, но Лиза в который раз ставила меня в тупик. Интересно, на что еще она способна, если ее хорошенько растормошить?
— Что ж, милая, если так, значит, при всем желании я не могу на тебе жениться. Хоть одной проблемой меньше.
— Почему?
— Есть целых две причины, одна физиологическая, другая моральная. Обе непреодолимые.
— Физическую я знаю. — Лиза подмигнула ободряюще. — Доктор вколол вакцину. Не горюй, Витенька, с этим мы как–нибудь справимся. А если не справимся, тоже не беда. Разве это главное? Может, так даже лучше.
— Намного, — согласился я. — Во всяком случае, спокойнее.
— А моральная какая причина?
— Очень важная. Решат, что я женился из–за денег. Погнался за длинным рублем. Миллион — шутка ли! Подумай сама. Юная миллионерша и непризнанный гений–импотент. Фу, какая пошлятина.
— Не расстраивайся. — Лиза прильнула к моему плечу. — Мы с тобой денежки быстро промотаем.
— Ну, разве что так…
Внезапно — от коньяка ли, от мерного покачивания, от ровного урчания двигателей — накатила неодолимая дрема, как недавно в машине. Веки натурально запорошило песком. Последнее, что я почувствовал, — свою уродски отвисшую нижнюю губу — и попытался закрыть рот… Пробуждение было таким же мгновенным и неожиданным. Будто кто–то толкнул. Лиза дремала, склонив головку на мое плечо. Стюардесса двигалась по проходу с подносом. Ага — вот оно! Через два ряда от нас в одном из кресел расположился плотный, коротко остриженный господин средних лет. Он читал «Коммерсантъ», держа в руке бокал с шампанским. Ничего угрожающего в нем не было, ни в позе, ни в широкоскулом загорелом лице, которое показалось знакомым. Я не мог вспомнить, где его видел и видел ли вообще, возможно, «узнавание» всего лишь плод больной фантазии.
Господин оторвался от чтения и мельком, поверх газеты, коснулся меня взглядом. Тут же спохватился, прихлебнул из бокала и опять погрузился в газету. У меня осталось ощущение, что на лоб прыгнул тарантул, я невольно провел ладонью по лицу.
Нет, друг мой Лизонька, никуда мы с тобой не убежим, подумалось с тоской…
ГЛАВА 32 ГОД 2024. ЭРА ВОДОЛЕЯ
Из аналитической статьи «Рано успокаиваться», опубликованной в газете «Московские ведомости»: «…В очередной раз цивилизованный мир увидел подлое мурло руссия- нина и убедился, что гуманные меры умиротворения не годятся для этой публики. Неслыханный по своей наглости террористический акт в Москве, когда погиб прославленный генерал–миротворец Анупряк–оглы, послужил, вероятно, неким детонатором, давшим импульс целой серии бандитских вылазок в региональных резервациях. Как нам стало известно из надежных источников, особенно щекотливое положение сложилось на северных территориях, как раз в тех местах, где по уверениям записных умников из Евросовета располагалась зона спокойствия и где якобы под заботливым присмотром бургомистров и спецназа проходило успешное вызревание гомо практикуса, то есть человека реального, вполне довольного той нишей, в которой он очутился. Ныне мы стали свидетелями того, как в одночасье развеялся один из самых похабных (не побоимся этого слова) политических мифов. Именно оттуда, из непроходимых чащоб и болот поперли полудикие племена, вооруженные новейшим плазменным и лучевым оружием. Оставим пока в стороне множество болезненных вопросов (в частности, кто снабдил дикарей современной техникой и как могло случиться, что космическая разведка с ее пресловутым «недреманным оком» проморгала столь большое скопление агрессивно настроенной протоплазмы?), попробуем ответить на главный: имеется ли у руссиянской проблемы какое–то приемлемое решение, кроме нулевого варианта? На взгляд автора этой статьи, вопрос, разумеется, чисто риторический. Достаточно прикинуть, в какую копеечку влетел только этот один «локальный» конфликт мировой казне. Конечно, если у транснациональных корпораций не пропала охота без конца закачивать денежки в так называемые гуманитарные прополки, это их дело, но проблема значительно шире и не упирается только в материальные издержки. Если бы так! Не будем забывать, что на сей раз, против обыкновения, дикари отказались принимать акции возмездия со смирением и благодарностью, напротив, оказали злобное сопротивление. К сожалению, мы не располагаем полной информацией (вот они, двойные стандарты демократии), но смеем предположить, что и с нашей стороны потери весьма ощутимы. Не случайно по Интернету разнесся слух, что чуть ли не половина миротворческого корпуса бесследно исчезла в гибельных радиационных руссиянских лесах. Пусть это провокационное преувеличение, суть не в этом. Представим себе на секунду безутешное горе матери где–нибудь в штате Айова, которой сообщили, что ее любимый единственный сын, на которого возлагалось столько надежд, сбит над муромскими болотами и его благородные останки съедены озверевшими туземцами. Не худо бы услышать ее мнение о себе всем этим высоколобым политикам, витийствующим с высоких трибун Евросовета о праве каждого человека на самоопределение и о прочей чепухе, не имеющей отношения к делу. Пусть ответят на прямой и честный материнский вопрос: а где вы видели в России людей, господа умиротворители?..»
* * *
Первое, что вспомнил Климов, когда очнулся, были глаза генерала Анупряка–оглы, потянувшегося за пустышкой, бессмысленно алчные, отливающие глянцевой желтизной, словно два жучка, высунувшихся из навозной кучи. Следом пришла мысль, что этого не может быть. Человеку, перенесенному, как он, в иные кущи, не могут столь отчетливо являться земные видения. Это противоречило знаниям, которые он впитал на Марфином подворье.
Еще через некоторое время он убедился, что живой. Такой же живой, каким был раньше, разве что обожженный, переломанный, слепой и глухой. В этом была какая–то ошибка, грозившая, возможно, непредсказуемыми последствиями.
Вскоре выяснилось, что слепота и глухота тоже мнимые. Осторожно приоткрыв глаза, он поднял над головой левую руку: безусловно, это его рука, посиневшая, распухшая, со скрюченными пальцами, но его — и он ее видел во всех подробностях. Вдобавок слбплал невнятные звуки, доносившиеся отовсюду и напоминавшие обрывки человеческой речи.
Он огляделся, с трудом, с болью поворачивая шею, и обнаружил, что лежит в меблированной комнате с одним окном, занавешенным веселенькими голубыми шторками. Прямо перед ним телевизор на объемной подставке, чуть подальше дверь. Возле кровати лакированный столик, на нем графин с водой и стакан. Одна стена заставлена стеллажами с какими–то приборами, по первому взгляду медицинского назначения. Кроме того, за изголовьем возвышается агрегат, подозрительно напоминающий те, которые на прививочных пунктах используют для перекачки крови аборигенам. Еще в комнате два стула, обитых кожей, и обыкновенный стол с четырьмя ножками — пластиковая подделка под дерево.
Если это мираж, подумал Митя, то уж слишком достоверный.
Ему не пришлось долго гадать. К ушным раковинам были подсоединены датчики и, вероятно, через них прошел сигнал о том, что он в норме. Дверь открылась, вошел высокий мужчина в белом халате. С ним девушка неописуемой красоты, очевидный биоробот. Врач (?) повел себя так, словно увидел дорогого человека, вернувшегося с того света. Радостно бормоча: «Ну и хорошо, ну и славненько…», он уселся на стул, взял Митину руку, погладил, проверил пульс, чтобы убедиться в случившемся чуде. Биоробот за его спиной тоже что–то счастливо кудахтал.
Как можно более нейтральным тоном Митя спросил:
— Позвольте узнать, где я нахожусь?
— О да, конечно… Частная клиника Зельдовича, — с гордостью ответил доктор. — Меня зовут Меркурий Гнедо- вич, лечащий врач, к вашим услугам… И сразу могу вас, Саша, успокоить, все неприятности позади. Авария ужасная, но вам, можно сказать, крупно повезло. Никаких серьезных повреждений внутренних органов, в основном ожоги. Третья степень, это не страшно. Еще две–три пересадки — и станете как новенький.
— Сколько времени я… отсутствовал?
— Около месяца, то есть в пределах допустимого. — Меркурий Гнедович снова завладел его рукой, а девушка наполнила стакан коричневой жидкостью. Следующий вопрос не следовало пока задавать, но Климов не удержался.
— Кто я, Меркурий Гнедович?
— Ах, это… временная постшоковая амнезия, скоро пройдет… Вас зовут Александр Проклович Переверзев, что- нибудь говорит это имя?
— Нет, провал… Вы египтянин?
Доктор приятно заулыбался исчерна–смуглым лицом.
— Многие так думают… Представьте себе, натуральный англосакс. Саша, вам не о чем беспокоиться. В нашей клинике к представителям руссиянской знати относятся точно так же, как к полноценным гражданам. Ни намека на дискриминацию. Тем более если речь идет о сыне господина Переверзева. Признаюсь по секрету, я многим обязан вашему батюшке… Ну–ка, Саша, выпьем стаканчик этого замечательного витаминного морса…
Стакан был уже около его рта, девушка заторможенно светилась улыбкой.
— Гомо или робот? — уточнил Митя.
— Ага, засомневались?.. Последняя конструкция, замечательный экземпляр. Абсолютно адекватное эмоциональное наполнение, стопроцентная гарантия стерильности… Кстати, в обязанности милого монстрика входит оказание сексуальных услуг. Вы, Саша, правильно прореагировали. Правда, сейчас рановато, но через недельку… Уверяю вас, попробуете, не оторветесь.
Доктор любовно огладил тугой круп медсестры, девушка содрогнулась в эротической конвульсии. Стакан с питьем заколебался в нежной, золотистого оттенка руке.
— К сожалению, ваш батюшка сейчас в отъезде, но через день–два вернется. Вот будет ему радость… Пейте, Саша, не бойтесь. В клинике Зельдовича не экспериментируют с ядами…
Не надо бы так нагло врать, подумал Митя, но выхода не было. В два–три больших глотка он осушил стакан — и тут же почувствовал, как по жилам прокатился прохладный огонь, сладко закружилась голова. Последний глоток не достиг пищевода, а он уже крепко спал.
* * ★
…Он еще несколько раз просыпался то в операционной, то в палате, то в сортире, но сознание окончательно прояснилось лишь в тот день, когда медсестра Зуля вывезла его на коляске в больничный садик, под хмурое октябрьское солнышко. Пожалуй, Митя мог бы уже передвигаться самостоятельно, но в клинике Зельдовича почетных клиентов полагалось прогуливать на хромированной коляске с позолоченными ободами — дань прелестной старине. С прекрасной Зулей можно было разговаривать о чем угодно, усладительное занятие для любителей кроссвордов и шарад. У нее был сверхэротический, выверенный на мегакомпьютере тембр голоса, а ответы всегда непредсказуемые.
Митя настроился поболтать с ней, но не успел. Едва добрались до больничного пруда с голубыми карасями, как в конце аллеи показался статный, в модном длиннополом плаще мужчина и направился к ним. Дождя не было, но мужчина держал над собой раскрытый зонт алюминиевого цвета, отражатель радиации. Ходить по городу с таким зонтом было тоже привилегией далеко не для всех.
Митя узнал посетителя издали — Деверь собственной персоной. Наступил момент истины, но Митя ничем не выдал волнения. Собственно говоря, никакого волнения он не испытывал, но что–то засосало под ложечкой, как перед прыжком с трамплина в бассейн без воды.
Деверь, приблизившись, широко раскинул руки и радостно загудел:
— Саша, сынок, друг ситный, дай прижать тебя поскорее к любящему отцовскому сердцу!
Климов соскользнул с коляски, стоял, покачиваясь. Его поразили крупные, натуральные слезы в карих глазах Деверя. Лицедейство высшего класса. Но и сам Митя не ударил в грязь лицом. Погрузившись в могучие объятия, растроганно бормотал:
— Папочка, любимый! Как мне плохо без тебя!
Медсестра Зуля булькала что–то рядом, подстраивая записывающее устройство. Деверь избавился от нее элементарно.
— Что такое, прекрасная дева? — обернулся он к ней раздраженно. — Разве не видишь, нам нечем отметить долгожданную встречу? Ну–ка, быстро за водкой!
— За водкой? — растерянно переспросила медсестра.
— Ах да, извини, — поправился Деверь. — Принеси нам по банке эликсира счастья. Но гляди, не паленого, а то все твои полупроводники раскурочу.
Девушка умчалась, двигаясь с грациозностью балерины, Митя вернулся в коляску, Деверь устроился на краешке мраморной скамьи, развернув и подстелив под себя пластиковый электрообогреватель.
— А как ты думал, — ответил он на немой Митин вопрос. — Годы не тетка. Приходится здоровье беречь.
— Можно говорить, отец?
— В принципе да. У Зельдовича — наша территория. Но сперва послушай меня, так выйдет быстрее. Тебя хлопцы вытащили чудом с площади. Но Мити Климова, сам понимаешь, больше нет и не будет. Он мертв. Он — трагический символ сопротивления и таким, надеюсь, останется в веках. У тебя теперь все другое — имя, отпечатки пальцев, стадный номер регистрации… Комар носа не подточит, говорю с удовлетворением. Ты — Саша Переверзев, мой законный сын от первого брака. Поздравляю от всей души. С подробностями своей биографии познакомишься позже… Теперь давай вопросы, но в темпе. Время не ждет.
— Значит, все было напрасно?
— Ах, вот что тебя беспокоит, понимаю… Нет, я бы так не сказал. Это ведь всего лишь проба сил. В главном она удалась. Лес распрямил свои кроны. Но есть и просчеты, иначе не бывает. Никто не рассчитывает на легкую победу. Национально–освободительная борьба иногда длится веками. Вспомни Индию или Китай. Запомни, сынок, жертвенная кровь никогда не бывает напрасной. Выкинь это из головы.
— Какая жертва, если я перед вами?
— В том, что ты живой, твоей вины нет. И потом, повторяю, это не ты. Завтра принесу «Теорию перевоплощения» Исидора Губкина. Поднаберешься ума. Читать не разучился?
— Не знаю, давно не пробовал.
— Это надо быстро поправить. Входи в образ. Мой сын без книги спать не ложится. Ты — интеллектуал, по убеждениям — матерый глобалист–рыночник. Потомок славного рода знаменитых купцов Переверзевых из Забайкалья. Все предки поголовно сгнили в сталинских лагерях. Ничего, наставники натаскают, но времени в обрез. Не больше трех недель.
— А потом что?
— В дорогу, Саша, в дорогу. Отправишься на стажировку в Штаты как полномочный представитель компании «Оникс–петрониум». Это многих славный путь. Пройдешь полный зондаж с блокировкой подсознания. Если справишься с тестами, не засветишься, дадут туземную лицензию на коммерческую деятельность. Хватит прятаться за па- почкину спину. Пора становиться болванчиком с индивидуальной пресс–картой.
— Думаете, получится? — усомнился Климов.
Поймал во взгляде Деверя чудный свет. Свет глубинного родства, теплый, живительный, целебный.
— У тебя все получится, сын. — Голос Деверя непривычно дрогнул. — Впереди большие дела. Кудесница в тебе не ошиблась… Кстати, ты так и не рассказал, как она выглядит? Я ведь до сих пор думаю, Марфа — это нечто вроде древнего мифа о Белом озере. В реальности ее нет.
— Она есть, — уверил Климов и положил руку на грудь. — Она здесь.
— Все, все, — заторопился Деверь. — Кончаем базар. Вон твоя красавица спешит с угощением.
Зуля прибежала запыхавшаяся, раскрасневшаяся — действительно безупречная имитация живых тканей, причем в совершенной форме. Принесла оплетенный кувшин, серебряные стаканчики и пакет с ярко–оранжевыми апельсинами. Два стаканчика, не три.
— А себе? — удивился Деверь. — Разве не составишь нам компанию, красна девица?
Зуля смущенно моргала, в светлых глазах тлели смоляные зрачки. Если себе представить воплощенную добродетель, осколок минувших, первоначальных времен, — то вот она, соблазнительная и доступная.
— Мне нельзя, добрый господин, — прошептала застенчиво. — Я на работе. Только по разрешению Меркурия Гне- довича.
— Хорошо, считай, я с ним договорился… — Деверь наполнил стаканчики золотистой жидкостью из кувшина, протянул один Климову, второй Зуле. — Ну–ка, молодежь, примите во славу демократии, а я уж по–стариковски за вами.
Медсестра еще поманерничала, оглянулась по сторонам — садик пустой, — лихо опрокинула стакан, как водичку сглотнула. И синяя жилка на стройной шее запульсировала. С благодарностью поклонилась, вернув стакан Деверю.
Митя тоже выпил — и сразу понял, что никогда прежде не пил настоящую водку, пробавлялся исключительно суррогатом. В груди огонь и по затылку будто шарахнули кулаком. Куда там витаминному морсу. Опасался, кинет в сон — ничего подобного. Напротив, день посветлел, хотя солнышка нет на небе.
Выпил и вторую — уже вместе с Деверем. И тут же он стал прощаться. Митю обнял, потерся лбом о его лоб, Зулю ущипнул за бочок дружески.
— Приглядывай за сыном, сестричка. Он один у меня — надежда и гордость.
— Я вся в его власти. — Зуля срывающимся голосом искусно имитировала опьянение. — Господин бездействует.
— Напрасно, сын, — усмехнулся Деверь. — Попользуйся, пока есть возможность. Экспериментальная штучка. Клинике обошлась почти в половину лимона. Стоишь таких денег, красотка?
— Я ничего не стою, — промурлыкала Зуля. — Я вся ваша даром.
Через день Климову делали последнюю пересадку кожи. Его перестали накачивать снотворным, и он был в ясном сознании. Оперировал Меркурий Гнедович, биомедсестра, как обычно, ассистировала. Операционная была ярко освещена фитолампами с излучением обезболивающих ароматов. Доктор за работой без умолку молол языком. Хвалился успехами, какие сделала косметология буквально за последние годы. Революция, как и во всей медицине, началась с того дня, когда мировым декретом было разрешено повальное клонирование человека. Труднее всего оказалось — наверное, Саша помнит, — преодолеть тупое сопротивление мечети и православной церкви, оказавшихся в конечном счете главными барьерами на пути прогресса. Решить дело миром, как известно, не удалось, хотя предпринимались самые доброжелательные попытки урезонить священнослужителей, боровшихся, понятно, не за архаические нравственные устои и маразматические заповеди, а за ускользающую власть над человеческими душами, дающую возможность контролировать и тратить колоссальные средства. Наконец мировое правительство вынуждено было принять единственно верное, судьбоносное решение: обе религии были запрещены по закону и отныне их адепты и последователи приравнивались к террористам, коммунистам, фашистам, скинхедам и двухголовым мутантам, расплодившимся на острове Пасхи.
— И вот вам результат, Саша, — радостно приговаривал доктор, лепя Климову на поясницу лоскут желтоватой, свежей, только что из раствора, его собственной кожи. — Десять лет назад вы с такими ожогами пробултыхались бы сутки–двое в тубе с эмульсией — и поминай, как звали. А теперь выйдете от нас новенький, как отполированный доллар.
— Эй, осторожней там, — недовольно пробурчал Климов, лежавший неудобно на боку. — Все–таки не скота кромсаешь.
Доктор замер в изумлении, растопырив руки. Зуля, расценив паузу по–своему, заботливо промокнула ему лоб чистой марлицей.
— Ну–ка, ну–ка, — возбужденно крякнул доктор. — Повторите, Саша, что вы сказали?
— Не нукай, не запряг, — отозвался Климов. — За такие башли, какие батяня отстегивает, мог бы, говорю, поаккуратнее штопать, козел.
— Вот! — торжественно провозгласил Меркурий Гнедо- вич. — Кажется, мы имеем случай мгновенной стабилизации подсознания. Но что меня больше всего восхищает, так это стойкость адаптационных реакций у руссиянских особей.
— Меркурий, никак обидеть хочешь? — угрожающе заметил Климов.
— Упаси Бог, Саша, упаси Бог! Напротив, благоговею. Посудите сами, за двадцать–тридцать лет в России будто несколько эпох переменилось, от прежних обычаев ничего не осталось, население сократилось на две трети, и только бизнес–класс сохранил стиль поведения и даже особенности речевого сленга. Поразительно устойчивое сословие. Ничто его не берет.
— Короче, Меркурий, — раздраженно бросил Климов. — Кончай грузить, принеси лучше мобилу, надо батя- не звякнуть.
— Значит, вспомнили, кто вы такой и что с вами случилось?
— Тебе интересно, да?
— Ну… как лечащий врач…
— Как лечащий врач в натуре… не зарывайся. Давай мобилу, сказано тебе.
…Через час Климов сидел в палате возле зеркала и внимательно разглядывал свое новое лицо. Еще на нем горели свежие рубцы и штопка, особенно от висков к шее, но уже видно было, что это чужой. Сухие, обветренные, незнакомые черты. Ничего родного, внятного. В глазах лихорадочный блеск. Мать родная не узнает, а есть ли она у него? Когда–то, сто лет назад, были и мать, и отец, совковое отродье, не вписавшееся в рынок, зачем о них помнить.
Труднее с рыжей «матрешкой». Она то и дело, в самую неподходящую минуту, возникала в сознании, то птичьим окликом, то незримым прикосновением, погружающим в головокружительное забытье. Это мешало полному преображению, от ее присутствия следовало избавиться в первую очередь.
Климов покосился на медсестру, застывшую у двери в позе послушания. Белый халатик обтягивал стройные фор
мы, казалось, стоит голяком. Для верности Климов осушил стакан водки из плетеной бутылки.
— Раздевайся и ложись, — распорядился равнодушно. — Поиграем в секс.
— О–о–о, — простонала Зуля, летя к нему, как на крыльях. — Неужели созрел, любимый?!
Но он ничего не почувствовал, держа в руках, ощупывая, тиская дрожащую, наэлектризованную горячую плоть. Тормозило где–то в мозжечке. Климов растерялся.
— Эй, подожди. — Он отстранил извивающуюся куклу. — Не спеши, не на скачках. Умеешь стимуляцию делать?
— О, конечно, любимый, конечно… Ляг на спинку, расслабься, ничего не бойся. Будет немножко больно, потом сладко, душевно…
Обманула озорница: больно было, но не сладко. Хотя все в конце концов получилось: тупое техническое соитие, еще тягомотнее, чем с рублевыми «давалками» на вокзалах в прежние счастливые времена. Но Климов знал, через это необходимо пройти. Вживайся в образ, распорядился Деверь. Это означало, что надо покончить с призраками прошлого, каким бы плохим или хорошим оно ни было. В стерильную Америку со стерильной душой…
Зуля дергалась в конвульсиях, выдавливая из него последние капли, а Климов уже потянулся за бутылью. По бледному лицу блуждала идиотская улыбка.
— Доволен, доволен, любимый? — обеспокоенно лепетала медсестра.
— Качественно, — сквозь зубы одобрил Климов. — Но есть претензии. Чересчур активно подмахиваешь. На быках тебя, что ли, учили?
— Поняла, поняла… Хочешь, повторим?
— Заткнись и прикройся. Беги за бутылкой, пустая, не видишь?
Красавицу будто вымело из комнаты, Климов лег на пол и несколько раз со всей силы постучал о паркет головой. Остался удовлетворен: голова была как чугунная гирька.
ГЛАВА 33 СМЕРТЬ АГЕНТА
Опасаться, дрожать за свою жизнь — стыдно. Невелика ценность. Я всегда это понимал и всегда дрожал. Бывало, занозишь палец — и мчишься делать укол от столбняка. Или прихватит живот, поднимется температура — и всю ночь преследуют кошмарные видения чумы, холеры, СПИДа и клещевого энцефалита. К неполным сорока годам я переболел, в сущности, всеми видами рака, и кончилось тем, что сердобольный доктор в районной поликлинике вписал в медицинскую карту окончательный диагноз: канцерофобия (читай — идиот!). Помню, татарка Эльвира, бывшая супруга, посмеивалась надо мной: «Витя, что у тебя такое на щеке, Боже мой!» Я хватался за щеку, хмурился: «Как что? Обыкновенный прыщик». — «Какой же прыщик, когда натуральный шанкр бытовой. Немедленно в больницу. Доигрался, негодяй!»
Ей спешки, а я попадался на удочку, страдал, маялся, пока прыщ не исчезал. Может, и сочинительством увлекся отчасти гит му, что смекнул: в придуманном мире я сам могу расг/оряжс', ы г персонажами как в голову взбредет, казнить и миловать п собственному усмотрению. И уже в первом романе (неизданном) на этом прокололся: один полюбившийся мне герой зажился до 250 лет, перенес восемь инфарктов, ампутацию ног, геморроидальную лихорадку, заворот кишок и прочее, а я все никак не мог с ним расстаться.
Полюбив Лизу, я понял, что все прошлые щенячьи страхи не идут ни в какое сравнение с черной тоской, охватывающей при мысли о беззащитности дорогого существа, о хрупкости, краткосрочности ее легкого, веселого дыхания.
Мы сидели в номере двухэтажного особняка пансионата мадам Чарльстон, в котором было две комнаты, гостиная и спальня, в Лизином номере, мой, точно такой же, следующий по коридору. Пили белое вино из высокой бутылки, закусывая персиками. Шли третьи сутки нашего пребывания в Лондоне. Мы успели пошататься по городу, полюбоваться ихними красотами и сделали еще одно важное дело: Лиза чуть ли не принудительно затащила меня в частную клинику, где мне провели экспресс–обследование — рентген, УЗИ, анализы, сканирование… Врач, пожилой англичанин, сухонький, любезный, внимательный, похожий на рано постаревшего мальчика, разглядывая снимки, уважительно цокал языком. Сказал, что первый раз видит, чтобы удаление камней делали таким образом, сразу из двух почек. Он считал это рискованным, но отметил, что русские врачи справились с задачей превосходно. К слову сказать, состояние почек, как и всех остальных внутренних органов, волновало меня куда меньше, чем в былые годы заноза в пальце, чему я сам удивлялся. Лиза восхищалась моим мужеством.
Попивая винцо, мы увлеченно обсуждали, как поутру ловчее добраться до Хитроу, откуда нам предстояло чартерным рейсом перелететь в Стокгольм. Из Швеции, если наши планы не претерпят изменений, мы должны попасть через сутки в Сантьяго, столицу Чили. Этакое детское запутывание следов доставляло Лизе огромное удовольствие. Я ей подыгрывал. Предлагал переодеться ей в мальчика–не- смышленыша, а мне — в толстую беременную тетку. Тогда уж точно нас никто не узнает и преследователи отвяжутся. Идея ей понравилась, особенно то, что я буду беременной теткой, но в ней был один изъян — несоответствие с документами.
— И потом, — Лиза все еще обдумывала детали возможного маскарада, — чтобы выглядеть мальчиком, придется подстричься. Разве тебе не жаль мои чудесные, восхитительные волосы? Погляди?
Она забрала в руки темно–пепельную густую волну и сбросила себе на плечи. Кокетничала с упорством опытной женщины, взгляд глубок и откровенен; у меня запершило в горле и сердечко заныло.
Я ничего не сказал ей о пассажире в самолете, показавшемся знакомым. Когда ехали на такси из аэропорта, никто вроде за нами не следил, не сидел на хвосте. Я было успокоился, но зря. В течение двух дней плотный господин с коротко, по–спортивному, остриженной тыквой мелькал в поле зрения еще три раза. Первый раз, когда ужинали за общим столом в пансионате, он возник возле ажурного забора, стоял у ворот и тупо разглядывал дом. Я увидел его через окно. На нем была кожаная куртка. На голове черный берет. Обознаться я не мог хотя бы потому, что возникла странная ассоциация с покойным Гарием Наумовичем. Я расплескал ложку супа на скатерть, смутился, начал извиняться (кроме нас, за столом сидело еще пять человек), а когда поднял глаза, господин уже исчез. Лиза посыпала пятно на скатерти солью, чем выдала свою генетическую принадлежность к руссиянам.
Второй раз — сомнительный. Мы посетили знаменитый музей мадам Тюссо (как же без этого), и в какой–то момент мне померещилось, что одна из восковых фигур, стоящая вполоборота, вдруг сдвинулась с места, заслонилась газетой «Коммерсантъ» и нырнула, согнувшись, в боковую дверь. Я спросил Лизу: «Ты видела, видела?» — но она не поняла, о чем я. Подумала, что имею в виду Адольфа Гитлера, и пожаловалась, что даже восковое воплощение величайшего безумца двадцатого века вызывает у нее ужас.
Третий раз — в клинике, где делали обследование. Мы уже спешили к выходу, пересекли большую приемную, где в креслах дожидались вызова несколько пациентов, и среди них, голову дам на отсечение, опять стриженый — и все с тем же зловещим номером «Коммерсанта», но на сей раз перевернутым вверх ногами.
После этого я дал себе слово, что в следующий раз, когда увижу преследователя, обязательно подойду к нему и спрошу, чего ему надо. Мне действительно было любопытно, какое у него задание: ухлопать нас с Лизой при первой возможности или просто отследить наш маршрут до его конечной точки. Вообще интересно, каковы планы у Оболду- ева относительно непослушной дочери и беглого литератора, сбившего ее с праведного пути? Сколько он отпустил нам времени погулять на воле? День, месяц, год?
— О чем думаешь, Витенька? — озаботилась Лиза. — Тебе персики не понравились?
— Не нравится бессмысленность всего, что с нами происходит, — ляпнул я неожиданно для себя, и увидел, как сразу потускнел ее ликующий взгляд. Заговорила она мягко, ублажающе, как с неразумным меньшим братом, только что не гладила по головке, а главное — чудно! — как раз о том, о чем я недавно думал.
— Не говори так, Витенька, это все от страха. Мы оба трусим, и ты, и я. Мне тяжело не меньше, чем тебе, ведь я потеряла отца, подумай…
— Почему же… Леонид Фомич жив, здоров и, надеюсь, как всегда, благополучен.
— Нам страшно, Витенька. Всем людям в нашем положении было бы страшно. Но это скоро пройдет. Когда избавимся от этого мерзкого страха, все переменится и начнется новая прекрасная жизнь. Иначе быть не может. Вот увидишь. Новая, таинственная, счастливая жизнь… Жалко, конечно, что ты не говоришь, как любишь меня. Но это тоже ничего. Когда–нибудь скажешь…
— Господи! — воскликнул я будто в забытьи. — Неужто ты это всерьез? Да зачем я тебе нужен такой? Ты хоть даешь себе отчет, что твой избранник весь состоит из одних обломков? У тебя же есть глаза. Протри их получше.
— Ты мне нужен, нужен, — ответила она с маниакальной убежденностью, — потому что ты лучше всех. В тебе мое счастье.
— Ох, — сказал я.
— Ух, — передразнила Лиза.
…Как она ни уговаривала остаться с ней на ночь, уверяя, что не будем заниматься глупостями, а только тихо полежим рядышком до утра и, если Господь пошлет, увидим один и тот же сон, как бывало в Горчиловке, когда мы частенько путали, где сон, где явь, — как ни уговаривала, около одиннадцати я вернулся в свой номер. Но пробыл там недолго, только сделал некоторые приготовления. Я уже знал, что предпринять — и в эту ночь, и в последующие дни. Был лишь один способ сорваться с крючка, довольно опасный и сложный, но попробовать стоило.
Из дома шагнул под звезды, жадно, словно на прощание, вдыхая влажные ароматы ночного сада. Для руссияни- на весь мир дом, и весь мир — могила, это известно, но в призрачном сплетении дерев, в колющем электрическом полумраке, в хрусте гравия под ногами я словно почувствовал что–то родное, привнесенное с родины. Калитка в металлических воротах отпиралась простым нажатием пальца — и я незаметно выскользнул на улицу. Единственная машина в тихом переулке — горбатый «бьюик» — притулилась под вязом, свесившим голову из палисадника; я не сомневался, что стриженый господин, подогнавший «бьюик» часа четыре назад (я засек его из окна), как сидел в нем, так и сидит.
Так и оказалось. Через темные стекла ничего не разглядишь, но я подергал ручку задней дверцы, она открылась, я забрался внутрь, — и тут же на передней панели зажглись сочно–бордовые лампочки, не то чтобы осветившие салон, но разогнавшие мрак. Хозяин машины расположился на переднем сиденье вполоборота ко мне. Лица не разберешь, но видно, что насупленный.
— Нагловато себя ведете, любезный, — пробурчал он. — Нарушаете право частной собственности.
— Кто вы такой, черт побери? Почему нас преследуете?
Незнакомец удивленно хмыкнул, протянул сигареты.
— Закуривайте, раз уж вломились.
— Я спрашиваю, кто вы такой?
— Ох, как грозно, жуть берет… Да вы, наверное, сами обо всем догадались, Виктор Николаевич.
— Я, может, и догадался, а вы будьте добры ответить.
М>окчина, видя, что не беру сигарету, закурил сам. Щелкнул зажигалкой, на миг осветив толстые губы и скулы, как у бульдога.
— Экий вы беспокойный, Виктор Николаевич… и что вам не спится с юной кралей… А что вы, собственно, хотите услышать?
— Кто вас послал? Зачем?
— Несерьезный вопрос. У нас у всех хозяин общий. Не к ночи будь помянут.
— И что он вам поручил?
Мужчина поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Затянулся сигаретой. По тону чувствовалось, что разговор доставляет ему удовольствие.
— Наивный вы человек, Виктор Николаевич. Неужто все писатели такие? Кто поручил, зачем следите?.. Вы на что же надеялись? Натворили таких дел и гуляй, Витя, по белу свету вольным соколом? Нет, дорогуша, так не бывает. Не по масти сыграл.
— Если все так просто, почему выпустили из России? Почему там не разобрались?
— Я, как и ты, Витя, человек маленький, подневольный, в тонких материях не разбираюсь. Но по своему разумению ответить могу. Когда–нибудь видел, как кошка с мышкой играет? Никогда ведь, стерва, сразу не придушит. Медленно убивает, помучает сперва. В этом самый кайф. Наш хозяин все предусмотрел, и этот разговор тоже. — В его голосе зазвучало восхищение. — На длинный поводок посадил. Каприз владыки.
— И что потом?
— Ничего… Утром в Хитроу сдам вас по цепочке — и беги дальше, Витек, пока ноги держат… Ха–ха–ха!
Смех был искренний, дружеский, как у человека всем довольного и расположенного к людям.
— Дай покурить, — попросил я.
— Вот и правильно, покури, чего кочевряжиться…
Дымили молча. Мне было о чем подумать. Но и ему, как оказалось, тоже.
— Слышь, Витек, не обидисси, если спрошу?
— Ага.
— Как девку ублажаешь? Гутарили, вроде тебе инъекцию сделали противомужицкую? Или набрехали?
— У тебя что, тоже с этим проблемы?
— Не-е, ты что?! Да я пять телок подряд обслужу на едином дыхании. Просто так интересуюсь, для общего развития.
— Тебя как зовут?
— Какая разница. Все одно больше не увидимся.
— Тоже верно… Не хочешь по рюмашке хлопнуть? Тут есть бар за углом, я днем приглядел.
— Почему нет, — охотно согласился безымянный. — Но с условием. Платишь ты, Витек. У меня с наличкой облом.
— Какой разговор, брат.
До бара действительно рядом, но почти квартал проехали, чтобы найти, куда приткнуть машину. Наконец, свернув в боковую улочку, втиснулись между «джипом» и крытым молочным фургоном. Местечко укромное, лучше не придумаешь. Напротив какого–то продолговатого одноэтажного здания, похожего на конюшню. На здании светилась изогнутая в полукольцо неоновая вывеска.
Пока ехали, я достал из–за пояса джинсов тяжелую штуку, доверительно врученную Трубецким и до сих пор еще не нашедшую применения. Забавно, с этим черным пистолетом и на том же самом месте, на пупке, я играючи проскочил обе таможни. Понимаю, не всякий поверит, но это так. Риск был неосознанный. Благодаря уже, видимо, хроническому помутнению мозгов, в Шереметьево‑2 я вспомнил о пистолете лишь в тот момент, когда шли на посадку, в помещении, где пассажиров пропускают через металлоискатель. Засуетился, решил, вот и конец путешествию, покрылся испариной, но там скопилось много народу, и пожилой погранец, видно утомленный ловлей террористов, раздраженно сделал отмашку мне и еще кому- то: дескать, не путайтесь под ногами, давайте сюда — и чуть ли не в спину протолкнул мимо ловушки. В Англии получилось хитрее. Я намеревался избавиться от пистолета в самолете (может, запихнуть куда–нибудь в сортире — или спрятать на полке), но заспался — и когда спохватился, было уже поздно, самолет шел на посадку. Пришлось шепнуть Лизе, что у меня под рубахой контрабанда. Какая, спросила. Я ответил, добавив, что пистолет не мой, Трубецкого, не успел вернуть. Ничуть не растерявшись, Лиза пододвинула свою довольно вместительную дамскую сумочку: положи сюда! Я запротестовал, но Лиза строго сказала: «Клади, я знаю, что делаю».
Улучив момент, когда никто не смотрел, я запихнул пистолет в сумочку и задернул молнию.
Как Лиза пронесла пистолет, толком не проследил. Но, видимо, выручил встречающий нас господин с рыжими усиками и с черной шевелюрой. Он, по всей видимости, обладал какими–то особыми полномочиями, встретил нас возле трапа. Лизу узнал, и она его узнала, они даже обнялись. Меня Лиза не представила, показала глазами, чтобы следовал за ними. Этот господин и провел ее через таможню, сверкнув каким–то документом в открытой ладони — международный, оказывается, жест. Он же посадил в машину, которая доставила нас в пансионат, но сам с нами не поехал. Позже Лиза объяснила, что это один из давних знакомых ее семьи. Я не стал выяснять, какой семьи и чей знакомый, меня это, честно сказать, мало волновало. К этому времени у меня уже выработался стойкий рефлекс, который можно назвать «уклонением от избыточной информации», свойственный большинству руссиян, узнавших за годы реформ, почем фунт лиха.
В пансионате, едва оставшись одни, мы заспорили, что делать с пистолетом. То есть оба понимали, что надо от нею избавиться как можно скорее, но Лиза хотела, чтобы мы сделали это вместе (ей так, видите ли, спокойнее), а я с туповатым, запоздалым достоинством утверждал, что это чисто мужская проблема.
Лиза уступила, и я унес пистолет к себе. Держал сперва в ящике комода, под постельным бельем, а позже, когда оброс вещами, переложил в элегантный саквояж с цифровыми замками. Будто чувствовал, что расставаться с ним рано.
Вот и пригодился бесценный дар Трубецкого.
Мужчина обернулся с переднего сиденья, по–прежнему не только безымянный, но и безликий. Лишь в глазах, как у волка, две алые точки.
— Не вздумай мудрить, писатель, понял, нет? Я к тому, что…
Я не мудрил, спустил предохранитель и поверх сиденья два раза выстрелил ему в грудь. Звук был, как у дважды лопнувшего баллона, и руку оба раза сильно дернуло. Но никто не прибежал узнать, в чем дело, не завыли полицейские сирены и в окнах конюшни не вспыхнуло ни единого огонька. Ночная тишина в Лондоне такая же, как в подмосковном лесу.
Мужчина со вздохом завалился на бок, уперся головой в панель управления. Убийство не произвело в моей психике никаких изменений и не вызвало сильных эмоций. Во всяком случае, я не стал размышлять о смысле жизни, подобно Григорию Мелехову над убитым австрийцем. Зато, как читал в детективах, тщательно обтер пистолет носовым платком и оставил его на заднем сиденье. Вышел из машины, аккуратно, стараясь не хлопнуть, прикрыл дверцу и быстро, не оглядываясь, избегая освещенных мест, зашагал обратно к пансионату.
Надеялся, что вряд ли кто–то заметил, как я уходил и как вернулся.
У себя в номере собрал вещи, потом умылся и побрился в ванной, с любопытством разглядывая себя в зеркале. Ничего примечательного. Сухое, благодушное лицо руссияни- на, изборожденное преждевременными морщинами от тщетных усилий выдавить из себя раба и проникнуть в семью цивилизованных народов. Естественно, будучи в здравом уме, в человека с таким лицом невозможно влюбиться, если не приравнивать любовь к инфекционному заболеванию.
Из комнаты постучал в смежную с Лизиным номером стену. Один раз и второй. Через несколько секунд она ответила на стук. Еще через минуту я был у нее.
Лиза истолковала мой визит неправильно, с лихорадочно сверкнувшими глазами бросилась ко мне в объятия. Какое–то время мы молча целовались и обнимались. Она что–то шептала, я что–то отвечал невпопад, чувствуя, как тяжелеет, оседает на пол ее упругое тело, как оно изнывает в моих руках.
Наконец опомнился.
— Лиза, душа моя, пожалуйста… Надо быстро собраться — и смываемся отсюда.
— Что случилось?.. До самолета еще несколько часов.
— Мы не полетим на этом самолете, изменим маршрут… Лиза, можешь мне поверить и не задавать лишних вопросов?
— Конечно, могу, конечно… Только не волнуйся… — Видно, прочитала на моем лице нечто такое, чего не видела прежде. Торопливо раскрыла чемодан и начала складывать вещи. Ночная рубашка в розовый горошек трогательно обрисовывала ее фигурку, в этой рубашке она казалась особенно хрупкой, худенькой, совсем еще девочка…
Через полчаса, не попрощавшись с хозяйкой, мы покинули гостеприимный пансионат и затерялись в прохладных предрассветных британских сумерках…
* * *
Из телеграфного сообщения: «Автокатастрофа под Афинами. В ночь на 7 сентября произошла драма на загородном шоссе в десяти километрах от города. Автомобиль марки «понтиак», взятый накануне напрокат в Афинах, на большой скорости не вписался в поворот и, проломив бетонное ограждение, рухнул на каменное дно каньона. От удара машина загорелась, оба находившихся в ней пассажира, мужчина и женщина, погибли на месте. Причины аварии и личности погибших устанавливаются. Уже известно, что оба — беженцы из России…»
Из газеты «Москоу демократикус». Статья независимого журналиста Джека Киселькова «Олигархи тоже плачут». «Один из громких политических скандалов, связанный с именем господина Оболдуева, получил неожиданную развязку. У всех на памяти взбудоражившее московскую общественность известие о том, что для написания своей биографии знаменитый магнат привлек некоего Виктора Антипова, бездарного литератора, не брезговавшего помещать свои опусы в маргинальных черносотенных изданиях (да и где бы еще опубликовали его галиматью). Неизвестно, кто порекомендовал господину Оболдуеву этого так называемого писателя, но очевидно, что не нашлось рядом человека, который удержал бы его от опрометчивого шага… Как и следовало ожидать, история закончилась печально. С ответственнейшей работой псевдолитератор, естественно, не справился, зато обобрал доверчивого мецената до нитки (по слухам, одного столового серебра вывез из загородного поместья на двести тысяч долларов). Но мерзавцу и этого показалось мало. Попутно он соблазнил несовершеннолетнюю дочь хозяина, невинную двенадцатилетнюю девочку, и каким–то образом сманил ее в Европу. Бедное дитя, можно ли ее осуждать. Хорошо известно, как подобные господа, пекущиеся якобы о благе народа, сочиняющие никому не нужные книжонки, а на самом деле не имеющие ничего святого за душой, умеют обольщать и пускать пыль в глаза. И все же Бог, как говорится, шельму метит. Сексуальный литератор–маньяк утащил свою жертву в Грецию, но недолго наслаждался детскими прелестями. На радостях напившись, по своему обыкновению, водки (о диких пьяных дебошах Антипова с содроганием вспоминают завсегдатаи Дома писателей), он повез ее кататься на угнанной машине и, не справившись с управлением, нашел свой подлый конец на дне живописного греческого каньона, увы, похоронив вместе с собой и предмет своих низменных страстей… Легко представить безутешное горе отца, у которого она была единственной дочерью, не считая, разумеется, незаконных отпрысков, для коих господин Оболдуев, как известно, на собственные средства, как всегда не афишируя свое благородство, открыл замечательный «Дом сиротки» на Фрунзенской набережной…
Из интервью господина Оболдуева в популярном телешоу «Слезинка ребенка». Постоянная телеведущая Маша А., автор нашумевшего бестселлера: «Как я была замужем за своей подругой Лялей».
Маша (жеманясь и пуча глаза): Леонид Фомич, разрешите прежде всего выразить глубокое соболезнование. Как женщина, у которой, к счастью, не было детей, я хорошо понимаю, что значит потерять единственного ребенка.
Оболдуев: Благодарю за участие.
Маша: В нашу передачу приходят тысячи писем от телезрителей, бесконечно звонят телефоны. Вся страна скорбит вместе с вами.
Оболдуев (смущенно кланяясь): Народец у нас сердобольный, руссияне одним словом.
Маша: Как образно сказано, Леонид Фомич! Кстати, многие телезрители, скорбя вместе с вами, все–таки выражают надежду, что на следующих выборах вы непременно будете баллотироваться на пост президента. Позвольте и мне присоединиться к ним.
Оболдуев: Пожалуй, преждевременно об этом говорить. До выборов еще два года.
Маша (лукаво посмеиваясь, подкрашивая губы): У нас игровое шоу, давайте представим, что выборы завтра. Кого вы в таком случае рассматривали бы как своего главного конкурента? Ведущие политологи утверждают в один голос, это был бы не кто иной, как господин Чубайс.
Оболдуев (слегка озадаченный): Анатолий Борисович? Что ж, достойная кандидатура. Он много сделал для отечества и, думаю, его потенциал далеко не исчерпан. С другой стороны, у Анатолия слишком доброе сердце, он натура романтическая. Чтобы покончить с нынешним беспределом и навести порядок в стране, нужны совсем иные качества.
Маша (восторженно): О–о–о!
Оболдуев (увлекаясь): Сказки о гуманных правителях, пекущихся о смягчении нравов, — это, извините, для дураков. Если не держать руссиян в железной узде, они быстро превращаются в орду, в неуправляемую стаю диких зверей. Тогда им и Сорос не указ. Что поделаешь, такова реальность.
Маша: Звучит сурово, но большинство наших корреспондентов, думаю, согласятся с вами… Леонид Фомич, передача у нас не политическая, скорее философская… Разрешите вернуться к вашей личной трагедии… Многие телезрители до сих пор недоумевают, как могло случиться, что такой мудрый человек, как вы, не разглядели в этом, прошу прощения, писателе обыкновенного педофила. Ведь вы сами ввели его в дом. Это как–то не укладывается в голове.
Оболдуев: Видите ли, Маша, вы правильно заметили, что вопрос философский, мировоззренческий. Можно ли вообще в чем–нибудь доверять творческому интеллигенту? Или это просто животное, коему ничего не важно, кроме удовлетворения физиологических потребностей? Хотелось в этом как–то разобраться. Как–то копнуть поглубже. К сожалению, пришлось заплатить за опыт слишком дорогую цену, но, в сущности, я не жалею. Сказано в Писании: судите по делам их, а не по словам. Я пренебрег этой мудростью, вот и расплата. Но, с другой стороны, разве тот же Антипов виноват в том, что он выродок? Отнюдь. Генетический сбой природы — вот что такое руссиянская интеллигенция. На Западе об этом давно говорят в открытую, а мы все боимся посмотреть правде в глаза.
Маша (в слезах, ломая руки): О-о, Леонид Фомич, неужто готовы простить этого подонка?
Оболдуев (важно): Не судите и не судимы будете…
Маша (в истерике): Леонид Фомич, разрешите от имени миллионов избирателей поцеловать вашу благородную руку! (Целует, плачет, пытается перебраться к Оболду- еву на колени. Оболдуев беззлобно спихивает ее на пол).
Маша (с пола): О-о, как бы я хотела заменить вам ее!
Оболдуев (смущенно): Что ж, все, как говорится, в наших силах…
Маша (со счастливым, просветленным лицом): Уходим на рекламу, уходим на рекламу…
* * *
Сидя в плетеном шезлонге на берегу Атлантического океана, под палящим белесым солнцем, московский литератор Виктор Антипов записал в блокнот первую фразу нового романа. Звучала она так. «Все в этом мире происходит по промыслу Божию, но иногда в его дела вмешивается нечистый и тогда случаются события чрезвычайные, распаляющие воображение, ломающие основы человеческого бытия…» Морщась, как от занывшего зуба, он перечитал фразу несколько раз и, по всей видимости, остался недоволен. В раздражении закурил и обратился к девушке, загоравшей неподалеку на полосатом пластиковом матрасе.
— Скажи, Лиза, ты правда думаешь, у нас хватит сил жить дальше?
Лиза, как всегда, отнеслась к вопросу серьезно, перевернулась на бок. Ее темные глаза вполне могли соперничать с океанскими глубинами.
— Что значит «дальше»? Ведь по–настоящему мы еще не начинали жить.
— Тоже верно, — согласился Антипов и, подумав, порвал листок на мелкие клочки.
Литературно–художественное издание
Анатолий Владимирович Афанасьев
В ОБЪЯТЬЯХ ОЛИГАРХА
РОМАН
Редактор Л. Г. Милько
Художественный редактор С. А. Порхаев
Компьютерная верстка Т. Н. Сивкова
Корректор В. М. Фрадкина
Гигиеничестй сертификат № 77.99.02.953. П.001010.05.02 от 24.05.2002 г.
Лицензия ЯР Ns 065104 от 17 апреля 1997 г.
ООО «Издательство'Мартин»». 107082, г Москва, ул. Б. Почтовая, 30, оф.45
Тел. (095) 267–84–13. E-mail: martln–mos@mtu–net.aj
Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.02.2003. Формат 84x108/32. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уел. печ. л. 21,84. Тираж 7000 экз. Заказ Ns 638. Отпечатано на ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 170040, г Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

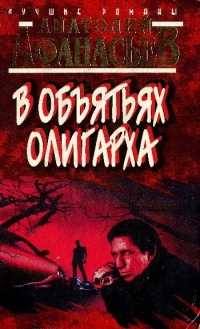





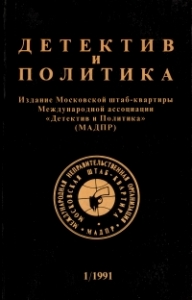



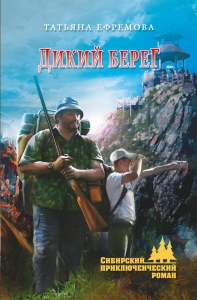


Комментарии к книге «В объятьях олигарха», Анатолий Владимирович Афанасьев
Всего 0 комментариев