Юлиан Семенов Петровка, 38. Огарева, 6. Противостояние
© Семенов Ю. С., наследники, 2015
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2015
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства.
Петровка, 38
Интродукция
– Слышь, Сань, ты не думай, я умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нет, а пистолет – на боку. Иль сменщик его – тот молодой, Сань, но это ничего, он молодой, да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясися, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю… Ты не трясися, не надо, Сань…
– Я и не трясусь.
– Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я…
– Помолчи, Прохор.
– Да ты не тревожь себя, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-е, Сань. Человек как петух помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был.
– Когда он пойдет?
– Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, под мышки сунь, они свое тепло почуют, отойдут. Бить надо слабой рукой, она звереет, когда слабая-то.
Милиционер Копытов
Милиционер Копытов заступил на дежурство в двенадцать часов ночи. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, громыхая у плиты чугунными горшками.
Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил.
Он затянулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку – своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а ведь только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам потолковать с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамеечку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Особенно его поразило, когда доктор рассказывал, что никотином, если его собрать из одной пачки «Беломора», можно убить лошадь… И еще Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.
«Генке этого не выложишь», – подумал Копытов.
Он долго молчал, а потом сказал так:
– Эх, Генк, Генк… Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.
– Догоню.
– Не…
– Догоню, пап, ты лучше не предлагай. Я в школе кросс первым пробегаю.
Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».
– Я что сказал? – спросил он. – Или не слышишь? Беги!
Генка поднялся и снова уставился в землю.
– Давай до ворот! – сказал Копытов и побежал.
Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понимал, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы легко его обогнать. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:
– Вот штука какая… А ты, понимаешь, спорил со мной.
– Я не спорил.
– Упрямый ты.
– Я понарошку курю, пап…
– Она как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь. А ведь двадцать копеек за пачку. Помножь ее на триста – вот тебе и велосипед к празднику купим.
– А почему на триста?
– Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней – год. Умножь на двадцать две копейки, если «Беломор» считать.
– В году триста шестьдесят пять…
– Ну, округлил я.
– Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.
– Так ты ж и есть подросток.
– Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения – разве это машина?
– Я тебе переключение сам устрою.
– А сможешь?
– Чего не смочь? Конечно, смогу.
Генка вздохнул, а потом улыбнулся.
– Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на папиросы деньги давать. И потом – я не «Беломор», а «Дукат» все больше курю, а он всего семь копеек стоит.
– Высеку я тебя, Генка, – сказал Копытов, – а то уж больно ты дерзкий.
– Я не буду курить, пап, честное слово.
– Еще мать узнает… Знаешь, что будет?
– Знаю…
– Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело…
Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.
– Какое дело? – спросил Генка.
– Да так, к слову…
– Про двести с прицепом, что ль? – засмеявшись, сказал Генка. – Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду…
Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать.
– Здравствуйте, Кузьма Семеныч, – ответили дворники в один голос.
– Все спокойно у вас?
– Порядок.
– Лешка из девятой не буянил?
– Притих.
– Мы ему в отделении сказали: еще раз напьешься – выселим из Москвы…
– Не, пока не нажирался, – сказал дворник Хайрулин.
– Парень хороший. На баяне играет, – сказал дворник Афонин.
– Слышь, Афонин, – спросил Копытов, – а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?
– Есть.
– А взрослые?
– Взрослых давно не завозили…
– Но бывают в продаже-то или химичить надо?
– Иногда бывают…
– А сколько стоит, не знаешь?
– Откуда я знаю, – ответил Афонин, – я свое откатал.
– Ну ладно… Завтра узнаю.
– Скоро к нам вернетесь?
– А вот участок обойду…
– Да посидите, Кузьма Семеныч… Покурим…
– Вернусь – и покурим… Я недолго…
Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревцо и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревцо к шесту, вбитому рядом.
Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели низко опустив головы.
Копытов подошел поближе и сказал:
– Ребятки, домой пора. Поздно.
Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.
– И чего напились? – спросил Копытов. – Где живете? Пошли, помогу дойти хоть… Вот ведь нажрались-то, а…
Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.
– Или ты больной? – спросил Копытов. – Никак больной?
– Б-больной.
Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабку Фросю. Она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему – отныне и навсегда.
– Пусть шофер включит прожектор, – сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.
Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький старый человек с большими руками крестьянина. Его руки словно жили еще. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.
– Вы еще будете долго работать? – спросил он эксперта.
– Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?
– Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.
Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случалось.
– Он все смеялся: «Велосипед куплю», – сказал дворник Афонин.
– Он тут у вас ни с кем не ссорился?
– Да господи, он же человек мягкий.
– Был, – поправил дворник Хайрулин, – был человек…
Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.
– Там машин нет?
– Пусто.
Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:
– Проходящая машина была, тормозной след посредине улицы оборван.
– Вы замерили?
– Да. И ширину и длину.
– Позвоните к дежурному, пусть сообщит в ОРУД.
– Хорошо…
После этого Росляков начал осторожно – метр за метром – осматривать землю вокруг убитого милиционера. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как однажды комиссар сказал ему:
– Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они, пока место, куда надо ступать, не ощупают, ногой не шевельнут.
Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:
– Тут есть след.
– Сейчас.
Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.
– Товарищ лейтенант, – окликнул его эксперт, – у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.
…Последовавшие за этим убийством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей.
Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:
– Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание…
Первые сутки
Специальная группа
– «8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но, когда они вышли, переулок был пуст».
«12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, дом № 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».
«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А. В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И. Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но промахнулся. Преступники скрылись».
Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:
– Таким образом, все эти три ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется… Выделяю специальную оперативную группу. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте его из отпуска.
Кассир Ямщикова все время терла щеки, будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и, когда начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.
– Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы, после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла…
Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич. Улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».
Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.
– Самсонов, – сказал он дежурному. – Да нет же, лучше я по буквам… Семен, Анна, Михаил… Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь.
Папа с мамой
Костенко даже не успел подняться к себе – дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему.
Костенко вошел в кабинет.
– Знакомьтесь, – сказал комиссар, – это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.
Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.
– Здравствуйте, – сказал Костенко.
– Вот знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.
Самсонов спросил:
– У нас курить можно?
– Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.
– Благодарю.
– Благодарить будете, когда сын отыщется.
– Я не спал всю ночь.
– Еще бы! Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.
– Уже…
– Ну?
– Там ничего.
– Вы фотографии сына принесли? – спросил комиссар.
– Да.
Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:
– Сами снимаете?
– Жена. Я только проявлял.
– Проявитель готовый берете или дома составляете?
– Нет, сам составляю… Вместе с Ленькой.
– Семейная артель?
Самсонов махнул рукой.
– Семейная канитель, – сказал он, – какая тут, к черту, артель!
– Пленка хорошая. Где покупали?
– Это немецкая.
– Мелкозернистая?
– Да.
– А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел – чувствительность сорок пять, и только.
– Вы с блицем попробуйте снимать.
– Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.
Костенко сразу же позвонил к Ямщиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.
Ямщикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:
– Мальчик стоял у двери.
– Это точно?
– Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались мне взрослыми.
– Стрелял не он?
– Нет, другой, в очках.
– А этот так и стоял у двери?
– Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Совершенно верно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.
– Понятно. А как книжка называлась, не помните?
– По темно-красному фону – черные слова, а я близорукая, название не разобрала.
Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу, без колебаний опознала Леньку Самсонова.
– Он, ирод проклятый, – сказала женщина, – гадюка такая…
– Думаете, ирод? – переспросил Костенко и улыбнулся. – Ему всего семнадцать…
Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал:
– Он.
– Хорошо. Спасибо вам.
– Мне бы надо постановление… Посмотреть их квартиру…
– Вы давайте сюда подъезжайте. Тут решим.
Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:
– Ну в прятки нам играть или говорить открыто?
– Конечно, открыто.
– Тогда рассказывайте, Костенко.
– Ваш сын, – сказал Костенко, откашлявшись, – вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.
– Так, – сказал Самсонов. – Так, – медленно повторил он.
– Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?
– Он должен вернуться домой, если жив.
– Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? – спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.
– Наша, – тихо ответил Самсонов.
– Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?
– Что?!
– Вы проектировщик, в тайге бываете, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.
– У меня есть, но все это заперто в столе.
Комиссар снял трубку телефона, медленно негнущимся указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:
– Машину к подъезду.
Опустив трубку, он спросил:
– Как сердце, отпустило?
– Сейчас легче…
– Значит, так. Надо будет сейчас произвести в вашей квартире обыск. Пока будете ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Леньки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте. Да, когда появится Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?
– Девятьсот шестидесятая.
– Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».
– До свидания, товарищ комиссар.
– До свидания, товарищ Самсонов.
Когда он вышел, комиссар сказал:
– Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят – золотая голова.
Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Леньки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с крупными буквами: «Александр Фадеев. “Молодая гвардия”». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:
– Та самая.
Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:
– Это ошибка, послушайте! Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь! Скажи им, что это ошибка.
– Нет, – ответил Самсонов, – это не ошибка.
– Он несовершеннолетний, – сказал Костенко, – так что, может быть, учтут.
– Нет, это ошибка, – повторила Людмила Аркадьевна, – несчастный мальчик, он ничего не подозревает.
– Перестань, – сказал Самсоном. – Надо было раньше думать.
– Холодный и черствый человек, – горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, – сердце у тебя мохнатое.
– У меня, наверное, уже нет сердца, – ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.
– Уходите же, – сказала Людмила Аркадьевна, – ему плохо.
Костенко тихо ответил:
– Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.
– Это произвол, – сказала Людмила Аркадьевна.
– Нет, – ответил Костенко, – это не произвол. Это засада.
Где Ленька?
В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.
– Десятый «А» где? – спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.
– На пятом.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то кричали ребята, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:
– Леньку позови, пожалуйста.
– Какого?
– Самсонова.
– Так он же исключен.
– Почему?
– А он бульдога в класс привел.
– Ну и что?
– Ничего. Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится. Леньку за гриву в учительскую, оттуда в милицию – и «арриведерчи, Рома».
– Это когда же было?
– Позавчера.
– А сейчас он где? Дома?
– Что вы!.. Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинился, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.
– А это кто?
– Лев Иванович, учитель по литературе. Подпольная кличка – Лев без единого зуба.
– Почему Лев должен знать?
– А он у Льва любимчик. Стихи пишет.
– Хорошие?
– Ничего. Мне стихи бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?
– Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг, тот… этот… Ну…
– Сема?
– Да.
– Сейчас позову…
Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам. Из-за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:
– Это ты от Леньки?
– Нет. Сам его ищу, – ответил Росляков. – Он у тебя заперся?
– Да нет!.. Я его обыскался – нигде нет. Он ведь псих. Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим.
– Ладно, – ответил Росляков и пошел к директору.
– Не может быть, – тихо сказал директор. – Когда это случилось?
– Позавчера.
– Позавчера? В какое время?
– В четыре.
– В час мы его исключили из школы.
– А в милицию его за бульдога надо было обязательно таскать?
– Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.
– Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а?!
– Да, да, вы правы, конечно.
– Великое преступление – бульдога привел!
– С другой стороны, не маленькое, по школьным законам.
– Закон есть один. Школьными бывают порядки.
– Да, да… Какой ужас! Талантливый парень, просто не верится… Что же делать? Где хоть он?
– Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?
– Он общительный мальчик. У него много товарищей.
– А Сема?
– Рывчук?
– Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.
– Да, это он. Кажется, они дружат.
– Какой у него адрес, можно узнать?
– Сейчас.
Директор вернулся и положил перед Росляковым листик бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.
– Да, кстати, – сказал директор, – он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент…
– Я позвоню, – сказал Росляков. – Вы разрешите?
– Прошу.
Росляков набрал номер и сказал:
– Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин, адрес надо выяснить.
Он положил трубку, вздохнул и спросил:
– А Лев Иванович ничего знать не может?
– Лев Иванович… Погодите, погодите… Вы правы… Очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз «окно».
Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:
– Чем могу?..
Директор сказал смущенно:
– Вот товарищ…
– Я из угрозыска.
– Очень неприятно.
Росляков засмеялся:
– Даже так?
– Именно так… Угрозыск в школе – это всегда тревожно… Что вас к нам привело?
– Самсонов.
– Леонид?
– Да.
– Что-нибудь по поводу собаки?
– Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы.
Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:
– Когда это было?
– Позавчера в четыре.
– Тут не может быть ошибки?
– Нет. Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?
Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.
– Нет, – ответил он наконец, – я ничего о нем не знаю.
– Самое худшее заключается в том, – сказал Росляков, – что парень украл у отца оружие. Он как волчонок сейчас.
– Раскаяние и чистосердечное признание… Добровольная отдача себя в руки властей – это учитывается юрисдикцией или сие формальность? – спросил Лев Иванович.
– Учитывается, – ответил Росляков, внимательно поглядев на учителя. – Сие по новым временам – не формальность, смею вас уверить…
Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты:
– Ты ноги, пожалуйста, вытри, я сегодня натер пол!
Ленька стоял в коридоре большой коммунальной квартиры возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, а кровь приливала к голове и щекам. Потом он вошел и сказал:
– Здравствуйте, Лев Иванович.
– Здравствуй, Леонид. Садись.
– Спасибо. Постою. В ногах правда.
– Скверное настроение? – спросил старик.
– Скверное. Хорошее какое слово – «скверное». Почему-то оно уходит из устной речи.
– Век требует более резких определений, да? «Дрянное» – это, по-видимому, точнее?
– В моем положении – да.
– А что случилось?
– Да ничего особенного… Так, глупость…
– У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?
– Вроде бы…
– Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних.
– Он был жестоким.
– Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется.
– Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович?
– Можно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской и Кибальчичем, которые убили императора Александра Второго, а ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал, обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.
– А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?
– Какую глупость?
– Просто глупость. Обыкновенную глупость.
– Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо предельно эгоцентричен. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах – также преступно. И в общегосударственных, и в человеческих.
– А если преступление рождено глупостью?
– Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то и другое должно быть наказуемо.
– Но преступление не принесло никому никакого вреда.
– Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.
– Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович…
– Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.
– Лев Иванович…
– Да.
– Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.
– Чепуха. Он устроен логично, а потому – прекрасно.
– Логична геометрия, – сказал Ленька, – а что в ней прекрасного?
– Мы же говорим о мире, а не о геометрии…
– Лев Иванович…
– Слушаю тебя…
– Можно я попью воды?
– Конечно.
Ленька ушел на кухню, и старик услышал, как он пустил воду из крана. Учитель знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, «из земли». Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.
«А ведь это все какая-то дикость, – подумал Лев Иванович, – наваждение…»
Этот не знает
Тюрин – выпускник той школы, где учился Ленька, – сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услыхал протяжный звонок и пошел открывать дверь.
– Кто там?
– С Мосгаза.
Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:
– Только извините, я в трусах.
– В трусах – не в бюстгальтере, – ответил Костенко, – переживу.
Тюрин засмеялся.
– Веселый Мосгаз, заходите…
– Я тягу проверить, – сказал Костенко.
– Тянет хорошо.
– Порядок есть порядок.
Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске.
– Вы б поддержали меня, а то загремлю, – попросил Костенко.
– Вы долго будете тягу смотреть?
– Тягу не смотрят, ее чувствовать надо…
– Тяга – она, как говорится, и есть тяга…
Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать:
– Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала.
– Людмила Аркадьевна?
– А бог ее знает… Фифочка.
– Женщина с характером. Кого угодно доведет.
– Это уж я не знаю, а меня она довела. А сама стоит и плачет.
– Из-за Леньки…
– Это кто? Хахаль?
– Сын.
– Женился?
– Из дому сбежал.
– Куда?
– Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался.
– А почему в Сибирь?
– Я там в экспедиции был, с ума сойти как здорово, ему кое-что рассказал, так он мне потом говорит: «Сбегу, к чертовой матери».
– В той комнате у вас стена капитальная?
– В столовой?
– Да. Там, где дверь закрыта.
– Не знаю. Вы сами посмотрите.
Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Леньки там быть не могло. Он вышел в коридор.
– Придется еще прийти к вам, – сказал Костенко.
– Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.
– Ясно. Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу выворотит. Дождусь, пока ее парень вернется.
– Ленька? Он не вернется.
– Неужто мать не жалко?
– Нет, жалко, конечно… Родители как-никак.
– Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то…
– Думаете?
– Точно. Переживает – лицо как свекла стало. А что вы, друг ему?
– Друг не друг, а товарищ.
– Ну, пока.
– Всего хорошего.
– Так наши еще раз зайдут.
– Хорошо. Только утречком.
– Ясно. До свидания.
– Счастливо.
Леньке плохо
Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.
– Алексей Алексеич, – сказал он, – вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?
– Вас интересую я?
– Меня интересует все.
Самсонов отвернулся к окну.
«Позавчера, – вспоминал он. – Что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов. Потом вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять…»
Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно и тревожно зазвенел звонок. Стук клавишей сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он поморщился.
Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.
«Откуда это у нее? – подумал Самсонов. – Такая славненькая, а улыбается, как звереныш».
– Вы звали меня?
– Да. У вас еще много работы?
– Пять страниц.
– Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.
…Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль; он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.
Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство от контузии, стала немыслимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:
– Вам плохо?
– Немножко, – ответил Самсонов сквозь зубы.
– Тут в гастрономе воду продают.
– Спасибо, – сказал Самсонов и пошел в гастроном.
Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда проектировал дорогу от Магадана к прииску Стремительному.
Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посредине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.
«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр, – сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. – Сейчас начнется…»
– Людочка, – сказал он тихо, – я совсем замотался, прости меня.
Людмила Аркадьевна молчала.
– Я готовился к завтрашнему совещанию у…
Она перебила его:
– У какой-нибудь очередной бабы?
– Как тебе не совестно!..
– Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!
– Пойди работать.
– Негодяй!
– Ну вот…
– Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!
– Здесь же Ленька…
– Он взрослый мальчик, он все понимает!
Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.
– Как мартовский кот, – продолжала говорить Людмила Аркадьевна, – напакостил – и дал деру!
– Это мы так воспитываем сына?
– Ты еще издеваешься надо мной!
– Миронова и Менакер. Театр миниатюр.
Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала:
– Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я… я…
– Повесишься, – устало отозвался Самсонов, – знаю, слыхал.
– Мальчик, – крикнула Людмила Аркадьевна, – послушай, как глумятся над твоей матерью!
Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами.
– Что с тобой?
– Это ты доводишь его до болезни! – крикнула Людмила Аркадьевна.
– Что с тобой? – повторил Самсонов, поморщившись.
– Ничего, – ответил Ленька, – просто я вас ненавижу…
И – ушел из дому.
Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:
– В общем-то, ничего особенного позавчера не произошло.
– Ссоры дома никакой не было?
– А это, пожалуй, наше личное дело.
– Если бы не ограбление приходной кассы.
– Вы проводите связь между этими событиями?
– Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю…
– Ну дальше? – попросил Лев Иванович.
– А дальше я хотел все рассказать отцу.
– Почему не рассказал?
– Да так…
– Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.
– Где?
– В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, если хочешь – геометрической правдой.
– Ну, в общем, им было не до меня.
– Кому?
– Отцу. Матери.
– Какая-нибудь семейная неурядица?
– Да.
– Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.
– Если восемь лет одно и то же – касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.
– Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят они наиотвратительнейшими.
– «Я помню чудное мгновенье…» не с радости написано.
– Верно. Оно – от грусти. Но тоска – нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?
– Да.
– По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?
– Что вы, Лев Иванович…
– Ну, полно.
– Лев Иванович, можно мне вас попросить?
– Пожалуйста.
Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.
– Что это?
– Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?
Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:
– Ты стрелял из него?
– Нет.
– Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше не говорить вовсе.
– Я же подведу человека.
– Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно…
– Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца – ни в чем не виноватого человека?
– Я не хочу сейчас казаться моралистом, Леонид. Только я очень верю: ты должен отнести им этот револьвер.
Ленька усмехнулся и сказал:
– Знаете, не надо вам ехать со мной.
– Отчего так?
– Я не хочу, Лев Иванович. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон – ноль два, добавочный – дежурного. Все очень просто.
– В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.
– Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович? Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы?!
– Успокойся…
– Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя и вас, когда только что говорил о стихах, и о «чудном мгновенье», и добре, и зле! Я слышу сейчас только одно слово: тюрьма! тюрьма! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!
– Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли в тридцать седьмом году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского!
– Это к тому, что человек живуч! Так, Лев Иванович?
– Уходи, – сказал старик. – Мне неприятен разговор с тобой.
– Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: ваши сыновья были героями, а я в шестьдесят втором – негодяй и дурак. Не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свиданья, Лев Иванович.
Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика – сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами.
У Леньки затряслись губы… Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни; когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи; когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фойе. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.
Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:
– Не сердитесь. Лев Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький…
Старик погладил его по голове и тихо сказал:
– Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.
Алиби – Хлебников
«После того как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказала мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я хотел посоветоваться, в школе не было, дома – тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал, что же предпринять. Настроение у меня было отвратительное. Около гастронома № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева “Молодая гвардия” и в ней расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку, тетю Катю, вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она ответила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь-то обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе – это очень тяжкое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Без всяких хулиганских целей. Я думал, что он будет спокойно сидеть.
Потом я снова ходил по улицам, не зная, что предпринять, и около того же гастронома я встретил двух молодых людей, которые предложили мне присоединиться к ним на пол-литра. У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить, потому что настроение было отвратительное и положение – безвыходное. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили; я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке, называл своего приятеля обезьяньим именем Чита. Чита – невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: “Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт”, они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, в кожаной куртке, вытащив наган, сказал: “Руки вверх! Ни с места!” Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: “Иди к окну”. Я отошел к окну. У меня затряслись руки от страха, и я положил книгу Фадеева на стол; по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: “Вы с ума сошли! Это же грабеж!” Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал – не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что, когда мы подходили к кассе, длинный сказал: “Витька – б… оставил нас без колес”. Кто такой Витька и что значит “колеса”, не знаю, и разговора об этом больше не было.
Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет, объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною собственноручно. Леонид Самсонов».
Садчиков, прилетевший из отпуска, прочитав показания Леньки, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдется по кличке Чита. Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».
– По всем отделениям? – негромко спросил Костенко.
– А что д-делать? Надо по всем.
– Хорошо. Я схожу позвоню к дежурным.
– П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что этот Чита проходил через дежурную часть по какому-то х-хулиганству.
– Я посмотрю.
– Чита – это уже зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь мне.
– Я верю.
– Н-ну извини, – усмехнулся Садчиков.
– Да нет, пожалуйста, – ответил Костенко и подмигнул Леньке.
– Это п-присказка у нас такая, – объяснил Леньке Садчиков. – Ш-шутим мы, понимаешь?
Из научно-технического отдела принесли «вальтер» Самсонова.
– Из этого пистолета не стреляли, – сказал эксперт. – Пробный выстрел дал отрицательный ответ: в кассе стреляли из другого пистолета.
– Благодарю вас, – сказал Садчиков.
Он перечитал показания Леньки еще раз, отложил их в сторону и спросил:
– Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?
– Мне не хочется.
– А я пом-мираю от голода. Слава, – попросил он Костенко, – может, ты сходишь в гастроном?
– Что купить?
– Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.
– У меня от них скоро судороги начнутся, – сказал Костенко. – Была бы плитка – пельменей сварили.
– Спроси Льва Ивановича, – сказал Садчиков, – старикан тоже, наверное, г-голоден. Кстати, где Росляков?
– Я его отпустил до двенадцати.
– Ну х-хорошо. Иди за сыром.
– Иду.
– Послушай-ка, Леня, – сказал Садчиков, поднявшись из-за стола, – давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, нап-прягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?
– Очень.
– Помнишь, «О шея лебедя, о грудь, о барабан!»? Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям… Помнишь эт-тот рас-сказ?
– Помню. А вы что, Чапека читали?
– Нельзя?
– Нет, можно, конечно, только я думал…
– Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?
– Нет.
– Правильно делаешь. Я б-бросил – разжирел, снова пришлось начать.
– Скажите, а меня надолго посадят?
– Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?
– Восьмого? Это какой день?
– Суббота.
– Учился. Потом мы уехали на дачу.
– Когда кончились уроки?
– У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.
– Это что, зиф-фовское из-здание?
– Да.
– А что ты делал двенадцатого мая? Около шести.
– Не помню.
– Надо вспомнить.
– Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?
Садчиков подошел к Леньке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:
– Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты с-совершали грабежи. Я бы не спрашивал т-тебя об этом, если бы сейчас был день. Просто мы бы вызвали сюда тех людей, которые видели грабителей, и предложили им о-опознать тебя. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону, если что было, давай все в открытую…
– Какой смысл мне тогда было самому приходить к вам? Я ведь сам пришел к вам… Никто меня не тащил… Какой смысл?
– Никакого, – согласился Садчиков. – Пожалуй, н-никакого… Ладно… Посиди, сосредоточься, постарайся вспомнить детали…
Костенко вернулся с покупками.
– Духотища, – сказал он, – не иначе как к грозе.
– Сейчас я вернусь, – сказал Садчиков, – а вы п-пока закусывайте.
Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке.
– Поешь, – предложил он, – а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.
– Уже написан. Только не на кишку.
Костенко хмыкнул.
– А ты нос не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?
– На вокзале.
– На каком?
– Сначала на Казанском, а потом на Ярославском.
– Что, в Сибирь хотел отправиться?
– Откуда вы знаете?
– Мы, дорогой, всё знаем. Работа такая.
Вернулся Садчиков и спросил Леньку:
– Слушай, а вы Хлебникова к-купили?
– Купили.
– А еще что купили?
– Еще? Подождите, что-то мы еще купили… А, вспомнил, Бабеля! «Конармию». И, по-моему, «Максимы» Ларошфука.
– Ну, слава богу, эт-то вроде сходится.
– Что, с первого дела отпадает? – поинтересовался Костенко.
– Вроде да, – ответил Садчиков. – Ты, Леня, не стесняйся, налетай на пищу. Сырки ешь – они м-мягкие… Что-нибудь про т-тех вспомнил?
– Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в “Астории” пожрать». Это когда у нас закуски не было.
– Пожрать – значит п-поесть?
– Да. Но это ведь не я. Вы просили вспомнить детали… Это Чита так говорил…
– Великий и могучий, – вздохнул Костенко, – благозвучный и прекрасный русский язык! Мордуют, беднягу, со всех сторон. Да здравствует Солоухин, хоть и достается бедняге…
– А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет?
Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:
– Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся; думал, не выстрелил бы.
Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:
– Это сейчас смешно… Вы меня что, сразу в камеру посадите?
– А как ты думаешь?
– Не знаю…
– А все-таки?
– Наверное, придется.
– В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но, если т-ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят.
– Домой?
– Не в Сибирь же, – ответил Костенко.
В дверь постучались.
– Да!
Вошел Лев Иванович.
– Прошу меня извинить… Но уже довольно-таки поздно… Мальчику надо завтра рано вставать… Вы разрешите нам уехать?
– Вам – да.
– А ему? Он ребенок. И потом это нелепость, поверьте мне.
– Лев Иванович, – сказал Костенко, – а что случится, если вы сейчас вместе с ним или он завтра один встретите на улице тех двух? Убийц и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо. Понимаете?
– Но почему вы думаете…
– Чтобы потом его папа с мамой не плакали, только для этого именно так я и думаю.
– Лев Иванович, – сказал Ленька, – спасибо вам. Вы не беспокойтесь. Вы поезжайте спать, а то уже поздно…
– Завтра мы вам позвоним, – пообещал Костенко.
– Днем… Ч-часа в два…
– Это же непедагогично… Сажать в тюрьму мальчика…
Садчиков нахмурился.
– Знаете, о п-педагогике лучше все же н-не надо. Момент не тот.
…Через час приехал Самсонов.
– Где мой сын? – спросил он по телефону из бюро пропусков. – Я прошу свидания с ним.
Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:
– Он спит.
– Я прошу свидания! Поймите меня, товарищи! Вы должны понять отца! Хоть на десять минут… Хоть на пять! У вас ведь тоже есть дети!
– Тише, вы! – попросил Костенко. – Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром. Часам к десяти кое-что прояснится…
И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.
– Думаешь, нет? – спросил Костенко.
– Думаю, нет. Он больше н-ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.
– Тоже, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?
– Давай.
– Черт, нет плитки!
– Пельменей тоже нет.
– Я о чае.
– Г-гурман…
– А что делать?
– Ну, извини, – пошутил Садчиков.
– Да нет, пожалуйста, – в тон ему ответил Костенко.
Вторые сутки
Вышли на Читу
Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и – возле окна – Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога…
…У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма – это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор – и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких…» Комиссар тогда очень рассердился: «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все чтоб одинаково и привычно? Времена иные пришли. И слава богу, между прочим. Красоту надо в людях ценить, для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человецех». Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить, он вечером, по обыкновению, долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:
– Берите меня к себе, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.
– Грамматика у тебя страдает, – сказал комиссар. – Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь – «терпеть ненавижу»… Учиться тебе надо… А что на своего брата взъелся?
– Есть причина, – сказал Голубев. – Их душить надо. Псы, нелюди, паразиты, стариков обижают, я их маму в упор видал.
Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма – уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».
Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.
– Ну, – сказал комиссар, – это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растолкуй – не понимаю…
– Я этого растолковать не смогу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю…
– Потому что был пьяный?
– Да.
– А я и не прошу, чтоб ты в себе – в пьяном – копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны.
– Бывают провалы памяти…
– Ты думаешь, у тебя был провал?
– Да.
– Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься… Громко можно загреметь, мил душа, надолго.
– Так я уже…
– Уже ты дурак, – сказал комиссар. – Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть, серьезнейшая, между прочим, разница. В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул. «Волнуется старик, – отметил комиссар, – на Дон Кихота похож. Такой же красивый… Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь… Именно – пронзительную».
– Разрешите, товарищ комиссар? – заглянув в кабинет, спросил Росляков.
– Прошу.
Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника.
– Садитесь, – сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя – как все люди, страдающие дальнозоркостью, – дактилоскопические таблицы, а потом, отложив все в сторону, попросил:
– Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.
– Я б его в стихах описывать не стал.
– «Социальный заказ» – такой термин знаешь? Проходили в школе?
– Проходили, – улыбнулся Ленька. – Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто накрашенный. На лбу, около виска, шрам. Большой шрам…
– Продольный?
– Да.
Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке:
– Этот?
– Этот, – сказал Ленька и поднялся со стула, – это Чита, товарищ комиссар.
Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом, вразвалочку шел посредине. Он шел не глядя по сторонам и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и громыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.
Костенко шел по правой стороне, хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.
Заместитель председателя исполкома знал Костенко – он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами «Герцеговина-Флор».
– Знаю, знаю, – сказал он, – в ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ… Трудное у нас положение, очередь-то громадная…
– Я – первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других… Непорядок получается… Всякому терпению приходит конец – рано или поздно…
– Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении…
– У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой… Когда все-таки квартиру дадите?
– Зимой, – сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, – обязательно зимой.
– Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой…
– Я помню, – поморщился заместитель председателя и сухо закончил: – Можете, в конце концов, написать на меня жалобу.
Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью; он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.
– Мамаша, – спросил Садчиков лифтершу, – а у вас к-кабина вниз ходит?
– Еще чего! – ответила лифтерша. – Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а оттеда – одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас, хорошая лестница, не грех и спуститься пехом…
– Костик не уходил сегодня?
– Из восьмой квартеры? Так он тут не живет уж месяц.
– У Маруськи, наверное? – спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя.
– У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.
– Уж и д-дремлет, – сказал Садчиков и открыл дверь лифта. – А ты, Валя, пешочком, по лестнице, она у них покатая…
Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.
– Иди в д-домоуправление, – шепнул Садчиков Костенко, – пусть шлют понятых и слесаря – взламывать б-будем.
Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные.
Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанные на стене.
– Между прочим, одни женские имена.
– Это по твоей линии, – сказал Костенко. – В женских именах ты дока.
– Осторожнее на поворотах, учитель, – предупредил Росляков, – я стал обидчивым, работая под твоим началом.
– Ну, извини…
– Да нет, пожалуйста.
Они осмотрели всю квартиру – метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.
Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал:
– Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?
– Поручи это Вальке, – предложил Костенко. – Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком.
К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку.
В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.
Гипатов
Он сидел дома в голубой, заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.
– Я из уголовного розыска, – сказал Росляков, – вот мои документы.
– Милости прошу…
– У вас в группе учился Назаренко? Константин?
– Назаренко?
– Да. Назаренко…
– Учился… Как же, как же…
– Вы его помните?
– «Кто не знает собаку Гирса?» – так, кажется, у Лавренева? Конечно, помню. Подонок.
– Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности…
– Из меня плохой доктор Ватсон.
– Да я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна.
– Столько лет прошло… Трудно, как говорится, вспоминать.
– А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните… Врагов… По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.
Гипатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» – строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но, как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика – в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно; они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами. «Духи-то, кажется, были “Кармен”, – вспомнил Гипатов. – Почему-то все пьяницы любят женские духи». Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко – тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки.
– Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, – вздохнул Гипатов, – кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был или, наоборот, добрым гением – другое дело. Запоминают заметных. А он был вроде амебы – полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности…
– Плохо дело…
– А черт с ним, найдется, я думаю, а?
– Должен, конечно.
– Когда схватите – от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.
– Чего же он боялся?
– Силы… Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится – ну, такой, что на ногах не стоит, – он ему с ходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень, в сильных быстрей влюбляются, да и боятся их… А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок…
Шрезель
Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.
– Понимаете, – вдруг снова взорвался Шрезель, – так мне трудно вспоминать! Предлагайте какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке, – он усмехнулся и повторил: – Только по подсказке… Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.
– Почему?
– Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом… И глаза у него хорошие…
– Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.
– Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. На Западе он в моде.
Костенко был по-прежнему зол – он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал:
– В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно…
Шрезель засмеялся.
– За что?
– За Ламброзо. Он знаете как определяет грабителя-рецидивиста?
– Не помню.
– Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти.
Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш «словесный портрет» еще раз.
– Неужели я такая образина? – спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: – Разве у меня нижняя челюсть выступает?
– Должен вас огорчить…
– О, погодите, у него внизу, вот здесь, – Шрезель открыл рот и показал два передних зуба, – были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли… Я могу фантазировать, если мне помогают! Еще вспомнил: он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что выходит на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.
– Что, вместе с ним убегали?
– Да что вы… Неужели я похож на тех, кто «вертит динамо»?
– А откуда вам известно про его штуки?
– Говорили в институте…
– Чего ж вы ему тогда холку не намылили?
– Не пойман – не вор.
– Тоже верно.
– Да, вот еще что… У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон – и навечно.
– А почему тогда его выгнали из института?
– Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лености ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится: я часто впадаю в какую-то духовную спячку – ничего не интересует, все мимо, мимо… Хочется сидеть, а еще лучше – лежать и не двигаться… У вас так не бывает? Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.
– А из какого общества?
– Я был далек от спорта.
– Как звали тренера, не помните?
– Нет, что вы… Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем…
– Они днем грабили, – сказал Костенко, – сволочи.
– У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать…
– Владислав Николаевич.
– Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.
Костенко улыбнулся:
– Благозвучно. Ему бы на сцену с таким именем.
Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.
– Очень мне с ним трудно, – вздохнул он, – жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница – не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!
– Она умерла.
– Знаете, просто чудесная была женщина. Тихая такая, добрая… Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке – крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам – немножечко гастроном. Люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание – это кухня… Я только на кухне, у плиты, по-настоящему воодушевляюсь, только там я смел в решениях, только когда варю борщок – я чувствую себя личностью… Мы на этой почве очень подружились с его матушкой…
– Вы у них часто бывали?
– Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться – это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.
– Смекалистый был парень?
– Да. Очень. Но я же говорил вам – леность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил.
– А деньги откуда?
– На галстук-бабочку?
– Нет. На красивую одежду.
– Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще, очень был элегантный парень. Такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.
– За что?
– Никто не знает. До сих пор.
– Вы адрес Кодицкого помните?
– Конечно.
– Давайте-ка я запишу.
Кодицкий
– Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.
– А в чем д-дело? – поинтересовался Садчиков.
– В нас с ним.
– Вы мне мож-жете рассказать?
– Нет.
– Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупицы сведений о нем.
– Это ясно.
– Так что нам нужна ваша помощь.
– Я же говорю – я тут необъективен.
– А что вы можете рассказать о нем – даже необъективно?
– Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу – косвенного. А он про это ничего не знает… Так что – какой смысл?
– З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С наганом в кармане, ясно это в-вам? Он сейчас ходит по городу с оружием!
– Вы будете протоколировать то, что я скажу?
– Вы не х-хотите этого?
– Я требую, чтобы этого не было.
– Обещаю вам.
– Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.
Я тихо ушел из квартиры – они не слышали меня – и ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы… Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали абортов. И родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А ведь она была честным человеком. Честный же человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно – мне где-то очень трудно судить об этом – совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по горному Вилюю.
– Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.
– Зачем?
– Для будущего. И за п-прошлое.
– Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.
Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:
– Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю не больше месяца в году… Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.
– Большая экспед-диция? – спросил Садчиков.
Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:
– Там видно будет.
– Но Шрезеля вы с собой не возьмете?
– Аппарат у вас четко работает…
– Иначе бы за что деньги платить?
– Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею.
Опознают
Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве – торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.
Он вдруг вспомнил, словно увидел кинокадры, тот сентябрьский день, когда отец привел его в школу. Он не помнил себя, он только мог себя представить – маленького, в длинной серой гимнастерке, перетянутой поясом, который все время сползал с живота. Но он точно помнил отца – у него были холодные пальцы, когда он сжимал Ленькину маленькую руку, подводя его к торжественной линейке первоклассников. День тогда был совсем летний, и осень угадывалась только в том, как высверкивали паутинки, попадая в переливы белого солнца.
«Ну, сынка, иди, – сказал отец, – иди и не бойся…»
Отец часто повторял эту фразу: «иди и не бойся». Он всегда был смелым человеком, его отец: и когда его оклеветали в тридцать седьмом, и когда он строил дорогу на Колыме, и на фронте – сначала в штрафбате, а потом в саперных войсках, где он дослужился до майора и получил три ордена, тяжелое ранение и контузию; он всегда был смелым человеком, всегда и всюду – кроме дома. Здесь, когда начинались скандалы, Ленька прятал голову под подушку, чтобы не видеть отца – совсем непохожего на самого себя, жалкого и беспомощного… После скандалов и мать и отец задабривали Леньку, каждый старался утащить его к себе, а сердце у мальчонки разрывалось, потому что нет детей, которые бы любили мать больше отца или наоборот. Пожалуй, никто так не наделен чувством справедливости, как дети.
«Иди и не бойся…» Ленька часто вспоминал слова отца во время домашних скандалов. Укрыв голову подушкой, он плакал, потому что гнетущее чувство страха не покидало его в те часы: ничто так не калечит ребенка, как домашние сцены.
Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх, похожий на тот, который он испытывал дома, ушел, и тюрьма не казалась ему такой ужасной, как днем у Льва. Но сейчас снова давешний тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятной, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. И эти страшные слова: «А мальчик-то был? Может, мальчика-то и не было?» – показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. Сначала тюрьма, потом трудовая колония, лопата и нары, а жизнь – мимо. Прощай, поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три, прощай, ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через десять лет или сколько там дадут, год, два – больше или меньше, разницы в этом никакой, – вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанная, ни во что не верящая и ничего не желающая зрелость.
И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчикова, которые кормили его колбасой, поили газированной водой и улыбались, будто они его друзья, а ведь именно они посадят его в тюрьму, именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты? Что им?..
Работники скупки и домовой лавки, которые были ограблены восьмого и двенадцатого мая, пришли в управление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались – это была их первая практика. Садчиков сказал:
– Вы это, х-хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем т-того парня, так ему не до улыбок. Ясно? Вы его так сраз-зу под монастырь подведете. Так что давайте без шуток, пожалуйста…
Леньку посадили между двумя парнями – высокими, в легких теннисках. Четвертого, выпускника МГУ – Сашу Савельева, устроили чуть поодаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко:
– Зови кассира из лавки.
Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом, как на спасителя, на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица.
– Вы здесь н-никого не узнаете? – спросил он. – Из тех, что у вас б-были?
Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой.
– Никого, – тихо сказала она.
– Никого? – переспросил Костенко.
Она снова покачала головой.
– Не слышу, – сказал Садчиков.
– Не узнаю, – сказала женщина.
– Спасибо. Вы с-свободны.
Костенко пригласил оценщика из скупки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил:
– Эти?
– Я вас хотел спросить…
– Ах, негодяи паршивые! – начал он, разглядывая трех, сидевших у стены. – Ах, паразиты поганые! Нет на вас креста, мерзавцы!
– Тише, тише, – сказал Костенко, – давайте без эмоций.
Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал:
– Из этой троицы никого.
– А этот? – показал Костенко на Савельева.
– Этот? В синей рубашке?
– Да…
Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом так же быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит, ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул:
– Да… Лицо, прямо скажем…
– Какое? – спросил Садчиков.
– Вы же сказали – без эмоций…
– Я вас спрашиваю: он или нет?
– Как вам сказать…
– Ладно, спасибо, – сказал Костенко, – больше ничего не надо.
Девушка, которая выписывала в скупке чеки, оглядев всех, сразу же сказала:
– Здесь никого нет.
Садчиков облегченно вздохнул.
– Спасибо, ребята, – сказал Костенко. – А тебя, Савельев, надо в камеру. Лицо-то у тебя, «прямо скажем», а?
Ленька разлепил губы и спросил:
– Можно попить?
– Валяй, – ответил Садчиков. – Что, п-перетрусил?
– Нет. Теперь все равно.
– Глупость говоришь.
– Может быть… Только я так думаю…
– Глупость, – повторил Садчиков. – Сиди т-тут, я сейчас.
– Ты куда? – спросил Костенко.
– Да так… – ответил Садчиков. – Скоро вернусь.
Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий и – это было сразу видно – тяжелобольной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. «Не можете вместе жить – разойдитесь к черту! Себя мучаете и парня губите! Когда дома непорядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать, – уезжай, к черту, в свои леса! Наведывайся два раза в год: и жена твоя будет довольна, и дома тихо. А если она начнет здесь флирты там всякие с тити-мити, возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать тоже полезно. Для поэтов особенно. А так – вы грызетесь, а нам потом ребят в тюрьму сажай, да? Мы плохие, а вы хорошие и добренькие? Плачете, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное, сердце-то? Или, может, нет?»
Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал:
– Совести в вас ни на грош, товарищ Самсонов…
Вошел Садчиков и стал у порога.
– Да входите же, – досадливо поморщился комиссар.
– Он на тех д-делах не б-был.
– А вы сомневались?
– Если бы я не сом-мневался, вы б меня с работы уволили, т-товарищ комиссар.
– Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня, понимаете ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости. В восемь утра русский письменный.
– Знаю.
– Да. Сочинение. Парень-то с-способный, товарищ комиссар, явно с-способный…
– Куда его будем помещать? В приемник или пока подержим у нас, в камере?
Самсонов закрыл глаза ладонью и начал медленно раскачиваться на стуле – вперед-назад, вперед-назад…
Садчиков сказал:
– Я бы его отпус-стил по подписке. Вот и от-тец здесь. И чтоб без отца носу на улицу не высовывал…
– Отец – дело, конечно, великое. Только вы давайте свяжитесь со школой. Как они на это посмотрят… Пусть письмо мне напишут… Иначе я ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников, мил душа, сами знаете…
– Слушай, – сказал Садчиков Леньке, – мы т-тебя отпускаем до суда.
– Что?
– То, что с-слышишь. Отпускаем.
– Куда?
– В школу.
– А после?
– Домой. Сиди и н-носа не высовывай. После экзамена позвони – ты мне будешь нужен. Читу будем вместе ловить.
– Читу?
– Нет, г-гориллу, – сказал Садчиков. – Что-то ты, парень, соображать перестал от радости.
– И я сейчас могу уйти?
– Пропуск сначала надо в-выписать.
– Куда?
– В баню. Смотри с р-радости не натвори еще чего. Только завтра сразу после экзамена з-звони. Не забудешь? Нá телефон. Р-ребятам ничего не говори. Понял? Б-будут спрашивать – отшучивайся. Никто не должен знать, что ты был в к-кассе, а потом – у нас. Понял?
– Понял.
– Ну, будь здоров, Ленька. До з-завтра. Иди вниз, там отец ждет…
Самсонов бросился к Леньке и стал быстрыми сухими и очень холодными руками ощупывать его лицо, голову и плечи.
– Мальчик, мальчик, мальчик мой, – говорил он быстро, и губы у него тряслись, и лицо плясало, и слезы текли из глаз. – Ну что ты, что ты, Ленечка, ну не надо, все кончилось, мальчик, все прошло, не надо… Ну прости меня, мама тоже все поняла, она ждет нас, мальчик, она все поняла…
– Не надо, папочка, – так же быстро и тихо просил Ленька, – только не надо так говорить, папочка, ты так никогда не говорил. Не надо так со мной разговаривать, папочка.
Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Росляков. Комиссар неторопливо расхаживал по кабинету, иногда задерживался возле окна, рассматривая прохожих. Докладывал Садчиков:
– Таким о-образом, взвесив собранные оперативные мат-териалы, мы предлагаем с завтрашнего дня установить к-круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города с прочесыванием ресторанов. Думаю, что т-там, и только там, мы можем найти Назаренко. Выйти на п-прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать в-версию тренера, по словам одного из опрошенных длинного парня, сходного по п-приметам со вторым преступником. Тот, по-видимому, является г-главарем банды, но самое надежное – выйти на него ч-через Назаренко.
– Вы будете по улице Горького гулять, – сказал комиссар, – а он сейчас – ту-ту – в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кафе и молочные коктейли пьет. Так может быть?
– Может, – согласился Садчиков.
– А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете.
– Курорт – на Черном море, – сказал Костенко.
– На Черном море, если быть точным, не курорт, а отдых, Костенко. Курорт – в Ессентуках, где кишки промывают…
– Мы не видим иного пути, – упрямо повторил Костенко.
– Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?
– То же, что товарищи…
Комиссар внимательно посмотрел на Костенко, пожевал губами, и некое подобие хитрой усмешки появилось у него на лице.
– Вы мне эту корпоративность бросьте! Костенко – якобинец, а вы свою голову имейте на плечах! В одну дуду дуете? Скучно жить, если все в одну дуду!
– Это не дуда, товарищ комиссар, – заметил Костенко, – а наше мнение…
– Засаду на квартире оставили? – спросил комиссар.
– Так точно.
– В отделениях его фотографии уже есть?
– Да, но только институтских времен.
– Что он, себе перманент, что ль, с тех пор накрутил? Ладно. День, от силы два побродите. Только трое вас – густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь, а вы себе возьмите опера из пятидесятого, он улицу Горького как «Отче наш» знает. Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все. Можете быть свободны…
Маша
Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену. В комнате было тихо и пахло свежевымытым полом. На столе рядом с тарелкой, на которой лежали помидор, два огурца и несколько ломтиков колбасы, белело письмо, придавленное ножом.
Костенко включил свет, сел к столу и вскрыл конверт.
«Здравствуй, милый!
Я сегодня видела очень хороший сон. Как будто мы пошли с Аришкой на пруд, туда, к заводи, около старой мельницы, и начали стирать белье. Мы очень долго стирали, потому что Ариша какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тюбике и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье и вдруг вижу, как по тропинке из леса идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда, чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому – когда у тебя будет отпуск? Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристает: “Скоро папа приедет?” Я говорю: “Скоро”, а она: “Ты честно говоришь?” Я отвечаю: “Ну конечно”. Тогда она улыбается и просит: “Скажи громче”. Когда поедешь, обязательно купи в “Синтетике” ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень жжет, а вода по-прежнему холодная. Вообще этот год какой-то ненормальный. Бабки в деревне говорят, что високосный год очень опасен; они уверяют, что в високосный год опасно есть рыбу, потому что многие умирают, подавившись костями. Может быть, это чушь, только ты рыбу не ешь, пожалуйста, а то я очень волнуюсь.
Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а помочь, даже если б жила рядом, не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть аскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила.
По вечерам здесь поют песни. Знаешь, интересно, поют одни бабы. Мужики только слушают, сидят на завалинке, курят папиросы и слушают… Очень сосредоточенно слушают, будто работают… А до войны, мама говорила, и мужики пели… Аришка очень смешно выводит: “Летят утки и два гуся”, слух у нее хороший, но я ни за что не буду заставлять ее учиться музыке. Это должно быть в человеке заложено – как жажда. Если она сама будет просить – тогда отдадим ее в школу… И потом, пианино поставить некуда… Если мы еще пианино поставим – придется нам самим в палатке, на улице, жить… Не ругайся в исполкоме: сколько уже терпели, теперь, наверное, недолго осталось… А вообще, была б моя воля и не окажись я твоей “подкаблучной женой”, переехали бы мы в деревню, право слово… Наш участковый, дядя Прохор, так хорошо живет – ездит себе на лошади и нюхает воздух – где самогон пьют… Сирень цветет вовсю: деревня в белой кипени; рано утром выйдешь на крыльцо – туман еще лежит над рекой, и даже не верится, что это все правда… Ты заметил, когда очень красиво и хорошо, люди обычно говорят – “как в сказке”.
Ой, приезжай, пожалуйста, скорее! Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка: красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую. Маша».
Садчиков и Галя
– Послушай, Г-галка, – сказал Садчиков, – у нас все-таки нелепые законы.
– Это что-то новое у тебя, – сказала Галина Васильевна, – откуда такая оппозиционность?
– Нет, п-правда, – повторил Садчиков. – Мне сорок три, а уже пора на пенсию. За шестнадцать лет я в-выработался, как за пятьдес-сят.
– Напиши в правительство.
– Очень хорошая идея, – усмехнулся Садчиков, – там все ж-ждут моего письма, как манны небесной. Дети спят?
– Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина и коклюш.
– Да? Черт, п-плохо.
– У тебя прелестная реакция на мои сообщения, – заметила Галина Васильевна, – я завидую твоему спокойствию.
– Зависть – черное чувство, оно п-портит человека, – улыбнулся он.
– Не одно оно.
– Тоже верно. Слушай, у меня есть к-крахмальные рубашки?
– Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсия, потом крахмальные рубашки. Где логика?
– Я ее оставляю на Петровке, в с-сейфе. Без нее мне легче дышится. Это довольно каверзная штука – логика.
– У тебя плохое настроение? Что-нибудь стряслось на работе?
– Да нет, ничего особенного.
Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем.
– Бедный мой Садчиков! – сказала она, вздохнув. – У тебя нет крахмальных рубашек.
– Плохо. Вообще мне надо купить несколько крахмальных рубашек.
– Их не покупают. Их крахмалят дома.
– Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках.
– Городские дети…
– Деревенские тоже. До г-года.
– До трех.
Садчиков предложил:
– Сойдемся на двух, а?
– Ты ужасно испортился за последнее время, – вздохнула Галина Васильевна. – Этот жаргон: «сойдемся».
– Тебе б-больше нравится «разойдемся»? – спросил Садчиков.
Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила:
– Иногда.
– Что с-с т-тобой?
– Ничего.
– Я спрашиваю т-тебя.
– А я отвечаю. Это твой обычный ответ. «Ничего» – и все тут.
– Ты же умная ж-женщина.
– Боюсь, что ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго. А особенно с женами.
– Что с т-тобой, Галка? – повторил Садчиков.
– Ничего, – ответила она и, взяв его белую рубашку, ушла в ванную комнату.
Он вошел к детям. Они спали, разметавшись в своих кроватках. Садчиков любил подолгу смотреть, как они спали. Тогда все дневное, тягостное отходило, растворялось, а потом исчезало вовсе.
«Семь лет, говорят, критический срок в браке, – думал он. – Сначала три года, потом семь, а потом одиннадцать. Если пережить эти три рубежа, тогда все будет в порядке. Значит, три мы пережили. Сейчас остается пережить семь. А что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если б ей делать нечего, а то ведь и в клинике работает, и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с нее? Может быть, начинать надо с меня? Наверное, да. Хотя считается, что в семье всё от женщины. От нее идут и спокойствие и неурядицы. Считается? А почему так считается? Черт, как бы сохранить – внешне – все атрибуты влюбленности? Женщины все-таки ужасно любят внешние проявления влюбленности. Они смущаются, когда им целуют руку, но им же это нравится. Разве нет? Теперь буду каждый вечер целовать Галке руку, – усмехнувшись, решил Садчиков, – может быть, это ее успокоит…»
…Она разводила крахмал на кухне и плакала так, чтобы он не мог ее слышать. Думала: «Мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе по носу дадут, как любопытной кошке. А разве все так должно быть? Зачем же тогда одна крыша? Или это во мне говорит наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он не пьяница, не гуляка – чего же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Это значит – совсем не уважать себя. Раз водку не пьет, и с чужими бабами не спит, и деньги домой приносит – значит, все хорошо, да? А сердце хочет еще чего-то… Тот маленький красный комочек, который я режу и шью, он хочет чего-то еще, того, чего у нас нет. А чего у нас нет? Журналов вслух не читаем? В зоопарк с детьми не ходим? Чего же мне надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто? Может, это во мне инстинкты разгулялись в тридцать пять лет, а я под них подвожу основу?»
Галина Васильевна вздрогнула и стала быстро мыть лицо, чтобы он не заметил, как она плакала. Потом она накрахмалила рубашку и тихонько позвала:
– Милый, не сердись, пожалуйста, это я просто дура.
Но Садчиков не слышал ее. Он спал, укрыв голову подушкой, и стонал во сне.
Галина Васильевна присела на стул возле кровати и долго смотрела на спящего Садчикова.
«Ничего у нас не выйдет с ним, – вдруг отчетливо и горько поняла она. – У него своя жизнь, а у меня – своя. Только моя жизнь интересней его: когда я в клинике, среди моих друзей, я себя чувствую совсем иначе. Я ведь прощаю и Григорию Павловичу, и Роману, и Нине Константиновне то, что никогда бы не простила Садчикову: и злую шутку, и даже крик – Роман кричит как полоумный, когда делает обход… Зачем же я мучаю бедного Садчикова, которому стольким обязана? Развестись? А ведь он меня любит… Никто и никогда так не будет меня любить, как он… Хотя, может быть, важнее, чтобы ты любила, а не тебя любили… Как это говорят юристы – “модус вивенди”? Наверное, нельзя оставлять детей без отца… Надо жить, сохраняя приличия, хотя нет ничего страшнее, чем брак без любви… Все равно рано или поздно это отомстит нам – и мне и ему… Сказать ему, что надо расстаться? Он не поймет… Добрый, милый Садчиков… Он не поймет… Он живет по своим законам, и он решит, что я спятила… И – наверное – правильно решит…»
Чита и Сударь
Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это труднообъяснимо, но это так. В тот самый день, когда пришел Сударь и попросил спрятать пистолет, Чита испугался, но давнишнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу Надю – натурщицу из художественного училища, но все равно не мог заснуть до трех, а то и пяти часов утра.
– Надя, – шептал он, – ты только не спи.
– А что? – сонно спрашивала женщина.
– На лестнице кто-то стоит, – говорил он. – Ты никому не рассказывала, что у меня будешь?
– Любовнику говорила, – сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке.
– Надя, – шептал он, – ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной.
– Да ну тебя… Зазывает, а сам только говорит. Что я тебе, для собеседований нужна? Или для любви?
Надя снова засыпала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся, но страх был четок и осязаем. Особенно под утро, когда воцарялась тишина и все вокруг делалось непроглядно темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может. И он пошел к Сударю…
Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру после того, как отец Сударя был арестован по делу Берии органами государственной безопасности.
Мать круглый год жила в Сухуми, у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того как отец был арестован, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал думать о деньгах. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников. Он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов – шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У Сударя была «Победа», он уезжал в пятницу на Большую Волгу, покупал задарма в рыболовецком колхозе двести килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот Малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом, и Сударь увозил домой пару тысяч: на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиция, и Сударь, приехав в субботу к условленному месту, остался ни с чем. Рыба протухла, и он, помотавшись по московским базарам без толку, ночью выбросил ее в Москву-реку. Приехав домой, он напился до зеленых чертей и начал бить о стены блюдца и чашки.
Утром он долго не мог сообразить, что с ним. Голова трещала, во рту было горько, руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не мог, потому что очень мутило. Его строго предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город, туда, где раньше у них была дача, и лег в высокую траву.
«Ненавижу все! – пронеслось в мозгу. – Все и всех ненавижу. Они у меня отняли то, что было моим. За это они должны поплатиться».
Сударь лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать: «А кто они? Люди. И те, которые наверху, и те, кто внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной». Сударь вспоминал, что с потерей отца он лишился всего, к чему привык с детства. А привык он к шоферам, которые возили его с девушками за город; к паюсной икре и дорогим коньякам, которые обычно пил отец; к лучшим портным и к деньгам, которые были у него всегда. Впервые отец дал ему денег, когда он учился в пятом классе. Мальчик попросил отца в воскресенье помочь ему с арифметической задачей – у него никак не сходился ответ. Отец достал из заднего кармана галифе пачку денег и сказал: «Пусть тебе наймут репетитора». Потом он научился понимать – что можно было просить у отца, а что – нельзя. Он понял, например, что нельзя просить отца пойти с ним в зоопарк или в Парк культуры. Он завидовал тем ребятам, которые ходили с родителями в кино и театры – он был этого лишен. Он не мог просить отца сыграть с ним в «морской бой», в «слова» или в шахматы. Но зато – став взрослее, он себя успокаивал этим, – он всегда мог попросить у отца машину, деньги, путевку на юг. Но он помнил, и сейчас до ужаса ясно видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный, с белыми глазами, бил мать нагайкой, а потом запирал ее в уборной и приводил к себе молчаливых пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, избил до полусмерти. Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь тогда мечтал о том, чтобы отец умер, а им бы дали пенсию и оставили машину, дачу и шофера. Но отец не успел умереть. Его расстреляли вместе с Берией.
…Вернувшись в Москву вечером, Сударь проткнул шилом несколько баллонов у машин, которые стояли в их дворе. Он смотрел из окна, как владельцы, чертыхаясь, клеили баллоны и ругали милицию, которая не может навести порядка. Он стоял у окна, тихо смеялся и чувствовал себя отомщенным – хоть в малости.
С работы его прогнали через полгода за пьянство. Тогда он начал отгонять машины от автомагазина на Бакунинской до берегов Черного моря тем, которые сами не умели водить. Ему за это неплохо платили, и неделю он ни о чем не думал, а только вел машину и пел песни. А потом и это кончилось: с него взяли в милиции подписку об устройстве на работу. Сударь начал работать снабженцем на текстильной фабрике. Именно здесь он и познакомился с человеком, который называл себя Прохором. Здесь он впервые попробовал, что такое наркотик; здесь он впервые – в холодном, яростном полубреду – услышал «программу» Прохора: как и кому надо мстить.
Чита пришел к Сударю вместе с Надей.
– Слушай, – сказал он, пока Надя варила на кухне макароны, – хочешь, я тебе мою Надьку на ночь оставлю, а?
– Хочу.
– Такая, знаешь, женщина…
– Ничего бабец.
– Только пистолет у меня забери.
Сударь ответил:
– Не-е. Ты у меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? Обыск, кандалы, пять лет тюрьмы – и с пламенным приветом! Надька и так ко мне в кровать прыгнет.
– Сволочь ты…
– Ну-ну!
– Тогда четвертак дай. Я спать не могу – страшно. Может захмелюсь – усну…
– Ничего, потом отоспишься. А деньги – их зарабатывать надо, а не клянчить.
– Как?
– Умно. Хочешь пятьсот рублей получить?
– Пятьдесят?
– Пятьсот. Пять тысяч по-старому.
– Конечно, хочу.
– Ну и ладно. Завтра получишь.
– Только слушай, Сударь… Может, ты что-нибудь не то придумал?
– То! Я всегда то, что надо, придумываю.
– На преступление не пойду.
– Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? А? Мы тебе рекомендацию справим, характеристику дадим… Добровольцем-комсомольцем на целину не хочешь? А? Что молчишь? Ты не молчи, ты мне отвечай…
– Я на преступление не пойду, – повторил Чита. – Сколько б ты мне ни сулил.
– Молчи. Ты только молчи и меня не беси, понял? «Не пойду на преступление»! А кто у меня на кровати Милку изнасиловал? Кто? Ей пятнадцать, она несовершеннолетняя, это забыл? А кто со мной часы у пьяного старика в подъезде снял? Это забыл? А кто мне про ящики с водкой сказал? Это тоже забыл? А кто таксиста ключом по голове бил? Я? Или ты? Номер-то я помню: ММТ 98–20! Девятый парк, восьмая колонна, мальчик! Он тебя узнает, обрадуется! На мои деньги пить, жрать и с бабами шустрить ты мастак, да? Пошел вон отсюда! Ну!
– Что ты взъелся? Я про тебя тоже знаю…
– Я сам про себя ничего не знаю. Давай греби отсюда, греби.
– Дай пожрать-то.
– Не будет тебе здесь жратвы.
– Мне ехать не на чем.
– Пешком топай. Или динамо крути – это твоя специальность.
– Погоди, Саш, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятись только. Ты мне объясни все толком.
– «Толком»… Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость не сделаю, не думай. Я семь раз взвешу, один раз отрежу. И если тебя зову, так будь спокоен – значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди трусы. Видят, как жулик в карман лезет, – отвернутся, потому что за свою шкуру дрожат. А если пистолет в рыло – он потечет вовсе, понял? Сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машина у подъезда. С другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу – кусок и нам по пятерке.
– А остальные куда? – быстро подсчитав, спросил Чита.
– В Дом ребенка, – ответил Сударь и засмеялся.
Он продолжал смеяться и тогда, когда ушли Надя и Чита. Смеясь, он подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, открыл дверцы и достал наркотик. После этого он еще несколько минут смеялся, а потом, тяжело вздохнув, лег на тахту и закрыл глаза. Полежав минуты три с закрытыми глазами, он сел к телефону и стал ждать звонка. Ровно в семь к нему позвонили. Перед тем как снять трубку, Сударь вытер вспотевшие ладони о лацкан пиджака и внимательно их осмотрел. Ладони были неестественного цвета.
«Завтра к гомеопату пойду, – подумал Сударь, – пусть пилюли пропишет».
Сударь снял трубку.
– Сань? – спросил глуховатый сильный голос. – Это ты, что ль?
– Да.
– Ну здравствуй. Как чувствуешь себя? Товар ничего?
– Марафет, что ли?
– Ишь пижон-то. Наркотик марафетом называешь… Смотри только слишком не шали.
– Я знаю норму, Прохор.
– Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно, а? Если стыдно – ты скажи, я пойму, я добрый. Это вы, молодежь, стыд забыли, а мы, старики, совестливые.
Сударь засмеялся и сказал:
– Стыдно.
– Гуще смейся, а то, слышится мне, притворяешься ты вроде.
– Честно.
– Ну тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюся…
– Не волнуйся.
– У меня за тебя по утрам сердце болит, Сань, все думаю про тебя, думаю… Жалею я тебя…
– Пожалел волк кобылу…
– Ну а когда повидаемся-то, Сань? – тоненько посмеявшись словам Сударя, спросил Прохор.
– Завтра. В девять. У «Форума».
– А это чего такое, «Форум»-то?
– Кино.
– А… А я думал, кинотеатр…
Сударь сказал:
– Шутник ты, Прохор, – и положил трубку.
Назавтра в девять вечера Прохор передал Сударю еще два грамма наркотика и «дал наводку» на скупку по Средне-Самсоньевскому переулку. В тот же вечер Сударь поехал к шоферу Виктору Ганкину, вызвал его тонким свистом и условился о встрече. А потом, купив в магазине две бутылки коньяку, отправился к Чите.
После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, то у Сударя.
Третьи сутки
По улице Горького
В кабинете у Садчикова Валя Росляков громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма и человеколюбия.
– Она сделает мир шахматной доской, эта проклятая кибернетика! Она превратила людей в роботов!
– Ты с чего это? – поинтересовался Костенко. – Снова ходил на диспут динозавров с людьми?
– Нет, сидел у наших экспертов…
– Ну, извини.
– Да нет, ничего. А вообще-то черт-те что! Меня, индивида, проклятая кибернетика делает подопытным кроликом.
– А ты не хочешь?
– Не хочу.
– И правильно делаешь. А вот я очень хочу спать.
– Жалкие и ничтожные люди! – сказал Росляков. – Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой.
– Ну, извини.
– Иди к черту! – рассердился Росляков.
– Далеко идти.
– Ничего, наши кибернетики рассчитают тебе точный маршрут…
– Ладно. Тогда подожду… Только при других не надо так про кибернетику… Ей, бедолаге, так доставалось от наших мудрецов… А что касается подопытных кроликов… Ими мы останемся, не развивайся кибернетика, матерь техники двадцатого века…
– А папаша этой матери – человек? Делаем иконы, а потом начинаем уговаривать самих же себя этим иконам поклоняться… Кто информирует кибернетическое устройство о том, что ему – будущему роботу – надлежит исполнить? Человек, Слава, человек, со всеми его слабостями, горестями и пристрастиями…
– Дурашка… Когда будут созданы саморегулирующиеся устройства, они не позволят машине делать то, что будет продиктовано пристрастностью или слабостью… Исходные данные машины не позволят ей творить зло.
– Это ты серьезно?
– Как тебе сказать… Вообще-то – в высшей мере серьезно… Успокаиваю себя…
– Ну вот! Так кто же прав? Да здравствует восемнадцатой век, Слава! Век самостоятельного мышления…
– Именно… Восемнадцатый век мыслил, потому-то девятнадцатый подарил нам электричество, железную дорогу и кинематограф… Тебе, Валя, в черносотенцы надо податься: они ведь тоже боятся нового… Ну, они – понятно, мыслишек не хватает, трусы внутри… Слушай, я тебя лучше уволю из нашей группы, а?
Вошел Садчиков и сказал:
– Давайте, ребята, на ул-лицу. Пожалуй, что на координации здесь останусь я. Это комиссар прав. Буду за связного. Позванивайте ко мне. Две к-копейки есть?
– Я запасся, – сказал Костенко, – в метро наменял.
– Ленька позвонит – я его к вам п-подключу. Этот старичок с бородкой, у-учитель его, гов-ворит, что к устному ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе. Так что, я д-думаю, он с вами погуляет. Карточка карточкой, а когда в лицо знаешь, оно всегда н-надежней.
– Осудят его? – спросил Костенко. – Или все же на поруки передадут?
– Какой судья попадется, – сказал Садчиков. – Раз на раз не приходится.
– Это будет идиотизмом, если парня посадят, – сказал Росляков. – Тюрьма – для преступников, а не для мальчишек.
– Какой он м-мальчишка? – возразил Садчиков. – Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они, черти, образованные. С-смотри, как он стихи читает! Словно ему не семнадцать, а все тридцать пять.
– Ну и хорошо, – сказал Костенко, – жизни больше останется.
– Это как? – не понял Садчиков.
– А так. Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст – даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет, на заводе, со средним образованием, а мы? Только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще года два – дурни дурнями. Диплом – он красивый, да толку что, если синяков себе еще на морде не набил…
– Жаргон, жаргон, – сказал Садчиков. – «Морда» – это ч-что такое?
Росляков засмеялся и ответил:
– Это лицо по-древнерусски.
– Нет, а правда, – продолжал Костенко, заряжая пистолет, – вон Маша моя… Три года на заводе поработала, а сейчас ее можно с пятого курса без всякого диплома на оперативную работу брать.
– Во дает! – усмехнулся Росляков. – Как жену аттестует, а? Скромность украшает человека, ничего не скажешь.
– Так я ж не о себе.
– Муж и жена, – наставительно сказал Валя, – одна сатана. Будешь спорить?
– Спорить не буду.
– То-то же…
– Нет, не «то-то же», – усмехнулся он. – Я не буду спорить, потому что пословица есть: «Из двух спорящих виноват тот, кто умнее».
– Во дает! – повторил Росляков.
– Ладно, пошли Читу ловить, – сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова, – а то у тебя сегодня настроение, как у протоиерея Введенского – только б дискутировать…
Они шли по улице Горького вразвалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и не медленно, весело о чем-то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная – шаткая, ленивая, ноги они ставили чуть косолапо, так, как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около «Арагви» к ним подключился третий – оперативник из пятидесятого отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил:
– Ты что, по моде тридцать девятого года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас на улице двадцать градусов, а твоя зеленая панама за километр видна.
– Так я ж для маскировки, – улыбнулся оперативник. – Нас еще в школе учили, что шляпа меняет внешний облик до неузнаваемости…
– Для маскировки пойди и сними ее.
– И брюки поменяй, – предложил Валя, – а то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют.
– Не обижайся, – сказал Костенко, – он дело говорит. Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь. А то сейчас ты как на маскарад вырядился; «мастодонт-62»…
Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема: «Героизм в советской литературе»; были темы конкретные: «Образ Печорина» и «Фольклорные особенности прозы Гоголя».
Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, а потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки перо, остановился рядом с ним и тихо спросил:
– Леонид, в чем дело? Вольная тема специально для тебя.
Ленька взял ручку и обмакнул перо в чернильницу.
«Для меня, – зло подумал он, – черта с два! Я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза человеку говорить одно, а за глаза другое. Почему он сказал, что это для меня? Он не должен был так говорить. Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу, и как я молча стоял у окна, вместо того чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, а я самая последняя мелкая и трусливая дрянь».
Но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем писать, и он знал, что должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником.
Он сдал сочинение первым и сразу же пошел искать автомат – позвонить на Петровку…
– Слушай, Росляков, а опер был прав: без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок?
– У меня нет затылка, – ответил Костенко с достоинством, – у меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих затылок.
– Ну, извини, – сказал Росляков.
– Да нет, ничего, пожалуйста…
– Две макушки – это к чему? К счастью? Умный ты, значит, да?
– Именно. Два затылка свидетельствуют о незаурядности личности…
Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах – улицу часто поливали неповоротливые, как броневики, и такие же пузатые автомобили – играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки; негры; растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов; продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники; девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких, дерзко открытых халатиках; индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо – вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом, и надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже, надо все время приглядываться – нет ли сине-красного шрама на лбу, нет ли большого рта, яркого, словно накрашенного помадой; надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке, потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так, потому что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко, о его трусости и хамстве, о его страсти к ресторанам и к дешевой показухе, о его врожденной интуиции, осторожности и – вместе с тем – наглости.
Он обязательно должен появиться здесь, среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Один на один такие «герои» предают друг друга, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, плачут и впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся.
Если бы Чита почувствовал за собой «хвост», если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка – в этом муровцы тоже были убеждены – пришел бы не к себе домой, а скорее всего, на квартиру к своему длинному другу и заперся там, пережидая грозу.
По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку. ОРУД уже работает по всем гаражам и районным ГАИ, но «Витьку», о котором говорили грабители, пока не нашли. Да и был ли Витька Витькой? Сколько их, Витек, в московских гаражах? Тысяч пятнадцать, не меньше… И точно ли помнит Ленька? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень, «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт…» А они его за это целовали. Ворюги сентиментальны, им бы детские сказки слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили – свой, да и Ленька, верно, брякнул что-нибудь вроде того, что «жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту…». Есть такие – в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, лбом о стенку бьются. Ну этого не посадят. Не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя судья судье рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да и нет. Они – банда, а он – дурачок. На всю жизнь наука. Дома тарарам, приткнуться некуда, оступился…
«Впрочем, – остановил себя Костенко, – что значит “оступился”? Плохо, что мы слишком вольно трактуем закон. “Закон что дышло: куда повернешь – туда и вышло” – была когда-то такая поговорка. Трактовать по-разному допустимо поступок, а статьи закона обязаны быть едиными – вне всяких трактовок. Была банда – Чита и Длинный. Они не знали Леньку, а тот не знал их. Так? Так. Они позвали его с собой, не предупредив о своем намерении грабить кассу и стрелять в кассира. Смешно: “Пойдем, Лень, вместе с нами и убьем женщину в кассе…” Другое дело – он должен был не в парадном прятаться, а сразу же, немедленно прибежать к нам… Это можно квалифицировать не только как трусость, но и как пособничество грабителям. С некоторой натяжкой – но можно… И судье будет трудно объяснить, что в этом его поступке есть доля нашей вины, вины милиции. Если б все милиционеры работали с тактом, умно, если бы все они были со средним образованием, а желательно – с высшим – тогда другое дело. А ведь сами много портачим – разве нет?»
– Слава, – сказал Росляков, – ты бы съел мороженое?
– Два.
– Какое ты хочешь? Эскимо?
– Нет. Может быть, у нее есть фруктовое – я его больше всего люблю… Оно клубникой пахнет…
– Ладно. Я сейчас, мигом…
«Надо будет на суд пойти, – думал Костенко. – Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию? Комиссар вызовет “на ковер”, это уж точно, он такие вещи не прощает… Ну что ж… Пусть еще один выговор влепит – переживу… Но в суд пойти придется».
Лев Иванович хотел было прочитать Ленькино сочинение, но завуч Мария Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась, потому что все написанное Ленькой было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано: «Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести – значительно труднее. Л. Самсонов».
…Ленька долго не мог дозвониться к Садчикову, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читу и того, второго. Он сейчас бы знал, что надо сделать! Сейчас бы он бросился на них и вцепился мертвой хваткой. Потом его, полуживого, – Чита обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться так, чтобы рана не была смертельной, – привезли бы в больницу, он лежал бы белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах… Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька б молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали, и им было бы мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью.
Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади.
– А, Леня, – сказал Садчиков, – ну к-как, сдал экзамен?
– Сдал, – ответил Ленька.
– Свободен?
– Да.
– Давай-ка, дружок, б-быстренько ко мне, я пропуск уже заказал.
Когда Ленька сел на диван, Садчиков сказал:
– Ты сейчас пойдешь на улицу Горького. Там увидишь наших. Не обращай на них внимания. Не думай о них, х-ходи себе и смотри. Песенки пой. Мороженое кушай. Девушек р-разглядывай.
– Что я, пижон?
– По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?
– Нет, но как-то…
– Ясно. Очень убедительно возразил. Так вот, ты ходи и смотри Читу. Если надо б-будет – ребята тебя окликнут. Увидишь Читу – поздоровайся с ним и иди дальше. Он сделает несколько шагов вперед, ты его окликни и попроси с-спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Дог-говорились?
– Да.
– А как со следующим экзаменом?
– Это ж литература.
– А м-математика?
– Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом…
– Что?
– Нет, ничего. Просто так…
Садчиков поморщился.
– З-знаешь что, Леня, ты эт-ти свои гимназические «просто так» и «мне теперь все равно» брось. В жизни с человеком может случиться всякое, но рук опускать ни при каких ус-словиях нельзя… У меня друг есть, он с-сейчас доктор химических н-наук, лауреат, его весь м-мир знает. Так вот, он попал в передрягу почище твоей… Ес-сли это можно назвать передрягой… Он сбил человека, п-понимаешь? Не важно, что тот сам б-был виноват… Посадили моего дружка, пять лет д-дали… А он знаешь что в колонию попросил ему п-прислать? Книги. По его п-предмету… Вернулся, защитил диссертацию, работает вовсю… Обстоятельства м-могут ломать человека, но ведь на то ч-человек, что он обязан быть сильнее обстоятельств, к-как бы ему трудно ни было… Н-нюни распускать не надо… У каждого человека, даже в последнюю минуту перед гибелью, – я фронт имею в виду, когда п-положение безвыходное бывало, – в-все равно есть шанс спасти себя. Не ш-шкуру, конечно, шкуру спасти легко… Я б-беру, как говорится, комплекс: душу и тело…
– А меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии?
Садчиков усмехнулся:
– Как это у Гоголя? «Хорошо б, Пал Иваныч, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить, и чтобы купцы разным мелким товаром торговали». Вот ведь приучили нас перспективные планы строить… Т-ты думай об эк-кзаменах и как Читу узнать… Ладно, иди. И н-нос на квинту не вешай…
Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор громко кашлянул в трубку, вздохнул и осторожно ответил:
– Неплохо.
– Что, т-тройка?
– Нет, почему же… – Директор помолчал, снова осторожно покашлял и добавил: – Я склонен поставить ему высшую оценку.
И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков.
– Лень! – окликнул он его.
Тот обернулся.
– Да…
– С-слушай, – сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что тот написал, и хотелось сказать про это. Но он понял – сейчас этого говорить нельзя, потому что он может обидеться и решить, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал: – Я просто х-хотел спросить, есть ли у тебя п-папиросы. Если нет – возьми мои.
– Спасибо большое, – ответил Ленька, – только я не курю.
Через полчаса в кабинет к Садчикову зашел майор Вано Иванович Зенберошвили из научно-технического отдела.
– Привет, старик, – сказал он. – Росляков просил поработать со следом машины… Помнишь, во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек…
– Не тяни душу…
– Души нет, ты что – забыл?
– Аксиома.
– Ну, – усмехнулся Зенберошвили.
– Ближе к д-делу, Вано.
– Я всегда близок к делу…
– В данном случае ты забалтываешь истину.
– Воспринимаю как оскорбление…
– Н-ну, извини.
– Ничего, важно, чтоб человек был хороший… Так вот, след принадлежит «Москвичу»-пикапу. Левый передний скат у «Москвича» почти целиком сожран, развал дрянной. Правый скат совершенно новый. Вот, в таком разрезе.
– Спас-сибо.
– Не на чем.
– ОРУДу теперь будет легче?
– ОРУДу, старик, всегда легко… ОРУД – не МУР. Будь здоров.
– Спасибо тебе, Вано…
Готовятся к встрече
Прохор позвонил Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтому приехал ночевать к Сударю, а не к ней. Домой он не ходил и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, старался не думать. Да и потом, Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год – в Ялту, Гагру, к черту и дьяволу. А о том, что после этого веселого полугода домой все-таки придется возвращаться, он боялся даже и подумать… Жить и ни о чем не заботиться – только одного этого ему сейчас и хотелось.
– Сань, – сказал Прохор, – ты это… ты сегодня меня увидь. У меня все уже выяснилось с тем, про чего я говорил тогда, помнишь?
– Помню.
– Где увидимся-то?
– А где ты хочешь?
– Ты свое предложи, Сань…
– Давай в центре. Около Пушкина.
– Нет. Я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне туда ехать на метро просто, без пересадок. А?
– Что, у Курского народу меньше? – спросил Сударь. – Тоже мне, нашел пустыню…
– Там народу вовсе нет, – ответил Прохор. – Ты чего говоришь, Сань, ты ж умный! Там не народ, там пассажиры, а они ездят, пассажиры-то, они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно?.. Договорились? Не забудешь? У касс. Лады? Ну, пока, Сань.
– Пока.
– Э, Сань, погоди. Ты это… ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу.
– Ладно, – ответил Сударь, – возьму.
Разбудив Читу, он сказал:
– Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с человеком. Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе.
– Про кого?
– Ну, про того парня, которого я взял в кассу. Про мальчишку этого…
– А что такого?
– А то, что водку жрать нельзя перед делом! Хорошо, если он смылся, а ну как его поймали? Начнут мотать… А вдруг мы с тобой что-нибудь ляпнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач, особенно когда банку примешь.
– Я молчал.
– Ты и молча умеешь трепаться.
– Сам больно хороший.
Сударь легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул.
– Вставай, – сказал он, – пойдем жрать. У меня с похмелюги башка трещит.
– Куда? В «Москву»?
Сударь подумал с минуту, а потом ответил:
– Не-е. Я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в Парк культуры. Чайки летают, мамаши одинокие с деточками прогуливаются.
– В парк – так в парк…
– Слышь, а Надька с тобой в кабак пошла, мне ногу жала, а уехала с тем парнем.
– С каким?
– Ну, с черным с этим, который ее танцевать клеил…
– Она одна ушла.
– Киря… Он ее за углом в такси ждал.
– Точно?
– Точно.
– Вот паскуда…
– То-то и оно…
Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку; прыгая на одной ноге, влез в брюки и только потом, помахав руками, что заменяло ему зарядку, сказал:
– Зараза. Меньше чем за ящик коньяку не прощу.
– Я б за чекушку простил, – сказал Сударь, – она ж проститутка. Скучно. Все заранее известно – как расписание поездов. Лично я влюбиться хочу. В девственницу. И чтоб любовь была – со слезами, с ревностью, чтоб пострадать можно было… А Надька твоя как животное…
– Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственницы твои с родителями живут, им родители шмон учиняют, давят авторитетом… Я пистолет возьму, ладно?
– Это зачем?
– К Надьке съездим.
– Расстрелять хочешь?
– Ага. Приведу в исполнение.
– Ладно, пошли. Наган не бери, заметят – шухер будет. А Надьку лучше душить, у ней шея толстая, под пальцем будет ерзать…
Снова ходят
Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал на другое задание, шел вместе с Ленькой, а Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними, только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проезда МХАТа и улицы Горького, а потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского.
Садчиков сказал:
– Обидно, Лень, мы с т-тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего с-стоят. Как ты думаешь, что формирует у нас бандитов?
– Не знаю.
– А ты п-подумай…
– Я думал…
– Водка, Л-леня… Пить не умеешь – глотай кефир. Ненавижу пьяниц.
– Это вы всё про меня? – спросил Ленька.
– Отчасти, – улыбнулся Садчиков, – но ты еще н-начинающий алкаш.
– У меня начало оказалось концом.
– Как на торжественно-траурном заседании излагаешь, – снова улыбнулся Садчиков, – ты проще г-говори, это с-сближает. Мы ж с тобой условились… Проще из-злагай…
– Так я ж просто и говорю. В жизни больше водки не выпью.
– Ну, зароков вслух не давай, не н-надо. Ты про себя больше ст-тарайся. Вслух – все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на с-собрании. За дело, правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну – и айда себя помоями обливать. «Я, говорит, и т-такой и с-сякой, я и негодяй, я и слепец…» А потом – фьюить! «Все, говорит, о-осознал, все понял и вас, говорит, благодарю». Даже, представь себе, хлопать ему н-начали. А по-моему, он подонок. Если б он выш-шел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, – куда как п-правдивей это все было бы, честное слово.
Садчиков легонько подтолкнул Леньку в бок и показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу и половину лица занимали большие зеркальные очки.
– Нет, – сразу же ответил Ленька, – не он.
– Тише, – поморщился Садчиков, – г-головой качни, и достаточно.
Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал Леньке:
– Смотри, как к-красиво «Березку» отделали, а?
Ленька не понял и переспросил:
– Что?
– Красиво, говорю, в-витрину отделали, – ответил Садчиков и пошел дальше.
А оперативник, который был рядом с Костенко, заметил знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двигался следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу.
Росляков вернулся в управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ и отобрал фотографии всех высоких тренеров от двадцати пяти до тридцати лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой «молнией» и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь – обтрепанные манжеты, – о которой ему рассказал рыжий геолог Гипатов уже в передней, провожая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал: «Шерлокхолмовщина заедает. Манжеты, видите ли! Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают…» Он настойчиво отвергал эту «манжетную шерлокхолмовскую версию», но она неотступно сидела у него в голове.
Впрочем, Костенко всегда спорил с теми, кто потешался над Шерлоком Холмсом.
«Это от интеллектуальной недостаточности вы на англичанина нападаете, – говорил он. – Дедуктивный метод в ваши годы не проходили, его, наверное, считали буржуазным и идеалистическим… А мозг тренировать надо… И Конан Дойл именно к этому призывал своих читателей… И потом, это благородно-отважный сыщик… Шерлоку Холмсу даже памятник стоит в Лондоне. А у нас про майора Пронина рассказывают анекдоты; и если милиционеру нужен свидетель, бегут люди, как лани… Конан Дойл был логик; это качество не столько врожденное, сколько благоприобретенное, в нашей работе необходимое, а мы от него, как черт от ладана…»
Росляков спустился к дежурному и спросил:
– От Садчикова нет ничего?
Дежурный ответил:
– Молчит.
– Может быть, мне туда подключиться? – сказал Росляков.
– Пожалуй, лучше вам быть здесь.
– Пожалуй, – согласился Росляков, – я пойду перекушу на полчасика, ладно?
– Валяйте…
– Если оттуда позвонят – я в буфете.
Ленька спросил:
– Может быть, немного посидим?
– Это ночью, – ответил Садчиков.
– Ноги отваливаются.
Садчиков остановился и сказал:
– А ну, п-покажи! Никогда не видел, как н-ноги отваливаются.
Ленька улыбнулся.
– Знаете, – сказал он, – я хотел у вас попросить совета.
– Это можно.
– Что мне делать?
– Смотреть по сторонам, – ответил Садчиков.
– Я не о сегодняшнем дне.
– Ах так… Ну что ж… По-моему, надо хорошо сдать эк-кзамены – и сразу на завод. Чтоб до суда тебя р-рабочие успели узнать, понимаешь?
– А судить все равно будут?
– Почему «все равно»?
– Ну, потому что я с вами хожу, помогаю…
– Так ты уходи. Милый мой, если т-ты только для суда нам помогаешь, тогда т-топай домой.
– Я хожу с вами не для суда!
– Ну, извини, з-значит, я тебя не так понял.
– Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника.
– Милый мой, ты не п-представляешь себе, как ты не прав. И попросил я тебя помочь просто потому, что думаю о т-тебе неплохо, понимаешь? И потом, стихи у тебя хор-рошие. Больше ничего не написал?
– Нет.
Садчиков показал глазами на парня, который шел с забинтованным лбом. Ленька отрицательно покачал головой.
– Напишешь, – закурив, пообещал Садчиков. – Я отчего-то верю, что ты много напишешь.
– Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться.
– Ты знаешь, что такое им-мпульс? – спросил Садчиков.
– Знаю.
– Так где у тебя будет больше импульсов для т-творчества – на заводе, когда надо только успевать поворачиваться, или в полном спокойствии, дома, когда все тихо и птички щ-щебечут?
– Не знаю.
– А я знаю. Вот у меня когда б-башка особенно здорово соображает? Когда всё решают минуты, когда очень т-трудно, когда надо принять только одно решение и оно должно быть точным. А если у меня много времени, оп-пасности никакой, так я тюфяк тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У п-поэтов так же.
– У поэтов иначе.
– Не может быть.
– Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился.
– Дома холодно д-думать, уж больно все со стороны выйдет.
– Нет. Сердце – оно и на заводе и дома одинаковое.
– Разное, – возразил Садчиков. – Завод – он т-только называется так холодно, а ведь это люди. Завод – это я условно говорю. Иди д-дома строй, коров дои, письма разноси, трубы чисти. Надо, чтобы ты людям не только про себя одного г-говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто о себе память оставил? Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А как их ж-жизнь ломала! То-то и оно. Им-мпульсы – великая штука. Если ты в сплошной р-розовости живешь – какой ты, к черту, поэт? Так, демагог, да и только.
– Сами говорили, что мои стихи нравятся…
– Говорил.
– Значит, обманывали?
– Чего мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты и п-писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?
Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего ему не ответил.
Около ресторана «Баку» Садчикова догнал оперативник из пятидесятого и негромко сказал:
– Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал.
– Извинились перед ним?
– Крикливый, черт. Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать.
– Еще чего! – рассердился Садчиков. – Объяснить н-надо человеку, а не протокол писать. Тоже к-каратели нашлись. Телефон у него есть?
– Да.
– Ладно, я п-потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да и т-трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. Ты цирк любишь? – спросил Садчиков Леньку.
– Люблю.
– Я тоже, особенно в-воздушных гимнастов.
– А я – икарийские игры.
– Губу покажи, – попросил Садчиков.
Ленька доверчиво выпятил нижнюю губу.
– Ну, из-звини, – сказал Садчиков. – Губа у тебя не дура.
Встретились
Прохор обнял Сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал:
– Ну как, дорогой? Ну как? Экий ты парень видный; девки небось мрут, да, Сань? Или неверно я говорю? Старый стал, голова хужей варит, могу и ошибиться…
Прохор был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, приволакивая негнущуюся ногу. Говорил он быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то Сударю, то Чите. Смотрел как-то по-особому: замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил.
– Водку пьете, чертенята? – спрашивал он. – С девками небось балуетесь, а? Я старик, мне-то завидно. Нашли б какую кралю, золотенькие мои, а? Читушка, что молчишь? Не нравлюсь я тебе, да? Ты вона какой модный, а я – как деревня, да? Смущенье тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, а я с Санечкой поговорю. Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, сегодня липа цветет, от нее голова туманится, Читушка.
Чита недоуменно посмотрел на Сударя и с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Сударь шел нахмурившись и, когда увидел прыгающую от еле сдерживаемого смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами.
– Гуляй отсюда, – сказал он негромко, – киря. Слышал, что говорят, или нет?
– Пущай он у тебя поспит, – сказал Прохор, – отдохнуть вам, ребятки, надо. Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра.
– Чего ты обо мне печешься? – спросил Чита. – Сам не маленький.
– А ты мне «ты» не говори, – сказал Прохор улыбчиво, – ты мне «вы» должен говорить.
– Это почему?
– Потому что я умный, а ты молодой.
– Нá ключи, – сказал Сударь, – иди домой, я скоро буду. Разговор есть.
Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал:
– Поехали домой, шеф.
– Адрес какой?
Чита секунду колебался: куда ехать? Домой, к Надьке или все-таки к Сударю? Подумав, он решил ехать к Сударю. Он решил так потому, что спать одному страшно, а Надька, стерва, наверное, с тем парнем. С Сударем не страшно, он сильный, как бык, ему все до лампочки. Счастливый человек.
– Сань, ты только слушай, что я говорю-то, я ведь дело тебе говорю, как брату, – честно, от всей души. Ты только сам посуди: он один живет, профессор этот. Гальяновский Иван Семенович. На стенах у него – картины и иконы. Картины – дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки – тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то жик, жик – в трубочку и в чемоданчик, а иконки – в другой. Внизу Витька, ему в кузовочек забросил и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрыпочку возьми. Она старенькая тоже, скрыпочка-то. Вишь, до чего людишки додумались: старье в вещах ценят, а в человецех – отнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего – ты пару костюмчиков, часики там, цацки золотенькие хап – в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрыпач тоже один, его жена песни поет, сейчас улетела она за границу, за океан. Ты его тоже молоточком. Чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя: милиционер на тебе висит, так или иначе – вышка, если заметут. А так – дверку замкнул тихонечко да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит – пусть они, мусора-то, ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка. Я все на ихних учебниках проверил, на криминалистических.
– Сколько это в деньгах?
– Ты чего, капиталист, что ль? – засмеялся Прохор и оглянулся. – Прямо как буржуй проклятый начал говорить.
Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто; быстро, по-весеннему, темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти.
– Я серьезно, Прохор.
– Да и я не шуткую. Пять косых получишь. Пять косых, Сань.
– По-старому пятьдесят?
– Ага.
– А Чите?
– Ты чего это? Сдурел? Чите… На двоих пять. Деньги-то огромные, Сань.
– Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым картинкам не понимаю? Не туда стреляешь, дедуля. Десять косых – и без разговоров. Вот так-то, Прохор.
– Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань, я ведь встал да и ушел. И весь разговор. Марафет ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то – нет, не найдешь ведь, Сань. Я тебя завсегда разыщу. Не-е, ты не думай, я не грожуся, спаси бог, я добрый, мне чего? Мне ничего и не надо, я старый. Я свое отжил, а вот тебе пожить надо. Я про что толкую? Про то, что пока можешь жить – живи, а смерть придет, голову прячь и вой! Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю. И десять грамм марафета. И больше ты меня не торгуй, все одно не заторгуешь, Санечка.
– А марафет-то здесь?
– Завтра перед делом получишь. Все сполна принесу, как в аптеке…
– Давай адреса.
– Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо.
– Ладно. Запомню. Теперь с Витькой. Машины у нас не будет.
– Это почему?
– Запсиховал он.
– А чего, Сань? Причина-то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться, я ведь должен по закону разобраться, чтоб без обид. Может, обделил ты его, а? Он ведь обидчивый, Сань…
– Он свою долю получил, я не крохобор.
– Да, господи, рази я говорю что? Просто интересуюся.
– Не знаю, что с ним. Говорит – завязал.
– А ты с ним беседу имел?
– Я ж говорю – псих. Ногти грызет, ни в какую не соглашается…
– Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой-то, он ведь парень душевный, а, Сань? Да? Или не прав я?
– Въедливый ты, просто сил нет. «Душевный, душевный»! Адрес дать?
– Да я знаю, Сань. Я все знаю, милай ты мой. До ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди. Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри: вот чемоданчик, в нем для мастера-электрика весь инструмент. Ты с им и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принесть, он отвернется, а ты его – по темечку. Чита пущай на лестнице стоит. А как стукнешь, его впусти, и шуруйте. Понял? Не торопися, шторки занавесьте – и айда… Только ты трупик сначала в ванну спрячь, чтоб Читу попусту не нервозить…
– Ты меня не учи.
– Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще возьми. Для Читы. Наганчик. Он пригодится. Хороший наганчик, вороненый, руку холодит, вчера по случаю достал… Пять патронов я в барабан загнал, больше-то и не надо, да, Сань?
Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, тогда сорок тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в пятьдесят тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь – долгие шестьдесят лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три Государственные премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, изумительная, и знали об этом многие люди и у нас в стране, и за ее рубежами.
Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в тридцать тысяч золотом.
Да в конце-то концов, черт с ними, с рублями, со скрипками и коллекциями! Завтра вечером должны были погибнуть от руки Сударя два великих гражданина: гений операций на сердце и скрипач, известный всему миру.
А придумал эти два преступления маленький, серый человечек по имени Прохор. О нем Сударь почти ничего не знал. Не знал он ни его фамилии, ни места жительства, ни занятий – ничего он не знал о Прохоре – контрразведчике из власовской охранки. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой власовец. В пятьдесят девятом году его освободили по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости врачей, он уехал из Коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело одному ему не поднять. Встретился с Сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. И завтра решил сыграть ва-банк. Вот только Витька. Шофер, хороший паренек. Задурил. Ай-яй-яй! Он адрес-то знает. Подвозил ночью, после милиционера. Ночь – она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна. Фары тогда табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а, Витьк?
Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шел он, совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шел он не сутулясь и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут назад, пока рядом сидел Сударь. Попадутся мальчики – про палку сразу стукнут. А палки-то и нет; вон решетка канализационная, туда ее и опустит… Уронил! Ай-яй-яй, какая жалость! Ищите хромого старичка! Ищите, мусора, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче!
Никаких происшествий
В час ночи Садчиков вызвал дежурную машину и отвез Леньку домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный ледком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось непроглядно темным.
Ноги у Леньки гудели. Он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться.
– Ну и работа у вас! – сказал он Садчикову.
– Ты э-это с чего?
– Целый день на ногах – ужас!..
– Чудак, – ответил Садчиков, – разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, – вот у-ужас. В нашем д-деле самое страшное – это всех возненавидеть. С гадостью мы работаем, к-как настоящие ассенизаторы, п-понимаешь? А людей надо о-очень любить. Иначе к-какой смысл нам работать? В том-то и дело: нет смысла…
– А вот скажите, – запинаясь, спросил Ленька, – вам доставляет радость карать?
– Что именно к-карать?
– Ну… зло…
– Сложный вопрос… Вообще-то, наказывать людей – с-сугубо неприятно, Леня, и чревато с-серьезными последствиями для того, кто н-наказывает… Это если относиться к наказанию серьезно, с с-состраданием к н-наказуемому, ибо хочешь того или не хочешь, а он – брат мой. Хоть и враг… Человек он, понимаешь, человек ведь – наказуемый-то… К-караемый, как ты г-говоришь. Страшно, если наказывать станет привычкой… Страш-шно, если каждого станешь подозревать… Один наш товарищ, когда его приглашали в гости, заранее интерес-совался, кто там еще будет… Д-данные на остальных г-гостей запрашивал… Но, с другой стороны, когда задержишь бандита, испытываешь спокойствие, что ли, по отношению к с-согражданам…
– Вы ненавидите бандита?
– Н-не всегда…
– То есть? – удивился Ленька.
– После войны я брал нескольких б-бандитов, которые выходили с обрезами на дорогу, п-потому что у них дети с голоду пухли… Все п-понимал: и что с обрезом за едой идти – не путь, и что воровство – это з-зло, а все равно внутри жалел… Но это уже п-после того, как посадил в тюрьму… Когда брал – тогда н-ненавидел.
Высадив Леньку, Садчиков сказал шоферу:
– Поехали в у-управление, Михалыч.
До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытые Росляковым, и составляли план на завтра.
Садчиков должен пойти по всем высоким тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты, а Костенко с Росляковым снова выйдут на улицу. Ровно в восемь, к открытию гастрономов. У Читы вся стена заставлена бутылками – такие с утра пить начинают.
Засада, оставленная на квартире у Читы, сообщала, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером.
Четвертые сутки
Рано утром в кабинет Садчикова позвонили по телефону и попросили Костенко.
– Я говорю, – ответил Костенко.
– Здравствуйте, это Шрезель.
– Кто?
– Ну вы были у меня, помните? Был разговор о Назаренко и о Ламброзо…
– А… Доброе утро, здравствуйте…
– Я тут встретил одного нашего приятеля, он учился на курс ниже, так он месяц назад видел Назаренко с девушкой. Толстенькая такая. Он их встретил на улице Горького, около «Елисеевского». Кот звал его в гости, и приятель записал адрес.
– Кто? Кто звал в гости?
– Назаренко. Мы его звали Котом…
– Вы просто Вольф Мессинг. Давайте адрес!
– Он записал адрес на папиросной пачке и потом потерял. Но он помнит, что девушку звали Надя, а живет она на Пушкинской площади.
Костенко закурил:
– Он это помнит точно?
– Говорит, что да.
– Спасибо вам, Владимир Маркович.
– Какая ерунда…
– Большое вам спасибо, – повторил Костенко и, положив трубку, спросил Садчикова: – Пушкинская площадь принадлежит пятидесятому отделению?
– Да.
– Надо с ними немедленно связываться…
– А в чем д-дело?
– Там Читина зазноба живет. Надо будет всех девиц по имени Надежда просмотреть. Шрезель звонил, говорит, что он там с ней появлялся. В гости, говорит, к ней приглашал… Адрес дал – на Пушкинской…
Садчиков сказал:
– Интересно.
– Значит, тренеры на сегодня отменяются?
– Почему же, сейчас пойдем к к-комиссару. Нам еще один человек нужен. А вы пока отправляйтесь на улицу Горького. И поближе к Пушкинской держитесь, п-поближе.
Ленька ждал их около памятника Пушкину. Он стоял, задрав голову, смотрел на бронзового поэта и что-то шептал.
Росляков подтолкнул Костенко и показал на парня глазами.
– Да, – сказал Костенко, – славный парень. Выцарапаем. Я думаю, все же выцарапаем.
– А я боюсь – нет…
– Почему?
– Сейчас у нас, Слава, волна… Волна против пьянства как источника преступности.
– Отобьем, – повторил Костенко, – подеремся…
– Салют поэтам! – сказал Росляков.
Вздрогнув, Ленька обернулся.
– Здравствуйте, – ответил он, – я сегодня еле поднялся.
– Устал? – спросил Костенко.
– Устал.
– Ничего. Сейчас разомнемся. Ты иди с Валентином Ивановичем, а я по той сторонке. Там сейчас тень, я хитрый.
Готовятся
Сударь умылся, долго, закрыв глаза, брился электробритвой и, расхаживая по комнате в трусах, говорил Чите:
– Мы с тобой получаем семь косых – по-старому. Делим по-джентльменски: тебе половину и мне половину. Прохор позвонит часа в два, после разговора с Витькой. Сразу после этого мы поедем к дедушке-профессору любоваться живописью.
– А что с Витькой?
– Полегче вопрос есть?
– Есть. Водку купить или коньяку?
– Ни того, ни другого. После. Прохор говорит, что по пьянке обязательно влипнем. Он говорит, что надо только по-трезвому на дело идти. Вообще-то он прав, алкоголь в серьезном деле не помощник…
– Он трехнутый, этот твой Прохор.
– Не «мой». Наш.
– Ничего себе «наш»… Он косых на десять нас с тобой дурит, не меньше. Разве нет? Живопись сейчас в цене…
– Знаю. А как быть иначе? Кому мы эту старинную живопись толкнем? Связей-то нет… Или возьми иконки… Их фарцовщики около Третьяковской галереи на газовые зажигалки у американцев меняли. Толку что? Зажигалка – не деньги…
– Толку никакого, а за квартиру я уже два месяца не платил. Боюсь туда идти.
– Почему?
– Не знаю.
– Киря… Беги сейчас, уплати, делов на два часа. Может, сегодня деньги получим от старика и двинем к «самому синему в мире».
– Надьку возьмем?
– Ни к чему это. Там бабы есть похлестче. Роскошные по пляжам кадры ходят…
– На поезде поедем?
– Зачем? ТУ-104 есть в Советском Союзе.
– Боюсь я летать…
– Не бойся… На машинах больше бьются…
– Слушай, а у профессора никого дома нет, это точно?
– Конечно, точно. Я туда поднимусь один, а ты следом – через десять минут. Три раза стукнешь и скажешь: «С Мосэнерго». Я тебе открою. Если кто-нибудь будет на площадке – пройди мимо, будто ищешь квартиру, понял?
– Да. Только если в квартире кто-нибудь есть, не ходи. Мокрое дело – расстрел.
– Что ты говоришь? А я думал – два года условно. Между прочим, почему ты боишься идти домой? Может, трепанул кому-нибудь? У тебя язык без костей… Лучше мне правду скажи – трепанул?
– Я не идиот.
– Ты киря, а не идиот, это точно… Давай поднимайся, жрать будем.
Хорошее имя
К двенадцати часам дня у Садчикова на столе были адреса сорока двух Надежд с Пушкинской площади. Тридцать две отпали сразу же: это были женщины далеко не первой молодости, матери семейств и бабушки. Потом отпало еще пять Надежд – девочки до пятнадцати лет. Осталось пять девушек, которых надлежало проверить в течение ближайшего часа. Садчиков вызвал машину, чтобы ехать в пятидесятое отделение милиции. Собираясь, он думал о том, как сейчас мало девочек с таким прекрасным именем – Надежда. Раньше тридцать две на дом, а теперь десять.
Надо бы позвонить Гале. Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они ели за завтраком. Галка сейчас мне выдаст: почему не позвонил вчера? А она уже спала в два часа. У нее вчера опять было дежурство, а она с вечерних дежурств приходит выжатая, как лимон. И спит до десяти. А сейчас двенадцать. Надо было позвонить два часа назад, а я сидел в отделении. В кабинете полно народу. Галка начала бы меня пытать, что случилось, а мне было бы неудобно ей отвечать при всех, потому что я должен врать, а это со стороны смешно. Странный народ женщины. Из ребра сотворены как-никак. Ребро не череп. Ни черта не хотят понимать, а объяснять – унизительно для самого себя. Когда женишься, думаешь, что на самой умной. Все поймет, всегда поможет. Грех мне, конечно, на Галку сердиться, но иногда и она такое колено загнет, что потом неделю не опомнишься.
Садчиков вздохнул и набрал номер своего домашнего телефона. Голос у Галины Васильевны был усталый и тихий.
– Галка, – сказал Садчиков как можно веселее, – привет! Ну, что ты? К-как дела?
– Изумительно! – коротко ответила Галина Васильевна и замолчала.
– Что ты молчишь?
– Мне надо петь? Или станцевать у телефона? Неужели ты не мог позвонить вчера?
– Я поздно освободился и не хотел тебя будить.
– Я ведь тоже человек.
– Догадываюсь.
– Сегодня тебя ждать?
– Я позвоню.
– Завтра днем?
– Ч-что ты, Г-галочка?! Может быть, и сегодня…
– До свидания, – сказала она, – всего тебе хорошего.
Садчиков в сердцах швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Надежда Мамонова
– Эх, милый ты мой начальник, – сказала бабка певуче, – бог, он все видит, все прегрешенья людские и все людские доблести.
– Конечно, – согласился Садчиков и утвердительно покачал головой, – это вы, бабуся, в-верно говорите. А Надя когда придет?
– Она всегда тут, – сказала бабка и тронула себя где-то около ключицы.
– В сердце? – спросил Садчиков.
– В нем, – убежденно ответила бабка и вытерла слезу, которая то и дело закипала у нее в левом глазу. Садчиков понял, что бабка перенесла инсульт, от этого у нее так часто собирается слеза в уголке глаза.
– Ну, а здоровье как у вас?
– Нет теперь на земле здоровья, – сказала бабка. – Вон у моей мамаши нас тринадцать человек было, а у Лешки-то, у сына мово, – одна Надюшка. Мужик с виду сильный, а на большее не вытянул, как на одну девку. Четверых у меня на войне убило, а Лешка самый младшенький, ему пятьдесят три, выжил. А лучше б и не выживал. Куском хлеба старуху корит, с дома гонит. «Теперь, говорит, все работают, давай, говорит, мама, и ты вкалывай». А Надюшка, дай ей господь наш всевышний, ангел. Кто меня кормит, поит и обувает? Кто меня на земле держит? Надька. Труженица девка. Днем в магазине, вечером в техникуме, а ночью у корыта да на кухне. Так вот я тебя и спрашиваю, сыночек, есть бог на земле или нет?
– На земле нет, а в н-небе – наверное.
– Сам-то крещеный?
– Не знаю.
– Как же ты не знаешь, сынок, а? Это дело все знают!
– Я сирота, м-мамаша, меня в приют подкинули.
– Ах ты, горемыка! – запричитала бабка. – А гляди, обратно, боженька. Вон ты какой долдон с его милости вымахал. Верста верстой. Раньше такие в лейб-гвардии его величества государя императора служили. Мой дед в гусарах был, в ампериалистическую его положили. Два метра росту имел. Как столб. Надька в его пошла. Красавица, рослая, не то что пигалицы сейчас ходят, безо всякого женского достоинства. Грудей нет, чем детей-то кормить будут? С пальца не пососешь, а у нонешних не цицка, а кукиш…
– А к-карточки Нади есть?
– Есть, миленький, есть. Вона, в альбомчике, на комоде стоят.
Управдом взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у нее были маленькие. Рядом с ней стоял парень в форме летчика.
– Жених? – спросил Садчиков.
– Жених, – вздохнула бабка, – тут в переулке жил.
– Ничего парень?
– Да ничего так… Щупленький только. Ручищи длинные, а худые, как твои плетки. В плечах тоже неширокий, щупленький. Я Надьке-то говорю: щуплый – он и есть щуплый…
– Бабуся, – спросил Садчиков, – а Костя д-давно не ходил?
– Давно.
– Поругались?
– Да нет… Он же теперь в Белоруссии служит.
– Жених?
– Ну да. Костька его зовут.
– Нет, я про того Костьку с-спрашиваю, про черненького, со шрамиком на лбу, Назаренко его фамилия.
– Ты, сынок, на Надежду напраслину не возводи. Она себя соблюдает, не то что некоторые.
Садчиков распрощался с бабкой и, выйдя от нее, позвонил в отделение.
– Пожалуйста, пошлите кого-нибудь из о-оперативников в продмаг номер сто пятьдесят два, на углу… Да, да, там… Вызовите Надю Мамонову и поспрашивайте ее о Назаренко. Может, с-слыхала. Да. Я позвоню через полчаса. До свидания.
Надежда Сергеева
Дверь открыл рослый парень, выбритый до синевы, в черном спортивном костюме. Садчиков поджался: чутье подсказало ему, что он нашел именно то, что искал.
– Из райжилотдела, – бросил он и обернулся к управдому. – Ну, показывайте, где здесь менять перекрытия.
Управдом быстро взглянул на Садчикова и все понял. Военный в прошлом, он сразу же сориентировался в обстановке и вошел в квартиру первым.
– Где ответственные съемщики? – спросил управдом парня.
– Надя, – крикнул тот, – к тебе пришли!
Надя вышла из ванной в халатике, босиком. Она лениво оглядела пришедших и спросила, зевнув:
– В чем дело?
Лицо у нее было помятое, с синяками под глазами, чуть оплывшее, но все же очень милое.
– Тут у вас перекрытия подгнили, – сказал управдом, – нам надо посмотреть полы. В комнаты войти можно?
– Идите, – ответила Надя.
Садчиков долго простукивал пол в передней, поглядывая при этом на обувь, стоявшую под вешалкой. Потом он вошел в комнату, увидел неприбранную кровать, остатки еды на столе, порожнюю бутылку «Букета Абхазии» и пепельницу, полную окурков.
– Вторую к-комнату откройте, – попросил он.
– Она открыта, – ответила Надя, – там сестра живет.
Во второй комнате никого не было. Потом Садчиков зашел в ванную комнату и на кухню. Там тоже было пусто. Он вернулся в комнату, улыбнулся, погрозил Наде пальцем и сказал:
– В-вот я вас хорошо п-помню, а вы меня забыли.
– Откуда же вы меня помните?
– А н-нас Костя знакомил.
– Где?
– Д-да здесь, около киоска.
– Может быть, – ответила Надя и пояснила парню: – Чего смотришь, это муж, Костя, он в ресторане сидел, помнишь?
– Назаренко, – подсказал Садчиков.
– Ну да, – повторила Надя. – Кот.
– В-вы еще долго будете д-дома? – спросил Садчиков. – Мы водопроводчика должны п-прислать…
– Ломать?
– Нет, – сказал управдом, – текущая профилактика, ничего не потревожим…
– Часа два еще пробудем, – посмотрев на своего приятеля, ответила Надя, – да, Сережа?
– Конечно.
– А тебе когда на стадион? Не опоздаешь?
– Нет, дорогая, – ответил парень, – не опоздаю…
– А К-кот где? – спросил Садчиков. – О-обещал позвонить – и пропал.
– Мы с ним поссорились, – ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной, и сморщила лицо. Осторожно подмигнула Садчикову и выдохнула: – Разводиться будем.
– Ж-жаль, – сказал Садчиков, – он ведь хороший п-парень. Нужен он м-мне сейчас. Где найти – у-ума не приложу. Если он придет, то пусть сразу ко мне позвонит, ладно?
– Телефон знает?
– А я з-зайду через часок и оставлю.
Телефон-автомат был установлен в подъезде, так что Садчиков, быстро набрав номер милиции, мог видеть всех, кто пройдет мимо.
– Алло, – сказал он тихо, прикрыв рот ладонью, – это С-садчиков. Быстро машину с людьми ко мне на Пушкинскую. Возьмите ордер на обыск у п-прокурора. Да. Я в подъезде.
Садчиков вопросительно посмотрел на домоуправа.
– В четвертом, – подсказал тот, – въезд со двора.
– Четвертый, – повторил Садчиков, – въезд со д-двора. Жду.
Близко к развязке
Они ходили по улице Горького пятый час кряду.
– Леня, – сказал Росляков, – ты просто молодчина. Откуда ты только знаешь так много стихов? Неужели по школе?
– У нас Лев преподает с восьмого класса, он только нас ведет, мы поэтому литературу и любим… А другие классы ненавидят. Лев в учебники не заглядывает и нам не велит. Краткое содержание, язык, образ, кульминация – это же все чепуха…
– Да?
– Конечно. Читать надо побольше, тогда все будет ясно. Где образ, какое идейное содержание, в каком месте кульминация. А читают у нас ребята мало.
– Почему?
– Физика, космос. Это идет. А литература – так, времяпрепровождение. Несерьезно, говорят.
– А мы литературу любили. Смотри, как забавно: когда мы школу кончали, то почти все шли в гуманитарные вузы – на юридический, на истфак. Еще на журналистику многие пытались попасть.
– Я тоже мечтал…
– Почему «мечтал»? – спросил Костенко.
– Меня теперь туда на пушечный выстрел не подпустят.
– Да брось ты, как старуха, нудеть. Захочешь – подпустят. Важно захотеть. Это во всяком деле самое главное.
– Ты сейчас экзамены сдай, – посоветовал Костенко. – Тебе важно школу хорошо кончить…
– А я школу не люблю…
– Это почему же? – удивился Росляков.
– Я его понимаю. Школа прививает нелюбовь к литературе, – сердито буркнул Костенко. – Я Пушкина начал перечитывать уже в университете… А в школе нас мучили вопросами: «Каково социальное происхождение Татьяны Лариной?» и «Каковы главные отличительные черты “лишнего человека”?» Литература – это прекрасное, а про это именно забывают.
– Сейчас немного полегче, – сказал Ленька, – сейчас все-таки можно самому высказывать точку зрения… А раньше, говорят, надо было пересказывать, что писали в учебниках… И ничего своего… Лев Иванович ставит пятерку, если говоришь свое – пусть даже ошибаешься. А кто бубнит по учебнику, тем он больше четверки не ставит.
– Вообще школа сейчас ждет реформы, – заметил Костенко. – Кое-кто из моих друзей бранит кибернетику и счетно-вычислительные устройства, а ведь именно они будут определять будущее развитие прогресса. Через двадцать лет в седьмом классе на партах будут стоять маленькие счетные машины, ей-богу… Один мой дружок, математик, говорит, что в математике произошла революция: раньше надо было дать один ответ, в этом был смысл математики, а теперь высший смысл состоит в том, чтобы расчленить задачу на елико возможно большее количество вопросов, а потом эти вопросы засадить в счетную машину… А мы заставляем ребят зубрить формулы; мозг костенеет, инициативы нет…
– Кое-кто из твоих знакомых, – сказал Росляков, – видимо, бранит кибернетику с этической точки зрения, опасаясь ее самодовлеющего влияния на человечество…
– Потом доспорим, – вздохнул Костенко, – мой парень какие-то пассы делает, надо пойти посмотреть…
Он быстро пересек улицу Горького и спросил давешнего оперативника:
– Что случилось?
– Вспотел я, – ответил тот, – машу руками, чтоб тело проветрить…
– Большой ты человек…
– Испохабили планету, – сказал тот, – зима слякотная, весна – как в Африке, а летом дожди… Завтра вообще тридцать градусов ожидается.
– Во-во, – чертыхнулся Костенко, – а поедешь в отпуск, так калоши надо брать.
– Земля остывает, скоро все переменится. У меня дед говорит, что зима обернется летом, а весна – осенью.
– Прозорливый у тебя дед.
– Дед что надо. «В наше, – говорит, – время не соскучишься».
– На что это он, интересно, намекает?
Оперативник ответил:
– Он без умысла, что вы…
Костенко усмехнулся, весело оглядел оперативника и подмигнул ему.
– Нет, серьезно, – повторил тот, – просто дед с фантазией.
– Какая у деда может быть фантазия? У деда сплошной реализм должен быть. Давай воды выпьем, а то горло совсем пересохло. Сволочь, не идет до сих пор…
– Кто?
– Чита, кто…
Так и ходят они по улице. Говорят о пустяках, подшучивают друг над другом, а в голове только одна мысль: где он?
Внешне они спокойны, даже несколько расслабленны. А ведь под пиджаками не видно, как напряжены у них мышцы рук и спины; посторонний не знает, как устают глаза, потому что надо все время смотреть по сторонам и искать, и не просто искать, а так, чтобы непременно найти.
Виктор Ганкин
Прохор позвонил в гараж и попросил к телефону шофера Виктора Ганкина.
– Он сейчас на линии, – ответили ему, – позвоните через час.
– Не уйдет? Может, он вернется и сразу уйдет…
– Нет. Он до трех сегодня.
– Спасибо, – ответил Прохор, – вы ему передайте, пожалуйста, что к нему Архип Иванович через час перезвонит, ладно?
…Через неделю после свадьбы Виктор сделал хорошего «левака»: перевез за два часа три холодильника. «Москвичок» у него с кузовом, свеженький, всего тридцать тысяч набегал. Развал, правда, дрянной, левый передний скат здорово жрет. Да черт с ним, со скатом. Тридцать рублей в кармане. Любке на платье. В «Пассаже» продают. Импортное, с красными цветами по сиреневому фону. Кошмар!
Женившись, он в рот не брал водки. Раньше-то пил много. И не водку, а политурку. Она дешевая, водичкой разбавишь – и ничего, пить можно. В нюх, правда, шибает. И рыгается потом плохо, прямо керосином рыгается, спички не подноси. А как Любку встретил, так перестал пить. Ребята говорят, что от политурки с мужским делом вроде плохо. А Любка девка что надо, за ней глаз да глаз. А водочки – это, пожалуй, можно. Чекушку с удачи. Она ж не политура, ее в магазине государство продает. И с закуской. В последний раз, чего там…
Орудовец, задержавший Ганкина по ерундовому поводу, не хотел даже сначала его штрафовать. А потом отправил на проверку, дуть в трубочку этого самого Раппопорта. Чтоб сдох этот Раппопорт с его трубочкой… Права отняли. И все. Разнорабочим сколько в месяц получишь? Два раза двор подметешь – и весь труд. Деньга – соответственно.
Шоферов на базе не хватало, и Ганкину выдали талон. Без прав. Заработок – на четверть меньше, чем раньше. А подкалымить надо? В том-то и дело. Ночью договорился с диспетчером и махнул к вокзалам. Ездил, ездил – везде ОРУД, сразу схватят за баки. Поехал к гостиницам. Тоже без толку. Потом вспомнил – Останкино! Рванул туда. Остановили двое. Повез одного в город, а другого – в Тарасовку. Адресок взял, десятку бросил. Уже другое дело. Жизнь. Хороший старичок. Архип Иваныч. Хроменький. Добрый такой, и все как попик говорит: ласково, душевно. Потом седьмого пришел. «Хочешь, – спрашивает, – сто рублей получить?» – «Дурак не хочет. Перевезти что?» – «Да нет, – говорит, – ребят надо подвезти в одно место, а потом забрать». – «Подвезем, чего не подвезти!» Пришел назавтра Сударь. Подвез его с Читушкой к скупке. Вышли оттуда, поехали в город, а вечером Архип Иваныч сотню приволок. Лучше б не приволакивал. Любка скандалит. «Откуда, – спрашивает, – деньги?» Баба, чего с нее возьмешь? Ушел из дому, а старик ждет на лавочке, около дома сидит. Пошли с ним, дали как следует. Тут уж он все и выложил. «Ты, – говорит, – теперь с нами. Заодно. А чего? – говорит. – В наш век надо каждой минутой жить. Как, – говорит, – водород рванут – так все марсианам останется. Живи, гуляй, пока можно!» Сволочь старая. Потом еще два раза с ним ездил. А вернулся домой – все деньги лежат на столе, а над ними записочка: «Уехала в деревню к тете». Ну и черт с тобой! С девчатами сейчас нет проблемы, только выбирай, сами напрашиваются, глазами стреляют, змеи…
Розку выбрал, в кафе «Ландыш» повел, портвейном поил, а как домой привел и до дела дошло, она морду расцарапала. Зараза! Водки выпьешь, домой придешь – и такая тоска, что пропади все пропадом! «Эх, Любка, Любка, надо было тебе со мной по-хорошему поговорить! Я б, может, остепенился. Год всего живем, чего там… Думаю, поеду к ней, упаду на колени, вернется. А как выпью – так ну ее сразу к черту! А тут письмо: так, мол, и так – у меня будет ребенок. Она сама видная, значит, и родит кого надо. Все. Завязал. Сударя побоку. Ходит, морду кривит. От него все и шло. Сегодня день короткий, возьму билет – и к ней, а в понедельник вернемся вместе. А насчет этих я и знать ничего не знаю. Они ходили, я в машине сидел. Может, они папкин пиджак продавали, поди докажи. Так Любке и скажу, если будет пилить… Чего Архип Иванычу от меня надо? Он старик хороший. Если он скажет, те отстанут. Через час, сказал, позвонит. Час – не год, подождать можно. Эх, Любка, ты ведь и не знаешь, что я к тебе завтра утром приеду. Розка – зараза, в подметки не годится. Маникюр сделала и решила, что царица. Дура мордастая, думает, что если царапается – значит, в сети к себе завлечет… Черта с два… Идиоты повывелись».
Зазвонил телефон, Виктор ждал звонка в диспетчерской. Он снял трубку и сразу же услыхал голос Архипа Иваныча.
– Витек, – сказал тот, – здорово! Ты чего пропал? Я уж соскучился…
– Я не пропал, Архип Иваныч. Я вот он, тут весь, это вы пропали.
– Вить, а Вить, ты сейчас подъезжай в одно местечко, ладно?
– Не поеду.
– Ты чего, Вить? Ты обиделся, может, на меня? Ты мне правду скажи…
– Ни на кого я не обиделся. Просто сказал – не приеду, и все.
– Ты погоди. Вить, ты не думай там про чего-нибудь. Я ведь один тебя прошу. На полчасика, внучек помирает, мне только в аптеку надо, к приятелю, лекарства достать, а нога у меня болит…
– Какой внучек?
– Коленька. Он маленький, ему годика еще нет. Выручи, Витенька.
– У меня только полчаса времени есть. Больше я не могу…
– Да мы обернемся, что ты… Давай я, куда скажешь, подойду.
– Ладно. У Лаврушинского. Через пять минут будете?
– Через десяток бы, Витек.
– Ладно. Только…
– Будет, будет, – заторопился Архип Иваныч, – кому надо, рублевочку посули, у меня деньги есть с собой, есть…
Допрыгались
Садчиков постучал в дверь. Открыла Надя. Вместе с Садчиковым вошли еще трое.
– Как вы быстро, – сказала Надя, – и много вас… Все водопроводчики?
– Почти все, – ответил Садчиков, – мы из уголовного р-розыска. – Он быстро прошел в комнату и сказал гладко выбритому, томному спортсмену, который лежал в постели: – Ну-ка, одевайтесь, красавец мужчина.
– А в чем дело?
– Сначала одевайтесь, п-потом объясню.
Надя стояла у двери и медленно бледнела.
– Вот ордер на обыск, – сказал Садчиков, – д-давайте мне телефон Читы.
– Но его же нет дома…
– Где он?
– Не знаю…
– Лжете.
– Может быть, у Сударя.
– Адрес?
– Мы там были поздно ночью… Я не запомнила…
– Телефон?
Она вышла в прихожую, взяла со столика записную книжку и стала ее листать. Спортсмен тихо сказал:
– Товарищ, у меня трое детей, я мастер спорта, советский человек и патриот, объясните, пожалуйста, в чем дело?
– П-при чем здесь трое детей? – удивился Садчиков. – И еще патриотизм…
– Мое имя не станет достоянием гласности? Я ведь езжу на соревнования за рубеж…
– Ваше имя обязательно станет достоянием гласности, – сказал Садчиков, – и хватит вам трясти ч-челюстью.
– Но это не политическое?
– Политическое, – ответил Садчиков.
– Боже мой, какой позор, – сказал спортсмен и обхватил голову руками, – только этого мне не хватало…
Из коридора вернулась Надя.
– Вот телефон, – сказала она.
– Звоните ему.
– Что сказать?
– Скажите, чтобы он немедленно п-приехал.
– А если откажется?
– Уговорите.
Садчиков позвал одного из сотрудников и шепнул ему на ухо:
– Быстренько установите адрес, б-берите людей – и туда.
– Есть.
– Только без глупостей, – сказал Садчиков Наде, – н-не вздумайте с ним б-беседовать о нас. С-скажите, что у вас для него есть а-американский костюм. Он же любит костюмы. С-скажите, чтобы он немедленно приезжал пос-смотреть.
Надя набрала номер. К телефону подошел Сударь.
– Здравствуй, Саша, – сказала Надя и улыбнулась Садчикову жалкой улыбкой. – Кот у тебя?
– Зачем он тебе? – ответил Сударь. – Я лучше. Как спортсмен?
– Мы с ним расстались.
– Приезжай к нам.
– Потом. Ты позови Кота.
– Сейчас, – сказал Сударь и крикнул: – Эй, киря! Тебя.
– Алло, – сказал Чита.
– Это Надя.
– А я думал – Софи Лорен… – хохотнул Чита.
– Костя, ты можешь сейчас ко мне приехать?
– Что, надоело развлекаться с бывшим князем, а ныне трудящимся Востока?
– Не говори глупостей.
Садчиков, нагнувшись к трубке, слушал каждое слово Читы.
– У меня есть хороший костюм, Кот. Из дакрона. Очень красивый.
– С разрезом?
– Да.
– А какого цвета?
– Белый, в серую полоску.
– Сколько?
– Совсем недорого…
– Я вечером приеду.
Садчиков быстро взглянул на женщину и отрицательно покачал головой…
– Нет, – сказала она, – его через час заберут.
– Как же быть? У меня сейчас дело…
– Приезжай на пять минут, – повторила Надя то, что Садчиков сказал ей шепотом.
– Я сейчас не могу.
Садчиков снова посмотрел на женщину.
– Тогда ничего не выйдет, – сказала она. – Костюм уйдет.
– Он новый?
– Еще не одеванный.
– Подожди.
Чита сказал Сударю, который уже стоял на пороге:
– Я на полчаса к ней сгоняю, ладно?
– Не пойдет.
– Там костюм дакроновый.
– В этом походишь.
– Знаешь что?! Иди к чертовой матери! Тоже командир здесь нашелся! «Нельзя»! «Не пойдет»! Что я, тебе подчиняюсь? Тогда вообще топай сегодня один!
– Кончил?
– Да.
– Кретин. Если за полчаса не управишься – пеняй на себя.
– Санечка, я обернусь, – обрадовался Чита, – на такси туда и обратно.
– Опоздаешь ведь. Ты как баба – время ценить не умеешь… Ладно, едем – я еще раз дом посмотрю, а с Прохором увижусь, как условились. Ты будь к трем. И пистолет возьми, сюда мы не вернемся…
Чита сказал:
– Надюш… Сейчас приеду.
– Жду, – ответила Надя и, медленно положив трубку, заплакала.
– Ч-что это вы? – спросил Садчиков.
– Ничего… Просто неприятно себя чувствовать сволочью.
– В-вы сейчас поступили правильно. Д-дальше мы во всем разберемся, хочу вас только спро-осить: вы знали, когда он последний раз участвовал в грабеже?
– Что?!
– То, что слыш-шите.
– Я ничего не знала.
– Ладно. Сколько времени он сюда проедет?
– Не знаю. Минут двадцать – двадцать пять.
Пришел оперативник и, вызвав Садчикова в прихожую, сказал:
– Александр Николаевич Ромин, тридцать четвертого года рождения, по кличке Сударь, проживает вот здесь, – он протянул листок бумаги с адресом. – В прошлом тренер.
– Хорошо, – сказал Садчиков, – берите людей из управления – и немедленно туда. Если его нет, останьтесь в засаде. Имейте в виду, там есть оружие. Мой звонок: три раза короткие, а четвертый – звоню очень долго.
– Есть, товарищ майор.
– Что со мной будет? – спросила Надя, когда Садчиков вернулся в комнату.
– Р-разберемся.
– Но я действительно ничего не знала о нем, честное слово…
– А об этом? – кивнул Садчиков на спортсмена. – Тоже ничего не знаете?
– Не-ет…
– А к-как же с ним спите?
– Мы встречаемся…
– Это у вас называется «встречаться»? – усмехнулся Садчиков.
– Врет, – сказал спортсмен, – заманила меня, проститутка. Я ее позавчера только увидел, клянусь мамой.
– Ты б пап-пой лучше клялся, – сказал Садчиков.
– Зачем оскорбляете? – спросил спортсмен. – Я спортсмен. Что мне, с женщиной общаться нельзя?
– Общаться можно, – согласился Садчиков. – Хватит разговоров. С-сидеть тихо. К-когда он постучит, молчите, мы сами откроем дверь.
– Если он на меня полезет, резать буду, – сказал спортсмен.
– Чем будешь р-резать? – поинтересовался Садчиков.
– Зубами, – ответил спортсмен, – как волк ягненка.
– Это можешь, – разрешил Садчиков, – только не до с-смерти.
Прохор действует
Прохор сидел рядом с Витькой в машине и быстро говорил:
– Ты чудной, Витек, прямо как ребенок. Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу. Любочку зря ты обидел, она прямо как ягодка – красавица, глаз с нее не свесть. Был бы помоложе – отбил бы, право слово, Витек…
Витька хмыкнул, потому что представил рядом с Любой старенького Архипа Ивановича.
– Чего, – словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор, – думаешь, не смог бы? Милай, хорошенький, ты меня и не знаешь вовсе, и каким я красавцем был, за мной бабы табуном ходили…
Витька засмеялся. Прохор махнул рукой и укоряюще вздохнул. Закурил. Начал напевать песню тоненьким бабьим голосом.
– Ты чего меня звал, Архип Иваныч? Если б у тебя внучек серьезно заболел, ты б грустный был, а так песню поешь.
– Ты хитрый, Вить, ух, какой хитрый! И умненький. Тебя не проведешь. Э-хе-хе, старость не радость. Угадал ты, Витек. Один я, как сокол. Нет у меня племяша и внучка нет. Только вот вы и есть, вас-то я и люблю. Ты уж меня выручи, старика, Вить. В последний раз, а? Вить? Чего молчишь?
– Не буду выручать, Архип Иваныч. Завязал.
– Шнурок завязывают, Вить… Чего тебе завязывать-то? Если б ты какой бандит, спаси господи, был, а то работяга, шофер. Откуда ты знаешь, чего везешь? Попросил Архип Иваныч, ну ты и подсобил больному старику. Сударик мои вещички, три чемоданчика, на Курский отвезет – и все. Триста рябчиков я тебе сразу выкладываю.
– Не пойдет, Архип Иваныч, – сказал Витька и улыбнулся. – У меня жена рожать вздумала. Все. Завязал.
– Господи, вот радость-то! – сказал Прохор. – Дите – оно в семью всегда мир приносит. Это вы здорово решили. А твой?
Витька не понял.
– Младенец-та чей? – спросил Прохор. – Твой?
– А чей еще?
– Она уж полтора месяца одна, не ровен час, согрешила…
Витька резко тормознул. Машина остановилась.
– Вылазь, – сказал Витька, – старый дурак.
– Да что ты? – всполошился Прохор. – Я чего? Я ничего, Вить, я ж за тебя страдаю…
– Вылазь, – повторил Витька.
– Вить, Вить, – заторопился Прохор, – ты не серчай, ну, ты меня прости, старика. У меня так жена согрешила, я и напуганный теперя, Вить. Если бы я со зла, а то ведь от всего сердца. Ты не ругайся со мной, Вить, а то нам всем нехорошо будет, Вить…
– Тебе будет нехорошо, а мне что?
– Тебе тоже будет несладко. Один в наши дни кто захочет тонуть? Вдвоем – все веселей.
– Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебя, понял?
– И-и-и, милай, – засмеялся Прохор, – куда ты меня повезешь? Я тя сам куда хочешь отвезу. Только я этого делать не буду. Зачем это мне? Живи себе как хочешь. Лады, отвези меня ко мне домой, в Мамонтовку, и господь с тобой.
– Ты ж в Тарасовке живешь, Архип Иваныч, – сказал Витька. – Советская, сорок. Что я, не помню?
– Да не, там я не живу, там Сударев брат жил двоюродный.
Прохор быстро резанул взглядом Витьку. Глаза у него сейчас стали белые, холодные и пустые. Но так было только мгновение. Когда Витька, почувствовав на себе взгляд Прохора, обернулся, он увидел добрые стариковские глаза, в уголках которых поблескивали беспомощные и добрые слезинки.
– Да ты не бойся, – сказал Витька, – я только так, чтоб ты отвязался, Архип Иваныч. А то «согрешила», «согрешила»!
Прохор всхлипнул и тяжело шмыгнул носом.
– Ну, брось, Архип Иваныч… – попросил Витька. – Ну, извини меня, если что не так. Да хватит тебе, Архип Иваныч, ты прямо как женщина.
– Эх, люди, люди… Верно говорят, что они крокодилово порождение. Им с добром, а они все в черном норовят отплатить. Лады, поворачивай. Заедем к тебе, пол-литра махнем, и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть?
– Есть.
– А то можешь взять в долг-то…
– Да нет, пока не надо. Я ж говорю, завязал.
– У тебя есть что закусить?
– Есть. Только мне пить нельзя.
– Стопку?
– Попадусь, тогда хана.
– Миленький, дак ты не попадайся. Потихоньку поедешь-то, гнать не будешь. И потом у меня орешек есть. Мускатный. От него трубочка не краснеет.
– Какая?
– Раппопорта этого самого, дружка твоего.
– Ты только одну бутылку бери, Архип Иваныч, две не надо.
– Ладно, ты меня тут ссади, а сам топай домой. Дверь не запирай, чтоб мне не стучать. Соседи дома?
– Нет. Они до семи.
– И ладно. А то Любушке стукнут: пил-де водку Витька, пил ее, окаянную… Ты дверь не запирай, чтоб я не колотился, лады?
– Лады.
Прохор купил две бутылки водки, холодного копчения осетрины и полкило сыру. Пока ему заворачивали покупку, он пошел в автомат и позвонил Сударю: он хотел его предупредить, что машины не будет. Но Сударя дома не оказалось.
«Ничего, – решил Прохор, – я за час управлюсь, как раз приду ко времени. А нет – подождет, не привыкать…»
Куда смотрит милиция?!
– Ты книжки про сыщиков читал? – спросил Росляков Леньку.
– Конан Дойля?
– Нет, про нас.
– Читал. Только вас не называют сыщиками. Вас называют в книгах «сотрудниками».
– Вообще, конечно, сотрудник. Только это все равно, что повара называть работником нарпита, а писателя – подвижником культурного фронта. Я знаешь, почему спросил тебя про книги?
– Нет.
– Вот ты с нами второй день ходишь и, наверное, смеешься: все в книгах про нас врут. Да?
– Нет…
– Ну да… Обязательно смеешься. По книге нам только какую-нибудь пуговицу покажи – мы тут же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека – и сразу скажем, кто он такой, откуда родом и чем занимался десять лет назад. Глупость какая! А ведь печатают и читают.
– У вас очень трудная работа.
– Шататься по улице?
– Что вы со мной, как с ребенком, разговариваете? Я ведь понимаю, что к чему…
Росляков обрадовался.
– Ты не сердись, – сказал он, – это я тебя проверял.
Ленька хотел что-то ответить, но ничего не ответил, потому что увидел, как из такси вылезал Чита. Он хотел закричать ему: «Стой, сволочь!» Он хотел броситься на него, на этого черного красавчика, который, улыбаясь, что-то говорил шоферу.
Росляков посмотрел на Леньку, заметил, как побледнел парень, перевел взгляд туда, где стояло такси, и увидел человека со шрамом на лбу.
– Отойди, – тихо, улыбаясь во весь рот, шепнул он Леньке и пошел к машине, глядя вроде бы в сторону, а на самом деле упершись взглядом в карманы Читы.
Ленька как стоял на месте, так и замер. Сердце бешено колотилось, а руки и ноги сделались мокрыми и ватными, словно совсем чужими. Он понимал, что ему сейчас надо повернуться и уходить, чтобы Чита не заметил его и не заподозрил неладное, но он не мог двигаться, он стоял в оцепенении, как человек, увидавший перед собой злейшего врага, губителя своей жизни.
И Чита заметил Леньку. Секунду он вспоминал его, а вспомнив, ужаснулся. Снова чутье – какое-то звериное, не его, а мудрое и далекое чутье пещерных предков – подсказало ему опасность. Он не обратил внимания на парня, одетого ладно и небрежно, который шел к такси. Он видел того самого мальчишку, который был с ними в кассе. И он видел, как тот стоял, бледный и напряженный, словно перед прыжком.
Чита рывком открыл дверцу и плюхнулся к шоферу. Все в нем затряслось, и спазма сдавила горло. Он сказал:
– Едем. Быстро, – и потянулся к дверце, чтобы захлопнуть ее. Но в тот же миг рука того самого парня, который шел к такси, с силой рванула его тело из машины. И еще он услыхал пронзительный голос мальчишки, который был с ним в кассе. Тот кричал: «Сюда! Сюда! На помощь!»
Росляков схватил Читу и, подняв его, понес в подъезд. Чита закричал и начал бить парня коленями по животу. Росляков занес его в подъезд и прижал к стене. Сразу же образовалась толпа. Люди кричали:
– Безобразие! Куда смотрит милиция?! Милицию сюда!
Росляков сопел и держал Читу в железных объятиях, а тот верещал и по-прежнему бил его коленями в живот. Сквозь толпу протиснулись Костенко и оперативник. Они схватили Читу за руки, а Росляков полез к нему в карманы. Толпа шумела и гневалась. Росляков вытащил из заднего кармана брюк теплый пистолет. Все враз замолчали и шарахнулись в стороны, будто отнесенные ветром.
– Вот сюда смотрит милиция, – отдуваясь, сказал Росляков, пряча пистолет, отобранный у Читы, – и давайте расходитесь, пожалуйста. Ничего интересного здесь нет.
Допрос начали сразу же, как только Читу привезли в управление.
– Я требую объяснений, – сказал Чита, когда Садчиков предъявил ему постановление на арест. – Я не понимаю, за что меня задержали.
Он пытался говорить спокойно, но его выдавали пальцы: они мелко дрожали.
«Главное, ни в чем не сознаваться, – повторял себе Чита, – Санька говорил, что главное – не сознаваться… Только не сознаваться…»
– Вас арестовали за четыре преступления, Назаренко, – сказал Росляков. – Вас арестовали за убийство милиционера Копытова, за ограбление скупки и приходной кассы и за незаконное хранение оружия.
– Я никого не грабил и не убивал. Оружие я нашел только что в такси и хотел его передать в милицию.
– Вы что, сейчас ехали в милицию?
– Да.
– А почему вы отпустили машину на улице Горького?
– Я хотел позвонить по телефону и узнать адрес, куда надо везти револьвер.
– Ах, так… Ясно, – сказал Росляков. – А почему же тогда вы вдруг передумали звонить и решили быстро уехать?
– Я вспомнил, что вы помещаетесь на Петровке. И вам я сопротивлялся только потому, что думал, вы грабители и это ваш пистолет. Я думал, что вы следили за мной.
– Н-ну, хорошо, – сказал Садчиков, – м-может быть, это так и было. С-скажите, а когда вам надо было заехать за дакроновым костюмом?
– Что? – упавшим голосом переспросил Чита.
– То самое, – сказал Костенко.
Чита сидел на стуле посредине комнаты, а Садчиков, Росляков и Костенко стояли прямо перед ним – стеной, закрывавшей окно. Поэтому Чита не видел их лиц и их глаз, он видел только яркие черные контуры трех людей, которые каждым своим вопросом вбивали ему в голову, прямо в темечко, страшные гвозди. Эти гвозди причиняли ему неимоверную боль, он должен был привыкнуть к этой боли, а уже потом, привыкнув к ней, быстро придумать ответ и сказать возможно спокойнее и беззаботнее:
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– С-слушай, Чита, – сказал Садчиков, – ты только из себя б-борца не р-разыгрывай. Тут зрителей нет. И п-пьяных пижонов, которые стоят около ресторанов и к-которых можно легко сбить с ног, тоже нет, и мы, как ты заметил, не девицы, а сыщики…
– Подумайте сейчас о себе, – продолжил Росляков. – Мы возьмем Сударя, и он нам расскажет все. Понимаете? И вы будете последненьким. А это плохо – оказаться последненьким в признании, суд это не очень-то одобрит.
– А за что меня судить?
– Я могу п-повторить еще раз…
– Не надо ваньку валять, – сказал Костенко, – с нами такие номера не проходят. Это у тебя только со Шрезелем такие номера проходили. Это ты ему мог «динамо вертеть», а у нас не получится.
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– З-начит, ты отказываешься давать показания? Так следует понимать тебя, да?
– Нет, почему же…
– Мы повторяем свои вопросы, Назаренко, – сказал Росляков, – послушайте нас еще раз: расскажите, как произошло убийство Копытова, кто и как вам помогал при ограблении скупки и кассы, куда с награбленным ездили и сколько времени вас ждал в машине Витька?
«Все знают! – пронеслось в мозгу у Читы. – Про Витьку тоже знают! Конец!»
– Я не понимаю, о чем вы говорите, – тихо ответил он, – я просто удивляюсь…
– Хорошо, – сказал Костенко, – сейчас мы тебя отправим в камеру. Но имей в виду следующее: я скажу Сударю, что ты молчишь и, таким образом, берешь на себя роль главаря банды. Думаю, что Сударя это устроит. Он даст показания, если ты молчишь и если сам себя пускаешь главарем. Имей в виду. Ты, конечно, потом откажешься от молчания и будешь показывать все на Сударя. Суд пришлет нам дело на доследование. Мы терпеливые. Мы тебя выслушаем еще раз, мы запишем твои новые показания и заново будем допрашивать Сударя. Но он-то наверняка от своих прежних показаний не откажется. Это уж ты поверь мне. Он скажет, что ты выкручиваешься и лжешь. Ты понимаешь, что он поступит именно так. И я не знаю, как суд посмотрит на твои измененные показания. То молчал, а то вдруг все стал валить на содельца. Вот об этом я должен тебе сказать. Подумай. Взвесь все. У нас есть время. Мы можем подождать…
Чита попробовал улыбнуться. Он откашлялся и сказал:
– Спасибо вам большое за разъяснение, но я просто не знаю, в чем мне сознаваться… Вы говорите про какого-то милиционера, которого убили… И вообще… Я ничего об этом не знаю.
Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил:
– Как экс-спертиза? Что? Ага. Н-ну хорошо, давайте ее сюда…
– Что? – спросил Костенко.
– Т-так вот, – нагнувшись над Читой, сказал Садчиков. – Тот пистолет, который мы взяли у тебя, принадлежал убитому сержанту милиции Копытову, Ч-чита. По номеру мы это сразу узнали, а эк-кспертиза нам подтвердила научно.
– Да, но я его н-нашел…
– Т-ты меня не передразнивай, – посоветовал Садчиков, – н-не стоит.
– Я не передразнива-аю! – взмолился Чита. – Это у меня само!
– Испугались? – спросил Росляков.
– Нет, просто…
– Не так уж все это просто, – сказал Костенко. – Что, вызывать конвой? Пойдешь в камеру молчальником, Чита?
– Но я нашел этот пистолет в машине!
– Только не лгите, – сказал Росляков, – только не надо нам лгать, Назаренко. Это я вам даю добрый совет, поверьте мне. Шофер такси номер ММТ 57–51, на котором вы ехали, у нас. Его зовут Николай Васильевич Теплов. Сейчас мы его пригласим.
– Да, это мой первый выезд, – сказал шофер Теплов. – Я выехал из парка, я там амортизатор менял, а этот гражданин меня остановил.
– Он куда сел? – спросил Костенко.
– В машину, – ответил шофер, – куда же еще…
– Это мы понимаем, нас ин-интересует место в машине.
– Рядом со мной сел.
– И на заднее сиденье не садился? – спросил Росляков. – Может быть, он выходил пить газированную воду или звонил по телефону, а потом сел на заднее сиденье? Вспомните, пожалуйста.
– Да нет, что я, болван, что ль? Он еще торопил меня всю дорогу, велел гнать, говорил, что сам за меня рубль орудовцу отдаст, если остановят.
– Он вам показывал пистолет, который нашел под сиденьем?
– Чего?! – взвился шофер. – Вы это, знаете, бросьте! Вы меня на пушку не берите! И ты давай не подмаргивай! Пистолет… Я никаких пистолетов в машине не вожу! Пистолет…
– Вы бы осторожнее подмаргивали, Назаренко, – сказал Росляков, – а то неудобно, видите, товарищ Теплов сердится на вас.
– С-спасибо, товарищ Теплов, – сказал Садчиков, – п-простите, что пришлось оторвать от работы.
– Вы мне отметьте, что я у вас по делам, – попросил Теплов, – а то завтра же на профсоюзном выговор дадут. Как милиция, так сразу думают – пьянка. А у меня катар, я этого вина проклятущего в рот не беру.
– «Ессентуки» надо пить, – посоветовал Костенко, – семнадцатый номер. Очень помогает.
Когда Теплов ушел, Садчиков сказал Чите:
– Н-ну, придумывай, Чита, новую версию, эта, видишь, отпала.
– Он врет! – сказал Чита. – Он нагло врет! Я отвожу его как свидетеля…
– Н-не торопись, – снова посоветовал Садчиков, – лучше придумай что-либо н-новенькое, мы вместе обсудим, так или не так. Может быть, ты нашел пистолет на улице, когда шел от Сударя к стоянке т-такси? Или, может быть, у Сударя в подъезде?
– Или, может, – подсказал Костенко, – у Сударя в квартире?
– Ладно, – сказал Росляков, – тогда давайте все спросим у Сударя. Вы где с ним уговорились встретиться?
– Я не уговаривался с ним встречаться.
– Снова врешь, – сказал Костенко. – Дома у него сейчас засада. Он вернется домой, потому что ему нужен помощник. Витька с вами теперь не ходит, ты – у нас. Он вернется домой и будет тебя ждать там. А там мы ждем его.
«Я же не хотел! – лихорадочно думал Чита. – Я так и знал, что влипнем! Я же не хотел идти с ним, когда он показал мне пистолет в первый раз. Они не поверят мне. Но я не хотел! Это он, сволочь, бериевское отродье, сатрап проклятый, заставил меня! А вдруг они ничего не знают? Сударь говорил, что надо молчать! А если сказать? Не все, а только самое легкое? Черт, как же быть? Как же мне быть, господи! Помоги мне! Мамочка! Что делать-то сейчас?»
– Сколько раз с вами воровал поэт?
– Он не воровал, – ответил Чита и сразу же понял, что уже начал помимо своей воли говорить. Он понял, что проговорился, он попался! Они взяли его врасплох этим вопросом, потому что он боялся только Сударя, а этого паренька он не думал бояться, он забыл о нем, как только попал в руки того, который затащил его в парадное.
– А касса? Он же с вами был в кассе, – быстро сказал Костенко.
Чита устало вытянул руки и потер пальцами колени. Он почувствовал, что пальцы перестали дрожать.
– Нет, – сказал он тихо, – там мы были вдвоем. Он просто шел сзади. Мы даже не поняли, как он за нами вошел. Он был пьяный. А про милиционера я ничего не знаю. И вообще больше ничего не было.
– Снова врешь, – жестко возразил Костенко, – мы уже вызвали людей из скупки и из домовой лавки. Ты заметный, они тебя сразу узнают. Шрам, да парень ты видный, хоть и очки нацепил для конспирации.
– Где вы должны были встретиться с Сударем? – повторил Росляков. – Давайте, давайте, нечего уж…
«Сударь все равно будет молчать. Он им ничего не скажет. Пусть сами берут, – быстро думал Чита. – Этого я им не скажу. А про то они все равно знают».
– Мы с ним не уговаривались о встрече, честное слово.
– К-какое? – удивился Садчиков.
– Честное слово, – повторил Чита. – Я уехал от него – и все.
«Мне никак нельзя говорить. Тогда будет два новых дела. Он должен грабить этих чертовых скрипачей. А я ничего не знаю. От всего откажусь. Меня первого взяли, мне и вера…»
– З-значит, поэт с вами не воровал?
– Нет.
– И в-вы с ним не говорили о том, что собираетесь брать кассу?
– Нет. Мы потом жалели, что он за нами увязался.
– На м-минуточку, С-слава, – позвал Садчиков Костенко, и они вышли из комнаты. Садчиков отошел к скамейке, сел, достал сигареты и улыбнулся.
– Я, знаешь, за Леньку рад, – сказал он, – он теперь у н-нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол, и сразу ч-чтобы этот вопрос особо отметить, это для Леньки спасение…
– А как быть с Сударем?
– Он з-знает, где у них назначена встреча.
– Думаешь?
– У-убежден.
– Ну, извини…
– Да н-нет, ничего, – улыбнулся Садчиков. – Теперь т-так: про Сударя пока ни слова. Пройдет полчаса, он пообвыкнет, и тогда повторим в-вопрос еще раз, как считаешь?
– Хорошо. Пошли.
Виктора убили
Когда распили половину бутылки, Прохор попросил:
– Вить, а Вить, ты сходил бы, из машины бензинчика мне отсосал – пятно замыть.
– Какое пятно?
– Веранду я красил. Масляное. Вот, на коленке – видишь?
– Потом принесу.
– Нет, Вить, сейчас. А то вонять будет. Чего те стоит-та?
– Въедливый ты, старикан. Давай разливай по последней…
– А ты пока сходи, ладно, Вить? Я во всем опрятность люблю.
– Ладно.
Виктор пошел к машине. Прохор достал из внутреннего кармана длинное шило, завернутое в тряпочку, развернул его и положил в свой старенький портфель, потом подошел к окну и внимательно следил за тем, будет ли Виктор останавливаться и разговаривать с кем-либо. Нет. Налил в пузырек из карбюратора бензина, пошел к подъезду. Ах, сволочь, с кем же ты остановился, а?
А Витька встретил Алика из соседнего подъезда.
– Здорово, – сказал Алик.
– Привет.
– Ну, как дела?
– Ничего. Сегодня за Любкой еду. А ты как?
– Тоже ничего. Продули мы позавчера «Химику».
– Эх вы, тюри…
– Сегодня в Тарасовке на загородном филиале стадиона со вторым «Спартаком» играем. В семь часов. Хочешь, приезжай.
– Я за Любкой еду.
– Игра будет – класс! Чего ты бензин несешь?
– Да приятелю, пятно отмыть на штанах, – сказал Витька и кивнул головой на свое окно.
Алик поднял голову и увидел Прохора. Прохор отпрянул от окна.
– Ну, пока, – сказал Алик.
– Пока. Ни пуха ни пера.
– Иди к черту…
– Вить, а Вить, с кем ты лясы свои натачивал?
– Приятель один.
– А я что, носорог? Меня зачем ему в окно показывал?
– Да я тебя и не показывал вовсе.
– А чего ж он глазел?
– Я сказал, что бензин несу, брюки себе почистить, вот и весь разговор.
– Архип Иванычу, небось сказал, несу. С Тарасовки, да?
– Ничего я про тебя не говорил. И чего ты пугливый такой? Прямо как лань.
– Лань – она очень красивых форм тварь. Давай пей за здоровье Любушки нашей. Ух, красавица, дай ей боженька хорошего сыночка! Пей!
Они чокнулись, и Витька выпил.
– Зря я захмеляюсь, – сказал он. – Не ровен час – милиция остановит. Я ж за Любкой сегодня еду…
– Я тебе говорил – не гони… Мусора, они только к тем с подозрением, кто гонит… А кто потихоньку да полегоньку, тот катает себе по городу и горя не знает…
Прохор вдруг замер и прислушался.
– Ты чего, Архип Иваныч? – удивился Виктор.
– Погоди…
– Да чего ты? Один я, один…
– Вроде бы, кто у машины балует, слышишь, дверь хлопнула?
Виктор сорвался с места и бросился к окну. Прохор кошачьим, тихим движением достал из портфеля шило, спрятал его за спину и пошел к Виктору, который смотрел во двор…
– Никого нет, – сказал он, не оборачиваясь, – померещилось, видать, вам, Архип Иваныч…
Прохор застонал и, падая вперед, ударил Виктора шилом под левую лопатку: этот удар был его коронным – он казнил сорок семь человек именно этим ударом. Это было двадцать лет назад, в Минске, после покушения на гаулейтера…
Витька молча осел на пол, даже не вскрикнув.
Прохор оттащил труп от окна и положил на кушетку. Затем полил его бензином, подвинул к кровати стул, положил на стул спички и папиросы, раскрыл коробок и, достав из шкафа пиджак, долго смачивал его бензином. Потом выбросил в мусоропровод стаканы, из которых они пили, и бутылку. Осторожно заглянул во двор. Там было пусто. Быстро чиркнув спичкой, он бросил ее на Витьку. Туго вспыхнуло синее пламя. Прохор осторожно высунулся из квартиры и по-кошачьи тихо бросился вниз. Согнувшись, приволакивая ногу, он медленно вышел на улицу, пересек ее и сел в первый проходящий троллейбус.
«Нет Витеньки, – подумал он, – сгорел мальчик. А с ним и Тарасовка моя сгорела. Один свидетель у меня был, кроме бога. А бог простит, он у меня свой, собственный».
Сударь прогуливался на условленном месте. Прохора не было.
«Вот старая сволочь! – думал он. – Если не придет, на дело не пойду. Без марафета какое, к чертям собачьим, дело? А может, у профессора марафет есть? У всех врачей он должен быть. Картины картинами, а грамм бы наркотика, а?»
Он даже улыбнулся, когда представил себе, как в тумбочке, обязательно в тумбочке, где-нибудь в профессорской спальне, найдет белую бумажку, свернутую пакетиком.
«Что, на Витьке свет клином, что ль, сошелся? В конце концов, возьму такси, скажу – на курорт. Пятерку в зубы – что он, в чемоданы лезть будет?»
Сударь снова посмотрел на часы: Прохор опаздывал уже на полчаса.
«Через час там будет маячить Чита. Ладно. Пойду без Витьки. А марафет у профессора обязательно будет».
Он остановил такси и сказал шоферу:
– Слушай, приятель, у тебя часа два есть?
– У меня не два. У меня двадцать четыре часа есть.
– Тогда порядок. Я, понял, сегодня на море мотаю, в Гагру. Надо за шмотками к себе заехать, а потом – к брату.
Сударь достал пять рублей и протянул их шоферу.
– Держи. Поехали в Грохольский, там меня братан ждет.
– Поехали, – согласился шофер и включил счетчик, – чего ж не поехать…
Профессор
Профессор Гальяновский сидел около окна и курил. Он очень медленно курил, и каждая затяжка пожирала заметную часть сигареты. Сигареты были очень крепкие и вкусные: позавчера профессор был на приеме у итальянцев и привез оттуда подарок – две пачки каких-то особых сигарет, сделанных по абиссинскому рецепту. Итальянцы хорошо знали профессора, потому что он несколько раз выступал с докладами в Риме и Неаполе. Он был почетным академиком Итальянской академии и бывал в Италии раза по два в году. В посольстве знали его страсть к крепким сигаретам и обязательно каждый раз готовили в подарок что-нибудь диковинное и новое.
Выкурив первую сигарету, профессор сразу же закурил вторую. Он сидел, нахохлившись, здоровый, апоплексически красный, с огромными, сильными руками. Седой пушок на затылке, детский, очень какой-то нежный, не вязался со всем его обликом, по-мужицки кряжистым и суровым.
Он сейчас ни о чем не думал. Просто курил, уставившись в одну точку. Он не мог думать, ему сейчас было очень больно думать, просто даже никак нельзя ему сейчас было думать, потому что вчера у него под ножом умер его старинный друг, самый близкий из всех, которые оставались еще на земле.
Они дружили давно, с дореволюционных времен, когда еще жили в эмиграции в Женеве, после того как вместе бежали из архангельской ссылки.
Два раза профессор спасал друга от тяжелых инфарктов, и вчера, начав операцию и увидев сердце друга – все в шрамах, больное и изношенное, доброе сердце большого человека, – он все-таки верил в победу над смертью.
Сердце больного было выключено, вместо него работало искусственное – умный металлический аппарат, который гонит кровь по сосудам. Профессор обновил сердце друга, он сделал чудо. Но, когда отключили искусственное сердце, настоящее не заработало. Профессор снова подключил аппарат, и снова оперировал, и снова делал чудо, но человек ведь не всегда может одолеть смерть – этот неумолимый процесс распада материи…
Прозвенел звонок. Профессор тяжело поднялся и пошел в переднюю. Он не стал спрашивать, кто пришел. Он распахнул дверь и увидел тетю Машу, женщину, которая обычно убирала его квартиру. И еще он увидел парня, выходящего из лифта.
Парень был с чемоданчиком, который обычно носят слесари.
– Вы ко мне? – спросил профессор.
– Нет, – ответил парень, – к вам я попозже. Мне сначала надо в сороковую квартиру. – И начал спускаться вниз.
– Поскорее у меня убери, Машенька, – попросил профессор, – и иди домой.
Сударь, приникнув к двери, слышал эти слова. Он хрустнул пальцами и пошел вниз, сморщив лицо. Желание впрыснуть поскорее наркотик становилось нестерпимым.
«Поеду к скрипачу, – решил он. – Какая разница, в конце концов, кто из них будет первым?»
– Братан ключа не оставил, – сказал он шоферу, – жмем к маме.
– К какой? – усмехнулся шофер.
– К той самой, – ответил Сударь. – Которая в Кисловском переулке.
Он сжимал и разжимал кулаки очень медленно, сдерживая себя, что есть силы сдерживая. Он уже знал: чтобы не сорваться на мелочи, надо сдерживаться и уговаривать себя: «Я не хочу марафета! Я не хочу марафета! Я не хочу марафета!» И сквозь это заклинание он стал постепенно вспоминать о Чите: «Где он? Хотя еще рано. Он должен быть здесь через час. Я бы подождал его в квартире. А сейчас? Сейчас я возьму у скрипача только его скрипку, и не буду брать больше ничего, и вернусь сюда. Он как раз будет здесь. Так? Так. Я не хочу наркотика, мне не нужен марафет, не нужен…»
Чита сдался
– Больше ничего не было, – сказал Чита и вытер со лба пот. – Это все.
– Все? – спросил Костенко. – А ты еще забыл о пистолете.
– Пистолет… Да, это я действительно забыл. Я купил его на Казанском вокзале. Его продавал мальчишка в кепочке.
Сейчас Чита говорил четко, подобострастно глядя на оперативников, все время кивая головой. Каждой фразе он помогал руками. Они у него летали, будто у иллюзиониста. Он описывал ими полукруги, хватался за щеки, рассказывая, как он переживал случившееся, закрывал руками глаза, когда хотел показать всю глубину раскаяния. Паузы он использовал в оборонительных целях: придумывал главные ответы на те главные вопросы, которые еще предстоят.
Садчиков не мешал ему. Он делал маленькие карандашные пометки на большом листе бумаги, Костенко писал протокол, а Росляков сидел на подоконнике и болтал ногами.
Роли у них были распределены. Костенко просто пишет, Росляков наблюдает за Читой, рисует его психологический портрет, следит за каждым нюансом его голоса, за каждым его жестом. А Садчиков отмечает все те противоречия, которые незаметны лгущему человеку, причем лгущему не подготовленно, а экспромтом. Ими, этими противоречиями, завтра или послезавтра, предложив Чите рассказать все заново, он изобличит ложь. Только не надо торопиться или перебивать. Пусть говорит. Он сейчас «в форме», он верит тому, что говорит, он сейчас весь в своей «легенде», по которой ограбления скупки и кассы выглядят как печальные недоразумения, следствие мальчишеских шалостей, глупость, сущая глупость, а никак не преднамеренное и обдуманное преступление. С этим все кончено, они с Сударем не могли себе найти места от стыда и раскаяния, они даже думали прийти и покаяться, попросить, чтобы их простили и отправили на трудную работу, нужную родине. Что, разве они не понимают? Они все понимают и больше никаких преступлений не замышляли.
– Где Сударь? – спросил Садчиков. – Он ж-ждет тебя и волнуется? Г-где он?
Чита не успел ответить, потому что раздался телефонный звонок.
Садчиков снял трубку. Говорил дежурный по управлению.
– Вас интересовали шоферы по имени Виктор, товарищ майор?
– Оч-чень.
– Так вот, сейчас пожарники затушили очаг… Там обгоревший наполовину труп. Шофер Виктор Ганкин. Его на вскрытие сейчас увезут, вам посмотреть не надо?
– Н-надо. Благодарю вас. Подсылайте, пожалуйста, машину.
Садчиков задумчиво посмотрел на Читу и спросил его:
– Т-ты еще забыл нам рассказать про Витьку.
– Про какого Витьку?
– К-который катал вас.
– Нас никто не катал, что вы!..
– Так уж и никто?
– Конечно, никто.
– Ладно. Поедем, сейчас покажем тебе Витьку.
– Какого?
– Увидишь.
– Может быть, я его, конечно, и знаю, только…
– Ч-что «только»?
– Нет, ничего… Знаете, много всяких знакомых… Он меня, может, знает, а я его нет.
– Хватит лгать, – сказал Росляков. – Вам так труднее. Игра ваша проиграна, так уж нечего вертеться. Говорите все, вам же будет легче, мозгу отдых дадите. А вы вроде конферансье – мелете, мелете чепуху, а нам что, смеяться? Не смешно.
– Т-ты боишься покойников, Ч-чита? – спросил Садчиков.
– А что? Почему вы меня спрашиваете про это? Зачем покойники?
– Ин-нтересуюсь…
– Не надо, – сказал Чита, – зачем вы говорите про это? Я никогда не убивал, мы никого не убивали…
– Ты за Суд-даря можешь поручиться?
– Да, да, только вы меня так не пугайте…
– Поехали, – сказал Садчиков.
– Куда? – побледнел Чита. – Куда вы меня увозите? Должен быть суд! Куда вы меня хотите увезти?! Скажите, куда?!
– Да т-ты истеричка, оказывается, – сказал Садчиков. – Вставай!
– Хорошо, х-хорошо, – быстро ответил Чита, – с-сейчас.
– Снов-ва дразнишься? – рассердился Садчиков. – С-смотри у меня!
– Я не дразнюсь.
Встать он не мог, потому что ослабли ноги. «Труп. Какой труп? Почему они говорят про труп? Может быть, я труп? Ой! Убьют! Они везут меня убивать…»
– Я не поеду! – вдруг тонко завопил он. – Никуда не поеду!
Костенко запер протокол в сейф, шагнул к двери и сказал:
– Поедешь.
Первыми в комнату вошли Садчиков и Костенко. Чита и Росляков стояли в коридоре вместе с понятыми.
Садчиков увидел обгорелый труп, желтые пятки и ослепительно белые зубы на обугленном лице.
– Ч-что? – спросил Садчиков эксперта.
Тот сказал:
– Сейчас пошли копаться в мусоропроводе. Он был открыт, мусоропровод. Мне кажется, здесь убийство. С симуляцией несчастного случая.
– Почему вы так думаете? – спросил Костенко. – Напился до чертиков и сгорел.
– Нет. Ваши люди обыскали его машину, там путевой лист, он помечен тремя часами. А сгорел он в четыре. За час трудно напиться до такого состояния.
– Г-где наши люди?
– Они ходят по квартирам, ищут возможных свидетелей.
Садчиков обернулся к Костенко и сказал:
– Веди Читу.
Чита вошел, увидел обгорелый труп Виктора и привалился к косяку, чтобы не упасть. Потом он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Все в нем похолодело, оборвалось, завертелось что-то в голове, и зубы сцепились в дрожи.
– Ну, – сказал Садчиков, – ваша р-работа?
Чита помотал головой. Говорить он не мог.
– Алиби представишь?
– Да, – прошептал Чита.
– За себя?
– Да.
– А за Сударя? Ты же за обоих в-все время говорил. Ну, где он? Или это в-ваша общая работа?
– Нет.
«Зверь, – подумал Чита. – Это он. Это только он один мог сделать. И со мной тоже. С кем угодно. Зверь…»
– Скорее, – сказал Чита, – только скорее езжайте. Или на Грохольском, у профессора Гальяновского, или у скрипача, в Кисловском. Скорее. Только скорее.
– Когда у вас б-было в-все д-договорено?
– А сколько сейчас?
– Шесть.
– На пять. Мы условились на пять.
– Что ж-же ты молчал, с-сволочь?! – тихо сказал Садчиков. – Слава, Валя, – по адресам!
– А люди?
– Не успеете дождаться. Я в-вызову л-людей туда, прямо на места по телефону. Скорей, р-ребята, к-как можно скорей!
Скрипач и Сударь
Друзья звали скрипача странным именем Кока. Никто не знал, откуда это имя к нему пришло. И сам скрипач не знал этого, хотя пытался докопаться до самой сути – он был человеком аналитического склада ума и во всяком явлении силился распознать закономерность.
– Кока, – сказал администратор Арон Маркович, – а все-таки вам придется поехать в Томск.
– Боже мой, но ведь у меня уже почти начался отпуск!
– Тем не менее.
Кока сел в кресло и, закурив, принялся насвистывать песенку. Арон Маркович кружился вокруг него и пытался даже подсвистывать, хотя слухом его бог обидел.
– Когда брать билет, Кока?
– Я никуда не поеду.
– Это не объяснение для филармонии.
– У меня болят ноги.
– Для них это тоже не объяснение.
– Для «них» – это значит для вас, Арончик.
– Для меня! Какое я имею отношение к тем бандитам, какое?
– Непосредственное. Вы у них служите.
– Я нигде не служу. Я работаю.
– Помните у Ильфа и Петрова: «Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины»?
– Ах, Кока, перестаньте!
– Арон, хотите, я вам расскажу новый анекдот?
– Вы с ума сошли! – замахал руками администратор. Он еще со старых времен боялся анекдотов. – Какой еще анекдот? Я не знаю никаких анекдотов и знать не хочу! Когда вы летите – вот что я хочу знать.
– Никогда! – ответил Кока звенящим голосом. – Ни за что! Я завтра скажу моим ученикам, чтобы они бежали из консерватории. Бежали со всех ног. Артисты! Ах, жизнь артиста! Фраки, манишки, овации, медали, репортеры! Тьфу! Пропади все это пропадом! Хочу быть бухгалтером! Иметь свой, гарантированный законом отпуск, считать дивиденды и ни о чем больше не думать! Десять часов каждодневных репетиций, бесконечные поездки, жизнь бродячего циркача! Я больше не могу! Понимаете?! Я живу дома месяц в году, Арон!
– Хорошо, – сказал Арон Маркович, – я постараюсь устроить вас счетоводом.
– При чем здесь счетовод?
– Вы же сами хотели быть бухгалтером. Вы только что сказали мне об этом.
– Мало ли что я сказал! А что, если я попрошу у вас должность президента Боливии?
– Трудновато, но, может быть, выхлопочу.
– Вы прекрасный человек, Арон.
– Я знаю…
– Вы негодяй.
– Это я тоже знаю. Когда вы едете?
– Никогда.
– Поедете, Кока. Иначе ваша теория страдания слишком резко разойдется с практикой жизни.
Это было больное место Коки. Он считал, что главный стержень искусства – страдание. Радость вызывает смех, страдание – слезы. Радость и благоденствие порождают хорошее настроение, страдание создает Достоевского, Баха, Стендаля, Хемингуэя. К этой своей теории скрипач относился трепетно и отстаивал ее в жарких спорах до последней возможности.
– Кто-то звонит, – сказал Арон Маркович испуганно. Он с детских лет боялся звонков в дверь…
– Это из прачечной.
– Я открою.
– Спасибо.
Арон Маркович подошел к двери и спросил:
– Кто там?
– Слесарь.
– Слесарь! – крикнул Арон Маркович. – Вы просили слесаря, Кока?
– Нет.
– А что вам надо, слесарь? – спросил Арон Маркович, все еще не открывая двери.
– Проверка. Если вы заняты, я попозже зайду.
– Он зайдет попозже, Кока.
– Откройте же дверь, Арон, это неудобно, там человек стоит.
– А что вы будете проверять, слесарь?
– Трубы…
Арон Маркович открыл дверь. На пороге стоял Сударь. Он осторожно переступил порог, судорожно вздохнул и сказал:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Мне бы кухню посмотреть. Только если вы заняты, я могу попозже.
Кока крикнул из комнаты:
– Вы надолго?
– Минут десять.
– Тогда пожалуйста.
Арон Маркович неотступно следовал за Сударем. Кока достал из футляра скрипку и стал играть Брамса, расхаживая по комнате. Слесарь начал стучать чем-то металлическим, и Кока поморщился, потому что металлические звуки ложились на Брамса и делали музыку страшной – словно из фильма кошмаров. Кока перестал и крикнул:
– Арон, где вы?
– Мы на кухне.
– Идите сюда!
Администратор вошел в комнату.
– Поезжайте и заказывайте билет на завтра, – сказал Кока, – и одновременно закажите на Симферополь, я из Томска улечу работать в деревню. К морю.
– Я же знал. Вы добрая и обязательная умница.
– Когда вы вернетесь?
– Через час.
– Хорошо. Я пока поработаю.
Арон Маркович улыбнулся, посмотрел на Коку своими близорукими глазами, тронул Коку за плечо и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Кока снова начал играть Брамса. Дверь хлопнула, Арон Маркович ушел. В квартире остались два человека: скрипач и убийца.
Плохо с Ленькой
К оперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры.
– Послушайте, – сказал он, – я второй день ищу Садчикова или кого-нибудь из его группы.
– Они все на происшествии.
– Я понимаю. С делом я ознакомился, я ж к их делу подключен.
– Ясно.
– Вам ясно, а мне не совсем. Вы знакомы со всеми обстоятельствами?
– Знаком.
– У меня тут один щекотливый вопрос. То вы нам покоя не даете, требуете постановление на арест, а то – в данном случае – преступник разгуливает на свободе и даже, видите ли, экзамены сдает.
– Это вы о ком?
– О Самсонове.
– Так он же мальчишка.
– Семнадцать лет – мальчишка? Я в семнадцать лет руководил раскулачиванием, дорогой товарищ… Очень это все мне странно. Папашу ответственного боитесь, что ли? Брать его надо, этого сыночка. Барчук, зажрался, на уголовщину потянуло, нервы пощекотать… Не понимаю я вас, товарищи дорогие, не понимаю…
– Это что, Садчикову передать?
– Да уж, конечно, не скрывайте.
– Ладно. Передам. У вас все?
– Вообще-то да. Вот только, может быть, у вас там парочка билетов на завтрашний «Спартак» осталась? Я тут с ног сбился…
– Присылайте кого-нибудь, у нас еще есть.
– Ну спасибо большое. Счастливо вам. Сейчас пришлю. Пока.
– Пока.
Дежурный вздохнул и полез за папиросами. «Жаль мальчишку, – подумал, закуривая. – Кто в камере ночь посидел, у того седина на год раньше появится. Эх, глупость людская!»
Администратор волнуется
Арон Маркович стоял на троллейбусной остановке и чувствовал, как в нем росла непонятная тревога. Он не мог понять, отчего это происходило. Сев в пятый троллейбус, который шел к центру, он подумал: «Это, верно, к сердечной спазме. Погода меняется».
Устроившись у окна, Арон Маркович откинулся на спинку жесткого сиденья и положил ногу на ногу. Закрыл глаза и потер веки. И вдруг с поразительной четкостью, словно на линогравюре, увидел лицо человека. Оно было зеленым из-за того, что он тер веки. Зеленым, четким и жутким.
«Кто это?! – ужаснулся Арон Маркович. – Какой ужас, боже мой!»
Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что лицо это принадлежало слесарю, который пришел к Коке.
– Остановите троллейбус! – крикнул Арон Маркович и побежал к выходу, расталкивая пассажиров острыми локтями. – Товарищ водитель, остановите машину, товарищ водитель!
– Вы что, гражданин, – сказал водитель, не оборачиваясь. – Как же я остановлю троллейбус, если остановки нет?
– Послушайте, меня надо выпустить, мне надо немедленно вернуться!
– Да не кричите вы! – рассердился водитель. – Будет остановка – и выйдете. Нечего панику пороть. Не на пожар!
– Какой вы черствый человек, – сказал Арон Маркович, – а там за это время может случиться ужас!
«А может быть, это я оттого, что меняется погода? – снова подумал Арон Маркович. – Может быть, я сам себя пугаю?»
Но он все время видел лицо слесаря, его пустые, совершенно белые глаза без зрачков и длинные руки, чуть не до колен.
Когда троллейбус остановился, Арон Маркович выскочил на тротуар и побежал к стоянке такси. Там была очередь.
– Товарищи! – взмолился он. – Я умоляю вас, дайте мне такси!
– А пряника хотите? – спросил парень в спортивном свитере.
– Как вам не совестно, как?! – сказал Арон Маркович. – Люди, скажите, чтобы он пустил меня в машину! Может произойти преступление, если я не вернусь к нему!
– Куда? К кому? – посыпалось со всех сторон.
– К Коке!
Парень в свитере засмеялся:
– Ничего с вашим Кокой не будет.
Остановилось такси. Парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером. Тогда Арон Маркович сел на заднее сиденье и сказал:
– Я из такси не уйду.
– Гражданин, – попросил шофер, – выйдите по-хорошему.
– Нет.
– Папаша, ты что, белены объелся? – спросил парень.
– Я из машины не выйду.
Люди в очереди стали говорить:
– Смотрите, он весь белый, этот старик.
– Ему плохо!
– Пустите его, молодой человек!
– Как вам не совестно, юноша!
Парень обернулся и спросил:
– Куда вам?
– Здесь рядом, на площади.
– Подвезите его, – сказал парень, – а то он трехнутый какой-то.
В Тарасовке
Футболист Алик кончил шнуровать свои новые чешские бутсы и, встав с лавки, принялся неторопливо и сосредоточенно разминаться. В минуты, предшествовавшие матчу, он отключался от всего его окружающего и думал только об одном – о том, как через пятнадцать минут на поле начнется игра.
В коридоре что-то кричали. Доносились слова: «Ганкин Витька сгорел! Сгорел! Ганкин! Витька!», «Да что ты говоришь?»
Алик сначала не хотел думать об этих словах, ему сейчас важно было как следует размяться, чтобы выйти на поле подтянутым, чтобы тело было послушным его воле, чтобы дыхание установилось заранее – четкое и ритмичное.
«Витька сгорел! Ганкин-то сгорел!»
Алик подумал: «Наверное, Любка вернулась и его с кем-нибудь застукала, Любка – девка с норовом, значит, он сгорел крупно. Ну и дурак. Если уж шустрить, так надо умело…»
– Лицо черное, говорят, бензином облился и поджег себя! – кричал кто-то быстро, глотая слова. – Только ноги и не сгорели…
Алик перестал прыгать через скакалочку и вышел в коридор.
– Это как?
– Бензином облился и сгорел.
– Ты ерунду не мели. Я его перед отъездом видел, два часа назад.
– Что, я шучу? Сам видел, милиция туда понаехала, пожарники…
– Не может быть… Там у него дед был. Он еще со мной вместе сюда ехал на электричке.
– Какой дед?
– Старичок у него сидел, ему Витька бензин тащил брюки чистить.
– Нет у Витьки никакого деда.
– Да он не его дед. Он просто дед. Старый, понимаешь? А Витька в больнице?
– Да он мертвый, зачем его в больницу везти…
– Иди ты…
– Точно.
– Что, совсем?
– Нет, наполовину… Говорю – умер…
– А Любка у него ребеночка ждет…
– Да, ужас…
– Слушай, Коль, может, мне в милицию позвонить? Про деда сказать, а?
– Очень им твой дед нужен.
– А ты откуда знаешь?
– Чего он знает-то, дед? Сам говоришь – старый.
– Раз старый – значит, глупый, что ли?
– А что он может сказать, если с тобой в электричке ехал…
– Так он у него еще оставался…
– Откуда ты знаешь? Эх, Витька, Витька, прямо не верится…
Вошел тренер и закричал:
– Вы что, с ума все здесь посходили? На поле разминка началась! А ну, быстро!
– Витька сгорел, – сказал Алик.
Тренер ничего не понял и поэтому рассердился:
– Сейчас мы сгорим! Быстро, тебя команда ждет…
Сударь вошел в кабинет скрипача, зажав в правой руке молоток.
– У вас лесенки нет? – спросил он тихо. – Мне бы лесенку…
Кока перестал играть, вопросительно посмотрел на него и переспросил:
– Лесенки? А зачем, собственно?
– Трубы посмотреть хочу.
– Ах, трубы… Хорошо… Вы взгляните в ванной комнате, там, кажется, есть некоторое подобие лестницы. Кстати, вы хотите покушать? В холодильнике есть пирожки и бульон, подогрейте себе.
– Что?
– Я говорю, что в холодильнике есть пирожки и бульон. Если вы хотите перекусить – милости прошу. Пирожки с мясом.
– Потом.
– Пожалуйста.
– Вы мне покажите в ванной, где она, лесенка эта самая…
– Да вы увидите сами.
– Неудобно без хозяина.
– Что за глупость, боже мой! Вы же рабочий человек, а не древняя бабушка.
– Нет, вы лучше сами.
– Ну, пойдем…
Кока положил скрипку на стол, рядом с ней положил смычок и пошел в ванную комнату. Следом за ним Сударь. И в тот момент, когда скрипач нагнулся, чтобы вытащить из-под раковины металлическую складную лесенку, а Сударь медленно поднял руку, чтобы разбить молотком голову нагнувшегося человека, в прихожей заверещал звонок.
Сударь весь обмяк, на лбу выступила испарина, пальцы разжались, и молоток упал на пол, глухо брякнув. Разбилась кафельная плитка. Скрипач поднял голову и попросил:
– Откройте дверь, будьте любезны.
– А кто там?
– Молочница. Она всегда приходит в это время.
Сударь подошел к двери и спросил:
– Кто?
– Это я, Арон Маркович.
– Кто, кто?
– Это Арон, – крикнул скрипач, – откройте ему!..
Сударь отпер дверь. Администратор увидел его, отступил на шаг и прошептал:
– Где Кока?
– Вас зовут! – обернулся Сударь, чувствуя, как у него прыгает лицо, и руки трясутся, и нога выбивает быстрый, судорожный такт.
Кока вышел из ванной, держа лесенку на вытянутых руках.
– Она пыльная, – сказал он, – сейчас мы найдем тряпку! Почему вы так стремительно вернулись, Арончик?
– Я?
– Нет, вы, – улыбнулся Кока.
– Заболело сердце, Кокочка, простите бога ради старика. И вы меня, товарищ слесарь, простите…
Арон Маркович близко заглянул в лицо Сударя, и тот увидел ужас, спрятанный где-то в самой глубине стариковских маленьких глаз.
– Я сейчас, – сказал Сударь, – я вернусь через полчаса, мне в контору надо.
– Перекусите, – снова предложил скрипач.
– После, когда вернусь.
– Хорошо. Я еще побуду дома с часок.
Сударь нажал кнопку вызова лифта, но не смог дождаться, пока придет кабина, потому что все в нем дрожало от нетерпения. Он бросился вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Таксист, стоявший у подъезда, ходил около машины, свирепый и молчаливый. Он с силой захлопнул дверь и сказал:
– Снова без чемоданов? Теперь мамы нет?
– Что, денег тебе мало? – спросил Сударь. – Мы еще только на трешницу наездили, а ты от меня пятерку получил. Давай обратно, там, где были.
– Что я, помню, где мы были?
– Гони, я напомню…
Росляков позвонил в дверь. Арон Маркович спросил:
– Кто там?
– Из домоуправления.
– У нас только что были из домоуправления.
– Откройте, – сказал Росляков тихо, – хотя бы на цепочке.
Арон Маркович открыл дверь. Валя уперся в нее коленом, чтобы тот не захлопнул, и показал свое удостоверение.
– Я из угрозыска. Скажите, у вас сейчас никто не был?
– Только что ушел слесарь, – шепотом ответил Арон Маркович.
– Откройте, пожалуйста, дверь, – попросил Росляков. – Не бойтесь же…
– Откройте же дверь! – крикнул Кока. – Старый конспиратор, Арон! Вы боитесь собственной тени.
Росляков вошел в квартиру и спросил:
– Он высокий, этот слесарь?
– Да.
– Черный?
– Да.
– В босоножках и в красной тенниске?
– Да.
– И чемоданчик у него был серый?
– Был.
– Можно позвонить?
– Конечно.
Росляков снял трубку, набрал номер ближайшей милиции и попросил:
– Это из спецгруппы Садчикова. Наши люди должны выехать из управления. Ваше отделение рядом. Подошлите сюда срочно оперативников. Да. Это Росляков. Да. Он уже здесь был.
Арон Маркович спросил:
– Кто «он»? Слесарь?
– Какой он, к черту, слесарь! Убийца.
Арон Маркович сел на табурет, жалко улыбнулся и сказал:
– Кока, налейте мне валокордина. Я же говорил… А мне никто не верил…
– Что вы говорили?
– Ах, это не вам… Это я говорил юноше в такси, а он так издевался надо мной, так издевался…
Самый верхний
Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор Гальяновский. Он даже не подходил, а, правильнее сказать, подбегал, потому что такси найти не смог, а если бы и нашел, то вряд ли уговорил бы шофера везти его в долг, без денег. Костенко думал, что Сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая Читу. Но около дома никого не было, он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Когда он начал переходить улицу около подъезда, в десяти шагах перед ним заскрипела тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел Сударь. Костенко пошел следом за ним к лифту.
– Погодите, товарищ, – сказал он, – мне тоже наверх.
Сударь пропустил его вперед и спросил:
– Вам какой?
– Самый верхний.
Сударь закрыл дверь и нажал кнопку пятого этажа. Лифт медленно пополз вверх. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет. Пять раз солнце врывалось в кабину, и пять раз наступал тюремный сумрак.
На пятом этаже кабина остановилась, и Костенко увидел на площадке дверь. Она была прямо перед дверью лифта. На двери – медная пластинка: «Академик Гальяновский».
Сударь вышел из кабины лифта и, не оглядываясь, захлопнул за собой дверь. Костенко неслышно отпер ее и, быстро достав пистолет, тронул им Сударя.
– Тихо, – сказал он. – Руки в гору.
Сударь обернулся, будто взвинченный штопором, и полез в задний карман брюк. Костенко понял – пистолет. Тогда, быстро размахнувшись, он ударил Сударя рукояткой своего «Макарова». Ударил так, чтобы оглушить. Сударь прислонился к стене, и руки у него обвисли. Костенко достал из заднего кармана его брюк пистолет, сунул себе за пояс и сказал:
– Подними чемодан.
Сударь открыл глаза и сонно посмотрел на Костенко.
– Не надо, Сударь, – так же тихо сказал Костенко, – не пройдет номер. Не надо мне лепить психа, не поверю… Поднимай барахло!
Сударь поднял чемоданчик. Костенко открыл дверь лифта и пропустил туда Сударя. Нащупав ручку, он, не поворачивая головы, захлопнул дверцу.
Нажал кнопку первого этажа, но вместо того, чтобы кабине пойти вниз, длинно и зловеще затрещал звонок тревоги. От неожиданности Сударь подался вперед. Костенко уперся пистолетом ему в живот и сказал:
– Пристрелю.
Не отводя глаз от лица Сударя, он перевел руку выше и снова нажал кнопку. Кабина пошла вниз. Из темноты пролета она спустилась к окну, и желтое солнце хлынуло в кабину стремительно и осветляюще ярко.
«Сейчас может начаться, – подумал Костенко. – Сейчас он может кинуться на меня, потому что я слеп из-за солнца».
Он сжал пистолет еще крепче и упер локоть в ребра.
Снова наступила темнота. Лицо Сударя выплыло, как изображение на фотобумаге, когда ее опускаешь в проявитель. Его лицо казалось Костенко смазанным, словно снятым при плохом фокусе.
«Сейчас снова будет солнце, – подумал он, – и еще три раза потом будет солнце, черт его задери совсем…»
– Убери пистолет, – попросил Сударь, – ребру ведь больно.
– Потерпишь.
– Убери. Я гражданин, я требую.
– Ты у тети Маши требуй. У меня просить надо, Сударь.
«Еще два раза я буду слепым. Потом надо будет выводить его. Мне нельзя поворачиваться спиной. Ага, я заставлю его обойти меня. Нет, не годится. Он решит, что я боюсь, и начнет драку. Стрелять нельзя, а он здоровее меня, сволочь».
Все. Стоп. Лифт, подпрыгнув, остановился.
Дверь распахнулась сама по себе.
«Неужели его человек?! – пронеслось в мозгу у Костенко. – Оборачиваться нельзя».
– Успел! – крикнул Росляков. – Это я, это я, Славка!
Костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад.
– Давай топай, милорд, – сказал Костенко, – быстренько…
В кабинете Садчикова, после обыска, Костенко предъявил Сударю постановление на арест. Тот внимательно прочитал все, что там было написано, осторожно положил бумагу на краешек стола и сказал:
– Никаких показаний давать не буду, подписывать тоже не буду. Если хотите со мной поговорить, дайте марафета. Я иначе не человек.
– Наркотика ты не получишь, – сказал Костенко. – Это раз. Подписи нам твои не нужны. Это два. И показания – тоже. Это три. Понял?
– Ты меня на пушку не бери, я сын почетного чекиста.
– Ты сын подлеца, запомни это, и никогда впредь не смей называть своего отца чекистом. Он им не был.
– Я вызову сюда прокурора.
– Не ты, а я вызову прокурора.
– Какое имеешь право называть меня на «ты»?
– А ну, потише, и не хами. Все равно наркотика не получишь.
– Я требую прокурора! Прокурора! Марафета! Прокурора! Марафета!
Сударя прорвало – началась истерика.
Когда Садчикову рассказали про звонок из прокуратуры – требуют взять под стражу Леньку Самсонова, – он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка.
– Перестраховщики, – сказал он. – Ни ч-черта не понимают!
– Позвони к ним, – сказал Костенко. – Надо инициативу перехватить, потом может быть поздно, если он постановление выпишет.
– Ну и ч-что я с ним б-буду говорить?
– А ты с ним не говори. Ты с ним скандаль. Это иногда помогает. Особенно если правда на нашей стороне.
– Т-ты же знаешь – я не умею с-скандалить…
– Пора бы и научиться.
– М-может, ты позвонишь?
– Нет. Это надо сделать тебе. Ты – старший. Я готов идти вместе с тобой куда угодно, ты это знаешь. Но звонить надо тебе… Уважай себя… Уважай так хотя бы, как мы тебя уважаем…
Садчиков позвонил в прокуратуру:
– Послушайте, это С-садчиков говорит. Почему вы с-считаете нужным арестовать Самсонова?
– Потому что имело место вооруженное ограбление кассы.
– Х-хорошо, но при чем з-здесь Самсонов?
– Он был там с бандой.
– Н-ну был. По глупости.
– Вот вы и докажите, что это глупость. И пререкания тут излишни.
– Эт-то не пререкания, поймите. П-парня мы погубим, если его п-посадить. Он же верил нам. Он помог нам задержать бандитов…
Следователь прокуратуры был старым и опытным работником. Он считал, что лучше и безопаснее перегнуть палку, чем недогнуть ее. Так он полагал и ни разу за всю свою многолетнюю практику не ошибся. Во всяком случае, так ему казалось. И не важна, по его мнению, степень тяжести преступления – наказуемое обязано быть наказано. А что принесет наказание – гибель человеку или спасение, – это уже другое дело, к букве закона прямо не относящееся.
– Товарищ Садчиков, – сказал следователь, – мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. Они написаны для того, чтобы их неукоснительно исполнять.
– З-законы написаны для того, чтобы их и-исполнять, это верно, – ответил Садчиков, – но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении семнадцатилетнего человека.
– Вы мне передовиц не цитируйте, я газеты сам читаю. Выполняйте мое предписание, а там разберемся.
– Б-будет поздно потом разбираться.
– Разобраться никогда не поздно.
– Д-до свидания.
– Пока. Когда вы его возьмете?
– Н-не знаю.
– Товарищ Садчиков, ваш ответ меня не устраивает. Я сейчас же позвоню комиссару.
– В-валяйте.
Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался. И потом быстро поднялся и, не глядя на Костенко, выбежал из кабинета – к комиссару.
Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки. Он дымил папиросой, слушал сосредоточенно, хмуро и лишь изредка повторял: «Ну, ну, ну…» Починив зажигалку, он перехватил трубку рукой и, перебив своего собеседника, сказал:
– Ерунду вы, милый мой, порете. Даже мне странно от вас это слышать. Ладно, хорошо, посадим Самсонова, успокойтесь, только я в данном случае согласен с Садчиковым, а не с вами, и завтра же буду говорить с прокурором.
Потом взорвался:
– Да при чем здесь либерализм? При чем здесь ответственный папаша? Я б папашу с мамашей посадил, а не его! Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился! Ладно, хорошо, мы попусту тратим время. Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с Садчиковым и в понедельник буду драться. Вот так. Все.
Положил трубку, поднял голову, хмуро посмотрел на Садчикова и сказал:
– Придется его забирать. Ничего, посидит недельку, а там отобьем.
– Т-товарищ комиссар…
– Ну?
– Это ошибка.
– Пожалуй, что так.
– Неужели нельзя связаться с прокурором города?
– Его нет, я уже звонил.
– З-заместитель?
– Он тоже на совещании.
– Н-но вы в понедельник действительно будете за него драться?
– Боксерские перчатки приготовь.
– Товарищ комиссар…
– Ты меня не обхаживай, Садчиков, я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивай все с Читой и Сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы.
– М-может, подождем с Ленькой до понедельника?
– Садчиков, я повторил тебе уже три раза – выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут мылить, а не тебе. Так или не так?
– Так.
– Ну и топай. А потом отоспись, на тебе лица нет.
– Машину можно вызвать?
– Зачем?
– Леньку взять.
– Что у тебя, оперативных нет?
– Я за ним на оперативной не поеду.
– Психолог.
– П-приходится.
– Что, открытую «Чайку» прикажешь подать? Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а? Дам тебе «Волгу» и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл.
– Прошу р-разъяснить.
– У самого зубы есть – поймешь, если понять хочешь.
– Но я действительно не понимаю…
– Ну и плохо, если не понимаешь…
– Позвольте мне перепоручить это дело Костенко?
– А это как хотите, – сухо ответил комиссар.
– P-разрешите идти?
– Р-разрешаю, – снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом.
Успокоившись после истерики, Сударь поудобнее уселся на стуле и спросил:
– Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать?
– Вам документы показать или, быть может, поверите на слово?
– Москва словам не верит.
– Это что, вы – Москва?
Росляков засмеялся, а Костенко сказал:
– Ну, извини, Сударь, извини…
– Моя фамилия Росляков, я старший инспектор.
– А я – Костенко.
– Звучит, прямо скажем, грозно. Только Костенко – не Олег Попов, мне бы еще и должность.
– Начальник балетной школы.
– Странно. Начальник – и вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я.
Садчиков изучающе разглядывал Сударя. Потом зло спросил:
– Ну, в м-молчанку долго будем играть?
– До конца.
– Это к-как понимать?
– Как угодно.
– С Читой хочешь повидаться?
– Не знаю никакого Читы.
– Н-надо говорить «никакую», чудачок, – усмехнулся Садчиков. – Откуда знаешь, что Чита – мужик, а не мартышка?
– По наитию определил.
– В-веселый ты парень. За что Витьку убил?
– Что?
– Л-ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты у-убил Витьку?
– Да я никакого Витьки не знаю.
– Ганкина не знаешь?
– Не знаю.
– Ш-шофера не знаешь?
– Не знаю.
– И Надьку не знаешь?
– И Надьку не знаю…
– А чемодан твой поч-чему у Ганкина в пикапе лежал?
– Вот спасибо родной милиции! У меня как раз неделю назад чемодан сперли.
– Ж-жулики?
– А кто ж еще! Плохо вы с ними боретесь… Кривая преступности ползет вверх. Стыдно, милиция, стыдно. А невинных берете.
– Невинный – это ты? – поинтересовался Росляков.
– Я.
Костенко сказал:
– Ну, извини, Сударь…
– Я-то, может, извиню, а прокурор вас по головке не погладит.
Росляков отпер шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у Сударя во время обыска. Слепок следа возле убитого милиционера Копытова был явно с этих ботинок.
– Это ваши? – спросил Валя.
Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но Садчиков заметил что-то стремительно-быстрое, пронесшееся у него в глазах.
– Что же вы молчите?
– Т-ты отвечай, Сударь.
– Нет, вроде бы, не мои, – сказал Сударь, – нет, точно не мои. Я такую обувь не ношу.
– Что, плоскостопие? – поинтересовался Костенко.
– Да.
– Ладно, сделаем экспертизу.
– А зачем ее делать? Мы ведь беседуем, протокола у нас нет…
– Н-ну что ж, з-значит, не будем делать экспертизы. Только ботинки у тебя в квартире изъяты, в присутствии понятых, понимаешь ли…
– У меня к тебе несколько вопросов, – сказал Костенко.
– Да нет, – улыбнулся Сударь, – это у меня к вам один вопрос: на каком основании я арестован? Что за произвол?
– Ага, – сказал Костенко, – произвол, говоришь? Плохо дело. Произвол – это нехорошо. Тогда ступай отдохни в камере.
– Отвечать вам придется, – повторил Сударь, – за арест невинного человека придется вам отвечать.
– Не то с-слово говоришь. За «невиновного» надо говорить. Н-невинный – это из другой серии.
Росляков вызвал конвой, и те пять минут, пока ждали конвойных из КПЗ, все три товарища сидели вокруг Сударя и спокойно разглядывали его. Садчиков – всего его, Костенко – лицо, а Росляков – руки. Сударь глядел на них и улыбался краешком рта. Только левое веко у него дергалось – чуть заметно, очень быстро. А так – спокойно сидел Сударь, совсем спокойно, здорово сидел.
– Завтра с утра побрейся, – посоветовал ему Костенко, – мы тебе парикмахера вызовем. А то из касс опознавать придут, из скупки тоже, жена Копытова – старичка-милиционера на тебя посмотрит, жена Виктора, которого ты сжег сегодня, – им всем надо посмотреть на тебя.
Сударь раздул ноздри, замотал головой и начал быстро повторять:
– Марафета! Марафета мне! Марафета дайте!
Костенко и Росляков пошли из управления пешком. Весна сделала город праздничным. Свет в окнах казался иллюминацией. В высоком белом небе загорелись первые звезды.
– Слушай, Слава, давай пойдем в консерваторию, а?
– Ну, давай.
Билетов в кассе не оказалось, у барыг купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил:
– А вы, собственно, откуда?
– С Мосгаза, – ответил Росляков, – молодые инженеры.
– Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу.
Когда они вышли на улицу, Росляков сердито чертыхнулся:
– А сказать ему, что мы из розыска, сразу б дал билеты.
– Контрамарки б дал.
– С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником. Я пару раз сидел по контрамарке. То и дело гоняли с места.
Костенко посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане. Когда Костенко кончал юридический факультет, Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про него. Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу Садчикова, первый же вор, с которым ему пришлось «работать», сказал:
– Чего вы мне стилягу подсунули? Я фертов не уважаю.
Валя тогда очень рассердился, но себе не изменил, на работу он ходил по-прежнему в неимоверно модном костюме; с ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив, и только однажды, когда забирали одного бандита, который оказывал вооруженное сопротивление, он так скрутил ему руку, что тот потерял сознание, а придя в себя, сказал:
– Начальник, вы – ничего себе. В законе. Я вас уважаю за силу.
Это стало известно в уголовном мире, и с тех пор Валю там побаивались.
– Ну, что дальше? – спросил Костенко. – Плакала твоя консерватория.
В управлении знали эту страсть Рослякова. Треть своего оклада он тратил на консерваторию и Зал Чайковского, не пропуская ни одного сколько-нибудь интересного концерта. Началось это у него случайно. Однажды, еще учась в университете, он пошел послушать концерт Евгения Малинина. Тот играл Равеля, Скрябина, Шопена. Сначала Валя сидел в кресле спокойно, но, когда Малинин стал играть Равеля, его пьесу о море и утре, об одиночестве на песчаном берегу, когда вокруг никого нет и только далеко-далеко видны рыбацкие сети, черные на белом песке, Валя вдруг перестал чувствовать музыку, но ощутил ее в себе. И музыка заставила его видеть все так, словно это происходило наяву, именно сейчас и только с ним одним.
Росляков сидел в кресле напряженно, поджавшись, а когда пианист кончил играть, Валя весь обмяк и ощутил огромную блаженную усталость. А потом был «Революционный этюд» Шопена, и мурашки ползли у Вали по коже, и дышалось ему трудно, потому что стремительной кинолентой шли у него перед глазами видения – его видения, понятные только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа.
– А ты, конечно, хотел бы на «Дядю Ваню»? – спросил Росляков.
Когда люди проработали бок о бок три года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Как-то Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли во МХАТ на «Дядю Ваню». Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах было синё, и Костенко казалось, что где-то рядом поет сверчок. «Знаете, – говорил Астров, – когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу…»
Костенко сжал руку жены и подумал: «Это про меня тоже». И потом, когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел во МХАТ на «Дядю Ваню», но только обязательно чтобы с Ливановым, и уходил со спектакля радостным и спокойным, потому что большая мысль всегда рождает доброту и спокойную уверенность.
– На «Дядю Ваню» идти нет смысла. Там не Ливанов сегодня, – сказал Костенко. – Айда по домам, старик.
– Ну уж это кто куда, – ответил Валя, – я человек молодой и свободный.
Должностное преступление
Дверь Костенко открыла Людмила Аркадьевна.
– Вы оттуда? – спросила она, побледнев.
– Да, оттуда, – ответил Костенко. – Ленька сейчас дома?
– Нет, они с отцом на даче.
– А где дача?
– В Звенигороде.
– У реки?
– Нет. Как раз наоборот.
– Мне не нужен адрес, да и вы толком его не помните, потом вы больны и поэтому не сможете со мной туда проехать, да?
– Я ничего не понимаю.
– Все очень просто. Я к вам приехал, мне нужен Ленька. Вы запоминайте, что я говорю, слышите? А его дома нет, и вы больны, а потому не смогли поехать со мной, точного адреса не знаете, да?
– Вы хотите арестовать мальчика?
– Я не хочу…
– Но вас заставляют?
– Вы запомнили то, что я вам сказал?
– Да.
– Пойдите выпейте воды…
– Ничего.
– Пойдите выпейте воды, успокойтесь и слушайте дальше.
– Я слушаю.
– И не вздумайте устраивать сцен парню.
– Как вы можете так говорить со мной?
– Могу. Если бы не мог, не говорил. Когда я уйду, попозже вечером возьмите такси и поезжайте в Звенигород. Скажите Самсонову, но так, чтобы Ленька не слышал, пусть до вторника он будет на даче. Пусть он ни в коем случае не возвращается в Москву.
– Но у него в понедельник экзамен…
– Вызовите врача – не мне вас учить. Со справкой поезжайте в школу. Ясно?
– Да.
– В понедельник вечером я зайду.
– Боже мой…
– Все будет хорошо.
– Боже мой, боже мой…
– Ну, нечего вам, Людмила Аркадьевна. Извините меня, но вы сами во всем виноваты.
– Я знаю, – тихо ответила женщина.
– Неужели такие нужны встряски, чтобы понять?
– Я знаю, – повторила она, – я все сделаю, как вы сказали, не сомневайтесь. Чем я только смогу вас отблагодарить?
– С ума только не сходите. До свидания.
– До свидания. Спасибо вам. Огромное, великое вам спасибо.
– Да ладно, господи, – рассердился Костенко и, не попрощавшись, ушел, совершив должностное преступление.
Эх, женщины, женщины…
Садчиков вернулся домой поздно вечером. Загар его был, казалось, смыт – такой он стал бледный и серый. К тому же Садчиков оброс за эти два дня, и колючая щетина делала его лицо не по годам старым.
Сняв пиджак, он прошел в ванную и долго мылся холодной водой. Потом так же долго вытирался шершавым полотенцем, глядя на себя в зеркало.
«Я же седой, – подумал он. – Какая нелепость: седой, старый, а продолжаю считать себя молодым и с Валькой на “ты”».
– Хочешь есть? – спросила Галина Васильевна.
– Не очень.
– Уже обедал?
– Если бы…
– Ляг отдохни. Я сейчас приготовлю кровать.
– Ничего, я так…
– Зачем же? Ложись по-настоящему.
– А ты?
– У нас тетя Валя. Мы смотрим телевизор. Интересный фильм, польский…
– У них хорошие к-картины. Сейчас я переоденусь и выйду к т-тете Вале. Только минутку отдохну.
«Надо пойти поздороваться с тетей Валей, – подумал он, – иначе старуха обидится и будет пилить за меня Галю. Но она сразу же начнет рассказывать про свои болезни, а я не могу, когда она талдычит о болезнях».
Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то, в ему было смешно слышать эту ругань, потому что ругайся так все, было бы удивительно спокойно работать в МУРе. Телевизионная ругань злых киношных героев – мечта любого сыщика.
«Надо бы выйти к старухе», – еще раз подумал Садчиков и выключил свет.
Передача шла, по-видимому, очень долго, потому что, когда легла Галя, в квартире было тихо и слышалось, как по улице, гулко топоча острыми каблучками, пробегали девушки из студенческого общежития.
Садчиков секунду лежал с закрытыми глазами. Он всегда думал лежа с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть и не отвлекаться, размышляя об увиденном. Потом он обернулся к Гале и обнял ее.
Он лежал, обнимая жену, и по-прежнему ясно, будто на экране кино, видел парня, сожженного в комнате. А потом он представил себе Леньку, стриженного наголо, без пояса, без шнурков, в камере, среди бандитов… Костенко, наверное, уже привез его в КПЗ и сдал дежурному офицеру, и мальчишка стал белым, и от волнения у него заледенели кончики пальцев…
Все эти видения пронеслись у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Садчиков порывисто вздохнул и начал искать рукой на столике папиросы. Папирос не было, а у него не хватало силы заставить себя подняться и пойти за ними в другую комнату.
– Может быть, ты скажешь мне что-нибудь? – спросила Галя.
– Что?
– Ну, я не знаю…
– Не сердись т-только, Галочка. Я очень устал. Понимаешь? Сил нет, как устал.
Садчиков ничего не мог с собой поделать. Он не мог сейчас думать ни о чем другом, кроме как об убитом парне. Садчиков видел его желтые пятки и ослепительный оскал зубов. Он все это видел, но не мог, не имел права говорить обо всем этом Гале, потому что раз уж он взял на себя великую муку бороться со зверством, так, значит, все это надо держать в себе самом. Если есть сила. Если нет – тогда надо просто уходить в какую-нибудь канцелярию и регистрировать дела. Ужасы, которые он видит, должны умирать в нем одном: иначе какой же смысл сидеть в управлении? Репортер скандальной хроники играет на нервах читателей. А Садчиков хочет сделать так, чтобы этой проклятой игры вообще не было. Для этого он и сидит в управлении и дерется за каждого человека. А ужасы, которые он смотрит во время этой драки, убивают любовь, они противны самому желанию любить. Они заставляют человека напрягаться до предела, для того чтобы победить в борьбе со зверством.
– Ты, Галка, н-ничего не знаешь, – сказал Садчиков и снова обнял ее. – Совсем ничегошеньки, и слава богу, что ты ничего не знаешь…
Галя отодвинулась от него и усмехнулась:
– Так уж и ничего? Кое-что я, наверное, все-таки знаю…
Костенко отдыхает
«Милые мои девчата!
Сижу чищу себе картошку на ужин и сочиняю вам письмо. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу еду к вам. В общем, у меня все в порядке. С квартирой пока плохо. Обещают на зиму. Вот так-то. Как там Аринушка моя маленькая? Я просто не представляю себе, как мы жили раньше без нее. Толстой писал, что ребенок делает человека более уязвимым. Так только своя боль и забота, а здесь махонькое существо, за которое ты в ответе перед миром. А посему, писал Толстой, надо иметь по крайней мере трех, а не одного ребенка. Любопытно, как ты к этому его мнению отнесешься? Должен тебе признаться, что мое мнение полностью совпадает с мнением классика.
Да, неделю назад меня, между прочим, затащил к себе Митька Степанов. Он читал мне и Левону Кочаряну главу из своей книжки. Вообще-то ничего, но только много сочиняет. Что-то сейчас пошла мода на сочинительство. Чтоб не так, как бывает на самом деле или на самом деле было, а именно так, как хочется писателю. Левон, правда, хвалил, ты знаешь, Левушка никогда душой не кривит. Черт его знает, быть может, у меня после работы в милиции выработалась чрезмерная придирчивость по отношению к недостаточности доказательств? В нашем деле истина должна быть абсолютной. Иначе прокуратура завернет дело. Или суд. Может быть, впрочем, если писатель станет выписывать абсолютную истину, его работу завернет читатель? Она ведь вроде милицейского протокола, эта самая абсолютная истина… Потом пришел Ларик Влас. Веселый и маленько пьяный. “Я, говорит, уникальную кость из глотки старухи вытащил. Ругалась с золовкой и подавилась. Так ведь, говорит, ругаться не могла, задыхалась и полезла на золовку драться. Мычит и дерется… ” Ларик тоже послушал Митькин рассказ и посоветовал ему переключаться на детектив. “Это хоть читают, Мить, – сказал он, – в детективе хоть заранее неизвестно, что будет. Самый-то конец, конечно, известен – изловят супостатов, зато очень интересно читать, как за ними гоняются”. Потом мы сообразили холостяцкий ужин, наварили полную кастрюлю макарон, и писатель поставил две бутылки “пива с быком”, что на языке алкоголиков означает “зубровку”. Тебе от всех ребят привет. Митька считает тебя образцово-показательной женой. “Женщина, которая оставляет мужа одного на все лето, – святая, – сказал он. – Надя меня оставляет максимум на два дня, но при этом по десять раз звонит, проверяет, где я”.
Пожалуйста, напиши мне поскорее. Целую вас обеих. Люблю вас очень. Очень люблю вас. Скучаю. До свидания. Слава».
Росляков и Алена
Валя зашел в автомат. Позвонил девушке, с которой как-то вместе сидел на литературном вечере в Политехническом музее. Девушку звали Алена. Она училась на четвертом курсе филфака, ругала жизнь и ничего не хотела. Так она, во всяком случае, говорила Рослякову.
– Слушаю…
– Можно Алену?
– Это я.
– Здравствуйте, Росляков.
– Кто?
– Ну, это я… Валентин…
– А, это с которым мы сидели на диспуте?
– Да. Что вы делаете?
– Ничего. Сижу и думаю, как было бы хорошо выпить.
– А что вы пьете?
– Все.
– Предпочтение есть? Водка, вино, коньяк?
– Я пью все, – повторила Алена.
– И политуру?
– Что?
Валя засмеялся.
– Значит, не все. Политуру не пьете.
– С удовольствием попробую.
– Говорите ваш адрес.
Валя купил бутылку коньяку и конфет. Алена жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала:
– Входите.
– Спасибо.
– Я всегда боюсь встречать человека во второй раз…
– Почему?
– Разочароваться можно…
– Вы что – одна здесь?
– Одна. Знаете, как тоскливо жить одной в квартире!
– Отдайте часть моему другу. У него неважно с жильем.
– Я – пожалуйста. Предки против. Они у меня из породы консерваторов.
– А где предки?
– У синего моря. Если вам жарко, снимайте пиджак.
– А я и сниму.
– Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете обо мне черт знает что.
– Точно.
– А какая разница, в конце концов?
– Тоже верно.
– Сейчас я принесу штопор.
– Не надо. Смотрите, это делается так, – сказал Валя и ладонью вышиб пробку.
– А я умею полоскать горло коньяком.
– Не может быть!
– Честное слово. Смотрите.
Она налила коньяк в рюмку, сделала глоток и, скосив глаза, начала полоскать горло. Нос у нее сморщился, как у человека, который принимает горькое лекарство, а глаза смотрели на Валю победно и выжидающе.
– Здорово, – сказал Росляков. – Еще раз, пожалуйста.
– Какой хитрый, – улыбнулась Алена, – я только раз могу.
– Ну извините…
– Что?
– Ну, извините, говорю… Это такая присказка у моего товарища есть.
– Только, пожалуйста, не начинайте мне рассказывать про своего товарища. Почему-то все всегда рассказывают про своих друзей и знакомых и никто не хочет говорить про себя.
– Про себя – нескромно.
– Это только так кажется. И потом, если себя хвалить, то, конечно, нескромно. Я вот себя ненавижу и поэтому всегда о себе говорю. Вы себя любите?
– Люблю.
– Вы счастливый. А что вы делаете?
– Пью коньяк.
– Нет, а вообще?
– А вообще учусь.
– Где?
– В педагогическом.
– Почему я вас там не видала?
– Я на заочном.
– На каком курсе?
– На последнем.
– Интересно?
– Очень…
– Счастливый человек… Вас как уменьшительно зовут?
– Валя…
– Среднее имя. Не мужское и не женское.
– Ну все-таки мужское.
– Вы обиделись?
– Ужасно.
– А почему вы ко мне пришли?
– Потому что мне захотелось к вам прийти.
– Пейте коньяк.
– Я уже.
– Пейте еще.
– Хорошо.
– Ну, так почему же вы пришли ко мне? Для того, чтобы говорить со мной, слушать музыку и смотреть альбомы?
– Хотя бы.
– Вы все врете.
– Может быть. Но если я вру, тогда вы уже совсем пьяная.
– Нет еще. Когда я стану пьяной, вы начнете раздевать меня.
– Обязательно?
– А зачем вы тогда приходили?
– Что это вы злая такая?
– Разозлили…
– Кто?
– Люди.
– Я лучше уйду, наверное?
– Почему?
– Да так. Чтоб больше не злить.
Он поднялся и пошел к двери. Отпер ее. Хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала:
– Я просто дрянь, не обращайте на меня внимания.
– Ты дрянь? – улыбнулся он, обернувшись. – Ты просто дуреха…
Она кивнула головой. А потом ткнулась лицом ему в грудь, и плечи ее затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам и по голове.
– Ну, не надо, – говорил он, – не надо, дурачок. Это все ерунда, не надо так плакать, не стоит…
– Стоит, – сказала она, – стоит, потому что я за все плачу. Сейчас, я скоро перестану, только ты не уходи.
– А я и не собираюсь.
Она посмотрела на него сквозь слезы и жалко, по-детски улыбнулась…
Только не двое
Ночью Садчикова разбудил телефонный звонок.
– Прости меня, – сказал комиссар, – тут один любопытный сигнал поступил.
– Еду.
– Погоди, разбежался… Такси сейчас не найдешь. Шофера пришлю.
– Я спущусь. На улице подожду…
– Дождь. Погоди, он подымется за тобой.
– М-михайлыч?
– Он самый…
Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды – себе и Михайлычу. Масло в холодильнике было до того смерзшееся, что не резалось, а крошилось желтыми ажурными стружками.
…Михайлыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переполошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком – три раза быстро, а четвертый долго и гулко.
– М-михайлыч? – тихо спросил Садчиков.
– Михайлыч, – ответил тот.
Садчиков отпер дверь и сказал:
– З-заходи, старина.
– Да ничего, – ответил Михайлыч, входя.
– Пошли чайку попьем.
– Да не стоит.
– Л-ладно, ладно, будет кокетничать…
– Хорошая из меня кокетка.
– С с-сединой куда как л-лучше. Сейчас, говорят, с-седые мужчины в моду вошли.
– Седина в голову, бес в ребро.
– Р-ребра перебиты, какой там, к ч-черту, бес… Ешь б-бутерброды.
– Да ничего…
– Л-ладно, наваливайся, сам, наверное, только чаем и питался ночью.
– Почему чаем? Сухарь грыз.
– Пусть м-мышь сухарь грызет, ч-человеку сливочное масло надобно.
– Это истина, это вы очень верно подметили.
Садчиков засмеялся и стал наливать чай – дымный и пахучий – в большие красные чашки.
Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал:
– Мне сейчас анекдот смешной рассказали.
– А вот интересно, кто анекдоты выдумывает? – спросил Садчиков.
– Люди, – ответил комиссар, – кто ж еще?
– Не иначе как писатели.
– Журналисты скорее, я думаю.
– П-почему журналисты?
– А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут, а журналист – он просвет имеет. Да и потом парни они веселые и по бритве – вроде нас – ходят. А когда веселье, тогда и анекдоты рождаются.
– П-похоже, – сказал Садчиков, – очень может быть. Или веселье, или злость. Похоже.
– «Похоже», – передразнил комиссар. – Что я тебе, Алейников? Похоже на фотографии выходит, а я тебе мысль излагаю самостоятельную, ни на что не похожую, мил душа…
– Ну-ну, извините, – сказал Садчиков по привычке и сразу же понял, как не к месту сказал он эту свою шутливую фразу.
Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил:
– Да нет, ничего…
И оба они враз засмеялись, весело глядя друг на друга.
– Слушай, – сказал комиссар, – ты думаешь, что с Сударем все?
– Д-думаю, нет.
– Почему?
– Потому что вы м-меня про это спрашиваете.
– Умный, черт.
– А к-как же иначе?
– Иначе нельзя.
– В том-то и дело.
– Ну шутки побоку. Парень к нам позвонил, футболист. Александр Пашков, с покойным Ганкиным в одном доме живет. Так он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул от окошка, а это значит – умный старичок. В электричке он ехал с футболистом, до Тарасовки, понимаешь, ехал… Вот штука какая… Проездной билет контролеру предъявлял. Как тебе это понравится?
– Очень м-мне это не нравится.
– Мне тоже.
– М-может, вызвать Читу? П-побеседуем с ним…
– Неудобно. Поздно уже… Как у вас с ним дела?
– Р-работаем…
– Ясно, что не танцуете… В группе у тебя все в порядке?
– Один мой сотрудник с-скоро с женой разведется.
– Кто?
– Костенко.
– Дама – сволочь?
– Н-нет, райжилотдел.
– Испугал. Я с райжилотделом ни черта поделать не могу, это, мил душа, выше моих сил.
– К-костенко с женой в разных квартирах ж-живет уже второй год…
– Любить будет крепче.
– Х-хорошо шутить.
– Ты меня еще постыди, Садчиков.
– Оп-пасно.
– Опасно блох ловить, шума много будет и с кровати можно упасть… Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье.
– Третью з-зиму обещают.
– Хорошо, что не четвертую. Мне важней, чтоб сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит.
– К-костенко потерпит, товарищ комиссар, а дочка у него, Аришка, – ей про терпение не объяснишь.
– А Чуковский зачем с Михалковым? Пусть они ей растолкуют. «Муха, Муха-цокотуха, сейчас с квартирой заваруха». Ничего стихи?
– Г-гаврилиада.
– Дерзкий ты стал, Садчиков, не иначе как меня подсиживаешь.
– Товарищ ком-миссар…
– Знаю я вас, молодых…
– Да я уж с-седой…
– Велика важность. Седой – не лысый. Зови Читу, черт с ним, пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос – одной стружкой больше, одной меньше, все одно плохо. Да, кстати, Самсонова взяли?
– Нет.
– Почему?
– Дома никого нет.
– Где они?
– Н-неизвестно.
– Эмигрировали, что ль?
– Вряд ли.
– Сам ездил?
– Костенко.
– Завтра забери. Сам.
– Завтра выходной день, товарищ комиссар…
– Смотри, Садчиков…
– Т-только этим и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора.
– А если откажет?
– Федерация есть.
– Ну а и она?
– Генеральный!
– Он тоже?
– Н-не может быть.
– А если?
– Н-не может быть, товарищ комиссар.
– А не фетишист ли ты, майор?
– Г-где уж нам уж выйти з-замуж!
– Смотри, в понедельник изволь мой приказ выполнить – парня забери.
– Ясно, будет сделано.
– Шутник ты, Садчиков.
– С-стараюсь.
Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку селектора и попросил:
– Из шестнадцатой ко мне Назаренко приведите.
Ночной разговор
Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери.
– Проходи, проходи, – сказал комиссар, – садись…
– Не беспокойтесь…
– Это ты беспокойся, хороший мой, мне беспокоиться нечего. – Комиссар неторопливо закурил, долго и лениво тушил спичку, а потом неожиданно спросил: – Где ваш дед, кстати, живет?
– Какой дед?
– Не играй, Чита, – сразу же включился Садчиков, – актер из тебя п-плохой, просвечиваешься сразу. Где старик?
– Какой старик?
– Который машину вам доставал…
– Прохор?
– Да.
– Я его адреса не знаю.
– Что ж ты, неполноправный какой?
– Да нет. Сударь тоже не знает.
– Уж и так…
– Точно.
– На, пей чай. С сахаром, – предложил комиссар. – В камере небось так густо не кладут?
– Что вы…
– Вон печенье. У меня от ужина осталось. Домашнее, на сливочном масле. Бери парочку.
– Благодарю вас.
– Воспитанный ты, парень, – усмехнулся комиссар, – дипломат просто-напросто… Ну а как ты думаешь, где он может жить?
– Он вообще-то за городом, мне кажется. А можно еще печеньице?
– Что, оголодал?
– Да, несколько…
Комиссар снова хмыкнул и покачал головой.
– Прямо дивлюсь на такого деликатного вора. Приятно говорить – видно воспитанного человека.
– Я не вор.
– А кто ты? Священник? Или, может, врач-общественник?
– Я советский гражданин, товарищ комиссар, я глубоко ошибся и за это несу сейчас раскаяние.
– Нести куль можно, раскаяние – не уцепишь, это тебе не мешок с опилками.
– Нет, товарищи, – вздохнул Чита, – я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяние.
Комиссар поморщился и сказал:
– Знаешь что, Чита? Иди-ка ты напрочь со своим раскаянием. Я вашего брата тридцать пять лет ловлю, и все одну пластинку крутят, когда ко мне попадают. Брось. Скучно, и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь – вот тогда раскаяние к тебе придет. Вот тогда ты головой о нары биться начнешь. Выть воем будешь: «Чего мне, дураку, не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был. Девки любили!» Ан нет, все побольше грабануть хочется. Вот тебе и отольется. Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе – вышку получишь, не иначе.
У Читы сразу же затряслись руки.
– Я не знаю никакого Копытова, я не убивал милиционера, я вообще никого не могу убить.
– Чем ты д-докажешь свое алиби? – спросил Садчиков. – Где ты был в ночь убийства?
Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их к подбородку.
– Сейчас, сейчас я вспомню. Только погодите одну минуточку. Сейчас. Ну да, конечно, я в ту ночь был у Наденьки…
– В какую? Откуда ты з-знаешь, в какую ночь был убит Копытов?
– Я не знаю…
– Врешь. Отвечай быстро! Смотри в глаза!
– Только не бейте меня!
Садчиков засмеялся.
– Д-да кто об тебя р-руки станет марать? Наслушался глупостей о нас и пошел истерику выкручивать. Т-ты лучше мне ответь на вопрос.
– Вы не спрашивайте так строго. Я не могу, когда строго.
– Чита, тебе Сударь говорил про убийство? Отвечай правду.
– Клянусь жизнью – нет! Он мне только дал пистолет.
– А какой из себя Прохор, Чита? Опиши-ка нам его…
– Обыкновенный. Старичок. С палкой ходит и говорит вроде как блаженненький. Он мне и дал…
Чита осекся, потому что понял: скажи он слово – и полетит к чертям версия о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось Чите, ничего не заметил, а комиссар что-то писал на листке бумаги и, казалось, вообще в разговоре не участвовал.
– Ч-чита, скажи-ка мне вот что… Старик Прохор с какого вокзала приезжал?
– Вроде бы, с Курского. Он там нам встречу назначил.
– Это-то за день перед задуманным грабежом профессора и скрипача?
– Да.
Комиссар оторвался от своих бумаг и спросил:
– Именно там, у Курского, Прохор и дал тебе пистолет?
– Какой пистолет?
– Смотри в глаза!
– Я… смотрю…
– Ну!
– Ой, не надо так смотреть на меня…
– Отвечай!
– Я не знаю…
– Да или нет?
– Нет…
– Врешь! На рукоятке есть следы пальцев Прохора!
– Этого не может быть! Он в перчатках…
– Вот это другой разговор, – улыбнулся комиссар, – а то «нет, нет»!
– Дурак! – закричал Чита и стукнул себя кулаком по голове. – Осел!
– Верно, – согласился комиссар. – Давай еще себя побей, только не до синяков, а то с меня голову снимут.
– Что мне теперь будет? Расстрел? Скажите мне правду, я умоляю вас! Только скажите мне правду! Спасите меня, я буду во всем вам помогать! Я буду все рассказывать обо всех, только защитите меня!
– Заслуженный артист, – сказал комиссар, – тебе только Смердякова в театре играть. Не кривляйся! Если на тебе нет крови милиционера, если твои доводы подтвердятся, ты будешь жить.
– Вы правду говорите?
– А какой резон мне врать, сам посуди?
Чита улыбнулся белой, вымученной улыбкой и перестал ломать пальцы.
– Да, да, – сказал он, – какой вам резон…
– Ч-чита, – спросил Садчиков, – ты сможешь узнать Прохора по фотографии?
– Конечно.
– Он по ф-фене ботает?
– Нет, он как поп изъясняется.
– Матом ругается?
– Нет, я не слыхал ни разу.
– Так. Хорошо. Ну а Сударь будет о нем говорить, как думаешь?
– Нет. Он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете – он же зверь, железо, а не человек.
– З-заговорит, – пообещал Садчиков, – и н-никакая он не железка. Он ржа по-одзаборная. Завтра у т-тебя с ним очная ставка будет.
– Не надо.
– Б-боишься?
– Нет, не боюсь, но все-таки не надо…
– Надо, милый, надо, – сказал комиссар, – так что ты мужайся. И чтоб без штучек мне. Без фортелей. Вот ручка, бери печенье, пей чаек, сиди и пиши мне все про дедушку Прохора. Подробно пиши, бумагу не жалей. Усек, Чита?
– Усек, товарищ комиссар.
– Ну тогда молодец. И запомни – гусь свинье не товарищ, так что ты меня впредь гражданином величай.
– Простите, гражданин комиссар.
А Сударь-то наглец
Когда Читу увели в камеру, комиссар внимательно прочитал все, написанное им, а потом передал Садчикову. Покачал головой, отошел к окну, закурил. Серый рассвет делал небо бездонным и близким. Было слышно, как дворники подметали улицы.
Сударь в камере не спал и поэтому, когда его привели на допрос, глядел волком и на комиссара, и на Садчикова.
– Здравствуй, – сказал комиссар, – садись.
Сударь, подвинув к себе стул, сел.
– Благодарить надо.
– Спасибо.
– Что, не спится?
– Почему… Спится.
– Физиономия у тебя больно бодрая.
– От характера.
– Ш-шутник.
– А это от положения. В моем положении только и шутить.
– В твоем положении плакать надо, Ромин. Горючими слезами плакать.
– Москва слезам не верит.
– Это тоже правильно. Все на себя берешь?
– Что именно?
– Все.
– Я на себя ничего не беру. И если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали.
– А еще чего хочешь?
– Больше ничего. Только я без марафета не человек, зря время тратим.
– Ч-человек, человек, – успокоил его Садчиков, – самый настоящий ч-человек.
– Что касается настоящего, – поправил комиссар, – то здесь я крупно сомневаюсь. Ну, Ромин? Милиционера на себя берешь?
– Тяжело.
– Да, пожалуй. Ну а кассу и скупку берешь?
– И еще Дом обуви, – усмехнулся Сударь, – там калоши понравились.
– Ах, калоши… Черненькие?
– Ага.
– С рубчиком?
– С ним.
– И с красным войлоком?
– Это внутри.
– Наблюдательный ты парень.
– А как же. Врожденные способности надо развивать.
– И память у тебя хорошая?
– Хорошая у меня память, ничего не забываю.
– Ну, молодец, Ромин, молодец. Ганкина-то Витьку помнишь? Ганкин, видимо, тоже не твой?
– Валите и Ганкина.
– Нет, Ганкин не твой. Ты обо всем этом деле с Ганкиным не знал. Это дело Прохора.
– Кого, кого?
– Прохора.
– Ах, Прохорова…
– Ну какой же ты молодец, Сударь! – сказал комиссар одобрительно. – Герой, супермен! И с Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл, удивляться не надо было б, конечно, это ты верно сработал, а вот имя на фамилию менять – слишком уж игра точна, шов заглажен, а у меня глаз зоркий на это дело.
– В т-твоих интересах с-сказать нам правду, Ромин.
– Вы о моих интересах не заботьтесь, не надо.
– К-как знаешь. А заговорить – заговоришь. Все скажешь…
– Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники. Ничего. Марафета подкинете – тогда, может, поговорим. Так, без протокола, по-семейному.
– Вот сукин сын, – удивленно сказал комиссар. – Ну и мерзавец.
– У вас сила, вы можете надо мной издеваться.
– У нас сила, это точно. А издеваться – так, Ромин, не издеваются. Издеваются над беззащитными женщинами в кассе и в скупке, над Ленькой Самсоновым, это называется – по большому счету – издеваться.
– А по малому?
– А т-ты наглец, парень, – сказал Садчиков. – Б-большой наглец.
– Дайте марафета, я тогда отойду, гражданин начальник.
– Хорошо, – сказал комиссар, – вопросов больше не будет. За два убийства и вооруженное ограбление полагается расстрел. Это ты знаешь. Чита, конечно, вместе с тобой не убивал – у него кишка тонка. Значит, убивал ты один. Вещественные доказательства у нас есть. Все. Иди. Иди, иди, – повторил комиссар, – конвой в той комнате. Иди. И помни: наше законодательство дает тебе возможность защищаться. И самому, и с помощью адвоката. Помни: суд всегда учитывает, кто бил, а кто стоял рядом. Мы тоже к этому прислушиваемся. Если у тебя есть хоть малейший намек на алиби – выкладывай, мы будем этот твой малейший намек анализировать.
Сударь продолжал улыбаться, но было видно, как сильно он побледнел.
Прохор обдумывает
Прохор лежал и курил. Он курил спокойно, глубоко, с хрипом заглатывая дым; внимательно следил за тем, как вспыхивал красный тлеющий огонек и постепенно становился пепельно-черным.
Он все понял, Прохор. Когда он два раза позвонил Сударю и оба раза к телефону подошел один и тот же мужчина, Прохору все стало ясно: мальчики провалились, в остроге мальчики…
«Чита меня видел раз, видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. Девять миллионов – Москва с пригородами – иди ищи. Но найдут. Это точно. Они мильтона не простят. Доигрался, доигрался, старик. Раньше надо было дело с профессором решать. Раньше. А связей-то у меня не было, а что без них сделаешь, без проклятых? Поди держи картины-то в сарае – сгоришь, как ракета, они на это дело ЧК бросят, а в ЧК материал обо мне имеется, ох, имеется, спаси, господи, сохрани и помилуй… Чита им все выложит сразу же – нервы у обезьяны не сильные. Сударь выложит, но попозже, недельки через две. Когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня водится наркотик. Это для милиции козырь – они по этой цепке пойдут. Работать им придется долго, месяца три-четыре, это уж определенно. Да и то неизвестно, выйдут ли они на меня. Они могут на Фридке споткнуться – она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. И опять-таки через третье лицо. Нет, тут, пожалуй, бояться нечего: у Фридки срок, им придется ее тягать из колонии, а это волокита, месяц пройдет, не меньше. Ладно. Это, пожалуй, отпадает. Ну а что про меня Сударь знает во-вторых? Да, вроде бы, ничего. Милиционер? Тут экспертиза меня спасет, нет во мне силы, чтоб рукой человека повалить… Здоровьишко нынче уж не то… Если он развалится, что мы вместе мильтона били, – так и пусть разваливается, я-то в сознанку не пойду… Грабеж? А – Витьки нет, сгорел Витенька. Так что все верно – вроде бы, выскочил я».
Прохор затушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Что-то бормотали во сне хозяйкины дети – Федька и Колька. На чердаке, в теплом бревенчатом подкрышье, пел сверчок.
«Если все так, как я думаю, – продолжал рассуждать Прохор, закурив новую сигарету, – то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека и с ним взять профессора – за полчаса перед отъездом из Москвы. За десять минут до отхода поезда – деньги на бочку. Потом – в Сибирь, там человек – иголка. Погодим, посмотрим, может, и выждем чего. Хотя, говоря откровенно, навряд ли. Кто сможет пойти со мной к профессору? Вроде бы, никто. Искать нет смысла, я Сударя год искал да год обхаживал. Сейчас не успею – времени мало. Хотя профессора они, возможно, под колпаком держат. Надо завтра посмотреть, нет ли поста у его дома. Вряд ли, конечно. Им надо меня знать, чтоб там пост оставить, а они меня не знают. По-видимому, не знают. Не должны бы. А может, сразу поднаточить когти? Сегодня? В ночь? Сел на поезд – и айда? Сто граммов наркотика у меня есть – это капитал, куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет. Нет. Нельзя. Годков на двадцать меня еще будет, счеты надо кой с кем свести. Профессор скоро загнется, иконы с Рубенсом к большевикам уйдут, ищи потом другого. А что, если Сударику в тюрьму передачку? С цианистым калием в колбаске? МУР не ЧК – могут пропустить. Кто у него из родных есть? Мамаша в Батуми. Плохо. Без паспорта не возьмут. А может, мне на чужачка проскочить? Паспорта у меня еще есть. Ромин – чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда. Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграю их всех? А послезавтра вечерком на экспресс – и в Сибирь…»
Пятые сутки
Снова в Тарасовке
В воскресенье рано утром около отделения милиции поселка Тарасовка остановилась серая «Волга». Из машины вышли Костенко и Росляков. Сделав несколько взмахов руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Росляков сказал:
– Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух?
– Дымный, – сказал Костенко, – не будь идеалистом. Такой же, как в столице.
– Ты черствый человек, старина.
– А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный.
– В самый корень смотришь.
– Ну извини…
– Да нет, ничего.
– Как я понимаю, проблема личной жизни тебе сейчас не кажется такой унылой, как позавчера?
– Зоркий ты человек, Костенко… Беркут… Насквозь видишь…
Они вошли в отделение, и Костенко ворчливо заметил:
– Прямо как из рая в ад. Слушай, ну почему в наших помещениях такая тоска? Я раз в «Известия» попал. Вот это да: светло, красиво, модерново! Я б, если там работал, и ночевать оставался – так у них здорово. А тут штукатурка сыплется…
– Так мы ж не газеты… И даже не детский санаторий… Мы – карательные органы.
– А полы в карательных органах подметать надо?
Дежурный по отделению мельком взглянул на них и продолжал отчитывать здоровенного детину.
– А мне не важно, что ты испытываешь, молодой отец. Напился? Напился. Песни ночью орал? Орал. Достаточно. Тебя прости, потом другого прости, а где порядок? Указ знаешь? Ну и все. Вот отсидишь, поумнеешь, тогда и поговорим.
– Да ведь с радости я. Сыночек родился, ну и выпил. Я песни хорошие пел. Ну а узнает она, что меня на пятнадцать суток посадили? Товарищ лейтенант, я какое угодно наказание приму, только не пишите на работу… Лучше уж штраф.
Костенко подошел к дежурному и спросил:
– Что этот гражданин сделал?
– Что сделал, то и сделал, а ваше какое дело?
– Интересуюсь.
– Дома интересуйтесь. А дела нет, так очистите помещение. Защитнички пришли…
– Верно, – сказал Росляков, – вот мое удостоверение.
Дежурный посмотрел удостоверение, сразу же поднялся, поправил гимнастерку и откозырял по форме. Лицо у него стало улыбчивым и мягким.
– Что этот товарищ сделал? – снова спросил Костенко. – Доложите.
– Напился.
– Хулиганил?
– Да.
– В чем это выражалось? Дрался?
– Нет, песни пел…
– И все?
– Очень громко пел. Всех соседей разбудил.
– Почему напился?
– Говорит, что ребенок вчера родился.
– Говорит, или это точно?
– Говорит.
– Позвоните в родильный дом и узнайте.
Пока лейтенант названивал в родильный дом, Костенко спросил у парня:
– Какие песни пел?
Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил:
– «Мы с тобой два берега у одной реки». Я в хоре бас веду…
Росляков отвернулся, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку:
– А документ есть? Документ, говорю, есть? Да документ, ушей у вас нет, что ли? До-ку-мент! По буквам: Денис, Ольга… Какая Денисова?! Документ! Ага, теперь слышите? Есть? Мальчик? Громче говорите, не слышу! Какого пола ребенок? Ребенок, говорю, какого пола? Мужского или женского?!
– Мужского пола… Четыре триста, – сказал парень, – такого поди выроди, а тут письмо придет… Что я наделал, что я наделал!..
– Ничего ты не наделал, – сказал Костенко, – это тебя дежурный пугал. Иди празднуй и пой громко, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном.
Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно смотрел на Костенко.
– Иди, иди, ничего про тебя писать не будут. Иди себе спокойно, – повторил Костенко.
Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному:
– Знаете, лейтенант, за что нас легавыми называют? Не знаете? Вот за такое ваше поведение. Ну разве можно так над парнем куражиться?
– Но он пел после двух часов ночи. Граждан будил.
– Уснут граждане, уснут. Сын не каждый день у человека рождается. Сердце-то у вас есть?
– При чем здесь сердце? Я нахожусь на службе.
– Эх, лейтенант… Оно на нашей службе важней всего, сердце-то… Без него дров наломаете. Очень вы некрасиво себя вели. Простите, но мне стыдно за вас… Давайте начальника вызывайте, мы к вам по срочному делу приехали.
На совещании, которое собрал начальник отделения милиции, было решено следующее: Росляков сейчас же отправляется на станцию и там проверяет фамилии и имена тех, кому выданы сезонные билеты. То, что у Прохора есть сезонный билет, явствовало из показаний футболиста Алика.
Костенко оставался в отделении и работал по документам паспортного стола. Потом он вызывал всех участковых и беседовал с каждым в отдельности, чтобы по возможности установить всех стариков с палками, морщинистых, небольшого роста, в серых костюмах, седых, тщательно причесанных, имеющих старые туфли – комбинированная замша и лак. Вот, собственно, что мог выяснить о стариках поселка Тарасовка капитан Костенко. Это он мог сделать. А нужно ему было среди всех этих стариков найти убийцу и бандита Прохора. Тарасовка была пока что единственной версией. Других версий не было.
Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутке около кассы. Рослякову надо было просмотреть все документы за пять месяцев – с января по май. Их было много. Росляков почесал затылок и начал работу.
Через десять минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор, которые ходили с толстой суковатой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые.
Костенко позвонил к Садчикову, и тот, взяв с собой Читу, который только перед тем, во время опознания его и Сударя работниками лавки и скупки, устроил истерику и рвался ударить Сударя, «как дикого зверя, погубившего его жизнь», срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с Садчиковым наотрез отказался и снова начал вопить, требуя наркотика.
Садчиков впустил Читу в кабинет сразу, без стука. Собрали стариков, и не только одних Прохоров. Были здесь и Иваны, Петры и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпов в прудах. Старики все на пенсии, делать им нечего, вот, говорили им участковые, вы на себя это дело и возьмите. Старики удовлетворенно смеялись: «Не зря нас, пенсионеров, “народными мстителями” называют – понадобились наконец для дела, не вечно по домам сидеть…» Версию с прудами предложил Костенко – не было времени придумывать что-либо другое, каждая минута была дорога сейчас. Он предложил эту версию для того, чтобы нейтрализовать возможные разговоры, если того Прохора, которого искали, среди приглашенных не окажется. Надежда на то, что среди приглашенных есть бандит и убийца, сразу же покинула Костенко, как только он познакомился со всеми стариками. Конечно, физиономистика – наука далеко не точная, но все же достаточно было посмотреть на этих рукастых стариков, чинно рассевшихся на диванах и стульях, чтобы все сразу понять и сказать себе: того Прохора здесь нет.
Чита вошел в кабинет, съежившись, замер на пороге, обвел всех собравшихся быстрым взором и, обернувшись к Садчикову, качнул головой. Костенко и Садчиков переглянулись.
– Н-ну, товарищи, – сказал Садчиков, – с-сейчас с вами маленькое совещание проведут. О карпах. Начальник с в-вами поговорит, решение п-примете, и надо мальков запускать.
Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал:
– Товарищ Садчиков, помощь потом потребуется.
– У-уху пробовать?
Старики сдержанно засмеялись, а потом один из Прохоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубаху и сказал:
– Считаю мероприятие, поднятое милицией, своевременным и нужным. Готов отработать свои сорок часов. А сейчас надо выбрать председателя собрания и секретаря…
Валя Росляков пришел усталый и злой. Уже темнело.
– Вот, – сказал он, – нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович, Аверьян Прохорович. Может, зайдем?
– Завтра, – устало откликнулся Садчиков.
– Да ну к черту, – сказал Костенко, – давай сегодня отработаем Тарасовку, а завтра начнем Сударя допрашивать, он, мне кажется, правильный след знает.
– Ну ладно, – согласился Садчиков, – п-по пути зайдем, посмотрим Аверьяна, хотя, по-моему, это не то…
Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал – за ним. Хозяйка пошла отпирать, но он, выхватив черный маленький дамский браунинг, ощерившись, сказал:
– Ни с места! Тихо!
Он схватил хозяйкиного Федьку, прижал к его виску пистолет и прошептал:
– Пристрелю, если откроешь.
Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел у ворот «Волгу».
– Ставни, – шепнул он, – ставни, дура!
– Откройте, – громко сказал Костенко, – мы к вам на минуту.
– Ой! – закричал Федька. – Пусти, дядя Ава! Пусти! Пусти!
В дверь начали барабанить.
– Уйдите отседа, – сказал Прохор пьяным голосом, – своя семья, свои заботы. Не гневите меня зазря.
Федька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать.
Прохор чувствовал, как у него холодеют руки и ноги; он понимал, что все кончено; он понимал, что он провалился, но он не хотел, он не желал сдаться им, он не мог примириться с мыслью – «погиб». Он хотел жить.
Костенко начал ломиться в дверь.
– Скажи им, – тихо приказал Прохор хозяйке, – чтобы они уходили.
– Уходите, – заголосила женщина, – уходите отсюда! Он моего сыночка застрелит.
За дверью все смолкло.
«Неужели уйдут? Может, там двое всего?! Может, один сейчас за подмогой поедет? Тогда уйду! Тогда уйду я от них!»
Дзень! Дзень!
Прохор метнулся в сторону и увидел в окне силуэт человека. Оттолкнув мальчонку, он не целясь выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул и кошкой прыгнул на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза. Потом он упал, и пистолет выпал у него из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены, бросилась на браунинг своим большим телом.
Сердце Рослякова
К операции Рослякова подготовили очень быстро. Он лежал молча и все время сосредоточенно смотрел в потолок. Он уже не чувствовал той боли, которая сначала так мучила его. Сейчас боли почти не было. В голове все время звенели и носились какие-то бессвязные слова: «аскорбинка, ноги, полынь, шофер-любитель». Эти слова прыгали у него в мыслях, а он старался остановить их и построить в нечто единое и целостное, хотя где-то и понимал, что столь разнородные по смыслу слова в осмысленное, единое целое построены быть никак не могут.
«Здесь нужен глагол», – вдруг отчетливо и совершенно спокойно понял Росляков. Он обрадовался тому, что вместо этих проклятых, вертящихся слов он смог построить осмысленную фразу. Росляков улыбнулся и, закрыв глаза, стал думать, какой именно глагол поможет ему воссоединить эти слова в единую фразу. Он уже почти нашел тот, нужный, как ему казалось, глагол, но в это время теплая волна беспамятства накатилась на него, и Росляков потерял сознание.
Очнувшись от острого запаха нашатыря, он снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра, и ему было очень страшно опустить глаза вниз, чтобы рану посмотреть, но в то же время какая-то чужая, сторонняя и любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку – и ничего больше. Он даже захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале. Но потом стало очень больно, будто туда, в грудь, сунули горящий окурок, и в голову полезли эти нелепые «аскорбинка, ноги, полынь и шофер-любитель»…
– Что, – спросил Валя сестру, стоявшую все время возле него с нашатырем и шприцем, – дрянь дело?
– Да что вы, – ответила сестра, – пустяки…
– Вам артисткой быть, – вздохнув, сказал Валя, – а не сестрой. – И закрыл глаза.
Профессор Гальяновский кончил мыть руки и попросил хирургическую сестру:
– Поторопите, пожалуйста, Галину Васильевну.
– Она побежала звонить…
– Что?
– Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой.
– Ну?
– Она волнуется.
– Но я не могу оперировать один, как вы полагаете?
– Сейчас я пойду за ней.
– Да уж, пожалуйста.
Галина Васильевна сидела у телефона и слышала длинные гудки: в квартире все еще никого не было. Где же Садчиков? Тогда бы их привезли вместе. Валя. Бедный мальчик. Он так и не узнал ее. Господи, неужели он не выживет? По-видимому, нет. А может быть, Садчиков в другой клинике? «Какая же я дура! Садчиков, милый мой, прости меня!»
Она достала записную книжку и быстро пролистала страницы…
«Я позвоню к нему в отдел, – решила Галина Васильевна, – они же знают…»
Но и в отделе никого не было, а других телефонов она не знала и если бы даже знала, то наверняка не стала бы звонить, страшась услышать ответ, которого она так боялась.
– Галина Васильевна, – окликнула ее сестра, – он очень нервничает.
– Боже мой, – сказала Галина Васильевна и прижала к груди руки. – Я, наверное, не смогу…
– Он же один… Он ждет вас…
Галина Васильевна опустила трубку на рычаг и пошла в операционную.
Валя лежал без движения. Лицо его было желтым, словно высеченным из слоновой кости. Скулы заострились и стали как у покойника. Он уже не дышал, потому что через горло ему ввели трубку управляемого дыхания, и анестезиолог Татьяна Ивановна монотонно надавливала на красную грушу, через которую в легкие шла жизнь.
Все тело Рослякова было укрыто простынями и салфетками, и только, будто поле сражения, ограниченная всем белым, выпирала часть его груди с маленькой красной дыркой, от которой пахло жженой бумагой.
Профессор, оперируя, тихо матерился. Галина Васильевна давно привыкла к этому, и, если профессор молчал, ей было как-то не по себе. Сейчас, вскрыв полость, профессор работал молча, и Галина Васильевна видела, как у него – от затылка вниз – густо краснела шея. Ей даже было видно, как кровь, пульсируя, скатывалась под кожей от шишковатого блестящего затылка вниз, к сильной, бычьей шее.
Легкое у Вали было чистое, гладко-розовое, почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол.
«Он же спортсмен, – вспомнила Галина Васильевна. – Садчиков говорил, что он мастер спорта».
Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов, и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким и замирало, а потом вдруг, будто заторопившись, начинало сокращаться лихорадочно-быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку, и поэтому сначала ничего нельзя было понять из-за большого сгустка синей крови.
Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую ссадинку, шедшую по краю. Такая ссадинка на руке безболезненна, ее прижигают йодом, да и то в крайнем случае. О таких ссадинах детям говорят: «До свадьбы заживет». А здесь, на сердце, она была смертельной, и никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только они начнут зашивать его маленькими нетравматическими иглами.
Профессор вытянул правую руку, и, когда сестра положила в его ладонь иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце, а после, покачав головой, взглянул на Галину Васильевну и начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань. И каждый новый прокол – чем дальше он продвигался к концу ссадины – Галина Васильевна воспринимала как некий сплав трагического и счастливого: шансы на спасение Рослякова увеличивались, но одновременно увеличивалась опасность. Ломался режим работы сердца, оно могло захлебнуться кровью, оно могло споткнуться и замереть.
Садчиков и Костенко приехали в клинику через час после начала операции, сдав Прохора в КПЗ. Они сели внизу, в приемном покое, и закурили.
– Кофейку бы, – сказал Садчиков.
– Спать хочется?
– А н-нет? Две ночи как-никак.
– Попрыгай.
– Неловко.
– Как думаешь, вытянет Валька?
– К-конечно.
– А что они так долго возятся?
– Ты далек от м-медицины. Час у них – пустяки. Тут о-одну дамочку шесть часов резали.
– Так то ж дамочку.
– Нездоровые у тебя н-настроения.
– Хочешь, вздремни полчаса.
– Не получится.
– Попробуй.
Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей хлористым больничным запахом.
Костенко ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным и усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него в голове: «Это я виноват в том, что случилось с Валькой. Это я виноват. Должен был первым в окно прыгать я, а не он».
Но вторая мысль спорила с этой, все под себя подминавшей первой: «Если бы он ждал, пока я подойду и пока мы станем советоваться, Прохор перестрелял бы детей и хозяйку. Тогда он бы сейчас сидел и не мог найти себе места, и все бы в нем кричало: “Я виноват!” А я знаю Вальку, это было бы для него концом, трагедией».
Когда Костенко вернулся, Садчиков попросил его:
– Слушай, тут р-рядом есть гастроном, купи какого-нибудь вина. А то я совсем ошалею. У меня есть т-трешница.
– У меня тоже есть трешница. Ты хочешь есть? Могу купить.
– Нет, не надо…
– Я тоже есть не хочу… Сейчас я вернусь. Если уснешь – разбудить?
– К с-сожалению, я не усну.
– Я быстро.
– Хорошо.
Он вернулся с бутылкой «Гурджаани». Откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку Садчикову.
– Нет, – сказал тот, – пей п-первым.
– За Вальку, – сказал Костенко.
Он пил долго, уже через силу, маленькими глотками, и ему казалось, что каждый глоток за Вальку – как в детстве «за маму» и «за папу» – обязательно принесет тому здоровье в жизнь.
– Держи, – сказал он, – твоя доля.
– За Вальку, – сказал Садчиков и допил все оставшееся в бутылке.
– Хорошее вино, – сказал Костенко.
– У грузин есть л-лучше.
– Там было только это. Что, оно тебе не нравится?
Садчиков усмехнулся:
– Д-да нет, н-ничего…
Потом приехал Коваленко из соседнего отдела.
– Как дела? – спросил он. – Наши волнуются.
– Пока неизвестно.
– Это что, вы пили?
– Мы.
– С ума сошли!
– Почему? – удивился Костенко.
– Ну, все-таки милиция… Решат, что мы все алкаши…
– Черт с ними. Пусть т-только Вальку спасут.
– А что говорят?
– Ничего не говорят. Как там Прохор?
– Его Чита топит, а Сударь молча помогает. Пока лягается, но дело-то ясное, вы его с поличным взяли.
– Не мы, – поправил Садчиков, – а Р-росляков.
– Значит, вы, если Росляков.
Врач-анестезиолог заглянула в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом:
– Больной порозовел.
Ассистент, «сидевший» на артерии, открытой для переливания крови в случае, если катастрофически упадет давление, тоже сказал скучным голосом:
– У больного действительно заметно порозовело лицо.
Профессор сказал:
– Он не больной, он раненый. Ясно вам?
– Ясно, – отозвалась анестезиолог.
И все в операционной улыбнулись.
– У парня мускулатура, – сказал профессор, – совершенно смертоносная для дам. Вообще-то мне всегда было непонятно, почему женщины так падки на мышцы, Галочка, почему?
– Мой муж худ, как палка.
– Ну это, я думаю, вы его довели с вашей строптивостью.
– Спасибо.
– Ешь тя с копотью, – удивился профессор, – и она еще обижается, вы слышите?!
Он затянул нитку, бросил иглу и отошел в сторону. Затем он поднял руки, и хирургическая сестра стала стаскивать с него перчатки и халат.
– Гоп со смыком это буду я! – пропел профессор и заметил: – Галочка, вы как жена сыщика должны знать эту песню. Ее кто поет: жулики или милиционеры? Я всегда путаю.
– Ее поют жулики.
– Ничего мотив, – сказал профессор, – а слова – так просто поэзия. Идите звоните вашему благоверному.
Галина Васильевна сняла маску и халат, стянула с себя перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы прошла дрожь в ногах. Она видела затылок профессора; она видела, как кровь уходила теперь вверх – от шеи к затылку, и она понимала, как трудно далась ему эта операция, дерзкая и виртуозная, на почти безнадежном сердце.
Выглянув в коридор, она сразу же увидела Садчикова среди восьми мужчин, сидевших на скамейках. Он сидел, вытянув длинные ноги, и курил, низко опустив голову. Галина Васильевна подошла к нему и сказала:
– Здравствуй, родной. Он жив.
Что-то неуловимое, но понятное ей прошло по лицу Садчикова, она погладила его по щеке и присела рядом.
– Он уже говорит? – спросил Костенко.
– Он еще под наркозом. Но теперь все в порядке.
А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу, в приемный покой выскочила сестра и крикнула:
– Галина Васильевна, скорей!
Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжа, словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки Галины Васильевны, и потом настала тишина – гулкая и пустая, как ужас.
У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу же заострился и сделался белым. Дали кровь в вену, но ничего не помогало. Тогда профессор вскрыл только что стянувшие грудь швы, отодвинул в сторону легкое и, взяв сердце своей желтой, сожженной йодом рукой, начал массировать его.
– Ну, – говорил он, – ну, ну, ну!
Он снова стал багровым, этот семидесятилетний профессор, и шея у него сразу же налилась кровью, и глаза сузились в меткие и всевидящие щелочки.
Сердце лежало в его руке, мягкое и безжизненное.
Он давил его сильно и властно. Он передавал ему силу и желание жить; он повторял все злее и громче:
– Ну! Ну! Ну! Ну!
Галина Васильевна стала рядом с ним.
– Остановка сердца, – сказал он. – Идиотизм какой-то! Ну! Ну! Ну!
Вдруг он замер: почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил сердце едва заметным движением. Оно отозвалось – тук! Он сжал его еще слабее. А оно четче – тук!
– Ну же! – сказал профессор. – Мать твою! Давай!
И сердце снова сократилось.
– Где кровь? – сказал он. – Перелейте кровь! Быстро!
Дали кровь. И сердце стало все отчетливей и резче делать свою работу, а вся работа его – великая и мудрая – заключалась только в одном: в беспрерывном и размеренном движении.
– У него кончается наркоз, – сказала анестезиолог, – максимум три минуты.
– Терпи, парень, – сказал профессор Гальяновский и начал зашивать грудную полость. – Теперь терпи, коли выжил.
Галина Васильевна подошла к Рослякову и, нагнувшись к нему, стала говорить медленно и громко:
– Они все здесь. Они ждут тебя, Валя. Ты меня понимаешь? И Садчиков, и Костенко, и ребята из управления.
Росляков сосредоточенно смотрел в потолок и молчал. Глаза у него были огромные и бездонно-синие.
– Они все здесь, Валя, скажи, что ты меня слышишь, скажи!
Он ничего не мог сказать ей, потому что в горле у него была трубка, шедшая в легкие. Он только кивнул головой и нахмурился.
– Сейчас ты их увидишь, только будь молодцом, ладно?
Он снова кивнул головой, и Галина Васильевна увидела, как глаза у него стали темнеть.
«Как у новорожденного, – подумала она, – у Катюшки тоже потемнели глаза. Он новорожденный. Он был там, за гранью, он был мертвым».
– Выньте у него трубку, – сказал профессор.
– У тебя теперь все в порядке, – говорила Галина Васильевна и гладила его лицо, – мы зашили рану, теперь ты у нас молодец. Ты замечательно перенес операцию, теперь все будет в порядке.
Росляков закрыл глаза и наморщил лоб.
– Тебе больно, да?
Он кивнул головой.
– Терпи.
– Терплю, – прохрипел он и постарался улыбнуться.
– Молодец, ешь тя с копотью, – сказал профессор.
Профессор быстро накладывал шов, только что разорванный им. Наркоз кончился, и он шил по живому телу, а Росляков лежал, закрыв глаза, и морщился, а Галина Васильевна все повторяла и повторяла:
– Они все здесь, они ждут тебя, понимаешь? Садчиков, Костенко, Коваленко, и Бабин, и еще много ваших. Сейчас дотерпи, и мы их пустим к тебе, ладно?
Росляков открыл глаза, посмотрел на Галину Васильевну строго, требовательно, и слезы покатились у него по щекам.
– Все, – сказал профессор, – везите в палату.
Вернувшись в управление, Садчиков достал пачку «Казбека» и прочитал там номер телефона, который продиктовал Росляков в машине перед тем, как потерять сознание. Снял трубку, набрал номер.
– Да, – услышал он девичий голос.
– А-алену пожалуйста.
– Это я.
– Здравствуйте. М-меня просил вам позвонить Валя.
– Какой Валя?
– Росляков.
– Кто говорит?
– Его друг.
– Я его жду.
– П-правильно делаете. Только он не придет.
– Почему?
– Он р-ранен. В больнице на П-пироговке лежит.
В трубке долго молчали. Потом Алена спросила:
– Мне туда можно?
– Н-нужно. Хотя, я думаю, в-вас туда не пустят…
Алена бежала по уснувшим московским улицам. Она забыла переодеть тапочки, и поэтому ноги у нее промокли сразу же, как только она вышла из дому. Она бежала по лужам, почти по середине улицы. В лужах отражались звезды. Дождь кончился, небо стало высоким и ясным. Звезды казались по-южному огромными и низкими. В лужах они отражались точно и незыбко. Алена бежала по лужам, и звезды брызгами поднимались вверх, шлепались на землю и разбивались. Она бежала все быстрее и быстрее. Алене казалось, что сейчас все зависит от того, как быстро она прибежит в больницу к Рослякову, которого зовут детским именем Валя. Она бежала и плакала, а звезды брызгами взлетали в небо и пропадали потом, разбившись об асфальт, который был по-земному теплым.
Конец банде
Сударя, Читу и Прохора допрашивали в трех разных комнатах. Садчиков зашел в медпункт, выпросил две таблетки кофеина и отправился в комнату, где допрашивали Прохора. Допрос вел Костенко.
– Я ж на почве ревности в нее хотел-то, – твердил Прохор, – а он помешал. Откуда я знал, что вы из розыска?
Костенко сидел молча и только изредка, будто метроном, ударял по столу длинной линейкой, измазанной разноцветными чернилами.
– Может, она мне на каждом шагу изменяла, у меня сердце тоже есть, я ведь тайно ее любил-то, – медленно, глядя в одну точку, тянул Прохор. – А он когда стал рваться, я решил, что это, наверное, ее хахаль какой…
Костенко кашлянул, и Прохор быстро на него глянул и замолчал.
– Расскажите, как вы убили милиционера около ВДНХ, – негромко и очень спокойно спросил Костенко.
– Я не убивал милиционера около ВДНХ, – четко и ровно ответил Прохор.
Садчиков закурил, и снова воцарилось долгое молчание, и только время от времени через точные промежутки Костенко ударял линейкой по столу.
– Расскажите, как вы убили шофера Виктора Ганкина, – так же негромко и очень спокойно повторил Костенко.
– Я не убивал никакого Ганкина, – так же четко и ровно ответил Прохор.
Садчиков и Костенко переглянулись.
– Слушай теперь меня, Прохор, – сказал Костенко, – слушай меня очень внимательно и постарайся не упустить ни одного слова из того, что я тебе сейчас скажу. Наш друг, в которого ты стрелял, остался жить. Понимаешь? Его спасли.
– Слава богу, – сказал Прохор, – а то я уж перенервничался.
– Что? – удивился Садчиков.
– Перенервничался, – повторил Прохор и вздохнул.
– Ну так вот, слушай дальше, – продолжал Костенко. – Если бы он погиб, то, вернувшись сюда, я пристрелил бы тебя, как бешеного пса, понимаешь? Меня за это арестовали бы и отдали под суд. Но я думаю, что меня за такого пса, как ты, все-таки не осудили бы. И я бы рассказал на суде все про тебя: и про то, как ты убил Копытова, и про то, как ты убил Ганкина, и про то, как ты изувечил жизнь Леньки Самсонова. Я бы рассказал людям про то, какая ты мразь, понимаешь? И мне бы, я думаю, поверили.
– А может, и не поверили б…
Костенко открыл сейф и выбросил на стол окровавленную перчатку, найденную в ту ночь около Копытова. Потом он выбросил на стол вторую перчатку – такую же, но не окровавленную, найденную в машине, под сиденьем Ганкина, со следами пальцев Прохора. Потом он достал ботинок Прохора и рядом положил слепок с него, сделанный там же, в аллее у Ростокина. Он достал гильзы и выстроил их в ряд, а после того, как все гильзы кончились, он подровнял их копытовским пистолетом.
– Видишь? – спросил он. – Это все против тебя. Но я готов выслушать все твои доводы – в твою защиту. Я очень не хочу делать это, но я готов это сделать, понимаешь? И не смотри на меня дурным глазом, Прохор. Номера не проходят. Институт Сербского быстро тебя расколет, тем более что ты там уже раз пытался прикинуться сумасшедшим в сорок пятом. Ясно?
Прохор долго сидел молча, а потом завыл. Он выл монотонно и страшно, как раненая собака, выл на одной страшной ноте, очень высокой, но в то же время басистой и хриплой.
– Ненавижу вас, – хрипел он, – ненавижу…
– А ты думаешь, я тебя люблю? – удивился Костенко. – Я тебя тоже ненавижу. Только я человек, а ты – зверь. Понял? Вот так-то.
Он раскрыл голубой листок протокола допроса и спросил Садчикова:
– Ты будешь вести или я?
– Веди т-ты. У тебя почерк четче, – ответил Садчиков и, сняв пиджак, повесил его на стул.
Костенко обмакнул перо в чернильницу и начал:
– Давай. Фамилия? Имя? Отчество?
– А зачем? – спросил Прохор глухо.
– Закон требует, – ответил Костенко и затушил сигарету, чтобы дым не щипал глаза.
Апрель – август 1962 г.
Огарева, 6
I. Утро полковника Костенко
1
Гражданская панихида была в конференц-зале «Мосфильма». Левон лежал в гробу – маленький и желтый, с припудренным лицом, совсем не похожий на себя. Костенко, вглядываясь в его холодное лицо, вспомнил, как Левон лет пять назад сказал: «Славик, я отдам концы в сорок». Костенко тогда смеялся над ним, и Левон тоже смеялся, но не оттого, что Костенко вышучивал его, а просто чтобы поддержать компанию.
«Смейся, смейся, дуралей, – говорил Левон, – ты живешь своими вещдоками, а я – чувством. Я вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы, стал гениальным режиссером… Поверь, дорогой, мне: в сорок я сыграю в ящик…»
Два года назад, во время съемок, у него заболело в паху. Врач, осмотрев его, сказал, что надо ехать в онкологический институт. Изрезанный и облученный, Левон продолжал работу: его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами, полулежа в кресле на колесиках, и два раза в день медсестра впрыскивала ему наркотики, чтобы убить боль. Потом, правда, начался странный процесс ремиссии, и Левон неожиданно для всех стал прежним Левоном, каким Костенко знал его со студенческих лет, когда они вместе учились на юридическом факультете, ездили танцевать в «Спорт», устраивали шумные «процессы» в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с Институтом востоковедения в спортивном зале «Крылышек». Левон был душой Москвы тех лет: его знали и любили люди разных возрастов и профессий – грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жокеи, актеры, профессора, летчики: он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда.
Когда Левон почувствовал, что ремиссия кончается, постоянная слабость делает тело чужим и что большая, осторожная боль снова заворочалась в печени, он отказался лечь в больницу, попросил после смерти его кремировать («Нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицитны») и еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне, которую Кёс привез ему в подарок из Стокгольма. Он так и умер: рано утром проснулся, попросил Кёса и Гришу надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал: «Какие стали тонкие, как спички, позор экий, а?» Потом ему помогли перейти в кресло – к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал:
– Ну, до свидания, ребята…
«Все-таки похороны – это варварство, – подумал Костенко, наблюдая за тем, как в зал входили все новые и новые люди, пожилые уже, сорокалетние, а он их помнил студентами, не лысыми, а кудрявыми, не толстыми, а поджарыми. – Особенно когда уходит самый сильный из нас и самый веселый. Впрочем, первыми всегда гибнут самые сильные и веселые». (Именно так часто говорила его мама, Галина Николаевна Иванова, пришедшая в Москву в конце двадцатых, в лаптях, из Шуи, поступать в университет. Оттуда, из университета, с исторического факультета, и ушла вместе с отцом на фронт; отец погиб в Сталинграде; мама вернулась инвалидом.)
Григор, поднявшись на носки, чтобы дотянуться до высоко установленного микрофона, говорил прощальное слово. Он был сейчас растерянный и казался из-за этого еще меньше ростом. Голос его то и дело срывался: он сопел и совсем не был похож на себя.
– Слушай, Коля, – шептал кто-то за спиной Костенко, – в Дом журналистов раков привезли. Проводим Левушку – надо съездить.
– Нехорошо это, – ответил Коля.
– Почему? «И пусть у гробового входа младая будет жизнь…»
Костенко сердито обернулся:
– А раки при чем?
«Наших здесь человек пятьдесят, – подумал он. – Остальные пришли посмотреть смерть. Гадость это все-таки».
Костенко кто-то тронул за локоть.
– Вот так, Славик, – прошептал Степанов. – Первые ваши похороны.
– Вот так, Митя…
– Я только вчера прилетел. А два месяца назад мы с ним на ипподром ездили. Он все время смеялся, анекдоты рассказывал. Я ему предложил новый фильм вместе снимать. Он тогда все шутил, что мы сделаем нашего Мегрэ лучше, чем у Сименона, а Кёс сегодня рассказывал, что он уже тогда знал, сколько дней ему осталось.
– Левушка был очень сильным человеком.
– Почему «был»? Он для нас всегда останется «есть».
– Брось, Митя. Был. Метафоры оставь для своей литературы. Я, знаешь ли, мыслю протоколом. Так верней в наш век. Был Левон – и больше нет его. И не будет.
Подошел Мишаня Васильев и хрипло сказал:
– Здоров, полковничек.
– Здравствуй.
Лет семь назад Костенко сажал Васильева за угон и спекуляцию автомашинами.
– Я у Левона работал последнее время, – сказал Васильев. – Помощником.
– Знаю. Он ко мне приходил, чтобы тебя, сукиного сына, в Москве прописали.
Мишаня затряс головой, в глазах его показались слезы, и он всхлипнул:
– Гады живут, боги умирают.
– Зачем с утра пил?
– Левушка велел. Я к нему за день перед смертью приходил, ананасов купил, а он сказал, чтобы мы его провожали весело. Воблы, говорил, хорошо бы достать на поминки. Сейчас жарко, вобла под водочку с пивком хорошо бы пошла. Смотри, говорил, чтоб мать и Марго не голосили, все вам настроение испортят.
Степанов спросил Костенко:
– Ты в крематорий на автобусе поедешь?
– Я не поеду в крематорий. Не могу, Митя.
– Поминать будем дома, – сказал Васильев. – Приедете?
– Постараюсь. Если почему-либо не получится, завтра зайди ко мне, пропуск я тебе спущу.
– А в чем дело? – Васильев удивился. – Я же завязал.
– Знаю.
– На Петровку?
– Нет. Я теперь в министерстве. Улица Огарева, шесть. В три часа сможешь?
– Вы что ж, попрощаться с Левоном пришли, или я вам тут нужен был по делу? – спросил Васильев, и лицо его стало жестче.
– Если б ты мне был нужен по делу, я бы нашел тебя через отдел кадров. Не надо так, ты сантименты не крути, ты ведь не урка, Мишаня.
Костенко действительно не смог приехать на поминки, хотя очень хотел быть там. На два часа был назначен прием у заместителя министра. Костенко думал, что дело, которое он безуспешно разматывал в течение последних сорока дней, после сегодняшнего доклада генералу перейдет в более спокойную фазу, но, вернувшись с похорон, получил новую сводку: «Вчера ночью в Свердловске в городской больнице скончался от отравления, идентичного тому, которое проходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, Кикнадзе Шота Иванович, из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров».
Кикнадзе, как и те двое в Минске и Ленинграде, приезжал покупать машину. Это единственное, что удалось установить точно. Об остальном можно было догадываться. Возле магазина к приезжему, очевидно, кто-то подходил и предлагал помочь купить «Волгу» без очереди. Потом они вместе шли в гостиницу, чтобы в номере спокойно посидеть, обмыть сделку и обговорить детали. Преступники подмешивали в водку снотворное, но делали это, не зная дозировки. Обокрав уснувшего человека, они уходили, даже не догадываясь, что тащат за собою «мокруху» – за сорок дней было убито три человека, и ни разу ни на одном месте происшествия не удалось получить отпечатки пальцев преступников. На столе оставались лишь те стаканы, из которых пили жертвы. На бутылках были обнаружены только отпечатки пальцев убитых. Судя по почерку, действовала одна и та же банда.
Опрос всех тех, кто мог хоть что-то знать об обстоятельствах, при которых были совершены убийства, ничего не дал. Костенко и его группа допросили десятки людей – работников автомагазинов, гостиниц, аэропортов, вокзалов, сберкасс, телеграфа, но, сколько они ни бились, найти хоть какие-то подступы к делу не могли.
Сотрудники спецгруппы, выделенные МВД Грузии и Армении на контакт с Костенко, допросили всех родных и знакомых погибших, прошли по всем их связям. Они говорили с работниками телефонных станций; по регистрационным почтовым книгам они узнали адреса и фамилии людей, которым в последние недели убитые отправляли телеграммы, но и это не дало никаких результатов.
Получив приказ срочно вылететь в Свердловск, Костенко вернулся к себе в кабинет, позвонил домой, попросил Машу собрать «допровскую корзинку» и прилег на диван – последние дни он ощущал тяжелую боль в животе, где-то справа, возле последнего ребра.
«А что, собственно, Мишаня Васильев? – подумал Костенко, когда боль приутихла. – Сколько лет прошло с тех пор, как он терся возле автомагазинов…»
Костенко осторожно поднялся, посидел мгновение, прислушиваясь к своей боли, потом распрямился, сделал несколько наклонов в сторону, как на физзарядке, подошел к сейфу. Он достал дело и снова начал просматривать все те данные, которые удалось получить за последние дни. Он перекладывал бумажки и понимал, что делает это по инерции, просто для того, чтобы хоть что-то делать. Вдруг он отодвинул бумаги, полез за сигаретами: «Неужели Мишаня прав? Неужели я поехал на похороны только для того, чтобы найти там его, именно его, Мишаню Васильева, бывшего “специалиста” по автомобильным кражам и спекуляциям? Неужели похороны Левонушки были для меня только поводом? Нет, не может быть. А почему, собственно, не может быть? – возразил он себе. – Может, увы. Профессия поначалу накладывает лишь отпечаток на человека. Потом она подчиняет его себе без остатка. Цинизм? Вероятно. А в общем-то нет. Когда Левонушка был жив, мы дружили, и нам было хорошо и честно друг с другом. Что ж, демонстрировать отношение к мертвому? Это нетрудно в конце концов: постоял час на панихиде да водки выпил на поминках. Мерить отношения к друзьям надо мерой живых. Показушничать мы все любим – спасу нет».
Костенко зашел на Центральный телеграф, открыл сберкнижку на имя маленькой дочки Левона, положив десять рублей как первый взнос, но тяжелое ощущение какой-то безысходной тоски и гадостности не покидало его весь остаток дня, пока он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет и ехал на аэродром, торопясь на последний рейс, с тем чтобы с утра начать работать в областном управлении – допрашивать свидетелей, знакомиться с заключением экспертизы, ворошить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с круглой печатью – на сильнодействующее снотворное.
2
В девять утра Костенко проводил первый допрос. Кассир автомагазина сказала, что за два дня до убийства в помещении «толкались три новеньких».
– Мы же завсегдатаев знаем, товарищ полковник, они нам как родственники, а эти, новенькие-то, из южан, один небритый, по-своему разговаривали. А как это все случилось, они у нас больше и не появлялись.
Костенко обернулся к начальнику местного угрозыска.
– У вас фото завсегдатаев есть?
– Кое-что подобрали.
Костенко разложил перед женщиной-кассиром девятнадцать фотографий.
– Это Григорий Яковлевич, – быстро заговорила она, перебирая фотографии, как карты в пасьянсе, – Борисов, пенсионер, он хороший слесарь, а это Егор-кривой, его фамилия Кривых, к нам ходит все равно как на работу, каждый день, а это Петр Павлович. Нет, тех новеньких здесь нет.
– Одни «старенькие»? – Костенко усмехнулся. – Ладно. Пройдите с товарищами, опишите подробно внешность этих новичков – рост, цвет глаз, вам там объяснят, что нас интересует.
– Словесный портрет? – спросила кассирша. – Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались. Помню, однако, – один небритый, и все.
Потом он беседовал с вдовой Кикнадзе, маленькой седой женщиной в черном, с распухшим от слез лицом. Ее привезли с аэродрома прямо в управление, потому что Костенко знал по опыту – пусти ее сначала в морг, разговора не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде: вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжелом беспамятстве.
«Грузинки горше наших переживают, – объяснял тогда старик санитар, – их мужики еще пока в руках держат, не распустили до полного равноправия».
– Кому же он мог звонить? – шепотом сказала женщина. – Кому телеграммы посылать? Никого у нас нет. Он честным трудом деньги заработал, он домой только на воскресенье приезжал, а так все в совхозе да в совхозе. За что такое горе нам, за что?! Говорила я ему: «Не езди, не надо, жили без машины столько лет, проживем еще сколько бог отпустит».
– Значит, никто из ваших знакомых не обещал ему свою помощь, не давал адреса в Свердловске?
– Нет. Господи, за что же, за что?!
Костенко попросил выяснить во всех гостиницах города, кто останавливался за три дня до преступления – «южане, один с бородой, а может быть, просто небритый».
Через два часа ему сообщили, что в гостинце «Урал» за три дня перед преступлением был снят «люкс» неким Гомером Барамия, уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был «высокий и с темным, то ли смуглым, то ли плохо выбритым лицом».
Костенко связался с полковником Серго Сухишвили из грузинского уголовного розыска, и тот выяснил, что Гомер Барамия, доктор технических наук, действительно вылетал в Свердловск по командировке академии сроком на три дня, на защиту кандидатской диссертации в Политехническом институте, где он был оппонентом аспиранта Кутепова.
– Был бы еще химиком, – усмехнулся Костенко, – куда б ни шло, а тут чистая техника – трубопрокат, к снотворным, судя по всему, товарищ Барамия отношения не имеет.
Костенко позвонил в Москву, попросил установить, в каких городах есть автомагазины, и предложил поработать над версией «трех новеньких», срочно выделив спецгруппы из райотделов милиции. Потом он пообедал вместе с начальником уголовного розыска и отправился в ту гостиницу, где произошло убийство, но его вызвали оттуда в управление, потому что позвонили из министерства и сообщили, что час назад в Москве, в гостинице «Украина», в номере 903, обнаружен находившийся в бессознательном состоянии гражданин Урушадзе, отравленный таким же способом, как и все остальные, проходившие по делу.
Костенко вылетел в Москву. Наконец-то появился первый свидетель: врачи обещали спасти Урушадзе. Видимо, он выпил несмертельную дозу снотворного.
Однако увидеть гражданина Урушадзе не удалось, поскольку он сразу же после того, как пришел в сознание и был помещен в отдельную палату, из клиники исчез.
Забрав в регистратуре паспорт Урушадзе, Костенко приехал в министерство, снова позвонил в Тбилиси, к Сухишвили, и через час получил сообщение, что интересующий Москву Урушадзе Константин Ревазович в настоящее время находится в санатории «Металлург», где работает садовником, а по совместительству в зимнее время – истопником, и что в последние дни из Гагры он никуда не выезжал. Сухишвили сообщал также, что о потере паспорта Урушадзе заявил в милицию еще месяц назад.
– Оштрафовали хоть? – хмуро поинтересовался Костенко.
– Нет, – ответил Сухишвили. – Безногий старик, инвалид войны, ограничились порицанием. Тем более его сын – ваш работник.
– Семейственность разводите, – пошутил Костенко. – Ладно. Вы отработайте, пожалуйста, когда, где и при каких обстоятельствах у старика исчез паспорт. Здесь фотография на паспорте хорошо приляпана – мужчина лет тридцати, совсем не похож на инвалида. Я вам вышлю оттиск сегодня же, посмотрите по карточке.
Опросив персонал клиники, Костенко выяснил только одну деталь: придя в себя, Урушадзе сразу же спросил, где находится его чемоданчик с документами. Когда ему ответили, что такого чемоданчика в номере не было, он попросил принести сердечные капли и вскоре после этого сбежал.
3
– А я к вам приходил туда, как велели, – сказал Мишаня, пропуская Костенко в квартиру. – А там ни пропуска, ни записки…
– Извини. Я улетел в тот день. Как с панихиды вернулся, сразу ноги в руки – и полетел. На поминки много народу пришло?
– Семьдесят шесть человек. Часть на лестничной клетке расположилась. Стулья вынесли, газетами накрыли, и как хороший а-ля фуршет.
– Соседи скандалили?
– Нет. Они его тоже поминали.
– Понятно. Жена где?
– На работе. А что?
– Ничего. Ты один здесь сейчас?
– Сын спит.
– Сколько ему?
– Два года.
– Молодец. Только знаешь, как говорят: один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын.
– Это я слыхал. А вы слыхали, как один наш артист на школьную елку под банкой пришел? Не слыхали? Так вот, работал он Дедом Морозом, это выгодная халтура. Пришел однажды, сел под елку и спрашивает детишек: «Дети, сколько Дед Мороз получит денег, если будет выступать десять дней по три раза на день? Учтите, что за каждое выступление ему полагается десять целковых!» Детишки хором: «Триста рублей, Дедушка Мороз!» Тут артист слезу вытер и возразил грустно: «Фига в сумку! А налоги?!»
– Это кто же такой?
– У вас свои тайны, а у нас свои. Знаете вы этого актера, его многие знают. Так вот и я вам – по поводу трех сыновей: «А налоги?»
– Серьезное замечание. Жена что делает?
– Полковничек, вы не крутите, не надо, я вам нужен, так вы б проверку заранее провели, зачем меня пытаете? Прикидываете на мне какой-то замысел?
– Прикидываю.
– Это серьезно?
– Серьезно.
– Неужели вы думаете?.. – Мишаня брезгливо усмехнулся. – Я завязал, совсем завязал, ясно? Я работаю. Честно работаю. И я теперь не хочу знать ни вас, ни тех, кого вы ловите.
– Ловлю я банду, которая угрохала трех человек, Мишаня. Это тебе не печки-лавочки.
– Варварство, конечно, только я здесь при чем?
– Ты можешь мне помочь.
– Нет, я в эти игры никогда не играл, а уж теперь тем более играть не собираюсь.
– Я, наверное, очень тебя подвел?
– Чем?
– Ну как же: легавый, а пришел к тебе домой…
– Ко мне – пожалуйста. Я к вам не хочу, это прошу понять.
В соседней комнате заплакал ребенок.
– Шурка проснулся, – сказал Мишаня, и лицо его смягчилось, разошлись жесткие морщины возле рта и над переносьем. Он быстро поднялся, ушел в комнату и вскоре вернулся с мальчиком, розовым со сна. Мальчуган был кудрявый, он удобно устроился на отцовской руке и хмуро разглядывал гостя.
– Ну, давай занимайся с сыном, – сказал Костенко, поднимаясь, – я пошел.
– Вы это… не обижайтесь. Я ведь не против вас лично.
– А против кого ты «лично»? Что же мне тогда с тобой было делать, Мишаня? Ты же закон преступал.
Мишаня подбросил сына на руке и усмехнулся:
– Вишь какое дело, Шурик? Смотри закон не преступай, а то упрячут в острог.
Мальчик засмеялся и дернул отца за ухо.
– Ты не очень-то, – посоветовал Костенко, – сейчас дети умными растут, умнее нас с тобой. Не надо ему знать, что тебя сажали. Не шути так.
– От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Так говорится?
– Это все ля-ля, Мишаня. С ума сойдешь от горя, случись с ним что.
– Мой же отец с ума не сошел.
– Так он у тебя алкоголик, какой с него спрос.
– То есть как это какой спрос! Он же отец! Он жизнь мне дал! Ничего себе, какой спрос.
– Это хорошо, что ты так ерепенишься, – сказал Костенко, – это ты ерепенишься верно.
– А то, что вам отказываюсь служить, это неверно, да? Так вас надо понимать?
– Служить тебя никто не заставляет, Мишаня. Я к тебе за помощью пришел. Я объяснил тебе, что ищу банду, которая убила трех человек. Трех, ясно? Восемь сирот осталось. Ладно, это уже лирика. Будь здоров. И Шурке витамин «А» давай, в этом возрасте он очень нужен.
Когда Костенко ушел, Мишаня поднял сына над головой и сказал, вздохнув:
– Что, парень, смеешься? Весело тебе, дурачку моему, да? Весело? Ну и веселись, пока я живой.
II. День делового человека
В Госплане Проскуряков провернул только полдела: сметы на расширение Пригорской аффинажной фабрики, вернее, цеха по обработке рубинов и гранатов были рассмотрены и в принципе одобрены, однако решение еще не состоялось, потому что второй день шла теоретическая конференция по внедрению автоматических счетных систем в народное хозяйство.
Однако Проскуряков успел зайти к Иволгину и объяснил ему, что те двести сорок тысяч, которые он просит на расширение производства, принесут отдачу уже через полгода, поскольку новую продукцию после предлагаемого расширения берет, что называется, на корню торговая фирма «Самоцвет», которая уже сейчас готова принять на себя определенную часть расходов.
– Вот пусть они вас и финансируют. – Иволгин посмеялся. – Прямая социалистическая кооперация, мы этого добиваемся и к этому идем. А вы норовите поспокойней, понадежней – урвать у государства, и вся недолга.
– Это меня-то в консерватизме? – в тон Иволгину ответил Проскуряков. – Побойся бога, Мирослав Казимирович! Вы, между прочим, меня за крылья держите, вы! Позвольте мне отладить прямые контакты с фирмами, так я вас деньгами завалю, а вы – все нет и нет и по каждому моему шагу отчет требуете.
– Ладно, – ответил Иволгин, – я думаю, Юрий Михайлович, на следующей неделе вам спустят решение. Ситуация, по всему, в вашу пользу, да и вопрос-то в наших масштабах пустячный – двести тысяч.
– Двести сорок, Мирослав Казимирович, двести сорок.
– Не надо странных цифр, Юрий Михайлович. – Иволгин снова посмеялся. – Эту вашу хитрость – просить двести сорок, чтобы получить двести, все давным-давно поняли. Двести, друг мой, двести, на большее не рассчитывайте.
Из Госплана Проскуряков поехал в институт станкостроения: в лаборатории профессора Никоненко конструировались новые агрегаты для обработки минералов.
– Убиваете сами себя, – сказал Проскуряков, ознакомившись с опытными образцами станков с автоматическим управлением. – Милый профессор, человечество, и в первую очередь его инженерная мысль, рождает такие умные машины, что в конце концов нам программу станет диктовать станок, а не мы ему. Нас убьет автоматика, мы станем ленивыми, ожиревшими, наживем раннюю стенокардию. И не стыдно вам подталкивать человечество к гибели?
Никоненко попросил Проскурякова достать фонды на латунь, но Проскуряков сказал, что это практически невозможно, поскольку фонды распределяет Госснаб и на то, чтобы пробить это, придется потратить несколько недель, а то и месяцев.
– Пластмассы сюда никак не подойдут? – поинтересовался он. – У меня хороший дружок назначен командиром по пластмассам, это бы я смог сделать для вас очень быстро, профессор.
Потом Проскуряков отправился к директору паровозоремонтного завода: надо было получить несколько списанных локомотивов для внутризаводских линий; экономисты подсчитали, что на ряде заводов его системы значительно выгоднее эксплуатировать локомотивы, чем гонять автотранспорт.
Закрыв ладонью трубку, директор завода Самохвалов кивнул Проскурякову на кресло – садись, мол, – а сам продолжал устало объяснять собеседнику:
– Товарищ Захаров, я пятый раз вам повторяю, что могу, исходя из тех же фондов сырья и зарплаты, которые мне отпущены, давать двести процентов плана, удвоить выпуск продукции, но для этого санкционируйте мне свободу действий! Да, да, мне, товарищ Захаров! Не считайте меня самодержцем, пожалуйста! Профсоюзы мне не позволят обижать рабочий класс, да и сам я, между прочим, не из дворян, а из слесарей! Да, да! У меня по штату в КБ сорок человек, сорок молодцов с окладом от ста десяти до двухсот пятидесяти, а мне там нужно всего пять человек с окладом от трехсот до тысячи! Да, да, именно до тысячи! И я должен иметь право объявлять ежегодный конкурс на замещение вакансий по конкретной теме, а не по специальности, записанной в дипломе! Ползунов, кстати, политехнический не кончал! У меня осмечено двенадцать тысяч на телефонные разговоры с поставщиками, а вот трех толковых снабженцев с окладом в триста рублей и с представительскими я выбить не могу! Да, да, не могу, товарищ Захаров! Я отдаю двенадцать тысяч, а взамен прошу семь, но только так, чтобы этими деньгами можно было маневрировать, а не тратить их лишь потому, что они отпущены! У меня, понимаете ли, двадцать восемь вохровцев, а мне нужны всего три инструктора служебного собаководства и десять овчарок, но мне этого никто не позволит. У нас всем работы хватит! Нет, товарищ Захаров, это не истерика, а боль за порученное мне дело, и вы своим, понимаете, спокойствием не козыряйте! Значит, вы равнодушный чиновник, если спокойно меня слушаете! Вот так вот! А это уж ваше дело!
Самохвалов бросил трубку, выругался и полез за «Казбеком».
– Ну что ты будешь делать, а? – как-то изумленно сказал он. – И все указания дает, все поправляет.
– Я, знаете ли, товарищ Самохвалов, иной раз во сне вижу прошлые годы, когда чувствовал себя солдатом: день кончился, а служба идет. Живи себе, отчеты пиши – не каплет. А теперь хочется рвануть, и права для этого, вроде бы, дали, ан нет, все за фалды норовят ухватить, перестраховщики проклятые.
– У вас валидола нет? Я свой дома оставил. – Самохвалов отложил папиросу.
– Э, миленький вы мой, так нельзя. Надо бы нам с вами еще увидеть небо в алмазах… Я валидол не употребляю, только коньячок: пятьдесят граммов – и никакой боли.
– За пьянство во время работы прогонят. – Самохвалов усмехнулся. – Ну, что у вас? По поводу трех локомотивов? Я подписал, теперь вам надо поднажать на министерство, я туда отправил.
Проскуряков вернулся к себе в главк только после трех. Он успел в столовую за полчаса до закрытия, но рассольник уже кончился, и отварная курица тоже была вычеркнута из меню. Проскуряков запретил приносить ему еду в кабинет и вместе со всеми обедал в столовой. Иногда буфетчицы оставляли для него рассольник и курицу, но сегодня работала какая-то новая буфетчица, и ему пришлось довольствоваться порцией бульона и зразами с гречневой кашей.
В приемной его ждали человек восемь.
Первым вошел журналист, с которым они беседовали неделю назад, – готовилось выступление нескольких хозяйственников, и Проскуряков «наговорил» большую, очень злую статью.
– Вот, – сказал журналист, – посмотрите, Юрий Михайлович, я тут записал ваши соображения. Если согласны, завизируйте.
Проскуряков взял карандаш и, делая быстрые пометки на полях, внимательно прочел все шесть страниц машинописного текста.
– Это, пожалуй, снимите, – попросил Проскуряков, – вот эту фразу. Я здесь как пророк вещаю: поскромней надо. Я лучше поставлю вопрос, а вы уж от своего имени выскажете рекомендации.
– Со всем остальным согласны?
– Иначе бы я не говорил всего этого.
Потом он принял уборщицу Ануфриеву, которой комиссия исполкома отказала в двухкомнатной квартире, потому что один из ее троих сыновей недавно получил жилье.
Выслушав Ануфриеву, Проскуряков сердито покачал головой и снял телефонную трубку.
– Так это же старший сын, Галина Федоровна, – говорил он секретарю исполкома, – у него своя семья, понимаешь? У Ануфриевой муж погиб в ополчении, одна трех хлопцев подняла. Двое-то с ней остались, причем один из армии пришел, не сегодня-завтра жену приведет.
Он долго слушал ответ Галины Федоровны, а потом, нахмурившись, хлопнул ладонью по столу.
– Товарищ дорогой, давайте же наконец вытащим всех из подвалов! Хорошо, я передам в ваш фонд площадь из моих резервов; пусть наш управдел Сагадеев подождет, ничего, их трое. Ануфриевой надо помочь. Что рабочие скажут, Галина Федоровна, об этом следует думать, об этом! Да… Вот именно. Не стоит нам с тобой в этом вопросе конфликтовать. Да… Ну хорошо. Это ответ. Спасибо тебе. Она завтра зайдет. Кланяйся своему Миколе Ивановичу.
Он положил трубку, вздохнул, устало потер лицо и поморщился:
– Да не плачь ты, Прохоровна. Иди завтра получай ордер.
Потом он принял товарищей из Таджикистана и Хабаровского края, провел летучее совещание с директорами двух заводов, посмотрел на часы – было уже семь, вызвал к себе плановиков и попросил их подготовить проект приказа, не дожидаясь бумаги из Госплана, поскольку двести тысяч на расширение ювелирно-аффинажной фабрики будут, как и просили, отпущены; вызвал машину и собирался было уезжать домой, когда дверь кабинета неслышно отворилась и вошел Пименов.
Проскуряков даже привстал с кресла от удивления и остро вспыхнувшего чувства тревоги.
Пименов быстро подошел к приемнику, включил его, настроил на «Маяк» и сказал:
– Плохо дело, Юрий Михайлович: Налбандов сгорел.
– Как? – шепотом спросил Проскуряков. – Арестован?
– Пока нет. Приехал в Москву, идиот, машину покупать, он за машину отца родного продаст, влип в историю и дал деру. А поддельный паспорт оставил здесь, в Москве, и весь товар на девять тысяч исчез – тю-тю…
– Ну и что делать?
– Так я за этим к вам и прилетел, – ответил Пименов. – Только вы не волнуйтесь, я дождался, пока секретарша ушла, так что мы одни.
Проскуряков достал из шкафа, где стояли ровные томики классиков и пухлые справочники, бутылку коньяка, налил себе пятьдесят граммов в зеленую мензурку и, покачав головой, странно усмехнулся.
– Вы что? – осторожно спросил Пименов.
– Так… Ничего, – откинувшись в кресле, ответил Проскуряков и закрыл глаза. – Смешная у нас жизнь, товарищ дорогой. Сейчас… отдышусь и поеду… Давай подскакивай в «Ласточку», там обсудим, что делать.
III. Вечер интеллигентного бандита
– Позвольте мне поднять этот бокал, – сказал Виктор Кешалава, – за режиссера, а в его лице за всю вашу группу. Мы, как я убедился сегодня, побывав на съемочной площадке и посмотрев вашу работу, ничего не знали о вашем, иначе не скажешь, рабском труде.
– Творчество – это свобода раба! – крикнул ассистент оператора Чоткерашвили. – Вам, инженерам машин, не понять инженеров человеческих душ!
– Не перебивайте, – попросил оператор, избранный тамадой на сегодняшнем субботнем вечере в «Эшерах», красивом ресторане, расположенном в горах, неподалеку от Сухуми. – Продолжайте, Виктор.
– Ваш труд, – продолжал Кешалава, – я хотел бы сравнить с трудом виноградаря. Не каждый знает, как много пота уходит на то, чтобы вырастить гроздь, напоенную солнцем, не каждый знает, как много труда уходит на то, чтобы снять ту гроздь, не каждый знает, сколько труда уходит на то, чтобы превращать виноград в сок, а уж сок сделать благородным вином. Зритель – как покупатель. Ни тот ни другой не знает, сколько кровавого пота уходит на то, чтобы сделать бутылку вина и чтобы создать фильм. Я пью за труд вашего замечательного режиссера, за здоровье большого художника Григория Марковича…
– Марка Григорьевича, – поправил Чоткерашвили, – имя и отчество режиссера – это вам не сумма слагаемых!
– За здоровье большого мастера, настоящего художника Марка Григорьевича! – продолжал Кешалава, быстро глянув на Чоткерашвили. – Пусть он вкусит плоды своего труда, как виноградарь, которого славят в песнях благородные горцы. Мы все знаем Марка Григорьевича как выдающегося представителя советской кинематографии, соратника великих мастеров мирового кино. За вас, мой дорогой! Всего вам лучшего! Исполнения всех ваших желаний!
Марк Григорьевич тяжело вздохнул – вчера из Ленинграда пришла телеграмма, в которой говорилось, что отснятый им материал раскритикован худсоветом, а этот фильм был его последней надеждой: предыдущие картины режиссера критика справедливо разносила за серость и холодное ремесленничество.
– Спасибо! – сказал Марк Григорьевич, поднявшись.
Маленькие глаза его после двух рюмок становились кроличьими, красно-синими. – Спасибо, Виктор! Но я хочу, чтобы вы все выпили со мной не за выдающихся, а за средних режиссеров – на них стоит мировой кинематограф, на их сединах и инфарктах рождаются Феллини, Антониони, еще там кто-то и прочие Крамеры! Будем здоровы, Леночка!
Актриса, прилетевшая из Москвы на съемки, чуть усмехнулась. Если бы не срочная надобность в деньгах, она бы никогда не согласилась сниматься у этого режиссера, но ей предстояло платить второй взнос за кооперативную квартиру, и поэтому пришлось взяться за работу, в которую она не верила.
Кешалава подсел к актрисе и сказал:
– Вы сегодня покорили меня своим искусством, Леночка. Я смотрел, как вы изумительно работали на площадке. Как тонко!..
– Экран покажет.
– Что?
– Это поверье у актеров. Экран покажет, как работала – хорошо или плохо.
– Вы не верите простому зрителю?
– Не верю.
– Отрываетесь от народа, Леночка, нехорошо. – Кешалава улыбнулся. – Можно вас пригласить на танец?
– Не сердитесь, пожалуйста. Я очень устала, мне бы до подушки добраться.
Кешалава отошел к метрдотелю, и через пять минут на столе появилось десять бутылок коньяка «Дойна».
Леночка заметила, как Марк Григорьевич затравленно посмотрел на оператора, тот – на заместителя директора картины Гехтмана, а Гехтман – на Чоткерашвили: эти десять бутылок составляли месячную зарплату режиссера-постановщика. Чоткерашвили чуть кивнул на Кешалаву – мол, это он заказал, все в порядке, никому из нас не придется платить.
– Позвольте еще одно слово? – обратился Кешалава к тамаде. – Я понимаю, что нарушаю очередность, но я коротко.
– Слово Виктору, – сказал оператор. – Второй дубль, – добавил он под смех группы. – Первый был слишком длинный, да и Марк Григорьевич оказался не в фокусе.
– Я хочу просить всех наполнить бокалы и поднять их за здоровье очаровательного человека, нежной женщины и великой артистки, которая покоряет сердца и умы зрителей! За Леночку! Она сказала сейчас, что очень устала, но этот коньяк взбодрит ее, придаст ей сил для того, чтобы и завтра продолжать прекрасную работу, которая никого не оставляет равнодушным.
Кешалава выпил первым до конца и посмотрел на Леночку. Она улыбнулась.
– Не сердитесь, Виктор, но я коньяк не пью. Я вообще не пью.
– Совсем ничего?
– Глоток шампанского – это моя доза. Спасибо вам, не сердитесь, бога ради.
Кешалава снова отошел к метрдотелю, и через несколько минут официанты принесли дюжину шампанского.
– Этот инженер, – сказал Марк Григорьевич оператору, – не иначе как по совместительству пишет сценарии. Двести за коньяк плюс шестьдесят за шампанское.
– Вы обязаны выпить глоток, – говорил Кешалава, наливая Леночке шампанское в высокий бокал, – это – солнце, во-первых; здоровье, во-вторых, и наконец, в-третьих, это – творчество!
Разъезжались из «Эшер» около двух. Кешалава попросил музыкантов задержаться, и еще часа полтора в ресторане шло веселье.
Ассистент Чоткерашвили сидел возле художника Рыбина. Тот катал по скатерти хлебные шарики и с тяжелой ненавистью смотрел на Марка Григорьевича.
– Как его пустили в искусство? – спрашивал он Чоткерашвили. – Зачем? Только наша демократия гарантирует права такой бездари… У него диплом – и все тут! Значит, его нельзя прогнать взашей. А ему важен тот момент, когда он влезает в соавторы к сценаристу и получает постановочные, больше его ничто не интересует. Он ведь и актеру-то ничего толком показать не может, актерам неинтересно работать, им делается скучно, когда они видят его сонную физиономию.
– А ты чего злишься? Тебе ж с ним спокойно – никаких требований! Рисуй себе этюды, готовь персональную выставку.
– Я в творчестве не спокойствия ищу, я ищу в работе гибели.
– Иди в верхолазы, – предложил Чоткерашвили. – С твоей комплекцией сразу в ящик сыграешь.
Кешалава все же уговорил Леночку потанцевать с ним. Он танцевал по старинке, далеко отведя левую руку и прижимая к себе Леночку тыльной стороной ладони.
– Прекрасный джазовый коллектив, – говорил он, – обидно, что они играют в таком вертепе.
– Здесь очень мило, какой же это вертеп?
– Ну, все-таки. Они могли бы давать сольные концерты. А вам можно выступать с сольными концертами?
– Когда? У меня театр, в свободные дни – съемки, да и сейчас как-то не принято играть отрывки из спектаклей в концертах.
– Простите за нескромный вопрос, Леночка. Сколько вам платят в театре?
– Сто двадцать.
– Сто двадцать за спектакль?
Леночка устало усмехнулась:
– В месяц, Виктор, в месяц!
– А за картину?
– Моя ставка – двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать. Вот и считайте.
– Вам должны платить сто рублей в день, Леночка!
Актриса улыбнулась.
– Я стану миллионершей, а это плохо, Виктор.
– Почему?
– Потому что это убивает творчество.
– Ну, не знаю, лично мне, когда я сыт, лучше работается. Простите, Леночка, а вы замужем?
– Замужем.
– Я бы на месте вашего мужа умер от ревности: такая красивая женщина разъезжает одна.
– Мы с мужем исповедуем свободу.
– Да? Это как?
– Ну как? Трудно это объяснить. – Леночка вздохнула. – Пытаемся выстроить систему мирного сосуществования.
Метрдотель подошел к Кешалаве и сказал:
– Извините, дорогой, но уже очень поздно.
Кешалава протянул ему деньги, но метрдотель отрицательно покачал головой.
– Нет, спасибо. Вы уже за все заплатили. Я другое имел в виду – последний автобус уходит в город, мне пора домой.
По дороге в Сухуми так громко пели песни, что усталый шофер обернулся и зло сказал:
– Тише, пожалуйста, у меня перепонки лопнут.
Кешалава передал ему бутылку коньяка.
– На, милый, выпьешь дома, а сейчас не сердись, люди веселятся.
Он проводил Леночку до дежурной по этажу, взял ключ от ее номера, отпер дверь, пропустил актрису вперед и, пока она включала свет, быстрым, кошачьим движением запер внутренний замок.
Леночка удивленно обернулась.
– Мне не хочется с вами расставаться, – сказал Кешалава. – Что, если я останусь, а?
– Вы с ума сошли. Уходите сейчас же!
Кешалава достал из кармана пиджака несколько крупных темно-красных камней. Он поиграл ими в ладони и положил на столик возле кровати.
– Гранаты… Каждый стоит сто рублей, Леночка! Их здесь тринадцать. Я люблю это число.
Он подошел к выключателю и погасил свет.
– Уходите прочь! – сказала Леночка.
– Зачем же так?
Он обнял ее и сильно привлек к себе.
Леночка уперлась локтями в его грудь и сказала:
– Я сейчас закричу.
– Ты не закричишь, лапочка. Зачем тебе нужен скандал? Что твой муж обо всем этом подумает? Ты ж сама меня впустила. Разденься, Леночка, давай по-хорошему.
– Пустите меня, Виктор, пустите!
– Нет, Леночка, не пущу.
– Но я же не смогу раздеться.
– Вот умница, – сказал Кешалава и разжал руки. В ту же минуту Леночка выбежала на балкон.
– На помощь! – закричала она что было сил. – На помощь! Ко мне!
В номерах стал загораться свет.
Из соседней комнаты на смежный балкон выскочил старик грузин.
– Что случилось, девушка?! Что случилось?!
– Что такое? – крикнул снизу дежуривший на площади милиционер. – Что там у вас?!
– Сюда! Скорей сюда!
Она кричала и все время боялась, что снова ощутит на своем теле быстрые, длинные руки Виктора, но в номере хлопнула дверь, и, когда вбежал запыхавшийся милиционер, а за ним на пороге появился полураздетый испуганный режиссер, Кешалавы в комнате уже не было. Только свет остро высверкивал в трех камушках, лежавших на стеклянном столике возле кровати, – видимо, Кешалава в панике не успел схватить все камни…
IV. Фактор времени
1
«В то время, когда вызванный мною следователь горотдела УВД Толордава допрашивал потерпевшую, актрису Торопову Е. Г., раздался телефонный звонок и человек, не назвавший себя, сказал Тороповой Елене Георгиевне, что если она донесет милиции о камнях, то он ее зарежет. Он предложил Тороповой взять себе оставшиеся на столике драгоценные камни, но никому не говорить, откуда у нее эти гранаты. Следователь Толордава попросил Торопову еще раз описать ему человека, и в результате проведенного оперативного мероприятия мы выяснили, что звонили из телефона-автомата № 679 около кафе “Мерани”.
Выделенные горотделом УВД спецгруппы блокировали вокзал и выезды из города по шоссе, пользуясь словесным портретом Кешалавы, составленным после допроса художника картины т. Рыбина А. К., ассистента режиссера т. Чоткерашвили Ш. У. и актрисы Тороповой Е. Г. Однако никто, похожий по приметам на Кешалаву, из города этой ночью не выезжал.
Зам. нач. отдела УВД
старший лейтенант милиции Джибладзе».
«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что экспертиза НТО Сухумского горотдела милиции после проведения исследования на выявление степени ценности гранатов (дело № 12–75-а) обнаружила на трех камнях следы снотворного (порошок белого цвета, без запаха), идентичного тому, о котором вы разослали ваши запросы 15.8.1971.
Начальник отдела уголовного розыска
майор милиции Шервашидзе».
«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что проверка гражданина Кешалавы Виктора начата по всем районам ГССР. Установлено 38 человек с этими именем и фамилией. Список прилагаю.
Зам. нач. отдела угро МВД ГССР
полковник Сухишвили».
2
Степанова разбудил телефонный звонок.
– Митя, привет, это Костенко.
– Здравствуй, старичок.
– Я не разбудил тебя?
– Что ты! Я начинаю трудиться с шести.
– Ну, слава богу. А то я испугался – у тебя голос сонный. Слушай, мне надо к тебе подъехать. Можно?
– Осел! Что значит «можно»?
– Это я демонстрирую уважение уголовного розыска к труду литератора.
– Ну, извини. – Степанов усмехнулся.
– Да нет, пожалуйста… – в тон ему ответил Костенко. – Значит, я через двадцать минут у тебя.
– Голодный?
– Сытый.
– Жду.
Костенко приехал ровно через двадцать минут.
– Я к тебе на полчаса, старина. Ты мне нужен в качестве эксперта по кино.
– Что-нибудь интересное?
– Пока гиблое дело. Верчу. Начнет проясняться – расскажу. Помоги с кинематографом, Митя.
– Никто не в состоянии помочь кинематографу, – пошутил Степанов. – Даже уголовный розыск. Что именно тебя интересует?
– В киногруппе целый день вертелся чужой человек. Потом этот тип исчез, а мне он очень нужен – мы его давно ищем. Подскажи, с кем мне там поговорить, я ведь этого киношного мира не знаю. У кого мне спросить, скажем, мог ли посторонний, находившийся во время съемок на площадке, попасть в кадр.
– Поговори с ассистентом режиссера, он имеет много контактов с людьми, потому что именно ассистенты отвечают за актеров и за реквизит.
– То есть?
– Ну вот завтра у тебя съемка, а тебе нужно пригнать в кадр слона. Ассистент едет в зоопарк, интригует заведующего, обещает достать высокие сапоги жене бухгалтера и привозит слона. После этого на него кричит директор, почему он уплатил больше нормы смотрителю, а режиссер кричит на директора и предлагает ему самому сыграть роль слона, а оператор сообщает, что солнце ушло, съемка в этот день отменяется, и ассистенту объявляют выговор.
– У тебя веселое настроение, Митя, это хорошо. Я бы посмеялся вместе с тобой, но у меня самолет. А мне надо выяснить, мог ли случайный в киногруппе человек попасть на пленку.
– Случайные люди могут попасть на пленку, Слава. Только скорее всего они попадут на пленку фотографа группы. Он обязан снимать каждую мизансцену. Вполне вероятно, что кто-то из посторонних может оказаться на втором плане. Поговори с гримерами. Попроси отобрать из сотни актерских фотографий те, где есть сходство – хотя бы типажное – с человеком, которого ты ищешь. Попроси их, наконец, загримировать актера под твоего подопечного. Если в группе был художник и он общался с тем гражданином Икс, попроси набросать портрет по памяти.
– У тебя какого-нибудь болеутоляющего нет?
– А что?
– Не знаю. Брюхо ноет. Вернее, болит. Говоря откровенно, чудовищно болит.
– Врачам показывался?
– Не рачок ли у меня, Митя?
– Идиот!..
– Это еще надо доказать… Ты же сам проповедовал, что наше поколение слабее пятидесятилетних, потому что те не знали радиации в детстве и городских шумов в юности.
– Это я проповедовал потому, что у меня у самого болело сердце и я думал, что перенес на ногах инфаркт. Ерунда. Отдохни недельку – и все пройдет.
– Левону тоже говорили – ерунда, все пройдет. А болело у него там же.
Костенко снова вспомнил Левона: за месяц перед смертью, когда он знал уже, что ремиссия кончилась и счетчик начал шершаво отсчитывать последние дни жизни, он позвонил Костенко и пригласил его на студию.
– Я хочу показать тебе материал, – сказал тогда Левон. – Кёс предложил мне сняться в его картине, я роль жулика играю…
Костенко приехал на «Мосфильм», и они сидели вдвоем в «яичном зале» (так в шутку называли маленький просмотровый зал, потому что он был декорирован ячеистыми картонками, в которые упаковывают яйца: выяснилось, что эти картонки хороши для звукопоглощения), и Левон пристально смотрел на Костенко, думая, что тот, увлеченный происходящим на экране, не видит его взгляда. А Костенко видел глаза Левона, он научился видеть все вокруг себя, и он видел в глазах друга такую боль, что в горле запершило, но он заставил себя засмеяться и, не поворачиваясь к Левону, сказать:
– Я не думал, что ты такой великолепный актер.
– Тебе не кажется, что я на экране выгляжу полным дохляком?
– Почему?
– Экран – хитрая штука, Славик… Он, как наждаком, сдирает всю неправду. Наивно думают, что грим спасет. Ерунда. Грим еще больше подчеркивает…
– Что именно подчеркивает грим?
Левон достал сигареты, протянул Костенко. Тот кивнул на табличку «Курить строго воспрещается». Левон отмахнулся:
– Правила написаны для того, чтобы их нарушать…
– Ты не ответил мне, Левон…
– Э, ерунда!.. Я хочу нарушить правила, которые мне предложили в клинике год назад… Только не говори, Слава, что я хорошо выгляжу, ладно? Тогда я приглашу тебя консультантом в мою новую картину.
3
Художник кинокартины Рыбин, набросав по памяти портрет Кешалавы, сказал:
– Все-таки, товарищ полковник, лучше вам поговорить с нашим фотографом. Вдруг у него есть снимок этого самого Кешалавы.
– Вот он, – обрадованно сказал фотограф группы Сурахитдинов, достав из закрепителя сильно увеличенный негатив. – Видите, возле Леночки стоит. Это было на натуре, мы тогда снимали эпизод неподалеку от ресторана «Эшеры». Много машин останавливалось: все интересуются кино… Вот он, Кешалава, видите? А мне как раз надо было сделать повторное фото Леночки – гримеры с ее прической совсем заврались. То она в кадре с косой была, а то оказалась с завивкой. Снимаем-то как? Сначала играем финал, а потом начинаем снимать начало. Без моих снимков каждой сцены можно все забыть, все напутать, а потом как фильм склеивать?
Костенко снова посмотрел на портреты Кешалавы, которые ему сделал Рыбин, и сказал:
– Похож, а? Так ухватить. Молодец ваш художник. Вы эту пленочку мне дадите часа на два, ладно?
– Хорошо.
– И не надо никому говорить, что мы с вами тут Кешалаву нашли.
– Понятно.
– Ай да художник, – повторил Костенко, – ай да глаз-ватерпас!
– Глаз-ватерпас – это когда водку по стопкам точно разливают.
– Каждый понимает слово в меру своей испорченности, – заметил Костенко и, забрав пленку, поехал в горотдел милиции.
Усталость, которая давила его последние дни, прошла – он сейчас чувствовал приближение серьезной работы.
Через пять часов после того как в Москву был отправлен портрет Кешалавы, по областным управлениям внутренних дел было разослано двести фотоснимков преступника.
4
– Товарищ Чоткерашвили, попробуйте восстановить в памяти, каким образом с вами познакомился Кешалава.
– На съемочной площадке, товарищ Костенко, это было на съемочной площадке… Операторы снимали сложный кадр, а Кешалава стоял рядом со мной и говорил, какой это каторжный труд – кино…
– А каким образом он оказался с вами в ресторане? У вас был какой-нибудь праздник?
– Да какой там праздник… Кончили работу, до города ехать час, решили скинуться и поужинать в «Эшерах».
– Кешалава ничего вам о себе не говорил?
– Сказал, что он инженер, приехал в Сухуми отдохнуть. Мы с ним перекинулись парой фраз – он наблюдал, как мы снимали сцену около «Эшер». Вероятно, услыхал, что мы решили поужинать, и пристроился к нам. Мы, кинематографисты, народ демократичный, не спрашивать же с каждого личный листок по учету кадров… Разговор у меня с ним был пустячный, он все на Леночку смотрел. Вроде бы, мне ничего конкретного не говорил.
– Он не говорил вам, где остановился?
– Нет. Зачем ему было говорить об этом, если я не спрашивал?
– Логично. Теперь вот что: он не рассказывал вам о своей узкой специальности? Инженер – это слишком общо.
– Он сказал, что занимается холодильными установками.
– Холодильными установками? А в связи с чем он вам это сказал?
– Он меня спросил на площадке: «Вы режиссер?» Я ответил ему, что я ассистент режиссера. И его спросил: «А вы?» – «Я инженер. А что такое ассистент? Заместитель?» – «Почти, – ответил я. – А вы инженер в какой области?» – «Холодильными установками занимался».
– Занимался? Или занимаюсь?
Чоткерашвили нахмурился, вспоминая, потом задумчиво посмотрел на Костенко и ответил:
– «Занимался». Он сказал «занимался». Он еще сказал: «Я сделал все мои дела и теперь хочу хорошенько отдохнуть. Хочу покейфовать вволю».
– Вот видите, как хорошо вы меня понимаете. Давайте-ка теперь сами помозгуйте в этом направлении. Меня интересует все, каждая мелочь, любая подробность, только в кратком выражении…
– «Подробно» только тогда подробно, когда кратко, – заметил Чоткерашвили.
– Это точно, – согласился Костенко. – Абсолютно точно. Итак?
– Одет он был очень изысканно. Не так, как одеваются пижоны, а очень скромно и дорого. Наша костюмерша, помню, сказала: «Так теперь шьют только три мастера в Союзе».
– А как зовут эту костюмершу?
– Любовь Трофимовна.
5
– Любовь Трофимовна, кто, по-вашему, шил костюм Кешалаве?
– Откуда ж я знаю, товарищ полковник. Я не Мессинг. Лучший закройщик делал – это точно. А таких раз-два, и обчелся.
– Давайте загибать пальцы.
– Что? – Женщина удивилась.
– Раз-два, и обчелся. Вот и начнем счет.
– Замирка.
– Что? – Теперь удивился Костенко. – Какая Замирка?
– Это фамилия закройщика в Москве. Замирка. Великолепно работает. Милютин и Гринберг в Ленинграде, Калнин в Риге и Тоом в Таллинне. Да, еще Куров хорошо шьет во Львове и Нимберт в Одессе.
– Вы говорили Чоткерашвили, что теперь так шьют только три мастера.
– Не помню я, что ему говорила.
– Ну, хорошо. А кто лучше всего шьет?
– Замирка, Гринберг и Милютин, – сразу же ответила женщина, и Костенко не мог скрыть улыбки.
«Все-таки женская логика совершенно разнится с нашей, – подумал он, – и с этим ничего не поделаешь. Сплошные импульсы и чувствования».
– Ну а Кешалаве кто из этих трех мог шить?
– Трудно сказать. Плечи вшиты по-американски, внутрь, а так теперь умеет только Замирка делать. Но Замирка больше любит букле, это фигуру утяжеляет, для худых это хорошо, торс кажется могучим. А цвет Замирка обычно предлагает нейтральный – серый, пепельный, коричневый. А у Кешалавы у этого синий костюм, гладкий, миллионерский.
– Почему миллионерский?
– Скромный. Очень скромный, но зато все линии отработаны, и шлицы – разрезы мы называем – замечательно сделаны, и пуговицы плоские, из ореха, а не пластмассовые. И главное – цвет. Синий цвет сейчас самый миллионерский. Наш автор рассказывал, как он в Нью-Йорке пошел на Уолл-стрит смотреть миллионеров. Ну вышли там из банка два мужика – все в переливных костюмах, ботинки на каучуке, подошва в ладонь, рубашки розовые, сели в красный автомобиль, и наш автор решил, что это и есть миллионеры, а ему спутник его, американец, показал на старикашку в синеньком костюме, который ждал такси. «Это, говорит, – настоящая акула бизнеса, а те пижоны – мелкие клерки».
Костенко посмеялся вместе с женщиной, – видимо, она очень любила эту историю о скромном миллионере и часто ее рассказывала, – а потом спросил:
– Любовь Трофимовна, а вот на мне какой костюм, можете определить?
– Венгерский. «Венэкс», пятьдесят второй размер, третий рост.
– В милицию не хотите перейти работать?
– У вас платят мало.
– Старыми сведениями пользуетесь.
Женщина улыбнулась.
– Тогда подумаю, товарищ полковник. Могу еще сказать, что пиджачок вам перешивали – обузили спину и рукава укоротили.
«Поскольку я работаю в ателье, то у меня нет свободного времени для работы на дому. Ничего добавить к этому показанию не могу.
Мастер-закройщик Замирка».
«В последние два года я не работаю дома, поскольку финорганы требуют непомерные налоги. Являюсь мастером-закройщиком ателье высшей категории № 67. Избран членом профкома.
Мастер-закройщик Милютин».
«Я работаю в ателье № 12 и дома заказов не принимаю. Больше добавить мне нечего.
Мастер-закройщик Гринберг».
С закройщиками работали параллельно: Костенко в Москве, подполковник Тимофеев в Ленинграде. Работали они по одной схеме, утвержденной начальником угрозыска страны.
Угро министерства действовал четко, как отлаженная машина, подчиненная некоему «закону ритма». Дежурные сидели у аппаратов ВЧ на связи с республиками и областями; люди в научно-техническом отделе в пятый и в десятый раз искали хоть малейшую зацепку, наново анализируя все то, что было привезено с мест происшествия; оперативные группы дежурили во всех автомагазинах страны; были блокированы аэродромы и вокзалы; работники архивов подняли старые досье на всех тех, кто когда-либо был связан с автомобильными аферами и мошенничеством. Преступник был обречен, все решало время, ибо ум, воля, опыт десятков и сотен людей были подчинены одной задаче – найти бандита и обезвредить его.
6
– Гражданин Замирка, – сказал Костенко, убирая в папку объяснение закройщика, – теперь мы с вами перейдем ко второй стадии нашего разговора.
– Можем перейти хоть к третьей, товарищ полковник, но от этого существо дела не изменится и я не напишу вам ничего нового. Не могу только не высказать удивления: неужели у вас нет более важных дел, чем проверять доносы соседей по лестничной клетке?
– Пишут? – поинтересовался Костенко.
– По-моему, у вас здесь на меня скопилась «Война и мир» из доносов. – Замирка усмехнулся.
– Надо бы почитать.
– Неужели государству – это я так, в порядке заметок на полях, – будет очень плохо, если мне позволят шить на дому?
– По-моему, нет.
– Я ездил туристом в Венгрию и ГДР; там, между прочим, тоже социализм, и ему не мешают портные, отдающие государству хорошие деньги в налоговые отчисления.
– Вы меня напрасно убеждаете в этом. Я согласен с вами, полностью согласен.
– Вы согласны, но попробуй-таки я шить, как меня сразу же тянут за хобот в ОБХСС и делают каким-то пособником классового врага.
Костенко устало прищурил глаза.
– Ладно. В отправных экономических оценках мы с вами сходимся. Теперь перейдем к шершавому языку юриспруденции. Я хочу просить вас подписаться вот тут. Предупреждение, что вы будете привлечены к уголовной ответственности за дачу ложных показаний по этому делу.
– По какому именно?
– Сейчас отвечу. И здесь, пожалуйста, распишитесь. Спасибо.
– Пожалуйста.
– Так вот. Сейчас я вам предъявлю для опознания фотографию преступника. У него костюм сшит первоклассным мастером. Первоклассным.
– Помилуйте, помимо меня в Москве есть еще двадцать первоклассных мастеров!
– С ними я тоже побеседую. Только сначала позвольте мне закончить, ладно?
– Слушайте, товарищ полковник, зачем вы делаете из людей преступников?! Зачем вы заставляете людей нарушать закон вместо того, чтобы приучать их следовать букве и духу закона? Ну я шью, шью! Я шью дома! Я не напишу этого, естественно! И у вас не будет доказательств. Я шью народным артистам, которым надо отстаивать престиж Союза в Каннах и Венеции! Да, я шью! Я патриот моей Родины, и мне обидно, если наши режиссеры поедут в Канны, одетые как выдвиженцы в пору военного коммунизма! Я хочу, чтобы они поехали туда как внуки выдвиженцев военного коммунизма, которые представляют державу Спутника! Да, да, я очень волнуюсь, когда говорю об этом, и не надо мне предлагать воду! Вода тут не поможет! А народные артисты и лучшие режиссеры никогда не предадут несчастного Замирку, для которого так дорог престиж советского художника! Я получаю за это деньги?! Так за престиж всегда платили! Я же не прошу себе государственной премии! Я прошу честной оплаты за честный труд!
– А я ведь с вами опять-таки не спорю, товарищ Замирка.
– Слава богу, из гражданина я снова стал товарищем.
– Посмотрите на это фото.
– Очень похож на Отара Чиладзе. «Отец солдата», помните?
– Помню. Только это не Отар Чиладзе.
– А я и не сказал, что это Отар. Я сказал, что он похож на Отара.
– Этот человек у вас не шил себе костюм? Он убийца и грабитель. Поверьте мне, я не хочу ловить вас, товарищ Замирка. Просто этот парень очень опасный бандит. А у нас мало данных, за которые мы смогли бы зацепиться.
– Товарищ полковник, клянусь вам, я не видел его ни разу в жизни.
– Я верю вам.
– Почему вам мне не верить?! Слушайте, дайте подумать до завтра, и я подскажу, с кем стоит о нем поговорить. Он шил из своего материала или пришел к мастеру голый?
Костенко вздохнул:
– Милый человек, если б мы знали, с какими материалами он ходит.
Зазвонил телефон. Костенко снял трубку.
– Алло, товарищ полковник, это Тимофеев. У Кешалавы на послезавтра назначена примерка. Он заказал себе два костюма как раз накануне того дня, когда вы приезжали по последнему эпизоду. То есть в день перед ленинградским убийством он пришел к Милютину шить обновки.
7
Совещание у комиссара, начальника управления МВД Союза ССР, началось сразу же, как только Костенко систематизировал и разложил по числам все полученные за последние часы материалы.
– А если он, пока мы его станем водить, отравит еще одного человека? Вы можете дать гарантию, что этого не случится? – спросил комиссар.
– Могу. Пожалуй что могу.
– Мне импонирует ваша уверенность, полковник. Но его профессия отлична от вашей. Он людоед. Понимаете? Он спокойно наблюдает за тем, как отравленные им люди медленно умирают, а потом, надев перчатки, спокойно их грабит и не забывает взять со стола бутылку и стакан… Это – хладнокровие людоеда… Допустите на миг, что он ушел от слежки, сел на другой самолет и встретился с очередной своей жертвой. Попробуйте «проиграть» свое состояние, когда он оторвется от наблюдения.
– Попробовал. – Костенко нахмурился.
– Ну и как?
– Его надо брать.
– Я понимаю, что этим усложняем себе задачу, усложняем до предела. Когда вы возьмете Кешалаву, вам предстоит поединок, сложный поединок, и я убежден – вы этот поединок выиграете. Во всяком случае, добьетесь, как говорят спортсмены, преимущества и захватите инициативу. А когда вы установите, где теперь так называемый Урушадзе, зачем он скрылся из больницы и почему этот человек воспользовался чужим паспортом, ваша позиция сразу же укрепится.
– Урушадзе мы сейчас ищем так же тщательно, как и Кешалаву. Я не знаю, кто сейчас для нас важней.
– С точки зрения профессиональной, – заметил комиссар, – конечно же, Урушадзе. Он есть ваше главное доказательство. Однако с точки зрения ЧП, с которым мы столкнулись, все-таки Кешалава важней. Не поймите меня так, что я против разработки линии Урушадзе, отнюдь. Просто давайте научимся отделять злаки от плевел – древние в этом смысле были мудрей нас. И прочитайте вот это письмо, – сказал комиссар, – министр просил ознакомить вас с этим письмом. Можете прочитать вслух, пусть все послушают.
«Уважаемый товарищ министр!
Обращается к вам Кикнадзе Мария Илларионовна, вдова убитого в Свердловске Кикнадзе Шота Ивановича. Товарищ министр, мой муж тридцать лет работал бригадиром в нашем совхозе, прошел войну, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Его все любили в районе. А какой он был отец! Осталось у меня на руках шесть сирот. Младшему – восемь лет… Последние пять лет все наши трудовые сбережения муж откладывал на машину марки “Волга” в экспортном исполнении. Все деньги, которые мы скопили, у него украли, и мы остались с детьми без средств к существованию. А преступники до сих пор не найдены. Я каждый день хожу в нашу милицию, но мне говорят, что идет работа. Сколько же будет идти работа?! Один сотрудник сказал, что нечего было за машиной ездить к спекулянтам. А разве бы он поехал в Свердловск, если бы можно было пойти в наш магазин и купить “Волгу”?! Зачем класть тень на покойного?! Он свои деньги заработал честным трудом и к спекулянтам никогда в жизни не обращался, потому что был замечательным и честным человеком. А еще я вас прошу, товарищ министр, пусть нотариус перепишет на меня дом, чтобы его продать, потому что нечем кормить детей, а нотариус говорит, что я войду во владение только через полгода, потому что, может, у него еще какая жена была раньше или есть братья, которые свою долю захотят. Тут такое горе, человек погиб, незабвенный Шота Иванович, а они такое про него говорят. Я-то сама только для того на свете осталась жить без него, что детишек жалко. Товарищ министр, вы скажите тем милиционерам, которые ищут ирода, что Шота Иванович был самым хорошим человеком на земле, таких других и нету. Как он с детишками любил играть! И с дочками играл наравне с сыновьями, никого никогда не обижал. Как кому помочь надо было, так он свое откладывал и к людям шел. Он для людей ничего не жалел, а его убили.
Остаюсь с уважением к вам М. И. Кикнадзе».
8
– Алло, это съемочная группа «Карнавала»?
– Да.
– Кто говорит?
– Васильев, помреж.
– А… Здравствуй, помреж.
– Здравствуйте. Кто это?
– Костенко это.
– Добрый день, полковничек.
– Мне сказали, что Торопова сегодня у вас снимается?
– Верно сказали, ЧК не дремлет.
– Попроси ее позвонить мне.
– Не будет она вам звонить.
– Это почему ж, Мишаня?
– А потому, что она рассказывала, как ее в Сухуми обижали, а милиция ушами хлопала на первом этаже.
– Кто ее обижал, не говорила?
– Говорила. Все говорила. Гаденыш, бандит с драгоценными камнями. Стрелять такую сволочь надо.
– Что ты говоришь?! Значит, бандитов стрелять надо?! Значит, если я его поймаю, ты мне спасибо скажешь?
– Скажу.
– Подонок ты, брат, – сказал Костенко. – Настоящий трусливый подонок.
– А ведь это оскорбление, полковничек.
– Это правда, а не оскорбление. Может, я именно этого бандита искал и тебя просил помочь. Что молчишь? А?
– Хотите, я к вам заеду?
– Зачем?
– Поговорить.
– О чем?
– Я же не знал, что это он.
– А я и сейчас не убежден, что это он. Приезжать ко мне не надо, Васильев. И говорить я с тобой не хочу. Живи себе, помреж. Только Торопову попроси мне позвонить.
V. Человек, изучивший кодекс
1
Кешалаву взяли в Ленинграде в тот момент, когда он примерял пиджак. Обернувшись, он удивленно спросил сотрудников, предъявивших ему постановление на арест: – А в чем, собственно, дело, товарищи?
– Вам это объяснят.
Кешалава пожал плечами:
– Можно надеть пиджак или вы повезете меня в рубашке?
– Зачем же в рубашке? В рубашке холодно. Только мы сначала вас обыщем.
– У вас есть на это соответствующее разрешение?
– Вот. Ознакомьтесь.
– Понятно. Пожалуйста, я к вашим услугам.
Кешалава был спокоен, только побледнел, и в уголках его рта залегли решительные, не по годам резкие морщины.
…Через три часа его привезли в Москву.
– Ну, здравствуйте, – сказал Костенко. – Надеюсь, вы понимаете, в связи с чем задержаны, Кешалава?
– Нет, я не понимаю, в связи с чем я арестован.
– И мысли не допускаете, за что вас могли взять?
– И мысли не допускаю.
– Понятно, – задумчиво протянул Костенко и подвинул Кешалаве сигареты. – Курите.
– Я не курю.
– Долго жить будете.
– Надеюсь.
Костенко неторопливо закурил: он ждал, когда Кешалава снова спросит его о причине ареста, но тот молчал, спокойно разглядывая кабинет.
– Вот вам перо и бумага, напишите, пожалуйста, где вы жили и чем занимались последние три месяца.
– Я не буду этого делать до тех пор, пока не узнаю причину моего задержания.
– Вы обвиняетесь в попытке изнасилования, – сказал Костенко и чуть откинулся на спинку стула: он с напряженным вниманием следил за реакцией Кешалавы на предъявленное обвинение. Как правило, человек, совершивший особо крупное преступление, узнав, что его обвиняют в другом, менее серьезном, выдает себя вздохом облегчения, улыбкой, переменой позы, наконец. Однако Кешалава по-прежнему был очень спокоен, и выражение его красивого лица ничуть не изменилось.
– Вот как? Кто же меня в этом обвиняет?
– Вас обвиняет в этом актриса Торопова.
– Простите, но среди моих знакомых Тороповой нет.
– Елена Георгиевна Торопова – не знаете такую?
– Ах, это Леночка? Вы так торжественно произносили фамилию, будто речь идет о Софи Лорен.
– Значит, Леночку Торопову вы знаете?
– Да.
– Где вы с ней познакомились?
– В Сухуми, на съемках.
– Вы признаете себя виновным?
– Нет, не признаю.
– Тогда я повторю мою просьбу: напишите мне, как вы проводили последние три месяца, где жили, чем занимались.
– Насколько я мог вас понять, меня обвиняют в попытке изнасилования. Я познакомился с Леночкой в Сухуми неделю назад. Почему вам требуются прошлые три месяца? Я не совсем увязываю обвинение с вашей просьбой.
– Обстоятельства, сопутствовавшие вашему посещению номера Тороповой, таковы, что они, именно они, эти обстоятельства, – медленно говорил Костенко, затягиваясь и делая длинные паузы, – вынуждают меня просить вас об этом. За последние три месяца были зафиксированы серии подобного рода изнасилований. Ясно?
– Каковы эти обстоятельства?
– Ну, знаете ли, у нас получается какой-то непорядок: не я вас допрашиваю, а вы меня, Виктор Васильевич. Если вам не угодно написать о том, где и как вы жили последние три месяца, мне придется задавать конкретные вопросы. Предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний, – сказал Костенко, включая магнитофон. – Вам об этом известно?
– Читал в романах.
– Следует понимать так, что вы к судебной ответственности не привлекались? – Костенко прищурился.
– Именно так.
– Сегодня у нас пятнадцатое сентября. Меня интересует, где вы находились пятнадцатого июня.
– Я дневников не веду. В июне я жил на море.
– Где именно?
– У меня расшатана нервная система, поэтому я долго нигде не засиживался. Бродил по берегу, забирался в горы. Июнь – месяц теплый, спать можно всюду.
– Значит, вы все эти месяцы ни в гостиницах, ни на частных квартирах не жили?
– Ну почему же? Жил, конечно. И в Сочи жил, и в Очамчири, и в Гагре. В Батуми жил, в Новом Афоне. Получить номер довольно трудно, поэтому точно вам ответить, в каких именно городах я ночевал в гостиницах, не могу, но вы это легко установите, обратившись к администраторам.
– Вот я и хочу это сделать. Только надо, чтобы вы помогли мне. В каких именно городах из перечисленных вами вы останавливались в отелях?
– В Сочи я жил в «Интуристе». В Батуми – тоже. В Гагре я, кажется, ночевал на частных квартирах.
– Адрес не помните?
– Точный не помню, где-то возле рынка.
– В Сочи вы были в июне? Или в июле?
– Что-то в конце июня. Я прошел пешком от Сочи до Сухуми – по берегу.
– Помогало?
– В чем?
– В лечении нервной системы.
– Да. Очень.
– Собирались в этом году продолжить занятия в аспирантуре?
– Почему «собирались»? Я собираюсь это сделать, как только мы кончим рассмотрение предъявленного мне вздорного обвинения.
– Вы убеждены, что врачи позволят вам это сделать?
– Да, я прошел комиссию.
– Когда?
– Неделю назад. Ваши сотрудники отобрали все мои документы – там есть справка врачебной комиссии.
– А что у вас было с нервами?
– Усталость, раздражительность, бессонница.
– Элениум пили?
– Нет, у меня были другие медикаменты.
– Раздражительность прошла?
– Почти.
– Усталость?
– Прошла совсем.
– Сон?
– Наладился.
– Спали под шум волн?
– Именно.
«Он! – отметил для себя Костенко. – А зачем снотворное в кармане, если сон наладился?»
Костенко просмотрел несколько листков на столе и спросил рассеянно:
– Скажите, а как к вам попали эти самые драгоценные камни? Гранаты?
– Не понимаю вопроса.
– Вы оставили в номере у Тороповой три крупных драгоценных камня.
– Здесь какое-то недоразумение.
– Вы не верите Тороповой?
– Если она говорит, что я оставил у нее камни, то, конечно, я не могу ей верить. Если бы вам это говорили свидетели…
«Парень хорошо изучил кодекс, – снова отметил Костенко. – Гвозди бьет по шляпке».
– Вы к ней в номер входили?
– Да.
– Зачем?
– Чтобы донести ее сумку с костюмом и пальто.
– А что было потом?
– Потом я зашел в отель «Абхазия» к моему тбилисскому знакомому, переночевал у него – было ведь около трех часов утра – и назавтра уехал в Сочи.
– Поездом?
– Нет, на попутке. А оттуда я прилетел в Ленинград.
– А зачем вы приехали в Ленинград?
– Я обязан отвечать на этот вопрос?
– Обязаны.
– В Ленинграде меня консультировал профессор Лебедев, и я решил показаться ему перед тем, как приступить к занятиям.
– Вы помните фамилию вашего знакомого, у которого вы ночевали в «Абхазии»?
– Конечно. Гребенчиков Анатолий Львович.
– Адрес?
– Я не знаю его адреса. Он преподаватель математики в нашем институте.
– В какой клинике работает профессор Лебедев?
– В военно-медицинской академии.
Костенко снял телефонную трубку и начал звонить в Ленинград и Тбилиси с просьбой проверить показания Кешалавы. Он намеренно это делал сейчас и, наблюдая за арестованным, все более поражался его спокойной уверенности.
– Продолжайте, пожалуйста, – сказал Костенко.
– А мне, собственно, нечего продолжать. Если у вас есть вопросы, я готов ответить на них.
Костенко, не торопясь, снова закурил.
– Вопросов у меня много, но вы, я вижу, устали. Отдохните в камере, завтра мы продолжим нашу беседу.
– Я хочу написать письмо прокурору. Вы позволите?
– Да, пожалуйста.
Когда Кешалаву увели, Костенко еще раз прослушал запись допроса и сделал на листке бумаги несколько замечаний:
«1. Зачем нужно снотворное, если сон наладился? Возможный ответ: “Кто страдал бессонницей, тот всегда таскает в кармане снотворное”. – “А откуда к вам попало такое сверхсильное средство?” – “В политехническом есть химфак, а там есть друзья”. – “Кто?” И тут он, сукин сын, назовет имя».
«2. За последние три недели вы только на одни костюмы истратили “семьсот рублей, не считая гостиниц и пятисот рублей в “Эшерах”. Откуда деньги?” – “Отец помогает”. – “Ложь, мы с отцом говорили”. – “И троюродный брат. Такой-то”. А там уже все оговорено заранее: версия прикрытия».
Костенко связался с научно-техническим отделом грузинского МВД и попросил внимательно посмотреть все карманы в костюмах Кешалавы, которые висели у того в гардеробе.
Судя по показаниям костюмерши, на Кешалаве при аресте был тот же синий пиджак с двумя шлицами и «рукавами, вшитыми по американскому раскрою».
Костенко не стал «раздевать» Кешалаву в кабинете: это могло бы насторожить арестованного. Зная, что Кешалаву не судили и никогда раньше аресту не подвергали, он решил «раздеть» его в тюрьме, пригласив понятых, мотивируя это необходимостью проведения судебно-медицинской экспертизы: «Ищем следы крови; насильник избивал женщин».
После этого Костенко написал запросы врачам, лечившим Кешалаву. Его интересовало, в частности, показаны ли были Кешалаве снотворные, и если да, то какие именно.
К концу дня позвонили из Ленинграда:
– Товарищ полковник, профессор Лебедев действительно наблюдал больного Кешалаву. Профессор воевал вместе с Кешалавой-старшим, и тот попросил осмотреть сына. Говорит, у парня расшатаны нервы.
– Объективные показатели: давление, например? Кардиограмма?
– Это все в норме. Бессонница, раздражительность.
– Сделайте копию с истории болезни и вышлите мне немедленно. Посмотрите, какого числа он был у профессора на приеме.
– А чего же смотреть? Я все выписал. Сейчас, минуточку. Значит, так. Девятого июня, двадцатого июля и тринадцатого августа.
Тринадцатого августа в Ленинграде, в гостинице «Южная», был убит человек – в водке снотворное, особо сильное, недозированное, – через шесть часов наступила смерть.
– В какое время он был у Лебедева на приеме?
– Утром. В десять.
«Костюм он заказывал днем, – отметил Костенко. – Значит, сразу от портного он поехал в автомагазин. Если это он. А мне, судя по всему, очень хочется думать, что это был именно Кешалава. Почему? Рассуждение от противного? Невиновный, взятый под стражу, будет бушевать или останется спокоен, но не так спокоен, как Кешалава. Он будет скрывать гнев, обиду, волнение. А этот ведет себя как актер, точно отрепетировавший сцену. К сожалению, это не доказательство. К делу это не пришьешь».
Сухишвили позвонил около семи, когда Костенко собирался уходить домой.
– Слава, милый, задержался, прости! Но зато я Гребенчикова прямо сюда привез, сейчас я его приглашу в кабинет и передам ему трубку.
– Ты гений, Серго, – сказал Костенко, – мадлобт, генацвале, спасибо тебе.
Гребенчиков долго кашлял в телефон. Он кашлял так близко и громко, что Костенко был вынужден далеко отстранить трубку. Пока Гребенчиков кашлял, Костенко успел записать на бумаге три вопроса, – он любил перед допросом, даже таким странным, по телефону, прочесть те вопросы, какие хотел задать.
– Скажите, пожалуйста, вам фамилия Кешалава известна?
– Виктор? Конечно. Он наш аспирант.
– Когда вы его последний раз видели?
– В Сухуми. А что?
– Он был у вас в гостинице?
– Он ночевал у меня. А что случилось?
– Сейчас объясню. Он был пьян?
– Ну что вы… Нет… Он не пьянеет, он хорошо пьет… Он со своими друзьями из киногруппы выпил немного сухого вина в «Эшерах». А что случилось?
– Тут на него женщина жалуется, говорит, плохо он себя вел, обидеть ее хотел.
– Этого не может быть, – сразу же ответил Гребенчиков, – они все штабелями перед ним валятся: такой красивый парень, такой интеллигентный.
– А когда интеллигентный парень от вас уехал?
– Рано утром. Мы поехали в «Эшеры» – это его любимый ресторан, там позавтракали, и он на попутке уехал в Сочи.
– Ну спасибо вам, трубочку теперь полковнику передайте.
Сухишвили спросил:
– Как? Что-нибудь есть?
– Ничего нет, Серго. Кроме того, что уже известно, – ничего. Ты побеседуй с этим Гребенчиковым, ладно? Спроси, с кем Кешалава дружит, с кем дружил, нет ли среди его дружков химиков.
– Завтра жди моего звонка.
«Если бы не эти камни, – подумал Костенко, запирая в сейф бумаги. – Кешалаву нужно сразу отпускать с извинением. Показания Тороповой никем не подтверждены, это он прав. Без исчезнувшего из больницы Урушадзе я ничего с этим парнем не поделаю, я не смогу прийти в суд без улик, меня на тачке оттуда вывезут».
2
Поднявшись на четвертый этаж, Костенко зашел к Садчикову.
– Ну что, дед, – спросил он, – есть какие-нибудь новости из Пригорска?
– П-пока никаких, – ответил Садчиков, – но там роют землю.
– Плохо роют.
– П-примем меры, товарищ полковник, – пошутил Садчиков. – Простите за н-нерадивость.
– А в чем дело? Почему так долго?
– Видишь ли, С-слава, там б-болен их начальник ОТК, а без него трудно подойти к технологии.
– Мне не нужна технология.
– Я имею в виду тех-хнологию возможных хищений.
– Когда он выздоровеет, этот ОТК?
– Неизвестно. Он уехал в командировку и там заболел.
– Вызвать нельзя?
– Пытались.
– Ну и что?
– Не могут доискаться. Он прислал телеграмму: «Тяжело болен. Налбандов». И все.
Костенко вдруг поднялся с края стола – он всегда, еще с того времени, когда работал на Петровке, 38, любил сидеть на краешке стола, – полез за сигаретами и, еще не веря в удачу, тихо спросил:
– Когда он уехал в командировку? И куда?
Садчиков вздохнул:
– М-можно завтра, Славик?
– Дед, прости, милый, нельзя.
Садчиков открыл сейф, достал папку, долго листал телефонограммы и перебирал бумажки, потом ответил:
– З-значит, так. Налбандов Павел Иванович выбыл в Москву в командировку пятого сентября сего года по приказу заместителя директора Гусева.
– А шестого отравили Урушадзе.
– Мне с-скучно с тобой, К-костенко. Я понимаю тебя д-даже без взгляда в глаза. А еще говорят, что телепатия – лженаука. Кибернетика тоже считалась, между прочим, буржуазной лженаукой. Ты хотел спросить меня: п-просил ли я наших коллег показать фотографию с паспорта исчезнувшего Урушадзе на ювелирной фабрике?
– Точно.
– Слава, дорогой, именно поэтому ты теперь м-мой начальник, а я д-дожидаюсь пенсии. Ты умнее меня и моложе, и эти два ф-фактора трудно оспорить, как это н-ни печально для меня и благоприятно для общества.
– Значит, не показывали?
Садчиков отрицательно покачал головой и снял трубку.
3
«Фотография, снятая с паспорта Урушадзе Константина Ревазовича, предъявлена директору завода Пименову, заместителю директора завода Гусеву и начальнику отдела кадров Бурояну. Лицо, изображенное на фотокарточке, ими опознано – это начальник ОТК фабрики Налбандов Павел Иванович.
Начальник отдела
управления уголовного розыска МВД
Армянской ССР полковник Токмасян».
VI. Личные связи
1
Проскуряков умел анализировать свои поступки и настроения, глядя на них как бы со стороны. Это качество развивалось в нем исподволь: он и не догадывался об этом до того времени, когда однажды не приехал Пименов и не привез огромный, странной формы рубин.
– Передайте, товарищ Проскуряков, супруге – от меня ко дню ангела.
– Ты что?! – сказал тогда Проскуряков. – С ума сошел?! Это же подсудное дело! Забери и забудь об этом раз и навсегда!
– Юрий Михайлович, вы погодите бледнеть, дорогой мой человек. Этот камень я во время отпуска сам нашел, это ж отдых у меня такой – по горам лазать! Одни водку жрут, другие по бабам шлендают, а я камни ищу, что здесь предосудительного?! Недра-то у нас кому принадлежат? То-то и оно – народу. И обработал я камень сам, руки-то мастеровые, Юрий Михайлович, мне труд в радость.
– Сколько ж такой камень стоит?
– Он уникальный, Юрий Михайлович, его оценить трудно, да и ни к чему: разве можно оценить рисунок ребенка, который он дарит матери? Или рисунок Репина! Это ж кощунство – оценивать искусство! – Пименов посмеялся. – Искренность ребеночка тоже поди оцени. Не оценишь ведь. Сколько он сердечка в свой рисунок вкладывает?!
– Ты мне, Пименов, не крути, – тихо сказал Проскуряков. – Ты сразу мне говори: чего хочешь?
– Я? Юрий Михайлович, да что вы! Если вы меня так понимаете…
– Не глупи, Пименов. Не глупи. Потом тебе труднее будет к этому разговору возвращаться.
Пименов замер на мгновение, и Проскурякову даже показалось, что тот обмяк в кресле, делаясь маленьким, как надувная резиновая кукла, из которой выходит воздух.
– Закурить позволите? – осторожно глянув на Проскурякова, спросил Пименов.
– Кури.
– Может, в другом месте побеседуем, Юрий Михайлович?
– А зачем? Мне некого бояться. Что, думаешь, слушают нас? Честных людей теперь не слушают, Пименов. Пименов поднялся, так и не закурив.
– Чего-то я не очень все понимаю. Вы извините, Юрий Михайлович, если я что не так сказал.
– Сядь. Презумпция невиновности – слыхал про такое?
– Приходилось.
Проскуряков включил приемник, вышел из-за массивного, ручной резьбы стола и сел в кресло напротив Пименова.
– Успокоился?
– Успокоился, Юрий Михайлович. Вы спрашивали, чего я хочу, да? Так вот, я отвечу вам. Я хочу, чтобы вы моему производству помогали не по должности, а по сердцу.
– То есть ты хочешь, чтобы я тебе в первую очередь давал станки, фонды на стройматериалы и утверждал тебе смету получше?
– Да, Юрий Михайлович. Я ничего непредусмотренного не хочу. Я ведь презумпцию невиновности тоже по-советскому, по-нашему понимаю.
– А взятку мне зачем суешь? Этот камень стоит рублей семьсот, Пименов, я в этом деле, конечно, не такой дока, как ты, но смысл понимаю. «Жене ко дню ангела». А я такой доверчивый, да? Сижу тут у себя в кабинете, на «Волге» раскатываю и ничегошеньки вокруг себя не вижу – ты, верно, так полагал?
– Нет, я так не полагал, Юрий Михайлович. Полагая так, я бы вам этот камень не рискнул предложить, – зло сощурившись, медленно ответил Пименов. – Я знаю, где вы с экономисточкой из отдела труда и зарплаты встречаетесь. Я знаю, в какие кафетерии вы с ней ходили на первой, так сказать, стадии романа. Но я не знаю, где вы достали деньги, чтобы она внесла пай на кооперативную квартиру. Вы человек честный, это всем доподлинно известно, и поэтому вам будет очень трудно, Юрий Михайлович, расплачиваться с долгами.
Проскуряков тогда взял со стола папку с письмами директоров фабрик, нашел там докладную записку Пименова с просьбой выделить для нужд развивающегося производства токарные станки и сверлильный полуавтомат, попросил у Пименова ручку и написал размашистую резолюцию: «Отказать! Нельзя думать только о своем предприятии, надо научиться в первую голову думать о развитии отрасли».
– На, – сказал он. – Держи. Чтоб тебе зря в Москве деньги в гостинице не проживать.
Пименов внимательно прочитал резолюцию, виновато улыбнулся, аккуратно сложил докладную записку и спрятал во внутренний карман пиджака.
– До свидания, Юрий Михайлович, – сказал он, поднимаясь. – Извините, если что не так. Я к вам шел с открытым сердцем, хотите – верьте, хотите – нет.
Когда он взялся за ручку двери, Проскуряков его окликнул и попросил вернуться.
– Садись, – сказал он хмуро и вздохнул. – Хорошо, что не стал меня стращать: если, мол, вы про меня, так и я на вас. Ты на мою резолюцию пожалуйся. Напиши, что, мол, и не понял смысла твоей просьбы, пусть профком тебя поддержит, общественность. Понял?
– Понял. Не один раз ведь придется.
– Это как дело пойдет.
– Понял, – повторил Пименов и, забыв спросить разрешения, закурил «Север», достав папиросу чуть трясущимися пальцами.
– Камень-то свой забери, – сказал Проскуряков. – Он мне не нужен, тут ты ошибку допустил, чудак человек.
Пименов спрятал камень и, приблизившись к Проскурякову, сказал уверенно и грустно:
– Деньги нужны? Понимаю. Вот на первое время, Юрий Михайлович. Тут тысяча.
– Это не деньги, Пименов. Это треть денег за мой тебе отказ. Мне нужно три тысячи. Ясно? Прямо сейчас. А то могу решить, будто ты меня дешево ценишь и за дурачка принимаешь.
– У меня с собой еще полторы. Я доеду и вернусь мигом, если обождете.
– Ладно. За тобой останется. Когда мне понадобится, тогда я тебе просигналю. И давай уговоримся: каждую третью твою просьбу я буду заворачивать, понял? А эти деньги, что ты мне в долг дал, я верну, со временем выплачу до копейки. Проценты не попросишь? Или чтоб как в сберкассе?
2
Три года все шло, как и раньше. Проскуряков был таким же, каким был всегда. Он твердо сказал себе, что взяток не берет, что деньги, которые ему вручал Пименов, взял в долг; получил он в общей сложности шесть тысяч. Этого хватило на квартиру «экономисточке» Оле, на мебель и на три их с Ольгой поездки в Гагры. Дома его жизнь шла по-прежнему – скучно, размеренно, на зарплату.
Все изменилось год назад, когда Пименов, приехав в очередную командировку, разложил перед Проскуряковым схему. Получалось по этой схеме, что за три года главк по личным предписаниям Проскурякова выделил Пригорской ювелирно-аффинажной фабрике дефицитных фондов и станков больше, чем всем другим предприятиям, однако на фабрику пришла только третья часть отпущенных материальных ценностей общей стоимостью на шестьсот сорок тысяч рублей.
– Получается так, Юрий Михайлович, – сказал тогда Пименов, – что ты, воленс-ноленс, стал фактическим главой нашей фирмы. Я ведь те станки, что ты нам выбил, и медь с алюминием не турку продал, а приспособил для дела, для большого дела. По мастерским я эти станки распределил, по верным моим людям, и производят эти станки товары опять-таки не для турка, а для советского человека. И если я это производство отладил, то тебе теперь пора его возглавить. Куда ни крути, как от этого ни уходи, а уйти никуда не уйдешь. Пойми меня верно, Юрий Михайлович, я тебя не запугивать собираюсь, не вербовать, я тебе правду говорю: придешь с повинной, получишь десять лет, а сами заберут, так максимум пятнадцать. В нашем возрасте эта разница – не разница. Будешь слушать или погонишь меня из кабинета?
Анализируя себя и свои поступки после этого разговора, Проскуряков в который уже раз поражался тому, как гибок человек и способен к самовыгораживанию. Он точно помнил строй тогдашних своих размышлений. Когда Пименов объяснил ему структуру предприятия и рассказал, что в основу дела положена категория дефицита, он долго сидел молча, неторопливо затягиваясь «Герцеговиной Флор». (Единственное, что он себе позволил, получив лишние деньги, так это сменить «Казбек» на «Герцеговину»: он чувствовал себя значительнее и спокойнее, когда курил эти папиросы.)
Он мог бы на этом этапе остаться прежним Проскуряковым – так казалось ему. Стоило только снять трубку и позвонить, куда следует звонить в таких случаях. Но он остановил себя, потому что не совсем точно понимал, куда именно в этом конкретном случае надо звонить. То ли в министерство, к Константину Павловичу, то ли сразу в милицию.
«В конце концов, – думал он, – факт получения мною этих проклятых шести тысяч недоказуем. А мои отказы на некоторые прошения Пименова лежат в архиве. Там же есть и его обращения в вышестоящие инстанции с жалобами на мои отказы. Выходит, я помогал ему под давлением сверху. И опять-таки недоказуемо, что именно я направлял его в эти стоящие надо мной инстанции и что именно я объяснял ему, как следует формулировать просьбы, мотивируя их требованиями технического прогресса и повышения производительности труда. Вой поднимет? Видимо. Ну снимут меня. Ну и что? Буду работать простым инженером. Впрочем, инженером меня не поставят – высшего образования нет. Вот где главный мой промах: все в кресло лез, все поскорей хотел выбиться в люди, а надо б институт кончить – диплом, он как железная кольчуга теперь. А, черт с ним, завхозом поставят, ну и что? Все свобода, а не тюрьма».
Но он сразу же представил себе будущую жизнь свою – на восемьдесят рублей в месяц; жену, которая и так пилит его, что мало денег; он представил себе, что каждый вечер ему придется проводить дома, и не будет уже спасительных «совещаний», когда он мог спокойно бывать у Ольги, и не будет командировок по обмену опытом, куда он мог ездить вместе с ней, – словом, не будет всего того, к чему он привык за двадцать лет своей руководящей работы и особенно за три последних года, когда не надо было вертеться дома ужом и выносить унизительные скандалы Ирины Петровны по поводу недоданных в семью денег, и выдумывать истории про вычеты за пользование государственным транспортом.
– Не дело ты затеял, Пименов, – сказал тогда Проскуряков. – Закроют твою контору, и помирать придется в лагере строгого режима.
– У нас лагерей теперь нет, Юрий Михайлович. У нас исправительно-трудовые колонии. Только я туда попадать не собираюсь. Я вижу, что вас сомнение гложет. Вы позвольте структуру объяснить, вам сразу спокойней станет. Я ведь фирму не из пальца сосал, я изучил все современные проблемы нашей экономической науки. Я вопрос кооперации производства и внутриотраслевой интеграции как «Отче наш» вызубрил. Смотрите, что получается, Юрий Михайлович. Пока у нас еще есть возможность деловому человеку спокойно жить, людям помогать и самому на черный день откладывать. Пока я, директор, должен ждать вашего указания, а вы – министерского, а министерство – планового, я, директор, пальцем не шевельну, чтобы поперек вас пойти, мне инфаркт ни к чему, да и года у меня не те, я пору «горения на работе», слава богу, пережил и умудрился даже давление нормальное сохранить. Я и тогда пальцем не шевелил без указа. Зачем? Прикажут – исполню. Сверху видней, как говорится. Но это все лирика, Юрий Михайлович. Про кооперацию в журналах пишут – значит, можно, так ведь? Вот я скооперировался с мастерскими. Мой рабочий, фабричный, сразу в народный контроль попрет, если я ему лишку закажу. А в мастерской рабочий заказ исполняет – все по-честному, все для народа, как говорится. И не себе я его товар заберу, а обратно через торговую сеть реализую другому трудящемуся. Только для этого я должен знать конъюнктуру рынка, так сказать, категорию дефицита. Чего в магазине нет, что государство упустило, то мы должны наверстать. А новейшими станками, да еще при наших-то фондах – что вы, Юрий Михайлович! И по большому счету посмотреть: разве мы народу плохо делаем? Мы ж ему, народу, товар поставляем, а не турку какому.
– Ты не юродствуй, не юродствуй, Пименов, ты меру знай.
– А я и не юродствую. Вот сейчас я из осколков граната отладил выпуск иголок для проигрывателей. Их нет в магазинах, на них государство валюту тратит, а проигрывателей с пластинками – завал. Жизнь у народа веселей пошла, трудящийся желает музыку слушать, а иголок-то у него нет! А я ему иголки поставляю – разве я плохо делаю для страны, Юрий Михайлович? Разве я виноват, что игл у нас мало производят?!
– Так почему ты этот вопрос не поставишь? Почему не докажешь, что это можно у тебя на производстве организовать?!
– Юрий Михайлович, милый, да разве ты мне на это отпустишь сто сорок тысяч?! Окстись! У тебя ж у самого руки повязаны.
– Я с тобой на брудершафт не пил, Пименов, давай без фамильярности.
– Это я увлекся, Юрий Михайлович, прошу прощения. Можно продолжать?
– Ну…
– Так вот, из отходов, которые я б так или иначе списал, на станках, которые так или иначе простаивают половину времени без пользы, я на свой страх сделал десять тысяч опытных иголочек для проигрывателей. У меня токари вытачивают детали для головки, на сверлильном обрабатываем пластмассу, а один человек камешки шлифует. Чистая прибыль нам с вами и третьему моему человеку по две косых. Вот прошу, и расписываться не надо, все как на бирже.
– Погоди ты, дверь не заперта.
– Нет, я защелкнул, когда заходил.
Проскуряков спрятал деньги в карман и сказал:
– Готовь письмо по поводу иголок этих самых. Будем налаживать производство в государственном масштабе.
– Будет сделано, Юрий Михайлович. А у меня к вам встречная просьба как к главе предприятия.
– Какого там еще предприятия?
– Нашего главка.
– Вот так. И чтоб никаких фирм!
– Ладно, согласен. Вы к начальству поближе, так узнайте в Госплане, что они планируют, а что временят. Вот списочек. – И Пименов передал Проскурякову листок бумаги, где были указаны наименования товаров, которые пользуются наибольшим спросом в магазинах, особенно в хозяйственных.
– Посадят тебя, – уверенно сказал Проскуряков, ознакомившись со списком. Он вернул его Пименову и повторил: – Неминуемо посадят.
– Ни в коем случае. Я ведь в газетах о моем деле не оповещал, Юрий Михайлович. Когда ко мне корреспонденты из газет приезжают, я только про фабричных передовиков разоряюсь. А вот со мной один человек работает, так я о нем ни гугу, хотя он так камни точит, что ни одному передовику не снилось. Налбандов, вы его помните, наверное.
– Из ОТК?
– Да.
– А как ты реализуешь товар?
– Мой шурин – директор магазина в Москве. И все. Больше народа нет. Как же мне провалиться? Дурнем надо быть. Или хапугой. А я ОБХСС уважаю, я товар сбываю небольшими партиями.
– В магазинах пускают по липовым накладным?
– Зачем по липовым? Я эти головки к проигрывателям собираю экспериментально. По тысяче штук в квартал. А выход готовой продукции у меня тридцать тысяч. Так что накладные по форме. – Пименов закурил свой ломаный, искрошившийся «Север» и, достав из папки еще один лист бумаги, положил его перед Проскуряковым. – Тут моя просьба увеличить фонд зарплаты. Это откладывать нельзя, Юрий Михайлович, мне людям надо хорошо платить, чтоб недовольных не было, от них ведь вся кутерьма, от недовольных-то и обездоленных.
– Завизируй у юриста и в отделе зарплаты.
Пименов отрицательно покачал головой:
– Нет. Не надо, Юрий Михайлович. Они после вас легче завизируют, так они волынить начнут, а время у меня горячее, оно сейчас, как говорится, не ждет.
Пименов шел по прямому ходу: он знал, что Проскуряков собирается на отдых. Он выяснил, что «экономисточка» Ольга уходит в отпуск через неделю после Проскурякова. Пименов бил беспроигрышно; в этом ему помогало то, что они с Проскуряковым были людьми почти одного возраста: одному – пятьдесят семь, другому – шестьдесят два. А в эти годы привязанность – она уже последняя, самая что ни на есть дорогая, единственная. Хочется в этом возрасте почувствовать себя сильным и нестарым, а это только когда молодость рядом – красивая женщина, кто ж еще.
И Проскуряков подписал документ, который он не имел права подписывать. Впрочем, тем же вечером он придумал себе оправдание, хотя впервые за эти годы понял в глубине души, что оправдание-то липовое.
Какое-то время он ощущал тяжкое неудобство; оно было похоже на зубную боль – не острую, но постоянную. Однако, уехав на юг, Проскуряков постепенно стал забывать о разговоре с Пименовым, убеждая себя в том, что и на этот раз не случилось ничего непоправимо страшного. Иногда только, чаще всего под вечер, сидя с Ольгой на берегу и задумчиво глядя на зыбкую лунную дорожку, он думал: «В конце концов будь что будет, только б подольше не было. До пенсии осталось три года, а когда пойдет седьмой десяток, кому я буду нужен? Ей, что ли? Зачем ей старик? Тогда и уйти из игры не страшно».
Однако, вернувшись в главк, Проскуряков неожиданно для самого себя сел и написал большое письмо в министерство. Он писал, что необходимо в самый короткий срок наладить серийный выпуск продукции, представляющей сейчас серьезный дефицит. Он перечислил все те наименования, которыми так интересовался Пименов, и проанализировал возможность в самые короткие сроки, без особых затрат, с отдачей в ближайшие же годы наладить реконструкцию ряда ювелирно-аффинажных фабрик и всех тех заводов и мастерских, которые входили в его систему.
Назавтра его вызвал заместитель министра. Недавно пришедший из Академии общественных наук, новый заместитель министра был человеком по теперешним временам молодым – ему только-только исполнилось сорок.
– Я прочитал вашу записку. Очень интересно это все. – Заместитель министра вдруг улыбнулся. – Кто сказал, что нет пороха в пороховницах у старой гвардии, а?! Словом, мы решили вашу докладную отправить в Совет Министров и Госплан.
В лице этого человека было что-то такое располагающее, что Проскуряков внезапно ощутил огромную потребность рассказать ему все о Пименове, и о себе самом, и о тех деньгах, что получал за подлость, и об «экономисточке», которая на какой-то миг стала вдруг ему ненавистна, и показалось даже, будто именно она виновата в его падении, но сразу же представилось, как переменится выражение лица этого молодого заместителя министра, который так хорошо и проникновенно говорит сейчас о старой гвардии. Он представил, что скажи он всю правду – и начнется унизительная процедура сдачи дел, вызовов в милицию, допросов; впрочем, допросы и милиция рисовались ему как-то отдаленно и нереально. Самым страшным – и это он увидел явственно и близко – было отстранение от работы, потеря привычной уверенности в том, что он нужен, значителен, необходим в той отрасли, которой он отдал сорок лет жизни, куда пришел грузчиком и где стал начальником главка…
Выйдя из кабинета, Проскуряков ощутил колотье под лопаткой.
«Вот бы инфаркт хватил, – подумал он. – Персональная пенсия, и никаких тебе треволнений».
Он приехал в главк и, не заходя в кабинет, поднялся в библиотеку.
– Роза Лазаревна, – сказал он, массируя левую ключицу, – мотор ноет, боюсь, не уложили б меня в постель. Вы мне подберите интересных книжек, а? Чтоб лежать не скучно было.
– Вы действительно побледнели, Юрий Михайлович. Хотите валидол?
– Нет уж. – Он слабо улыбнулся. – Я лучше сорок капель коньяку, сразу расширит сосуды.
– Что вам подобрать? Современную прозу? Нашу или зарубежную?
– Вы мне детективы подберите. Роза Лазаревна, наши детективы. Какие посерьезней, чтоб там и жулье, и сыщики умные были.
Сказав секретарше, что едет домой отлежаться, Проскуряков вызвал машину, но попросил шофера высадить его в центре. Он прошел мимо «Арагви», увидел там большую очередь.
«Сволочи, – подумал он о людях, стоявших в очереди возле ресторанных дверей, – им можно здесь стоять! И не боятся, что кто-то из сослуживцев увидит; им можно сидеть в мраморных залах и есть цыпленка табака под чесночным соусом и пить водку из заплаканных льдистых бутылок».
Он был в «Арагви» только один раз, больше шести лет назад, после защиты главным инженером отдела геологических изысканий Меркуловым кандидатской диссертации. Но Проскуряков помнил и сейчас, помнил тяжело, до мельчайших подробностей этот ресторан и людей, которые там шумно веселились, много ели и пили, а когда оркестр играл «Реро», нестройно, но очень искренне подпевали безголосому певцу, одетому в национальный костюм горца.
Проскуряков зашел в маленькое кафе на Пушкинской, заказал двести граммов водки и бифштекс и долго сидел там. В голове у него метались странные обрывки мыслей, и он даже не пытался как-то организовать эти обрывки в единую линию и впервые остро почувствовал, что жизнь прожита, и конец ему не был страшен, хотя раньше он не мог думать о смерти без ужаса.
На следующий день он вызвал врача и, обложившись книгами, начал изучать детективные романы, стараясь найти в них какие-то параллели с тем делом, в котором он сейчас играл такую странную, двойственную роль. Однако чем больше он читал, тем явственнее становилось для него, что аппарат сыска так или иначе загонял в угол преступника.
«Глупые книжонки-то, – подумал Проскуряков, окончив чтение. – Писатели своим сыщикам помогают, мне они черта с два помогут… А то, что прихлопнут рано или поздно, так это и дураку понятно: один против тысячи не устоит…» Лежать дома, бездействуя, стало ему невыносимо и страшно. Уже на третий день он поднялся с постели, а когда прошла неделя, поехал к Ольге, сказав жене, что назначена процедура в поликлинике.
Через десять дней он вышел на работу, но в историю болезни доктор вписала строчки о первых симптомах стенокардии. Посетив Госплан и те министерства, с которыми он соприкасался по работе, Проскуряков решил действовать. Он вызвал Пименова и еще пять директоров на совещание и обговорил с ними планы по расширению и интенсификации производства. Когда совещание кончилось, он попросил Пименова задержаться и сказал:
– Те данные, которые тебя интересовали, я достал. Думаю, еще с полгода конъюнктура для тебя будет выгодная с иголками для проигрывателей, с малогабаритными насосами и сувенирами из «русских самоцветов». Так что спеши. Деньги мне приготовь к завтрашнему дню. Две тысячи это будет тебе стоить.
– Не беспокойтесь, деньги я принесу, – согласился Пименов, – только кого это петух клюнул в министерстве? Сидели себе спокойно, а тут эдакая деятельность.
– Не петух министерство клюнул, а я написал докладную записку. Ясно?
– Что ж, в этом тоже есть резон, Юрий Михайлович, – помедлив, задумчиво сказал Пименов. – Только близорукий это резон. Давайте уж до конца все обговорим, чтоб никаких у нас двусмысленностей не было. Я готов платить вам по четыре тысячи в год, итого до пенсии вашей десять тысяч соберется. Только вы б не очень меня с реконструкцией торопили, тут можно дров наломать, да и стоит ли сук рубить, на котором сидим? Смотрите, конечно, у каждого человека своя выгода. Не знаю, как вы, а я нищету на всю жизнь запомнил. Боюсь я нищеты, особенно нищеты в старости, Юрий Михайлович. Я вас стращать не хочу, но зря вы так поторопились, напрасно без совета такой шаг предприняли. Куда ни крути, а мы одним делом повязаны.
– Это ты верно говоришь, – задумчиво сказал тогда Проскуряков. – Только не знаю, как ты, а я по главку хожу и сотрудникам в глаза смущаюсь смотреть. Сидят рядом со мною честные люди и делают свое честное дело, а я… Нет, Пименов, я тебя торопить стану, очень я тебя буду торопить, потому что иначе мне с собой не совладать, больно тошно мне. Когда еще днем, на работе, ничего, а вот как спать ложусь… Так что не жди, поблажек я тебе не дам. Побаловался – и будет.
А через месяц Пименов приехал и рассказал о провале Налбандова.
3
Когда они встретились в «Ласточке», маленькой барже, оборудованной под ресторан на набережной Яузы, Проскуряков начал говорить быстро, короткими фразами – точно так, как он выступал на планерках, отдавая приказы начальникам отделов:
– Проверь всю документацию по фабрике. Всю, за последние три года особенно. Проведи ревизию, собери совещание по хранению материальных ценностей. Попроси народ войти с предложениями. Дальше…
– Погоди ты командовать, Юрий Михайлович, – спокойно сказал Пименов, не позволив Проскурякову закончить фразу. – Какая ревизия, какая документация, о чем ты? У меня отчетность в полном порядке, никаких хищений материальных ценностей не было, для иголочек-то я использовал брак, списанный товар. Не о том ты тараторишь, ей-богу.
– Ты в каком тоне говоришь?!
– Тише, – попросил Пименов, – тут официанты все слышат. А говорю я в твоем тоне, мне, понимаешь ли, одностороннее «тыканье» надоело. И не время сейчас нам с тобой по мелочам цапаться, когда, как говорится, хата горит. Налбандова будут искать, ясно? Он из больницы сбежал, а паспорт на чужое имя там остался. Вот в чем дело, Юрий Михайлович, а ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью прилетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели? Ну отправил я его в горы, там у меня шалаш охотничий есть, а дальше что? Ты вот о чем думай, а не о ревизии.
Проскуряков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил:
– Пусть берет всю вину на себя.
– Какую вину?
– Товар-то пропал?!
– Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Налбандова травил.
– Он раньше знал того ферта?
– Говорит, что знал, – ответил Пименов и выжидающе посмотрел на Проскурякова. – Шапочно, говорит, знал. Учились когда-то вместе.
– Так пусть найдет его!
– И скажет: отдавай мои иголки? Или как? У него там иголок было на девять тысяч. Или ты хочешь, чтоб он того ферта зарезал? А?
– С ума сошел.
– Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович. Как раз не сошел. Только так другие и поступили бы на нашем месте. Было б у нас, как у них, – тут и вопроса нет: вызвал гангстера, дал деньги, и адье, молодой человек, привет.
– Сдурел? – снова переходя на шепот, спросил Проскуряков. – Ты что болтаешь?!
– Ну, значит, нам всем каюк, Юрий Михайлович! Каюк! Найдут Налбандова и спросят его, почему он ездил в Москву по чужому паспорту и зачем сбежал из больницы, едва врачи его от смерти откачали. Что он ответит?
– Пусть все отрицает.
– Как же ему свою фотографию на чужом паспорте отрицать?
– Пусть говорит, что ездил к любимой женщине.
– Как-то ты с перепугу ошалел малость, Юрий Михайлович, не думал я, что ты на излом такой хлипкий. Ты представь себе, что того ферта нашли и взяли у него налбандовский чемоданчик с нашим товаром. Вот ты себе что представь, мил человек!
– Ты зачем ко мне со всем этим делом пришел, Пименов? Тебе что от меня надо, а?
– А к кому же мне идти? К кому? У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович. Помимо уголовного и гражданского права, есть еще «телефонное право». Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьезных акций опасаешься. Так что принимай, милый, решение. От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты десять косых получил не за чистые глаза и красивую внешность. А это, между прочим, Государственная премия, ее другие люди всей жизнью добиваются! Как деньги тратить – так ты один, а как думать – «Зачем ко мне пришел?» Не пойдет у нас так! Изволь челюстью не трясти и со мной вместе спокойно думать, как выходить из переплета!
Проскуряков мгновенно перегнулся через стол и, резко вытянув руку с зажатым в ней фужером, ударил Пименова. Тот упал, и лицо его сразу залилось кровью. Проскуряков огляделся – в зале, кроме них, никого не было, несколько посетителей сидели на палубе, под открытым небом. Официанты на первом этаже что-то говорили и громко смеялись – там, в трюме этой маленькой баржи, помещалась кухня. Проскуряков обошел стол, толкнул Пименова носком ботинка и сказал:
– Вставай, сволочь, едем в милицию. Вставай, – повторил он и расстегнул воротник рубашки, который сейчас показался ему тугим, как ошейник.
Пименов поднялся, вытер кровь с лица и тихо сказал:
– Ну и тряпка же ты поганая, Проскуряков! Шваль, двурушник!
Когда Пименов произнес слово «двурушник», Проскурякову вдруг стало страшно – так ему давно страшно не было. Он хотел что-то ответить Пименову, но ответить ничего не смог, потому что в горле странно забулькало, левую руку свело длинной болью, дыхание перехватило где-то ниже поддыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево.
VII. Размышления в тюремной камере
«…Так… Это отпадает… Остается другое… Вот если он поднимет регистрации в Сочи… Правда, ему придется переворошить все гостиницы, дело это нелегкое… Если он пойдет на это, значит, у него есть что-то еще, кроме этих чертовых камней. Если он все-таки поднимет все регистрации, тогда получится, что я жил в Сочи, в гостинице, как раз в тот день, когда они взяли меня в Питере… Подобное алиби может оказаться косвенной уликой. Кто мог подумать? – Кешалава повернулся на правый бок и натянул серое, пропахшее карболкой одеяло до подбородка. – Что у него есть? Надо еще раз пройтись по всей цепочке его вопросов. У него есть мои камни. Это серьезно. Действительно, откуда у аспиранта Кешалавы могут быть драгоценные камни? Не один, а несколько. Болван, купчишку начал из себя разыгрывать. Стоило потерять над собой контроль – и провал. “Откуда камни?” – “Я не знаю”. На камнях, особенно таких маленьких, отпечатки моих пальцев вряд ли остались. А если? Ну и что? Оперся рукой о столик, на котором эти камни лежали. Да, но как могли появиться камни в номере этой шлюхи? “Задайте такой вопрос ей. Спросите, кто прислал в номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе. Я ей букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей – бросать к ногам женщины ценности. Но я не князь, я аспирант”. – “А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала у лучшего портного? Откуда у аспиранта эти семьсот рублей?” Отвечаю: “Когда я заболел, моя тетя, Вартанова, урожденная Кешалава, подарила мне тысячу рублей на лечение и отдых, переведя эти деньги со своего текущего счета”. Нет, нельзя говорить “переведя”. Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ. Надо подумать сначала. Нет, сначала надо поинтересоваться, а отчего, собственно, мне задают подобного рода вопрос. Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться в своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнет ставить свои капканы, я посмотрю, куда он будет клонить, а уж потом скажу про тетку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так. Что еще? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенчикова. А если сразу в наступление? “Раз Торопова говорит, что я насильник, так это принимается на веру, без доказательств?! Она была избита? Синяки, ссадины? Их нет? Или они есть? Порвана одежда? Или нет? Если я вам сейчас скажу, товарищ полковник, что неплохо было бы мне поскорее вернуться домой – это что, можно мне инкриминировать как попытку побега?” Надо подбросить ему по поводу “мирного сосуществования” этой стервы с ее мужем. Это можно трактовать как угодно. Может, он ей развода не дает и ей нужен повод, откуда я знаю. Только не впрямую, это будет выглядеть как очернительство, мне надо вести себя по-джентльменски. Кровь ищут на пиджаке. Это тоже за меня, никакой крови нет. Серия изнасилований. Надо же мне было перепить тогда в “Эшерах”. Нет, алиби у меня абсолютное. Только надо сохранять спокойствие. И не попасться по мелочам, когда он станет искать насильника и начнет ворошить гостиницы, где я жил».
– Э, кацо, у тебя покурить не найдется? – спросил Кешалаву сосед по камере – высокий, сумрачного вида человек с желтоватым испитым лицом.
– «Кацо»? По-грузински говорить умеете? – Кешалава усмехнулся. – Или только начали учиться?
«Как мне себя вести с ним? – подумал он. – Сразу отбрить, или это покажет, что я слишком всего боюсь?»
– Я не курю, мой друг, извините, пожалуйста.
«Почему ко мне посадили этого кретина? А если я пугаю самого себя? Не может быть, чтобы в милиции были какие-то данные по тем делам».
Когда Кешалава позволил себе вспомнить те дела – а он весь этот день заставлял себя не думать о них, он приказывал себе вычеркнуть те дела из памяти, будто их не было вовсе, – ему вдруг стало жарко. Вернее, ему показалось, что стало жарко, потому что он покрылся испариной. Нет, на самом деле Кешалаве стало холодно, и эта испарина была предтечей страха, который на какое-то мгновение лишил его возможности рассуждать.
«Нельзя так, – одернул он себя, – это начинается паника. Какие у меня основания паниковать? Никаких. Я тысячу раз продумывал каждый ход, и провала быть не может».
Он действительно тысячи раз продумывал свои операции, он вычерчивал схемы, изучал литературу по криминалистике, обращался к последним научным трудам юристов, химиков, социологов, прежде чем принять решение. Те тридцать пять тысяч и иглы Налбандова, которые он получил после своих главных дел, он спрятал так, что их никто не сможет найти. Он приказал себе забыть об этих деньгах. Сначала диссертация. Потом, после того как он определит себя в обществе, можно будет воспользоваться теми деньгами, это ни у кого не вызовет подозрения. Когда Виктор был мальчишкой, он с тяжелой ненавистью смотрел на детей Вашадзе. Родители Виктора снимали у Вашадзе комнату в Гагре. Хозяин со старшим сыном работали в колхозе и в конце года получали много денег: отец – шесть тысяч, сын – четыре. А учитель Кешалава зарабатывал сто пятьдесят рублей в месяц, его жена, врач районной больницы, – сто двадцать. «Никогда не завидуй, – сказал тогда отец Виктору. – Пойди поработай один день с Васо на плантации, под солнцем, и ты поймешь, что они справедливо получают свои деньги». Виктор пошел на плантацию, но ему через пять часов стало плохо, и он потом три дня пролежал в постели – начались рвота и понос. «Сынок, – говорил тогда отец, – они такие же люди, как мы, и им поначалу было так же плохо, как сейчас тебе. За более тяжкий труд надо больше платить, разве нет?» – «Лучше мне привыкнуть к их труду, – сказал тогда Виктор, – чем учиться шестнадцать лет. Сколько я буду получать после института? Сто? А к пенсии приду со ста пятьюдесятью?» Отец очень сердился и говорил сыну, что общество, накапливая коллективное богатство, будет со временем иначе его распределять, но Виктор, слушая отца, думал о своем… Он не хотел ждать, пока общество накопит богатства. Ему хотелось приезжать в «Гульрипш» на своей «Волге», он хотел посылать на соседние столики бутылки вина и танцевать с красивыми женщинами, лениво и снисходительно покупая им маленькие букеты красных гвоздик. На всю жизнь ему запомнилась фраза из романа: «Полузакрыв глаза, Зоя Монроз пила шампанское из длинного, тонкого бокала». Эта фраза вызывала в нем холодящее чувство неведомой радости. Он потом пытался анализировать, отчего именно эта фраза вызывала в нем такой странный восторг, но точного ответа так и не смог найти.
Он хорошо знал, что уликами считаются показания свидетелей, отпечатки пальцев, следы, оставленные на месте преступления. Он еще и еще раз перебирал в памяти свои дела: нет, там ничего не могло быть. Главный свидетель – жертва. Вот и надо, чтобы жертва оказалась жертвой. Все эти Вашадзе, колхозники, мужики, быдло приезжают с толстыми пачками затертых денег покупать машины. Они уважают разум. С ними должен говорить разумный, интеллигентный человек, а не «жучок» с бегающими глазами. С ними надо говорить спокойно, без всякой нервозности. Надо заранее узнать, кто собирается ехать за машиной: это легко выяснить на побережье, где каждый знает каждого. Надо шапочно познакомиться с этим человеком. А потом встретить его возле магазина. И пригласить в номер, чтобы побеседовать, какую он хочет машину, как отблагодарит тех, кто через него, Кешалаву, поможет получить автомобиль без очереди. Все должно развиваться по каноническим нормам классицизма: единство места, времени и действия. Если у человека при себе нет денег или они в аккредитивах, то, распив бутылку, можно дать несколько полезных советов и уйти. А если деньги в карманах, во внутренних карманах черных, засаленных, плохо сидящих пиджаков, тогда надо доставать из портфеля водку с лекарством, которое свидетелей сделает жертвами. Никто не должен выходить из комнаты: снотворное подействует через час. Риск заключается в том, что кто-нибудь может прийти. Значит, сначала надо выяснить, кто еще живет в номере: эти мужики из колхоза приезжают за машиной артелью. Как напоить их и не выпить самому яда? Это он тоже отработал. Он доставал свою бутылку, когда в другой еще оставалось какое-то количество водки или коньяку. Себе он наливал из «здоровой» бутылки, а из отравленной наливал в стакан «мужика». Потом он забирал свой стакан и бутылку, прятал их в чемоданчик, надевал тонкие перчатки, доставал из пиджака деньги и уходил. Кешалава никогда не шел в номер вместе с тем, кого должен был убить. Он появлялся минут через пять, раздевшись предварительно в гардеробе ресторана: идет гость. Да и какое мог иметь отношение интеллигентно одетый молодой человек к этим «мужикам» в неопрятных костюмах и плохо почищенных ботинках с развязанными шнурками! Если же гостиница была интуристская и в тот день был заезд каких-нибудь империалистических боссов, Кешалава спрашивал дежурную по-английски, как пройти в буфет: он знал, что на допросе эта дежурная если и вспомнит молодого, со вкусом одетого иностранца, то не в связи с погибшими колхозниками.
Он сказал себе, что проведет три операции, больше не надо. Он получил все то, что хотел получить. Он решил больше не рисковать, а, полузакрыв глаза, пить шампанское из тонкого длинного бокала. И надо же было ему провалиться с этими проклятыми камнями!
«Стоп! – остановил себя Кешалава и сел на койке. – А если Налбандов похитил эти камни? Их сейчас ищут. Так. Где я был тогда? В какой гостинице? В “Гульрипше”? Я прилетел из Москвы ночью. Я стоял с дежурной, и угощал ее шоколадом, и рассказывал ей, что собираюсь утром в горы на весь день. Она должна будет подтвердить это. Улетел я из Адлера с первым самолетом, а вечером вернулся. Да, но откуда ко мне попали камни? Я же ответил: “Не знаю, я ничего не знаю о камнях”. Меня никто не видел с Налбандовым в Москве? Никто. В день его гибели я утром ушел в горы, а вечером вернулся в свой номер. Это алиби. Этому черту, полковнику, надо еще доказать, что я убил Налбандова, что я взял его чемодан с камнями и с иголками для проигрывателей. А как он докажет, если я в тот день был в Гагре? Он никак этого не докажет».
– Эй, кацо, а жрать у тебя ничего нет?
– Икры хочешь?
– Чего?
– Икры. Рыбьих яиц.
Сосед засмеялся:
– Откуда ж у рыбы яйца?
– Спокойной ночи, не мешай мне спать.
– Скажи спасибо, что камера сегодня пустая. Вообще-то эта камера особая, тут одни «бабники» сидят.
– Страдальцы. – Кешалава усмехнулся и, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову.
VIII. Размышления состарившегося человека
1
Садчиков сидел возле книжного шкафа в углу костенковского кабинета, листал альбом, подаренный работниками венгерской милиции, бегло проглядывал фотографии осеннего Будапешта и наблюдал, как Костенко беседовал по телефону, чуть отодвинув трубку от уха, спокойно выслушивал ответы, в обычной своей иронической манере задавал вопросы, а потом предлагал свой план, тактично и ненавязчиво.
«А я отдавал категорические приказы, – подумал Садчиков, – когда мы работали на Петровке, тридцать восемь. Я учился у нашего комиссара: главное – уметь отдать жесткое, волевое указание. Наш комиссар ставил себя в основание конструкции – будь то небоскреб или изба. Он пропускал факты через свой опыт, а опыт его, словно пример из учебника арифметики, подсказывал ту или иную возможность. Он верил себе, он очень верил себе, наш старик. Он жил возможностями сороковых годов, он был убежден в том, что возраст и опыт сыщика – основополагающие и единственные гаранты успеха в нашем деле. И еще он считал: главное – сломать арестованного, подавить его превосходством сильного. Костенко и тогда умел спорить с комиссаром, а я боялся. Я пытался на свой страх и риск вязать комбинацию, не вступая с комиссаром в конфликт. Славка вступал. “Приказ командира – закон для подчиненного”. Слава тогда сказал мне, что этот разумный постулат войны не может быть автоматически перенесен в наше дело. Ну да, когда я воевал, он был еще школьником. Когда я поменял погоны офицера артиллерии на милицейские, он только-только сел на университетскую скамью. Я долго еще после армии, куда ни крути, щелкал каблуками, а он всегда стоял на своем, особенно если доказывал, что преступник шестидесятых годов отличается от своего предшественника – вора или расхитителя сороковых.
“Чем? – возражал тогда ему комиссар. – Морда, что ль, сытей? И телевизор смотрит? Бандюга, он во все времена бандюга”. “Если защищать закон, – как-то ответил Костенко комиссару, – стараясь сломить арестованного, унизить, показать свое над ним превосходство, тогда мы тоже можем ненароком преступниками оказаться, товарищ комиссар. Изобличить – не значит подавить. А вдруг арестовали человека случайно – так может быть?” Комиссар тогда ответил: “Извинимся – поймет, если честный советский человек. А если вражина – пусть обижается, мы к обидам привычные”. А Слава сказал: “Это не по-нашему”. Вот он и стал моим начальником, Славик-то…»
– Дед, – сказал Костенко, положив трубку. – Слушай, дед, у меня новости есть.
– Хорошие? – спросил Садчиков.
– Как тебе сказать? Занятные. Честно говоря, я иногда испытываю мазохистское наслаждение, когда моя версия летит: противно чувствовать себя легавой, которая всегда безошибочно идет по следу.
– Раскрываемость тогда будет у т-тебя плохая, к-критиковать станут, на собраниях прорабатывать.
– Переживу. Загодя к каждому подходить с осторожностью? Стоит ли? Так вот, дед, врачи мне прислали ответ: они Кешалаве прописывали валерьяновый корень и седуксен. Никаких других, тем более сильнодействующих, снотворных, ему не давали.
– На этом ты его не п-прижмешь.
– На одном этом – нет; ты, дед, говоришь, как прозорливец, на этом я его не ущучу. Тут другое соображение: ни в одном из его костюмов снотворного больше не было. Только в том, синем, который был на нем, да и то остатки. Дома все переворошили – пусто. Где он держит снотворное – вот в чем вопрос.
– Ты убежден, что он еще держит снотворное? Он уже четырех человек уконтрапупил – зачем ему снотворное? Ему х-хватит денег на десяток лет, если считать, что с каждого взял т-тысяч по семь.
– Он уконтрапупил трех. Четвертый жив. И самое любопытное, что прямой начальник этого исчезнувшего, но живого четвертого, директор ювелирной фабрики Пименов, задержан в Москве по случаю странной смерти начальника их главка.
– Что? – Садчиков не сразу понял.
– Позвонили с Петровки: я просил ребят посмотреть по всем ювелирным хозяйствам, нет ли каких новостей. Один из ювелирных начальников, Проскуряков, вчера помер в ресторане во время драки с Пименовым.
– Где П-пименов? Взяли?
– За что? Не он бил, а его били… Он идет свидетелем, Проскуряков от инфаркта скончался. Поедем на Петровку? Я хочу послушать, как Пименова будут допрашивать, все-таки камешки Кешалавы могут быть с его завода… Едем, а?
– А к-кто здесь будет заниматься связью с кавказскими республиками? Вдруг по-позвонят, что нашли Налбандова? М-мне же хочется первым порадовать своего начальника.
2
Пименова допрашивала лейтенант Ермашева из второго отдела МУРа. Она работала на Петровке первый год, пришла сюда сразу из МГУ, и по прежним, недалеким, впрочем, временам, заметь ее кто в коридоре из сотрудников, наверняка бы решил, что эту тоненькую девушку с модной прической, в короткой юбчонке вызвали на допрос по поводу «морального облика».
– Скажите, гражданин Пименов, когда вы приехали в ресторан, состояние Проскурякова вам не внушало никаких опасений?
– То есть? – Пименов мельком взглянул на вошедшего Костенко.
Костенко сразу заметил, что от внимания Пименова не ускользнуло, как поспешно Ермашева поднялась из-за стола, как вспыхнуло ее лицо, от чего завитушки у висков показались совсем светлыми. И, заметив эту реакцию Пименова, Костенко понял, что этот маленький, весь какой-то запыленный человек обладает острым взглядом и быстрой сметливостью.
– Продолжайте, Ирина Васильевна, продолжайте, – попросил Костенко, чувствуя, что неловкость, вызванная его приходом, затянулась, – я не буду вам мешать, мне бы посмотреть заключение врачей.
– Вот здесь, в этой папке, – ответила Ермашева и снова покраснела.
Костенко был на Петровке человеком легендарным, молодые сотрудники смотрели на него с обожанием.
Костенко начал перебирать фотографии и вчитываться в заключения экспертов, прислушиваясь к тому, как Ермашева вела допрос.
– Мы с вами остановились на том…
– Я помню. Я сразу-то не очень понял, чем вы интересуетесь. Вы, наверное, думали, может, он был бледным или испарина на лбу? Да?
– Да. Именно это меня интересует.
– Знаете, никаких симптомов, в этом-то и ужас! Румяный был, веселый, бодрый, как всегда. Он же не человек был, а машина – весь в движении, огонь-мужик.
– Скажите, а почему он ударил вас?
– Я же объяснял товарищам в отделении милиции. Он не ударял меня. Это смешно, ей-богу. Зачем же на покойного напраслину возводить, хулигана из него делать. Любим мы на тех, кто ответить не может, сваливать. Он, покойный-то, был человеком высоких душевных качеств. Я ведь объяснял, как дело было. Он в последний миг зацепенел весь, а у него в руке фужер. Я к нему потянулся через стол-то, а он вперед рухнул и прямо мне стеклом в лицо.
– А почему он упал не на стол, а возле вашего стула?
– Да разве тут упомнишь каждую мелочь? Я кровью умылся, понять – ничего не понял, упал, а уж потом крик и шум начался, когда официанты подскочили. Я сообразить ничего не соображаю, кровь хлещет на глаза, а как очнулся, как увидел его рядом с собою мертвого, так шок у меня случился, говорить уж совсем не мог. От нервов, понятное дело… Человек-то он был замечательный.
«Если бы я не пришел, – подумал Костенко, – то допрос, видимо, превратился бы в сольную партию Пименова. Девушке неловко ставить жесткие вопросы, потому что этот человек – уважаемый работник, директор завода, орденоносец. Издеваемся над “интеллигентской мягкотелостью”, а ведь это идет от нашего дремучего полузнания. Настоящий интеллигент никогда не бывает мягкотелым. Настоящий интеллигент всегда обнажает существо проблемы, не опасаясь, что при этом он кого-то может обидеть вопросом, беспощадным и прямым. “Мягкотелый интеллигент” – эти два слова, в принципе-то взаимоисключающие друг друга в данном понятии. Мягкотелым может быть мещанин, обыватель. Как бы мягкотелый ни говорил о себе, что он интеллигент, все равно на деле он мещанин. Когда речь идет о поиске истины, надо сразу же называть кошку кошкой и заранее оговаривать условия игры».
Костенко дождался, когда Ермашева начала записывать ответ Пименова, и спросил:
– Скажите, по пути к «Ласточке» Проскуряков в больницу не заезжал?
– Не знаю, ей-богу.
– Разве вы не в одной машине ехали?
– Мы? Да нет. Я на такси, а он на служебной. Вы шофера его спросите, у него шофер – хороший человек, вам точно скажет: завозил он его куда или нет.
– Спасибо. Это, видимо, Ирина Васильевна сделает позже. Вы меня извините, – обратился он к Ермашевой, – что я влез в вашу работу без разрешения.
– Ну что вы, Владислав Николаевич, пожалуйста.
– Тогда позвольте, я задам еще несколько вопросов.
– Да, да, конечно.
– Скажите, товарищ Пименов, – начал Костенко, отодвигая от себя папку с экспертизами. Он поднялся со стула и по обычной своей манере сел на краешек стола, – скажите, пожалуйста, а Проскуряков был воздержан по части спиртного?
– Да он и не пил вовсе! Так, если за компанию.
– Может, компаний было много?
– Нет, раз-два и обчелся.
– Он никогда раньше не жаловался на боли в сердце?
– Никогда.
– Вы с ним часто выпивали?
– Да как вам сказать? Раза три я с ним выпивал.
– Где?
– Один раз, когда он к нам на завод приезжал, а два раза здесь, в Москве.
– Когда первый раз пили?
– Ну, этого-то я не помню.
– Где?
– Тоже не помню. Он сказал мне: «Пойдем, Пимен, поужинаем, что-то настроение скверное, семья на даче, одному грустно».
– А в день гибели что он вам сказал?
– Едем, говорит, Пимен, поужинаем, а? На бережку посидим поболтаем. Яуза течет, чайки летают. Вот и поболтали.
– Это когда он вам предложил? В какое время?
– Да уж часов в семь, после работы, конечно.
– У него посетителей не было?
– Нет, всех принял, все вопросы решил.
– А у вас?
– Что? Что у меня?
– Тоже все вопросы были решены?
– Да. Я все провернул.
– Так… Продолжайте.
– Да вот, собственно, и все, чего ж тут продолжать?
– Нет. Не все. Он вас пригласил. Что было дальше?
– Дальше поехали в «Ласточку».
– Вот меня и занимает: почему вы врозь поехали, если работа у вас обоих была кончена?
– А вам непонятно?
– Не совсем, – признался Костенко и закурил, предложив сигарету Пименову.
– Спасибо, я, если позволите, свои, – ответил тот и достал мятую пачку «Севера». – Так вот, неловко перед подчиненными – ему, а мне – перед работниками главка, чтобы, знаете, чего не подумали. У нас ведь народ скор на сплетни: если начальник дружит с подчиненным, значит, обязательно и поблажки, и там, понимаете, льготы всякие.
– Вы давно дружили с Проскуряковым?
– Давно.
– Домами?
– Что?
– Я спрашиваю – домами тоже дружили?
– Мы-то? Бывал я у него, а моя старуха скрючена радикулитом, в Пригорске сидит безвыездно. Я-то у него был пару раз.
– Кто предложил поехать в «Ласточку» врозь? Неужели Проскуряков так боялся досужих сплетен? Такой уважаемый человек, начальник главка.
– А может, он куда с шофером заезжал? Надо шофера спросить.
– Теперь это просто-таки необходимо сделать, – согласился Костенко и посмотрел на Ермашеву со своей обычной улыбкой. – Не так ли, Ирина Васильевна?
– Шофер уже вызван, Владислав Николаевич.
– А в отделении милиции его не допрашивали?
– Допрашивали. Он сказал, что отвез Проскурякова прямо из главка к высотному зданию на Котельнической. А «Ласточка» рядом с высоткой.
– Вот как? Видите, товарищ Пименов, никуда больше Проскуряков не заезжал.
3
Костенко ощущал, как за последние пятнадцать лет в нем остро развилось особое «качество чувствования». Он порой ощущал себя неким точным индикатором, улавливающим и безошибочно отделяющим ложь от правды. Однажды в клубе милиции выступал с психологическими опытами Вольф Мессинг. Костенко подошел к нему после сеанса, и они долго беседовали. Маленький, с седой шевелюрой, в безупречном костюме, Мессинг, держа свои пальцы в руке Костенко, говорил:
– Каждый человек может развить в себе заложенные с рождения качества телепата, угадывателя, а скорее не угадывателя, а распознавателя, надо только желать, надо поставить перед собой цель…
Первое время, когда Костенко чувствовал во время допроса, что человек ему лжет, и оперативная целесообразность не возбраняла сказать об этом, он тем не менее, опасаясь зря обидеть, молчал, из-за этого еще больше раздражался, как и всякий, кому нагло лгут в глаза. Он ловил себя на том, что, почувствовав фальшь, в корне ломал отношение к человеку, подвергая затем сомнению даже самые правдивые показания.
И сейчас Костенко уловил в словах Пименова – таких, казалось бы, искренних и открытых – неправду, и не простую, связанную с тем, что проглядел что-то или напутал, – многие лгут, чтобы не выглядеть смешными или жалкими, – нет, в словах Пименова была особая ложь, расчетливая и продуманная. И, поняв это, Костенко перестал задавать вопросы, решив, что Пименова надо вызвать для серьезной беседы, тщательно к ней подготовившись, ибо слишком уж многое во всем этом деле закольцовывалось на столь, казалось бы, случайно возникшем фигуранте: Кешалава – Налбандов, Налбандов – Пименов, Пименов – Проскуряков.
– Не буду вам больше мешать, – сказал Костенко, поднимаясь. – До свидания, Ирина Васильевна.
– До свидания, Владислав Николаевич.
– До свидания, – сказал Костенко, полуобернувшись к Пименову, – может статься, что мне понадобится с вами побеседовать по поводу интересующих меня вопросов.
– Пожалуйста, – с готовностью ответил Пименов, – слетаю домой, все на производстве утрясу и могу приехать, если есть необходимость.
– Я думаю, улетать сейчас вам ни к чему.
Ермашева спросила:
– Взять подписку о невыезде?
– Нет, – ответил Костенко, – зачем же… Просто попросить товарища Пименова задержаться на два-три дня. Адрес ваш указан?
– Да, я указал: гостиница «Турист», номер девяносто четвертый, корпус пятый. Но мне бы хоть на пару дней вернуться домой, товарищи. Все-таки я вместо двух дней и так уже неделю здесь. Мне-то в белокаменной приятно, но ведь там фабрика работает, нерешенных вопросов, наверное, тьма.
– А зачем государственные деньги на билеты тратить? – в тон ему ответил Костенко. – Рублей семьдесят набежит, не меньше. Мы-то ведь не оплатим, мы только преступников за казенный счет возим.
Костенко уже взялся за ручку двери, но потом, задержавшись на какой-то миг, обернулся:
– Между прочим, мне бы вас и как квалифицированного эксперта хотелось привлечь. Вы не откажетесь помочь нам?
– Смотря какая экспертиза.
– По камням. У наших экспертов мнения расходятся.
– По камням пожалуйста, но только смотря какие. Бриллиант, изумруд – это я не понимаю, а вот сердолик, гранат, рубин – это наша продукция, в этом я могу помочь.
– Ну, спасибо. Я вам закажу пропуск. Огарева, шесть, второй подъезд.
4
Костенко разложил перед Пименовым две горстки камней: в одной были алмазы, которые он еще вчера попросил затребовать с московской ювелирной фабрики, а во второй – те гранаты, что Кешалава оставил в номере актрисы Тороповой.
– Вот, товарищ Пименов, – сказал Костенко, – предлагаю вам блеснуть профессиональным умением: меня интересует, что собой представляют предложенные вам на экспертизу камни, их поштучная стоимость, место изготовления и возможность их реализации через торговую сеть. На этой бумажке я написал все вопросы. Не буду вам мешать, если ко мне станут звонить, передайте, что я вернусь через полчаса.
– Одну минуточку, – остановил его Пименов, нахмурившись. – Одну минуточку, пожалуйста. Простите, я вашей фамилии не знаю.
– Костенко. Моя фамилия Костенко.
– Не надо меня здесь на полчаса оставлять, товарищ Костенко. Я вам готов сразу сказать, что в этих алмазах московской фабрики я ничего по-настоящему не понимаю, а вот гранаты – мои. С нашей фабрики. Стоимость каждого не менее ста – ста двадцати рублей.
– Вы убеждены, что эти красивые гранаты с вашей фабрики?
– Абсолютно убежден, товарищ Костенко. Сомнений быть не может. Как они к вам попали? Я ж их централизованно, с охраной переправляю в «Ювелирторг».
– У нас тут свои хитрости есть, товарищ Пименов. Вы мне напишите, пожалуйста, ваше заключение, а потом я вернусь и объясню вам, как они попали в этот кабинет.
Еще вчера Костенко попросил Садчикова связаться с аппаратом Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности и продумать совместно, каким образом, не привлекая излишнего внимания, поднять всю переписку между главком и Пригорской аффинажной фабрикой. По просьбе Костенко товарищи из УБХСС должны были поручить сотрудникам Пригорского районного отдела милиции организовать внезапную ревизию по линии местных органов народного контроля.
– Ну как там, дед? – спросил Костенко, заглянув к Садчикову. – Начали в главке документацию смотреть?
– Подбираются. Сейчас и я к ним подключусь, Слава.
– Знаешь, он сразу определил, что эти красные рубины…
– Г-гранаты.
– Да, гранаты, ты прав. Он сразу же сказал, что это с его фабрики.
– Ну и что?
– Да, в общем-то, ничего. Посмотри заодно, дед, какие там правила по хранению готовой продукции. Свяжись с московской фабрикой и предприятием на Урале. Проконсультируйся сначала с ними, а потом поспрошай, каким образом можно эти самые камни украсть в процессе производства, именно в процессе производства, чтобы нам не выпячивать отдел технического контроля.
– Х-хитрый ты.
– Зарплату нам дают именно за это качество.
– За хитрость? Выдавливай из себя по к-каплям р-раба, Слава. За ум нам дают зарплату, за ум. Хитрость – чем дальше, тем б-больше – будет не в цене. Тут х-хитришь-хитришь, а просчитают на ЭВМ – и сразу окажешься голеньким. Ну, я двинул.
– Жду сигналов. К двум часам я получу кое-что из Тбилиси, от Серго Сухишвили, и пойду по второму кругу с Кешалавой.
– В прокуратуре был?
– Пока плохо. Они не дают санкции на арест. И вообще-то правильно делают: из моих косвенных улик дела не склеишь – жидко.
– А к-камни? Откуда у Кешалавы камни?
– А почему, собственно, это его камни? На показаниях одной Тороповой обвинения не построишь. Или построишь?
5
Когда Костенко вернулся в свой кабинет, Пименов передал ему маленькую бумажку:
– Вот.
– Нет, на такой бумаге писать не надо.
– Вы меня не поняли. Это вас просили позвонить. В клинику. Я написал заключение на большом листе. А это телефон клиники.
– Клиники?
– Да, какой-то Ларин звонил.
– Ларин? Нет, это Ларик. Спасибо большое, это дружок мой, спасибо вам.
Недавно Костенко встретил Лазаря на стадионе – играли «Динамо» со «Спартаком». Именно тогда он сказал Ларику, что в последнее время чувствует себя чертовски плохо. Усталость ломала его начиная с двух часов; огромным усилием воли он заставлял себя быть таким же, как и утром. Но иногда все же приходилось запирать дверь кабинета и ложиться на диван. Подремав полчаса, Костенко снова мог работать до девяти вечера…
– Знаешь, Ларик, – задумчиво говорил Костенко, – я стал бояться следующего дня: вдруг не смогу встать? Раньше ведь мечтал вырваться сюда, выпить с тобой пивка, заесть черствым бутербродом. А сейчас ничего не хочу, только бы завтра проснуться без боли в брюхе и без этой чертовой усталости.
– Как дома?
– Все хорошо, ты ведь Машуню знаешь, она святая…
– Ты, между прочим, тоже не дьявол. Ну-ка, покажи язык. Желтый. Чтобы нам с тобой зря не волноваться, зайди ко мне, мы быстренько проведем обследование.
Ларик после этого трижды звонил Костенко и снова просил приехать в клинику, где он был главным врачом. Он знал, что Костенко ненавидит ходить по врачам, и обещал, что задержит его всего на час, от силы на полтора. «В муторное время живем, брат, – сказал Ларик, – сами же микробов расплодили, гарантий теперь никаких. Приезжай, не глупи, тебе еще дочку надо вырастить». Позавчера рано утром, до начала работы, Костенко заехал в клинику к Ларику. Тот провел его по всем кабинетам за сорок минут.
– Алло, Ларик, – сказал Костенко, набрав номер. – Ты что меня домогаешься? Нашел язвочку?
– Язвочку не обнаружил, а вот профессору Иванову я хочу тебя сегодня показать.
– Иванову? Он чем же занимается?
– Кровью. Твоя кровь мне не совсем нравится.
– Здесь мы с тобой не столкуемся. – Костенко улыбнулся. – Мне очень нравится моя кровь.
– Славик, слушай, это все, конечно, ерунда, но изволь ко мне сегодня приехать.
– Исключено. Как-нибудь на той неделе.
– Слава, я прошу обязательно приехать сегодня. На полчаса. С этим делом шутить нельзя.
– Когда? В какое время?
– Начиная с трех – в любое.
– В одиннадцать можно?
– До семи я тебя жду, – сказал Ларик и положил трубку. Ему было трудно продолжать этот разговор с Костенко. Он не знал, что следует говорить другу, потому что данные анализов неопровержимо свидетельствовали о наличии в организме полковника Костенко какого-то – весьма возможно, злокачественного – воспалительного процесса.
– Эскулапы, – сказал Костенко, задумчиво посмотрев на телефонную трубку, из которой доносились короткие гудки. – Охраняют здоровье трудящихся. Так вот по поводу вашего вопроса, товарищ Пименов. Эти гранаты мы получили не из «Ювелирторга». Мы их изъяли у преступника.
– Ограбление магазина?
– В том-то и дело, что ни один магазин не был ограблен. Я запрашивал «Ювелирторг» – у них сальдо с бульдо сходится, как в аптеке. Если вы убеждены, а вы, как я вижу, убеждены, что эти камни вашей фабрики, то похитить их могли только там.
«Налбандов, скотина, сучья харя. – Пименов сразу же все понял. – Он, паразит, один он, никто больше не мог украсть, контролеры б сразу мне стукнули! Ах мерзавец, ах гад! То-то он побоялся в город вернуться, то-то он плел ахинею! А я болван! Поверил! Раз в одном деле – значит, между собой во всем честны! Мало ему было наших иголок, так нет же, целые камни стал воровать! Это же надо! Камни воровать! Кому он их сбывать думал? Все мало, мало, твари ненасытные, тараканы, мразь!»
– Этого не может быть, товарищ Костенко.
– Может, товарищ Пименов.
– Надо срочно отправить ваших людей и проверить наши склады. Может, еще что похищено? У нас ведь и гранаты, и рубины, и аметисты. Когда эти камни были похищены?
– Совсем недавно. А что касается наших людей, – это хорошая мысль. Знаете, что мы сделаем? Я сейчас закажу разговор с вашей фабрикой. Кто вас замещает?
– Главный инженер.
– Ну и прекрасно. Я позвоню ему, а вы его попросите провести наших сотрудников вечером по фабрике, посмотреть – замки, двери, окна. Не возражаете?
– Как же я могу возражать, если сам это предлагаю?
– Ну, спасибо. Очень хорошо. Теперь, может быть, и вторую формальность закончим?
– Пожалуйста.
– Я допрошу вас об инструкции по хранению ценностей и о возможности хищений. Согласны?
– Конечно, о чем разговор! Сейчас посидим вместе, помаракуем, как это могло произойти. Только, ей-богу, не верится мне, честное благородное. Как гром среди ясного неба. Надо же, все одно к одному, одно к одному…
– Значит, так… Вопрос первый. – Костенко снова улыбнулся и пощупал пальцем то место под нижним правым ребром, где снова появилась боль. – Кто из сотрудников фабрики имел доступ к хранилищу готовой продукции?
– Директор. То есть я. Всегда, в любое, как говорится, время дня.
«Ох, не нравится мне этот змей, – думал Пименов, наблюдая за тем, как Костенко записывал его ответ. – Мягко стелет, бес, не пришлось бы спать на нарах от такой подстилки. Он еще вчера смекнул, что и я все вижу, поэтому меня от девочки увел».
– Еще кто?
– Главный инженер.
– Так. Еще?
– Мой заместитель, начальник ОТК и начальник охраны. Вот, собственно, и все.
«Там, в Пригорске, он не подкопается. Там у меня все чисто. А Налбандова надо прятать. Эта сволочь меня под монастырь подведет. Надо будет его выводить – только осторожно – под виновного. Он и есть виновный, его и надо отдавать. Так или иначе, не полный же он осел, уговор был: все берет на себя, я потом его вытащу. Надо будет сразу же, как прилечу, идти к нему в горы. Сразу же. Пусть отвечает за эти камни. Господи святый, а если к ним не только камни, но и весь товар попал?! Если Налбандов держал эти проклятые гранаты вместе с нашими левыми иголками?!»
– Каждый из поименованных вами сотрудников мог входить в хранилище один или же в сопровождении начальника охраны?
– Конечно, один. Зачем же людей унижать недоверием?
– Тоже разумно.
«Карточку Налбандова они могли показывать нам, потому что он чужой паспорт оставил. Говорил же я ему, идиоту, оставь на крайний случай, не трогай документ, береги, пригодится, если надо будет уходить в бега. Но что же этот змей не спрашивает именно про Налбандова? Темнит? Значит, у него есть что-то в запасе для удара?»
– Я слушаю вас, – прервал задумчивое молчание Пименова Костенко. – Вы еще что-то хотите сказать мне?
– У нас построено все на принципе: доверяй, но проверяй, – продолжал Пименов. – Сигналов-то за восемь лет не было. Ни одного ведь не было сигнала, товарищ Костенко. Всегда переходящее знамя держали и по плану, понимаете, всегда впереди.
– Значит, никто, кроме поименованных вами сотрудников, не имел права входить в складское помещение?
– Никто.
– Может быть, вы не замечали каких-нибудь незначительных нарушений правил по хранению продукции? К сожалению, у нас бывает. Занят, к примеру, главный инженер, попросит секретаршу пойти на склад. Такого не было?
– Что вы! Упаси господь! У нас за этим смотрят очень строго!
– А во время промежуточного периода? Когда камень-минерал только поступил в обработку? Цех-то у вас, видимо, большой?
Пименов снисходительно улыбнулся – он точно сыграл эту снисходительную улыбку, подставляясь Костенко:
– Сорок камней-минералов запускаем – сорок принимаем на контроле, товарищ Костенко. Да и потом, рабочий класс у меня замечательный, чудо что за люди. Нет, это я отметаю начисто. Рабочий человек – он и есть рабочий человек.
– Значит, если наши люди установят, что на территорию завода не проникали бандиты, у нас останется полный список возможных расхитителей, не так ли?
– Именно так. Но только я за каждого из моих людей могу подписку дать.
– Вы думаете, что на территорию фабрики залезали злоумышленники?
– Да. Скорее всего.
– Как часто начальник охраны проверяет надежность запоров, окон, дверей? Проверяются ли чердаки, полы?
– Все по инструкции, товарищ Костенко, все по инструкции… Что там проверяют, я уж точно не помню, но то, что положено, обязательно проверяют.
– Вам начальник охраны ни разу ни о чем не сигнализировал? Не просил введения дополнительных постов, улучшения систем надзора?
– Нет. У нас все восемь лет надежно было.
– Значит, вы утверждаете, что, кроме главного инженера, заместителя директора, начальника ОТК и начальника охраны, в складские помещения никто не входил?
– Никто.
«Что ж он про Налбандова-то до сих пор не спрашивает? Карточку ведь приносили не зря на опознание».
– Вы понимаете, что я должен проверить поименованных вами людей?
– Понимаю. Только вы еще одного человека упустили.
– Я перечислил всех, кого вы назвали.
– Нет, товарищ Костенко. Вы забыли меня. Вы обязаны меня первым проверить.
– Да? Ну что ж. Только, надеюсь, этот наш разговор останется между нами?
– Я готов дать подписку о неразглашении.
– А разве есть такая подписка? – спросил Костенко, поднимаясь. – Ладно. Не буду вас больше задерживать. Пожалуйста, еще денька два пострадайте в столице, ладно?
– Без ножа вы меня режете, товарищ Костенко.
– Ну, так не бывает, – ответил Костенко, подписывая пропуск. – Вы в коридоре подождите, когда дадут Пригорск, я вас сразу приглашу, хорошо? Вы дадите указания заместителю или главному инженеру но поводу наших людей.
IX. Все-таки плохо обманывать своих
«Здесь загнешься от холода, в колонии – от работы. Какая разница – где? И жрать нечего. Что же он не идет, что ж он меня тут на смерть обрекает?» Налбандов подтянул колени к животу. За эти четыре дня он исхудал, и теперь его колени, если нагнуть голову, легко касались подбородка. Первые два дня, что он жил здесь, согреваться приходилось только днем, осторожно выползая из охотничьего шалашика на солнце. У него тогда еще оставался батон, вязка сушек и пачка сахара. Теперь все это кончилось, а вчера ночью ударил первый заморозок. Горы сделались белыми, вокруг то и дело что-то потрескивало, будто кто подкрадывался к шалашу, и поэтому Налбандов не сомкнул глаз, сжимая в руках ружье, заряженное картечью. «Если он сегодня не придет, надо ночью спускаться в город. А где я ночью еды достану? Ему позвоню, пусть вынесет, кому ж мне еще звонить? Он меня в это дело втравил, пусть он теперь и придумывает, как вылезать. Он во всем виноват, я работал спокойно, всем честно в глаза смотрел».
Налбандов спрятал голову под бурку и начал дуть на заледеневшие пальцы. В детстве, когда они с братом уезжали на лето к бабушке в деревню, там в холодные ночи точно так же прятались с головой под бурку и долго, до звона в ушах дули, пока им становилось тепло.
Налбандов вспомнил брата. Степан сейчас заканчивал в Ленинграде аспирантуру в консерватории. Он три раза ездил за границу и в Бельгии занял третье место. Полгода назад ему присвоили звание заслуженного артиста.
«Чего ж мне на Пименова сваливать? – вздохнув, подумал Налбандов, чувствуя, что ему становится еще холоднее и в глазах загораются быстрые черно-зеленые точки из-за того, что он очень сильно дул на пальцы и на грудь. – Сам виноват. Мог бы не согласиться, и все. Да еще заявить в народный контроль – какие мне предложения передовой директор вносит. Нечего на Пименова валить! Он еще не знает про камни. Я во всем виноват, один я. Посмотрел, как Степка живет, и мне так захотелось: чтоб и машина, и пять костюмов, и туфли на каучуке, и рубашки из полотна, и чтоб завтракать в ресторане – ужинать там и дурак может, нет, именно позавтракать – без коньяку и водки, а чтоб “тостик, пожалуйста, омлет с сыром и кофе”, и чтоб официант не задавал глупого вопроса: “С молочком?” – а чтобы знал клиента, как они Степу знают, и чтоб нес медную маленькую кофейницу, и чтобы иностранцы разные оглядывались и просили официанта принести такой же кофе, а тот чтобы отвечал: “Это специально для заслуженного артиста Налбандова”. Степик – заслуженный. А кто я? За что мне жить так, как он? Это все только учат нас – равенство, равенство. Какое ж это равенство, если одним все открыто, а другие должны таиться, чтобы хоть чего-то достичь, а добившись, снова таиться, чтобы не начали копать, откуда взял, почему столько денег тратит. Если б нас учили с детства: “Он умней и способней, ему и жить по его уму!” Снова я отговорки ищу. – Налбандов вздохнул. – Теперь вот уже и школа виновата. Не возьми я камни – все было бы поправимо. Пименов сам говорил: “Надо обождать. Если фабрику трясти не будут, значит, наши иголки у ферта, а не в органах. Он попадется, обязательно попадется, он ведь бандит, но это будет позже, мы все успеем в нашем производстве перестроить, мы на другой товар переключимся, с этого мы и так хорошо получили. Мне друзья в Москве подскажут, на что переключиться, мы торопиться с тобой не будем, дружок, мы своего достигнем, только без суеты, спокойно. На иголках нас не возьмешь, мы там со всех сторон закрыты”. А если Виктор попадется с камнями? Не сможет ведь он им объяснить, что эти камни спасены мною из брака. Как он им это объяснит, если попадется? Я просиживал по две смены, спасая раздробленные камни! Я придумал новые грани, я новый рисунок и новую форму создавал. Я! Никто ведь до меня в мире не смог осколок наново превратить в драгоценный камень! Я это придумал! Другой бы директор мне за это сто тысяч отвалил! А я и сказать-то про это не мог, мне “Волга” была нужна. Ах, Витя, Витя, доберусь я до тебя, дай только отсюда вылезти! Я найду тебя, мерзавец, я всех ваших выпускников обойду, а твою фамилию выясню, и тогда плохо тебе будет, смерть в твои глаза посмотрит, если добром не отдашь мой товар. Сразу надо было в Тбилиси лететь, нечего было Пименова слушать, он старый, он всегда страхуется по сто раз, я бы там нашел этого Витеньку, красавчика, мерзавца!»
Налбандов отбросил бурку, поднялся, вышел из шалаша. Вокруг в лунной ночи все было белым, рельефным и трескучим. Он начал прыгать на месте, потом побегал вокруг шалаша, но согреться не мог.
Налбандов вспоминал, как потемнело лицо Пименова, когда он признался директору, что взял номер в «Украине» по паспорту Урушадзе. Он никогда не видел у Пименова такого лица – за все пять лет, что проработал на фабрике.
«Зачем же ты эдак, сынок? – спросил тогда Пименов после долгой-долгой паузы. – Я ведь тебе говорил, что тот паспорт беречь надо на самый крайний случай. Баба, что ль? Или решил погулять?»
Налбандов сказал, что познакомился с женщиной, «красавица женщина, блондинка с голубыми глазами, товару в ней через край, не тащить же ее в “Турист”, в трехкоечный номер! На один день взял “люкс”, а тут встретил этого гада, он же мне точно пообещал “Волгу”, при мне из автомата звонил Григорию Васильевичу, просил зайти ко мне в “Украину”, чтобы обо всем договориться. “Ему тысячу приготовь, – сказал Виктор, – и еще надо будет тысячу передать директору магазина. Пойдем куда-нибудь, надо написать заявление, чтобы тебе позволили купить именно мою машину. Или ладно, у тебя напишем, только возьми лучше коньяку в магазине, зачем переплачивать ресторанную цену?” Вот и переплатил. После третьей рюмки отключился. Как же он мне всыпал снотворное, изверг? Ведь я сам купил коньяк. Точно, в его бутылке эта гадость уже заранее была. То-то я обратил внимание, что та бутылка, которую он достал из своего портфеля, была без фабричной пробки. Он еще объяснил, что это прямо с завода, десятилетней выдержки. Наверное, он себе наливал из моей бутылки, а мне – из своей. Точно, он ведь просил меня воды похолодней принести. Я в ванную ушел, а он в это время налил мне отравленного коньяка, мерзавец! А еще кричат: “Милиция, милиция, советская милиция!”»
Налбандов даже споткнулся, когда осознал до конца то, о чем он только сейчас говорил себе. Он тихо засмеялся: «Вор у вора украл…» Он даже сел на землю – от смеха. Он боялся громко смеяться в этом пустом, трескучем, громадном лесу.
«Будь я проклят. – Он вздохнул, почувствовав, что начал согреваться. – Будь я трижды проклят. Сам во всем виноват. Как Степику в глаза посмотрю, если будет суд и меня в зал введут конвоиры – бритого наголо, без галстука и без ремня?! Как я посмотрю ему в глаза? Как я объясню ему, что не корысть руководила мною, а желание во всем быть, как он; чтобы не позорить его своим запыленным, засаленным, старым костюмом и крикливо-цветастыми носками, чтобы он не говорил друзьям: “Познакомьтесь, это Павел”, – а чтобы ему было приятно представлять своим товарищам, тоже артистам и балеринам, старшего брата, видного горного инженера, “который вот на своей «Волге» завез меня позавтракать”, и вообще чтобы одиннадцать месяцев унылого прозябания в Пригорске можно было компенсировать хотя бы месяцем раздольной жизни возле тебя, мой талантливей и любимый младший брат Степик. Никак я ему этого не объясню. Лучше умереть, чем доставить Степику такое горе. Если меня арестуют, его жизнь тоже будет сломана. Нет, такое не имеет права быть. Я, мерзавец, захотел того, что мне богом не отпущено, а Степику за что страдать? За то, что его брат дурак? Пусть меня Пименов куда-нибудь в геологическую партию устроит года на три, надо скрыться, время все спишет. А если не спишет? – возразил он себе. – Тогда как? На все пойду, до конца дойду, любое дело сделаю, только б не тюрьма. Не за себя ведь боюсь, да и кто за себя в наш век боится? За детей боятся, за любимую, за родителей. А у нас во всем мире никого нет: только Степик и я. На все пойду, на все», – повторил он и снова начал бегать по лугу, чтобы согреться как следует. Трава была схвачена заморозком и казалась сейчас декорацией из детской сказки, которую они со Степиком смотрели в ТЮЗе много лет назад – так давно это было, что и вспоминать нельзя: дышать тяжело, и слезы закипают.
X. Как порой полезно плохое настроение
1
– Садитесь, Кешалава.
– Вы передали мое письмо прокурору?
– Конечно.
– Ну и каков результат?
– Я вам отвечу. Только сначала позвольте мне задать вам ряд вопросов.
– Моя просьба не носит противозаконного характера, и вы должны ответить мне. В ином случае я откажусь разговаривать с вами до тех пор, пока сюда не будет вызван представитель прокуратуры.
Костенко подумал, что на то время, пока он будет препираться с Кешалавой, стоит остановить диктофон, но потом решил выключить его совсем, потому что сегодня следовало разыграть иную партитуру допроса, предложив Кешалаве подписывать каждый его ответ в протоколе. Здесь магнитофонная запись не нужна – для очередной стычки в прокуратуре, во всяком случае. Прокурор, у которого Костенко побывал сегодня, отказался дать санкцию на продление срока задержания Кешалавы.
«Товарищ полковник, – сказал прокурор, – вы отлично понимаете, что улик не хватает. Интуиция – вещь, бесспорно, интересная, но к закону неприложимая. Давайте научимся сами уважать закон даже в мелочах, давайте научим этому всех людей в стране, это лучшая гарантия и для нашей спокойной старости, и для юности наших детей».
Возразить было нечего, к тому же прокурор говорил именно то, с чем Костенко был принципиально согласен, и тем неприятнее было Костенко выслушивать все это от другого человека – тут у кого угодно испортится настроение.
Начальник управления, ознакомившись с доводами Костенко, позвонил заместителю генерального прокурора, но тот, выслушав просьбу комиссара, отказался дать немедленный ответ.
– Я должен посмотреть материалы и вызвать начальника отдела, – сказал он. – Вы же сами говорите, что улики не закольцовываются в логическую систему. Может быть, вы попросите ваших сотрудников написать более расширенное и мотивированное обоснование?
– Дело очень горячее. Посажу я их объяснение писать, а работать кто будет?
После разговора с прокуратурой комиссар пригласил представителей всех служб, принимавших участие в «автомобильном деле», которое за последние дни так разрослось, что пришлось подключить людей из УБХСС, и попросил Костенко подробно изложить положение не просто на сегодняшний день, а на последний час. Он долго выслушивал разные точки зрения (полковник Курочкин предложил выделить всех фигурантов дела – Кешалаву, Налбандова и Пименова – в отдельные разработки; с Курочкиным не соглашался майор Родин, поддерживавший Костенко, который был убежден в том, что растаскивать это дело по разным людям ни в коем случае нельзя) и принял половинчатое решение: до тех пор, пока не будет готова экспертиза УБХСС по Пригорской фабрике и пока не обнаружен Налбандов, дело «по страничкам» не расшивать, однако он еще раз подчеркнул – «пока» и на этом совещание закончил, пообещав Костенко тем не менее попробовать переговорить с заместителем министра по поводу продления срока задержания Кешалавы.
Но до сих пор от комиссара никаких сигналов не было, и Костенко, в упор разглядывая Кешалаву, решил провести «массированное» наступление на этого парня. Он почему-то был убежден, что его «массированное» наступление принесет свои плоды.
2
Костенко не спешил начинать допрос Кешалавы. Он исподлобья приглядывался к арестованному, неторопливо затягиваясь сигаретой, высушенной в духовке газовой плиты. Так подсушивать сигареты его научил майор Ганов, когда несколько лет назад, еще на Петровке, 38, комиссар перевел Костенко «за неуживчивость характера» из группы по борьбе с бандитизмом в отдел, занимавшийся «малолетками» – преступностью среди несовершеннолетних. Кто-то из высокого начальства сказал тогда, что именно эта проблема сейчас самая важная, и немедленно был создан отдел, на который сразу же повалились все шишки. Как всегда, Костенко полез в спор. «Наивно же все это, – говорил он тогда, – зачем мы в формализм уходим, товарищ комиссар? Сейчас военное поколение, безотцовщина… Я тут схемочку набросал; смотрите, что получается: чаще всего проходят преступники сорок пятого года рождения, реже – сорок восьмого. Подростки пятнадцати-семнадцати лет. У них сплошь и рядом в графе вместо имени отца прочерк. И только в этом году их с матерями из подвалов перевели в новые дома. Надо в школах, в ремесленных училищах, на заводах работать, детский туризм развивать, хороших книг навыпускать больше, бассейны строить». Комиссар тогда шутливо предложил Костенко подать в отставку из-за несогласия с начальством, но Костенко, не удержавшись, хотя Садчиков жал ему под столом ногу, ответил: «Я бы с радостью, товарищ комиссар, не будь у нас преждевременные отставки такими позорными».
Комиссар, как всегда, хмуро поругал Костенко за якобинство, но глаза у него при этом были грустные и ругал он совсем не вдохновенно, а как бы соглашаясь с Костенко в главном, не принимая лишь его «разнузданного вольнодумства».
«Кешалава – это патология, – думал Костенко. – Социальных корней здесь искать не приходится. Защити он диссертацию, меньше двухсот рублей не получал бы. Один, семьи нет. Прояви себя, защити докторскую – будут платить пятьсот, и только обыватель, пьянь или завистливый подонок упрекнет его за эту зарплату. В чем же дело? Родной Ломброзо? Или “тлетворное влияние гангстерских картин”? Почему же тогда я отмычку не беру? Люблю ведь гангстерские картины, просто даже обожаю. Биофизика должна прийти нам на помощь в этом вопросе. Откуда такое врожденное чувство собственной исключительности? Кто воспитал в Кешалаве ницшеанский дух самоутверждения через вседозволенность? Кто запрограммировал это в его генетическом коде? Значит, не “родимые пятна проклятого прошлого”? Значит, “родимые гены”? А может, психическая аномалия? Нельзя ссылаться на психическую аномалию, когда налицо осмысленное, точно продуманное деяние. Все-таки, – продолжал размышлять Костенко, неторопливо разглядывая Кешалаву, – понятие “бюрократ” мы трактуем сугубо неверно. “Бюро” – это не так уж плохо, особенно, когда работа в этом самом “бюро” отлажена, четка и бесперебойна. И сейчас, если я буду на высоте этого неверно трактуемого понятия, я добьюсь того, чего следует добиться!»
– Отвечаю на ваш вопрос, – сказал наконец Костенко, разложив на столе бланки для допроса. – Ваше заявление в прокуратуру мною было передано в тот же день – вы потом сможете это проверить по входящему номеру. Ответ на ваше заявление еще не поступил: видимо, слишком маленький срок прошел. Нарушения процессуальных норм, таким образом, нет.
– Я не буду отвечать на ваши вопросы до тех пор, пока не получу ответ из прокуратуры.
– Пожалуйста, напишите мне это на отдельном листочке. Вот на этом.
– Я больше писать ничего не буду.
– Ну и ладно, – согласился Костенко. – Спасибо вам. Этим вы облегчаете мою задачу: есть основание просить прокуратуру о превращении вашего задержания в арест. Эту статью кодекса помните?
Эту статью Кешалава не помнил, и Костенко сразу же понял это. Он позвонил к дежурному и попросил вызвать конвой, чтобы задержанного увели в камеру.
– Хорошо, – сказал Кешалава, – я отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, после этого вы отпустите меня?
– Это будет зависеть от того, что вы мне ответите. Вот распишитесь, пожалуйста. Об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Нет, не здесь – ниже.
Разбирая заключение экспертиз, просматривая еще раз бумажки, разложенные перед ним со странными, понятными одному лишь ему записями, Костенко – это с ним бывало в минуты отчаянно плохого настроения – твердо поверил, что сейчас он прижмет Кешалаву, прижмет на улике, которая позволит ему убедить прокуратуру и получить санкцию на арест. Только нельзя торопить события, сейчас все решит соревнование выдержек.
У Костенко бывали в жизни тяжелые дни, когда он не мог спать по ночам, терзаясь мыслью, что в камере сидит невиновный человек, а он, Костенко, арестовавший этого человека, лежит себе под теплым одеялом, покуривает и прислушивается к тому, как листва жестяно шелестит за окном. Сажать в тюрьму невиновных людей – зверство и подлость. Последнее время он несколько раз ловил себя на мысли: а почему же виновность этого красивого, воспитанного парня, так спокойно и уверенно, именно уверенно держащего себя на допросе, не вызывает у него сомнений? «А вдруг не он?»
Костенко проверял Торопову – лейтенант Рябинина прошлась по всем знакомым актрисы: «Душенька, бессребреница, честная и открытая, истинно русская актриса; уходила из двух театров в более низкооплачиваемые только потому, что не хотела играть “макулатурные” роли; никогда не лжет, всегда – правду в глаза… Морально? Сколько вокруг нее вилось, да и сейчас вьется солидных людей, так нет, влюбилась в рядового актера, комнату уже три года снимают в полуподвале». Дежурная в гостинице категорически утверждала, что весь вечер сидела на своем месте и никто, кроме Кешалавы, в номер Тороповой не входил. Костенко пригласил Торопову к себе и долго беседовал с нею обо всех обстоятельствах той памятной ночи в Сухуми.
– Может быть, он был просто пьян? – задумчиво сказала Торопова. – Может быть, не надо так строго судить его.
– Вот так даже? – удивился Костенко. – Всепрощение и благость?
– Просто жаль человека. Он был таким тактичным и внимательным весь вечер; с ним произошла какая-то странная метаморфоза у меня в номере – он стал совсем иным. Я испугалась его. Не всякому актеру дано так сыграть перевоплощение из человека в зверя.
– Значит, пощадим зверя?
– Поругайте его хорошенько – и достаточно. Это ему урок на всю жизнь.
– А то, что он камни из кармана пригоршнями доставал, – это вас не смущает?
– Единственно это и смущает.
– Вот видите. Прошу вас, если получите письмо с просьбой простить его, отказаться от своих прежних показаний, вы позвоните мне сразу же, ладно?»
…Костенко закурил, продолжая разглядывать Кешалаву в упор.
– Так, – сказал он, дождавшись, пока высохли чернила на бланке допроса, – хорошо. Поскольку, как я убедился, вы относитесь к категории клиентов хлопотных, то мне придется просить вас подписывать все ваши ответы. Нет возражений?
– Пожалуйста, – ответил Кешалава, плотнее усаживаясь на стуле.
– Вы утверждали, что все последние месяцы провели на побережье, отдыхая после серьезного заболевания?
– Да.
– Распишитесь. Спасибо. Вы согласны с заключением профессора Лебедева, что вы сейчас совершенно здоровы?
– Да.
– Распишитесь. Угнетенного настроения нет?
– Нет.
– Сон восстановился?
– Да.
– Распишитесь. В половом смысле?
– На этот вопрос я отказываюсь отвечать.
– Почему?
– Я считаю этот вопрос бестактным и не имеющим отношения к делу.
– Я же говорил вам, что в течение последних двух месяцев в Туапсе, Москве, Сочи и Ленинграде прошел ряд изнасилований, аналогичных – по предварительной фазе – тому, из-за которого я задержал вас.
Костенко заметил, как глаза Кешалавы – напряженные, собранные – на какое-то мгновение стали иными.
«Как держится, а?! – поразился Костенко. – Я ему второй раз такого червя пускаю, а он держится. Другой бы хоть вздохнул облегченно».
– Значит, вы продолжаете подозревать меня в изнасиловании?
«То-то, – удовлетворенно подумал Костенко, – хоть в слове дрогнул».
– Вы не ответили на мой вопрос: вы никогда не жаловались на половые анормальности?
– Вас интересует, не являюсь ли я половым психопатом? Нет, половыми психопатами являются, как мне кажется, несколько недоразвитые люди. Кстати, что с моим пиджаком? Много следов крови?
– Я вам отвечу. После отвечу. Пока что мы вернемся к истории вашей болезни. Когда вы отказались от медикаментов?
– Когда уехал на море.
– Значит, последние два месяца лекарств не принимали?
– Нет, какое-то время еще принимал.
– Когда вы прекратили прием лекарств?
– Я опять-таки не понимаю, какое все это имеет отношение к делу?
– Прямое, Кешалава. Чтобы вы не писали писем в Министерство здравоохранения по поводу жестокости милиции: арестовали больного человека. Тогда мне придется сажать вас на экспертизу в клинику Кащенко, а это еще три месяца. Я хочу оградить себя от всякого рода ненужных сложностей.
– Я повторяю, что сейчас совершенно здоров. Последний месяц я отказался от приема лекарств, чтобы организм не привыкал к их постоянному воздействию.
– Вы отказались от приема всех лекарств?
– Да.
– Распишитесь. Вы никогда не пользовались наркотиками?
– Нет.
– Распишитесь. Перечислите, какими лекарствами вы пользовались.
– Седуксен, триоксазин, настойка валерианового корня.
– Это все?
– Да.
– Распишитесь.
«Так. Теперь я застрахован. Он дал ложные показания. У него в кармане было снотворное, которое дают только в психиатрических лечебницах, под надзором врачей, в минимальных дозах. Этим лекарством были убиты три человека. Один убит именно в тот день, когда “больной” Кешалава приезжал в Ленинград, имея прописку в Гагре. И на камнях, которые шлифуют в Пригорске, где работал исчезнувший Налбандов, и в кармане Кешалавы был один и тот же яд, именуемый сильнодействующим “препаратом сна”».
– Это все? Или у вас еще вопросы?
– Мы только начинаем, Кешалава. Как говорят в Одессе, «об все не может быть и речи». У меня вот какой вопрос. Вы откуда прилетели к Милютину примерять костюм?
– С юга.
– Я догадываюсь, что не из Воркуты. Вы в тот период жили в отеле или спали на берегу под шум прибоя?
– Не помню.
– Вы не помните, а я знаю. У вас ведь тогда был номер в «Гульрипше».
– Может быть. Я там действительно несколько раз останавливался, когда были свободные номера.
– Значит, в тот день у вас был номер в «Гульрипше»?
– Это вы говорите. Я говорю, что это могло быть.
– Ознакомьтесь с выпиской из регистрационной книжки. Это данные вашего паспорта?
– Да.
– Распишитесь. Благодарю вас. Значит, двенадцатого вы снимали номер в «Гульрипше»?
– Да.
– Распишитесь. Зачем же снимать номер в отеле, а самому улетать в Ленинград? Зачем?
– Я в Ленинград улетал на один день – три часа туда, три оттуда, утром улетел, днем сделал дела, а вечером вернулся. Или даже на следующее утро. Все равно прилетишь в свой номер. Иначе пойди достань место в гостинице! Не на улице же мне спать!
– Подпишите.
– Зачем вы записываете каждое мое слово?
– Я что-либо перепутал? Приписал от себя? Или записал с ваших слов верно?
Кешалава подписал свой ответ. Костенко решил нанести первый открытый удар – он решил сломать темп допроса. Сейчас, после того, что он скажет Кешалаве, тот перейдет на односложные ответы «да» и «нет». Именно они сейчас и нужны Костенко, они и будут теми капканами, которые он заранее приготовил.
– Вы спрашивали, – начал Костенко неторопливо, – зачем я записал ваш ответ так подробно. Я объясню вам. Видите, вы подписали ваш ответ. Сами подписали, не так ли? «Не на улице же мне спать!» А на прошлом допросе вы говорили, что больше всего любите спать не в гостиницах, а на берегу моря, сиречь на улице.
– «На берегу моря» и «на улице» – это разные понятия.
– От «Гульрипша» до моря не более ста метров. Пошли дальше? У меня вот какой вопрос. Вы всегда снимали одинарный номер?
– Да.
– А если одинарных не было?
– Я платил за две койки.
– Скажите, а в ваше отсутствие никто не мог воспользоваться вашим костюмом? Некто похожий на вас? А?
– Нет.
– Распишитесь. Благодарю. Вопрос: мог ли неизвестный преступник взять у вас из номера костюм и в нем совершить преступление?
– Нет.
– Распишитесь. Почему не мог?
Костенко рассчитал точно: Кешалава не такого масштаба человек, чтобы заглатывать «крючок спасения» – какой-то неизвестный преступник ночью надел его костюм… Нет, он играл свою игру, он не собирался никому подыгрывать.
– Потому что, как вы мне сказали, насильник действовал в разных городах, и еще потому, вероятно, что вы мне устроите очную ставку с жертвами, которые подтвердят, что я не тот, кого вы ищете.
– Распишитесь. Благодарю. Беда заключается в том, Кешалава, что насильник убивал свои жертвы.
– Как?
– Что «как»? Вас интересует, каким образом он убивал их?
– Нет, меня это не интересует. «Как» – в данном случае выражается мое удивление и гнев.
– Значит, вы отвергаете возможность использования преступником вашего костюма?
– Отвергаю.
– Подпишитесь. На сегодня все.
– Вы собираетесь снова отправить меня в тюрьму?
– Обязательно.
– На каком основании, объясните мне хотя бы!
– Кешалава, не надо. Вы, как я убедился, человек умный. Вы же понимаете, что я не могу отпустить вас до тех пор, пока не проверю все версии, существующие по этому делу. Если бы вы мне сказали: «Драгоценные камни, оставленные у Тороповой, я купил за сотню у пьяницы возле базара», – я бы отпустил вас, попросив стать моим помощником в деле разыскания преступника, похитившего государственное имущество. Но, поскольку вы категорически отвергаете сам факт, поскольку вы утверждаете, что Торопова оговаривает вас и никаких камней вы не видели, я не могу вас отпустить. Ну, подумайте, как бы вы на моем месте поступили?
– Вы позволите мне написать еще одну жалобу?
– У меня или в камере?
– У вас, если можно. В камере нас теперь пятеро, эти страшные люди чудовищно ведут себя, какие-то скоты.
– Это верно. Ну, пишите. Вот бумага, перо. Снова в прокуратуру?
– Нет. Я напишу моему депутату. Это, я думаю, будет верней. Депутат – ректор нашего института, он меня прекрасно знает, я для него не единичка в деле, а советский человек, живой человек, кстати сказать.
– Валяйте, – согласился Костенко. – Может быть, вы и правы.
3
Прокурор ознакомился с объяснениями Костенко, который, в частности, указывал, что «Кешалава утверждает, что последний месяц он не употреблял снотворных препаратов, и он отвергает возможность использования его костюма другим преступником. Таким образом, никто, кроме Кешалавы, не мог положить в карман принадлежащего ему пиджака особо опасный, ядовитый “препарат сна”, которым были убиты три человека и серьезно отравлен Налбандов. В оперативных целях от продолжения допроса я отказался, однако изложенное дает основание для дальнейшей перспективной работы с Кешалавой».
– Ну что же, – сказал прокурор, – теперь вы можете предъявить ему обвинение, и это будет законное обвинение.
Когда Костенко вернулся в министерство, было уже шесть. Он хотел было попросить у помощника дежурного машину и поехать к Ларику, чтобы показаться этому самому профессору Иванову, но ему навстречу поднялся улыбчивый, нежноглазый Садчиков.
– С-славик, я хочу тебя об-брадовать. Некий старшина Нодар Гокиэли опознал по фото нашего Кешалаву. Знаешь, где он его видел? Он его видел в горах, около альпинистского лагеря «Труд». И знаешь когда? На следующий день после эпизода с Налбандовым. И з-знаешь что? В т-тот день все альпинисты в м-маршрут ушли, остался один ин-нструктор Ломер Морадзе. Это уже не старшина выяснил, это я, Морадзе – сосед Кешалавы по Т-тбилиси.
Костенко позвонил к Сухишвили:
– Здравствуй, Серго!
– Здравствуй, Славик, генацвале! – Полковник Сухишвили засмеялся. – Тебе уже сказали про нашего горного Пинкертона?
– Спасибо, Серго. Сказали. Ты меня бранить не будешь?
– Тебе, как и мне, к брани не привыкать, Слава. Начальство бранит, жена бранит, общественность тоже не отстает. А что, дорогой?
– Серго, мне надо, чтобы именно ты полетел к Морадзе. Нас с тобой сейчас интересует только одно, самое главное – найти место, где у Кешалавы оборудован тайник. Тайник там, в горах, больше негде.
– Мы еще не отработали линию его тетки. Старуха теперь живет в деревне, старого княжеского рода старуха.
– Тетка теткой, а то, что он сразу после Москвы рванул, как лань, в горы, – это горячей, Серго, это горячей.
4
В шесть сорок пять позвонил Ларик.
– Старикашка, – сказал он неестественно бодро, – я передаю трубку профессору Иванову.
Костенко хотел было ответить, что «такие женские номера у него не проходят» и что это «глупо и неловко», но ответить ничего не успел, потому что услышал голос – странный, сухой, резкий, неинтересный по тембру, но властный и снисходительно-картавый.
– Послушайте, Костенко, это Иванов говорит. Вы давайте-ка приезжайте скоренько. Если денег на такси нет, я одолжу. Вы меня очень интересуете, понятно? Вы мне интересны.
– Я не умею рассказывать.
– Что?
– Я говорю, рассказывать не умею про мою работу. Это вас Лазарь Борисович обманул, что я хороший рассказчик.
– Вы меня интересуете не как рассказчик, вы меня интересуете как больной. Поторопитесь, пожалуйста, я тут задержал рентгенолога.
И положил трубку.
Костенко обернулся к Садчикову:
– У кого бы машину стрельнуть, дед?
– Тебе куда?
– В клинику.
– А что случилось?
– Черт его знает. Съезжу – узнаю. Что-то, говорят, с кровью.
Садчиков позвонил к дежурному, выпросил у него на пятнадцать минут разгонную «Волгу» и подвез Костенко на Кировскую.
Профессор Иванов оказался высоким, барственного вида бритоголовым человеком с громадным перстнем на мизинце.
– Неинтеллигентно все это, – сказал он, не ответив на приветствие Костенко. – Пойдемте, там старуха ждет.
Пока они шли по коридору в рентгеновский кабинет, к «старухе» Блюминой, Иванов продолжал выговаривать Костенко, причем оборачивался к Ларику, будто Костенко здесь и не существовал.
– Кичимся тем, что Кафку читаем, – продолжал ворчать профессор, – а к врачу не ходим. Это же неинтеллигентно: чувствовать боль, усталость, запираться во время рабочего дня, чтобы отдохнуть, и не обратиться к врачу. На Западе люди ежемесячно за большие деньги психиатру показываются, а у нас принудительно не затащишь: «Что я вам, сумасшедший?» Разве не так?
Ларик опасливо посмотрел на Костенко – не стал бы тот спорить. Иванов не терпел, когда ему возражали.
– Игорь Павлович, – заметил Ларик, – этот неинтеллигентный тип спас жизнь вашему учителю.
Иванов споткнулся, словно налетел на стену, даже руки выставил перед собой.
– Это вы?! – Он обернулся к Костенко. – Вы милиционер?
– Он полковник, – обидчиво ответил Ларик.
– Это вы спасли профессора Гальяновского?
– Он, он, – радостно повторил Ларик, – именно он.
– Хорошо, что вы мне сказали, Лазарь Борисович, иначе в гневе я мог бы отрезать ему кое-что еще вместе с аппендицитом… Чем вас наградили за то дело? Гальяновский любит рассказывать о том, как вы его спасли от бандитов. Орден? Медаль?
– Часы «Заря», именные, – ответил Костенко.
– А как здоровье того юноши, в которого стреляли бандиты?
– Рослякова? Ничего. Оклемался.
Они вошли в кабинет, и Ларик шепнул: «Раздевайся».
– А где этот Росляков? Гальяновский сделал на его сердце свою лучшую операцию, ее сейчас изучают студенты.
Костенко не ответил, потому что ему казалось, что этот профессор, как и большинство людей такого типа, говорит так, чтобы не дожидаться ответов, а лишь высказывать свои мысли.
– Так как же у него со здоровьем, у этого Рослякова?
– Со здоровьем у Рослякова хорошо, – ответил Костенко. – Правда, после женитьбы стало ухудшаться.
– Что, дрянь попалась?
– Нет. Она не дрянь. Просто он дурак.
– Так, становитесь сюда, поближе. А что же вы майку не сняли? Бросьте ее куда-нибудь, здесь пол чистый.
Сильные пальцы профессора Иванова властно ухватили Костенко за руки и придвинули к холодному экрану рентгеновского аппарата.
«Вот что значит беззащитность, – подумал Костенко. – А у Даля в словаре совсем не то написано».
– А где сейчас этот Росляков? Вместе с вами? Не дышите. Задержите воздух. Где он? А?
– Мне отвечать или воздух задерживать? – спросил Костенко, чувствуя, как в нем растет раздражение против этого громилы с перстнем.
– Отвечайте.
– Из милиции он ушел. Он теперь…
– Не дышите. Еще ближе ко мне. Не дергайтесь!
– Тут металл холодный.
– Согреется. Так где он?
– В адвокатуре.
– Повернитесь левым боком. Почему ушел? Покашляйте. Нет, активней. Здесь болит?
– Нет.
– Не врите!
– Рядом болит.
– А так?
– Так глаза на лоб лезут. Не жмите больше, а то заору.
– Ну и орите, все равно жать буду. Здесь?
– Нет.
– А если так?
– Болит.
– Здесь отдает или бьет в поддых?
– И бьет, и отдает.
– Правым боком повернитесь.
– Рука не пускает.
– А вы поднимите руку. Кашляйте. Сильней. А теперь не дышите. Больно?
– Вы же велели не дышать.
– Вылезайте и одевайтесь. Лазарь, дайте мне сигарету, мои в плаще.
Костенко тихо спросил «старуху» Блюмину – лет тридцати, хорошенькую докторшу-рентгенолога:
– Что, швах мои дела?
– Кто это вам сказал? – Женщина засмеялась, не отрывая глаз от истории болезни, в которую она что-то записывала. – Дела у вас вполне приличные.
Одевшись, Костенко вышел в коридор. Профессор Иванов стоял возле окна и курил. Ларик что-то быстро говорил ему, но, услыхав скрип двери, обернулся и замолчал.
«Плохо дело», – решил Костенко, и сразу же на смену усталости пришло незнакомое ему доселе странное, несколько суетливое желание – узнать о себе и о своей болезни всю правду. То, что он серьезно болен, стало ему сейчас ясно до конца, и он вспомнил, как на днях еще шутливо говорил жене: «Рачок у меня, Машуля», – и совершенно не боялся этих своих слов, и вдруг теперь он ощутил страх, и сказал себе, что никакого рака у него не может быть, все это ерунда, просто какой-нибудь плеврит или воспаление печени, и он – отстраненно и холодно – засек этот внезапно возникший в себе страх, и отметил промелькнувшую мысль про «обычное» воспаление, и вспомнил, что серьезно больные люди интуитивно выстраивают заслон против правды.
– Профессор, я тоже за интеллигентность, – сказал Костенко. – Я за то, чтобы говорить больному правду. Наверное, это жестоко – слабый обязательно сломится, но не надо следовать врачебной этике, ориентируясь на одних слабых. Для меня высшим милосердием является правда.
Иванов внимательно выслушал его, докурил, размял в пальцах окурок, бросил его на пол («Привык, черт, что за ним все поднимают, – успел отметить Костенко, – и все в руки подают») и сказал:
– Вы больны, и я не собирался этого скрывать. Больны вы серьезно. Рак? Не знаю. Не убежден. Скорее всего, у вас воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы, но это тоже не подарочек – операцию часа на четыре я вам гарантирую. Однако, – он неторопливо двинулся к кабинету Ларика, продолжая властно и картаво говорить на ходу, – я не исключаю возможность злокачественной опухоли, сиречь рака, в правом легком. Из ста семидесяти раковых больных доктор Зарьялова в нашей клинике выписала на работу сто десятерых. Из них более восьмидесяти процентов – люди не старые, вашего возраста. Старики мрут. Я вам сказал все в открытую, потому что лгать действительно нет смысла: вы, вижу, хотите вылечиться, и в вас есть сила. Поэтому завтра же с утра вам надлежит лечь в институт, в онкологический институт.
– Завтра не выйдет.
– Почему?
– Не выйдет, – повторил Костенко. – Так или иначе придется проходить обследование в нашей клинике, я человек служивый, профессор. И потом дело у меня сейчас.
– Это бросьте. Оставьте такие ответы драматургам, которые пишут героические пьесы. Вы нужны государству здоровым, слишком накладно платить пенсии больным.
– Профессор, я это дело не могу бросить. Оно выгодное. – Костенко вдруг улыбнулся и понял, что он улыбнулся сейчас нормально, как улыбаются обычно, а не заданно, от страха и ощущения обреченной, беспомощной неловкости. – Мне за него премию дадут, у нас сейчас премии дают большие, месячный оклад получу. И на все про все мне надо пять дней. Позвольте, а? Я управлюсь за пять дней. Ну не больше, чем за семь.
– Хорошо, торговаться не буду, это не штатное расписание выбивать, – сказал Иванов. – Даю вам неделю при условии, что завтра и послезавтра вы проведете у меня утро – надо сделать обследование загодя. Я ведь не убежден, что у вас рак, отнюдь не убежден. Как говорится, фифти-фифти. Но имейте в виду: каждый день сейчас может иметь решающее значение. Каждый. Если наши исследования покажут, что отсрочка невозможна, ляжете завтра же. Начальнику вашего госпиталя я позвоню, он меня знает – мои ученики консультируют у вас онкологию.
5
– Слава! С-слава!
Костенко обернулся: на скамеечке, под деревом с уже облетевшей листвой, сидел Садчиков.
– Это Садчиков, – удивительно незнакомым Ларику голосом сказал Костенко. – Дед. Дружок мой. Знакомься.
– Влас.
– Ч-что? – не понял Садчиков.
– Я – Влас, это моя фамилия.
– Ах, так. А я С-садчиков. Ну что, Слава? Ч-то у тебя обнаружили эскулапы?
– А леший его знает. Воспаление селезенки. Так что ли, Ларик?
– Почти.
– А я ч-что-то волновался.
– Ну, в общем, правильно делал. Через неделю я, брат, покидаю тебя: кладут в клинику. Да, Ларик, я забыл спросить: на сколько он меня ухайдакает?
– Больше месяца они не держат, Слава. Там весь курс месяц. А если придется удалять пузырь, тогда недели две.
– Не надо п-позволять вырезать из себя н-ничего. В организме нет лишних д-деталей.
– Пошли посидим куда-нибудь, мужики? – предложил Костенко. – У меня есть в загашнике десятка.
– Если т-ты решил «посидеть», значит, н-ничего серьезного, – сказал Садчиков, – а если н-ничего серьезного, тогда я двину домой.
Когда он ушел, Костенко сказал Ларику:
– Стареет дед. Теперь его можно обмануть.
– Так ты его ведь не обманывал, ты ему правду сказал.
– А что, по-твоему, лживой правды не бывает? Пошли в пельменную, Ларик, а? Мы студентами всегда в пельменную ходили.
– Пошли. И не кисни, брат… Я знаю, как Иванов говорит с теми, кому по-настоящему плохо.
– Ларик, милый, не надо… Моя проклятая профессия научила меня кое-чему – я точно отличаю ложь от правды, и я еще пока не так постарел, как Садчиков. Ты мне лучше посоветуй, говорить Маше или нет?
– Не стоит.
– Но она же увидит вывеску: «Институт онкологии»…
– Не увидит. Скажешь, что у тебя только один день для посещений, а я буду переводить тебя в этот день в терапевтическое отделение, там главный – мой дружок… Слушай, а может, нам не ходить в пельменную, брат?
– Нет. Пойдем в пельменную. У меня есть в загашнике десятка, и потом снова хочется почувствовать себя студентом.
Первый раз его привел сюда Левон, который уже успел по обыкновению перезнакомиться с поварами, официантками, с бухгалтером и заведующим. Когда он входил, все кидались к нему: «Здравствуй, Левушка! Спой, Левушка! Новый анекдот, Левушка!» И он пел новую песню – они здорово умели это делать с Митей Степановым на два голоса; рассказывал анекдот; чинил гардеробщице Екатерине Савельевне будильник; проводил воспитательные беседы с пятнадцатилетним сыном поварихи Эльвиры (ее сын сейчас защитил кандидатскую в «тонкой химической технологии»); выступал свидетелем в суде, когда муж буфетчицы Анны Павловны убежал от алиментов в Якутию. Он был в пельменной своим человеком, и ему разрешали самому делать особые пельмешки для друзей; когда кончалась стипендия, Левону верили в долг, и он приводил с собой Митю Степанова с Костенко и, подперев лицо кулаками, улыбчиво наблюдал, как друзья уплетали суп харчо.
Как-то раз по прошествии нескольких лет Степанов пригласил их сюда: у него вышла первая книга, и он решил отметить это не в ресторане и не в писательском клубе, а именно в их пельменной – маленькой, тихой и до щемящей боли в сердце родной – чем дальше уходит молодость, тем больше людей тянет к тем местам, где она проходила.
Они собрались здесь в семь часов; Степанов ждал их неподалеку.
– Устроим пир, Левон, – сказал тогда Степанов. – Коньяк у меня в портфеле, а пельмени ты сделаешь по люксовому классу.
– Пельмени будут «экстра-примочка, ультра-потрясочка», – сказал Левон и открыл свой портфель. – Видите, животные, я купил на рынке не только сметану и сало, но и сунели, киндзу и аджику…
– А будильник-то зачем? – удивился Костенко. – Или ты регламентируешь свое киновремя даже на вечеринке?
– Чудак, это для гардеробщицы, для тети Кати… Эльвире я тащу польскую губную помаду, Анне Павловне сеточку волоку, это, говорят, дефицит – сеточка для волос.
Костенко и Степанов тогда переглянулись и тут же опустили глаза – стало неловко за себя и гордо за Левона.
Они вошли в пельменную. Вместо тети Кати сидел старик, Эльвира уехала в Геленджик, а Анна Павловна умерла…
– Ладно, – сказал Левон. – Будильник я подарю старику, пусть слушает, как тикает… Ничего… Только давайте все-таки иногда будем сюда приходить, а? Если очень хорошо или очень плохо, ладно?
6
Из пельменной Ларик позвонил Степанову. Тот приехал через полчаса.
– Ты что, полковник? – сказал он, стараясь бодро улыбаться. – С ума сошел? За модой погнался?
– Что будешь пить?
– Я за рулем.
– Оставь машину. Пройдемся пешком. Что касается моды, то это Ларик паникует. Я в свой нюх верю. Рака нет. Нет у меня рака, понимаешь? Нет… И давайте поставим точку на этом вопросе. Меня ведь успокаивать не надо. Будь здоров, писатель!
– Будь здоров, сыщик! Будь здоров, лекарь!
Пельмени давно остыли, склизкое серое тесто расползлось, и стала видна начинка – крохотные катышки мяса.
Костенко усмехнулся:
– С каждой порции повар имеет копеек пять чистой прибыли.
– А что ж ты смеешься, полковник? – спросил Степанов. – Пойди на кухню и арестуй его за воровство.
– А санкция? Нет у меня на это санкции, и это прекрасно, Митя, что я не могу пойти и запросто так арестовать повара.
Степанов смотрел на Костенко, похудевшего за эти дни, желтого, с запавшими, в мелкой сеточке морщин глазами, и думал со страхом: «Славка Костенко, господи, Славка, только-только, казалось бы, окончивший университет, только-только переселившийся из тесной коммуналки, только вроде бы начавший работать в полную силу!» Он вспоминал, как всего год назад Слава чуть не каждый день приезжал за ним, тормошил, не давая тоскливо, в оцепенении сидеть за столом над чистым листом бумаги, увозил в бассейн, заставлял плавать километр, играть в мяч, а когда понял, что Степанов наконец пришел в себя и тоска в его глазах исчезла, снова стал пропадать по неделям, лишь изредка позванивая. У него была поразительная способность появляться именно тогда, когда Степанову плохо, – то есть не пишется, а когда не пишется, жизнь кажется пустой, надоедливой и скучной. Для него, Степанова, Костенко стал той постоянной силой, на которую можно во всем опереться. И вот сейчас он, Славка Костенко, пытается шутить, избегает смотреть тебе в глаза, боясь прочесть в них страх, и боль, и отчаяние, старается казаться спокойным, уверенным. Но Степанов-то видит, что все это не так, он-то знает Костенко, он сразу заметил, как изменился Слава за один этот день – такой обычный, слякотный, суетливый, такой нежданно страшный день…
– Слушай, литератор, – сказал Костенко, заказав еще по сто граммов, – знаешь, что мы сейчас сделаем?
– Выпьем.
– Ты всегда был прагматиком, Митя. Выпьем – это тактика. Я тебя о стратегии спрашиваю.
Ларик сказал:
– Стратегия – это завтра же лечь в больницу, брат.
– Через неделю. Мы уже уговорились. А стратегия ближайшего порядка – это проводить тебя домой. А потом у нас с Митей останется одно дело.
– По бабам тебе сейчас ходить не стоит, – проворчал Ларик.
– Это ты, друг, брось! Я с первого дня, как поженился на Марье, чувствовал себя абсолютно свободным. И не безразлично свободным, – с задумчивой улыбкой продолжал Костенко, – а свободным по-настоящему, как, наверное, и должен быть свободен каждый мужчина. Тогда бы измен не было. Я считаю, что только действие рождает противодействие, да и клады ищут лишь голодные люди. Нет, мы с Митькой поедем сейчас в один дом. Ты не сердись, Ларик, там должны быть только он и я.
– Не надо, Мить, – сказал Костенко, когда они отвезли Ларика домой, – не хорони меня покуда. Я тебе правду говорю, чудак, я не верю. Понимаешь? Не просто так, как олухи не верят. Я не верю по логике. Он у меня не имеет права быть. За что? Не за что мне это, понимаешь?
Степанов подумал: «А за что он был у Левона?»
– Левон – другое дело, – продолжал Костенко, словно бы услыхав Степанова. – В вашем деле все не так, как у нас. Вам приходится воевать друг с другом, а это страшная драка, в ней гибнут самые сильные – те, кто не может делать подлостей, те, кто берет удар на себя. У меня каждая победа – как стеклышко. Я спокойно сплю по ночам, мне не надо мучительно вспоминать те поражения, которые я вынужден был нанести своим же, чтобы победить. Понимаешь меня? Я знаешь куда тебя сейчас веду? Я тебя веду к бабе Наде. Старушка тут живет, во флигеле, вдвоем с внуком. Ее дочку тоже звали Надей. Тут осторожней иди, здесь ямы, ноги можно сломать. Я у них часто бываю. Семнадцать лет я у них бываю. Если что со мной случится, Митя, тебе над ними шефствовать. Направо поверни, Митя. У нас строители – как вандалы: кругом все рушат, после них Куликово поле остается, а не стройплощадка.
Костенко остановился возле маленького грязного парадного. Желтый свет тусклой лампочки освещал его лицо. Глаза были странные. Он смотрел на Степанова холодно, с прищуром.
«Неужели те, что уходят, начинают обязательно ненавидеть живых? Это ж Славка, не может этого быть! – подумал Степанов, – Или это закон, общий для всех?»
– Слушай, Мить. Погоди, я отдышусь. Ты послушай, а потом скажи твое мнение, оно мне сейчас очень важно. Помнишь, я с вами не поехал в Архиповку, когда были ты, Левон, Федоровский, Цветов, Великовский, Сметанкин – вся ваша «Потуга»? Помнишь?
– Помню.
– Это было в пятьдесят четвертом, когда мы все кончили учиться.
– Чего это ты заговорил, как в некоторых пьесах: «Здравствуй, Коля, как ты помнишь, я – твоя жена, Нюра…»
– Слушай, Мить, ты не перебивай меня, не надо. Я знаешь почему тогда с вами не поехал? Я в глаза вам всем стыдился смотреть. Помнишь, я рассказывал, что взял Шевцова? Это дело у меня ведь еще в пятьдесят четвертом началось. Надя, – он кивнул головой на дверь, – беспутной была, воровала по мелочам, а красива была, Митя, как красива! И умница. Безотцовщина, голодуха – вот и пошла по рукам. Я ее на допрос вызвал – это был первый в моей жизни допрос, – и как она стала мне рассказывать про свою жизнь – не знаю, почему Надя со мной так открыто заговорила, может, умнее меня была, а может, я ей странным после наших участковых показался, – как начала она мне задавать вопросы, Митя… Словом, я назавтра пошел к комиссару и потребовал ее освобождения. Посмеялись надо мной, и все на этом кончилось. Надо было мне вывезти ее на места преступления – там, где ее дружки воровали. Я ее вывез, машину отпустил и весь день с ней по городу ходил: в Третьяковку отвел, кино в «Ударнике» показал, «Судьбу солдата в Америке». Накормил в кафе. На речном трамвайчике ее катал. Потом она меня попросила к яслям отвезти, где ее сын Колька жил. Из-за забора на коляски смотрела, слезинки не проронила, только зацепенела вся, когда услыхала, как няньки детишек баюкали. Ясли там хорошие были. В общем, на следующий день она мне сказала, что Шевцов живет на малине, тогда еще малины были, у Фроськи Свиное Ухо. Сделали мы облаву, а он, отстрелявшись, ушел, гад. Она мне предложила найти Шевцова – он у нее первым был. Я с этим ее предложением к комиссару – добиваться санкции на ее освобождение. Хмыкал, правда, комиссар, считая, что все это сантименты: «Ершистая девка, такие всегда свой смысл первей нашей выгоды держат. Если бы она приблатненная была, тогда легче, мне их хитрость сразу видна, а тут – кто его знает. Смотри, на твой риск отпускаю, шею тебе буду ломать…»
В общем, через три дня она мне позвонила. Я пришел сюда. Ее мать – баба Надя – чай поставила, тихая, на всю жизнь испуганная старуха, собралась было уходить, чтоб нас одних оставить: Надя ее к этому приучила. «Останься, мама, – Надя ей тогда сказала, – посиди с нами, попей чайку, чтоб лучше этого парня запомнить». – «А чего ж мне, доченька, его запоминать? Пришел, да и уйдет…» – «Это верно, мама, только он мне помог. Я сама-то все никак не решалась, силы не было в людей поверить». Попили мы чайку, мать вышла за перегородку чашки мыть, а Надя мне говорит: «Сегодня-то обещали к хахалю моему отвезти, вроде бы хочет он повидаться со мной, спросить, как сын живет. Колька-то ведь от него». Что-то в ней тогда новое появилось, когда она заговорила, – жестокое, холодное. «Я к вам рано утром позвоню, – сказала она, – когда он еще спать будет. Убаюкаю я его накрепко». – «Неужели ты после этого сможешь мне звонить?» – спросил я и, видно, за лицом не уследил – помнишь, как нас учили за лицом следить, Митя? «А когда он меня отдавал своим дружкам? Как подушку передавал надоевшую… Он мог?!» И знаешь, Митя, не поверил я ей, не поверил и пустил за ней наблюдение. Не поверил. Понимаешь? Довели ребята ее до дома, на Молчановке этот домик, сейчас еще стоит, позвонили мне, ринулся я туда, а в комнате лежит Надя с перерезанным горлом и записка на груди: «Смерть сукам». Может, Шевцов увидел наших людей, или она ему высказала все, что думала о нем, – не знаю, только я до сих пор чувствую свою тяжелую вину, Митя. Может, за это мне все сейчас и отливается? А? Но ведь я потом Шевцова один на один брал, за нее подставлялся, готов был смерть принять – разве я виноват, что он выпустил всю обойму в сантиметре от моей головы? Как ты думаешь, а?
Костенко не дождался ответа Степанова, вошел в парадное, позвонил в дверь, обитую драной черной клеенкой. Старуха, увидав Костенко, радостно запричитала, из комнаты вышел высокий парень, красивый странной, диковатой красотой, улыбнулся Костенко, а когда тот его обнял, вдруг закрыл глаза и потерся щекой об его висок, словно совсем маленький…
Степанову стало страшно смотреть на Костенко, когда тот обнимал этого парня, сына бандита Шевцова и Нади, погибшей из-за того, что Костенко не смог ей поверить…
XI. Финт – выгода и вред
1
Утром, приехав из клиники, Костенко растерялся – так сенсационна была экспертиза, проведенная полковником Романовым из УБХСС. Она свидетельствовала о том, что производственные мощности станков, особенно новых, дефицитных, на аффинажной фабрике в Пригорске практически не эксплуатировались. Мощные агрегаты, сверкавшие хромом и нержавейкой, не отдавали государству прибыль; таким образом, эти умные машины ежедневно и ежечасно приносили стране убытки, ибо в балансе целесообразности отсутствие прибыли никогда не бывает «пассивом», это всегда «активный» убыток.
Василий Романов, умница, человек широко образованный, обладающий природной сметкой, проведя экспертизу, доказал, что на этом предприятии творится неладное. Предстояло теперь выяснить, что именно. Возможно, всему причиной бесхозяйственность, нерадивость, а может быть, чья-то злая корысть.
Костенко быстро встал из-за стола и пошел на четвертый этаж. Он отметил, что поднялся по лестнице быстро, как раньше, без опасения потревожить свою боль. «Только так и надо, – думал он, поднимаясь к Романову, – иначе я превращусь в забитого, несчастного пациента, который смотрит на врача, как невинно арестованный – на следователя».
– Вася, – сказал Костенко, – я не поленился сделать четыреста шагов, чтобы лично поблагодарить тебя, преклонив колени.
– Видишь ли ты, милый, мне, конечно, приятно видеть тебя коленопреклоненным, – начал Романов, он говорил словно бы распевая каждую фразу, делая ее хитрой, как конспиративная квартира, – но благодарить меня не за что! Мне было самому интересно проводить этот анализ.
– Ты все изложил в заключении?
– Видишь ли ты, – продолжал петь Романов, – изложить все невозможно, ибо так или иначе втуне останутся мои эмоции, их все же не выразить шершавым языком документа.
– Сейчас ко мне придет директор этой самой фабрики, Вася. Ты бы не помог мне построить с ним беседу?
– С ним, Слава, беседовать бесполезно. Его надо допрашивать. А потом сажать. Там «панама», Слава. Там крупная «панама».
– А если не сажать? Мне невыгодно его сажать. Мне надо посмотреть, как он себя будет вести дома. Или ты опасаешься, что там он сможет быстренько все упрятать, замести следы и тем самым помешать расследованию?
– Видишь ли ты, – с готовностью пропел Романов, – тут ведь экономика, тут, не в обиду угрозыску будь сказано, серьезное преступление, Слава. Экономику можно развалить очень скоро, а вот поправить или изменить – это куда как сложней, мил дружочек. Он, твой директор, ничего не сделает даже за год. Наша бюрократия в сфере сбыта и снабжения, может быть, и раздражает, но она зато гарантирует, что жулика мы поймаем, обязательно поймаем. И что тут лучше, мил дружочек, я не знаю, а может, знаю, но боюсь тебе сказать.
– Посмотри на моего пациента, Вася, а? Потом выскажешь свою точку зрения. Ты ведь историю вопроса знаешь?
2
Пименов даже чуть вздрогнул, когда Костенко, ознакомив его с заключением экспертизы – «запоры и решетки на окнах хранилища фабрики в полном порядке, меры охраны соблюдаются неукоснительно», – достал вторую папку, толстую, состоящую из доброй сотни листов, и сказал:
– А здесь у нас экономическая экспертиза, товарищ Пименов. Вот мне и хочется уточнить с вами ряд вопросов. Если мы все успеем оговорить, сегодня же можете возвращаться домой.
– Да разве за день все эти документы просмотришь, товарищ Костенко?! Тут недели – и то не хватит.
– Видите ли, – вступил Романов, – нас интересуют только результативные данные, в мелочи вдаваться нет смысла.
– Это товарищ Романов, – пояснил Пименову Костенко, – он экономист, помогал нам в проведении экспертизы. Вы не возражаете, если он нам и сейчас поможет?
– Да, господи, чего ж возражать-то?! Пожалуйста, пусть помогает. Вы, товарищ Романов, экономист по какому профилю?
– По широкому, товарищ Пименов, по широкому.
– Тоже сотрудник?
– Я кандидат экономических наук, моя тема – «Использование производственных мощностей».
«Вот оно, – понял Пименов, – копают, бесы, копают. Только б он меня домой отпустил, только бы отпустил!»
– Пожалуйста, здесь об ответственности за дачу ложных показаний подпишитесь, – сказал Костенко, – и начнем. Как бы это точней вопрос сформулировать, – он обернулся к Романову, – по поводу станков?
– Видите ли, товарищ Костенко, – чуть откинув голову и прикрыв глаза, ответил Романов, – меня, как эксперта, интересует: известна ли директору завода мощность поступавших к нему станков?
– Так и сформулируем. Пожалуйста, товарищ Пименов.
– А я чего-то не пойму, товарищ Костенко, зачем вам это? Не пойму я, какое это отношение имеет к тем камешкам, которые вы мне показывали?
– Камни пропали с вашей фабрики, не так ли?
– Точно так.
– Вот нас и интересует всё относящееся к вашей фабрике: если, как вы утверждаете, из складских помещений нельзя было похитить камни, если в хранилище имели доступ только проверенные люди, то мы теперь вынуждены пойти по всем линиям поиска. Вопрос понимаете?
– Чего ж его не понимать? Конечно, понимаю. Как же директору может быть неизвестна мощность станка? Если б я был белоручка какой или там ученый, а то я сам от станка.
– Что-то вы в лирику ударились, товарищ Пименов! – Костенко заставил себя улыбнуться. – Впервые это у нас с вами. Итак, производственные мощности станков вам были известны?
– Конечно.
– И вы знали производственные мощности всех тех новых станков, которые приходили на фабрику?
– Да, знал.
– Вы связывали производственные мощности новых станков с планами выпуска продукции?
– Этим занимался отдел.
– А вы?
– Я доверяю моим сотрудникам.
– Видите ли, – включился Романов, – эти вопросы не могут не волновать и меня, экономиста, особенно в связи с проводимой реформой. У нас часто руководители выпрашивают себе станки «с запасом». Но при этом такие руководители и план составляют «с запасом».
– Как же без этого! – Пименов ухмыльнулся. – Запас карман не тянет.
– Тогда я ничего не могу понять, товарищ Пименов. Учитывая все входящие показатели, производительность труда на вашей фабрике и в сопредельных с ней мастерских должна была увеличиться на шесть процентов. А увеличилась она всего на полтора процента. Как это объяснить?
– А кто эти шесть процентов вывел?
– Экономисты, – сказал Романов. – Проверили на ЭВМ.
– Вот когда нас ЭВМами снабдят, и мы так будем считать. А пока мы на счетах расклад ведем, и это не только на моей фабрике – стоит вон «Правду» открыть, – все время об ЭВМ вопрос поднимают!
– Тут вы правы, – согласился Романов, – это общая беда, спору нет.
– Вот вы бы, экономисты, нам и помогли. Мы проезд оплатим, и дом для приезжих у нас великолепный, приехали бы к нам на месяц-другой, научили бы уму-разуму.
– У меня еще один вопрос, – перебил Костенко, – новые станки к вам стали прибывать три года назад, а план реконструкции вы когда сделали?
– Хороший хозяин всегда загодя готовится, товарищ Костенко.
– Значит, три года назад у вас уже был готов план реконструкции?
– А как же! Конечно.
– Можно будет с ним ознакомиться?
– Он в голове у нас был, этот план, в голове, товарищ Костенко.
– Тогда неясно, на каком же основании вам отпускали уникальные станки? Разве под мысли, даже самые интересные, у нас станки отпускают?
Романов поправил:
– Выделяют, Владислав Николаевич. Про станки говорят «выделяют». Отпускают розничный товар. Фондовый товар выделяют после соответствующего решения плановых организаций.
Костенко был убежден, что Пименов давно ждал вопроса о том, кто выделял ему станки, и загодя приготовил ответ. Поэтому Костенко решил нанести неожиданный удар:
– А что с Налбандовым?
– Чего?
«Оп! Вот он и дрогнул. Растерялся передовой директор. Значит, я верно шел. И дальше надо будет идти по двум направлениям. И он выведет меня и на Налбандова, и на проскуряковскую смерть, – подумал Костенко, доставая сигарету. – Так и пойдем с ним».
– Владислав Николаевич, – пропел Романов. – Если вы позволите, я пойду, у меня совещание назначено.
– Да-да, благодарю вас, Василий Силыч.
«А чего ж ты кандидату наук пропуск не отмечаешь? – подумал Пименов, посмотрев вслед Романову. – Все. Обложили, бесы».
– Пропуск у секретаря отметьте, – сказал Костенко.
– Я помню, – ответил Романов и вышел.
«Или паникую? Может, паникую? Может, не обложили? Может, этот длинный черт и вправду кандидат?»
– Так вот, я Налбандовым интересовался.
– Да-да, понимаю. А что вас интересует? Работник он хороший. Передовик.
– Нет, я интересуюсь, где он сейчас?
– Болен. Поехал в командировку и заболел. – Пименов чуть улыбнулся. – Я-то думаю, он сердцем заболел. Влюбчивый он.
– Вы его не навещали?
– Где?
– А он где сейчас?
– А я не знаю.
– Давно болен?
– Да уж с неделю.
– А кто его замещает на фабрике?
– Этот, как его… Афонин. Отставник, серьезный товарищ. Вы что, на Афонина думаете? Нет, кремень, а не человек, честнейший партиец.
– Вы его в прошлый раз не назвали.
Зазвонил телефон.
– Костенко слушает.
– Слава, – пропел Романов, – ты трубочку прижми к уху, мил человек, прижми. Интересный у тебя сегодня клиент, Слава. За ним – большое дело стоит. Я тут копии экспертизы еще раз поглядел. Пименов-то покойного Проскурякова, видно, крепко за кадык держал. Ты бы попросил ваших ребят поспрошать в главке о покойничке. У них сговор был, Слава. Да, да, входите, Иван Гаврилович. Ну, до свидания, дорогой, ко мне, вишь ли ты, тоже гость пожаловал.
– Скажите, товарищ Пименов, – положив трубку, неторопливо продолжал Костенко, – как же так – столько времени Налбандова нет, а у вас никто даже о человеке не побеспокоится?
– Так молодой он, товарищ Костенко, у кого такого не бывало.
– Что, прекрасная полячка?
– У него? Полячка? – Пименов подался вперед. – Иностранка?
– Вы вообще-то хорошо Налбандова знали?
– Неплохо.
– А почему ни разу меня о нем не спросили?
– Я? А почему я должен вас спрашивать?
– Товарищ Пименов, вам ведь не случайный прохожий предъявлял фотографию Налбандова на опознание, а сотрудник милиции. Предлагали вам его опознать по фотографии?
– Предлагали.
– И вы даже после этого не обеспокоились его судьбой?
– А я и не думал, что у него полячка какая.
– Нет у него полячки, у Лжедмитрия была, – сказал Костенко и положил перед Пименовым паспорт Урушадзе с фотокарточкой Налбандова. – По чужим документам жил в Москве ваш технический контроль.
– Неужели он? Неужели, подлец, расхищал добро? – спросил Пименов и неуверенно посмотрел на Костенко, стараясь угадать по его глазам, чего ждать дальше.
– Пожалуйста, постарайтесь припомнить: часто ли раньше этот Налбандов так задерживался в командировках?
– Нечего вспоминать: никогда у него такого не бывало.
– А в связи с чем вы так часто отправляли в Москву начальника отдела технического контроля?
– Я? Я не отправлял.
– А кто отправлял?
– Мой заместитель.
– Но вы-то об этом знали?
– Я? Знал. Но в мелочи я не входил – едет, значит, надо. Он уезжал, между прочим, в такие дни, когда продукция не шла. Не нужен он тогда был, ну и уезжал. С высшим образованием, инженер, пусть посмотрит на новшества, потом пригодится.
– Новшества он смотрел за счет государства?
– Ну тут таить нечего, за свои деньги он не ездил. Это, конечно, вы правы, непорядок.
– Это нарушение финансовой дисциплины, за это к ответственности привлекают. И последнее: я тут посмотрел ряд документов. Странное получается дело. Проскуряков вам за три года выделил станков больше, чем всем остальным фабрикам.
– А вы посмотрите, сколько раз он мне отказывал. Проскуряков-то! О покойнике не полагается говорить плохо, но ведь сколько я просиживал у него в приемной, сколько раз от ворот поворот получал!
– Я эти отказы читал. Вам отказывали в ерунде. Или в явно завышенных просьбах. А получали вы самый дефицит, в котором у Пригорской фабрики и нужды-то не было.
– Я даже не знаю, как на такой вопрос ответить, товарищ Костенко.
– Подумайте.
– Да и думать нечего. Странный этот вопрос. Недоверие я в нем вижу.
– Правильно видите.
– Это как же так?
– Да вот так. Зачем вам нужны были станки, для которых в цехах даже места не было?
– А кооперация на что?
– То есть?
– Я с мастерскими кооперировался, пока до реконструкции фабрики еще далеко.
– Выход продукции был чей: ваш или мастерских?
– Этого я сейчас точно не помню. Вы ж протокол пишете – с потолка отвечать не стану. Позвольте, я свяжусь сейчас с заводом и представлю вам официальную справку по поводу этих станков.
– Пригорска приходится ждать три часа, линия загружена.
– Так я срочный разговор закажу. Дело-то экой оборот неприятный получает. И с Налбандовым этим вы меня огорчили. Когда мне показали фото, я, конечно, сразу его узнал, а наш начальник райотдела милиции меня успокоил. «Ничего, – говорит, – страшного с ним не случилось». А сейчас все одно к одному. Ох, господи, и сердце вон сразу прижало. У вас валидола нет, товарищ Костенко?
– Увы.
– Я хоть до аптеки дойду, если позволите.
– Пожалуйста. Здесь, на улице Герцена, есть аптека, это рядом.
3
Однако Пименов не вернулся к Костенко. Не появлялся он и в гостинице. Костенко обзвонил все больницы и морги – Пименова там не было. В девять вечера был объявлен розыск Пименова, но утром следующего дня из Пригорска позвонил начальник милиции и, чуть усмехаясь, сообщил, что ему не совсем понятно, зачем объявлять розыск Пименова, если он сейчас у себя в кабинете проводит экстренное совещание.
– Что за совещание? – поинтересовался Костенко. – Тема?
– Тема нужная – о борьбе с разгильдяйством. Из районной плановой комиссии пригласил людей, от нас, из горисполкома – всех шерстит, говорит, что его под позор подвели.
– Понятно, – задумчиво сказал Костенко и осторожно притронулся к ребрам – их намяли ему сегодня в клинике Иванова, и постоянная тупая боль теперь разошлась по всему животу. – Понятно, – повторил он. – Значит, вот что. Вы за ним, пожалуйста, смотрите как следует.
– То есть?
– Ну как мы смотрим? Неясно? Наблюдение за ним пустите.
– Так он же возвращается в Москву. Он сказал, что прилетел на три часа совещание собрать, документы приготовить, – и мигом обратно.
– Вот вы его до самолета и доведите.
– А санкция?
– На меня сошлитесь.
– Сослаться, конечно, можно, но ведь документа нет. Вы меня правильно поймите, товарищ Костенко. Что за ссылка без документа? Кто ее к делу приобщит?
– Хорошо. Положите трубочку, я сейчас перезвоню и дам вам официальную телефонограмму.
– Только учтите. Пименов у нас в области – уважаемый человек. Всегда в передовиках и на Доске почета… Я должен райком поставить в известность.
– Поставьте, это разумно во всех смыслах. И скажите, что я его привлекаю к уголовной ответственности. Завтра я вам вышлю копию постановления.
«А может быть, мне сейчас надо лететь в Пригорск? – подумал Костенко, положив на рычаг телефонную трубку. – Ведь он туда ринулся не для того, чтобы совещание провести, – это как божий день ясно, Налбандов-Урушадзе. Ей-богу, он за этим туда полетел. За чем же еще? Неужели он рассчитывал за день документацию подчистить? Наивно это, он человек деловой. Только Налбандов. Уговаривать будет, чтобы Налбандов взял все на себя. Где Налбандов? Его же нет. А может, он скрывается у Пименова дома? А что, если директор решил скрыть его навсегда, – очень заманчиво возложить на покойника всю вину за хищение. Нет, хозяйственник такого уровня на мокруху не пойдет, не должен Пименов идти на убийство. Он что-то другое предложит. А что?»
Костенко снова связался с Пригорском.
– Слушайте, майор, у меня к вам еще одна просьба. О Налбандове у вас нет никаких новостей?
– Никаких.
– Вы бы посмотрели аккуратно квартиру Пименова, может быть, он там?
Костенко услышал на другом конце провода смех: майор смеялся, закрыв ладонью трубку.
– Хорошо, товарищ полковник, – покашляв, сказал начальник райотдела милиции, – мы это сделаем, если вы так считаете.
– Ну так вот, – озлившись, сказал Костенко. – Налбандов сейчас в ваших краях.
– Это чьи данные?
– Мои. Мои данные. Извольте проинструктировать своих сотрудников. Ясно? Налбандов где-то в ваших краях, и он очень нам нужен. А я к вам завтра прилечу, я заказываю билет на утренний рейс.
4
Попросив задержаться после совещания начальника охраны и своего заместителя, Пименов, откашлявшись, сказал им:
– Я сразу на самолет, товарищи. Возвращаюсь в Москву допивать чашу моего позора. Хочу вам вот что сказать… Сегодня же проведите собрания в цехах по вопросу о бдительности. Это раз. Проинструктируйте ВОХР: пусть задерживают всех подозрительных, кого заметят на территории и рядом с забором. В случае отказа добровольно сдаться – стрелять. Стрелять мерзавцев! Для бандита не такой уж большой труд сделать дубликаты ключей к замкам на дверях хранилища. Милиция тщательно проверила, не было ли взломов. А зачем им быть? Кто-то из своих может дубликат ключа сделать – вот тебе никакого взлома и в помине нет. Пусть наша «вохра» оружие проверит, а то, я думаю, оно у нас в смазке лежит. А ты, – Пименов обернулся к своему заместителю Гусеву, – следи, чтобы экономисты завтра же расчет закончили. И чтобы с выкладками попонятней – и про пользу кооперации, и про необходимость прямых связей, чтоб было ясно тем, кто хочет нас компрометировать, – мы стояли, стоим и будем стоять на страже народного рубля. Мы всегда руководствовались тем, как лучше. Плохо старались – поправьте, укажите на ошибки, а напраслину на коллектив валить не позволим, времена не те…
5
Прошлой ночью, прилетев в Пригорск, Пименов решил сразу же отправиться в горы. Выкатив из сарая мотоцикл, он собрался было предупредить жену, но окна в доме были темные – старуха ложилась спать рано. «Затемно вернусь, – подумал он, – она и не поймет, вечер или утро. Ничего, сейчас важней всего в горы попасть, пока меня еще никто не хватился». Он посмотрел, как в сарае навалены дрова на тайник, подумал, не прихватить ли с собой деньги и золото, но потом решил, что не стоит, – тайник надежен, да и вряд ли дело дойдет до обыска, особенно после того, что он решил предпринять.
Человек многоопытный, по-своему умный, быстрый в решениях и точный в логическом рассуждении, Пименов, выстраивая сейчас линию поведения, допускал ошибку, типичную для всех тех, кто осознанно стал на путь преступления. Пименов упустил обстоятельство весьма существенное: всякое преступление открывается – рано или поздно, но обязательно открывается, ибо тайное, связующее преступников, всегда слабее явного, объединяющего людей закона.
В пять часов утра Пименов вернулся домой, поставил мотоцикл в сарай и, стараясь не разбудить жену, сразу же лег в постель. Но он не уснул ни на минуту.
«Ах, бесы, бесы, – думал Пименов, осторожно отодвигаясь от жены, – кругом одни бесы. Друг за другом смотрят, друг другу поперек дороги становятся, забывая, что всё тленом станет. Насчет связи с Проскуряковым я отобьюсь, это факт. Почему он мне станки давал? Потому что я передовой, кому ж их еще давать? Тем, кто вечно в прорыве? Только про это я говорить не буду, пусть про это общественность скажет. Справки в архивах поднимут, там есть хорошие справки. Нет, главное сейчас с Налбандовым решить, дай бог, чтобы все сошло так, как я разметил. Если все с ним сойдет, я буду чистым. Это я правильно сделал, что про его Степика, про брата начал… Это он сразу проглотил. Он для брата сейчас на что угодно пойдет, чтоб только Степика своего не позорить. Змей, как за шкуру свою дрожал: “А вдруг охрана меня заметит?” Глупый он человек, поддающийся внушению. Другой бы начал из меня жилы мотать: “Убери охрану, патроны у них забери…” А этот на мое честное слово пошел, без гарантий; думает, наверно, что я о нас обоих радею… А за халатность пусть тянут, это, в конце концов, условное дело – в самом худшем случае. Ах, Налбандов, Налбандов, ах, бес, как вертелся! Вот пусть за ложь и расплачивается. “Вы убеждены, что все обойдется благополучно?!” Ишь, как смотрел на меня. Как на пророка Моисея пялился… Предатель, гнус. Верно говорят: все можно прощать, всех, а вот предателей прощать нельзя. Камни со склада поволок, сволочь, для своих тонконожек! Денег им, видишь ли, мало! “Арцисты” подлючие! А если он живым останется? Если только ранят? – вдруг подумал Пименов и потянул папиросу враз захолодевшими пальцами. – Тогда что? Если он такой змей был раньше, чего ж ему, полудохлому, ум проявлять? Нет, не должен он из передряги говоруном уйти, он должен молчуном остаться. А вдруг? Бесы, они из породы тараканов: усами шевелят, а как страх придет – все на спину валятся».
Пименов осторожно поднялся с кровати, оделся и пошел в сарай. Там, раскидав дрова, он спустился в тайник, достал чемодан с деньгами и золотом, стер с него пыль, занес в дом.
В восемь часов директор уже был на фабрике, а в восемь тридцать собрал расширенное совещание, попросив секретаршу обзвонить представителей общественности, поскольку «дело срочное и тревожное и о нем должны знать все, чтобы сделать надлежащие выводы».
В пять часов вечера того же дня Пименов позвонил из бюро пропусков МВД к дежурному по управлению и сказал:
– Вы, товарищ, передайте Владиславу Николаевичу Костенко, что это Пименов говорит. Я ему потом все завтра утром объясню. Я только что из Пригорска, прямо с аэродрома – к вам. Вчера-то у меня сердце прихватило, лишь к вечеру, к семи часам отдышался. Вот я и решил ночь употребить на дело, чтобы к вам не с пустыми руками. Вы только обязательно товарищу Костенко записочку оставьте, что я уже в Москве, и пусть завтра к девяти утра он мне пропуск спустит. Я, простите, с кем говорил-то? Товарищ Резников? Ну спасибо, товарищ Резников. Где я остановился? Я еще нигде не остановился, когда остановлюсь, сообщу. С гостиницами, сами небось знаете, какие тут у вас трудности. Ну до свидания, товарищ Резников, большое спасибо вам.
«Все, – подумал Пименов, опустив трубку, – теперь у меня алиби чистое, теперь только выждать надо, как дело пойдет».
Он вышел из вестибюля, оглянулся на большое бело-желтое здание МВД, и вдруг в сердце шевельнулся страх: «А может, поломать все? С кем тягаюсь-то, господи? Может, дать отбой? А как его теперь дашь? Поздно… Дело сделано, теперь пути назад нет».
XII. Не стоит обижать людей…
1
Ломер Морадзе погладил пушистую бородку, еще раз посмотрел на Сухишвили, тяжело посмотрел, хмуро, и, откашлявшись, спросил:
– Я не совсем понимаю цель вашего визита, товарищ полковник. Вероятно, вы приехали сюда не для того, чтобы совершить восхождение.
– Наверное, вы бы меня в маршрут не взяли – экипировка не та.
– Ну, это – дело поправимое, у меня склад хороший, экипировать мы вас можем. Несчастных случаев здесь не было, воровства и бандитских нападений – тоже, так что я не совсем понимаю, что вас здесь интересует?
– Меня интересует тот маршрут, по которому в горы ходил Кешалава.
– Кто?
– Кешалава. Виктор Кешалава.
– Он не ходил в горы. Он больной человек, ему наши прогулки опасны.
– Зачем же он приезжал к вам?
– Это допрос?
– Беседа. Скажем так. Беседа.
– Вы меня извините, товарищ полковник, но я не склонен беседовать с работником милиции.
– Да почему же?
– Я очень не люблю милицию. Я не верю ее работникам.
– А в чем дело?
– Это долгая, старая и грустная история.
– Я бы с удовольствием послушал эту долгую, старую и грустную историю.
– Ну что ж. Я вам ее расскажу. Я вам ее расскажу в повествовательном ключе. Согласны?
– Согласен. Курите?
– Нет. Благодарю.
– Мне можно? – спросил Сухишвили.
– Пожалуйста… Спички у вас есть?
– Увы…
– У меня тоже нет спичек, – ответил Морадзе, хотя Сухишвили видел коробок спичек возле свечки, которая стояла на подоконнике, и Морадзе знал, что Сухишвили этот коробок видит.
– Так вот о причине моей нелюбви к вам, – неторопливо продолжал Морадзе. – Представьте себе двадцатипятилетнего мастера спорта по альпинизму, аспиранта, без пяти минут кандидата наук, только-только вернувшегося из Индии, где он одолел семикилометровую вершину и привез в Тбилиси золотую медаль почета… Представили?
– Стараюсь.
– Нет, вы должны себе представить этого человека, его радость и гордость, его состояние пьяного счастья. Я думаю, что это не так уж трудно представить… Вы не альпинист, но у вас, видимо, тоже бывает ощущение пьяного счастья, ну, скажем, когда вы получаете премию за стопроцентную раскрываемость преступлений.
– Положим.
– Вы замечаете, что я обижаю вас, никак при этом не нарушая статьи Уголовного кодекса?
– Замечаю.
– Так вот, этот молодой чемпион, сидя в кафе в ожидании своих друзей, выпивает там несколько рюмок коньяку. А когда он заходит в туалет, к нему пристраиваются трое красивых, спортивного типа молодых людей, и один из них говорит: «Слушай, парень, мы читали, что ты едешь в Италию лазать по скалам. Там тебе понадобятся доллары, особенно когда ты спустишься на равнину. У нас есть доллары, цена – один к шести». Конечно, чемпиону надо было промолчать или тихонько отойти в сторону. А наш молодой чемпион, взращенный на идеалах добра и подвига, решил задержать этих фарцовщиков. Но те парнишки были хорошо тренированы, вы же помните, я отмечал их спортивную внешность. Словом, когда приехали милиционеры на мотоцикле, то они забрали одного чемпиона, а фарцовщиков лишь попросили написать объяснение по поводу хулиганских действий нашего юного мастера спорта. Напрасно страдалец говорил, что у этих подонков в кармане доллары, – от чемпиона действительно пахло коньяком, а фарцовщики не пьют, когда ходят на свою работу. В отделении милиции альпинист начал кричать, требуя задержать преступников, но дежурный капитан Ненахов приказал за это отправить чемпиона в камеру. Беда же усугублялась тем, что у покорителя горных вершин дома осталась шестилетняя племянница. Одна, прошу заметить. И надо же было аспиранту поднять крик: «Позвольте мне хотя бы позвонить к соседям, чтобы взяли к себе девочку». Словом, капитан Ненахов не разрешил шумному аспиранту позвонить. Тогда и наш герой начал грубить капитану. И за это ранним утром следующего дня аспирант был препровожден в тюрьму, а оттуда в суд, где он получил свои два года за хулиганство. Как вы понимаете, в Италию он не поехал и кандидатскую диссертацию не защитил. А в то время когда борец за правду сидел в остроге, фарцовщиков арестовали.
– Когда это было? После того как тех фарцовщиков посадили, вы не обращались в милицию?
– Я никогда не обращаюсь в милицию. Ни по какому вопросу. И я очень надеялся, что здесь, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, милиция тоже никогда не обратится ко мне.
– Понимаю, – задумчиво сказал Сухишвили, подошел к подоконнику, взял спичку и закурил. – Понимаю вас.
Морадзе зевнул и демонстративно посмотрел на часы.
– Я вас долго не задержу, – сказал Сухишвили. – Но мне все же придется допросить вас, поскольку вы были одним из последних, кто видел Кешалаву перед арестом.
– Он арестован?
– Да.
– Кешалава? Хм… Ловил фарцовщиков?
– Нет, там несколько иное дело.
– Какое же, если не секрет?
– Не секрет. Его обвиняют в попытке изнасилования.
– Это смешно.
– Почему?
– Потому что женщины и так к нему льнут, а он к ним равнодушен.
– Я заношу этот ваш ответ в протокол?
– Нет. Я не буду отвечать на вопросы.
– Вы обязаны отвечать на мои вопросы, я пришел к вам как к свидетелю.
– Ну что ж. Тогда спрашивайте.
– Когда вы в последний раз видели Кешалаву?
– Не помню.
– Вы его видели последний раз в этом или в прошлом месяце?
– Не помню.
– Он был здесь двадцать дней назад?
– Повторяю, я не помню.
– Он жил в вашей комнате?
– В моей комнате всегда спит еще несколько человек. Здесь и на веранде. Я не помню, спал ли у меня Кешалава.
– Но он был у вас?
– Был.
– Это я заношу в протокол.
– Это заносите.
– В какое время он к вам пришел?
– Не помню.
– Он был один?
– Не обратил внимания.
– Он пришел с вещами?
– Не помню.
– Но вы можете вспомнить?
– Вряд ли.
– Вряд ли… – задумчиво повторил Сухишвили. – При каких условиях вы сможете вспомнить?
– Думаете, я хочу выторговать реабилитацию?
– Нет, я так не думаю. Я просто задал вам вопрос.
– Если вы изобличите Кешалаву серьезными уликами, если вы докажете его преступление, я, быть может, вспомню какие-то обстоятельства его визита. Незначительные обстоятельства. А сейчас, простите меня, пора спать. Отбой был уже час назад, а мы живем по железному режиму. Если угодно, можем продолжить беседу завтра вечером, когда я приведу людей из маршрута. Я, видите ли, допускаю мысль, что у него дома остался маленький племянник, а некий Ненахов не позволял Кешалаве позвонить соседям.
– До свидания, – сказал Сухишвили, поднимаясь.
– Всего хорошего.
2
В Тбилиси Серго Сухишвили вернулся поздно ночью, потому что самолет задержался в аэропорту Сухуми из-за грозы. Низкая гроза бушевала над морем, разрывая черные тучи стремительными сине-желтыми прострелами, и какое-то мгновение после того, как разряд, отгрохотав, исчезал, в небе оставался черно-зеленый контур странного дерева – с изломанным стволом и тонкими ветвями…
Утром Сухишвили поднял справку на Морадзе, нашел судебное дело по обвинению фарцовщиков Гальперина, Столова и Ревадзе, а потом вызвал Ненахова, который, как оказалось, дослуживал три месяца до пенсии.
Ненахов сразу же опознал Морадзе по фотокарточке, прикрепленной к делу.
– Мерзавец он, товарищ полковник, – убежденно сказал Ненахов, – мало ему дали.
– Он вам говорил о том, что фарцовщики предлагали ему валюту?
– Говорить можно что угодно. Напился, хулиганил, понимаете, оскорблял по-всякому и меня и Гогоберидзе.
– Это записано в деле. Он вам говорил, с каким предложением к нему обратились те трое?
– Говорить можно что угодно. Вы б слышали, какие слова он выкрикивал по моему адресу. Я до сих пор этого подлеца помню.
– Меня интересует, капитан, что он вам говорил.
– Племянница, говорил, у него дома. Требовал, чтобы я разрешил ему позвонить. Они все, хулиганье, как напьются, так требуют телефон и грозятся лично министру жаловаться.
– Это было потом. Что он вам говорил, когда его доставили в отделение?
– Говорил, что эти парни – валютчики.
– Вы задержали тех людей?
– За что же честных людей задерживать? Культурные люди, одеты аккуратно, не то, что он – в рванье. Бороду еще, понимаете, отрастил, в кафе пришел неопрятный, в куртке, без галстука. Дебош учинил, пиджак порвал.
– Вы мне отвечайте: он вам говорил, что те трое предлагали ему доллары?
– Пьяный хулиган всегда сто причин найдет, товарищ полковник.
Сухишвили подвинул Ненахову лист бумаги и попросил:
– Напишите мне об этом. Напишите о том, что Морадзе просил вас задержать Гальперина, Столова и Ревадзе как фарцовщиков. И объясните, почему вы не сделали этого.
Сухишвили смотрел на склоненную голову Ненахова, на его аккуратный пробор, на тонкую шею и большие, расплющенные у ногтей пальцы и ломал спички, чтобы не ударить кулаком по столу и не закричать на этого человека, который в течение двадцати четырех часов дежурства в отделении милиции олицетворяет советскую власть.
«А мне потом красней, – думал Сухишвили, сдерживая ярость. – Мне потом выдумывай вздорные объяснения, когда встречаешься с такими, как Морадзе, или с ребятами на заводе, или в институте, мне потом отстаивай честь мундира. До тех пор, пока есть такие вот тупицы, для которых человек определяется галстуком, бородой или аккуратным пиджаком, ничего мы не добьемся, ничего…»
Прочитав объяснение Ненахова, Сухишвили протянул ему дело арестованных фарцовщиков.
– Вот, – сказал он очень тихо, чтобы не сорваться на крик, – это те самые аккуратные молодые люди, которых Морадзе хотел задержать. Честный человек с бородой и без галстука пил коньяк, вы правы, пил. Честный человек может выпить, а преступник, умный преступник, всегда трезвый, когда идет на дело. Что теперь скажете, Ненахов?
– Откуда ж я тогда знал, что они валютчики, товарищ полковник?
Сухишвили поднялся из-за стола и – не удержался – закричал:
– Так ведь он вам говорил об этом! Тогда! Говорил!
«Альпинистский лагерь “Труд”, Морадзе. Приговор по вашему делу отменен. МВД ходатайствовало перед комитетом физкультуры о восстановлении вам звания мастера спорта. В аспирантуре приказ о вашем отчислении аннулирован.
Сухишвили».
XIII. Последний раунд
1
В три часа утра Костенко разбудил телефонный звонок: дежурный из МВД сообщал, что сорок минут назад в Пригорске обнаружен Налбандов. Он был тяжело ранен при попытке ограбления хранилища аффинажной фабрики и сейчас в бессознательном состоянии находится в городской больнице.
Через полтора часа Костенко вылетел в Пригорск.
– Вы слышите меня? – тихо спросил Костенко, склонившись над изголовьем Налбандова.
Тот лежал в палате, окна которой выходили на горы. Ночью выпал первый снег, и сейчас солнце высверкивало синим, словно отражаясь в гранях диковинных драгоценных камней.
Доктор стоял над раненым и держал пальцы на его пульсе.
– Вы слышите, Налбандов? Отвечайте, вам можно говорить, – негромко сказал он. – Я оперировал вас, я позволяю вам говорить.
– Я слышу, – прошептал Налбандов. – Пить… дайте…
Сестра поднесла к его губам поильник.
– Горько, – сказал Налбандов. – Вы мне даете горечь…
– Это морс. Он кислый, пейте…
Костенко достал из кармана фотографию Кешалавы и показал ее Налбандову.
– Это он наливал вам из своей бутылки? – спросил Костенко. – Это он принес с собой в номер бутылку коньяка?
– Да… Он. Это он достал… свой коньяк… из дипломата…
– Какой дипломат?
– Портфель-дипломат… Плоский черный чемоданчик…
Где-то позади, далеко остался сейчас в памяти Пименов, который принес ему прошлой ночью вареную курицу, батон и бутылку водки. Как нечто странное, прошлое, из давно ушедшей жизни, слышались Налбандову слова Пименова. Он помнил весь разговор, но сейчас не мог бы его воспроизвести, потому что разговор этот, длинный, двухчасовой, подробный, казался Налбандову каким-то единым целым, тяжелым, как плита гранита. Иногда, правда, Налбандов оставался один. Не было никакого Пименова, и не было последнего разговора, когда тот объяснял, зачем нужно имитировать ограбление фабричного склада, и не было того ужаса, который жил в нем, разрастаясь, всю ту неделю, пока он вернулся в Пригорск и отсиживался в шалаше. Это забытое ощущение принадлежности себе самому возникло в нем сразу же после того, как в спину ударило тяжелым холодом, смяло и повалило на землю. А когда он услышал над собой испуганное причитание сторожа, который узнал его, ощущение принадлежности самому себе исчезло, и он закричал от нестерпимой, жаркой боли.
– Вы помните имя и отчество этого человека?
Налбандов отрицательно покачал головой.
– А фамилию?
– Витя… В институте мы звали его Витек… Я умру?
– Ваша жизнь в безопасности, – ответил доктор. – Вон даже пульс как у здорового.
Костенко заметил, как по восковому лицу Налбандова пробежала слабая улыбка: сначала дрогнули веки, потом чуть искривились губы и задвигался кончик заострившегося носа, на котором выделялись тонкие, белые ноздри.
«Неужели я буду тоже верить им так же, как он?» – подумал Костенко.
– Что у вас было в чемодане, кроме тех камней? – спросил Костенко.
«Он говорил, что я не должен отвечать, – вспомнил Налбандов слова Пименова, – а как же мне не отвечать, если он спрашивает?»
Налбандову стало жаль себя, и он заплакал. Доктор посмотрел на Костенко и выразительно закрыл глаза.
– Там было еще что-нибудь? – снова спросил Костенко. – Вы отвечайте, мы ведь Кешалаву арестовали. А он вас убить хотел.
– Меня все убить хотят, – ответил Налбандов и умер.
Реаниматоры трудились еще полчаса, но ничего сделать не смогли.
– Я, честно говоря, не думал, что он столько протянет, – сказал доктор. – Какой сильный организм, а? Позвонок задет, печень вдребезги, а ведь семь часов прожил.
– А поджелудочная не была задета? – поинтересовался Костенко. – Или желчный?
– Желчный – это бы не страшно, а поджелудочная – единственный орган, с которым мы бессильны.
Костенко сразу же вспомнил лицо профессора Иванова и пошел к машине.
2
Гусев, заместитель директора фабрики, был из отставников – подтянутый, с командным голосом и большими, навыкате, голубыми глазами.
– На фабрике все спокойно, – сообщил он, быстро поднявшись из-за стола. – Никаких происшествий, товарищ полковник, не зафиксировано.
– Не считая того, что убили Налбандова.
– Ранили.
– Он умер.
– Ай-яй-яй! Молодой ведь человек. Товарищ Пименов утром звонил, так просто, знаете, в голосе изменился, когда я ему рассказал.
– Давно он звонил?
– С полчаса.
– Беспокоится, как без него дела идут?
– А как же! Он ведь сюда столько сил вложил, столько души!
– Он сам про Налбандова спросил или вы ему сказали?
– Откуда ж ему про это знать, товарищ полковник? Конечно, я ему рассказал.
– Он хоть поинтересовался, жив Налбандов или убит наповал? Директора наши часто за делом людей забывают.
– Нет, Пименов из другой породы. Он первым делом спросил, как обнаружили вора, где, велел сообщить в милицию, а когда я ему доложил, что все меры приняты, он сразу же спросил о состоянии. Преступник или там не преступник, а все равно человек. Нет, наш директор сердцем не зачерствел. Он ведь как в воду глядел, когда совещание проводил. Бдительность, говорит, повышайте, а то из-под носа фабрику растащат.
– Молодец, так и надо. Какая была повестка дня на этом совещании?
– Широкая, товарищ полковник, была повестка. Директор говорил и о том, что мы не умеем считать, и что все планы надо пересмотреть с учетом интенсификации производства, и что необходимо организовать курсы по изучению экономической науки.
– Да, молодец Пименов. Молодец! Сам небось инструктировал охрану?
– Конечно. У вас, говорит, и оружие-то, наверное, в масле.
Гусев отвечал, словно рапортовал, и Костенко чувствовал, что этот голубоглазый, аккуратно причесанный старик испытывает постоянное желание встать по стойке смирно.
– Вы ему сказали, что я говорил с Налбандовым?
– Конечно, конечно. Все сообщил. И про вас, и про бригаду врачей.
«Все, теперь он уйдет, – подумал Костенко, отогнав острое желание лечь на холодный клеенчатый диван и поджать ноги к подбородку, чтобы успокоить боль. – Надо звонить к Садчикову. Только вряд ли он теперь найдет Пименова».
– Товарищ Гусев, я бы попросил вас вот о чем…
Гусев сразу же поднялся и привычно одернул синий, нескладно сидевший на нем пиджак.
– Слушаю.
– Пожалуйста, попросите начальника отдела кадров принести мне личные дела всего руководящего состава фабрики. Это раз. Потом с вами побеседуют товарищи из райотдела. Они вас ждут в приемной. Это обычная процедура, мы сейчас будем со всеми говорить. Два. Теперь последнее. Я здесь с вашего разрешения посижу и отсюда поговорю с Москвой. Секретарша пусть трубочку не берет, у меня будет служебный разговор. Хорошо?
– Конечно, товарищ полковник. Не угодно ли чайку?
– Спасибо. Не надо. Я все больше воду пью, к чаю равнодушен.
– Доставить из столовой обед?
– Нет-нет, не тревожьтесь, пожалуйста.
С Москвой соединили через двадцать минут. К телефону подошел Садчиков.
– Дед, бери людей и отправляйся в «Турист», номер девяносто четыре, в пятом корпусе, – сказал Костенко. – Это его прежняя комната.
– Х-хорошо, – ответил Садчиков.
«Все понимает, господи, как все понимает, – подумал Костенко, – и как обидно, что я теперь его начальник, а не наоборот. Нечестность в этом есть какая-то. Разве он виноват, что ему пришлось сначала воевать, а потом – без перерыва на учебу – сразу же ловить бандитов?»
– Но, скорее всего, там его уже нет.
– Ах в-вот так даже?
– Именно… Ты установочку на месте проведи, ладно?
– Как ты с-себя чувствуешь?
– Давай поборемся.
– С-слава, а может быть, тебе стоит сейчас вернуться, а? X-хочешь, я тебя п-подменю?
– Я доскриплю.
– Брюхо болит?
– Да не очень… А что это ты моим брюхом интересуешься?
– В п-порядке проявления т-товарищества. – Садчиков усмехнулся и, вздохнув, повесил трубку.
Костенко трижды перечитал автобиографию Пименова, сделал несколько выписок, потом пригласил инспекторов уголовного розыска из райотдела, объяснил им, что сейчас очень важно побеседовать с каждым сотрудником фабрики, чтобы собрать как можно больше данных о личности Пименова, о его привычках, склонностях, о его знакомых и родственниках.
Костенко решил заранее провести всю эту работу, не дожидаясь, пока Садчиков сообщит ему, что Пименов скрылся.
3
В четыре часа дня Костенко, уже определенно зная, что Пименов из Москвы исчез, а в Пригорске не появился, сообщил Садчикову не только имена, но и адреса всех московских знакомых и родственников директора, и Садчиков начал с ними работу. Ему, Костенко, стало известно, что Пименов здесь, в Пригорске, особо дружеских отношений ни с кем не водил, водки пил мало, женщинами не увлекался, а все свободное время проводил на охоте и рыбалке.
На этом пункте Костенко задержался.
– Ну-ка, – попросил он начальника райотдела, – давайте выясним, в какие места он ездил рыбачить и охотиться. Егерь, может, какой у него был, бакенщик?
– Бакенщиков у нас нет, река порожистая, – ответил начальник РОМа, – и егерей тоже нет, здесь все охотники сами себе егеря. Шалашку каждый ставит и в округе охотится.
– Шалашку? У Пименова был шалаш? Где?
– Так ведь лес большой.
– Как он туда добирался?
– Климов показал, что он в лес на мотоцикле ездил.
– Какой у него мотоцикл?
– Обычный… «ИЖ»…
– С коляской?
– Да.
– Значит, он в лесу по тропинке ездил, по хорошей тропинке. Много у вас в лесу троп?
– Жулье-то все в городе, – начальник РОМа улыбнулся. – А в лесу браконьеры, они не по нашей части.
– Жаль, что не по нашей, между прочим. Давайте-ка, майор, опросите всех здешних охотников, может, кто знает, где был шалаш Пименова. Это сейчас главная задача.
– Да Пименов домой придет, помяните слово, товарищ полковник. Я ведь его десять лет знаю, тут что-то не так.
Просмотрев деловую переписку фабрики с главком, со смежниками, с мелкими мастерскими, Костенко почувствовал, что он сейчас надолго завязнет в обилии бумажек – разноцветных и разноформатных, с печатями и без них.
– Знаете что, товарищ Гусев, – сказал он, – отложим эти бумаги для ОБХСС, и пусть ваши смежники, те, которым Пименов отдавал новейшее оборудование, доставят вам сюда свою продукцию.
Когда на зеленое сукно длинного директорского стола легли пластмассовые и металлические детали, Костенко, усмехнувшись, вспомнил анекдот времен войны про старика, который носил со своей кроватной фабрики детальки, чтобы дома новую койку старухе смастерить. Таскал он детали, таскал, но, как ни соберет, все не койка, а пулемет получается.
За полчаса Костенко с помощью двух инженеров легко собрал рубиновую иглу для проигрывателя – товар наиболее дефицитный, выпускавшийся фабрикой в ничтожном количестве, как опытные образцы. Однако из записей в бухгалтерских книгах явствовало, что мастерские поставляли фабрике «полуфабрикаты» в количестве, обеспечивающем массовое производство.
К одиннадцати часам вечера Костенко знал, где находится шалаш Пименова: в прошлом году шофер автобуса Макарян видел директора за распадком возле ущелья.
Костенко попросил Макаряна проводить их группу туда.
– Да завтра съездим, товарищ полковник, – говорил начальник РОМа. – Поверьте слову, он с последним самолетом прилетит. А нет, так поутру и отправимся.
– Вы оружие приготовьте, – посоветовал Костенко. – А ваше отношение к Пименову вы мне уже трижды высказали, я запомнил.
Они добрались до места только к утру – Макарян в темноте потерял тропу.
– Вы не топчите там, – попросил Костенко, – пусть со мной пойдут только фотограф и эксперт.
Начальник РОМа, усмехнувшись, посмотрел на своих оперативников.
Костенко вошел первым. Шалаш был пуст.
На самодельном столе лежали остатки курицы, а в металлической банке из-под бычков в томате – горка окурков. «Север» и «Прима». Здесь же стояла порожняя бутылка водки.
– Ну, – обернувшись к начальнику РОМа, стоявшему у входа, сказал Костенко, – кто здесь пировал? Святой дух? Или Пименов с Налбандовым вчера ночью? Окурки, бутылку – все «на пальчики» берите, – попросил он эксперта и пошел к машинам. Забравшись в «Волгу», он устроился на заднем сиденье так, что смог наконец подтянуть коленки к подбородку, боль сразу же начала успокаиваться, и он впервые за много часов ощутил тепло в ногах и пальцах.
Костенко вспомнил Левона. Он даже закрыл глаза – так он ясно увидел его лицо: круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. («Во мне унизили истого армянина, – шутил Лева, когда ему перебили переносье во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. – Курносый армянин – это что-то новое в биографии моего народа, на родине меня не поймут».)
«Господи, – подумал Костенко, – а ведь Левон родом из Пригорска. Он еще всегда говорил: “Ни ереванские, ни арзнинские, ни кировабадские Кочаряны не смогут сравниться с нами, пригорскими…”»
Левон многое знал, многое умел, но жизнь его была несладкой: он начал работать в сорок втором году, когда ему было одиннадцать. Он расстался с женщиной, которую любил, и, скрывая от всех горе, заводил шумные романы. К нему ходили за советом все, и он никогда не ошибался, давая советы. Он умел хлопотать за друзей: просиживал долгие часы в приемных, когда Костенко с Машей жили в разных комнатах, а квартиру никак не давали. Левон ездил в Ленинград на заседание художественного совета, когда сдавали первый фильм Степанова… А когда фильм провалился и Степанов с горя начал пить, Левон вызвал его к себе в онкологическую клинику (это было в самом начале, после операции и кобальтовой пушки), купил бутылку «Старки», увел Митьку в подвал, и провел с ним там весь день и половину ночи, и оставил Митю ночевать у истопников, и отпустил его только на следующий день, позвонив предварительно Костенко: «Синдром кончился, но все-таки побудь с ним, ему плохо, очень плохо». Костенко вспомнил, как Левон еще до болезни пришел к нему на Петровку, 38 хлопотать за соседа по двору. «Славик, он ни в чем не виноват, он не может быть жуликом… Ты должен освободить его…» Костенко знал, что сосед Левона – жулик и гад, но он был в «несознанке», и Костенко ничего не мог ответить другу, и отводил глаза, и старался перевести разговор на Митьку Степанова, который уехал тогда во Вьетнам, но Левон стоял на своем, а потом сказал: «Ты можешь погубить себя, Слава, если перестанешь верить друзьям. Если хочешь, я могу поклясться, что он невиновен. Я готов взять его на поруки… Пойми, ведь у него дочке пять месяцев всего…» Он ушел тогда, хлопнув дверью. Позвонил он только через пять месяцев, когда кончился процесс и жулика осудили. «Хочешь плюнуть мне в лицо? – сказал он тогда. – Закажи пропуск, я приеду к тебе. Можешь собрать всех сотрудников отдела: публичность казни – залог ее воспитательного значения…»
«Нет его на свете. – Костенко вздохнул. – Пусто без него… Пусто…»
4
Когда днем пришли данные экспертизы и стало очевидно, что на бутылке из-под водки были отпечатки пальцев Налбандова и второго человека и на окурках также были зафиксированы отпечатки пальцев неизвестного и Налбандова, Костенко попросил бутылочку ему вернуть, внимательно изучил этикетку и сразу же обнаружил на ней штамп «ресторан».
Костенко поехал в аэропорт, зашел к директору ресторана, сонной женщине в белой куртке, надетой поверх меховой безрукавки, и, представившись, спросил:
– Скажите, пожалуйста, кто позавчера ночью работал в смене?
– Вы бэхаэс, что ль? Так у нас вчера лейтенант Широков был, все обсмотрел. Ей-богу, будто работы у вас другой нет.
– Что, часто мучают?
– Будто и не знаете.
– Да знаю, знаю. Вас не мучай, все по кирпичам разнесете.
– Платили б мне триста, а не семьдесят, выгоды б государству было на пятьсот.
Костенко улыбнулся:
– Экономическую дискуссию продолжим позже, а? Вы мне сейчас помогите в моем деле, я из уголовного розыска.
– Тоже змеи, – беззлобно сказала женщина и достала из сейфа какие-то растрепанные, захватанные жирными руками бумаги. Поплевывая на пальцы, она стала перелистывать графики дежурств сотрудников, продолжая ворчать: – Вы думаете, у меня сотрудников раз-два – и обчелся? Их аж пятнадцать человек! А что толку? В ресторане всего десять столов, а в книгу гляньте – вся жалобами исписана. Хоть бы одно предложение, так нет, только жалобы… Дали б волю директору – пусть хоть семь бэхаэс проверяют, пусть хоть заместителем лейтенант сидит, – я бы с пятью людьми здесь чудеса делала, ко мне б из других городов люди обедать прилетали. А то ведь я официантке замечание, а она мне заявление об уходе. Вот… Маклакова дежурила, Шилкина с Васильковой, на кухне – Крюков и в гардеробе – Потанин.
– Когда последний самолет из Москвы приходит, ресторан еще открыт?
– Нет. Мы за полчаса до него закрываемся. Костенко достал из портфеля бутылку.
– Это штамп вашего ресторана?
– Сама ставила.
– Ну а если постучать в дверь, попросить хорошенько, продадут?
– Кто ж от рубля откажется?
– Кур тоже продаете?
– Это что, пароль какой?
Костенко усмехнулся и объяснил:
– Нет, я имею в виду отварных кур. Вы продавали позавчера в буфете отварных кур?
Женщина снова полезла в сейф, достала еще одну кипу листов и начала – так же неторопливо и обстоятельно – просматривать свои записи.
– А была б у меня прямая связь с колхозом, – ворчливо объясняла она, – я б сразу вам ответила. Разве упомнишь, что торг отпустит? Сегодня кур даст, завтра – свинину. А кто ее берет, свинину-то? Вот, нашла! Продавали мы позавчера цыплят вареных, верно говорите.
Официантка Шилкина опознала Пименова по фотографии.
– Он наш, в городе живет, на машине ездит, начальник. Верно, покупал он у меня водку и закуску.
– Ресторан-то был закрыт?
– Так он постучал.
– Рублем он тебе постучал, – хмуро сказала директорша, – ишь, какая сердечная.
– А что ж мне, отказать человеку?!
– Ты б в рабочее время человека обслуживала, а то по часу всех маринуешь!
– А вы б поварам приказали работать быстрей, а не баклуши бить.
Костенко подвинул Шилкиной протокол опознания:
– Подпишитесь, пожалуйста. Спасибо. Я поеду, а вы уж без меня выясняйте отношения.
Вернувшись на фабрику, где сотрудники райотдела продолжали вести допросы, Костенко сказал начальнику РОМа:
– На вечерний рейс, пожалуйста, забронируйте мне билет и посмотрите по вашим справкам, когда Пименов терял паспорт.
– Паспорт? А почему вы думаете, что он терял паспорт? Я что-то не помню такого эпизода.
– Посмотрите, майор, посмотрите. Не прилетел ведь Пименов… И в Москве его нет. По какому ж документу он жить будет, бедолага? Меня чутье не обманывает – терял он паспорт, обязательно он паспорт свой должен был утерять.
5
Кешалава и сегодня был так же спокоен, как всегда. Лицо его, правда, изменилось до неузнаваемости из-за того, что отросла борода. Она у него была густая, подбиралась к самым глазам и, сливаясь со смоляными волосами, выбивавшимися из-под расстегнутой рубашки, казалась продолжением сплошного волосяного покрова.
Костенко вдруг представил его в номере очередной жертвы, когда он доставал бутылку с отравленным коньяком: лощеный, гладко выбритый, с хорошими манерами, в костюме, сшитом у лучшего портного…
«Тогда он был ненастоящий, – подумал Костенко. – Настоящий он сейчас, когда похож на зверюгу».
Он вспомнил, как однажды встречался со студентами архивного института. Слушали его хорошо, но потом – это уж неминуемо – возник больной вопрос о культуре постового милиционера. Кто-то из студентов рассказал, как его задержали с друзьями за то, что они ночью, после экзамена, устроили на улице игру в чехарду.
– Ничего себе, «моя милиция», – закончил студент. – Мать потом два дня с постели не могла подняться, сердце отказало!
Костенко тогда ответил:
– Вы рассказали о безобразном случае… Я не буду отрицать, я не стану говорить, что этого не могло быть. Увы, такое бывает. И, к сожалению, постовой, именно такой, который вас задержал, более всего заметен. А люди, что позавчера задержали бандита Скворцова (он перед этим зарезал девушку в подъезде из-за двадцатирублевых часиков), эти люди незаметны, о них вы ничего не знаете. Незнакомо вам имя Ивана Купченко, который три месяца гонялся за бандой мошенников. Они обворовали сорок девять человек. Между прочим, двух студенток на двести семьдесят рублей нагрели… Не знаете вы имя Нодара Шилая. Он задержал бандгруппу и погиб в перестрелке. Не знаете вы и лейтенанта Сироткина, который на мотоцикле гнал сто километров за преступником, сбившим трех людей, а ведь ему шестьдесят. Я, признаюсь, был обижен, когда увидел в Лондоне памятник Шерлоку Холмсу. У нас есть свои сыщики, поверьте, не хуже англичанина. Многое в нашей милиции изменилось, многое меняется. Люди к нам пришли молодые, ваши сверстники, с университетским образованием. Новая сейчас милиция у нас, новая.
– А преступники остались прежними? – спросили тогда студенты.
– Как вам ответить… Есть преступник – дурак, а есть преступник – зверь. Так вот, дурак мало изменился, это ведь качество врожденное – дурак-то. А зверь изменился. Зверь старается быть интеллигентным бандитом.
…Кешалава потер ладонью бороду и сказал:
– Парикмахерская будет за ваш счет, товарищ полковник.
– Вы такое выражение слыхали: «Гусь свинье не товарищ»?
– Слыхал. Только надо выяснить, кто из нас гусь, а кто свинья.
– А мне вот надо выяснить другое, Кешалава… Мне надо выяснить, куда вы спрятали чемодан Налбандова. Вы же связей с торговым миром не имеете, вам трудно сразу рубиновые иголки сбыть.
Кешалава дрогнул – подался назад, словно от удара, и стало видно, как побледнело его лицо.
– Москва вообще опасный город в этом смысле, Кешалава. Это вам не Свердловск.
– Я не совсем понимаю, о чем вы говорите.
– Бросьте. Вы все понимаете. Будете сами рассказывать или мне вам рассказать обстоятельства, при которых вы совершили три убийства?
– Повторяю, мне неясно, о чем вы говорите.
– Тогда идите в камеру и подумайте. Вам нужно выстроить новую версию, я вам даю время.
– Мне не нужно времени! Меня не интересуют ваши версии!
– Врете. Версии вас интересуют. А у меня версия, одна версия, ясно?
– Почему нет ответа на мои жалобы?
– А их и не будет, ответов-то. Завтра вам предъявят обвинение, и пойдете в суд. Все бы у вас сошло, Кешалава, все. Но жив остался Налбандов. Вот его показание. Здесь, в этой папочке. И цепь замкнулась. Помните, как я интересовался, принимаете ли вы снотворное? Вы его перестали принимать. Помните, как я вас спрашивал, отдавали вы пиджак кому-нибудь из друзей? Не отдавали вы пиджак. А в вашем пиджаке, и в организме Налбандова, Кикнадзе, Орбелиани и Гамрекели, и на камушках, которые вы хотели презентовать Тороповой, были следы одного и того же сильнодействующего снотворного. Это улика. Показания Налбандова – вторая улика, самая страшная. Вы остальных травили водкой, а с Налбандовым решили попробовать коньяк. А он, оказывается, в какой-то степени нейтрализует яд. Понимаете, какую промашку дали? А третью улику, вещественное доказательство, как мы говорим, нам передаст Ломер Морадзе.
Кешалава сорвался со стула. Глухо, по-звериному зарычав, он перепрыгнул через стол, опрокинул его, ударил Костенко каблуками в живот. Затем, впадая в истерику, он хотел было с разбегу стукнуться головой об стену, но Костенко, закричав от страшной, пронзившей его боли, ухватил Кешалаву за лодыжку.
Лишь только когда двое милиционеров, вбежавших в комнату, бросились на Кешалаву, Костенко разжал пальцы и сразу же потерял сознание.
– Железный организм у вашего друга, товарищ Садчиков, – сказал хирург, делавший операцию в центральном госпитале, – уникальный, я бы сказал, организм у него.
– Р-рак?
– Что?
– Р-рак у него?
– Да вы что, с ума сошли?! Окститесь, полковник! Гнойный аппендицит, а после удара – перитонит!
Садчиков опустился на стул и засмеялся, вытирая слезы.
– Ах, светила, светила, ах, м-мудрецы! Ему ж-же профессор Иванов рак обещал. Прямо в глаза сказал, не утаил. А Костенко это скрывал от в-всех. Но вы у него все внутри пос-смотрели? – снова забеспокоился Садчиков. – М-может, у него рак с левой стороны, а вы правую резали.
– Не задавайте хирургам милицейских вопросов – мы обидчивы. Ваш Костенко умрет в возрасте девяноста трех лет от усталости. Ему надоест жить. Могу побиться об заклад. А профессор Иванов, как любой гений, имеет право на ошибку…
6
На совещании у комиссара обстановку докладывал Садчиков. Новый стиль милиции – патрульные машины вместо постовых, электронно-вычислительные устройства вместо длинных ночных совещаний с разбором всевозможных версий, сыщики аспиранты, кандидаты и доктора наук вместо практиков, которые предпочитали беседовать с преступником «по фене» и толкаться в автобусах, высматривая знакомых карманников, – все это не позволяло Садчикову чувствовать себя у нового начальства раскованно и привычно.
Однажды его жена Галя сказала: «Отец, ты стал у меня дремучим, ты играешь в нашей семье роль женщины. Типично обратное – когда муж интеллектуально растет, а жена, погрязшая в кухонных делах, делается отсталой наседкой». Она сказала это весело, шутя, после защиты диссертации, когда перешла из клиники в институт профессора Гальяновского, на кафедру хирургии. Она в тот вечер была особенно красивой и веселой, и так мудрено говорила с коллегами о резекциях и пересадках, и так спокойно принимала поклонение, а он смотрел на нее и вспоминал их первые годы, когда она училась в медицинском, а он уже был майором, а она от избытка почтительности чуть не на «вы» его называла. А он ей говорил всегда: «Галчонок, давай вкалывай, будешь человеком». Галя потом, после того, как начала работать в клинике, впервые сказала ему: «Отец, а может, тебе тоже пойти поучиться? Сейчас без высшего образования трудно». – «А кусать что будем? – спросил он тогда. – Только п-птицы в клюве еду приносят д-детишкам…» Какое-то время она слушала его истории про жуликов и бандитов с детским, осторожным интересом. Но потом он заметил, как однажды Галя ушла на кухню, не дослушав его историю, – раньше она всегда сидела, подперев кулачками подбородок, и в глазах ее он видел то страх, то смех, то гордость. Год назад Галя предложила отвезти его к психиатру, который лечил заикание. «Ты ужасно долго излагаешь самые простые истины, – сказала она, – а время, дорогой, – это деньги, тут американцы правы».
Именно с тех пор Садчиков старался не выступать на совещаниях у начальства, а если его и спрашивали о чем-то, то он от смущения и страха, что прозаикается слишком долго, отвечал невнятно, думая больше о том, чтобы подобрать слова, которые начинаются с гласной.
– Давайте, Садчиков, – сказал комиссар, – мы вас слушаем.
Садчиков поднялся, тоскливо посмотрел в окно: моросил мелкий дождь, и голуби по карнизу прохаживались, нахохлившиеся, уродливые и беззащитные, как женщины в «Салоне красоты» перед тем, как сесть к мастеру на укладку.
– Я изложу с-соображения К-костенко, – начал он, – п-п-потому что его соображения кажутся м-мне самыми р-ра-зумными. В-впрочем, я их напечатал, может, раздать т-товарищам, чтобы я не з-занимал м-много времени?
– Ничего, ничего, – сказал комиссар, относившийся к Садчикову с доброй уважительностью (Садчикову казалось, что это жалость), – время у нас есть, излагайте соображения Костенко, вероятно, это в чем-то ваши общие соображения…
– П-первое.
Комиссар улыбнулся.
– Товарищ Садчиков, вам, наверное, удобней вместо «первое» говорить «а», это тоже допустимо… Я заметил ваше тяготение к открытым гласным.
– Т-тогда я на «б» прозаикаюсь еще д-дольше, – в тон ему ответил Садчиков и повторил: – Итак, п-п-первое. Кешалава изоблич-чен вещественными доказательствами и п-показаниями Налбандова. С н-ним вопрос ясен. Однако в-второе и т-третье увязаны друг с д-другом. Лишь только задержав с-скрывшегося П-пименова, мы сможем з-завершить все дело и д-доказать, что именно он с-спровоцировал Н-налбандова на имитацию ограбления с-склада и ч-что именно он был организатором хищений. В-видимо, товарищ Романов выскажет свое м-мнение по линии УБХСС, я же с-сосредоточусь на т-том, как с-следует задержать П-пименова. К-костенко установил, что П-пименов – заядлый рыболов и охотник. Я с-сей-час занимаюсь т-тем, что обследую все охотничьи и рыболовецкие хозяйства в радиусе двухсот к-километров вокруг М-москвы. К-костенко установил, ч-что Пименов «терял» п-паспорт. Мы с НТО пробовали повертеть версию: как можно изменить фамилию, исходя из т-того, что П-пименов скрывается по «ут-терянному» паспорту. Вышли следующие фамилии: Пименовский, Тименов, Паменов, Таменов, Тименовский. Это н-наиболее в-вероятные, с нашей т-точки зрения, фамилии. Д-даны установки всем участковым Москвы и об-бласти проверить эти «фамильные» версии. Гостиницы п-предупреждены. Аэропорты – также. Поскольку П-пименову шестьдесят три года, мы с-сообщили эти фамилии в поликлиники и б-больницы. К-костенко выяснил, ч-то Пименов с-страдает г-гипертонической болезнью в-второй степени. К-костенко также узнал, что в М-москве живет родственник жены Пименова, директор хоз-зяйственного маг-газина. С н-ним сейчас работает УБХСС.
– Видишь ли ты, – пропел Романов, – мы еще не начали с ним работать, мы пока ждем, что скажет служба наблюдения. Нам кажется, что от этого самого шурина, от Попкова Гавриила Федосеевича, может идти ниточка к беглецу нашему, к рубиновому магнату.
– Это разумно, – согласился комиссар, – пугать его не следует, но, вероятно, стоило бы как-то посмотреть документацию в торге: может быть, там тоже обнаружатся какие-нибудь сюрпризы.
– Это мы уже второй день делаем, товарищ комиссар, – ответил Романов особо «солидным» тоном, который он употреблял в минуты «ведомственного торжества», когда демонстрировал преимущества УБХСС по отношению к другим службам министерства.
– М-можно продолжать?
– Да, пожалуйста, товарищ Садчиков.
– К-костенко в-высказал предположение, что П-пименов м-мог загодя п-приобрести по «утерянному» п-паспорту домик где-нибудь в т-тихом месте. Его в-версия к-косвенно подтверждается по-показаниями ж-жены Пименова, его заместителя Г-гусева и шофера Аралова. В-все они рассказали, ч-что П-пименов п-последние д-два года во время от-тпуска улетал на д-две недели в М-москву, чего раньше за н-ним не было, – он всегда проводил отпуск в лесу.
– Почему вы остановились на московской версии? – спросил комиссар. – Почему вы не допускаете мысли, что Пименов скрывается в Сибири или в Средней Азии?
– М-мы решили отработать московскую в-версию, а уже п-потом идти по линии в-всесоюзного розыска, т-товарищ комиссар. Все-таки ему в М-москве проще скрываться. Он тертый к-калач и п-понимает, что на аэродромах и н-на железной дороге ему л-легче засветиться – оп-познают.
– Отпустит усы и побреется наголо – пойди опознай его. У вас все?
– П-пока да.
– Вы сказали, что Кешалава изобличен вещественными доказательствами. А где камни? Где иголки? Деньги? Он может отвергнуть показания Налбандова. Ознакомится с обстоятельствами и скажет, что Налбандов дал свои показания в беспамятстве. Он ведь истерик, этот Кешалава, а истерик может быть твердым в своей позиции. «Истерика наоборот» – занятная штука. Нужна последняя улика – чемодан Налбандова.
– С-с-сухишвили работает в этом направлении, товарищ комиссар. К-костенко п-предположил, что чемодан с иголками и деньгами К-кешалава спрятал в горах, у Морадзе. С-сухишвили считал преждевременным проводить там обыск.
– Мотивировка?
– М-морального п-плана.
Комиссар чуть усмехнулся; Садчиков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил:
– У м-меня все.
– Спасибо. Очень интересно. Что у товарища Романова?
– Видите ли, – запел Романов, поднимаясь, – у нас тоже кое-что есть. Мы установили – наша бригада плотно сидит в Пригорске, – пояснил он мимоходом, – что Пименов работал очень элегантно, вдохновенно, я бы сказал, работал. Он уникум своего рода. Как правило, расхитители вступают в преступный сговор с несколькими соучастниками, ставят на ключевые, руководящие посты своих людей.
– Мы слыхали об этом, – заметил комиссар, и все сотрудники его управления дружно рассмеялись.
– Это я цитировал самого себя, – пропел Романов, сменив горделивые горловые интонации на высокий, чуть не женский фальцет, – прошу прощения. Здесь все так молоды, что мне показалось, будто я нахожусь в институтской аудитории. Так вот. У Пименова на заводе был только один сообщник – Налбандов. Как начальник ОТК он браковал ту продукцию, которую поставляли смежники, – иглодержатели для проигрывателей, пластмассовые коробочки и металлические зажимы. Опытные образцы – к ним особые претензии. В комиссию, которую создал Пименов, вошел Гусев, это заместитель директора, и уборщица Венгерова. Гусев – из породы тупиц с преданными глазами. Он подписывал все. Он мог бы подписать себе смертный приговор, отдай ему Пименов такого рода приказ. А Венгерова, алкоголичка, исполняла роль общественности. Очень удобная комбинация. Было списано в брак более девяти тысяч деталей для игл, а каждая иголка идет в продажу по три рубля. Это то, что мы пока смогли установить документально. Налбандов и Пименов сами собрали более трех тысяч игл из выбракованных деталей; следственный эксперимент показал, что человек может собирать по пятьдесят иголок в день. По приблизительным подсчетам, было похищено у государства товарной продукции на сумму тридцать шесть тысяч рублей. Следовательно, мы имеем дело с особо крупным хищением. Товарищи звонили мне сегодня утром. Высказывают предположение, что хищение шло не по одной только линии. Тот же Налбандов списал в брак партию опытных насосов, детали к которым делали смежники. Общая сумма брака – примерно на восемь тысяч рублей. Но это предварительные данные. Сейчас мы начинаем бухгалтерскую экспертизу, а это требует времени. В зависимости от вашей санкции мы начнем работать с Попковым – можно предположить, что именно через его магазин шла реализация «левого» товара. Вот вкратце то, что у нас есть на сегодняшний день.
Комиссар помолчал, записал что-то на листке бумаги и заметил:
– Судя по всему, Пименова будет очень трудно взять. Максимум осторожности. Хотя такого рода жулики, как правило, сдаются, когда чувствуют, что партия проиграна, но Пименов может пойти ва-банк. Он понимает, что терять ему нечего.
7
Морадзе встретил Сухишвили точно так же, как и в первый день, разве что в глазах у него не было той спокойной, тяжелой неприязни, которую он даже не считал нужным скрывать.
– Как добрались? – спросил он. – Говорят, на перевале размыло дорогу.
– Дорогу действительно размыло. Ничего, подтолкнули машину плечом – и вот у вас. Вы телеграмму получили?
– Какую?
– От меня.
– Ах, эту… Да, получил. Спасибо. Тронут. Вы, вероятно, рассчитываете, что в знак благодарности я стану активно помогать вам?
– Я на это не рассчитывал. Просто теперь я могу со спокойным сердцем допросить вас.
– Я к вашим услугам.
– Ну и прекрасно. Тогда начнем?
– Нет. Сейчас у меня рабочий день. Я должен вести людей по маршруту. Я вернусь к пяти, тогда и начнем.
– Увы. Мы начнем сейчас.
– Вы уполномочены сорвать график тренировок?
– Да. Поскольку Кешалава уже изобличен в убийстве одного человека, а подозревается в убийстве еще трех людей и в хищении государственных ценностей, мне придется отвлечь вас от тренировок.
– В прошлый раз вы мне говорили, что его обвиняют в изнасиловании.
– А вы помните, как в прошлый раз меня встретили?
– Так же, как сейчас.
– Это меня и удивляет.
– Вам бы хотелось, чтобы я бросился на шею? Вы сделали то, что обязан сделать каждый честный человек на вашем месте. Вы просто добросовестно выполнили свой служебный долг.
– Ну и уговорились. В тот раз я тоже выполнял свой служебный долг, когда говорил вам об изнасиловании. Впрочем, изнасилование и убийство – это близко. Давайте, товарищ Морадзе, начнем работу. Меня интересует, в какое время к вам пришел Кешалава.
– Не помню.
– Я предупредил вас о ложных показаниях.
– Именно поэтому я вам так отвечаю.
– У него был чемодан?
– Не помню.
– Вот санкция на обыск.
– Я обыскал все помещения после вашего отъезда. Никакого чемодана не было.
– Нам придется поискать еще раз.
– Это ваше право.
– В котором часу вы ушли в маршрут на следующий день после того, как здесь появился Кешалава?
– Как обычно, в девять.
– Кто оставался в лагере?
– Никого.
– Больных не было?
Морадзе на мгновение задумался.
– Кажется, был больной. Да, да, больной тогда был. Я могу уточнить по дневнику.
– Когда вы вернулись, Кешалава ждал вас?
– Да. Я отвез его на газике вниз после того, как мы вместе поужинали.
– Он был без чемодана?
– Он был без чемодана.
– Вы это помните?
– Это я помню.
– Мог ли он прийти к вам накануне, но оставить чемодан на веранде?
– Мог.
– Вы не видели чужого чемодана на веранде?
– Я не обратил внимания. На веранде всегда много чемоданов и рюкзаков – их оставляют альпинисты.
– А спрятать среди чемоданов и рюкзаков альпинистов маленький чемоданчик можно?
– Я не пробовал.
– Вы такую возможность допускаете?
– Допускаю.
Сухишвили пригласил своих сотрудников и сказал:
– Давайте, товарищи, начинайте обыск. Понятых возьмите. Объясните им, что мы ищем и почему это надо обязательно найти.
Морадзе налил себе молока, выпил, вытер рот платком и посмотрел на альпинистов, которые толпились на волейбольной площадке.
– Скажите, пожалуйста, ребятам, – попросил Морадзе, – чтобы они были свободны, могут позагорать возле водопада.
– Сейчас скажу, – ответил Сухишвили, рассматривая карту района, укрепленную на стене. – А эту карту кто рисовал?
– Я.
– И тропы вы наносили?
– Конечно.
– А что значит вот это?
– Этот знак говорит о наличии змей.
– Когда у вас был Кешалава, карта была на стене?
– Да. Мне кажется, да.
– В районе, где много змей, нельзя ходить?
– Почему? Можно. Только надо надеть резиновые сапоги.
– У вас есть такие сапоги?
– Конечно.
– А что за район – этот змеиный заповедник?
– Это не заповедник, я же сказал вам. Там камни, неподалеку река.
– С километр отсюда?
– Семьсот сорок два метра.
– Где у вас обычно хранятся сапоги?
Морадзе кивнул в сторону веранды:
– Там. Но они не хранятся. Просто стоят.
– Кешалава не просил у вас сапог?
– Не помню.
– Он при вас рассматривал карту? Спрашивал об этом месте?
– Не помню.
– Почему вы так отвечаете?
– Потому что я действительно не помню этого.
– В змеином месте можно спрятать чемодан?
– Можно.
– А где здесь еще можно спрятать чемодан?
– Всюду. Двадцать пять квадратных километров округи в нашем распоряжении.
– Кешалава когда-нибудь ходил с вами по здешним местам?
– Нет… Кажется, нет. По дороге мы с ним, естественно, гуляли, это я помню.
– По дороге в горы или на равнину?
– И там и там.
Сухишвили внимательно посмотрел на Морадзе. Тот выдержал этот взгляд. Он сейчас не усмехался, и лоб его был пересечен двумя резкими морщинами.
Через полчаса все альпинисты, после того как Сухишвили, собрав их, объяснил задачу, разошлись пятью группами в поисках чемодана. Сухишвили отправился с той группой, которая решила прочесать «змеиный» район. К вечеру альпинист Габуния нашел чемодан, обернутый в полиэтиленовую клеенку. Чемодан был завален камнями неподалеку от леса. Внимание Габунии привлекли нарезы на деревьях. Они были свежие, желтая смола еще не превратилась в коричневые, бугорчатые наросты.
В чемодане лежали рубиновые иглы, сорок семь гранатов и тридцать пять тысяч рублей.
Первым, кого увидел Сухишвили, вернувшись в лагерь, был Морадзе. Он стоял возле своего домика и задумчиво жевал травинку. Сухишвили хотел сразу же сесть в машину и уехать. Но он заставил себя подойти к Морадзе. Он долго стоял против него и смотрел ему в глаза.
– И все-таки, – сказал наконец Сухишвили, – мне очень не хочется, чтобы в лаборатории обнаружили отпечатки ваших пальцев на клеенке или на чемодане. Очень не хочется.
XIV. В конце концов
1
Когда Костенко вышел из больницы, Садчиков успел проверить многих людей. Оставалось двести семнадцать Паменовских, Таменовских, Паметовых, Таменовых, Тиманевых и Паменовых. Однако предварительная проверка говорила о том, что из этих двухсот семнадцати только сорок два могли быть отнесены к зыбкой категории «подозреваемых».
– Знаешь, дед, – сказал Костенко, – что-то мне сдается, мы с тобой маху дали. Мы решили навязать Пименову свою логику. Иногда это сходится, но тут случай особый.
Костенко еще раз пролистал справку, которую прислал Романов из УБХСС. После того как наблюдение за Попковым, пименовским шурином, оказалось бесполезным – «объект» вел безупречный образ жизни, служба – дом, дом – служба, никаких признаков волнения не проявлял и никаких «тропинок» к Пименову не показывал, – было решено его забирать: работа, проведенная сотрудниками романовского отдела, позволяла предъявить Попкову обвинение в реализации «левого» товара.
– Романов считает, что они вышли только на какую-то часть пименовского дела. Они вышли на иголки и насосы. Их бригада сидит в Пригорске, там ребята считают, что Пименов не только иголками и насосами промышлял. Он большого размаха человек, а мы затискиваем его в привычные рамки. Как считаешь, а?
– Т-ты давай идею, С-слава. Размышления «по поводу» оставь н-начальству.
– А у меня нет идеи. Это только в кино сыщик выдает на-гора идеи, стоит ему только сосредоточиться. Нет идей, дед. Тухлое это дело. Надо передавать во всесоюзный розыск и ждать. Если только не Попков. Романов предложил поговорить с ним. Втроем – он, ты и я.
– А я-то зачем? Вы и без м-меня зубры.
– Скромность была его отличительным качеством.
– Ну-ну. Извини.
– Да нет, пожалуйста.
Попков выслушал Романова, попросил разрешения посмотреть заключение экспертизы, проведенной бухгалтерами торга, прочитал показания продавцов, сравнил их с накладными, подписанными заместителем Пименова, и спросил:
– А как бы получить очную ставку с виновником торжества?
– Вы, конечно, Виктора Петровича имеете в виду, Пименова, родственника вашего ненаглядного? – спросил Романов.
– Приятно говорить с умными людьми.
– Как же мы дадим вам очную ставку, если он в бегах? – заметил Костенко. – Никак не выйдет.
– Видите ли, – вкрадчиво продолжил Романов, то и дело поигрывая подтяжками – оттянет-отпустит, оттянет-отпустит, – если вам кажется, что время и ситуация играют на вас, то вы ошибаетесь, Попков. Вы ни разу к следствию не привлекались и в силу вашей неопытности, видимо, не знаете, что мы вас можем выделить в отдельное, как говорится, производство: хищение в особо крупных размерах.
– Г-грубо г-говоря – «вышка», – добавил Садчиков. – М-мои коллеги вам интеллигентно в-все говорят, а я человек п-прямой.
Попков хрустнул пальцами и сказал:
– Странный метод вести допрос.
– Д-допрашивать вас будут в суде. А нам П-пименов нужен. В-впрочем, вам он нужен больше. Г-главарю всегда самое б-большое обламывается, п-подручные идут с-сзади.
– Видите ли, – перебив Садчикова, сказал Романов, – я бы, может, и не стал так резко и обнаженно ставить этот вопрос, но уж коль скоро он поставлен, то вы попробуйте вместе с нами проанализировать ситуацию.
– О какой «вышке» может идти речь? – Попков снова захрустел пальцами. – Допустим, вы докажете, что был реализован «левый» товар. Но вы не сможете доказать, что я знал, откуда этот товар. Я не знал и не мог знать, что это «левый» товар.
– Попков, тут, как говорится, в цепи ваших умопостроений какой-то странный пробел. Наверное, вам Пименов неточно объяснил ситуацию. Вы хотите сказать, что за «левый» товар отвечает материально ответственное лицо, а не вы, так?
– Допустим.
– П-попков, вы только одного не учитываете: главарь банды П-пименов уб-бил ч-человека и скрылся.
– Кто убил человека?!
– Пименов, – ответил Костенко. – Подвел к убийству. Но мы это квалифицируем как преднамеренное убийство. Знаете, кого он убрал? Налбандова. Вы помните этого человека?
– И д-для вас будет очень п-плохо, если мы скажем суду, ч-что вы пытались скрывать П-пименова. Вы же з-знаете, где он.
– Господи, откуда я могу знать?! Я и про Налбандова ничего не знал, это ж как гром среди ясного!
– Пименов у вас был перед тем, как скрыться? – спросил Костенко.
– Был.
– З-значит, вы знали, что он решил уйти вт-темную?! – Садчиков поднялся со стула и подошел к Попкову. – П-про-говорился, п-пташечка моя.
– Подождите, – попросил Попков, – у меня голова распухла… Если вы найдете Пименова, он пойдет главарем, а я кем?
– П-первым заместителем, – Садчиков усмехнулся.
– Видите ли, – сказал Романов, – у вас есть возможность доказать суду, что Пименов обманывал вас, если, конечно, он вас обманывал. Тогда вы будете привлекаться за халатность. Если вы знали часть правды, то понесете наказание в соответствии с размахом совершенной вами операции по продаже «левого» товара. Если же вы пойдете по делу один, вам придется все взять на себя. Вам придется отвечать за всю преступную цепь – от Пригорска до Москвы.
– Но я действительно не знаю, где он! И почему я должен верить вам про убийство, между прочим?
Костенко и Садчиков переглянулись: «Все, этот развалился».
Костенко открыл папку с фотографиями Налбандова, сделанными в больнице, и заключением врачей.
– Вот, – сказал он, – посмотрите.
– П-пименов решил убрать Н-налбандова, когда понял, что мы за ним пошли. С-свидетеля боялся. В-вы тоже свидетель, только шурин.
– Видите ли, – сказал Романов, – история знает случаи, когда не то что шурина – отца, жену, сына били насмерть.
– Но я не знаю, где он! – закричал Попков. – Будь он трижды проклят! Не знаю!
– Что он вам говорил в последний раз?
– Сказал, что решил уйти на покой! Просил достойно держаться, если кто будет допрашивать: «Ты чист, к тебе не подкопаются». Сказал, что через год, если бог даст, позвонит мне, когда вся суматоха уляжется.
– Он не говорил, где собирается отдыхать? – спросил Костенко.
– Нет.
– А он б-бритый был? – вдруг спросил Садчиков.
– Да, – ответил Попков, – и усы решил отпустить.
– Седые усы?
– Нет, с проседью.
– Передайте привет вашему начальнику, – сказал Романов Костенко. – Он смотрел в корень.
– Во что он был одет? – спросил Садчиков (в минуты высокого напряжения он переставал заикаться).
– В серый костюмишко. Он всегда одевался как оборванец. Плащ у него был синий, болонья. С дырками.
– На вокзал он от вас не звонил? На аэродром?
– Никуда он не звонил, прохиндей ненавистный!
– А когда он приезжал в Москву на отдых, – спросил Костенко, – в прошлом году и в позапрошлом, он тогда к вам заходил?
– Нет. Он редко ко мне заходил – позвонит, в столовку куда-нибудь пригласит, возьмет котлет с компотом и объясняет, как операцию лучше провести.
– А куда он из столовки уезжал?
– Откуда я знаю!
– С-столовка-то одна и та же была?
– Нет. Разные.
– У вас еще что-нибудь есть? – спросил Романов у Костенко и Садчикова. – А то нам пора начинать беседы по существу дела.
– Попков, в-вспомните все, ч-что можете вспомнить… Где лучше искать П-пименова?
– Клянусь здоровьем детей, не знаю! Неужели вы думаете, что я буду покрывать такого преступника?! Спрашивайте – отвечу на все вопросы!
2
Он просыпался затемно, когда на Быковском аэродроме – его домик находился неподалеку – начинали особенно часто прогревать моторы самолетов. Несколько минут он лежал тихо, недвижно, прислушиваясь к тому, как пел сверчок за печкой. Потом он поднимался, делал утомительную, до пота, зарядку, выходил во двор, обливался ледяной водой из-под крана, проведенного к огороду, растирался докрасна резиновой щеткой, надевал теплое шерстяное белье и, выпив молока, брался за газеты.
Как и в те времена, когда он был передовым директором, Пименов внимательно изучал статьи на экономические темы, имевшие отношение к новой экономической реформе, и порой делал выписки на отдельных листочках бумаги. Сейчас, правда, помимо статей экономистов, он подолгу смаковал фельетоны, прочитывая их по нескольку раз.
Он встал на учет в районном отделении общества «Знание» и сказал там, что может почитать лекции в школах и домах отдыха. Показался он и в поселковом совете, предложил свою помощь на время «летних каникул, когда я совсем свободен и не надо выезжать в горы наблюдать за зверушками и рыбами – страсть юношества определила жизнь: без природоведения я и не человек совсем. Так что если надо какие поручения выполнить в период с июня по август, то я к вашим услугам». Товарища «Тушерова» поблагодарили; председатель поссовета записал его фамилию в свою книжечку и был приглашен на огонек. Пименов отварил картошки, почистил селедочку. «Люблю, знаете ли, по-простому, устал в поездках от протокола, спасу нет», – выпили бутылочку. Пименов пожаловался, что за три года, как он купил здесь дачку, никто из поссовета его даже и не навестил, «равнодушные сейчас люди пошли, в былые-то времена затаскали б меня по выступлениям – и как фронтовика, и как ученого». Когда откупорили вторую бутылку, перешли на «ты», и Тушеров начал рассказывать о своих поездках в горы, об охоте на козлов и оленей, о повадках зверей и рыб, он показался председателю давно знакомым, милейшим и скромнейшим человеком.
…Завтрак себе Пименов готовил не торопясь – жарил две котлеты, отваривал одно яйцо вкрутую, хлеба старался не есть и роскошь себе позволял только в одном: пил много соков изготовления ГДР, в аккуратных, маленьких бутылочках, которые потом можно было незаметно унести из дому и бросить где-нибудь по дороге на станцию. Сначала-то он ездил на рынок, покупал там парную телятину, свежий деревенский творог и овощи, но ему показалось, что милиционер, дежуривший возле базарной площади, как-то по-особому на него посмотрел, и с тех пор Пименов на рынок не ездил.
Обед у него был тоже в высшей мере скромный – тресковое филе с майонезом и гречневая каша с оливковым маслом: слава богу, теперь это масло завозили в раймаг, и никаких подозрений бутылка ни у кого не могла вызвать, а оно ведь целебное, это масло, лучшая профилактика от склероза.
После обеда Пименов спал, выпив три таблетки сухой валерианы, а потом, когда начинало смеркаться, уходил гулять в лес. Ужинал он так же однообразно – яичница и два стакана молока. С семи часов он включал маленький телевизор и просиживал в кресле около экрана до конца передач.
По воскресеньям он отправлялся рыбачить, считая, что в пятницу этого делать не следует, поскольку все москвичи уезжают из опостылевших им домов именно в пятницу.
Постоянное чувство страха, жившее в нем с того дня, как умер Проскуряков, не уменьшалось, и Пименову стоило больших усилий заставить себя ежедневно выходить из дому, чтобы соседи, упаси бог, не стали говорить о странностях и замкнутости «научного сотрудника».
Лишь когда наступала ночь и можно было лечь в холодную, чистую постель и лежать в темноте, наслаждаясь тишиной и одиночеством, к сердцу робко подступало чувство радости.
Потом, по прошествии двух недель, он впервые поймал себя на мысли, что эта размеренная, затаенная жизнь чем дальше, тем больше тяготит его. Он с тоской думал о том, что неизвестно, сколько еще придется вот так, изо дня в день стоять в очереди за тресковым филе исландского производства, готовить на привозном газе еду и не иметь возможности купить на рынке то, что ему хотелось, и не иметь возможности бездумно взять билет на самолет и укатить на месяц к морю, и не иметь возможности, и не иметь возможности, и не иметь возможности… У него была теперь только одна возможность: существовать. Он подсчитал траты: за три недели ушло восемьдесят пять рублей.
«Что ж мне с деньгами-то делать? – подумал Пименов. – Если даже до ста лет доживу, все равно останутся. Зачем надо было рисковать, жизнь себе гробить? Для того, чтобы треску жрать?»
Мысль эта была такой тревожной и неожиданной, что он сразу же переключился и заставил себя думать о приятном – об осенней рыбалке, когда станет первый ледок и начнется клев окуня и плотвички и можно будет целый день сидеть на водохранилище и смотреть в лунку, – и никаких тревог тебе, никаких забот. Еще он мечтал о том, как поедет в Сибирь и там отведет душу на охоте, купит хорошую лайку и настреляет много баргузинской белки и соболя.
«А что с ними делать-то, с соболями? – снова спросил он себя. – Продать? У меня и так тридцать тысяч мертвым грузом лежат».
Он не мог сейчас ответить себе, зачем было начинать все предприятие с иголками и насосами, с секретными латунными замками на рули автомобилей и с жестяными крышками для домашнего консервирования. Зачем? Он задавал этот вопрос, несмотря на то что запрещал себе думать об этом.
Его отца раскулачили в двадцать девятом – было у старика три коня. Отец тогда сказал: «Ты отрекись от меня, Вить, отрекись. Ты молодой, тебе переждать надо. “Отрекись” – старого смысла слово, оно церкви принадлежное. Это хорошо, что такое слово сейчас в ход пошло, значит, переждать можно будет. Мне помирать пора, а чего ж тебе жизнь калечить?» Пименов написал письмо в газету о том, что «отец – мироед, и я от него отрекаюсь навсегда». Старика сослали в Казахстан, а сын уехал в Шатуру, на производство. Оттуда перебрался в Москву и окончил торговый техникум. Голодно он тогда жил, во сне хлеб видел – теплый каравай с прижаристой корочкой. Но он всегда помнил слова отца: «Ты покрасней, сынок, покрасней. Ты на слово-то не скупись, слово – оно и есть слово, а в жизни суть важна. И раз такой раззор пошел, я вот какой совет дам: ты незаметно живи, незаметно работай, свой достаток в темноте держи, не гордись на людях-то. Самое главное, знай уверенность: как бы ни вертело, а кусок хлеба всегда от смерти спасет». Старика вернули в деревню, когда напечатали про «перегиб». Пименов приехал домой и дал отцу семьсот рублей – все, что смог накопить, работая в райторге. А вернулся в Москву – пошел на выдвижение. Но тут осечка вышла: женщина-партийка, вызвавшая его на беседу, спросила: «Ты что ж, товарищ Пименов, первым от отца отрекся, а он, как выяснилось, не виноват был?» – «Так ведь в сельсовете сказали, что он мироед-кулак…» – «Мало ли что сказать могут в сельсовете! Разве можно от невиновного отрекаться? За правду надо уметь стоять, а иначе это подлое приспособленчество и трусость». Пименов в тот же день взял документы и «по собственному желанию» уехал на Урал, там грамотные кадры были нужны. «Ничего, – думал он, – выбьюсь, пережду, тут батя прав. Главное – переждать, выжить». Когда началась война, он стал работать в военторге. «Вот и переждал, – думал Пименов тогда, – вот теперь можно свой достаток заиметь и положить его на черный день. Только теперь-то и можно на всю жизнь стать сытым, только теперь и можно про голод забыть – в больших делах малому человеку простор, если только он не на виду и тих». Работал он всегда в одиночку и никогда не зарился на большее, чем мог получить.
К моменту реформы сорок седьмого года у Пименова было спрятано девятьсот тысяч. Обменять он решился только семь, и взяло его ожесточение: «Снова, значит, голь и голод?» Так и пошло – он заново испытал страх перед нищетой, а потом этот изначальный импульс сделался его вторым «я», и он уже позабыл о боязни быть голодным, он просто затевал одну махинацию следом за другой, а деньги складывал в тайник, не считая. Когда «погорел» Налбандов, он впервые за много лет испытал острое чувство страха, но он знал, что взять его трудно: документация велась, как всегда, точно; «фирмой» он только пугал Проскурякова, на самом деле он работал в одиночку, «по-волчьи». Налбандов был единственным человеком, посвященным в его дела. Почувствовав, что петля стягивается, Пименов полетел в Пригорск, а потом уже, вернувшись в Москву, он мучительно думал, как бы ему отменить затеянное, но даже если бы он полетел обратно, все равно Налбандова он перехватить уже не мог. Он, как ему казалось поначалу, все рассчитал верно. На фабрике всех запугал бандитами, а Налбандову предложил «самому исправить глупость». Он говорил ему той ночью в шалаше за стаканом водки: «Чудак, дело, как мычание, простое! Берешь камни, дверь оставляешь незапертой и возвращаешься сюда. Милиции что делать? Искать. А кого ей искать? Не нас же с тобой, верно? У нас с тобой ключи, мы по ночам в склад не ходим, да и нет нас здесь, в отъезде мы. Кто воровал? А мы зарплату не за это получаем. Это ваше дело, вы ищите, а с нас груз подозрений снимайте». И, только прилетев в Москву, Пименов испугался.
«Что ж я наделал, дурила? – думал он. – Что?! Зачем мне надо было Налбандова подводить под выстрел? Почему я только благополучное для себя допускал? Теперь я замазан кровью, а раньше-то можно было “особо крупное” отбить, можно было халатность на себя взять… Нет, попадись им в руки Налбандов – никакая халатность не прошла бы. Вот чего я испугался».
Цепь его логических построений кончалась, когда он думал о возможном аресте. Он холодел, ярость сменяла страх, а может быть, дополняла его, делая его слепым, жилистым и сильным, очень сильным.
Позвонив в Пригорск, он затаенно мечтал услышать, что вохровец или убил Налбандова, или задержал его без выстрела. Тогда бы он мог не торопясь и без приливов яростного страха прикинуть линию поведения на случаи возможного провала. Но, услыхав про ранение Налбандова и про то, что с ним беседовал Костенко, он понял, что с прежней жизнью покончено раз и навсегда, – Налбандов все рассказал, и про имитацию ограбления тоже. Он понял это поначалу интуитивно, несколько даже отстраненно. Понадобилось время, чтобы он осознал всю безнадежность своего положения, а уже осознав это, выработал график жизни, подчинив ее только одной цели – затаившись, переждать. Однажды он спросил себя: «А что дальше?» Ответить он не смог и увидел в тот миг свое лицо в зеркале – землистое лицо, все в морщинах, и глаза пустые, льдистые от страха и тоски. Он тогда потянулся к бутылке, но пить не стал – заставил себя не пить. «Если начну пить – тогда каюк, тогда лучше голову под электричку. Один миг – и никакой боли. Нет, надо жить. Им надо меня искать, им надо доказывать и про Налбандова, и про “фирму”, а мне надо закусить губу и жить! А там посмотрим. Только б выжить…»
3
Каждую субботу Садчиков уезжал за грибами и возвращался вечером в воскресенье. Он любил ночевать у костра, где-нибудь на берегу озера. Подстелив еловых лап, он укутывался в плащ-палатку и долго лежал возле костра. В те долгие ночные часы он не спал, а просто смотрел в огонь, ни о чем не думая, иногда шепотком затягивая фронтовые песни, но до конца допеть ни одну не мог: помнил он только первые куплеты.
Домой Садчиков норовил приехать с последней электричкой, тихонько раздеться в прихожей, отнести грибы на кухню, почистить их и замочить в соленой воде. Он ходил по квартире на цыпочках, но все равно умудрялся разбудить жену.
– Неужели нельзя аккуратней двигаться? – сердито кричала Галя из спальни и громко захлопывала дверь. – У меня завтра операция!
Сначала Садчиков обижался: «У меня тоже завтра операция». Однажды Галя сказала ему, что ассенизаторы и милиционеры – профессии, обреченные на умирание. «Научно-техническая революция освободит мир от целого ряда мезозойских профессий. Мы пристроим тебя, отец, сторожем на садовые участки – будешь воевать с сороками. Они неисправимые жулики».
Обычно Садчиков, возвратившись из леса, ложился спать на диване в столовой, просыпался в шесть часов и сразу же уходил. Сначала он говорил, что ходит по утрам в бассейн, а потом Галя привыкла к этому и вообще перестала спрашивать, куда это он так рано убегает. Садчиков бродил по пустынным улицам, завтракал в маленькой стеклянной закусочной в Скатертном и приходил к себе в восемь. До девяти он читал журналы – в библиотеке ему оставляли «Иностранную литературу» и «Науку и жизнь», а потом начинал допрашивать бандитов.
В ту субботу Садчиков пришел на совершенно безлюдную платформу в двенадцать: он заблудился в лесу и с трудом вышел к железной дороге, освещая фонариком еле заметную тропку. Две корзины были полны грибами, и он думал, как дотащить их до дома, – на метро он явно опоздал, на такси денег нет, а топать через весь город с двумя тяжелыми корзинами – годы не те.
– Белые есть? – спросила кассирша, протягивая ему билет.
– Мало. Подберезовики все больше, а б-боровик уже сошел.
Почувствовав, что за спиной стоит человек, Садчиков отодвинулся от окошка кассы.
– Тоже грибник? – спросила кассирша. – Чего вы сегодня все так поздно?
– Кто по грибы, а кто по рыбу, – ответил человек и дребезжаще, по-стариковски добро рассмеялся.
– Есть рыба-то?
– Да есть маненько. Мне билетик, гражданочка.
– Куда?
Садчиков поднял корзину и обернулся, чтобы идти на платформу, – желтый глаз электрички уже светился в ночи. Он только одно мгновение видел рыбака и сразу же узнал Пименова. Сейчас Пименов был совсем другим – маленьким, уютным, добрым, усатым дедушкой.
Стоя на платформе и наблюдая за тем, как Пименов, поправив спиннинг, вскинул на спину рюкзак, Садчиков думал:
«Милиции-то здесь нет. Впрочем, зачем мне милиция? Уж кого-кого, а этого я сам прихвачу».
Он подошел к Пименову, взял его под руку и сказал:
– Вик-ктор Петрович, а м-мы вас обыскались… Уху п-придется в т-тюрьме варить.
Пименов удивленно обернулся к Садчикову.
– Вы о чем, гражданин? – спросил он, и Садчиков увидел, как в острых его глазах, освещенных сильным прожектором приближающейся электрички, взметнулось что-то быстрое и яркое. – Вы чего?
Садчиков не успел ответить: он ощутил сильный удар в шею и полетел под колеса электрички. Он услышал пронзительный скрип тормозов, потом услышал свой крик, и потом все кончилось тишиной.
4
Костенко никак не мог надеть туфли: его трясло, как в детстве, когда он болел малярией.
Его продолжало трясти и когда он приехал на Быковский аэродром. Инспектора уголовного розыска, допросившие кассиршу, сообщили, что «рыбак», как ей помнится, брал билет до Быкова.
Работники аэродрома, вместе с которыми Костенко просматривал рейсовые ведомости с заполненными фамилиями, сидели тихие и удивленно переглядывались. Землистое лицо полковника плясало и дергалось, а кончики пальцев были неестественно белыми.
– Палетов, – с трудом сказал он, ткнув пальцем в фамилию, – который в Пермь улетел… Кто оформлял ему билет?
– Я, – испуганно ответила молоденькая девушка.
– Старик с усами?
– Я не помню. Нет, погодите. Это военный. Он еще конфетами меня угостил.
– Старый?
– Молодой, – еще более испуганно ответила девушка.
Костенко долго доставал из кармана фотографию Пименова. Он разложил на столе портреты Пименова – с пририсованными усами; бритого наголо; без усов.
– Т-такой человек у вас был? – спросил Костенко. – Смотрите внимательно.
– У меня вот этот купил билет до Свердловска, – сказала пожилая кассирша с высокой белой прической и тронула мизинцем портрет, на котором Пименов был с усами. – Тушеров по фамилии.
– Когда ушел самолет?
– Два часа назад.
– Когда он прибудет в Свердловск?
– Через полтора часа.
Костенко вдруг испуганно поднялся.
– Самолет нигде посадки не делает?
– Нет, это прямой рейс.
Когда в пять утра пришло сообщение, что бригада свердловского угрозыска задержала Пименова в аэропорту, Костенко, по-прежнему чувствуя сильный озноб, вышел из министерства на улицу Огарева. Он остановил такси и сказал:
– Продай бутылку, шеф…
Таксист испуганно посмотрел на большое здание МВД, казавшееся в рассветных сумерках серым и тяжелым.
– Откуда у меня? Нету у меня бутылки.
– Поехали на вокзалы.
Около Казанского, на стоянке, Костенко купил четвертинку, выпил из горлышка и почувствовал, как проходит противная дрожь. Его охватила вдруг ватная усталость, словно бы он сбросил со спины громадную, тяжелую поклажу, которую долго-долго нес. Он вошел в большое, просыпающееся помещение вокзала и сел на скамейку возле женщины, укачивающей мальчика.
Костенко вдруг вспомнил маслята, которые валялись на платформе, и большую плетеную корзину, и бесформенное кровавое месиво, укрытое брезентом, а потом перед ним возникло лицо Садчикова, и он заплакал, раскачиваясь из стороны в сторону.
– Тише ты, – зло сказала женщина, – ребенка разбудишь…
Апрель 1972 г.
Противостояние
…Весна в том году пришла в Магаран поздно, лишь в конце мая. Снег остался лишь в кюветах и оврагах, пожелтевший, мокрый. Те, кто возвращался с Черного моря – загорелые, под хмельком еще, – только диву давались, заново понимая суровость природы своего края.
Ехал в маршрутном такси прилетевший из Сочи и младший научный сотрудник Алексей Крабовский, известный в Магаране тем, что отпуск свой он проводил не как все нормальные люди – жарясь на пляже, забивая «козла», совершая поездки на Ахун и в абхазскую «пацху», – а совершенно по-своему. Впрочем, он вообще был человек особый: носил парик, ибо начал рано лысеть, выучил латынь, переводил на английский стихи Андрея Белого, разрабатывал теорию «антиэншштейн» и по ночам, вдобавок ко всему, конструировал аппарат, который может определять золотые и серебряные клады на глубине до десяти метров. С этим своим аппаратом, который весил двенадцать килограммов, он объездил Армению, Бухарскую область, Псковщину, ничего, конечно, не нашел, но не отчаивался и нынешний свой отпуск провел в горах Грузии, спустился потом к морю, проскучал два дня на пляже и улетел обратно в Магаран.
Относился Леша Крабовский к тому типу людей, которых неудачи не озлобляют вовсе; он подшучивал над собой, выбивая таким образом из рук сослуживцев грозное оружие подъелдыкивания; вел дневники своих путешествий, внес туда истории пяти задержаний милицией – заподозрили в нем шпиона, ночевать пришлось в отделении вместе с алкашами; записывал также диалоги – на пути его кладоискательства встречались люди самые неожиданные.
Диссертацию по эхолотам он защитил с блеском, и его научные руководители порадовались тому, как за последние три года в молодом ученом развилось качество, столь необходимое для исследователя, – невероятная, моментальная, что ли, наблюдательность.
Крабовский, гуляючи по скверу с девушкой и рассуждая о материях отвлеченных (сослуживцы полагали, что он к своим тридцати годам не потерял еще целомудрия), мог неожиданно заметить, прощаясь с очередной платонической пассией:
– На кусте, слева от памятника, сидела синица, которая в это время года здесь невероятна, – грядет кризис климатологии.
Вот он-то, Крабовский, тронул плечо шофера маршрутного такси и сказал:
– Остановитесь, пожалуйста.
Тот спросил двух других пассажиров:
– Никто больше по нужде не хочет?
– Я в связи с другим обстоятельством, – ответил Крабовский и, выскочив из «Волги», по-заячьи, через кювет, бросился к зарослям кустарника.
– Наверное, сильно прижало, – сказал шофер, закуривая. – Я после курорта всегда страдаю: маджари пью, вкусно, дешево, но кишки, говорят, разлагает.
Крабовский, однако, вина пил мало, кишки у него поэтому не разлагались: просто-напросто он увидал мешок, торчавший из желтого, мокрого снега, а страсть к поиску повелела ему изучить этот странный предмет.
Он опустился на корточки, принюхался – запах был сладким, незнакомым; аккуратно потянул за веревку, схватившую мешок странным узлом; истлевшая веревка легко подалась, и Крабовский тонко закричал от ужаса…
Работа-1 [Москва]
«Начальнику отдела
уголовного розыска МВД СССР
полковнику Костенко
В шести километрах от Магарана, в двадцати метрах от обочины, в кустах стланика обнаружен полуистлевший мешок, в котором находятся части человеческого тела. Дальнейшим осмотром места происшествия, в направлении к городу, в сорока метрах от мешка с туловищем, голова и конечности которого были отчленены, найден сверток из мешковины, в котором оказались ноги и левая рука человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена; в ходе поисков группой УУГР области найдена полуистлевшая офицерская шинель с погонами капитан-лейтенанта».
Костенко снял трубку телефона и сказал Ниночке из стенографического бюро:
– Хорошая, примите-ка телеграмму в управление кадров Министерства обороны. Текст такой: «Прошу сообщить, не пропадали ли без вести офицеры флота в звании капитан-лейтенанта или же лица, уволенные по демобилизации в период с сентября прошлого года по май нынешнего». Подпись вполне разборчива. Вопросы есть?
– Нет вопросов, Владислав Николаевич, – ответила Ниночка, – с вами всегда все понятно.
– А у меня есть вопросы, товарищ полковник, – сказал новый заместитель, пришедший к Костенко на смену убитому Садчикову. Звали его Реваз Тадава, майор, молодой еще, тридцать четыре года, недавно защитился в Тбилиси, сразу пошел на повышение: начальник уголовного розыска страны был неравнодушен к молодым сыщикам, отдававшим короткое время отдыха – истинному отдыху, а с его точки зрения, таковым являлась наука. «Факт утомляет, – говаривал генерал, – в то время как абстракция позволяет мыслить категориями будущего. Нынешняя наука не наука вовсе, если она регистрирует прошлое, а не опрокинута в будущее. Кандидатская диссертация на тему “Практика работы профсоюзной организации города Н. в период с 1967 по 1971 год” не есть диссертация, а, наоборот, нечто приближенное к нормам поведения, попадающим под статьи Уголовного кодекса».
– Какие же у вас ко мне вопросы? – спросил Костенко.
– Почему вы не сообщили про татуировку? ДСК – нитка. Возможно – имя, фамилия.
– А если это инициалы его подруги? Дина Саввична Кискина? Тогда что? Пусть сначала ответят – «да» или «нет», потом, по инициалам пропавших, станет ясно – подходит ли каплей[1] под наши признаки.
– Второй вопрос можно?
– Извольте.
…Реваз постоянно чувствовал хорошо скрываемую антипатию шефа, и он был прав. Костенко не мог себя переломать; он привык к Садчикову, ему казалось просто-таки невозможным, что вместо его «деда» работает этот холеный красавец, хотя работает отменно, и жена – как у Садчикова – хирург, но она без ума от своего дипломированного мужа, а Галя своего Садчикова в грош не ставила, оттого-то и погиб старик, было б у него дома хорошо, не шастал бы один в поисках Пименова по лесам Подмосковья, поручил бы молодым ребятам, те стараться рады, романтика и все такое прочее, преступник вооружен, премия будет, а глядишь, и медаль схлопочешь, если все красиво подать в рапорте. Костенко, впрочем, понимал, что отношение его к заместителю неверное, он казнил себя за это; неуправляемость чувств казалась ему самым дурным человеческим качеством, ибо он любил людей и всегда шел к ним с открытым сердцем; иногда Маша говорила ему: «Для тебя плохих людей не существует, разве так можно?» Он сердился, отвечал, что он плохих людей ловит и сажает в тюрьму, а что касается остальных, то лучше ошибиться в человеке потом, чем не верить ему с самого начала. Однако Садчиков постоянно стоял перед глазами, «дед», с которым прошли десять лет жизни, такое не забудешь, и Костенко, злясь на себя, понимая, что ведет он себя неверно, был тем не менее с Ревазом холоден, ироничен и подчеркнуто вежлив. А над «дедом» подшучивал, порой зло, простить себе этого не мог… «Нет отчима, и бабка умерла, спешите делать добрые дела».
Садчиков эти строки Яшина любил, он арестованному яблоки давал, печенье. «Слава, – говорил он, отвечая на недоумевающий взгляд Костенко, – ты пойми, всякое добро окупается сторицей. Может, этим яблоком ты в звере человека достанешь, стыд в нем найдешь, так он потом твою дочку в подъезде не зарежет, ей-богу…»
– Второй вопрос сводится к тому, Владислав Николаевич, – продолжал Тадава, – что вы, мне сдается, несколько своенравно определили время исчезновения ДСК. Почему начиная с сентября? В сентябре еще жарко.
– Это на Пицунде в сентябре жарко, – ответил Костенко и покраснел оттого, как нехорошо он ответил, – а в Магаране уже пороша сыпет. – И, чтобы как-то смягчить плохой ответ свой, добавил: – Так-то вот, дорогой мой Реваз…
Он видел, что Реваз обижен; перед Садчиковым бы извинился, сказал: «Не сердись, дед», – а тот бы вздохнул, как конь, и ответил: «Разве на начальников в наше время сердятся?»
Костенко снова снял трубку и попросил стенографистку Нину:
– Красивая, тут мне Реваз Григорьевич хорошо подсказал: добавь в телефонограмме после слов «офицеры флота» – «в Магаране или на всем Дальнем Востоке». Ладно?
– За что вы меня так не любите? – пожал плечами Тадава. – Право, понять не могу.
– Не сердитесь, Реваз, – ответил Костенко. – Просто я очень помню Садчикова. Это в традиции у русских – до конца любить того, кто был рядом с тобою. У нас коли уж любят – до конца.
– Во-первых, вы не русский, – мягко улыбнулся Тадава, – а украинец, а во-вторых, мы, грузины, отличаемся точно таким же качеством. И наконец, в-третьих, пожалуйста, поскорее ко мне привыкайте, а?
– Я постараюсь, – пообещал Костенко. – А вы запросите службу: кто – по месяцам – обращался к нам в связи с пропажей родственников?
Офицеры флота не пропадали, демобилизованные тоже; человек с инициалами «ДСК» никем в стране не разыскивался.
И Костенко вылетел в Магаран.
Ретроспектива-1
«237/3
Сов. секретно.
Только для верховного командования
2 экз. Фельдмаршалу Кейтелю
Записка
В связи с завершением в Праге работы созданного с согласия рейхсфюрера СС “Комитета освобождения народов России” возник вопрос о срочном довооружении отрядов генерала Власова и придания их войскам СС для введения в борьбу против русских на Восточном фронте.
Однако рейхсфюрер высказался в том смысле, что борьба цвета германской нации – людей СС – совместно со славянами может породить такие инциденты, которые были бы крайне нежелательны во фронтовой обстановке. Войска РОА, мусульманские подразделения, принявшие программу, подготовленную в Берлине и провозглашенную А. А. Власовым, а также украинские части, доказавшие свою искренность в карательных операциях против большевиков, целесообразно придать соединениям вермахта, проработав этот вопрос с руководителями фронтовой разведки, подключив к изучению проблемы как офицеров “1-А”, так и “1-С” [2].
Рейхсфюрер СС ожидает ответа ОКХ [3] в течение ближайшей недели.
Хайль Гитлер!
Карл Вольф, СС обергруппенфюрер».
«Строго секретно!
СС обергруппенфюреру Вольфу.
452–17/44
Экз. № 2
Обергруппенфюрер!
Поскольку проект ответа фюреру поручен фельдмаршалом начальнику разведотдела “Армии Востока” генералу Гелену, его соображения сводятся – в порядке предварительных прикидок – к следующему:
а) войска РОА, украинские части Мельника и мусульманские подразделения, объявившие священную войну “мусават” идеологии коммунизма, должны быть укомплектованы не только агентурой гестапо, но и подчиняться СС;
б) в свое время генерал Гелен передал в СД формуляры на 3000 завербованных им агентов из числа власовцев и мельниковцев – для проверки и перепроверки; именно эти люди – помимо сотрудников СД – были бы вполне верными информаторами в частях Власова, Мельника и Ходаяра, и всякая попытка неискренности со стороны тех, кто вступил в движение не по собственной воле, но желая избежать тягот в лагерях военнопленных, была бы мгновенно зафиксирована осведомителями;
в) в управлении криминальной полиции РСХА есть картотека на 948 сторонников Власова, которые были арестованы крипо[4] за уголовно наказуемые деяния – драки, пьянство, мелкое воровство.
Генерал Гелен полагает, что эти лица, осужденные к заключению в лагерях на срок от года до трех лет, могли бы пополнить отряд осведомителей, поскольку именно они зарекомендовали себя людьми, преданными идеям фюрера, выполняли задания сотрудников генерала Гелена и попали в тюрьму незлонамеренно, а по свойству славянского характера – чрезмерное употребление алкоголя и потеря – после этого – здравого смысла. Сотрудники генерала могли бы дать исчерпывающие характеристики этим людям, если управление криминальной полиции РСХА сочтет возможным прислать формуляры – с фотографиями и дактилоскопическими таблицами, – это значительно ускорит подготовительную работу аппарата генерала Гелена.
Хайль Гитлер!
Дитер Зепп, СС штандартенфюрер».
Работа-II [Магаран]
1
Резкий звонок разбудил Костенко уже под утро. Мест в гостинице не было, и он остался ночевать в кабинете начальника угрозыска Магарана. В окнах еще было сумрачно, тяжелый серый туман поднимался от реки, клубился он так, словно кто-то невидимый разгонял его веслом.
«Почему именно веслом? – подумал Костенко. – Наверное, зорьку, особенно такую туманную, я всегда воспринимаю через безногого егеря Анатолия Ивановича с Мещеры, через тишину озера и весло в его сильных руках…»
– Алло, товарищ полковник, добрый вечер, это Тадава тревожит.
– Это вам добрый вечер, а здесь уже рассвет.
– Ну?! У нас темень, дождище зарядил, что твоя осень… Так вот, Владислав Николаевич, хотя из флотских никто не пропадал, но в этом году скончались два офицера: Дашков Семен Карпович и Данилевский Сергей Константинович.
– Звания у них какие были?
– Один капитан первого ранга, а второй кавторанг.
– Где служили?
– На Дальнем Востоке ни разу не были.
– Сыновья у них есть?
– Этим я тоже поинтересовался. Один холостяк; у двоюродной сестры есть племянник, работает в Софии, от автозавода. У второго два племянника и четверо племянниц, дочь и приемный сын. Приемный сын в настоящее время отдыхает в санатории Академии наук под Москвой. Доктор наук.
– Спасибо, – буркнул Костенко, – привет всем нашим.
– А как у вас дела? Ничего пока не проясняется?
– Дела – мрак и туман. Плохи дела. Совсем плохи, – и, положив трубку, Костенко заново пролистал «План мероприятий».
План этот был составлен вчера, сразу после прилета. Костенко рассчитывал получить первые новости дня через два. Он ошибся. Первая новость пришла сразу же после разговора с Тадавой.
«Рапорт. Мною, участковым инспектором младшим лейтенантом милиции Горошкиным В. Д., проведены беседы с лицами, проживающими в непосредственной близости (радиус десять километров) от места обнаружения расчлененного трупа. Большинство опрошенных никакой информации, относящейся к интересующему нас делу, не дали. Однако Александров Матвей Прохорович сказал, что осенью, вернее, зимой, но еще до метелей, к его соседям Загибаловым приходил незнакомый мужчина в состоянии опьянения и с двумя чемоданами. Однако потом он больше не появлялся, а Загибалов жену из дома прогнал на целый день, а после этого напился пьян и, буянив, пел нецензурные песни».
«Полковнику Костенко.
На Ваш запрос сообщаю, что Загибалов Григорий Дмитриевич, 1935 года рождения, уроженец села Знаменки, Никольского района, образование неполное среднее, дважды судим за бандитизм, в настоящее время работает на мясокомбинате.
Старший лейтенант милиции
Вараксин».
2
Костенко оглядел лица участников оперативной группы, созданной руководством угрозыска Магарана, – молодые все, здоровьем налиты.
«А уже я себя чувствую стариком, – отметил Костенко. – В сорок-то восемь лет».
В прошлом году он ездил на конгресс юристов в Рим и видел в аэропорту группу американских туристов: ни одного человека моложе шестидесяти не было. А у бабушек – лет семидесяти – глаза, как у коршунов, блистали, когда мимо проходили лениво развинченные мальчики-итальянцы. Спутник Костенко пояснил, словно бы поняв полковника: «Стервецы дерут пятьдесят долларов за сорок минут удовольствия – плати, бабка, не греши».
– Ну что ж, товарищи, – сказал Костенко. – Загибалов – интересная версия. Будем ее работать. А еще? Я не очень верю в одну лишь версию. Я люблю, чтоб их много было, как в магазине обуви, когда продают наши ботинки – выбирай не хочу, только не покупает никто.
Сыщики переглянулись: смел полковник; ясное дело, москвич, начальник отдела, этот может резать правду-матку, вышучивать, что хочет, да в общем-то и правильно – на критику в первую очередь имеет право тот, кто состоялся, добился своего от жизни, не из-за угла же шипит.
– Разрешите, товарищ полковник? – поднялся майор Жуков.
– Да вы сидите, в ногах правды нет…
– Спасибо. – Жуков, однако, садиться не стал. – Наши оперативные группы провели определенную работу. Итоги: установлено, что в заброшенном бараке, – он кивнул на карту, – в семистах метрах от того места, где обнаружен труп, собирались неизвестные мужчины, пили, играли в карты. По слухам, один там всех обыграл, была драка, и, как сейчас говорят, его убили.
– Дом осмотрели?
– Так точно.
– Что-нибудь нашли?
– Нет. Ни бутылок с пальцами, ни окурков, ни следов крови – будто кто специально все прибрал.
– От кого поступил сигнал?
– От Потановой.
– Сколько лет ей?
Сыщики переглянулись. Жуков усмехнулся:
– Семьдесят шесть.
– Сигнализирует часто?
– Да уж. Почитай, каждый месяц пишет.
– Подтвердилось что-нибудь?
– Нет.
– Проверяли ее сигналы тщательно?
– Как положено.
– Так, может, хватит проверять? Маразм, может, у старухи?
– Вы ж сами нам голову и отвернете, – осмелев, сказал Жуков. – Поди не ответь на сигнал гражданина…
– Отвернем, если глупо ответите. С головой надо отвечать – и нам, и старухе, – а людей от дел отрывать стоит ли? И так мы время ценить не умеем, сколько его попусту тратим, а каждая минута имеет товарную стоимость. Так что оставим версию старухи про запас. Что еще?
– Выяснены имена всех пропавших без вести.
– Сколько их?
– Трое.
– «ДСК» по инициалам есть?
– Нет. Пропали Лазарев, Мишин и Курдюмов. Ни одного Сергея и Дмитрия среди них нет.
– Ну и что?
– Работаем.
– А как дела у науки? Что-нибудь с пальцев убитого получить можно?
– Пока нет. По формуле Пирсона пришли к выводу, что покойник был невысок ростом – сто семьдесят один сантиметр, обувь носил сорокового размера. Никаких характерных признаков, свидетельствующих о личности убитого или роде занятий, установить не удалось.
– Пока не удалось или совсем не удалось?
– Совсем не удалось, – ответил Жуков. – Эксперты бьются с пальцами, может быть, удастся вытянуть на дактилоскопию…
– Думаете, был судим?
– Думаю, товарищ полковник. Иначе откуда флотская форма, если никто из моряков не пропадал?
– Думаете, подбросил убийца, чтоб нас с толку сбить? Возможно такое?
– Судя по тому, что Загибалов работает на бойне и знает, как расчленять туши, также был судим, позволяет предположить, что его навещал человек именно с уголовным прошлым.
– Когда получили данные, что он по профессии раздельщик туш?
– Перед началом совещания.
– Чего ж с этого не начинали? – раздраженно спросил Костенко, поднимаясь.
– Если б с этого мы начали, кончать было б нечем, – ответил Жуков, тоже раздраженно. – И два чемодана у него стоят, от того самого гостя.
– Прокуратуру поставили в известность?
– Прокуратура в обыске отказала.
– До того, как вы установили там чемоданы?
– До.
– Сейчас должна дать санкцию. Едем к ним, думаю, выпросим.
– Дай-то Господь, – ответил Жуков, пропуская Костенко перед собой.
3
– Погодите, Загибалов, погодите… Я про Фому, а вы про Ерему. – Костенко поморщился, неторопливо закурил. – Вы мне толком ответьте: чьи это чемоданы и что в них лежит?
– Так я ж десятый раз отвечаю: чемоданы моего дружка по колонии, вместе чалились, а что в них – не знаю.
– «Дружок», «не знаю»… Это ж детский лепет, Загибалов, вы кодекс знаете не хуже меня… Как дружка зовут?
– Не знаю.
– Как же вы с ним общались, с дружком-то?
– Так кличка у него была.
– Какая?
– Нескромная.
– Здесь женщин нет.
– Матерная была кличка.
– Значит, как зовут его – не знаете?
– Не знаю, как перед Богом – не знаю.
– А в чемоданах что?
– Откройте да посмотрите.
– Товарищ полковник, – Жуков стоял на пороге комнаты, – вы в коридорчик выгляньте. А ты сиди, сиди на месте, Загибалов, сиди и не прыгай.
Костенко вышел в коридор, где стояли понятые и еще три милиционера.
– Вот, – сказал Жуков, – кровь, товарищ полковник. И на полу, и на обоях. Кровь, чтоб мне свободы не видать.
– Хорошо говорите, – усмехнулся Костенко. – Красиво.
– Так ведь всю жизнь с урками… Иной раз жене говорю, словно на этап отправляю: «Шаг влево, шаг вправо считаю побегом». Так что прошу простить. Обрадовался я, поэтому и заговорил приблатненно: кто б стал на эти бурые пятна внимание обращать – кухня на то и есть кухня, чтоб в ней мясо разделывать.
– Давайте-ка вырежем кусок обоев, товарищ Жуков, – сказал Костенко. – И выпилим эту часть кадки – на ней тоже вроде бы кровь, а?
– Нет. Не кровь, – убежденно сказал Жуков. – Это у нас с Кавказа привозили гранатовый сок, все на нем помешались, чтоб пищу заправлять, потому как витамин. Я его цвет от крови сразу отличу.
– Значит, выпиливать кадку не будем?
– Не надо, товарищ полковник, и так дел невпроворот… А вот здесь… Ну-ка, ножку стола поднимите… Еще выше… Новиков, помоги, чего рот разинул?! Нагнитесь, товарищ Костенко, ко мне нагнитесь… Вот здесь кусок пола выпилить надо – это уже точно: кровушка.
Вернувшись в комнату, Костенко сел рядом с Загибаловым, придвинулся к нему, тронул за колено – тот неторопливо отодвинулся:
– Не надо, полковник, вы мне дружбу не вяжите, все равно не ссучите.
– Неумно отвечаете, Загибалов, потому как раздраженно – с одной стороны, а с другой – страх в вас вижу. А боятся только те, кто чувствует за собою вину.
Загибалов странно усмехнулся, сокрушенно покачал головой:
– Иные с рождения страх чуют, с кровью передалось.
– Историей увлекаетесь?
– А чего ей увлекаться-то? Куда ей надо, туда и пойдет; не жизнь, а сплошная автоматическая система управления.
Тут пришла очередь Костенко усмехнуться – он начал испытывать интерес к этому громадному человеку, в маленьких стальных глазах которого была видна мысль, как он ни старался играть дурачка – тюремная, видимо, привычка; вторая натура, ничего не поделаешь; дурачку порою живется легче, особенно в трудных ситуациях.
– Чемоданы не вскрывали, Загибалов?
– Не имею привычки в чужой карман заглядывать.
– Хорошая привычка. – Костенко обернулся и попросил милиционера, стоявшего на пороге: – Пригласите, пожалуйста, понятых.
В чемодане было барахло: поношенная кожаная куртка, ботинки, носки, две пары брюк, меховая безрукавка; в кармане этой-то безрукавки Костенко и нашел профсоюзный билет на имя Дерябина Спиридона Калиновича. ДСК.
Костенко поднял глаза на Загибалова:
– В какое время Спиридон от вас ушел?
– Ночью.
– Зачем скрывали, что знаете его имя?
– А я и…
– А я и… – передразнил его Костенко. – Откуда он приехал?
– Не знаю.
– И фамилии не знаете?
– Ну Дерябин.
– А молчали…
– Я-то завязал, а он, может, в бегах.
– «Может» или наверняка?
– Про такие вещи впрямь не говорят, ждать надо, пока сам решит открыться.
В комнату заглянул Жуков:
– Товарищ полковник, вас Москва требует.
Костенко поднялся:
– Я скоро вернусь, Загибалов. Подумайте, может, есть резон самому сказать правду. Это не милицейские фокусы – это закон: признание облегчает участь.
– Слыхал, – ответил Загибалов. – Как же, как же…
– Когда жена придет с работы?
– У ней сегодня вечерняя смена, поздно придет.
– Адрес какой?
Жуков, усмехнувшись, откликнулся:
– Мы знаем, товарищ полковник.
4
Из Москвы звонил Тадава.
– Владислав Николаевич, – сказал он, – я посидел в нашем музее и откопал два любопытных документа.
– Давайте, – ответил Костенко, закуривая.
– Первый документ военной прокуратуры: в марте сорок пятого года в районе Бреслау, в нашей прифронтовой зоне был обнаружен мешок с расчлененным туловищем. Головы не было, как и в нынешнем эпизоде. Около места преступления нашли морской бушлат и бескозырку. На внутреннем ободке бескозырки полуисчезнувшие буквы, которые давали возможность предположить, что образовывали они имя и фамилию убитого.
– Записываю.
– Первая буква просматривалась явственно – «М». Затем пропуск двух или трех букв, затем «и», потом предпоследняя буква – либо «п», либо «к». Скорее «н», хотя тут со мной не соглашаются.
– Немного, а?
– Все же есть первая буква.
– А имя?
– Странное.
– Диктуйте.
– Заглавную понять нельзя. Вторая и третья – «и», «ш».
– Миша? Гриша? Никифор?
– Почему «Никифор»?
– Никита – если уменьшительно.
– Нет, не выходит. Предпоследняя буква «н».
– Значит, «Мишаня» или «Гришаня», – убежденно ответил Костенко. – Начинайте копать всех пропавших «Михаилов» и «Григориев». Как я понимаю, дело так и повисло?
– Совершенно верно, Владислав Николаевич.
– Из улик ничего не осталось?
– Остались два пальчика. Я заново поднял все архивы: ни до войны, ни после Победы человек с такой дактилоскопией не проходил.
– Но обстоятельства по почерку похожи: Бреслау и Магаран?
– Очень.
– Фронт в марте сорок пятого был уже в Германии…
– Именно так…
– Засадите пока что в компьютер имеющиеся буквы, попробуйте получить предположительный ответ. Наверное, получите семьдесят, сто вариантов имен и фамилий. Свяжитесь с военным архивом – вам подскажут, как убыстрить поиски по Бреслау. Это интересное сообщение. Что по второму вопросу?
– Второй документ на Загибалова. Я запросил колонию, где он отбывал срок. Среди полученных данных – пока еще приблизительных – я уцепился за тот факт, что он был мясозаготовителем…
– То есть – как?
– Начальник колонии отправлял его во главе бригады охотников в тундру, осенью и весной, когда не было подвоза по суше, зыбь, даже вездеходы не проходили, – отрабатывать лицензию на оленей. Он был хозяином фирмы, что называется: и охотником, и раздельщиком; кличка у него была «Загни и отчлень».
– Не понимаю…
– От слова «расчленять», Владислав Николаевич.
– Фамилии людей из его бригады не установили?
– Почему же? Установили.
– Дерябина среди них не было?
– Это – помощник его. Спиридон Натанович Дерябин, по кличке Простата.
– Запросите всех его родных и знакомых: где он сейчас находится и кто видел его в последний раз?
– Уже запросил. Мать, в частности.
– Ну?
– Последний раз он написал ей в октябре, сообщил, что освободился, скоро приедет в гости. С тех пор писем не было, сам не появлялся.
– Откуда писал?
– Из Магарана. Обратного адреса нет, «до востребования».
– Спасибо. Очень интересно все это. Спасибо еще раз.
5
…Заглянув к прокурору с предварительными данными экспертизы – там его уже ждал старший следователь Кондаков, – Костенко в дом Загибалова не поехал, а попросил шофера отвезти на фабрику, где работала его жена.
…В кабинет начальника отдела кадров вошла маленькая, красивая женщина с большими, широко поставленными серыми глазами – это было главным во всем ее облике; именно глаза организовывали лицо, делали его мягким, доверчивым, открытым.
«Где же я ее видел? – подумал Костенко. – Странно, я ее недавно видел».
Вспомнил: при входе на фабрику, на стене, была Доска почета. Портрет женщины был третьим справа во втором ряду.
– Здравствуйте, – ответила женщина, и зрачки ее расширились, отчего глаза из серых превратились в прозрачно-зеленые. – Что-нибудь случилось?
– Это я хочу спросить, что случилось, когда к вам приезжал Спиридон? – огорошил ее неожиданным вопросом следователь Кондаков.
«Ничего врезал, – отметил Костенко, – без игры, силки не ставит, сразу карты на стол, молодец».
– Какой Спиридон? – растерянно спросила женщина.
– Мужнин поделец, – лениво и всезнающе сказал Кондаков, всем своим видом показывая, что ложь он слушать не намерен, ибо все ему наперед известно.
– А ничего не случилось. Посидели, выпили…
– Ночевал Спиридон у вас?
– Нет, ушел.
– Когда?
– Ночью.
– К кому?
– А я почем знаю?
– Друзья у него в Магаране есть?
– Не интересовалась, – ответила женщина.
Начальник отдела кадров кашлянул в кулак:
– Загибалова, ты ударница коммунистического труда, не говори лжи.
– Он красивый? – спросил Костенко.
Женщина покраснела:
– У меня свой мужик есть.
– Это я понимаю, – согласился Костенко, – просто интересуюсь вашим мнением.
– Да так, из себя видный, – ответила женщина, – глаза цыганские, жгучие такие…
– Да при чем тут глаза? – включился начальник отдела кадров. – Ты опиши, внешние признаки дай…
«Не нужны нам внешние признаки, – досадливо подумал Костенко. – Экий ведь стереотип мышления, насмотрелись “знатоков” и мнят себя юристами. Мне важно, чтоб она про глаза Спиридона рассказала, про его запах – женщина на запах локаторна, некоторые мужчины вкусно пахнут – чуть-чуть горького одеколона, даже “шипр” сойдет, коли с водою, – и сила, у нее особый, свой запах, не расчлененный еще химиками на составные части. Ладно, пусть он ее отвлечет, тоже не вредит, сплошные “кошки с мышками”, сам себе противен делаешься, не человек, а Макиавелли. Хотя Федор Бурлацкий доказал, что Макиавелли – совсем не так плохо; что ж, каждому политику свое время, разумно».
– Внешне я не опишу, – продолжала между тем Загибалова, – у него родинок никаких не было, одна только маленькая на щеке, возле морщинки…
– Это хорошо, что про родинку помните, – включился Костенко, – но тут что-то не вяжется у нас с вами: родинка родинкой, а отчего друг ушел ночью в никуда? Ни друзей нет, ни знакомых, такси не сыщешь, до города пять верст, мороз…
– Пьяный был, поэтому и ушел. Пьяному мужику невесть что в голову взбрести может…
– Это верно, – сразу же согласился Кондаков, – но только зачем уходить, а чемоданы оставлять? И полгода за ними не возвращаться? Сколько денег было в чемоданах?
– Много, – ответила женщина, нахмурившись, – он пачки три вытащил, по карманам рассовал…
– Это когда муж его провожать пошел?
– Нет, это когда они выпивать начали.
– А когда у них драка началась? – спросил Костенко тихо.
Женщина снова вспыхнула:
– Не было у них драки. Поспорили промеж собой – и все…
– Загибалова, не говори ложь, – снова посоветовал начальник отдела кадров, – товарищ полковник прилетел из Москвы.
– А если бы я был отсюда – врать можно? – усмехнулся Костенко.
Женщина опустила лицо в маленькие, красивые, хоть и в машинном масле, руки.
– Набедокурили – вот и отвечай, – снова прорезался кадровик. – Нечего, понимаешь…
– Вы мужа подозреваете? – спросила Загибалова.
– В чем? – Кондаков подался вперед. – В чем мы его можем подозревать?
– Ничего я не знаю! Не знаю! – заголосила вдруг женщина высоким голосом, и этот ее плач странно диссонировал со всем ее обликом – вполне современная женщина, молодая, даже в рабочей ее одежде был вкус, современный вкус, а здесь был вопль – так мужиков на войну деревенские бабы провожали.
– Вас сейчас отвезут в прокуратуру, – сказал Костенко, – и допросят. Советую говорить правду. Ждите здесь, за вами подойдет машина.
6
– Загибалов, этот гражданин – старший следователь прокуратуры, Кондаков Игорь Владимирович.
– Значит – сажаете?
– Сажаем, – согласился Кондаков.
– Произвол, – сказал Загибалов. – Прежним временем пахнет.
– Ознакомьтесь с экспертизой, Загибалов, – сказал следователь Кондаков. – Следы крови на мешковине, в которую был завернут труп, и кровь с обоев на вашей кухне относятся к одной группе.
– Чего, чего?!
– Читать умеете? – спросил Костенко.
– Если напечатано – умею.
– Напечатано. – Костенко протянул Загибалову несколько страничек с машинописным текстом.
– Вы, конечно, слыхали, что на трассе, неподалеку от вашего дома, обнаружили расчлененный труп?
– А у Коровкиной тещи бык околел… Мне-то что?
– Какой бык? – не понял Кондаков. – При чем тут теща?
– Это я выражаюсь так, гражданин следователь. У каждого человека своя должна быть система обращения… Нашли труп – хороните. Меня зачем тянуть не по делу?
– Загибалов, – негромко сказал Костенко, – или вы отпетый злодей, или чистый в этом деле. Вы меня послушайте внимательно, вы меня только не перебивайте, вы помолчите, покуда я стану говорить. Кровь на мешке, где лежал убитый, и кровь на кухне – одной группы. Это улика, Загибалов. На расчлененном трупе есть татуировка – ДСК. Вашего подельца звали Дерябин Спиридон Калинович. Это вторая улика.
– Косвенная. – Загибалов с потугом зевнул и задумчиво спросил: – А третье что есть?
– Третьего не дано, – усмехнулся Костенко.
– Про это мы проходили, – сказал Загибалов.
– Где? – поинтересовался Костенко.
– В камере пахан был… Философ… Он – просвещал… Кому там и не дано третьего, а вы меня без этого самого-то третьего не сломите.
– Есть третья улика, – снова включился Кондаков и положил на стол заключение эксперта. – Неизвестный убит и расчленен человеком, имеющим навыки в этой работе…
– Убивать, что ль?
– Расчленять, – пояснил майор Жуков. – Не надо себя так держать, Загибалов… Положение твое сложное, я бы на твоем месте подумал серьезно, как отвечать…
– Вы бы на моем месте ходили на свободе. А поскольку я чалился, чтоб вокруг ни случилось, все равно буду под подозрением. И думать мне нечего. Это вам надо думать и доказывать. Мне – на нарах лежать.
– Откуда кровь на кухне? – спросил Костенко.
Загибалов долго молчал, потом растер лицо мясистой ладонью и ответил:
– Бабу бил. Банкой по темени, чтоб со Спиридоном не гуляла.
– С Дерябиным? – спросил Жуков.
– Ну… Я его встретил, как брата, вина купил, а он потом к бабе полез под подол. А та – вроде бы и не ей под подол лезут. Ему – на порог, от позору, а ее – воспитал.
«…Сначала мужчины сидели в комнате и пили. Я слыхала на кухне, что муж настойчиво советовал что-то “отдать власти”, а неизвестный, с цыганскими глазами, только смеялся. Когда я вошла со сковородкой, на которой была жареная картошка с луком и салом, при мне мужчины ни о чем не говорили, только пили. Потом неизвестный стал оказывать мне внимание, а муж его за это выгнал, а меня избил на кухне, за что я на него не обижена. Сколько денег спрятал в карманы неизвестный, точно сказать не могу, но в толстых пачках были сторублевые бумаги. С моих слов записано правильно.
Загибалова Р. П.»
Ретроспектива-II
Ночью Кротов почувствовал на своем плече чью-то руку. Проснувшись, он не сразу открыл глаза; несколько мгновений раздумывал, что бы это могло значить, – годы службы в диверсионной группе РОА приучили ко всякого рода неожиданностям; немецкая тюрьма – тоже, а здесь и вовсе концлагерь, всего можно ждать.
«Вчера вроде б все было в порядке, – быстро думал он, – да и вся неделя прошла нормально. А что я сказал Рыжему? Я сказал, что погибать надо с музыкой, а лучше не погибать, а обзавестись. Он спросил, что значит “обзавестись”, и в глаза мне не смотрел, поэтому я сказал, что обзавестись надо ножами, чтоб большевиков резать тогда, когда патроны кончатся. Может, они мне сейчас клеить станут, что я клеветал на экономическую мощь рейха? Отвечу, что я имел в виду патроны в моем мешке, а не на заводах Германии».
Он сыграл испуг, взметнулся на койке, но рука еще сильнее сжала его плечо: над ним стоял офицер в черном.
«Ну, точно, сейчас поволокут, – понял он. – Где ж я что мог ляпнуть-то, а?»
– Одеваться? – спросил Кротов шепотом.
Черный кивнул:
– Только тихо, чтобы не разбудить соседей…
И вышел из блока.
…В комнате лагерного коменданта было трое: тот, в черном, один в форме зеленых СС и один в штатском. Штатский заговорил на хорошем русском:
– Мы пригласили вас потому, что верим вам. Тот досадный инцидент, который имел место быть год назад, забыт. Согласны подписать бумагу, которая гласит, что вы будете расстреляны на месте за разглашение тайны, в которую вас посвятят?
– Я такую бумагу подписывал, когда меня к большевикам первый раз забрасывали, и здесь, в лагере, подписывал.
– Вас забрасывала армейская разведка, здесь вы работаете на гестапо, а сейчас вы приглашены СД.
– Спасибо за доверие…
– Итак, вы готовы?
– Готов… Только интересуюсь, что за дело, если оно еще одной такой бумаги требует?
– Вы что, еврей, Кротов? – спросил тот, что был в зеленой форме СС. – Только жиды так торгуются. Это недостойно человека, которому позволено связать свою судьбу с рейхом.
Кротов спросил:
– Где бумага?
Штатский открыл папку, достал оттуда листок с приколотой фотографией Кротова, подвинул ему, протянул перо. Кротов машинально отметил, что «Монблан», если с золотым пером, стоит семьдесят марок, большие деньги; подписал, не читая, тем более что они со своим готическим шрифтом совсем озверели, это у них Розенберг сказал: «Каждый немец должен писать лишь готикой, это угодно нашему национальному духу, это отличает нас ото всех других европейцев, это старина и традиция, а нация вне традиций утрачивает самое себя».
Штатский подвинул себе листочек, достал из другой папки лист бумаги, где был крупно выпечатан образец подписи Кротова, сравнил, удовлетворенно улыбнулся, спрятал обе бумажки в третью папочку:
– А теперь пройдите в ту дверь, там вас ждут…
За металлической дверью, в комнате, сидел небольшого роста человек, тоже в черном; дымчатые очки закрывали его и без того маленькое лицо, сморщенное болезнью.
– Здравствуйте, Кротов, садитесь, – сказал он с чуть заметным акцентом.
Кротов оглянулся – стула в комнате не было. Собеседник словно бы и не заметил этого, продолжал:
– Вы удостоены большой чести, Кротов, чести и доверия рейха, запомните это. Излагаю суть дела: великий фюрер германской нации Адольф Гитлер издал приказ о тотальной эвакуации всех тех районов – особенно в Восточной Пруссии, – где возможны прорывы большевистских десантов. Ясно, что долго они там не задержатся, однако возможность десанта мы, исповедующие правду, не исключаем. Получены сведения о концентрации большевиков на границе, о готовящемся ими ударе. По нашим сведениям, далеко не все жители деревень и городов подчинились приказу фюрера: ими движет алчность и трусость, страх расстаться со своей скотиной, а это – преступление перед рейхом, ибо вместо выжженной земли большевики получат теплые дома и парное молоко. Люди, не подчинившиеся приказу фюрера, перестают быть немцами, они становятся для нас недочеловеками – вам понятно значение этого слова, надеюсь?
– Понятно.
– Таким образом, вы до конца оценили высокую принципиальность фюрера, если покарать арийцев поручено вам, славянину?
– То есть как?
– Двадцать человек – из формирований Власова – будут переодеты в форму красноармейцев. Вместе с вами пойдут два моих офицера. Вы должны будете зверски вырезать, – отчеканил черный, – всех тех, кто ослушался приказа фюрера. Я развязываю вам руки: женщины – ваши, часы – ваши, золотые кольца – ваши. Ни один человек не должен остаться живым в той деревне, куда вас забросят.
– А потом? – охрипнув от внезапного страха, спросил Кротов.
– Вы правильно поставили вопрос. Нет, вас не уничтожат, чтобы на месте получить «доказательство красных злодеяний». Именно вас не тронут. И трех ваших спутников, которые станут командовать пятерками. Вы же – вы и трое ваших коллег – будете ходить из дома в дом и там, на месте, ликвидируете своих людей по мере того, как они завершат свою работу. После этого эвакуируетесь на двух мотоциклах в тот пункт, который известен лишь моим офицерам.
– А ваши офицеры ликвидируют нас, как мы – людей из своих пятерок?
– Вы еще более правильно поставили вопрос, Кротов. Не поставь вы этот вопрос, я бы приказал вновь изолировать вас, потому что понял бы вашу неискренность и желание перебежать к красным из немецкой прифронтовой деревни. Дело заключается в том, что мы придаем вам пять человек, которым мы верим. Да, да, верим… Однако они, в силу своих умственных способностей, лишь компрометируют нас своим сотрудничеством. Понятно? Вы ведь встречали в тюрьме тех славян, которые вызывали у вас брезгливость?
– Встречал.
– А почему они вызывали у вас брезгливость? – тихо, другим голосом спросил черный. – Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей у вас брезгливости по отношению к людям одной крови?
– Безмозглые. Быдло.
– Что такое «быдло»?
– Вроде стада…
– А еще?
– Всё.
– А не вызвало в вас брезгливости то, что они были слишком русскими?
– Это тоже. Мужики.
– Вы тяготеете к европейской культуре. Так что учите язык, нам это нравится; вы нам будете нужны – не считайте, что предстоит только та операция, о которой я вам сказал. Предстоят операции в России, как только мы отбросим варварскую лавину. Вы нам будете очень нужны, на кого-то надо опираться, не на спившихся же бургомистров… Ничего, как это у вас говорят, на ошибках учимся? Мы не боимся учиться на ошибках, мы их учитываем… Теперь последнее: какие у вас пожелания? Соображения? Может быть, вы намерены отказаться? Да, кстати: после завершения операции получите пятидневный отпуск в Берлин и премию, так что, – черный усмехнулся, – денег в ювелирном магазине фрау Пикеданц искать не придется.
– Спасибо. А соображение у меня есть…
– Пожалуйста.
– Каким оружием ликвидировать участников операции?
– Немецких изменников или ваших подопечных?
– И тех, и других.
– Первый вопрос – не ваша компетенция, с участниками операции уже работают, у них русские ножи, русское оружие… У вас будет немецкое оружие. Убирайте ваших выстрелами из автомата, с контрольным, повторным выстрелом – гарантия смерти должна быть абсолютной.
– Так если я в деревенском доме одного пристрелю, другие всполошатся, думы-то у всех одинаковые…
– Далеко не у всех. Вопрос, подобный тому, который вы задали мне – по поводу вашей дальнейшей судьбы, – ни у одного из отобранных для операции не шевельнулся в голове. И потом, два моих офицера будут создавать шумовой эффект, стрелять постоянно… Хочу еще раз предупредить: поскольку вы отвечаете за свою пятерку – никаких улик не должно остаться, ничего немецкого не должно быть с ними, никаких, словом, следов. Проверьте даже резинки в кальсонах – немецкие ли…
– Русские кальсоны на резинке не одевают. У нас на пуговице.
– Ну тогда я спокоен за успех дела, если вы так четки в мелочах.
Операция действительно прошла успешно, выступил Геббельс: «Красноармейские варвары убивают немецких женщин и детей по заданиям своих комиссаров».
7
…Старуха Потанова, которая «просигналила» о картежниках, встретила Костенко настороженно.
– Она глуховата, – пояснил Жуков, – и потом, к ней всегда сержант в форме ходит, участковый, она штатским не верит. Громче с нею говорите и удостоверение достаньте, она это любит.
Красный кожаный мандат с гербом и золотыми буквами «МВД СССР» действительно оказал на старуху моментальное действие. Она пригласила гостей в комнату, сунула недоштопанные чулки под подушку, смахнула со стола крошки на пол, обмахнула ладонью стул, подвинула Костенко, Жукову предложила табуретку.
– Матушка, – прокричал Жуков дурным голосом, – начальник по твоему сигналу из Москвы приехал!
– Из Москвы прилетают, – поправила его старуха тихим, вкрадчивым голосом: в отличие от иных, тугих на ухо, она говорила чуть что не шепотом.
– Я по поводу картежников, – прокричал Костенко.
Потанова, внимательно глядевшая на его лицо, увидела, видимо, как напряглись жилы на шее полковника – он кричал редко, с детства страдал ангинами, – усмехнулась беззубой, кошельковой улыбкой:
– А вы чего кричите, будто я глухая? Вы нормально со мной говорите.
– Вот змея, – заметил Жуков, – скучно ей…
– Чего? – спросила старуха, и лицо ее сделалось на какое-то мгновение растерянным – она не смотрела на Жукова, поэтому не смогла прочесть по губам его вопрос. – И ничего подобного!
– Я сказал – «хорошая ты старуха», – сказал Жуков, – а ты: «ничего подобного»…
– Матушка, – снова прокричал Костенко, – мы к вам по поводу картежников…
– Кнута ноне нет, – вздохнула старуха, – вот и играют. Раньше б шею свернули, и правильно б порешили, а сейчас цацкаются…
– Раньше лучше было? – прокричал утверждающе Костенко.
– А как же! Куда как! Порядок был…
– А пенсию раньше какую вам платили?
Старуха заливисто рассмеялась:
– Так я тогда работала, когда раньше-то было! Пенсия, понятно, ноне лучше, плохо то, что страха нет.
– Вот по прежним-то хорошим временам мы сейчас тебя и повезем на допрос, – сказал Жуков, – будешь доказывать, что картежников видала, все подробности нам отдашь, а то за ложные показания привлечем…
– А ты меня чего пугаешь? – еще тише спросила старуха. – Я свои права знаю, зараз с тебя погоны-то сыму за такое отношение к трудящей! Ишь!
– Ладно, матушка, – остановил ее Костенко, – давайте-ка по делу. Вы что, подкрались к окошку?
– К какому еще окошку я подкралась?
– К тому, за которым бандюги в карты играли…
– А… Нет, не кралась я… Мимо проходила, ну и услыхала, как они собачились.
– А чего не поделили? – спросил Костенко. – Чего собачились?
– Козыри называли.
– Врет стерва, – тихо сказал Жуков, – козыри блатные шепотом называют, а она вовсе глухая.
– Какие они из себя?
– Морды, одно слово, – ответила старуха.
– Блондины? Брюнеты? Бритые? – уточнил Костенко.
– Всякие, – ответила бабка. – Я ж написала, чего больше-то с меня хотите? Или, может, запретите трудящему человеку властям писать?
– Пишите, матушка, пишите, – сказал Костенко. – Только в один прекрасный день, когда вы письмо на почту понесете, настоящий жулик к вам в комнату влезет и сберкнижку утащит.
– Чего?! Это как же?!
– А так же, – прокричал Жуков. – Мы ж проверяем твои сигналы, старая. Значит, милиционер будет вокруг того дома ходить, где ты бандюков видала, а твой безнадзорным окажется.
Потанова хотела было сказать что-то, но потом вздохнула:
– Путаете вы меня чего-то, путаете…
– Бабушка, – сказал Костенко, поднимаясь, – вас не путают, вам дают совет: вместо того чтобы писать, вы лучше приглашайте к себе участкового и ему все новости сообщайте устно.
– Как?
– Словами говори, – прокричал Жуков, – только писем не пиши, начальник тебе добро советует.
Ночью Костенко переселился в отель – уехал Кобзон, освободился люкс, однако поспать ему снова не удалось: только-только прилег, как постучал Жуков.
– Что, майор? – спросил Костенко, не открывая еще глаз. – Нашел супостата?
– Вы мне сначала завизируйте приказ, – ответил тот, – на премию эксперту.
– Сложил отпечатки в таблицу?
– Пока еще нет, но вроде бы получается.
– Когда получится – тогда б и будил.
– Мы Спиридона нашли, – торжествующе сказал Жуков. – Жив, сукин сын.
– Ну?! – Костенко потянулся сладко. – Значит, версия наша летит к чертям?
– Еще к каким!
– Загибалова освободили?
– Да. Пьет уж дома.
– Как же вы Дерябина-то выловили?
– Случай. Я телефонограммы во все отделы отправил, а там, в Сольгинке, дежурил охотник, сержант, так он с Дерябиным неделю как назад с песцами вернулся.
8
Вертолет прилетел в Сольгинку через два часа. В дороге Костенко «добрал» сон – пилоты натопили в кабине: «ташкент», благодать.
…Дерябин оказался высоким мужчиной, действительно «видным»; Костенко вспомнил слова жены Загибалова: у этой ударницы губа не дура.
– Ты чего ж матери письмо не отправил? – спросил Костенко. – Старуха все глаза выплакала, тебя ожидаючи.
– Не меня, – ответил Дерябин, – алименты.
– Матери денег пожалел? – спросил Жуков.
– Да не жалел я ей ничего. Когда меня «Загни и отчлень» выгнал, я деньги-то прогулял. С чем ехать к старухе? Ну, она, понятно, на алименты… Сестра, паскуда, натравила, они с ее мужиком завистливые, на чужую деньгу беспощадные… Вот, все думал, заработаю по новой и полечу к бабке…
– Поэтому молчал? Притаился? – спросил Жуков.
– Ну, – по-сибирски, утверждающим вопросом ответил Дерябин.
– А с кем в авиапорту гулял? – спросил Костенко.
Жуков стремительно глянул на полковника: тот ставил силки – убийство неизвестного «ДСК» и драка у Загибалова произошли почти в одно и то же время.
– Да разве упомнишь? Там такой гудеж стоял; когда бухие – все братья, только с похмелюги готовы друг дружку на вилы поднять.
– А маленький такой мужичок с вами не пил?
Жуков не сразу понял вопрос Костенко, потом вспомнил заключение экспертизы о размере обуви («убитый носил тридцать девятый – сороковой размер»), снова подивился тренированности полковника: как большинство практиков, работающих далеко от центра, он считал столичных теоретиками.
Дерябин как-то по-особому глянул на Костенко и спросил:
– А чего это вас маленькие интересуют?
– Театр лилипутов хочу открыть, – рассердился Костенко. – Вы отвечайте, когда спрашивают, Дерябин.
– Так ведь это моя добрая воля, – ответил тот, – отвечать вам или нет. Сейчас время другое, мы сейчас под законом живем.
Костенко усмехнулся, посмотрел на Жукова.
– Вот поди разберись, – сказал он и по тому, как нахмурился Жуков, понял, что майор тоже вспомнил глухую старуху Потанову, сетовавшую на «нынешние порядки».
Дерябин достал из кармана «Герцеговину Флор», неторопливо раскурил длинную папиросу, глубоко затянулся и ответил:
– Помнится, маленький какой-то был.
– Почему запомнили? – поинтересовался Костенко. – Из блатных? Поделец?
– И не блатной, и не поделец, но тоже свое сидел – шофер, сшиб кого-то, получил срок.
– Фамилию не помните?
– Имени даже не помню, начальник, откуда ж фамилию-то?
– Примет никаких особых не было? – спросил Жуков. – Наколки, например?
– Наколка была, – ответил Дерябин, подумав. – Только не помню какая.
– На правой руке? – спросил Костенко.
– Нет. На левой вроде бы…
– Якорь? – подстраиваясь под Костенко, спросил Жуков.
– Только не якорь, – ответил Дерябин. – Буквы скорее, а какие – не упомню я, говорю ж, бухой был до остекленения…
– А о чем говорили? – спросил Костенко. – Может, он какое имя называл? Улетал из Магарана? К кому? Куда? Или прилетел?
– Имя он называл, – сказал Дерябин, – он Дину какую-то называл, это помню. «Не женщина, – говорит, – а бульдозер. Для тела подходит, душу не трогает». Маленькие все здоровенных любят, к надежности тянутся… Это мне карлицу подавай, а как какой низкорослый – тот норовит на громадине остановиться.
«Москва. УГРО МВД СССР, майору Тадаве. Срочно установите, не обращалась ли в отделения милиции по стране женщина по имени Дина, отчество и фамилия неизвестны, однако могут начинаться с букв “С” и “К”, в связи с розыском пропавшего без вести мужчины в период с октября по апрель. Костенко».
«Магаран. УГРО ГУВД СССР. Прошу установить, не обращалась ли в отделения милиции края женщина по имени Дина в связи с розыском пропавшего без вести мужчины. Ответ радировать в Сольгинку. Жуков».
Ответы пришли к вечеру – в обоих случаях отрицательные. Дальнейший допрос Дерябина никаких результатов не дал. В три часа ночи Жукова разбудили – на связь по рации вызывал научно-технический отдел управления.
– Судя по дактилоскопии, – записывал радист, – убитым был Минчаков Михаил Иванович, 1938 года рождения, шофер, осужден за наезд.
Дерябина будили долго – храпел он богатырски, грудь вздымалась ровно, как океанский прибой. Открыв глаза, он не сразу понял, чего от него хотят Костенко и Жуков, норовил повернуться на бок, по-младенчески чмокал губами, ладошку подкладывал под щеку.
– Да не спи же! – озлился наконец Жуков. – Того коротышку Минчаков звали?
Сначала Дерябин нахмурился, потом широко открыл глаза, резко поднялся с кровати:
– Точно! Миня! Минчак!
– Откуда он в Магаран прилетел? – спросил Костенко.
– Ей-богу, не говорил! Погодите, он вроде б улетал. Точно, говорил, на Большую землю подается.
– Ну-ка, Спиридон, ты по порядку все теперь вспомни: тут каждая мелочь важна, – сказал Жуков. – Теперь легче тебе будет, кончик мы ухватили.
– Против меня копаете? – спросил Дерябин, одеваясь. – Или я – в чистоте для вас?
– Вроде бы вы ни при чем, – сказал Костенко.
– Он при деньгах был? – спросил Жуков. – Не помнишь, Спиридон?
– А говорите – чистый… Ясное дело, капканы ставите… Неужто думаете, на мокруху пойду? Я ж в полной завязке, зарабатываю по шестьсот в месяц.
– А после аэродрома, когда в ресторане с Минчаком кончил гулять, ни копейки в карманах не осталось, – заметил Жуков.
– Да разве я с ним одним гулял?! Сколько народу напоил?! Роту, ей-богу, роту целую сквозь свой стол пропустил! Если б я его молотнул – зачем мне сюда возвращаться? Я б к маме полетел. Да вы буфетчика в ресторане спросите, он меня вниз сволок, когда я за столом уснул… Может, он Миню помнит?
– Спросим, – пообещал Костенко. – Обязательно. Только припомни, что тебе Миня говорил? О чем? О ком?
– Говорить-то говорил, да не помню что… Истый крест, помнил бы – помог. Про Дину помню, а потом – провал…
– Давай, давай, – сказал Жуков, – напрягись, Простата…
– Погоди, – лязгающе застегнув офицерский ремень, сказал Дерябин, – вспомнил. Тогда ж рейс отменили, снег валил, поэтому и гудеж шел… Или перенесли на утро, или отменили… И я б улетел, и Миня… Точно, буран начался, в диспетчерской сказали, что до утра откладывается, ну и понеслось – Россия! Она – стихия, и мы стихийные.
– Сколько классов кончил? – спросил Жуков.
– Фюнф, – ответил Дерябин. – Неполносреднее, так пишу в самодоносках.
Костенко рассмеялся:
– Это про анкету?
– А про чего ж еще? Про нее, родимую, – ври не хочу, зато подшита, и обратно в характеристике: «Выдержан, хорошие показатели, привлекался, но смыл».
– Слушайте, а Миня за столом платил? – спросил Костенко.
– Он платить хотел, что правда, то правда. Но я выступал тогда; запретил ему и копейку тратить. А пачки денег у него были здоровые, он их с трудом из кармана доставал, как винт вывинчивал. Я-то все просадил… А может, потерял…
– Почему в милицию не заявил, что деньги пропали, Спиридон? – спросил Жуков.
– Я было думал… А потом похмелился и ну, решил, всех к едрене фене – затаскаете…
– А Минчакова утром уже не было? – спросил Костенко.
– Нет. Не было, – ответил Дерябин убежденно. – Неужто погубили масенького?
– Дерябин, – еще ближе подавшись к Спиридону, тихо сказал Костенко, – а тебе Загибалов что предлагал власти сдать? Золото?
– Раскололся, – покачал головой Дерябин, – до задницы, гляжу, раскололся… Самородок я нашел, ну и думал с собой взять, а он говорил, продай власти…
– Продали?
– Мине продал, – ответил Дерябин. – Вроде бы за пять косых, пьяный дурак, отдал… Потому руки-то его и запомнил, иначе б разве осталась в памяти эта Дина?! У него «Д» на руке было наколото, про «Д» сейчас точно вспомнил…
«Магаран. Костенко. По месту нахождения. Минчаков освобожден из колонии досрочно. По наведенным справкам, жил и работал – после освобождения – в поселке Знаменское. Тадава».
«Поселок Знаменское, дежурному по отделению. Срочно установите в сберкассе поселка, когда и сколько снял со своего счета Минчаков Михаил Иванович, взял ли наличными или положил на аккредитивы. Костенко, Жуков».
Дежурный в Знаменском оказался парень быстрый. Он пришел в дом заведующего сберкассой Зусмана в шесть утра, а в шесть сорок вызвал к рации Жукова – имя Костенко ему ничего не говорило.
– Минчаков снял со своего текущего счета 4592 пятнадцать тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива, номера 56124/21, 75215/44, 94228/97 в тот же день, товарищ Жуков.
– С вами говорит Костенко…
– Кто, кто?!
– Костенко.
– Откуда вы? – поинтересовался Гуськов.
– Из Москвы.
– А Жуков где?
– Рядом.
– Как в Москве дела? Тепло уж небось? – Гуськов перешел на лирику.
– Тепло! – рявкнул в рацию Жуков. – Вы начните опрашивать всех, видавших Минчакова перед отъездом, мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия?
– Сядете. Снег начался с дождем, но мы фарами посветим.
9
Фары были, однако, едва видны, вертолетик болтало из стороны в сторону, ветер шквальный.
– Не сядем, – прокричал пилот штурману.
Жуков услышал, крикнул:
– Надо сесть!
– Не надо, – сказал Костенко. – Что это за манера давать категорические советы? Вы пилот или он?
Жуков усмехнулся:
– Боитесь, что ль?
– Конечно. А вы – нет?
– Мы здесь привычные.
– Я, знаете, тоже привычный, только гробиться зазря не хочу.
Жуков, видимо, перед вылетом выпил, озорничал поэтому.
– Ребята, – прокричал он пилотам, – полковник боятся, велят поворачивать назад!
Пилоты назад не повернули, начали зависать.
Спускались медленно, болтало.
– Бутылка-то есть? – спросил Костенко.
Жуков достал из кармана плоскую фляжку:
– Спирт. Дышите потом глубже.
– Вы меня кончайте учить, – усмехнулся Костенко, – ишь, Монтень выискался.
– Как вас не учить, коли первый раз на Севере!
– Я, Жуков, на Севере был еще более дальнем, парнем еще, когда глухая старуха Потанова трудилась в поте лица и о пенсии не мечтала. Ясно?
…Третий – из тех двадцати, что вызвали на допрос, слесарь Лазарев, – на вопрос Костенко ответил уверенно:
– Нет, он в штатском улетал. Откуда у него форма? Я ж его до вертолета на мотоцикле довез…
– А может, у него в чемодане форма была? – спросил Жуков.
– Да нет же! Зачем она ему? На флоте он никогда не служил, пижоном не был… Да и потом, поселок маленький, всё у всех на виду, мы б знали, товарищ майор. Я могу сразу сказать, что у него было: шкафом-то не обзавелся, весь гардероб на крючке за дверью висел, под марлей. Кожанка была, рубашек было несколько, ну и спецовка там… Бушлат…
Жуков поглядел на Костенко, тот отрицательно покачал головой, но все же спросил:
– Бушлат с какими пуговицами? С черными?
– Конечно, не с медными, – ответил Лазарев, – те на морозе не застегнешь, все пальцы поломаешь, кожа прилипнет, разве можно?
…Буфетчица Трифонова прибежала к Жукову вечером, уже после того, как дала показания:
– Ой, вспомнила, товарищ майор, у него первая любовь в Магаране живет.
– Ну?! А как зовут? Где работает?
– Он скрытный, этот Минчаков, никому не открывался. Как освободился, как перешел на вольную, так бобылем и остался жить: деньги заколачивал, по тысяче в месяц брал. Организованный был мужик: одну субботу выберет, придет в буфет, купит пару бутылок – значит, будет гулять. Один. Раз только, помню, автобус отходил, на магаранский вертолет, Минчак у меня в буфете стоял, вздохнул, помню, и сказал: «А у меня там первая любовь живет».
– А вторая где?
– Чего? – не поняла женщина.
– Ну, если «первая» любовь, значит, и «вторая» – по логике – должна быть.
– Да кто мужиков поймет? У вас своя логика, у нас – своя. Первая, может, и была, а потом чередою пошли, со счета сбился, помнят-то первое, потом стирается все…
Костенко осмотрел маленькую комнату Минчакова тщательно; сначала сел на койку, заправленную серым одеялом, закурил, бросил спичку в стеклянную банку, вспомнив при этом отчего-то жену Загибалова, и начал медленно по секторам исследовать минчаковское жилье.
Митя Степанов, вернувшись из очередной своей командировки, рассказывал, как работают молоденькие девушки в охране президента США. «Они, понимаешь ли, Слава, хорошенькие, что – немаловажно. И поэтому на них любопытно смотреть. Но потом делается страшновато: когда их шефы сидят в зале переговоров, девушки кокетничают с прессой, милашки, одно слово, но стоит хозяевам появиться, они меняются неузнаваемо. Все прежнее: и фигурки, и овал лица, и рот, только глаза делаются другими и скулы замирают. Понимаешь, глаза их перестают быть обычными, человеческими. Голову они не поворачивают, лишь глаза, как на шарнирах, очень медленно, контролируют свой сектор, кто бы ни попал: журналист ли, ребенок, старуха – никакого выражения, лишь напряженное ожидание опасности».
Костенко попробовал так смотреть и с удивлением обнаружил, что эдакое разглядывание действительно позволяет видеть значительно больше; сектор – он и есть сектор – изначально заданная конкретика.
Поэтому сейчас, зябко поеживаясь в комнате Минчакова – печка не топлена, холоднее, чем на улице, – Костенко начал шарнирить глазами.
Стол, накрытый газетами. Газета районная, значит, центральные не выписывал, хотя поди их сюда выпиши. Но районные получал. Интересно: подписался ли до конца года? Если – да, следовательно, рассчитывал вернуться. На почте могут помнить, кому писал, от кого получал письма. Значит, почта. В столе один ящик, там, видно, посуда, ножи, вилки. Два табурета. Крючки, на которых висел «гардероб», о котором рассказал Лазарев. Остался старый пиджак, такие в деревнях деды носят, с мятыми, обвислыми лацканами, пуговица одна, но зато пришита накрепко…
«Наверное, Тадава не может со мной связаться, – подумал Костенко. – Видимо, все установочные данные на Минчакова он уже получил… Неужели бобыль? Молодой ведь мужик. Ни матери, ни отца? А Дина где? Интересно, Жуков запросил Магаран по поводу всех Дин, там живущих? Толковый мужик, хорошо работает».
Костенко поднялся с кровати, пружины тонко прозвенели; подняв матрац, глянул, нет ли там чего – чисто. Открыл ящик стола: две тарелки, три вилки, два ножа, большая ложка, видимо, ею же и сахар в стакане размешивал, и щи хлебал.
«А вот латыш, – подумал Костенко, – комнату бы обжил. Уж про немца и говорить нечего. А наши забили деньгу – и обратно. Сами себя люди теряют; временность; невосполнимо это, пропавшие годы, надо всегда сразу же обживаться, чтоб каждый твой ночлег на земле остался в памяти радостью и красотой. Отчего это у нас так? От неуверенности, что ль? Или от мятежности духа – тянет все куда-то, тянет… Кто это сказал – стихийные мы? Дерябин? Да. Он. А что? Тоже ответ. Да только верный ли? Пространства, пространства, так их и так; хотя, с другой стороны, на них в конечном счете надежда, на пространства-то».
Костенко приподнял газету, на которой лежали ножи и вилки, увидел старый, со следами жира, конверт. Письмо Минчакову М. прислала из Магарана Д. Журавлева, Портовая, двенадцать, квартира семь.
Костенко осторожно открыл конверт: письма не было. Адрес зато есть. Тут больше делать нечего, вспомнят что люди – скажут участковому Гуськову, парень оборотистый, сообщит в момент…
10
– Журавлев Роман Кириллович, – медленно читал Жуков, – ветеринар, 1939 года рождения, образование среднеспециальное, жена Диана, 1946 года рождения, образование…
Костенко перебил его:
– Вы погодите про образование… Диана? Сокращенно – Дина. Ну?
– «Первая» любовь, что ль? – спросил Жуков. – Вы это имеете в виду?
– Это.
– Никакая она не «первая» любовь, – ответил Жуков. – Мои парни все ее документы прочесали, первый раз замужем.
– По-вашему, любовь без женитьбы невозможна?
– Какая это любовь – похабщина…
Костенко обиженно усмехнулся, спросил:
– Где женились Журавлевы?
– Здесь, где ж еще, – ответил Жуков и медленно поднял глаза на Костенко. – Что, думаете, старый паспорт потеряла, где штампик с Минчаковым стоял?
– Надо мне вас в Москву забирать, – сказал Костенко, – хорошо мысль чувствуете, толковые помощники сейчас на вес золота, воз тащат, линию держат, мне, начальнику, спокойно. Заберу, право, заберу.
– Думаете, соглашусь?
– В Москву-то?
– Ни за что не соглашусь. У вас там человек как иголка в стоге сена, а у нас, в провинции, уж коли уважают – так уважают, на виду, и почет тебе, и квартира без очереди, и кухня восемь метров. У меня вон Урузбаев работал, по распределению попал, родился в деревне, в горах, а поди ж, рвался обратно, хоть в село, только б к себе. Недавно письмо прислал, счастливый, растет, капитан уже, а я все в майорах…
– А говорите – уважают…
– Так, Владислав Николаевич, золотой человек, у него ж в республике своих поддерживать умеют; это мы собачимся: «Хочу, чтоб у соседа корова сдохла», – разве нет?
Костенко вздохнул:
– Майор, на что замахиваешься?
– На себя, – ответил Жуков, – на кого ж еще? Вернемся лучше к Диане. По образованию тоже ветеринар, кстати. Что, думаете, на пару разобрали малышку – и в мешок?
– А как он к ним попал? Почему морская форма? Откуда она вообще взялась? Поедем, что ль, беседовать?
– Рано. Наши работают по сберкассам, ищут, не было ли вкладов от Журавлевых, соседей опрашивают, на службе у них шуруют.
Они сидели в угрозыске, в маленьком кабинетике Жукова – смертельно усталые, сразу с аэродрома, не заезжая домой к майору, вернулись в управление, хотя жена его напекла пирожков, дважды звонила: «Неужели дома нельзя поговорить, двадцать минут дороги, что может случиться за то время, пока приедете?»
Ретроспектива-III [Март 1945 года. Бреслау, Витекамерштрассе, 5]
Кротов отполз от окна; большевики засели в здании напротив, притащили пулеметы, подняться с пола теперь было невозможно.
«А что, если они на крышу влезут?» – подумал Кротов и посмотрел на Уго из СС: он в Сталинграде воевал и в Варшаве, уличный бой знает.
– Э, унтершарфюрер, а если красные заберутся на крышу? Они ж нас перестреляют, как кур.
Уго покачал головой:
– Нет, им нечего делать на крыше, там нет балок, потолок обрушен, пулемет не поставишь…
– А почему наши на третьем этаже не стреляют?
– Зачем стрелять без дела? – удивился Уго. – Мы не пустили русских к вокзалу, пусть теперь очухиваются, а тем временем к нам прорвутся танки, и мы их так ударим, что они откатятся до Варшавы…
– А зачем им давать очухиваться? Надо бить, пока они устали.
Уго закурил, глубоко затянулся, спросил:
– Чем бить? Мы ударим сокрушительно, когда закончим работу по созданию «оружия возмездия». Это и решит исход битвы.
– А что такое «оружие возмездия»?
– Ракеты. Их не может достать снаряд, не может перехватить самолет. Они начинены сверхмощной взрывчаткой – одна ракета снесет половину Москвы. Разве после этого русские смогут продолжать войну? Они ведь и так на издыхании…
– Плохо вы знаете русских, унтершарфюрер…
Уго не обиделся, ответил задумчиво:
– Наверное. Но их очень хорошо знает фюрер. Нам, простым людям, нужно знать свое и честно это свое выполнять. Если каждый решит знать все – не будет порядка; много гениев – это плохо, это ведет к полнейшему бардаку. Надо, чтобы каждый знал свое место в жизни.
– Каждый хочет чтоб получше…
– Верно. И наша национал-социалистская революция сделает так, чтобы каждому на своем месте было хорошо. Человек должен верить, что лучше не может быть. Я после ранения месяц отдыхал в охране Дахау. Там было очень интересно. Я помню, как одного заключенного назначили писарем, у него был хороший почерк, он не был ни комиссаром, ни евреем, ни цыганом… Какой-то румын, мне кажется… Не русский, конечно, тех не пускали в писари… Так вот, этот румын стал таким счастливым, что шапку драл с головы за сто метров, едва только нас замечал… Каждому свое… Он был счастлив, что не нужно копать ямы и таскать камни, а хлеба получал столько же, сколько и раньше, и такую же миску супа. И он верил, что лучше быть не может. Не надо ему лучше, только б сохранить то, что он получил…
Прогрохотала очередь, зазвенело разбитое зеркало; пулеметчики угодили в косяк платяного шкафа. Дверца скрипуче и медленно открылась, Уго усмехнулся:
– Посмотри-ка, сколько костюмов, а? Какой-нибудь торговец жил, плутократ. Мы, истинные национал-социалисты, довольствовались формой и одним пиджаком…
– Скорее бы стемнело, надо пролезть к нашим на последний этаж… Я боюсь, большевики все же залезут на крышу, тогда – конец.
Уго посмотрел на часы:
– Через полчаса будет темно, поднимешься, посмотришь…
– А Бреслау окружен или выход есть?
– Окружен.
– Так, может, попробовать пробиться на запад, унтершарфюрер?
– За такие разговоры будем расстреливать. Это пораженчество. Фюрер приказал превратить в неприступную крепость каждый немецкий дом, не то что такой город, как Бреслау. Я видел тебя в деле, поэтому верю тебе, но не вздумай так сказать при других – сразу донесут, и я же первый буду вынужден тебя казнить.
– Унтершарфюрер, я так сказал потому, что вас возьмут в плен, отправят в лагерь и будут кашей кормить, а нас всех к стенке, вот в чем дело-то…
– Ты думаешь о плене?! Как тебе не стыдно! Пойми, сейчас рейх силен, как никогда! Мы пружина, понимаешь ты это? Речь идет о жизни и смерти нации! Мы сейчас сражаемся не за французов или румын, неблагодарных свиней, а за немцев! Разве нацию можно победить? Что может быть на свете сильнее национального духа?! Да ничего! Когда мы победим, я женюсь и нарожаю множество детишек – чтоб в прихожей стояли ботиночки моих девчушек и сыновей. Знаешь, какое это счастье?! Нация должна быть большой, иначе ее сомнут и разжижат чужой кровью.
– А нам как же?
– Кому это?
– Кто с Власовым.
– У вас тоже будет своя нация… Не такая большая, как у нас, но своя… Мы поможем вашим женщинам, – вдруг рассмеялся Уго, – иначе нельзя, мы обязаны отдать вам часть своей крови, чтобы как-то организовать вас, приблизить к нам…
– Эх, отчего ж вы нам оружия не дали в сорок втором, унтершарфюрер?!
– Гитлера обманывали генералы. Фюреров всегда обманывают самые близкие люди. Мы их уничтожили, и теперь вы получили оружие. Теперь вам только и воевать за освобождение России от большевиков, а ты говоришь про плен – разве можно?
Вдруг загрохотало, полетели остатки стекол из окон, два снаряда угодили в верхний этаж, там кто-то тонко закричал: «Ой-ой, черт, сука!»
– Вот они и очухались, унтершарфюрер!
Уго подобрал колени под живот, придвинулся еще ближе к батарее:
– Это наши танки. Русские так не могут…
– Какие «наши»?! Что ж тогда они по своим лупят?!
– Это наши танки, – повторил Уго и достал из мешка гранаты. – Ясно? Они хотели выкурить русских мерзавцев, а ненароком попали в нас…
– Я тоже русский, унтершарфюрер!
Тот вдруг рассмеялся:
– Ты наш русский, немецкий русский, мы хорошо относимся к таким русским…
Потом громыхнуло три раза подряд, в комнате обрушилась часть стены, запахло штукатуркой, нос заложило; унтершарфюрера отбросило в сторону, он широко открыл рот, видимо, оглушило. Потом, словно ящерица, снова подполз к батарее, так, чтоб не было видно из окон дома, где засели красные.
А Кротова волной задело самую малость, только развернуло на полу, и он теперь уперся взглядом в открытый шкаф, где висели костюмы и пальто, а на верхней полке – аккуратно сложенные простыни и полотенца.
– Это наши, – повторил Уго. – Пристреливаются. Наверное, молодые ребята, опыта еще нет. Если б русские – «ура» стали кричать, и танки б пошли… Мы их не пустим сюда, они сюда придут, только перешагнув через наши трупы…
– Зачем гранаты достали, унтершарфюрер?
– На всякий случай. И ты достань.
Кротов подвинул ногою свой мешок – ранец в каптерке брать не стал; туда, он считал, не уместится столько, сколько в мешок; легко развязал толстую веревку, завязанную парашютным узлом, положил рядом с собою две гранаты и вытащил из-за голенища нож.
– Как же ты ловко узел развязал! – одобрительно сказал Уго. – Будто фокусник в цирке.
– Ваши научили, – ответил Кротов, – они меня еще и не тому научили. Вот, берешь нож, – он достал из ножен остро отточенный тесак, – пробуешь сталь о ноготь, видишь?
– Вижу, – ответил Уго, придвинувшись еще ближе. – А зачем?
– Ближе смотрите, унтершарфюрер, темно, вы ж след на ногте не видите…
Уго придвинулся вплотную к Кротову, силясь рассмотреть во внезапно наступившей темноте следы от тесака на плоском ногте власовца.
– Вижу. Как зарубка в лесу.
– Точно. Зарубка – счет, – ответил Кротов и с маху воткнул нож в горло унтершарфюрера; кровь брызнула, словно кабана бил – не человека…
…Раздевался Кротов лежа; стащил с себя форму, сапоги, потом подполз к шкафу, сорвал пальто и костюм, они обрушились на него; он замер, испугавшись шума, хотя по-прежнему в городе шла стрельба, но он сейчас ничего вокруг не слышал, он только себя слышал, свое сердце, которое клокотало во рту. Ухватив все, он вновь отполз к окну, там, где не простреливалось, и начал лихорадочно быстро натягивать на себя штатский костюм. Был он ему велик, но не очень, не сразу определишь, что с чужого плеча, можно даже сказать, вон, мол, как оголодал у немца на каторжных работах. Влез кое-как в пальто. Надел шляпу – на уши надвинул, взял наволочку, сунул в карман, сойдет за белый флаг, и медленно пополз к двери, волоча за собою вещмешок. Потом снова отполз к окну, вещмешок раскрыл, достал документы, порвал их, спичку побоялся зажигать, фотографию свою – во власовской форме – сжевал и проглотил, снова пополз к выходу; оказавшись в коридоре, поднялся, тут не простреливалось, пошел в туалет: несмотря на уличные бои, канализация работала; спустив все бумажки, он взбросил вещмешок на плечо и только тут подумал: «Переодеваться можно было здесь, вот что страх с человеком делает…»
Вышел он из квартиры по черному ходу, оказался во дворе, дверь бомбоубежища была раскрыта, прислушался – голосов нет, пусто; поднял голову, долго смотрел на небо, затянутое горклым дымом пожарищ, стараясь определить, где запад, где восток; перестрелка кончилась; с реки дул студеный, чистый ветер; он наконец определился и, крадучись, зажав в руке белую наволочку, пошел дворами туда, где было тихо, подальше от вокзала и центра…
Работа-III [Москва]
1
…Тадава относился к числу людей, которые работали, не думая о выходных днях. Иные ведь уже в понедельник начинают планировать вечер пятницы, самый сладкий вечер, когда можно выпить, не думая о том, какой будет голова наутро; впереди еще два дня – гуляй не хочу.
…Вдохновение, увы, такого рода данность, которая вызывает порою если не зависть, то раздражение. Тадава замечал, что ритм, который он сам себе задал после срочного вылета Костенко в Магаран, не всем по душе: если заместитель, оставшийся «на хозяйстве», сидит в кабинете до ночи, приходит в восемь утра, это, понятно, обязывает и подчиненных к подобному же. Поэтому он, зная отношение к себе Костенко, пошел на хитрость: уходил вместе с другими, в семь, но к восьми возвращался, садился на телефоны, беседовал по ВЧ, делал быстрые записи на маленьких листочках бумаги, а потом – переняв манеру Костенко – наговаривал разного рода версии на диктофон, чтобы утром заново прослушать себя, отбросить ненужное, а то, что покажется интересным, разбить по костенковским «секторам» и начать отрабатывать каждую деталь.
Дело о расчлененном трупе моряка, обнаруженном в лесу под Бреслау, искали – как казалось Тадаве – невероятно долго, хотя ушло на это всего четыре дня.
Получив из прокуратуры папку тугого картона в пять вечера, Тадава вышел вместе со всеми сотрудниками из угрозыска, заехал домой – Саша, жена, уже вернулась из клиники, сделала лобио и хачапури; двоюродный брат Бодри, лесник в Боржоми, прислал ящик вина.
– А еще, – сказала Саша, – я выстояла в очереди и купила тебе армянской брынзы. Я ее вымачиваю.
– Не надо брынзу вымачивать, – ответил Тадава. – Грузины любят армянскую брынзу соленой и крошащейся. Поняла? Выше знамя интернационализма, дурашка!
Саша убежала на кухню, вылила из кастрюли воду, принесла брынзу. Тадава отломил кусок, пожевал, положил на тарелку.
– Погубила товар, – сказал он. – Великодержавная ты шовинистка, не уважаешь вкусы представителя малого народа с большой культурой.
Он поел лобио, выпил стакан вина, быстро проглотил хачапури и сказал:
– Я поехал.
– Вернешься?
– Обязательно.
– Разбудишь?
– Еще как, – улыбнулся он.
Уже в прихожей, надевая плащ – на улице моросило, – спросил:
– Слушай, а ты со мной не хочешь прогуляться, а?
– Ты думаешь, я не верю тебе? – Саша вышла в прихожую, поднялась на носки, поцеловала мужа. – Если хоть раз не поверю – уйду. Или заключу договор на взаимную свободу – сейчас это практикуют.
– Я тебе дам свободу, – ухмыльнулся Тадава. – Рэзать будым! Да здравствует диктатура, свобода для женщин означает конец цивилизации. Нет, ты одевайся, может, мне твоя помощь понадобится, чисто профессиональная.
…В деле было описание расчлененного трупа неизвестного моряка, обнаруженного в марте 1945 года под Бреслау.
– Прочитай, – сказал Тадава жене, – и ответь: профессионально порезан труп или это дело рук любителя?
Саша села на подоконник – весна, темнело поздно, разложила заключение экспертизы. Тадава начал осторожно перелистывать пожелтевшие листы бумаги. Задержался на конверте, подшитом к делу черными нитками, открыл его, достал несколько фотографий и два письма-треугольника, которые писали во время войны, когда конвертов не было. К фотографиям была приложена справка: «Групповое фото, отправленное И. Северским 26 февраля 1945 г., возвращено в в/часть из-за отсутствия получателя. Мл. лейт. НКВД Н. Ермолов».
– Это не профессионал, – сказала Саша. – Знаешь, мне кажется…
– Подожди, – перебил ее Тадава.
Фотография была групповой: молоденький морячок с подбритыми бровями; юный, еще моложе морячка, совсем мальчик – лейтенант, стриженный наголо, с орденом Отечественной войны на морском кителе; девушка, видимо сестра милосердия, и мичман с рукой на перевязи; бинт грязный. На обороте подпись: «Дорогому деду от внука, Гриши, Васи и Лиды». И последнее фото: женщина в платочке, нестарая еще, но все лицо в морщинах, и глаза запавшие. На обороте: «Дорогому сыночку-воину от мамы». Что-то было написано карандашом внизу, но стерлось, слова разобрать невозможно.
На письмах-треугольниках (также вернувшихся в воинскую часть) адреса читались хорошо, ибо карандаш, которым их старательно выводили, был чернильным. Первое письмо адресовано в Ессентуки, Жженовой Клавдии Никифоровне, обратный адрес прочесть невозможно. Второе письмо, написанное другим почерком, адресовано Шахову Павлу Владимировичу, в Москву.
Тадава начал читать первое письмо:
«Дорогая мама, здравствуйте, пишет вам ваша дочь Лида. Как вы живы-здоровы, дорогая мама? У меня все в порядке, гоним фашистов, уже до Берлина недалеко, скоро победа. Дорогая мама, не волнуйтесь за меня, тут все тоже за меня волнуются и не позволяют ползти за ранеными, пока стреляют. Один наш получил после ордена отпуск, он это письмо опустит в ящик, чтоб скорее дошло. Он, правда, с Севера, но поедет через Москву. Дорогая мама, как поживает тетя Оля? Передайте от меня привет Розе и Гале, если они тоже не ушли бить фашистского гада. До скорого свидания дома. Целую вас, дорогая, любимая мама, ваша дочь Лида».
Тадава потер виски ладонями, потянулся за сигаретой.
– Это не профессионал, – повторила Саша еще тише.
Тадава поднял на нее глаза.
– Что ты? – спросила Саша. – Что, Ревазик?
– Почитай, – сказал он, передав ей листочки.
«Дорогой дедушка! – начиналось второе письмо. – Привет тебе, усач мой бесценный! Рассчитывая, что ты уже вернулся, пишу на московский адрес. Представилась оказия, и я шлю тебе эту весточку. Думал было отправить стихи, но пока еще написалось немного, пришлю в следующий раз. Спасибо за твое письмо. Действительно я прямо-таки оторопел от счастья, когда мне вручили Отечественную. Мичман сказал, что “вторая степень” еще более почетна, потому что это истинно солдатская награда. Знаешь, дед, конечно, война – это высокая трагедия, ты прав, но никогда бы я не смог так узнать наших людей, так полюбить их, как здесь, когда ешь из одного котелка и укрываешься одной шинелью, потому что вторую подстилаешь под себя, земля-то холодная, промерзшая. Пожалуйста, позвони Трифону Кирилловичу, скажи, что его английские носки здорово меня выручают, чудо что за шерсть. Поскольку мой морячок (не сердись за эти слова, просто все в нашей роте морской пехоты – “мои”, это не дворянская манера, право) торопится к маме, я заключаю эту писульку пожеланием тебе всего самого, самого хорошего, что только могу пожелать. Привет Серафиме Николаевне. Твой внук Игорь».
Тадава подвинул второе письмо жене, пролистал следующую страницу дела: «По указанным адресам лица, к которым обращены письма, не значатся. Шахова в Москве нет с декабря 1941 года; Жженова Клавдия Никифоровна умерла в Ессентуках 29 марта 1945 года; родственники мичмана Громова были расстреляны в 1942 году в Смоленске, как участники партизанского движения. Ст. лейтенант НКВД Леонова. 4.5.1945 г.».
Тадава хлопнул ладонью по столу:
– Но ведь тогда эвакуация была! Как же было наново не запросить, а?! Ведь могло дом разбомбить, могли еще из Сибири не вернуться!
– Твой папа тоже в сорок пятом погиб? – спросила Саша.
Тадава, не ответив, снял трубку:
– Алло, добрый вечер, это Тадава из угро Союза. Пожалуйста, срочно дайте мне адреса и телефоны всех Шаховых Павлов Владимировичей, а также женщины Серафимы Николаевны – возможно, с такой же фамилией…
После этого лишь обернулся к Саше.
– Труп рубили топором, – сказала Саша. – Его не расчленяли, как здесь написано. Его просто рубили топором, как на бойне… Судя по описаниям, которые здесь есть… Если только описания верны…
…Шахов Павел Владимирович, георгиевский кавалер, Генерального штаба полковник, затем комбриг РККА, инвалид Гражданской войны (лишился ноги в 1921 году во время ликвидации Антоновского мятежа), скончался в 1949 году. С 1941 по апрель 1945 года находился в эвакуации, в Куйбышеве.
После его смерти трехкомнатная квартира в ведомственном доме была передана полковнику Урину. Прописанная в квартире Серафима Николаевна Харютина, секретарь военного историка Шахова, была выселена в Покровское-Стрешнево, где ей предоставили девятиметровую комнату в бараках, оставшихся после строителей канала «Москва – Волга».
2
– Это наш Игорек, – сказала женщина и ласково погладила мягкой ладонью фотографию, взятую Тадавой из дела. – Его убили в Бреслау…
– А рядом с ним кто, Серафима Николаевна? – спросил Тадава.
– Это мичман Громов, его тоже убили в Бреслау, Лидочка погибла там же, а Гриша Милинко пропал без вести, так его мама нам ответила…
3
В колхоз «Светлый путь» Осташковского района участковый Гришаев приехал вечером следующего дня – с копией той фотографии, на которой были сняты Игорь Суровский (Шахов был его дедом по матери), мичман Василий Громов, сестра милосердия Лидия Жженова и Григорий Милинко.
– Конечно, Гриша, – ответила старуха Милинко. – Это и есть мой сын.
В избе ее, покосившейся, – два окна забраны фанерой – было холодно, неприбрано, почти пусто.
– Так он что ж, так и не приехал? – спросил ее участковый.
– Бумага заместо него приехала, что он без вести пропал, вроде б, значит, в плен отдался… И пенсии мне за него не платили, и помощи не было. Муж помер; не убили, а помер – тоже без пенсии осталась… А Гришенька… Сейчас-то уж забылось, а раньше как на змею глядели – у других по-честному погибли, а мой, вишь, без вести… А что приехал-то? Может, чего хорошее скажешь?
– Да я и сам ничего не знаю, мамаша… Велели показать фото, чтоб ты опознала, вот я и прибыл… Вот тут распишись, мол, все верно, он и есть мой сын Григорий.
Работа-IV [Магаран]
1
Костенко, выслушав Тадаву, спросил:
– Участковый только фото показал? Не поговорил, карточек сына не попросил показать?
– Я его не сориентировал, моя вина…
– Вот вы ее и исправьте.
– Но ведь я запросил данные в архивах…
Костенко кашлянул, закурил:
– Найдите время сразу же написать в горвоенкомат по поводу пенсии матери. Что еще?
– Жду заключения экспертизы о методе расчленения трупа Милинко: по предварительным данным, его не расчленяли, Владислав Николаевич, его топором рубили…
– Кто это сказал?
– Да тут…
– Не понял.
– Так считает Саша.
– Журбин?
– Нет, моя Саша. Жена.
– Она-то что про наше дело знает?
– Я тут долго засиживался, товарищ полковник, и позволил себе пригласить ее…
– Ревнует?
– Нам, грузинам, это качество женской души неизвестно, – рассмеялся Тадава, поняв, что Костенко не рассердился, выслушав его признание.
– Вообще-то жен в угрозыск не приглашают, это не кафе «Ласточка», – заметил все-таки Костенко. – Она у вас хирург?
– Да.
– Убеждена, что расчленял не специалист?
– Абсолютно.
– Привлеките ее к экспертизе.
– Неудобно, она ж мою фамилию носит.
– А что – за это деньги платят? – удивился Костенко. – За подсказку, кстати, спасибо, я тут проведу повторную экспертизу, задам такой же вопрос: «Мера компетентности убийцы в расчленении трупов». Ничего вопрос, а?
– Страшный вопрос.
– Страшный – если глупый. Циничный, стоило бы вам заметить, и я бы на вас не обиделся.
…Ответ магаранских экспертов был не столь утвердителен, как заключение Саши Тадавы: «Скорее всего, труп Минчакова был расчленен топором; навыки специалиста-мясника или ветеринара не просматриваются явно, однако в связи с давностью совершения преступления категорического ответа на поставленный вопрос дать не можем».
– Ладно, едем к Журавлевым, – сказал Костенко, выйдя с Жуковым из городской клиники, – больше тянуть смысла нет.
– Есть смысл, – угрюмо ответил Жуков, – днем раньше, днем позже, а дело только выиграет, если погодить. Мы ж их пасём, глаз с них не сводим…
– Я сводки ваши читаю, нет в них ничего интересного. Так можно целый год водить; едем, я чувствую, надо ехать.
– Вы хоть при молодежи про «чувства» не говорите, я ведь воспитываю их: «чувства девице оставьте, логикой жить надо», а вы…
– Логика, между прочим, тоже чувственна… Сначала – чувство, а уж потом его исследование. Когда наоборот – тогда идея в реторте, неинтересно… Я согласен с мнением, что во многом с художников надо брать пример, с писателей – они умнее нас и знают больше, потому как обескоженные, то есть чувственные. У нас с вами под рукой и сводки, и донесения, и таблицы – тем не менее они всё точнее ощущают, тоньше, следовательно, вернее. А почему? Чувство, Жуков, чувство.
– Так и начнем сажать кого попало – чувствую, и все тут!
– Сажать – чувства не требуется. Я ж не сажать Журавлева хочу, а наоборот, вывести из-под подозрения. Когда честного человека долго подозревают, ненароком можно и его в преступника превратить…
2
– То есть как не знаю? – удивился Журавлев, усадив на диван Костенко и Жукова. – Михаил родом из Весьегонска, и мы оттуда же. А в чем дело?
Из кухни, вытирая руки ослепительно-белой медицинской салфеткой, вышла красивая, высокая женщина. В отличие от загибаловской жены, глаза ее были обычны, тусклы даже, однако высокий лоб, вздернутый веснушчатый нос и очень красивый рот – треугольником – делали лицо запоминающимся, как-то по-особому зовущим.
– Товарищи из милиции, – пояснил Журавлев. – Интересуются Мишей.
– Мы им тоже, кстати, интересуемся, – ответила женщина. – Обещал передать посылку маме, да так и не передал… Копченая колбаса и две банки красной икры…
– Он не писал вам больше? – спросил Жуков.
– А он никогда не писал. Он только телеграммы отправлял, образованием не замучен, – усмехнулся Журавлев и повторил: – А в чем дело, почему вы им заинтересовались? Попал он в тюрьму случайно, вышел, работал, как я знаю, отменно…
– У него родных нет? – спросил Жуков.
– Отчим, по-моему, есть, но он с ним не дружит, – ответил Журавлев, – тот вроде бы с матерью его был груб. Миша его винил в смерти Аграфены Васильевны…
– Это кто такая? – спросил Жуков. – Мать, что ль?
– Да, мама, – ответила Журавлева, посмотрев на Жукова сузившимися глазами.
– Обиделись на слово «мать»? – вздохнул Костенко. – Меня тоже коробит, хотя, позволю напомнить, название романа Горького кажется нам прекрасным – «Мать».
– А вы замечали, – ответила женщина, – что слово написанное и слово сказанное разнятся друг от друга?
Костенко подумал, что Журавлева представляет собою такой тип женщин, настроение которых меняется мгновенно; люди, столь остро реагирующие на слово, относятся, как считал Костенко, к числу самоедов, с ними трудно, постоянно надобно выверять себя, подлаживаться, а это плохо. «Впрочем, – подумал он, – “с кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой”. – И тут же себе возразил: – Но это же Пастернак писал о художнике, а здесь красивая ветеринарша».
– Я замечал это, – ответил наконец Костенко. – Я согласен с вами, но мой коллега никак не думал обидеть память мамы вашего друга, просто, увы, мы привыкли говорить языком протокола, а в протоколе «мама» не употребляется, как и «папа», впрочем. А пришли мы к вам вот с каким вопросом: когда вы в последний раз видели Минчакова? С кем? Что он вам рассказывал о себе, о своих планах, друзьях? Был ли он с похмелья? Весел? Грустен?
– Да вы объясните, в чем дело, – капризно рассердилась женщина, – вспоминать трудно иначе.
– Вот если мы объясним вам, в чем дело, вы как раз и можете все напутать, – ответил Костенко. – Вы станете – хотите того или нет – подстраиваться под то, что мы вам откроем. Чуть позже я вам все доложу.
– Ничего не понимаю. – Резко повернувшись, женщина вышла на кухню.
– Гражданка Журавлева, – скрипучим голосом сказал Жуков, – вы вернитесь, пожалуйста, в комнату, потому что мы к вам не в ладушки пришли играться, а работать. Если желаете, могу вас официально вызвать в угрозыск для допроса…
– Так я к вам и пришла, – усмешливо откликнулась женщина с кухни.
Жуков посмотрел на Костенко, пожал плечами: «Доигрался, мол, полковник в демократию, вот теперь и выходи из положения».
– Вас доставят в милицию с приводом, – сказал Костенко. – Пожалуйста, сядьте рядом с мужем, и мой коллега начнет записывать ваши ответы.
– Дина, – сказал Журавлев, – ну успокойся, иди сюда.
– А с чего ты взял, что я неспокойна?! – спросила женщина, возвращаясь в комнату, – белая салфетка по-прежнему была в ее тонких красивых пальцах. – Рассказывай, я буду добавлять, если что не так…
– Миша приехал к нам вечером, – начал Журавлев. – Не помню, в какое время, но уже давно было темно. Да, Дин?
– А какая разница? – Она пожала плечами. – Правильно, вечером…
– Снег еще пошел.
– Снег с дождем, – уточнила женщина.
– Да, верно, снег с дождем. – Журавлев закурил, сцепил пальцы, вывернул их; хруст был ужасен; Костенко поморщился. – Он спросил, готова ли посылочка для мамы, но Дины еще не было дома; я сказал, что она сегодня должна все собрать, попросил его приехать попозже или завтра утром, а он ответил, что тогда опоздает на самолет. Я ему предложил перенести вылет на завтра, чтобы Диночка не бегала с посылкой, спешка нервирует…
– А вы где были? – не глядя на женщину, спросил Жуков.
– Это кого спрашивают? – поинтересовалась Журавлева.
«Ну змея, – подумал Костенко, – не баба, а змея, ей-богу».
– Это вас спрашивают, – сказал Костенко. – Вы когда пришли?
– Не помню… Когда я вернулась, Миша все еще не хотел оставаться, но я сказала, что встретила его подругу и она им очень интересуется. После этого я поняла, что он задержится…
– Он был сильно пьян?
– Нет. – Журавлева быстро взглянула на мужа. – Я, во всяком случае, не заметила.
– Как зовут подругу? – спросил Жуков.
– Дора, – ответил Журавлев, снова глянув на лицо жены, – Дора Кобозева.
– Дора Кобозева? Она черненькая? Миниатюрная? – легко спросил Костенко.
Журавлева усмехнулась:
– За глаза ее зовут «бульдозер»… Она – огромна… И очень не любит свое имя, просит, чтобы звали, как меня, – Дина.
– Дора Семеновна, кажется, так? – продолжал свое Костенко.
– Дора Сергеевна, если уж точно, – отчего-то обрадовался Журавлев, – не Семеновна, а Сергеевна.
– Она что – подруга ваша? – спросил Костенко Журавлеву.
– Нет. Знакомая. Раза два Миша – когда приезжал сюда с рудника погулять – приводил ее к нам.
– Они у вас ночевали? – спросил Жуков.
– У меня семейный дом, – ответила Журавлева, и глаза ее снова сузились.
– У нее, значит, спали? – уточнил Жуков.
– У нее нельзя, – ответил Журавлев, – одна комната, ребенок и мать ее первого мужа.
– А откуда вы всё о ней знаете, если видели всего два раза? – спросил Жуков.
– Видите ли, я приезжал к ним на квартиру, когда щенилась их собачка, карликовый доберман… Тогда, кстати, Миша с нею и познакомился – он был у нас в гостях; я предложил ему съездить со мною, помочь, если придется…
– А где Дора Сергеевна работает? – спросил Костенко.
– Вы меня спрашиваете? – снова уточнила Журавлева.
Костенко поднялся, сказал Жукову:
– Пойдемте, майор, вызывайте этих свидетелей на допросы, надоело мне в игры играть… А Миша, ваш знакомый, убит, разрезан на куски, расчленен, как мы говорим профессиональным языком, и только что – сгнившим – обнаружен недалеко от аэропорта…
– Ой, – прошептала Журавлева, – Рома, Рома, какой ужас…
Журавлев вскочил с кресла, оббежал стол, схватил жену за руки:
– Диночка, что с тобой?! Дать валидол?! – Он обернулся к Костенко: – У нее ж порок сердца, зачем вы так?! Смотрите, как она побелела!
– Сами спрашивали, «что случилось», – ответил Жуков. – Завтра приходите к девяти, пропуска вам будут выписаны… Или повестку прислать?
– Погодите же, – сказала Журавлева. – Погодите… Дайте мне успокоиться, сядьте, пожалуйста. Хорошо, что вы сказали эту страшную правду… Присядьте же, сейчас я буду все вспоминать, вам же каждая мелочь важна… Рома, принеси воды…
Журавлев выбежал на кухню. Жуков посмотрел вопросительно на Костенко; тот опустился на стул; майор тоже сел, на скрывая неудовольствия.
– Это было осенью, в октябре, да, в октябре, – начала рассказывать женщина, – действительно, шел мерзостный снег с дождем. Когда я вернулась из парикмахерской, Миша собирался уходить. «Нет, нет, – говорил, – я полечу, мечтаю завтра в море выкупаться, может, кто другой передаст вашим посылочку, не сердитесь».
– В каком еще море? – спросил Жуков. – Он же в Москву летел?
– Нет, нет, у него было два билета: Магаран – Москва, а потом Москва – Адлер, в Весьегонск он должен был заехать на обратном пути или же отправить посылку из Москвы, отсюда очень дорого, только самолетом…
– У вас в доме телефоны провели? – спросил Костенко.
Журавлев, вернувшись со стаканом воды, который жена его, не пригубив даже, поставила на стол, ответил:
– На пятом этаже, в семнадцатой квартире, там заведующий овощной базой, ему протянули воздушку.
– Позвоните по поводу Доры, – сказал Костенко Жукову, – чтобы к нашему возвращению что-нибудь было уже.
– Сколько этой Доре лет? – спросил Жуков, по-прежнему не глядя на Журавлевых.
– Лет тридцать.
– Живет где?
– Не помню, – ответил Журавлев, – не стану вводить вас в заблуждение, где-то на окраине…
– Когда хотите, можете культурно говорить, – пробурчал Жуков, – а то ведь словно с нелюдями какими обращались…
– Но я не знала, в связи с чем вы пришли!
Костенко поморщился:
– Это изящная словесность. Мой коллега интересуется адресом Доры. Нам надо ее найти, обязательно найти сегодня же. Это, надеюсь, вам понятно?
– Да, да, а как же! – ответил Журавлев. – Она очень важный свидетель.
– А вы что – не важные? – заметил Жуков, поднимаясь. – Тоже важные. Вы его на другой день видали?
– Конечно. Он приезжал за посылкой, – ответила Журавлева.
– Один? – спросил Костенко.
– Один.
Жуков вышел из квартиры – звонить.
– Что из себя представляет эта Дора? Какая она? – рассеянно продолжал Костенко.
– Никакая, – ответила Журавлева, и что-то жестоко-презрительное промелькнуло в ее глазах.
– Как понять? – спросил Костенко.
– Пегая она… Крашеная…
– Минчаков с чемоданом пришел?
Журавлевы переглянулись.
– По-моему, без, – сказал Журавлев.
– Нет, с чемоданом, – возразила женщина. – Мы еще смотрели, не уместится ли там и наша посылка, ты что, забыл?
– Да, забыл, – сразу же согласился Журавлев.
– Что у него было в чемодане?
– Я не помню, – ответил Журавлев.
– Там были рубашки, – ответила женщина. – Белая и синяя. Бритва была, электрическая бритва, и новые черные туфли с длинным носком.
– Это все, что вы запомнили?
– Да.
– Вы первым браком женаты? – спросил Костенко.
– Да, – ответили Журавлевы одновременно.
– А Минчакова помните еще с Весьегонска?
– Да, – ответил Журавлев.
– Вы там дружили?
Журавлевы снова переглянулись.
– Он там был моим соседом, – ответила женщина, – очень услужливый человек Миша Минчаков; подвезти, помочь – всегда готов.
– Вы знали его еще до знакомства с вашим мужем?
– Да, а что? – тихо спросила женщина.
– У него в Весьегонске никаких романов не было? Увлечений?
– Он же очень маленький, невероятно страдал от этого, как ребенок переживал, что не вышел ростом, – ответила Журавлева. – Он ведь очень красивый… Когда сидел за столом и не видно было, какой он маленький, просто глаз от него не отведешь – так он был мил…
– Понятно, – задумчиво протянул Костенко. – Теперь давайте подытожим… Пришел к вам Минчаков в середине октября, точную дату вы не помните, видимо…
– Это была середина месяца, – сказала Журавлева. – Погодите, я ж накануне получала аванс, да, да, это было пятнадцатого или шестнадцатого октября…
– Значит, по вашей просьбе Минчаков перенес вылет на шестнадцатое или семнадцатое, так?
– Да, – ответила женщина и сделала маленький глоток из стакана; рука у нее теперь чуть дрожала. – Он поехал за Дорой…
– А в день вылета Минчаков приехал к вам вечером, взял посылку и больше вы его не видели?
– Нет, – сказала Журавлева. – Не видали.
– Как вы упаковали посылку?
– В сумочке. Обшили материалом, крепко перевязали, нести удобно, совершенно не громоздко.
– Теперь постарайтесь вспомнить, о чем вы с ним говорили во время последней встречи?
– Да ни о чем, – ответила Журавлева. – «Спасибо, Мишенька, как погулял с подругой, когда вернешься, может, ее с собой возьмешь в море купаться?» Посмеялись – и все…
– Вы ему задавали эти вопросы, а что он вам на них отвечал?
– Ответил, что хорошо погулял, – сказал Журавлев, не отрывая глаз от жены, – сказал, что Дору с собою не возьмет…
– С ней, сказал, самолет не взлетит, – усмехнулась Журавлева, – такая она стала толстая, не следит за собой, хлеба ест по батону за один присест…
– Какая у вас девичья фамилия? – спросил Костенко.
– Кузина.
– А отчество?
– Сергеевна.
– Сколько времени Минчаков пробыл у вас в последний вечер?
– Он даже в квартиру не зашел, – ответила Журавлева. – Мы обмолвились парой слов на пороге…
Вернулся Жуков, кивнул Костенко, но садиться не стал.
– Что-нибудь новое?
– Да.
Костенко поднялся:
– Вы постарайтесь сегодня вспомнить все, что можете, начиная с того дня, когда познакомились с Минчаковым, – хорошо? Завтра с утра вы должны быть готовы к разговору, нас интересует все, абсолютно все…
Спускаясь по лестнице к машине, Жуков пробурчал:
– Ваш помощник, грузин этот, только что доложил из Москвы – по минчаковским аккредитивам он же, Минчаков, получил двадцать третьего октября деньги, все пятнадцать тысяч, в Адлере и Сочи.
– На экспертизу подпись взяли?
– Этого он не сказал.
– Взяли, наверное… Теперь надо ваших в аэропорт отправлять, поднимать архивы билетных касс, что с минчаковским билетом сталось.
– Журавлевы дату точно назвали?
– А бог их знает. Надо смотреть начиная с четырнадцатого октября, день за днем…
– Нахлебаемся, – вздохнул Жуков. – Темное дело, просвета не вижу. Кобозевых этих самых Дор двенадцать…
– «Бульдозер» один, – усмехнулся Костенко. – Надо, чтоб ее сегодня же установили… А Журавлева покойника к Доре ревнует… И по пьянке он Спиридону не Дору называл, а Дину… И по инициалам одинаковы: ДСК.
3
Жена Жукова выглядела старше майора. В ней, однако, было заключено какое-то умиротворенное спокойствие – это сразу бросалось в глаза; весь облик женщины как бы располагал к тишине и отдыху.
– Молодцы, что вырвались, – сказала она, и не было в ее голосе ничего наигранного (она, конечно же, знала, что Костенко из Москвы, большой начальник, но встретила просто, как, видимо, положено в этом доме встречать мужа и его гостей).
– Пирожки со счем? – поинтересовался Жуков. – Лук с яйцом?
– «Лук с яйцом», – женщина добродушно передразнила мужа. – Сегодня мясо выбросили, говядину.
– Праздника вроде бы никакого не предвидится, а тут говядина, – Жуков пожал плечами.
Костенко тихо спросил:
– Как супругу величают, вы меня не представили.
– Она знает, как вас зовут, у всех сейчас на языке. А она – Ирина Георгиевна…
– Врач?
Жуков улыбнулся:
– Учительница. Замечали, у большинства сыщиков жены врачи или учителя?
Когда вернулись из ванной, Ирина Георгиевна уже разлила борщ по тарелкам, поставила на стол пирожки и горячую картошку, присыпанную луком.
– По рюмочке выпьете? – спросила она.
– Нет, – ответил Жуков, – в сон потянет, а у нас работы невпроворот.
– А ты чего за гостя говоришь? – сказала женщина. – Мильтон, одно слово!
Костенко рассмеялся:
– Ирина Георгиевна, второй мильтон тоже, увы, откажется – работы действительно много.
– Наше дело предложить, – сказала она. – Угощайтесь, пожалуйста.
– Борщ отменный, – сказал Костенко, – как украинец свидетельствую.
– Будто у нас борща не варят, – заметил Жуков. – Было б мяса поболее да сала, русские борщ вкуснее сделают…
– Тебе б все спорить, Леня…
«А я и не знал, что его зовут Леня, – отметил Костенко. – Бурею помаленьку».
– Еще подлить, Владислав Николаевич?
– С удовольствием. Вы, простите, что преподаете? Литературу?
– Нет. Математику.
– Всегда боялся математики, – вздохнул Костенко. – До сих пор страшные сны снятся – будто завтра надо сдавать тригонометрию, а я ее ни в зуб ногой.
– Сейчас программа невероятно усложнилась, мне ребят жаль…
– Ты себя лучше пожалей, – сказал Жуков и пояснил гостю: – До трех часов ночи готовится к уроку…
– Ну уж и до трех… А вообще, мне кажется, зря мы так жмем ребят… У меня, знаете, мальчик есть в девятом «А», Коля Лазарев: и в самодеятельности талантливый, и стихи прекрасные пишет, а в математике тоже, как вы, слаб. Вот мне и кажется, надо бы специализацию вводить смелее, больше прав давать ребятам – еще в начальной школе выявлять себя, а то мы их стрижем под одну гребенку…
– А может, разумно это? Хоть и жестоко, слов нет, – задумчиво, словно бы себя спрашивая, откликнулся Костенко. – Мы хотим – причем всем, везде и во всем – наибольшего благоприятствия. И поэтому растим безмускульное поколение. Уповаем на мечтание, надеемся на помощь со стороны. Словом, ежели этот ваш Коля Лазарев – сильный, то выбьется; учителя помогут, да и потом, районо вам второгодника не простит, перетащите в следующий класс, на экзамене подскажете, шпаргалку не заметите… Если только он не развлекается, а действительно пишет стихи, то есть работает свое дело до кровавого пота, – непременно выбьется.
– Про безмускульность верно, – осторожно согласился Жуков. – Но и тому, чтобы поколение умело наращивать мускулы, надо помогать. Вот я из деревни родом, да? Так я еще мальчишкой застал время, когда с дедом на базар ездил, сливы продавал – доволен был, за прилавком стоял, зарабатывал! А теперь? Считается, что, мол, детям зарабатывать ни к чему. Неверно это, баловнями растут, на родительских шеях сидят. Надо б сказать громко и открыто: «Валяйте!» Вон семнадцатая статья Конституции – открывай себе, дедушка с бабушкой, пенсионеры дорогие, домашнее кафе или пошивочную мастерскую – прекрасно! И пусть внуки, сделав уроки, бабушке с дедушкой помогут, мускулы порастят… А подите-ка в финотдел, спросите разрешения? Затаскают по столам, замучают, пропади это кафе пропадом! А как бы нам всем жить стало легче, открой таких кафе в городе штук пятьсот! Семейное кафе, собираются, как правило, люди друг другу известные, там хулиганство как-то в схему не укладывается, в семейном кафе и стены добру помогают…
– Заберу я вашего благоверного в Москву, – сказал Костенко хозяйке. – Говорит так, будто мои мысли читает.
– Слишком уж разошелся, – сказала Ирина Георгиевна, – сейчас все такие смелые стали…
– Разве плохо? – удивился Костенко. – По-моему, замечательно, что стали смелыми…
– Поди выпори смелого, – вдруг улыбнулась Ирина Георгиевна. – А нас пороть надо… У меня в прошлом году кончил десятый «В» Дима Романов, пришел через три месяца на вечер в школу и говорит: «Я теперь на заводе работаю, больше вас получаю, Ирина Георгиевна, сто шестьдесят!» А от него винищем несет, от чертенка! Я ему говорю: «Как же можно в школу приходить пьяным?» – а он мне: «Я теперь рабочий, гегемон, нам все права, Ирина Георгиевна, ваше время кончилось».
– Я б такого гегемона за чуб оттаскал, – сказал Жуков. – Дрянь экая!
– За чуб таскать – старорежимно, – хмыкнул Костенко, – а вот гнать с работы за пьянство – давно пора, иначе поздно будет.
– Поди прогони, – сказал Жуков. – Мастера с директором по инстанциям затаскают: «Должны воспитывать!» А как алкаша воспитаешь? Он социально опасен, он разлагает все окрест себя, а уволить – не моги! И все тут! И со школой вы правы – обстругиваем всех под одно полено: может, Пушкин родился новый, а его заставляют алгебру по особой программе штудировать… Таланты надо нежить, а мы их дрыном по шее, утилитарностью школьной программы… Хотя вы правы – сильный пробьется. Но он станет жестоким. Разве можно представить себе, чтобы сельский врач или учитель – со своими ста двадцатью рублями зарплаты – пришел на работу с похмелья или в перерыв поправился махонькой?!
Когда Ирина Георгиевна принесла чай, Костенко спросил Жукова:
– Заметили, что сейчас, когда три человека собираются, сразу начинают говорить о том, что наболело?
– Толк каков?
– Есть толк, – убежденно ответил Костенко. – Количество говорящих о том, что болит, не может не перейти в качество – то есть в открытую борьбу против тех очевидных глупостей, которые нам мешают, словно гири на ногах волочим. А вообще, проблема «думского дьяка» – родоначальника нашей бюрократии – область, еще социологами не изученная, от него, от бюрократа, идет постепенность, а она не всегда угодна прогрессу. Я не могу взять в толк – и ни один директор завода в толк взять не может, – отчего нельзя пьяницу и лентяя прогнать, а его зарплату передать другим членам бригады? Ну почему? Где логика? Дьяк не может позволить, чтобы произнеслось слово «безработный». «Как это так, а где завоевания революции?!» В том они, завоевания-то, что рабочих на каждом предприятии с распростертыми объятиями ждут, все права и блага им предоставлены, а гнать надо тех, кто пьет, а не работает, но при этом рубашку на груди рвет: «Я – гегемон!»
Зазвонил телефон.
Жуков затянул галстук, поднялся:
– По нашу душу, полковник, едем.
4
– По-моему, именно эта дама и есть Дора-«бульдозер», – сказал Костенко, отложив одну из двенадцати фотографий, привезенных из районов сыщиками. – Вам не кажется, майор?
– А бог ее знает. Поедем, выясним.
В машине Костенко, зябко закутавшись в плащ, спросил:
– Кстати, по отчеству вас как?
– Иванович.
– Леонид Иванович?
– Алексей Иванович. Леней меня только жена называет.
– Ну, значит, с Мишей Минчаковым я познакомилась у меня дома, – сказала Дора, – он с ветеринаром Журавлевым приезжал… А потом я его к Григорьевым пригласила, он им после мясо с рудника привозил, оленину; брал не дорого, по пять рублей за кило… Ну, значит, слово за слово, он деньги получил, говорит, может, сходим в кино, а это в субботу было, ну, я и согласилась, мы «Гамлета» смотрели и мультики, а потом он говорит, может, посетим ресторан, но там мест не было, в кафе тоже очередь стоит, поговорить, значит, негде, ну, он и говорит, может, к Григорьевым зайдем, и зашли, конечно. Посидели, поговорили, выпили немножко… Он потом, как приезжал в город, всегда меня через Григорьевых находил. А в чем дело-то?
– Сейчас объясним, – сказал Жуков. – Только сначала давайте уточним: вам тридцать три года, родились в Иркутске, сюда приехали семь лет назад, здесь развелись, работаете в ателье мод, живете с дочерью от первого брака и с матерью мужа. Верно?
– Верно.
– С Диной Журавлевой давно познакомились? – спросил Костенко.
– Ну, значит, точно сказать не могу, год, наверное. Миша меня с ней в магазине познакомил, когда мы брали вино и сырки, к Григорьевым шли гулять…
– Давно Мишу не видали? – спросил Жуков.
– Давно! С осени. Он как в отпуск улетел, так и не вернулся.
– Вы что, на аэродром его проводили? – поинтересовался Костенко.
– Нет, мы его в таксомотор посадили.
– Это кто – «мы»? – спросил Жуков.
– Григорьевы и Саков.
– Григорьевы где живут? – спросил Жуков.
– Григорьевы-то? Ну, значит, как с улицы Горького повернете, так второй дом, они на седьмом этаже, у них еще балкон с навесом, они там зимой мясо держат…
– Дом девять, что ль? – спросил Жуков. – Блочный, серый?
– Он, – обрадовалась Дора, – блочный!
Жуков вышел. Костенко предложил женщине сигарету, она закурила.
– Вспомните, пожалуйста, вашу последнюю встречу, Дора Сергеевна, – сказал Костенко. – Это когда было? Пятнадцатого октября? Или шестнадцатого?
– Я не смогу… Так точно-то… Вроде бы в октябре, дождь со снегом шел, а когда именно, не помню… Ну, значит, он приехал грустный, с похмелья, сказал Григорьевым, что летит на море, в отпуск, спросил, где я, они сказали, на работе. Ну, значит, он пришел, спросил, не хочу ли я с ним встретиться, я говорю, чего ж нет, давай. Он говорит, значит, у Григорьевых останемся, а я ответила, ладно. Ну, он купил плавленых сырков, печенья, вина, у меня смена пораньше кончилась, пошли к Григорьевым, выпили, закусили, остались у них. Высоцкого играли, Саков пришел, взяли посошок, ну и распрощались…
– Он никуда не собирался заехать по дороге на аэродром?
– Нет, он только хотел какую-то металлическую мастерскую найти, у него замок на чемодане сломался, боялся, как бы чемодан в багажном отделении не раскрылся, а он туда аккредитивы сунул, чтоб с корешками вместе не держать, так все советуют – корешки от чеков поврозь.
– Когда у него был рейс, не помните?
– Да вроде б ночью.
– А чего ж он в семь уехал?
– Ну, значит, во-первых, пойди таксомотор поймай, а потом, он в мастерскую же хотел…
– Телефона у Григорьевых нет?
– Они, значит, повара, на кой им?!
– А вы у Григорьевых потом долго сидели?
– Да нет… Высоцкого еще маленько послушали и разошлись.
– А Саков? Он первым ушел?
– Нет, он, значит, остался, поскольку промерз, когда таксисту помогал мотор чинить. Миша-то волновался – такси есть, а не едет… Ну а Саков помог. И остался у Григорьевых, значит, чайку с коньяком попить. А я пошла к ребенку, ночью-то не была, надо узнать, как там… А в чем дело?
– Дело в том, что Минчакова в тот день, когда он от вас уехал, убили.
– Ох. – Женщина даже сделалась меньше ростом – так осела она на стуле. – За что ж, маленького-то, а?! Такой ведь хороший был человек, тихий… Вот судьбина проклятая, только увидишь доброе сердце – так на тебе, забивают…
5
С Григорьевыми работал Жуков. Сакова – заместителя начальника отдела главного технолога – разыскали только в одиннадцать часов, разбудили – он рано ложился спать, потому что на фабрику приходилось добираться сорок минут, а смена начиналась в восемь, пообещали дать справку об освобождении от работы, привезли в управление.
Костенко тянуть не стал, начал с вопроса:
– Вы таксиста, который Минчакова увез, помните?
– Какого еще Минчакова? – не понял Саков.
– С которым в прошлом году у Григорьевых встретились…
– Ах, это такой маленький, в сером костюме?
– Именно.
– Как вам сказать? Конечно, много времени прошло, трудно точно ответить… Я больше в моторе ковырялся, свечи барахлили… Кряжистый мужик, лет пятидесяти, вежливый…
– Волосы какие?
– Не седые еще… Нос не очень большой, вроде как боксерский; в кожанке… Хотя они тут все в кожанках, это у них как униформа…
– Номер машины запомнили?
– Да нет же, зачем? А отчего вас все это интересует?
– Нас это все интересует потому, что вы и Григорьев были последними – шофер, конечно, тоже, – кто видел Минчакова живым. Он до аэродрома, видимо, не добрался, его труп нашли на полдороге, расчлененный труп…
– Вот ужас-то! Так, погодите, погодите-ка, кольцо вроде бы у шофера было на руке… Или я с другим путаю?
– Ну а что еще?
– Знай, где упадешь, – соломки б подстелил…
– По фотографии легко узнаете? – нажал Костенко.
– Узнаю наверняка, в нем что-то такое есть…
– Зловещее?
– Нет, не так. Запоминающееся.
«Про “легко” я ввернул вовремя, – удовлетворенно подумал Костенко, – я помог ему увериться в себе самом. Если бы я просто спросил: “вспомните ли”, он мог заплавать, начал бы самоедствовать и сомневаться. Всегда надо давать человеку не один шанс, а два».
– Когда вы вернулись домой в тот день?
– Вы подозреваете меня?!
– Я выясняю обстоятельства дела. Вы, Дора, Григорьевы, Журавлевы и шофер были последними, кто видел Минчакова. Понимаете, отчего я так интересуюсь всеми подробностями – малосущественными на первый взгляд?
– Но я ничего не помню, товарищ полковник! Опросите соседей, может, они вам помогут! Почему б не спросить Григорьевых? Дору?!
– Спросили.
– Так ведь она должна помнить больше! И Григорьевы давно его знают.
– С Григорьевыми сейчас беседует мой коллега… Вы не помните, о чем шла речь у Григорьевых, когда вы пришли туда, чтобы проводить Минчакова?
– Да не провожал я Минчакова! Я его в первый раз увидел! Я случайно к Григорьевым зашел! Ну, помог пьяному человеку поднести чемодан, ну, в моторе таксиста поковырялся… О чем говорили? Пустое, болтовня… Я ведь к Григорьеву захожу только потому, что мы с ним вместе на рыбалку ездим, он незаменим как рыбак… Общих интересов у нас нет… Высоцкого слушали – это я помню, но сейчас, по-моему, его все слушают: и те, кто хвалит, и те, которые ругают… Мне кажется, Минчаков рассказывал, как он мечтает залезть в теплое октябрьское море… Ну убейте, не помню больше ничего!
– Убивать не стану, – пообещал Костенко, – но попрошу напрячь память и сосредоточиться.
– А вы можете вспомнить подробности беседы, которая состоялась полгода назад с людьми, вам совершенно не близкими?
– Если бы мне сказали, что один из этих людей был убит через час или два после того, как я посадил его в такси, – вспомнил бы.
– Ну хорошо, ну погодите… Я пришел, они сидели за столом, дым коромыслом, сразу видно, с утра гуляют… «Садись, дорогой, будешь гостем!» – «Да нет, надо домой, сегодня свободный вечер, хочу грузил наделать и крючки посмотреть на форель, слишком уж блестящие, может, стоит покалить». – «Не надо, я банку красной икры достал, форель ее с пальца хватать будет. Знакомься». Познакомились. Минчаков этот был поддатый. Грустный какой-то. Может, и не убивали его, а сам погиб?
– Сам же себя на куски и разрубил?
– Да, идея никуда не годится… Нет, положительно, кроме разговора о крючках для форели и банке красной икры, я ничего не помню… И Минчаков этот самый, и Дора какие-то безликие. Она все время к нему приставала, он ее рукой отводил: «Погоди, скала, дай мне отдохнуть, ну что ты такая настырная? Женщина должна отказывать, тогда она в цене…»
– Дора обиделась?
– Нет, по-моему. Смеялась. «Дурачок, чего от добра добро ищешь? Цени тех, кто к тебе льнет».
– Вот видите, как много вы вспомнили, – заметил Костенко. – А что было, когда уехал Минчаков?
– Дора ушла чуть не сразу… Я побыл еще часок, отогрелся и поехал домой… Погодите, погодите, когда я уходил от Григорьевых, их сосед из квартиры напротив, его зовут Дима, он с нами иногда ездит на рыбалку, сказал нам: «Парни, есть возможность достать японскую леску, входите в долю?»
– Ну? Вы вошли?
– Конечно. И я, и Григорьев.
– Деньги отдали сразу?
– А он просил не в деньгах… Коньяком просил.
– Когда вы ему принесли коньяк и сколько?
– Назавтра. Две бутылки армянского, три звездочки…
Соседа Григорьевых действительно звали Дима, Дмитрий Евгеньевич Зиновьев. Коньяк он отдавал боцману судна, ходившего рейсом на Японию. Звали боцмана Григорий Николаевич Артамонов. Оба подтвердили показания Сакова.
Дора вернулась домой в восемь часов и больше из квартиры не выходила – это сказала и соседка по площадке, Усыкина Матрена Александровна, и мать ее бывшего мужа.
Костенко, вышагивая по коридорам управления, зло думал: «Вообще-то у меня чудовищная работа: прежде чем отвести человека, даже если он и симпатичен мне, я должен его подозревать, я обязан ввести его в версию: шофер такси – сообщник, отъехал сто метров, остановился, пришел Саков, и вдвоем прикончили беднягу Минчакова. А зачем? С целью грабежа. Но что у него было в чемоданах? Саков этого не знал, шофер такси тем более. Кто мог знать? Дора? Значит, она сообщила Сакову? Или шоферу? А когда она лазала в его чемодан? И где он хранил самородок – если именно он купил или украл, – тот, что привез Дерябин? Нет, тут сплошные дыры. И все показания, сдается мне, искренние. Шофер был последним человеком, который видел Минчакова. Он мог отвезти его в металлическую мастерскую, там открыли чемодан, именно там увидели корешки аккредитивов и самородок. Почему нет? Вполне возможно. Нет, шофер нужен».
С этим Костенко и вошел к Жукову, который беседовал с Григорьевыми.
Жуков поднялся, хотел было доложить, но Костенко остановил его, спросив:
– Разрешите присутствовать?
– Конечно, товарищ полковник. Может, вы поведете беседу?
– Если позволите, я задам несколько вопросов…
– Пожалуйста.
– Впрочем, вполне вероятно, что вы уже обсуждали это… Меня интересует, как прошел остаток вечера, после того как уехал Минчаков?
– Это мы обсудили… Владимир Афанасьевич, – обратился Жуков к Григорьеву, – расскажите-ка еще раз.
Толстый, потный Григорьев страдающе посмотрел на жену – такую же толстую и потную, вздохнул:
– Чего ж дважды об одном и том же? Ну, вернулись, когда Миша уехал; Дорка ушла, у ней ребенок и свекровь сволота, не дает бабе жизни. Саков замерз, шофер в моторе плохо разбирался, он ему и помог машину завести, ну, я его после этого отпоил горячим чаем с коньячком, потом он ушел, а мы с Зиной начали мыть посуду, за день всю посуду напачкали, гуляли от души…
– А когда вы Диме коньяк отдали? – спросил Костенко.
– В тот же вечер, как Сакова проводил… Димка к нам потом зашел, сказал, что можно и крючки японские достать, и лески.
– А Саков когда бутылки передал?
– Так это вы его спросите… Назавтра, верно, передал, потому что в субботу у него леска была, тоненькая, японская, а Димка без коньяка не отдаст, он на слово не верит…
– Второй вопрос, – сказал Костенко, испытывая отчего-то радость за Сакова – тот был растерянный, жалкий, но всячески пытался сохранить достоинство. – Дора помогала Минчакову упаковывать чемодан?
– Нет. Ты видала, Зин? – спросил Григорьев жену.
– Думаете, ей интересно на его грязные рубашки смотреть? – усмехнулась Григорьева. – Она ж любила его, жалела…
– А он? – спросил Костенко.
– Мужик и есть мужик, – вздохнула Григорьева. – Где плохо лежит, то и возьмет… Кому он был нужен-то, карлик? А Дорка к нему с сердцем, от всей своей одинокой бабьей души…
– Вы Журавлевых хорошо знаете? – спросил Костенко.
– «Здрасьте», «до свиданья», – ответил Григорьев, вопросительно посмотрев при этом на жену.
Та, заметив, как Костенко и Жуков переглянулись, одновременно зафиксировав этот быстрый, осторожный взгляд мужа, ответила:
– Вы только не подумайте чего… Он, – она кивнула на мужа, – знает, что я их не люблю, а мужики все на нее, на Динку, заглядываются… Мне и за Дору обидно было, когда она к Минчаку со всей душой, а он по Динке вздыхал.
– Саков от вас пешком ушел или вызвал такси? – спросил Костенко.
– Пешком.
– А кто может подтвердить, что он пошел домой? – жестко спросил Костенко, ярясь на этот свой вопрос – увы, необходимый.
– Я, – ответил Григорьев. – Он портфель свой забыл, я его отнес ему, еще Зина сказала: «Пойди пройдися, ты ж еще не протрезвел».
– Что делал Саков, когда вы к нему пришли?
– Спал. Он рано ложится.
– Долго вы у него пробыли?
– Да нет, отдал портфель и ушел…
– Ой, конечно, портфель он мне принес, – обрадовался Саков, сидевший в кабинете Костенко – гора окурков высилась в пепельнице, дым плавал слоистый, фиолетовый, тяжелый. – Я совсем об этом забыл!
Журавлева – Костенко приехал к ней около двенадцати – была в халатике уже, лицо намазано густым слоем питательного крема.
– Простите за поздний визит, – сказал Костенко, – но мне нужно уточнить еще одну деталь.
– До утра не ждет? – Женщина пожала плечами. – Проходите.
– Спасибо. Супруг уже спит?
– Супруг работает в вечернюю смену, – как-то усмешливо выделив слово «супруг», ответила Журавлева, – он вернется с минуты на минуту.
– А в тот вечер, когда к вам приезжал Минчаков, супруг, – Костенко специально повторил столь неприятное Журавлевой слово, – был дома?
– Мы ведь ответили на этот вопрос. Да, мы были вместе.
– Нет, я имею в виду тот вечер, когда Минчаков забрал у вас посылку…
Журавлева поднесла руку к виску, лоб ее сжался морщинами, которые стали особенно заметны из-за слоя крема:
– Да.
– А вы Минчакова проводили к машине?
– Нет. Я видела из окна, как он сел в машину…
– Шофер был за рулем?
– Я не видела.
– Меня интересует – к вам вместе с Минчаковым шофер не поднимался?
– Нет.
– Значит, лица шофера вы не видали?
– Нет.
– И номера такси не запомнили?
– Нет.
– Ну, извините, – сказал Костенко и поднялся.
6
Ранним утром следующего дня Костенко все же решил не вызывать Крабовского в УВД, потому что дважды прочитал его показание, как тот увидал мешок с трупом; с человеком, который столь пространно и увлеченно пишет, надо разговаривать, аккуратно направляя беседу в нужном для дела направлении, а в служебном кабинете такой разговор вряд ли получится.
– Крабовский? – удивленно переспросили Костенко в институте. – Так он в библиотеке, он там проводит все время!
– Почему именно в библиотеке? Разрабатывает новую тему?
Девушки – видимо, лаборантки – посмеялись:
– У него каждый день новые темы. Сейчас он хочет доказать, что и языкознание связано с проблемой бюрократии – то есть с потерей качества времени, похищенного общественно полезного труда.
– А что? – улыбнулся Костенко. – Интересная тема…
…Крабовский был обложен книгами; несколько минут Костенко наблюдал за тем, как тот работал, подивился стремительной точности движений «кладоискателя», его прекрасным прикосновениям к словарям и тетрадям.
– Алексей Францевич, – окликнул его Костенко. – Я – по вашу душу.
– Верите в существование души? – мгновенно среагировал Крабовский, не поднимая головы от страницы. – Прекрасно, есть тема для беседы. Но только завтра, сегодня я занят.
– Завтра я занят. Увы. А поговорить надо…
– «Поговорить надо», – повторил Крабовский, чуть отодвинул книгу, снял очки. – Вы из уголовного розыска? Вполне типичная фраза вашей номенклатуры: «Надо поговорить».
– Потому-то я к вам и пришел, что вы – логик в абсолюте.
– Хотите завоевать меня такого рода заключением? – спросил Крабовский. – Я, кстати, – с точки зрения логики в абсолюте – исследовал вопрос: каким образом стареющая эстрадная звезда может удержать аудиторию? И вывел закон: она должна окружить себя пятью обнаженными кордебалетчиками, с налитыми мускулами. Таким образом старушка привлечет на красавцев молодых девушек – тем угодно обозрение сильного мужского тела. И пожилые дамы потащат мужей на спектакль: «Смотри, как она держится, несмотря на возраст!» А поскольку женщин больше, чем мужчин, – нас с вами периодически отстреливают на фронтах и доводят до инфарктов на совещаниях, – лишь они, прекрасный пол, определяют успех или провал любого зрелищного предприятия. Впрочем, к чему это я? Ах, да, логик в абсолюте! Присаживайтесь, что у вас? Я ведь уже описал то, что помнил.
– А мне бы хотелось вас еще раз послушать.
– Полагаете, что, как всякий интеллигент, я говорю лучше, чем пишу?
– Не надо приписывать мне те мысли, которые не приходили в голову. Это, кстати, тоже типично для женщин…
– Мужчина не может мыслить категориями женщин – язык явление не только социальное, но и – в определенном роде – физиологическое.
– Плохое слово – в приложении к понятию «язык».
– Ха! – Крабовский ударил себя по ляжкам, засмеялся деревянно. – Ха! Чудо! Прелесть! Мир повторяем! Фамилия Шишков вам что-нибудь говорит?
– Нет.
– Спасибо. Ценю людей, которые не смущаются признать незнание. Адмирал Шишков, автор трактата «О старом и новом слоге», главный враг Карамзина. Он тоже какие-то слова считал плохими и невозможными в употреблении. Он, например, требовал изъять из русского языка такие слова, как «развитие», «религия», «оттенок», «эпоха»; вместо этих отвратительных заимствований из языка «похабной Европы» следовало вернуть в обиход «умоделие», «прозябание»; вместо «аллея» надобно было говорить «просада», не «аудитория», а «слушалище», вместо «оратор» – «краснослов». Адмирал заключил, что, мол, надобно «новые мысли свои выражать старинных предков наших складом». Ладно бы печатал свои теории, так ведь возвел вопрос о слоге в предмет государственного интереса; языковые нововведения отождествлял с изменою вере, отечеству и обычаям… Он даже слово «раб» определил так, как это было угодно государю и дворцовой дряни. «Раб» – по Шишкову – происходило от «работаю», то есть «служу по долгу и усердию»; таким образом, нет в России никакого рабства, крепостное право – выдумка злодеев-французов, поскольку на Руси живут лишь усердные и жизнерадостные слуги «отцов-патриархов»…
– Любопытно, – откликнулся Костенко.
– Знаете, кто первым выступил против Шишкова?
– Не знаю.
– Забытый критикой Василий Пушкин, дядя Александра, один из блестящих наших сатириков.
(Костенко отметил, что о Пушкине сейчас Крабовский сказал, будто об однокашнике, хорошем и добром знакомце, где-то здесь в библиотеке работает, поблизости.)
Крабовский вдруг чему-то улыбнулся, а потом начал читать Василия Пушкина – завывающе, распевно, и Костенко сразу подумал, что сам Крабовский тоже пишет стихи:
Позволь, Варяго-Русс, угрюмый наш певец, Славянофилов кум, взять слово в образец! Досель, в невежестве коснея, утопая, Мы, «парой» «двоицу» по-русски называя, Писали для того, чтоб понимали нас… Но к черту ум и вкус; пишите в добрый час!Костенко заметил:
– В перечне столпов русской сатиры Василий Пушкин не значится.
– Мало ли кто и где у нас не значится? Мы становимся преступно беспамятными – вот в чем беда!
– Кстати, о памяти. – Костенко понял, что только сейчас появился удобный мостик, который позволит ему логично и без нажима перейти к делу. – Вы написали интересное объяснение по поводу мешка с трупом, но чересчур эмоциональное, логики маловато.
Костенко достал из кармана сложенные листки бумаги:
– Это ваше показание… Хотите восстановить в памяти?
– Так ведь прошло всего семь дней… Я помню свой текст почти дословно… Чересчур эмоционально, говорите? Логика вне эмоций невозможна… Беда в другом: мы теряем двенадцать процентов общественно полезного времени на написание и провозглашение совершенно лишних, ненужных слов. Если вы полагаете, что я написал что-то лишнее в своем объяснении, тогда – дурно; эмоции, однако, делу не мешают. Или вы полагаете, что я упустил какие-то важные моменты?
– Полагаю, что упустили.
Крабовский откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза:
– Я, кажется, не написал про любопытное ощущение… Я лишь потом вспомнил: легкость, с которой подался узел. Мне показалось, будто передо мной уже кто-то развязывал его; может, испугался, как и я, увидев содержимое, завязал снова… Меня потрясло, как легко подался этот крепкий по виду узел, когда я потянул кончик веревки… Мне показалось, кстати, что веревка была чем-то промазана, каким-то особым составом, она же была совершенно не тронута гнилью, а сколько времени пролежала под снегом?!
– Интересно. Я поставлю этот вопрос перед экспертами… Чем она могла быть промазана?
– Не знаю!
– Если у вас найдется время, пожалуйста, попробуйте исследовать эту тему, а? – сказал Костенко. – Мне совестно просить об этом, отрывать от дела…
– Все неразрешенное – моя тема, – ответил Крабовский. – Я попробую, но не требуйте от меня термина…
– Простите? – не понял Костенко.
– По-немецки слово «термин» означает точную дату встречи.
7
Начальник таксомоторного парка долго разминал «Беломор» в сильных пальцах, потом задумчиво предложил:
– А если Саков выступит перед шоферами с лекцией?
– А что? – ответил Костенко. – Он технолог по металлу, вполне мотивированно…
– И у нас, понимаете ли, по металлу больше всего претензий к промышленности, гниет все на корню, так что придут люди, не надо будет загонять, придут непременно.
…После лекции Сакова проводили в кабинет директора; там его ждал Костенко.
– Того таксиста нет, – сказал Саков без колебаний.
Костенко спросил начальника парка:
– Сколько человек не пришло?
– Вся вторая смена… Они на линии, для них завтра лекцию устроим, а из этой смены семнадцати не было, я подсчитал.
– Фамилии запишите.
– Уже.
– Их личные дела – с фотокарточками – посмотреть можно?
– Пожалуйста, – ответил начальник и нажал кнопку селектора.
– Не надо по селектору, – мягко попросил Костенко. – Давайте лучше сходим в кадры.
– Тогда уж будем конспирировать до конца, – усмехнулся начальник парка. – Мы теперь тоже детективы читаем, перестали их в газетных статьях гонять, уважили наконец народ… Раньше словно к какой антисоветчине относились, а пошли б по библиотекам да собрали мнение народа: что читают, кого читают и почему читают? Пойдет на такое Москва или поостережется?
– А чего стеречься? – не понял Костенко.
– Как так «чего»?! А вдруг ответы не сойдутся с тем, кого из писателей в журналах нахваливают?! Тогда что?!
Саков посмотрел искоса на часы; Костенко заметил это:
– Торопитесь?
– Конец месяца, – ответил Саков, – сами понимаете, план надо гнать.
Начальник парка снял трубку телефона, набрал три цифры, попросил:
– Варвара Дмитриевна, загляни ко мне, пожалуйста.
…Женщина в очках с толстыми стеклами появилась в дверях кабинета мгновенно, словно бы не у себя в комнате сидела, а ждала за дверью.
– Вот эти дела, Варвара, – начальник протянул ей листок, – подбери в один момент и принеси сюда с фотографиями.
Женщина взяла бумагу и вышла.
– Когда будем собирать вторую смену? – спросил начальник парка. – Днем или к вечеру?
– А утром нельзя? – спросил Костенко задумчиво. – Перед тем, как начнут выезжать на линию…
– Что ж, давайте утром, только минут на пятнадцать, а то с меня в райкоме шкуру спустят за то, что выезд на трассу задержим…
– Товарищ Саков, вы б описали того шофера начальнику, а? – попросил Костенко.
– Такой, знаете ли, кряжистый, с очень сильными руками, – начал Саков. – В кожанке, фуражка на нем форменная, широкоплечий…
Начальник парка рассмеялся:
– Так это, мил человек, я… Тоже, перед тем как сюда сесть, на рейсы выходил в кожанке, и в плечах не хил… Приметы, скажу сразу, не ахти…
Пришла Варвара Дмитриевна, положила на стол тоненькие папки:
– Вот, пожалуйста, тут все, кого вы записали.
– Валяйте, – Костенко подвинул Сакову папки, – поглядите, может, здесь.
Саков быстро просмотрел папки, ни на одной фотографии взглядом не задержался.
– Нет его здесь.
И на следующий день Саков на молчаливый вопрос Костенко ответил отрицательно. Он просмотрел личные дела двадцати трех шоферов, которые на лекцию не пришли:
– Нет его здесь, товарищи, это я категорически утверждаю.
– Ну что ж, спасибо, – сказал Костенко. – Видимо, я вас вечером навещу, ежели какие новости появятся. Вы никуда не собираетесь?
– Это неважно, я буду ждать вас, – ответил Саков.
Когда он ушел, Костенко попросил начальника:
– Давайте еще раз Варвару Дмитриевну потревожим: поднимем дела на тех, кто уволился начиная с октября прошлого года. Это первое. И второе: надо поглядеть все путевые листы за пятнадцатое, шестнадцатое и семнадцатое октября.
…Через два часа Варвара Дмитриевна принесла справки на уволившихся.
На третьей фамилии Костенко споткнулся: Милинко Григорий Васильевич, 1925 года рождения, деревня Крюково Осташковского района Тверской губернии.
– А где милинковское фото? – спросил он рассеянно. – Во всех личных делах есть фото, а у него содрано…
– Да я и сама удивилась, – ответила Варвара Дмитриевна. – Вообще-то Милинко очень аккуратный шофер, дисциплинированный… Может, отклеилось фото? Я схожу поищу в шкафу.
– Да уж, не сочтите за труд…
– Погодите, – задумчиво сказал начальник парка, – мы его часто на Доску почета вывешивали, значит, фото найдем…
…Пришла женщина из отдела труда и зарплаты, положила на стол путевые листы:
– Вот, Геннадий Иванович, за те три дня…
– Вы ищите Милинко, – попросил Костенко. – Он должен был ездить вечером, скорее всего шестнадцатого.
Милинко действительно выехал на линию шестнадцатого в два часа, а вернулся, судя по путевому листу, в час ночи. Без происшествий. Уехал в отпуск двадцатого октября. С тех пор не возвращался. А фотографию его нашли в архиве профкома – снимался, правда, Милинко в форменной фуражке, низко надвинутой на глаза, лицо было видно не все, однако, когда Костенко приехал к Сакову, тот, поглядев на фото одно лишь мгновение, ответил убежденно:
– Это он.
8
…Вечером того же дня Костенко собрал совещание в кабинете Жукова.
– Подведем первые итоги, товарищи. Отработанные версии по Загибалову и Дерябину доказали их невиновность и вывели нас на некоего человека, который был мал ростом, имел на руке наколку ДСК и гулял в ресторане аэропорта в тот день, когда был отменен вылет на Москву по погодным условиям. Он же, по мнению Дерябина, купил у него самородок золота, довольно тяжелый, хотя точный вес неизвестен. Дерябин прямо не обвиняет Миню, который (как блистательно выявили ваши эксперты из НТЭ и наш Тадава) оказался Михаилом Минчаковым, но и не исключает того, что Миня обобрал его во время пьянки. Опрос, проведенный бригадой лейтенанта Васина, как сообщил Жуков, пока что не подтверждает версии, ибо выводили из ресторана Дерябина два других человека, личности которых устанавливаются, они-то и могли работнуть; причем Минчаков уехал значительно раньше, до того, как Дерябин расплачивался в третий уже раз – хорошо, надо сказать, гулял. Во время осмотра квартиры, – Костенко чему-то усмехнулся, поправился, – а точнее говоря, помещения, где жил Минчаков, был обнаружен конверт с магаранским адресом Журавлевых. Они вывели нас на Дору, любовницу Минчакова, а та на Григорьевых и Сакова. Несмотря на особые отношения, которые, как мне сдается, имели место быть между Диной Журавлевой и Минчаковым, начиная еще с Весьегонска, обе эти семьи да и Саков не очень-то укладывались в схему подозрения, ибо все показали одинаковое время отъезда Минчакова на такси в аэропорт. Шофера, который мог везти в аэропорт Минчакова, зовут Милинко Григорий Васильевич, двадцать пятого года рождения, из деревни Крюково Осташковского района. Однако Григорий Милинко, родом из деревни Крюково из Осташковского района, двадцать пятого года рождения, был убит, затем расчленен, как и в нашем эпизоде, в лесу под Бреслау, весною сорок пятого; как и в нашем эпизоде, рядом валялись флотский бушлат и бескозырка. Только что я говорил с Москвой. Попросил продиктовать мне описание матроса Милинко. Я записал: худенький, веснушчатый, голубоглазый, выше среднего роста, блондин. Здешний же Милинко – кряжист, роста невысокого, глаза карие, волосы темные, без седины еще. Тем не менее фотография здешнего Милинко, уехавшего в отпуск через несколько дней после гибели Минчакова, отправлена в Москву. Оттуда идет к вам фотография Милинко, который пропал без вести – ушел в отпуск с фронта, домой не пришел и в часть не вернулся более. Деньги Минчакова – пятнадцать тысяч рублей – получены по аккредитивам в Сочи и Адлере Минчаковым же. Эксперты из Сочи сообщили: подпись выполнена хорошо, но с уверенностью сказать, что принадлежит Минчакову, возможности не представляется. И то слава богу. Следовательно, нам нужны письма и фотографии здешнего Милинко – если мы начнем разрабатывать именно его версию как возможного убийцы Минчакова. Но писем и фото мало. Мы должны знать о шофере Милинко все, абсолютно все. Прошу высказать соображения.
– Разрешите? – Жуков поднялся.
– Давайте сидя, Алексей Иванович…
– Как-то я привык стоя, товарищ полковник. Если разрешите, я кое-что доложу стоя.
– Если вам так удобнее.
– Так удобнее молодым сотрудникам, – скрипуче сказал Жуков. – Итак, первое. Бригада лейтенанта Жарова отлично поработала в аэропорту, выношу благодарность Жарову, Элькину и Борину. По корешкам билетов они установили, что Минчаков один раз перенес вылет – в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое. Там стоит его подпись, это установлено точно, все по форме. Семнадцатого утром билет был сдан; предъявлен его паспорт; есть подпись; документ приобщен к делу, к тем материалам, которые пойдут на графологическую экспертизу. Мы нашли несколько подписей Милинко: в жэке, бухгалтерии и библиотеке. Он был постоянным читателем библиотеки имени Добролюбова. Книги, которые он брал на дом, меня заинтересовали: ни одного романа или повести, в основном учебники немецкого языка – начиная с пятого класса спецшкол, учебники по географии, справочники по ФРГ, США, Скандинавии…
– Надо бы все эти учебники и справочники, – заметил Костенко, – забрать из библиотеки, глядишь, там его карандаш остался. Это очень важно. Простите, что перебил, продолжайте, пожалуйста.
– Жаров и его люди обнаружили билет, взятый на московский рейс двадцатого октября. В городе было куплено семь билетов. Пять человек мы установили – они вернулись из отпуска обратно, к месту работы. Не вернулись двое – Милинко и Петрова Анна Кузьминична, 1947 года рождения, бухгалтер «Центроприиска», незамужняя. Версию связи Милинко с Петровой еще не прорабатывали, данные пришли только что.
– А что такое «Центроприиск»? – спросил Костенко. – Через них золото идет?
– Этим объектом мы пока еще не занимались, товарищ полковник, такого рода дела чаще всего проходят через ОБХСС, или – когда особо крупная афера – чекисты включаются. Раз была попытка выхода за границу двух самородков.
– Сколько весили? Больше дерябинского?
– Один пятьсот двенадцать граммов, второй – поменьше.
– Перехватили?
– Да.
– Где?
– На таможне, в Бресте… Теперь по поводу Милинко. Мы начали опрашивать всех, кто знал его по работе. В доме он жил замкнуто, не пил, был вежлив, предупредителен, отзывы самые хорошие…
– Петрову там не видели?
– Нет.
– Надо бы с ОБХСС связаться, – повторил Костенко, – что-то меня этот «Центроприиск» заинтересовал.
– Хорошо, товарищ полковник, – ответил Жуков. – К утру мы подготовим справку.
– Можно и к вечеру, чего горячку пороть? Завтра, видимо, весь день придется провести с теми, кто летел в одном самолете с Милинко и Петровой. Сейчас надо ехать к ней на квартиру, его обитель посмотреть, поспрашать соседей. И еще одно, – заключил Костенко, поднимаясь, – надо бы выяснить, где, как и когда проводил свои отпуска Милинко.
…Комната в доме коридорного типа, которую занимал Милинко, была хирургически чиста: одна лишь мебель, не дорогая, но со вкусом подобранная. Ни в шкафу, ни в ящике, на котором стоял телевизор, ни в маленькой кухоньке, оборудованной, по-видимому, самим Милинко, не было ни писем, ни фотокарточек – тряпок не было даже. Костенко долго сидел посреди комнаты, наблюдая за работой экспертов, потом – утверждающе – сказал:
– Перед тем как уйти отсюда, Милинко протер все, что можно протереть, – только б не оставить пальчиков.
– Именно так, товарищ полковник, – откликнулся старший эксперт. – Причем протирал он не обычной тряпкой, а вымоченной лакирующим мебель составом – на спирте…
Костенко поглядел на Жукова:
– Пусть ваши попробуют еще раз с соседями поговорить, хотя ничего существенного от этого разговора я не жду.
По поводу отпусков Милинко ответ пришел через полчаса, когда Костенко с Жуковым и следователь прокуратуры Кондаков, окруженные понятыми, вошли в однокомнатную квартиру Петровой.
Костенко только-только присел на подоконник и начал свой особый секторальный осмотр помещения, как приехал Жаров:
– Он, товарищ Костенко, впервые в прошлом году на Большую землю уехал, он каждый отпуск в тайге проводил или в тундре, на своей лодке уходил рыбачить…
– Вот ведь какой патриот родного края, – откликнулся Костенко задумчиво и попросил: – Товарищи понятые, вы, пожалуйста, ни к чему не прикасайтесь.
Жуков поглядел на Костенко вопрошающе.
– Именно, – ответил тот, – пусть эксперты поищут отпечатки, глядишь, обнаружат, на наше счастье.
Пальцы обнаружили на зеркале шкафа и на бутылке, покрытой пылью, что стояла на кухне.
В отличие от комнаты Милинко здесь, у Петровой, не создавалось впечатления, что женщина покидала квартиру навсегда. В шкафу остались платья и пальто, две пары обуви – старые босоножки и лакировки-лодочки, новые, пойди такие достань, японские, чудо что за туфли; в углу – телевизор, стол накрыт красивой скатертью; одного только не хватало – двух снимков, которые были сняты со стены: белели серые пятна; альбома с фотографиями тоже не было, а одинокие женщины всегда держат дома такие альбомы, это противоестественно, коли нет его, забрала с собою, значит. А откуда забирала? Из ящика комода? Или с верхней полки шкафа?
– Вы посмотрите пальчики на комоде, – попросил Костенко, – и внимательно поищите в шкафу. Меня интересуют пальцы того человека, который взял альбом с фотографиями, он наверняка был здесь. Не нравится мне желание уехавших лишить нас возможности вглядеться в их лица, а еще больше в лица их знакомых.
– Вроде бы есть пальцы, – сказал эксперт, взобравшийся на стул, – правда, сильно припыленные.
– Это очень замечательно, просто даже прекрасно. А теперь товарищ Жуков попросит наших коллег простучать пол и стены – нет ли тайничка. Под тахтой может кое-что быть, если, конечно, моя догадка правильна.
– Какая ж это догадка? – не выдержал Жуков. – Это не догадка; вы по жестокой логике идете, тянете свою версию: прииск – Петрова – Милинко.
– Все кончено для вас, майор, – вздохнул Костенко. – Завтра же забираю в Москву.
Когда тахту отодвинули, Костенко проворно спрыгнул с подоконника, указал носком на паркетину, чуть отличавшуюся от других.
– Только, пожалуйста, – обратился он к эксперту, – в перчатках, тут тоже могут быть пальцы.
Тайник был сделан мастерски: дерево аккуратно выбрано изнутри; по краям, однако, чтоб не горбило, был сохранен один уровень – ступи ногой, не пошевелится.
Внутри тайника все было выложено пластиком – углубление вполне достаточное для того, чтобы уложить и прикрыть паркетиной увесистый сверток.
– На пальцы и на золотую пыль, – повторил Костенко и, чуть кивнув головой Жукову, вышел с ним на площадку.
– Пошли к соседям, что ль? Ваши ребята, думаю, посмотрят все остальное путем?
– Все ж глаз нужен, – ответил Жуков. – Начинайте вы, а я еще маленько с ними порыскаю.
9
Соседка по этажу, Щукина Вера Даниловна, говорила очень медленно, хотя весь ее облик – поджарость, цыганистость, некоторая угловатость, придававшая ей особый шарм, – предполагал, наоборот, стремительность и резкость в оценках.
Костенко слушал ее прикрыв глаза рукой.
– Мне кажется, Петрова чем-то изнутри необыкновенно замучена. Вы намерены спросить – «чем»? Не знаю. Быть может, мечтами; она производит впечатление мечтательницы. В ней причем странно сочетались мечтательность и невероятная жестокость: она могла ответить, как отбрить, – какое-то воистину мужское начало. Странно, да? Она очень медлительна в движении, по лестнице поднимается долго, но не из-за одышки, а потому, что может полчаса смотреть в окно; я замечала – остановится и смотрит, особенно ранней осенью…
– Это было постоянно? Или до того времени, пока она не встретила Милинко?
– Милинко? Кто это? – удивилась Щукина.
– Ее приятель.
– А разве он Милинко? Впрочем, я как-то не интересовалась. – Женщина засмеялась чему-то, потом заключила: – «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей врагу не отдадим…» Пусть ко мне только не лезут, я…
– Напрасно объясняете, я вас понял, двадцать копеек, верно читаете чужие мысли. Но вас не удивило, что соседки уж как полгода нет дома?
– А меня это как-то не занимало… Однажды она мне сказала: «Мечтаю уехать из этого холода, на море, к теплу». Я ответила, что на море в декабре начинается дождь, промозглый ветер, еще хуже, чем мороз.
– Ну, все-таки ощущение того, что поблизости есть теплое море и оно не замерзает, как-то обнадеживает, – заметил Костенко.
– Не знаю… Лучше долго мечтать о прекрасном и потом получить, чем быть все время подле и не видеть толком… Люди черноморского побережья не знают моря и не понимают тепла – для них это быт.
– Простите, вы кто по профессии?
– Странно, я ждала именно этого вопроса… Я биолог. А вы – следователь?
– Сыщик.
– Есть разница?
– Не притворяйтесь, тоже, верно, смотрите «Следствие ведут знатоки», разницу между сыщиком и Знаменским понимаете.
– У меня нет телевизора, я продала его три года назад, – ответила Щукина, и Костенко только сейчас до конца понял, как она красива.
– Давайте вернемся к моему вопросу, – не выдержав взгляда женщины, сказал Костенко, чувствуя, что говорить с ней ему приятно, но трудно. – Что вы знаете об ее приятеле?
– Ничего. Безлик, вполне надежен, хваткая походка, идет как загребает. Но, по-моему, его иначе звали… Я, однако же, лишь раз слыхала, как она к нему обратилась… По-моему, Гришин. Почему вы назвали фамилию Милинко?
– Его звали Гриша….
– Да? Но мне показалось, что она называла его по фамилии, очень почтительно, на «вы».
– Он часто бывал у нее?
– Нет. Я его видела раза четыре, один раз рано утром; обычно он приходил к ней поздно, ночью уже.
– Тихо у них было?
– Как на кладбище.
– Гости?
– Крайне редко.
– А кто?
– Мужчины.
– Они вам запомнились?
– Нет.
– Почему?
– Очень были похожие на Гришу.
– Чем именно?
– Безлики. И тихи.
– А когда приходили?
– Вечером.
– А середина октября? Прошлого года? Шестнадцатое или семнадцатое…
– Что должно было случиться в эти дни?
– Шум у Петровой.
– Не помню. А почему именно в эти дни там должен быть шум?
– Потому что в один из этих дней убили человека. И разрубили топором на куски.
Щукина съежилась, отодвинулась в глубину кресла, зрачки ее расширились, глаза потемнели.
– Однажды – только я не помню когда – у них вдруг запели, я это только сейчас вспомнила. Я не помню когда, не помню что, но пел мужчина.
– А что пел тот мужчина? Вы же запомнили песню, вы ее наверняка запомнили…
– Да, я ее запомнила, только сейчас вылетело из головы, но я припомню, погодите. «Я спросил у ясеня» – вот что пел мужчина…
10
В коридоре угрозыска Костенко ждала молоденькая, большеглазая, с пепельными волосами девушка. «Чудо что за девушка, – подумал он. – Если б я был несчастным человеком в браке и если бы Маня хоть в малости меня чем-нибудь ущемила, сразу бы на такой Гретхен женился, ей-богу, прелестная Дюймовочка, просто сил нет…»
– Что у вас? – спросил Костенко. – Коньки похитили? Соперники под вашим окном сломали тополь?
– Я из газеты, – ответила девушка; голос у нее был хрипловатый, низкий, что делало ее еще более нежной какой-то.
– Ах, вы из газеты?! Ну тогда на ходу неловко разговаривать, зайдем в буфет.
– Я у вас много времени не отниму…
– Жаль. Как всякий лентяй, я обожаю, когда мне мешают работать и отнимают много времени. Особенно такая прекрасная Дюймовочка, как вы.
– Дюймовочками бывают до шести лет, – ответила девушка, – а мне двадцать четыре, и зовут меня Кира Королева.
– Красивое созвучие. Костенко. Владислав… Увы, вынужден добавить – Николаевич. Седина обязывает.
– Седина – лучшее украшение мужчины. Мы тоже стали торопиться с сединой. Видите? – Она склонила голову, и тяжелая грива волос шипуче обвалилась на ее маленькое плечо. – Как будто от страданий, – засмеялась девушка. – Ранняя седина – это очень достойно.
– Ну-ну, – согласился Костенко, пропуская Киру в буфет.
Заметив его, офицеры поднялись; Костенко несколько растерялся от эдакого флотского фасона, пожал плечами, не решился сказать «садитесь, пожалуйста», сделал руками какой-то странный жест – так на улицах драчунов разводят, – его, однако, поняли, сели.
– Ох, какой вы большой начальник, – сказала Кира, – а я и не знала.
– Да уж такой начальник, что дальше некуда, вот-вот голову свернут…
– Зато всласть пожили, разве нет? – усмехнулась Кира Королева.
Костенко согласно кивнул, подвел ее к буфету:
– Выбирайте.
– Было б что. Сыр и кофе.
– Тут пирожные очень вкусны. Хотите?
– А фигура?
– Завтра попьете чай без сахара.
– Ладно, уговорили, долго ли нас уговорить? – И снова засмеялась низким смехом, который так понравился Костенко, и она, конечно же, заметила, что ему это понравилось.
Они сели к окну, Костенко быстро выпил кофе, сжевал бутерброд и сказал:
– Не из кокетства – мужики, между прочим, кокетки, имейте это в виду, – времени у меня действительно мало, минут пятнадцать, не более того, так что, Кира, давайте нашу беседу уложим именно в этот термин, идет?
– А что это такое – «термин»?
– «Термин» – немцы так определяют точное время встречи, – лениво ответил Костенко, отчетливо вспомнив лицо Крабовского.
– Владислав Николаевич, в городе пошли слухи о каком-то кошмарном преступлении, народ боится на улицы выходить, говорят, похищают людей и режут на куски. Говорят еще, что этим делом занимаются таксисты, я сейчас была в парке – вам-то они ничего не передают, а мне шоферы признались – план не выполняют, а их за это премии лишают, детишки клювики разевают, пищи просят, жены готовят кастрюльный бунт.
– Значица, так, – подражая Василию Романову из УБХСС, чуть что не запел Костенко, – коли в городе циркулируют слухи – это очень хорошо, ибо это лишний раз свидетельствует о демократичности и открытости нашего общества. Однако когда слухи наносят ущерб плану – сие сугубо плохо, и поэтому пресса должна дать разъяснение трудящимся. Разъяснение может звучать следующим образом… «Банда грабителей совершила злодейское нападение и убила гражданина В. в начале весны этого года. Органы милиции и прокуратура ведут расследование обстоятельств преступления. В ближайшее время обвинение будет предъявлено рецидивистам, подозреваемым в организации разбойного нападения».
– Но это не очень интересно, Владислав Николаевич! Просто даже совсем неинтересно… Я ведь из молодежной газеты, хочется так рассказать, чтоб твой материал читали…
– А знаете, как надо сделать материал?
– Как?
– Поговорите с экспертами, съездите с оперативной группой на происшествие, то есть соберите побольше фактов, а потом включите туда и этот мой комментарий.
– Комментарий очень уж обтекаем. В городе, куда ни зайдешь, все говорят: «Разрезают на куски, женщин заманивают в такси, стреляют в спину из багажника». Тогда уж лучше не подписывать три строчки, дать как официальную справку.
Костенко возразил:
– А вот этого делать нельзя, Кира. Был такой журналист в тридцатых годах, он вместе с Гайдаром погиб, Михаил Розенфельд, тоже, кстати, работал в комсомольской прессе. Так вот он, перед тем как лететь на Северный полюс, оставил заповедь: «Первое – журналист должен подписывать даже однострочную корреспонденцию полным именем и фамилией; второе – журналист обязан избегать присоединения к каким бы то ни было внутриредакционным группировкам; третье – журналист, если он думает о своей профессии серьезно, обязан отказаться ото всех административных постов в газете, как бы почетны они ни были».
– Грандиозно, – сказала Кира. – Даже записывать не надо. Есть какие-то вещи, которые запоминаются на всю жизнь.
– Очень любите газету?
– Без нее нет жизни, честное слово…
– Очень не люблю выражение «честное слово».
– Почему? – поразилась девушка.
– Все слова должны быть честными, – ответил Костенко. – Иначе к каждой фразе надо прибавлять «честное слово». Другие слова, получается, у вас были нечестными, а только те, где вы поклялись, – правдивы? Ну, пошли… Спасибо за компанию…
– А у вас для меня еще время найдется, Владислав Николаевич?
– Трудно.
– А вечером?
– Вечером самая работа, вся информация стекается, ее надо проанализировать, наметить шаги на завтра, просоветовать с товарищами планы мероприятий…
– Можете хоть в двенадцать приехать, я поздно спать ложусь.
– Спасибо.
– Спасибо, нет или спасибо, да?
– Спасибо, нет.
– Жаль. Ну, до свидания.
– Пропуск подписать?
– Зачем? Вы ж посоветовали мне пойти к экспертам и выехать на очередной случай разрезания трупа в такси. Пойду бродить по коридорам, как истинный репортер полицейской хроники…
– Где учились?
– В Москве. У Ясеня.
– Какого еще Ясеня? – насторожился Костенко, вспомнив слова песни, которые продекламировала свидетельница Щукина: «Я спросил у ясеня…»
– У Засурского. Нашего декана зовут Ясен. И мы его очень любили. Идите, уже семнадцать минут прошло, а вам еще план мероприятий надо составлять.
Костенко подумал, что девушке здесь одиноко; наверное, приехала по распределению, романтика понятия «журнализм» сменилась правдой буден, а к ней, к правде, надо уметь приспособиться, лишь в этом случае можно вернуться к поэтике первого представления, иначе – могила, потерянный человек. Костенко был убежден, что одержимость в профессии, или, точнее, одержимость профессией, дает людям счастье, лишь это, да еще дети. Ну и конечно, любовь, если она смогла стать «затянувшимся диалогом», то есть перейти в дружество. В любовь до гробовой доски Костенко не верил, считал это сказочкой, сочиненной автором с дурным вкусом. Одержимость заставляет смотреть, как писал Маяковский, «через головы народов и правительств», вырабатывает в человеке уверенность в своей нужности делу, проводит его мимо тех мелочей, которые, конечно же, досадны, доводят порою до бешенства; те, которые не одержимы, отдают всего себя именно этим мелочам, и жизнь – огромная, сложная, трудная – проходит мимо них; воистину, взгляд снизу даже трехэтажный дом делает небоскребом, нельзя смотреть снизу, надо на век смотреть как на равного, глаз в глаз, тогда только толк получится…
«А если я к ней приеду, будет плохо, – думал Костенко, шагая с девушкой по темному коридору. – Мужики моего возраста нравятся, сейчас на нас мода, а я завтра улечу, зачем же все? Хотя, может, я проецирую себя на нее? Они рациональнее нас, лишены того сентиментального истеризма, которым отмечены некоторые особи женского пола в нашем поколении. Больше всего боялись “разрушить семью”; “поцеловал – женись”. Жили тяжко, все хотели гарантий, особенно женщины, это к ним от матерей пришло, от матерей, которые знали, что такое голод и безотцовщина, не по книгам наших литературных плакальщиков, они это на своих плечах вынесли, поэтому в дочек их впиталось с молоком: “Держи, не пускай, терпи что угодно, только б рядом был мужик – какой-никакой, он и есть мужик”. Нынешнее поколение стало умнее, сытые они, обутые и одетые, ищут душу, а не плечи, на которые наброшены поводы».
И – неожиданно для себя – Костенко предложил:
– Кира, вы позвоните мне сюда завтра, ладно? Или в отель. Если освободится часик – попьем кофе.
– Конечно, позвоню, – обрадовалась девушка, – спасибо вам!
Жукову, который ждал его в кабинете дежурного по управлению, Костенко сказал:
– Я, знаете ли, прессу задействовал…
– Это как?
– Это называется дезинформация. Писать им все равно надо, в городе о деле говорят, так пусть напишут в наших интересах: «вскорости будет предъявлено обвинение рецидивистам» – это первая пуля, которую я отлил, а вторая – дата преступления: я назвал весну. Если Милинко посещает центральные библиотеки страны и следит за новостями в городе, он обрадуется этой информации, поверьте мне. Кстати, хорошо бы проверить, кто выписывает здешние газеты на Большую землю?
Жуков что-то отметил в блокнотике, покачал головой:
– Версия занятна, товарищ полковник, но у нас бумажный голод. А с дезинформацией – это вы ловко, я б недодумал. Спасибо за подсказ. Как фамилия журналиста?
– Девушка. Очень милая. Кира Королева.
Ретроспектива-IV [Март 1945 года. Вайсвальд, под Бреслау]
Кротов лежал на взгорке, в лесу; дорога была под ним как на ладони. По ночам гудели танки и артиллерия, полуторки и студебеккеры, походные кухни. Днем редко проносились трехтонки и эмочки. Хотя немецких истребителей почти не было в небе – бензина в рейхе кот наплакал, – но красные про это, как видно, не знают: таятся, дурачки, только ночью двигаются…
«А вот бы выйти на дорогу и сказать: “Братцы, я вам тайну открою, тогда, может, жизнь сохраните, а больше мне ничего не надо”, – думал подчас Кротов, но мысль эта исчезала, как только появлялась. – Нечего химеры-то плодить, – одергивал он себя, – мне рассчитывать не на что».
То, что он ошибся в своих расчетах и пошел не на запад, а на восток, стало ясно ему лишь на следующую ночь, когда он выбрался из города, охваченного дымным пламенем, и увидел наконец звезды. Он забился в лес, в чащу, развязал мешок, достал хлеб, поел, запил водкой, один глоток, чтобы не простудиться, настелил хвойных лап, лег и долго, высчитывающе рассуждал, как быть. Поворачивать на запад сейчас же нельзя, риск слишком велик. Без документов, без советской формы, в немецком пальто – сразу угодишь в СМЕРШ. Нужна военная форма, бумаги, тогда можно влиться, чтоб добивать «гада в его логове». А потом драть на запад, в Швейцарию куда-нибудь или еще подальше, в Южную Америку, там в Парагвае гитлеровский родственник, что ль, правит, можно будет отсидеться.
На этом взгорке Кротов лежал уже второй день. Ему была нужна одиночная легковая машина или грузовик, но без пассажиров, пусть бы даже в кабине шофер не один, только б в кузове никого. Сбежать вниз, закричать: «Браток, я из плена!» А там все легко. Даже если двое в кабине – они ж для тепла набиваются, быдло, – и с этим можно управиться; кто ж это рассказывал про мужика, который с бабой на Севере жил, по тундре шел за золотом, она еще ему свою пайку отдавала, с голодухи, дура, померла, а он все полз, пока не дополз, жить хотел, а кто не хочет, я б тоже полз… А, это Козел рассказывал, точно, он любил рассказывать эту историю, кто ж ее написал-то?! Только не русский, так бы русский не полз, немец, что ль? А почему на Севере дело было? У немцев Севера нет, слякоть одна, грязь…
Дважды проходили пешие, в форме, легко раненные – по десять – двенадцать человек; видимо, чапали в госпиталь. Кротов сразу прикидывал рост, ширину плеч, размер ног; пусть больше будет, только бы не мало.
«А если все ж себя назвать, признаться, что раненого забрали в плен? – думал он, неотрывно глядя на дорогу, и возражал себе: – Нельзя, докопаются. Я ж следы оставил, сколько следов! Надо было б хоть названия лагерей выучить, фамилии забитых комиссаров запомнить, чтоб на кого сослаться: мол, друзья, на одних нарах спали, вместе лагерное подполье создавали…»
Топорик, который ему выдали во время первого заброса в тыл большевиков, лежал рядом, отточенный, как бритва; нож – в кармане пальто; парабеллум с двумя обоймами он завернул в бумагу и предусмотрительно надписал: «В подарок родной Красной Армии – освободительнице от русского пленного».
Он заметил морячка под вечер, когда уже отчаялся дождаться хоть кого-нибудь, решил было отползать в лес, пробираться на запад тропами, а какие здесь у гадов тропы? Лес, как город, ухоженный, на просвет виден!
Морячок шел чуть пошатываясь, но бинтов на нем Кротов не заметил.
«Может, контуженный? – подумал он. – В плечах вроде одинаковый со мной, только б башмаки подошли, хорошо, что он в башмаках, а не в сапогах, скажу, в крайнем случае, если его малы, что мои прохудились, трофей взял, вон сколько витрин в Бреслау разбито – бери не хочу».
Кротов вжался в землю, нащупал рукою кору, влажную, холодную кору сосны, втерся в нее ладонью, потом осторожно подвинул лицо к ладони, вымазал себя, чтобы чистоты не было: чистота в штатском человеке настораживает, когда война идет; въелся глазами в руки морячка – и руки вроде не короче, плохо, если торчать будут кисти, как у Паташона; ничего заметного не должно быть, как все, ни в чем не выделяться; только б сейчас какая шальная машина не пошла; перекресток, где две девки с автоматами стоят, регулировщицы, далеко, километра три, не слышно будет, если даже морячок успеет закричать; только б машина какая не пошла; нет, вроде б не слышно; и шея у него крепкая, воротник подойдет, только голова вроде б поменьше, чем у меня, бескозырка валиться будет, хотя морская пехота пилотки тоже носит, только синие, в мешке она у него, мешок-то вон какой здоровый, трофеи, наверное, волочет. В госпиталь идет, контузия. «Иди, иди, парень, иди, я запомню, как ты идешь, мне сейчас все в себя взять надо; иди, милый, только б машины не было, верил бы в Бога, молитву прочел, нет Бога, никого нет, кроме тебя, есть ты и все есть, только сумей взять, а если тебя нет, какой же Бог?! Он же справедливость, Бог, а меня – нет, где ж тут справедливость?!»
Кротов еще теснее прижался к земле, чувствуя в себе озноб.
«Рано еще, пусть подойдет поближе, чтоб времени думать не было. Ха, что это у него за карабинчик? Игрушка, а не карабинчик, небось американский, у большевиков не было таких, прикладистый, а он его поперек одел – каково-то ему стягивать будет? Не станет он его стягивать, он же по оккупированной Германии идет, чего ему бояться, да и развилка рядом, там шоссе, там днем и ночью свои…»
– Браток, – прохрипел Кротов, высчитав все до секунды, – браток, помоги!
Морячок остановился как вкопанный, раскачиваться перестал, потрогал голову, потер пальцами висок и начал медленно стягивать карабин.
– Да здеся, здеся я, – продолжал хрипеть Кротов, – ноги у меня, ноги. Кротов я, Егор, помоги, браток!
Морячок карабин снял, загнал патрон в патронник и начал медленно подниматься по взгорку.
– Ты где? – спросил он.
– Да тута я, – стонуще ответил Кротов, нарочито играя речью, боясь при этом, что фальшиво, – сам-то горожанин. Он играл с таким напряжением, что стал действительно чувствовать боль в ногах, словно их прошило очередью.
– Где? – остановившись на полпути, спросил морячок и взбросил карабин на плечо. – Подними руку.
Кротов медленно поднял руку, пальцы растопырил, думал дрожь сыграть, но не стал; бессильно руку уронил, вышло хорошо, по натуре.
– Кто такой? – спросил морячок. – Почему в штатском?
– Угнанный я, от колонны отбился, ноги прострелили мне…
– Ладно, сейчас я за тобой машину пришлю, тут недалеко, – ответил морячок и начал медленно, не поворачиваясь к Кротову спиной, спускаться к дороге. – Я тебя не унесу, сам еле иду, башка кружится…
– Браток, господи, ты хоть записку возьми… Я маме в деревню написал, может, не дождуся я твоей машины…
– Ползи сам, – сказал моряк и остановился. – Ползти-то можешь?
– Сейчас, попробую, только ты не уходи, ты жди, я доползу, браток, ты записочку мамаше отдай, чтоб знала, где ее Егорка помер…
– Да не пой ты, не пой! – усмехнулся морячок. – За неделю в госпитале на ноги поставят…
Кротов медленно, пугаясь боли в ногах – а она становилась все более невыносимой, ступни сделались холодными, нет, не холодными, ледяными, – пополз к морячку, держа в руке – так, чтобы тот видел – листок бумаги: написал еще утром слезное письмо неведомой маме на Смоленщину.
Полз Кротов мучительно, стонал; лицо покрылось потом. «Это хорошо, что я корою измазался, оно вроде как кровь с грязью, это на кого хочешь подействует, только б поближе подползти, только б он к дороге не отошел, гад, нет, стоит, сверху рассматривает, думает небось, где дыры на штанах от пуль, вот башмаками-то задвигал, до них два метра, до его башмаков. Если сейчас остановлюсь, может отойти, он высматривает следы пуль, поэтому не отходит, кровь мою ищет…»
Кротов взметнулся с земли, ласточкой бросился на моряка, сшиб его ударом головы в лицо, левой рукой схватил за кадык, начал вырывать его, разрывая кожу ногтями, правой достал нож, всадил в сонную, повернул, услышал всхлип, ощутил сладкий запах теплой крови, потащил обмякшего моряка вверх, на взгорок, и тут только услышал приближающуюся машину. Он бросил парня рядом с собою, бездыханного уже, взял его карабин, теперь придется отстреливаться, если заметят, теперь конец, здесь же прикончат. «А почему они должны здесь остановиться, следов-то никаких, на мне все следы, кровь на мне, а на траве они не увидят, трава-то прошлогодняя, сине-жухлая, с бурыми пятнами, они проедут, нечего им тут останавливаться, ни одна машина тут не останавливалась, в тыл идет, точно, “студебеккер”, и в кабине один шофер, и в кузове никого. А может, бегом на дорогу, спаси, мол, спаси, брат?! А вдруг они с машинами строже проверяют? Ну и что, отстреляюсь, руль, колеса – не ноги… Да что ты, с ума сошел?! Пусть проедет, а ты переоденься, а потом иди на дорогу и качайся, тебя любой подберет – контуженного как не подобрать? Совсем сдурел от удачи, Крот?!»
Машина проехала, снова воцарилась тишина, лесная, высокая, торжественная.
Кротов помассировал ноги, потеплели; потом начал раздевать моряка; сам разделся стремительно; форма подошла, словно в магазине брал, а вот бескозырка – только на затылок, в такой остановят, не по форме…
Он развязал мешок морячка, там лежал бушлат с ярко начищенными пуговицами-якорями, новенькая пилотка, карманные часы, три банки свиной тушенки, бутылка водки, пять пачек махорки, три отреза, плитка шоколада, письма.
Кротов отнес в лес старый бушлат, что был на морячке, закидал его лапами хвои, зашвырнул в кустарник бескозырку, потом взял топор, ударил морячка по шее, рубил яростно, пока голова не отвалилась; отрубил руки и ноги, затолкал туловище в мешок, завязал своим особым, быстрым узлом; топором же вскопал землю, бросил туда мешок, голову унес в лес, закопал глубоко; только потом, отойдя уже к шоссе, вспомнил, что нож не вытащил, застрял нож в челюстной кости, а он и забыл про него. А что на ноже? Отпечатки пальцев? Нет, хуже, там инициалы его есть – «Н. К.». А кто в земле-то найдет? Да и голова чья? Она ж сгниет, голова, с дождями сгниет, дело-то к весне. Нет, надо назад, надо нож забрать. «А где я его найду, когда уж стемнело и фонаря нет?! Все равно возвращайся, Крот, чтоб следа не было». Он повернулся и увидел, как навстречу ему идет машина с синими щелочками фар. Шофер притормозил:
– Ты что, морячок, шатаешься? Задело, что ль? Садись в кузов, а то сзади стреляли, немец прорывался, садись… Там пять саперов за взрывчаткой едут, я тебя до санбата подброшу, тут недалеко… Подсобить или сам влезешь?
– Влезу, браток, спасибо…
– Если не влезешь – крикни, что-то больно у тебя морда белая, смотри, не помирай, пока не довезу…
11
– Нашел я трех милинковских знакомых, – сказал Жуков. – Друзей у него не было… Интересный человек, Милинко, ей-боженьки, интересный.
– Поговорили с ними? – спросил Костенко.
– Да разве во время вашего пребывания позволено? Как на экзамене – гляди в рот учителю, жди указаний, все в соответствии с традициями!
– Ну и зануда вы…
– А разве я спорю? Не склочник – и то хорошо по нашим временам. Один из знакомых особенно любопытен, Цыпкин Геннадий.
– Чем?
– Он один из всего таксопарка переписывается с Иваном Журкиным, который в Израиль уехал.
Костенко усмехнулся:
– А чего там Ивану Журкину делать?
– Жена повезла.
– Ну и что? – хмуро спросил Геннадий Цыпкин, пропуская Костенко в комнату. Жуков отправился в управление, туда вызвали двух других милинковских знакомых – Лыкова и Тызина, времени по квартирам ездить не оставалось: Москва торопила. – Переписываюсь. Запрещено, что ль?
– Никак нет, – ответил Костенко, снимая плащ, – наоборот, я считаю, что рвать с другом – некрасиво. Он ведь друг ваш был, Журкин-то?
– И остался им, – с вызовом ответил Цыпкин.
– А Милинко?
– При чем тут Милинко?
– Я его ищу.
– Мне не пишет. Пишет Журкину. Молодец.
Геннадий говорил рублено, фразами; они казались Костенко такими же тяжелыми, но верными, как руки шофера – большие, собранные.
– Молодец Милинко, – согласился Костенко. – Только как вы об этом узнали, если он и с вами связь прервал?
– Иван написал.
– Письмо не сожгли?
– Это вы, что ль, с Москвы прилетели?
– Я.
Цыпкин поднялся, открыл книжный шкаф, достал письмо, протянул Костенко.
«Здравствуй, дорогой Гена! Пишу я тебе из Тель-Авива, паспорта еще не получил, Розка бьется, но денег нет, чтоб уплатить за гарантию и расходы. Они тут насчитали х… знает сколько денег за то, что нас вывезли из Вены. Роза устроилась судомойкой, а куда мне в шоферы-то? Я ж по-ихнему ни-ни, да и Роза с грехом пополам два слова знает. Эхе-хе, Гена, а куда подашься?! Посольства нашего нету, а то б сжегся на пороге, если б обратно не пустили. Гринька-то был прав, когда говорил: “Там без денег – не человек, там только с золотом в люди выйдешь, оно не пахнет”. Прислал мне письмо, только сказал, что адрес поменял, велел писать до востребования в Коканд, я ответил ему, он же умный у нас, самый вроде б умный, может, и посоветует чего. Писать много нельзя, потому что, если письмо тяжелей одной страницы, на почте возьмут в три раза дороже, а это два рубля, полбутылки, понял? Ну, конечно, не пью, не на что, печенка не болит, с этим хорошо, а если заболит – тогда топись! Я загрипповал, так лекарство стало в семь рублей, если на наши перевести, то есть по-ихнему пять пар колготок или полкило мяса. Гена, Гена, всего не напишешь! А ты мне всё пиши. Про самую мелочь, мне ж это как праздник, я твои письма и открытку Грини каждый день перечитываю. Я хотел наняться на греческое судно, чего-то понимают, когда я говорю, но велят дать паспорт, а у меня выездного нет, а без этого ты нелюдь, никто и говорить не станет. Роза сказала, в Австралии наемные нужны, на полях работать, как вроде у нас осенью овощи сортировать, но туда тоже не выедешь без паспорта, да и на билет надо копить года три. Привет ребятам, поцелуй от нас твоих детишек. Твой Иван».
– Вы мне позволите взять письмо? – спросил Костенко. – Я вам верну его попозже.
– Расписку оставите?
– Если вы не верите слову, тогда мы оформим изъятие вещественного доказательства. Это – хуже. Долго придется ждать, пока вернем, формалистики больше, мы в этом деле бо-ольшие доки.
Цыпкин покачал головой:
– Все ее костят, а она жива-живехонька, прямо даже смешно от вас это слышать.
– Почему именно от меня – смешно?
– Говорят – начальник вы…
– По-моему, начальники сейчас побольше вас критикуют многое, только им, начальникам, с рутиной бороться сложнее – с вас спрос, увы, не так велик: рабочий человек свои права знает… С обязанностями, правда, не всегда знаком…
– Упрек принимаю, – ответил Цыпкин. – Крикунов среди нашего брата хватает.
– Гринька-то, сиречь Милинко, тоже бранился? Или в словесах был аккуратен?
– У него в глазах слова. Ты говоришь, а он тебя не только слушает, но и поправляет, не только подправляет, но и вроде б подсказывает. Вы им интересуетесь, оттого что он с Иваном переписывается?
– Отнюдь. Пусть себе переписывается… Меня интересует, отчего он уехал в отпуск и не вернулся? Ни профсоюзный билет не забрал, ни трудовую книжку, ни вещи свои. В Коканде его адрес знаете?
– Так он же мне не писал…
Костенко повертел в руках письмо, точно зафиксировал дату на штемпеле, спросил:
– А Петрова вместе с Милинко уехала?
– Какая еще Петрова?
– Подруга его…
– Не было у него никакой подруги. Сыч, он и есть сыч. Ружье да лодка – вот его подруги. Как уйдет на два месяца в тайгу, так мы все потом до зимы и семгу едим, и вяленое мясо.
– Он с Минчаковым вдвоем промышлял?
– С кем?
– С Минчаковым?
– Не слыхал о таком… Я ж говорю – сыч, он всегда сам. Есть такие люди, которые сами по себе. Гриша – такой.
– Хороший человек?
Цыпкин снова пожал плечами:
– Хороший. Ни на кого телег не писал, не завидовал, не болтал лишнего.
– Ну а если на трассе у кого поломка – остановится?
Цыпкин вдруг поднял глаза на Костенко, и лоб его собрало морщинами:
– А почему он должен терять заработок?
– Потому, что вы назвали его хорошим человеком. Вы б остановились?
– Это вы философию начинаете.
– Философия сложней, Цыпкин. Вот вы, лично вы, могли бы проехать мимо товарища, у которого поломка?
– Как же я остановлюсь, когда у меня пассажир сидит?
– Вдвоем с пассажиром быстрее б и помогли.
– Вы Христову политграмоту не проводите, не надо, тут детей нет.
– Вы так задиристо говорите оттого, что я попал в точку: Милинко никогда не останавливался, он проезжал мимо, разве нет? Не злитесь. Вы не на меня и не на Милинко сейчас злитесь, вы на себя в досаде. Мы ведь Милинко в убийстве подозреваем, про трупик-то небось разрубленный слыхали?
– Слыхал, – ответил Цыпкин и вдруг явственно вспомнил, как однажды Милинко – было это накануне Нового года, ночью – рубил топором мороженое мясо.
– Отчего задумались?
– Да так…
– Захотите что рассказать – загляните к майору Жукову в угро…
– Было б чего рассказывать.
– Про хорошего человека всегда есть что рассказать…
– Ну и нет! Мы про дрянь – от всего нашего сердца, все вывернем, с-под ногтей грязь выколупаем, а хорошие – они и есть хорошие, чего их трогать, и так – наперечет.
– Меланхолия вас одолела. Плохо. Милинко, кстати, пил?
– Рюмашку. Пригубит – и все.
– Это как – пригубит?
– А разве непонятно?
– Непонятно. Можно сделать глоток и передать другу, можно отставить рюмку, сделав глоток, а можно выпить рюмку маленькими глотками, не закусывая…
– Вот я про это и говорю.
– Маленькими глотками, без закуси? – уточнил Костенко.
Цыпкин хмуро улыбнулся:
– Без закуси, это точно.
– Так у нас редко пьют…
– А вообще-то – да, он пил водку странно, будто смаковал…
– Топор у него был какой?
– Топорик – чудо, им бриться можно, в руке лежал что надо.
– Наш?
– Нет. Заграничный. У кого-то из моряков, видать, подфарцевал.
– А карабин?
– На такие вопросы я не отвечаю, – отрезал Цыпкин.
– Вы уже ответили. Если у Милинко карабина не было, вы б так и сказали. Тем более что мы имеем данные из отделения милиции.
– Чего ж тогда спрашиваете?
– Потому что вы помните, как он разбирал карабин и в чем возил его в тайгу, – ответил Костенко.
– У него красивый ящик, алюминиевый, внутри с поролоном, а сверху вроде б пробки, чтоб не утонул, если лодка на пороге перевернется… Карабинчик-то у него именной, с фронта, на планочке все честь честью сгравировано…
– Не помните текст?
– Что-то за геройство в борьбе против немецко-фашистских захватчиков…
– А подписал кто?
– Командование… Вроде бы командование воинской части… А неужели вы Гриню серьезно подозреваете?
– Не стоит?
– Да нельзя просто-напросто… Он человек тихий, калымил прекрасно – зачем ему на себя горе брать? Нет, нет, вы его зря подозреваете, точно говорю…
12
Жуков покачал головой:
– Нет, он никогда карабин не регистрировал – официально заявляю.
– Вы как на кавказском застолье, – усмехнулся Костенко, – «официально заявляю»…
– А что? Хорошие люди и отменно застольную выспренность чувствуют, а я не против иной раз выспренности.
– Я – против.
– Как же так? За чувство и против выспренности? Корни ведь одни.
Костенко молча снял трубку и заказал Тадаву.
Тот ответил сразу же – Костенко показалось, что он и ночевал в кабинете.
– Ну что у вас? – спросил Костенко.
– Владислав Николаевич, полный мрак. Все то, что вы мне передали в прошлый раз, – в работе; результатов пока никаких. Очень жду писем или записок Милинко – эксперты без его почерка как без рук.
– Думаете, я его писем не жду? Не меньше вас жду. Нет писем. Нет. Только в Израиле…
– Что, что?!
– В Израиль он пишет, нам не хочет, – ответил Костенко. – Карандаш у вас под рукой?
– В руке.
– Записывайте: срочно связаться с Кокандом; там в одном из отделений связи Милинко получал письмо из Тель-Авива от Ивана Журкина. Смотреть надо начиная с ноября по март – апрель и далее. Теперь: можно ли установить, кто, когда и кому вручал на фронте именные карабины, очень небольшие по размеру, хорошо укладывающиеся в чемоданчик, сделанный из металла, по виду похожий на алюминиевый, но сверху забран пробкой, чтобы не тонул. Посмотрите по аналогам, перелопатьте данные Интерпола и немедленно выходите на связь.
Костенко положил трубку, спросил:
– Ну а что ваши милинковские знакомцы рассказали?
– Хороший, говорят, мужик.
– Полезная информация.
– Да уж… Один, Лыков, помянул Петрову: «Мол, какая-то баба у него есть, с образованием, очки носила, он ее раз подвез к магазину». Петрова-то как раз очки носила, хотя это ее не портило, наоборот, сослуживцы говорят, делало привлекательной, глаза казались большими, как у совы.
– Вы глаза у совы видали?
– Ну и въедливый вы…
– Это как? Хорошо или плохо?
– Хорошо. Так вот, изо всех опрошенных знакомых Петровой только одна подруга знала о ее романе с Милинко.
– Конспираторы…
– Мотивировка занятная: «Если хочешь, чтоб мы были счастливы, – говорил он, – молчи про нашу любовь, иначе она – как бельмо на глазу, зависть одолеет».
– А что? Лихо мужик заворачивал. Профессионально, сказал бы я. С точным учетом женской психологии: единственное, что может остановить их откровения, – боязнь потерять любимого. Долгий он парень, этот Милинко, о-очень долгий…
– Теперь по поводу Коканда… Вы сказали, что он там письмо получал?
– Получал.
– Петрова родом из Коканда – вот в чем штука-то…
– Адрес установили?
– Запрос передал во Всесоюзный адресный стол, ждем.
– Нет, вы лучше звоните в Коканд, так вернее будет.
Капитан Урузбаев из Кокандского утром приехал к Клавдии Евгеньевне Еремовой поздно вечером, извинился, перешел сразу к делу:
– Когда же племянница ваша вернется? Мне надо ей письмо передать из Магарана. Ей и Григорию Милинко.
– Кому, кому? – удивилась старушка. – Какому Григорию? Лапушка ко мне одна в январе приезжала. Погостила и отправилась на работу, она теперь в Сибири работает…
– Где?
– На БАМе… А что?
– Да нет, ничего, вы мне хоть адрес скажите, я ей письмо перешлю – и гора с плеч.
– Так она мне адрес не оставила… Молодежь… Обещала написать, да вот до сих пор и пишет. На БАМе, на северном участке, очень хорошие оклады, масса льгот, лучше даже, чем в Магаране.
– Она долго у вас гостила?
– Да что вы! Забежала – я ж у нее одна на всем белом свете, – сказала, что специально сделала остановку в Коканде, и – на Север.
– Это когда было? В конце или начале января?
– Это? – переспросила старушка. – Погодите, милый, погодите… Отчего ж я вам про январь сказала?! Ах, да, она меня спутала, говорит, отдохну на море, а с января переберусь на БАМ. Она у меня осенью была, в октябре или ноябре, что правда, то правда…
– Может, я не к вам пришел? – сыграл Урузбаев. – Она чуть прихрамывает, эта Петрова?
– Да что вы?! Уж такая нежная, такая голубушка…
– Покажите ее фото, – сказал Урузбаев, – а то еще чужому человеку письмо оставлю…
– Пожалуйста, – ответила старушка, поднялась с кресла, стоявшего возле окна, проковыляла к комоду, открыла ящик, достала альбом, протянула капитану. – Вот смотрите. Вы, кстати, откуда?
– Мой брат в Магаране с нею работал, она по приискам, а он ревизором… Где ж ее фото, матушка? Тут одни старухи…
– Какие ж старухи? – обиделась Клавдия Евгеньевна. – Вы смотрите пятую страницу. Вначале мы, сестры, потом наши мужья-покойники, а уж после – лапонька и внук Ирочки, Гоша…
Урузбаев протянул старушке альбом: все фотографии Петровой были аккуратно вынуты, все до одной.
– Боже мой! – всплеснула руками старушка. – Да как же так?!
– Вы из комнаты выходили, когда племянница к вам заезжала?
– Конечно! То на кухню, то к Заире – взять тмин, я ж пирог пекла, то в лавку, за лимонадом… Боже ты мой, что ж это такое, а?!
(За давностью отпечатков пальцев на альбоме установить не удалось. Потом, однако, экспертиза уточнила: следы есть, но рисунок не читается, фотографии вынимали в перчатках.
Никаких других сведений о Петровой в Коканде собрать не смогли.
А Милинко действительно письмо «до востребования» из Израиля получил. Подпись, впрочем, неразборчива. Паспорт предъявил свой. Образец подписи отправили в Москву.)
13
…Жуков дождался, пока Костенко кончил заниматься утомительной гимнастикой, и, перед тем как тот отправился в душ, сказал:
– Вашу девушку выгнали с работы.
– Какую девушку? – удивился Костенко.
– А журналистку.
– Да вы что?!
Жуков достал из кармана газету, сложенную трубочкой, бросил на стол:
– За вашу информацию.
Костенко развернул газету, нашел в нижнем правом углу маленькую заметку «Ночи будут без страха», отметил, что под корреспонденцией стояло «Кира Королева». «Уроки “Комсомолки”, – подумал он, – молодец, девчонка».
– А в чем, собственно, дело? – спросил Костенко. – Она не переврала ни одного моего слова, только добавила про нашу работу, мужество, закон и все такое прочее, красиво подала. В чем же дело?
Жуков пожал плечами:
– В нашем городе – и вдруг «кошмарные преступления»? Быть такого не может, потому что не может быть никогда… Первого секретаря нет, в Академии общественных наук защищает докторскую, председатель исполкома уехал по районам – заступиться было некому, сработала машина чиновной перестраховки.
– Исполком далеко? – спросил Костенко.
– За углом. Но нет смысла.
– Не надо бежать поступка, Жуков. Легче всего, когда «нет смысла». А вот правильнее будет поступить!
– Ну-ну, – усмехнулся Жуков. – Валяйте.
– Вам докладывали обстоятельства дела, над которым мы работаем?
– После статейки запросил, – ответил зампред исполкома.
– Значит, статья пошла на пользу?
– Нет, во вред! Вы думаете, противник не воспользуется этой статейкой! Думаете, не появится по разного рода «голосам» сообщение о росте бандитизма!
– Одна минута, – сдерживая себя, чтобы не сорваться, медленно произнес Костенко. – Кто где хозяин? Неужели эти самые «голоса» имеют хоть какую-то силу?
– Кто это сказал?! Я так не говорил!
– Нет, вы сказали именно так. И позвольте мне задать вопрос: какое имеют право – по советскому законодательству – увольнять с работы человека без каких-либо к тому оснований?
– Распространение панических слухов, по-вашему, не основание? Она – не пекарь, пекаря я б не уволил! Она, понимаете, работник идеологического фронта!
– Значит, работник идеологического фронта стоит на особом положении?
– А вы как думали?
– Я думал, что Конституция – одна для всех. Или ошибаюсь?
– Я, понимаете ли, позвоню в Москву, вашему начальству! Что это у вас за демагогические замашки!
– Нет, это я пойду к вашему руководству и напишу рапорт о возмутительном самоуправстве!
– Выбирайте выражения, товарищ, – перейдя на глухой полушепот, сказал зампред. – Не забывайтесь.
– И вы старайтесь.
Костенко резко поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета, обшитого панелями красного дерева.
…Секретарь обкома по пропаганде был молодым еще человеком, лет тридцати пяти, не больше.
– Неужели сняли? – спросил он, выслушав Костенко. – Ну это мы поправим. Накажем ее, конечно, что, не посоветовавшись, жахнула скандальную информацию, и редактора и ее накажем…
– Одна минута, – по-прежнему ярясь, не отойдя еще после первого визита, остановил собеседника Костенко. – А за что наказывать? Королева советовалась со мною. Она не переврала ни одно мое слово, а нам – в интересах операции – было важно, чтобы такого рода заметка появилась. За что ее наказывать? Если журналист будет ходить советоваться по поводу каждой своей заметки – тогда надо закрыть газеты.
Секретарь посмеялся:
– Знаете, как все дело развивалось?
– Дело ж не уголовное, – отошел наконец Костенко, – откуда мне знать?
– Один из моих коллег прочитал заметку и спросил на бюро: «Неужели возможен такой ужас? Теперь, думаю, вечером начнут электроэнергию экономить – все равно никто из дома не выйдет, чего ж зря фонари жечь?» Это у нас больной вопрос, исполкому часто достается за плохую освещенность улиц. Ну вот те и выспались на газете.
– Как же вы им это позволили?!
– Я поручил исполкому разобраться. Есть сигнал – надо принимать меры. Или вы против?
– Смотря какой сигнал. Я представляю себе состояние молоденькой девушки, которая койку снимает, чтобы только работать в здешней газете, а ведь в Москве есть квартира, папа с мамой, а она приехала сюда, набраться духа северной романтики, которая замешена на братстве, доброте и взаимной выручке. И – набралась.
– М-да, – сказал секретарь и снял трубку. – Алло, Игорь Львович, что, приказ на Королеву у тебя действительно уже пошел в кадры? Нет, ты отзови этот приказ, дело тут такое, что нашу журналистку уголовный розыск попросил помочь, так было надо напечатать… Да… Да… Нет, вы не так поняли… Да. Вы ее пригласите, успокойте… Ну? А где же она? Так найдите! Что, у вас в редакции никто не знает ее адреса, что ли?
Секретарь положил трубку, полез за сигаретами.
– Сложная штука, – сказал он. – Я теперь без бумажки не выступаю, особенно в районах. Раньше не знал, что такое шпаргалка… А тут случилось такое… Ездил недавно в один район, ну и разобрал ляпы в газете, много досадных ляпов; зевают их от скуки, прямая противоположность тому, что сделала Королева… А потом узнаю, что после моего выступления ничтоже сумняшеся трех журналистов – причем наиболее активных, задиристых – поснимали с работы. Авторитет – штука сложная, особенно с нашими прошлыми привычками. Увлечешься, скажешь что, а уж готовы услужить. Крылова помните? «Услужливый дурак…»
– Что вам «услужливые» сказали о Королевой? Исчезла? Нет ее?
– Найдут…
– Пригласили б вы ее, а? Право слово, так мы умеем людей терять, так уж умеем! А потом дивимся – отчего цинизм?
– Эк вы на меня бочку покатили… Но в порядке справки: у меня семнадцать газет, телевидение, радио, вещание на рыболовную флотилию, высшие учебные заведения, агитаторы, вечерние университеты, а в отделе всего девять человек.
– Поручили б, что ли, Королевой ударить исполком по поводу плохой освещенности города, – задумчиво продолжал свое Костенко. – Спасли бы девчонку, привили б ей борцовские качества, право!
– Надо подумать. Предложение любопытно. Хотя проходить будет трудно – нравы провинции живучи, чтоб все было тихо, спокойно, лучше тассовские материалы перепечатать, да АПН сейчас рассылает, а про своих – фото. В цеху или на полях. Боятся еще на местах активности, ждут, когда сверху придет циркуляр. Отсюда – пассивность, лень, безынициативность… Ну а теперь о вашем деле… Найдете?
– Найдем.
– Когда?
– Не обещаю, что скоро. Узел странный, и почерк какой-то совершенно особенный, так что хлопот много. Жуков ваш – золото, настоящий сыщик, повышайте, пока не поздно, а то в Москву заберем.
– Он – кто?
– Начальник угро города, а ему вполне уже пора бы в кресло заместителя начальника областного управления садиться, ас сыска.
– Жуков – фамилия запоминающаяся, – сказал секретарь. – Зовут его, кажется, Алексей Иванович?
Костенко наконец улыбнулся:
– Уважаю информированных людей. Девочку позовите, ладно?
– Красивая?
– Очень.
– Приглашу. А вы найдите вечер и выступите перед слушателями Университета марксизма. Люблю злых, атакующих спорщиков. Договорились?
– Хорошо. А я к вам в приемную Королеву доставлю, пусть сидит; когда выкроите минуту – она под рукой, да?
…Киру он нашел сразу – Жуков, пока Костенко ходил по кабинетам, запросил ее адрес и выяснил, как удобнее и быстрее к ней проехать.
Девушка лежала на металлической койке, у окна, запрокинув руки за голову, тяжелые волосы разметались на голубой наволочке, очень красиво.
Она, казалось, не удивилась приходу Костенко, но не поднялась, сказала тихо, простуженным своим басом:
– Спасибо. Мне уже передали.
– Поднимайтесь, кофе хочу.
В глазах у девушки что-то зажглось, потухло, потом зажглось снова, она пружинисто вскинулась с кровати:
– А спирта хотите? Я спирта жахнула с горя.
– Не заметно.
– Ну я ж не стакан, пару глотков, а то было так страшно, что просто нет сил.
– Сунулась в драку – забудь про страх. Журналистика – драка.
– Смотря какая.
– Ну о барахле я не говорю, на это времени не осталось.
– В Москву уеду.
– Стыдно.
Она включила кофейник и спросила:
– Почему?
– Потому что дезертирство. Да, в Москве легче, да, в Москве такое вряд ли бы случилось, хотя, увы, еще случается, да, в Москве наибольшее благоприятствие, но хорошо ли это для пишущего – наибольшее благоприятствие?
– Хорошо, – убежденно ответила девушка. – Просто даже замечательно. Почему музыканту – наибольшее благоприятствие, художнику – тоже, а пишущему надо продираться сквозь тернии?
– А куда продираться-то? – вздохнул Костенко. – К звездам. То-то и оно. Вам могут предложить написать о том, как плохо освещены улицы, но вы шире глядите; отчего наши города так скучно оформлены, почему мы так горделиво жжем неон на «продовольственном магазине» или «хозтоварах», почему бы вместо этого не придумать интересную современную рекламу, чтобы наши молокососы не вздыхали по рекламе западной или японской… Хорошая, кстати, реклама – не грех бы поучиться. Петр учился, мы у Форда учились, не было в этом ничего зазорного… Напишите, право, вы этим наступите на хвост своему врагу в исполкоме, есть там один… Впрочем, какой он враг… Трус, перестраховщик…
Глаза у девушки мгновенно потемнели:
– По-вашему, трус и перестраховщик – не враг?
– Надо ли так резко?
– Ой, как вы непохоже на себя сейчас сказали!
Костенко потер лоб ладонью, согласился:
– Да, пожалуй.
– А я вот в вас влюбилась.
– Зря.
– Это мое дело, а не ваше. Это мне важно, вы даже и знать про это не должны были б. Просто легче жить на свете, когда есть человек, о котором радостно думать.
– Об отце думайте.
– Снова не то говорите.
– Ну и что? Красивая вы девушка, я несколько теряюсь, поэтому несу околесицу – разве трудно понять?
– А вы многих женщин видали, которые понимают?
– Видал.
– Вы их придумывали себе. Нет женщин, которые умеют понимать. Есть умные – их мало, – жестко как-то отрезала Кира, – и дуры – тех много. Умным везет всего лишь, а вам кажется, что они все понимают.
– Не слишком резко? – улыбнулся Костенко.
Кира пожала плечами, поставила перед ним чашку кофе:
– Растворимый, но я много заварила.
– Прекрасный кофе.
– Правда?
– Сейчас сказал истинную правду.
– Я вообще-то умею заваривать кофе.
– А я впервые попробовал кофе у моей будущей жены, до этого меня с него воротило – горечь, да и только!
– А наше поколение без кофе жить не может.
– Знаете, чем я это объясняю?
– Откуда же я могу знать?
– Я считаю, что это – от спокойствия. Кофе – символ надежности, устойчивости, спокойствия, традиции, если хотите.
– Интересно… Наверное, так и есть… Сядешь в «Молодежном», осень, дождь идет, по улице Горького машины мчатся, а ты возьмешь себе кофе и сидишь, пишешь, смотришь. Правда, так раньше было, теперь подгоняют, очередь, план надо выполнять, на одном кофе разве подворуешь?
– И про это б написали.
– Кто напечатает?
– Умно напишете – напечатают. – Костенко поправил себя: – Рано или поздно. Все равно мы от этого не уйдем, благосостояние таково, что люди хотят отдыхать красиво, а если какие дремучие перестраховщики – против, то они – недолговечны.
– Вашими бы устами да мед пить.
Костенко допил кофе, поднялся:
– Поехали, Кирушка…
– Так меня брат называет, – сказала девушка, подошла к Костенко и погладила его по щеке. – Вот чудо-то, что милиционер появился. Куда повезете?
– К секретарю обкома, он вас с утра разыскивает, всех поднял на ноги, всем по первое число за вас всыпал. Поехали. И вот вам моя карточка, звонить, конечно, отсюда дорого, но написать можно вполне.
– А ваша жена возьмет и скандал устроит.
– У меня умная жена.
– Одногодка?
– Да.
– Если она умная, тогда я вам надоем письмами… Четыре раза в год буду писать… Ладно?
– Я выдержу и восемь. Но отвечу на четыре, страх как не люблю сочинять, всю жизнь с писаниной, поэтому и весточки мои получаются как протоколы…
Костенко высадил Киру у обкома; он видел в зеркальце «Волги», как девушка стояла, не двигаясь, глядя вслед его машине; тяжелые волосы казались средневековым шлемом, глаза были растерянные, по-детски еще круглые, а нос обсыпало розовыми веснушками…
Ретроспектива-V [Апрель 1945 года. Медсанбат 54/823]
На второй день Кротов почувствовал жар. Он поднимался в нем изнутри, пронизывая насквозь все тело; во рту было сухо, язык еле ворочался, иногда мутилось в голове, и это страшило Кротова более всего – а вдруг бред, понесет тогда черт-те что, по-немецки понесет. «Хотя это я замотивировал, – успокаивал он себя, – я сестричке милосердной что-то по-немецки сказал, она еще удивилась, а я ответил, что учителем немецкого языка в школе был Артур Иванович, самый что ни на есть настоящий фриц, учил нас от чистого сердца, мне, мол, в разведке пригодилось, я ж разведчик, морская пехота завсегда в разведке первая, морская душа, черная смерть…»
Врач определил тиф, его перевели в отдельную палату, медсанбат занимал двухэтажный дом, бывшее отделение НСДАП, столы были сдвинуты в угол, на стенах белели места, где раньше висели портреты Гитлера.
– Только маме не пишите, – просил постоянно Кротов, – маму пугать не надо, войну сын прошел, а от вши гибнет…
Врач погладил его по бритой голове, улыбнулся:
– Не погибнет сын от вши, спи больше, морячок, спи и ешь…
– Воротит меня с еды, не могу…
– А ты через не могу. Спи…
Когда кризис прошел, более всего Кротов боялся, что сообщили в ту часть, где служил морячок, – мичману или тому, второму, Игорю, поэту, вроде Гоши, идейный, наверное, душу изо всех вынимал. (Успел поглядеть в кузове, пока ехал; врать не мог, трое соседей было.) Письма он не успел уничтожить, и, когда брили, сестры сунули в мешок, унесли в каптерку, а теперь все ушло на дезинфекцию, и ему сказали, что письма, прогладив горячим утюгом, уже отправили по адресам.
– Но вы приписки-то не сделали, что у меня тиф? – спросил сестру Кротов. – Тиф – не фронтовая болезнь, позорище…
– Да, – ответила сестра, – вы у нас с тифом – первый. Как станете ходить, главврач анкету снимет: где был последние дни перед контузией, с кем общался, что ел. Может, заразу Гитлер на нас хочет напустить…
– Только не сейчас, – попросил Кротов слабым голосом, – я еще в себя не пришел, немочь во мне. Дайте на ноги встать.
Ночью он разыграл спектакль: закричал дурным голосом несвязное, прибежала дежурная сестра, стала его тормошить, а он продолжал истошно кричать:
– Пустите, пусти! Ни шагу назад, братцы! Родина не простит! Они нас тут нарочно держат, лишают фронт силы! Вперед, товарищи, за Родину, за Сталина! Врачи куплены, они – враги народа, они фронт лишают силы!
Разбудил он всех, переполох был, прибежал хирург Вайнштейн, сделал Кротову инъекцию – тот слабо бился, хотя мог ударить очкастого так, что горбатый нос бы ему сразу выправил.
Уснул он через десять минут; Вайнштейн сидел у него в ногах на койке, успокаивал:
– Поспи, родной, поспи, скоро поправишься, вернешься на фронт, только маму сначала навести, у тебя ж отпускной, мы тебе продуктов на дорожку дадим, маме сахару привезешь, спи, сынок, спи, милый…
Когда Кротов почувствовал, что окреп, стал сильнее, чем прежде, ночью пошел по нужде, заглянул в канцелярию, обсмотрел, где лежат книги приема раненых и выписки; прошел мимо каптерки, где хранилась форма и вещмешок, вернулся, лег, долго прикидывал комбинацию, наутро начал подкатываться под сестричку.
– Глашенька, – сказал он ей, когда выключили свет в палатах, – девочка, ты меня только пойми, сердцем пойми… Вот у меня уж два провала в памяти было, а отчего? Оттого, что ярость во мне, душит меня, Глаш… Милая девочка, дай мне одеться, я ж здоров, дай мне формуляр…
– Какой формуляр?
– Ну бумажку на выписку…
Глаша тихо засмеялась:
– А то еще какой такой формуляр, слово-то не наше… Бумажку я дам, а кто ж тебе, Милинко, аттестат выпишет?
– Мне б только до фронта, там ребята накормят…
– Абрам Федорович говорит, что рано еще, слабый ты, он говорит, после тифа горячка может быть, а ведь не дома ты, в Германии. А ну – свалишься на дороге? Снова тебя к нам везти? Возвратный тиф есть, он прилипчивый, Милинко…
Кротов тренировал себя день и ночь: «Милинко, Милинко, Гриша, Милинко, Милинко, Гриша…» Спасибо, тиф выручил, сначала-то в горячке он на Милинко не откликался, а потом вспомнил уроки спец-госпиталя в Шварцвальде, где его от дефекта лечили, чтобы приметы не было, заикания: «Спокойно, герр Кротов, все хорошо, слова надо петь, зачем торопиться их произносить? Слово так прекрасно, им надо любоваться прежде, чем произнести». «Сначала-то пел, а как не получалось петь, там на кресло сажали, велели говорить, и если начинал челюстью трясти, ток включали, рассчитали, на каких буквах заикается, тогда и включали, все тело сводит, криком кричи, но говори так, как надо, добились, вот ведь говорю, не заикаюсь… И к Милинко привыкну, к Грише, только держать себя надо в кулаке, если в бреду не открылся… А вдруг открылся?! Вдруг они смотрят за мною, и Глаша эта не Глаша никакая, а подсадная утка. Ничего баба, какая она ни есть, ночь – мое время, а мне одна ночь и нужна… Только с ней долго надо, она – красивая, а тут одна маленькая, очкастая, глаз не подымает, застоялась, а кто на нее взор положит, на уродинку в очках?»
– Глаш, а как эту очкастенькую зовут, – спросил он, – которая днем дежурит?
– Розка-то, татарочка? Чего ты ее так – «очкастая»? Она девка хорошая…
– Вы тут все красотки, а на нее никто и не смотрит. Одинокая она? Друга нет?
– Она хирургом хочет стать, все возле Абрама ходит…
«Она возле вашего старого Абрама ходит, потому что рядом – пусто, – подумал Кротов. – Бросит она кривоноса, как только мужиком запахнет. Уродинка, если ее пригреть, из огня каштан потащит».
За завтраком он подозвал Розу, попросил:
– Сестреночка, маленькая, у меня в глазах рябит, ты мне книжку почитай, а? – и руку ей положил на колено, горячую, большую руку…
Когда его выпустили из палаты изолятора, он, по-прежнему шатаясь – всячески отыгрывал версию контузии, – завел дружбу чуть не со всеми ранеными; слушал; каждое слово закладывал в память, говорил мало; безрукому цигарку скрутит, лежачему с ложечки морсу даст, у Розы ведро выхватит из руки, та вся зардеет, идет следом, как собачонка…
…Аттестат он выкрал, историю болезни – там, где было записано, когда поступил с контузией и когда начался тиф, – вырвал, спустил в сортир, вещи из каптерки тайком взяла Роза, ушел он на рассвете, сел на попутку, поехал к матери Милинко, в Осташков.
14
На аэродроме было столпотворение: отпускной сезон.
– Выпьем? – предложил Костенко.
– Пошли, – вздохнул Жуков. – А то как дерьмом вымазанные расстаемся – никакого сдвига, обидно…
– Сдвинем, – ответил Костенко. – И обижаться не на кого – профессионал работал. Когда переберетесь в Москву?
– Вы что, серьезно? – спросил Жуков, сев за столик.
– Вполне.
– Да не поеду я. Старый стал. А старость прежде всего бьет по легкости в передвижениях. Не сердитесь. Да и с вами работать, говоря честно, не сахар.
Костенко выпил стопку, задышал сухим сыром, поинтересовался:
– Почему?
– Слишком сильный вы человек, под себя гребете. Вам бы силу скрывать, а вы себя напоказ. И так дурень дурнем, а с вами и вообще себя недоделкой каким чувствуешь.
– Играть надо? Свою роль вести? Добрячка-молчуна?
Жуков ответил убежденно:
– Играть надо всегда, особенно если власть в руках. Слушать, как на вас смотрят, – при начальстве не очень-то разговорчивы – и в зависимости от этого играть…
– Попробую, – согласился Костенко. – А вообще вы меня верно приложили. С возрастом человек наиболее подвержен желанию навязать свой опыт окружающим. А опыт – снова вы правы – надобно окружающим легко подбрасывать, а не клеить ко лбу ладонью. Спасибо. Только поздно, видимо, переделывать себя. Страшно сказать, Жуков, мне все время кажется, что я только-только начал службу, только-только пришел в кабинет к своему первому шефу Садчикову. А Садчикова убили. И комиссар, который нас костил, умер. И Тыльнер, из ветеранов, на Ваганькове. И Парфентьев помер. И Дорковский в отставке. А мне – сорок восемь, но уже могу на пенсию, двадцать пять календарных. Страшно, да?
– Диалектика, – ответил Жуков. – Против этого не восстанешь.
– Пилюлю-то не золотите, майор. Страшно. Я вот только думаю порою, отчего мы так меняемся? И прихожу к занятному выводу: до тех пор, пока не узаконим термин «социалистическое предпринимательство» – в пику капиталистическому, – наш с вами возрастно-положенческий статус и вера в абсолютность нашего опыта будут приобретать все более мрачные формы. Ленин не зря постоянно говорил: инициатива, инициатива, компетентность, умение быстро поворачиваться, мгновенно реагировать на новое, давить бюрократию, обломовщину пороть публично!
– Связи не вижу с вашим возрастом.
– Плохо смотрите. Связь тут с нашим опытом, что почти одно и то же. Боимся открыть шлюзы инициативе. Рождается пассивность, привычка получить указание, боязнь самостоятельных решений. А это старит.
Жуков пожал плечами, вздохнул:
– Но учиться у вас есть чему. Локаторность в вас имеет место быть, качество редкостное.
– Приятно, конечно, выслушивать комплименты, – ответил Костенко, – особливо после того, как приложили, но вынужден отвести комплимент, Алексей Иванович. Не локаторность, нет. Локатор – логика, расчет, обнаженность; я же поклонник чувственного начала, с чем вы не согласны. И еще: только когда понял, что могу выйти на пенсию, стал смелым, то есть инициативным, не боюсь ошибиться, не страшусь показаться «несолидным» – этого у нас более всего не любят. А ведь если б качества инициативы культивировались в человеке начиная с того дня, как он начал учебу и работу, – ого, как много б мы добились! Обидно, что начинаем себя проявлять перед выходом на пенсию. Надо б закон издать: «Право на ошибку угодно обществу и поощряемо, коль ошибка – результат поиска, стремление постигнуть суть вопроса, выдать оптимальное решение, антирутинное, новаторское». Опять-таки почитаем Ленина: он предлагал платить работникам наркоматов с процента успеха их работы, до ста тысяч премии, понимая, что глупо экономить по мелочи в гигантском государстве; в нем, в этом нашем гигантском государстве, надо выигрывать по-крупному – поощряя и наказывая, но – и то и другое – по закону…
– Ура, – устало откликнулся Жуков и выпил свою стопку. – У всех наболело, оттого и многоречивы…
– Ну и зараза вы, майор, – рассмеялся Костенко, – только-только начнешь вам душу изливать, только-только в глазах ответ увидишь, как – оп! – и захлопнулось оконце…
– Сквозняков боюсь, оттого и захлопываюсь, – ответил Жуков, положил на стол десятку, поднялся. – Пошли, скликают на московский рейс.
– Снотворное здесь можно купить?
– Боитесь летать?
– Теперь перестал. Раньше боялся, оттого и летал все время, клин клином вышибают. Нет, просто если слишком устал – не могу уснуть.
– Димедрола достанем.
– А полегче ничего нет?
– По-моему, самый легкий.
Костенко купил димедрола, пустырника, аскорбинки, эвкалиптового экстракта – обожал покупать лекарства, – попрощался с Жуковым у трапа и сказал:
– Спасибо, Жуков, мне было в радость с вами работать. Вам, кстати, сколько?
– Тридцать семь.
– М-да, – протянул Костенко, – а я вас в одногодках держал.
– Север, товарищ полковник, свое берет… Так что и мне до пенсии недолго, однако я помалкиваю, а вы костите, значит, я больше вас прав: в ком есть локатор – в том он и есть, а в ком нет – тому, значит, не дано. И точка. Отсыпайтесь как следует, отдыхайте, и – счастливой посадки.
…Отоспаться, однако, не пришлось. Костенко долго трясли за плечи, пока он наконец открыл глаза. Многолетняя привычка – с тех еще пор, когда ездил на операции по задержанию вооруженных преступников, – приучила к тому, что в критических ситуациях необходима максимальная сдержанность движений, полный покой. Трясли его за плечи два человека – бортрадист и стюардесса, трясли с озлоблением, видимо, долго не просыпался, димедрол подействовал.
– Я ж привязанный, – сладко потянулся Костенко. – Или, может, горим?
– Советские самолеты не горят, – отрезала стюардесса и отошла, раскачиваясь на игольчатых каблучках.
– Во, воспитательная работа, а?! – поразился Костенко. – Что случилось?
– Вы Костенко? – спросил радист.
– Он.
– Мы всех пассажиров опросили, по радио объявляли, так только и определили, что это вы, – сон богатырский! Вам радиограмма из Москвы.
– А мы сейчас где?
– Скоро будем в Иркутске.
– Где радиограмма?
– Вот. Почерк мой разберете?
– Постараюсь.
Костенко достал очки – сначала, когда была минус единичка, ему доставляло известное удовольствие надевать очки, сейчас, однако, когда дальнозоркость перевалила за два с половиной, эта постоянная потребность шарить по карманам, бояться, что забыл футляр, стала раздражать.
Почерк у радиста был отменный, похожий на почерк Максима Горького – буковка от буковки, абсолютная ясность характера: «Костенко по месту нахождения, срочно: в районе озера Рица за сгоревшей зеленой дачей, возле рощи грецких орехов обнаружен расчлененный труп женщины без головы. Вылетать мне или вы лично осмотрите место происшествия? Тадава».
Костенко достал из кармана пачку с аскорбиновкой, высыпал на ладонь шесть таблеток, поднялся:
– Водички ваша красотка даст?
Радист ответил с готовностью:
– Есть боржомчик.
– Ну раз боржомчик, тогда отстучите телеграмму: «Тадаве. УГРО МВД СССР. Из Иркутска первым рейсом вылетаю Адлер. Костенко».
Работа-V [Кавказское побережье Всесоюзной черноморской здравницы]
1
…Однако ближайший рейс был на Сухуми. Костенко рассчитал, что до Рицы оттуда не многим дальше, чем от Адлера, позвонил из депутатского зала в Тбилиси начальнику угрозыска Серго Сухишвили, тот начал было излагать обстоятельства дела, потом прокричал, что он старый дурак и что лучше Славику лететь в Тбилиси, но потом снова обругал себя, дело страшное, кошмарное дело, вся республика взбудоражена, нет, конечно, Слава прав, не вся республика, но угрозыск – да, а если угрозыск, то это уже полреспублики, ну ладно, четверть; хорошо, тысячная часть, все равно людей хлебом не корми, дай только информацию о преступлении; хлеба и зрелищ, правы древние.
…В Сухуми было жарко, Костенко снял пиджак, подумав, что от такой резкой перемены температуры наверняка станет болеть в затылке; надо было б в Магаране купить про запас горчичников и папаверина, горчичники на икры и затылок – прекрасное средство, да здравствует старая добрая медицина, горчица, мед, полоскание реванолем и как венец всего русская баня – или здоров, или на погост.
…Серго остался верен себе: к трапу, в отличие от скромного Жукова, он пригнал четыре черные «Волги», новенький УАЗ и два жигуленка с мигалками на крыше и синими полосками ГАИ на дверцах.
– Серго, Серго, – сказал Костенко, обнимая друга, – ну какого же черта ты устраиваешь весь этот цирк на конной тяге?!
– Для экспертов, Славик, для экспертов! – рассмеялся тот. – Не надо замахиваться на обычаи – это некультурно! И потом, не хочу стареть! Когда мужчина кончает выступать – перед женщиной ли, перед другом, наконец, перед самим собой, – считай, что он кончен. А мы не кончены, черт возьми, не кончены! Зная тебя, я стол заказал не здесь, а в горах, сядем после осмотра, ты б иначе ведь не понял меня, а?
– Я тебя всегда понимаю, Серго…
Костенко снова поймал себя на том, что он думает сейчас о Садчикове и видит перед собою его лицо – в добрых морщинках, седой бобрик, вечно сдвинутый галстук, обязательно однотонный, синий или зеленый, другие цвета «дед» не признавал; перхоть на стареньком сером пиджаке – как он голову ни мыл разными шампунями, все равно сыпало, началось с Ленинградской блокады, после голода: солдатскую пайку делил пополам – их батарея подкармливала детей в том доме на окраине, где они стояли. Одних потом скрутила язва, другие мучились сердечными недугами, а Садчиков сделался пегим, и мучила его перхоть, чего он стыдился до того, что краснел, как девушка, особенно если ходил с женою в театр и по такому случаю надевал черный костюм.
…«Волгу» Серго вел сам; шоферскую ставку принципиально сократил, хотя по штатному расписанию ему полагался «двусменный» – не мог лишить себя радости держать в руках руль. Машину он вел мастерски, шины скрипели на поворотах, но Костенко видел, что Серго не лихачит, лишь чуть играет – и с собою, пятидесятилетним полковником, и с ним, своим московским шефом, и с прохожими курортницами, и с небом, и с солнцем – ну и слава богу, значит, хороший человек, тихони всегда носят камень за пазухой.
– На тебя «телег» не было, что часто резину меняешь? – поинтересовался Костенко.
– Дважды разбирали, – ответил Сухишвили. – Я молчал, пока мог. Я молчал более двадцати минут, пока ягуаны высказывались, а потом я положил им на стол счета. «Езжу на своей резине, счета оплачены лично», – и вышел. О, какая там воцарилась тишина, Славик! Я был самым счастливым человеком в тот вечер, клянусь жизнью!
– Во время воцарившегося молчания, которое так тебя обрадовало, они обдумывали, как бы схарчить Сухишвили с другой стороны. Найти какую-нибудь тайную подругу. Или доказать, что твой дядя Вано пристроил слишком большую веранду. Или что ты часто меняешь костюмы. Это было затишье перед новой битвой, Серго. Не будь наивным. Желание подсматривать в замочную скважину пришло к нам от древних, так просто от этого не отделаешься.
– «Так просто»? Значит, мы обречены на эту дикую нервотрепку?!
– Пока – да. Победит постепенность. Если мы сможем не дать разгуляться, если выработаем в себе некоего рода парламентскую сдержанность, этот скважинный историзм постепенно отомрет. И еще он должен отмереть потому, что люди стали жить лучше. Чем больше будет машин у народа, чем красивее дома, веранды, дачи, мебель, чем лучше холодильник и телевизор, тем меньше поле для склоки и доноса. Декретом склоку не изживешь, Серго. Увы.
– Я не согласен. Смотри в лицо фактам.
– Там, наверху, не очень натоптали?
Сухишвили не понял, посмотрел на Костенко удивленно.
Тот снова усмехнулся:
– Дедуктивный метод. Ты про лицо фактов, а я про отчлененную голову…
– Я приказал выставить оцепление, но ведь ты наших горцев знаешь – каждый сам себе Шерлок Холмс, должен все увидеть своими глазами и сразу же назвать имя преступника…
– Это очень страшное дело, Серго, я бы хотел ошибиться, но дело, которое мы сейчас крутим, очень страшное, не было таких на моей памяти.
– А Слесарев, который перестрелял четверых в Сокольниках?
Костенко покачал головой:
– Там – истерика алкаша-садиста, дорвавшегося до пистолета, а здесь все по нашей части, противостояние профессионалов.
– Тадава меня держал в курсе дела…
– Хороший он парень?
Сухишвили ответил убежденно:
– Штучный.
– То есть?
– В тебе есть только один изъян, Славик, – ты не охотник. А каждый охотник знает, что лучшее ружье – это штучное, а из всех штучных – самое блистательное сделано петербургским мастером Иваном Алешкиным, который всю жизнь страдал от того, что мир возносил ружья бельгийца Пёрде, а его, алешкинские, не знал вовсе. И на стволе одного из своих ружей, штучных, конечно же, он выгравировал озорные слова: что, мол, имей в виду этого самого Пёрде Иван Алешкин.
– Смешно, – сказал Костенко. – И очень достойно… Тадава тебе про пальчики, которые мы нашли в квартире Петровой, ничего не передал? Жуков на связь к нему не выходил?
– Передал. Грузин грузину обязан все в первую очередь докладывать, – рассмеялся Сухишвили.
– Грузин в первую очередь должен все докладывать своему шефу, – буркнул Костенко. – Развели, понимаешь, национализм…
– Он уж после твоего звонка вышел на связь, Славик…
Костенко убежденно сказал:
– Ты стареешь, Серго, ты оправдываешься, а я просто-напросто неловко пошутил. Я стал плохо шутить, я замечаю это за собой и думаю пойти к невропатологу. Серьезно.
– Уволят, как психа.
– Пенсия хорошая, Маня защитилась, на старость хватит. Заметил, у нас люди боятся ходить к невропатологу или – того хуже – к психиатру?
– Конечно, стыдно.
– Одно слово, дикий горец, – вздохнул Костенко. – А на Западе такое посещение стоит пять пар обуви.
– На каучуке?
– На каучуке – три. Ну, что с пальцами?
– По картотеке не проходят. Судя по объему – принадлежат женщине.
– Это со шкафа в квартире Петровой?
– С тайника такие же.
– Не верю, – отрезал Костенко.
– Почему?
– А вот на это я ответить не могу, Серго. Ни себе, ни тебе.
…Конечно же, вокруг было натоптано.
«Впрочем, – подумал Костенко, – что я хотел найти? Следы? Чьи? Милинко? Мне ведь так хочется этого, я ведь чувствую, что это он нашкодил. А кого он на этот раз зарезал? Зачем ему надо было приезжать сюда из Коканда? А это зависит от того, когда он убил женщину. Петрову? Чтобы избавиться от свидетельницы? Значит, она с ним вместе рубала бедолагу Миню? Почему я вцепился в эту версию? Ах да, потому что по паспорту Минчакова здесь, в Адлере, получили с аккредитивов деньги. Пятнадцать тысяч. Надо точно выяснить, когда Петрова навещала тетушку. Поднять все билеты на Коканд. А если поездом? Нет, по почерку этих людей поезд надо исключить: из Адлера, с пересадками, в Коканд? А может, именно так? Если, тем более, с ними был не только один самородок, который Минчаков купил у Спиридона. Или своровал? Нет, видимо, купил. Кстати, надо позвонить Жукову, чтобы подняли путевые листы, где накануне был Милинко, не мог ли видеть, как гулял Спиридон Дерябин вместе с Минчаковым? Может быть, он зафиксировал тот момент, когда Минчаков брал самородок и отдавал деньги? Скорее бы ОБХСС раскопал что-нибудь по “Центроприиску”. А что он хранил в тайнике? Пальцы-то Петровой. Значит, она хранила? Он. Говорил ей что делать, она послушно выполняла. Ну а отчего не она? Слабый пол и другие рассказы? А может, в данном именно случае в ней сокрыт дьявол? Я блуждаю в потемках, я уперся в свою версию без каких-либо серьезных на то оснований – разве нет? Как этот израильский Иван писал: “Прав Гриня, там без денег делать нечего, погибнешь”. А откуда это знает Милинко? Он что, бывал на Западе? Судя по документам – нет. А почему водку пил маленькими глотками, смакуя? Так ведь у нас не пьют, так пьют там».
Костенко перешагнул через красную веревку, которой было огорожено место происшествия; опустился на корточки перед мешком – в нос ударил сладкий трупный запах; на мешковине лежали полусгнившие ноги, туловище, руки с обрубленными кистями.
– Ни головы, ни пальцев, – шепнул Сухишвили, опустившись возле Костенко.
«Он очень удобно устроился, – машинально отметил Костенко. – Как всякий горец. Эстетика общения мужчин вокруг костра. А мы так не умеем, со стороны посмотришь – присел по большой нужде».
– Кто развязал мешок? – спросил он негромко, зная, что вопрос его услышат и ответят незамедлительно.
– Пасечник, товарищ полковник!
– Где он?
– Здесь я.
– Каким узлом был завязан мешок? – спросил Костенко.
– Я не знаю, – ответил старик, присевший рядом с Костенко и Сухишвили. – Я как потянул, так он сразу и развязался, не успел заметить.
«Надо поторопить того чудака, который нашел мешок в Магаране, – подумал Костенко. – Кажется, его фамилия Крабовский, интересный человек. Люди, над которыми смеются, сплошь и рядом умнее тех, кто смеется».
– Что ж мы с тобою имеем, Серго? – тихо спросил Костенко. – Твое мнение?
– А мы ничего не имеем, – убежденно ответил Сухишвили. – Пошли в чебуречную, там чай поставили, мясо варят…
– Байство это – заставляешь пастухов кормить мясом тбилисское начальство.
– Славик, я ждал этого упрека, только не от тебя. Показать счет? Я мясо купил в Сухуми, пока тебя ждал. Здесь до официального открытия сезона в мае с голода помрешь, мы ж запланированные, во всем, до предела. Записано, что открытие с пятнадцатого – раньше ни-ни, а снег, может, в этом году в апреле сошел. Кого волнуют пятнадцать дней, которые и курортникам радость дадут, и государству пару миллионов прибыли?!
Костенко поднялся, обнял Сухишвили и сказал:
– Серго, будь проклят наш профессионализм: лежит труп, а мы с тобой черт-те о чем, и сердце не разорвалось…
– А откуда ты знаешь? Может, разорвалось. Ты ж не чувствуешь, когда оно рвется, только локоть болит и в предплечье отдает, клянусь матерью…
Работа-VI [Москва]
1
Тадава пересмотрел все документы, собранные им за эти дни в архивах, прочитал еще раз письмо лейтенанта Игоря Северского деду и отправился в Покровское-Стрешнево, к Серафиме Николаевне, предварительно позвонив.
Ехал он с одним лишь вопросом: «Кто такой Трифон Кириллович, жив ли, а если жив, то каков его адрес». Ему казалось, что вопрос, связанный с памятью Шахова, которого она безответно и преданно всю жизнь любила, задавать по телефону бестактно.
– Ну как поживаем, Серафима Николаевна? – спросил Тадава, протягивая женщине коробку конфет.
– Спасибо, – ответила та, – какой вы внимательный! Мне Павел Владимирович всегда говорил, что кавказцы – самые возвышенные джентльмены…
– Далеко не все, – ответил Тадава, присаживаясь на скрипучий стул. – К сожалению, среди молодежи встречаются у нас такие, которые позорят Кавказ.
– Знаете, мы обсуждали и это с Павлом Владимировичем. Было много разговоров, что нашим женщинам опасно ездить на Кавказ – соблазнят немедленно. А Павел Владимирович – вы простите, конечно, – прочитал мне поговорку из «Тихого Дона»: «Сучка не захочет, кобелек не вскочит».
Тадава рассмеялся, но почувствовал, что покраснел; от старой женщины такое слышать ему не приходилось.
– Вы предпочитаете чай или кофе? – спросила Серафима Николаевна.
– Кофе, если можно. Хотите, я вам заварю кофе по-сухумски?
– Хочу. Я ведь была однажды в Сухуми с Павлом Владимировичем… Его супруги, особенно вторая, всячески хотели меня выжить, ревновали… А он, рассердившись, – он, когда сердился, переставал разговаривать и делал то, что считал нужным сделать, – сказал: «Серафима Николаевна, пожалуйста, соберите мои вещи и все необходимое для себя – мы уезжаем на море; пишущую машинку и бумагу возьмите непременно, я стану вам диктовать новые главы моего исследования».
Наблюдая, как Тадава размешивал кофе с сахаром в маленьких чашках, женщина, улыбаясь тому, далекому и прекрасному (во временном отдалении все былое, особенно лето на Кавказе, кажется особенно прекрасным), продолжала:
– Истерика, конечно; валериановые капли; вызов врача; он неумолим; я чуть не плачу: «Павел Владимирович, ну, пожалуйста, не надо, она ж невесть что обо мне подумает». А он петровскими глазищами на меня уставился: «Пусть думает что угодно, мы едем работать!»
– Почему «петровскими»?
– У Петра Великого были круглые глаза… У Павла Владимировича точно такие же… Их вообще часто путали с Симоновым…
– С Константином Михайловичем Симоновым?
– Ах, как вы еще молоды! Петра Первого сыграл Николай Симонов, замечательный актер, мы с Павлом Владимировичем и Игоречком пять раз смотрели этот фильм.
– А почему вы не вышли за него замуж? – спросил, осмелев, Тадава.
– Потому, что я слишком любила его, – тихо ответила женщина. – Игорек бы не понял Павла Владимировича, он любил бабушку, мальчики всегда очень любят бабушек. Павел Владимирович слишком гордился Игоречком – разве я могла претендовать на эту никчемную формальность? Разве любовь выявляется регистрационным штампом? Бедная Анна Керн. Мужчина, подобный Павлу Владимировичу, мог любить тогда лишь, когда чувствовал себя свободным, как ветер. Свободолюбие, говорил он, самое это понятие, породили мужчины. Я с ним согласна. – Она вдруг улыбнулась. – Впрочем, я была согласна со всем, что он говорил, я боготворила его…
– Простите мой вопрос, Серафима Николаевна, – сказал Тадава, – если он покажется вам грубым – не отвечайте, только не сердитесь, ладно?
– Вы хотите спросить, не было ли мне больно, когда он говорил «спокойной ночи» и уходил в спальню к жене?
– Я хотел спросить именно это.
– Как вам сказать… Вы фамилию Бойченко помните?
– А кто это?
– Вот видите… Это был замечательный пловец, чемпион. Спортивные звезды умирают вместе с тем поколением, которое ими восторгалось. Так вот, не страшно, когда забывают спортсменов, а вот если забывают Плеханова и Коллонтай – тогда значительно хуже… Я помню, как Игорек пришел с экзамена разгневанный, ему поставили «хорошо», а он ведь был у Павла Владимировича круглый отличник. Преподаватель задал ему вопрос, какой будет семья будущего, а Игорь ответил – по Энгельсу, – что ее, видимо, не будет вовсе. Павел Владимирович тогда успокаивал Игорька: «Сейчас сороковой год, в мире тревожно, семья – это дети, а дети – это армия, нельзя упираться головою в догму, даже если она истина, как мысль любого гения». Но он убеждал Игорька как-то очень осторожно, в нем тогда не было его сокрушающей силы; он же инвалид, слаб здоровьем, но невероятно силен духом… Вот видите, как я вам ответила… Мое поколение чтит Коллонтай… Дух мужчины, его самость мне были дороже всего остального… Плоть? Ну что ж, конечно, мы взрослые люди – было больно. Но если любишь – можно сесть на диету, пост не зря в России держали; избыточная сытость, говорил Павел Владимирович, рождает похоть.
– Серафима Николаевна, а вы бы не согласились к нам в гости приехать? К моей жене и мне? Саша – доктор, мне бы очень хотелось, чтобы она посмотрела на вас и вас послушала…
Женщина нахмурилась, лицо ее как-то погрубело, появилась в нем замкнутость:
– Но я хочу, чтобы вы меня верно поняли: такое отношение женщины может заслужить человек, подобный Павлу Владимировичу. Я других таких не встречала…
– А почему его жена…
– Жены, – сразу же поправила Серафима Николаевна. – Он был женат дважды.
– Ну хорошо, а отчего его жены не смогли понять его?
– Потому что они были избалованы и, видимо, не любили его. Разве можно любить человека и при этом писать на него жалобы в академию? Это же психология кулака, это какие-то Шейлоки, ростовщики, а не женщины…
– Серафима Николаевна, я готов у вас сидеть вечность, но у меня к вам еще один вопрос: Трифон Кириллович… жив?
– Очень плох. Я была у него вчера в госпитале… Очень плох…
– Сердце?
Женщина грустно улыбнулась, и вновь ее лицо стало мягким:
– Возраст…
– Но я могу к нему попасть?
– Крайне важно?
– Крайне. В какой-то мере это касается судьбы товарища его внука…
Серафима Николаевна посмотрела на часы:
– Меня к нему пускают в любое время… Он шутит: «Как дважды Герою, мне обеспечено место на Новодевичьем, а туда не каждый день разрешают посещение, так что пусть Симочка навещает меня постоянно». Особое поколение, особые люди.
– Помните Николая Тихонова? «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей»…
…Уже в машине Серафима Николаевна отрицательно покачала головой:
– Я очень люблю Тихонова, он прекрасный поэт, но если бы сделать анализ химического состава этих «гвоздей», то превалировала бы там кровь. То поколение было невероятно, бесконечно ранимо; у них был крепкий характер, они умели скрывать слезы и не показывать боли, но внутри этих «гвоздей» были кровь и слезы, поверьте мне…
2
Трифон Кириллович лежал на высоких подушках; у стены стоял кислородный баллон; пахло, однако, в палате одеколоном; Тадава прочел надпись на флаконе: «О’де саваж».
Трифон Кириллович заметил его взгляд:
– Вот уж как двадцать лет мне привозят в подарок именно этот одеколон ученики; раньше я звал их Славик и Виталя, теперь оба генералы; один лыс, другой поседел, но, к счастью, остались «Славиком» и «Виталей» – я имею в виду духовную категорию возраста… Итак, пока вас не изгнали эскулапы, излагайте предмет вашего интереса.
…Выслушав Тадаву, Трифон Кириллович долго молчал, потом ответил:
– Важный и нужный вопрос. Объясните, пожалуйста, каким образом образовался этот узел: мерзавцы Власова, битва за Бреслау, судьба Игоря и его товарищей?
– Мы сейчас разбираем ряд преступлений; нам необходимо поэтому проследить возможные пути из расположения части, где служил Игорь Северский, от Бреслау – в тыл. Неподалеку от Бреслау был убит Григорий Милинко, краснофлотец, из роты морской пехоты Игоря, а убийца – видимо, русский, – жил у нас по его документам. Живет по его документам по сей день – так точней.
– Так, увы, страшнее…
– Верно. Поэтому нас интересует: какие власовские части были брошены в Бреслау, почему именно в последние месяцы войны, отчего в тот город? Нам важно узнать, где могут храниться материалы на этих мерзавцев, их личные дела, фотографии. Нам важно также получить все, что можно, о наших частях, сражавшихся за Бреслау, о тыловых соединениях, находившихся в сорока километрах к западу от фронта… Мне надо вычертить маршрут Милинко, настоящего, а не того, который сейчас живет под его именем…
– Вы в нашем военно-историческом архиве уже поработали?
– Да.
– Значит, общую обстановку представляете?
– В общих чертах…
– Изучите не в общих чертах, влезьте в мелочи, в документы не только армейского или дивизионного масштаба – копайте в архивах батальонов, рот, – тогда доищетесь, тогда сможете выстроить точный маршрут; цепляйтесь за расположение санбатов. Милинко, как я помню из письма Игорька, получил отпуск в связи с орденом и легким ранением, вроде б так?
– Я поражаюсь вашей памяти, – сказал Тадава.
– Напрасно. Привычка – вторая натура; это нарабатывается профессией, иначе невозможно писать… И потом, вы считаете, что старик совсем готов? Мозг умирает в последнюю очередь, дух как-никак. Поначалу, – он хохотнул, – отказывает нижний этаж… Так вот, установите все медсанбаты, все регулировочные пункты, где базировались военторги; откуда шли эшелоны в тыл. Нанесите эти данные на карту, и у вас возникнет перед глазами картина; повстречайтесь с ветеранами – кое-кто еще остался, не все мы уже повымирали; найдете, если только приложите все силы… Что же касается вашего вопроса о власовцах в Бреслау… Очень интересный вопрос… Туда были брошены звери – понимаете? Звери, готовые на все. Они боялись нашей победы больше, чем иные немецкие генералы; за каждым из них кровь, палачество; одно слово – иуды. Я подобрал много материалов об этих мерзавцах… Можете познакомиться в академии, я позвоню, скажу, что придет симпатичный грузин, вам покажут… Я не успел, увы, дописать… Вряд ли успею…
Серафима Николаевна, изредка поглядывавшая на часы (сидела у окна, не мешала разговору мужчин, будто и нет ее), сказала раздраженно:
– А кто это за вас сделает, хотела б я знать, Трифон Кириллович?
– В общем-то – никто… Впрочем, что это я?! Конечно, кто-нибудь да сделает, но я был очевидцем; невероятна разница между документом о событии и свидетельским показанием очевидца! Почему в Бреслау? – повторил он, взял шланг с кислородом, подышал, приложив к губам черный зловещий респиратор, и продолжил: – Потому что Бреслау – это польский город Вроцлав. Понимаете?
– Нет.
– Гиммлеру надо было бросить именно власовцев на защиту древнего славянского города от наступавших славян. Вдумайтесь в меру унижения: «Вы, “русская освободительная армия”, одетая в наши шинели и вооруженная нашими автоматами, будете защищать от русских Вроцлав, который на самом деле есть Бреслау и должен им навсегда остаться». Унижение – всегда прямолинейно, как бы его ни пудрили. Унижение такого рода поставило Власова и его соединения в положение холуев, и они согласились на это холуйство. Почему съезд Комитета за освобождение народа России Гиммлер приказал провести в Праге, в славянском опять-таки городе? Для того чтобы показать чехам: «Вот как мне служат славяне, берите с них пример. Сыты, обуты, при оружии – торопитесь, чехи, а то будет поздно!» Гиммлер в середине сорок четвертого еще верил в возможность торга, он думал, что они смогут выкарабкаться. Значит, они смогут довести до конца свой план уничтожения славян, евреев и цыган. А что дальше? Вольтер писал: «Если б евреев не было, их бы следовало выдумать». И Гиммлер придумал долгий план: он придумал мерзавцев Власова. Бросив их в Прагу, Вроцлав, Белград и другие славянские города, он – не без оснований – полагал, что это вызовет там, в братских славянских странах, резкие антирусские настроения. То есть конечный его план сводился к тому, чтобы вбить клин в славянское братство…
Трифон Кириллович показал пальцем на тумбочку:
– Полистайте-ка эту папочку, любопытнейший документ: «Второй международный конгресс свободных журналистов в Праге», состоялся в июне сорок третьего… Вслух давайте: кто выступал, темы выступлений…
Тадава начал читать:
– Альфред Розенберг, рейхсляйтер и рейхсминистр. «Мировая борьба и всемирная национал-социалистская революция нашего времени».
– Оттуда потом зачитаете отрывочки, очень любопытно. Дальше.
– Кнут Гамсун. «Борьба против Англии». Какой Гамсун?
– Удивляетесь? Сколько вам лет?
– Тридцать четыре.
– Господи, сорок шестого года! Тот самый Кнут Гамсун, увы, тот самый… Дальше…
– Вернер Майер. «Укреплять европейское единство». Георгий Серафимов. «Антибольшевистская борьба болгарской прессы». Иво Хюн. «Хорватия – граница Европы!»
– Примечаете? Сталкивают лбами хорватов и болгар.
Тадава продолжил:
– Алядар Кошич. «Словацкая пресса в борьбе против большевизма».
– И словакам – свой шесток, ближе к болгарам, нишкни!
– Владислав Кавецки, руководитель польского отдела агентства прессы генерал-губернаторства «Телепресс», тема выступления «Хатынь – история одного финала»…
– А это вообще страшно: человек, считающий себя поляком, славянином, работал как руководитель «польского» отдела в «генерал-губернаторстве»! Вы знаете, что это такое – «генерал-губернаторство»?
– Так нацисты называли Польшу…
– Верно. Можете читать дальше – ни одного русского не было на этом «международном» конгрессе, а ведь власовцы выпускали свою газетенку, почище болгар и хорватов антисоветчину печатали, кровавую, сказал бы я, антисоветчину. Почему же их в сорок третьем не пустили в Прагу? Почему, словно бродячих собак, оттолкнули сапогом?! Почему?
– Не знаю.
– Потому, что еще не закончилась Курская битва. Потому, что гитлеровцы еще сидели в Смоленске и Орле – триста километров до Москвы, третий год войны; потому, что они держали Харьков и Севастополь; Ленинград был в блокаде. Они поэтому могли еще стоять на своей извечной позиции яростного антирусизма – вот, по-моему, в чем дело. И лишь осенью сорок четвертого, когда мы вышли к Висле, они собрали в Праге «русских»… Фу… Устал… Симочка, майор, идите-ка вон, а?! – он осторожно посмеялся своей добродушной грубости, заколыхался на подушках, потом зашелся кашлем. Серафима Николаевна бросилась к нему, протянула респиратор с кислородом, подняла голову – каким-то особым, лебединым, нежным, но в то же время сильным движением; он откашлялся, лицо, однако, стало синеватым, отечным.
Положив ладонь на руку Тадавы, он медленно, очень трудно заговорил:
– Я отчего так волнуюсь, когда трогаю эту тему, майор? Я – русский, до последней клеточки своей русский, поэтому не могу слышать разговоры об особой русскости, украинскости, узбекстве, еврействе, грузинстве – не могу! Этого ж только и ждут противники, это ведь мина Гиммлера с Розенбергом! Закладывали они ее давно, шнур тогда же подпалили, и последыши по сей день ждут взрыва. Вы почитайте у меня на кафедре, что власовцы писали… Что им писали хозяева – так точнее. Вспомните «разделяй и властвуй» лондонских умельцев от дипломатии! Мы плохо изучаем политическую разведку прошлого века – я имею в виду разведку Западной Европы, которая формулировала для политиков концепции. Французский историк, связанный с Елисейским дворцом весьма тесно, в середине прошлого века утверждал, что внешнее сходство русских с французами и немцами – чистая случайность, пребывание этой нации в Европе – чревато для будущего мира. «Русские – особые люди, они должны жить у себя, общение их с Европой – опасно для Запада, лишено какой-либо необходимости, пусть варятся в собственном соку…» Другие западные философы проводили связь между русским православием – а в прошлом веке именно православие считалось выразителем русского духа – с религией Зороастра, с азиатской религией, поскольку дьявол якобы исследуется русским человеком с интересом и непредвзятостью. Ну ладно, с дьяволом это смешно, но ведь тенденция очевидна – сапогом оттеснить нас за Урал, поддержать наши доморощенные теории об отличности от остальных европейцев! А «мужиковствующих свора» – так вроде по Маяковскому – на деле подпевает этим самым французским шовинистам: «Мы – особые, мы – ни на кого не похожие, нечего нам якшаться с прогнившей Европой, это лишь разлагает национальный дух!» Каково?! До чего договаривались: мол, Петр Великий отдал Россию под германское иго! Это про Петра, который открыл дорогу Ломоносову, который призвал Пушкина, раскачал спячку, вывел Россию к делу, заставил Европу зауважать державу, а там только разум и силу уважают, впрочем, сначала силу, а уж потом дух, это – прилагаемое у них, прагматики, ничего не попишешь… Иногда мне книги попадаются – диву даюсь некомпетентности, причем воинствующей! Несут черт те что, замахиваются на то, что свято нам… Фиги в кармане, параллели, намеки… Как Ивана Грозного трактуют?! Ну да, ну антипод Петра, ну да, хотел истребить память о Новгороде – то есть о Европейской Руси, утвердить церковь как политическую, а не духовную силу, все верно, но как можно при этом забывать, что в те же годы, когда Иван головы рубил, в Париже гугенотов топили в Сене, последователи Торквемады держали в испанских темницах, подвергая дьявольским пыткам, «неверных», а герцог Альба залил кровью Брабант и Роттердам! Чтобы выдвигать концепции прошлого, которое пытаются обернуть программой на будущее, надо знать! Надо знать! – повторил сердито Трифон Кириллович. – Точнее всех величие русской культуры понял Тургенев и высказал это странно – в отношении к Гёте. Он же западник, Тургенев, какой еще западник, у него европейцы учились европейскости! А ведь именно он писал, что для Гёте последним словом всего земного было «я». Для его Фауста не существовало ни общества, ни человеческого рода. Он погружен в себя, он от себя лишь одного и ждет спасения… Каково? Западник Тургенев этой своей критикой отчеркнул нашу самость, но заметьте, как он это тактично сделал, как тонко поставил все на свои места! А каково нашему товарищу из Башкирии, Таджикистана или Литвы слышать, когда мой единоплеменец бьет себя в грудь и кричит: «Наша культура – самая великая!» Нескромно это и недостойно по отношению к тем народам, которые именно русская культура вывела в мир, дала – революцией нашей – не только права, не только азбуку, не только библиотеки, но гарантировала им самость! Как же можно делить?! Да, мы – Европа, да, мы при этом и Азия – в этом и лишь в этом наша самость, и она определяется не чем-нибудь, а прекрасным словом советская…
Трифон Кириллович говорил жарко, привстал даже на локтях, подавшись вперед, к майору.
Тадава чувствовал себя неловко, он боялся за старика, но не знал, как ему следует поступить; взглянул ищуще на Серафиму Николаевну.
– У товарища Тадавы наверняка возникнут к вам вопросы, – сказала та. – Я его буду к вам привозить – хорошо?
Трифон Кириллович обрушился на подушки, поцеловал женщине руку, положил ее ладонь себе на лоб, шепнул:
– Скоро с Пашкой встречусь.
– Фи, – сказала Серафима Николаевна, – не узнаю! Стыдно!
В коридоре села на скамейку, лицо закрыла руками, но плача Тадава не слышал.
«Как же счастлив был тот человек, которого она дарила своей дружбой, – подумал он. – Какие же прекрасные годы прожил Павел Владимирович… А Игорек его не понимал… Как же сердце у старика разрывалось, а?!»
Работа-VII [Кавказское побережье Всесоюзной черноморской здравницы]
1
В холодной чебуречной, напившись горячего чая, – здесь в горах было студено, не то что в Сухуми, – Костенко надел очки и начал медленно, чуть не по буквам, читать предварительное заключение экспертов и первые допросы, проведенные следователями угро и прокуратуры.
Люди входили и выходили из дощатой, насквозь продуваемой ветром чебуречной; тягуче-медленно визжала дверь, не смазанная ни прошлой осенью, ни нынешней весною; инструкцию, видать, не успели спустить. Костенко хмыкнул: по отношению к Рице надо говорить – «не успели поднять», здесь же горы, а начальство сидит внизу, в Сухуми, на побережье. Смешно: «Сначала поднимите нам инструкцию, а потом мы двери смажем». Как такое перевести на иностранный язык? Не поймут ведь. Даже Салтыкова-Щедрина понять не могут, самого великого нашего писателя, если отсчет начинать с Пушкина, понятное дело. Радищев писал о деле, которое справедливо и вседоступно, Толстой постигал таинство мира, Достоевский конструировал личность, отталкиваясь от общечеловеческих проблем, а Салтыков и Лесков писали о России, потому-то и не знают их на Западе.
…Костенко долго читал описи обнаруженных вещей, первые допросы свидетелей, предварительные заключения экспертов, а потом – каким-то неуловимо-брезгливым жестом – отодвинул от себя папки, поднялся и сказал:
– Это все поверхностно. Тут не за что зацепиться, Серго, пошли еще раз место посмотрим.
…Заинтересовали его лишь две вещи: полусапожки, в которые была обута неизвестная женщина, и кофточка.
Он долго рассматривал этикетку – немецкая фирма, прочесть толком невозможно.
А вот в полусапожках, подняв сгнившую стельку, он увидел следы фабричного клейма: «И р-у-с-а бу-на фа-к».
Костенко обернулся к одному из сыщиков, приехавших вместе с Сухишвили:
– Составьте, пожалуйста, такую телеграмму: «Иркутская обувная фабрика. Срочно сообщите угро МВД СССР полковнику Костенко, когда ваше предприятие начало изготавливать зимние полусапожки, черные, на меху белого цвета, с простроченным рантом и узором типа “снежинки”. Прошу сообщить также, в какие области страны ваша продукция этого типа была отправлена летом – осенью прошлого года до середины октября включительно. В связи с тем, что речь идет об особо опасном преступлении, ответа жду немедленно. Костенко».
– Когда отправлять? – спросил помощник Сухишвили, молоденький, чересчур расторопный лейтенант. – Если срочно, мне надо ехать вниз; здесь отделение связи еще не работает.
– Тогда заодно проявите фотографии сапожек и немедленно отправьте с пилотами в Кокандский угро капитану Урузбаеву для предъявления тетушке Петровой…
– Так и написать – «тетушке Петровой»?
Костенко усмехнулся, покачал головой:
– Молодец…
Он достал записную книжку, заведенную специально для этого дела, пролистал страницы и продиктовал:
– Для предъявления Клавдии Евгеньевне Еремовой, единственной установленной родственнице Анны Кузьминичны Петровой. Пусть Урузбаев спросит: в сапожках ли ее навещала племянница прошлой осенью? Если Клавдия Евгеньевна ответит положительно – можно предъявить фото. В противном случае – не надо, пусть тогда о кофточке поговорит. Кстати, у вас пленка цветная или на черно-белой работаете?
– Пленка цветная, товарищ полковник, но печатаем черно-белые, аппаратура еще не подошла, ждем…
– Эхе-хе, – вздохнул Костенко. – Нет на нас розг. Или кнута… Впрочем, если появится, будем стенать по тому времени, когда пытались уговором, добром и ласкою… Я ведь полгода как завизировал приказ о передаче вам цветной аппаратуры – неужели нельзя быть порасторопнее?
– Можно, товарищ полковник, – ответил лейтенант. – Мы приезжали в Москву, но ваши хозяйственники сказали, что такого рода аппаратуру надо отправлять по-особому, с сопровождением; мы согласились, выделили человека, тот прибыл, но они сказали, что на складе нет материально ответственного – в отпуску. Приехали через месяц, тот человек появился, но ушел в отпуск бухгалтер склада, а без его закорючки тоже ничего не получишь. Мы через месяц снова приехали, но тогда начальник склада ушел на пенсию, нового назначили, а заместитель отказался подписать накладную без того, чтоб вы вторично завизировали, а вы были в командировке, так мы ни с чем и уехали…
– Но ведь заместитель мой был?!
– Он-то подписал, но складской ответил, что для него действительна только ваша подпись.
– Значит, так, – жестко сказал Костенко. – Напишите на мое имя рапорт, приложите билеты, подсчитайте, сколько денег прожили по командировочным в Москве, и передайте полковнику Сухишвили. Он знает, как переслать мне – по служебным каналам, официально. Я взыщу деньги с наших волокитчиков, удержу из их зарплаты и переведу на счет грузинского угрозыска. Но сейчас – не знаю как, любым путем – сделайте, пожалуйста, цветное фото кофточки, она запоминается только в цвете; предлагать для опознания в черно-белом варианте нет смысла.
…Ночью, вернувшись в Сухуми, Костенко прочитал Сухишвили набросок оперативно-розыскного плана.
– Только не перебивай, Серго. Дослушай, а потом вноси предложения, а то я злой, как черт, могу рявкнуть, а ты обидишься и будешь прав, и нам за замирение придется водку пить, а сейчас не до водки.
– Я весь внимание, не пророню ни слова, клянусь матерью.
– Браво, – сказал Костенко, откинулся на спинку кресла, прислушался к шуму моря за окном, смеху курортников и далекой музыке. – Итак, убитой является женщина примерно двадцати восьми – тридцати двух лет. На обнаруженных частях тела следов от ран нет – следовательно, убили ударом в голову…
– Или выстрелом, – не удержался Сухишвили.
– Исключено. Остались бы следы пороха на шее, – сказал Костенко. – Следов изнасилования не обнаружено, девственность нарушена давно. Экспертами изучается возможность пятинедельной беременности. Расчленена острым топором…
– Или кинжалом…
Костенко задумчиво пожевал кончик ручки, неохотно откликнулся:
– Версию мою ломаешь. Впрочем, ладно, давай я добавлю: «или остро наточенным тяжелым кинжалом, типа штык». Ничего?
– Стихи в прозе, – вздохнул Сухишвили.
– По приблизительным прикидкам экспертов, рост покойной мог составлять сто пятьдесят пять – сто шестьдесят сантиметров. На трупе, – точнее, на том, что от него осталось, – была шерстяная импортная кофточка черного цвета с красными продольными линиями, черное платье: этикетка сгнила, установить фабрику невозможно, и черные полусапожки. Так?
– Так.
– Преступник отчленил голову и руки, чтобы мы ни по внешнему портрету, ни по зубам, ни по возможным отпечаткам пальцев не могли установить личность убитой. Опираясь на показания пасечника Шуравия, мы вправе полагать, что убийство совершено в конце ноября или в начале декабря, перед самым закрытием сезона, когда снег отрезает Рицу от побережья. Так?
– Так.
– Выдвигаю версии. Первая: убийство могли совершить люди, проживающие в районе Рицы.
– Исключено.
– Ты же обещал не перебивать меня?
– Хорошо, оставь, мы отработаем твою версию, но это – пустая трата времени.
– Второе: женщину могли убить приезжие или приезжий, с которым покойная познакомилась по дороге на Рицу. Третье: убийство могли совершить преступники-гастролеры. Четвертое: убийство мог совершить любовник, желавший избавиться от случайной связи, узнав, что женщина беременна. И наконец, пятое, если мы допустим, что убитой является Анна Петрова, убийство мог совершить Милинко, ибо очень похож и рост убитой, и возраст, да и манера убийства идентична магаранской.
– Какой ему был смысл убивать ее?
– Чтобы избавиться от свидетеля. Чтобы развязать себе руки для новых преступлений; два человека – это и есть два человека, а один, да еще зверь, куда как страшнее, потому что мобильней. Тем более если эксперты точно установят беременность. Это уже не сообщница, это, милый, жена…
Предложения. Первое: ты мобилизуешь комсомол, связываешься с армией, просишь у них миноискатель и прочесываешь весь район – надо найти… Надо постараться найти орудие убийства. Второе: твои люди просматривают регистрационные книги в гостинице Рицы – все, кто останавливался в последних числах октября или в ноябре, должны быть установлены и опрошены. Фотография Милинко – весьма некачественная, как и фото Петровой – без очков и с другой прической, – единственное, что мы пока что смогли получить, – передам тебе для бесед со всеми теми, кто приезжал сюда в октябре – ноябре. Так?
– Постараюсь.
– Почему, однако, я вцепился в версию «убийства Петровой»? Объясню: женщина приехала в полусапожках, значит, она с Севера, купить тут у вас хорошую обувь – то же, что мамонта откопать в Евпатории.
– Почему, у фарцовщиков можно.
– Если это Петрова, раз, если ее убил Милинко, так называемый Милинко, два, то он с фарцовщиками связываться не станет, слишком осторожен, три. Он будет покупать только в магазине, Серго, поверь мне. Я где-то чувствую этого человека, я настроился на него: он боится случайных контактов, он осторожен, как зверь. Понимаешь?
Телеграмму Урузбаева из Коканда передали Костенко уже в Москве: «Еремова не помнит, в чем была одета племянница, крайне обеспокоена, что до сих пор от нее нет писем. Ни полусапожки, ни кофточку с уверенностью опознать не могла, ибо плакала, спрашивая о судьбе любимой и единственной племянницы».
«Урузбаеву. В вашем первом рапорте упоминался некий внук Ирочки? Кто он? Жив ли? Если жив, каков его адрес? Костенко».
«МВД СССР, УГРО, полковнику Костенко. Внуком Ирочки является штурман дальнего плавания Егор Львович Пастухов, проживает по адресу: Рига, Советская, 5, квартира 12. Капитан Урузбаев».
«МВД СССР, уголовный розыск, полковнику Костенко. На запрос 52/3 сообщаем, что иркутская фабрика начала выпуск кожаных меховых полусапожек черного цвета с узором типа «снежинка» в третьем квартале 1978 года. По накладным 542/III-45, 592/Л-II, 72/345-К-2 партии полусапожек в количестве семи тысяч штук отправлены – соответственно – в Якутскую АССР, Хабаровский край и Магаранскую область. Заместитель директора иркутской обувной фабрики по сбыту Куяметов».
«МВД СССР, полковнику Костенко. Партия черных полусапожек иркутской фабрики была получена магаранским горторгом 12, 23 сентября, 4 и 12 октября. Реализовывались в магазинах № 7 и 3. Магазин № 3 расположен в ста пятидесяти метрах от дома, где проживала Петрова. Предполагаю начать работу через продавцов и по линии бухгалтерии, поскольку сапожки были в городе большим дефицитом, получали их из-под прилавка. Срочно требуется фотография Петровой, но не та, которую мы изъяли из ее личного дела, даже близкие знакомые не признают в ней Петрову – без очков и с длинными волосами. Установлено, что ее фотография в личном деле была шестилетней давности, когда она только устроилась на работу. Майор Жуков».
«МВД СССР, УГРО, Костенко. В настоящее время Е. Л. Пастухов находится на сухогрузе “Глеб Успенский” в качестве второго штурмана. Судно следует рейсом из Сингапура с заходом в порт Неаполь 29 мая с. г. Дальнейший рейс будет зависеть от “Совфрахта”. Опросом соседей установлено, что Пастухов, не разведясь формально со своей женой Н. Н. Пастуховой, уже полтора года живет отдельно. Отзывы о нем положительные. В службах пароходства характеризуется хорошо. Виновным в разрушении семьи его не считают. Подполковник Струминьш».
«МВД ЛССР, подполковнику Струминьшу. Где жил Пастухов, когда приходил из рейса. Костенко».
«МВД СССР, УГРО, полковнику Костенко. Во время отпуска штурман Пастухов останавливается в доме своего друга, первого помощника капитана “Глеб Успенский” Котова Р. Г. Однако, как сообщила жена Котова, весь свой багаж – один чемодан и портфель с письмами и фотографиями – он забирает с собою в рейс. Подарки, которые приобретает на валюту, передает через дочь Котова своему семилетнему сыну, ибо жена отказалась показывать ему ребенка, несмотря на то что у нее постоянно живет любовник, кандидат философских наук Захватаев. Подполковник Струминьш».
«МВД СССР, УГРО, полковнику Костенко. НТО дало заключение, что в тайнике на квартире Петровой неоднократно хранился золотой песок. Путем повторного осмотра квартир Петровой и Милинко нам удалось взять два отпечатка пальцев, принадлежащих мужчине. По картотеке не проходят; высылаю рейсом 231 с командиром корабля Ефремовым – перед вылетом уведомлю звонком, прошу встретить. Майор Жуков».
Работа-VIII [Москва]
1
Костенко протянул генералу радиограмму – только что вернулся из Министерства морского флота, беседовал по радио с Пастуховым в течение получаса, больше не разрешили, и так, сказали, «из уважения к угрозыску, цените и помните, когда наших обчистят, будьте особо внимательны».
Генерал читал, помогая себе карандашом, водил по строчкам, иногда карандаш замирал, и Костенко по этому мог определить, на чем споткнулся его шеф.
«Костенко: Товарищ Пастухов, здравствуйте, я беспокою вас в связи с вашей родственницей, Анной…
Пастухов: А в чем дело?
Костенко: Уехала в отпуск и подзадержалась, тетушка ваша волнуется, мы начали поиск.
Пастухов: Эх, Анна, Анна…
Костенко: Вы что-нибудь предполагаете?
Пастухов: Да ничего я не предполагаю, жаль бабу, несчастный человек.
Костенко: У вас много ее фотографий?
Пастухов: Есть.
Костенко: Когда она последний раз присылала вам фото?
Пастухов: Не помню…
Костенко: Она была на этом фото в очках и с короткой стрижкой?
Пастухов: Да.
Костенко: В черненькой кофточке с красными полосками?
Пастухов: Нет, в купальнике…
Костенко: Так она что ж, с моря вам прислала фото? В ноябре?
Пастухов: Да.
Костенко: Она одна на фото или с приятелем?
Пастухов: С каким?
Костенко: Она вам ничего не писала? Имени его не называла?
Пастухов: Нет. Погодите, нет, она что-то писала: мол, Гриша невероятный человек, и, мол, скоро она меня обрадует приятной новостью. Вообще странное письмо. Кто такой этот Гриша?
Костенко: И мы этим заняты, товарищ Пастухов. Раньше она вам о нем не писала?
Пастухов: Писала года четыре назад, мол, познакомилась с прекрасным, надежным, сильным человеком, а потом – как отрезало, ни разу про него не говорила, и вот снова: “Гриша”, “радость”.
Костенко: Говорила? Или писала?
Пастухов: И то, и так. Она прилетала ко мне года три назад в Ригу.
Костенко: Одна?
Пастухов: Одна.
Костенко: Жила у вас?
Пастухов: Нет.
Костенко: Где вы встретились?
Пастухов: В кафе.
Костенко: Она вас просила о чем-то?
Пастухов: Это может быть связано с ее пропажей?
Костенко: Да. Вы понимаете, видимо, мой вопрос?
Пастухов: Да, я понимаю. Но я сказал, чтоб она выбросила это из головы.
Костенко: Она просила вас взять с собою кое-что в рейс и там обменять – я вас верно понимаю?
Пастухов: Верно. Но до этого не дошло. Я сразу отказал…
Костенко: Вы не помните, за соседним столиком, рядом с вами, не сидел мужчина, крепкого кроя, лет пятидесяти?
Пастухов: Да разве сейчас вспомнишь?
Костенко: Очень бы надо. В кафе ее вы пригласили или она?
Пастухов: Конечно, я.
Костенко: Как вы туда добирались? Пешком или на такси?
Пастухов: На такси.
Костенко: Аня вас оставляла, когда вы сели за столик?
Пастухов: Не помню… Погодите, кажется, она уходила… Ну, в туалет, причесаться, губы подмазать…
Костенко: А она потом не просила вас поменяться местами… дует, например, или солнце бьет в глаза?
Пастухов: Погодите, погодите, просила, именно так и сказала: “дует”. У нее ведь сосуды больные, все время кутается…
Костенко: И теплую обувь начинает очень рано носить, еще в сентябре, да?
Пастухов: Шерстяные чулки – во всяком случае. Это с детства у нее, росла в Белоруссии, голод… (он кашлянул, потом добавил иным голосом) то есть… нехватка некоторых высококалорийных продуктов…»
Карандаш генерала замер; Костенко поднял глаза на шефа – тот молча колыхался в кресле от тихого смеха:
– Какова бдительность, а?! Эк он себя ловко поправил… А чего скрывать: до середины пятидесятых годов Беларусь, да и не только она одна, жила впроголодь. Вы очень ловко вели с ним беседу, великолепно, Владислав Николаевич. Но вы пришли с каким-то предложением?
– Пожалуй, правильнее будет дочитать до конца запись радиобеседы, а потом я изложу соображения…
– Я понял вас, – откликнулся генерал. – Но, увы, если понял вас верно, обрадовать ничем не смогу.
И снова его карандаш начал медленно ползать по строчкам.
«Костенко: Товарищ Пастухов, вы не смогли бы из Неаполя подлететь с вашим альбомом в Москву? На день-два.
Пастухов: С радостью. Если на неделю – того лучше, мы будем в Неаполе стоять под загрузкой дней десять. Только как с билетом? Валюты у меня мал… (он резко оборвал себя, поправился) не слишком много…»
Генерал снова заколыхался в кресле:
– Нет, положительно наш Морфлот умеет работать с кадрами. Я, признаться, поначалу решил, что вы попроситесь в Неаполь, и я был бы вынужден вам отказать, потому что, – подражая Пастухову, – валюты у нас, и у нас мал… то есть вовсе нет. Понятно? Я вещи называю своими именами, хотя разделяю ваше желание полюбоваться Везувием.
– Я уже любовался им.
– Когда?
– Три года назад, туристская поездка.
– Я думаю, мы сможем послать в Рим обменный ордер Аэрофлота. Так что с полетом сюда Пастухова проблем не будет. Но он действительно вам нужен? По-моему, вы получили все, что могли. Альбом возьмет аэрофлотец – от Рима до Неаполя три часа езды, никаких сложностей.
– Вы думаете, Пастухов как свидетель исчерпан?
– Дайте дочитать.
«Костенко: Спасибо. Это будет очень важно, если вы прилетите. Можете спросить разрешение у капитана сразу же?
Пастухов: Капитан рядом, он слышит наш разговор.
Костенко: Вы часто виделись с Аней?
Пастухов: Редко.
Костенко: Сколько раз за последние годы?
Пастухов: У тети, на ее семидесятилетии, в Коканде, потом она ко мне прилетала в Ригу, а до этого в Ленинграде. Когда она защитила диплом, я к ней приехал – хоть один свой человек.
Костенко: Она вам жаловалась на одиночество?
Пастухов: Мы не были так близки…
Костенко: А ее друзей вы знаете?
Пастухов: У нее, мне кажется, не было друзей.
Костенко: Как же так?
Пастухов: Разные люди живут на земле…
Костенко: Вы не обратили внимания: в кафе, после того как она вышла в туалет, ничего в ней не изменилось?
Пастухов: То есть?
Костенко: Ну, может, говорить стала громче или, наоборот, тише, может, попросила вас заказать что-нибудь особое, какое-нибудь марочное вино или шоколадный торт?
Пастухов: Погодите, она и впрямь попросила меня заказать цимлянское.
Костенко: Выпила много?
Пастухов: Глоток, я еще удивился… Зачем было бутылку просить?
Костенко: А больше вы ничему не удивились?
Пастухов: Я сказал, чему я удивился. Потом, после этой ее просьбы, удивляться было нечему: совершенно чужой человек – по духу.
Костенко: Погодите, не надо сплеча. Она обратилась к вам с той просьбой до того, как выходила в туалет, или позже?
Пастухов: Позже.
Костенко: Точно?
Пастухов: Абсолютно. Когда я отрезал, она как-то съежилась и сказала, что, мол, все это ерунда, выбрось из готовы, и попросила цимлянского»…
Генерал заметил:
– Видимо, хахаль сидел не за соседним столиком, а в стороне, бутылка была у них сигналом тревоги.
– Я тоже так считаю.
– Значит, ваша версия о золоте – абсолютна.
– Тем не менее это по-прежнему версия, доказательств пока нет.
– А что Жуков? ОБХСС работает в магаранском «Центроприиске»?
– Там полный порядок, никаких недостач.
– У Петровой могли быть данные, где наиболее активно разведуют новые золотоносные жилы?
– Предположительно – наверняка. Доказательств – никаких.
«Костенко: Она чем-нибудь мотивировала свою просьбу, товарищ Пастухов?
Пастухов: Желанием переехать в Адлер, купить там дом, обзавестись, наконец, семьей.
Костенко: А почему именно в Адлер?
Пастухов: А там живет ее первый мужчина. Она была в него влюблена, а он женился на другой, она это очень тяжело переживала.
Костенко: Фамилии не помните?
Пастухов: Нет. Он работает главбухом в рыбкоопе, это она мне рассказывала.
Костенко: Перед тем как идти в кафе?
Пастухов: Нет, у тети на дне рождения.
Костенко: Имени тоже не помните?
Пастухов: Нет… Леша… Или Леня… Нет, точно не помню…
Костенко: Письма ее у вас есть?
Пастухов: Конечно.
Костенко: Письма тоже захватите.
Пастухов: Хорошо. Если вы сделаете мне полет в Москву, по гроб жизни буду благодарен, девятый месяц в рейсе…»
– Незачем его в Москву тащить, – сказал генерал. – Помяните мое слово, он к вам выйдет на связь, припомнит что-нибудь. Ерунду какую-нибудь припомнит… С Адлером успели связаться?
– Еще нет.
– Поручили бы Тадаве.
– Он на ветеранах и архивах, Дмитрий Павлович.
– Что-нибудь есть?
– Пока – мало.
– А это хорошо. Не люблю, когда в руки плывет информация, значит, потом сработает закон подлости, все оборвется. Ну счастливо вам, Владислав Николаевич, я поехал домой.
– Я тоже.
– Но вы ведь дежурите по управлению! – генерал удивился.
– Меня подменят до двенадцати. Я должен быть на поминках Левона Кочаряна.
– Режиссер?
– Да.
– По-моему, лет десять назад умер?
– Да.
– Помню…
– А я забыть не могу, – усмехнулся Костенко. – Экая ведь разница словесная: «помню» и «не могу забыть».
– В добрый час, поклонитесь его родным… И – не в порядке подстегивания, Владислав Николаевич, – поднавалитесь на дело еще круче: завтра меня вызывает руководство для отчета. Вашим Милинко интересовались уже три раза; я полагаю – писем много идет из Магарана, люди требуют найти ворога, а вы… а мы пока что молчим…
– Как я понял, вы против того, чтобы я сейчас уезжал?
– Вы меня поняли превратно. Считай я так – сказал бы без обиняков.
2
…Собрались у Григора. Костенко сразу же почувствовал умиротворенное спокойствие; оно было грустным, это особое спокойствие, потому что каждый раз, собираясь вспомнить Левона, он видел, как стареет их команда. Ларик почти совсем облысел, главный врач, животик торчит, хотя плечами еще поводит по-бойцовски. Мишаня, сукин сын, глаза отводит, помнит то дело, здорово поседел, рассказывает рыжему Феликсу, как вырос сын: «Шпарит по-французски, картавит, как Серега из комиссионного, слышать не могу, а он говорит, так надо, все, говорит, французы картавят, нас в первом классе, – он у меня в спецшколе имени Поленова, знай наших, – заставляли три урока рычать друг на друга, чтоб “р” изуродовать». Иван что-то худеет, и синяки под глазами, и Санька Быков совсем сдал, сгорбился. «Что ты хочешь, старик, на мне три завода, поди распредели между ними энергию и топливо, головные предприятия, выходы на все отрасли промышленности, мечусь между Госпланом, Совмином, смежными министерствами, раньше еще мог гулять – на работу пешком ходил, а теперь машина, будь она неладна; по улице, бывало, идешь – на людей хоть смотришь, а теперь и в машине таблицы изучаю; Ирина говорит, разлюбил, а у меня, думаю, ранняя импотенция начинается, мне во сне показывают резолюции с отказом на жидкое топливо…»
Женя стал академиком, но такой же, не изменился: черные щелочки-глаза, в них постоянные искорки смеха и скорби, басит так же, как и раньше в институте, когда руководил лекторской группой горкома комсомола.
Кёс тоже поседел – в ЮНЕСКО подсчитали, что меньше всего живут именно режиссеры и летчики-испытатели; дольше всего – как ни странно – политики: действительно, Черчилль, Эйзенхауэр, Мао, де Голль, шведский король – всем было куда как за восемьдесят.
Пришел «Билли Бонс», сейчас советник МИДа, только что из Вашингтона, раньше был курчавый, лучший баскетболист института, с Левоном хорошо в паре играл, сейчас седина, но волосы остались, седина ему идет. Митька Степанов рассказывал, что Симонов однажды признался Роману Кармену: «Я только одному завидую – твоей ранней седине». Он сказал это сразу после войны, а потом сам быстро поседел. И нет уж ни того, ни другого, как-то не укладывается это в сознании.
«А помнишь?» – «А помнишь?» – «А помнишь?»…
Костенко шел сквозь это страшное «А помнишь?», вопрос задавали со смехом; смех был добрым, видимо, люди одного возраста не ощущают старения, видят себя такими, когда только еще познакомились, а было это в августе сорок девятого года, на Ростокинском проезде, у дверей Института востоковедения…
«Впрочем, – подумал Костенко, – все верно, развитие в определенном направлении (“когда с ярмарки”) кажется ужасным лишь тем, кто подписал безоговорочную капитуляцию перед неотвратимостью времени. Мы обязаны постоянно ощущать себя в состоянии того пика, который определял нашу молодость, начало дружбы. Кто-то из наших хорошо сказал: “Бюрократии бюрократов надо противопоставить бюрократию дружбы и единства, только тогда мы их сомнем”».
Мама Левона стала совсем согбенной, тетя Марго еле двигалась, но, как истинные армянки, они обносили ребят бутылками и тарелками с закуской, гладили мальчиков по плечам, слез не вытирали, и слезы, – это всегда потрясало Костенко, когда он встречал старушек, – были слезами счастья за мальчиков, друзей Левончика, такие большие люди, такие хорошие семьи…
– Ты что грустный, Кёс? – спросил Костенко.
Тот лишь махнул рукой; как-то горестно, на себя непохоже, пожал плечами.
– Ну, брат, это не ответ.
– Ответ, Слава, ответ, – вздохнул тот. – Я последнее время все чаще прихожу к мысли, что настало время возвращаться к немому кино: никаких проблем, двигайся себе, одно наслаждение, никаких слов, «догадайся, мол, сама», одни титры, и тапер лабает от души.
– Я читал твое интервью… Действительно собираешься снимать политический детектив?
Кёс усмехнулся, повторил с раздраженной, издевательской прямо-таки интонацией:
– «Я собираюсь!» Слава, родной, ты себе не представляешь, как я устал! А в искусстве нет усталости, понимаешь?! Ее не имеет права быть! Когда начинается усталость – тогда нет творчества, тогда суррогат, прозябание, тогда, милый, ремесло, но в плохом смысле этого слова…
– Не отдыхал в этом году?
– Да мне и отдых не в отдых… Ты себе не представляешь, как трудно стало делать фильмы моего жанра, особенно если они за советскую власть…
– Это как же?!
– Это очень просто, дорогой: это слетаются редакторы и айда цеплять каждую фразу: «Тут слишком резко, а здесь надо проконсультироваться, а тут – смягчите». А мне не терпится пробовать актеров, работать с композитором, сидеть у художника над его эскизами! А приходится потеть в творческом объединении и каждую страницу смотреть на свет: «Франция обидится, а тут ФРГ не троньте, а здесь слишком резко о президенте, ну а к чему такой удар по Мао, можно и аккуратней!» – «Но я ж делаю кино, а не выступаю в ООН!» – «Ваше искусство – политического звучания!» – «А разве “Черное золото” Алексея Толстого не “политическое звучание”?! А он там по Швеции бабахает, а она – нейтральна! Неужто и ему руки ломали?!» – «То было другое время». – «Нет, было это же время – советское!» – «Мы имеем в виду средства массовой информации – и большого экрана не было тогда, и про телевизор никто еще не знал!» Ну что ответишь?! И при этом все глаза поднимают: мол, есть мнение наверху! А нет такого мнения наверху! Есть трусость тех, кто внизу! Есть некомпетентность, а отсюда – страх за принятие решения. Ей-богу, надо брать сценарий про то, как Ваня любит Маню и как они вместе на рассвете по лесу гуляют, рассуждая о разных разностях, никак не связанных с реальными заботами наших дней. И обязательно чтоб название было каким-нибудь травяным – «Горицвет», «Переползи-трава», «Осока»… Тогда никаких проблем – сразу запускают, расхваливают, а фильм потом просмотрят десять человек, но и это никого не интересует – главное, чтоб было все приличненько и спокойно, главное, чтоб острых проблем не трогать! Вот и выходит: «Правда» печатает прекрасную статью или «Комсомолка» – бери, ставь в кино, ан не тут-то было: «Что можно газете, то не надо в кино и на телевидении!» Ты заметь, как сейчас кино уходит в спасительную классику да в исторические сюжеты – современности бегут, как черт ладана…
– Но это ж дико, Кёс.
– Вот потому я и грустный.
– Так драться надо! У вас же пленумы проходят, собираются все киношники, бабахни от всего сердца…
– Бабахал. Ну и что? Со мною все согласны, аплодируют. А как уходит вопрос на низ, так все и вязнет… Демократия… Перепроизводство режиссеров к тому же; планово, то есть ежегодно, должен быть выпуск в Институте кинематографии, и всех обученных режиссуре надо пристроить, каждому дать работу – право на труд! А почему ежегодно? Ну почему?! Неужели таланты планируемы?! Это ведь не бритвы и не прокат, это – таланты! Спущено десять мест для талантов – изволь их заполнить!
– А может, лучше все-таки перепроизвести, чем недопроизвести, Кёс?
Тот махнул рукой:
– Может быть…
– А ты чего обижаешься? – Костенко рассердился. – Ты в драке, тут обижаться не положено, надо уметь за себя стоять!
– Искусство – не драка, Славик. В принципе оно – высшее счастье.
– А по-моему, истинное искусство – всегда драка, всегда преодоление…
– Сколько можно? – устало спросил Кёс.
– Столько, сколько нужно.
– В тебе редактор заложен, Славик, у тебя внезапно металл в голосе появляется.
– Какой я редактор, Кёс?! Я – сыщик, у меня, кстати, своих забот полон рот, тоже, знаешь ли, до «полного благоприятствия» куда как далеко, и с прокуратурой приходится биться, и от судейских достается… Однако я считаю все это симптомом прекрасным, демократическое развитие предполагает сшибку мнений, учимся спорить, учимся биться за позицию, ничего не попишешь, Кёс…
Внезапно в глазах Кёса появилось что-то живое, яростное, прежнее.
– Хм, эка ты вывернул, – задумчиво сказал он. – Ты хочешь упрятать все мои боли в концепцию демократического развития? Ловок, ничего не скажешь! Но – любопытно! Черт, я сразу подумал – как бы эту твою сентенцию в сценарий воткнуть, и сразу же увидел лица ворогов: «Да, интересно, но не бесспорно, слишком общо, а потому бездоказательно…»
– Опять-таки прекрасно, ты и их слова всунь в сценарий. Ты вообще, что ль, против редакторов? «Уничтожить как класс»?
– Отнюдь. Я с радостью взял бы тебя в редакторы. Вообще-то, в идеале, редактор – это такой человек, который более тебя знает, более образован, более смел; Фурманов, Боровский – одним словом, комиссар. Но ведь мы и редакторов планируем в Институте кино, Слава! Нужен ли, не нужен ли – есть план, выдай вал!
– Неужели все до единого – бесы?
Кёс ответил:
– В том-то и беда – нет. Но надоедает каждый раз стучаться в дверь начальства… Занятые, большие люди, все понимают, решают вопросы сразу же. «Я не могу взять в толк, отчего это дело не решалось ранее, нормальным путем, как и положено».
– Но ты обязан допустить мысль, что твои противники совершенно искренне придерживаются иной точки зрения, Кёс. Ты ж их, верно, и не слушаешь – с высоты своего киновеличия. Ты ж в классиках, Кёс. А люди хотят высказать свою точку зрения, отчего б не выслушать?
Кёс мотнул головой:
– «Вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!» Помнишь Маяковского? То-то и оно.
Кёс погладил Костенко по плечу, отошел к Эрику Абрамову и Юре Холодову, тот, щурясь, словно в глаза ему светили прожектором, рассказывал о конгрессе парапсихологов в Нью-Йорке – его там избрали в правление. «Звезда», как-никак, светоч!
Костенко не удержался, протиснулся к Кёсу, шепнул:
– Ты послушай его, Кёс, послушай и вспомни, как все мы бились, чтоб ему помочь, когда его травили наши научные ретрограды. И он выстоял. Умел драться за свое, сиречь за наше…
Кёс ответил – раздраженным шепотом:
– Значит, я – дерьмо, не умею драться. Или устал, выработался, пустая шахта… Директоры картин гоняют меня по кабинетам: «Надо выбить деньги, еще, еще, еще!» Я спросил одного из них: «Вы требуете, чтобы я получил для производства нашего фильма пятьсот тысяч вместо трехсот, а сколько надо по-настоящему?» Он ответил: «Двести. Только при условии, что коллективу будут верить. Из этих двухсот еще и на премию каждому осветителю и шоферу останется, такую, что они будут и сверхурочно работать, коли надо для дела…»
…Митька Степанов пришел не один, а с ученым из Берлина, доктором Паулем Велером.
– Знакомься, Славик, он – твой коллега, историк криминалистики, занимается нацистами, теми, кто смог скрыться от суда, так что валяй, обменивайся опытом.
Велер и Костенко отошли к окну, выпили, Пауль хотел чокнуться.
– Нельзя, – сказал Костенко, – у нас, когда поминают друга, не чокаются, обычай такой…
– Хорошо, что вы мне сказали, я думал подойти к маме…
– Она бы чокнулась, – вздохнул Костенко. – Гостю из-за рубежа все простят, особенно в кавказском доме.
Когда Степанов подошел, наконец, к Григору, – Костенко сразу же заметил это, – тот спросил:
– Как звезда появляешься – последним? Быть знаменитым – некрасиво, не это поднимает ввысь…
– Мы с другом ехали с дачи, Гриша, не сердись, не кори Пастернаком.
Григор напружинился, поднял кулаки к плечам; Костенко понял: тот будет читать стихи, не ошибся.
Он помолчал, потом повернулся к Степанову и закончил стихи вопросом:
– А, Митя?
Костенко подумал, что на месте Митьки он бы обиделся; тот и обиделся, потому что долго не отвечал Григору. Потом обернулся к маме Левона и тете Марго:
– Левон как-то приехал ко мне на дачу. Мы с ним здорово гудели, потом, помню, Эдик Шим пришел, Жора Семенов приехал, Григор… Давно это было, так давно, что кажется, никогда и не было. А утром меня разбудил звонок, часов шесть было… Звонил Кармен. «Слушай, – сказал он, – ты читал роман Сименона “Тюрьма”?» Я не читал. Тогда Кармен сказал, чтобы я сейчас же пришел к нему, взял «Иностранную литературу» и прочитал, отложив все дела. Я прочитал, – слово Кармена было для меня законом, – позвонил ему и сказал, что это замечательная повесть, а он тогда усмехнулся: «Знаешь, оказывается, Хемингуэй, перед тем как уйти, вымазал руки ружейным маслом, чтобы никто из прокурорских не мучил Мэри вопросами; несчастный случай, и все тут». Я написал коротенькую рецензию на эту повесть Сименона. Левон тогда сказал: «Можно печатать». А Левон был требовательным человеком и хорошим другом, он бы никогда не сказал неправды. Я эту рифмованную рецензию нашел случайно, когда мы с Паулем работали на даче…
– Давай, старичок, – сказал Григор, – я с любопытством отношусь к рифмам прозаиков…
Степанов, покашливая от смущения, начал читать:
Нам нет нужды смотреть назад, Мы слуги времени; ##################Пространство, Как возраст и как окаянство, «Прощай, старик», нам говорят… Все раньше по утрам весной Мы просыпаемся. ##################Не плачем. По-прежнему с тобой судачим О женщинах, о неудачах И как силен теперь разбой. Но погоди, хоть чуда нет, Однако истинность науки Нам позволяет наши руки Не мазать маслом. ##################И дуплет, Которым кончится дорога, Возможно оттянуть немного, Хотя бы на семнадцать лет…Степанов закурил, заметил:
– Я ошибся на два года, Кармен прожил пятнадцать…
Тетя Марго поцеловала Митьку, что-то шепнула ему на ухо, он погладил ее по щеке, погладил жестом пожилого мужчины, который гладит женщину-друга, а не тетю Левона, у которой в маленькой комнатке за кухней они отсыпались после процессов в «Авроре», сейчас этот ресторан называют «Будапешт». «Но для нашего поколения, – думал Костенко, – он всегда будет “Авророй”, как и навсегда в наших сердцах останется единственный в те годы танцзал “Спорт” на Ленинградском проспекте, потом, правда, открыли в гостинице “Москва”, работал до двух ночи, дрались, как петухи, стыдно, полковник, стыдно. А вот только представить себе, – думал Костенко, – что Митьку, или Кёса, или Бонса, или Эрика Абрамова в те далекие, крутые времена взяли бы за мальчишескую нелепую драку и составили бы в “полтиннике” – так называли центральное отделение милиции, нет его, слава богу, теперь – протокол, и передали бы дело в суд, и вкатили бы два года за “хулиганство”. А какое ж то было хулиганство? И не было бы у страны ни писателя, ни прекрасного режиссера, ни дипломата. Как же надо быть аккуратными людям моей профессии, какими же мудрыми хозяевами нашего богатства должны мы быть. Сколько же надо нам выдержки, ведь талант принадлежит всем, а решает его судьбу подчас дежурный лейтенант в отделении милиции; как составит протокол – так и покатится наутро дело…»
– Мне Митя сказал, что вы сейчас заняты каким-то очень интересным делом, – сказал Пауль. – Пока еще рано говорить или?..
Костенко заметил:
– Так у нас раньше в Одессе говорили: «Пойдем или?» Я постоянно недоумеваю, отчего вы, немцы, тоже так часто кончаете фразу словом «одер». На русский это переводится как «или», да? Вы словно бы даете собеседнику лишний шанс на ответ…
– Знаете немецкий?
– Со словарем, – ответил Костенко. – Есть у нас такая хитрая формулировка при заполнении анкеты. Если человек знает два немецких слова: «Берлин» и «унд», он пишет – «читаю со словарем».
Пауль рассмеялся:
– Мы еще до такого вопроса в анкете не додумались…
Костенко закурил, заново оглядел нового знакомца, ответил задумчиво:
– Преступление, которое мы сейчас пытаемся раскрутить, довольно необычно… Между прочим, началось оно, как мне кажется, в сорок пятом, под Бреслау…
– Под Вроцлавом, – поправил его Пауль. – Надо говорить – Вроцлав, это правильно, Владислав.
Костенко спросил:
– Говорите по-польски?
– Говорю. Как определили?
– По тому, как вы меня назвали – «Владислав».
– А как надо?
– По-русски говорят с ударением на последнем слоге, по-польски – на предпоследнем.
Подошел Степанов, взял под руки Костенко и Пауля, повел их к столу:
– Ребята, Леон завещал выпить рюмку, когда соберемся его вспомнить – подчиняйтесь Левушке…
– Я уехал с дежурства, – ответил Костенко.
– Так у тебя ж заместитель есть, – сказал Степанов, – пусть подежурит, молодой, кандидат наук, да еще зовется Ревазом.
– От него как от козла молока. Теоретик.
– Уволь, – предложил Степанов.
– Произвол, – вздохнул Костенко. – Нельзя, Митя. Слава богу, что нельзя. Ладно, пока, друзья! Мне еще и домой надо заехать, я Маню с Иришкой не видел неделю…
– Когда в гости позовешь?
– Когда супостата поймаю.
– А поймаешь? – спросил Степанов.
– Попробуй – не поймай, – ответил Костенко и, не прощаясь, пошел к выходу.
3
Тадава отошел от стола в четыре утра, когда уже было светло и летел над Москвой первый тополиный пух. «Тополиный пух над Семеновской, ты одна идешь, как в пуху плывешь», – вспомнились отчего-то слова из песни Валеры Куплевахского. Майор отложил ручку, долго растирал глаза (аж зеленые круги пошли), потянулся было к телефону, чтобы звонить Костенко, но потом ощутил тишину рассвета, усмехнулся чему-то и начал снова перечитывать написанные им страницы.
…«В материалах, оставшихся после смерти начальника разведки фронта генерала Ильи Ивановича Виноградова, есть такая запись: “Сегодня допрашивали солдата из третьей роты 76-го стрелкового батальона. Солдат отказался назвать свое имя, говорил на плохом немецком: “Их бин Фриц Вальтер, их бин дейче”. Присутствовавший при допросе майор Журбин из седьмого отдела спросил по-немецки пленного, откуда он родом, кто его родители. Пленный молчал, ответить не мог. При медицинском освидетельствовании на правой руке была обнаружена татуировка: “Прощайте, кореши, ушел в мир блатных!” После истерики пленный признался, что является власовцем, прошел подготовку в диверсионной школе абвера, был передислоцирован из Праги в Бреслау вместе со своей частью”.
Майор Журбин в настоящее время является пенсионером, после демобилизации он работал преподавателем немецкой литературы в Ростовском университете.
“Этот эпизод, – рассказал он мне во время встречи, – не единичный, хотя большинство власовцев отрицали свое участие в движении изменника Родины, клялись, что их насильно одели в форму и под угрозой расстрела вывели в бой. Конкретного имени ни того пленного, о котором вы спрашиваете, ни других имен я не помню, записей в то время не вел, так как обстановка была крайне напряженной. Однако, по-моему, Прохор Львович Васильев, профессор биологии в Донецке, бывший моим помощником во время боев в Бреслау, вел дневники”.
“Да, в Бреслау, – показал т. Васильев, – стояли отборные части власовцев, прошедшие диверсионную подготовку, неоднократно забрасывавшиеся в СССР для выполнения заданий абвера. На ваш вопрос о попытках нелегального перехода линии фронта участниками власовских банд могу ответить следующее: насколько мне помнится, была схвачена группа из трех человек – они шли именно на восток. На допросе власовцы показали, что надеялись пробраться в наш тыл; в вещмешках у них была советская военная форма со следами крови. Пленные категорически утверждали, что сняли форму с убитых – во время уличных боев – солдат Красной Армии. Ни одной формы, относящейся к роду войск морской пехоты, – могу утверждать, – не было, ибо морские пехотинцы были приданы разведке, базировались в тылу, примерно в двадцати километрах от линии фронта, и лишь к моменту боевого задания выводились на передовую”.
Ветераны войны Ян Круминш и Рахмет Хашидов, участвовавшие в боях за Бреслау, отметили, в частности, что среди пленных власовцев были особые, “звери”, те, которых выпустили из немецких тюрем за мелкие кражи, насилие и хулиганство и бросили на передовую, развязав им руки на любые действия. Часть людей из этого контингента прошла подготовку в спецшколах диверсантов “Люфтваффе”».
«Таким образом, – заключал Тадава свою справку, – основываясь на документах, полученных в военно-историческом архиве, а также на показаниях ветеранов войны тт. Проховщикова, Аверочкина, Мусабяна, Лидова, Дырченко, Глоцера, Ивлиева, Струмиласа и Залиханова, следует считать доказанным, что оборону домов в районе восточной окраины Бреслау держали соединения власовцев, укомплектованные как бывшими уголовными элементами, так и участниками особых диверсионных групп, приданных отделу “Армии Востока” генерала Гелена, прошедших специальную подготовку для того, чтобы расстрелами, грабежами и насилием вызывать панику в тыловых районах СССР.
Поэтому – в оперативно-разыскном плане – необходимо выявить те архивы, в которых могут храниться материалы на власовцев, связанных со службой Гелена: там могут быть личные дела, автобиографии и фото человека, присвоившего себе документы погибшего Милинко, который, предположительно, и совершил тяжкие преступления в Магаране и районе озера Рица».
…Костенко прочитал записку Тадавы, отложил, на лице проглянула досада, но он заставил себя досаду скрыть, заметив:
– Материал интересен. Однако он не имеет прямого отношения к делу, майор. Я полагал, вы пойдете несколько по иному пути…
– То есть? По какому именно? Я готов внести коррективу.
Костенко закурил, помолчал, потом поднялся, отошел к окну:
– Впрочем, я сказал не то… Я неправ… Да здравствует самокритика! Я вообще не знаю, по какому пути надо идти. Но ваша записка подтолкнула меня к мысли – следовательно, вы не зря поработали. Я полагаю, что теперь, на основании собранного вами материала, мы действительно вправе выдвинуть версию, что преступник, убивший Григория Милинко, мог быть власовцем, для которого внедрение не представляло непреодолимого труда. Поэтому стоит поднять архивы тех тыловых служб, военторгов, санбатов, которые базировались в радиусе примерно сорока километров к востоку от Бреслау.
– Я занимаюсь этим…
– Хорошо. В письме Милинко, которое вы разыскали, в показаниях, которые дала мама покойного морячка и Серафима Николаевна, содержится информация: после легкого ранения и получения ордена моряку был предоставлен отпуск в деревню. Так?
– Так.
– Следовательно, где-то могут храниться документы о получении Милинко аттестата, продуктов на дорогу, проездного литера…
– То есть вы полагаете, что, подняв эти архивы, мы, во-первых, высчитаем день, когда он выписался из госпиталя и получил литер; во-вторых, объявим в розыск тех людей, которые его выписывали, снабжали аттестатом, продуктами, проездными документами; и, наконец, в-третьих, постараемся получить информацию, на чем он поехал в тыл?
– Это раз. А еще может быть чудо…
– Какое?
– А вдруг не один преступник, а группа власовцев напала на машину тех, кто выписался из госпиталя? И может быть, не все наши погибли? Может, остался свидетель, который помнит лица бандитов?
– Не допускаю возможности такого рода чуда, – жестко ответил Тадава. – Не сходится с материалами, нами собранными (слово «нами» он нажал), ибо Григорий Милинко отправлялся в отпуск не из госпиталя, а после возвращения в свою часть. Вы, вероятно, не обратили внимания на строчку из письма Игоря Северцева: «Он торопится»…
Костенко пролистал дело, нашел письмо, пожал плечами:
– Вы побили меня. Предложение снимаю.
– А я считаю, что снимать ваше предложение нельзя. Если мы (он снова нажал), тщательно изучив архивы военторгов, служб тыла, получим дату выписки Милинко из госпиталя, его возвращения в часть и отъезда в отпуск, соотнесем это с ритмом сражения за Бреслау, могут открыться какие-то новые, неожиданные аспекты поиска.
«МВД СССР, УГРО, Костенко. Заведующая обувным отделом универмага № 3 Закурдуева Надежда Романовна сообщила, что в конце октября передала Петровой черные полусапожки иркутской обувной фабрики. Та подарила ей банку красной икры и два килограмма мяса – в знак признательности за услугу. В тот же день Петрова сделала заказ на летние босоножки, желательно красного цвета, типа “танкетки”, однако за ними не пришла, поскольку поступили эти туфли на базу лишь в конце ноября. Из пассажиров, выявленных нами, летевших одним рейсом с Петровой и Милинко в Москву, никто не мог вспомнить чего-либо существенного. Крабовский позвонил в Угро, спрашивал вас, просил передать, что веревка была промазана салом, узел был завязан “парашютно” и был, по его словам, разработан немецкими десантникам из абвера, высаживавшимися в Норвегию и на Крит в 1941 году. Майор Жуков».
Костенко прочитал телеграмму дважды, молча протянул ее Тадаве, резко поднялся с кресла, походил по кабинету, снял трубку телефона, присел – по старой своей привычке – на краешек стола, набрал номер:
– Митя, ты еще не улетел?
– Улетел, а что? – хмыкнул Степанов.
– Слушай, а где этот доктор?
– Пауль?
– Да.
– На аэродроме.
– Ты с ума сошел! Когда у него самолет?
– А что случилось?
– Мне необходимо его увидеть.
– Бери машину и жарь, успеешь, там в буфете «посошок» будет.
– А ты?
– Я с ним так напровожался в Доме литераторов, что к машине подойти страшно.
Пауль, окруженный добрым десятком коллег, восседал во главе стола; глаза его – за толстыми стеклами очков – блестели счастливо, хотя лицо было таким же, как и позавчера, на поминках Левона, бледным, чуть даже синюшным.
Костенко он узнал сразу же, налил ему шампанское, протянул:
– На дружбу!
Костенко шампанское выпил, не садясь, наклонился к Велеру:
– Пауль, у меня к вам пятиминутный, но очень важный разговор.
– Пожалуйста, – ответил тот, – с радостью помогу, если только по моей части.
– По вашей, – сказал Костенко и, взяв Велера под руку, отвел в сторону под явно неодобрительными взглядами советских коллег доктора.
– Что-нибудь случилось? – спросил Велер.
– Случилась Мысль, – ответил Костенко чуть усмешливо.
– Не понял?
– Я подумал вот о чем: могут быть в ваших архивах документы на власовцев – тех, кто дрался вместе с гитлеровцами в Бреслау?
– Во Вроцлаве, – снова поправил его Пауль, но потом, на мгновение задумавшись, поправил себя: – Хотя по отношению к тому моменту мы вправе сказать Бреслау… Думаю, что такие архивы могут быть.
– Следующий вопрос. Часть власовцев состояла из уголовников – как тех, кого судили за бандитизм у нас, так и некоторого количества головорезов, арестованных криминальной полицией рейха за пьяные драки в общественных местах… Такого рода уголовные дела – с отпечатками пальцев и показаниями обвиняемых – уничтожались гитлеровцами, когда этих гадов отправляли на фронт, или нет?
– У гитлеровцев ни одна бумажка не уничтожалась, – с уверенностью ответил Пауль. – Ни одна.
– Пауль, – Костенко достал из кармана конверт. – Здесь один лишь палец. Один отпечаток. Других у меня нет. Речь идет о кровавом преступнике. О волке. Знаете, как волк режет стадо? Он слепо бежит сквозь, разрывая горло всех, кто стоит на пути, всех без разбора, а берет себе в добычу лишь одну тушу. Этот человек – волк, страшнее даже, – повторил Костенко. – Вы можете посмотреть такого рода дела? На уголовников? Или надо обращаться официально?
– Само собой разумеется («зельбферштендлих» – первое слово Пауль произнес по-немецки), было бы лучше официальное обращение, мы немножечко бюрократы в этом смысле…
– Ну, мы бюрократы во всех смыслах, – усмехнулся Костенко, – нас не переплюнешь, однако я приехал к вам, не согласовывая это с моими начальниками. Каждый день дорог, Пауль, речь идет о преступлении, вернее, о нескольких зловещих преступлениях. И еще: может быть, вы сможете посмотреть в архивах абвера – не случилось ли в их специальных командах разрабатывать особые узлы…
– Узлы? Что такое узлы?
– Узел – это когда завязывают веревку. Есть морской узел, есть альпинистский, есть парашютный, есть диверсантский, есть туристский.
– Да, знаю, – ответил Пауль. – Я понимаю, это очень важно, я, конечно, сразу же займусь этим… Но как передать? Вы сможете приехать ко мне?
Костенко вздохнул:
– А вы?
– С удовольствием, только пришлите вызов…
– И билет оплатим, – обрадованно ответил Костенко. – Но если что-нибудь появится особо интересное – срочно звоните мне, вот моя карточка.
Пауль внимательно прочитал карточку, удивился:
– Полковник, кандидат юриспруденции… Почему мне не сказали, что вы такой большой начальник, я бы держал с вами язык за зубами, а то ведь бранился.
– Брань – визитная карточка честного человека, который болеет за дело, дорогой товарищ… И дайте-ка мне ваш телефон, от нас звонить дешевле, не хочу вас вводить в раззор.
– Считаете, что немец – скупердяй?! – рассмеялся Пауль, протягивая Костенко свою карточку.
– Считаю, что немец расчетлив, и мне это в нем очень нравится: никаких иллюзий, все оговорено заранее, нет помех для дружбы.
Пауль позвонил Костенко назавтра, ночью, домой.
– Владислав, записывайте имя… Но вообще вам надо прилететь сюда… Палец принадлежит Николаю Ивановичу Кротову, уроженцу Адлера; адрес – Горная, 5. Отца зовут Иван Ильич, мать Аполлинария Евдокимовна, урожденная Нарциссова. До ареста криминальной полицией был приписан к воинскому подразделению 57/7. Это шифр одной из спецгрупп абвера.
4
В Адлере шел дождь; Северный Кавказ – это тебе не Сухуми, хотя, казалось бы, всего четыреста верст разницы.
«Километров, – машинально поправил себя Костенко. – “Верста” – больше, хотя, бесспорно, слово значительно эстетичнее, чем “километр”, и никто меня не упрекнет за это в лапотничестве. “Верста” – поэтика, Пушкин в углу телеги, укутанный медвежьей полостью, столбы полосатые, снег, не присыпанный черной гадостью, бесшумно изрыгиваемой высокими трубами…»
Капитан Месроп Сандумян, встретивший Костенко, – в форме, с двумя медалями на груди, – вытянулся, начал было почтительно рапортовать, но Костенко остановил его:
– В машине, товарищ, в машине, здесь не надо.
Пассажиры у трапа недоуменно смотрели на штатского, перед которым тянулся капитан, а Костенко этого страсть как не любил, намерился было Сандумяна отчитать, но одернул себя, подумав, что парень хотел как лучше, горец, у него свои представления о встрече начальства, ничего не попишешь, не надо все и всех строгать под один столб; горцы встречают с помпой, а у нас, наоборот, встреча – сдержанна, люди неторопливо прикидывают: кто пожаловал, как смотрит, во что одет, хмур – весел, бел – черен; зато провожают – если пришелся по душе – от чистого сердца, так уж напровожаются, что память останется надолго.
– Вы не сердитесь, – еще мягче, в машине уже, сказал Костенко, – у меня, видите ли, идиосинкразия к рапортам, хотя под погонами живу четверть века и превыше всего на земле ценю нашу с вами военную касту…
Сандумян удивился:
– Но ведь каста – плохо, товарищ полковник.
– Меня зовут Владислав Николаевич… Каста плохо, если она замкнута. Наша с вами каста открыта; впрочем, вы, видимо, правы, слово я выбрал не совсем удачное. Англичане нашли более точное – «клуб». Ничего, а? «Мы – члены одного клуба». Очень, по-моему, достойно звучит… Ну рассказывайте, что у вас нового было за время моего полета?
– Доклады… Итак, товар… Словом, Владислав Николаевич, Горной улицы у нас более не существует, снесли ее по генплану реконструкции побережья, там теперь строят два санатория. Отец Кротова, в прошлом учитель черчения, умер в шестьдесят первом году, мать – в шестьдесят втором. Их сын числится пропавшим без вести с осени сорок первого. В сорок четвертом году они взяли из приюта ленинградскую сиротку, дали ей свою фамилию, вырастили, зовут Галина Ивановна Кротова, медицинская сестра в Ессентуках, имеет трех детей, муж работает агрономом, отзывы о семье положительные. Алексей Кириллович Львов, выпускник института народного хозяйства, сокурсник Анны Петровой, о котором показал родственник Петровой, штурман дальнего плавания, действительно работал главным бухгалтером в нашем рыболовецком кооперативе, но уже как три года перебрался в Краснодар, возглавляет там плановый отдел на мясокомбинате…
– Очень хорошо. А однокашников Николая Кротова нашли?
– Ищем.
– Может быть, живы учителя? Иные старушки, божьи одуванчики, всех своих питомцев помнят, святые люди, особенно в маленьких городках…
– Поищем.
– Ничего больше не удалось установить в тех сберкассах, где получали деньги Минчаковы?
– По тем фото, которые я предъявлял, – ничего не удалось.
– В гостиницах, конечно, они не останавливались?
– Нет. Проверено досконально.
– Снимали, видимо, квартиру?
– Наверняка… Так что установить трудно, вряд ли они в курбюро обращались… Я в прошлом году в Болгарии был, по путевке, как же они умно все организовали со сдачей помещений! Кому угодно сдают, даже иностранцу, причем это поощряется, люди поэтому ничего не таят, закон не нарушают, деньги государству рекой льются, да и крестьяне какие дома строят на побережье?! Виллы, настоящие виллы! И не буржую ведь принадлежат, а такому же, как у нас, работяге…
– Хорошо думаете, Месроп, – откликнулся Костенко. – Только я зря с вами еду в город. Давайте-ка разворачивайтесь, слетаю, пожалуй, в Краснодар, к этому Львову, а вы пока тут поищите. Договорились?
– Так надо ж выяснить, когда идет самолет на Краснодар!
– Ничего. Управлюсь. Ставрополье нам тоже интересно, все-таки приемная дочь Кротовых… Куда-нибудь да попаду… А из аэропорта позвоним, чтобы меня на месте встретили, ладно? Завтра днем я вернусь.
5
– Сложный это вопрос, товарищ Костенко, – ответил Львов, – очень сложный.
Они шли по улице; листва была изумрудной, до того красивой, праздничной, что разговор, тема его, казался Костенко противоестественным, не укладывающимся в то спокойствие, которое окружало их.
…Львова он нашел в его комнатке, на заводе, представился; тот позвонил директору, извинился – слишком уж как-то мягко, заискивающе, что ли, и пригласил Костенко к себе: «Там и поговорим, жена на работе, так что воспоминания не будут ее травмировать».
Костенко молчал, Львова не торопил, ждал, как тот будет себя вести: никак ему в беседе не помогал, не подсказывал тему, а человек без подсказки – особый человек, сразу заметны его личностные качества, особенно если застали врасплох и затронули вопрос глубоко затаенный.
– Понимаете, – несколько растерянно, то и дело поглядывая на Костенко, продолжал Львов, – Аня была моей первой любовью, поэтому я помню все, до самой последней мелочи… Спрашивайте, что вас интересует, я отвечу…
– Меня как раз интересует все, Алексей Кириллович.
– Я врасплох застигнут, столь неожиданно ваше посещение… Особенно после того, как мы с Анной лицом к лицу столкнулись в Сочи… Я был с женою, та сразу что-то поняла: «Отчего ты побледнел?» А у меня сердце в горле застряло, не знал, что и ответить… Мы ведь – в отличие от женщин – лжем неумело.
– Вы увидели Аню в ноябре?
– Ну да, в первых числах… – Львов вдруг остановился. – А откуда вы знаете? И вообще, отчего вы заинтересовались ею?
– Она давно не пишет писем тетушке, та волнуется, все ж племянница, обратилась к нам…
– Ах, тетушка, – успокоенно вздохнул Львов. – Очень милая старушка…
– Вы у нее бывали?
– Нет. Аннушка мне иногда позволяла читать ее письма; в письмах человек особенно открывается – даже если и хочет что-то скрыть.
– Верно, – лениво согласился Костенко и, прикрыв зевоту ладошкой, спросил: – Вы встретили Аню вместе с Гришей?
– Я не знаю, как его зовут; совершенно отвратительный тип, постоянное желание казаться интеллигентным, а на самом деле внутренняя железная скованность, чуждая интеллигентным, то есть по-настоящему воспитанным людям… Когда Аня отшатнулась, увидав меня, у него мгновенно изменилось лицо, закаменело, сделалось маской…
– И вы даже с нею не поздоровались?
– Она с этим самым Гришей, я со своей мадам – куда уж тут здороваться… А потом со своей-то знаете как вертелся? «Похожа на мою покойную сестру, особенно анфас»… Подкаблучники мы все, поэтому дети такими растут…
– Какими?
– А в грош отцов не ставят.
– Наверное, все же в этом вина не детей, а отцов…
– Прикажете разводиться? Как началось: «родная да родная», так ведь и продолжается, вернее, требуют, чтоб так продолжалось, а годы вносят коррективы, но с этим женщины считаться не намерены… Я раньше думал, что только Аннушка была железного норова: «Как я сказала – так и будет»… Ерунда, все одинаковы… Моя поначалу тоже пела соловьем: «Мужчине нужна свобода, мужчина – хозяин», а как поженились – попробуй опоздай с работы на полчаса! Поди к друзьям один соберись?! Поди не додай десятку из зарплаты! Сразу сцены, крики, валокордин…
– Разводиться надо, если не смогли поставить себя.
– А дети?
– Думаете, им в таком семейном аду лучше?
– Все-таки отец рядом.
– Смотря какой… Если отец боится, – даже мамы, но все равно боится, – дети его в грош ставить не будут; крушение идеала, а сие чревато… Во что была одета Аня?
– Отчетливо помню, до мелочей… Вы очень жестоко сейчас сказали… Да, да, очень жестоко… И я бы даже прервал разговор. Но вы сказали правду, что делать… Вы спрашиваете, как одета? Она очень хорошо выглядела – ей шли очки, я не думал, что очки могут так красить лицо… Короткая стрижка открывала шею, у нее очень красивая шея, тонкая, гордая…
– Простите, мой вопрос покажется вам бестактным… Еще раз простите, но я обязан вам его задать: у нее на теле были какие-то родинки, родимые пятна?
– Да, звездочка… А почему вы… Ее… Она… Погодите, Аня погибла?!
– Нет… Мы не знаем, Алексей Кириллович, но мы проводим осмотр… трупов всех женщин, которых удалось найти… Сейчас началось таяние снегов – не здесь, конечно, а на севере, в горах; мы нашли три трупа, поэтому я вас и спрашиваю…
– Бог ты мой, Анька, Аннушка…
Львов оглянулся, пошел к скамейке, сел; Костенко опустился рядом.
– Конечно же, я все помню, – повторил Львов. – У нее было родимое пятно – как звездочка… Вот здесь, – он показал на левую грудь…
«Она, – понял Костенко. – Все точно, эксперты эту родинку отметили. Только они иначе это отметили: “На кожном покрове в семи сантиметрах от соска левой груди – эпидермальный знак, формой похож на неровную звезду”. А он сказал: “звездочка”».
– Аня была в босоножках? – спросил Костенко.
– Нет, нет, она носила открытую обувь только в самые жаркие дни, она почти всегда куталась. Она была в полусапожках, очень красиво сидели на ноге, в черной кофточке с красным узором, она вообще красиво одевалась, даже в ту пору, когда мы жили на стипендию…
– Отчего вы расстались?
– Надо рассказать?
– Надо.
Львов долго молчал, потом вздохнул горестно:
– Я отношусь к тому типу двуногих, которых можно ударить – они простят. Особенно если пьяный ударил – тем я прощаю все; алкоголизм – социальная болезнь, здесь нам надо все как-то иначе анализировать, с другими мерками подходить… Ну да ладно, это я отвлекся… Понимаете, меня более всего обижает слово… Наверное, потому, что я из старых русских, самых настоящих русских – дед крестьянин, отец священник, для них, как и для меня, слово – начало всего и всему конец… Так вот однажды Аннушка мне сказала… Очень как-то безжалостно… Она была на характер весьма крутой, бескомпромиссной… И она мне сказала: «Ты – не мужик!» Понимаете? Я и у врача был, советовался, и с друзьями, краснея, этот вопрос обсуждал, расспрашивал женатиков, а потом ей сказал: «Ты не права, у меня все в порядке». Она даже не поняла сначала, а потом, когда я объяснил, долго смеялась. Обняла меня, поцеловала и говорит: «Я не то имела в виду. Не только то. Какой-то ты матрац, а не мужик. Другие зубами умеют вырвать свое, а ты молчишь, ждешь, потеешь». А я действительно потею… постоянно потею. Дефект с рождения… Понимаете? Обидно?
– Очень.
– Вы бы могли хотеть близости с женщиной, которая вам это сказала?
– Я бы стал импотентом после таких слов.
– Значит, вы меня понимаете… Мужчина всегда должен себя чувствовать защитником женщины, ощущать свою силу подле нее, а когда ему говорят… Словом, я написал ей записку и уехал… Мне рассказывали, что она хотела покончить с собою, приняла снотворное, еле откачали, а потом, когда вернулась к нашей хозяйке – мы снимали угол на Васильевском, – она якобы сказала: «Слава богу, что это кончилось, не начавшись. Мужчина должен быть добытчиком, его бояться надо – тогда только женщина будет счастлива. Будь проклято равенство, пусть здравствует рабство!» Понимаете? Ну? Что мне было делать?
– Где вы встретили Аню в Сочи?
Львов странно усмехнулся:
– Около магазина кулинарии… Она выходила, а мы с женой собирались войти в него…
«МВД СССР, УГРО. Судя по показаниям Львова, на Рице убита Петрова. Костенко».
«Костенко. По месту нахождения. В семидесяти метрах от той ямы, где обнаружен труп неизвестной женщины, миноискатель определил топорик, закопанный на глубину тридцати сантиметров. Топорик остро отточен, производство, по первому заключению экспертов, не русское. Сухишвили».
«МВД ГССР, полковнику Сухишвили. Прошу срочно отправить топор в Магаранское управление майору Жукову для предъявления на опознание шоферу таксомоторного парка Цыпкину, предупредив об ответственности за дачу ложных показаний. Костенко».
6
В доме бегали, падали, кричали, смеялись, плакали, веселились трое малышей-погодков, две девчушки и мальчик, только, видно, научившийся ходить. В доме счастливо, подумал Костенко и сразу почему-то вспомнил тот вечер, когда Маша ушла в больницу делать первый аборт, а было им тогда по двадцать три года, она училась, он начал работать в МУРе, зарплата – сто десять (тогда, правда, звучало лучше – тысяча сто), комнаты не было, снимали угол в Кунцево, испугались. Простить себе этого Костенко не мог, но он к этому пришел не сразу, такое сразу и не понимаешь вовсе, только с годами, отдаляясь от самих себя (ибо молодость и есть единственно истинный ты), начинаешь понимать всю невозвратимость, преступную невозвратимость случившегося. Господи, ну ютились бы втроем, ну отказали бы себе еще в двух порциях мяса, черт с ним, разве ж хлебом единым живы?! Зато сейчас человеку было бы уже двадцать пять лет…
– Вы проходите, проходите, пожалуйста, – как-то открыто, радостно пригласила Галина Ивановна, приемная сестра врага, за которым шел Костенко. – Я их скоро спать уложу, они у меня спят при открытых окнах, сразу угомонятся. Садитесь, располагайтесь, чай сейчас будет готов…
«Будь я проклят, – подумал Костенко. – Если бы она была одна, я бы спокойно выполнял свой долг, а мой долг сейчас состоит в том, чтобы быть змеею, хамелеоном, а здесь бегают эти люди, прекрасные, лобастые люди. У всех младенцев лбы сократов – как интересно, а?! Мужчина начинает понимать красоту младенца только в моем возрасте, дожить бы до дедовства – вот счастье, а?! Как бы по дереву незаметно постучать?»
Галина Ивановна унесла детей, уместив их всех – каким-то невообразимым, стремительным движением – в одной руке. Они обвили ее шею, грудь, голову толстыми ручонками; начали кричать Костенко: «Даданьи, даданьи!»
– До свиданья, люди, – сказал Костенко, прокашлявшись, – спите на здоровье.
Женщина вернулась быстро, в комнате, где стояли кровати, была уже тишина, засыпали дети действительно мгновенно, а может, и не заснули еще, но мать сумела приучить их к тишине в спальной комнате.
– Сейчас, – сказала она, – теперь я пущу других детей, они чумятся, я боюсь, мои архаровцы их затискают.
Она открыла дверь на веранду, и оттуда влетели четыре щенка, южнокрымские бело-желтые овчарки, ринулись кругами по комнате, скулили, целовали ноги хозяйки, прыгали, сшибая друг друга, только б первому тронуть носом руку божества.
– Сейчас, – сказала Галина Ивановна, – они тоже быстро устанут, только-только оправляются, уколы-то я им вкатила свои, от души…
Щенки действительно устроились около ее ног, когда она села напротив Костенко.
– А теперь давайте говорить, – открыто и добро улыбнулась женщина. – Мне сказали, что вы из газеты…
– Меня просили написать о самом интересном в крае… А самое интересное – судьбы людские, вот почему я начал с визита к вам.
– Как доктор говорите: «Начал с визита». Так старые доктора выражались…
– Расскажите о себе, Галина Ивановна, о своей жизни…
– А что рассказывать-то? Счастлива я – и все тут. Дети, муж, собаки, живность… Соседи хорошие…
– Сначала сказали об живности, а потом уж соседи?
– Конечно, – удивилась женщина, – а как же иначе? Животные хоть и лишены слова, но они ж наши «меньшие братья»… В чем-то нас лучше, я в это верю… У них чрезвычайно развито чувство благодарности; посмотрите в коровьи глаза – вам страшно станет, если вы еще до конца не заурбанизировались…
– «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду», – прочитал Костенко.
– Именно… Вы замечали, как собаки и кошки кладут свои руки вам на колени? – спросила женщина, ненавязчиво поправив Есенина. – Возьмите собаку за руку, поговорите с ней, вы почувствуете, как живет ее ладонь; пожалуй, их руки более жизненны, более чувствительны, чем наши…
– Когда вы ощутили в себе такую любовь к животным?
– Когда впервые столкнулась с людской несправедливостью.
– Когда это случилось?
– Когда отец ударил маму…
– Простите… Это вы о родном отце?
– Родного я не видела. Я считала, что Кротов и есть мой отец…
– А отчего он ударил маму?
– Она гладила ему пиджак, черный у него был, английский, он его за всю жизнь только раз пять и надевал, а я котенка принесла, а он мяукал, и мама стала его кормить кефиром с пальца, тот сосал палец, успокоился, не плакал, а потом запахло дымом – про утюг мама забыла… Прибежал он… Ну и ударил… С тех пор я перестала его воспринимать – какое-то черное пятно перед глазами.
– Но мама умерла, не пережив смерти Кротова – разве нет?
– Привычка это… Не инстинкты, как у животных, не внутренний, врожденный разум, а именно привычка…
– После этого случая вы и уехали от них?
– Не сразу. Я ведь еще училась, да и маму было жаль…
– Они очень страдали по Коле?
– Свыклись. Сначала надеялись, что вернется, очень ждали в пятьдесят шестом, думали, сидит, не пишет, не хочет отца подводить, знаете, как тогда на родственников репрессированных смотрели… А он еще давал уроки на дому, а за это сразу б погнали из школы!
– «Он» – это… Кротов?
– Да. Мне невозможно называть его «отцом»…
– Культа сына в доме не было? Борца за Родину? Погибшего солдата?
– Он не любил громких слов… Держал фото у себя над кроватью, и все.
– А сам воевал?
– Нет.
– Значит, считаете, зло, свершенное ближними, неминуемо порождает какое-то особое чувство противостояния, обнаженную доброту, что ли?
– Ну это вам, пишущим, лучше определять, – ответила Галина Ивановна и вдруг вскочила со стула: – Бог мой, чайник!
С кухни она весело прокричала:
– Ничего, на заварку хватит. Вам покрепче?
– Если можно.
– Можно. Мне дядя присылает из Адлера, он там на фабрике работает, развешивает чай…
– Чей дядя? – спросил Костенко, чувствуя постоянное неудобство из-за того, что не может говорить женщине правду. Но он понимал, что делать этого нельзя – а вдруг Милинко… Какой там, к черту, Милинко?! При чем здесь несчастный Григорий Милинко?! Пусть вечная память будет солдату морской пехоты Милинко, мы ему воздадим память, вот только найдем Кротова, мы его найдем обязательно, а сейчас надо молчать, потому как может статься, что Николай Кротов решит навестить «сестру», спросит про родителей – не полная же он беспамятная скотина? Злодей подчас сентиментальнее нормальных людей. Вдруг ему папину фотографию захочется получить, того папы, который мог маму из-за черного английского пиджака хлобыстнуть по лицу… Тут много чего-то такого, что может пролить свет на характер Кротова… Поэтому ненавидь себя, Костенко, но сиди, тяни резину, играй, змействуй, однако сумей набрать столько информации, сколько можно. Деталь решает успех книги или картины; так же и у тебя. Деталь – и операция готова, только деталь точная, бесспорная.
…На всякий случай поинтересовался:
– Из детского дома в последние месяцы вас никто не разыскивал?
– Ну как же, разыскал воспитатель…
– Любили воспитателей?
– Очень. На всю жизнь…
– А как звали того, кто вас разыскал?
– Ой… Я даже не запомнила, он так невнятно сказал, на поезд торопился, сказал – скоро нас всех соберет на встречу…
– Интересно своих питомцев найти, я его понимаю…
«Надо срочно дать ориентировку на Осташков, – понял Костенко, – впрочем, видимо, поздно. Он наверняка должен был поехать к матери Милинко. Или уже был там. Он должен там быть, он наверняка там был – когда только? Почему сейчас? Он должен был навестить “родные” места сразу же после войны. Нет. Тогда побоялся бы – вдруг шальная проверка документов, а там одна старуха Милинко на весь район, однофамильцем не скажешься…»
– Вы что задумались? – спросила женщина.
– Да так, лезет в голову разное… Покажите ваш семейный альбом, а?
– А чего ж не показать, покажу.
Костенко долго перелистывал альбом, потом удивленно спросил:
– А где ж Коля?
– Как где? Там. И в осоавиахимовской парашютной школе, и на аэродроме в Адлере…
Костенко подвинул женщине альбом, она начала медленно перелистывать страницы.
– Поглядите, это отец наших людей, – она кивнула на спящих щенков. – Красив, а?
– Очень.
– Только глаза желтые, это плохо; желтоглазые – дурни, очень доверчивы, но одновременно злые. Странный симбиоз, да?
– Да, – ответил Костенко, наблюдая за ее пальцами, переворачивавшими страницы, – очень странный.
– А это мой муж. Вы его дождетесь?
– Зависит от того, когда он возвращается…
– По-разному. Иногда за полночь, он делом живет.
– А это кто? – спросил Костенко, указав на пожилого бородатого человека.
– Дядя Авессалом, я ж говорила, который чайник, – она засмеялась своей шутке. – Из Адлера, брат мамы…
Женщина пролистала альбом до конца, удивилась, начала листать снова:
– Как же так, здесь были три фотографии: Коля в осоавиахиме, на аэродроме и перед уходом в армию…
– Он там бритый был?
– Коля? Нет, с чубом, красивый парень, косая сажень в плечах, копия отца, словно вылитый.
– Галина Ивановна, а отец… Кротов… был жадным человеком?
– А что такое жадность? – задумчиво спросила женщина и снова начала перелистывать альбом; на лице ее было недоумение.
– По-моему, жадность не нуждается в определении…
– Еще как нуждается… Он был расчетлив: чертежник, что ж вы хотите, а один из его дядек ловил собак, этим и кормился, сдавал на мыловарню… Мама ненавидела дядьку, я помню, когда он однажды заговорил о нем, мама крикнула: «Умоляю тебя, никогда не говори при мне об этом изверге!»
– Почему?
– Какие-то вещи даже у мамы спрашивать неловко. Она тогда побледнела вся, синяки под глазами мгновенно набрякли… Нет, но где же Колины фотографии?!
– Ваш воспитатель альбом смотрел?
– Конечно, это ж у нас в традиции – альбомы рассматривать.
Перед тем как показать Кротовой фотографию ее сводного брата, Костенко спросил:
– Вы не договорили, Галина Ивановна… Про жадность и расчетливость…
– Понимаете, мама очень добрая была, ангельской души женщина… Готовится, например, его день рождения отпраздновать, пирогов напечет, самогонки наварит, на водку он денег никогда не давал, а пироги мама делала с луком и картошкой, объедение… С яйцами еще очень любила печь, с грибами; мы с ней часто в горы уходили, грибов насобираем, насушим, а потом всю зиму суп едим, картошка своя, ничего у него можно и не просить… И еще мама икру делала грибную – знаете, какая икра?! Ну вот… Поставит приборы на стол, стаканчики там, тарелки, а он только пальцем тычет: «Здесь кто, здесь кто, здесь кто?» Мама отвечает, а он: «Этот мне не нужен, этого морду видеть не хочу, этот слишком болтает, распустился, позволяет себе всякое, от греха, нечего с ним знаться; этого не пущу, пьяница, начнет песни орать, как в деревне…» Когда умер, на книжке осталось девять тысяч… А черный костюм так себе и не купил…
Костенко достал из кармана пиджака бумажник, раскрыл его, показал фото женщине:
– Этот воспитатель у вас был?
– Ой, батюшки-светы, он!
– Когда он вас навестил?
– Да с месяц, наверное…
– Одет был во что?
– Так он капитан, моряк, в звездах я не разбираюсь, правда… Погодите-ка, а почему вы из газеты – и с этим?
– Я пишу для журнала «Человек и закон», а мы там всякие дела раскручиваем, Галина Ивановна… Адреса он вам, конечно, не оставил?
– Обещал написать.
«Значит, он сжался перед броском, – понял Костенко. – Он подбирает последние крохи, он не хочет, чтобы хоть что-нибудь осталось после него на память».
– Но он такой же, как на фотографии?
– Покажите еще раз, я его глаза сразу увидала, они запоминаются – глаза человека, знавшего, что такое блокада Ленинграда…
– А как можно такие глаза описать?
– Они очень живые, но в самой глубине – пустота, боль непроходимая, затаенность, страх перед завтрашним днем. Так мне кажется, хоть я блокаду почти не помню. Помню только, каким тяжелым и холодным был кусок хлеба и как в нем пальцы вязли… Как в пластилине…
Она взяла фото, посмотрела:
– Он сейчас в очках, с усами, потолстел…
– Усы – седые?
– Знаете, нет… Он вообще почти совсем без седины, шатен, не дашь его возраста, выглядит значительно моложе…
– Это очень опасный преступник, Галина Ивановна. Очень. Если он к вам вдруг, – вряд ли, конечно, но если, – придет, вы не вздумайте сказать ему про мой визит. И не покажите вида, что заметили пропажу фотографий… И вот вам телефоны – здешний и московский… А теперь давайте-ка вспоминать – все, что только можно о нем вспомнить.
Ретроспектива-VI [Апрель 1945 года]
От Осташкова Кротов шел по заросшему большаку, сквозь пустые, словно бы вымершие деревни; несколько деревень он угадал лишь по остаткам труб – все остальное сгорело.
К колхозу «Светлый путь» – всего шесть дворов цело – он подошел под вечер, свернул с большака на опушку леса, присел на пенек и долго изучал дома – хотел проверить себя, определить дом Милинко, соотнося свой анализ с обликом морячка, который, раскачиваясь, шел по лесной дороге под Бреслау.
«Руки у него были хорошие, – вспомнил Кротов, – жилистые руки, работящие, значит, топор умел держать, венцы б подвел и крышу мог перестелить… А здесь все дома завалились… Хотя война, мужиков на фронт угнали, за четыре года и дворец покосится без глаза, за хозяйством надо каждодневно смотреть, иначе порушится все, отец прав был, когда каждый день наш дом обхаживал; умный у меня батька, пристраивал помаленечку, чтоб зазря никого в зло не вводить, а главное зло – зависть людская; черви завсегда крокодилам завидуют, не зря батя говорил, что крокодил – умное животное и попусту никого не обижает: “Голод не тетка, того хватает, кто сам попадается под зуб, – а ты не попадайся. Попал, зараза – сам виноват”».
Кротов поднялся, решительно пошел к крайнему дому – на наличниках еще угадывалась краска, и крыша, как новая, выделяется среди других, убогих, плешивых; молодец, Милинко, хорошо матери подмогал, не текло у старухи над головой эти годы…
Его вдруг передернуло, руки похолодели – убирать так ему еще не приходилось, а что делать-то, придется. Как в письме морячок писал: «Вы у меня, дорогая мама, одна на белом свете, поэтому, пожалуйста, дождитесь моего возвращения, и все тогда хорошо у вас будет, и здоровье поправится». Значит, единственный свидетель. А вот письма ушли! Дурак, уроки шарфюрера Луига забыл, обрадовался, себя сдержать не смог. И ушли те письма, ушли, окаянные, с фото ушли, и адресов не помню, лучше не думать об этом, руки опустятся. Как это Луиг говорил? Балтийский немец русским себя считал, дворянином. «Три процента шальной удачи я вам гарантирую. Только исповедуйте дворянство, даже если вы из разночинцев; дворянство – это особость, это как СС у Гиммлера, помазанники, им – удача».
Кротов распахнул дверь; провизжали несмазанные петли; вошел в темные сени; услышал мужские голоса; замер, хотел было тихонько уйти, но, видимо, дверь открывал неосторожно.
– Заходи, кто там! – услыхал он мужской голос.
Кротов вошел в дом; за столом сидели два солдата: один лет пятидесяти, второй молоденький; старуха доставала из печи чугун; пахло вареной капустой.
– Здравствуйте, – сказал Кротов. – Мне б только мамашу Грини Милинко повидать, я с ним в одной части…
– Ой, миленький, – заохала старуха, лицо треугольником – от голода, видать, да и оттого еще, что платочек так повязан был, белый в черный горошек. – Заходи, сынок, заходи! Вот радость-то: и брат в гости приехал, и племяш, и сыночка друг. Садись, садись к столу!
Кротов бросил свой рюкзак в угол, неловко, боком присел на табуретку. Старик протянул ему руку:
– Горчаков я, Андрей Иванович, а это – сын мой, Иван…
– Лебедев, – сказал Кротов. – Гриша.
– Ну давай, Гриш, за скорую победу и с возвращеньицем…
Выпили, закусили галетами и свиной тушенкой.
– Что ж это я?! – засуетился вдруг Кротов. – У меня ж тоже в рюкзаке кое-что есть к столу…
– Оставь, – сказал Горчаков, – ты ж не здешний, уважил старуху, пришел от сына, береги на дорогу… Сам-то откуда?
– Из Смоленска… А я ведь, мамаша, принес вам радостную новость: Гриня орден получил и отпуск, так что ждите, вот-вот прибудет.
– Ой, Господи, Андрюш! Вань! Гриня едет! Господи, вот счастье-то! – старуха поставила на стол чугун с вареной капустой, заправленной американской тушенкой, оттерла кончиком платка глаза, в которых показались слезы, перекрестилась на образа. – Отец не сможет на сына полюбоваться, белы косточки от него остались…
– Ладно, радости горем не перечь, – сказал Горчаков, – Гриня выжил, и то Богу поклонися… Выпьешь, что ль?
– Да как за это не выпить? – то плача, то смеясь, ответила старуха, и вдруг Кротов увидел, что не старуха она вовсе, убрать бы морщины да покормить – красавица еще, и глаза – с блюдце, синие, северные; неверно говорят, что холодные они, в них жару побольше, чем в иных черных…
Ели молча; на висках выступил пот; женщина ела мало, по-птичьи, следила, как едят гости, сразу же – как только тарелки пустели – подкладывала еще, не спрашивая…
«А Гретта всегда пытала: “Еще хочешь?” – вспомнил Кротов свою ювелиршу Пикеданц. – А как ей ответишь, что, мол, хочу? Я ж от природы скрытный и застенчивый; хочу, а вслух не произношу, злюся, а озлившись вконец, жахаю промеж глаз от всего сердца».
Выпили еще по одной, женщина и ее родичи петь начали, на два голоса пели; Кротов, сказавшись пьяным, вышел, присел на завалинку, прислонил голову к бревнам – сосна, тепло хорошо держит, впервые за четыре года подумал: «А может, зря я тогда к немцу рванул?»
Он свернул козью ножку, махорки татарка Роза отвалила от души; татарки – добрые; затянулся, закашлялся, самокрутку бросил, втер башмаком в землю; яростно втирал, глубоко; увидал червя; тот выползал из-под башмака, набегая на самого себя мягкохрящистыми кольцами. Кротов долго наблюдал за тем, как стремительно сокращались эти кольца, как червь уходил от башмака. Ну давай, ползи, милый, ползи, думай себе, что спасся, скорее, дальше ползи, ишь, и торопиться перестал, успокоился, вроде людишек, тоже, как успокоятся, так и расслабляться начинают, а нельзя, конец это, погибель.
Он дождался, пока червь отполз подальше, крадучись, поднялся с завалинки, подошел к твари, опустился на корточки, чиркнул спичкой, поднес ее к голове червя – тот начал извиваться, откуда только сила в нем взялась такая, словно хлыст бился.
И вдруг Кротов ощутил на себе взгляд; он умел чувствовать взгляд; он понял, что смотрят на него из окна; спичку он не сразу бросил, продолжал червя жечь; потом рухнул на колени, сыграл плач, плечами задергал, повел лопатками.
«Ну решай, что будешь говорить, – приказал он себе, – и не вздумай голову поднять, не покажи вида, что почувствовал, как они тебя рассматривали, когда ты божью тварь жег».
Он медленно поднялся с колен, втер червя в землю ногой, вытер глаза, будто слезы убирал, постоял, играя горе, безнадежность, отчаяние, потом лишь вернулся в дом.
За столом молчали.
Кротов сел на свое место, поднял стакан:
– Моего батю, как и Гришиного, тоже черви поели, – тихо сказал он, – тоже белы косточки остались… Мы вместе воевали… В одной части… В окружении были… Я в разведку ушел, семь дней блуждал по лесу, а вернулся обратно, лежит мой батя, синий уж, и черви в него вползают; белые да розовые, и все жирные, кольцатые…
Женщина заголосила, Горчаков сказал:
– Ну будет, будет…
– Ах ты, сиротинушка, – тихо сказала женщина и погладила Кротова по плечу, – сколько ж сирот ноне на Руси нашей многострадальной?! Андрюшка и Ванечка тоже сироты, – кивнула она на родичей, – моя сестра преставилась, пока они воевали, голода не перенесла; мой мужик сгинул, да, почитай, в кажном дворе мужик погиб. У Татьянихи вон даже дед на фронт ушел, добровольным, так и его убило, хоть и не в окопе воевал, а развозил харч…
– Ничего, отстроимся, снова жизнь пойдет, – сказал Горчаков.
– Ты – мужик, тебе – что? – вздохнула женщина. – А бабам как? Мне-то сорок пять, поздно уж, а что тридцатилетним делать?
– Да не плачь ты, душу не изводи, – рассердился Горчаков. – Не на поминки пришли, поплакала – и будет, Гринька-то живой, об сыне теперь думай…
– Гринечка, – тихо повторила женщина, – сыночек мой ненаглядный, обниму, лепешек напеку, он с гречки лепешки любил, а я крупы еще с мирного времени приберегла, прокаливаю в печке, почитай, каждый месяц.
Ванюша рассмеялся:
– Уголья останутся…
– А вы когда обратно, на фронт? – спросил Кротов разом отца и сына.
– Меня демобилизовали, – ответил Горчаков. – Три раны, да чахотка еще открылась… Ванюшка через неделю возвращается. А ты?
Кротов понял, что план его не удался, останется свидетель, трех сразу не кончишь! Старуху-то придушить можно было, по-тихому, а потом печь разжечь и заслонку закрыть – угорела, мол, и весь разговор…
– Я завтра, Андрей Иванович, – ответил он.
Он достал из вещмешка две банки тушенки и пачку с яичным порошком:
– Мамаша, это Гриня велел передать.
Женщина снова заплакала, дорогие подарки унесла за печку, постелила кровать:
– Тут ты, Гришенька, с Андрей Иванычем отдохнешь, а Ванюшке я на полу перинку брошу, у печки, тепло будет…
Перед сном поговорили о соседях – у кого какие заботы; Горчаков вспомнил лесника, того на фронт не взяли, хромой, надо б у него леса попросить – строиться, может, уважит.
– Батя, – откликнулся Ванюшка, стягивая гимнастерку, – чего ж на мамашином пепелище строиться? Вечно в сердце боль будет. Лучше на озеро, мамаша оттуда была родом, а так будто на могиле будешь жить.
– Это как понять «будешь»? – спросил Горчаков. – А ты не будешь, что ль?
– Я не буду, батя, я в институт пойду, на инженера учиться, сейчас кто технику знает – берут с руками.
Горчаков начал ругаться с сыном: «Нельзя землю кидать, грех это». Кротов отнес посуду за занавеску, к печке, рассчитав, что старуха пойдет следом; она и пошла: «Да что ты, сынок, я помою сама!» Он присел на табуретку, заговорил о своей родне – сочинял слезливо, – потом перевел разговор на родню старухи.
…Когда все уснули и женщина на печке начала жалостливо, тихонько похрапывать, Кротов поднялся с кровати; Горчаков что-то пробормотал, повернулся на правый бок, потянул на себя одеяло, зачмокал… Кротов подошел к рамочке, висевшей на стене, – там были фотографии, много маленьких фотографий; он эту рамочку сразу приметил. Гриня Милинко был в морской форме, фото маленькое, тусклое, второе фото – получше, снят в группе, третье – ребенок еще. Военные фотографии он вынул из рамки, долго их рассматривал – кто знает, может, Ванятка этот самый по нужде захотел, или старуха голову подымет, нет, посапывает, спит. А может – притворяется? Ты что, сказал себе Кротов, ты куста не шарахайся, старуха твою школу не кончала. А червь? Они это не забыли. Или забыли? Я ж слезу про батю подпустил; ничего, батя простит, главное – мне выцарапаться. Ну спросят, зачем фото взял, коли заметили, тогда что? А ничего. Скажу, аппарат у меня трофейный, переснять хотел, большие напечатаю, а то чего ж огрызки висят…
Кротов положил фотографии в орденскую книжку Милинко, держал ее не в гимнастерке, а в карманчике на нижней рубахе, потом передумал, сунул между документами, лег рядом с Горчаковым, уснуть не мог, ждал рассвета.
Поднялся сразу, как только услыхал, что женщина проснулась.
– Мамаша, – прошептал он, – дай солдатикам поспать, а я пойду.
– Да что ты, сынок, – откликнулась она, – как же так?! Я чайку нагрею, так нельзя идти, дорога-то долгая…
– Свою мамашу тороплюсь повидать, к вам-то первым пришел…
– Ну так хоть холодного чайку выпей да хлебушка съешь…
– Я хлебушка на дорогу возьму, мамаш, а водички выпью с ручья, тут у вас ручьи чистые.
Женщина проводила его на крыльцо, перекрестила, утерла глаза; уже возле леса Кротов оглянулся – она по-прежнему стояла на пороге, помахала ему рукой, снова вроде бы заплакала…
«Кто технику знает – с руками рвут, – повторил про себя Кротов слова Ванюшки. – А меня так научили машину водить и мотор чувствовать – как здесь хрена научат. Теперь схорониться надо, уходить в глубинку, войне – конец, неделя, две и – точка, профукал Адольф свою страну, и меня профукал с моими мечтами, чтоб ему ни дна ни покрышки, психу усатому, и нашему очкарику, Власову-освободителю – туда же!»
7
Авессалом Евдокимович Нарциссов, дядя Николая Кротова по материнской линии, войну провел на передовой, в стрелковой роте; трижды был ранен, в партию вступил осенью сорок первого. Ночью, во время тяжких боев, когда немец жал под Ельней и в бой вступали полки московского ополчения, Нарциссов видел, как по разбитой бомбами дороге, на двух «эмках», подъехали к высоте военные; один небольшого роста, широкоплечий, с генеральскими звездами в петлицах гимнастерки; он долго смотрел в бинокль на пожарище, потом закрыл глаза, прислушался к перестрелке, смахнул слезы, устало опустился на землю, сказал, словно себе самому:
– Спасли старики столицу.
(Потом только Нарциссов узнал этого человека по фотографиям – маршал Жуков.)
Нарциссов видел, как погибали ополченцы из коммунистической дивизии: они и погибали-то деловито, просто-напросто выполняли свой долг, жили по закону чести, по этому же закону и гибли.
Тогда-то Нарциссов и вступил в партию; приняли его в окопе, там же, перед атакой, выдали красную книжку. Вернулся он осенью сорок пятого, с Дальнего уже Востока, кавалер ордена Славы и трех боевых медалей, с четырьмя нашивками за ранения, две желтые и две красные.
– Думаете, молодежь знает, что означают эти нашивки? – усмехнулся Нарциссов, протягивая Костенко свою фронтовую фотографию. – Бьюсь об заклад – нет! Рассказывать молодым о войне надобно интересно, с подробностями, а я как погляжу, им сухие статейки читают, а они в это время «морской бой» разыгрывают: «попал», «утопил», «промазал».
– Авессалом Евдокимович, правы ли вы? – возразил Костенко. – Во все века старшее поколение поругивало тех, кто шел следом.
– Позволю себе не согласиться с вами. А Тургенев? «Отцы и дети»?
– По-вашему, он – на стороне Базарова? Это мнение критика навязала, на самом деле Тургенев весь на стороне дяди. Он понимал, – гений угадывает тенденцию четче любого ученого, кожей угадывает, чувством, – он понимал, что родилось новое качество русского человека в условиях отмены рабства. Он готовил к этому читателя, но неужели Базаров вызывает в вас симпатию?
– Не браните при мне Тургенева и не подвергайте сомнению его искренность в чем бы то ни было – он мой кумир.
– Умолкаю.
Старик помешал ложкой черный, с красным отливом чай:
– Только не вздумайте класть сахар, я, как старый чаевод, не понимаю людей, которые глумятся над дивным напитком здоровья.
– Я никогда не пью чай с сахаром. Меня монголы к этому приучили. С салом – пожалуйста, с солью и с молоком – тоже прекрасно, а с сахаром, вы правы, не чай, лучше уж пить лимонад, подогретый до шестидесяти градусов.
– Приятно говорить со знающим человеком, – удовлетворенно откликнулся Нарциссов. – Итак, вас интересует, кто из однополчан побывал у меня этой зимою? Был, был один молодой человек, но я его совершенно не помню, а у стариков память либо необратимо склерозирует, либо, наоборот, прозрачна. Я, смею похвастать, отношусь ко второму типу старцев.
Костенко понимал, что фотографию Кротова показывать старику пока что нельзя – у него ведь в бумажнике фото Кротова семилетней давности, без усов и очков, всякое может случиться, а вдруг признает племяша. Хотя в честности Нарциссова сомневаться не приходилось, разговор принял бы совсем иной, не «журналистский» оборот, да и неизвестно еще, как старик отнесется к правде – лгать ему нельзя, а сердце его щадить должно.
– Моряк?
– Да.
Вспомнив данные Тадавы о номере ордена Красной Звезды, которым был награжден Милинко, Костенко уточняюще сказал:
– И, как настоящий ветеран, «Звездочку» носит?
– Именно так. А почему вас интересует этот человек?
– Нам кажется, что он – аферист, Авессалом Евдокимович. Точных данных нет, но предположение грызет сердце.
– Журналисты на домыслы падки…
– Случается. Хотя я профессию журналиста ценю сугубо высоко. А вы поглядите-ка ваш семейный альбом – все фотографии на месте? Или что-нибудь пропало? Вы ведь наверняка с ним фото рассматривали?
Старик принес два альбома. На одном было написано: «семья Нарциссовых», на другом, красной тушью – «братья».
– Это – фронтовой, – пояснил он, кивнув на слово «братья», – иначе ведь и не определишь однополчан, только так…
– Он, кстати, как вам представился, этот моряк?
– Минин, – ответил Нарциссов и начал листать альбом.
– Но он не показывал вам свои документы?
– Не в суде ж мы, не в милиции, упаси Господь… Смотрите-ка, действительно, заика пропал.
– Это кто ж?
– Племяш. Сын покойной сестры, Колька.
– А почему заика?
– Заикался сильно, головой тряс, страдал от этого, агрессивным стал, всех подряд дубасил, иначе, считал, девчонки на него внимания не обратят, а как другие юноши – словом – располагать к себе не умел.
– Где он?
– Сгинул на фронте, наш «капитан Немо».
– Почему «капитан Немо»?
– Мечтал стать моряком или летчиком, готовил себя к судьбе сильной личности… Нет, действительно, три фотографии исчезли! Зачем они капитану, в толк не возьму!
– А в каком году ваш племяш пропал без вести?
– С сорок первого писем не было, с осени.
– Он на каком был фронте?
– На Южном. Последняя треуголка из-под Киева пришла, шел на передовую, в первый бой…
– Сохранилась?
– Конечно.
– Тоже в этом альбоме?
– Нет, письма у меня в особых конвертах, я их музею обороны Севастополя завещал.
– И письма рассматривали с капитаном?
– Конечно.
– Ну, значит, не найдете вы там письма от племянника, – раздраженно сказал Костенко. – Вы извините, я отъеду на полчаса и вернусь – надо срочно в редакцию позвонить…
«Магаран, угро, Жукову. Срочно ответьте, страдал ли “Милинко” заиканием. Костенко».
«Костенко, по месту нахождения. “Милинко” заиканием не страдал, говорил внятно, очень медленно, певуче. Жуков».
«Костенко, по месту нахождения. Топор, предъявленный майором Жуковым, опознан Цыпкиным как принадлежащий “Милинко”. По заключению экспертов, такого рода топорики были на вооружении немецких саперов во время Великой Отечественной войны. Подобный топор хранится в музее Советской Армии как экспонат под номером 291/32. Тадава».
…Костенко прочитал это сообщение, когда готовился выехать с Месропом Сандумяном из адлеровского горотдела на беседу с однокашником Кротова, ныне директором завода Глебом Гавриловичем Юмашевым.
– Ничего не понимаю, – повторил Костенко. – Вся версия летит к чертовой матери. Если человек был заикой, а теперь говорит как Цицерон, что прикажете думать?!
Месроп возразил – как мог почтительно:
– Но ведь их лечат, Владислав Николаевич.
– Да?! Вы хоть одного вылеченного заику видели?! Это «Техника – молодежи» лечит, а не врачи! Это еще только будут лечить, да и то бабушка надвое сказала! Проклятье какое-то, прав генерал – когда поначалу много информации, жди беды, все отрежет, останешься на мели, как Робинзон Крузо, с голой задницей…
– Но топор опознан…
– Ну и что?
– Это улика.
– Какая, к черту, улика?! Если возьмем Кротова, он скажет, что топор продал еще в Магаране на толкучке одноглазому инвалиду – вот и прошу вас искать этого инвалида! Все косвенно. Все косвенно, кроме одного – адлерский Кротов был заикой, а магаранский «Милинко» говорил нормально…
8
…Юмашев внимательно посмотрел фотографию, положил ее на стол, ответил твердо:
– Да, это Кротов.
– «Немо»? – спросил Костенко.
Юмашев на какое-то мгновение задумался, потом ответил – с каким-то странным, жестким, быстрым смешком:
– Именно так. «Немо Амундсенович Заика»… Скажите на милость, вы его в глаза не видали и такие подробности знаете. А я забыл. Не напомни вы – ни за что бы не вспомнил.
– А почему вы так странно улыбнулись, когда вспомнили? – спросил Костенко.
– Заметили?
– Профессия такая.
– У меня, между прочим, подобна вашей. По цехам идешь – замечай, иначе все разнесут по кирпичикам. Только вы за это наказать можете, а я обязан по-отечески журить прощелыгу, чтобы он посовестился впредь воровать соцсобственность и понял, наконец, что зарплата – это честнее, чем уворованное добро, хоть и меньше в оплате. Если б мог гнать взашей мерзавцев, спекулирующих званием рабочий, если б мог поощрять реальной, ощутимой премией, если б, наконец, неисправимых прогульщиков и расхитителей мог посадить, как вы…
– Я посадить не могу – к счастью. Посадить может прокуратура, мы под нею ходим.
– Ну и плохо!
– Нет, хорошо! Беспамятство – опасная штука, Глеб Гаврилович.
– Вы на то время не нападайте, не надо… Были перегибы, но время трогать не след, правильное было время…
– Если то было правильным, значит, нынешнее – нет?
– Я этого не сказал.
– Что ж вы позицию свою не отстаиваете? Коли замахнулись – рубите. И речь идет опять-таки не о том, чтобы нападать на то время – после драки кулаками не машут, просто надо помнить. Я все помню, Глеб Гаврилович, оттого нынешнее время – при всех его издержках – ценю высоко. Оно – доброе, и если сейчас это не все понимают, придет время – поймут. А в том, чтобы алкашей и расхитителей гнать взашей, я с вами согласен, не думайте. Только по закону, а не по вашей воле или чьему доносу. Вот так-то. Ну давайте вернемся к Заике.
– Что он натворил?
– Он – враг.
– Доказательства есть?
– Это хорошо, что вы доказательств потребовали. Раньше-то, в те времена, которые вам по душе, мы себя этим не очень обременяли, – не удержавшись, заметил Костенко. – Прямых улик нет, одни косвенные.
– Он что, изменник Родины? Каратель?
Костенко вдруг расслабился, полез за сигаретой:
– Почему так подумали?
– Потому, что я учился с ним в одном классе пять лет, духовную его структуру знаю достаточно хорошо.
– Он заикался сильно? – неожиданно спросил Костенко.
– Как вам сказать… Иногда – сильно, а так – в меру; очень чавкал некрасиво перед тем, как начать заикаться…
– Про карателя – вы попали в десятку. Мы искали его по поводу двух убийств, зверских, фашистских прямо-таки, а вышли на его власовское прошлое…
– Взяли?
– Что? – Костенко сыграл непонимание. – О чем вы?
– Будет вам, – устало сказал Юмашев. – Прекрасно вы понимаете, что я имею в виду арест…
– Нет. Мы собираем о нем все сведения – по крупицам, самые, на первый взгляд, незначительные.
Юмашев начал расхаживать по кабинету, остановился около большого – чуть не во всю стену – окна, долго смотрел на заводской двор, потом вдруг побежал к селектору, яростно нажал кнопку:
– Водитель МАЗ 32–75! Как тебе не стыдно?! Ты левым колесом на асбестоцементные трубы наехал! Это ж хулиганство!
Голос Юмашева грохотал на весь заводской двор; он снова бросился к окну; Костенко и Сандумян, переглянувшись, поднялись, подошли к нему; шофер выскочил из машины, недоумевающе, со страхом смотрел на громадину административного корпуса.
– А оштрафуй я его – уйдет к соседу, – зло сказал Юмашев, – всюду стены заклеены: «Приглашаем на работу!» Благо социализма обращается в его противоположность! Допечатали б хоть: «Требуются характеристики с предыдущего места работы, пьяниц и лодырей не берем!»
– Опять-таки согласен, – сказал Костенко. – Стопроцентно…
Юмашев дождался, когда шофер отъехал, осторожно маневрируя между трубами, разбросанными в беспорядке, вернулся за стол.
– При всем при том одного, главного, все-таки мы достигли: коллективизм, чувство локтя, верно ведь? – как-то ищуще, с затаенной горечью спросил он.
– Не везде, не всегда и не во всем, но даже то, чего добились, – серьезное дело, – согласился Костенко. – А чего стоит один наш черный рынок на книги? Это ведь и есть революция культуры.
– Кстати, Кротов не читал книг. Вообще не читал, можете себе представить?! Гундел постоянно: «Неинтересно, так не бывает, неправда!» Я с ним подрался однажды из-за того, что он на Гулливера попер: «Нет таких гномов, ерунда это все!» Я ему и так доказывал, и эдак, а он свое: «Людей дурачат, а сами за дурацкие сказки деньги лопатой гребут!» – «Так он же умер, Свифт!» – «Значит, кто другой за него гребет!» Это в нем от отца. Тот говаривал: «Линия – единственная правда в жизни, все остальное бессмыслица. Только чертеж позволяет понять сущность правды». Он ему и привил эдакий практицизм, «что нельзя пощупать и увидеть – то не существует, обман и химера».
– А как это сопрячь с «Немо»?
– Любил слушать. Если ему рассказывать – он слушал охотно, но только чтобы была сила и исключительность; честолюбив был болезненно; когда его прокатили, не приняли в комсомол, – за то как раз, что читать не любил, – он избил нашего секретаря, Гошку, жестоко избил, штаны на нем порвал, а знаете, каково было – по тем временам – штаны купить? Целая проблема. Когда мы его вывели на общее собрание, он спросил: «А где у вас д-д-д-доказательства? Кто видел? Гошка меня н-н-ненавидит, поэтому и наговорил. Д-докажите!» Мы его тогда спросили: «Дай честное слово, что ты его не бил». А он ответил: «Честное благородное». Гошка даже заплакал тогда. Они, кстати, в одном эшелоне на фронт уезжали. Гошку-то поначалу не брали, очкарик, но он по линии райкома добился…
– Жив?
– Погиб.
– Где?
– Под Киевом.
– Фамилия?
– Козел. Он, бедняга, смущался своей фамилии, постоянно просил ударение на первом слоге ставить…
– Кто-нибудь из его родных остался в городе?
– Отца недавно похоронили, он у нас на заводе пятьдесят лет отработал, мать умерла в конце войны. Гошка у них был единственный.
– Как звали отца?
– Георгий Исаевич…
– Значит, Георгий Георгиевич Козел?
– Да.
– В военкомате какие-нибудь данные на него могут храниться?
– Обязательно. В школе есть его уголок, «следопыты» раскопали его письма домой, заметки в дивизионку, он стихи у нас писал…
Костенко обернулся к Сандумяну:
– Месроп, пожалуйста, если товарищ Юмашев позволит, позвоните в горотдел, пусть отправят телеграмму Тадаве по поводу установочных данных на Георгия Георгиевича Козел.
– Вы верно произнесли его фамилию, – заметил Юмашев, – не обидно, так редко кто говорил, все – как попривычней…
– И еще, – продолжил Костенко. – Пусть посмотрят по линии Министерства обороны список той части, где служил и погиб Козел, – до какого дня они были вместе с Кротовым. Обстоятельства гибели, свидетели, где живут…
– «Где живут», – горько повторил Юмашев, – Да живы ли? Никого уж не осталось почти, мы доживаем, те, кому в сорок первом было семнадцать…
– А вот и неверно, Глеб Гаврилович, – возразил Сандумян, набирая номер. – Я нашел вашу учительницу, Александру Егоровну, ей семьдесят девять, а она еще бодрая и вас хорошо помнит, и Кротова…
9
Александра Егоровна Хивчук жила в большой комнате на первом этаже; подоконник был заставлен цветами; вообще же был здесь особый старушечий беспорядок, множество лишних вещей: этажерки с подставленными под отломанные ножки кирпичами, старая софа, на которой лежали кипы газет и старые, незаштопанные чулки; на табуретках возле батареи стояли кастрюльки, много кастрюлек; Костенко оглянулся – холодильника в комнате не было…
– Александра Егоровна, этот товарищ приехал по поводу вашего ученика Кротова, – сказал Сандумян.
– А, Коля… Присаживайтесь… Я отлично помню этого мальчика, сына покойного Ивана Ильича… Незаурядный был мальчик… Если бы еще не заикание…
– Отчего он начал заикаться? – спросил Костенко.
– Это романтическая история, – ответила Александра Егоровна и поправила седые, очень жесткие, вьющиеся волосы. – Поскольку все участники драмы ушли из жизни, я могу рассказать вам правду. Только, пожалуйста, не курите, и не потому, что табак угрожает окружающим более, чем курящим, а оттого, что я считаю табак проявлением моральной распущенности…
– Я буду жевать сигарету, – улыбнулся Костенко. – Если позволите.
Александра Егоровна пожала плечами.
– Неужели такая гадость может доставлять удовольствие? Ну да ладно, жуйте свою отвратительную соску. Видите ли, покойница…
– Кто, кто? – подался вперед Сандумян, не заметив остерегающего взгляда Костенко. – Какая покойница?
– Жена Ивана Ильича… Она была очень хороша в молодости, кавалеры преследовали… До тех пор, пока Иван Ильич жил дома, она была образцом добродетели… А потом у него случилось несчастье…
Сандумян хотел было уточнить, какое, но Костенко положил ему руку на колено; тот понял.
– Иван Ильич был очень резким человеком; никто не знает, что произошло тогда у них на вечеринке, но он ударил завуча Завьялова, удар пришелся по виску, Завьялова увезли в больницу с сотрясением мозга. Потом над Иваном Ильичом был суд, дали два года тюрьмы… Через семь месяцев он вернулся… А у него дома – он приехал без предупреждения, за хорошую работу освободили значительно раньше срока – сидел завуч Завьялов… Иван Ильич прошел в свой закуток – у них был свой дом, с массой маленьких закутков, покойник не любил больших помещений; дождался, пока завуч ушел, – тот даже пытался с ним заговорить, но покойник свою дверь не открыл; вышел в столовую. А там сидела покойница и Коля. Дело в том, что завуч, чувствуя, видимо, свою вину, приходил подтягивать Колю – у того очень плохо шли гуманитарные дисциплины, совершенно не давались литература, история, география. Никто не знает, что творилось в доме у Кротовых, только соседи слышали, как пронзительно кричал Коля, очень кричал. А после исчез, и нашли его в море через четыре дня: он сбежал из дома, угнал рыбацкий баркас. Но разыгрался шторм, холодно, волны, ужас – представляете состояние ребенка? После этого он и стал заикой. Покойница две недели не выходила из дома, но с той поры совершенно исчезла ее былая самостоятельность и красота – она как-то съежилась и постоянно смотрела на покойника рабскими глазами побитой собаки…
– Иван Ильич был очень жестоким человеком? – спросил Костенко.
– Я бы сказала иначе. Я бы сказала, что он был справедливым человеком. За измену на Руси бабу испокон века драли вожжами…
– Но ведь вы считали, что измены не было? – заметил Костенко.
– Была, видимо, моральная измена, а она подчас страшнее физической.
– И в чем же выразилась измена Аполлинарии Евдокимовны?
– Кого? – удивилась старушка. – Кого?
– Так звали покойницу, – пояснил Сандумян. – Жену Кротова.
– Да? Незадача, а я как-то и не знала ее имени, помню только, что поповское, – и она засмеялась мелким, быстрым, захлебывающимся смехом.
– Иван Ильич был красивым мужчиной? – поинтересовался Костенко.
– О, невероятно! Сильный! Высокий! Уверенный в себе! Очень красивый, мы все были от него без ума.
– До этого Коля не заикался? – уточнил Сандумян.
– Нет. Никогда… Он стал очень тяжело заикаться, бедный мальчик… В нем произошел какой-то внутренний слом…
– Какой? Затаился? Стал тихим?
– Наоборот! Из бутылки выпустили джинна! Он, мне кажется, понял значение силы. Только ее ведь и боятся люди. И он стал главным драчуном – как что не по его норову – сразу в драку! Но я его все равно любила. В нем не было этого отвратительного, как у некоторых учащихся, чувства стадности.
– То есть? – не понял Костенко.
– Вы же помните школу, – ответила Александра Егоровна. – Кто-то набедокурил, зло нужно наказать, – непременно и безусловно, – но ведь не говорят, паршивцы, про зачинщика. Однако его необходимо выявить и наказать, тогда другим будет неповадно… И только один мальчик в классе помогал мне – Коля.
– Ябедничал? – спросил Сандумян.
– Вы плохой педагог, – Александра Егоровна даже передернула острыми плечиками. – Что значит – ябедничал? Он говорил правду. А другие – из ложного понимания духа товарищества – покрывали виновника, молчали.
Костенко снова положил руку на колено Сандумяна и спросил:
– Гоше Козел часто доставалось от него?
– Козел был маленьким тираном. Он горел своими лозунгами и требовал, чтобы все были, как он. По-моему, он был карьеристом…
– А чего ж на фронт добровольно ушел? – снова не удержался Сандумян.
– Вы думаете, бескорыстно?! Он наверняка полагал, что его определят в газету – стишки писать! А пришлось воевать! Взялся за гуж, не говори, что не дюж! Вы думаете, Козел (она снова произнесла фамилию именно так, как и ждал Костенко, с ударением на втором слоге) не донимал учителей?! Комсомол, ему все можно, а мы – мещане, обыватели, да еще не у всех чисто пролетарское происхождение! Нет, нет, их даже сравнивать нельзя, двух этих детей…
– Александра Егоровна, а когда Коля Кротов увлекся авиацией?
– Знаете, он будто чувствовал приближение войны… За полгода, ранней весной, начал посещать Осоавиахим и, к нашему вящему удивлению, пролетел над школой с Игорем Андреевичем! Крылышками помахал!
– А кто такой Игорь Андреевич?
– Наш аэронавт! Кумир всех мальчишек! Во времена оны служил в белой гвардии, поэтому его не пригласили в РККА, но он пристроился в Осоавиахиме. Весь в кожаном, перчатки с раструбами, усы, брови вразлет, удивительный был мужчина! Он, правда, потом перелетел к немцам в Новороссийск…
– Как фамилия кумира? – спросил Костенко.
– Не помню… Игорь Андреевич… Его все звали Игорь Андреевич!
Сандумян поднялся:
– У вас тут поблизости есть телефон?
– Обещают в следующей пятилетке, пока нет…
– Ничего, – сказал Костенко, – успеете, Месроп… Садитесь… Александра Егоровна, у вас случаем писем от Коли нет? Он, видимо, очень хорошо к вам относился…
– Письма! – она прыснула со смеха. – Умей он хорошо писать, его бы устроили на работу, где давали бронь, а не отправили на войну…
– Но ведь отец пытался пристроить Колю на завод, – мягко спросил Костенко. – Разве нет?
– Конечно. А на завод брали лучших комсомольцев из невоеннообязанных. А Коля был такой здоровый.
– Александра Егоровна, школьные тетради хранятся в архиве? – спросил Месроп.
– Какие же в школе архивы, молодой человек?! Это ведь школа, храм, а не околоток… Некоторые учителя оставляли себе особенно интересные сочинения. Я долго берегла изложения Лиды Гончаровой, она прекрасно записывала рассказанное, даже запятые улавливала… А Никодим Владимирович хранил ужасные сочинения, с тьмой грамматических ошибок…
– Он жив? – спросил Костенко.
– Да что вы! Он старше меня на два года и три месяца! Это я зажилась…
– А кто у него остался? Сын? Дочь?
– Две дочери, Лидочка и Риммочка, они его обожали, так и остались соломенными вдовами, вроде меня…
– Александра Егоровна, а к вам этой зимой моряк не наведывался?
– Какой моряк? – удивилась учительница. – Среди моих учеников не было матросов… И потом ко мне редко приходят, я ведь была строгой, я не заигрывала, как это теперь принято, с детьми. Я требовала. Да, я требовала, а кому нравится, если требуют?! Отчего я Колю помню и люблю? Потому что он, еще мальчиком, понимал, что порядок и требовательность – самое главное в жизни.
«И сила, – подумал Костенко. – И еще – неверие в книгу, особенно в Гулливера».
10
Тетрадку Николая Кротова в доме покойного Никодима Владимировича нашли дочери – Риммочка и Лидочка, тоже старушки уже – по описи.
– Хотя папа не был знаменитостью, – сказала младшая, Лидочка, – но его архив мы передаем государству. Уже приезжали из Краснодара, смотрели, восхищались: история педагогики края за пятьдесят лет, где еще такое сохранилось?! Вам неверно сказала Александра Евгеньевна, что папочка собирал только отменно плохие сочинения, папочка хранил все. Плохое – в том числе. Он был у нас настоящим гражданином, поэтому оставлял потомкам правду, а разве она бывает однозначной?
«МВД СССР, УГРО, Тадаве. Эксперты адлерского НТО установили идентичность почерка Кротова с подписью того человека, который получил деньги за убитого Минчакова, исследовав выпускное сочинение Кротова; июнь, 1941 год. Тема сочинения вольная. Костенко».
…Вечером, прогуливаясь по набережной, – голова раскалывалась, менялась погода, видимо, шло к дождю, – Костенко обратил внимание на большой плакат, вывешенный возле порта: «Черноморско-Азовской рыболовецкой флотилии требуются матросы, мотористы, раздельщики рыбы. Заработок – до 400 рублей».
Сначала он подумал, что после университета, начав службу в угро, он и мечтать не мог о таких деньгах, потом вспомнил Левона, который раскладывал ему бюджет актрисы: «Из ста десяти рублей, которые она получает в месяц, откладывай на еду; да, все верно, хлеб дешев, дешевле всего в мире; квартира, если дали, дешева, дешевле всего в мире; книгу новую надо купить, если есть блат, тоже дешево, на все про все приблизительно семьдесят пять рублей. А вот хорошие туфли, я не говорю о зимних сапогах, – поди их еще достань, – стоят сто или больше, отдай и не греши, а в чем бедной актрисуле выступать? В валенках, что ль? А она ведь концертами кормится – по десяточке, по пятерочке. Глядишь, и набежит еще одна сотенная…»
Костенко вдруг повернулся, чуть что не побежал в отель, но, когда был уже почти рядом, остановил такси и сказал шоферу:
– Пожалуйста, в горотдел милиции.
Там он попросил дежурного открыть кабинет Месропа, позвонил ему и сказал:
– Не сердитесь, что так поздно, приезжайте, пожалуйста, сюда и попробуйте привезти с собою начальника отдела кадров рыбфлота. Или же того, кто оформляет на работу людей, уходящих в дальние плаванья…
…Под утро, кончив беседовать с работниками порта и флотилии – Месроп притащил даже помощника начальника, тот отдыхал в Адлере, взял неделю за свой счет, приехал из Севастополя, думал скрыться от забот, – Костенко пошел на пляж, окунулся в студеную еще воду, лег на холодную гальку (только августовская держит тепло солнца до утра, майская за ночь остывает) и долго смотрел на то, как в небе шло тяжелое, драматичное, видимое противостояние: солнце натужно стремилось пробиться к людям, которые сюда к нему и приехали, а тяжелые, рваные, с вороньим, нутряным, фиолетовым отливом тучи словно бы блокировали его, затирали. Натужность борьбы была столь драматичной, явственной, что Костенко снова вспомнил Митю и Левона, когда они поехали – в сорок девятом еще – на «Динамо»; играли тогда «Спартак» и «ЦДКА». Состязание было финальным, определяющим турнирную таблицу, стадион полон; напряженность была подобна этой, утренней, только здесь напряженность еще более драматична, потому что тишина плывет над морем, на пляже ни одного человека, рассвет. А тогда стадион ревел, и футболисты, чувствуя трибуны, выкладывались, и кто-то дал прострельный пас, а кругом стояли спартаковцы, и было это метрах в двадцати от ворот, и форвард Валентин Николаев (жив ли?) прыгнул ласточкой, и в этом феноменальном прыжке, параллельно земле, пролетев сквозь строй спартаковской защиты, он нашел головою мокрый мяч и сунул его в девятку. Левон и Костенко тогда вскочили со своих мест, закричали, как, впрочем, и весь стадион, вне зависимости от того, за кого болели зрители: восхищались честной работой, которая сделалась вдруг историей футбола. А Митя раскуривал свою маленькую трубочку, смотрел на друзей, и горькая, нежная улыбка была у него на лице. «А чего ж ты молчишь?» – спросил тогда Костенко Митю. «Я не молчу, – ответил тот. – Я вместе с вами. Только я кричу молча. Так порою слышнее».
11
В Москве, вернувшись рейсом, который вылетел из Адлера в 11.20, Костенко сразу же прошел к генералу:
– Дмитрий Павлович, мне сдается, что Кротова-Милинко-Минчакова мы упустили.
– То есть?
– По моей версии он должен был в январе – марте жениться, взять фамилию жены и уйти в загранку с рыбаками… А там…
– Связывайтесь с рыбфлотом Союза – были у них случаи ухода или нет? Потом возвращайтесь ко мне, соберем людей, обсудим препозиции.
Никто, однако, с судов не уходил.
Костенко заперся у себя, сводя в один документ данные тех опросов, которые он провел за последние дни. Он писал четко и быстро, но в голове засела мысль, мешавшая продолжать работу.
Он отложил перо, достал из сейфа свою самую дорогую зажигалку, «Дю Понт», тяжелую, красивую, долго разглядывал ее, а потом задал себе вопрос:
– Ну хорошо, а отчего не «Амундсен»?
«Я пошел по версии “Немо”, это легко, – думал он, – нехватка кадров у рыбаков, условия труда тяжкие, поэтому берут практически всех, не до проверки моральных качеств, план надо давать, государственный план – не какой-нибудь… А если предположить, что он действительно женился, взял фамилию жены и переселился с нею куда-нибудь поближе к пограничным районам, в ту местность, где летают маленькие самолеты? А водить самолет он умел. Кстати, отчего он не пошел в авиацию, когда началась война? Тадава не исследовал эту линию. Надо подсказать. Действительно, почему? Рассчитывал, что в пехоте легче перебежать? Хотел ли он изменить с первой же минуты? Или это пришло от страха, когда столкнулся с силой, которая показалась ему мощнее нашей? Он же преклонялся перед идеалом силы. А может, он пошел на фронт искренне? Мне очень не хочется в это верить, но я не имею права верить только в свою версию. Он был честолюбив; драчливость и заикание – две стороны одной медали. А что с заиканием?»
Костенко включил селектор. Тадава не отвечал.
«Наверное, в архивах или у ветеранов, – понял Костенко, – но он ведь должен дать справку, возможно ли вылечить заикание, явившееся следствием шока, перенесенного в детстве. Без этого моя версия вообще шита белыми нитками, ищем преступника-заику, а гоняемся за человеком, который не заикается. Если меня возьмут в клещи наши следователи и люди из прокуратуры, я окажусь раздавленным. Выпало ключевое звено, “заикание”; отговоркой, что, мол, это прошло с возрастом, тут не отделаешься, засмеют. И, кстати, правильно сделают. А Петрова? Ну хорошо, кофточка и сапожки. А фотографий-то ее нет. Тех, последних, которые можно предъявлять к опознанию. Хотя есть “звездочка” у левого соска, это доказательство. Но почему Кротов забирал и ее фото? Заранее планировал убийство? “Крутая женщина” – так, кажется, говорил Львов. Но ему, Кротову, такая сообщница нужна. Значит, он решил ее убрать после встречи со Львовым? Почему? Свидетель? А Петрова могла потом все рассказать Кротову… Со смехом, наверное, рассказывала о “матраце”. А Кротов боялся любых контактов: человек, живущий по легенде, должен постоянно таиться: дом – работа, работа – дом. Никаких отношений с окружающими, только официальные; жизнь как сквозь стекло, никого не подпускай близко, не ровен час подпустишь, а он, кого подпустил, племянником тебе окажется, из Осташкова, поди тогда крутись… И – главное: зачем он убил Минчакова? Чтобы взять документ? Но он со своим жил прекрасно, перепись прошел, все честь по чести. Ограбить? Взять пятнадцать тысяч? У самого было на книжке семь и золото в тайнике. Самородок? Скорее всего. Тот самый дерябинский самородок. Плохо мы опросили и Дерябина, и Загибалова – они должны сказать, что стоит этот самородок. Это, конечно, трудно – вытащить у них такое признание, но мы должны были это сделать… Кстати говоря, эту линию я не отрабатывал: золото – фарцовка – доллары. Петрова же просила двоюродного брата обменять золото на доллары? А зачем здесь Кротову доллары? В “Березке” сигареты покупать, что ль? Он не пижон. Кстати, надо выяснить, курил ли он, и если курил, то какие сигареты. И еще надо сейчас же запросить все загсы – про те регистрации, когда муж брал фамилию жены… Период – с декабря по сегодняшний день… А если все-таки допустить версию, что он затаился? Нет, вариант Пименова тут вспоминать не след, то – другое. Этот – по моей версии – фашист, десантник, зверь. Он понимает, что долго в схороне не усидишь. Он должен уходить за кордон с золотом. Но как? Не зря он писал Ивану в Израиль: “Там без денег делать нечего”. Он это понял еще в Германии. Документы Пауля прольют свет на это дело».
Он снял трубку, позвонил генералу, спросил о вылете в Берлин.
Тот ответил:
– Ждем решения, Владислав Николаевич. Все документы на вас ушли…
«И еще, – продолжал думать Костенко. – Следов крови ни у него, ни у нее в квартире не обнаружено. Убивали Минчакова вдвоем? Или он один? Где? Не у него же в комнате? У нее на квартире? Следов крови нет, не подстилали же они клееночку под жертву… Но ведь мы не исследовали машину Мили… Кротова! Ни салон, ни багажник! Хотя какой прок, прошло полгода, столько раз была в мойке… Ну да, мыли… Знаю, как у нас моют, побрызгают из шланга – и все… Багажник и вовсе стараются не мыть, чтобы ржавчины не было. А карабин? Неужели он его с собою таскает, если еще не ушел за кордон? Это ж опасно, он понимает это. Ему нужен пистолет, если допустить версию “Амундсен”. Садится в самолет, в маленький самолетик, какой-нибудь “кукурузник”, решив повторить арктический вояж исследователя на Шпицберген. Разве не версия? Нет, пока еще не версия. Пистолет? Если бы были какие-либо сигналы о пистолете, тогда – версия. А почему бы ему не хранить пистолет со времен войны?»
Костенко снял трубку прямого телефона в стенографическое бюро:
– Нинуля, телеграммку, пожалуйста, отправьте в Магаран для Жукова, текст следующий: «Срочно установите машину, на которой Кротов (он же Милинко) отвозил Минчакова на аэродром, и проведите экспертизу на следы крови». Подпись разборчива?
– У вас всегда все разборчиво, Владислав Николаевич. Когда пятнадцать рублей прибавите за верную службу?
– Нинуля, не берите за горло, я дважды писал начальству, разве нет? Выбьем, главное – уметь ждать.
– Это в двадцать можно ждать, а когда под пятьдесят…
– Мы с вами в одной возрастной группе. Честное слово, выбью.
Нина усмехнулась:
– Ну так уж и быть, тогда передам вашему Жукову…
«МВД СССР, УГРО, Костенко. Эксперты установили на чехле инструментария машины, в которой ездил Кротов, следы крови; кровь, вернее, ее следы обнаружены также на стенках углубления, где хранится запасной баллон. Майор Жуков».
Костенко походил по кабинету, присел на краешек стола, включил селектор:
– Товарищ Максимов, мне б «газик», надобно в Осташков съездить.
12
…От поворота на Торжок проехали по пустому, прекрасному шоссе до Сенцов, сто верст по тайге, отсюда, матушка, начинается, в четырех часах езды от Москвы, и тянется на десять тысяч – через Сибирь к Дальнему Востоку – чудо что за страна, хозяев бы поболее толковых, рай можно создать, нет, нельзя еще, возразил себе Костенко; если из шестидесяти пяти лет вычесть годы войн и разрух, останется сорок три, а из этих сорока трех десять надо набросить на эксперименты, а после них лет десять приходилось очухиваться, значит, на все про все четверть века, но это лишь звучит внушительно, на самом-то деле двадцать пять лет, Аришка родилась двадцать лет назад, а еще только на третий курс переходит, а тут за двадцать пять лет стали сверхдержавой. Значит, такие силы задействованы, что держись, человечество! При всех недоделках и перестраховках иных хозяйственников все равно счет в нашу пользу, живем в эпоху ломки, внешне не очень заметно, а если изнутри глянуть, тогда увидишь, что заложены правовые нормы на будущее, такого еще не было в России, о праве лишь говорили, писаного не было, потому люди еще и непривычны; сервис браним, базары, где носки и джемперы кустари продают, гоняем, а спроси кого про семнадцатую статью Конституции – не знают. Впрочем, когда Америке было сто лет, она куда как слабее нас была и разлапистее; ничего, еще поглядим, как дело пойдет, только б компетентность восторжествовала, а у нее много противников, потому как она – дама требовательная, что не так – от ворот поворот, а кому охота кресло терять?!
– Где сворачивать, Владислав Николаевич? – спросил шофер Борис. Он ездил с костенковским отделом давно уже, всем был хорош, но только постоянно ломал хрупкий рычаг «моргалки», ручищи здоровые, пальцы, как сосиски, а работы – пшик: сутки дежуришь, трое – отдых, да и в дежурство-то два выезда, не больше, не на оперативной же, спи себе в гараже на клеенчатом диване или козла забивай да расписывайся за сто восемьдесят в месяц.
– Вроде бы здесь, – ответил Костенко. – Так я, во всяком случае, из документов Тадавы понял.
Асфальт кончился, началась проселочная дорога, грейдер давно, видимо, не пускали, выбоины чуть не на каждом метре, страх господень!
«“Лет чрез пятьсот дороги верно у нас изменятся безмерно: шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут”… Бедный фантазер Пушкин, – горестно подумал Костенко. – Как же мы чудовищно нерациональны?! Научились строить автомобили, а пускаем их по эдаким дорогам! Неудивительно, что они разваливаются через три года, никаких запчастей не напасешься! Ведь есть тут грейдер, стоит без дела, ну почему не пускать его постоянно?! Неужели и этим должен заниматься секретарь райкома или предисполкома?! Вправе ли мы заставлять идеолога и советского руководителя лично заниматься всем хозяйством в районе?! Они должны заниматься не каждодневным отчетом, не их это уровня дело; они обязаны планировать будущее, думать о социальных структурах, науке, просвещении, морали, здоровье, моделировать возможности, а не подменять собою заготовителя или дорожное управление. Водитель грейдера должен быть лично заинтересован в своем деле! Он должен получать премии от автохозяйств района и от совхозов – за хорошее состояние дорог, за то, что он им технику сохраняет, не бьются машины по колдобинам. А мне перестраховщики возразят: “Что ему с таким количеством денег делать? Хочешь инфляции?” А я отвечу: “Дурак инфляции хочет, а я не хочу, я очень хочу, чтобы и этот грейдерщик, и его товарищи, объединившись в кооператив, заработанные на истинном хозрасчете деньги вложили в восстановление здешних брошенных изб и потом сдавали бы эти прекрасные деревянные избы рабочим завода, поставляющего им технику, а рабочие, – отвечу я, – могли бы получать процент не столько в сберкассе, сколько в кассе своего цеха, в зависимости от работы каждого товарища – круговая порука дела. Как же я хочу, чтобы инициативу приветствовали, как истинную панацею от наших экономических хвороб, неповоротливости, волокиты, пьянства, а не вспоминали о ней – от случая к случаю…”»
– Красотища-то какая, Владислав Николаевич, – сказал Борис, – вот бы куда осенью приехать за грибами.
– Давай доживем.
– А куда денемся? Доживем…
…Колхоз «Светлый путь» – девять домов жилые, остальные заколочены – нашли поздно вечером; хорошо – север, да май, да светлые ночи, а то бы в машине пришлось ночевать.
– Глафира Андреевна, – Костенко постучался в окошко, освещенное трепетным пламенем лампады, – откройте, пожалуйста…
– Да кто?!
– Из Москвы я к вам, по поводу Гриши…
Старуха застонала, забормотала что-то со сна, заскрипела лавка – бабушка, видно, спала на печке, спускалась осторожно, медленно.
– Ну заходите, – сказала она, отворив дверь в холодные сени; коровой не пахло, слышно было только, как тихонько квохтали куры.
– Матушка, – сказал Костенко, – не знаю уж, какую я вам весть привез – горькую или… Не пропал ваш сын Гриша, не сдался в плен, не ушел никуда, погиб он, мамаша, в боях за нашу Советскую Родину. Справку я вам передаю, вот она, вы ее храните, матушка, пенсию вам уже начислили…
– Значит, убили мово сыночка, – тихо сказала старуха. – Нет, значит, Гриньки больше…
Она не заплакала, глаза ее были сухи, отражалось в них пламя лампадки, только руки места себе не находили, большие руки, поломанные в суставах ревматизмом, но все равно сохранившие женственность – мизинцы маленькие, тонкие, и Костенко подумал, как ужасно, что руки этой женщины были лишены принадлежного ей по закону бытия: муж помер молодым, сына убили, кого ж могли приласкать они, кому могли отдать тепло свое и нежность?
У него перехватило горло, старуха заметила это, вздохнула, поднялась, принесла из маленького шкапчика три стопочки и бутылку.
– Ничего, – сказала она. – Выпьем за упокой его светлой души.
– Мне нельзя, – сказал Борис рубленым голосом, и этот его рубленый, резкий голос показался Костенко ужасно, до боли в висках, неестественным и чужим здесь…
– Шофер, что ль? – спросила старуха, – Так ить на ночь можно, к утру и духа не будет.
– Мы сейчас же и обратно, – сказал Костенко.
– На ночь? – удивилась старуха. – Кто ж ночью ездит? Оставайтесь, я вам постелю, на Грининой кровати постелю, она широкая, Гринька с двоюродным завсегда на ней спал. Отцовым пальтом, бывало, накроются, и ну возиться, ну шпыняться, да еще напукают, огольцы, чтоб теплей было…
– Глафира Андреевна, – выпив, сказал Костенко, – я хотел вас спросить вот о чем… Весной сорок пятого, а скорее, летом, к вам Гришин друг не приезжал погостить?
– А как же, приезжал! Тоже Гринька, как сейчас помню! Он еще с покойным Андреем Иванычем спал, а племяшу я на полу стелила. Они тоже с фронта пришли, только ихняя изба сгорела, они у меня тогда стояли постоем.
«Вот почему он ее не убил, – сразу же понял Костенко. – Он ведь ехал сюда убить ее. А ее спасло то, что постоем стояли погорельцы: сделай добро близкому – окупится жизнью, так в Писании?»
– Глафира Андреевна, – спросил Костенко, – а Гринька тот, что приходил гостевать от сына, сам-то откуда родом? Не говорил?
– Вроде б смоленский, – откликнулась старушка, – что-то он про Смоленск говорил. Андрюшка-то Гончаров там воевал, ну и, значит, беседовали они об городе… А может, и не смоленский, тоже, может, воевал там, их всех война породнила, где прошли, там и родина для них осталась…
…На обратном пути, глубокой уже ночью, Костенко заехал в Торжок, в районное отделение милиции, и, не очень-то веря в успех, скорее для успокоения совести, позвонил дежурному в свой отдел, попросил архисрочно выяснить, сколько в Смоленске людей с фамилией Кротов, но из всех этих Кротовых пока что сосредоточиться на выяснении того именно, у кого были родственники в Адлере…
«МВД СССР, УГРО, Костенко. Уроженец Смоленска Кротов Евгений Ильич, 1897 года рождения, имел брата, Ивана Ильича, проживавшего в Адлере. Скончался в 1951 году. В Смоленске работает вдова его сына, Кротова Елена Тимофеевна, 1932 года рождения, заведующая ювелирным магазином, проживает по адресу: Могилевская улица, дом 6».
…Вернулись на рассвете; Москва была красива особой, утренней, безлюдной красотою; остро пахло распустившейся листвой.
Костенко отчего-то вспомнил Кисловодск; приехал туда зимой, по делу «Пашки»; воскресенье выдалось свободным; пошел на Красное Солнышко. Поразило его обилие белок – быстрые, с желтыми опушками и дымчатыми холеными хвостами, нежные зверьки садились людям на руки, лакомились семечками; коготки их щекотали ладонь – идиллия.
«Люди стали добрее, – подумал тогда Костенко. – Это – знамение. Раньше здесь белок не было, а если и забегала какая, то от людей таилась в листве… Их ведь в войну стреляли не для того, чтобы шкурку выделать, – о мясе мечтали…»
…Дежурный, счастливый оттого, что скоро может ехать домой, отсыпаться, доложил:
– Товарищ полковник, на ваше имя только что получена телеграмма и пакет из Неаполя. И еще: вас очень искал генерал.
…В пакете были фотографии Петровой, переданные в Неаполе ее двоюродным братом: невзрачная женщина, в очках, с острым, точечным взглядом. Кротова рядом не было.
«По дурнушкам работал, – подумал Костенко. – Бухгалтер Львов был влюблен, она ему казалась красавицей; удел влюбленных – дописывать портрет пассии, создавать образ прекрасной дамы… Каждый влюбленный – гениальный художник».
Костенко посмотрел на часы – половина шестого. Домой ехать нет смысла. Генерал приезжает в восемь. Он лег на диван, укрылся шинелью, которая висела у него в шкафу вместе с формой, и сразу же уснул.
Сон ему приснился странный – будто он в маленькой деревенской церкви, стоит на коленях рядом с Глафирой Андреевной Милинко, в руках у них свечки, и хор поет, детишки.
Пел, однако, не хор в церкви – по радио передавали концерт юных свешниковцев, «Аве Мария»; секретарь не выключила радио с вечера, Костенко всегда держал включенным, телевизор велел убрать, чтоб не отвлекал, а «Маяк» слушал постоянно, музыка ему помогала, а если передавали какую-нибудь словесную тягомотину, он отключался, пропускал мимо, он это умел, поэтому и с женой был счастлив – все двадцать пять лет.
Увидел во сне ленинградского рабочего-изобретателя Васильева. Малюсенький, худенький, с нездоровым лицом блокадника, тот рассказал Костенко, как ему прикрепили – в порядке шефства и контроля – инженера с двумя чертежниками.
«Инженер норовистый, – улыбчиво, тихо рассказывал Васильев, – что не так, сразу начинает вопить. Если б я йогой не увлекался, давно бы от его концертов инфаркт получил, и так он шумит, а я небо себе представляю, облака, Баха, и он таким малюсеньким-маленьким делается, и голоса его не слышно, а уйдет – я снова на землю вернусь и спокоен, всем на удивление, словно бы никакого скандала и не было. Чертежники удивляются: “Ну и выдержка у вас”. Нет у меня никакой выдержки, просто йогу знать надо, очень полезный инструментарий в век стрессов».
…Спал Костенко сорок минут; тяжело поднявшись с дивана, сразу же подошел к телефону, позвонил в Смоленское управление:
– Аккуратно поговорите со вдовой Кротова – не посещал ли ее в этом году мужчина, возможно, в форме капитан-лейтенанта.
…Когда в девять вернулся от генерала (тот сказал, что загранпаспорт готов, билет в Берлин взят на завтрашний утренний рейс), позвонили из Смоленска:
– Кротову посещал моряк; сказал, что был дружен с ее родственником, покойным Николаем, вместе дрались за Киев, обещал еще раз приехать в этом месяце…
…Билет на Берлин Костенко попросил сдать, поручил Тадаве позвонить Паулю Велеру, извиниться, сказать, что прилетит на днях, сейчас никак нельзя, и вызвал машину: ни самолета, ни поезда на Смоленск не было, ждать не мог, чувствовал, надо быть там как можно скорее.
Ретроспектива-VII [Магаран]
Впервые он увидел золото в руке отца. Тот пересыпал его с ладони на ладонь – грязные серо-желтые камушки, словно с пляжа.
– Вот, гляди, – сказал тогда отец. – И запомни, сие – сила.
– А чего это? – не понял юноша.
– Не «чего», а «что». Золото. Завещаю его тебе. Продать нельзя, «торгсин» прикрыли, так что береги. До иных времен.
– До каких это «иных»?
Отец внимательно на него посмотрел, долго медлил, потом ответил:
– Много сызмальства знать будешь – помрешь не живши. Придет время – скажу. В нынешних книгах объяснений не ищи – пустое, ложь; задают – зубри, но в голову не откладывай, не надо, зачем зазря забивать тем, что – мимо? Помни одно: у кого козу отобрали – тот о козе всю жизнь и мечтает; у кого коня увели – тот во сне своего коня видит; у кого золото отобрали – тот ждет… Постоянно, ежеминутно ждет, как бы вернуть. И в союзниках ему будет тот, что козу потерял, тот, кто коня лишился, потому как людишек одно лишь может объединить – единая кровь и желание вернуть. В этом желании зависти еще нет, она после придет, когда козу в дом за рога притащат, коня по улице проведут, а мне в руки пригоршень золота и брильянтов отсыпят из зеленого мешка с сургучной печатью. Вот тогда тот, кто козу вернул и коня, на меня попрут! Но – дудки! Прежних уговоров не будет, тогда – круто, иначе нельзя с нашим народом, иначе в нем страха не будет, а коли страха нет – уважения не жди. У вас в учебниках пишут, что, мол, последний царь был «кровавым». Неверно это, сын. Не был он «кровавым», тряпка он был и размазня, оттого и не было в народе почтения к нему, а я вот летописи читал, как в церквах об Иоанне Грозном писали, когда он головы косил: «Заступник, писали, родимой земли, за православие страдалец и за душу народную». Так-то вот, сын. На ус мотай, но язык за зубами держи, время такое, что слушать все умеют, грамотные, и писать научились, – понял? Силу копи. И жди. Тогда никто не посмеет тебя в нос шпильнуть: «заика»; тогда все будут шапку с головы драть. И еще запомни: мужчина только тот, кто умеет мстить.
Второй раз он держал в руках золото в доме Гретты, в сорок третьем, в Бохуме. Дурак, поспешил, пьяно поспешил… Бомбежки б дождаться, ее балкой придавить, все б мое было…
Третий раз он увидел золото спустя двадцать семь лет, в семидесятом, когда вез с аэродрома трех старателей. Он удивился, когда, спросив пассажиров – вполне современных, с аккуратными бородками, не старых еще людей – об их профессии, услышал в ответ:
– Старатели мы.
– Это как? – спросил Кротов, забывший к тому времени свою фамилию; окликни его «Кротовым», не сразу б и оглянулся, и не из-за осторожности, а потому что школа была хорошей, он в «Милинко» вжился, вошел в него целиком.
– Да просто, – ответил один из старателей, – идем в «Центроприиск», заключаем договор, получаем район и стараемся.
– Ну и как? – поинтересовался Кротов. – Настарались?
– Покажем, что ль? – спросил остальных тот, что сидел с ним рядом, и, не дожидаясь ответа, достал из внутреннего кармана презерватив, наполненный серо-желтым песком.
Кротов сразу же вспомнил отца, его ладонь и камушки, которые тот пересыпал; его тогда потрясли отцовские ладони – в жестких морщинках, но такие емкие, что, казалось, никакая сила не сможет из этой ладони золото взять.
Старатель положил презерватив, набитый золотом, на руку, подбросил – тяжело подбросил, тяжесть золота особая, она к телу льнет.
– Ну и сколько же это тянет? – спросил Кротов.
– Тянет хорошо, – ответил тот, что сидел рядом, видимо, старший.
Кротов высадил их возле «Центроприиска» и в течение трех месяцев мягко трогал вопрос о приисковиках, о том, что это такое и с чем едят; разговаривал он с разными людьми, чаще всего малознакомыми, иногда с пассажирами, собирал информацию, никаких шагов не предпринимал, записался в клуб туристов, попросил помочь ему в разработке индивидуального маршрута, чтобы «лучше узнать родной край». Ему посоветовали присоединиться к группе, одному в здешних глухих местах рискованно. «За моей спиной фронт, доченька, – ответил он девушке в туристском обществе, – там риска было поболее, а на отдыхе хочется побыть одному, работа у меня больно гомонливая, ни минуты покоя». Отсеивал имена, подвозил людей из «Центроприиска», вышел на Петрову. Присматривался к ней – не спеша, со всех сторон: и то, как она ведет себя в магазине самообслуживания, что покупает и сколько, как выбирает продукты, как их в сумку складывает; исследовал ее и в кино, и в той столовой, куда ходили сотрудники «Центроприиска», перекинулся несколькими словами с соседями по дому – мол, хочу поменять свою квартиру на ваш район; как люди, не склочники ли, тихие или пьют, баб водят или, какие вдовые, к мужикам неравнодушны.
Маршрут ему разработали, как же ветерану не помочь, сколько их, фронтовиков-то, раз, два – и обчелся.
…Ох, как же он мандражил, когда шел в военкомат в сорок пятом, чтобы стать на учет; два билета купил заранее – один на самолет, другой на пароход, понимая при этом, что все равно возьмут, если только решат копать. Но какой им смысл копать? Устроился он в совхоз, шофера ни одного не было, весь парк им отладил – две «полуторки» и «виллис»; характеристику ему написали на двух страницах.
Ох, как же он вздрогнул, когда пришла вторая открытка – он уж тогда в город перебрался, надо было затеряться, в совхозе не затеряешься, да он там и не жил, он туда приезжал на автобусе: снял жилье в городе, в общежитии, конспирацию блюл.
Тогда он снова купил два билета, подъехал на такси – на своей машине, – пистолет засунул за пояс: в случае чего буду отстреливаться, только б уйти, затаюсь, удачу ждать стану.
Вызвали его, оказывается, для того, чтобы медаль вручить – «За двадцатилетие победы» над фашизмом.
…В маршруте – с лодочкой, спиннингом и фотоаппаратом – он провел два месяца, привез карту путешествия, записей показывать не стал – к чему оставлять почерк?
А уж после этого подкатился к Петровой: очкарик, вроде Розки, как бабочка на огонь подлетит.
Подлетела, точно.
Играл он беспроигрышно, высчитав для себя стереотип женского характера – поклонение силе. Приучить к своей силе, исподволь, не спеша, она тогда без моей силы с ума сойдет, кошка…
Наблюдая за Петровой, он подсчитал, что в магазине она тратит от семидесяти копеек до рубля в день; зарплату ее он уже знал: сто шестьдесят, плюс выслуга, плюс северные – на круг выходило двести семьдесят. Копит. А если копит – значит, о будущем думает, серьезный человек, а такой ни в чулок свои тысячи не сунет, да и в кассу навряд ли понесет, слишком много получится за десять лет; значит – вкладывает. Во что? Она ж в «Центроприиске», а мне теперь этот «Центроприиск» как топографическая карта известен и понятен: они ж районы дают старателям, они знают, где богатые жилами места, а где отработки; старателям – отработки; золотоносные места берегут для государства, там прииски будут ставить…
Кротов ввел новую свою подругу в раж, приручил, а потом – жах! – и на полтора месяца в тундру: «Любовь к родному краю, дорогая, ничего не поделаешь, терпи и надейся, вернусь, рыбки привезу соленой, а если повезет – постараюсь, может, золотишка тебе к ногам положу, сережки с него сделаешь и колечко…»
Когда вернулся, когда приникла она к нему, когда он увидал ее счастливое лицо, залитое слезами, понял: теперь с ней можно делать все что угодно, она – готова. Раньше-то про нее говорили: «Кремень, а не человек, мужик в юбке». Ничего, переломится. Гретта тоже была вроде Гиммлера, а потом сама в тюрьму ходила: «Отпустите».
Кротов смотрел на счастливое лице Анны, залитое слезами, гладил по голове, по плечам: увел в комнату, уважил, а потом, затянувшись горькой «казбечиной», вздохнул:
– Рыбки я тебе привез, а вот золотишка без твоей помощи не найти мне. Ты на этой земле одинокая – кто у тебя, кроме тетки? – и я один, как перст. Если не нам вместе, кому же? Ты мне к следующему году – торопиться не надо, время от нас не уйдет – карты посмотри в сейфе у ваших изыскателей, а? Смоги их посмотреть, ладно? И расскажи, какие они – на кальке ли, на ватмане; фото с них делать или надо перечерчивать…
Женщина не отвечала – прижималась только, головой о плечо терлась – кошка, одно слово…
Через год он привез сорок три грамма золота; взвешивали на особых весах; несколько деталей принесла Петрова, остальное собрал он, Кротов.
А через семь лет он хранил в тайнике у нее в квартире пятьсот двадцать граммов.
Сила.
И тогда-то они вылетели в Ригу, к брату Анны…
…А брат оказался тряпкой. Но Анна работала как надо. А работу надо отмечать, как же иначе; ночью – само собой, а если придумать что для дня – навек запомнит, бабы показуху любят…
Перед вылетом из Риги надел очки, зашел с нею в ювелирный, вроде б полюбоваться; спросил, что нравится ей; ответила, разглядев все, что было под стеклом: «Вот этот изумруд».
Отсчитал тысячу триста, взял колечко, надел на палец.
Лицо ее в тот миг понравилось Кротову впервые и по-настоящему; закаменело ее лицо, словно бы рубленное по камню, только в глазах слезы…
13
Кротову уже привезли в управление; за ее домом было поставлено наблюдение; допрос проводил Костенко – по форме, предупредив об ответственности за дачу ложных показаний.
«Костенко: Скажите, пожалуйста, отчего вы, филолог по образованию, не работаете в школе и никогда там не работали, а трудитесь в сфере торговли?
Кротова: Я не понимаю, зачем меня сюда привезли? Если есть недостача, меня обязаны ознакомить с документами ревизии, которая – во всяком случае официально – не проводилась. А на ваш вопрос отвечаю: вся наша семья занималась ювелирным делом. Покойный муж – человек по натуре ревнивый – поставил условие нашей супружеской жизни, чтобы я работала вместе с ним, была все время рядом. Он был начальником секции, я – заместителем, потом он стал заведующим, я – начальником секции драгоценных камней.
Костенко: Вас доставили сюда не в качестве обвиняемой, а как свидетеля, это ответ на ваш первый вопрос; с данными ревизии, если в ней возникнет необходимость, вы будете ознакомлены заблаговременно, это ответ на ваш второй вопрос. Удовлетворены?
Кротова: Да. Спасибо.
Костенко: От кого пошла ваша семейная традиция? Я имею в виду ваши слова, что вся семья занималась ювелирным делом.
Кротова: Отец мужа был ювелиром. Дед, которого я не знала, тоже. Кажется, и прадед.
Костенко: В Смоленске была ювелирная торговля Юркиных. Какое отношение имели к ней ваш муж и его отец?
Кротова: Юркина – родня по мужниной линии.
Костенко: Какова судьба Юркиной?
Кротова: Она уехала за границу в 1921 году.
Костенко: Одна?
Кротова: Не знаю. Об этом у нас никогда не говорили.
Костенко: Куда уехала?
Кротова: Я же говорю, это была закрытая тема. Я сама узнала об этом в начале шестидесятых годов, когда родственники за границей перестали быть… ну опасными, что ли…
Костенко: После смерти мужа вы ни с кем не связали свою судьбу?
Кротова: У меня дети… Дочери пятнадцать, это может ее травмировать… Сын уже взрослый, ему двадцать, он бы меня понял… Но девочка любила отца, вы понимаете, каково ей будет видеть в доме другого мужчину.
Костенко: Простите за вопрос: у вас есть друг?
Кротова: Да.
Костенко: Можете назвать его имя?
Кротова: Да. Он вдовец, так что я не несу ущерба его репутации. Это Розин Лев Павлович.
Костенко: Чем он занимается?
Кротова: Военврач в отставке.
Костенко: Спасибо. Теперь расскажите, пожалуйста, по какому поводу к вам приезжал однополчанин Николая Кротова?
Кротова: Никакого повода… Расспрашивал, что у меня сохранилось от Коли, я ответила, что не помню, кажется, есть, давно не перебирала письма и альбомы.
Костенко: Дальше…
Кротова: Он сказал, что Коля вроде герой, про него документы ищут… Назавтра снова позвонил, пригласил в кафе, много передавал про Колю, говорил интересно, потом я почувствовала его интерес ко мне как к женщине. Я дала ему понять, что этого… Ну, словом, я дала ему понять… Тогда он переключился на разговор о моей профессии.
Костенко: То есть?
Кротова: Сказал, что к старости, когда вышел в отставку, начал…
Костенко: Он был в форме?
Кротова: Да.
Костенко: Сколько звезд было на погонах?
Кротова: Две больших. Как у Льва Павловича.
Костенко: А не четыре маленьких?
Кротова: Нет, нет. Лев Павлович был военврачом, я знаю, что такое капитан второго ранга…
Костенко: Сколько лет Льву Павловичу?
Кротова: А что?
Костенко: Интересуюсь, когда он вышел в отставку?
Кротова: Я не помню… Давно уже… Ему шестьдесят восемь…
Костенко: Простите, что перебил…
Кротова: О чем же я?
Костенко: Не вы, а он… Переключился на разговор о вашей профессии, о его отставке, старости, о том, что он начал…
Кротова: Ну да! Вспомнила! Он сказал, что ездит в Коктебель, собирает там полудрагоценные камни: агат, аметист; набрал уже много, получил в наследство от покойной жены золото, спрашивал, где можно огранить камни, нельзя ли это сделать у нас – при торге есть мастерская по ремонту ювелирных изделий…
Костенко: Вы отказали ему?
Кротова: Нет, отчего же, я обещала помочь…
Костенко: Дальше…
Кротова: Когда я почувствовала его интерес ко мне как женщине, все стало плохо. Я дала ему понять, что мне это неприятно. Это был неловкий момент… Но потом снова все было вполне пристойно.
Костенко: Сколько времени надо ждать записи на ремонт золотых изделий в вашей мастерской?
Кротова: Да никакой записи. Просто ребята медленно работают, они не на хозрасчете, а на твердом окладе, а я если попрошу – сделают сразу же.
Костенко: И огранят камень, и оправят в золото?
Кротова: Конечно.
Костенко: Это разрешено законом?
Кротова: Если человек предъявляет паспорт, чего же в этом предосудительного? К нам многие приходят ремонтировать драгоценности, мы у всех требуем паспорт, а там прописка, номер отделения милиции – чего ж больше? Так можно всех заподозрить…
Костенко: Это – упаси бог, это не надо. А вы документ капитана не посмотрели?
Кротова: Это неудобно… Если бы он сдал товар в мастерскую, я бы, конечно, проверила документы – даже у однополчанина покойного родственника…
Костенко: В магазин вы с ним вместе заходили?
Кротова: Да. Он проводил меня на работу, посмотрел наши изделия…
Костенко: Те, которые на витрине? Или вы показали ему некоторые вещи, не пошедшие еще на прилавок?
Кротова: Вы что, следите за мной?
Костенко: Нет. Я просто смотрю на вас. И вижу, что вы волнуетесь. А волнуется тот человек, который чего-то недоговаривает. Я хочу понять, что вы скрываете?
Кротова: Ах, ничего я не скрываю! Я работаю в торговле тридцать лет, прекрасно знаю тех людей из ОБХСС, которые курируют нашу ветвь, у меня никогда не было трений с вашей организацией.
Костенко: Скажите, а как удобнее транспортировать золото? В песке, слитках или изделиях?
Кротова: В слитках. Вы имеете в виду промышленную транспортировку?
Костенко: В формах транспортировки я не силен. Я сыщик, а не хозяйственник. А был у вас никакой не однополчанин Кротова, а убийца, который трупы топором рубит…
Кротова: Вы это говорите серьезно?
Костенко: Вполне.
Кротова: Господи… Я действительно показала ему несколько платиновых колец с бриллиантами, которые мы еще не пустили на прилавок, ждем конца квартала, бережем для выполнения плана…
Костенко: У вас очень точный глаз. Вспомните, пожалуйста, он очень внимательно разглядывал ваш кабинет? Ходил по нему?
Кротова: Он не вел себя как грабитель, который исследует толщину решеток на окнах… Мои окна забраны толстыми стальными прутьями, а сигнализация идет напрямую к вам…
Костенко: А не спрашивал он вас, – с юмором, мимоходом, – не боитесь ли воров?
Кротова: Нет… Не так… Он сказал: “Вы тут как в бункере, полнейшая безопасность”.
Костенко: Вы возразили?
Кротова: Нет, я сказала, что если смогли ограбить банк, то уж нас, если захотят, подавно ограбят.
Костенко: Вы материально ответственны?
Кротова: Нет. Заместитель.
Костенко: У вас дома есть фотографии Николая Кротова?
Кротова: Школьные.
Костенко: А письма?
Кротова: Да… Я не помню… Может быть…
Костенко: Он знает ваш адрес?
Кротова: Нет.
Костенко: Вы его не приглашали в гости?
Кротова: Нет.
Костенко: Мы сейчас поедем к вам и посмотрим в вашем семейном архиве все фото и письма».
Писем и фото в альбомах не было.
И Костенко, наконец, понял: Кротов не просто будет бежать на запад, он будет просить политическое убежище, поэтому-то он так тщательно уничтожает Кротова, Николая Ивановича, бандита, фашиста, волка.
– Зачем вы лгали, что «капитан второго ранга» не был у вас дома? – спросил Костенко.
И тут женщина сломалась…
Она не плакала, просто покатились слезы, оставляя бурые следы на тщательно положенном «смуглом» тоне; Кротова сделалась в какое-то мгновение очень старой женщиной – потерянной и жалкой.
– Помочь вам? – предложил Костенко. – Или вы все расскажете сами?
Она отрицательно покачала головой, шепнула:
– Я ничего не буду… рассказывать… вам…
– Тогда я вам скажу. Он привел вас домой. В кафе он купил шампанское и коньяк. Или водку, хотя – вряд ли, в кафе водку продают только верным клиентам, но под вас он мог взять водку, чтобы сделать «огни Москвы» и споить вас. Я обещаю вам выяснить все, – и это будет не в вашу пользу, – в каком вы были кафе, какие он покупал там бутылки, куда вы отправили дочь, в кино ли, к друзьям, я выясню это, я вызову на допрос и предупрежу свидетелей об ответственности за ложные показания, и они мне расскажут правду. Я не могу иначе, потому что речь идет о злодее… Ну?
Женщина кивнула, прошептала:
– Да…
– Все было так?
– Да…
– Когда вы… проснулись, его уже не было?
– Нет.
– Он оставил записку?
– Да.
– Где она?
– Он в конце написал: «После того как прочтешь – сожги, чтобы не попалась на глаза девочке».
– Это он про дочь?
Женщина кивнула.
– А смотреть альбомы и читать письма вы начали сразу, как пришли?
Она снова кивнула.
– Он к вам после этого звонил?
– Да.
– Когда?
– Сегодня…
– В какое время?
– Днем.
– Вы сказали ему, что вас вызывают в угрозыск?!
– В милицию…
– Он звонил из города?
– Нет. Междугородная…
– Из какого города?
– Не знаю.
– В какое время дня это было – только точно?
– Около одиннадцати.
– Вы ждали его звонка?
– Нет… Сегодня не ждала, а вообще…
– Все время ждали?
Она кивнула.
…Костенко вышел из кабинета, попросил дежурного:
– Позвоните Тадаве, он сидит у меня, пусть немедленно едет в Минсвязь и установит, из какого города был сегодня сделан заказ на Смоленск, телефон 33-64-21, фамилия абонента Кротова. Если ему ответят, что могли звонить из автомата, теперь много автоматических линий, пусть обратится к начальству, настоит, чтобы проверили все, абсолютно все города и поселки. Черноморское побережье и республики Средней Азии – особенно. Ленинград и Карелию – тоже.
Сначала, конечно же, Тадаве ответили, что при теперешней линии автоматической междугородной связи поиск такого рода бесполезен. Он, однако, поманил к себе девушку, которая разговаривала с ним (ответственная дежурная по управлению), и шепнул, явно подражая Костенко:
– Красивая, от того, в какой мере вы нам поможете, зависит судьба, вернее говоря, жизнь людей, ибо мы ищем волка, злодея, фашиста, который не просто убивает женщин, а рубит их на куски, – понимаете? Я говорю вам правду, хотя делать этого не имею права.
«Справка. На запрос Главного управления уголовного розыска МВД СССР сообщаем, что разговор со Смоленском, с номером 33-64-21 был заказан из Адлера в 8.30, на почтовом отделении при вокзале. Отв. дежурная Власова Л. И.».
Костенко приказал срочно выбросить оперативные группы на вокзал, аэродром, на все поезда, вышедшие из Адлера, снабдив оперативных работников точным описанием Кротова; фотографии он рекомендовал не раздавать, потому что Кротов мог изменить внешность – усы, борода, форма, спецовка, ватник, черт его душу знает; он почувствовал опасность, но он еще не убежден в том, что Кротову вызывали в связи с его делом, он просто-напросто не имеет права в это поверить, он должен выяснить правду. Он позвонит к ней еще раз. Он позвонит.
…Группа угро, работавшая на аэродроме Адлера, не установила факта продажи билета ни Милинко, ни Минчакову, ни Милинкову, ни Минчукову, ни Пилинкову, ни Линчакову, ни еще доброму десятку фамилий, аналогичных этим, поскольку Костенко предложил отрабатывать версию изменения фамилий, отталкиваясь от двух – «Милинко» и «Минчаков».
На квартире у Кротовой была оставлена засада; все ее телефонные разговоры – с санкции прокурора – фиксировались.
– Он должен вас убить, – сказал Костенко женщине. – Понимаете? Вы – единственный реальный свидетель, которого вызывали в милицию. Он не знает, в связи с чем, но он должен убрать вас, потому что вы – единственный человек здесь, на Большой земле, к которому он приходил открыто, упомянув имя Кротова. Это – гарантия смертного приговора, это – неопровержимая улика против него. Я только не могу понять, зачем он пришел к вам и назвал фамилию Кротов? Это – против правил, против его правил. А вы мне до сих пор не хотите рассказать всей правды, вы утаиваете что-то. Ладно, это ваше право в конце концов. Только помните постоянно: один неверный шаг, и дочь ваша останется сиротой!
– Я буду делать все, что вы скажете…
– Он ведь знает ваш рабочий телефон? – спросил Костенко.
– Конечно.
– Когда он позвонит, вы будете держать его разговором сколько можете. Ясно?
– Да.
– Расскажите ему, что вас вызывали и допрашивали по поводу тех колец, которые вы не пустили в продажу, а придержали для выполнения плана. Он может перепроверять это, поэтому сегодня вечером мы проведем собрание в торге и коллектив возьмет вас на поруки, попросит прекратить возбужденное против вас уголовное дело.
– Вы действительно возбудили дело?
– Возбудим. А послезавтра об этом будет написано в здешней газете. На общем собрании вы тоже будете говорить правду, ибо я не исключаю возможности, что Кротов познакомился, помимо вас, с кем-нибудь из продавцов. Кто из ваших женщин одинока, обойдена, так сказать, мужской лаской? Называйте, чтобы мне не ходить лишний раз в кадры, вы своих работников лучше знаете…
– Неужели вы думаете…
– Думаю, думаю, говорите.
– Ира Евсеева одинока… Озабочена… Как все одинокие…
– Не все, – не сдержавшись, отрезал Костенко.
Кротова подняла на него глаза – запавшие, потухшие, ответила жестко, даже гримаса перекосила лицо:
– Все.
– Позвольте не согласиться.
– Все, – упрямо повторила Кротова. – Ясно вам, все?!
– Только истерики не надо.
– Не изрекайте глупостей – истерик не будет! Вы, кстати, велели мне на собрании говорить правду… И про него тоже?
– Вы зачем так?! Вы понимаете, какую правду я имел в виду! Признаете, что держали в сейфе кольца и броши стоимостью в двадцать семь тысяч; да, хотели помочь торгу с выполнением плана квартала, чтобы сотрудников не лишать премии, – вот какую правду я имел в виду…
– Врача можете пригласить?
– Какого врача? – не понял Костенко.
– Психиатра.
– Что, не можете собою владеть? Не отвечаете за свои поступки?
– Вы предвзято думаете о людях. Климакс у меня, простите, климакс. И я могу сорваться. Поэтому прошу о помощи. Чтобы мне дали какое-нибудь лекарство или укол сделали, я не знаю, что в этом случае может помочь…
– Хорошо. Я это устрою. И повторю еще раз: психиатр психиатром, а судьба вашей дочери, жизнь, говоря точнее, в ваших руках, и здесь никакой психиатр не поможет и ничем не оправдаетесь. Я, быть может, жестоко говорю, но я намеренно говорю так, чтобы вы не думали, будто я с вами играю. Я веду с вами дело в открытую. Мы сейчас связаны воедино. Или вам жаль капитана?
Она снова вскинула голову:
– Да. Мне жаль. Мне его очень жаль…
– Несмотря на то, что я вам о нем рассказал?
– Вы рассказали… А я привыкла глазам верить.
– Через час меня сменит коллега, он уже выехал из Москвы, он покажет вам несколько фотографий…
– Трупов? Или то, как их разрубал капитан?
– Слушайте, вы намерены нам помочь? Или нет? Скажите правду, я стану искать другой выход, и я его найду, но вы потом не сможете смотреть людям в глаза.
– Я вынуждена вам помогать, – устало ответила женщина, – потому что вы действительно очень жестоко сказали о судьбе Лены…
– Дочь?
– Кто же еще, конечно, дочь…
14
…Костенко передал руководство группой Тадаве; выехал в Москву; связался с Сандумяном, попросил поднять в аэропорту данные на пассажиров – всех без исключения, – вылетавших сегодня из Адлера, по возможности установить этих пассажиров по номерам паспортов, особенно уделить внимание тем, кому паспорт выдан недавно, с изменением фамилии, возможно, взял женину. От Кротова можно ждать неожиданностей, необходимо быть во всеоружии, уйдет два дня – так на так, а в берлинских архивах, считает Пауль Велер, есть что-то такое, что поможет рассчитать на будущее возможные ходы гада…
…Позвонив в Берлин, Костенко сказал Паулю, что вылетает дневным рейсом, попросил забронировать обратный билет на послезавтра, на утренний рейс, и поехал домой.
– Где Арина? – спросил Машу, снимая плащ; Костенко умел точно угадывать – дочь дома или нет ее; все чаще и чаще, возвращаясь, не заставал – то у подруги, то в кино, то где-то у приятелей собрались.
– Сказала, что у Любы. Но мне кажется, она в гостях у Нади, там часто бывает Арсен…
– Я ему голову отверну, этому Арсену.
– Нельзя, – ответила Маша. – Сделать кофе?
– Сделай. Чемодан собрала?
– Да.
Костенко увидел большой красный чемодан в столовой, сказал раздраженно:
– Эту громилу я не потащу.
– Он пустой, Слава.
– Тем более.
– Может, ты купишь чего-нибудь… Иришка тебе маленький списочек составила, обуви хорошей мало…
– Ничего не куплю, Маша. Я послезавтра буду обратно, сердце что-то скребет, не до покупок… Сходишь в «Березку», если я успею на сертификаты поменять, не сердись…
Костенко прошел на кухню, сел на свое обычное место возле телефона; чтоб не бегать в столовую, провел параллельный аппарат, звонили часто; Маша опустилась перед ним на колени, стала привычно расшнуровывать туфли – ноги опухли; он устало пролистал газеты, не очень-то, в общем, понимая, о чем пишут, мысли были в деле.
– Кто он все-таки такой, этот Арсен? – спросил Костенко, когда Маша, поднявшись, вышла в переднюю, чтобы почистить его туфли, с детства любила это занятие, деду чистила, как истинный айсор.
– По-моему, сукин сын, но чем чаще мы с тобою станем это говорить Арине, тем больше у него шансов на успех.
– Сострадание к оскорбляемому?
– Конечно. Он работает по Пушкину: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», дразнит Арину, а она, дурочка, поддается. Когда у тебя самолет?
– Через полчаса надо выезжать… Но ты Аришке хоть что-нибудь объяснила?
– Милый, я только этим и занимаюсь, – ответила Маша, вернулась на кухню, сняла с плиты закипевшую воду, сделала мужу крепкий кофе, как он любил, с пеной, села против него, подперла щеку рукою и улыбнулась. – Обожаю тебя рассматривать. Ты к старости становишься еще красивее.
– Почаще мне это говори. – Костенко отхлебнул кофе. – Вообще ублажай меня, Марья. Я сейчас в таком деле сижу, что баб начинаю ненавидеть.
– Вполне тебя понимаю…
– Когда физиология прет, гадостно делается.
– Не изо всех же она прет…
– Считают – изо всех.
– Бабы говорят?
– Они, проклятые.
– Не верь.
– Так ведь факты…
– Просто тебе не везет в этом деле, милый. Физиология, конечно, штука сложная, но ведь есть и противоположное ей – дисциплина духа.
– Редко встречается, – вспомнив тетю Марго и мать Левона, ответил Костенко.
– Конечно, не часто. Мужики распускают, женщина перестает поклоняться богу, своему богу, тебе персонально…
Костенко поднял на нее глаза:
– Ты это что?! Перестала мне поклоняться? Разведусь.
– Тебе нельзя перестать поклоняться, оттого что ты – как рельс: каким был, таким и остаешься, не даешь поводов для разочарования.
– А что чаще всего разочаровывает женщину в мужике? Постель?
– Это – тоже. Но в меньшей мере, мне кажется.
– Так тебе кажется…
– Видишь ли, если в постели мужчина и женщина сообщники и запретного для них нет, если они не боятся себя открывать друг другу до конца, тогда им ничего не страшно. Но ведь сколько комплексов, милый! Постель… Сексологии мы в школах не учим, стыдливость наша – хрестоматийна; в конце концов оборачивается это трагедиями… Но постель все-таки во-вторых, как ты передразниваешь своего Тадаву…
– Во-первых…
– Ты что это? Седина в голову – бес в ребро?
Костенко вдруг увидел лицо Киры Королевой, ее волосы, обвалившиеся на плечо, поднял глаза на Машу, на ее седую – настоящую, не крашеную – копну волос, улыбнулся:
– Это – точно. В ребро… Ты что сердитая?
– Заметно? Никак не могу себе ответить на вопрос: отчего у нас в магазинах продавщицы так грубы? Сыты, обуты, французскими духами надушены, а рявкают, словно жандармы. А как мы в метро садимся? Отчего это? Почему в Японии – я до сих пор эту поездку забыть не могу – при входе в магазин вам кланяются и говорят: «Спасибо, что пришли к нам!» И прощаются: «Благодарим, что посетили!»
Костенко хмыкнул:
– У нас теперь тоже на чеках пишут: «Благодарим за покупку».
– Пишут. А как иные говорят друг с другом? И это шлейфом тянется с улицы и из магазина в дом. А разве любовь возможна, если только что собачился? Ну ладно, не любовь, просто-напросто совместное проживание под одной крышей? А в школе? Первоклассников называют по фамилии. «Иванов», «Петрова». А «Петрова» только что в куклы играла, ласково их называла «Машеньками» и «Наденьками», и мама ее зовет «Пашенька». Мне иногда хочется, чтобы по телевидению начали программу, обращенную ко всем: «Товарищи, постыдитесь, как же вы общаетесь друг с другом, посмотрите на себя со стороны!»
– Подействует?
– Еще как…
– Значит, примат воспитательной работы?
Маша улыбнулась:
– Ну, конечно, хорошо, чтобы в магазинах был не только один сорт сыра…
– Вот видишь… На рынке-то отношения между продавцом и покупателем другие. И улыбаются, и торгуются, и шуткой перебрасываются….
– На рынках душегубы, – обижаясь чему-то, ответила Маша. – Так дерут, просто никаких денег не хватает…
– Так это понятно, – допив кофе, ответил Костенко. – Если в магазинах постоянно будут парниковые помидоры и огурцы, кто к душегубам пойдет? А если б еще к тому же продавец магазина получал процент с успеха своей работы – что ты! Он бы с тобой как с Лолобриджидой разговаривал…
– Это если он – мужчина.
– Если женщина – как с Вячеславом Тихоновым, – ответил Костенко и посмотрел на часы.
Маша принесла туфли, снова опустилась перед ним, обула его, подняла голову:
– Снова левая нога ужасно опухла, Славик… Хочешь, я попрошу Ниночку приехать к нам? Она тебя здесь послушает, много времени это не отнимет, ну, пожалуйста…
Костенко положил руку на голову жены, ощутил тепло, увидел стрелки часов – надо ехать.
– Марья, ты не можешь представить себе, как я устал…
– Я сержусь на наших женщин, которые вечно жалуются, что им тяжелее, чем мужчинам… И сумки надо, мол, таскать, и готовить, и стирать… Мужчинам всегда тяжелее…
– Права ли ты, Марья?
– Так точно, товарищ полковник, права. Вы организацию труда проходили? Или – темный сыщик? Эти разговоры идут от разгильдяйства и культа жратвы. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»? Безобразие это! На западе и в Японии женщины тоже и продукты покупают, и готовят…
– Им покупать легче, Марья, не надо в очередях стоять…
– Я беру идеальный случай…
– Да и не работают они, как вы, помимо «идеального случая».
– Еще как работают! Посмотри статистику… Только покупают не так, как мы, каждый день понемножку, это наше скопидомство, а на поверку больше тратим, чем если б брали на неделю. Холодильники в каждом доме, это для нас с тобой было событие в пятьдесят шестом, год жди в очереди, а сейчас в рассрочку – пожалуйста. Карандашик надо взять, посидеть и посчитать, сколько чего купить… Хоть с мясом плохо, но все равно едим мы не расчетливо, порою слишком много. Я, конечно, не парное мясо имею в виду, а вал. – Маша по-прежнему сидела на полу, не поднимая головы с колен мужа. – А стирка? Время, затраченное на домашнюю стирку, стоит дороже, чем прачечная. Время – мера всех ценностей, Славик, а мы с ним не в ладах… Дис-сип-лина, – засмеялась она, – дис-сип-ли-на. Немного отдает китайским, но это ничего, я их люблю, у них язык красивый…
– Марья, а если б женщина сказала: «Ты – не мужик, а матрац…» Что тогда?
– Тогда она просто-напросто не женщина; видимо, фригидна или внутренне испорчена, или просто-напросто не совсем здорова психически, глубокая истерика. Впрочем, кому это она сказала? Алкоголику?
– Нет, вполне нормальному семьянину.
– «Нормальный семьянин»? Плохое определение… Какое-то жалкое… Ты вот, например, никакой не семьянин. Ты замечательный отец. Как всякий нормальный мужик, ты немного сумасшедший, но это – прекрасно… Я всегда мечтала о таком, как ты… Только противоположности уживаются: ты – черный, я – белая, ты – толстый, я – худая, ты – умный, я – женщина, ты – смелый, я – трусиха… А когда ты хочешь меня любить, я ни о ком другом и думать не смею.
Костенко снял руку с головы жены, она прижалась к руке щекою, поднялась, поцеловала, попросила:
– Успеешь написать Аришке записку? Она очень любит твои записки, напиши, что дело у тебя сейчас кошмарное, ты улетел в Берлин, она этим очень гордится, и попроси ее не торопиться с решением по поводу Арсена, пока ты не обсудишь с нею препозиции, она обожает это твое омерзительное словечко.
– Салют, Мария. – Костенко поднялся, пошел в прихожую, долго смотрел на себя в зеркало, потом сказал Маше, стоявшей за спиной: – Не морда, а печеное яблоко.
Открыв уже дверь, улыбнулся:
– Знаешь, Митька Степанов начал стихи писать на старости лет…
– Ну?!
– Хочешь, прочту?
– Конечно.
Костенко почесал нос, чуть кашлянул:
К женщине первой тяга, Словно на вальдшнепа тяга, Слово – условно. Многопланово – то есть огромно, Профессионально, ######Любовно, ############Двояко: Тяга. Голос услышу – тяжко, Правдив или лгу – натяжка; У сердца пригрею бродяжку… Тяжко…Маша грустно улыбнулась:
– Дорогие мужики, по-моему, вы вступаете в критический возраст.
– Он у нас начнется за час до смерти, – ответил Костенко, поцеловав жену в нос, лифт вызывать не стал, пошел пешком – Маша чувствовала, как тяжела его походка; устал, бедный…
– А чемодан?! – закричала Маша. – Славик, погоди, я тебе сейчас спущу на лифте!
«Вот ведь хитрюга, – подумал Костенко. – Заставила все-таки взять красный».
15
…Прочитав еще раз запись беседы, проведенной Костенко с Кротовой, остановившись дважды на фамилии «Евсеева», Тадава решил не ждать утра.
Посты наблюдения сообщили по рации, что улица, где живет продавщица, чиста. Костенко предупредил, что Кротов, спекулируя на погонах, на уважении к ордену Милинко, который носил постоянно, может использовать какого-нибудь мальчишку: «Посмотри-ка, сынок, нет ли там моего племянника – он или в машине сидит, или около дома ходит». Наивно, конечно, но тем не менее такое иногда срабатывало. «Он может подкатить и к этой, – говорил Костенко перед отъездом. – Тоже одинока, страдает по любви и ласке. Он, видимо, работает со страховкой, понимаете, Реваз? Я начинаю его побаиваться, я его тень начинаю за собою видеть, право. Так что – постоянная собранность, максимум аккуратности. Надеюсь, удастся привезти из Берлина что-то новое, и это новое, сдается мне, поможет нам в поиске».
– Ирина Григорьевна, – сказал Тадава, – я из уголовного розыска, долго вас не задержу. Мне бы не хотелось вас приглашать в милицию, поэтому я сам пришел. Разрешите?
Женщина стояла на пороге, пройти в комнату Тадаве не предлагала.
– Вы в связи с вчерашним собранием в магазине? По поводу Кротовой?
– И в связи с этим.
– Тогда вызывайте в милицию, чтоб все было официально. Я предавать никого не намерена, а тем более мою заведующую.
– Почему вы решили, что я пришел склонять вас к предательству?
– К чему ж еще? Торговой этике, что ль, учить?
– Позвольте все-таки к вам войти…
– Я ж сказала – нет. Ничего я вам здесь говорить не стану.
Тадава погасил вспыхнувший в нем гнев, закрыл на мгновение глаза, поджал губы:
– Хорошо. Речь пойдет не о Кротовой. Вызывать вас мы не можем, ибо, возможно, за вашей квартирой следят…
– Что?! Кто это следит-то? Только вы и можете следить, денег у вас на это хватает, налоги не зря платим…
– Ответьте мне: у вас сейчас есть кто-нибудь?
– А кто у меня может быть?! Никого нет!
– А капитан, моряк, к вам приходил?
Лицо Евсеевой вспыхнуло, потом побледнело:
– А вот это вас не касается.
– Именно это меня и интересует. Этого моряка мы ищем, он убийца.
Женщина отняла руку с косяка; Тадава прошел в квартиру, оглянувшись предварительно – на лестнице было пусто. «Что это я себя зря пугаю, внизу наши люди…»
Но, подчиняясь какому-то внезапному посылу, Тадава вдруг повернулся, взбежал по лестнице на последний этаж – по-кошачьи, на цыпочках; там никого не было; вниз спустился быстро, почему-то подражая походке Чарли Чаплина, когда тот в финале своих ранних фильмов, раскачиваясь, уходил в солнце; понятно, тросточки в руке майора не было, а Чаплин всегда поигрывал тросточкой, и чем горше ему было, тем он смешнее и беззаботней вертел ею.
…В комнате у Евсеевой было все ясно: ее сущность вывалилась наружу – и финская стенка, и кресла из югославского гарнитура, и арабский стол с тяжелыми стульями, и репродукции из «Работницы» в аккуратных позолоченных рамочках, и хрусталь в горке красного дерева – все было здесь показным, не для себя, не для удобства; сплошная инвестиция. И в книжном шкафу тоже инвестиции, а не книги: Конан Дойль рядом с Булгаковым, Мандельштам вместе с Майн Ридом, «Вкусная и здоровая пища» была втиснута между альбомами импрессионистов и Третьяковской галереи – размер почти одинаков.
Тадава снова погасил в себе острое чувство неприязни к женщине, открыл папку, спросил разрешения разложить на столе фотографии; Евсеева постелила большую салфетку, и Тадава начал пасьянить карточки с расчлененными трупами. Последним он выбросил на стол портрет Кротова – тот, что удалось достать в профсоюзном бюро таксомоторного парка.
– Это он у вас был? – утверждающе сказал Тадава. – Я спрашиваю без протокола. Он говорил с вами?
– Говорил, – ответила Евсеева, не отводя глаз от фотографий, разложенных на столе.
– Когда? После того, как побывал дома у Кротовой?
– Он у нее дома тоже был?
– Вы когда его увидали? – не ответив на вопрос, но поняв все из того, как он задан, продолжал Тадава. – Вы его какого числа увидали?
– Не помню я чисел.
– В магазин к Кротовой он пришел третьего вечером.
– На другой день ко мне пришел.
– Сюда?
– Да.
– А как он с вами об этом договорился?
– Никак не договаривался. Постучал в дверь, я и открыла. Я запомнила его, когда он с Кротовой в кабинет шел.
– А почему, дорогая, вы его запомнили?
– Никакая я вам не «дорогая»!
– Для кавказца всякая красивая женщина – «дорогая», – без улыбки ответил Тадава.
– Ну и оставьте для Кавказа свои обращения. А я вам гражданка Евсеева.
– Хорошо, гражданка Евсеева. Я приношу вам извинение. Пожалуйста, возьмите ручку и бумагу, напишите подробное объяснение, когда, при каких обстоятельствах и в связи с чем к вам пришел моряк, о чем говорил, как вы провели время, когда он ушел и когда обещал вернуться – если, конечно, обещал.
– А я вам не обязана писать. Спросили – ответила. Дальше – моя личная жизнь, она вас не касается, она у нас законом охраняема.
– Вы совершенно правильно ответили, гражданка Евсеева. Но, во-первых, речь идет не о вашей личной жизни, а преступнике, которого преследует уголовный розыск Советского Союза; во-вторых, вы работаете не во «вторсырье», а в ювелирном магазине, имеете доступ к драгоценностям; и наконец, в-третьих, если вы знаете, когда моряк был намерен вернуться в Смоленск, но не говорите мне об этом, я привлеку вас к суду за пособничество особо опасному преступнику.
– А какие у вас есть для этого основания? Нет у вас никаких оснований меня привлекать.
– Значит, вы не хотите помочь нам захватить врага?
– А я вам так не сказала. Я сказала, что писать ничего не буду. Есть вопросы – задавайте. И карточки свои со стола уберите, тошно смотреть.
Тадава послушно убрал фотографии, аккуратно положил потрепанную канцелярскую папку в крокодиловой кожи портфель, спросил разрешения закурить, достал пачку «Примы», затянулся, ощутив горьковатую синеву табачного дыма, и спросил:
– Вас не удивил его приход?
– Чего ж удивляться? Он видел меня, а я его глаза, запомнила…
– Он спрашивал вас о Кротовой?
– На этот вопрос я отвечать не буду.
– Почему?
– Не буду – и все.
– О вашей работе спрашивал?
– Чего-то спрашивал… Он о камнях говорил красиво, какой камень какому зодиакальному знаку принадлежит, почему так считают…
– Он вам какие-нибудь камни показывал?
– Да.
– Какие?
– Изумруд.
– Один?
– Да.
– Кольцо?
– Да.
– Дорогой камень?
– В магазине сейчас такие реализуют… Грани хорошие, цвет, глубина, всё при нем.
– Не говорил, откуда он у него?
– Что я, милиционер, такие вопросы задавать?
– На море вам съездить не предлагал?
– Не буду я на такие вопросы отвечать, сказала же!
– Значит, в Адлер он вас все же позвал. Кротову он, впрочем, приглашал в Батуми.
– Не сталкивайте нас лбами, не столкнете…
– Бутылка, которую он принес, осталась?
– Я бутылки не сдаю, я их выбрасываю в мусоропровод.
– Шампанское и водка?
– Я ж сказала – не лезьте в мою личную жизнь. Ее у меня и так слишком мало, чтоб я с другими делилась.
Тадава поднялся:
– Я надеюсь, вам не придется казнить себя за то, что вы не захотели нам помочь обезвредить преступника. Мы постараемся поймать его без вашей помощи. Но если случится горе, оно будет непоправимым. А этого можно избежать, расскажи вы нам все. Я хочу, чтобы вы запомнили эти мои слова. До свиданья, гражданка Евсеева.
С этим и ушел. Дверь прикрыл очень аккуратно, так закрывал дверь своего «жигуля»; очень сердился, когда сильно хлопали, хотя сейчас ему хотелось так рвануть на себя медную, в форме львиной морды ручку, чтобы из-под косяка посыпалась штукатурка.
«ГУВД Исполкома Магарана, майору Жукову. Прошу срочно опросить знакомых Петровой, не было ли у нее кольца с зеленым изумрудом, “хороших граней” – это выражение ювелира прошу перепроверить у соответствующих специалистов, чтобы доходчивее объяснить вопрос свидетелям. Майор Тадава».
«Тадаве по месту нахождения. У Петровой были изумрудные серьги и кольцо. Жуков».
«Майору Тадаве из отдела Управления УГРО МВД СССР. На имя полковника Костенко получены списки лиц, сдавших заявления на поступление в рыбфлот СССР в период с ноября по настоящий день. Ни Милинко, ни Минчакова в списках нет. Однако есть Пинчуков, 1925 года рождения, из Весьегонска, имя и отчество сходятся с именем и отчеством погибшего Минчакова. Проживал по адресу: Весьегонск, Озерная, 3. Но на фотографии, приложенной к делу, лицо человека обезображено шрамом, правый глаз косит. Полковник Кириллов».
«Полковнику Кириллову. Прошу передать фото Пинчукова в НТО для исследования. Отправлена ли справка по месту жительства Пинчукова? Где находится в настоящее время? Прошу сообщить, в какой флот оформлялся. Тадава».
«Майору Тадаве. Фото Пинчукова – по заключению экспертов – в определенных параметрах соответствует фотографии Кротова, которой мы располагаем, однако категорический ответ экспертиза отказывается дать в связи с плохим качеством фото. Пинчуков действительно проживал до января с. г. по указанному адресу, косоглаз, имеет шрам на лице. После принудительного лечения в антиалкогольном диспансере № 12 домой не вернулся из-за жены, которая не хочет, чтобы дети видели отца-алкоголика. Где находится в настоящее время, неизвестно. Сосед Антипов говорит, что Пинчуков выражал желание во время их последней встречи, когда жена не пустила его домой, уехать на лесозаготовки. Пинчуков проходил оформление в Калининградском рыбном флоте. Полковник Кириллов».
Работа-IХ [Берлин, ГДР]
Пауль посадил Костенко за большой стол в библиотеке своего института, разложил перед ним папки:
– Смотреть начинайте слева направо, я подобрал все по порядку: от частного к общему, от Кротова к его хозяевам. По-немецки читаете?
– Со словарем, – ответил Костенко, – я же признавался.
Пауль рассмеялся:
– Понятно. Появятся трудности – я к вашим услугам, Владислав.
Ударение на этот раз он поставил русское, на последнем слоге, а Костенко отчего-то сразу же вспомнил учительницу Александру Егоровну из Адлера и то, как она навязчиво повторяла: «Козел», «Козел» – ни разу не произнесла имени своего ученика – «Гоша». А ведь хорошее имя, Гоша, Георгий…
…В первой папке хранилось уголовное дело по обвинению Николая Ивана Кротова, 1923 года рождения, унтер-офицера «русской освободительной армии» в сожительстве с имперской подданной Греттой Пикеданц, урожденной Эленберг, 1907 года рождения.
Это был, однако, лишь первый пункт обвинения; второй и третий показались Костенко куда как более серьезными: «избиение имперской подданной при попытке ограбления ее ювелирного магазина».
Пауль, поняв недоумение Костенко, помог ему:
– При Гитлере все вывезенные с родины славяне, французы, голландцы, поляки, чехи, сербы давали подписку, что не будут сожительствовать с немецкими женщинами: это запрещалось расовыми законами Гитлера – «разжижение арийской крови грязными недочеловеками». Нарушение обязательства каралось заключением в концлагерь… Объяснение Кротова прочитайте особенно внимательно, это любопытный документ.
Костенко еще раз пролистал страницы, нашел объяснение, потом вернулся к самому началу дела, впился глазами в лицо Кротова: тот улыбался в камеру; формочка пригнана; волосы на пробор; вот какая мне нужна, по ней можно искать; несмотря на возраст, глаза, брови, нос, лоб – неизменны.
В третий уже раз прочитал собственноручное объяснение Кротова:
«Я, Николай Иванов Кротов, унтер-офицер РОА, награжденный великим фюрером германской нации Адольфом Гитлером “Железным крестом” за выполнение особых заданий в тылу большевиков, вынужден заявить, что виновным в предъявленном обвинении себя не признаю, Гретта Пикеданц не была со мною в близких отношениях, она лишь сдавала комнату в своем доме. Невозможность наших близких отношений объясняется тем, что я дал подписку о несожительстве с женщиной высшей расы. При этом фрау Пикеданц старше меня на шестнадцать лет и страдает пороком – хрома на левую ногу. И я ее не бил. Я оборонялся от нее, когда она решила, что я спустился в ее ювелирный магазин со второго этажа (где снимал комнату), чтобы ограбить ее, а я на самом деле лишь рассматривал драгоценности, потому что в России никогда не видал ни золота, ни камней».
Костенко несколько раз провел карандашом по размашистым строчкам объяснения, насчитал двенадцать синтаксических и семь орфографических ошибок.
«А ведь аттестат дали мерзавцу, – зло подумал он. – Демократия, чего там. А если бы чудо? Не было б войны? Или остался б в тылу? Вдруг бы у нас выбился? Ужас ведь…»
Далее шел приговор: три года каторжных работ; справка о транспортировке Кротова в концлагерь «Дора»; вербовка его там службой СД зоны; записка о присвоении новому агенту клички «Кротик»; его папка с четырьмя рапортами унтершарфюреру СС Уго Раушке:
№ 1.
«24 ноября.
Вчера провел доверительную, “дружескую” беседу с пленным полковником Сагадеевым и майором Иваньковским на тему “Создание подпольных антифашистских групп”. Я изложил план, разработанный вами; Сагадеев отнесся к предложению положительно, но Иваньковский сказал, что об этом рано думать, стал расспрашивать про мою историю. Я объяснил, что после “пыток” в так называемых “застенках гестапо” на Александерплаце отправлен сюда, в так называемый “лагерь смерти”, и что если нам не думать о восстании, то так называемые “палачи” всех уничтожат. Иваньковский потребовал, чтобы я назвал имена людей, с которыми сидел в камере, что дает возможность предположить его принадлежность к гепеушникам или же и здесь укрывшиеся от возмездия комиссары велели ему заниматься большевистской контрразведкой и конспирацией. Кротик».
№ 2.
«12 декабря.
Сегодня я сказал Сагадееву, что больше с Иваньковским отношений не поддерживаю, он трус, тормозит работу. Предложил Сагадееву встречу с “Костей”, которого я представил как политрука, вместе с которым я воевал под Киевом, будучи “комсоргом батальона”. Сагадеев уговаривал не сердиться на Иваньковского, говорил, что так называемые “гитлеровские провокаторы” плетут “сеть” против патриотов. Просил подождать принимать какие-нибудь решения, сказал: “Ты горячий, погибнешь зазря, а погибать надо во имя дела”. Кротик».
№ 3.
«29 декабря.
Сагадеев передал мне написанную от руки сводку с фронта, велел передать в третий блок некоему “Игорю” (с рассеченным лбом), назвал пароль и отзыв: “Огонька нет?” – “Ты ж знаешь, курить запрещено”. Встреча назначена назавтра в 6.30 утра, после лагерной переклички. Кротик».
№ 4.
«30 января.
Любимый господин Уго Раушке!
После моей работы ликвидированы важные коммунистические преступники, а, несмотря на это, меня не выпускают, как вы то обещали. Смею напомнить, что я очень долго жду.
Хайль Гитлер!
Кротик».
«1 февраля.
Секретно!
СС штурмбаннфюреру Либлиху;
отдел “С” концлагеря “Дора”.
Возвращаем с транспортом заключенных № 24-а, отправленным из Дахау, агента “Кротик” после успешного завершения операции. Работа по выявлению подполья с присущей агенту тщательностью выполнена.
Хайль Гитлер!»
«1 февраля.
Секретно!
В распоряжение контрразведывательной группы “В” отдела “Армий Востока” направляется агент “Кротик” – как для подготовки к предстоящим заданиям в тылу красных войск, так и для повторной проверки курсантов-неарийцев.
Хайль Гитлер!»
Костенко отвалился на спинку стула, закрыл глаза, сидел так долго, потом взял крайнюю папку с грифом: «Программа обучения в специальной группе “В” при отделе “Армии Востока”». «Секретно! Секретно!! Секретно!!!»
Пауль был все время рядом, ненавязчиво смотрел, когда понадобится помощь, подсказал:
– Я сделал перевод, он в конце папки, там выдержки, Владислав, наиболее важные…
– Скажите, Пауль… Для юристов других стран, в частности ФРГ, кротовские доносы на наших товарищей будут служить доказательством вины? Эти доносы дают право считать «Кротика» военным преступником?
Пауль долго медлил с ответом, потом спросил:
– Вы обнаружили список повешенных?
– Нет.
– Вы не досмотрели до конца… В делах есть оценка работы провокатора: семнадцать человек казнено, во главе с Сагадеевым и Иваньковским… А что касается доказательности, то это вопрос чрезвычайно сложный. На Западе требуют неопровержимых доказательств…
– То есть? Разве доносы Кротова – не доказательства?
Пауль покачал головой:
– Вам могут возразить, что он так вынужден был поступать под давлением обстоятельств. Сам лично не вешал? Нет. Доносил? Да. Что ж, плохо, конечно! Позор! Но кто подписывал приказы на казнь? «Кротик»? Или какой-нибудь штандартенфюрер? А тот уже отсидел пару лет в конце сороковых, сейчас мемуары пишет у себя на вилле…
Костенко закурил, начал читать перевод, сделанный Паулем:
«Программа обучения навыкам диверсионной работы разделена на два этапа: первый – тактический, облегченный; второй – стратегический, повышенной трудности.
…Не все лица, прошедшие первый этап обучения, могут быть введены в группы “второго этапа”. Повышенная трудность предполагает обучение лиц, имеющих навыки вождения автомобиля, самолета, яхты, умеющих прыгать с парашютом, владеющих иностранными языками, например польским и английским; норвежским и русским; испанским и французским. При этом ко “второму этапу” допускаются те, кто уже зарекомендовал себя достойным солдатом фюрера при выполнении заданий в тылу противника.
Люди “второго этапа” должны быть арийцами, однако, в порядке исключения, после сурового отбора, могут быть привлечены иностранцы, тщательно проверенные службой СД и гестапо, а также армейской контрразведкой.
Программа “второго этапа” предусматривает подготовку к отточенной стратегической работе:
1. Диверсии в глубоком тылу противника.
2. Акции террора в глубоком тылу противника.
Успешному выполнению такого рода заданий должна предшествовать тщательная подготовка по следующим направлениям:
1) Навыки затаивания; организация запасных явок.
2) Работа с документами.
3) Наука вхождения в контакт с людьми.
4) Выработка манеры поведения, легендирование судьбы, характера, навыков. (Диверсант ничем не должен выделяться из окружающих, внешний вид обязан быть среднепривычным. Всякого рода особые приметы, как-то: запоминающаяся походка, тик или заикание, не позволяют использовать лицо в работе, в случае если эти дефекты не могут быть кардинально излечены в госпитале 51-В.)
5) Выработка плана операции на месте.
(В случае предполагаемого террористического акта диверсант должен уметь внести коррективу в предварительный план, увязав воедино место, откуда будет проводиться акт, с линиями связи, рассчитывая не только на трамваи, автобусы, железную дорогу, порты, аэродром, но также возможность использования чердаков, подвалов, подземных коммуникаций…)
6) Мимикрия, включающая навыки театрального грима и дизайна по костюму…»
– Пауль, – сказал Костенко, – мне надо срочно позвонить в Москву. Долго ждать?
– Автоматика, Владислав, автоматика, – ответил тот, – пошли к телефону. Но сейчас в Москве уже вечер, найдете кого-нибудь?
Работа-Х [Смоленск]
1
В Москве было одиннадцать уже; вечер выдался спокойный; дежурный по отделу скучал у телефонов, пытаясь читать роман, – хвалили в журналах, купил, сейчас проклинал свою доверчивость.
– Где Тадава? – спросил Костенко, подивившись тому, как хороша слышимость.
– В Смоленске, товарищ полковник.
– Это я знаю! По какому телефону его там можно найти?
– Он остановился в гостинице «Интурист», номер сороковой, продиктовать?
– Да я ж из Берлина, товарищ дорогой! Срочно найдите Тадаву, – сказал Костенко, – и привезите его в горотдел – к телефону. У меня важные новости, пусть его соединяют с вами, а я буду на этом проводе.
Тадаву, однако, в отеле не нашли.
(А заглянуть в комнату дежурного по угрозыску не догадались – лень-то вперед нас родилась, лень и великое, неторопливое спокойствие, которое Костенко считал проявлением чистой обломовщины. Тадава спал именно там, чтобы быть рядом с бригадой оперативников, державших постоянный контакт со всеми группами: как здесь, в Смоленске, – вокзал, аэродром, квартира Кротовой, Евсеевой, – так в Адлере и Коканде.)
– Передайте Тадаве, – позвонив через час в Москву своему дежурному, сказал взбешенный Костенко, – что я объявляю ему выговор. Сообщите, чтобы он сейчас же, ночью, тщательно проверил маршрут Кротовой – из дома на работу. По каким улицам идет. Или едет. На чем? Какие дома вокруг? Этажность. Чердаки. Какие пути сообщения – автобус, такси, трамвай – вблизи тех мест, которые она проходит или проезжает. Пусть выяснит, носит ли Кротова ключи от ювелирной секции с собою или сдает на хранение? И от того сейфа, где она хранила драгоценности, которые придерживала для плана. Я перезвоню часа через три. Нет, через пять, в восемь по Москве, чтоб у него к этому времени все было проверено и проработано. Ясно?
Московский дежурный снова связался со своим смоленским коллегой и передал ему слово в слово то, что говорил Костенко.
– А кто говорит? – поинтересовался заместитель дежурного по городу.
– По поручению полковника Костенко говорят.
– Из Москвы, что ль?
– Я – из Москвы, Костенко – из Берлина.
Дежурный усмехнулся, решил, что неизвестный ему московский коллега шутит, ответил:
– Ладно, передам вашему Тадаве.
Московскому дежурному что-то не понравилось в голосе коллеги, но в областное управление перезванивать не стал: вдруг причудилось эдакое смешливое равнодушие в голосе, а на самом деле характер у человека такой – нельзя ж людей зря обижать, Костенко за это по голове не погладит.
…Кротова была убита выстрелом в спину, на улице, в пятидесяти метрах от дверей магазина.
Оперативники, следовавшие за ней на расстоянии тридцати метров, сразу же бросились на звук выстрела.
Тадава, получивший сообщение от группы наблюдения по рации, заторможенно, очень медленно сел в машину, тихо попросил шофера:
– На место происшествия…
Две другие группы поехали на вокзал и автобусную станцию: такси стояли там, группировали пассажиров повыгоднее, то есть тех, кто дальше ехал и сулил оплатить обратный рейс.
…Никто, однако, из сыщиков не поехал на речной вокзал, а именно оттуда на теплоходе и отплыл Кротов – в легком белом костюме, с этюдником под мышкой, никаких чемоданов; ружье, купленное по охотничьему билету алкаша Прохазова, он бросил на чердаке, откуда стрелял; работал в перчатках, следов никаких, а драгоценности, взятые ночью в магазине, – слепки с ключей от сейфа сделал еще тогда, в первый приезд, когда родственница, утомленная любовью, спала, – лежали в карманах: кто решится обыскивать пожилого, бритоголового, в смешной панаме художника? (Долго наблюдал за студентами Суриковского института, те на практику приезжали в Феодосию; трехнутые, милиция ими не интересуется, только этюдник надо заранее краской измазать, чтоб все тип-топ! Как Луиг и Дорнфельд-Штрикфельд учили в диверсионных группах Власова: «Милая сердцу мелочь решает успех великого дела».)
В морге Тадава сдернул с лица Кротовой простыню, обернулся к Евсеевой, которую привезли сюда же:
– Вы знаете эту женщину?
Та долго молчала, только желваки – мужские, крестьянские – ходили ото рта к ушам, а потом, побледнев внезапно, обвалилась на пол без сознания.
Инфаркта не было – шок; привели в себя быстро. Медленно шевеля побелевшими, растрескавшимися губами, женщина рассказывала:
– Он тогда, в первый приезд, два дня у меня жил, обещал, что с собой увезет, а потом говорит, что, мол, я у змеи – это он так Лену Кротову назвал – портфель забыл с документами, а я-то, дура, глажу его, говорю, завтра кого-нибудь отправим, заберем, а он говорит, да не у нее, не дома, а в ее кабинете, а я ж материальная, у меня ключи от секции, ну и пошли ночью, я при нем все открыла, и сигнализацию отключила, позвонила еще от себя, пока он в ее кабинете портфель искал, сказала, что забыла сумку с продуктами, на пульте-то меня как облупленную знают, кто ж мог подумать, кто ж такое представить мог, ну, ладно, змея была Ленка, но ведь человек же она, за что ж он ее, за что?!
Тадава поднялся, посмотрел на женщину и сказал:
– Теперь-то вы понимаете, что натворили, или нет?!
Ретроспектива-VIII [Октябрь 1978 года]
1
…Вечером Кротов стоял возле стойки пустого уже буфета аэропорта, ждал, когда ему продадут плитку шоколада и бутылку шампанского. В магазине, особенно перед закрытием, – давка, очередь; он легко подсчитал, что больше потеряет, если там будет стоять, время-то золотое, семь часов, самый пассажир, на аэродроме возьму, копеек восемьдесят еще выгадаю.
«Ишь, – подумал он тогда о себе, – как арифмометр числю; ЭВМ, а не голова. А точно: в очереди надо отстоять минут сорок. За это время по городу можно отвезти пять пассажиров; каждый даст сорок копеек, как минимум; а если повезет, подъеду к порту; рыбаки бросят рублевку, как пить дать. Плюс перевыполнение плана, тоже накинь рубль; на аэродроме переплачу рубль девяносто, а все равно буду в наваре».
…Буфетчик метался вокруг столика, за которым выступал громадный детина; наверняка в отпуск летит, погода – ни к черту, рейс перенесли, ну и пошла гульба.
«Смешно, – подумал еще Кротов, – здоровенный мужик, а рядом – коротышка, будто Пат и Паташон».
– Браток, – Кротов снова поторопил буфетчика. – Время теряю, отпусти, христа ради, у бабы день рождения…
– Одну минуточку! – ответил буфетчик, склоняясь еще ниже над здоровенным мужчиной, который пьяно вытаскивал что-то из кармана. Вытащил, наконец: толстый, потрепанный бумажник, раскрыл его – там лежали обертки от пачек с деньгами: «две с половиной тысячи», «пять тысяч», «тысяча». И – одна сторублевая бумажка.
– Держи, – протянул детина банкноту, – и принеси нам еще одно шампанское с «Араратом». И колбаски дай – салями…
Буфетчик побежал за стойку; Кротов понял, что он сейчас им заниматься не будет – появился клиент, тут суетиться надо, выказать себя, тогда только навар получит.
Кротов снова обернулся на смешную пару, ну точно. Пат и Паташон, и замер: детина достал из другого кармана самородок, граммов на триста – четыреста, такой раз в жизни увидишь. А малышка на руку детины свою руку положил, взял самородок, подбросил на ладони, сунул в карман, усмехнулся:
– Покупаю.
– Да у тебя денег не хватит, карлик!
– Кому карлик, а кому Михаил, – озлился маленький. – Пропил деньги, на что полетишь-то?!
Он достал свой бумажник, раскрыл его, там лежали пачки денег: Кротов сразу определил, тысяч пять.
– Бери, сколько надо, – сказал маленький, – а это мне отдай. У меня, брат, в жизни любовь есть… Любовь, понял? Святая любовь! Как у поэта в прозе Ивана Сергеевича Тургенева. Читал такого?
– Я все читал, – откликнулся детина, пьяно раскачиваясь на стуле, – ты мне мозги не цементируй!
«Какие ж это пять тысяч? – подумал Кротов. – Это все тридцать, экая каменюга из золота… Не надо, не надо мне все это затевать. Еще года три, ну пять пройдет, насобираю песка, зато буду чистый, не поволоку на себе новое дело… Хотя какой чистый? То одного из наших схватят, то второго…»
Кротов дождался, пока буфетчик принес на стол колбасы («Сукин сын, не салями это, полукопченая, за три девяносто»), шампанского и бутылку коньяка «Арарат» с открытой пробкой («Портвейн с водкой налил, гадюка, – беззлобно подумал Кротов, – и надо ж так работать, а?! Хотя, что ему? Человек без прошлого, ему все можно, в нем страха нет»), только после этого получил свое шампанское, но уезжать не стал, попросил кофе, сел рядом с Пат и Паташоном, кофе пил медленно, слушал.
Потом напрягся весь: шаги, голоса, много шагов, как в коридоре мюнхенской тюрьмы, только голоса отчего-то веселые, пьяные голоса, русские, немцев не слышно, что за напасть, ты что, Кротов, ты себя держи в уме, ты чего это?!
Понял: какой-то самолет прорвался, сел, пассажиры валят. Действительно, пришло человек двенадцать – маленький самолетик пришел, этому видимость нужна не такая, как Туполеву, этот хоть в лесу сядет; сейчас гульба еще пуще пойдет, только пусть бы этот детина карлику самородок отдал! Отдаст – ему сейчас кураж нужен, он стол хочет держать; он же такой здоровый, спокойствие в нем одно, что ему самородок?! – камень; был и не был, все равно ведь за рубли отдаст, этому зелененькие не нужны, зачем ему доллар?! И действительно – отдал.
После этого детина повелел буфетчику сдвинуть столы, потребовал «дюжину»; откуда выражение-то узнал такое; Кротов от отца лишь слыхал, когда тот о былом вспоминал, одно слово – «родимые пятна капитализма живучи», а может, детина книжки про историю читает, есть такие чудаки, с виду – балбес, а в голове много держит.
Кротов пересел за сдвинутые столы, когда все приняли уже по второму стакану, шум стоял, галдеж и знакомых начали искать.
Перебросился парой слов с карликом; тот осоловелый был, однако ехать отказался: может, еще улечу, в море хочу купаться, желаю в соленом море кости отогреть.
Когда объявили, что рейс перенесен на утро, малыш решил-таки ехать; Кротов его под руку повел вниз, внутри колотило – знал, что сейчас предстоит, такого уж сколько лет не было, к старому-то прикасаться – страх…
Вывел малыша, а тут диспетчер, Роман Иванович, женщину с двумя грудными подвел:
– Шеф, возьми их, из города машины не едут, узнали, что рейса нет, пожалей ребятишек…
– Да я – пожалуйста, – ответил Кротов, не узнавая свой голос; малыш висел на руке, слюни пускал, про море лепетал что-то несвязно. – Я-то б взял, но он – пьяный, облюет детишек, набезобразит, карлик…
– Я те не карлик, а Михаил Минчаков, – откликнулся вдруг человек. – И детей возьмешь!
Роман Иванович обрадовался, помог загрузить багаж, женщину с детьми устроил сзади, помог сесть карлику, пожелал хорошей дороги:
– Гололед, осторожней, шеф, не убейся.
…Кротов ехал на второй скорости – экономил время, думал четко, заставляя себя не торопиться.
«Диспетчер, зараза, карлика запомнил. И женщину с детьми. И я, как на грех, один. Хоть бы еще пара машин стояла, черт его подери! Даже если бабу высажу, все равно опасно сейчас карлика потрошить. А он возьми да и передай самородок кому другому?! Здесь? Кому? Я ж его довезу до того места, где он останется ночевать. И буду его пасти. Позвоню сменщику. Цыплаков согласится, ему б только телевизор смотреть да “козла” забивать… Козел… Гоша, сука… Что ж ты у меня из памяти не выходишь? Это потому не выходишь, что легенький ты был. Длинный, я думал, тяжелый, а как на руки поднял – будто Ирка, первенькая моя, когда в море ее заносил… Так. Допустим, я его буду пасти, завтра он улетает, рейс один, я ему подставлюсь. А если он такси вызовет по телефону? Ну да, такси на аэродром заранее хватают, все на Большую землю рвутся, боятся опоздать, машин мало, в разбеге. Все равно придется потом отсюда бежать, самородок этого стоит. С ним можно идти на то, чего ждал столько лет, с ним не страшно там, я-то знаю, что там страшно, там страшно, если ты без силы, если в кармане у тебя пусто, тогда конец, тогда по тебе и пройдут, не заметив… Ладно, это все так… А если ускользнет? Анну поставлю на слежку, только надо все точно высчитать. Подниму его до квартиры, под руку подведу, оттуда цепочку потащу, если вдруг выскользнет из-под наблюдения. А куда он выскользнет? К знакомым едет, ясно, не к родным, если б родные были, провожали б, он с тундры, откуда ж еще? А если к знакомым – значит, гульба будет продолжаться».
– Может, билет тебе на завтра прокомпостировать? – предложил Кротов. – Слышь, Михаил?
– В городе, – сквозь сон ответил тот. – Там пор… про… поркомпостирую.
…Кротов поднял его на второй этаж, отметил для себя табличку на двери: «Журавлев Р. К.», сбежал вниз, чтоб не попадаться этому самому Журавлеву на глаза, замер внизу, на площадке, услышал женский голос:
– Мишенька, откуда ты?! Да какой пьяненький…
Дверь захлопнулась, Кротов вознесся наверх, приник ухом к двери – фанера, сопение слышно, не то что голоса.
– Улетишь завтра или послезавтра, погости у нас, – говорила женщина.
Мужской голос – хмурый, недовольный:
– Григорьевы спрашивали, Дора тобой интересуется…
– Погоди ты со своей Дорой, – возразила женщина, – лучше накрывай на стол. Пошли, Минечка, пойдем, масенький, ох, какой же пьяненький ты, смотри не засни…
– Диана, не при мне хотя бы, – услышал Кротов горький, отчаянный голос мужчины и осторожно пошел вниз.
…Он рассчитал все; маршрут малыша от Журавлевых к Григорьевым проследил; его самого, Кротова, малыш, конечно же, не помнил, поэтому в такси прыгнул, словно козлик – веселый, ручкой махал провожавшим; второй мужик, что вышел на улицу с Григорьевыми и здоровенной бабой, помог устранить неполадку; Кротов нарочно свечу подвывернул, мотор не заводился, мужик сообразил, подтянул; поехали на тот именно рейс, который закомпостировал Минчакову мужик с жалостливым голосом, Журавлев, у которого жена Диана; его Анна довела до кассы, стояла за ним в очереди, все видела и слышала; когда тронулись – Минчаков сказал, чтоб шеф завез его на Пролетарскую («к Журавлевым», понял Кротов), взял с собою портфель, махнул наверх, пробыл там минут двадцать; свет в окнах журавлевской квартиры так и не зажигали; вернулся с портфелем и чемоданчиком, шальной какой-то вернулся, на губах улыбка замерла, сказал, мол, посылку передали, и запел вдруг, безголосо запел, так от счастья поют… При выезде из города Кротов спросил:
– Возьмем попутчицу?
Анна стояла на обочине с чемоданом и вещмешком, руку тянула, пританцовывая, мол, опаздываю на самолет.
– Чего ж не взять, возьмем, – согласился Минчаков.
Анна села сзади, Кротов рванул с места, снова мысль засверлила: «Может, не надо, к черту», – но он заставил себя медленно считать метры: на цифре «сто» Анна должна была ударить малыша топориком по темени; как раз на «сотне» есть хороший съезд с шоссе на проселок, все рассчитано…
Все, да не все. Деньги у малыша были, остались две тысячи, аккредитивов на пятнадцать тысяч, а самородка не было, как ни искали.
Разрубил малыша быстро, сунул в мешок, мешок – в багажник; голову – в резиновый мешок, туда Анна заблаговременно положила камни, бросили в реку; съехали на третий проселок, мешок закидали снегом, валил крупный, мокрый, третий день валил; чуть поодаль снегом же закидали морскую офицерскую шинель – для ложного следа, пусть морячка ищут…
Вернулись в город; Кротов заехал к себе, вернулся быстро, Анну высадил возле ее дома, сказал, чтоб потихоньку собиралась; подъехал к дому Журавлевых, в подъезде надел демисезонное пальто, каракулевую шапку, приклеил усы, купленные Анной в магазине «Актер», когда летали в Ригу с пересадкой в Москве, позвонил в дверь; открыла женщина – высокая, красивая, ее он не видел, она из дома не выходила, пока Минчаков был у них, такая же высокая, как та баба, которая его на проходной целовала, только эта стройная, а та как бочка.
– Вы меня извините, – сказал Кротов, – я от Миши Минчакова… Он не решился сам… Рейс снова отложили… Словом, вы понимаете, он спьяну сделал вам подарок, который не имел права делать… Это полагается сдавать государству…
– А… вы… кто?
– Я директор его прииска, Караваев; Антон Иванович, он, видимо, говорил вам…
– Ничего он мне не говорил! Рома! – закричала вдруг женщина. – Выйди же сюда!
Вышел Журавлев, развязывая галстук, видимо, только что вернулся с работы, тихо спросил:
– В чем дело?
Кротов долго смотрел на женщину, потом, не отрывая от нее глаз, сказал, чувствуя, как дергающе отсчитывает где-то внутри секунды:
– Вы убеждены, что я должен посвятить в это дело вашего супруга? Или позвонить в милицию?
Кротов на мгновение опустил глаза и вдруг увидел женские меховые сапоги: они были мокры, и пальто было мокрое.
«Все, – понял он, – пока я его вез, она свое дело сделала, из дома унесла».
– Звоните в милицию, – сказал Журавлев потухшим голосом, – звоните. Проходите, пожалуйста, в комнаты…
– Я лучше привезу сюда Мишу, – сказал Кротов, – я оплачу его убытки за билет и привезу сюда. Или поедемте со мною…
– О чем он говорит? – спросил жену Журавлев. – О чем вы говорите?
Женщина, видимо, что-то почувствовала, неуверенность и страх Кротова почувствовала, поэтому повторила слова мужа:
– Проходите и звоните. Мы с вами на аэродром не поедем. А что могло взбрести Мише в голову – я не знаю.
Этого визита Кротов себе простить не мог.
Поэтому и решил бежать стремительно, а так поступать в школе абвера его не учили…
И не мог он себе того простить, что получил деньги за минчаковский билет; копейку умел считать, а когда дело тысяч коснулось, потерял контроль, взял двести рублей, дурак! А все равно по аккредитивам получать, какие-никакие, а деньги, пятнадцать тысяч, да своих с Аниными тридцать, да золотишко, песочек…
«Мало. Золото в цене скачет. Мало. На одного даже мало. Анна нужна – за ней профессия, считать умеет, про золото знает все, это сгодится там. Но – мало…
Надо Анну в Смоленск отправлять, тамошние Кротовы всегда шли по ювелирной части; Анна узнает мне все. А там – решу. Только б знать. Я тогда силен, когда знаю…»
– Гриш, а Гриш, – шепнула Анна ночью, после того как из Коканда прилетели в Сухуми, получили по минчаковскому паспорту деньги и сняли себе комнату в маленьком домишке, в поселке далеко от моря, там и паспорт-то не требуют, а потребуют – на, бери, Минчаков я, Михаил Иванович, неси в милицию, очки с усами, неси, пусть узнают, они до лета ничего не узнают, там уж сугробы, чистый паспорт, чище, чем Милинко – он таким до мая будет, а до мая меня самого уже не будет здесь, ни меня, ни Анны.
– Гриш, ты чего, спишь?
– Не «чего», а «что», – машинально поправил ее Кротов.
– Гриш, у нас ребеночек будет…
– Не будет у нас ребеночка. Нельзя нам. Аборт сделаешь.
– Да ты привыкнешь, Гриш… Мне уж тридцать пять, тебя люблю больше жизни – как же без ребеночка? Да и аборт мне делать нельзя, врачи предупреждали… Ты чего, Гриш?
– Ничего. Думаю, Анна. Думаю.
«Спасибо бате: верно учил – “бабе не доверяй, нельзя, она без зла продаст, у нее натура такая особая, нам непонятная”, – размышлял Кротов тяжело и горько. – А скажи я ей, что будем пробиваться за рубеж? Ведь хотел сказать, святой дух небось удержал. Умная, не отымешь, умная, а все одно не может понять, что тут нам не жить. Ну ладно, ну говорил я ей, что паспорт карлика вычищу, на нее переправлю, сработаю, умею это. Луигу спасибо, всеми почерками владел дворянин, на две руки, небось доносы в гестапо и с правой, и с левой строчил… Эх… Снова один. Нужна ж ты мне, Анька, дура! Что ж ты себе приговор пишешь…»
Он повернулся к ней; она ждала этого, вжалась в него, обвила шею сильными руками.
Кротов тяжело усмехнулся:
– Изумруд с пальца сними, кожу мне царапает…
2
Костенко прилетел в Москву и с аэродрома сразу же отправился в министерство. Там в его кабинете Тадава уже собрал оперативную группу; генерал сидел в углу, возле книжного шкафа.
– Владислав Николаевич, – заметил он, сухо поздоровавшись, – я позволил себе не согласиться с вашим выговором Тадаве, я не утвердил его; я объявил строгий выговор дежурному в Смоленске. Тадава ночевал в комнате для оперативников при угро…
– В своем номере надо было спать, – хмуро возразил Костенко. – Или предупреждать дежурного, коли тот – недотепа. Но раз вы отменили, я замолкаю.
– Товарищ генерал, – поднялся Тадава, – к сожалению, я вынужден согласиться с выговором моего непосредственного начальника. Я благодарю вас за то, что вы лично разбирались, но виноват все-таки я. Во-первых, я обязан был предупредить дежурного, и не раз; во-вторых, поскольку все знали мои координаты, то искали именно в отеле, и наконец, в-третьих, мне следовало бы сидеть в комнате оперативного дежурного, там все телефоны.
– Знакомые интонации, – усмехнулся генерал. – Хорошо, закончим турнир рыцарей, пора к делу. Начинайте оперативку, Владислав Николаевич.
Костенко как-то непонимающе посмотрел на генерала, потом сухо кашлянул:
– Я казню себя за… столь поздний полет… Попади я в Берлин на пару дней раньше и…
– Начинайте оперативку, – резко повторил генерал.
– По пунктам. Первое – Кротов, убивший Милинко, в этом теперь нет сомнений, обучен навыкам диверсионной снайперской стрельбы; умению отрываться от слежки; основам грима; изготовлению фальшивых документов; организации схоронов в лесу. Второе: он забрасывался абвером в Батуми летом сорок второго года; возглавлял группу из четырех человек некто Лебедев Эрнест Васильевич, 1922 года рождения, место рождения – Кемерово, более точных данных нет. После выполнения задания Лебедев и Кротов застрелили – так было спланировано задание – двух своих подчиненных, радиста и снайпера, ибо их инструктировали: «Не оставлять следов, уходить обратно морем, двух человек возьмет подводная лодка». Я считаю, что мы должны немедленно поставить наблюдение за домом матери Милинко. Если Кротов будет просить политическое убежище, – а он должен его просить как Милинко, а не Кротов, – ни одного свидетеля не должно остаться из тех, которые могли бы опознать гада, убившего истинного Григория Милинко из деревни Крюково.
– Наблюдение уже поставлено, – негромко откликнулся Тадава. – Со вчерашнего дня, после нашего провала в Смоленске. Предупреждена и Серафима Николаевна, подруга и секретарь генерала Шахова…
– Третье, – словно бы не услыхав Тадаву, продолжал Костенко, – мне кажется, что одна из многих наших ошибок заключалась в том, что мы, исследуя в Адлере и Смоленске железные дороги, шоссе и аэродромы, сбросили со счета порты. Я высчитал причину этой нашей ошибки: мы прежде всего исследовали фактор времени. Мы полагали, и справедливо полагали, что бандит должен как можно скорее исчезнуть с места преступления – в данном случае я говорю о Смоленске; его звонок к убитой родственнице из Адлера вписывался в систему этого рассуждения. Кротов переиграл нас, он пошел по пути парадоксальному: «Они пойдут, как гончие, на махах, а я, Кротов, поплетусь; пробегут мимо». И он нас обыграл; я убежден, он ушел из Смоленска пароходом.
Предложения: полковник Кириллов отправляется в Калининград, дожидается там человека со шрамом, параметры которого сходятся – в какой-то мере – с Кротовым; я имею в виду Пинчукова. Майор Тадава со своей группой блокирует район Черноморского побережья, особенно Сухуми – Батуми; Кротов знает эти места еще со времен войны. Тадава выясняет абсолютно все маршруты малой авиации в этом регионе, устанавливает посты на аэродромах, поддерживает постоянный контакт со штабом поиска, готовит операцию перехвата или захвата; к операции прошу подключить управление милиции на воздушном транспорте. Считаю необходимым просить руководство выделить оперативные группы также в те рыболовецкие хозяйства, откуда уходят суда в кратковременные рейсы, без захода в иностранные порты. Дело в том, что в школе диверсантов учили умению держаться на воде продолжительное время, используя портативные надувные жилеты, – следовательно, можно предположить, что Кротов, нанявшись на судно в какой-нибудь рыболовецкой флотилии, может ночью спустить лодку, что вообще-то опасно, либо использует надувной жилет и прыгнет в море, когда судно будет проходить какой-либо пролив, Кильский, к примеру. Просил бы санкцию на вызов в Москву магаранских шоферов Цыпкина, Ларина и Тызина, которых следовало бы придать для опознания трем группам…
– Почему трем? – спросил генерал. – Вы же говорили о двух группах – Тадавы и Кириллова?
– Третью, летучую, я намерен возглавить лично.
– Дальше, – откликнулся генерал. – Или у вас все?
– Нет, не все. Просил бы подключить к нам работников Института права: необходимо составить систему доказательств вины Кротова, учитывая особое, резко от нашего отличное судопроизводство в ФРГ.
– Все? – спросил генерал еще раз.
– Нет, – не скрывая недовольства, резко ответил Костенко. – Прошу простить за некоторую разбросанность, но у меня не было времени подготовиться к оперативке – всего два часа в полете. А я только теперь понял, что мы все это время страдали весьма серьезным изъяном: были пассивны. Мы шли за преступником. А надо бы постараться сделать так, чтобы мы его повели, вынудили к такому действию, которое выгодно нам и нами контролируемо. Я бы просил, товарищи, подумать об этом всех и сегодня же внести предложения. Хочу напомнить слова Нильса Бора: «Идея гениальна лишь в том случае, если она страдает некоей сумасшедшинкой». Вот теперь, – он глянул на генерала, – у меня все.
– Владислав Николаевич сделал в высшей мере интересное сообщение, – заключил генерал. – О подключении Института права… Дело в том, что мы были бы весьма уязвимы с уликами против Кротова по поводу убийства Милинко…
Костенко, пряча очки в футляр, спросил:
– «Были бы»? Почему в прошедшем времени? Мы и сейчас уязвимы. Доказателен ли для западногерманских судей анализ, который сделал майор Тадава, исследовав архивные материалы о битве за Бреслау, – вот в чем вопрос.
– Нет, – ответил генерал. – Для них он малодоказателен. А для нас он доказателен потому, что двадцать миллионов наших Милинко в земле лежат. На Западе к памяти прошлой войны относятся иначе, спокойнее, определил бы я. А «были бы», то есть прошедшее время, я употребил потому, что польские товарищи прислали нам доказательство. – Генерал чуть улыбнулся. – Мне не терпелось показать вам это доказательство, лишь поэтому-то я дважды поинтересовался, – он посмотрел на Костенко, – закончили вы свое сообщение или нет?
Генерал открыл большую зеленую сумку, достал оттуда пакет, очень осторожно раскрыл его: челюстная кость, в ней – нож; на рукоятке инициалы – Н.К.Р.О.А.
– Перед вылетом Владислава Николаевича майор Тадава был вынужден доложить непосредственно мне историю своих архивных изысканий. Я после этого связался с польскими коллегами.
– Теперь вопрос о доказательности снят, – сказал Костенко и закрыл глаза – устал, спал мало, в веки словно песка насыпали. – Экспертизу будем делать?
– Хороший вопрос задали, – ответил генерал. – Мы предложим сделать экспертизу на Западе – в том случае, если Кротов, как вы полагаете, сможет уйти или уже ушел. С КГБ я связался, копии материалов передал им, товарищи предложили провести совещание, совместное с пограничниками.
…Первым после окончания летучки к Костенко пришел Тадава; вечером он улетал в Батуми.
– Владислав Николаевич, у меня возникла идея – несколько, впрочем, боровская…
Костенко не понял, потянулся с хрустом:
– Это что же за «боровская» идея?
– Я имею в виду – сумасшедшая, – помог ему Тадава, – по Нильсу Бору.
– Валяйте, – по-прежнему устало, не скрывая неприязни, ответил Костенко.
– Из Владивостока ежемесячно уходят профсоюзные плавучие дома отдыха – курс к Филиппинам, потом еще южнее; загорают люди, купаются в бассейне. Об этом плавучем курорте во Владивостоке знают все. А что, если мы напечатаем в батумско-сухумском районе объявление такого рода?
– Нет, только не там… Это будет слишком странным для всех… А вообще идея неплоха… Но печатать объявление? – ответил Костенко. – Это его насторожит, если мы будем, придерживаясь моей версии, считать, что он сейчас схоронился где-то в том районе. Я бы лучше передал очерк об этом на радио или объявление по телевидению… Он же, видимо, из того дома, где затаился, выходит редко. Значит, постоянно слушает радио, ящик смотрит.
Тадава дозволил себе улыбнуться:
– Лучше поручите мне найти на радио новую Киру Королеву…
– Откуда информация? – хмуро поинтересовался Костенко.
– Профессиональная тайна, – ответил Тадава.
– Ищите. Что-нибудь дельное объявилось в архивах? Или ограничились тем, что сообщили сначала генералу, а уж потом мне?
Тадава напрягся весь, будто от удара, но сдержал себя:
– Я был вызван генералом, Владислав Николаевич, когда вы были в отъезде. Только поэтому получилось такое досадное недоразумение… Что же касается «дельного», то в архивах все дельно, ибо тебе открывается святое. В наш прагматичный, лишенный рыцарства век это просто-напросто необходимо…
– По-вашему, прагматика исключает рыцарство?
– Во многом – да.
Костенко покачал головой:
– Рыцарство – как социальное явление – абортарий зародившегося прагматизма. Рыцарь, шедший отвоевать Гроб Господень, имел массу привилегий; руки развязаны; возвращался богатым человеком, получал землю и, в свою очередь, нанимал себе рыцарей. Не фетишизируйте слово.
– Мне кажется, мы только этим и занимаемся, Владислав Николаевич.
– Увы, – согласился Костенко и незаметно для себя дружески улыбнулся Тадаве.
– Пугаем себя словами…
– Не столько словами, сколько тем, как эти слова могут быть истолкованы, и не нами, а супостатами, – поправил его Костенко. – Что мы не пиши, все равно противники станут толковать так, как им это выгодно в данный конкретный момент. Ладно, когда вылетаете на границу?
– В семь.
– Как там погода, в ваших кавказских краях?
– Дождит. Но не это главное. Главное я припас на прощание: Лебедева, который забрасывался к нам с Кротовым, мы нашли, Владислав Николаевич.
– Где он?
– Отсидел свои пятнадцать лет, сейчас живет под Сухуми…
– Под Сухуми?!
– Изумление ваше мне приятно, вроде бы форма некоего прощения за мой доклад генералу и оперативность в поиске Лебедева, но как быть, если и Кротов его искал и нашел?
3
В консульском управлении МИД Костенко долго и подробно рассказывал дипломатам всю историю Кротова, отходя порою в сторону от главного, словно бы рассуждал вслух, заново перепроверяя себя самого, свою версию.
– Почему все-таки мне кажется, что он станет прорываться на Запад? – оглядев своих слушателей, а их было трое, советник и два первых секретаря, спросил Костенко.
Дипломаты переглянулись; Костенко же, мягко улыбнувшись, пояснил:
– Я снова и снова задаю себе этот вопрос. И задаю оттого, что, если просчитался, неверно нарисовал психологический портрет Кротова, пошел не за тем, тогда проиграл я, а со мною и мои коллеги, которые взяли на веру мою версию. Действительно, существует иное вероятие: преступник – возраста предпенсионного, набит деньгами и золотом, вполне может затаиться где-то в глубинке, такое бывало. Но я возражаю себе: «Он слишком много знает и хорошо помнит свое прошлое, чтобы затаиваться здесь».
– Что вы подразумеваете под «прошлым»? – поинтересовался советник. – Войну или преступления, совершенные в последние месяцы?
– Вы поставили точный вопрос, – ответил Костенко. – Я рад, что вы так хорошо меня поняли. Конечно, он помнит войну, он помнит победу, он читал в газетах, как чекисты постепенно выявляют предателей, полицаев, карателей. Он помнит свой проигрыш, понимает, что его ждет, если он попадется. Но он во время войны жил на Западе, он помнит Германию, он поэтому писал в Израиль своему знакомцу: «Без денег там делать нечего». И он копил, все эти годы он копил золото.
– Зачем ему было убивать ювелира Кротову? Свидетель?
– Да.
Советник закурил:
– Но я, простите, не вижу логики в его визите к ней…
– Логика – абсолютна. Всего у нескольких людей на земле остались его фотографии и письма. Родители умерли; он тем не менее навел справки: осталась приемная сестра, жив дядька, с которым родители не дружили, жива ювелирша, вдова двоюродного брата. И все ведь, больше никого нет… Их он посетил, украл фото и письма – тщательно уничтожал следы. А с Кротовой произошел скол: ее вызвали. Золото, камни, серебро, возможность хищений, разговоры со следователем, изъятие фотографий и писем, удивление ее по поводу пропавших фотографий родственника, «погибшего в боях за нашу Советскую Родину». А то, что его уже могут искать, Кротов понимает. У него в запасе была осень и зима. В своих размышлениях он, видимо, отвергал вероятие преследования, пока трупы убитых им людей были под снегом. Он, видимо, полагал, что в его таксомоторном парке могли и не обратиться в милицию – текучесть рабочей силы, сами знаете, проблема; у руководителей руки связаны, нечем держать рабочего, категория материальной заинтересованности и личной материальной ответственности перед обществом еще не отлилась в бронзу. Видимо, все эти месяцы Кротов готовил операцию ухода, очень тщательно, скрупулезно, выбирая оптимальный вариант.
– Петрову он ликвидировал, оттого что боялся свидетеля? – спросил советник.
– Не знаю. Причина не до конца понятна мне. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают, что Петрова была беременна, другие не согласны, ее нашли, когда жарко уж было, началось гниение… Может быть, боялся, что с беременной трудно будет переходить границу, женщина в особом положении, возможны непредвиденные срывы… Я допускаю такое вероятие, но в этом вопросе сам хожу впотьмах, версии не имею, отвечаю вам как на духу…
– Вы советовались с нашими юристами-международниками? – спросил первый секретарь, до той поры молчавший. – Если будет решено снестись с консульством ФРГ, это предстоит делать мне. Я хочу быть во всеоружии.
– Да. Заключение юристов в деле, вы его прочтете. По поводу убийства Минчакова и Петровой – улики бесспорны.
– А Милинко?
– Тоже.
– Видите ли, товарищ Костенко, – сказал советник, – вы поставили такой вопрос, которого в практике еще не было…
Костенко усмехнулся:
– Потому-то и пришел именно к вам.
– Моего товарища спросит его коллега из консульского отдела посольства ФРГ: «А почему, собственно, вы обращаетесь к нам с этим вашим внутренним делом?» Что прикажете ответить?
Костенко нахмурился, молчал тяжело, долго, потом сказал:
– А что, коли он уж границу на брюхе переполз? Дать ему спокойно там жить?
Советник покачал головой:
– Ваше предположение, что он пойдет в Западную Германию, тоже представляется мне весьма априорным… Вы говорите, что, судя по книгам, которые он выписывал в библиотеке, он восстанавливал немецкий язык. Но ведь с немецким можно жить в Австрии или Швейцарии. Наконец, в Штатах есть целые немецкие районы, где в основном поселились бывшие…
– Верно, – легко согласился Костенко. – Меня мучат эти же вопросы, но все-таки я остановился именно на Западной Германии… Дело в том, что по характеру, – судя по расспросам тех, кто его помнит, – он тяготел к тому лишь, что знал, нового боялся, а все те страны, которые вы назвали, – внове ему. Он, видите ли, книг не читал, с детства это у него, говорил: «Гулливера быть не может, выдумки это»… Если он ушел… Страшно говорить… Если ушел или намерен уйти, то лишь туда, где бывал ранее… Это вписывается в его психологический портрет.
– Исследуем ту возможность, которая вам представляется самой неприятной, – сказал первый секретарь консульского управления. – Допустим, что Кротов ушел в ФРГ. Но он обязан там объявиться вполне открыто, заявить, что просит политическое убежище, чем-то свою просьбу мотивировать. Пока этого не было. С чем же я сейчас пойду к западногерманскому коллеге?
4
Кротов сидел в аэропорту. Был он в спортивной куртке, джинсах и кедах, рядом поставил теодолит и плоский красно-белый метр – изыскатель, одно слово. При погрузке в багаж теодолит могут ненароком поломать, знаем мы наших умельцев, кидают как попало, не берегут государственное добро, лучше сам понесу. Не сдал и металлический чемоданчик с инструментом – если при выходе на поле будут пропускать через таможенную «пищалку», пусть пищит, инструмент пищит – понятное дело; пистолет спрятан в углублении, под инструментарием, кто додумается курочить фирменный чемоданчик?!
Он приехал в аэропорт заранее; в тюбетейке, бородатый, очкастый геолог-изыскатель; перед этим зашел в старый подвал, съел хачапури, выпил бутылку «Боржоми», попросил заварить двойную порцию кофе; чувствовал себя напряженным, каждую мышцу чувствовал.
Он внимательно наблюдал за тем, кто регистрировался на его рейс. Он ждал, чтобы среди пассажиров появилась какая-нибудь старуха с внучком, он очень надеялся на это, или беспомощный дед с клюкой – тоже подходит.
Но регистрировались в основном колхозники – пожилые мужчины в невероятной величины кепках, их жены, одетые, несмотря на жару, очень тепло; подошел к стойке старик, но без клюки, ходит вполне самостоятельно, к нему не навяжешься, назойливость – заметна. До объявления посадки оставалось еще полчаса.
«Это хорошо, что я уговорил девицу в кассе отдать последний билет на этот рейс, – думал Кротов. – Только не надо зазубривать движения, это Луиг советовал, а немцы все одно заставляли, поэтому и войну проиграли, фрицы чертовы! Выиграли б, не пришлось мне змеем жить, ногой бы все двери открывал… Все получится так, как я задумал, только не зубрить движения. А если в самолете будет сидеть гаденыш из транспортной милиции? Нет, на таких рейсах не должен. Да и потом я его замечу, всего три пассажира должны еще прийти, что ж этот гад будет регистрироваться, как мы? Самолет маленький, одна проводница, и все. Дверь у пилотов закрыта, а она ходит, воду даст, если только попросишь, на таких рейсах вода не положена, билет и так дешевый… Из Смоленска я ушел чистый, они не могут Кротову со мною повязать, они сейчас округу шарашат, ищут, кто взял ювелирный… Даже если малыша уже нашли в Магаране, со мной не свяжут… Головушки нет, пальчиков – тоже… Ах, Журавлева, Журавлева, ах, плачет по тебе петля, сука… Нет, я иду чистым, я чувствую это, через час я буду там… Золото и бриллианты таможенная «пищалка» не посечет, в тряпке, под инструментом, рядом с пистолетом, тысяч пятьдесят зеленых потянет, ничего, для начала хватит… Эх, пришла бы бабка с детенышем, с каким-нибудь завалящим, запаха я их не переношу, а этого бы козой пугал, леденцами кормил, с ребенком куда хочешь пустят, относятся по-особому, социализм, мать его растак, забота о детях, чтоб они все неладны были… “Беременна я, Гришенька, – вспомнил он Петрову, – ребеночек у нас будет”. Дура, сама себя счастья лишила. Она б мне сейчас пригодилась, она зубами б глотку кому хошь перегрызла, только скажи… Баба и есть баба, достал ты ее, каштан из огня потащит, отца родного продаст…»
И тут Кротов увидел того, кого так ждал: шла потная, растерзанная женщина с двумя тяжелыми чемоданами, а за нею, вцепившись пальцами в юбку, топала плачущая девочка с куклой в руке.
Кротов поднялся, подбежал к женщине:
– Я помогу… Носильщиков-то не было, что ли?
– Да откуда они! – ответила женщина, вытирая со лба пот.
– Безобразие, да и только. Если фрукты везете, не советую сдавать, лучше я вам помогу донести, швыряют чемоданы, спасу нет, помнут все.
– Да неудобно, что ж вы тащите, – ответила женщина, – спасибо, только тяжелый чемоданище-то.
– Он тяжелый, а я не такой уж и старик. – Кротов нагнулся к девочке, достал из кармана леденец: – Держи, маленькая. Тебя как зовут, мамина дочка?
– Ли-дочка, – протянула девочка и начала деловито развертывать леденец, вопросительно при этом глядя на мать. Та, наконец, улыбнулась:
– Съешь, доченька, пососи…
Кротов подвел женщину к стойке, поддерживая под руку, спросил у регистраторши:
– Можно нам чемодан с собой взять, девушка? Там фрукты, кидать будут, помнут.
– Тащите, если хочется, – ответила девушка за стойкой, взвешивавшая чемоданы, – только перевес, двадцать шесть килограммов лишние.
– А у меня недовес, – Кротов заставил себя улыбнуться, – мы ж вместе летим, вы на мой вес запишите чемодан, доплачивать не хочется, да и маленькая с нами…
– Покажите ваш билет, – сказала девушка.
– Да я ведь только сейчас регистрировался…
– Все вы «только сейчас» регистрируетесь.
– Чего ж вы грубая такая? – удивилась женщина. – И так лететь с ребенком страшно…
– Страшно – поездом ездите, – отрубила девушка. Она развернула билет Кротова. – У вас рюкзак семнадцать килограммов, Мулиношвили. Все равно три килограмма перевес…
– Да ладно, – сказал Кротов, – три кило всего, а мы с ребеночком…
Девушка поставила штампы, вернула билеты, одну бирку повесила на чемодан, который стоял на весах, вторую протянула Кротову:
– Прицепите на тот, что с собой берете.
– Только у нас девочкины вещи в том, – Кротов кивнул на чемодан, который по-прежнему стоял на весах. – Можно будет в самолете взять оттуда теплые вещи?
– Бортпроводника спросите, а не меня!
Когда Кротов отошел, девушка просчитала пальцем – все ли зарегистрировались, позвонила в диспетчерскую, сказала, что можно объявлять посадку.
Когда пассажиры – Кротов взял на руки девочку, подхватил чемодан женщины, а ей отдал свой ящик – двинулись на посадку, к стойке подошел младший лейтенант милиции на воздушном транспорте Козаков, внимательно посмотрел список зарегистрированных пассажиров. Ни Милинко, ни Минчакова, ни Пулинкова, ни подобных им фамилий не было; на фамилию Мулиношвили, понятно, не обратил внимания, слишком уж далеко от одной из возможных фамилий того человека, которого искал уголовный розыск Советского Союза.
Второй пост у выхода на поле тоже не обратил внимания на очкастого геолога – они тут часто летают, чуть не каждый день.
На выходе из здания аэропорта к автобусу пассажиров попросили пройти через хитрые воротца «пищалки»; женщину Кротов пустил первой. Тонко и очень слышно запищало.
– Откройте чемодан, – сказал спутнице Кротова мужчина в милицейской форме.
Женщина вопросительно посмотрела на Кротова.
– Да что ж ты?! – сокрушенно сказал он, не спуская девочку с рук. – Открой защелку… Геолог я, тут инструмент, бомб нету, – засмеялся он, глядя на милиционера…
Тот помог женщине открыть ящик, увидел аккуратно уложенные инструменты, кивнул:
– Проходите.
…В самолете Кротов попросил соседа – обросшего жесткой щетиной старика – уступить место женщине с девочкой:
– Мы вместе летим, папаша, мы вам два места отдадим, в хвосте безопасней к тому же…
– В маленьком самолете всюду безопасно, – ответил старик и поднялся с кресла.
– Ой, спасибочки вам, гражданин, – сказала женщина Кротову, – как бы я одна управилась, прямо не знаю!
– Мир не без добрых людей, – ответил Кротов и потрепал по голове маленькую Лидочку. – Правильно я говорю, доченька?
«Только б они открыли дверь, – подумал Кротов, – только б сработал мой план. Откроют. “Человек человеку”. Откроют…»
– Граждане пассажиры, – прохаживаясь между креслами, сказала бортпроводница, – продолжительность полета час сорок минут. Просьба привязать пристяжные ремни и воздержаться от курения.
«Через час двадцать начну, – подумал Кротов, – надо точно засечь время, тут в минуте нельзя ошибиться. И – в направлении. Хотя там должен быть виден берег, я за берег уцеплюсь, не дурак же, и нервы держу. Минут через тридцать я первый раз пройду в хвост, принесу девочке что-нибудь. Надо придумать, за чем пойти? Скажу, что дует, наверняка у бабы в чемодане лежит теплая кофта для девчонки. Наверное, захочет сама пойти, колхозница, боится, что я ее ситцевое платье сопру. Морда конопатая, глазенки-то, глазенки махонькие… Я ей скажу, чтоб девочку с колен не спускала, плакать, скажу, будет ребенок. “Не верите, что ль?” – спрошу, на такой вопрос у них все отвечают: “Да что вы”».
5
Лебедев жил в большом доме, на склоне горы, в девяти километрах от Сухуми – по направлению к Батуми.
Он встретил Костенко на мраморной лестнице, что вела на террасу, окружавшую второй этаж.
Был он бос, в шортах, в абхазской шерстяной шапочке на лысой голове, как и Кротов, кряжист, лицо в резких старческих морщинах, но руки, налитые силой, и мускулистые ноги казались приделанными, чужими, столь были они юны еще, не тронуты возрастом.
– С кем имею честь? – спросил Лебедев.
– С полковником Костенко.
– Гэбэ-Чека?
– Уголовный розыск.
– Странно. Я не ваш клиент. Тем не менее прошу…
Он пропустил Костенко перед собой, распахнул дверь в комнату, обставленную тяжелой, роскошной мебелью, кивнул на кресло с высокой спинкой – стиль «Людовик», желтый в белую полоску шелк, львиные морды, много латуни.
– С чем изволили?
– С разговором.
– Без протокола?
– Без.
– Увольте, без протокола не говорю с людьми вашей профессии.
– Как знаете, – Костенко пожал плечами. – Я приглашу из машины стенографиста, он будет фиксировать разговор.
– Нет, я предпочитаю давать собственноручные показания.
– Тогда можно не приглашать стенографиста, – усмехнулся Костенко. – Первый вопрос, видимо, вас несколько удивит…
– Удивление – одно из самых больших удовольствий, которые мне оставила жизнь. Слушаю вас.
– Вы эту свою манеру бросьте, – сказал Костенко. – Ясно?! Вы и ваша банда моего отца убили, и дядьев убили, и двоюродного брата заморили в Питере голодом. Так что не паясничайте!
– Пугать меня не надо, гражданин полковник. Я к этим пассам спокойный.
– А я вас не пугаю. Я вам говорю правду. И хватит словес, у меня времени мало.
– У меня зато много, – еще тише ответил Лебедев, лениво поглаживая свой втянутый, мускулистый живот, поросший жесткими седыми волосками.
Костенко почувствовал, как у него захолодели руки. «Ты ж сам всегда выступаешь за демократию, – сказал он себе. – Ты сам постоянно повторяешь про нашу Конституцию, законность и про уважение к личности. Он ведь отсидел, этот Лебедев, он теперь равноправный гражданин, а ты говоришь с ним как с вражиной. А кто он? – возразил себе Костенко. – Все равно вражина, фашист, хуже фашиста, он предатель! Но ведь он понес наказание, а человек, отбывший наказание, обретает все права гражданства. Разве нет? Значит, ты только на словах за демократию, Костенко, а на деле – болтун?! Ты ж выводишь примат чувства, и это верно, когда ты идешь по следу, выстроив версию, но это опасно, когда ты упираешься лбом в закон – тут ты входишь в противоречие с самим собой, а это не годится, ты ничего не достигнешь, ты провалишь операцию, а кто тебе дал право ее проваливать?!»
– Ну что ж, – сказал, наконец, Костенко, – если у вас много времени, значит, вам есть что мне рассказать?
– Роман и две повести, – открыто издеваясь, ответил Лебедев. – Курить изволите?
– Да.
Лебедев легко поднялся с кресла, подошел к шкафу, отпер ящик, достал пачки «Мальборо» и «Салэма», принес все это за столик, подвинул Костенко:
– Я лично предпочитаю «Салэм», все-таки ментол, какая-никакая, а польза горлу, способствует отхаркиванию.
– Фарцовщики снабжают?
– Как понимаете, в силу своего прошлого, никаких противозаконных шагов я не предпринимаю, с фарцовщиками не связан… Мне платят пенсию. В валюте… Как-никак, я был офицером немецкой армии…
– «Русская освободительная армия» Власова – военные преступники, при чем же здесь пенсия из ФРГ?
– А порядок, гражданин полковник. Я ненавижу немцев, люди казармы, проиграли выигрышную партию, но один из наших шефов, большой патриот России, Хайнрих Вильфредович Луиг, адъютант шефа русского отдела Гиммлера, генерала Бискупского, говаривал: «Дети, я разбит надвое – между Россией, где рожден, и кровью, которая течет в моих жилах, поэтому мне русский хаос тоже чем-то мил – вольница, степи, удаль, но у немца учитесь порядку, дети; порядок – матерь удачи…» Сейчас, между прочим, держит отель на Балтике. Так вот, порядок есть порядок, они мне, болваны, и переводят валюту за службу. Меняю на сертификаты, балуюсь голландским табачком, французскими винами и подарками для женщин: имею в виду меховые сапоги…
– А знаете, Лебедев, что вы постоянно под мушкой ходите?
– Ну? – не удивившись, спросил Лебедев. – Кто ж на меня зло держит?
– Кротов.
Лицо Лебедева на мгновение закаменело, совсем другое лицо, и глаза другие – слабинка в них промелькнула, смеха уже не было.
– А это – кто?
– Не знаете?
– Убей бог, не знаю.
– Бога не трогайте, – посоветовал Костенко. – Не надо.
Он достал из кармана копию допроса Лебедева, снятого с него в мае сорок пятого, в СМЕРШе 1-го Белорусского фронта.
– Вы ж и тогда собственноручно, разве нет? Посмотрите, ваша рука, – Костенко протянул ему лист.
– За очками на первый этаж идти… Не посчитайте за труд прочесть вслух…
– Не посчитаю. «Вопрос: о ком еще из своих бывших сообщников считаете нужным сообщить следствию, имея в виду меру их общественной опасности?» – «Ответ: прошу следствие обратить внимание на розыск следующих лиц, как отпетых врагов Советской власти, ставших под гитлеровские знамена не по принуждению, как я, а по идейным соображениям. Первым я хочу назвать Солярова Сергея, лет двадцати пяти, родом из Тамбова, отец, как он говорил, до революции служил в прокуратуре, потом был осужден, вернулся и работал в системе столовых. Соляров был моим первым руководителем разведгруппы “Вальд” в составе пяти человек забросили в Калининскую область для сбора сведений о дислокации частей Красной Армии, а также для распространения путем оставления, где только можно, гитлеровской литературы. Из названий помню “Убей комиссара и жида!”, “Большевики – злейшие враги русского народа”. Соляров – после выполнения задания – ликвидировал трех наших людей, обвинив их в желании перебежать к большевикам. Вторым – по мере опасности – я должен назвать Кротова Николая. Он был известен нашей разведгруппе, – до того, как мы были влиты в РОА, – тем, каким образом перешел к немцу. В отличие от меня, взятого в плен в бессознательном состоянии, а затем путем пытки голодом доведенного до отчаяния и согласившегося из-за этого пойти на службу злейшим врагам нашего героического народа, он, Кротов, принес на руках зарезанного им комсорга его роты по кличке Козел и планшет с картами и документами немецким оккупантам и, таким образом, заслужил их доверие. После выброса в район Батума Кротов был награжден “Железным крестом”. В 1943 году он был арестован крипо за то, что после выполнения очередного задания вступил в сожительство с вдовой ювелира и хотел похитить у нее драгоценности. Однако, в отличие от других арестованных за такого рода преступления, он вскоре был освобожден и участвовал в работе по проведению пражской встречи КОНР (“Комитет освобождения народов России”). Якобы именно он донес на “идеолога” РОА батальонного комиссара Зуева, ближайшего сотрудника Власова, что тот по национальности еврей, потому что они вместе мылись в бане и парились. Зуев был расстрелян, а Кротов получил очередное повышение. Третьим я хочу назвать Филипенко Матвея…»
Костенко поднял голову, услышав какое-то странное бульканье.
Лебедев сидел белый, как полотно, откинув голову на желтый атлас кресла, и пытался что-то сказать, но не мог произнести ни слова – оттого-то в горле у него булькало.
Костенко протянул ему листы:
– Хотите убедиться? Я подожду, пока вы сходите за очками…
Лебедев покачал головой, прошептал, наконец:
– Погодите…
– Это можно, – согласился Костенко. – Валидола не изволите?
– Дайте.
Он долго выковыривал бугристыми пальцами таблетку, достал, наконец, положил под язык, закрыл глаза, лицо его расслабилось, снова появились морщины, до этого оно было словно бы налитым воском, как мумия, гладким, вот-вот лопнет.
– Кротов лютует, – сказал Костенко. – За ним три убийства, он свидетелей убирает. Вы – на очереди, если только он знает, что вы живы.
Лебедев покачал головой:
– Не знает, – выдохнул он. – Я ж не думал, что он здесь…
– Он был тщательным человеком?
– Да. Аккуратист. Его за это Луиг особенно любил…
– Значит, он мог – в принципе – обратиться в справочное бюро за вашим адресом?
Подумав, Лебедев спросил:
– Он тоже отсидел?
– Нет.
– Значит, таился? Тогда ни за что в бюро справок обращаться не станет. Надо ж давать свои данные, пусть даже фальшивые, а зачем ему следить лишний раз?
«Врет или нет? – думал Костенко, разглядывая Лебедева. – Ни в каком лагере для пленных он не был, сам в плен сдался, свидетели подтвердили. Или он верит своей версии? Многие преступники начинают верить своей версии, только б убежать от истины, – полнейшее раздвоение личности. Конечно, всей правды я от него не дождусь, но он – трус, весь его наигрыш идет от глубоко запрятанной трусости, надо бить на это, тогда я смогу получить от него хоть что-нибудь».
Костенко положил на колени свой «дипломат», щелкнув латунными замками, открыл, достал папку с фотографиями расчлененных трупов Милинко, Минчакова и Петровой, застреленной Кротовой, подвинул Лебедеву:
– Вот. Его работа. Женщина, которая лежит на улице, его родственница. Не прямая, правда, по дядьке, но тем не менее, когда почувствовал опасность, – почувствовал, подчеркиваю я, – убрал ее. Меня интересует следующее: если я допущу мысль, что он, Кротов, решил уйти за кордон, как он это будет делать – по воздуху или водою?
Лебедев долго, профессионально, разглядывал фотографии, потом задумчиво сказал:
– Да разве нашу границу перейдешь?
– Вы хорошо ответили, Лебедев. Границу нашу не перейдешь, но кровью наследить при такого рода попытке можно…
– Наверное, пошел бы водою, – сказал, наконец, Лебедев. – Он великолепно плавал, мог долго держаться под водой, курил в редких случаях, только перед началом дела и после, а так здоровье берег. Нам выдавали жилеты, надул – на воде хоть неделю продержишься…
– Сколько сейчас градусов в море?
– Шестнадцать. Это для него как парное молоко…
– А вот вы грим в школе Гелена учили… Каждый обучался индивидуально или все вместе?
– Не помню уж… Кажется, все скопом.
– Вы под кого гримировались?
– Мне преподаватели советовали краской особенно не пользоваться, лучше, говорили, не бриться или усы отпустить – казацкие, книзу, очень меняет лицо; парик наладили, черный как смоль, не узнаешь, даже если мимо пройдешь…
– А Кротов?
– Он наголо брился и отпускал бороду. Если времени нет, чтобы отпустить бороду, даже небольшую – ее легко оформить, надо всего дней пять не побриться, – разрешали клеить грим, с проседью, он тогда значительно старше своих лет выглядел. И еще его научили делать шрамы на лице, становился совершенно неузнаваем.
– А как он себя вел в критических ситуациях?
– Реакция моментальная: удар ножом или выстрел.
– Очень был сильный?
– Невероятно.
– Какие-то специфические, ему одному присущие приемы помните?
– Бил по темени рукоятью пистолета, очень любил парабеллум, но нам запрещали, снабжали ТТ.
– Какие-нибудь особые слова, запоминающиеся, ему одному присущие, употреблял?
– Да что-то не помню… Вроде бы нет, он старался быть неприметным, серым, чтоб, кто мимо прошел, на нем и глаза не остановил… Простите, а вы намерены меня привлечь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами?
– Как свидетеля привлечем…
– Но судить его будут не здесь?
– Так мы ж его еще не поймали, – усмехнулся Костенко.
Лебедев долго смотрел на полковника немигающими глазами, а потом ответил – с тяжелой, безысходной угрюмостью:
– Поймаете.
6
…Минут через десять после взлета Кротов поднялся со своего места первый раз. Бортпроводница вскинулась с кресла в хвосте самолета:
– Гражданин, просили ж со своих мест не подниматься!
– Девочке дует, – сказал Кротов просяще, – ребенку холодно.
– Местами поменяйтесь, вам дуть не будет.
– Я легочник, – ответил Кротов, – но не во мне дело, дайте дочке в окно смотреть, а то плакать начнет, пассажиров нервировать…
Бортпроводница покачала головой, но все-таки открыла занавеску. Кротов вошел в багажное отделение, чувствуя на себе взгляд девушки; открыл чемодан женщины так, чтобы из-за спины было видно его содержимое («ну, кулемы бабы, ничего и сложить не могут толком»), достал теплую кофточку, обернулся.
– Спасибо вам, – сказал он и вернулся на свое место.
Укрыв девочку, спросил:
– Ну теперь тепло?
– А мне не-е было хо-олодно, – протянула девочка, – мне хорошо было.
– А вот смотри, какая гора, – сказал Кротов. – Видишь, какая высокая?
– А кто на ней живет?
– Бараны пасутся.
– Там волшебник живет, – сказала девочка. – На высоких горах живут волшебники.
– А чего им там делать? – спросил Кротов, не спуская девочку с рук. – Волшебники на море живут, там, где пальмы растут.
– И на горах тоже, оттуда видней.
– Ты давай спи, волшебница, – сказал Кротов.
– Ой, она такая беспокойная, – сказала мать. – Не могу ее приучить днем спать, а в консультации была, врачи упреждали, что детям надо днем спать, а то нервы расшатаются.
– Спи не спи, все одно расшатаются, – усмехнулся Кротов.
Самолет вошел в облака, начало болтать, и Кротов подумал, что это тоже в его пользу. Пусть бы девка начала блевать, хоть тут зеленые пакеты воткнуты, все равно хороший будет повод встать, одежонку, мол, надо поменять, а то мучается доченька – сердце-то у вас есть?
Он глянул на часы, спросил соседку:
– Горшок везете?
– Так здесь же туалет.
– В туалете дребезжит все, испугается дочка…
– В сумке банка есть…
– Я принесу…
Женщина улыбнулась:
– Да как же в банку-то? Неудобно, люди кругом…
«Я уж ей не человек, – отметил Кротов. – Со мной уж как со своим. Ишь, кошки, все одним миром мазаны. Представляю, как орать обе будут, когда я начну. Это, между прочим, хорошо. Когда истерика и вопль – это делу помогает, это только слабонервных пугает, мне, наоборот, сил придает, спокойствия. Не зря батя учил: “Когда кругом шум, ты в себе спокойствие ищи. Особенно, если бабы голосят. Ты тогда и начинай то, что задумал, мне их крик силы придает, я ж – ледокол, мне ли на вопли да сопли внимание обращать, мне идти вперед, по своему курсу. И тебе – тоже”. Интересно, отчего ж я детей не люблю? Не злодей же я, нормальный человек, значит, о потомстве должен думать, чтоб помирать было не страшно… Это, наверно, мне в голову засело, когда батя велел матери в больницу идти. А мне потом сказал: “Пеленки воняют, корыто на кухне, бока все набьешь… Писку сколько? А толк? Вон и ты: подрастешь, станешь своею жизнью жить; не зря говорят – “отрезанный ломоть”; человек – животное, а каждое животное рождено для того, чтобы свою судьбу прожить. И глаза-то не отводи: сейчас ты для матери пуп земли, а родился б еще кто – побоку, нет тебя, все младенцу, так что обиду не строй, тебе ж самому свободней жить, а то ухаживай, слушай, как орет, не велика радость. Свободу цени, Николай; как ветер должен жить; захотел – снялся, чего себя привязывать? Один раз в мир пустили, так и пожить надо всласть”. – “А ты, – спросил он тогда отца. – Ты-то привязанный, и я у тебя сын”. – “А ты думаешь, я тебя хотел? Не сопи, не сопи носом, я правду говорю, сам знаешь, как отношусь к тебе; бабы для меня нет, прими-подай-пшла вон, потому что отца твоего предала и прощения ей моего никогда не будет. А ты решай – с нею ты или со мной. Решай, я не люблю, когда нашим и вашим… Утрись! Как с мужиком говорю! Цени! Говоришь – “привязанный” я… Были б деньги… Тебя будут учить: “мол, труд, порыв” – это ты слушай и с силою не спорь, не перешибешь, но себе на ус намотай: сила – это все, а сила – золото, любое другое тленно”».
Кротов глянул на часы.
«Нет, еще надо подождать, – размышлял он. – А может, нет? Может, пора? Сейчас мой чемодан лежит сверху, открыть его – секунда, не должна теперь эта сука у меня за спиною стоять, я ж ее успокоил, она все высмотрела. Пора».
Он поднялся, и бортпроводница не закричала, чтоб он сел на место.
Проходя мимо девушки, Кротов заставил себя улыбнуться, хотя знал, что улыбается он плохо, перед зеркалом не один час просидел, изучая лицо; каждый мускул свой знал; сострадание умел играть, внимание получалось отменно, грусть, радостное ожидание; никто, как он, не умел реагировать на анекдоты, это очень располагает людей, а расположенного к тебе можно мять, как пластилин, только без нажима, контролируя мышцы лица, чтобы ненароком не отпустить себя, не выдать постоянную напряженность; людям, которые напряжены, не очень-то верят, их побаиваются, хороши к тем, от кого не надо ждать неожиданностей, а все это сокрыто в лице, изучи его – и ты победитель; в школе абвера сколько раз отца вспоминал, тот постоянно маску держал – полуулыбка, полувнимание; и за ртом особенно следи, Кротов, у тебя губы плохие, поджатые, прямые, пересохшие, и брови почаще поднимай, словно удивляешься чему-то, вот так, верно держишь себя, молодец, Кротик, молодец…
Он зашел за занавеску, стремительно открыл свой ящик, поднял полочку с инструментом, достал пистолет, сунул за ремень, начал открывать чемодан женщины и тут услыхал за спиной голос:
– Вы чего так долго, гражданин?
7
Костенко, выйдя от Лебедева, сразу же передал из машины по рации:
– Вниманию оперативных групп для передачи по Союзу: разыскиваемый нами преступник владел навыками грима, чаще всего менял внешность на старика – брил голову и отпускал бороду. Умел наводить на лицо шрамы.
Тадава немедленно передал эту информацию по всем аэропортам Закавказья, откуда уходили самолеты на Батуми и Сухуми. Такого же рода установка ушла в Среднюю Азию, Прибалтику, Карелию и в Калининградское пароходство.
…Костенко ехал в Сухуми, вжавшись в сиденье «Волги»; норовил как-то приладиться, чтобы хоть немного подремать; предстоял полет в Тбилиси, оттуда, после очередного совещания с пограничниками, вылет вместе с Серго Сухишвили в Адлер, должен подъехать Месроп и Юсуф-заде из Баку.
Костенко давно присматривался к Юсуф-заде, и чем больше он к нему приглядывался, тем большей симпатией проникался.
Капитану только-только исполнилось тридцать, в милицию он пришел юношей, закончил юридический заочно, сейчас кончает, тоже заочно, философский факультет. Костенко норовил попасть на каждое совещание, которое проводилось в Баку союзным министерством, потому что жил здесь старинный и нежный друг Зия Буниятов, ставший Героем Советского Союза в двадцать два года. (В трудные для Костенко времена именно Зия выступал всюду в его защиту.) Здесь, в Баку, Костенко и познакомился с Юсуф-заде. Он тогда спросил капитана: «Зачем вам философский факультет, хотите уходить в науку?» Юсуф-заде не обиделся некоторой снисходительности вопроса, а может быть, сумел не подать вида, ответил убежденно:
– Хочу теоретически разобраться в тезисе, который давно сформулирован: причина преступности, хотя ее базис у нас ликвидирован. В чем же тогда дело, если социальной подоплеки нет? Почему грабители? Хулиганы? Насильники? В чем дело? Каковы наши упущения? Нельзя жить моралью чеховского персонажа: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Такой ли уж реакционер Ломброзо? И нужно ли постоянно атаковать Фрейда? Что есть причина той или иной человеческой аномалии? Как можно рассчитать на компьютере генетический код того или иного преступника? Можно ли это вообще делать? Нет ли в этом нарушения нашей морали?
Костенко, выслушав Юсуф-заде, сразу же заметил себе: «Надо его тащить в центральный аппарат… Как это говорили российские бизнесмены: “Делать ставку на сильных и смелых, а не на слабых и трусов”? Барская концепция, понятно; культом превосходства и снисходительной силы отдает, но рациональное зерно в Путиловых и Гужонах временами проявлялось, куда ни крути».
Юсуф-заде, однако же, не только отказался от предложения Костенко, но и вовсе – по мнению его коллег – отчудил: попросился на работу в горный сельский район. Его не хотели пускать, звезда бакинского угрозыска, но он доказал начальству, что даже год работы вдали от центра поможет многое понять: в чем динамика разницы преступности деревни и города, правда ли, что преступления там и здесь сугубо разностны по своей изначальной причинности, то есть хотелось ему выяснить для себя вопрос, поднятый в литературе: «мол, город дурно влияет на человека, деревня же, наоборот, лечит душу».
Просьбу его уважили, откомандировали на год; вернулся он с тремя папками, педант, что твой немец, посмеивался: «Почвенность – слово, конечно, звучное, однако к нашему веку никак не приложимо, кренит не в ту сторону, ибо город и деревня настолько взаимосвязаны и близки, – чуть не в каждый совхоз вертолет летает, – что уповать на идиллию сельской благости, на ее особую духовность – значит прятать голову под крыло, уходить от острых вопросов, а это никак не гоже. Ленин учил острые вопросы обнажать, а не замалчивать».
Когда Костенко подбирал себе группу, он попросил генерала, чтобы тот санкционировал привлечение и Юсуф-заде, в Баку согласились; капитан отправился на электронно-вычислительный пункт и – вместе с воздушной милицией – составил график полетов: к границе и, наоборот, в глубь республики.
– Он вполне может приехать на поезде к погранзоне, – объяснил свою мысль Юсуф-заде, – а полет в центр всегда более беспечен, если так можно сказать о полете…
– Ну-ну, – откликнулся Костенко, – что-то в этом есть, давайте будем проецировать такую возможность и на другие районы, мысль занятна…
…Задремать Костенко, конечно же, не мог: вспомнив этот разговор с Юсуф-заде, сразу же явственно увидел лицо Лебедева – этот бы поступил именно так, от противного, он и «Салэм» держит от противного, ни одной прямой линии, весь запутан зигзагами и кривыми, живет не своей жизнью, он играет жизнь, каждый день, видимо, наново придумывая себя. А какая же сильная штука – память, а?! Эк его перекукожило, когда я прочел ему показания, вся краска исчезла, какая там краска, он словно разбитое стекло витрины – он опполз, превратился в крошево.
«А ведь что-то грядет, – подумал Костенко. – Ей-богу, грядет, чувствую кожей, будь неладны эти мои чувствования, как же спокойно без них, а?! Может, Жуков прав, может, никакое это не чувство, а логика? Действительно, убийство Кротовой, весна, полное вероятие, что оба трупа уже обнаружены, им не могут не заинтересоваться – в конце-то концов, отпущены ему дни, точнее – часы… Или уже ушел? А может, замерз где, когда лез через границу по снегу? Или в шторм попал, не смог выгрести, потонул, и мы ищем память о гаде, а не его самого? Почему он ждал весны? Потому что был убежден в снеге, который все скроет. Ладно, а зачем он столько времени ждал? Почему не предпринял попытки уйти? Оттого что убирал память о себе, искал тех, кто мог отдать нам хоть какую-нибудь улику. А улика – это письма, фотографии истинного Кротова, ставшего Милинко. И видимо, считал, что еще мало взял; Кротову ограбил тысяч на сорок, бриллианты и сапфиры, товар на Западе ходкий, груз небольшой, в два кармана можно рассовать, так в детективах показывают; а что, верно, особенно французы это хорошо делают, если при этом еще Габен играл, он умел быть достоверным сыщиком и таким же достоверным бандитом, значит, всегда был самим собой, то есть художником; сколько же они проживают жизней за одну свою, столь короткую жизнь, счастливые люди…»
Костенко посмотрел на часы: с того момента, как он связался по рации с Тадавой, прошло двенадцать минут. Нет новостей – хорошие новости. Нет, неверно. В данном конкретном случае неверно. Протяженность дела изматывает нервы; когда зверь вырвался из клетки, нет ни минуты покоя, каждый миг чреват.
Костенко полез за сигаретами, закурил, несколько раз жадно затянулся; шофер, увидав, как он тяжело затягивается, заметил:
– Товарищ полковник, на вас смотреть жалко, вы ж табак заглатываете.
– Если быть точным, – ответил Костенко, – то я заглатываю табачный дым.
– Вот и наживете себе…
– Чего не договариваете? – усмехнулся Костенко. – Рак наживу?
– Ну так уж и рак… Туберкулез какой или хронический бронхит, тоже не подарок…
– Тут к морю есть где-нибудь съезд? – спросил Костенко, снова глянув на часы, – он любил ломать ритм, это успокаивало.
– Найдем, – ответил шофер. – Вторую машину предупредить по телефону?
– Скажите, пусть едут в управление, мы их догоним и – сразу на аэродром, если никаких новостей не будет.
Шофер связался со второй машиной, которая пылила сзади, передал слова полковника, ловко съехал на проселок и понесся по длиннющей улице к морю.
Костенко вспомнил, как он прилетел однажды в Гульрипш, там отдыхали Митька с Левоном, давно это было, так давно, что даже страшно представить, и они провели вместе два дня, лежали на пляже, молчали, камушки кидали, а вечером шли пить вино; с гор привозили маджари, шипучее, тогда еще можно было пить, про аллохол не знали, тогда им по двадцать два было, снимали сараюшку, спали на двух койках, сдвинув их, утром ели горьковатый сыр, запивали его кефиром и шли на пляж; иногда пели на два голоса, Левушка умел как-то по-особому организовать песню, правил и Митьку и Костенко, делал это аккуратно. Эх, Левон, отчего ж так все несправедливо, а?! Сколько ж ты картин не снял, скольких людей не осчастливил своей дружбой, скольких не поднял до себя…
Костенко тяжело вылез из машины, пошел на пляж, оставив китель на сиденье; курортников было множество уже, особенно мамаш с дошколятами.
«А все-таки не мамаши это, – подумал Костенко. – Сейчас бабушки больно молодые пошли, вон Клаудиа Кардинале, звезда экрана, сорок лет, фигурка – ого-го, а бабушка, гордится потомством, не скрывает, лучше всего выставлять напоказ то, что хочешь скрыть, неинтересно людям говорить об очевидном, все норовят о невероятном, то есть тайном еще…»
Костенко шел к морю, и внутри как-то все слабело, сердце отпускала постоянная зажатость, оттого что покой был в этом детском визге, в плеске прибоя, в смехе женщин, в той ласковости, с которой они прижимали к себе голышей, а все голыши в панамках, как же прекрасны эти маленькие комочки, сколько нежности в них, доверчивости и сколько тревоги…
«Почему тревоги? – не понял даже поначалу себя Костенко. – Почему я подумал о тревоге за них? Кротов – не маньяк, он на пляж стрелять не пойдет, он – по-волчьи».
Костенко сел возле самой кромки прибоя, вдохнул соленый воздух моря и с отчаянной тоской подумал о невозвратимости времени: Аришка выросла, не принадлежит ему уже, а он только один лишь раз смог вырваться вместе с Марьей в отпуск, когда Аришка была маленькая, и можно было ее прижать к груди, и услышать гулкие и ровные удары ее сердечка, а что он сейчас один, здесь? Господи, как же у него зажало горло, когда Маша наказала тогда Аришку и пригрозила: «Отведу в горы и там одну оставлю», – а маленькая ответила, раздувая свои ноздряшки: «Я камушки буду бросать»…
Сзади раздался крик, Костенко стремительно обернулся: за его спиною лежал на камнях карапуз, бежал, видно; они скорости не чувствуют, это к старости мы ее ощущаем, начинаем «не торопиться», цепляем время, только б хоть как-то остановить эти внутренние часы, безжалостно отсчитывающие секунды…
Костенко легко поднялся, подхватил с камней карапуза, прижал его к себе, тот, наконец, выдохнул, зашелся в плаче; ссадил себе живот, здорово ссадил; подбежала мама или, быть может, бабушка, выхватила дитя, улыбнувшись Костенко, начала шептать что-то карапузу в ухо, понесла его в море, промыть ссадину соленой водой, и Костенко вдруг точно понял причину остро в нем вспыхнувшей тревоги. Он побежал к машине, резко снял трубку рации, попросил соединить с Тадавой.
– Вы на всякий случай, – успокоившись сразу же, как только услыхал голос майора, – проверьте, чтобы все люди надели кольчужки, если что-нибудь начнется. Ясно?
– На меня это тоже распространяется? – спросил усмешливо Тадава.
– На вас это распространяется в полной мере, – сказал Костенко. – Бравада граничит с мужским кокетством, а это – неприлично, вы на службе…
«Ранимость тела, незащищенность человека, – понял Костенко, – вот что не давало мне покоя…»
Он сел рядом с шофером:
– Все, отдохнули, едем.
8
Козаков, тот младший лейтенант милиции на воздушном транспорте, что дежурил в аэропорту, получив установку Костенко, пробежал ее дважды, ничего особенно интересного для себя не обнаружил и пошел в буфет – благо вылетов в ближайшие сорок минут не предстояло.
Заказав себе стакан сметаны («говорят, очень способствует, особенно если с сырым яйцом, Клара Ивановна хоть и ветеринар, но про мужчин все знает»), сырое яйцо, творог и компот, Козаков сел у окна и, отодвинув от себя хлеб, – старался худеть, форму надо хранить и в тридцать лет, упустишь, потом не наверстаешь, – принялся смешивать в суповой тарелке сметану с яйцом и творогом.
– Нануля! – крикнул он буфетчице. – А зелени нет?
– Кто ж тебе ее сюда привезет? – ответила толстая и добрая Нануля. – Ее грузят на твои самолеты и гонят в Москву, на Центральный рынок, тридцать копеек пучок, а кинза – рубль, по-старому, значит, десять.
– Была б моя воля, ни одного бы не пускал с этим товаром на самолет, – ответил Козаков. – Паразиты на теле народа.
– Зачем людей обижаешь? – возразила Нануля. В буфете сейчас никого не было, можно было отвести душу. – Ты поди эту травку вырасти! Ты пойди достань под нее навоз, ты пойди согрей каждую, если мороз ударит! Ты кооперацию ругай, а не колхозника. Построили б парники, что, земли у нас мало?! Тогда б колхозник не в Москву летал, а мне продавал зелень, и не за тридцать копеек, а за двадцать. Дважды два, Жорик!
– Значит, снова дорогу частнику открыть? Мироеду? Эксплуататору?!
– Ты, дорогой, не на трибуне, выражения выбирай! Я председатель строительного кооператива, так что ж я – мироед? Эксплуататор?! Меня на общем собрании голосовали, рабочие выдвинули! Плохо работаю – так вдвинут!
– Разговорилась больно…
– Эх, Жорик, Жорик, молодой ты парень, а такой неискренний! Мой сосед – борода седая, геолог, двадцать девять лет отработал в экспедиции, трое внуков у него учатся, помогать надо, так он со старухой кормит уважаемых людей города, когда им нужно гостей принять и настоящей домашней грузинской кухней угостить… Что ж, этот геолог, по-твоему, тунеядец?
Козаков вдруг вспомнил старика, заросшего седой щетиной, с теодолитом: бритый, кряжистый.
«А вдруг – он?!»
Козаков бросился в отделение милиции, сел к рации.
– Майора Тадаву хочу! – крикнул он. – Срочно!
9
– Я банку беру, девушка, – ответил Кротов бортпроводнице. – Для нашей маленькой, не в туалет же ее вести.
– Пусть потерпит, скоро прилетим.
Кротов посмотрел на часы:
– Сорок минут терпеть…
– Тридцать, – ответила девушка, – ветер попутный, мы раньше прилетим.
– Это хорошо, – ответил Кротов, застегивая чемодан. – У вас, кстати, валидола нет?
– Сердце болит?
– Не то что болит, жмет маленько. Но если нет, я перенесу, не у пилотов же просить, им садиться надо, не до нас…
– Бледный вы…
– Жмет…
– Сейчас в аптечке посмотрим, – сказала девушка, – йод есть наверняка, желудочные есть…
Она достала жестяную баночку с красным крестом, открыла ее, начала перебирать бинт, пластырь, йод, пирамидон, папаверин.
– Вот, – протянула бутылочку с корвалолом, – на ваше счастье.
– Нет, корвалол нельзя, – ответил Кротов, – от него мне еще хуже, только валидол, под язык положишь – и сразу отпустит.
– Садитесь на место, – сказала девушка, – я у пилотов спрошу. Наш второй курить бросил, он какие-то таблетки сосет в баночке из-под валидола, может, это и есть валидол.
– Спасибо вам.
«Еще лучше, – думал Кротов, возвращаясь на место, – вообще-то замок в двери легко простреливается, не зря я в Осоавиахиме на У-2 тридцать часов налетал; давай, красоточка, стучи в дверь, давай проси валидол».
Он сел на место, оглядываться не стал, напряженно, спиною, плечами, затылком ожидая, когда услышит шаги, несмотря на натуженный, ставший уже привычным, рев мотора. Он услышал их за мгновение перед тем, как девушка подошла к двери, ведущей в кабину пилотов.
– Пристегнулись? – спросила она Кротова.
Тот заставил себя вымученно улыбнуться, отвечать не стал, только глазами показал, что пристегнут.
– Видишь, как у дяди сердечко болит, – сказала соседка. – Может, холодной водички попьете?
– Сейчас пройдет, – прошептал Кротов, – это бывает у меня, ничего страшного…
Бортпроводница постучала в дверь кабины, дверь открылась, выглянул второй пилот.
Кротов репетировал все дальнейшее сотни раз. Он шептал те слова, которые предположительно могла бы сказать бортпроводница: «Тут у пассажира сердце болит, а в аптечке нет валидола, у вас, может, есть?» Или: «У вас валидола нет? Пассажир жалуется на сердце». Или еще короче: «У вас нет валидола?» Даже эти четыре слова были достаточны для того, чтобы нажать на замок пристегнутого ремня, выхватить пистоль, рвануться вперед, ударить девку по темени, выстрелить в пилота, если он потянется за оружием, но лучше без мокрухи, лучше левой рукой, почти одновременно с ударом по голове девке, ткнуть ему пальцами в глаза, ворваться в кабину, штурмана – по темени, командиру – дулом в шею, левой рукой достать его револьвер, они теперь вооруженные; бывший летчик, которого поил в магаранском аэропорту, рассказал, где обычно лежит оружие, можно дотянуться, Кротов тренировался, ставил кресло, клал в него свое пальто, тянулся рукой, все отработано, все будет как надо…
…Второй пилот склонился к девушке.
– Пассажиру нужен валидол, – сказала бортпроводница.
– Держите. Очень плохо ему?
– Плохо. Бледный.
– Вот бедолага… Сейчас прилетим, врача вызовем на поле…
Кротов вскинулся с кресла, в броске выхватил пистолет, уткнулся дулом пистолета в загорелую шею командира:
– Полетим в загранку, начальник.
Левой рукой, нагнувшись, взял кобуру с пистолетом – висела именно там, где объяснял пьяный магаранский летчик, гад, водку не пил, только «Наири», тот с наценкой стоит двадцать девять за бутылку, хотя тут тысячу уплатишь, только б все вызнать.
– Не полетим, – ответил командир.
– Тогда – пуля, мне терять нечего.
– Стреляй.
– Я выстрелю, но хочу предупредить, что кончил школу Осоавиахима, самолет посажу сам, так что не пугай своей смертью. Я хочу, чтоб все было добром.
Командир хотел было оглянуться – Кротов сильно ткнул его дулом:
– Не надо.
Стремительно глянул на второго пилота: тот лежал недвижно, бледнел, из темени медленно сочилась кровь; штурман не двигался.
«Даже если очухается, пройдет десять минут, нет, за десять не очухается, минут двадцать. Мало времени, а стрелять не надо, там тюрьма – тоже тюрьма. Или еще выдадут красным под пулю, террористов все боятся».
Он ударил лежавшего пилота ботинком в висок, голова бессильно дернулась, на боль никак не среагировал, порядок, не очухается.
– Считаю до трех, – сказал Кротов. – Потом стреляю.
Он передвинул пистолет к виску пилота, пояснив:
– Так сподручней, чтоб приборную доску не порушить. Раз, два.
– Убери пистолет, гадюка.
– Пистолет не уберу. Спускайся, границу будешь переходить на бреющем.
– Гад ты ползучий, – сказал командир, – пуля по тебе плачет, нелюдь.
– Верно говоришь, командир. Только все же спускайся, уходи из своего эшелона.
Кротов переложил пистолет в левую руку, достал наушники второго пилота, надел на голову.
– Садиться будешь на шоссе, – сказал он, – направление возьмешь на Сарывар, там военная база. Посадишь машину, я выйду, и можешь возвращаться обратно.
В наушниках зашершавило, потом Кротов услышал голос:
– Борт двадцать два тринадцать, почему вы сошли с курса?
Кротов шепнул пилоту:
– Скажи – неисправность двигателя, в кабине запах дыма.
– Так не говорят, – ответил пилот. – Тогда поймут, прижмут военным самолетом и посадят на наш аэродром. Или на таран прикажешь идти?
«Врет? Нет. По идее, говорит верно. Пусть говорит, я ж услышу, что они ему ответят».
– Это борт двадцать два тринадцать, у меня отказала приборная доска, магнитный компас не работает, сообщите мои координаты.
– Вас понял. Где второй пилот?
Командир поднял голову на Кротова. Тот не ждал этого вопроса, ответил:
– Скажи, что вышел в туалет.
– Второй пилот осматривает проводку в салоне, – сказал командир. – Опрашивает пассажиров, нет ли кого с магнитами, геологи, может, летят.
Как только Тадаве сообщили по рации, что командир борта двадцать два тринадцать произнес слово «магнит», он бросился к машине – все летчики на линии были проинструктированы: в случае попытки угона в любом случае произнести слово «магнит».
Информация Костенко и сообщение Козакова опоздали примерно на сорок секунд: командир борта начал принимать сообщение с земли о «геологе», когда бандит забирал у него пистолет, и более всего он боялся, что тот сорвет его наушники, но, к счастью, бандит взял наушники второго пилота, а командир прижал подбородком кнопку – благо, Кротов целил ему теперь в висок, поворот головы вниз был оправдан, поэтому земля – как он считал – слышит весь его разговор с бандитом.
– Алло, борт двадцать два тринадцать, вы потеряли курс, вы идете в горы, дайте указание второму пилоту определиться без магнитного компаса, берите на десять градусов влево, но будьте осторожны, не прерывайте с нами связи, вы в пятидесяти километрах от границы.
– Земля, вас понял, – ответил командир и резко положил самолет влево.
Кротов нащупал рукой планшетку с картой, которая висела сбоку от кресла второго пилота, бросил ее на сиденье, начал изучать красные линии, нанесенные на нее штурманом.
– Сколько лету до границы?
– Пятнадцать минут.
– Спускайся на бреющий.
– Дай-ка я выйду, а? И ты сам спускайся, если кончил Осоавиахим. Я бить пассажиров не намерен. Обыщи меня, оружия нет, запрись и сажай машину сам.
– Алло, борт двадцать два тринадцать, вы движетесь в направлении госграницы, срочно уходите на пятнадцать градусов вправо.
– Вас понял, ухожу на пятнадцать градусов вправо…
– Я тебе уйду, – усмехнулся Кротов и пощекотал дулом седой висок командира. – Прямо!
– Я не знаю, что впереди… Может, горы…
– Опускайся вниз.
– Не буду я гробиться, – озлился пилот и чуть заметно нажал на педаль; самолет повело вниз, Кротов почувствовал, что его отрывает от пола, он вцепился рукой в ворот командирской куртки, закричал:
– Ты что, сука?!
– Яма это, – ответил пилот и выровнял самолет, взяв еще круче вправо.
– Алло, алло, борт, вы следуете в направлении границы, говорит служба погранзоны, дайте вашу волну, выходите на связь по двенадцать сорок, как слышите, прием?
– Что отвечать? – спросил пилот.
– Молчи.
– Алло, алло, борт, вы в пяти километрах от границы, немедленно поверните назад, алло, как слышите?!
– Молчи, – повторил Кротов шепотом, – молчи, пилот, молчи…
…И вдруг в наушниках возник жесткий голос с иностранным акцентом:
– Со стороны России в воздушное пространство вторгся самолет, пассажирский, типа АН-24. Команда, вы слышите нас?
– Отвечай, что слышим, – сказал Кротов.
– Да, мы слышим вас.
– В связи с чем отклонились от курса и нарушили воздушное пространство? Ложный ответ позволит нам применить особые меры…
Кротов перехватил воздух, только сейчас почувствовал, как тяжело дышать:
– Отвечай: мы просим посадки.
– Я так не отвечу.
– Отвечай, гад, как я говорю!
– Ну, сволочь, ну, гад, – ответил командир. – Я им скажу, что меня принудили так лететь. Силой.
– Хорошо, ответь, что на борту пассажир, выбравший свободу.
Командир покашлял, сказал в микрофон:
– На борту находится пассажир, вынудивший меня пересечь границу. Наш борт принадлежит Аэрофлоту Советского Союза.
– Если на борту есть убитые, мы не разрешим посадку и не примем вас…
– Отвечай, что ни убитых, ни раненых нет.
– На борту убитых нет, – ответил командир.
– Предупредите того господина, который заставил вас пересечь границу, что он предстанет перед нашим судом – в любом случае.
– Хорошо, я передам. Да он сам все слышит.
Кротов сказал:
– Я готов предстать перед их судом, передай им, но прошу гарантии, что я не буду выдан Советам.
– Он готов предстать перед вашим судом, но требует, чтоб вы не выдавали его Советам.
– Ждите нашего ответа.
– Сколько ждать, у меня горючее на исходе…
– Ждите нашего ответа, – монотонно повторили с земли.
– А мне куда идти? – устало, безликим голосом спрашивал молчащую землю командир. – Вперед или круги давать? В каком радиусе, направление дайте, эшелон, высоту, параметры.
– Кружите, не спускаясь к земле, из облачности не выходить, в случае, если пойдете самовольно по курсам сорок три или сорок пять, вынуждены будем открыть огонь…
– База, – вслух сказал командир, – боятся.
Кротов стремительно обернулся, почувствовав на себе взгляд, штурман действительно пытался подняться, завороженно глядя на спину Кротова. Тот стремительно обернулся и снова ударил парня.
– Ну скотина, – сказал командир, – ну ж нелюдь… Если убил – отдадут тебя там, под расстрел отдадут, гадюку, как такого земля носит.
– Не убил, – ответил Кротов, оглянувшись, – дышит. Я оглушил его.
– Борт русского самолета, в случае, если у вас нет жертв и человек, желающий просить политическое убежище, не применял огнестрельное или холодное оружие, он будет судим, но выдан России не будет. Берите курс двадцать четыре и начинайте снижение, не уходя из того сектора, в котором сейчас находитесь.
Когда облака кончились, Кротов увидал горы, одни горы, а в горах две узкие взлетно-посадочные полосы. У левой, в самом ее конце, стояло два маленьких аккуратных коттеджа, увитых виноградом.
– У девки оружие есть? – спросил Кротов, кусая губы.
– У кого?
– У проводницы?
– Нет.
– Если есть – пристрелю, и меня оправдают, самооборона.
– Нет у нее оружия.
Когда самолет, вздрогнув, остановился и Кротов увидел, как высокий мужчина в элегантном костюме неторопливо отделился от группы и двинулся к самолету, счастье сделало его горячим, словно вошел в парную с мороза.
– Подними руки, – сказал он командиру.
Тот послушно руки поднял. Кротов, не выпуская из левой руки пистолет, достал из кармана веревку с заранее заготовленным кольцом, продел обе руки командира в это кольцо, затянул его, обмотал кисти еще несколько раз, сунул пистолет в карман, завязал веревку своим особым узлом, парашютным, геленовским, надежным; пятясь, подошел к двери, распахнул ее, резко обернулся: навел пистолет на пассажиров, не вынимая левой руки из кармана.
– Граждане, сейчас вы улетите домой. У кого из мужчин есть ножи, встаньте.
Поднялся старик, который уступил место женщине с девочкой.
– Брось на пол, – сказал Кротов.
Старик достал из кармана перламутровый перочинный ножик, бросил его и сказал:
– Пес!
Кротов медленно, тяжело ступая, пошел сквозь замершую тишину салона в хвост, взял свой чемодан, где под инструментом хранилось золото и бриллианты из магазина сестрицы, открыл дверь.
Внизу, улыбаясь, стоял мужчина.
– Спрыгнете? – спросил он с каким-то странным акцентом.
Кротов ответил:
– Спрыгну. Только сначала покажите мне свой паспорт.
– Военнослужащие сдают свой паспорт, – ответил мужчина. – А вы свой паспорт бросьте мне, я хочу его внимательно посмотреть.
Кротов, не опуская пистолета, достал из кармана паспорт и бросил его к ногам мужчины.
Тот поднял, раскрыл: Милинко…
– Прыгайте, господин Милинко, – он протянул ему руку, – прыгайте.
– Все равно покажите ваш документ. Любой.
– Хей! – крикнул кто-то из тех, что стояли поодаль.
Кричали не по-русски. Кротов ничего не понял, но он часто слушал их радио, голос подействовал на него завороженно, как и раскованность людей, стоявших неподалеку от длинной машины. За рулем сидели рослые парни и, лениво жуя резинку, смотрели на происходящее.
Мужчина пожал плечами, повернулся и пошел, бросив паспорт Кротова на теплые плиты взлетной полосы.
– Эй! – крикнул Кротов. – Вы чего?!
– Ультиматум – не для меня, – не оборачиваясь, ответил мужчина.
– Эй! – снова крикнул Кротов. – Да стойте, я шуткой!
Спрыгнув, он поднял паспорт и побежал следом за мужчиной. Тот обернулся, усмехнувшись, достал из кармана пачку «Мальборо», протянул Кротову. Тот потянулся трясущимися руками к коробке.
– Вообще-то я не курю, – сказал он, – разве что после пережитого…
Сигарета никак не доставалась, он опустил глаза на пачку, и вдруг холод сковал его.
«Производство табачной фабрики “Ява” и объединения “Филипп Морис”», – успел прочитать Кротов и, не раздумывая, отбросив тело назад, он выстрелил в мужчину, в сердце ему выстрелил: тот обрушился на землю. Кротов вскинул пистолет, чтобы перещелкать тех, кто был возле машин, все сразу понял – игра, но выстрелить не успел, пуля пробила ему руку, пистолет выпал на землю.
10
…Костенко склонился над Тадавой:
– Ну что, дед? Больно?
– Снова вы правы, – ответил он, – даже как-то противно: я ведь поначалу не хотел кольчугу надевать.
– Мцыри, – усмехнулся Костенко. – А мне еще одного хоронить?
Он поднял простыню, увидел страшный, черный кровоподтек на груди Тадавы, разорванную кожу, простыню опустил, покачал головой, вздохнул.
– А что это вы меня «дедом» величаете? – спросил Тадава.
– Да так, – ответил Костенко. – «Дед» – хорошее слово, очень нравится мне, когда человека можно назвать «дедом».
Из госпиталя Костенко поехал в тюрьму. Кротова допрашивали бригадой. Костенко поблагодарил коллег, остался с Кротовым с глазу на глаз:
– Сейчас поедем в Москву, Милинко (фамилию Кротов ему – по разработанному плану – не называли еще). Самолет, как понимаю, переносите нормально?
– Вполне, – ответил тот. – Вы, я думаю, главный, так что протест вам можно заявить?
– По поводу чего?
– По поводу того, что до сих пор не вызван врач-психиатр? Я действовал под гипнозом… Главный, тот, кто виновен в моих неосознанных действиях, остался на свободе…
– Протест принято заявлять прокурору. А я сыщик… Я свою работу сделал… Как фамилия гипнотизера?
– Это я скажу работникам прокуратуры после того, как буду освидетельствован врачом-психиатром…
– Что ж… Это даже не протест – вполне законная просьба… Но я могу вам назвать фамилию «гипнотизера»… Его фамилия Кротов, Николай Иванович, – разве нет?!
…Через сорок два дня Костенко позвонил в Магаран, Жукову:
– Подполковник, привет вам, дорогой, и поздравления со звездочкой!
– Все равно в Москву не поеду, – ответил тот.
– Ну и не надо, – легко согласился Костенко. – Вы поезжайте к Журавлевой, к этой красавице Диане. Желательно, чтобы в это время ее муж был в вечерней смене. Сядьте к столу, облокотитесь, протяните правую руку, разожмите пальцы и скажите ей следующее: «Мадам, если вы сейчас же не положите сюда, в эту мою ладонь, самородок, я обещаю вам тяжкие времена…»
…Журавлева стала мертвенно-бледной, откинулась на спинку стула, хотела что-то ответить, но слова застряли в горле…
– Храните вне дома? – помог ей Жуков.
Она кивнула.
– Ну одевайтесь. Надо ж вам до прихода благоверного вернуться. Или он в курсе?
Женщина отрицательно покачала головой, а потом заплакала, но плакала она не по-женски – беспомощно, жалостливо, безысходно, – а как-то совершенно по-особому, очень рационально и зло…
1979 г.
Примечания
1
Каплей (сокр.) – капитан-лейтенант.
(обратно)2
«1-А» и «1-С» – подразделения армейской разведки.
(обратно)3
ОКХ – генеральный штаб вермахта.
(обратно)4
Крипо – уголовная полиция в нацистской Германии.
(обратно)


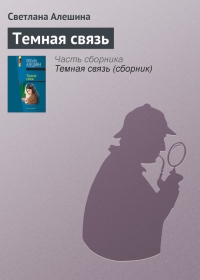




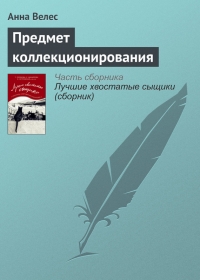



Комментарии к книге «Петровка, 38. Огарева, 6. Противостояние (сборник)», Юлиан Семенов
Всего 0 комментариев