Маргарет Миллар Кто-то в моей могиле
Маргарет Миллар и ее книги
Маргарет Миллар (р. 1915) известна читающему миру вовсе не как супруга знаменитого автора захватывающих детективов Росса Макдональда, которая сама на досуге что-то там такое пописывает. Репутация Миллар очень высока и у коллег по литературно-криминальному цеху, и просто у читателей. Ее книги, соблюдая основные каноны криминального романа, обладают самостоятельностью и свободой обращения с заповедями литературно-детективной игры, что заметно выделяют их из моря разливанного занимательного чтения про кровавые убийства.
Маргарет Эллис Стурм родилась в канадском городе Китченере в семье бизнесмена, высшее образование получила в университете Торонто (1933–1936). Еще в школе (в 1933 году) познакомилась с юношей по имени Кеннет Миллар, за которого в 1938 году вышла замуж. Кеннет Миллар затем увлекся сочинением детективных романов (дебютировал в 1944 году) и, опубликовав несколько произведений под собственной фамилией, взял псевдоним Росс Макдональд. Его же супруга (по собственному признанию, заядлая читательница детективов) начала детективно-литературную карьеру на три года раньше, в 1941 году, и прославилась как Маргарет Миллар.
Вопрос, кто же из них лучше пишет, способен породить бесконечные дискуссии, где у спорящих сторон отыщутся самые веские аргументы в пользу каждого из авторов. Бесспорно, пожалуй, лишь то, что оба они — мастера своего дела. Росс Макдональд блестяще развивал заветы корифеев крутого детектива Хемметта и Чандлера, придумал обаятельного одинокого волка сыщика Лy Арчера, напоминающего и Сэма Спейда, и Филипа Марло, отполировал до блеска лихой, остроумный, колкий диалог, порадовал емкими, лаконичными и ироничными описаниями, умело повенчал детектив с мелодрамой. Маргарет Миллар не стала состязаться с мужем в крутизне сюжетов и лихости персонажей, что никогда не лезут за словом в карман. Она двинулась по тропе психологического детектива, по которой также не без успеха следовали американка Патриция Хайсмит и англичанин Джулиан Симонс.
В первых романах Миллар («Невидимый червячок», 1941; «Близорукая летучая мышь», 1942; «Меня любит дьявол», 1942) действует доктор-психиатр Пол Прай. Комическая фамилия расследователя (от глагола pry — совать нос в чужие дела) задавала вполне ироническую тональность ранним книгам. Затем, однако, легкие шаловливые нотки улетучиваются из сюжетов Миллар, проявляющей все больший интерес к запутанным психологическим коллизиям.
Однажды выйдя на литературную дистанцию, писательница двинулась в путь с нормальной крейсерской скоростью для этого жанра, публикуя в среднем по роману в год. Но если ее первые литературно-детективные опыты особого отклика у публики не вызвали, шестой роман, «Железные ворота» (1945), наконец-то производит впечатление, и затем уже книги ее встречают все более и более благосклонный прием.
Понятия детектива и шаблона (клише, стереотипа) достаточно тесно связаны. Как правило, сочинитель детективов находит более или менее удачный ход, с помощью литературного колдовства оживляет манекен, выполняющий функции расследователя, придает ему симпатичные человеческие свойства и даже изъяны — и производство налажено, конвейер работает, продукция потребляется как горячие пирожки. Маргарет Миллар отличается от большинства коллег по цеху тем, что у нее шаблон-канон отсутствует. Фигура детектива-расследователя теряет свою обязательность, сплошь и рядом она вовсе отсутствует, а интерес писательницы к внутренней жизни, глубинам психики героев и вовсе вступает в противоречие с клишированным устройством детектива как жанра. При том что Миллар не работала по трафарету, избегала типовых формул, у ее книг есть, разумеется, некоторые родственные черты. Как правило, в центре ее повествования — внутренний мир героя, находящегося в стрессовом состоянии. Этот стресс может быть вызван теми или иными внешними причинами, ставящими под сомнение действенность и истинность привычных представлений героя о себе самом и людях вокруг, или же некоторым психическим расстройством. Если традиционный интеллектуальный детектив (А. Конан Дойл, А. Кристи и др.) являл торжество рационального подхода, наводившего порядок в мире, где кое-что вдруг начинало выбиваться из-под контроля разума, если крутой детектив (Д. Хемметт, Р. Чандлер) давал понять, что мир, свихнувшийся на идеях богатства и власти, в порядок так просто не приведешь, то Маргарет Миллар пытается уловить корни криминального поведения людей, уходящие в глубины сознательного и далее — бессознательного.
Ее подход видный теоретик и практик детектива Джулиан Симонс окрестил «искусством мистификации». Он писал в своей ныне классической истории мирового детектива «Кровавое убийство»: «Миллар создает абсолютно правдоподобную криминальную коллизию, доводит ее до кульминации, а затем на последних страницах вдруг трясет свой калейдоскоп и демонстрирует нам совсем иную картину».
Это довольно точное описание милларовских сюжетов. Так, в романе «Злом за зло» все указывает на виновность Луиса Балларда, якобы убившего девушку, которая от него забеременела, и лишь в самом конце оказывается, что в отчаянной попытке сохранить семью убийство совершила жена Балларда. Любопытные сюрпризы, как мне кажется, ожидают и читателей романов «Загнанный зверь» (1955) и «Кто-то в моей могиле» (1960).
Но сила произведений Миллар не только в ее умении переплетать сюжетно-фабульные нити. Она смело выходит за привычные границы детективного жанра, вносит новые интонации, вводит никем не эксплуатировавшиеся темы. Концентрируя внимание на частной жизни героев, писательница напоминает: именно семья, как наиболее близкая личности социальная среда, и порождает криминальную психологию. Внимательно исследуя нестандартные психологические состояния личности, изнемогающей под бременем вины, ревности, ненависти, сексуальных желаний, Миллар создает «постфрейдистский детектив», как нередко называли ее книги рецензенты. Это делает ее романы интересными в глазах тех, кого мало волнуют сюжеты-ребусы на манер Агаты Кристи. Успехи Миллар лишний раз напоминают о том, что детективный роман — форма подвижная, а не раз и навсегда застывшая. Начавшись как интеллектуальная головоломка, она превращается в криминальный роман с открытыми границами, где автор, освободясь от многих условностей хорошего детективного тона, обязан лишь писать интересно, выводя на свет не только хитрецов-злодеев, но и те стороны нашей с вами жизни, что прячутся за нагромождением случайных, сиюминутных моментов, за теми будничными видимостями, что скрывают сущности.
За полвека работы в криминальном жанре Миллар не раз удостаивалась высших почестей и наград. В 1956 году ей присудили премию Эдгара По, в 1983 году она получила Гроссмейстерский приз, в 1965 году — титул Женщины года, присуждаемый газетой «Лос-Анджелес таймс» (с начала 40-х годов и поныне писательница живет в Калифорнии). В 1957–1958 годах она была президентом Лиги детективных писателей Америки. Ранее в нашей стране ее книги не переводились — возможно, потому что в ее прозе отсутствовал социальный критицизм, служивший в застойные времена пропуском к советскому читателю. Сейчас же начинается открытие этого яркого, оригинального мастера. В 1992 году вышли в свет ее романы «В тихом омуте», «Как он похож на ангела», переводятся новые.
Сергей Белов
Часть I Кладбище
1. Любимая моя Дэйзи! Я не видел тебя уже много лет…
Ужас охватил ее, но не ночью — во тьме и тишине он бы казался вполне естественным, — а ярким и шумным утром в первую неделю февраля. Вокруг цвели акации, причем так пышно, что почти невозможно было разглядеть в этой белизне листочки. Акации отряхивали ночной туман с веток, напоминая собак, вернувшихся в дом из-под проливного дождя. Эвкалипты ластились и кокетничали с сотнями крошечных серых птичек, размером меньше большого пальца. Дэйзи не знала их названия. Она как-то попыталась выяснить, к какому виду они принадлежат, и даже смотрела орнитологический справочник, который ей дал Джим, после того, как они въехали в новый дом. Но крохотные пичужки никогда не оставались на одном месте больше нескольких мгновений, и разглядеть их толком было просто невозможно. В конце концов Дэйзи бросила это дело. Все равно птички ей не нравились: слишком уж велик был контраст между плавным свободным полетом и их ранящей душу беззащитностью на земле. Все это слишком напоминало ее самое.
Через поросший деревьями каньон она видела высящиеся новостройки. Еще год назад там ничего не было, кроме чахлых дубков да зарослей клещевины, пробивавшейся сквозь каменистую почву. Теперь холмы были усыпаны печными трубами и телевизионными антеннами, зеленели от недавно высаженных ледяника и плюща. Через ущелье шум долетал до дома Дэйзи — в безветренные дни ему не мешало даже расстояние: лай собак, крики играющих детей, обрывки мелодий, плач младенца, возглас рассерженной матери, прерывистый гул электропилы.
Дэйзи любила этот утренний шум, звучание окружающей ее жизни. Она сидела за накрытым к завтраку столом, вслушиваясь в них, хорошенькая молодая женщина с темными волосами, в ярко-синем халате, так подходившем к ее глазам, с легкой улыбкой на лице. Улыбка эта ничего не значила. Улыбалась Дэйзи скорее по привычке. Улыбка появлялась на губах утром вместе с помадой и исчезала вечером, после того как заканчивалось умывание перед сном. Джим любил эту улыбку. Для него было ясно, что жена счастлива, и ему, ее мужу, следует воздать должное за то, что она пребывает в столь блаженном состоянии. Так что в улыбке Дэйзи, сколь бы преднамеренной она ни была, уже имелось большое преимущество: она убеждала Джима в том, что он делает все возможное и даже невозможное (по крайней мере пару лет назад он бы решил, что это явно выходит за пределы его возможностей), чтобы Дэйзи была счастлива.
Он читал газету, частью про себя, частью вслух, когда обнаруживал статьи, которые, как ему казалось, могли ее заинтересовать.
— На побережье Орегона формируется новый грозовой фронт. Может быть, он дойдет до нас. Дай Бог. Ты знаешь, что это самый засушливый год после сорок восьмого?
Она промурлыкала в ответ что-то невнятное, просто поддержала его желание продолжить разговор, дабы ей не было нужды отвечать. Обычно Дэйзи оказывалась за завтраком куда разговорчивее, обсуждая дела дня прошедшего и планы на сегодня. Но этим утром ее охватила какая-то апатия, словно часть ее все еще спала или дремала.
— Только пять с половиной дюймов осадков, — продолжал муж, — и это с прошлого июля. Восемь месяцев. Просто поразительно, как наши деревья сумели выжить в этих условиях. Правда.
Снова мурлыканье.
— Все-таки я думаю, что у самых больших корни уже дошли до подземного источника. Тем не менее опасность пожара очень велика. Надеюсь, ты будешь внимательна при курении, Дэйзи. Наша страховка от пожара не покроет всех расходов по восстановлению дома. Будешь?
— Что?
— Ты будешь осторожна с сигаретами и спичками?
— Конечно. Я буду очень осторожна.
— По правде сказать, я куда больше беспокоюсь за твою мать. — Заглянув Дэйзи за левое плечо, через окно их крохотной столовой он мог разглядеть сложенную из использованного кирпича трубу коттеджа своей тещи, который он сам для нее выстроил. До него было метров двести. Иногда ему казалось, что ее дом куда ближе, иногда он просто забывал о его существовании. — Я знаю, что она достаточно внимательна к таким вещам, но всякое может случиться. Вдруг она закурит вечером, а у нее случится еще один приступ? Пожалуй, мне следует с ней поговорить об этом.
Девять лет назад, еще до того, как Джим и Дэйзи встретились, миссис Флеминг перенесла легкий сердечный приступ, продала магазин готовой одежды в Денвере и удалилась на отдых в Сан-Феличе, городок на побережье Калифорнии. Но Джим по-прежнему беспокоился о ее здоровье, словно это случилось вчера и может повториться завтра. Сам он постоянно поддерживал активный и здоровый образ жизни, и любая мысль о болезни буквально приводила его в ужас. Преуспевающий торговец земельными участками, он встречал в обществе огромное количество докторов, но их присутствие в компании всегда его угнетало. Они вторгались в его жизнь как предвестники несчастий, гробовщики на свадьбе или полицейские на детском празднике.
— Надеюсь, Дэйзи, ты не станешь возражать?
— По какому поводу?
— Если я поговорю об этом с твоей матерью?
— Ну что ты!
Вполне удовлетворенный ответом, он вновь погрузился в газету. Он так и не притронулся к ветчине и яйцам, лежавшим перед ним на тарелке. Дэйзи сама готовила завтрак, поскольку служанка приходила только в девять. Еда значила для Джима очень мало. Вместо завтрака он поглощал газету, абзац за абзацем пожирая факты и цифры, так, словно он никак не мог насытиться. Он оставил школу в шестнадцать лет, став рабочим строительной бригады.
— А вот кое-что действительно интересное. Исследования доказали, что у акул имеется система ультразвука, позволяющая избежать столкновений. Как у летучих мышей.
Снова мурлыканье. Часть ее все еще спала и даже видела какие-то сны; она никак не могла придумать, что бы такое сказать. Поэтому она села, всматриваясь в даль за окном, прислушиваясь к Джиму и другим утренним шумам. И тут без предупреждения, без какой-то видимой причины ужас охватил ее.
Ровное, спокойное биение сердца сменилось быстрым стуком. Она быстро и тяжело задышала, словно человек, занятый тяжелым физическим трудом, кровь прилила к щекам, будто она повернулась лицом к сильному ветру. Ладони покрылись потом, обильно пролившимся из какого-то неведомого источника.
Спящий проснулся.
— Джим!
— Да?
Он взглянул на нее поверх газеты и подумал, как хорошо выглядит Дэйзи сегодня утром, какой у нее чудесный цвет лица, как у юной девушки. Она казалась несколько возбужденной, словно только что придумала некий грандиозный проект. «Интересно, — мелькнула у него снисходительная мысль, — что это будет теперь?» Годы их жизни были заполнены самыми различными идеями Дэйзи, отложенными в сторону и полузабытыми, словно детские игрушки в старом сундуке, частью поломанные, частью совсем нетронутые: керамика, астрология, разведение бегоний, испанский язык, драпировка, изучение Веданты, психологический тренинг, мозаика, русская литература — все это игрушки, с которыми Дэйзи играла и которые забросила.
— Тебе что-то нужно, дорогая?
— Воды.
— Сейчас. — Он принес из кухни стакан воды. — Пожалуйста.
Она попыталась взять стакан и не смогла его поднять. Нижнюю часть ее тела сковало льдом, верхняя пылала. Казалось, они существуют отдельно друг от друга. Вода была необходима, чтобы охладить пересохший рот, но рука на стакане не реагировала, словно оказались разорваны все нити связей между желанием и волей.
— Дэйзи! В чем дело?
— Мне кажется, я думаю, я заболела.
— Заболела? — Он выглядел удивленным и обиженным, как боксер, захваченный врасплох ударом ниже пояса. — Ты не выглядишь больной. Минуту назад я как раз подумал, какой у тебя превосходный цвет лица. Господи, Дэйзи, не заболевай!
— Я ничего не могу поделать.
— Вот. Выпей. Давай я отнесу тебя на кушетку. Сейчас я пойду позову твою мать.
— Нет, — резко ответила она. — Я не хочу, чтобы она…
— Но нужно что-то делать. Может быть, лучше вызвать врача?
— Не надо. Все пройдет к тому времени, когда кто-нибудь придет сюда.
— Откуда ты знаешь?
— У меня уже было такое.
— Когда?
— На прошлой неделе. Дважды.
— Почему же ты мне не сказала?
— Не знаю, — причина была, но вспомнить ее она никак не могла, — мне очень… жарко.
Джим мягко дотронулся рукой до ее лба, холодного и влажного.
— Не думаю, что у тебя температура, — сказал он взволнованно. — По-моему, все в порядке. У тебя по-прежнему прекрасный здоровый цвет лица.
Он не понял, что это цвет ужаса.
Дэйзи устало склонилась на спинку стула. Нити, связывающие части ее тела, замороженную и охваченную пламенем, постепенно восстанавливались. Усилием воли она смогла поднять со стола стакан и выпить воду. Вкус воды казался странным, она никак не могла разглядеть расплывающееся лицо Джима, смотревшего на нее, словно это был какой-то незнакомец, заглянувший, чтобы помочь ей.
Помочь.
Но как сюда попал этот незнакомец? Неужели она крикнула ему из окна, когда он проходил, неужели она кричала «Помогите!»?
— Дэйзи, теперь все нормально?
— Да.
— Слава Богу. Ты меня страшно напугала минуту назад.
Напугала.
— Тебе следует каждое утро делать зарядку, — заметил Джим. — Она пойдет на пользу твоим нервам. Еще я думаю, что ты спишь недостаточно.
«Спишь». «Напугала». «Помочь». Слова кружились в ее сознании, будто лошади на карусели. Если б только было можно как-то их остановить, хотя бы замедлить — «Эй, оператор, ты, на контроле, добрый незнакомец, медленнее, стой, стой, стой!»
— Может, было бы неплохо начать принимать витамины каждый день.
— Стой, — сказала она, — стой.
Джим остановился, остановились и лошади, только на секунду, но и ее оказалось достаточно, чтобы они спрыгнули с карусели и помчались в другую сторону: слова мчались без седоков рядом в клубах пыли. Она моргнула.
— Хорошо, дорогая. Я только пытался выбрать правильный курс. — Он застенчиво улыбнулся, как изнервничавшийся отец перед капризным больным ребенком, которого нужно, но невозможно ублажить. — Послушай, почему бы тебе не посидеть минутку тихонечко, а я пойду и приготовлю горячего чая.
— В кофейнике есть еще кофе.
— Чай будет тебе в твоем нынешнем состоянии полезнее. Ты слишком расстроена.
«Я не расстроена, незнакомец. Я холодна и спокойна».
Холодна.
Она задрожала. Сама мысль об этом слове вдруг обрела очертания чего-то осязаемого — ледяного куба.
Она слышала, как Джим что-то бормотал в кухне, открывая ящики и шкафы, пытаясь найти пакет с чаем и чайник. Часы в форме золотого солнечного диска, стоявшие на камине, показывали половину девятого. Через полчаса появится служанка Стелла, а несколько минут спустя придет из своего коттеджа мать Дэйзи, веселая и энергичная, как всегда по утрам, готовая раскритиковать любого, кто находится в другом состоянии, особенно Дэйзи.
Полчаса на то, чтобы стать энергичной и веселой. Так мало времени и так много нужно сделать, так много выяснить! Что со мной случилось? Почему? Я просто сидела здесь, ничего не делая, ни о чем не думая, слушая болтовню Джима и звуки, доносившиеся с той стороны каньона: там играли дети, лаяли собаки, жужжала пила, плакал ребенок. Я чувствовала себя вполне счастливой, еще не пробудившись от дремоты. Но затем что-то меня пробудило, и пришло чувство ужаса, чувство панического страха. Но отчего, из-за какого звука?
Может быть, виной тому собака? — подумала она. У одной из новых семей по ту сторону ущелья был эрдель, лаявший на пролетающие самолеты. Лающая собака в ее детстве означала смерть. Теперь ей было почти тридцать, и она знала, что некоторые собаки лают, отдельные породы, другие нет и к смерти это никакого отношения не имеет.
Смерть. Как только это слово появилось в ее мозгу, она поняла, что оно единственное было настоящим; другие, кружившиеся на карусели, лишь заменяли его.
— Джим!
— Подожди секундочку. Сейчас закипит чайник.
— Не надо никакого чая.
— А как насчет молока? Тебе полезно выпить молока. Придется начать заботиться о своем здоровье, дорогая.
Нет, уже слишком поздно, подумала она. Молоко, витамины, зарядка, свежий воздух и сон — ничто в этом мире не сможет стать противоядием от смерти.
Джим вернулся со стаканом молока.
— Вот. Выпей.
Она покачала головой.
— Выпей, Дэйзи.
— Нет. Слишком поздно.
— Что значит поздно? Что ты имеешь в виду? Слишком поздно для чего?
Он с размаху поставил стакан на стол, молоко выплеснулось на скатерть.
— О чем, черт тебя побери, ты говоришь?
— Не ругайся.
— Мне приходится ругаться. Ты выведешь из себя кого угодно!
— Тебе лучше поехать в контору.
— И оставить тебя здесь вот так, в этом состоянии?
— Со мной все в порядке.
— Ладно, ладно. С тобой все в порядке. Но пока я побуду дома.
С упрямым видом он сел напротив нее.
— Ну и что все это значит, Дэйзи?
— Я не могу… тебе сказать.
— Не можешь или не хочешь? Что именно?
Она закрыла лицо руками. О том, что она плачет, Дэйзи поняла лишь тогда, когда слезы закапали у нее между пальцами.
— Так что же случилось, Дэйзи? Ты натворила что-то и не хочешь мне рассказывать? Что? Разбила машину, опустошила счет в банке?
— Нет.
— Что же тогда?
— Я боюсь.
— Боишься?
Слово ему явно не понравилось. Он не любил, когда его возлюбленные пугались или болели: казалось, что это бросает тень на него и его способность оберегать их соответствующим его положению образом.
— Боишься чего? — переспросил он.
Она не ответила.
— Нельзя быть напуганной без того, чтобы что-то тебя не испугало. Так что же это?
— Ты будешь смеяться.
— Поверь, менее всего я настроен сейчас смеяться. Ну давай, испытай меня.
Она вытерла глаза рукавом халата.
— Мне приснился сон.
Он не стал смеяться, но на лице его мелькнула улыбка.
— И ты плачешь из-за сна? Дэйзи, успокойся, ты уже взрослая.
Она смотрела на него из-за стола, их разделявшего, молчаливо и печально. Он понял, что сказал не то, что нужно, но подобрать необходимые в данной ситуации слова он никак не мог. Как вообще обращаться с собственной женой, взрослой женщиной, если она рыдает из-за того, что ей приснился кошмар?
— Прости, Дэйзи. Я не хотел…
— Не надо извиняться, — холодно произнесла она. — У тебя есть все основания воспринимать происшедшее с юмором. Прекратим обсуждение, если ты не против.
— Я против. Я хочу выслушать твой рассказ.
— Нет. Мне бы не хотелось, чтобы ты умер от смеха. Дальше все еще забавнее.
Он внимательно посмотрел на нее.
— В самом деле?
— Конечно. Дальше еще уморительнее. Нет ничего смешнее смерти, правда, особенно при развитом чувстве юмора.
Она снова вытерла глаза, хотя слезы больше не появлялись. Ее гнев осушил их.
— Тебе лучше поехать в контору.
— Что, черт побери, выводит, выводит тебя из себя?
— Прекрати ругаться.
— Я прекращу ругаться, если ты перестанешь веста себя как ребенок. — Он с улыбкой коснулся ее руки. — Договорились?
— Думаю, да.
— Тогда расскажи мне о своем сне.
— В общем-то и рассказывать особенно нечего.
Она замолчала, ее рука неловко шевельнулась под его ладонью, словно маленький зверек, пытающийся вырваться на свободу, но не решающийся на резкий рывок.
— Мне снилось, что я умерла.
— Ну, в этом нет ничего страшного, люди часто видят во сне, что они умерли.
— Это совсем не то. Не такой кошмар, который приходит во сне. Ты ведь говоришь именно об этом. Здесь не было никаких переживаний, совсем. Только факт.
— Факт должен был быть каким-то образом подан. Как именно?
— Я видела свою могильную плиту. — Хотя Дэйзи и говорила, что никаких особых чувств в ее сне не было, она снова тяжело задышала, голос звучал все тоньше. — Я гуляла по берегу ниже кладбища вместе с Принцем. Неожиданно он бросился в сторону утеса. Я слышала, как он завыл, но никак не могла его увидеть. Когда я подозвала его, он не вернулся. Я пошла по дорожке вслед за ним.
Она вновь замолчала. Джим не торопил ее. «Все звучит достаточно похоже, — подумал он, — как что-то имевшее место в самом деле. Вот только на этот утес нет дорожки, и Принц никогда не воет».
— Я нашла Принца наверху. Он сидел у серого могильного камня, откинув голову, и выл как волк. Я окликнула его, но он не обратил на меня никакого внимания. Я подошла к могиле. На ней было выбито мое имя. Буквы читались отчетливо, хотя и несколько стерлись, так, словно прошло немало времени. Впрочем, времени и впрямь прошло немало.
— Откуда ты знаешь?
— Там были даты рождения и смерти. «Дэйзи Филдинг Харкер. Родилась 13 ноября 1930 года. Умерла 2 декабря 1955 года».
Она взглянула на мужа, ожидая увидеть на его лице улыбку. Заметив, что он не улыбается, она выставила подбородок вперед, пытаясь обрести выражение некоей агрессивности.
— Ну вот. Я же говорила, что это смешно. Верно? Я мертва уже четыре года.
— В самом деле?
Он заставил себя улыбнуться, надеясь, что улыбка прикроет неожиданное чувство панического страха, чувство беспомощности, охватившее его. Обеспокоил его вовсе не сон, его ошеломила реальность, которую сон предполагал: в один прекрасный день Дэйзи обязательно умрет и на том же самом кладбище появится прекрасный могильный памятник с ее именем на нем. «Господи, Дэйзи, не умирай!»
— Выглядишь ты достаточно живой, — заметил он. Джим хотел, чтобы эти слова прозвучали легко и весело, но они упали тяжелыми камнями прямо на стол перед ними. Он снова попытался исправить положение. — Правда-правда, выглядишь ты как картинка.
Его всегда озадачивали и раздражали быстрые смены в ее настроении. Ему никогда не удавалось предсказать их, вот и сейчас он никак не ожидал, что она вдруг возьмет и рассмеется.
— Меня обслуживал лучший бальзамировщик.
«Будь что будет, — мелькнуло у него в голове, — поднимается или ухудшается ее настроение, я попытаюсь поддержать этот разговор».
— Вне всякого сомнения, ты нашла его в телефонном справочнике?
— Конечно. Я все нахожу в телефонном справочнике.
То, что они впервые встретились благодаря телефонному справочнику, было предметом их традиционных шуток. Приехав в Сан-Феличе из Денвера, Дэйзи и ее мать пытались купить себе дом. Они проштудировали телефонный справочник, приведенный там список торговцев недвижимостью. Они выбрали Джима, поскольку Ада Филдинг увлекалась в то время нумерологией, а в имени Джеймса Харкера присутствовала та же сумма значений, что и в ее собственном.
Уже в первую неделю совместных поездок по осмотру различных домов в округе он узнал довольно много об обеих женщинах. Дэйзи старательно делала вид, что ей безумно интересны детали конструкции, системы слива, процентные ставки, налоги, но дом она в конце концов выбрала из-за камина, в который она просто влюбилась. Цена у него была чрезмерно завышенной, условия продажи немыслимые, отсутствовала антитермитная пропитка, крыша текла, но Дэйзи просто слышать не хотела о каком-нибудь еще варианте. «У него такой чудный камин», — твердила она, и все тут.
Джим, по натуре человек практичный и хладнокровный, был просто очарован подобным свидетельством импульсивной и сентиментальной натуры девушки. Недели не прошло, как он влюбился. Он намеренно затянул оформление документов, выдвигая оправдывающие его доводы, которые, как призналась ему позже Ада Филдинг, она видела насквозь с самого начала. Дэйзи ничего не подозревала. Через два месяца они поженились и въехали втроем в дом, но не в тот с камином, что так нравился Дэйзи, а в собственный дом Джима на Лаурел-стрит. Джим самолично настоял, чтобы мать Дэйзи жила с ними. У него было смутное подозрение, даже в ту пору, что те самые качества, которыми он так восхищался в жене, могут становиться время от времени причиной ее непослушания и что миссис Филдинг, такая же практичная, как он сам, окажется в этом случае хорошим помощником. Соглашение сработало, если не превосходно, то довольно неплохо. Позднее Джим построил в ущелье дом, в нем они теперь и обитали, у матери был отдельный дом. Жизнь их была спокойной и размеренной. В ней не предусматривалось места для непредвиденных снов.
— Дэйзи, — сказал он мягко. — Не надо так беспокоиться из-за какого-то сна.
— Я ничего не могу с этим поделать. Здесь должен быть какой-то смысл. Все слишком специфично, мое имя, даты…
— Просто прекрати об этом думать.
— Попробую. Но я не перестаю задавать себе вопрос, что же случилось в тот день, второго декабря 1955 года.
— Возможно, в этот день случилось многое, как и в любой день любого года.
— Что случилось со мной, — добавила она с нетерпением. — Со мной должно было случиться нечто очень важное.
— Но почему?
— В противном случае мое подсознание просто не выбрало бы этот день для даты смерти на могиле.
— Ну, если твое подсознание так же легкомысленно и непредсказуемо, как твое сознание…
— Джим, я говорю вполне серьезно.
— Я знаю. Это меня и огорчает. Сказать по правде, мне хотелось бы, чтобы ты перестала об этом думать.
— Я сказала, что перестану.
— Обещаешь?
— Ладно.
Обещание было легким и непрочным, как мыльный пузырь; он лопнул еще до того, как его машина выехала на дорожку, ведущую от дома к шоссе.
Дэйзи поднялась со стула и заходила по комнате тяжелой поступью, плечи опущены, будто на нее навалилась своей тяжестью могильная плита.
2. Может быть, мне уже слишком поздно возвращаться в твою жизнь
Дэйзи не видела, как отъезжал автомобиль, и у нее не было никакой возможности узнать, что Джим притормозил у коттеджа миссис Филдинг. Первое подозрение зародилось в ней, когда ее мать, обладавшая необыкновенно острым и точным чувством времени, появилась у задней двери их дома на полчаса раньше, чем обычно. С собой она привела Принца, колли, в ошейнике и на поводке. Когда она отстегнула поводок, Принц начал носиться по кухне так, словно его освободили после года, а то и двух, проведенных в ножных кандалах.
Поскольку миссис Филдинг жила в одиночестве, считалось, что для нее очень полезно держать в доме собаку, которая неутомимо и яростно лаяла и оказывалась прекрасным защитником. Благодаря этому своему таланту Принц считался прекрасным сторожевым псом. На самом деле способности его были довольно ограниченными: с равным энтузиазмом он облаял бы желуди, падающие на крышу, или преступников, вламывающихся в дом. Хотя у Принца еще не было шанса испытать себя в деле, все полагали, что любое испытание он выдержит с честью и, вне всякого сомнения, самоотверженно защитит хозяев и их собственность.
Дэйзи радостно кинулась к псу: и она, и Принц питали друг к другу самые теплые чувства, чего нельзя было сказать о ее отношениях с матерью: они виделись чересчур часто, чтобы превращать свои встречи в шумную церемонию.
— Ты что-то рано сегодня, — заметила Дэйзи.
— В самом деле?
— Ты прекрасно знаешь об этом.
— Ну и что, — беззаботно ответила миссис Филдинг, — мне уже пора перестать жить по часам. Кроме того, за окном чудесное утро, а по радио передали, что надвигается гроза. Мне вовсе не хотелось потерять возможность побыть на солнце лишнюю минуту…
— Мама, хватит.
— Господи, что хватит?
— Джим заходил к тебе сегодня?
— Да, буквально на минуту.
— Что он тебе сказал?
— Да ничего особенного.
— Это не ответ, — закричала Дэйзи, — пора вам обоим прекратить обращаться со мной как с дебильным ребенком.
— Ну, Джим сказал, что не мешало бы тебе попринимать витаминов для укрепления нервной системы. Не то чтобы я думала, что она не в порядке, но витамины бы не повредили. Правда?
— Я не знаю.
— Я позвоню в поликлинику этому очаровательному новому врачу и попрошу его выписать что-нибудь с витаминами и минеральными солями и всем таким. А может, лучше протеин.
— Я не желаю ни протеинов, ни витаминов, ни минеральных солей, я ничего не хочу вообще.
— Мы что-то сегодня немножко раздражены. Правда? — произнесла миссис Филдинг со спокойной иронической усмешкой. — Ты не возражаешь, если я выпью чашечку кофе?
— Бога ради.
— Не выпьешь ли тоже?
— Нет.
— Нет, спасибо, если ты не возражаешь. Личные проблемы не являются оправданием плохих манер.
Она налила себе кофе из электрического кофейника.
— Как я понимаю, у тебя проблемы?
— Я полагаю, Джим тебе все рассказал.
— Он что-то сказал об этом маленьком дурацком сне, который тебя так расстроил. Бедняжка, он сам очень огорчен. Может быть, тебе не стоило беспокоить его по такому пустяку. Он целиком поглощен тобой. Я никогда не видела мужчины, настолько привязанного к своей жене.
«Привязанного». Слова не вызвали у нее никакого отклика. Перед глазами всплыла картинка, изображающая две давным-давно похороненные и связанные между собой мумии. Снова смерть. О чем бы она ни задумывалась, смерть всегда была рядом, за соседним углом, за ближайшим поворотом, словно тень, которая всегда идет перед ней.
— Это, — сказала Дэйзи, — не маленький дурацкий сон. Все было очень реально. Думаю, это важно.
— Тебе может казаться именно так, поскольку ты до сих пор расстроена. Подожди, пока ты успокоишься и посмотришь на все объективно.
— Довольно трудно, — сухо возразила Дэйзи, — быть объективной, если дело касается собственной смерти.
— Но ты же не умерла. Ты сидишь здесь живая и здоровая и, как мне казалось раньше, счастливая… Ведь ты счастлива?
— Я не знаю.
Принц, как и все собаки его породы остро чувствующий тревогу в окружающей его атмосфере дома, стоял в проеме двери, поджав хвост, и разглядывал обеих женщин.
Внешне они были очень похожи, и, возможно, когда-то у них были сходные характеры. Обстоятельства жизни миссис Филдинг, однако, вынудили ее стать практичной. Человек огромного обаяния, мистер Филдинг оказался неважным мужем и кормильцем. Мать Дэйзи была единственным источником доходов семьи многие годы. Она редко вспоминала о своем бывшем супруге, только в минуты огромного раздражения, и не имела о нем вестей. Весточки получала Дэйзи, время от времени, из разных городов, с разными адресами, но одинаковой просьбой:
«Дэйзи, дочка. Не могла бы ты прислать мне немного денег? В настоящее время у меня определенные сложности, но лишь временные; в ближайшие дни я ожидаю стоящее предложение…»
Дэйзи отвечала на письма, ничего не говоря о них матери.
— Дэйзи, послушай. Служанка придет через десять минут. — Миссис Филдинг никогда не называла Стеллу по имени, поскольку не слишком хорошо к ней относилась. — Только сейчас у нас есть возможность спокойно обо всем поговорить, как раньше, помнишь?
Дэйзи прекрасно сознавала, что спокойно поговорить означало довольно утомительное перечисление всех ее провинностей: она была слишком эмоциональна, слишком слабохарактерна, эгоистична, слишком походила на своего отца, откровенно говоря. Все ее слабости в конечном итоге оказывались точной копией недостатков мистера Филдинга.
— Мы всегда были так близки, — продолжала увещевать ее миссис Филдинг, — потому что мы были только вдвоем так много лет.
— Ты говоришь так, словно у меня никогда не было отца.
— Конечно, он у тебя был, но…
Ничего не говоря, Дэйзи повернулась к ней спиной и направилась в соседнюю комнату. Принц видел, как она подходила, но даже не шевельнулся в дверях и только зарычал легонько, чтобы показать, как ему не нравится то, что она делает, в частности, и вся атмосфера в доме, когда она переступила через него. Она сделала ему замечание, впрочем без особой уверенности. Пес прожил с ней все восемь лет замужества, и порой Дэйзи казалось, что Принц куда лучше понимает ее внутреннее состояние, чем мать или Джим и даже она сама. Он прошел за ней в гостиную и уселся рядом, положив ей на колени тяжелую лапу. Карие глаза печально заглядывали ей в лицо, а полураскрытый рот словно говорил: «Взбодрись, малышка, веселее! Все не так плохо. Ведь я рядом с тобой».
Даже тогда, когда служанка подошла к задней двери, что обычно являлось поводом для весьма бурной игры, он не шелохнулся.
Стелла всем сердцем принадлежала городу. Она терпеть не могла работать за его пределами. Хотя Дэйзи достаточно часто и весьма терпеливо растолковывала ей, что от дома до ближайшего универсама всего десять минут езды, Стеллу подобные аргументы не убеждали. Она слишком хорошо знала, что такое сельская жизнь, и ощущала ее присутствие всеми фибрами своей души. От этого она нервничала, подозревая, что на нее готовы вот-вот налететь осы и колибри, вокруг ползают улитки, пчелы роятся на эвкалиптах, бегают по земле всякие букашки, и каждая готова укусить ее за руку или за ногу.
Стелла и ее теперешний муж жили в квартире на третьем этаже в нижней части города, и сражаться ей там приходилось лишь с обыкновенными комнатными мухами. В городе все было благородно и чинно, никаких тебе ос, улиток или птиц, одни люди: днем покупатели и продавцы, ночью пьяницы и проститутки. Иногда их арестовывали прямо под окном Стеллы, здесь же порой случались кровавые драки, быстрые и бесшумные: дрались на ножах мексиканцы, отдыхающие после многочасовой работы на плантациях, где они собирали лимоны и авокадо. Стелла буквально наслаждалась этими волнующими картинами. Они давали ей возможность чувствовать себя живой (все, что случалось) и добродетельной (не то чтобы она была совсем без греха. Не проститутка и не пьяница, упаси Бог; так, ставила пару долларов на лошадку в кафе «Сиеста» каждое утро перед тем, как отправиться на работу).
Когда Харкеры еще жили в городе, Стелла была очень довольна своей работой. Они были очень хорошими хозяевами, не важничали и не грубили. Но она терпеть не могла этой сельской жизни. Свежий воздух вызывал у нее кашель, а тишина просто угнетала ее: ни тебе автомобилей, так, один-два, ни включенных на всю громкость приемников, ни болтающих соседей.
Перед тем как войти в дом, Стелла раздавила трех муравьев и отфутболила улитку — это было самое меньшее, что она могла сделать от имени цивилизации. «Конечно, эти муравьи знали, что на них наступают», — подумала она, и с этой мыслью двести фунтов ее мяса ввалилось в дверь кухни. Поскольку ни миссис Харкер, ни ее матери поблизости не было видно, Стелла начала свой ежедневный труд с того, что заварила новый кофейник свежего кофе и съела пять кусков хлеба с джемом. У Харкеров было одно несомненное достоинство: они закупали продукты лучшего качества и в достаточном количестве.
— Она ест, — сказала миссис Филдинг, сидя в гостиной. — Уже. Не успев еще ничего сделать.
— Прежняя тоже была не подарок.
— Эта вообще невыносима. Тебе следовало бы быть с ней построже, Дэйзи, показать ей, кто хозяин в доме.
— Не уверена, что знаю, кто хозяин, — заметила Дэйзи в легком недоумении.
— Нет, ты прекрасно знаешь. Это ты!
— Я себя вовсе не чувствую хозяйкой, да и не очень хочу ею быть.
— Тем не менее хозяйка ты — хочешь ты этого или не хочешь, но именно ты должна продемонстрировать свою власть, и хватит тебе ходить тут вокруг да около. Эта женщина не слишком догадлива, сама знаешь. Она ждет, что ей скажут, чего от нее хотят и что ей делать.
— Не думаю, что со Стеллой этот номер пройдет.
— Попробуй по крайней мере. Эта твоя манера — я думаю, это именно манера, а не недостаток в характере — оставлять все как есть, поскольку тебе не хочется прилагать усилия, не хочется беспокоиться… Вот и твой…
— Мой отец. Я знаю, ты можешь не продолжать.
— Ах, если бы это было в моих силах. Как мне хотелось бы не начинать этот разговор первой. Но когда я вижу беспорядок, от которого можно избавиться, мне кажется, что я должна что-то с этим делать.
— Но зачем? Стелла вовсе не так плоха. Она как-никак делает свое дело, а это максимум того, что можно ждать от человека.
— Не могу согласиться, — сказала миссис Филдинг решительно. — По правде сказать, мы сегодня не пришли к согласию ни по одному пункту. Не понимаю, в чем дело. Я чувствую себя как обычно, по крайней мере чувствовала, пока дело не дошло до этого твоего совершенно абсурдного сна.
— В нем нет никакого абсурда.
— В самом деле? Не буду спорить. — Миссис Филдинг, не сгибая спины, наклонилась вперед и поставила свою чашку на кофейный столик. Джим сделал его сам из тикового дерева и раскрашенной под слоновую кость керамической плиты. — Я не знаю, почему ты не хочешь откровенно поговорить со своей матерью, Дэйзи.
— Наверное, я становлюсь взрослой.
— Становишься взрослой? Или становишься все дальше от меня?
— Одно связано с другим.
— Да, возможно, но…
— Может быть, ты просто не хочешь, чтобы я выросла.
— Какая ерунда. Конечно, хочу.
— Иногда мне кажется, что тебя не особенно печалит то, что я не могу родить ребенка. Если бы он родился — это бы значило, что я больше не та, что была. — Дэйзи вдруг замолчала, прикусив нижнюю губу. — Ах, нет. Я вовсе не это имела в виду. Прости, я сболтнула глупость. Я хотела сказать совсем другое.
Миссис Филдинг сидела бледная, судорожно сжимая лежавшие на коленях руки.
— Я не принимаю твоих извинений. Это были неумные и очень жестокие слова. Но теперь я по крайней мере понимаю, в чем дело. Ты снова начала об этом думать, даже надеяться.
— Да нет. Какие уж тут надежды, — вздохнула Дэйзи.
— Когда ты наконец примиришься с неизбежным, Дэйзи? Я подумала, что со временем ты свыкнешься с этим. Ты знаешь все вот уже пять лет.
— Да.
— Профессор в Лос-Анджелесе сказал обо всем однозначно.
— Да.
Дэйзи не помнила, когда это было, не помнила ни месяца, ни недели, только день. В то утро она чувствовала себя совершенно больной. Затем, чуть позже, телефонный звонок подруге, работавшей в местной клинике.
— Элеонора? Это Дэйзи Харкер. Меня просто распирает от счастья. По-моему, я беременна. Я уверена почти на сто процентов. Я так счастлива. Меня тошнило все утро, а я все равно счастлива. Ты понимаешь, что я имею в виду. Послушай, я знаю, что в городе полно акушеров, но я хочу, чтобы ты назвала мне лучшего в штате, самого лучшего…
Она помнила поездку в Лос-Анджелес, мать сидела за рулем. Она чувствовала, как восторг и радость захлестывают ее все больше, мир представал перед ней в новом свете, словно она уже готовилась показать ребенку все его красоты. Чуть позже она услышала безжалостные слова профессора: «Очень жаль, но никаких свидетельств беременности мне обнаружить не удалось…»
Дальше Дэйзи его уже не слышала. Она разрыдалась и полностью утратила контроль над собой, все остальное доктор изложил матери, а та пересказала ей: детей не будет никогда.
Миссис Филдинг без удержу говорила на всем обратном пути. Дэйзи смотрела на ужасный пейзаж за окном машины (где они, зеленые холмы?), сумрачно-серое море (неужели оно было когда-то голубым?) и совершенно голые дюны (голые, голые, голые). «Это вовсе не конец света, — сказала ей миссис Филдинг, — посмотри на все преимущества своей жизни. Ты же в сорочке родилась». Но сама миссис Филдинг так разволновалась, что не смогла дальше вести машину. Ей пришлось притормозить у маленького кафе на берегу моря, и обе женщины долго сидели и смотрели друг на друга за грязным, усыпанным крошками столом. Миссис Филдинг продолжала говорить, все время повышая голос, чтобы перекричать шум волн, бившихся о причал, и грохот тарелок на кухне.
Прошло пять лет, но миссис Филдинг убеждала ее теми же словами.
— Посмотри на свои преимущества, Дэйзи. У тебя спокойная и комфортная жизнь, ты в полном здравии, муж твой, вне всякого сомнения, лучший в мире.
— Да, — согласилась Дэйзи. — Да.
Она подумала о могильной плите, увиденной во сне, о дате своей смерти — второе декабря 1955 года. Четыре года назад, а не пять. Поездка в Лос-Анджелес, должно быть, была весной, а не в декабре — холмы зеленели распустившимися деревьями. Невозможно было установить связь между днем их поездки и тем, что Дэйзи называла теперь с большой буквы — День.
— Кроме того, — продолжала миссис Филдинг, — со дня на день может прийти весточка от одного из агентств по усыновлению, ты в списке уже достаточно времени. Возможно, тебе следовало обратиться к ним не в прошлом году, а пораньше, но переживать по этому поводу поздно. Лучше порадоваться тому, что в один из ближайших дней у тебя появится ребенок и ты будешь любить его так, словно это твое собственное дитя. Джим тоже полюбит его. Ты даже не понимаешь, какое счастье иметь рядом с собой такого человека, как Джим. Стоит мне только подумать, что вынуждены переживать женщины замужем…
«Конечно, ты имеешь в виду себя», — подумала Дэйзи.
— Ты очень, очень счастливая, Дэйзи.
— Да.
— Я думаю, главная беда в том, что тебе нечем заняться. Ты забросила за последнее время так много своих увлечений. Почему ты перестала заниматься русской литературой?
— Я никак не могла запомнить имена.
— А мозаика, которую ты делала…
— У меня нет таланта.
Словно для того, чтобы показать, что в доме хоть кто-то одарен от природы, Стелла, перемывавшая оставшиеся после завтрака тарелки, запела на кухне.
Миссис Филдинг поднялась и захлопнула дверь, не слишком стараясь ее придерживать.
— Тебе пора заняться какой-нибудь деятельностью. Той, которая полностью захватит тебя. Почему бы тебе не поехать со мной на ленч в Драматический клуб сегодня днем? Когда-нибудь ты даже могла бы попробовать сыграть в одной из наших пьес.
— Я не уверена, что сама…
— Там совершенно нечего играть. Ты просто делаешь то, что тебе говорит режиссер. Сегодня на обеде выступает очень интересный докладчик. Тебе будет куда полезнее выйти из дома, чем сидеть здесь, повесив нос из-за того, что во сне тебя кто-то убил.
Дэйзи резко наклонилась вперед, сбросила с колена собачью лапу и встала.
— Что ты сказала?
— Разве ты не расслышала?
— Повтори.
— Я не вижу никакого смысла, — миссис Филдинг сделала паузу, щеки ее вспыхнули от раздражения. — Впрочем, ладно. Все что угодно, лишь бы тебя развеселить. Я просто сказала, тебе куда полезнее поехать со мной на ленч, чем сидеть здесь, повесив нос из-за плохого сна.
— Мне кажется, ты повторила не точно.
— Достаточно близко к тому, что я запомнила.
— Ты сказала, потому что мне приснилось, будто кто-то меня убил. — Она замолчала, а потом добавила: — Верно?
— Возможно. — Чувство раздражения постепенно становилось у миссис Филдинг чем-то более серьезным. — К чему поднимать столько шума из-за пустякового расхождения в словах?
«Это не маленькое расхождение, а огромная разница, — подумала Дэйзи. — Я умерла превратилось в кто-то меня убил».
Она начала ходить по комнате, собака смотрела на нее с упреком, мать с неодобрением. Двадцать два шага вперед, двадцать два шага назад. Через какое-то время пес тоже пошел, следуя за ней по пятам, словно они были на прогулке.
3. Но я ничего не могу поделать Моя кровь течет в твоих жилах
В полдень позвонил Джим и попросил ее приехать к нему в город пообедать.
Они ели суп и салат в кафе на Стейт-стрит. Здесь было людно и шумно, и Дэйзи почувствовала глубокую благодарность за то, что муж выбрал именно такое место. Не было никакой нужды через силу заводить разговор. Когда вокруг так много разговаривающих, молчание двоих не кажется слишком заметным. Джиму даже показалось, что они очень весело провели время за обедом, и, когда они расстались у кафе, он спросил:
— Тебе ведь лучше, правда?
— Да.
— С подсознанием конфликтов больше нет?
— Никаких.
— Вот и умница. — Он нежно пожал ей плечо. — Увидимся за ужином.
Она смотрела, как он поворачивает за угол и направляется к стоянке автомобилей. Затем она медленно пошла по улице в противоположную сторону. Никакой особенной цели у нее не было, просто хотелось как можно дольше находиться вне собственного дома.
Сильный порыв ветра хлестнул ее по лицу. Над вершинами розовеющих гор собирались грозовые облака, напоминая по форме столбы дыма. Впервые за весь день у Дэйзи мелькнула мысль, не связанная с ней самой: «Дождь. Будет дождь».
Ветер гнал тучи к городу, люди на улице были охвачены радостным волнением от приближения ливня. Они шли все быстрее, говорили все громче, обращались к незнакомым, словно к старым друзьям: «Как вам? Только посмотрите на эти тучи», «Когда я развешивала утром белье, на небе не было ни облачка», «Очень вовремя для моих цинерарий».
«Дождь», — повторяли они и поднимали головы к небу, словно не струи воды должны были пролиться оттуда, а водопады из чистого золота.
За прошедший год не было ни одного дождя. Жаркие солнечные дни — они обычно заканчивались в декабре — продержались до Рождества и Нового года. Стоял февраль, уровень воды в водохранилищах резко понизился, огромные районы горных массивов были закрыты для пикников и туристических прогулок из-за опасности возникновения пожара. Многие просто стояли и ждали появления облаков, словно актеры, выучившие роль и готовящиеся выйти на сцену.
Облака приблизились. Их черные и серые блики казались прекраснее всех остальных цветов радуги. Солнце неожиданно скрылось, задул холодный ветер.
«Я попаду под дождь, — подумала Дэйзи, — пора отправляться домой». Но ноги упрямо продолжали нести ее в другую сторону, словно у них были свои собственные соображения на этот счет и они вовсе не собирались принимать во внимание желания робкой девушки, которая боялась немного намокнуть.
Вдруг кто-то окликнул ее:
— Дэйзи Харкер!
Она остановилась и обернулась, немедленно узнав позвавший ее голос. Это был Адам Барнетт, адвокат, старый приятель Джима, также увлекавшийся реставрацией старинной мебели. Адам довольно часто забегал к ним домой, чтобы скрыться от собственного семейства, насчитывавшего восемь человек, но общалась с ним Дэйзи немного. Мужчины, как правило, сразу же уходили в мастерскую Джима в подвале.
Дэйзи все утро прокручивала в мозгу мысль о том, что надо бы посоветоваться с Адамом, и эта неожиданная встреча смутила ее, словно он возник откуда-то из глубин ее сознания. Она даже не поздоровалась, а только сказала не слишком уверенным голосом:
— Как странно, встретиться вот так случайно.
— Ничего странного. Моя контора отсюда через два дома, а кафе, в котором я обедаю, находится через дорогу.
Это был высокий, крепкого сложения человек лет сорока, чуть резковатый в движениях, но очень обходительный. Он сразу же заметил смущение Дэйзи, но никак не мог понять, что явилось тому причиной.
— Меня довольно сложно не заметить в этом районе.
— Я, я просто забыла, где находится твой офис.
— Когда я тебя увидел, то подумал, что ты, возможно, направляешься повидать именно меня.
— Нет, что ты. — «Нет, нет. Я и не могла подумать об этом, пойти в эту сторону осознанно. Чего ради? Я даже не помнила, где располагается его контора. Или я просто не помню, что вспоминала об этом?» — У меня не было конкретной цели, я просто гуляла. Такой чудный день сегодня.
— Холодновато. — Он бросил взгляд на небо. — Вот-вот пойдет дождь.
— При такой погоде, как нынешняя, мы все любим дождь. Я хочу сказать, что я люблю гулять под дождем.
Он дружелюбно улыбался, но был несколько озадачен.
— Вот и чудно. Пойдем. Прогулка тебя развлечет, а от дождя ничего плохого не будет.
Она не тронулась с места.
— Знаешь, почему я подумала, что встретиться с тобой вот так было довольно странно? Дело в том, что я думала о тебе сегодня утром.
— Неужели?
— Я даже думала о том, чтобы договориться о встрече.
— Зачем?
— Произошло нечто такое.
— Что же такое произошло? Что именно?
— Я не знаю, как тебе объяснить.
На землю упали первые капли дождя. Она не заметила их.
— Ты думаешь, что я неврастеничка?
— Вряд ли сейчас время и место обсуждать подобную проблему, — сухо заметил он. — Тебе, может, нравится гулять под дождем, кому-то нет.
— Адам, послушай.
— Нам лучше подняться ко мне в офис, — он взглянул на часы. — У меня есть двадцать пять минут, потом мне нужно быть в суде.
— Я не хочу.
— А мне кажется, что хочешь.
— Нет, я такая дура.
— Я думаю о себе то же самое, стоя под проливным дождем. Пойдем, Дэйзи.
Они поднялись на лифте на третий этаж. Секретарша и помощница Адама все еще были на обеде, в приемной было темно и тихо. Адам включил свет в холле, затем прошел в свой кабинет, повесил на старомодную бронзовую вешалку промокший твидовый пиджак.
— Садись, Дэйзи. Ты прелестно выглядишь. Как Джим?
— Хорошо.
— Небось делает что-нибудь новенькое?
— Нет, переделывает для прихожей старый столик с инкрустацией.
— Где это он его ухватил?
— Его оставили вместе со всяким хламом бывшие хозяева дома, который он купил. Думаю, они понятия не имели, что это такое, его неоднократно перекрашивали. Джим насчитал десять слоев.
Она прекрасно понимала, что весь этот разговор был частью его техники — сначала заставить ее говорить о нормальных вещах, отвлеченных предметах, и она, поморщившись внутренне, подумала, прием срабатывает: словно он капнул несколько капель масла в нужные места, и колеса закрутились. Она рассказала ему про свой сон. Потоки дождя ударяли в окна, но Дэйзи видела себя вместе с Принцем на залитом солнцем пляже.
Адам слушал, откинувшись на спинку стула; время от времени он моргал. Это было единственным внешним проявлением реакции на ее слова. Внутри он испытывал удивление, но не от ее сна, а от того, как она передавала его содержание, спокойно и без эмоций, словно описывала не фантазию, порожденную собственным сознанием, а цепь связанных между собой событий, имевших место в действительности.
Она закончила рассказ описанием дат на могильной плите:
— 13 ноября 1930 года — 2 декабря 1955 года. День моего рождения и день моей смерти.
Он угрюмо хмыкнул и наклонился к ней, стул жалобно заскрипел под его килограммами.
— Я не психиатр. Я не умею разгадывать сны.
— Я и не прошу тебя это делать. Объяснения не нужны. Все и так ясно. Второго декабря 1955 года со мной случилось что-то ужасное, повлекшее за собой мою смерть. Я была убита психически.
«Психическое убийство, — подумал Адам. — Вот теперь я услышал все до конца. Черт бы побрал эту дуру, которой нечем заняться. Она накличет своими снами беду на себя и на всех нас…»
— Ты и впрямь в это веришь, Дэйзи?
— Да.
— Хорошо. Предположим, в этот день действительно произошла какая-то катастрофа, почему же ты не помнишь, что это было?
— Я пытаюсь. Именно по этой причине я хотела с тобой поговорить. Мне необходимо вспомнить. Я должна восстановить события всего этого дня.
— Понимаю, но ничем не могу тебе помочь. Но даже если бы мог, то не стал. Не вижу никакого смысла в том, чтобы люди сознательно пытались вспомнить какое-нибудь неприятное происшествие.
— Неприятное происшествие? Сказано довольно мягко для того, что случилось.
— Но если ты не помнишь, что случилось, — спросил он с иронией в голосе, — то откуда можешь знать, что это сказано довольно мягко?
— Знаю, — сказала она с нажимом.
— Знаешь. И все?
— Да.
— Ах, если б все знание в мире опиралось на такие простые аргументы.
Она окинула его холодным ровным взглядом.
— Ты не воспринимаешь меня всерьез, Адам, верно? Жаль, в действительности я очень серьезный человек. Джим и моя мать обращаются со мной как с ребенком, и я в ответ веду себя как ребенок, потому что так проще. Сохраняется тот образ, который у них сложился. Мой же настоящий облик вовсе не такой. Я считаю себя достаточно умной: я закончила колледж в 21 год… Впрочем, хватит об этом. Ясно, что я ни в чем тебя не убедила.
Она поднялась и направилась к двери.
— Спасибо, что выслушал.
— Ну что ты спешишь? Подожди минутку.
— Зачем?
— Я еще ничего не решил, кроме того, что… Кроме того, что я должен признать, что твоя, скажем так, ситуация меня заинтересовала. Эта попытка восстановить события одного дня четырехлетней давности…
— Ну?
— Сделать это будет сложно.
— Я знаю.
— Предположим, тебе это удалось. Что дальше?
— По крайней мере я буду знать, что произошло.
— Но какой толк в подобном знании? Ты же не станешь от этого счастливее или умнее. Нет?
— Нет.
— Так почему не оставить это занятие с самого начала? Забудь все. Ты от этого ничего не выиграешь, а потерять можешь очень много — вот об этом ты подумала?
— Нет. До этой минуты — нет.
— Пожалуйста, подумай. — Он поднялся, распахнул дверь. — И еще одно, Дэйзи. Скорее всего, в этот самый день ничего не было. Сны никогда не бывают настолько логичны.
Он знал, что слово «никогда» было чересчур сильным в данной ситуации, но употребил его сознательно. В качестве подтверждения своей правоты или, наоборот, неправоты. Ей нужны были только сильные слова.
— Ну что же, мне нужно идти, — сказала Дэйзи. — Я и так отняла у тебя слишком много времени. Надеюсь, ты не забудешь прислать счет?
— Никакого счета.
— Мне будет спокойнее, если ты пришлешь. В самом деле.
— Хорошо.
— И большое спасибо за совет, Адам.
— Знаешь, Дэйзи, многие мои клиенты благодарят меня за совет, затем отправляются домой и делают все наоборот. Ты тоже так поступишь?
— Не думаю, — сказала она очень серьезно. — Я благодарна тебе за то, что ты меня выслушал. Я не могу обсуждать это — я имею в виду свои проблемы — с Джимом и с матерью. Они слишком мне близки. Они расстроятся, если я выйду за пределы отведенной мне роли счастливой невинности.
— Тебе следовало бы более откровенно говорить с Джимом. У вас счастливый брак.
— Любой счастливый брак на какую-то долю состоит из хорошей игры.
Он хмыкнул, не возражая, но и не соглашаясь: «Нужно над этим подумать, прежде чем я приму решение. Игра? Очень может быть».
Он проводил ее до лифта, испытывая заслуженное удовлетворение оттого, что так мастерски провел этот разговор, что она так разумно отреагировала на его советы. Мелькнула мысль: знаком с Дэйзи уже несколько лет, а ни разу с ней серьезно не разговаривал — ему тоже хотелось принимать ее в роли счастливой невинности, веселой маленькой девочки, даже после того, как он узнал, что она не весела, не невинна, не счастлива.
Подошел лифт, и, хотя кто — то внизу энергично нажимал на звонок, вызывая кабину, он придержал рукой захлопывающуюся дверь. Он вдруг почувствовал, что ему не следует ее отпускать, они так ничего и не решили и тот добрый совет, который он ей дал, так и исчезнет без последствий.
— Дэйзи…
— Там кто-то вызывает лифт.
— Я только хотел сказать. Пожалуйста, звони мне, если вдруг почувствуешь себя в печали.
— Я больше не печалюсь.
— Правда?
— Адам, кому-то нужен лифт. Мы не можем просто…
— Я провожу тебя до первого этажа.
— В этом нет никакой не…
— Я люблю кататься.
Он вошел, дверь захлопнулась, и они медленно опустились вниз. Медленно, но не настолько, чтобы Адам успел придумать, что сказать ей. Лифт оказался на первом этаже, и Дэйзи снова поблагодарила его, очень вежливо и очень искусственно, как благодарят хозяина за проведенный у него смертельно скучный вечер.
4. Когда умру, частичка меня будет продолжать жить, сначала в тебе, потом в твоих детях, потом в детях твоих детей
Дэйзи приехала домой в половине третьего. Стелла встретила ее у входной двери. Она была подозрительно веселой и румяной, и Дэйзи решила, что служанка заглядывала в шкаф с напитками.
— Какой-то человек пытается до вас дозвониться, — сказала Стелла. — Он трижды звонил за последний час и все время твердил, что дело очень срочное, спрашивал, когда вы должны вернуться и все такое.
Такие происшествия случались в их доме не часто, и Стелла воспользовалась случаем, чтобы обговорить звонок во всех подробностях.
— Первые два раза он никак не хотел себя назвать, но во время последнего разговора я взяла и спросила его: «А кто ее спрашивает, будьте любезны?» Так я его и спросила. Он уж очень не хотел называться, а затем сказал, и я записала прямо здесь на журнале его имя и номер, чтобы вы позвонили.
На верху обложки журнала Стелла написала печатными буквами: «Стэн Фостер позвонить 67134 срочно». Дэйзи в жизни не встречала этого имени. Она подумала, что ошибся кто-то из них: либо звонивший, либо Стелла — Стелла могла не расслышать имя, а мистеру Фостеру могла понадобиться другая миссис Харкер.
— Вы уверены, что это именно то имя? — спросила Дэйзи.
— Он дважды продиктовал его по буквам: «С-Т-Э-Н»…
— Да, да. Спасибо. Я позвоню после того, как переоденусь.
— Как вы так промокли? Неужели дождь шел даже в городе?
— Да, — ответила Дэйзи. — Дождь шел даже в городе.
Она прошла в спальню и стала снимать с себя одежду, когда телефон зазвонил снова. Мгновение спустя Стелла постучала в дверь.
— Этот мистер Фостер снова звонит. Я сказала, что вы дома. Правильно?
— Да. Я поговорю с ним отсюда.
Накинув на плечи халат, она села на кровать и подняла трубку телефона:
— Миссис Харкер слушает.
— Дэйзи, привет.
Даже если бы Дэйзи и не узнала этот голос, она бы все равно догадалась, кто ей звонит. Никто, кроме отца, не называл ее так.
— Дэйзи, дочка, ты слушаешь?
— Да, папа.
Снова услышав его голос, она не испытала в первое мгновение ни радости, ни боли, только удивление и чувство облегчения оттого, что он жив. Она не получала от него писем почти целый год, хотя сама писала ему несколько раз; их последний разговор состоялся три года назад, когда он позвонил из Чикаго, чтобы поздравить ее с днем рождения. Он был сильно пьян и дату ее дня рождения перепутал.
— Как ты, папа?
— Отлично. Когда хорошо, когда не очень, но в основном все нормально.
— Ты в городе?
— Да. Приехал вчера вечером.
— Почему же не позвонил?
— Я звонил. Разве она тебе не сказала?
— Кто?
— Твоя мать. Я попросил позвать тебя, но тебя не было. Она узнала мой голос и сразу повесила трубку. Бац, и все!
Дэйзи вспомнила, что она вернулась после прогулки с собакой домой и застала мать сидящей у телефона, взгляд ее был мрачен, глаза налились свинцом.
— Кто-то ошибся номером, — сказала миссис Филдинг. — Пьяница какой-нибудь.
И в полном противоречии с тем, как звучал ее голос: нежно и сладко, словно сочась медом, — на каменном лице матери так и остался след чего-то мерзкого, что никак не вписывалось в общую благостную картину.
— Он был очень пьян, — продолжала миссис Филдинг. — Он назвал меня «детка».
Какое-то время спустя, лежа в постели, Дэйзи думала вовсе не о пьянице, назвавшем ее мать «детка», а о настоящем приемном ребенке, который может скоро стать ее ребенком, ее и Джима.
— Что же ты еще раз не позвонил, папа?
— Мне здесь разрешают только один звонок.
— Разрешают? Кто?
Он ответил застенчивым смешком, оборвавшимся на середине:
— Ты знаешь, я слегка пьян. Ничего серьезного не случилось, но долларов двести мне бы пригодились. Я не хотел, чтобы твое имя с этим как-то было связано, и назвался другим именем. Я подумал, что у моей дочери в городе хорошая репутация, так что нечего было втравливать ее напрямую. Дэйзи, Бога ради, помоги мне!
— Я ведь всегда тебе помогаю. Правда? — спокойно сказала она.
— Конечно. Ты хорошая девочка, Дэйзи, ты ведь любишь своего папу. Я никогда не забуду, как ты…
— Где ты сейчас находишься?
— В нижнем городе.
— В отеле?
— Нет. В офисе одного человека. Его фамилия Пината.
— Он тоже там?
— Да.
— И ты говоришь при нем?
— Он все равно уже все это знает, — пояснил ее отец и снова рассмеялся, негромко и смущенно. — Мне пришлось рассказать ему правду о том, кто я такой и кто моя дочь, иначе бы он меня не вытащил. Он выступил поручителем и освободил меня под залог.
— Так ты был в тюрьме. За что?
— Господи, Дэйзи, неужели тебе нужны подробности?
— Да, я хотела бы послушать.
— Ладно. Я ехал к тебе повидаться, но вдруг мне захотелось выпить. Понимаешь? Я зашел в бар, там, в нижнем городе. Посетителей почти не было, и я пригласил официантку выпить со мной, просто из чувства симпатии, так сказать. Нита, ее так звали, оказалась очень красивой молодой женщиной с тяжелой жизнью. Ну, короче, неизвестно откуда появляется ее муж и начинает на нее орать, почему она не сидит дома и не присматривает за детьми. Они сказали друг другу пару слов; и он принялся командовать. Ну, я же не могу просто так сидеть и смотреть на подобные вещи, не принимая никаких мер.
— Ты полез драться?
— Вроде того.
— Не вроде, а совершенно точно. Верно?
— Да. Кто-то вызвал полицию. Нас повязали и отправили в кутузку. Мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка в нетрезвом состоянии. Ничего серьезного. Но все равно. Я назвался вымышленным именем, чтобы никто не узнал, что я твой отец, если дело попадет в газеты. Я и так уже бросил тень на твое имя и имя твоей матери.
— Я тебя умоляю, — сказала Дэйзи. — Не пытайся разыгрывать из себя героя потому, что ты назвал вымышленное имя и защитил нашу честь. Во-первых, ты нарушил закон, ведь уже есть «послужной список». Верно?
— Неужели нарушил? — Его удивление показалось искренним. — Ну да ладно, что об этом говорить. Мистер Пината вряд ли меня выдаст. Он джентльмен.
Дэйзи без труда могла себе представить, как ее отец определяет джентльмена: это тот, кто только что помог ему избежать тюрьмы. Она мысленно представила себе этого Пинату: сморщенный от старости человек с маленькими глазками, пропахший тюрьмами и насквозь продажный.
— Когда я объяснил мистеру Пинате свою ситуацию, он был так добр, что тут же оплатил мой штраф. Поскольку он немного приболел, он не на службе, и я, естественно, должен оставаться у него в конторе, пока не смогу собрать деньги, чтобы вернуть ему долг. Штраф двести долларов. Я признал себя виновным, чтобы побыстрее со всем этим покончить. Нет никакого смысла приезжать сюда еще раз из Лос-Анджелеса только для того…
— Ты живешь в Лос-Анджелесе?
— Да. Мы… Я переехал туда на прошлой неделе. Я подумал, что замечательно быть поближе к тебе, Дэйзи, детка. Кроме того, в Далласе мне не слишком подходил климат.
О том, что он жил в Далласе, она услышала впервые. Его последний адрес, записанный у нее, был: Топека, штат Канзас. Даллас, Топека, Торонто, Детройт, Сент-Луис, Монреаль — для Дэйзи они были лишь названиями, но она знала, что ее отец жил во всех этих городах, ходил по улицам и искал что-то, всегда оказывавшееся на несколько сотен километров дальше.
— Дэйзи, ты ведь сможешь достать денег? Я дал Пинате честное слово.
— Смогу.
— А когда? Дело в том, что я сильно тороплюсь. Я должен вернуться обратно в Лос-Анджелес. Меня там кое-кто ждет, а, как ты сама понимаешь, покинуть офис Пинаты до того, как будут уплачены деньги, я не могу.
— Я приеду прямо сейчас.
Дэйзи очень хорошо могла себе представить, как он ждет ее в кабинете этого Пинаты, пленник, а вовсе не свободный человек. Он лишь менял время от времени свои тюрьмы и тюремщиков, как менял города и людей, не осознавая, что всегда будет находиться в зависимости от них.
— Где его контора?
Она услышала его вопрос: «Где все-таки мы находимся?», а затем голос самого Пинаты, неожиданно молодой и приятный, удивительно свежий для старика, растратившего свою жизнь на визиты в тюрьмы. Он внятно объяснил, как к ним проехать.
Отец повторил все это в трубку, и Дэйзи сказала:
— Я знаю это место. Приеду минут через тридцать.
— Ах, Дэйзи, детка, какая ты хорошая девочка, как ты любишь своего папочку.
— Да, да, — пробормотала она устало.
Филдинг положил трубку и повернулся к Пинате, который сидел за столом и писал письмо сыну Джонни. Мальчику исполнилось десять лет, он жил с матерью в Новом Орлеане, и Пината виделся с ним лишь один месяц в году, но регулярно, каждую неделю, посылал ему письма.
Не поднимая головы, Пината спросил:
— Ну что? Она приедет?
— Конечно, приедет. Немедленно. Я же говорил, что так и будет. Верно?
— Я не всегда верю тому, что говорят люди вроде вас.
— Я мог бы обидеться на ваши слова, но не стану. У меня прекрасное настроение.
— Еще бы. После того как вы прикончили бутылку моего виски.
— Я ведь называл вас джентльменом? Разве вы не слышали, как я говорил Дэйзи, что вы джентльмен?
— Ну и что?
— А то, что ни один джентльмен не пожалеет глотка виски для такого же джентльмена, если тот оказался в беде. Это одна из норм цивилизованного общества.
— Неужели?
Пината закончил письмо: «Джонни, будь хорошим мальчиком, не забывай мне писать. Вкладываю пять долларов, чтобы ты купил маме и младшей сестренке подарки к Валентинову дню. С любовью, твой папа».
Он положил письмо в конверт и заклеил. У него всегда появлялось ощущение боли и одиночества, когда он писал сыну. Джонни был единственным родным человеком, которого он знал. В эти моменты Пинату захлестывала ненависть к окружающему миру. По крайней мере к тому, что было рядом. В данный момент гнев его сосредоточился на Филдинге. Он наклеил марку и сказал:
— Фостер ты обычный тунеядец.
— Я Филдинг, если вы не возражаете.
— Фостер, Филдинг, Смит, все равно тунеядец.
— Мне очень не везло.
— Я думаю, что за каждый грамм своего невезения ты исхитрился свалить по килограмму на других. На миссис Харкер, к примеру.
— Это неправда. Я не доставлял ей никаких неприятностей. Что вы! Я никогда не просил у нее денег, лишь в самом безвыходном положении. К тому же она вполне может себе позволить помогать мне. Она очень удачно вышла замуж — уж миссис Филдинг об этом позаботилась. Что же страшного, если и мне время от времени перепадает от нее кусочек? Когда вам самому придется непосредственно столкнуться…
— Ну хватит, — сказал Пината. — Не надо подробностей… Ты меня утомил.
Губы Филдинга надулись, словно последние слова ужалили его. Он не слишком возражал против того, чтобы его называли «тунеядцем», поскольку в этом была своя правда, но чтобы он мог утомить…
— Если бы я знал, что вы обо мне так думаете, — начал он с достоинством, — я бы не притронулся к вашему виски.
— Ну как же!
— Между прочим, сорт был неважный. В нормальных условиях я бы никогда не опустился до того, чтобы пить такое, но в ситуации стресса…
Пината откинул голову и захохотал. Филдинг, вовсе не желавший выглядеть забавным, смотрел на него с обидой. Но смех был настолько заразителен, что вскоре он присоединился к своему обидчику. Так они и смеялись посреди обшарпанного, с дождевыми подтеками на потолке и стенах кабинетика, немолодой мужчина в порванной рубашке, с засохшей коркой крови на лице и молодой человек с коротко остриженными волосами, в аккуратном темном костюме. Он выглядел так, словно специализировался на ценных бумагах в солидном банке, а не зарабатывал на освобождении под залог.
Наконец Филдинг сказал, утирая выступившие слезы:
— Ах, до чего же я люблю от души смеяться. Сразу проходят все заскоки, и мозги прочищаются. Хорош же я был, если полез в бутылку из-за пары пустяковых слов. А вы, вы с чего так неожиданно разгневались?
Пината бросил быстрый взгляд на письмо, лежавшее на столе.
— Да так. Ни из-за чего.
— Вы тоже подвержены резким переменам в настроении?
— Подвержен.
— Вы латиноамериканец или мексиканец?
— Не знаю. Мои родители исчезли, не дождавшись того дня, когда я смог бы задать им этот вопрос. Так что, может, я китаец.
— Это довольно забавно, не знать, кто ты.
— Я знаю, кто я, — произнес Пината достаточно отчетливо. — Я просто не знаю, кто были они.
— Да, да. Я вас понял. Очень мудро. Возьмите, к примеру, меня. Все наоборот. Я все знаю о дедушках и прадедушках, дядях и тетях, братьях и сестрах, обо всей нашей чертовой кодле. И мне кажется, что я несколько потерялся в этой кутерьме. Бывшая жена непрестанно долбила меня, обвиняя в отсутствии собственного я, будто оно похоже на шляпу или пару перчаток, которые я по небрежности потерял или засунул куда-нибудь в другое место. — Филдинг замолчал, затем, прищурившись, спросил: — А что случилось с ее мужем?
— Чьим?
— Официантки. Ниты.
— Он все еще в тюрьме, — ответил Пината.
— Мне кажется, ей следовало бы внести за него залог. Кто старое помянет…
— Может быть, она предпочитает, чтобы он оставался именно там.
— Скажите, мистер Пината, у вас случайно не найдется еще бутылочки? Это дешевое виски действует так недолго.
— Вам бы лучше было сначала почиститься, пока ваша дочь не приехала.
— Дэйзи видела меня в ситуациях и похуже…
— Не сомневаюсь. Так почему бы вам не удивить ее на этот раз? Где ваш галстук?
Филдинг поднес руку к воротнику рубашки.
— Наверное, я его где-то потерял. Может, в полицейском участке.
— Ну что же. Здесь есть лишний, — сказал Пината, вытаскивая синий в полоску галстук из ящика стола. — Один из моих клиентов пытался на нем повеситься, так что мне пришлось его забрать. Прошу.
— Нет, нет, благодарю вас.
— Почему нет?
— Мне как-то не очень по душе мысль о том, что я повяжу галстук покойника.
— С чего вы взяли, что он покойник? Он жив и здоров и продает подержанные машины в паре кварталов отсюда.
— Ну, я полагаю, что не совершу ничего предосудительного, позаимствовав этот галстук на некоторое время.
— Туалет на первом этаже, — заметил Пината. — Вот ключ.
Пять минут спустя Филдинг вернулся. Он смыл с лица засохшую кровь и расчесал волосы. На нем был синий в полоску галстук, спортивный пиджак застегнут на все пуговицы, чтобы не было видно прорехи на рубашке. Он выглядел вполне трезвым и респектабельным, особенно если учесть, что в действительности перед Пинатой стоял полупьяный бродяга.
— Ну что же. Улучшение налицо, — заметил Пината, задавая самому себе вопрос, когда можно будет дать Филдингу выпить еще. «Старые дрожжи быстро улетучились», — мелькнула мысль у него в голове. Пината это чувствовал по быстро бегающим глазкам Филдинга и нервному надрыву в голосе.
— Вам-то какая разница, Пината, как я буду выглядеть перед дочерью?
— Я думал не о вас, я думал о ней.
«Это неправда, — сказал он себе. — Я думал о Джонни. Я бы не хотел, чтобы он увидел меня в таком виде, в каком Дэйзи видела и еще не раз увидит своего папашу».
Именно ради своего сына Пината поддерживал себя в хорошей форме. Летом он каждое утро плавал в океане, а зимой играл в гандбол в клубе и в теннис на городском корте. Он не курил и очень редко пил, приглашал только самых порядочных женщин — его удерживала одна-единственная мысль: если вдруг по какому-то стечению обстоятельств Джонни случайно встретит его на улице, ему не будет стыдно за отца и его спутницу.
Конечно, жить ради ребенка, которого он мог видеть лишь месяц в году, было очень сложно. Трудно заполнять дни делами, они напоминали дырявый сосуд, который невозможно наполнить водой. Впрочем, работа спасала его от чувства жалости к самому себе. Благодаря своей профессии он встречал огромное множество людей, охваченных последней степенью отчаяния, и в сравнении с ними его жизнь была вполне благополучной. Пината хотел бы жениться вновь и, главное, был готов к этому, но боялся, что бывшая супруга использует эту возможность для того, чтобы попытаться через суд сократить сроки его визитов к Джонни или вовсе прекратить их: она не раз жаловалась на то, что его приезды забирают у нее слишком много времени и сил и вносят излишнее напряжение в жизнь ее нового семейства.
Филдинг стоял у окна и пристально смотрел вниз.
— Она бы уже должна была приехать. Она говорила, что ей понадобится полчаса. Но ведь прошло больше?
— Присядьте и расслабьтесь, — посоветовал Пината.
— Поскорей бы кончился этот проклятый дождь. Он действует мне на нервы. Хватит с меня того напряжения, которое вызывает мысль о встрече с Дэйзи.
— Сколько лет вы ее не видели?
— Черт, я не знаю. Давно. — Филдинга начало колотить, частью оттого, что из него выходило похмелье, частью от нервного стресса, рожденного переживаниями перед встречей с Дэйзи. — Как мне себя вести, когда она приедет? И что, черт возьми, я ей скажу?
— Вы прекрасно справились со всем этим по телефону.
— Тогда все было по-другому. Я был в отчаянии, мне нужно было ей позвонить. Но послушайте, Пината, ведь нет никаких причин для того, чтобы мне было нужно здесь с ней встречаться. Подумайте, какой в этом толк? Вы можете сами передать ей мои слова. Скажите, что у меня все в порядке, что я получил постоянную работу на товарном складе электрокомпании Харриса на Фигероа-стрит. Скажите ей…
— Я не собираюсь ей ничего говорить. Вы все скажете сами, Филдинг. Лично.
— Ни за что. Я не могу. Бога ради, будьте человеком, отпустите меня, пока она не приехала. Даю вам слово, Дэйзи заплатит деньги, которые я должен. Клянусь…
— Нет.
— Но почему, Господи? Вы что, боитесь, что не получите обратно свои деньги?
— Нет.
— Ну тогда дайте мне уйти, выпустите меня.
— Ваша дочь рассчитывает, что увидит вас здесь. Поэтому она должна встретиться с вами.
— Ее все равно не обрадует то, что я приехал ей сообщить. Но мне казалось, я должен был это сказать, это был мой долг. Затем у меня замерзли ноги, и я зашел в бар, чтобы немного согреться, и…
— Что вы хотели ей сказать?
— Что я снова женился. Для Дэйзи будет потрясением узнать, что у нее новая мачеха. Может, мне лучше сообщить ей эту новость не так сразу, ну, скажем, написать письмо. Вот что я, пожалуй, сделаю, напишу ей письмо.
— Нет. Вы никуда отсюда не уйдете, Филдинг.
— Да с чего вы взяли, что Дэйзи хочет меня видеть? Может, она, как и я, страшится нашей встречи. Послушайте, вы тут говорили, что я тунеядец. Верно. Я это признаю. Но я вовсе не хочу, чтобы она об этом знала.
С вызывающим видом он сделал несколько шагов к двери.
— Я ухожу. Вы не можете меня остановить, слышите? Вы не можете меня остановить. У вас нет никакого права…
— Заткнись. — Пината почувствовал, что время пришло. Он открыл ящик стола и вытащил оттуда бутылку виски, отвернул пробку. — Вот. Подкрепи-ка свою смелость.
— Вы разговариваете прямо как чертов проповедник, — пробормотал Филдинг. Он схватил бутылку и сделал несколько глотков прямо из горлышка. Затем, без всякого предупреждения, неожиданно рванулся к двери, прижав бутылку к груди.
Пината не стал бросаться за ним в погоню. Пожалуй, он был даже рад, что Филдинг убежал: встреча «Дэйзи, детки» с ее папашей вряд ли стала бы веселым зрелищем.
Он подошел к окну и посмотрел вниз. Филдинг бежал по тротуару под проливным дождем, все еще прижимая бутылку к себе, легко и быстро, довольно неожиданно для своего массивного тела, словно он только и занимался в своей жизни тем, что бегал от кого-нибудь.
«Дэйзи, детка, — подумал Пината, — ох, какой тебя ждет сюрприз».
5. Эта мысль скрашивала мою ужасную жизнь, уменьшала те муки, которые мне приходилось терпеть
Буквы на двери длинного темного коридора складывались в табличку «Стивенс Пината. Освобождение под залог. Расследования. Входите, пожалуйста». Дверь была приоткрыта, и Дэйзи без труда разглядела находившегося в комнате темноволосого молодого человека с резкими чертами лица, крутившего в руках машинописную ленту. Он вскочил с места, как только почувствовал ее присутствие, на лице его мелькнула тревожная улыбка. Это ей не слишком понравилось. Словно она застала его врасплох за чем-то неприличным.
— Миссис Харкер? — спросил он. — Меня зовут Стив Пината. Садитесь, пожалуйста. Позвольте мне взять ваше пальто. Оно промокло.
Она не шелохнулась, не собираясь ни садиться, ни расстегивать свой в розовую клетку плащ.
— Где мой отец?
— Он ушел несколько минут назад, — ответил Пината. — У него назначена важная встреча в Лос-Анджелесе, он просто не мог больше ждать.
— Он? Он не мог подождать всего несколько минут после стольких лет разлуки?
— Это очень важная встреча. Он просил меня обязательно передать вам, насколько он огорчен и что он свяжется с вами в самое ближайшее время.
Ложь далась ему очень легко. В нее поверил бы практически любой, за исключением Дэйзи.
— Он совершенно не хотел видеть меня, ему нужны были деньги. Верно?
— Все не так просто, миссис Харкер. У него сдали нервы. Ему было стыдно.
— Я выпишу вам чек. — Резким движением деловой женщины, у которой нет ни времени, ни желания демонстрировать эмоции, она вытащила из сумочки чековую книжку. — Сколько?
— Двести тридцать долларов. Двести долларов штраф, десять — непосредственная плата за мои услуги, двадцать — комиссионные, десять процентов от суммы штрафа.
— Понятно.
Отказавшись от пододвинутого стула и нагнувшись над столом, она выписала чек.
— Правильно?
— Да. Благодарю вас. — Он положил чек в карман. — Мне очень жаль, что так получилось, миссис Харкер.
— Напрасно. Мне нет. Я так же труслива, как и он, может быть, даже больше. Я очень рада, что он убежал от меня. Я хотела его видеть ничуть не больше, чем он меня. Один-единственный раз он совершил хороший поступок. О чем же тут жалеть, мистер Пината?
— Я подумал, что вы будете разочарованы.
— Разочарована? Да что вы. Ни в коем случае. Ни капельки.
Тут она неожиданно опустилась на стул, неловко и неуклюже, словно потеряла равновесие под чрезмерной для нее тяжестью.
«Дэйзи, детка, — подумал Пината, — собирается заплакать».
В своей работе Пинате не раз приходилось видеть самые разнообразные манеры плача и рыданий: от быстро моргающих глаз до непроизвольно сжимающихся и разжимающихся кулаков. Он ждал неизбежного, проклиная себя за то, что не может предотвратить ее рыданий, пытаясь придумать какие-то слова, которые прозвучали бы как ободрение, но ни в коем случае не как сочувствие, потому что сочувствие всегда вело к слезам.
Прошло две минуты, потом три, и Пината начал постепенно осознавать, что неизбежного не произойдет. Когда она заговорила, ее вопрос застал его врасплох. Он не имел ничего общего с темой давно утраченных отцов.
— Какого рода дела вы расследуете, мистер Пината?
— Ничего серьезного, — признался он.
— А почему?
— В городке вроде нашего мои услуги не пользуются особым спросом — те, кому нужен детектив, нанимают его в Лос-Анджелесе. Большей частью я работаю на частных адвокатов в округе.
— Какова ваша квалификация?
— А какая мне нужна квалификация, чтобы помочь вам в разрешении ваших проблем?
— Я не говорила, что есть проблемы, тем более у меня.
— Люди обычно не задают мне подобных вопросов, если у них нет какого-то конкретного предложения.
На мгновение она задумалась, прикусив нижнюю губу.
— Проблема действительно существует. Отчасти она связана со мной. Отчасти с другим человеком.
— С вашим отцом?
— Нет. Он не имеет к этому никакого отношения.
— Муж? Приятель? Свекровь?
— Еще не знаю.
— Но хотели бы узнать?
— Я должна узнать.
Она снова замолчала, склонив голову набок, словно прислушивалась к какому-то внутреннему спору. Он не торопил ее, он даже не слишком заинтересовался этим делом. Она выглядела женщиной, чей самый черный секрет можно было вывести при помощи небольшого количества хлорки.
— У меня есть основания подозревать, — наконец произнесла она, — что в конкретный день четыре года назад со мной случилось что-то ужасное. Я не могу вспомнить, что это было. Я хочу, чтобы вы помогли мне выяснить, что же произошло.
— Помочь вам вспомнить?
— Да.
— Простите великодушно, но это не входит в число оказываемых мною услуг, — сказал он откровенно. — Я мог бы помочь вам найти потерянное ожерелье, пропавшего человека, но потерянный день… Нет.
— Вы меня не поняли, мистер Пината. Я вовсе не прошу вас погружаться в мое подсознание как психиатра. Мне нужна ваша помощь, физическая помощь. Все остальное сделаю я сама.
Она внимательно посмотрела на него, пытаясь разглядеть на лице собеседника хоть какую-то заинтересованность. Он невозмутимо смотрел в окно, словно не слышал, что она говорит.
— Вы когда-нибудь пытались восстановить прошедший день, мистер Пината? Не особенный день, как Рождество или какая-то годовщина, а обыкновенный день. Пытались?
— Нет.
— Представьте, что вас к этому вынудили. Скажем, полиция обвинила вас в преступлении, и вам необходимо точно восстановить, где вы были и чем занимались, например, в такой же день два года назад. Сегодня девятое февраля. Вы можете вспомнить что-нибудь особенное про девятое февраля? Вы можете вспомнить что-нибудь особенное про девятое февраля двухлетней давности?
Он задумался, прищурив глаза.
— Пожалуй, нет. Ничего особенного. Я помню только общие обстоятельства своей тогдашней жизни, где я жил и так далее. Полагаю, если это был рабочий день, то проснулся и отправился на работу.
— Полиция не примет ваших предположений, они потребуют фактов.
— Что ж, тогда я признаю себя виновным, — улыбнулся он ей.
Но Дэйзи было не до улыбок.
— А как бы вы поступили, мистер Пината? Как бы вы стали искать интересующие вас факты?
— Первым делом я бы просмотрел свои бумаги. Давайте прикинем. Девятое февраля два года назад. Суббота. Субботние вечера у меня обычно весьма загружены — по субботам больше арестов. Так что я просмотрел бы полицейские архивы, может быть, я натолкнулся бы на дело, которое помню.
— А если нет ни архивов, ни записей?
Зазвонил телефон. Пината поднял трубку и коротко переговорил с собеседником, в основном отвечая «нет».
— У каждого есть какие-то записи.
— У меня нет.
— Дневник? Банковские отчеты по счетам? Счета из магазинов? Корешки чековой книжки?
— Нет. Всем этим занимается муж.
— А как насчет чека, который вы мне выписали? Разве он не с вашего личного счета?
— Конечно, но я их не так часто выписываю, и, кроме того, я не смогу найти корешки от чеков четырехлетней давности.
— Может быть, ежедневник?
— Я выкидываю ежедневники в конце каждого года, — ответила Дэйзи. — Но когда-то у меня был дневник.
— Как давно?
— Точно не помню. Я как-то потеряла к нему интерес — со мной не происходило ничего, что стоило бы записать, ничего волнующего и интересного.
«Ничего волнующего, — подумал он. — И вот теперь она рыщет в поисках потерянного дня, как школьник на летних каникулах, умирающий от тоски и скуки, ищет какого-нибудь занятия, игры или развлечения. Что ж, Дэйзи, детка, времени для игр у меня нет, и играть с тобой я не буду».
— Мне очень жаль, миссис Харкер, но, как я уже сказал, подобными разысканиями я не занимаюсь. Вы напрасно потратите деньги.
— Мне приходилось понапрасну тратить деньги и раньше. — Она упрямо посмотрела на него. — Кроме того, вы озабочены совсем не тем, что я потрачу деньги, а тем, что вы потратите время. Вы не поняли — я не смогла вам разъяснить, насколько это важно для меня.
— Почему это для вас так важно?
Ей хотелось рассказать ему про сон, но она боялась его реакции. Рассказ мог позабавить его, как Джима, вызвать у него чувство раздражения и презрения, как у Адама, досаду, как у матери.
— Я не могу объяснить вам это прямо сейчас.
— Почему?
— Вы и так настроены чрезвычайно скептически и подозрительно по отношению ко мне. Если я расскажу все остальное, что ж, вы решите, что я явно сумасшедшая.
«Нет, она скучает, — подумал Пината. — Но не сумасшедшая. Если только чуть-чуть».
— Я думаю, вам лучше в любом случае рассказать мне все остальное, по крайней мере нам станет легче понимать друг друга. Порой меня просили о довольно забавных поручениях, но искать потерянный день — это уж простите…
— Я не теряла день. Он вовсе не потерян. Он спрятался где-то поблизости, тут или там, но куда уходят прошедшие дни и прежние годы? Они не исчезают просто так, превратившись в ничто. Их можно найти, они спрятались, но не пропали.
— Понятно, — произнес Пината, подумав, что «Дэйзи, детка» совсем не слегка сумасшедшая, а вполне рехнувшаяся особа. Тем не менее он почувствовал, что в нем против воли просыпается интерес; он, правда, не был уверен, интересно ли ему дело или сама Дэйзи, или оба эти фактора были уже неразделимы в его сознании. — Но если вы не помните этот день, миссис Харкер, почему вы так уверены, что он для вас важен?
Это был практически тот же вопрос, который задал ей Адам. Она не смогла дать ему тогда внятный ответ, не было его и сейчас.
— Я просто знаю это. Иногда люди узнают что-то разными путями. Вы знаете, что я здесь, потому что видите и слышите меня. Но есть и другие способы узнавания, выходящие за границу пяти чувств. Многое из этого еще не получило объяснения… Я хотела бы, чтобы вы перестали смотреть на меня таким образом.
— Каким?
— Словно вы ждете, что сейчас я вскочу и объявлю: «Меня зовут Жозефина Бонапарт» — или нечто в этом роде. Я вполне нормальна, мистер Пината. И разумна, если эти два качества могут существовать рядом в этом сумбурном мире.
— Я полагал, что это одно и то же.
— Нет, нет, — ответила она подчеркнуто вежливо. — Нормальность предопределяется культурой и условностью. Если вы живете в безумной культуре, тогда вам приходится быть неразумным, чтобы приспособиться к ней. Абсолютно же разумный человек неизбежно признает, что культура безумна, и откажется ей подчиняться. Но, отказавшись подчиняться, он будет воспринят как безумный в данном конкретном обществе.
Пината смотрел на нее с изумлением и раздражением, так, словно его ручной попугай, которого он научил произносить несколько простых фраз, неожиданно принялся объяснять технику ядерного распада.
— Здорово у вас получилось, — сказал он наконец.
— Что получилось?
— То, как вы сменили тему. Как только разговор стал для вас не слишком приятен, вы тут же перешли на другое. Что же именно вы не хотите мне рассказывать, миссис Харкер?
«Он честен, — подумала Дэйзи. — И не пытается делать вид, что знает то, чего не знает, или по крайней мере преувеличить степень своего знания. Он даже не слишком старается скрыть свои чувства. Пожалуй, я могу ему доверять».
— Мне приснился сон, — сказала она и прежде, чем он успел сказать, что не занимается толкованием снов, рассказала о прогулке по берегу с Принцем и о могильной плите с ее именем на ней.
Пината дослушал ее до конца, ни единым звуком не пытаясь откликнуться на то, что она говорила. Затем он спросил:
— А кому-нибудь еще вы рассказывали об этом сне, миссис Харкер?
— Своей матери, мужу, его зовут Джим, его приятелю, Адаму Барнетту. Он по профессии адвокат.
— И какова была их реакция?
Она посмотрела на него и сухо улыбнулась:
— Мать и Джим решили, что мне нужно принимать витамины и забыть обо всем этом.
— А этот адвокат, мистер Барнетт?
— Он больше других понял, насколько для меня важно выяснить, что произошло. Но он меня предупредил.
— О чем именно?
— Случившееся в тот день, что бы это ни было, привело к моей, — она сделала паузу, — к моей смерти и должно было быть чем-то очень неприятным, мне не следовало бы в этом копаться. Я от этого ничего не выиграю, а потеряю очень много.
— И тем не менее вы хотите продолжить свои поиски?
— Вопрос так не стоит, хочу я или не хочу. Должна. Понимаете, мы собираемся взять в семью ребенка.
— Ну и что?
— Речь пойдет не только о моей жизни или о жизни Джима, с нами будет ребенок, и я должна быть уверена, что он попадет в подходящий для него дом, безопасный и счастливый.
— В данный момент вы полагаете, что дом ему не слишком подходит.
— Для того чтобы быть уверенной, я должна все выяснить. Ну вот, скажем, мистер Пината, вы купили дом и прожили в нем какое-то время довольно комфортабельно. Затем что-то происходит: приезжает, к примеру, важный гость. Вы решаете проверить свой дом и обнаруживаете серьезные строительные изъяны. Вызвали ли бы вы опытного подрядчика, дабы выяснить, что он может предпринять для устранения дефектов? Или остались бы сидеть на месте с закрытыми глазами и делать вид, что все прекрасно?
— Довольно смелая аналогия, — заметил Пината. — Все это означает, что вы настроены добиться задуманного, невзирая на возможные последствия.
— Я не ребенок, требующий плитку шоколада.
«Нет, — подумал Пината, — ты взрослая женщина, требующая плитку динамита. Вся беда в том, что тебе не нравится собственная жизнь, собственный дом. Ты боишься принять под эту крышу ребенка и хочешь взорвать ее, чтобы прекрасные обломки долетели до неба, и смотреть на то, что посыплется тебе на голову».
Снова зазвонил телефон. На этот раз звонила женщина, убиравшая в его квартире. Она сообщила, что протекла крыша в кухне и одной из спален, и напомнила, как еще в прошлом году говорила о необходимости перекрыть кровлю.
— Сделайте все, что в ваших силах. Я подъеду к пяти, — попросил Пината и повесил трубку, огорченно вздохнув. Новая крыша стоит денег, а Джонни нужно было лечить зубы. «Нет у меня денег на новую крышу. Зато они есть у Дэйзи. Если она готова взорвать свой дом, я по крайней мере могу использовать его обломки для строительства собственного».
— Хорошо, — сказал он. — Я помогу вам, миссис Харкер. Если смогу, причем саму затею я не одобряю.
Было видно, она довольна, хотя и пытается не демонстрировать того, насколько она рада, что вот-вот начнется новая увлекательная игра.
— Когда мы начнем?
— Пару ближайших дней я буду занят, — неизбежная ложь, без которой не обойтись, эти два дня ему давали возможность узнать кое-какие факты из жизни Дэйзи, а ей — отказаться от задуманного. — Встретимся в четверг в полдень.
— Я рассчитывала, что прямо сейчас…
— Увы. Я занят.
— Тем, что дрожите от страха?
— Допустим.
— Вам, естественно, необходимо время, чтобы выяснить, насколько я близка к полному безумию? Я, конечно, не могу вас осуждать. Если бы какая-нибудь женщина пришла ко мне и рассказала нечто похожее, скажу вам честно, я бы тоже ее заподозрила. Единственное, хочу вам заметить, нет никакого смысла играть в прятки. Я полностью готова ответить на любой ваш вопрос: возраст, вес, образование, происхождение, религиозные предпочтения…
— У меня нет вопросов, — сказал он, чувствуя раздражение, — тем не менее увидимся в четверг.
— Очень хорошо. Я приду к вам сюда?
— Встретимся в три часа дня у входа в редакцию «Монитор-пресс», если это вас устроит.
— Не слишком ли это, ну скажем, людное место для встречи?
— Я не знал, что мы должны соблюдать конспирацию.
— Нет, конечно, но к чему такая реклама?
— Секундочку, миссис Харкер. — Пината подался вперед, навалившись грудью на стол. — Скажите откровенно. Собираетесь ли вы сообщить мужу и семье, что наняли меня?
— Я не думала об этом. Я даже не собиралась нанимать вас до того момента, когда увидела табличку на двери. По-моему, это судьба.
— Миссис Харкер! — произнес он укоризненно.
— В самом деле. Словно кто-то вел меня сюда.
— Скорее завел. Это слово больше подходит.
Взгляд ее был спокоен и решителен.
— Вы все сделали для того, чтобы убедить себя не заниматься этим делом. Почему?
— Потому что мне кажется, вы совершаете ошибку. Нельзя восстановить только один-единственный день. Может оказаться, что это целая жизнь. Вы поднимете всего несколько камней. Вдруг вам не понравится то, что окажется под ними. — С этими словами он поднялся, словно уйти предстояло ему. — Что ж, каждый сам хоронит своих мертвецов.
— Не совсем точно, — возразила она. — Это меня похоронили.
Он прошел с ней к двери и распахнул ее. В длинном темном коридоре пахло свежим дождем и старой мастикой.
— Кстати, — небрежно спросила Дэйзи, словно этот вопрос ее совсем не волновал. — Мой отец оставил у вас свой адрес в Лос-Анджелесе?
— Он назвал адрес в полиции, когда его арестовали. Я переписал его из журнала регистрации задержанных.
Пината записал адрес на внутренней стороне спичечного коробка, теперь он вытащил его из кармана и протянул Дэйзи.
— Делани-авеню, 1074, Западный район. На вашем месте я бы не стал его там разыскивать.
— Почему?
— В Лос-Анджелесе нет такой улицы.
— Вы уверены?
— Полностью.
— Но какой смысл ему было врать?
— Я не умею читать мысли, гадать по руке или на чаинках. Ее нет на карте города. Ни в одном из районов.
Она смотрела на него с таким выражением, словно была уверена, что он обнаружил бы эту пропавшую улицу, если бы чуть-чуть постарался.
— Я верю вам на слово.
— В этом нет необходимости. На любой заправке в городе вас с удовольствием ознакомят с картой Лос-Анджелеса, и вы можете убедиться сами. Когда будете этим заниматься, поищите заодно склад электрической компании Харриса на Фигероа-стрит. Филдинг утверждал, что он там якобы работает.
— Якобы?
— Нет никаких оснований полагать, что и в этом случае он говорил правду. По-моему, он из тех, кто предпочитает жить в одиночку до того момента, когда ему понадобится какая-то помощь.
— Складывается впечатление, что он вам не слишком понравился.
— Он мне понравился, — сказал Пината искренне, — но в больших дозах он утомляет.
— А пьет он, — она сделала паузу, — много?
— Он пьет, много ли, не знаю. Он рассказал мне кое-какие новости из своей жизни и, видимо, хотел, а может быть, и нет, чтобы я передал вам.
— Какие же?
— Он снова женился.
Она не отрываясь смотрела в конец длинного темного коридора, словно видела в его полутьме знакомые силуэты.
— Женился? Что ж, ему не так много лет. Казалось бы, чему тут удивляться. И все же я удивлена. Это кажется неправдоподобным.
— Я уверен, что он сказал правду.
— Кто эта женщина?
— Он ничего о ней не говорил.
— И даже имени не назвал?
— Я полагаю, — сухо заметил Пината, — ее зовут миссис Филдинг.
— Я хотела сказать… впрочем, это не важно. Надеюсь, она хорошая женщина. Я рада, что он снова женился. — В голосе ее, однако, не слышалось ни радости, ни надежды. — По крайней мере хоть кто-то отвечает за него теперь. Неизвестная мне женщина сняла тяжелый груз с моих плеч, и я ей благодарна. Пусть они будут счастливы. Если вы его увидите или он вам позвонит, передайте, пожалуйста, мои поздравления.
— Я вовсе не собираюсь получать от него весточку.
— Мой отец непредсказуемый человек.
«Как и ты, Дэйзи, детка, — подумал Пината. — Возможно, что у тебя и твоего папули куда больше общего, чем ты хотела бы допустить».
Он проводил ее до первого этажа.
Дождевая вода с крыши натекла на крыльцо, и коврик у входной двери издал хлюпающий звук, когда Дэйзи вышла из здания.
Вечером она в подробностях рассказала Джиму о неожиданном появлении отца в городе: о первом звонке из тюрьмы, который намеренно скрыла миссис Филдинг, о втором звонке, сделанном из офиса Пинаты, о несостоявшейся встрече, поскольку Филдинг убежал. Она рассказала Джиму обо всем, кроме одного, хотя последний факт заинтересовал бы его более всего. Она не стала говорить, что наняла детектива, о котором она не знала ничего, только имя и фамилию.
— Итак, твой отец снова женился, — заметил Джим, раскуривая трубку. — Что ж, с этим не поспоришь, естественно. Может, это лучшее, что он совершил в своей жизни. Ты должна быть очень довольна.
— Я довольна.
— Ему пойдет на пользу то, что у него теперь будет своя жизнь.
— А что еще у него было все годы?
— Не надо сердиться, — сказал Джим, стараясь быть особенно убедительным, с нажимом в голосе. Сложное сочетание верности отцу и обиды, чувствовавшееся у Дэйзи, вызвало у него раздражение. Сам он не слишком волновался о Филдинге и даже о деньгах, которые приходилось на него тратить. По правде сказать, он подумал, что Дэйзи весьма толково вложила деньги, если это поможет держать Филдинга на расстоянии. Лос-Анджелес был не слишком далеко, в какой-то сотне километров, но он надеялся, заботясь прежде всего о Дэйзи, что Филдинга быстро утомит атмосфера города, смог, транспорт, условия существования и он отправится в обратную сторону, к восточному побережью или на Средний Запад. Джим куда лучше Дэйзи знал, насколько сложно сохранять семейные узы, когда они уже ничего не связывают и слишком ветхи, чтобы их можно было перевязать заново.
Последний раз он видел своего тестя пять лет назад в Чикаго. Он приехал туда по делам. Они встретились у здания муниципалитета, и все поначалу шло прекрасно: Филдинг делал все возможное, чтобы очаровать зятя, а Джим старался изо всех сил показать, насколько он очарован. Но к десяти вечера Филдинг уже изрядно набрался и неустанно бормотал о том, что у Дэйзи никогда не было настоящего отца:
— Ты будешь хорошо заботиться о моей девочке, понял? Бедняжка Дэйзи. Ты о ней позаботишься! Слышишь, ты, ничтожество!
Чуть позднее пара крепких официантов запихнула Филдинга в такси, а Джим сунул ему три двадцатки в карман давно не глаженной рубашки.
«Ну что же, я о ней позаботился неплохо, — думал теперь Джим, — по крайней мере в пределах моих возможностей. Я не сделал ни одного шага, не подумав о ее благополучии. А иногда принимать решения было очень трудно, как в случае с Хуанитой. Она никогда не вспоминает Хуаниту. Тот уголок ее мозга, где лежат воспоминания об этой женщине, запечатан намертво, как могила».
Трубка потухла. Он раскурил ее снова и сидел, попыхивая дымом. Звук этот неожиданно напомнил ему голос Филдинга: «Ты будешь хорошо заботиться о моей девочке, слышишь, ты, ничтожество!»
6. Возможно, это письмо никогда до тебя не дойдет Если так случится, я знаю причину
Через два дня, в среду, Джим Харкер вернулся домой в поддень, примерно на час раньше, чем обычно. Машины Дэйзи в гараже не было, почта лежала в ящике. Это значило, что Дэйзи уехала и еще не появлялась, поскольку почту доставляли к полудню. Без нее дом казался совершенно вымершим, хотя с первого этажа и доносился гул пылесоса и кусочки печальных песен, которые напевала Стелла веселым громким голосом.
Бросив почту на обеденный стол, он начал ее просматривать и был крайне удивлен, когда обнаружил счет на два с половиной доллара от Адама Барнетта, выписанный за оказанные услуги 9 февраля.
Счет удивил его по нескольким причинам: во-первых, Дэйзи поехала повидать Адама, ничего ему не сказав, во-вторых, крошечной оказалась сумма, предъявленная к оплате, меньше минимального адвокатского гонорара, кроме того, время поступления чека также было необычным. Адам послал его сразу после визита Дэйзи, не дожидаясь конца месяца, когда он обычно рассылал счета клиентам. Подумав, он заключил, что таким образом Адам хотел проинформировать его о визите жены, не нарушая этических моментов, требующих конфиденциальности в отношениях адвоката и клиента.
Пяти еще не было, и он позвонил в кабинет Адама:
— Будьте добры, мистера Барнетта. Это Джим Харкер.
— Секундочку, мистер Харкер. Мистер Барнетт уже вышел, но думаю, я смогу его догнать. Подождите, пожалуйста.
Через минуту в трубке раздался голос Адама:
— Привет, Джим.
— Я получил сегодня твой счет.
— А, это, — в голосе Адама звучало смущение, — я и не собирался его посылать, но Дэйзи настояла.
— Я и не знал, что она собиралась с тобой встречаться, пока не увидел счет.
— Неужели?
— И что она хотела?
— Послушай, Джим, Дэйзи сама расскажет тебе, если захочет. При чем тут я?
— Ты направил счет мне, и я предположил, что ты хотел таким образом дать мне знать, что она у тебя консультировалась.
— Ну конечно. Я подумал, хорошо бы поставить в известность и тебя.
— Хватит адвокатского трепа, — в голосе Джима прозвучали резкие нотки. — Она приходила к тебе по поводу… по поводу развода?
— Господи, нет, конечно. С чего это взбрело тебе в голову?
— Обычно женщины посещают адвокатов по этой причине. Верно?
— Как правило, нет. Они составляют завещания, подписывают контракты, заполняют налоговые декларации…
— Хватит ходить вокруг да около.
— Хорошо, — сказал Адам, тщательно выбирая слова. — Я случайно встретил Дэйзи на улице вскоре после полудня. Она, казалось, была чем-то озадачена и очень хотела поговорить. Мы побеседовали. Смею думать, что я дал ей хороший совет, и она его приняла.
— Касалось ли это конкретного дня четыре года назад?
— Да.
— И она ни слова не сказала о разводе?
— Нет, конечно. Где ты взял эту идиотскую мысль? Во всем поведении Дэйзи не было ни малейшего намека на то, что она вынашивает в себе подобный замысел. Кроме того, в Калифорнии она развода не получит. У нее нет для него оснований.
— Ты забыл кое о чем, Адам.
— Это было очень давно, — последовал быстрый ответ. — Что у вас там с Дэйзи происходит? Куда более мрачные семьи…
— Все было прекрасно до воскресенья, когда ей приснился этот чертов сон. Мы отлично ладили. За восемь лет нашей жизни последний год был самым лучшим, честное слово. Она наконец привыкла к мысли, что у нее не будет детей. Ну, может быть, не привыкла, но смирилась, и она с нетерпением ждала, когда у нас появится приемыш. По крайней мере ждала до того момента, пока ей не привиделась эта чертовщина. Вот уже три дня она ни слова не говорит о возможном ребенке. У тебя восемь, и ты прекрасно знаешь, как задолго до самого события начинается подготовка, разговоры и все остальное. Вот это неожиданное исчезновение интереса меня очень смущает. Может, она вообще не хочет ребенка. Но если она его не хочет, если она передумала, то зачем же нам брать ребенка. Это нехорошо.
— Ерунда. Конечно же, она хочет ребенка. — Адам говорил очень уверенно, хотя не имел ни малейшего представления о том, как обстояли дела в действительности. Дэйзи, подобно большинству других женщин, всегда озадачивала его. То же самое будет и в будущем. Самым разумным было предположить, что она действительно хотела иметь собственных детей и мысль о необходимости усыновления вызывала у нее подсознательное отвращение. — Сон ее смутил, Джим. Прояви терпение. Дай ей наиграться.
— Это может ей серьезно повредить.
— Не думаю. По правде сказать, я убежден, что все это дело с могилой скоро канет в Лету.
— Как это?
— А так. Это может кончиться только так. Она пытается сделать невозможное.
— Почему ты так уверен, что это невозможно?
— Потому что я попытался сделать то же самое. Меня заинтриговала сама мысль выбрать наугад день из прошлого и восстановить его. Если бы речь шла только о деловой встрече, я бы посмотрел свой рабочий блокнот. Но здесь-то речь шла о личных делах. Как бы то ни было, в понедельник вечером, уложив детей, мы с Фрэн попытались сделать нечто подобное. Для того чтобы выбрать совершенно случайный день, мы наугад ткнули ручкой в один из календарей. И ют, у Фрэн ведь великолепная память, кроме того, она ведет записи на всех детей, хранит детские книжки, записки из школы, рисунки и все остальное. Но мы не смогли продвинуться даже на один шаг. Уверен, Дэйзи ждет то же самое. Это только на первый взгляд кажется очень простым делом. Но после того, как Дэйзи несколько раз обожжется, она потеряет интерес и бросит свои разыскания. Так что дай ей позабавиться. А лучше поучаствуй вместе с ней.
— Как?
— Попытайся вспомнить сам, что было в этот день. Я, например, забыл все начисто.
— Если даже ты не продвинулся ни на шаг, что же должен делать я?
— Ничего. Просто подыграй ей.
— Не думаю, что Дэйзи можно обмануть, — сухо заметил Джим, — может, мне лучше чем-то отвлечь ее внимание, взять ее, скажем, с собой в поездку. В конце недели мне нужно поехать на север, посмотреть клочок земли в округе Марин. Я возьму Дэйзи с собой. Ей всегда нравился Сан-Франциско.
Он переговорил об этом с Дэйзи вечером, перед самым ужином, подробно описав ей всю поездку: обед в роскошном мотеле, остановка в экзотическом ущелье, ужин в прекрасном ресторане, спектакль в одном из самых замечательных театров и так далее. Она посмотрела на него так, словно он предложил ей путешествие на Луну в космической ракете, выигранное по вкладышу из коробки кукурузных палочек.
Отказ прозвучал резко и откровенно, без обычных для нее раздумий:
— Я не могу.
— Почему?
— У меня важное дело.
— Какое именно?
— Я занимаюсь, скажем так, исследованием.
— Исследованием? — Он произнес это слово так, словно оно звучало на другом языке. — Я несколько раз пытался поговорить с тобой по телефону, но тебя снова не было дома. Все дни недели ты отсутствуешь дома днем.
— Между прочим, с начала недели прошло всего три дня.
— Ну и что?
— Ужин и завтрак я подаю тебе вовремя, — возразила она, — в твоем доме полный порядок.
Легкий, но ощутимый нажим, сделанный ею на слове «твой», резанул Джиму ухо, словно она собиралась куда-то выехать и более не желала иметь ничего общего с их жилищем.
— Это наш дом, Дэйзи.
— Хорошо, наш дом. В нем полный порядок?
— Да, конечно.
— Тогда почему тебя беспокоит то, что я выхожу, когда ты на работе?
— Это меня не беспокоит, я волнуюсь за тебя. Дело не в том, что ты выходишь, а в твоем отношении.
— Что тебе не нравится в моем отношении?
— Неделю назад ты не стала бы задавать этот вопрос, особенно в таком тоне, словно ты хочешь со мной разругаться… Что с нами происходит, Дэйзи?
— Ничего.
Она прекрасно знала, что происходит, точнее, что произошло. Она перестала играть свою обычную роль, сменила реплики и костюмы, и теперь волноваться начал уже постановщик, поскольку он не знал, что за пьесу он ставит. «Бедный Джим», — подумала она и взяла его за руку.
— Ничего.
Они рядышком сидели на кушетке. В доме было тихо. Дождь на какое-то время прекратился, Стелла, пережившая еще один день за городом, ушла домой, миссис Филдинг с приятельницей отправились на концерт. Принц спал, растянувшись у камина, на своем обычном месте — он всегда занимал его в плохую погоду. Даже когда в очаге не было огня, пес любил вспоминать тепло прежних вечеров.
— Давай честно, Дэйзи, — сказал Джим, легонько сжимая ее руку. — Я ведь не из тех мужей, кто требует, чтобы жена только сидела дома и больше ничем не интересовалась. Разве я не поощрял все твои хобби?
— Поощрял.
— Ну так что? Чем ты занималась?
— Гуляла.
— Под проливным дождем?
— Да.
— И где же ты гуляла?
— Около нашего старого дома.
— Но зачем?
— Потому что мы жили именно там, когда я… — «Умерла», — мысленно добавила она. — Когда это случилось.
На лице Джима появилось такое выражение, словно Дэйзи неожиданно ущипнула его за нижнюю губу.
— Неужели ты думаешь, что причины случившегося все еще там, будто какая-нибудь мебель, которую мы забыли перевезти сюда?
— В каком-то смысле да.
— В этом случае тебе следовало подойти к двери и посмотреть. Поинтересоваться у новых жильцов, можно ли тебе поискать потерянный день на чердаке.
— Там никого не было.
— Господи! Ты хочешь сказать, что и впрямь пыталась войти?
— Я позвонила в дверь. Никто не откликнулся.
— Слава Богу. Что бы ты сказала, если бы дверь открыли?
— Только то, что я когда-то жила здесь и хотела бы еще раз взглянуть на дом.
— Чем давать тебе повод для подобных демонстраций, — сдержанно заметил он, — я уж лучше выкуплю этот дом для тебя снова. Тогда ты сможешь все дни напролет сидеть в нем, обыскивать каждую щель этого чертова дома, рассматривать весь хлам, который обнаружишь.
Она выдернула руку. Какое-то время ей казалось, что между ними установилась внутренняя связь, но теперь этот хрупкий мостик смыла волна его злой иронии.
— Я вовсе не роюсь в поисках хлама. Я больше не собираюсь устраивать демонстраций. Я пошла туда только потому, что думала: если я окажусь в той же обстановке, что и прежде, то смогу вспомнить нечто ценное.
— Ценное? Золотую секунду своей смерти, да? По-моему, все это немножко ненормально. Когда это ты так полюбила идею смерти?
Она резко встала и прошла в противоположный конец комнаты, словно стараясь скрыться от его жалящего сарказма. По ее реакции он понял, что зашел слишком далеко, и сменил тон:
— Неужели тебе так тосклива твоя нынешняя жизнь, Дэйзи? Ты думаешь, что просто не жила все последние четыре года? Твой сон об этом?
— Нет.
— А я в этом просто уверен.
— Но ведь это не твой сон.
Принц проснулся и переводил взгляд с Дэйзи на Джима и обратно, будто зритель на теннисном матче.
— Я не хочу с тобой спорить, — сказала Дэйзи. — Это огорчает собаку.
— Огорчает кого? Боже правый. Ладно, ладно, мы не станем спорить. Мы ни в коем случае не можем огорчить собаку. Все в порядке, даже если для этого всех нас нужно превратить в лепечущих идиотов. Мы всего-навсего люди и не заслуживаем лучшей доли.
Дэйзи поглаживала мягкими успокаивающими движениями голову Принца, ее прикосновения должны были сказать ему, что все в порядке, не следует доверять собственным глазам и ушам, не надо принимать происходящее всерьез.
«Надо ей подыграть, — подумал Джим, вспомнив совет Адама. — Бог знает почему не сработал мой собственный подход».
— Итак, ты вернулась на нашу улицу, — произнес он наконец, — и походила по ней.
— Да.
— И каковы же результаты?
— Поругалась с тобой, — с горечью ответила она. — Вот и все.
— Ты так ничего и не вспомнила?
— Ничего, что указывало бы на конкретный день.
— Надеюсь, ты понимаешь, что найти указания на конкретный день тебе, скорее всего, не удастся.
— Да.
— Но хочешь попробовать?
— Да.
— Несмотря на мои возражения?
— Да, если ты не передумаешь. — На какое-то мгновение она замолчала, рука ее замерла на собачьей шее. — Я вспомнила ту зиму. Может быть, это начало. Как только я увидела кусты жасмина на южной стороне дома, я вспомнила, что в тот год стояли сильные морозы, жасмин у нас полностью вымерз. По крайней мере я думала, что кусты погибли, они казались мертвыми. Но весной они ожили.
«А я нет. Жасмин оказался крепче, чем я. Для меня весна так и не наступила. Я не ожила».
— Это начало. Правда? То, что я вспомнила зиму.
— Думаю, да, — сказал он с трудом. — Думаю, это начало.
— Однажды снег покрыл даже верхушки гор, и старшеклассники бросили школу, чтобы подняться наверх и посмотреть на снег, потом они возвращались на машинах по Стейт-стрит, а кучки снега лежали на крыльях автомобилей. Они казались такими счастливыми. Многие из них видели снег впервые.
— Дэйзи!
— Мне всегда казалось, что снег в Калифорнии ненастоящий. Другое дело у нас дома, в Денвере. Там он был частью нашей жизни, причем не всегда приятной. В тот день мне тоже хотелось подняться и посмотреть на снег, как старшеклассникам, чтобы убедиться, что он настоящий, а не какой-нибудь искусственный, наваленный голливудскими аппаратами… Год страшных морозов, ты должен его помнить, Джим. Я заказала тогда машину дров для камина, но и представить себе не могла, что машина дров — это так много, и, когда их привезли, нам было негде их сложить, кроме как на улице под дождем.
Дэйзи страстно хотелось продолжить разговор. Ей казалось, что она сможет убедить его в важности своего замысла, в необходимости его осуществления. Джим больше не пытался ее перебить. Он с облегчением почувствовал, что Адам был прав: ее план нереален. Все, что она смогла вспомнить до сегодняшнего дня, — немножко снега на верхушке гор, старшеклассники, едущие вниз по Стейт-стрит, несколько замерзших кустов жасмина.
7. Твоя мать поклялась страшной клятвой никогда не дать нам встретиться, потому что она стыдится меня
На следующее утро в промежуток между временем ухода Джима на работу и появлением Стеллы она позвонила в контору Пинаты, хотя и не слишком надеялась, что он окажется на месте в такую рань, но после второго гудка трубку сняли, и Дэйзи услышала его голос, встревоженный и подозрительный, словно ему следовало опасаться ранних звонков:
— Да?
— Мистер Пината, это Дэйзи Харкер.
— Доброе утро, миссис Харкер, — голос его прозвучал неожиданно тепло, через секунду она поняла причину, — если вы хотите отменить нашу договоренность, я не имею ничего против. Я не стану предъявлять вам счет, а оставшиеся деньги перешлю по почте.
— Ваши экстрасенсорные способности сегодня утром работают не слишком хорошо, — холодно заметила она. — Я звоню исключительно для того, чтобы перенести место и время нашей встречи — на двенадцать в вашем кабинете вместо здания редакции.
— Почему?
Она сказала ему правду без всякого смущения:
— Вы молоды и привлекательны, и мне не хотелось бы, чтобы люди неверно истолковали нашу встречу.
— Как я понимаю, вы не сообщили семье о том, что наняли меня?
— Нет.
— Какова причина?
— Я пыталась, но мысль о еще одной ссоре с Джимом просто невыносима. Он по-своему прав, но и я права, с моей точки зрения. К чему спорить?
— Он обязательно узнает, — предупредил ее Пината. — Слухи в этом городе распространяются очень быстро.
— Я знаю, но, может быть, к этому времени все выяснится. Вы разрешите…
— Миссис Харкер, я не могу разрешить вашу проблему, крадучись по боковым аллеям парка, пытаясь избежать встреч с вашей семьей и вашими друзьями. Тот день, на котором вы сосредоточили свое внимание, принадлежит не только вам. К нему имеет отношение огромное количество людей, скажем около шестисот миллионов китайцев, если называть лишь некоторых.
— Мне как-то не очень ясно, какое отношение ко всему этому имеют шестьсот миллионов китайцев.
— Да это я так. Неудачная шутка. — Он вздохнул довольно громко.
«Нарочно вздыхает», — подумала она с раздражением.
— Итак, я буду ждать вас ровно в три перед зданием «Монитор-пресс», миссис Харкер.
— Разве принимает решения не тот, кто нанимает себе сотрудника?
— Наниматели, как правило, знают, в чем их проблемы, и имеют, таким образом, право распоряжаться. Я не думаю, что в конкретном случае это относится к вам, только не примите, Бога ради, то, что я говорю, за обиду. Так что, пока у вас не появится каких-то новых идей, мы будем следовать моему плану. У вас есть какие-то свежие соображения?
— Нет.
— Тогда я жду вас сегодня днем.
— Но почему в таком странном месте?
— Потому что нам потребуется помощь официальных инстанций, — пояснил Пината. — Редакция «Монитор» знает о том, что случилось 2 декабря 1955 года, куда больше, нежели вы или я в данный момент.
— Сомневаюсь, чтобы они хранили номера такой давности.
— Ну, не в том смысле, что они предлагают их на продажу. Но каждый выпущенный номер можно получить на микрофильме. Будем надеяться, что мы обнаружим что-нибудь интересное.
Они оба оказались в условленном месте в назначенный час. Пината потому, что пунктуальность стала его привычкой, а Дэйзи из-за необычайной важности для нее этой встречи. Весь день, с самого момента своего звонка Пинате, она испытывала нетерпение и волнение, словно подсознательно рассчитывала на то, что газета распахнет свои страницы и откроет ей нечто чрезвычайно важное. Возможно, в этот день в мире происходило какое-то из ряда вон выходящее событие, и, стоит только ей его напомнить, она вспомнит свою реакцию на него. Оно окажется тем гвоздем, на который она сможет повесить весь свой день, шляпу и пальто, платье и свитер и, наконец, женщину, носившую всю эту одежду.
Часы на башне здания суда отзванивали три, когда Пината подошел к входу в здание «Монитор-пресс». Дэйзи уже стояла рядом с дверью. В своем сером полотняном костюме широкого покроя она выглядела весьма неброско и немодно одетой. Он не знал, оделась ли она так для того, чтобы не привлекать к себе внимания, или это был один из последних фасонов. Он перестал следить за модой после того, как Моника ушла от него.
— Надеюсь, я не заставил вас ждать, — сказал он.
— Нет, нет. Я только что пришла.
— Библиотека на четвертом этаже. Мы можем подняться на лифте, или вы предпочитаете идти пешком?
— Лучше пешком.
— Я знаю.
Казалось, она слегка удивилась:
— Как вы могли это узнать?
— Я видел вас вчера днем.
— Где?
— На Лаурел-стрит. Вы гуляли под дождем. Я решил, что каждый, кто гуляет под дождем так, как вы, должен очень любить ходить пешком.
— Это было случайностью. У меня была конкретная цель.
— Я знаю. Вы жили на Лаурел-стрит с момента вашего замужества в июне 1959 года до октября прошлого года, если уж быть точным.
На этот раз к ее удивлению примешалось раздражение:
— Вы проверяли данные на меня?
— Самые общие сведения. Ничего конкретного.
Он прищурился, глядя на солнце, и потер глаза.
— Полагаю, что дом на Лаурел-стрит принес вам немало приятных воспоминаний.
— Конечно.
— Зачем же пытаться их уничтожить?
Она посмотрела на него так, как смотрят на ребенка, которому приходится раз за разом повторять одно и то же.
— Я даю вам, — сказал Пината, — еще одну возможность изменить свое решение.
— Я отказываюсь.
— Хорошо. Входите.
Они прошли через двустворчатые двери на шарнирах и двинулись вверх по лестнице. Какое-то время они шли словно незнакомые друг другу люди, случайно идущие в одном направлении. Их разделенность была предопределена Дэйзи. Она напомнила Пинате о том, что она сказала ему по телефону — про людей, которые могут подумать совсем не то, если увидят их вместе, поскольку он молод и привлекателен, и как бы ей этого не хотелось. Комплимент, даже если она и не собиралась его ему делать, смутил его. Он не любил, когда хорошо или плохо, но упоминали о его внешности, поскольку считал подобного рода ремарки неуместными.
В юности Пината очень остро переживал то, что он не знает своей расовой принадлежности и не может отождествить себя ни с одной из конкретных этнических групп. Но теперь, став взрослым человеком, он чувствовал, что отсутствие расовой определенности сделало его терпимым ко всем расам. Он был в состоянии воспринимать как брата любого человека, поскольку факты, которыми он располагал, позволяли ему это сделать. Фамилия Пината давала ему возможность легко находить общий язык с испано-американцами и мексиканцами, составлявшими значительную часть жителей их городка, хотя и не была его собственной. Он получил ее от матери-настоятельницы в детском приюте в Лос-Анджелесе, где его оставили.
Время от времени он посещал свой приют. Мать-настоятельница была очень стара, зрение и слух у нее становились все хуже, но разговаривала она по-прежнему как юная говорунья, когда Пината приходил к ней. Он был для нее самым близким из сотен воспитанников, ибо она сама обнаружила его в церкви в канун Рождества и назвала по этой причине Иисусом Пинатой. Поскольку мать-настоятельница постарела, ум ее уже не был гибким и любопытствующим и выбирал давно проторенные дорожки. Самая любимая из них вела в церковь в рождественский вечер тридцать два года назад!
— И там прямо перед алтарем лежал ты, крохотный малютка, весом не более пяти фунтов, завернутый в пеленки и кричащий так, что я подумала, твои легкие сейчас разорвутся. Затем вбежала сестра Мария-Марта. Лицо у нее было белее простыни, словно она никогда не видела новорожденного. Она подхватила тебя на руки и назвала маленьким Иисусом, Господом нашим. Ты сразу же прекратил плакать, будто заблудшая душа, откликающаяся на свое имя, звучащее из чащи. Так мы и назвали тебя Иисусом. Конечно, с таким именем было очень непросто жить, — обычно добавляла она в этом месте со вздохом. — Как хорошо я помню все твои драки! Когда ты стал постарше, то бросался на любого, кто смеялся над твоим именем. Все эти царапины, синяки, выбитые зубы, Бог мой, они становились серьезной проблемой. Большую часть своего детства ты выглядел настоящим дикарем. Иисус — чудное имя, но я ощущала, что нужно принимать какие-то меры. И я попросила совета у отца Стивенса, он пришел и поговорил с тобой. Он спросил тебя, какое имя тебе по душе, и ты ответил: «Стивенс». Прекрасный выбор, нужно сказать. Отец Стивенс был великим человеком.
В этом месте она всегда останавливалась, чтобы высморкаться, объясняя, что из-за смога у нее развился гайморит.
— Точно так же ты мог поменять и свою фамилию. В конце концов, мы выбрали ее лишь потому, что дети во дворе в тот день играли в пинату, подбрасывая перышки. Мы решили проголосовать. Сестра Мария-Марта единственная высказалась против. «Представьте себе, что он Смит, или Браун, или Андерсон», — сказала она. Я возразила, заметив, что в нашей округе очень мало белых, и, уж коли тебе суждено воспитываться среди нас, тебе будет легче прожить Пинатой, а не Брауном или Андерсоном. И я оказалась права. Ты стал прекрасным молодым человеком, которым мы все очень гордимся. Если бы наш добрый отец Стивенс мог увидеть тебя… О Боже! Этот смог с каждым годом становится все хуже. Если бы это была кара Господня, я бы не возражала, но боюсь, что это всего-навсего результат человеческой извращенности.
Извращенность. Это слово напоминало ему о Дэйзи. Она стремительно шла, обогнав его на несколько ступенек, словно на тренировке по спортивной ходьбе. Он догнал ее на четвертом этаже:
— К чему такая спешка? Они работают до половины шестого.
— Я люблю быстро ходить.
— Я тоже, если за мной кто-то гонится.
Библиотека находилась в самом конце искусно выложенного плиткой коридора. Поговаривали, что во всем здании нет ни одной повторяющейся плитки. И хотя никто так и не потрудился проверить, соответствует ли это действительности, слух этот без устали передавали всем туристам во время экскурсий, а они разносили его в письмах и открытках по всей стране.
В крохотной комнатке с табличкой «Библиотека» за столом сидела девушка в очках в роговой оправе и наклеивала вырезки в специальный альбом. Она не обратила на Дэйзи никакого внимания и с любопытством посмотрела на Пинату:
— Чем могу помочь?
— Вы здесь совсем недавно? — поинтересовался Пината.
— Да. Моей предшественнице пришлось уйти с работы. Аллергия на клей, у нее все руки покрылись сыпью. Жуть.
— Да. Печально.
— Она пытается добиться компенсации по нетрудоспособности, но я не уверена, что это распространяется на аллергию. Что вы хотели?
— Мне необходимо посмотреть микрофильм старого выпуска.
— Год и месяц?
— Декабрь пятьдесят пятого.
— На пленке умещаются газеты за полмесяца. Которая половина вас интересует, первая или вторая?
— Первая.
Девушка открыла ключом один из ящичков огромного металлического шкафа, достала микрофильм и вставила его в проектор. Затем она включила его и показала Пинате ручку поворота.
— Крутите ее, пока не дойдете до того дня, который вам нужен. Пленка начинается первого, а кончается пятнадцатого декабря.
— Я понял. Спасибо.
— Если хотите, можете взять стул, — тут девушка впервые посмотрела на Дэйзи, — или два.
Пината принес Дэйзи стул. Сам он остался стоять, держа руку на рукоятке поворотного механизма проектора. И хотя дежурная вернулась на место и явно погрузилась в работу, Пината спросил вполголоса:
— Вам хорошо видно?
— Не очень.
— Закройте ненадолго глаза, пока я не найду нужный день, а то у вас может закружиться голова.
Она зажмурилась и так и оставалась во тьме, пока не услышала его голос, отрывисто произнесший:
— Ну, вот и ваш день, миссис Харкер.
Она по-прежнему сидела закрыв глаза, словно веки окаменели и отяжелели настолько, что она была не в силах их разомкнуть.
— Вы что, не хотите взглянуть на него?
Она открыла глаза и пару раз моргнула, всматриваясь в экран. Заголовки казались бессмысленными: «АФТ и КПП соединились после двадцатилетнего разрыва», «Тело неопознанного человека обнаружено в зарослях у железной дороги», «Федеральный план помощи школе получает поддержку», «Молодой человек признался в двенадцати ограблениях», «Из-за плохой погоды может закрыться аэропорт», «Семьсот человек должны принять сегодня вечером участие в Рождественском параде», «В катастрофе получил серьезные травмы пианист Гизекинг, его жена погибла», «В горных районах ожидаются новые снегопады».
«Снег на горных верхушках, — подумала она, — дети, едущие на машинах по Стейт-стрит, погибший жасмин».
— Не могли бы вы прочесть вот этот замечательный кадр?
— Какой именно?
— Про снег в горах.
— Сейчас. «Те, кто рано встает, сегодня утром получили неожиданный подарок в образе снежного покрова на горных склонах. Лесники на горных участках сообщают, что толщина снежного покрова превысила десять сантиметров и, скорее всего, увеличится в течение ночи. Старшие классы городских и частных школ были освобождены от занятий, чтобы учащиеся могли подняться в горы и воочию увидеть, многие из них впервые, настоящий снег. Ущерб урожаю цитрусовых…»
— Я помню, — перебила она его, — как на крыльях автомобилей, на которых ехали школьники, лежал снег.
— Я тоже.
— Ярко и отчетливо?
— Да. Это был настоящий парад.
— Почему же мы оба помним о таком пустяке?
— Я думаю, потому, что это было довольно необычное событие, — ответил Пината.
— Настолько неожиданное, что могло случиться один-единственный раз?
— Возможно, но я в этом не уверен.
— Постойте! — Она повернулась к нему, щеки запылали от возбуждения. — Это должно было произойти один-единственный раз. Разве вы не видите? Школьников не отпустили бы с занятий во второй раз. У них бы уже была возможность до этого посмотреть на снег. Школа не стала бы отпускать учащихся с занятий, если бы снег шел второй, или третий, или четвертый раз.
Логика ее ответа удивила и одновременно убедила его.
— Согласен. Но почему все это имеет для вас такое значение?
— Потому что это первое реальное событие, которое я вспомнила, единственное, что отделяет этот день от остальных. Если я увидела школьников и вереницу машин, значит, я должна была быть в нижнем городе, возможно, приехала туда, чтобы пообедать с Джимом. И все же я никак не могу вспомнить, чтобы Джим был со мной или моя мать. Я думаю, я почти уверена, что была одна.
— А где вы находились, когда увидели ребят? Шли по улице?
— Нет, мне кажется, я была в каком-то месте и выглядывала из окна.
— В ресторане, в магазине? Где вы обычно делали покупки в те дни?
— Продукты в гастрономе «Фэрвэй», вещи в универмаге «Девольф».
— Ни один из этих магазинов не располагается на Стейт-стрит. А где вы больше всего любили обедать?
— «Медный чайник». Это кафетерий в одном из кварталов.
— Давайте на мгновение предположим, — сказал Пината, — что вы обедали в «Медном чайнике» одна. А часто вы ездили в нижний город и обедали в одиночестве?
— Иногда. В те дни, когда я работала.
— Вы работали?
— Я работала на добровольных началах в городской клинике, в службе семейной помощи. Я работала там во второй половине дня по вторникам и пятницам.
— Второго декабря как раз была пятница. Вы были на работе в этот день?
— Не помню. Я не могу даже сказать, работала ли я еще в это время. Я ушла, поскольку не слишком хорошо управлялась с деть… — она запнулась, — с пациентами.
— Вы хотели сказать — с детьми?
— Это имеет какое-то значение?
— Возможно.
Она покачала головой.
— Моя работа все равно не имела никакого значения. У меня ведь нет специальной подготовки. В основном я сидела с детьми, родители которых пришли на обследование. Кое-кто приходил по собственному желанию, кто-то по постановлению суда или отдела по надзору над условно освобожденными.
— Вам не нравилась ваша работа?
— Что вы, наоборот. Она мне очень нравилась! Мне только не хватало опыта. Я не могла обращаться с детьми. Мне было их так жалко, я принимала все близко к сердцу. Дети, особенно дети в тех семьях, где родители приходят на обследование в клинику, нуждаются в более строгом и бесстрастном подходе. Так что, — добавила она с печальной улыбкой, — если б я не ушла, они, скорее всего, меня уволили бы.
— С чего вы это взяли?
— Да так. У меня просто сложилось впечатление, что я была скорее помехой, нежели могла оказать какую-то помощь, и в следующий раз я просто не пришла.
— В следующий раз после чего?
— После, — она запнулась, — после того как я почувствовала, что мешаю.
— Но это впечатление должно было сложиться у вас после чего-то определенного, или вы не стали бы говорить «в следующий раз».
— Я вас не понимаю.
«Нет, Дэйзи, детка, — подумал он, — ты меня прекрасно понимаешь, но только не хочешь идти по тому пути, который я тебе предлагаю. Боишься шишек. Что ж, это твой путь, и я не виноват, что здесь так много рытвин».
— Я вас не понимаю, — повторила она снова.
— Ладно, неважно.
По ее лицу было видно, что она испытала облегчение, словно он предложил ей какой-то легкий выход.
— Я не совсем понимаю, что может значить подобный пустячок, если я не совсем уверена, что работала в это время в клинике.
— Мы можем это проверить. Они хранят все документы, и у меня не должно быть никаких проблем с получением необходимой информации. Чарлз Олстон, директор клиники, мой старый приятель. У нас уйма общих клиентов — когда они поднимаются наверх, то имеют дело с ним, когда летят вниз — со мной.
— Вам будет нужно назвать мое имя?
— Конечно. Как еще…
— Нельзя ли придумать что-нибудь другое?
— Послушайте, миссис Харкер. Если вы работали в клинике, то должны знать, что их архив не имеет открытого доступа. Если мне нужна информация, я спрашиваю мистера Олстона, и он решает, давать мне ее или нет. Как еще выяснить, работали вы в конкретную пятницу или нет, если я не назову ваше имя?
— Ладно, хотя я бы предпочла, чтобы имя не называлось.
Она медленно собирала в складки край серого жакета, затем тщательно его разгладила и начала все сначала.
— Джим сказал, что я не должна устраивать демонстраций. Его очень заботит общественное мнение. Он должен был его учитывать, — здесь она сделала неуловимое движение головой, стараясь как бы защитить своего мужа от обвинений, — чтобы подняться туда, где он теперь находится.
— И где он теперь находится?
— На гребне успеха, думаю, что вы сказали бы именно так. Много лет назад, когда у него вообще ничего не было, Джим все для себя определил: как он будет жить, какой у него будет дом, сколько денег будет зарабатывать и даже какую жену себе подберет, — ему и двадцати не было, а у него уже все было расписано.
— И все получилось?
— В основном.
«Кроме одного. Не получилось и никогда не получится. Он хотел двух мальчиков и двух девочек».
— Могу я поинтересоваться, что расписывали вы, миссис Харкер?
— У меня нет такой привычки. — Она опустила глаза на проектор. — Не продолжить ли нам смотреть газету?
— Хорошо.
Он повернул ручку, и на экране появились заголовки следующей страницы: «Джон Кендрик, вооруженный преступник, усиленно разыскивавшийся ФБР, арестован в Чикаго», «Девять человек погибли в Калифорнии в день борьбы за безопасность на дорогах», «Процесс по убийству Элботта продолжается в Сан-Франциско», «Женщина в Дублине отметила свое стодесятилетие», «Повышение уровня морского прилива привело к разрушению нескольких домов на побережье Редондо», «Деятели образования в Сакраменто обсуждают судьбу городского колледжа», «В Джорджии 2000 студентов устроили беспорядки из-за расовых запретов при игре в кегли».
— Никаких намеков? — спросил Пината.
— Нет.
— Что ж, попробуем посмотреть местные новости: «Американские журналистки дали Рождественский обед», «Гильдия Святой Троицы устроила благотворительную распродажу», «Берт Паттерсон отметил свое тридцатилетие», «Был одобрен контракт на производство работ по углублению залива», «На Колинз-стрит задержан вуаерист», «Коккер-спаниель покусал четырехлетнего ребенка, собака приговорена к двухнедельному содержанию под замком», «Женщина по имени Хуанита Гарсиа, двадцати трех лет, приговорена к условному заключению за неисполнение материнских обязанностей по отношению к пяти собственным детям, которых она заперла в комнате на время, пока обходила бары в западной части города», «Городской совет направил в комиссию по водоснабжению обращение…»
Он прервал чтение. Дэйзи отвернулась от проектора, издав звук, который можно было принять за свидетельство того, что ей скучно. Но скучающей она явно не выглядела. Скорее, она казалась рассерженной. Губы плотно сжаты, на щеках красные пятна, словно она получила несколько абсолютно беззвучных и невидимых, но увесистых пощечин. Реакция ее озадачила Пинату: неужели она злилась на городской совет или на комиссию по водоснабжению? Или Дэйзи боялась собак, вуаеристов, тридцатилетних годовщин?
— Не хотите ли продолжить, миссис Харкер?
По движению головы было невозможно понять, согласна она продолжать или нет.
— Кажется, это совершенно бесполезно. Я хочу сказать, какое мне дело, был или не был вынесен условный приговор женщине по имени Хуанита Гарсиа.
Она произнесла слова необычайно страстно, словно Пината обвинил ее в том, что она сама принимала участие в деле миссис Гарсиа.
— Откуда я могу знать подобную женщину?
— Через вашу работу в клинике, например. Если верить газетному отчету, одним из условий двухлетней отсрочки приговора миссис Гарсиа было получение ею психиатрической помощи. Поскольку у нее уже было пять детей и она ожидала шестого, а ее муж служил рядовым в Германии, вряд ли она могла позволить себе частного психиатра. Значит, она могла лечиться только в клинике.
— Нет никаких сомнений, что ваши доводы весьма убедительны. Но со мной это никак не связано. Я никогда не встречала миссис Гарсиа ни в клинике, ни где-нибудь еще. Как я вам уже говорила, моя работа была связана с детьми пациентов, а отнюдь не с самими пациентами.
— Тогда, возможно, вы знали детей миссис Гарсиа. Их у нее пятеро.
— Что вы так вцепились в эту фамилию?
— У меня сложилось впечатление, что она для вас имеет какой-то смысл.
— Но я ведь уже ответила вам, что никакого смысла она не имеет. Верно?
— Да. Несколько раз.
— Вы обвиняете меня в том, что я вам лгу?
— Нет, не совсем мне, — ответил Пината. — Но нельзя исключить возможность, что, не осознавая того, вы лжете самой себе. Подумайте об этом, миссис Харкер. Ваша реакция на это имя была чересчур эмоциональной.
— Возможно, я чересчур эмоционально реагировала. Или вы чересчур эмоциональны в своей интерпретации моего поведения.
— И это могло быть.
— Не могло, а было.
Она поднялась с места и прошла к окну. В ее движениях чувствовалось одновременно негодование и желание убежать. Пинате показалось, что она приказала ему заткнуться и оставить ее в покое. Но он не собирался делать ни того, ни другого.
— Проверить миссис Гарсиа будет несложно, — заметил он. — В полиции на нее имеется досье, так же как и в управлении по контролю над условно осужденными, и, вполне возможно, у Чарлза Олстона в клинике.
Она повернулась к нему лицом, во взгляде ее царила усталость.
— Как бы мне хотелось убедить вас в том, что я никогда не слышала об этой женщине. Мы живем в свободной стране, вы можете проверить любое имя в телефонном справочнике, если у вас есть такое желание.
— Вполне возможно, что мне придется поступить именно так. Ведь у меня не слишком много фактов для того, чтобы продолжать расследование. Единственное, что у меня есть по 2 декабря 1955 года, — это то, что в горах шел снег, а вы обедали в кафетерии в нижнем городе. Кстати, а как вы туда добрались?
— Должно быть, я приехала на машине. У меня была своя.
— Марка?
— Старый «олдсмобиль» с открывающимся верхом.
— А как вы обычно ездили, подняв или опустив верх?
— Опустив. Но я не понимаю, какое это имеет значение?
— Когда мы с вами не знаем, что именно для вас важно, любая деталь может иметь значение. Нельзя с уверенностью сказать, что именно разбудит вашу память. Например, в ту пятницу было холодно. Может, вы сможете вспомнить, как поднимали верх автомобиля. А может, у вас были какие-то проблемы с зажиганием?
Она посмотрела на него с искренним изумлением:
— Похоже, я помню, что у меня были проблемы с включением мотора. Но, может быть, я так решила только потому, что вы мне об этом сказали. Вы об очень многом говорите так, будто знаете наверняка. Как ют об этой женщине по фамилии Гарсиа. Вы ведь уверены, что я знаю или знала ее.
Она снова села и начала собирать в кулак край жакета.
— Если бы я ее действительно знала, с чего мне об этом забывать? У меня бы не было никаких причин забывать подругу или даже случайного знакомого. К тому же я недостаточно сильный человек, чтобы иметь врагов. Тем не менее вы кажетесь настолько уверенным в этом.
— Казаться уверенным и быть уверенным — разные вещи, — заметил Пината с легкой улыбкой. — Я совсем не уверен в этом, миссис Харкер. Просто я увидел соломинку и схватился за нее.
— И продолжаете за нее держаться?
— Пока не увижу что-нибудь более удобное.
— Как мне хочется вам помочь. Я пытаюсь, я правда пытаюсь.
— Ну, не надо уж так напрягаться. Может быть, на сегодня нам следует закончить. Вам хватит?
— Думаю, да.
— Так что вам лучше вернуться домой, на гребень успеха.
Она встала и сразу почувствовала, как онемело тело.
— Зря я вам рассказала о муже. Похоже, это вас развлекает.
— Напротив. Чрезвычайно угнетает. Я тоже писал на доске кое-какие планы.
«Один из них только что был приведен в исполнение, — подумал Пината. — План под названием „Джонни“. Так что единственная причина, по которой я взялся прослеживать этот твой распрекрасный день, заключается в том, что Джонни необходимо выпрямить зубы, а вовсе не в том, что ты сидишь на горшке с золотом на самом гребне успеха».
Он перемотал микрофильм назад, а затем выключил диапроектор. К нему заспешила девушка в очках, в глазах ее стояли испуг и тревога, словно она опасалась, что он сломает аппарат или по крайней мере убежит с микрофильмом.
— Позвольте мне, — сказала она. — Микрофильмы имеют большую ценность. Перед нашими глазами проходит и обретает форму, так сказать, сама история. Вы нашли, что искали?
— Нашли? — Пината взглянул на Дэйзи.
— Да, — ответила она. — Большое спасибо.
Пината открыл перед ней дверь, и она медленно и бесшумно вышла в коридор, опустив голову, словно изучая плитки пола.
— Нет ни одной одинаковой, — заметил он.
— Простите, не поняла.
— Плитки пола. Во всем здании нет двух одинаковых.
— Да?
— Когда-нибудь, после того как мы разделаемся с этим вашим проектом и вам захочется новых развлечений, можете прийти сюда и проверить, так ли это на самом деле.
Он сознательно шел на то, чтобы вызвать в ней возмущение, предпочитая открытую враждебность этому неожиданному погружению в себя, но было совсем неясно, расслышала ли она его, помнила ли о том, что он рядом. Похоже, она думала, что он уже убежал к себе в кабинет или все еще оставался в библиотеке, разглядывая микрофильм. Ему показалось, что она вычеркнула его из собственной жизни.
Когда они вышли к фасаду, часы на башне здания суда, стоявшего через дорогу, пробили четыре. Звук вернул ее к жизни.
— Мне нужно поторопиться, — сказала она.
— Зачем?
— Кладбище закроется через час.
Он раздраженно уставился на нее:
— Вы что, собираетесь принести к себе цветочки?
— Всю неделю, — продолжала она, не заметив вопроса, — с самого понедельника я пыталась набраться сил и смелости, чтобы пойти туда. Вчера я снова видела свой сон: море, утес, Принц и могила с моим именем на плите. Я больше не могу выносить ночной кошмар, я должна убедиться, что всего этого нет в действительности.
— И как же вы собираетесь все это проделать? Будете бродить и читать имена на могилах?
— В том, чтобы бродить, нет никакой необходимости. Я довольно хорошо знаю кладбище, я часто бываю там с Джимом и мамой — у Джима там похоронены родители, а у мамы двоюродная сестра. Я совершенно точно представляю себе, что я должна искать и где, поскольку во всех моих снах присутствует один и тот же памятник — грубо отесанный, неполированный, серого цвета крест, высотой метра в полтора; и каждый раз он стоит в одном и том же месте, на краю утеса, под смоковницей. Единственная смоковница в этой местности, она даже обозначена на картах для моряков.
Пината плохо представлял себе, как выглядит эта смоковница, к тому же он не был моряком и ни разу не посещал кладбище, но ему хотелось ей поверить. Казалось, что она уверена в приводимых фактах. «Значит, она знакома с тем местом, о котором говорит, — подумал он, — она часто там бывала. Ее сон появился не из пустоты. Место действия реально, возможно, реальна даже могила».
— Пожалуй, будет лучше, если я отправлюсь с вами.
— Зачем? Мне уже не страшно.
— Ну, скажем, мне тоже любопытно посмотреть.
С подчеркнутой осторожностью он коснулся ее рукава, словно опытный наездник, направляющий в нужную ему сторону прекрасно обученную, но нервную лошадь, которая собьется, если слишком на нее надавить:
— Моя машина поблизости. На Пьедра-стрит.
8. С самого начала она стыдилась не только меня, но и себя
Металлические ворота кладбища были рассчитаны, казалось, на гигантов. Заросли деревьев прикрывали почти четырехметровый металлический забор — розовые цветочки так невинно свисали с его острых наконечников, выгладывая из-под листочков, края которых были острее, чем колючая проволока. Между улицей и оградой высились ряды деревьев с серебристыми листьями, напоминавшими доллары. Они сыпали их вниз, как обезумевшие игроки швыряют монеты за карточным столом.
Сложенная из серого камня сторожка напоминала миниатюрную тюрьму, те же зарешеченные окна, та же железная дверь с висячим замком. Дверь и замок были тронуты ржавчиной, словно привратник давным-давно пропал в другой стороне кладбища. Столетние деревья, достаточно простоявшие на свете, чтобы уже приблизиться к концу своей земной жизни, высились по обе стороны дорожки к часовне, между ними сновали готовые запеть или улететь райские птицы.
В отличие от сторожки часовня была разукрашена яркой мексиканской плиткой, из открытых дверей громко и весело лилась органная музыка. В глубине виднелся органист. Чувствовалось, что он играет исключительно для себя. Похоже, отпевание только что завершилось и он задержался, чтобы немного поупражняться или отогнать стойкую череду призраков.
В воздухе чувствовались сгущающиеся сумерки, подступающий туман. Дэйзи застегнула свой жакет на все пуговицы, натянула на руки белые перчатки. Это были очень красивые перчатки из нейлона и льна, но сейчас ей казалось, что такие же перчатки на руках у тех, кто несет гроб с телом покойника. Она немедленно сорвала бы их и запихала в сумочку, если бы не боялась, что Пината заметит ее жест и даст ему свое объяснение. Он слишком быстро и уверенно объяснял все увиденное, и по крайней мере в одном случае неверно. У нее мелькнула мысль, что она не знает никого по имени Хуанита, только героиню старой песни, которую они пели в детстве, — «Нита, Хуанита, спроси свое сердце, нужно ли нам расставаться».
Она стала напевать ее про себя, не осознавая, что поет ее без слов вслух. Пината прислушался и, узнав мелодию, задал себе вопрос, почему она так его растревожила. В ней были какие-то слова. Да. «Нита, Хуанита, спроси свое сердце, нужно ли нам расставаться»… Вот оно. Так звали официантку в кафе «Велада», которую Филдинг «спасал» от собственного мужа. Конечно, это могло быть и, возможно, было простейшим совпадением. Но если даже это не было совпадением и Нита Донелли и Хуанита Гарсиа была одной и той же женщиной, это значило всего-навсего: она развелась с Гарсиа и вышла замуж за Донелли. Она была из тех женщин, кто всегда ищет работу в местах вроде «Велады», а Филдинг частенько посещал такого рода заведения. Ничего удивительного, что дорожки их пересеклись. Что же касается стычки с мужем женщины, то Филдинг наверняка ее не планировал. Он сообщил полиции после своего ареста, что никогда не видел ее раньше, обычная женщина в расстроенных чувствах, которой он пришел на помощь исключительно из глубокого уважения, испытываемого к представительницам прекрасного пола. Это было как раз то, на что Филдинга вполне хватало под воздействием винных паров.
Они подъехали к развилке дорог, на самом верху плоского холма, служившего местом для кладбища, Пината затормозил и повернулся к Дэйзи:
— Есть какие-нибудь новости от вашего отца?
— Нет. Нам нужно повернуть направо прямо здесь. Мы едем в западную часть кладбища.
— Та официантка, из-за которой ваш отец ввязался в драку, ее звали Нита. Вполне возможно, ее полное имя Хуанита.
— Я знаю. Мне сказал об этом отец, когда звонил и просил денег. Еще он сказал, что не знал ее раньше. Молодая симпатичная женщина с нелегкой жизнью. Вот и все. Вы ему не верите?
— Почему не верю? Верю.
— Так что же тогда?
— Так, ничего. — Пината пожал плечами. — Просто подумал, что лучше об этом сказать вам.
— Ну какой он все-таки дурак, — в голосе ее звучало не только осуждение, но и мягкая грусть и печаль. — Неужели он так никогда и не поймет, что невозможно войти в убогую кафешку, подцепить там официантку и обойтись без скандала? Его ведь могли искалечить и даже убить.
— Да нет. Он крепкий мужик.
— Крепкий? Мой отец? — Она покачала головой. — Если бы это было так на самом деле. Он как кисель.
— Мой опыт подсказывает, что такого рода люди могут быть очень крепкими. Все зависит от возраста.
Она сменила тему разговора, показав рукой за окно:
— Вон там у утеса стоит смоковница. Отсюда можно увидеть ее верхушку. Это самый выдающийся экземпляр — крупнейший в нашем полушарии. Так говорит Джим, он фотографировал это дерево десятки раз.
Пината завел мотор и поехал дальше, стараясь придерживаться установленной здесь скорости — двадцать километров в час, хотя больше всего ему хотелось на полном ходу проскочить это проклятое место, послав к черту «Дэйзи, детку» и ее дерево. Подстриженные газоны, разрастающиеся во все стороны деревья и кустарники слишком уж не соответствовали тому, что было под ними. «Кладбище должно походить не на парк, — подумал он, — а скорее на пустыню: только серые и коричневые краски, камень и песок и только кактусы, которые выглядят живыми лишь раз в году, в период цветения».
Большинство посетителей уже ушли. Молодая женщина в черном поправляла букет гладиолусов у бронзовой таблички с именем покойника, двое ее детей в футболках и джинсах играли в прятки между могил и склепов. Метрах в ста от нее четверо рабочих в комбинезонах забрасывали землей недавно выкопанную могилу. Зеленое покрывало, которое должно было имитировать траву, было откинуто в сторону от обнажившейся в почве разверстой раны, и землекопы без устали вонзали в землю лопаты. Седовласый старик сидел на стоящей рядом скамейке и смотрел на то, как падает земля, погруженный в глубокую скорбь.
— Я рада, что вы поехали со мной, — неожиданно сказала ему Дэйзи. — Если бы я была одна, то обязательно бы перепугалась или впала в тоску.
— Но почему? Вы ведь бывали здесь и раньше.
— Визиты сюда никогда не производили на меня особого впечатления. Когда я приезжала сюда с Джимом и мамой, это напоминало скорее участие в торжественном обряде, ритуале, который для меня совершенно ничего не значил. Да и не мог ничего значить. Ведь я никогда в жизни не встречала ни двоюродную сестру мамы, ни родителей Джима. Люди не могут восприниматься мертвыми, если вы не видели их живыми. Все это казалось ненастоящим: цветы, слезы, молитвы.
— Какие слезы?
— Моя мать плачет очень легко.
— Даже над двоюродной сестрой, дальней родственницей, умершей так давно, что вы ее даже не встречали?
Дэйзи наклонилась вперед со вздохом, трудно сказать, был ли это вздох нетерпения или тревоги.
— Они воспитывались вместе в детстве, в Денвере. Ну и, кроме того, я думаю, что плакала она вовсе не о ней. Это были слезы по прошедшей жизни в целом. Слезы по прошлому.
— Вас специально приглашали на эти экскурсии мать и муж?
— Зачем? И какое отношение это имеет к происходящему сейчас?
— Да так. Я просто спросил.
— Меня приглашали. Джим считал, что мне подобает сопровождать его, а маме было удобно опираться на меня, хотя она не так уж часто это делала. И мне, пожалуй, было приятно — чувствовать себя достаточно сильной, по крайней мере кто-то мог на меня опереться, особенно моя мать.
— А где похоронены родители Джима?
— На западном участке.
— Где-нибудь поблизости от того места, куда мы направляемся?
— Нет.
— Вы говорили, что ваш муж часто фотографировал смоковницу?
— Да.
— А вы при этом присутствовали?
— Да.
Они подъезжали к утесу, шум камней под колесами напоминал рев ветра, налетающего время от времени на далекий лес. Камни загрохотали еще громче, и они увидели смоковницу, огромную зеленую крону, ширина которой была равна двум ее высотам. Глянцевые, с кожистой поверхностью листья с обратной стороны отсвечивали коричневым цветом, словно они, как замок и железные ворота входа, были тоже тронуты ржавчиной на морском воздухе. Ствол и большие ветви напоминали мраморно-серые фигуры человекообразных существ, неразрывно сплетенных в любовном экстазе. Под самим деревом могил не было, поскольку отдельные его корни вылезли из-под земли наружу. Памятники начинались в стороне от него, здесь были все возможные формы и размеры, треугольники и четырехугольники, кресты и колонны, полированные и неполированные, серые, белые, черные, розовые, но только один из них полностью соответствовал тому описанию, которое дала Дэйзи.
Пината увидел его, как только вылез из машины. Это был грубо отделанный, серого камня крест примерно в полтора метра высотой.
Увидела его и Дэйзи. На лице ее отразилась смесь удивления и ужаса:
— Он здесь. Он — настоящий.
Он был удивлен куда меньше. Похоже, все, что ей приснилось, было настоящим. Он бросил быстрый взгляд на край утеса, как будто оттуда вот-вот должна была выскочить и начать выть собака по имени Принц.
Дэйзи вышла из машины и стояла, опершись на крышку капота, то ли просто облокотившись, то ли пытаясь согреться.
— Я не вижу с такого расстояния имени на плите, — сказал Пината. — Пойдемте, посмотрим поближе.
— Я боюсь.
— Миссис Харкер, бояться вам совершенно нечего. Все ясно. Вы видели эту конкретную плиту на этом самом месте в один из своих визитов сюда. По какой-то причине она произвела на вас впечатление и заинтересовала, вы запомнили ее, и она всплыла в вашей памяти.
— С какой стати она должна была производить на меня впечатление?
— Здесь единственное объяснение. Памятник выглядит очень дорогим и качественно сделанным. А может быть, он напомнил вам о старом, тронутом временем кресте из старого псалма. Но вместо того, чтобы стоять здесь и заниматься теоретическими выкладками, почему бы нам не подойти и не проверить факты?
— Факты?
— Естественно, ведь самое важное для нас то, — сухо пояснил Пината, — чье имя выбито на плите.
В какое-то мгновение ему показалось, что она вот-вот кинется к воротам. Но вместо этого Дэйзи выпрямилась, тряхнула головой и переступила через небольшой газон, двинувшись по дорожке, которая шла вокруг смоковницы, в нескольких метрах от ее ствола. Она шла к кресту быстрым шагом, будто старалась стремительным движением подавить подступавший к сердцу страх.
Она почти дошла до места, как вдруг споткнулась и упала на колени. Пината догнал ее и помог встать на ноги. На юбке остались пятна от травы, острые колючки репейника.
— Это не мое имя, — прошептала она. — Слава тебе, Господи, не мое.
На полированном прямоугольнике в центре креста виднелись буквы:
КАРЛОС ТЕОДОР КАМИЛЛА
1907–1955
Ее реакция подсказала Пинате, что в этом имени для Дэйзи ничего не было, кроме того, что это было не ее имя. На лице ее появилось выражение большого облегчения и некоторого смущения, как у ребенка, включившего свет и обнаружившего, что привидение оказалось не чем иным, как старым пальто или раздувшейся от ветра шторой. Впрочем, маленький призрак так и остался, хотя она, похоже, его не заметила, — год смерти Камиллы. Возможно, с того места, где она стояла, разглядеть цифры было трудно; по тому, как его спутница вела себя в библиотеке, он предположил, что у нее близорукость, о чем она либо не знала, либо не желала в этом признаваться.
Он сделал шаг вперед и встал перед плитой, загородив ее, чтобы она ничего не увидела, даже если подойдет ближе. Пината почувствовал себя не слишком уютно, стоя на гробе незнакомца, прямо в том месте, где должно было быть или было его лицо. Карлос Камилла. Интересно, как он выглядел? Брюнет, конечно же. Мексиканское имя. На этом кладбище мексиканцев почти не хоронили. Тому были две причины: первая — цены на землю, вторая — католическая церковь не освящала эту землю. И очень немногие из них имели такие изысканные памятники.
— Я так рада, что это не мое имя, — призналась Дэйзи, — что испытываю чувство вины. Ничего не могу поделать.
— Совсем ни к чему чувствовать себя виноватой.
— Наверное, так и было, как вы сказали. Я увидела памятник, и по какой-то причине он запал мне в память — может быть, из-за имени. Камилла. Очень красивое имя. Что оно значит?
— Кушетка, кровать небольшого размера.
— Да. Оно уже не кажется таким красивым, если знаешь, что оно обозначает.
— Точно так же, как и у многих других вещей.
Пелена тумана медленно опускалась со стороны побережья. Бесформенными клоками он летел над лужайками, повисал кусками шифона между листьями смоковницы. Пината подумал о том, как мирно и спокойно спит Камилла, когда корни огромного дерева безжалостно растут сквозь его последнее пристанище.
— Ворота скоро закроются, — сказал он. — Нам пора.
— Хорошо.
Она пошла к машине. Он подождал, пока Дэйзи пройдет вперед, и только потом пошел за ней. Ему было неловко за свой обман. О том, что обмануть ее не удалось, он узнал только в машине, когда она неожиданно произнесла:
— Камилла умер в 1955 году.
— Как и множество других людей.
— Мне хотелось бы знать точную дату, просто из любопытства. Они должны хранить такого рода записи в книге актов — за часовней находится контора с табличкой «Директор», а домик смотрителя в восточной части неподалеку.
— Я начал надеяться, что вы решили бросить все это.
— С какой стати? Ведь, если хорошенько подумать, ничего не изменилось.
Он повторил про себя эту мысль. Действительно ничего не изменилось, менее всего установки в мозгу «Дэйзи, детки».
Кабинет директора был уже закрыт, но в домике смотрителя горел свет. В окно гостиной Пината увидел пожилого толстяка в подтяжках, смотревшего телевизор: два ковбоя без устали палили друг в друга из-за камней. И ковбои, и камни были точь-в-точь такими же, какие Пината помнил из собственного детства.
Он нажал на дверной замок. Старик вскочил на ноги и зигзагами помчался по комнате, словно уворачиваясь от пуль. Бросив украдкой взгляд на окно, он выключил телевизор и побежал, чтобы открыть дверь.
— Я его практически не смотрю, — проговорил он с одышкой, как бы извиняясь. — Мой зять Гарольд не одобряет, говорит, что вся эта стрельба отражается на моем сердце.
— Вы смотритель?
— Нет. Смотритель мой зять Гарольд. Он у зубного врача, взял отгул из-за своей челюсти.
— А вы бы не могли мне кое-что подсказать?
— Могу только попытаться. Меня зовут Финчли. Входите и закройте за собой дверь. Этот туман забивает мне легкие. Иногда даже не могу дышать по вечерам. — Он скосил взгляд в сторону машины. — Может быть, эта леди тоже придет сюда с улицы?
— Да нет.
— У нее, наверное, очень хорошие легкие. — Старик закрыл дверь. Крохотная, уютная гостиная была жарко натоплена и пахла шоколадом. — Вы ищете чью-то конкретную мо… место упокоения? Гарольд говорит, что ни в коем случае нельзя говорить «могила», это очень не нравится клиентам, но я все время забываю. Здесь у меня карта всего кладбища, точно отмечено, кто где похоронен. Вам это нужно?
— Не совсем. Я знаю, где похоронен этот человек, но мне нужны кое-какие сведения о времени и обстоятельствах смерти.
— Где он похоронен?
Пината показал место на карте, Финчли вздохнул и неодобрительно покачал головой.
— Плохое место. Весенние ручьи каждый год подмывают утес, а туристы, приходящие поглазеть на это огромное дерево, растущее день ото дня, все время вытаптывают траву. Люди покупают здесь участки из-за вида, а какой может быть вид, если уж помер? Я, когда помру, хочу лежать тихо и спокойно, без всяких там старых огромных деревьев и без всяких приливов и этих потоков, которые достанут до самой шкуры… Как его звать-то?
— Карлос Камилла.
— Мне придется проверять по картотеке, и я не уверен, что смогу отыскать ключ от кабинета.
— Вы могли бы попытаться.
— Вообще-то я не уверен, что мне следует это делать. До закрытия кладбища осталось чуть-чуть, а мне еще надо поставить на плиту ужин. Отгул или не отгул, но Гарольд любит поесть, и к тому же поесть плотно, так же как и я сам. Все эти мертвецы, они меня нисколько не заботят. Когда приходит время закрытия, я закрываю дверь и не вспоминаю о них до самого утра. Они не мешают мне ни спать, ни есть.
При последних словах он неожиданно рыгнул, но негромко и деликатно, будто проглотил, не осознав этого, толику своего испуга.
— Кроме того, Гарольду может не понравиться, что я рылся в его картотеке. Эта картотека для него очень важна. Она такая же, как в конторе у директора. По этому сразу видно, как директор уважает Гарольда.
Пината начал подозревать, что Финчли тянул резину вовсе не потому, что не мог найти ключ или боялся им воспользоваться, скорее всего, он был не слишком силен в грамоте.
— Найдите ключ, — предложил он старику, — а я помогу вам отыскать фамилию.
На лице Финчли появилось облегчение, тяжесть принятия решения была сброшена с его плеч:
— Так вот будет лучше. Верно?
— Это потребует не больше минуты. Потом вы сможете включить телевизор и досмотреть программу.
— По правде сказать, я не очень-то разобрался, кто из них плохой, а кто хороший. Как там звали этого человека?
— Камилла.
— Ку…
— Ка-мил-ла.
— Запишите на бумажке так, как пишут на карточках. Идет?
Пината записал, и старик, взяв листок, выбежал из комнаты с такой скоростью, словно ему вручили палочку в эстафете до самой границы, где злодеи перестреливались с положительными героями.
Не прошло и минуты, как он вернулся, поставил на столе ящик с карточками и включил телевизор, в ту же секунду полностью отключившись от внешнего мира.
Пината склонился над ящиком. Карточка с именем Карлос Теодор Камилла не содержала практически никакой информации: техническое описание места захоронения и имя директора похоронного бюро — Рой Фондеро. В графах «Ближайшие родственники» и «Адрес» стоял прочерк. Родился 3 апреля 1907 года, умер 2 декабря 1955 года.
«Совпадение, — подумал он. — Чистейшей воды совпадение. Дата самоубийства Камиллы была просто каким-то сумасшедшим совпадением. В конце концов, шансы были один к тремстам шестидесяти пяти. Вещи куда более редкие, чем эта, случаются каждый день».
Но он сам себе не верил и знал, что Дэйзи не примет его аргументов. Все дело было в том, говорить ли ей правду, и если нет, то как соврать поубедительнее. Ее не так-то просто обмануть. Слух молодой женщины легко улавливал любую фальшивую ноту, а видела она куда лучше, чем он думал.
Неожиданно у него появилось новое тревожное предчувствие: что, если Дэйзи знала, когда и как умер Камилла, что, если она придумала всю эту историю со снами только для того, чтобы заинтересовать его делом Камиллы, не раскрывая свое знакомство с ним? Нет, все-таки подобное предположение казалось невозможным. Единственной ее реакцией на увиденное имя было чувство глубокого облегчения оттого, что оно не ее; он не увидел на ее лице ни каких-то серьезных переживаний, ни смущения, ни особой вины по поводу собственной радости в связи с тем, что могильный камень принадлежал не ей, а Камилле. Кроме того, он никак не мог придумать убедительной причины, по которой Дэйзи понадобилось бы выбирать столь непростой путь для достижения своей цели. Он подумал, что Дэйзи была обыкновенной жертвой, а никак не создателем этих обстоятельств. Она не планировала и, по-видимому, никак не могла планировать ту цепь событий, которая привела к их первой встрече: арест отца, залог, ее приход к нему в контору. Если кто что и планировал, то это был Филдинг, но и это вызывало обоснованные сомнения. Филдинг казался неспособным заглядывать в будущее дальше, чем на одну секунду или на одну бутылку.
«Ладно, — с раздражением подумал он. — Никто ничего не планировал. Дэйзи приснился сон, и все. Дэйзи приснился сон».
— Большое спасибо, мистер Финчли.
— А?
— Благодарю вас за то, что вы дали мне ознакомиться с картотекой.
— Бог мой, ты только погляди! Ему всадили пулю прямо в пузо. Уж я-то с самого начала знал, что он и есть главный бандит, вот этот, в черной шляпе. Всегда можно определить, кто есть кто, по глазам лошади. Если у нее злое и хитрое выражение на морде, то можно ставить на то, что на ней сидит злой и хитрый мерзавец. Ну да вот он и получил свое, да, сэр, получил. — Финчли оторвался от экрана: — Фильм закончился. Должно быть, пять часов. Вам лучше отправляться, пока Гарольд не вернулся и не запер ворота. Со своими зубами, и отгулом, и всем прочим он не больно-то будет в настроении. Он честный парень, — добавил Финчли со смешком, — но безжалостный. Особенно с тех пор, как умерла его жена. Ведь женщины приносят в этот мир именно жалость и милосердие. Верно?
— Пожалуй, так.
— Когда-нибудь, прожив на свете достаточно лет, вы убедитесь в этом сами.
— Доброй ночи, мистер Финчли.
— Поторопитесь доехать до ворот, пока Гарольд не вернулся.
Хотя Дэйзи включила в машине печку и приемник, казалось, что она не чувствует тепла и не слышит музыки. Она только сказала:
— Прошу вас, поедемте поскорее отсюда.
— Вам было бы лучше зайти со мной в дом.
— Я не хотела мешать вашей работе. Что же вы обнаружили?
— Так, кое-что.
— Вы не хотите мне об этом рассказать?
— Думаю, что должен это сделать.
Он рассказал ей все. Она молча слушала под мерный шум щебня на дорожке, шедшей по холму за часовней. Стемнело. Органист ушел, и от музыки его не осталось и следа. Райские птицы молчали, деревья потеряли последние свои листья, цветы плакали в густом тумане.
Гарольд, придерживая рукой распухшую челюсть, посмотрел на проехавшую мимо машину и закрыл ворота. День закончился, и было чудесно ощущать себя дома.
9. Даже когда она говорила о любви, в ее голосе звучала горечь, как будто какой-то физический недостаток стал причиной нашей любви и она ничего не смогла поделать, словно виной всему была слабость тела, порицаемая ее духом
В наступившем сумраке были хорошо видны огни приближающегося города, рассыпавшиеся нитками и созвездиями вдоль моря и шоссе, они уменьшались в количестве, забираясь все выше на холмы. На самом верху они казались одинокими звездами, упавшими с неба на землю, но все еще горевшими. Пината знал, что ни один из этих огоньков не горит в его доме. Там никого не было: ни Джона, ни Моники, ни даже миссис Дубрински, которая уходила ровно в четыре, чтобы позаботиться о своей родной семье. Он почувствовал, что выброшен из жизни так же, как Камилла, лежавший в могиле под огромным деревом, такой же опустошенный, глухой к шумящему морю, не способный увидеть брызги волн.
«На кой нужен этот вид, — сказал старик, — если уж помер?»
«Что ж, вид перед нами, — подумал Пината. — Я любуюсь им, но не могу стать его частью. Ни один из этих огоньков не зажегся для меня, и если кто-то и ждет моего прихода, так это какой-нибудь пьяница в городской тюрьме, жаждущий выбраться и купить новую бутылку».
Рядом с ним неподвижно и молчаливо сидела Дэйзи, так, будто она не думала совсем ни о чем или размышляла о многих вещах с такой скоростью, что, преодолев звуковой барьер, она погрузилась в молчание. Он взглянул на нее и вдруг захотел сделать что-нибудь неожиданное, ужасное, из ряда вон выходящее, чтобы только привлечь ее внимание. Но буквально через секунду эта мысль показалась ему настолько абсурдной, что он похолодел от ярости: «Господи! Да что это со мной такое? Должно быть, я схожу с ума. Джонни. Я должен думать о Джонни. Или о Камилле. Пожалуй, последнее безопаснее. Думай о Камилле, лежащем в могиле Дэйзи».
Он умер, и Дэйзи приснилось, что это ее собственная могила, — это как раз можно объяснить. Все остальное объяснить невозможно, если только у Дэйзи не способности экстрасенса, что, скорее всего, не соответствует действительности, или у нее уникальный талант в равной степени успешно дурить себя и других. Вот последнее, пожалуй, более всего походило на истину, но сам он в это не верил. Чем лучше он ее узнавал, тем больше его поражала ее исключительная наивность и невинность, словно она ухитрилась каким-то образом пройти по этой жизни, ни до чего не дотронувшись и не позволив никому дотронуться до нее самой. Она напоминала ребенка, бредущего по магазину, где невозможно дотянуться ни до одного предмета и все они не продаются, а манекены-продавцы стоят за зеркальными стеклами и ничего не продают. Неужели «Дэйзи, детка» была слишком дисциплинированна, чтобы выразить протест, слишком послушна, чтобы потребовать? И неужели сейчас она потребовала, в данном конкретном случае, чтобы стекло убрали, а манекены-продавцы принялись за работу?
— Этот человек, — наконец нарушила она молчание. — Как он умер?
— Самоубийство. В его карточке было отмечено sui mano — «от руки своей». Подозреваю, кто-то подумал, что если написать на латыни, то можно снять проклятие.
— Значит, он убил себя. Еще хуже.
— Почему?
— Может, я имею какое-то отношение к его смерти. Может, я несу ответственность за то, что он умер.
— Все это чересчур сложно, — спокойно ответил Пината. — Вы пережили шок, миссис Харкер. Самое лучшее для вас сейчас — перестать беспокоиться, отправиться домой и хорошенько отдохнуть.
«Принять, в конце концов, снотворное, — мысленно добавил он, — опрокинуть стаканчик или закатить истерику, ну что там еще устраивают женщины в подобных обстоятельствах. Моника обычно плакала, но я не думаю, что ты, „Дэйзи, детка“, последуешь ее примеру. Ты будешь в печали сидеть и размышлять над случившимся, и один Бог знает, куда это тебя заведет».
— Камиллу вы никогда не встречали? — задал он ей вопрос.
— Никогда.
— Тогда каким образом может существовать связь между вами и его смертью?
— Каким образом может? Мы больше не говорим с вами, мистер Пината, о том, что может быть, а чего не может. Было невозможно предположить, что я знаю точную дату его смерти. Но это так. Реальный факт, а не нечто, созданное женщиной с чрезмерным воображением или истеричкой, хотя до последней минуты вы полагали, что имеете дело именно с такой особой. То, что я знала день смерти Камиллы, несколько изменило наши отношения. Правда?
— Да. — Ему хотелось сказать ей, что их отношения изменились куда больше, чем она могла предположить, изменились настолько, что ей лучше было бы умчаться обратно на гребень успеха, под крылышко к мамочке и Джиму. И она обязательно побежит. Вопрос лишь в том, как скоро и как быстро? Он посмотрел на собственные руки, крепко сжимавшие руль машины. В тусклом свете приборной доски они казались коричневыми. «Она обязательно победит, — подумал он, — очень быстро и очень скоро». Она сделала бы это, даже если бы не была замужем. Эта мысль болью отозвалась у него в голове, словно она уже бежала прямо по его сердцу, оставляя раны острыми подошвами шиповок.
Она снова заговорила о Камилле, покойнике, который уже занимал в ее жизни гораздо больше места, чем когда-либо удастся занять ему, несмотря на молодость и энергию. Живой, сидящий рядом, полный стремлений, он не мог соревноваться с никому не известным человеком, лежавшим под смоковницей на краю утеса. «Я рядом с ней, в нашем общем пространстве и времени, — подумал Пината, — но Камилла стал частью ее снов». Он начинал ненавидеть это имя. «Черт бы тебя подрал, Камилла, маленькая кровать…»
— Я отчетливо чувствую, что причастна, — призналась она, — даже виновата в чем-то.
— Комплекс вины довольно часто возникает в связи с вещами, не имеющими никакого отношения к конкретным происшествиям или людям. Ваш комплекс тоже может не иметь никакого отношения к Камилле.
— Я все же полагаю, что имеет. — Твердость ее казалась чрезмерной, будто она сама хотела поверить в самое худшее о себе. — Довольно странное совпадение: оба имени мексиканские, сначала этой девушки, Хуаниты Гарсиа, а теперь Камиллы. Я редко встречалась, почти не встречалась с мексиканцами, кроме тех, кто приходил в клинику. Дело не в том, что я отношусь к ним с предубеждением, как мама, просто у меня никогда не было возможности познакомиться с кем-то из них.
— То, что у вас «никогда не было возможности познакомиться», означает одно: вы не могли проверить на практике наличие или отсутствие у вас предубеждения. У вашей матери, возможно, такой шанс был, и она по меньшей мере достаточно откровенна, признавая это.
— А я неоткровенна?
— Я этого не говорил.
— Намек ваш был очевиден. Может, вы думаете, что я выяснила, когда погиб Камилла, задолго до сегодняшнего дня? Или что я знала его самого?
— И то и другое приходило мне в голову.
— Конечно, не доверять мне легче, чем поверить в невозможное. Я никогда не встречала Камиллу, — повторила она. — Чего ради я должна говорить вам неправду?
— Не знаю.
Он попытался, но так и не сумел назвать себе причины, по которым она должна была ему врать. Он для нее ничего не значил; ей было наплевать на его одобрение или неодобрение; она не пыталась оказывать на него влияние, соблазнять его, убеждать или производить на него впечатление. Он значил для нее не больше, чем стенка для метания мячей. Зачем врать стенке?
— Очень жаль, — сказала она, — что вы встретили моего отца раньше, чем появилась я. Ведь вы подозревали меня еще до того, как увидели, были предубеждены. Я и отец нисколько не похожи, хотя мама любит повторять, что мы копия друг друга, правда, когда она сердится. Она заявляет, что я похожа на него как две капли воды. Правда?
— Внешне нет.
— И не внешне тоже, даже в хорошем. А в нем немало хорошего, правда, я думаю, в тот день, когда вы его увидели, у него не было возможности это продемонстрировать.
— Иногда у моих задержанных это получается. Я никогда никого не сужу по родителям. Я не могу себе этого позволить.
Она повернулась к нему и посмотрела так, словно рассчитывала, что он пояснит сказанное. Но он не стал ничего говорить. Чем меньше она о нем знает, тем лучше. У стенок не должно быть семейных историй, стенки нужны для защиты личной жизни, украшения, для того, чтобы за ними можно было спрятаться, перепрыгнуть через них, поиграть под ними. «Ну, швырни в меня еще пару мячей, Дэйзи, детка».
— Этот Камилла, — произнесла она наконец. — Вы узнаете о нем побольше?
— Например?
— Ну, как он умер, почему, была ли у него семья или друзья.
— И что потом?
— Мы будем знать наверняка.
— А что, если мы узнаем вещи, которые никому не принесут радости?
— Мы должны попробовать. Мы просто не можем остановиться на полпути. Об этом нельзя и думать.
— На мой взгляд, думать об этом как раз можно.
— Вы пытаетесь меня одурачить, мистер Пината. Вы не больше моего хотите прекратить поиски. Вы слишком увлеклись.
Она была права во многом, он не хотел прекращать свое расследование, но причиной тому был вовсе не избыток любопытства.
— Сейчас четверть шестого. Если вы поедете быстрее, то мы еще успеем вернуться в библиотеку до закрытия. Поскольку Камилла покончил жизнь самоубийством, то там должна быть информация об этом, так же как и некролог.
— Разве сейчас вы не должны быть дома?
— Должна.
— В таком случае я думаю, вам лучше поехать домой и оставить мне все это дело, связанное со смертью Камиллы.
— Вы позвоните мне, как только что-нибудь выясните?
— Не думаю, что это было бы разумно в данных обстоятельствах, — заметил Пината. — Вам придется как-то объясняться с мужем и матерью. Если только, конечно, вы не решили посвятить их в свои дела.
— Я позвоню вам на работу завтра утром в то же время, что и сегодня.
— Все еще играете в секреты? А?
— Я играю, — сказала она, отчетливо произнося каждый звук, — именно в те игры, в которые меня научили играть дома. Ваша система играть с открытыми картами не сработает в моем доме, мистер Пината.
«В моем тоже, — подумал он. — Моника нашла себе для игры нового партнера».
Когда он вернулся на четвертый этаж здания «Монитор-пресс», дежурившая в библиотеке девушка уже закрывала дверь.
Она помахала ключами и серьезно сказала:
— Мы уже закрываемся.
— Но ведь еще четыре минуты до закрытия.
— В распоряжении у вас только они.
— Мне хватит. Могу я еще раз взглянуть на ту пленку? Пожалуйста.
— Ну вот еще один пример, — сказала она с горечью, — что значит работать в газете. Все необходимо делать в самую последнюю минуту. Один кризис сменяет другой.
Она продолжала ворчать, пока доставала фильм в полке и вставляла его в проектор. Но ворчание ее не было направлено против Пинаты или против газеты, а скорее выражало протест против такой жизни, которая никак не поддавалась размеренному планированию.
— Я люблю, чтобы все было по порядку, — призналась она, включая проектор, — а никак не получается.
Камилла появился на первой странице номера за третье декабря. Заголовок гласил: «Самоубийца оставил странную по содержанию предсмертную записку» — и сопровождался зарисовкой лица человека с ввалившимися щеками, глубоко посаженными глазами и заострившимися скулами. Хотя на лице этого человека было немало морщин, длинные темные волосы, кольцами спадавшие ему на уши, придавали ему выражение странной невинности. Судя по подписи, портрет был сделан художником «Монитор-пресс» Горэмом Смитом, оказавшимся среди первых на месте происшествия. Подпись Смита стояла и под сопровождавшим рисунок текстом:
«Тело жертвы самоубийства, обнаруженное вчера неподалеку от зарослей у железной дороги дежурным полицейским, было опознано как труп Карлоса Теодора Камиллы, как предполагается находившегося в нашем городе проездом. На теле вначале не было найдено ни бумажника, ни документов, но позднее при детальном обследовании одежды был обнаружен конверт, в котором находились написанная карандашом записка и две тысячи долларов крупными купюрами. Представители местной власти были озадачены как суммой денег, так и характером записки, в которой было написано следующее: „Этого достаточно, чтобы оплатить мой путь на небо, грязные крысы. Карлос Теодор Камилла. Родился слишком рано, в 1907. Умер слишком поздно, в 1955“.
Записка была написана на бланке отеля Паркера, однако в регистрационной книге постояльцев Камилла зафиксирован не был. Проверка других гостиниц и мотелей также ничего не дала. Выяснить, где останавливался самоубийца, оказалось невозможно. Полиция предполагает, что он находился в городе проездом, добравшись сюда на попутных машинах, или приехал на угнанном автомобиле после того, как совершил ограбление в каком-нибудь другом районе штата. Последнее должно было объяснить, откуда у Камиллы, находившегося в начальной стадии истощения, такое количество денег. Запросы были разосланы шерифам и начальникам полицейских управлений по всему штату с целью выяснить происхождение двух тысяч. Похороны были отложены до того момента, пока не будет установлено, что деньги принадлежали покойному, а не явились результатом грабежа. Тем временем тело Камиллы было передано в ведение Роя Фондеро, директора похоронного бюро.
По мнению следователя Роберта Лернера, Камилла умер в ночь с четверга на пятницу от нанесенной самому себе ножевой раны. Тип ножа был определен следствием как наваха, которая часто встречается у мексиканцев и индейцев на юго-западе штата. На рукоятке были вырезаны инициалы К. К. Дюжина окурков, обнаруженных на месте трагедии, свидетельствует о том, что Камилла в течение длительного времени решал, совершать ли задуманное или отказаться. Неподалеку была найдена пустая бутылка из-под вина, но анализ крови показал, что Камилла не пил в этот день.
Жители так называемых Джунглей, скопления хибар между железной дорогой и первым шоссе, отрицали, что располагают какой-то информацией о погибшем. Отпечатки пальцев Камиллы были отправлены в Вашингтон, дабы получить подтверждение, имелось ли у него преступное прошлое и не проходил ли он через картотеку иммиграционной службы. Была предпринята попытка установить его место жительства, найти родственников или друзей. Если никто не обратится с просьбой о выдаче тела, а деньги окажутся законно принадлежащими покойному, Камилла будет похоронен на местном кладбище. Предполагается, что коронерское расследование, назначенное на завтрашнее утро, будет коротким».
Оно и было коротким. Как сообщал выпуск за пятое декабря, выяснилось, что Камилла умер от ножевой раны, нанесенной себе самому в состоянии глубокого отчаяния. Свидетелей было немного: полицейский, обнаруживший тело, врач, который описал смертельную рану, патологоанатом, сообщивший, что Камилла страдал от длительного недоедания и ряда серьезных физических заболеваний. Время смерти было приблизительно определено как час ночи второго декабря.
У Пинаты мелькнула мысль, что Дэйзи, возможно, читала обнаруженные им сообщения тогда, когда это случилось. Ее могла потрясти патетическая сторона описываемых событий — больной, голодный, боязливый («этого достаточно, чтобы оплатить мой путь на небо»), непокорный («вы, грязные крысы»), отчаявшийся («родился слишком рано, умер слишком поздно»), отправил последнее предание миру и совершил акт расставания с жизнью.
Пината спросил себя, относилось ли определение «грязные крысы» к конкретным людям или, подобно ворчанию библиотекарши, обозначало обвинение всему миру.
Девушка вновь зазвенела ключами. Пината выключил проектор, поблагодарил хозяйку и вышел.
Он ехал в офис, размышляя о деньгах, оказавшихся в оставленном Камиллой конверте. Полиции так и не удалось доказать, что они достались ему в результате ограбления, — это ясно, иначе бы ему не лежать на кладбище под этим каменным крестом. Главный вопрос заключается в том, почему отчаявшийся бродяга захотел потратить две тысячи долларов на похороны, вместо того чтобы купить себе столь необходимые еду и костюм. Случаи, когда люди умирают от голода, а потом в матрасах или под какой-нибудь половицей в квартире обнаруживали состояния, были не слишком часты, хотя время от времени такое случалось. Не принадлежал ли Камилла к типу вот таких ненормальных скупердяев? Сомнительно. В конверте лежали крупные купюры, а скупердяи, как правило, держали свои клады в четвертаках и полтинниках, в лучшем случае в долларах, которые собирались на протяжении всей жизни. Кроме того, ни один скупердяй не отправился бы в путешествие. Они живут в одном и том же месте, очень часто в одной и той же комнате, чтобы охранять свои сокровища. Камилла же двинулся с места, но откуда и куда, с какой целью он ехал — вот в чем вопрос. Неужели он выбрал этот городишко для того, чтобы умереть в нем? Или он приехал сюда, чтобы с кем-то встретиться, найти кого-нибудь? Но если даже так, была ли это Дэйзи? Ведь единственная связь с Камиллой, которая у нее имелась, возникла во время ночного кошмара четыре года спустя.
В кабинете было холодно и темно, и, хотя он сразу же включил газовый обогреватель и все лампы, комната все равно казалась лишенной жизни и тепла, словно дух Камиллы уже проник внутрь этих стен, обдавая их могильным холодом.
Камилла снова вернулся в этот мир, он прокрался в него тихо и коварно при помощи ночного сна. Он передумал — шум моря был слишком громким, корни дерева росли слишком быстро, а его новый дом был слишком узким и темным, он требовал возвращения в этот мир и избрал мозг Дэйзи в качестве своего помощника.
«Я становлюсь таким же чокнутым, как и она, — мелькнуло у него в голове. — Нужно держаться прямой раскладки фактов: Дэйзи увидела сообщение в газете. Оно причинило ей боль, и она постаралась забыть об этом. И забыла почти на четыре года. Но неожиданно какое-то событие или переживание пробудило ее память, и Камилла вернулся в ее сон, несчастное создание, которое она по непонятным причинам приняла за себя самое. Вот и все. Никакой мистики, обычное дело со сложными поворотами памяти».
— Все очень просто, — сказал он вслух, и его голос, прозвучавший в холодной комнате, принес ему некоторое утешение. Он уже давненько не прислушивался к собственному голосу, и он показался ему достаточно приятным и глубоким, как у умудренного опытом старика. Он пожалел, что не смог придумать подходящее к данному моменту умное высказывание. Казалось, что мозг его ужался настолько, что там оставалось место только для Дэйзи и неизвестного покойника из ее снов.
Капля пота скользнула у него за ухом и упала за воротник. Он поднялся со стула, подошел к окну и распахнул его настежь. Затем он взглянул на полную прохожих улицу. Мало белых отваживалось прогуляться по Опал-стрит с наступлением сумерек. Эта часть города принадлежала ему, ему и Камилле, и Дэйзи не имела к ней никакого отношения. «Аллея грязи» — так называл это место кое-кто из полицейских, и когда он чувствовал себя тихо и спокойно, то не слишком осуждал их за подобное мнение. На ножах, которые пускали в дело здесь, было немало грязи. На ноже Камиллы, очевидно, тоже.
— С возвращением на Аллею грязи, Камилла, — громко произнес он, но его голос совсем не напоминал голос умудренного старца. Он звучал юно, зло и яростно. Это был голос ребенка из приюта, дерущегося за свое имя, за Иисуса.
«Все эти царапины, синяки и выбитые зубы, — сказала мать-настоятельница. — Половину всего времени ты почти не походил на человека».
Он закрыл окно и посмотрел на свое отражение в покрытом пылью зеркале. У него больше не было выбитых зубов, царапин и синяков, но он не слишком походил на человека.
— Конечно, с именем Иисуса жить очень нелегко…
Часть II Город
10. Но любовь была, Дэйзи. Ты — доказательство существования нашей любви
Только одна вещь постоянно была с Филдингом во время всех его путешествий — грязный, весь в пятнах, обтянутый недубленой кожей чемодан. Ему было так много лет, что замки не работали, и хозяин перевязывал его собачьей цепью, которую он купил в лавке дешевых товаров в Канзасе. В этом чемодане Филдинг держал те немногие дорогие его сердцу вещички, которые он решил сохранить на память, и, когда ему было грустно, или его охватывала тоска по прошлому, или он особенно остро ощущал свое одиночество, он любил вынимать и рассматривать их, словно разорившийся хозяин магазина, разглядывающий еще оставшийся товар.
В этих сувенирах из прошлого, хоть и было их немного, содержалось столько чувства, что пробужденные ими воспоминания, казалось, с годами становятся еще ярче и оживленнее. Пластмассовая палка из цирка на Мэдисон-сквер-гарден вернула его под огромный купол настолько ощутимо, что он смог вспомнить каждого клоуна и каждого фокусника, каждого воздушного акробата с распухшими от напряжения мышцами ног и даже старого усталого слона.
Кроме палки в чемодане было следующее:
Зеленый котелок, оставшийся с вечеринки в день Св. Патрика в Ньюарке (А неплохо они тогда гульнули!).
Два куска окаменевшего дерева из Аризоны.
Серебряный медальон (Бедняжка Агнесса).
Гавайская гитара. Филдинг не умел играть на этом инструменте, но любил с видом опытного музыканта держать ее в руках, когда напевал «Осеннюю луну» или «Весну в горах».
Небольшая шкатулка из пахучих трав и игл дикобраза, сделанная индейцем из Северного Онтарио.
Двойная цепочка из позолоченных сосновых шишечек, которая когда-то была прикреплена к присланному ему Дэйзи рождественскому подарку — наручным часам, заложенным потом в Чикаго.
Несколько вырезок из газет о далеких и манящих морских портах по другую сторону Земли.
Пачка писем, в основном от Дэйзи, а также почтовых переводов, давным-давно полученных и прожитых.
Поломанная ручка с золотым пером из ненастоящего золота.
Два расписания поездов.
Кусок дерева, по рассказам — от линкора «Западная Виргиния», подвергшегося бомбардировке в Пёрл-Харборе. Он выменял его у одного моряка в Бруклине на бутылку мускателя.
Здесь же лежал десяток фотографий: Дэйзи со свидетельством об окончании школы в руках, Дэйзи и Джим во время медового месяца. Обрамленная рамкой фотография двух солидных женщин зрелого возраста, совершенно одинаковых на вид (они держали пансион в Далласе), наискосок шла надпись «Стэну Филдингу в надежде, что он не забудет „божественных двойняшек“». Увеличенный портрет шахтера из Пенсильвании, который как две капли воды походил на Авраама Линкольна и очень сокрушался, что тот умер и из этого сходства нельзя извлечь никаких выгод («Ты только подумай, Стэн, как бы лихо мы с тобой могли жить: я — Авраам Линкольн, ты — мой госсекретарь, а все нам кланяются, расшаркиваются и покупают нам выпивку. Меня просто тошнит от мысли, сколько дармовой выпивки мы потеряли!»). Еще одна фотография, наклеенная на картон. Ада, сам Филдинг и их работник на ранчо около Альбукерке, симпатичный кареглазый парень по кличке Кудряш. Весной, когда пылевые бури превращали день в ночь и работать было невозможно, они обычно втроем играли в карты. В первые годы замужества Ада была хорошей, веселой бабой, готовой на любые подвиги. Рождение ребенка ее здорово переменило. Тот год был очень засушливым, и из ее глаз вылилось больше слез, чем дождя с неба.
Он вытащил чемодан и начал раскладывать его содержимое на большом круглом столе под зеленым абажуром свисавшей с потолка лампы.
Мюриэл вошла в комнату из кухни, больше помещений в квартире не было. Невысокого роста, полноватая женщина средних лет с резко очерченным крупным ртом и размытыми круглыми бледно-зелеными, словно мятные лепешки с каплей лакрицы в центре, глазами. Увидев раскрытый чемодан, она недовольно вздохнула:
— Зачем еще тебе понадобилось вытаскивать это старье наружу?
— Воспоминания, моя дорогая, воспоминания.
— Знаешь, мне тоже есть о чем вспомнить, но я не вываливаю старое барахло на стол каждые две недели.
Она склонилась у него над плечом, чтобы получше разглядеть сделанную на ранчо фотографию:
— Похоже, вы были веселой компашкой.
— Да, тридцать лет назад.
— Брось, ты не слишком изменился с той поры.
— По крайней мере не так сильно, как Кудряш, — сказал он мрачно. — Я навестил его, когда в последний раз проезжал через Альбукерке, и с трудом узнал. Он выглядел стариком, а его руки настолько скрючились от артрита, что он даже не мог играть в карты, не то что ухаживать за скотиной. Мы немного повспоминали старые времена, и он сказал, что обязательно заглянет, когда приедет в Чикаго в следующий раз. Но и он, и я прекрасно знали, что больше никогда не увидимся.
— Ну, ты уж не слишком над всем этим раздумывай, — грубовато посоветовала Мюриэл. — Все твои проблемы от того, что ты все время суешь нос в прошлое, ты привык его обсасывать. Запомни-ка мои слова, Стэн Филдинг. Этот твой старый чемодан и есть твой худший враг. Был бы ты поумнее, давно взял бы его да отнес на причал и зашвырнул подальше в море, сказав ему последнее прости.
— Я вовсе не претендую на то, чтобы быть умным. В данный момент меня очень мучит жажда. Как хорошая жена, будь любезна, принеси мне пивка. Сегодня что-то жарковато.
— Оттого, что лакнешь пива, прохладнее не станет.
С этими словами она направилась в кухню за пивом, поскольку очень любила, когда он называл ее хорошей женой. Они были женаты всего месяц, и, хотя страстной любви к мужу Мюриэл не испытывала, у него, вне всякого сомнения, имелись качества, которыми она восхищалась. Пьяный или трезвый, он был намного добрее любого из мужчин, которых ей приходилось встречать до него; он обладал не только хорошим чувством юмора и хорошими манерами, но и пышной шевелюрой, и полным комплектом собственных зубов. Помимо всего прочего она ценила его способность заткнуть в разговоре за пояс любого. Кто бы что ни говорил, в том числе и люди с хорошим образованием и неплохими мозгами, Стэн всегда мог одержать верх над собеседником. Мюриэл гордилась тем, что она была замужем за человеком, у которого имелся ответ на любой вопрос, хотя очень часто ответ этот мог быть, а порой и оказывался неправильным. Впрочем, классно высказанный неправильный ответ был для Мюриэл ничуть не хуже правильного.
Его манера непринужденно разговаривать преобразила и саму Мюриэл: из молчаливой и довольно робкой женщины, которую он встретил в Далласе, она превратилась в особу с громким голосом и большой способностью к общению. Она знала, что ей нечего его бояться, что бы она ни сказала. Любое произнесенное слово, в том числе и свое собственное, Филдинг воспринимал с большой долей иронии и скептицизма. Другое дело — слова, написанные на бумаге. Он безгранично верил любому прочитанному тексту, даже если он содержал очевидные противоречия, а к любому полученному письму относился как к посланию монарха, доставленному дипломатической почтой и слишком серьезному, чтобы его можно было открыть сразу. Каждый раз он минут пять вертел его в руках, рассматривал со всех сторон, подносил к свету, прежде чем сломать печать.
Когда Мюриэл вернулась с бутылкой пива в руках, она увидела, что он склонился над одним из писем с таким выражением напряжения и беспокойства на лице, что можно было подумать — он читает его первый, а не пятидесятый раз.
Большую часть писем от Дэйзи он читал ей вслух, и она никак не могла понять его волнений по поводу подобной скукотищи. У нас тепло. Или холодно. Розы отцвели. Или расцвели… Была у зубного, в парке, на пляже, в музее, в кино. «Может, она и неплохая девушка, эта его Дэйзи, — думала Мюриэл, — но уж больно скучно живет».
— Стэн.
— Ну?
— Твое пиво.
— Спасибо, — сказал он, но не потянулся за ним сразу же, как делал это обычно, и она поняла, что это письмо принадлежит к числу самых худших, которые он не читал вслух и не обсуждал.
— Стэн, пожалуйста, не впадай в меланхолию. Я очень не люблю, когда ты грустишь. Мне становится так одиноко. Ну, выпей!
— Сейчас.
— Послушай, я все понимаю. Может, ты покажешь мне фотографию этого парня, который был так похож на Авраама Линкольна? Вот уж фотография, ничего не скажешь. Расскажи мне о нем, Стэн, о том, как ты был бы государственным секретарем в цилиндре и визитке…
— Ты уже слышала об этом.
— Расскажи мне еще раз. Я с удовольствием посмеюсь. Здесь так жарко, что только смех может спасти меня.
— Меня тоже.
— Ну так что? Давай посмеемся. Нам есть над чем.
— Да. Я знаю.
— Ну, Стэн, не грусти, пожалуйста.
— Не беспокойся.
Он положил письмо обратно в конверт. Как ему хотелось, чтобы письмо это никогда не попадало ему в руки. Оно было написано давным-давно, и он ничего уже не мог изменить. Собственно, и тогда он не мог ничего сделать. Но беспокоило его то, что он даже не попытался ничего предпринять, не позвонил ей, не написал, не поехал ее повидать.
— Ну, Стэн. Твое здоровье! Как?
— Конечно, конечно. — Он выпил пиво. У него был какой-то странный кисловатый привкус, словно его несколько раз охлаждали, а затем выставляли на жару, потом снова охлаждали. Интересно, мелькнула у него в голове мысль, может быть, и он сам так же пахнет по этой причине. — Хорошая ты женщина, Мюриэл!
— Брось. — Она смущенно рассмеялась. — Ты и сам не такой уж плохой человек.
— Неужели? Я бы на твоем месте на это особенно не рассчитывал.
— Да нет. Ты шикарный мужик. Я поняла это, как только увидела тебя в самый первый раз.
— Зря ты так думаешь. Совершенно зря.
— Стэн, я тебя умоляю. Не надо.
— Просто приходит время, когда человеку пора дать оценку собственной жизни.
— Но почему это время должно наступить именно сегодня, в такое замечательное субботнее утро? Послушай, почему бы нам не сесть в автобус и не поехать в зоопарк?
— Нет, — ответил он мрачно, — если уж обезьянам приспичило посмеяться, пусть приходят и поглядят на меня здесь.
Испуг в ее глазах постепенно сменялся раздражением, рот словно поджали щипцами.
— Ты все-таки приуныл, несмотря ни на что.
Казалось, Филдинг не расслышал жену.
— Я ее подвел. Я всегда ее подводил. Даже в прошлый понедельник я от нее сбежал, смылся без всяких объяснений, не извинившись. Я трус. Я тунеядец. Пината назвал меня именно так — тунеядец.
— Я уже слышала от тебя все это. Ты мне все рассказывал. А теперь почему бы тебе об этом не забыть? По-моему, он сам тот еще наглец. Может, он тунеядец почище тебя.
— Вот и ты назвала меня тунеядцем.
— Нет, нет, я вовсе не это имела в виду. Я только…
— Ты имеешь право думать именно так. Это правда.
Она вдруг наклонилась и с размаху ударила кулаком по столу:
— Какого черта ты не запрешь свой проклятый чемодан и не оставишь его в покое?
Он посмотрел на нее с выражением печали и нежности:
— Тебе не подобает так кричать, Мюриэл.
— Почему бы нет? Если мне есть о чем кричать, отчего же мне не кричать?
— Потому что подобного рода поведение не красит даму. «Во всем колчане Дьявола нет стрелы для сладкоголосого сердца».
— У тебя на все готов ответ, да? Даже если ты выдергиваешь его из Библии.
— Из лорда Байрона, не из Библии.
— Стэн, пожалуйста, убери чемодан. — Она подняла с пола цепочку-подарок и протянула ему. — Давай все сложим, запрем и снова засунем чемодан под кровать — и просто сделаем вид, что мы его никогда не открывали. Как? Я тебе помогу.
— Не надо. Я могу все сделать сам.
— Ну так сделай. Сделай же!
— Ладно, — он принялся складывать в обшарпанный чемодан все свои сокровища: фотографии, письма, вырезки, кусочки окаменелого дерева, палку из цирка и шкатулку из игл дикобраза. — Мне пятьдесят три, — внезапно произнес он.
— Да, я знаю. Ты выглядишь гораздо моложе. У тебя прекрасная шевелюра. Спорю, что многие моложе сорока позавидуют…
— Пятьдесят три, и это все, что у меня есть от прожитых лет. Не много?
— Как у большинства.
— Нет, Мюриэл. Не надо меня жалеть. Меня слишком много жалели, были ко мне слишком добры и слишком много позволяли. Я не заслуживаю такой чудной дочери, как Дэйзи. Только подумать, я убежал от нее, даже не остался, чтобы поздороваться, хотя бы посмотреть, как она выглядит после стольких лет. Она была прелестной девчушкой с огромными невинными голубыми глазами и застенчивой приятной улыбкой…
— Я знаю, — оборвала его Мюриэл. — Ты уже рассказывал. Ты все уложил в чемодан? Сейчас я помогу его закрыть.
— Порядочный отец всегда остается с детьми, даже если он не больно ладит с их матерью. Дети, они ведь единственная надежда обрести бессмертие.
— Да? Тогда со мной все в порядке. Целых две мои надежды на бессмертие гоняют коров в Техасе.
— Когда придет мой час, я не умру полностью, ибо часть меня будет продолжать жить в Дэйзи. — Он вытер увлажнившиеся глаза, было очень грустно думать о собственной смерти, куда грустнее, чем о кончине кого-то еще.
— Если ты такой бездельник и тунеядец, — спросила Мюриэл, — с чего это тебе желать, чтобы часть тебя продолжала жить в Дэйзи?
— Ты не можешь понять, Мюриэл. Ты не мужчина.
— Надо же. Я очень рада, что ты заметил разницу между нами. Не мог бы ты замечать ее почаще?
Филдинг поморщился. Мюриэл была неплохой женщиной, но ее приземленность иногда могла смутить, а иногда даже уничтожить то хорошее, что существовало между ними. Как сейчас, когда он размышлял над тонкими и деликатными вопросами, например, его потрясло то, что он был сбит со своих мыслей ее громким и энергичным голосом.
Чтобы смягчить удар, он откупорил очередную бутылку пива, в то время как Мюриэл запихнула чемодан под кровать.
— Вот, — сказала она удовлетворенно и сделала жест, напоминавший движение рук врача, только что зашившего особенно тяжелую рану. — С глаз долой, из сердца вон.
— Все не так просто.
— Все не так сложно, как ты пытаешься представить, Стэн Филдинг. Если бы на свете существовали все те сложности, о которых ты говоришь, то нужно пойти и утопиться. Кстати, как бы ты отнесся к такому предложению — почему бы нам не сходить на пляж, не посидеть на песочке и не посмотреть на людей? Это тебя всегда веселит, Стэн.
— Не сегодня. Нет настроения.
— Ты так и собираешься сидеть и угрюмо копаться в мыслях?
— Немножко покопаться никогда не мешает. Может быть, я недостаточно размышлял в своей жизни — это всему причиной. Как только у меня начиналась депрессия, я собирал вещички и уезжал. Убегал, так же как я убежал от Дэйзи. Мне не следовало так поступать, Мюриэл. Не следовало.
— Хватит хныкать. Сделанного не воротишь, — резко ответила она. — Такие проблемы испытывал любой пьяница из тех, кого мне приходилось встречать. Вы рыдаете во весь голос над тем, что сотворили, затем вам нужно надраться до полусмерти, а потом все повторяется с самого начала.
— Надо же, — заметил он, моргая. — Ты еще и психолог, Мюриэл. Какая интересная теория.
— Чтобы увидеть вас насквозь, не нужна никакая дурацкая ученая степень, только глаза и уши, навроде моих. И твои были бы на это способны, если б ты использовал их по назначению.
Она подошла к нему с какой-то стеснительностью и встала рядом, обняв за плечи.
— Пойдем, Стэн. Давай сходим на пляж и посмотрим на людей. Может, попытаемся найти то место, где все занимаются культуризмом? Можем поехать на автобусе.
— Нет, Мюриэл, извини. У меня другие дела.
— Например?
— Я собираюсь вернуться в Сан-Феличе и повидать Дэйзи.
Минуту она молчала. Она отошла от него и опустилась на кровать с выражением полного недоумения на лице.
— Зачем тебе это понадобилось, Стэн?
— У меня есть на это свои причины.
— Почему бы тебе не взять меня с собой? Я бы смогла проследить, чтобы ты не влип ни в какую историю, навроде той, что произошла в прошлый раз из-за этой официантки.
Когда он вернулся из Лос-Анджелеса в понедельник вечером, он рассказал ей во всех подробностях о встрече с Нитой и ее супругом в баре. Чтобы приуменьшить значение этого происшествия, Филдинг представил случившееся в забавном свете, и они оба хорошо посмеялись. Правда, смех Мюриэл не был слишком искренним: что, если бы муж этой девицы оказался здоровее и злее? Или — а подобное случается сплошь и рядом — эта девка, Нита, решила бы принять сторону мужа, а не Стэна? А если бы никто не вызвал полицию? А если бы…
— Стэн, — попросила она. — Возьми меня. Я буду за тобой приглядывать.
— Нет.
— Но я же не прошу познакомить меня с Дэйзи, если ты об этом думаешь. Я и мечтать не смею о подобной просьбе. Она ведь принадлежит к высшему обществу. Я даже на глаза ей не покажусь, Стэн. Я просто хочу быть там, чтобы приглядеть за тобой. Понимаешь?
— У нас нет денег на автобус.
— Я могла бы одолжить немного. У старой леди, которая живет в квартире напротив. Я знаю, у нее кое-что отложено, и она мне не откажет. Она меня любит, Стэн, говорит, что я очень похожа на ее младшую сестру, которая умерла в прошлом году. Я думаю, что она, учитывая это сходство, даст немного денег, их как раз хватит на автобус. Так как, Стэн?
— Ни за что. Держись подальше от этой старухи. Натуральная змея.
— Ну ладно. Может, нам тогда поехать на попутных?
По ее нерешительному тону и раздумьям он легко догадался, что она никогда не добиралась автостопом, и подумал, что подобное путешествие пугает ее не меньше, чем мысль о том, как он поедет в Сан-Феличе без нее и попадет в очередную переделку.
— Нет, Мюриэл. Автостоп не для леди.
Она посмотрела на него с большим подозрением:
— Все дело только в том, что ты не хочешь брать меня с собой. Ты опасаешься, что я помешаю тебе, когда ты соберешься снять очередную потаскушку-официантку…
— Я никого не снимал, — голос Филдинга звучал тем резче и тверже, чем лживее был ответ. Он действительно направился в кафе с целью найти девчонку, но об этом никто не подозревал (за исключением Мюриэл, которая подозревала всегда). Он так и не успел привести свой план в исполнение — муж вошел в кафе сразу же, он даже не имел возможности задать ей вопрос, хотя бы выяснить, та ли женщина ему попалась или надо искать новую. — Я пытался защитить молодую женщину, подвергшуюся оскорблениям.
— Как-то странно получается. Ты можешь защитить кого угодно, кроме себя самого. Ты можешь защитить весь этот чертов мир, а одного-единственного Стэна Филдинга, который более всех нуждается в защите…
— Ну хватит, Мюриэл. Не надо продолжать.
Он подошел к кровати и сел рядом с женой.
— Положи голову мне на плечо. Вот и умница. А теперь послушай. В Сан-Феличе у меня неотложное дело. Я еду совсем ненадолго. Максимум до завтрашнего вечера, если все будет хорошо.
— Что все? И почему может быть нехорошо?
— Дэйзи и Джим могли куда-нибудь уехать на уик-энд или что-то еще в этом роде. Тогда я буду должен задержаться до понедельника. Но не надо обо мне беспокоиться. Хоть ты не слишком высокого мнения о моей способности защитить себя, я могу о себе позаботиться.
— Конечно, можешь. Когда трезвый.
— Я и собираюсь оставаться трезвым. Вне зависимости от того, сколько раз за свою жизнь он давал подобное обещание, Филдинг до сих пор ухитрялся вкладывать в него столько убежденности, что начинал верить сам. — На этот раз ни капли. Если только, естественно, мой отказ не будет выглядеть слишком вызывающе. Тогда уж я соглашусь принять один, повторяю, один стаканчик и растяну его на весь вечер.
Она прижалась к нему с такой силой, словно пыталась оставить у него на плече отпечаток своего лица, который отправился бы с ним в путешествие и оберегал бы его вместо нее от всех напастей, угрожающих ему в тот момент, когда он будет защищать остальных.
— Стэн.
— Да, любовь моя.
— Не напивайся.
— Я ведь уже сказал, что не буду. Никаких выпивок, если только одну рюмку, чтобы не выглядеть вызывающе.
— Например?
— Скажем, Дэйзи пригласит меня к себе и откроет бутылку шампанского, чтобы отпраздновать.
— Отпраздновать что? — прислонившись к его плечу, она не могла видеть, как на его лице неожиданно появилось мрачное выражение. — Так по какому поводу праздник, Стэн?
— Ни по какому, — ответил он, — ни по какому.
— Тогда почему она должна открыть шампанское?
— Она не будет открывать шампанское.
— А почему ты сказал?..
— Мюриэл, успокойся, пожалуйста.
— Но…
— Там не будет ни праздника, ни шампанского. Я просто на какое-то мгновение размечтался, понимаешь? Люди иногда мечтают, даже такие, как я, кому вроде мечтать совсем не о чем.
— Немножко помечтать время от времени никому не вредно, мягко заметила Мюриэл, поглаживая его по шее. — Послушай, Стэн, тебе надо бы подстричься. Найдется у нас немного денег на парикмахерскую?
— Нет.
— Тогда подожди немножко, я схожу за маникюрными ножницами. На ранчо я всегда стригла ребятишек, большего делать это было некому. — Она поднялась, разглаживая на бедрах платье. — После того как я попрактиковалась, никто не жаловался.
— Не надо, Мюриэл. Прошу тебя…
— На стрижку уйдет не больше минуты. Ты же хочешь выглядеть прилично. Помнишь письмо, в котором она писала о том, что у них изменился адрес? Она описала свой дом. Он, скорее, походил на дворец. Не хочешь же ты пойти в такое место нестриженым?
— Мне все равно.
— Ты всегда говоришь, что тебе все равно, в ситуациях, имеющих для тебя особое значение. — Мюриэл пошла в кухню и вернулась с маникюрными ножницами. Когда она начала подравнивать ему волосы, заметила: — Ты ведь можешь встретить там и свою бывшую супругу. Подумай об этом.
— С какой стати?
— Нет ничего хуже, чем встречаться с бывшей женой, когда не выглядишь как картинка. Наклонись пониже.
— Я не собираюсь с ней встречаться.
— Ты можешь случайно увидеть ее на улице.
— Тогда я отвернусь и перейду на другую сторону.
Мюриэл ждала, что он скажет эти слова, и очень хотела их услышать. Она неожиданно выдохнула с шумом воздух, словно затаив дыхание ожидала, пока ее разубедят.
— Ты и вправду отвернешься?
— Да.
— Расскажи мне о ней, Стэн. Она красивая?
— Я предпочел бы не обсуждать этот вопрос.
— Ты о ней никогда не говоришь — голову немножко вправо, — ну так, как другие мужчины вспоминают о своих бывших. Что плохого в том будет, если ты мне о ней немножко расскажешь, например, красивая она или нет.
— Какая от этого польза.
— Ну, я хотя бы буду знать. Наклонись.
Нагнув голову, он рассматривал пряжку брючного ремня.
— А ты что, хотела бы узнать, какая она красавица?
— Да нет. То есть, я хочу сказать, было бы лучше, если бы она оказалась некрасивой.
— Так и есть, — ответил Филдинг. — Она некрасива. Ты довольна?
— Нет.
— Ладно. Она страшна как смертный грех. Толстая, вся в пятнах, косая, кривоногая, косолапая…
— Ты все врешь, Стэн!
— И совру еще, сказав, что мне она казалась очень красивой, — угрюмо заметил он.
— Она и должна была быть такой, или ты на ней никогда бы не женился.
— Мне было семнадцать лет, а в этом возрасте все девушки кажутся красивыми.
Он, конечно же, лгал. Он не смог бы вспомнить ни одну из тех, кто окружал его, кроме Ады — нежной, розовой, мягкой, как облачко на фоне вечерней зари. Тогда, в расцвете своей юности и силы, он полагал, что посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы оберегать и защищать ее; увы, все это выпало на ее долю. Даже теперь он не знал, когда и по какой причине они поменялись ролями.
— Они и теперь не все кажутся тебе уродинами, — сказала Мюриэл, откладывая ножницы в сторону. — Знаешь, что я думаю? Готова поспорить, эта твоя официантка — обычная дешевая шлюха.
— Она замужняя женщина, мать шестерых детей.
— Муж и шестеро детей никого еще не сделали ангелом.
— Мюриэл, перестань, пожалуйста, нервничать. Я еду в Сан-Феличе вовсе не для того, чтобы встречаться с этой официанткой или моей бывшей женой. Я собираюсь исключительно повидаться с Дэйзи.
— У тебя была возможность сделать это, — нервно заметила она. — Почему бы тебе не позвонить ей по междугородной или не написать письмо? А как-нибудь в другой раз, когда ты будешь уверен, что она дома, ты мог бы поехать.
— Я хочу увидеть ее сейчас, сегодня.
— Но к чему такая спешка?
— Есть причины.
— Это как-то связано со старыми ее письмами, которые ты перечитывал?
— Нисколько.
Про новое письмо, отправленное специальной почтой на адрес склада, где он работал, Филдинг говорить не стал. Оно лежало в его бумажнике, сложенное до размера почтовой марки. Это письмо совсем не походило на те, что лежали в чемодане. В нем не было ни денег, ни новостей, ни вежливых вопросов о его здоровье, ни рассказов о ее собственном состоянии. «Дорогой папа. Я буду очень признательна, если ты немедленно, сообщишь мне, известно ли тебе имя Карлоса Камиллы. Позвони, пожалуйста, по телефону Роблес, 24663. С любовью. Твоя Дэйзи». Филдингу так хотелось, чтобы эта короткая, резкая, почти недружественная записка никогда не дошла до него. Но он прекрасно понимал, что не может сделать вид, будто не получал ее. Он расписался в ее получении на складе, и запись о наличии росписи есть теперь на почте. Как ей удалось заполучить имя и название склада? Очевидно, ей сказал Пината, хотя Филдинг не помнил, что говорил Пинате о своей работе, — он очень плохо себя чувствовал весь день, довольно смутно помнил подробности, где заканчивался один эпизод и начинался другой. А может, Пината выяснил все другими способами; ведь он не только занимается освобождением под залог, он еще и детектив. Детектив…
«Боже всемогущий, — подумал он неожиданно. — Вдруг она его наняла. Но зачем? И какое отношение это может иметь к Камилле?»
— Стэн, ты весь покраснел. Похоже, у тебя приступ лихорадки.
— Хватит надоедать, Мюриэл! Прошу тебя. Мне пора собираться.
Пока он умывался и брился в ванной на две квартиры — они делили ее со старушкой напротив, Мюриэл приготовила ему свежее белье, чистую рубашку и новый голубой галстук в полоску, который в начале недели ему одолжил Пината. Филдинг сказал Мюриэл, что купил его в магазине, как только увидел в витрине, и она поверила, поскольку предмет разговора был настолько незначителен, что врать не стоило. Она знала его слишком мало и еще не поняла, что таинственность по поводу пустяков столь же соответствовала его натуре, сколь и безудержная откровенность в отношении некоторых весьма важных и серьезных вещей. Так, не было никакой необходимости подробно излагать все обстоятельства эпизода, касавшегося Ниты и ее мужа, а также пребывания Филдинга в тюрьме и появления Пинаты. Однако он рассказал ей все в малейших подробностях, за исключением одной: Филдинг скрыл, что позаимствовал галстук у Пинаты.
Возвратившись из ванной и увидев, что Мюриэл выбрала именно этот галстук, он немедленно положил его обратно в ящик шифоньера.
— Но он мне так нравится, — запротестовала она. — У него цвет твоих глаз.
— Он несколько ярковат. Когда добираешься автостопом, лучше выглядеть как можно консервативнее, вроде ты джентльмен и у твоего «кадиллака» только что спустило колесо, а позвонить тебе неоткуда.
— Вот как?
— Конечно.
— А что ты собираешься использовать в качестве «кадиллака»?
— Воображение, любовь моя. Когда я окажусь на обочине шоссе, я начну представлять свой «кадиллак» так усердно, что другие его просто увидят.
— Почему бы тебе не начать прямо сейчас, чтобы я тоже смогла на него посмотреть.
— Я уже начал. — Он подошел к окну и оттянул блекло-розовую тюлевую занавеску. — Пожалуйста, что видишь?
— Автомобили. Примерно миллион автомобилей.
— Один из них — мой «кадиллак». — Отпустив натянувшуюся занавеску, он выпрямился во весь рост и поправил воображаемый монокль. — Прошу прощения, мадам. Не могли бы вы мне сказать, где находится ближайшая заправочная станция?
Она засмеялась заливистым девичьим смехом:
— Стэн, ей-Богу, ты чудо. Тебе нужно было стать актером.
— Мне не хотелось бы вам возражать, мадам, но я и есть актер. Позвольте представиться. Меня зовут — ох, я совсем забыл, что путешествую инкогнито. Я не должен называть себя, иначе я паду жертвой безудержного поклонения миллионов моих обожателей.
— Да, Стэн, ты можешь одурачить кого угодно. Ты и впрямь говоришь как настоящий джентльмен.
Он посмотрел на нее с неожиданно поскучневшим выражением лица:
— Спасибо.
— Я даже увидела воочию этот твой «кадиллак» на секунду. Красно-черный с настоящей кожаной обивкой и твоими инициалами на дверцах. — Она коснулась его руки. Он не шелохнулся. — Стэн?
— Ну?
— Какого черта! Да мы бы не знали, что нам делать с этим «кадиллаком», окажись он у нас. Нужно было бы платить за права, за страховку, за бензин, за масло, понадобилось бы место для стоянки — что до меня, то никакой «кадиллак» не стоит таких пыток. Ей-Богу! Я говорю совершенно серьезно.
— Конечно, конечно, Мюриэл. Ты абсолютно права. — Ее преданность тронула Филдинга, но одновременно и вызвала приступ раздражения, показав ему, что он пока не заслужил подобного к себе отношения и ему придется приложить немало усилий в будущем, чтобы быть на высоте. Будущее, мелькнуло у него в голове. Когда он был моложе, будущее представлялось ему яркой коробкой, перевязанной ленточкой, в которой полным-полно подарков. А теперь перед ним расстилалась темно-серая, непроницаемая пелена.
Из ящика шкафа он вытащил темно-серый галстук, в тон стенам комнаты.
— Стэн, возьми меня с собой. А?
— Нет, Мюриэл. Ты уж извини.
— А ты успеешь вернуться в понедельник вечером? У тебя ведь работа.
— Успею.
Он получил работу ночного сторожа на складе электрической компании на Фигероа-стрит всего неделю назад. Работа была скучной, приходилось сидеть одному, и он развлекал себя, воображая, что объект собираются ограбить и это может произойти в любую ночь. Филдинг рисовал в уме яркие картины, повествующие о том, как он героически отражает налет преступников, одного сбивает подножкой, другого ударом в затылок, третьего достает мощным хуком слева. А может, просто одурачивает их каким-то необычным — каким именно, он еще не придумал — способом. Перехитрив грабителей или просто перебив их, он идет затем получать награду из рук президента фирмы. Награда эта принимала в его фантазиях различные формы — от денег и акций компании до большой бронзовой плиты, на которой были выбиты его имя и описание подвига: «СТЭНЛИ ЭЛЛИОТУ ФИЛДИНГУ, КОТОРЫЙ, ПОВИНУЯСЬ ЗОВУ ДОЛГА, ОТРАЗИЛ НАПАДЕНИЕ СЕМИ ОПАСНЕЙШИХ ПРЕСТУПНИКОВ В МАСКАХ…»
Но это была лишь фантазия, и он прекрасно это знал. Впрочем, подобные выдумки позволяли скоротать время и уменьшить нервное напряжение, которое Филдинг всегда испытывал, оказавшись в одиночестве.
Мюриэл помогла ему надеть пиджак:
— Вот так. Ты великолепно выглядишь, Стэн. Никто и не подумает, что ты работаешь ночным сторожем.
— Спасибо.
— Где ты остановишься, когда приедешь?
— Еще не решил.
— Мне нужно знать, как с тобой связаться, если будет что-нибудь срочное с работы. Я думаю, что могла бы позвонить Дэйзи домой, если случится что-то действительно важное.
— Не надо, — быстро ответил он. — Может, я даже не пойду к Дэйзи.
— Но ведь ты говорил…
— Послушай меня. Ты помнишь, я рассказывал о молодом человеке, который уплатил мой штраф. Стивенс Пината. Его контора на Ист-Опал-стрит. Если и впрямь случится что-то неотложное, оставь ему для меня сообщение.
Она проводила его до двери, прижавшись к его руке:
— Помни, что ты обещал, Стэн. Ты не будешь пить и не станешь бедокурить.
— Конечно.
— Как бы мне хотелось поехать с тобой.
— В следующий раз.
Перед тем как открыть дверь, он поцеловал ее. Филдинг поступил так из-за старушки соседки напротив, мисс Виттенберг. Старая леди держала дверь квартиры широко распахнутой весь день. Она сидела почти в самом дверном проеме, надев очки и положив на колени газету. Иногда она молча читала газету, иногда довольно громко разговаривала, адресуя свои комментарии младшей сестре, умершей год назад.
— Вот и они, Розмари, — проговорила мисс Виттенберг с сильным акцентом, выдававшим в ней уроженку Новой Англии. — Похоже, она провожает его на улицу. Скатертью дорога — вот что я скажу. Я рада, что ты согласна. Ты заметила, в каком ужасном состоянии он опять оставил ванную? Вся эта сырость. Всюду лужи. Розмари, ты меня поражаешь. Твое замечание вульгарно. Папочка перевернулся бы в могиле, если бы услышал, что сейчас слетело с твоих губ.
— Возвращайся в квартиру и запри за собой дверь, — сказал Филдинг Мюриэл. — И не оставляй ее открытой.
— Хорошо.
— И не беспокойся обо мне. Я вернусь домой завтра вечером, в крайнем случае в понедельник.
— Шепот, — заметила мисс Виттенберг, — свидетельство плохого воспитания.
— Стэн, пожалуйста, береги себя.
— Конечно, конечно. Я обещаю.
— Ты меня любишь?
— Ты же знаешь, что люблю, Мюриэл.
— Шепот, продолжала мисс Виттенберг, — это не только свидетельство плохого воспитания. Но я слышала от одного очень влиятельного человека, что скоро его объявят вне закона во всех штатах к западу от Миссисипи. И наказания, как я поняла, будут очень суровыми.
— До свиданья, Розмари. До свиданья, мисс Виттенберг, — громко произнес Филдинг.
— Не обращай внимания, Розмари. Какая наглость! Этот человек смеет обращаться к тебе по имени. В следующий раз он попытается… я вся дрожу от одной мысли об этом! — Она тоже повысила голос и сказала: — Хорошее воспитание вынуждает меня ответить на ваше приветствие, мистер Шептун, но я делаю это с огромной неохотой. Всего доброго.
— О Господи! — пробормотал Филдинг и захохотал.
Мюриэл тоже засмеялась, а мисс Виттенберг описала Розмари новый закон, который вот-вот вступит в действие в семнадцати штатах и запретит смех, шутки и внебрачные связи.
— Не оставляй дверь открытой, Мюриэл.
— Она всего-навсего безобидная старушка.
— Безобидных старушек просто не существует в природе.
— Подожди, Стэн. Ты забыл зубную щетку.
— Куплю в Сан-Феличе. До свиданья, любимая.
— До свиданья, Стэн. Удачи.
После того как он ушел, Мюриэл заперла дверь, встала у окна и тихо проплакала пять минут, слезами облегчив измученную душу. Затем, с покрасневшими глазами, но успокоившаяся, она вытащила из-под кровати потертый, обтянутый недубленой кожей чемодан Филдинга.
11. Воспоминания душат меня, я едва могу дышать
Сложенное из необожженного кирпича здание окружной клиники располагалось чуть в стороне от Стейт-стрит, почти в самом центре города. Огромное количество клиентов Пинаты побывало за ее дубовыми дверями, и за многие годы знакомства Пината довольно хорошо узнал директора клиники Чарлза Олстона. Олстон по своей профессии не был ни врачом, ни работником сферы социальной помощи. Когда-то он работал в страховой компании, а овдовев, посвятил большую часть своего времени решению чужих проблем и забот. Для того чтобы клиника продолжала функционировать, он уговаривал медиков и немедиков оказать ему помощь, выбивал деньги из чиновников города и округа, терроризировал местную газету требованиями бесплатно публиковать его объявления, выступал на заседаниях женских клубов и политических митингах, церковных собраниях, обращался за помощью ко всевозможным ложам и организациям.
Если какая-то группа людей нуждалась в докладчике, вне зависимости от того, где и когда это происходило, там немедленно обнаруживался Олстон, просвещающий слушателей, с пулеметной скоростью обрушивая на них статистические данные. Скорость, с которой он выдавал цифры, играла весьма важную роль в его риторике: аудитория не успевала прислушаться к фактам и цифрам, что было для Олстона весьма желательно, поскольку довольно часто он потчевал ее статистикой собственного изобретения. Он не испытывал особых сомнений по поводу правомерности этого приема, полагая, что он составляет юридически обоснованную сторону в его войне против невежества. «Знаете ли вы, — вопрошал он, устремляя палец к небесам, — один из семи ничего не подозревающих, невинных людей, вроде вас, обязательно проведет какое-то время в клинике для душевнобольных». Если подобное заявление оставляло аудиторию спокойной и равнодушной, он менял соотношение на «один из пяти», а то и «один из трех». «Предотвращение — вот наше спасение. Предотвращение. Мы в нашей клинике не в состоянии решить проблемы каждого. Мы надеемся на то, что сможем не дать этим проблемам стать действительно серьезными».
Ровно в полдень в субботу Олстон повесил на дубовые двери табличку «Закрыто» и закрыл клинику на выходные. Неделя была напряженной, но она дала свои плоды. «Демократическая лига» и «Ветераны иностранных войн» пожертвовали на новую пристройку для детских палат, местное отделение профсоюза штукатуров и цементников предложило свои услуги. «Монитор-пресс» запланировала цикл статей о клинике и предложила премию за лучший очерк под названием «Капля предосторожности».
Не успел Олстон закрыть засов, как кто-то начал колотить в дверь. Такое частенько случалось, когда клиника закрывалась на ночь или на выходные. В своих самых смелых мечтаниях Олстон представлял, что когда-нибудь денег и персонала окажется наконец достаточно и они будут открыты круглосуточно, как настоящая больница, или по крайней мере не станут закрываться на воскресенье. Воскресенье — плохой день для тех, кто боится.
— Мы закончили, — крикнул Олстон из-за дверей. — Если вам необходима срочная помощь, позвоните доктору Меркадо по телефону 53698. Вы поняли?
Пината ничего не ответил. Он просто ждал, прекрасно зная, что Олстон сейчас отопрет, поскольку у него не хватало сил оставить без помощи нуждающегося в ней.
— Доктор Меркадо, телефон 53698, если вам нужна помощь. Какого черта? — спросил Олстон и распахнул двери. — Если вам нужна… А, это ты, Стив.
— Привет, Чарли. Извини, что побеспокоил.
— Ищешь кого-то из своих клиентов?
— Мне нужна кое-какая информация.
— Мои цены меняются в зависимости от времени суток, — пошутил Олстон. — А может, мне лучше сказать, что я беру денежными вкладами на детскую пристройку? Чеки тоже сгодятся, при условии, что их оплатят. Входи.
Пината прошел за ним в кабинет, крохотную комнату с высоким потолком, выкрашенную в ярко-розовый цвет. Розовая краска была одной из собственных идей Олстона, который полагал, что людям, видевшим в жизни слишком много черного, необходим веселый яркий цвет.
— Садись, — предложил Олстон. — Как дела?
— Если я отвечу, что хорошо, ты сразу примешься вытягивать из меня деньги.
— Платить все равно придется. Во внеурочное время я беру в полтора раза больше.
Несмотря на шутливый тон собеседника, Пината знал, что говорит он вполне серьезно.
— Ладно. Это меня устраивает. Как насчет десяти долларов?
— Пятнадцать больше украсит мою бухгалтерию.
— Твою несомненно, мою — нет.
— Хорошо. Не буду спорить. Но хотел бы напомнить, что один человек из пяти обязательно…
— Я уже слышал это на прошлой неделе в клубе.
Лицо Олстона просветлело:
— Это была великолепная встреча. Как? Я терпеть не могу пугать наших парней таким образом, но, если только при помощи страха их можно заставить раскошелиться, мы их обеспечим на полную катушку.
— Сегодня, — заметил Пината, — ты напугал меня всего на десять долларов.
— Возможно, у меня лучше получится в следующий раз. Поверь, я попробую.
— Верю.
— Итак, как же зовут твою проблему?
— Хуанита Гарсиа.
— Господи! — тяжело вздохнул Олстон. — Она что, снова в городе?
— У меня есть основания так думать.
— Ты ее знаешь, да?
— Лично — нет.
— Можешь считать, что тебе крупно повезло. Мы, как правило, не используем термин «неисправимый», но я был готов пустить его в ход, когда дело коснулось Хуаниты. Вот он, случай, когда капля предубеждения могла стоить больше цистерны последующих лекарств. Если бы мы встретились с ней первый раз, когда она была еще ребенком и симптомы нервного расстройства только-только проявились, — что ж, возможно, мы могли бы еще что-то предпринять. Хотя трудно сказать, сработали ли бы наши меры. Когда дело касается Хуаниты, предсказывать что-либо невозможно. Первый раз она оказалась у нас по постановлению суда для малолетних правонарушителей. Ей было шестнадцать, в разводе с одним и на восьмом месяце беременности от другого. Из-за ее состояния мы были вынуждены обращаться с ней нежно и ласково. Думаю, что именно тогда она все поняла.
— Что все?
Олстон покачал головой, на лице его отразилось смешанное выражение печали и невольного восхищения.
— Она выработала очень простой, но абсолютно потрясающий прием, которым связала нас всех по рукам и ногам: и суды, и управление по надзору за условно осужденными, нашу клинику. Как только она попадала в передрягу, она выпутывалась с классической легкостью.
— Каким образом?
— Забеременев. Одно дело — малолетняя правонарушительница, и совсем другое — женщина в преддверии материнства. — Олстон поерзал в кресле и снова вздохнул. — Сказать по правде, никто из нас не знает, пользуется ли Хуанита этим своим приемом осознанно. Один из наших психологов думает, что она использует беременность как возможность ощутить себя более значительной. Хотя я не совсем в этом уверен. Эта девочка — точнее, женщина, ей должно быть лет двадцать шесть — двадцать семь — ни в коем случае не дура. Она показала великолепные результаты по целому ряду тестов, особенно тех, которые требовали не столько знания фактов, сколько активного воображения. Она могла посмотреть на несложный рисунок и описать его так, что впору было подумать, она разглядывает какое-нибудь из творений Ван Гога. Понятие «психопатическая личность» больше не в моде, но оно как нельзя лучше подошло бы к Хуаните.
— Какая она из себя?
— Довольно хорошенькая, огромные глаза, белые зубы и все такое. О фигуре ничего сказать не могу. Никогда не видел ее между беременностями. Самое трагическое заключается в том, — вдруг добавил Олстон, — что ее совершенно не интересуют собственные дети. Когда они были крошками, Хуанита любила их тискать и нянчить, играть с ними, как с куклами, но лишь они немного подросли, она потеряла к ним всякий интерес. Три или четыре года назад ее арестовали по обвинению в пренебрежении материнскими обязанностями, но она снова оказалась в состоянии воспроизведения потомства и была выпущена с условным сроком. После рождения этого ребенка — шестого, по-моему, — она нарушила условия освобождения и убежала из города. Никто не пытался ее разыскивать. Не удивлюсь, если узнаю, что наша клиника скинулась, дабы оплатить ее дорожные расходы. Сама по себе Хуанита представляет клубок проблем. А помножь все это на шесть. Господи! Мне даже думать об этом страшно. А теперь она вернулась в наш город…
— Мне так кажется.
— И чем она занимается? Впрочем, надо ли спрашивать?
— Работает официанткой в баре, — ответил Пината, — если, конечно, это та самая женщина.
— Она замужем?
— Да.
— А дети с ней?
— По крайней мере несколько. Она подралась в баре с мужем несколько дней назад, он заявил, что она их совершенно забросила.
— Если ты ее не знаешь, — поинтересовался Олстон, — откуда у тебя вся эта информация?
— Мой приятель оказался в баре, когда началась драка.
— И ты заинтересовался судьбой многодетной Хуаниты при помощи приятеля, который оказался свидетелем драки?
— Можно сказать и так.
— Я мог бы так сказать, но ведь это неправда. Верно? — Олстон посмотрел на него поверх очков. — У нее снова неприятности?
— Насколько я знаю, нет.
— Тогда зачем ты сюда пришел?
Пината раздумывал. Он не хотел рассказывать всю историю даже Олстону, хотя тому уж довелось послушать вранья, и какого.
— Я хочу, чтобы ты проверил по своей картотеке и ответил мне, была ли Хуанита Гарсиа здесь в один конкретный день.
— Какой день?
— Второго декабря тысяча девятьсот пятьдесят пятого года, в пятницу.
— Странная просьба, — заметил Олстон, — не хочешь пояснить, зачем тебе это нужно?
— Нет.
— Я полагаю, что у тебя основательные причины.
— Не знаю, насколько они основательны. Хотя одна причина у меня есть. Дело касается обратившегося ко мне человека. Я бы не хотел называть это имя, но придется, поскольку мне нужна информация и по данному вопросу. Ее имя — миссис Джеймс Харкер.
— Харкер, Харкер. Дай-ка мне подумать минуточку. Дэйзи Харкер?
— Да.
— Что общего у такой женщины, как Дэйзи Харкер, может быть с человеком, выкупающим под залог арестантов?
— Эта история довольно затянута и не слишком правдоподобна, — улыбнулся Пината. — И поскольку уже субботний полдень и я плачу тебе в полтора раза больше, чем обычно, будет лучше, если ты услышишь ее как-нибудь в другой раз.
— Что же ты хочешь знать о миссис Харкер?
— То же самое: работала ли она в клинике в этот конкретный день? Кроме того, когда и почему она перестала здесь работать.
— Сказать почему — я тебе не могу, поскольку сам не знаю. В то время ее решение меня очень удивило и продолжает удивлять до сих пор. Она сослалась на то, что ее мать больна и требует немало внимания, но мне доводилось по моим контактам с нашим женским клубом встречаться со старушкой. Она здорова как лошадь. Довольно привлекательная женщина, особенно когда демонстрирует свой железный характер… Я уверен, что болезнь миссис Филдинг не могла послужить причиной. Что же касается самой работы, то я уверен, что миссис Харкер она нравилась.
— Она с ней справлялась?
— Превосходно. Сердечная, понимающая, надежная. Конечно, иногда она принимала происходящее чересчур эмоционально и немножко терялась в экстремальных ситуациях, но ничего серьезного. Все дети ее безумно любили. Она умела, это бывает у бездетных женщин, обращаться с ними так, чтобы они чувствовали себя важными персонами, а не результатом случайного столкновения сперматозоида и яйца. Миссис Харкер была замечательной молодой женщиной. Нам было очень жаль терять ее. Ты давно с ней знаком?
— Недавно.
— В следующий раз, когда ее увидишь, передай от меня сердечный привет. И скажи, что мы будем рады, если она появится здесь снова.
— Передам.
— Сказать по правде, если бы я мог узнать, что именно вынудило ее от нас уйти, то обязательно принял бы соответствующие меры, дабы устранить это препятствие.
— Обстоятельства были связаны исключительно с Дэйзи, а не с клиникой.
— Хорошо. Я просто думал, что лучше проверить, — пояснил Олстон. — Иногда у нас бывают расхождения и ссоры среди обслуживающего персонала, как и в любом другом месте. Остается только удивляться, что их не больше, чем в других местах, учитывая то, что психология не относится к точным наукам и расхождения по диагнозам и способам лечения отнюдь не редкость. Особенно способы лечения, — повторил он, нахмурившись. — Ну что, к примеру, можно сделать с такой, как Хуанита? Стерилизовать? Держать взаперти? Подвергнуть принудительному психиатрическому лечению? Мы делали все, что в наших силах, но вот причина того, что не было результата: Хуанита наотрез отказывалась признать, что у нее не все в порядке. Как и большинство не поддающихся исправлению, она попыталась убедить себя (так же как и нас), что все женщины одинаковы и единственное ее отличие заключается в ее честности и чрезмерной активности. Честная и чрезмерно активная — это любимые слова находящихся в состоянии самообмана. Послушай моего совета, Стив. Как только ты услышишь, что кто-то слишком усердно настаивает на своей честности, беги бегом и проверь скорей то место, где ты хранишь деньги. И не очень удивляйся, если обнаружишь там отпечатки чьих-то пальцев.
— Я не слишком верю в обобщения, — возразил Пината. — Особенно в последнее.
— Почему же?
— Потому что оно относится и ко мне. Я довольно часто заявляю о своей честности. В данный момент тоже.
— Ладно, ладно. Я понимаю: мне нужно либо взять свое обобщение назад, либо отправиться проверить денежный ящик. Дай-ка мне минутку поразмыслить. — Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. — Очень хорошо. Я беру назад свое обобщение. Боюсь, что при нашей работе довольно легко стать циником. Так много обещаний дано и нарушено, так много надежд разбито вдребезги — все это порождает привычку верить в психологию противоположностей; когда ко мне приходит человек и заявляет, что он приветлив, честен и прост, хочется записать его в хитрые и назойливые обманщики. Этой опасности, вытекающей из характера самой профессии, я стараюсь избежать. Спасибо за то, что ты мне на это указал, Стив.
— Я ничего тебе не указывал, — ответил несколько смущенный Пината. — Я говорил исключительно о себе самом.
— Нет, нет. Я настаиваю на том, что должен выразить тебе особую благодарность.
— Ну что ж, пожалуйста. При полуторном раскладе я не очень хочу с тобой спорить.
— Ах, да. Полуторная ставка. Я должен продолжить работу. В два часа у меня выступление в клубе. Там хорошая, очень податливая группа. Я надеюсь пополнить там наш фонд. — Он вытащил из стола связку ключей. — Подожди здесь, пожалуйста. Не могу пригласить тебя в нашу картотечную. Не то чтобы наши истории болезней секретны, но многим хотелось бы в это верить. Хочешь почитать что-нибудь, пока меня не будет?
— Нет, спасибо. Я просто подумаю.
— Есть о чем?
— Хватает.
— Дэйзи Харкер, — заметил Олстон, — очень красивая и, как мне кажется, не слишком счастливая молодая женщина. Весьма неважное сочетание.
— Какое это имеет отношение ко мне?
— Надеюсь, что никакого.
— Оставь свои надежды для фонда, — посоветовал ему Пината. — Мои отношения с миссис Харкер ограничиваются сферой профессиональных интересов. Она наняла меня, чтобы я представил ей информацию об одном из дней ее жизни.
— А Хуанита была частью этого дня?
— Возможно.
«Возможно, что частью этого дня был и Камилла, хотя на это пока ничто не указывает». Когда Дэйзи позвонила ему вчера утром в контору, как они и условливались, и услышала подробности его смерти, она была удивлена, огорчена, заинтересована — вполне естественная реакция, которая смыла последние сомнения в ее искренности. Она сказала, что поинтересовалась у Джима и у матери, знали ли они человека по имени Камилла, и ждет ответа от отца, которому отправила письмо специальной почтой.
Во взгляде Олстона смешались ирония и подозрение:
— Ты что-то не слишком разговорчив сегодня, Стив.
— Мне нравится думать о себе как о сильном, молчаливом человеке.
— В самом деле? Что ж, будь осторожен, в тебе сидит синдром Ланселота. Спасение благородных дам в состоянии расстройства — опасное занятие, особенно если дамы замужем. У Харкера репутация порядочного парня. И умного. Подумай об этом, Стив. Я вернусь через несколько минут.
Пината подумал. Синдром Ланселота, черт бы тебя побрал. Мне совершенно неинтересно спасать многочисленных Дэйзи в состоянии расстройства. Дэйзи — дурацкое имя для взрослой женщины. Могу поспорить, что это идея Филдинга. Миссис Филдинг обязательно выбрала бы что-нибудь более возвышенное и экзотическое: Челеста, Стефания, Гвендолен.
Он поднялся и начал ходить по комнате. Размышления о чужих именах вызвали в нем чувство подавленности. Его собственное имя было заимствовано у приходского священника и детей, играющих в канун Рождества. Особенно за последние три года, после того как Моника увезла Джонни, Пината думал о своих родителях, пытаясь, правда не слишком успешно, следовать совету, который не раз повторяла ему мать-настоятельница: «В этом мире нет места для жалости к себе, Стивенс. Ты сильный человек, ибо в этом мире тебе не на кого опереться. Иногда оказывается просто счастьем жить вот так, ни на кого не опираясь. Подумай о всех тех безумных увлечениях, которые могли бы у тебя появиться, в наши дни вокруг так много соблазнов. Для мальчика главное, чтобы у него был рядом настоящий человек, на которого он мог бы равняться. У тебя есть отец, Стивенс… А твоя мать? Не кто иная, как молодая женщина, ей оказался не по плечу ее крест. Ты не должен осуждать ее за это. Возможно, она была только школьница…»
А Хуанита, мрачно подумал Пината. Впрочем, почему это должно было его беспокоить тридцать лет спустя? Я так и не смог найти ее, не осталось ни единой зацепки. И даже если бы я нашел ее, как насчет него? Вполне возможно, что она даже не знает его имени и знать не хочет.
Вернулся Олстон, в руках у него было несколько карточек, вынутых из картотечного ящика.
— Кое-что есть, Стив. Правда, не знаю, что именно. Второе декабря пятьдесят пятого года — последний день, когда миссис Харкер здесь работала. Она дежурила с часа до половины шестого в детской комнате. Там мы принимаем малышей, пока их родители или родственники проходят осмотр. Лечения в детской мы не проводим, но частью обязанностей миссис Харкер было наблюдение и фиксация всех отклонений в поведении, таких, как чрезмерная тяга к разрушению, повышенная стеснительность. Обо всем этом она должна была сообщать медицинскому персоналу. То, как трехлетний ребенок играет с куклой, очень часто дает нам больше для выяснения проблем той или иной семьи, нежели несколько часов беседы с родителями. Так что ты понимаешь, насколько важна была та работа, которую выполняла миссис Харкер. Она относилась к ней очень серьезно. Я только что просмотрел один из ее отчетов. В нем такие детали, какие большинство наших добровольных помощников либо не заметили бы, либо не записали бы.
— Отчет, который ты просматривал, относится к этому конкретному дню?
— Да.
— Произошло ли что-нибудь необычное или тревожное в этот день?
— У нас каждый день происходит что-нибудь необычное и тревожное, — весело ответил Олстон. — Можешь быть уверен.
— Я имел в виду только то, что относится к миссис Харкер. Были ли у нее конфликты с детьми, например?
— В отчете нет никаких свидетельств. У миссис Харкер мог быть конфликт с кем-то из родителей или нашими сотрудниками, но в отчет это бы не попало. И я очень сомневаюсь, что нечто подобное имело место. Миссис Харкер хорошо ладила со всеми. Если бы мне было необходимо высказать критические замечания в ее адрес, то я бы указал только вот на что — она чрезмерно старалась угодить людям; последнее привело меня к заключению, что она не слишком высокого мнения о собственной персоне. Те, кто постоянно улыбаются, как правило, именно такие.
— Постоянно улыбается? — переспросил Пината. — Готова угодить? Может быть, мы говорим о двух разных женщинах, о двух Дэйзи Харкер?
— Почему? Она что, изменилась?
— У нее нет ни малейшего признака того, что она кому-то хотела бы угодить, можешь мне поверить.
— А вот это уже интересно. Я всегда знал, что это маска. Скорее всего, то, что она перестала ее носить, — хороший знак. Все эти уловки папиных дочек кажутся абсолютно неуместными в поведении взрослых женщин. Возможно, она наконец выросла. Зрелость, — добавил он, — не похожа на конечный пункт назначения, как Лондон или Гонконг, Париж или небеса. Это продолжающийся процесс, который напоминает дорогу. Человек идет по ней всю жизнь. В Соединенных Штатах не существует такого конечного пункта, как город Зрелость. Послушай-ка, а не развить ли мне эту мысль перед слушателями на банкете сегодня вечером?.. Пожалуй, нет. Не думаю, что попытаюсь это сделать. Это не слишком поможет сбору денег. Я уж лучше по-прежнему воспользуюсь своей статистикой. Люди, увы, куда легче попадают под обаяние цифр, чем поддаются идеям.
— Особенно твоим?
— Мои идеи могут быть весьма впечатляющими. — Олстон ухмыльнулся. — Но вернемся к предмету нашего разговора. Признаюсь, мне все более интересно, какая же связь между Хуанитой и миссис Харкер.
— Я не уверен, что подобная связь существует.
— Тогда я думаю, что это чистейшей воды совпадение. — Олстон постучал по вынутым из картотеки карточкам. — Пятница, второе декабря, была последним днем, когда миссис Харкер появилась у нас. Но с этого дня мы ничего не слышали и о Хуаните.
— Что, что?
— Она была записана в пятницу утром на прием к миссис Хаксли. Это один из наших сотрудников службы социальной помощи. Сеанс лечения не планировался, только обсуждение вопроса о денежной помощи и решение проблемы с детьми Хуаниты, которые были переданы из приюта для малолетних под опеку матери Хуаниты, миссис Розарио. Никто из нас не считал последнее решение идеальным. У нее хороший и опрятный дом, она уважаемая женщина, но помешана на религии. Миссис Хаксли собиралась попробовать уговорить Хуаниту передать детей в детский дом на некоторое время.
В любом случае Хуанита позвонила миссис Хаксли в пятницу рано утром и сообщила, что не может прийти, поскольку не слишком хорошо себя чувствует. Это показалось вполне правдоподобным, поскольку ей вот-вот надо было отправляться к акушеру. Миссис Хаксли объяснила ей, что их встреча, касающаяся детей, должна состояться как можно быстрее, и было решено, что они побеседуют в тот же день после обеда. Хуанита вела себя очень послушно, даже дружелюбно. Одно это должно было нас насторожить. Естественно, она так и не появилась. Опасаясь, что ребенок мог появиться на свет несколько раньше, чем ожидалось, на следующий день я позвонил миссис Розарио. Она была в ярости. Хуанита забрала детей и уехала из города. По мнению миссис Розарио, во всем был виноват я.
— Почему ты? — спросил Пината.
— Потому, — Олстон поморщился, — что у меня дурной глаз.
— Я как-то не заметил.
— Если ты полагаешь, что вера в дурной глаз исчезла, позволь мне немедленно тебя поправить. Миссис Розарио, как все старики мексиканцы, уверена, что вся медицина — дьявольская выдумка, причина болезни не в микробах, а в дурном глазе. Если ей сказать, что она верит в чепуху, миссис Розарио откажется; но как бы то ни было, первый ребенок Хуаниты родился на кухне у старой повивальной бабки, а когда Хуаниту прислали к нам в клинику для психиатрического лечения, выяснилось, что иметь дело с матерью ничуть не легче, чем с ее дочерью. Немного докторов уделяли внимание этому феномену, и практически никто из психиатров не касался его в своих исследованиях. Они предпочитают отпихивать от себя этих людей, записывая их сразу же в разряд упрямых, умственно отсталых, извращенных, не понимая, что те действуют в соответствии с собственной культурной моделью поведения. Просто она не изменилась так сильно, как нам хотелось бы. Одного времени на ее преображение недостаточно, нужны усилия, и немалые, их нужно целенаправленно обучать… Впрочем, это моя лекция под номером двадцать семь. Надо сказать, что она не пользуется особым успехом… Надеюсь, ты не стал относить на свой счет замечания по поводу вашей расы.
— Чего ради? — Пината пожал плечами. — Я даже не уверен, что это действительно моя раса.
— Но ты все-таки думаешь, что принадлежишь к ней? Знаешь, это меня частенько удивляло. Ты не слишком подходишь…
— Миссис Розарио куда более интересный предмет для обсуждения, нежели я.
— Ну и ладно. Как я уже сказал, она была просто в ярости, когда я ей позвонил. За день до этого она пошла на специальную мессу помолиться за заблудшие души, включая, надеюсь, и душу Хуаниты. Не знаю, как тебя, а меня всегда удивляло, как приходские священники управляются с людьми, которые, как миссис Розарио, одинаково страстно верят в Святую Богоматерь и дурной глаз. Как бы то ни было, вернувшись домой, она обнаружила, что Хуанита исчезла, прихватив весь скарб и своих пятерых детей. Я не знаю причин, по которым миссис Розарио нужно было бы придумывать всю эту историю, но время от времени мне приходит на ум, что слишком уж она для нее удобна. Ей не пришлось отвечать на вопросы полиции и управления по контролю над условно осужденными. Если она была в церкви, когда Хуанита сбежала из дома, никто не может полагать, что она знает хоть что-нибудь. Миссис Розарио очень непростая женщина. Она не доверяет Хуаните и не одобряет ее поведения, но внутри ее заложен очень мощный материнский инстинкт. Ну вот и все. — Олстон откинулся на стуле и стал внимательно разглядывать розовый потолок. — Конец истории Хуаниты. По крайней мере я очень надеялся, что это последняя страница. Где-то через год мы закрыли ее карточку. Последняя запись в ней была сделана в ноябре 1956 года. Гарсиа после возвращения из армии возбудил в суде дело о разводе на основании того, что он был покинут женой. Какой из ее детей был его, не знаю. Возможно, никакой. Как бы то ни было, передачи ему детей он не требовал. Не было предъявлено и требований о выплате алиментов или денег на содержание детей, поскольку Хуанита не появилась в зале суда. Хотя, скорее всего, она знала о происходящем. Мексиканские семьи в наших краях, какие бы раздоры их ни сотрясали, как-то ухитряются сохранять племенные связи и симпатии, особенно перед угрозой со стороны белых. А закон, в их понимании, всегда за белых. Так что у меня нет никаких сомнений, что Хуанита поддерживала связь с кем-то из родственников, информировавших ее обо всем, что происходило, и обещавших сообщить ей, когда можно спокойно вернуться обратно. Как я понимаю; ты уверен, что она вернулась?
— Вполне, — кивнул Пината.
— Снова замужем?
— Да. За итальянцем по фамилии Донелли. Думаю, что он неплохой парень, но Хуанита сильно осложнила ему жизнь, и он всегда готов к драке.
— Откуда ты все это знаешь?
— Я видел его в суде после драки в баре. Мой клиент участвовал в ней. Донелли не смог наскрести достаточно денег, чтобы уплатить штраф, так что он до сих пор в тюрьме. Вполне возможно, Хуанита хочет оставить его там подольше.
— В каком баре она работает?
— «Велада-бар», на Лоуер-стейт.
Олстон кивнул:
— Именно там она время от времени подрабатывала. Хозяйка бара миссис Брустер — подруга ее матери. И миссис Брустер, и ее бар достаточно хорошо известны органам здравоохранения и санитарного контроля, но это место так ни разу и не закрывали. Похоже, ты на верном пути, Стив. Если ты выяснишь, что это и впрямь Хуанита, будь добр, немедленно дай мне знать. Я испытываю чувство ответственности за эту девчонку. Если у нее неприятности, я хотел бы ей помочь.
— Где я смогу найти тебя?
— Днем я буду дома. Звони туда. Но пока я все же не перестаю надеяться, что это ошибка, а настоящая Хуанита спокойно и счастливо живет в достатке где-нибудь на острове посреди Тихого океана.
Олстон встал и закрыл окно, заперев его на шпингалет. Всем своим видом он давал понять, что интервью окончено.
— Буквально одну минуту, — попросил Пината.
— Давай поскорее. Я не хочу, чтобы слушатели в клубе меня заждались.
— Если бы они знали, на какую сумму ты собираешься их растрогать, они с удовольствием подождали бы.
— Да-да. Кстати, о деньгах…
— Пожалуйста. — Пината протянул Олстону десятидолларовую купюру. — Ты когда-нибудь слышал о человеке по имени Карлос Камилла?
— Определенно нет. Имя довольно необычно. Думаю, что запомнил бы его, если бы хоть как-то сталкивался. Кто это?
— Он убил себя четыре года назад. Рой Фондеро занимался похоронами.
— Я знаю Фондеро, — заметил Олстон. — Мой старый друг. Очень хороший и сдержанный человек.
— Не мог бы ты оказать мне любезность?
— Пожалуйста.
— Позвони ему и скажи, что я хотел бы задать ему несколько вопросов о Камилле.
— Ничего сложного. — Олстон поднял трубку и набрал номер. — Будьте любезны, мистера Фондеро… А когда он вернется?.. Это Чарлз Олстон… Спасибо. Я перезвоню ему попозже.
Он повесил трубку.
— Фондеро отлучился по делам. Я попробую договориться, чтобы он тебя принял. Когда лучше?
— Как можно скорее.
— Я узнаю, можно ли это сделать сегодня.
— Большое тебе спасибо, Чарли. Еще один вопрос, и я ухожу. Миссис Харкер знала Хуаниту?
— Как и все в клинике, если не по имени, то хотя бы в лицо. Но к чему спрашивать меня? Почему не спросить миссис Харкер?
Олстон перегнулся через стол и прищурился:
— С ней что-то случилось?
— Не думаю.
— До меня тут дошел слух, что Харкеры собираются взять в семью ребенка. Не связан твой таинственный визит именно с этим?
— Не прямо, — ответил Пината. — Жаль, что я не могу рассказать тебе всего, Чарли, но кое-что здесь не подлежит огласке. Единственное, что я знаю твердо: случившееся для всех, кроме миссис Харкер, показалось бы вполне безобидным и банальным. Оно не имеет отношения ни к большим деньгам, ни к чьей-то жизни, ни к чему-то мало-мальски серьезному вообще.
Он ошибался: именно это и было поставлено на кон. Но ему не хватило воображения или желания рассмотреть все в деталях.
12. Как бы я хотел, чтобы были только воспоминания о хорошем, чтобы я, как тысячи других людей, мог блаженствовать в кругу семьи и счастливо вспоминать о прошлом. Увы, этого не произошло
На первой попутной машине Филдинг добрался до Вентуры, а на второй, за рулем которой сидел механик по ремонту музыкальных автоматов, до Сан-Феличе. Он вылез на углу Стейт-стрит и Сто первого шоссе. Отсюда было рукой подать до кафе «Велада», зажатого между магазином подержанных вещей («Мы покупаем и продаем все на свете») и гостиницей для проезжающих через город («Комнаты без удобств за два доллара»), со скромной вывеской «Риц» над входом. Филдинг зарегистрировался у портье и получил комнату на третьем этаже. За свою жизнь он побывал не в одной сотне подобных комнат, но эта ему понравилась. Может быть, потому, что он был излишне взволнован, а может, из-за того, что сквозь грязное стекло Филдинг смог отчетливо разглядеть дрожащее отражение солнечных лучей на глади океана и несколько рыболовецких шхун, стоящих на якоре у причала. Они казались такими спокойными и легкими, что у Филдинга даже промелькнула мысль, не отправиться ли ему туда и не попроситься ли на судно. Но он тут же вспомнил про морскую болезнь, которая начиналась у него даже на пароме до Стейт-Айленда. Кроме того, у него теперь была Мюриэл. Он женатый человек, на нем лежит определенная ответственность, он не мог вот так просто отправиться на корабле бороздить океанские просторы и оставить на берегу ждущую его Мюриэл… «Мне надо было уйти в море молодым, — подумал он. — К этому времени я бы мог стать капитаном. Капитан Филдинг — звучит подходяще».
— Лечь в дрейф, — громко скомандовал Филдинг и, чтобы компенсировать себе отсутствие океанского шторма, ополоснул лицо над раковиной. Расчесав волосы (механик по музыкальным автоматам вел машину, опустив верх), пошел вниз в кафе «Велада».
В этом заведении не было определенных часов для обслуживания спиртными напитками. Если у посетителя были деньги, его обслуживали в любое время дня и ночи, и очень часто в самом начале дня здесь собиралось столько же народа, что и поздним вечером. Иногда даже больше, поскольку запах застарелого перегара, переполнявший бар, настолько усиливал ощущение похмелья, что посетитель стремительно бросался заглушить свои чувства. Управляющий отеля «Риц» и старший администратор магазина не раз жаловались на этот запах в отдел здравоохранения, в полицию, в комиссию штата по равным правам в сфере торговли, но миссис Брустер, владевшая «Веладой», сражалась как лев. Это была тощая, унылого вида женщина в огромных размеров переднике из джинсовой ткани, которым она делала все: вытирала прилавки, била мух, промокала лицо, прихватывала горячие сковородки, она использовала его вместо носового платка, отгоняла им мальчишек, продававших газеты, складывала в него жалкие чаевые, вытирала им руки. Постепенно фартук стал подлинным символом ее собственной личности, и, снимая его вечерами перед тем, как отправиться домой, она чувствовала, что лишается чего-то очень важного, словно у нее ампутировали жизненно важный орган.
Филдинг почувствовал запах и разглядел фартук, но ничто не вызвало у него чувства брезгливости. Он дышал куда более смрадными запахами и видел много больше грязи.
Он сел в кабинке у окна. Официантки Ниты поблизости видно не было, и никто не рвался принять у него заказ. Мальчишка-мексиканец, на вид лет пятнадцати, сметал с пола сигаретные окурки. Он работал очень тщательно, то ли он только начал трудиться в этом баре, то ли надеялся найти в утренних завалах мусора что-нибудь более ценное, чем обычный окурок.
— А где официантка? — поинтересовался Филдинг.
Мальчик поднял голову, его огромные карие глаза широко раскрылись:
— Которая?
— Нита.
— Марафет наводит, наверное. Она это обожает.
— Как тебя зовут, сынок?
— Чико.
— Скажи этой даме за прилавком, что я хочу кусок ветчины с ржаным хлебом и бутылку пива.
— Не могу, сэр. Официантки очень рассердятся, они подумают, что я пытаюсь увести у них из-под носа чаевые.
— Сколько тебе лет, Чико?
— Двадцать один.
— Брось заливать, дружок.
Лицо паренька стало пунцовым.
— Мне двадцать один, — повторил он и вновь принялся за работу.
Прошло пять минут. Вторая официантка, обслуживавшая задние кабинки, пару раз бросила взгляд в сторону Филдинга, но не подошла. Не подошла к нему и миссис Брустер, которая протирала фартуком решетку для гриля.
Наконец появилась Хуанита. На ее лице лежал свежий слой пудры, губы подкрашены. Она так старательно подводила карандашом глаза, что напоминала шахтера, проработавшего в забое не один десяток лет. Она отреагировала на его появление, слегка вильнув задом. Так молодая кобыла помахивает хвостом, узнав кого-то знакомого или проявив неожиданный интерес.
— Снова появился, — сказала она без намека на улыбку.
— Удивлена?
— Чего мне удивляться? Меня ничем невозможно удивить. Чего хочешь?
— Ветчину с ржаным хлебом и бутылку пива.
Она прокричала заказ миссис Брустер, но та и ухом не повела, ее фартук не колыхнулся. В голове у Филдинга мелькнул вопрос, не узнала ли она в нем участника драки и не пытается ли теперь своим холодным и безразличным отношением вытурить из бара, чтобы избежать новых неприятностей.
— Обслуживание у вас паршивое, — заметил он.
— Еда тоже. Чего пришел?
— Ну, хотелось просто посмотреть, как тут у вас идут дела в понедельник.
— Я в полном порядке. Джо все еще в каталажке. Он получил месяц.
— Жаль.
Хуанита стояла, несколько изогнувшись, кулак упирался в бедро, манеры ее стали более агрессивными, но не слишком.
— Послушай, эта твоя жалость к людям когда-нибудь приведет тебя к большим неприятностям. Ты вот почувствовал, что тебе меня жалко, и очень скоро вы с Джо уже тузили друг друга.
— Я был немного пьян.
— Да ладно, я просто подумала, что мне лучше предупредить тебя. Дай людям самим себя жалеть. У большинства из них это чертовски хорошо получается, и я не исключение. Погоди-ка чуть-чуть, пойду поддам пару этой старой перечнице. Она сегодня весь день сны видит.
— Нам спешить ни к чему. Почему бы тебе не присесть?
— Зачем еще? — Хуанита посмотрела на него с подозрением.
— Пусть ноги отдохнут.
— Так, теперь тебе жалко мои ноги? Послушай, ты довольно странный мужик. Знаешь об этом?
— Да, мне пару раз говорили.
— А… Не мое дело. — Она присела, изгибаясь куда больше, чем требовалось. — Сигарета есть?
— Нет.
— Тогда свои закурю. Я считаю, что курить свои совсем ни к чему, когда можно стрельнуть.
— Умница.
— Я? Никто вокруг так не думает. Послушал бы ты мою мамашу. Она вся мочой исходит, когда объясняет мне, какая я дура. Но больше этого я терпеть не желаю. Я живу с ней сейчас, пока Джо в каталажке, мне надо, чтобы кто-нибудь приглядывал за детьми. Когда Джо выйдет, мы, может, снова уедем. Я всегда ненавидела этот город. Он всегда ко мне паршиво относился. Только не надо опять начинать меня жалеть. То, что они мне подкидывают, я могу принять.
— Они? — переспросил Филдинг. — Кто они?
— Никто. Просто они. Город.
— А где ты жила?
— В Лос-Анджелесе.
— Почему ты сюда вернулась?
— Джо остался без работы. Не то чтобы его выгнали за какую-нибудь провинность или что-нибудь еще. Племянник хозяина вырос настолько, что уже мог работать, и Джо выперли с его места, чтобы устроить того. И я подумала, а почему бы нам сюда на время не вернуться. Может, здесь все по-другому, может, город изменился. Так я думала. Черта с два этот город изменится. Единственное, из-за чего он действительно может измениться, — это высадка русских, и что до меня, то мне совершенно наплевать, если они станут швырять свои бомбы, как конфетти, и все здесь подохнут в воронках.
Она закурила и пустила струю дыма через стол прямо Филдингу в лицо, словно провоцировала его на спор с ней.
— Ну и что ты об этом думаешь, а?
— Я как-то не успел об этом подумать.
— У Джо хватило времени. Он говорит, когда я ему все это выкладываю, что после таких слов мне нужно мыть рот с мылом. А я ему в ответ: «Попробуй, итальянская рожа, и останешься без руки, отгрызу».
Она улыбнулась, но вовсе не потому, что развеселилась, а словно для того, чтобы показать, что ее зубы в состоянии выполнить подобную угрозу.
— Джо у нас настоящий патриот. Черт, могу поспорить, он прославлял свою родную страну даже тогда, когда они запихивали его в кутузку. У итальяшек это бывает. Даже когда полицейские сидят у них на рожах, они разевают хлебала, чтобы прокричать «Боже, храни Америку!».
Миссис Брустер наконец ожила за прилавком и накладывала последние мазки на приготовленный ею сандвич с ветчиной, кружком маринованного огурца и пятью ломтиками жареного картофеля. Хуанита подошла, чтобы забрать заказ, Филдинг без труда мог расслышать, о чем они говорят.
— С каких это пор я плачу тебе за то, чтобы ты сидела с посетителями?
— Это мой приятель.
— Давно? Минут пять?
— Вежливое отношение к посетителям, — мягко сказала Хуанита, — очень полезно для дела. Ты заработаешь больше денег. Ты ведь любишь деньги, правда?
Миссис Брустер неожиданно хихикнула, словно кто-то пощекотал ее в укромном месте. Она приглушила смех уголком фартука, шлепнула сандвич с ветчиной на поднос и откупорила бутылку пива.
Хуанита вернулась с заказом и уселась напротив Филдинга. Перепалка с миссис Брустер резко подняла ее настроение.
— Я же говорила тебе, что она и впрямь ненормальная. Ну что? Но я могу с ней управляться. Все, что нужно, — это произнести слово «деньги», и она начинает хихикать каждый раз, как сегодня. Я всегда без труда управлялась с психами, — добавила она с гордостью. — Может, мне надо было стать доктором или медсестрой. Как сандвич?
— Неплохо.
— Ты, должно быть, страшно голоден. Что до меня, при всем том, что мой желудок гайки переварит, в этой забегаловке я не стану есть ни за какие деньги.
— Счастье, что старуха не умеет читать по губам. — Филдинг прикончил полсандвича и, отодвинув тарелку, потянулся за пивом. — Значит, твоя мать приглядывает за детьми, пока ты на работе?
— Конечно.
— По-моему, ты слишком молода для того, чтобы иметь детей.
— Бросьте смеяться, — ответила она, но было видно, что ей приятно. — У меня их шестеро.
— Брось. Кто тебе поверит?
— Ей-Богу! Шестеро.
— Как это может быть? Ведь ты сама почти ребенок.
— Я очень рано начала, — просто и открыто ответила Хуанита. — Мне не слишком нравилось учиться, я бросила школу и вышла замуж.
— Шестеро. Надо же. Черт бы меня побрал.
Ей явно нравилось его изумление. Она похлопала себя рукой по животу.
— Конечно, я следила за фигурой. Многие из женщин этого не делают, в результате они распухают. Я — никогда.
— Это сразу видно. Шесть. Бог ты мой! Не могу поверить. — Он продолжал трясти головой, словно он и впрямь не мог поверить сказанному, хотя с самого понедельника, дня их драки, прекрасно знал, что у нее шестеро детей.
— А сколько мальчиков?
— Самый старший и самый младший, остальные девчонки.
— Готов поспорить, шустрые детишки.
— Нормальные. — В ее голосе прозвучала отчетливая нотка усталости и скуки, будто дети сами по себе не представляли никакого интереса, только факт, что они у нее были, имел значение. — Думаю, в округе есть и похуже.
— У тебя есть их фотографии?
— Зачем?
— Многие носят с собой фотографии своего семейства.
— Кому мне их показывать? Кто захочет смотреть на фотографии моих детей?
— Я, например.
— Зачем?
Мысль о том, что незнакомец может испытывать обоснованное любопытство по поводу ее детей, казалась ей невероятной. Глаза ее подозрительно сощурились, и в какое-то мгновение он подумал, что потерял доверие. Он непринужденно спросил:
— Что это ты взвилась? У твоих детей по две головы или что-нибудь еще?
— Нет, у них нет двух голов, мистер Фостер.
— Откуда ты узнала мое имя? — На этот раз его изумление было искренним, и она отреагировала так же, как отреагировала на его притворное изумление по поводу шести детей. На лице у нее появилось озорное и довольное выражение. Было очевидно, что больше всего Хуанита любила удивлять людей. — Как же ты выяснила, кто я такой?
— Я умею читать. В газете написали про драку. Про Джо никогда раньше ничего в газетах не печатали, поэтому я вырезала заметку, чтобы сохранить до его возвращения. Джо Донелли и Сэм Фостер — так там было написано — подрались из-за женщины в местном кафе.
— Понятно, — улыбнулся Филдинг. — Теперь ты знаешь мое имя, а я твое. Хуанита Гарсиа встретила Сэма Фостера.
Она подскочила, затем опустилась обратно на скамейку и шумно выдохнула воздух.
— Гарсиа? Почему ты сказал Гарсиа? Это не мое имя.
— Но ведь когда-то оно было твоим, верно?
— Мало ли что было. Теперь меня зовут Донелли, и никак иначе, понял? И я Нита, а не Хуанита. Нита Донелли, так меня зовут, ты понял?
— Конечно, — Филдинг кивнул.
— Где вообще услыхал про Хуаниту?
— Я подумал, что это одно и то же имя. Знаешь, есть такая старая песня про девушку. Ее зовут Нита, Хуанита.
— Неужели?
— Да, и я, естественно, подумал…
— Эй, Чико! — она махнула пареньку рукой, и он подошел к их кабине, продолжая мести перед собой щеткой на длинной ручке. — Ты слыхал когда-нибудь песню под названием «Нита, Хуанита»?
— Нет.
Хуанита повернулась к Филдингу. Она поджала свои пухлые губы так, что они у нее сразу же уменьшились наполовину.
— Спой-ка. Давай ее послушаем.
— Здесь? Прямо сейчас?
— Конечно, прямо сейчас. Почему бы нет?
— Я не помню всех слов. Да и вообще я петь не умею, у меня голос как…
— А ты попробуй.
Говорила она негромким, но настойчивым голосом. Никто в кафе не обратил внимание на происходящее, за исключением миссис Брустер, внимательно следившей за ними светлыми глазами-бусинками.
— Может, такой песни вообще нет? — спросила Хуанита.
— Конечно, есть. Ее пели очень давно, и ты слишком молода, чтобы ее помнить.
— Ну так напомни.
Филдинг весь покрылся потом, от жары, от выпитого пива и еще от ощущения, которое ему очень не хотелось называть страхом.
— Послушай, да что с тобой?
— Я люблю музыку. Вот и все. Старые песни, я обожаю старые песни.
Миссис Брустер вылезла из-за прилавка, подметая своим фартуком пол, будто сметая невидимую паутину. Хуанита увидела, что она приближается, и отвернулась, упрямо уставившись в стену.
— Что случилось? — спросила миссис Брустер Филдинга.
— Ничего. Я просто — ну, в общем, она хотела, чтобы я спел песню.
— Что ж тут плохого? Немножко музыки.
— Какая там музыка! Я не умею петь.
— Она немного не в себе, — сказала миссис Брустер. — Но я с ней могу управиться.
Хозяйка кафе крепко сжала правое плечо Хуаниты костлявой ручкой.
— Приди в себя! Слышишь?
— Оставь меня в покое, — ответила Хуанита.
— Если ты не успокоишься, я позвоню твоей матери и скажу, что ты снова поскандалила со своей хозяйкой. Кроме того, я напишу Джо. Я скажу ему: дорогой Джо, эта твоя жена, ее лучше забрать и запереть под замок. Ну, теперь ты пришла в себя?
— Я только хотела послушать песню.
— Какую песню?
— «Нита, Хуанита». Он говорит, что есть такая песня. Я ее никогда не слышала, думаю, он врет. Скорее всего, это шпик из полиции или управления по контролю за условниками.
— Он не врет.
— А я уверена, что врет.
— Я легавого вижу за километр, — сказала миссис Брустер. — Кроме того, я знаю эту песню. Я сама, бывало, пела ее, когда была молодой девушкой. Своим чудесным голосом, который сохранялся у меня до той поры, пока я не надышалась всем этим смрадом. Теперь ты мне веришь?
— Нет.
— Ладно. Мы споем ее для тебя, я и он, вместе. Как, мистер? Споем немножко, чтобы развеселить нашу Ниту?
Филдинг откашлялся:
— Я не могу…
— Я начну, ты подпоешь. Начали. Раз, два, три. Поехали.
Прямо над фонтаном нежится луна, милая, дорогая, ты со мной одна. Как блестят твои глаза, ты прощаешься со мной навсегда.Хуанита по-прежнему сидела, уставившись в стену.
— Ты не слушаешь, — сказала миссис Брустер.
— Слушаю.
— Правда, красивая песня? Какая в ней грусть. А сейчас пойдет припев с твоим именем.
Филдинг подхватил песню, слегка фальшивя:
Нита, Хуанита, нужно ли нам расстаться? Нита, Хуанита, лучше в сердце моем тебе остаться.Когда они начали исполнять припев, Хуанита медленно повернула голову в их сторону, губы ее едва заметно двигались, словно она пыталась беззвучно петь вместе с ними. В это мгновение она снова походила на ребенка, маленькую девочку, страстно хотевшую стать частью песни, которую она никогда не знала, мелодии, которую она никогда не слышала.
Когда припев кончился, миссис Брустер громко высморкалась в фартук, взгрустнув о своем чудном голосе, пропавшем в этом смраде.
— Больше всего мне понравилась часть с моим именем, — сказала Хуанита.
— Естественно. Это самый лучший кусок. — Она похлопала официантку по плечу.
— «Лучше в сердце моем тебе остаться». Да если б кто-нибудь сказал мне такие слова, я бы прямо на месте умерла.
— В настоящей жизни такого не говорят. Теперь ты чувствуешь себя лучше, дочка?
— Со мной все нормально. Со мной и было все нормально. Я только хотела услышать эту песню, чтобы убедиться, что он не врет.
— Она немного не в себе, — сказала миссис Брустер Филдингу. — Но с ней легко управляешься, если знаешь как.
— Честно говоря, я вовсе не думала, что ты врешь, — призналась Хуанита после того, как миссис Брустер ушла. — Но мне надо все проверить. Я всегда все проверяю. Правда, смешно, когда психи думают, что все вокруг, кроме них, сумасшедшие?
Филдинг кивнул:
— Очень смешно. Я и сам заметил.
— Но, надеюсь, ты ей нисколько не поверил?
— Ни секунды.
— Я сама вижу, что не поверил. У тебя очень доброе лицо. Могу поспорить, ты любишь собак.
— Прекрасные животные.
Страх его полностью ушел, но в горле застрял комок жалости к ней, и он никак не мог от него избавиться, ни проглотить, ни выплюнуть. Филдинг не часто испытывал жалость по отношению к кому-то еще, кроме себя, и он не слишком любил это чувство. Оно выбивало из колеи. Он хотел вскочить и выбежать из зала, напрочь забыть об этой странной, с печальными глазами женщине, забыть о них всех: о Дэйзи, о Джиме, об Аде, о Камилле. Камилла умер, у Дэйзи и Джима была своя жизнь, у Ады своя… «Какого черта я здесь сижу, — мелькнуло у него в голове. — Это опасно. Я могу вызвать бурю и оказаться в самом ее центре. Мне, пожалуй, лучше смотаться, пока еще можно».
Хуанита с печалью смотрела на него.
— А каких собак ты любишь больше всего?
— Спящих.
— У меня когда-то был фокстерьер, но он изгрыз одно из распятий моей матери, и она заставила меня его утопить.
— Какая жалость!
— Я заканчиваю работу через пятнадцать минут. Может, в кино сходим?
Меньше всего на свете ему хотелось в кино, но он ни минуты не колебался:
— Было бы чудесно.
— Сначала мне надо зайти домой и переодеться. Я живу в трех кварталах отсюда. Ты мог бы подождать меня здесь.
— А почему мне не пойти с тобой? В такой день приятно прогуляться пешком.
Неожиданно на ее лице появилась враждебность.
— А кто сказал, что я собираюсь идти пешком?
— Ну, я просто так подумал. Если тут только три квартала…
— Я было подумала, ты, может, намекаешь, что я из тех, у кого и машины-то нет.
— Я совсем не это имел в виду.
— Вот и ладно. Потому что это неправда. У меня есть машина, я просто не езжу на ней на работу. Я не люблю оставлять ее под палящим солнцем, чтобы всякая черная образина прислонялась к ней почесаться.
У него тут же возник вопрос, существует ли это все — машина, «черная образина», на нее облокотившаяся, — в действительности. Он надеялся, что они были реальными, а не выступали символами черного и страшного, приключившегося с ней под ярким солнцем или без него.
— Я очень забочусь о своем конце.
— Не сомневаюсь. Вот твой чек. Восемьдесят пять центов.
Он протянул ей доллар, и она пошла к прилавку, чтобы взять сдачу.
— Как ты себя чувствуешь, дочка? — мягко спросила ее миссис Брустер.
— Прекрасно.
— Когда закончишь работу, отправляйся к мамочке, полежи и немножко отдохни. Ладно?
— Я пойду в кино.
— Вот с этим?
Обе женщины обернулись и посмотрели на Филдинга. Не совсем понимая, чего от него ждут, он улыбнулся им скромно и застенчиво. Никто из них на его улыбку не ответил.
— С ним все в порядке, — заметила Хуанита. — Он мне по возрасту в отцы годится.
— Ну, мы-то с тобой это понимаем. А он?
— Мы всего-навсего собираемся сходить в кино.
— Он сильно смахивает на алкаша, — заметила миссис Брустер, — посмотри, какой у него красный нос, лиловые щеки, а руки так и трясутся.
— Он выпил только бутылку пива.
— А если кто-нибудь из друзей Джо увидит тебя с этим человеком?
— В этом городе Джо никого не знает.
Миссис Брустер принялась обмахиваться фартуком.
— Слишком жарко, чтобы с тобой спорить. Будь осторожна, дочка. Твоя мать и я, мы ведь старые подруги, вовсе не хотим, чтобы ты снова принялась за старое. Ты уважаемая замужняя женщина, у тебя муж и дети. Помни об этом.
Хуанита слышала все эти увещевания сотни раз, она без труда могла пересказать их, даже задом наперед и по-испански. Она слушала без всякого интереса, посматривая на настенные часы, переступая с одной ноги на другую.
— Ты все поняла, дочка?
— Да.
— Обрати на это внимание.
— Конечно, — согласилась Хуанита и весело посмотрела на Филдинга. Ее взгляд будто говорил: «Ты только послушай эту дуру». — А теперь я могу идти?
— Двух еще нет.
— Неужели я один-единственный раз не могу уйти до двух?
— Ладно. Но только сегодня. Но вообще-то так дела не делаются. Мне, пожалуй, надо провериться у врача.
Хуанита подошла к кабинке Филдинга.
— Вот сдача.
— Оставь себе.
— Спасибо. Я уже могу уйти. Моя дура сказала, что можно. Сказать мне «деньги» и заставить ее снова захихикать? Просто так, для веселья?
— Не надо.
— Ты что, не хочешь послушать?
— Нет.
По каким-то причинам, объяснить возникновение которых Хуанита не могла, ей тоже не слишком хотелось слышать смех миссис Брустер. Быстрым шагом она двинулась к двери, не оборачиваясь ни на хозяйку, ни на Филдинга.
Скорее на воздух.
Больше всего на свете Хуанита любила быть на воздухе и на свободе, быстро двигаться, переходя с одного места на другое, ничего и никого конкретно не выбирая, все было совершенно одинаково: люди ничем не отличались от баров, домов, что связывали тебя по рукам и ногам, заставляя находиться внутри. Ей хотелось быть поездом, огромным, блестящим поездом, который никогда не останавливается — ни для того, чтобы заправиться, ни для того, чтобы впустить или выпустить пассажиров. Он мчится без остановки и гудит, отпугивая от вагонов кого угодно.
В ее жизни были прекрасные моменты — время, когда она шла от одного места к другому.
Она была поездом. Ту-ту…
13. Я один, в окружении чужих людей в странном месте
Часы показывали половину третьего, когда Пината доехал до кафе «Велада». Перед тем как вылезти из машины, он снял галстук и пиджак спортивного покроя, засучил рукава рубашки и расстегнул верхнюю пуговицу. Он предпочитал играть в открытую: зайти и спросить девушку, надеясь, что его примут за одного из ее ухажеров.
Он не учел одного — острых и подозрительных глазок миссис Брустер. Не успел он войти в дверь, как она заметила его и тихонько сказала Чико:
— Полицейский. У тебя неприятности?
— Нет, миссис Брустер.
— Не ври.
— Я не вру. Я…
— Если он спросит, сколько тебе лет, говори: двадцать один. Понял?
— Он не поверит. Я его знаю. То есть он меня знает. Он учил нас гандболу в Ассоциации молодых христиан.
— Ладно. Спрячься в задней комнате, пока он не уйдет.
Чико ринулся в укрытие, подхватив свою щетку, так, словно он был ведьмой, убегающей при приближении более могущественной колдуньи.
Пината сел у стойки. Миссис Брустер приблизилась к нему, прикрываясь фартуком словно щитом, и спросила вежливым голосом:
— Что вы хотите, сэр?
— А что у вас на обед?
— Уже поздно. Обед мы не подаем!
— А как насчет обычной тарелки супа?
— Только что кончился.
— Кофе?
— Кофе остыл.
— Понятно.
— Я могу сварить вам свежий, но придется подождать. Я двигаюсь очень медленно.
— Чико двигается быстро, — заметил Пината, — конечно, ведь он очень молод.
Глаза миссис Брустер сверкнули пламенем.
— Не так уж он и молод. Двадцать один.
— Я думаю, меньше, лет шестнадцать.
— Двадцать один. В его свидетельстве о рождении написано двадцать один. Законный документ.
— Значит, у него собственная типография.
— Чико просто выглядит молодо, — упрямо продолжала стоять на своем миссис Брустер. — Просто у него еще не растет борода.
К этому времени Пината окончательно понял, что его расчет на лобовую атаку не сработал и получить информацию от этой женщины, которая отказалась накормить его обедом и дать чашку кофе, немыслимо.
— Послушайте, — сказал он, — я не из полиции. Мне все равно, что вы берете на работу несовершеннолетних. Чико просто мой приятель, и я хотел бы потолковать с ним пару минут.
— Чего ради?
— Чтобы узнать, как он живет.
— Он живет очень хорошо, не сует нос в чужие дела. Кое-кому не помешало бы взять с него пример.
Пината посмотрел на заднюю часть кафе и увидел, что Чико внимательно смотрит на него сквозь небольшое стекло одной из дверей. Он улыбнулся, лицо мальчика расплылось в ответной улыбке.
При виде появившейся на лице Пинаты улыбки миссис Брустер задумалась, со вздохом вытерла руки о край передника, затем спросила:
— Так с Чико все в порядке?
— Да.
— Вы знаете его по Ассоциации молодых христиан?
— Совершенно верно.
Миссис Брустер фыркнула, давая понять, что она не слишком высокого мнения об этой организации, затем махнула Чико своим передником, и он появился из-за двери, волоча за собой неразлучную щетку. Он все еще улыбался, но на лице его постепенно появлялось выражение беспокойства.
— Привет, Чико.
— Здравствуйте, мистер Пината.
— Давненько я тебя не видел.
— Очень много дел, то одно, то другое.
В бар вошли двое в рабочих комбинезонах. Они уселись в дальнем конце стойки, и миссис Брустер двинулась в их сторону, чтобы принять заказ. Она бросила на Чико взгляд, призывавший его быть поосторожнее.
— Как твоя школа? — поинтересовался Пината.
Чико с огромным вниманием принялся разглядывать пятно на потолке.
— Не больно хорошо.
— Ты уже, наверное, собираешься сдавать экзамены?
— Это все уже в далеком прошлом. Я бросил школу на Рождество.
— Почему?
— Мне нужна была постоянная работа. Иначе не хватало средств на машину. Работы после школы было мало. Ни одна телка не пойдет с тобой, если тачка не в порядке.
— Довольно глупо оставлять школу только из-за этого.
Чико пожал плечами.
— Вы спросили, я ответил. Может, в ваше время были другие телки, может, они предпочитали гулять пешком по парку. А сейчас, если приглашаешь телку на свидание, она согласна смотреть кино только в машине, а как поехать без машины?
— Если у тебя, конечно, есть машина.
— Это я и имею в виду. Без машины ты никто, полный нуль.
За последние несколько лет Пинате уже не раз приходилось выслушивать подобного рода истории от ребятишек, куда более образованных и толковых, чем Чико. И с каждым разом эти рассказы все более его угнетали.
— А ты не слишком юн, чтобы работать в таком месте, как это? — спросил он.
— В этом нет ничего плохого, — взволнованно ответил юноша. — Ей-Богу, мистер Пината. Вы не думайте, я ведь не допиваю остатки за клиентами. Это делает наш посудомой, Хрипун. Право допивать за ними как бы входит в его зарплату.
— А что представляют из себя остальные, те, кто здесь работает? Скажем, официантки. Как они к тебе относятся?
— Да нормально.
— А что представляет из себя вот эта блондинка за последней кабинкой?
— Милли. Вторую зовут Солнышко-за-Тучкой, поскольку она никогда не улыбается. Она говорит, что в этой жизни не над чем смеяться.
Чико явно почувствовал облегчение оттого, что тема разговора поменялась, и старался сделать все возможное, чтобы, не дай Бог, Пината вернулся к его делам.
— У Милли потрясающее спокойствие. Она когда-то работала в одной из этих школ, как их, танцевальных. Ну, вы знаете, ча-ча-ча и все такое. Но у нее ноги заболели, и она не смогла там оставаться.
— У вас вроде новенькая появилась, Нита, что ли?
— А, эта. Ну, она странная. То ты у нее лучший друг — «Привет, Чико! Отличная погодка сегодня?», то смотрит на тебя, словно ты из космоса. Но вообще-то она шустрая, носится как наскипидаренная. Она и старая калоша, — тут он еле заметно кивнул головой в сторону миссис Брустер, — в хороших отношениях, поскольку старуха хорошо знает ее мамашу. Я слышал, как они об этом говорили.
— А что, сегодня она не работает?
— Работала, но где-то час назад ушла с мужиком. Они сначала поскандалили из-за какой-то песни, но кончилось это тем, что миссис Брустер и этот мужик спели шикарную песню. В ней было ее имя, Хуанита. И никто из них не был пьяным, это не такая песня.
— Может, это был ее муж?
— Нет. Муж в кутузке. Этот мужик как раз тот, из-за которого его посадили.
«Бог мой! — подумал Пината. — Филдинг опять в городе. Знает ли об этом Дэйзи?»
— Я его сразу вычислил, как только он пришел, — с гордостью признался Чико. — У меня отличная память на лица. Может, я не больно рублю в математике, но уж лица-то я никогда не забываю.
— Сколько ему примерно лет?
— По возрасту он вполне годится мне в отцы. Может, и постарше будет. Как ваш отец, мистер Пината.
— Значит, он довольно старый, — улыбка у Пинаты получилась кривой.
— Конечно. Я знаю. Я еще удивился, что Нита решила с ним пойти.
— Пойти куда?
— В кино. Нита и старая калоша поспорили по этому поводу, правда, до скандала дело не дошло, закончилось миром. «Иди домой и отдохни», — говорила старуха, но Нита не собиралась ее слушаться, и они с этим мужиком отвалили на пару. Нита не больно любит, когда ей чего-нибудь говорят. Ну вот, например, на улице вдет дождь, и я ей об этом сказал. И все, ничего особенного, а она взбесилась, словно я ей сказал, что у нее не та помада или что-нибудь такое. Я, по правде сказать, думаю, у нее не все дома. Ей бы психиатру показаться.
Миссис Брустер неожиданно повернулась и крикнула режущим слух голосом:
— Чико! Принимайся за работу!
— Сию минуту, мадам, — ответил паренек. — Мне нужно приниматься за работу, мистер Пината. Увидимся в Ассоциации?
— Надеюсь. Мне очень жаль, Чико, что ты бросил школу только из-за машины.
— Что поделать. Так обстоят дела в наше время, если вы меня правильно понимаете.
— Да-да. Думаю, что я тебя понимаю, Чико.
— Ничего не поделаешь, никто не в состоянии изменить жизнь.
— Чико! — заорала миссис Брустер. — Немедленно принимайся за работу!
Чико начал подметать.
Будка телефона-автомата на углу пропиталась достаточно специфическим запахом, свидетельствовавшим о том, что в вечерние часы ее использовали для куда более интимных нужд, нежели те, удовлетворить которые планировала телефонная компания. Стены были густо исписаны номерами телефонов, инициалами, именами, надписями: «Уинстон — парень что надо. Уинстон, 93446»; «Салли М. Ничем не испугаешь. Будь с ней поосторожнее»; «Привет из Джерси-Сити»; «Жизнь — премерзкая штука»; «Все парни — психи»; «Прощай, жестокий мир».
Пината набрал номер Дэйзи. Занято. Тогда он позвонил по домашнему телефону Чарлза Олстона.
Тот поднял трубку сам.
— Алло.
— Это Стив Пината, Чарли.
— Есть какие-нибудь успехи?
— Все зависит от того, что ты понимаешь под успехами. Я был в кафе «Велада». Хуанита закончила смену, однако нет никаких сомнений, что это именно она.
Тяжелый вздох прозвучал настолько отчетливо, что перекрыл уличный шум, доносившийся через открытую дверь телефонной будки.
— Этого я и боялся. Что ж, у меня нет другого выхода. Мне придется поставить в известность управление по контролю за условно осужденными. Мне страшно не хочется это делать, но за ней нужно приглядеть, да и за детьми тоже. Как ты думаешь, то есть нет у тебя возражений по поводу моего звонка туда?
— Это исключительно твое личное дело. Ты куда лучше меня знаешь все обстоятельства.
— Конечно, в выходные они не работают, но я им позвоню первым делом в понедельник.
— А до понедельника?
— До понедельника мы подождем.
— Ну, ты жди, а я ждать не могу, — заметил Пината. — Я собираюсь попробовать ее отыскать.
— Зачем?
— Так случилось, что она сейчас ушла с моим бывшим клиентом. Я хотел бы по ряду причин повидать его еще раз.
— Когда ты найдешь ее, будь с ней поласковее. Для ее же пользы, — добавил Олстон, — не для своей. Думаю, что о себе ты позаботиться в состоянии. Где она живет сейчас?
— Я думаю, у матери. По крайней мере она поддерживает с ней отношения, так что сначала я хочу поискать ее там. Где живет миссис Розарио?
— В свое время у нее был небольшой дом на Гранада-стрит. Скорее всего, она и сейчас продолжает там жить, поскольку это ее собственность. Она купила этот дом много лет назад. До этого она служила управительницей на старом ранчо у Хиггинсона. Когда миссис Хиггинсон умерла, она оставила миссис Розарио, как и другим слугам, несколько тысяч долларов. Кстати, если Хуанита, как ты говоришь, отправилась на прогулку с твоим бывшим клиентом, чего ради ты собираешься искать ее на Гранада-стрит? Поверь, она не из тех, кто водит своих ухажеров в дом к матери.
— У меня предчувствие. Она ведь могла заглянуть туда, чтобы переодеться. Вряд ли она захотела отправиться на свидание в своей рабочей одежде.
— Определенно нет. И что же?
— Я подумал, что можно попробовать выудить кой-какую информацию из миссис Розарио.
Олстон коротко рассмеялся:
— Ты можешь получить информацию, а можешь остаться с носом. Все зависит от того, дурной глаз у тебя или нет. Кстати, я договорился о твоей встрече с Роем Фондеро на три часа.
— Так уже почти три.
— Тогда лучше тебе поторопиться к нему. Вечером он едет в Лос-Анджелес посмотреть матч. Да, еще один совет, Стив: когда будешь разговаривать с миссис Розарио, попытайся убедить ее в том, что ты ведешь праведную жизнь добропорядочного христианина. Ты никогда не пьешь, не куришь, не ругаешься, не богохульствуешь, не обманываешь. Ты регулярно посещаешь мессы и исповедь, соблюдаешь дни всех Святых. Нет ли у тебя брата или дяди, который по чистой случайности носит сутану?
— Возможно.
— Это не помешало бы. Кстати, — добавит Олстон, — ты говоришь по-испански?
— Немного.
— Не вздумай! Немало испано-американцев, проживших здесь многие годы, как миссис Розарио, терпеть не могут, когда люди обращаются к ним на испанском, хотя сами частенько используют его в разговорах с друзьями и родственниками.
Дом Роя Фондеро походил на старинный особняк южанина-плантатора. Это впечатление усиливали двенадцать оплетенных жимолостью дорических колонн фасада. Правда, общую картину разрушал длинный черный катафалк, стоявший у боковой двери. На асфальтовой дорожке перед катафалком была припаркована маленькая спортивная машина красного цвета. Неуместность соседства двух этих автомобилей немного позабавила Пинату. «Смерть и воскресение, — подумал он. — Может, воскресение по-американски выглядит именно так: спортивная машина красного цвета возносит их по упакованной в прозрачную целлофановую обертку дороге в царство нейлоново-дакроновой нирваны».
Пината вошел в боковую дверь и повернул направо.
Фондеро поливал цветы в небольшом горшке. Это был крепкого сложения мужчина, самой судьбою словно подготовленный к тому, чтобы принимать на себя чужие горести и печали.
— Присаживайтесь, мистер Пината. Чарли Олстон позвонил и сказал, что вы хотите меня кое о чем расспросить.
— Совершенно верно.
— И о чем же?
— Вы, может, помните Карлоса Камиллу?
— Как же, конечно. — Фондеро закончил свое занятие и поставил пустую лейку на подоконник. — Камилла был, так сказать, моим гостем примерно месяц. Вы ведь знаете, у города нет своего морга, а тело Камиллы нужно было где-то хранить, пока не закончится расследование того, откуда взялись деньги, обнаруженные у трупа. Из расследования так ничего и не вышло, и он был похоронен.
— Кто-нибудь присутствовал на его похоронах?
— Священник и моя жена.
— Ваша жена?
Фондеро опустился на стул, казавшийся слишком хрупким, чтобы удержать его тело.
— Бетти не хотела, чтобы его похоронили без человека, оплакивающего его душу, так что она выступила в качестве замены. Как бы то ни было, это вовсе не казалось игрой. Может быть, из-за трагических обстоятельств его кончины, может, из-за того, что его тело слишком долго находилось под нашей крышей, но мысль о Камилле проникла нам в сердца. Мы все же надеялись, что кто-нибудь появится и заберет тело. Никто так и не появился, но Бетти просто не могла поверить, что у Камиллы не было никого, кто бы любил его. Она настояла на том, чтобы деньги его были истрачены не на дорогой гроб, а на внушительный памятник. Она свято верила, настанет день, когда на могиле Камиллы наконец появится оплакивающий его человек, и хотела, чтобы могила была видна издалека. Насколько я помню, памятник выглядит именно так.
— Совершенно верно, — подтвердил Пината. «И скорбящая душа пришла на могилу, — подумал он. — Только был это чужой человек, Дэйзи».
— Вы ведь детектив, мистер Пината?
— По крайней мере так написано в моей лицензии.
— Тогда, возможно, у вас есть своя версия по поводу того, где Камилла взял эти две тысячи.
— Скорее всего, обычное ограбление.
— Полиция так и не смогла это доказать, — заметил Фондеро, вытаскивая из кармана золотой портсигар. — Не хотите ли сигарету? Нет? Завидую вам. Хотел бы и я бросить. С того момента, как пошли эти статьи про рак легких, кое-кто из наших острословов принялись называть сигареты «Фондеро». Что ж, тоже своего рода реклама.
— А как вы думаете, где Камилла взял эти деньги?
— Я склонен поверить, что они достались ему честным путем. Может, он их копил, может, ему вернули старый долг. Последнее кажется более логичным. Он умирал и, должно быть, прекрасно знал, в каком он состоянии, понимал, как важно забрать принадлежащие ему деньги, чтобы оплатить собственные похороны. Это объясняет его появление в нашем городке — человек, который был должен ему деньги, жил здесь. Или живет.
— Звучит довольно убедительно, — признался Пината, — если не считать одного. В газете писали, что полиция обратилась с просьбой отозваться тех, кто знал Камиллу. Никто не пришел.
— Никто не появился лично. Но неделю или что-то около того спустя, после того как Камиллу привезли сюда, раздался странный телефонный звонок. Я сообщил о нем полиции, и они решили, в то время и мне так казалось, что звонил кто-то помешанный на почве религии.
При этом на лице Фондеро появилось странное выражение изумления и раздражения. Он наклонился вперед и пояснил:
— Если вы хотите узнать каждого из местных придурков, немедленно откройте заведение наподобие моего. В день Всех Святых звонят дети, на Рождество и Пасху — помешанные на религии. В сентябре развлекаются только что приступившие к учебе в колледжах. И любой месяц хорош для сексуальных извращений с самыми бесстыдными гипотезами о том, что происходит у меня в морге. По поводу Камиллы мне позвонили перед самым Рождеством, как раз тогда, когда звонят свихнувшиеся фанатики.
— А кто звонил, мужчина или женщина?
— Женщина. В основном женщины и звонят в таких ситуациях.
— А какой у нее был голос?
— Насколько я помню, во всех отношениях средний. Средней высоты, относительно образованный, с определенной культурой.
— Акцента не было?
— Нисколько.
— Могла это быть женщина, скажем, лет тридцати?
— Возможно, но я сомневаюсь.
— Что именно она хотела?
— Конечно, после всех этих лет точных слов ее я не помню. Суть ее звонка сводилась к тому, что Камилла был добрым католиком и его должны похоронить в освященной земле. Я заметил, что в организации таких похорон могут быть определенные сложности — нет никаких свидетельств, что Камилла умер как добропорядочный христианин. Она заявила, что Камилла выполнил все условия, необходимые для того, чтобы быть похороненным в освященной земле. Затем она повесила трубку. Если не считать того высочайшего самообладания, которое она продемонстрировала в разговоре, это был обычный звонок полностью слетевшего с колес сумасшедшего. По крайней мере так мне тогда казалось.
— Камилла похоронен на протестантском кладбище, — заметил Пината.
— Мы обговорили этот вопрос с приходским священником. Другого выхода просто не было.
— Эта женщина ничего не говорила о деньгах?
— Нет.
— А о том, как он умер?
— У меня сложилось впечатление, — тщательно подбирая слова, ответил Фондеро, — судя по ее настоятельному повторению слов о Камилле как о хорошем католике, что она не верила в его самоубийство.
— А вы?
— Эксперты сказали, что это самоубийство.
— Готов поспорить, за все те годы, которые вы занимаетесь своим делом, вы и сами стали большим специалистом.
— Просто у меня есть опыт.
— И каково же ваше собственное мнение?
За окном сын Фондеро громко и не слишком правильно стал насвистывать «Возьми меня с собою на игру».
— Я очень тесно связан с полицией и следственным управлением города, — пояснил Фондеро. — Если у меня будет мнение, противоположное их точке зрения, ничего хорошего из этого не выйдет.
— Тем не менее вы с ними не согласны?
— Не для записи.
— Годится. Я ни с кем не собираюсь делиться.
Фондеро прошел к окну, затем вернулся на место и пристально взглянул на Пинату:
— Вы случайно не помните содержание оставленной им записки?
— Конечно. «Этого достаточно, чтобы оплатить мой путь на небо, грязные крысы. Родился слишком рано, в 1907. Умер слишком поздно, в 1955».
Сегодня всем кажется, что это посмертная записка. Может, так оно и было. Но точно так же это могло быть и послание человека, который знал, что вот-вот умрет. Могло такое быть?
— Пожалуй, — согласился Пината. — Подобная мысль никогда не приходила мне в голову.
— Мне тоже, до того момента, пока я собственноручно не провел исследование тела. Я увидел перед собой тело старого человека — преждевременно состарившегося, если принять за дату его рождения тот год, который он назвал, а я думаю, что в предсмертные свои часы он не стал бы врать. Налицо были разрушительные процессы внутри организма: циррозная печень, заметное известкование кровеносных сосудов, кроме того, он страдал от эмфиземы легких и долгие годы развивавшегося артрита суставов. Последнее особенно меня заинтересовало. Руки Камиллы были страшно распухшими и деформированными. Я очень сильно сомневаюсь, что он мог твердо держать в руках нож, дабы нанести себе смертельную рану. Может, он и смог это сделать, только я в этом сильно сомневаюсь.
— А вы высказали свое мнение властям?
— Я сказал об этом лейтенанту Кирби. Мои слова отнюдь не привели его в восторг. Он сообщил мне, что посмертная записка самоубийцы является куда более весомым свидетельством, нежели мнение специалиста. Хотя у меня нет диплома патологоанатома, я вряд ли после четверти века в похоронном деле могу согласиться с тем, что я не специалист. Тем не менее в словах Кирби была своя правда: мнение не является доказательством. Полицию вердикт о самоубийстве вполне устраивал, следователя тоже. Если у Камиллы и были друзья, которых это решение не удовлетворило, они никоим образом не высказали своего недовольства. Вы ведь детектив. Каково ваше мнение?
— Я был бы склонен согласиться с Кирби, — тщательно подбирая слова, ответил Пината, — если учесть имеющиеся факты. У Камиллы были все основания для самоубийства. Он написал пусть не посмертную, но прощальную записку. Он оставил деньги на похороны. Пущенный в дело нож был его собственным, на нем его инициалы. Перед лицом всего этого я не слишком готов опереться на ваше мнение, что руки Камиллы были слишком изуродованы болезнью, чтобы удерживать нож. Но конечно же, у меня нет никакого опыта знакомства с артритом.
— А у меня есть.
Фондеро наклонился вперед и показал Пинате свою левую руку, так, словно протягивал ему образец из собственной лаборатории. Пината разглядел то, чего он не заметил раньше, — костяшки пальцев Фондеро были страшно распухшими, а сами пальцы скрючены и напоминали лапу огромной птицы.
— Когда-то, — вздохнул Фондеро, — я бросал этой рукой бейсбольные мячи. Сейчас я не в состоянии сделать вбрасывание, даже если от этого зависел бы исход финального матча чемпионата страны по бейсболу. Я сижу на скамье обычным зрителем, и, когда Уолли Мун мощным ударом отправляет мяч за ограду, я не могу ему похлопать. Всю работу за меня выполняют теперь помощники. Поверьте на слово, если бы я захотел убить себя, мне пришлось бы воспользоваться чем угодно, но только не ножом.
— Отчаяние очень часто придает человеку дополнительную силу.
— Силу, да. Но оно не может освободить окостеневшие суставы или восстановить атрофированные мускулы. Это невозможно.
Невозможно. Пината поразился тому, как часто это слово всплывает в связи с Камиллой. Слишком часто. Может, он просто был человеком, которому сама судьба уготовила участь свершения невозможного, он мог испортить человеку статистику или опровергнуть законы физики. Наличие мотивов, оружия, предсмертной записки и распоряжения о похоронах являлось достаточно убедительным свидетельством, но невозможно даже при наличии импульса или желания освободить закостеневшие суставы или восстановить атрофированные мускулы.
Фондеро все еще протягивал ему руку, походившую на уродца, выступающего в цирке с отдельным номером.
— Вы все еще склонны верить лейтенанту Кирби, мистер Пината?
— Даже не знаю.
— Я тоже не знаю. Я хочу только сказать, если Камилла действительно держал в руках нож, мне крайне жаль, что он не дожил до той минуты, когда бы смог поведать, как он ухитрился это сделать. Его советы ох как бы мне пригодились.
Он спрятал изуродованную руку в карман. Зрелище было весьма эффектным.
— Кирби ведь не дурак, — заметил Пината.
— Совершенно верно. Он человек с очень острым умом. Вот только он не испытал еще, что такое артрит.
— Разве состояние Камиллы не должно было помешать ему написать предсмертную записку?
— Нет. Она ведь была написана печатными буквами. Это довольно распространено среди тех, кто страдает артритом. Разборчиво писать печатными буквами куда проще.
— А что бы вы могли сказать после того, как исследовали тело, про образ жизни Камиллы?
— Я не стану вдаваться в дальнейшие медицинские детали, — сказал Фондеро, — но было достаточно свидетельств того, что он много пил, курил и какое-то время очень много работал.
— А где он работал? Нельзя было сделать вывод и об этом?
— Можно, хотя кое-кто из ортопедов со мной может не согласиться. Среди его болезней — искривление костей, саблевидность ног. Причин у этого заболевания довольно много, но, если бы мне пришлось вот так с ходу определить профессию Камиллы, я бы сказал, что начиная с самой ранней юности он имел дело с лошадьми. Он мог много работать на ранчо.
— Ранчо, — повторил Пината, помрачнев. Кто-то уже говорил ему о ранчо, но, только садясь в машину, он вспомнил реальные обстоятельства разговора: Олстон сказал ему по телефону, что мать Хуаниты, миссис Розарио, работала домоправительницей на ранчо и унаследовала после смерти хозяев сумму, достаточную для того, чтобы купить дом на Гранада-стрит.
14. Я пишу эти строки, а постояльцы отеля удивленно разглядывают меня, словно задаваясь вопросом, что делает бродяга в принадлежащем им вестибюле, где ему не место, зачем он пишет письмо дочери, которая никогда ему не принадлежала
Маленькие щитовые домики на Гранада-стрит стояли так тесно, что казалось, будто они сгрудились в одну кучу, оказывая друг другу всяческую поддержку перед лицом наступления со стороны «белой» части города. Гранатовые деревья, благодаря которым улица и получила свое название, стояли голыми. Но в канун Рождества с веток еще свисали ярко-желтые шары. Они выглядели довольно неуместно, словно их специально повесили, чтобы украсить улицу перед праздником.
Дом под номером 512 ухитрялся скрывать свой возраст (подчеркивая тем самым свою независимость от соседей) за свежим слоем ярко-розовой краски, нанесенным рукой то ли ребенка, то ли неопытного любителя. Пятна краски были повсюду: на узенькой дорожке, на перилах крыльца, на лужайке небольшого дворика; даже на цветах и листьях виднелись розовые крапинки, оставлявшие впечатление, что растения заболели какой-то новой болезнью. Розового цвета следы, принадлежавшие ребенку или очень маленькой женщине, шли по серым ступенькам крыльца и терялись в ворсе грубой джутовой подстилки, лежавшей перед дверью. Эти следы были единственным фактом, свидетельствовавшим, что ребенок или дети могли жить в этом доме. Ни игрушек или хотя бы их обломков, ни разбросанных ботинок и свитеров, ни недоеденных апельсинов или кусков хлеба с джемом. Если Хуанита и ее шестеро детей действительно здесь обитали, кто-то, может Хуанита, а возможно и миссис Розарио, очень постарался скрыть этот факт.
Пината нажал на кнопку звонка и в ожидании принялся размышлять о причинах столь неожиданного возвращения Хуаниты в город, где она отсутствовала три с лишним года. Она не могла не знать, что вступает в серьезный конфликт с властями, нарушая условия своего пребывания на свободе и исчезая — в тот самый раз. С другой стороны, Хуанита никогда не действовала, основываясь на логических построениях, таким образом, поводом для ее появления могло послужить самое банальное событие, обычный каприз, например желание повидать свою мать или показать соседям нового мужа и недавно рожденного ребенка, а может, и самая обычная ссора с соседями, где бы она ни жила, после которой у нее возникло безудержное желание бросить все и вернуться. Определить подлинные мотивы было очень непросто. Она напоминала марионетку, управляемую при помощи десятков нитей, частью порвавшихся, а частью перепутавшихся настолько, что совершенно невозможно было управлять ими так, как это изначально подразумевалось. Привести их в порядок, сложить поломанные уголки вместе — эта задача стояла перед Олстоном и его командой. Но у них так ничего и не вышло. Все ее прыжки и сальто-мортале, прыжки и падения уже не контролировались кукловодом.
Дверь отворилась. Перед ним стояла небольшая худенькая женщина средних лет с черными невыразительными глазами, напоминавшими перезрелые оливки. Она держалась неестественно прямо. Можно было заподозрить, что ее спина заключена в металлический корсет. Вся она напоминала натянутую струну; кожа обтягивала худое лицо, волосы были затянуты сзади в маленький пучок, губы сжаты так, что походили на бледную тонкую полоску. Но открылись они, к огромному удивлению Пинаты, очень легко:
— Что вы хотите?
— Миссис Розарио?
— Да, это я.
— Меня зовут Стив Пината. Я хотел бы с вами поговорить, если не возражаете. Можно?
— Если вы по поводу нашего соседа мистера Лопеса, то мне больше нечего сказать. Я уже сказала вчера этой даме из отдела здравоохранения, что они не имеют никакого права вот так просто забирать его без его согласия. Он всю жизнь кашлял, и это ничуть ему не мешало, для него кашлять так же естественно, как дышать. Что же до того, что все его соседи должны пройти обследование на этой машине с лучами, бесплатно или нет, я категорически отказываюсь, и Гонсалесы с Эскобарами тоже. Забивать легкие лучами противоречит самой природе.
— Я не имею никакого отношения к управлению здравоохранения, — сказал Пината, — я ищу человека, который может называть себя Фостером.
— Называть себя? Что это значит, называть себя?
— Вашей дочери он известен под фамилией Фостер, скажем так.
Миссис Розарио снова поджала губы — так моряк убирает парус перед надвигающейся бурей:
— Моя дочь Хуанита живет далеко на юге.
— Но в данный момент она приехала к вам. Верно?
— Кому какое дело, если она приехала навестить свою мать? Она никому не причинила зла. Я внимательно слежу за ней, она ни в чем не замешана. Да кто вы такой, чтобы являться сюда и задавать вопросы о моей Хуаните?
— Меня зовут Стив Пината.
— Ну и что же? Мне это ни о чем не говорит. Ни о чем. Меня не интересуют имена, только люди.
— Я частный детектив, миссис Розарио. В данный момент моя задача заключается в том, чтобы следить за Фостером.
Миссис Розарио непроизвольно коснулась левой стороны груди. То ли у нее прихватило сердце, то ли просто вдруг лопнула бретелька комбинации.
— Он преступник? Вы это хотите сказать? Он может обидеть мою Хуаниту?
— Я не думаю, что он преступник. Но гарантировать, что у вашей дочери не будет с ним неприятностей, не могу. Временами он становится непредсказуемым. Он пришел сюда вместе с вашей дочерью, миссис Розарио?
— Да.
— И ушли они тоже вместе?
— Да, полчаса назад.
Худенькая девочка с пунцовыми щеками лет десяти вышла на порог соседнего дома и принялась крутить хулахуп, ухитряясь при этом в такт обручу жевать резинку. Казалось, она полностью погружена в свое занятие и не обращает никакого внимания на то, что происходит по соседству, но миссис Розарио торопливо прошептала:
— Мы больше не можем здесь разговаривать. Эта Керида Лопес, она все подслушивает, а рассказывает еще больше.
По-прежнему не глядя в их сторону, Керида объявила всему миру звонким чистым голосом:
— Я иду в больницу. И никто из вас не придет и не сможет навестить меня, потому что у меня пятна на легких. А мне на вас наплевать. Все равно я никого из вас не люблю. Я пойду в больницу, как мой дедушка, у меня будет целая куча игрушек, гора мороженого, и мне не надо больше будет мыть эту бесконечную посуду. И не приходите и не навещайте меня, вас все равно туда не пустят.
— Керида Лопес! — резко произнесла миссис Розарио. — Это правда?
Единственным подтверждением того, что девочка расслышала вопрос, стало еще более ускоренное вращение обруча.
Кожа на лице миссис Розарио вдруг стала желтоватой, она сделала шаг назад, в прихожую, словно Керида ударила ее в живот:
— Эта девочка частенько врет. Может быть, это неправда. Если она настолько больна, что ее кладут в больницу, как она может вот так играть на улице? Она действительно кашляет, но ведь кашляют все дети. И вы сами видите, какой у нее здоровый цвет лица. Посмотрите на щеки.
Пината подумал, что причиной такого румянца может быть как раз болезнь, а не чрезмерное здоровье, но ничего не сказал. Он вошел в дом вслед за миссис Розарио. Даже прикрыв за собой дверь, он мог слышать, как Керида продолжает ритмично повторять:
— Иду в больницу — мне наплевать. Не смогут прийти и навестить меня — наплевать. Поеду в карете «скорой помощи»…
Солнечные лучи, проникавшие сквозь обшитые тесьмой шторы, были не в состоянии рассеять мрак крохотной гостиной. Все четыре стены покрывали орнаменты и картины на религиозный сюжет, распятия, веночки из роз, мадонны с младенцем и без него, головы Христа, крохотный алтарь, разместившийся прямо над Богоматерью, ангелы и снова мадонны с нимбами над ними. Многие из этих предметов, изначально предназначенные для того, чтобы давать надежду и утешение живущим, скорее, славили смерть — и в то же время представляли ее отвратительной.
Вот в такой комнате, по крайней мере очень похожей на эту, выросла Хуанита, и первый взгляд на окружающие его предметы объяснил Пинате куда больше, чем все слова, сказанные Олстоном. Она провела здесь годы детства, окруженная постоянными напоминаниями о том, что жизнь коротка и ужасна, а ворота в рай усыпаны терниями, гвоздями и колючей проволокой. Она, должно быть, миллион раз смотрела на матерей с нимбами, обнажающих своих пухлых младенцев, подсознательно или осознанно выбирая такую же роль и для себя, поскольку с нею в ее мозгу были связаны понятия жизни и рождения, так же как и святости.
Миссис Розарио перекрестилась перед крохотным алтарем и обратилась к Богоматери за подтверждением того факта, что Керида Лопес с превосходным румянцем на щеках лжет. Затем она примостила свое худенькое тельце на самый краешек стула, стараясь занимать как можно меньше места, поскольку в этом доме для живых его практически не оставалось.
— Садитесь, — сказала она, чуть склонив голову. — Я не слишком люблю, когда ко мне в дом приходят незнакомые люди и начинают задавать вопросы о нашей жизни, но, коль уж вы здесь, я из простого чувства вежливости должна пригласить вас присесть.
— Благодарю.
Все стулья выглядели одинаково непривлекательно, словно их специально подбирали таким образом, дабы у посетителя исчезло всякое желание садиться. Пината выбрал небольшую, с деревянной спинкой, накрытую покрывалом с вышивкой кушетку, издававшую запах мыльного порошка. С кушетки он мог разглядеть обстановку следующей комнаты, очевидно спальни миссис Розарио. Там тоже стены были увешаны рисунками и орнаментами религиозного характера, на ночном столике около огромной кровати с резными спинками перед фотографией улыбающегося молодого человека горела свеча. Было ясно, что молодой человек умер и свеча горела для спасения души. Пината спросил себя, не отец ли это Хуаниты, и если да, то сколько же свечей сгорело со дня его смерти.
Миссис Розарио поймала его взгляд, устремленный на фотографию, немедленно поднялась и направилась к спальне:
— Прошу меня простить. Конечно же, не следует открывать место нашего сна перед посторонним человеком.
Женщина закрыла дверь, и Пината сразу же понял, почему она оставалась вначале открытой. Дверь выглядела так, словно кто-то набрасывался на нее с молотком. На дереве виднелись следы ударов, во все стороны торчали щепки, одна из досок отсутствовала. Сквозь образовавшуюся, всю в зазубринах щель Пинате по-прежнему улыбался молодой человек. Из-за мерцающего огонька свечи его лицо казалось очень живым: глаза блестели, щеки вздрагивали, губы растягивались и шевелились, черные кудри шевелились от порывов ветра, проникавшего в комнату через разбитую дверь.
— Все это проделал кто-то из детей, — спокойно пояснила миссис Розарио. — Я даже не знаю точно, кто именно: когда это произошло, я была в бакалейной лавке. Подозреваю, что Педро, самый старший. Мальчику всего одиннадцать, но иногда в него вселяется сам дьявол и ребенок становится очень грубым.
«Да уж, — подумал Пината. — Еще каким грубым. Просто не то слово».
— Я отправила его за новой дверью в столярную мастерскую. В наказание ему пришлось взять с собой остальных детей. Потом ему будет нужно ее покрасить и повесить вместо прежней. Я бедная женщина и не могу себе позволить швырять деньги на маляров и плотников, особенно при тех ценах, которые они заламывают.
Пината видел, что она действительно не богата. Но и примет особенной бедности было не видно, к тому же только предметы религиозного поклонения стоили целое состояние. Бывшая хозяйка ранчо, на котором работала миссис Розарио, очевидно, была к ней очень щедра в своем завещании, а может быть, она прирабатывала время от времени.
Он еще раз посмотрел на дверь. Следы молотка виднелись у самого косяка: мальчик одиннадцати лет должен был быть просто гигантского роста, чтобы дотянуться на такую высоту. Да и что могло побудить его к такому поступку? Месть? Жажда разрушения? Возможно, он просто пытался открыть запертую от него дверь?
Он ни на мгновение не усомнился в правдивости слов миссис Розарио.
Миссис Розарио увидела Хуаниту в зеленой форме официантки и человека много старше ее девочки, когда они поднимались к дому по Гранада-стрит. Она не узнала спутника своей дочери, но они смеялись и разговаривали, и уже этого было достаточно: ничего хорошего ждать не приходилось.
Она позвала детей со двора в дом. Они были уже достаточно взрослыми, все замечали, все понимали и ни о чем не спрашивали. У Педро было зрение и слух лисицы, а голос гиппопотама. Даже в церкви он иногда разговаривал так громко, что его приходилось наказывать, залепливая ему рот клейкой лентой. Она дала им по яблоку и отправила всех в спальню. Пообещала, что, если они будут себя хорошо вести, тихо сидеть на кровати и читать про себя молитву, позже они все пойдут к миссис Брустер смотреть телевизор.
Едва она успела запереть дверь в спальню, как услышала на ступеньках легкие шаги дочери, ее звенящий смех. Миссис Розарио вытащила ключ из замочной скважины и припала к ней глазом. Хуанита вошла в комнату вместе с незнакомцем, щеки ее пылали, вся она была в каком-то нетерпении.
— Ну, садись, — обратилась она к спутнику. — Оглядись немножко. Та еще дыра, верно?
— Вовсе нет.
— Это точно. Только ничего не трогай, а то она такой концерт закатит.
— А где твоя мать?
Брови, уголки рта и плечи Хуаниты одновременно приподнялись в изысканном жесте, выражавшем недоумение и раздражение:
— Откуда мне знать? Может, она снова поволокла их в церковь.
— Очень плохо.
— Что же в этом плохого?
— Я рассчитывал с ними повстречаться. — Филдинг постарался произнести эти слова как можно небрежнее, словно говорил он о жесте чистой вежливости, а не о том, что было для него чрезвычайно важно. — Я люблю детей. У меня-то ведь всего один ребенок. Девочка. Ей примерно столько же, сколько тебе.
— Неужели? Сколько же мне, по-твоему?
— Если бы ты не сказала мне, что у тебя шестеро, я бы дал лет двадцать.
— Конечно, — засмеялась Хуанита. — Так я и поверила.
— Правда, правда. Вот только эта краска на глазах тебя старит. Тебе надо перестать ею пользоваться.
— От туши они кажутся больше.
— Им нет нужды казаться больше.
— Да, язык у тебя здорово подвешен. — Но при этом начала стирать краску с век большими пальцами, словно куда больше уважала его мнение, чем хотела показать. — А она красивая? Твоя дочь?
— Была красивой. Я ее давно не видел.
— Как это? Как же ты мог ее не видеть, если так любишь детей?
На этот вопрос можно было ответить сотней вариантов. Он выбрал первый попавшийся:
— Я много ездил. Мне просто не сидится на одном месте.
— Мне тоже. Только в моей ситуации особо не разгуляешься, с шестью-то детьми, да еще мамаша следит за мной так, будто у меня две головы. — Она с размаху опустилась на кушетку, отвернулась и уставилась в потолок. — Иногда мне хочется, чтобы налетел огромный ураган и подхватил этот домишко и меня вместе с ним. Мне наплевать, куда я улечу. Даже заграница подойдет.
Неожиданно в спальне раздался короткий плач ребенка, за ним последовал гул голосов, словно первый крик был сигналом для всего хора.
Хуанита посмотрела на дверь, на лице ее появилось выражение гнева, но никак не удивления:
— Значит, она снова за мной шпионит. Мне надо было догадаться.
Шум в комнате превратился в рев. Филдинг с трудом различал свой собственный голос:
— Пойдем-ка лучше. Я вовсе не хочу снова оказаться замешанным в какой-нибудь скандал.
— Я еще не переоделась.
— Ты и так хорошо выглядишь. Хватит, пойдем. Мне нужно выпить.
— Подождешь немножко.
— Бога ради, пойдем. Может, кто-нибудь уже вызвал полицию, как в прошлый раз. Я тогда выложил двести зеленых.
— Я не люблю, когда за мной следят.
Она соскочила с кушетки и ринулась в сторону спальни, на ходу сорвав со стены огромных размеров распятие.
— Что вы там делаете? — Она с размаху ударила по двери распятием. — Открывайте, слышите меня? Открывайте!
Неожиданно наступила тишина. Кто-то из детей начал скулить, другой закричал перепуганным голосом:
— Бабуля нам не разрешает.
Наконец заговорила сама миссис Розарио:
— Дверь будет открыта после того, как джентльмен удалится.
— Нет, она будет открыта прямо сейчас!
— После того как джентльмен удалится, не раньше. Я не позволю, чтобы дети видели свою мать в компании незнакомца, когда ее муж находится в отсутствии.
— Слушай, старая дура, — завизжала Хуанита. — Знаешь, что у меня в руке? Твой Иисус Христос собственной персоной. И знаешь, как я собираюсь его употребить? Я собираюсь расколотить с его помощью эту дверь…
— Не смей богохульствовать в моем доме! — закричала миссис Розарио.
— И колотить по ней, — продолжала Хуанита, — до тех пор, пока что-нибудь не поддастся, не развалится — дверь или твой Христос. Ты слышишь, старая ведьма? Хоть раз Иисус поможет мне, он сам расколотит эту дверь.
— Если насилие будет иметь место, я приму меры.
— На этот раз он на моей стороне. Понятно? С ним я, а не ты. — Хуанита засмеялась нервным хохотком. — Вперед, Иисусик! Ты ведь на моей стороне.
Она начала ритмично молотить распятием по двери, словно опытный плотник, вгоняющий гвозди. Филдинг так и не поднялся с места, на лице его застыла гримаса боли, все усиливающейся по мере того, как нарастал треск дерева и плач детей. Вдруг распятие треснуло, и металлическая голова ударилась об стол и упала на пол.
От этого же удара отлетела одна из досок двери, и миссис Розарио могла увидеть, что произошло. Дверь затем отворилась, и дети гурьбой выбежали из комнаты, как телята из загона, смущенные и напуганные.
Яростно вскрикнув, миссис Розарио пронеслась по комнате и подхватила голову Христа.
— Будешь знать, как за мной шпионить, — торжествуя, воскликнула Хуанита. — В следующий раз одним Иисусом не отделаешься. Весь дом разнесу по кусочкам!
— Грешница! Богохульница!
— Я не люблю, когда за мной шпионят. Я не люблю, когда от меня запирают двери.
Трое детей сразу же умчались на улицу. Трем оставшимся (один спрятался за кушеткой, двое уцепились за юбку Хуаниты) миссис Розарио сказала дрожащим голосом:
— Подойдите, мы все должны преклонить колени и умолять о прощении за грех вашей матери.
— Замаливай свои грехи, старая дура. Тебе это нужно не меньше, чем кому другому.
— Подойдите, дети. Чтобы сберечь душу вашей матери от мук вечного ада…
— Оставь моих детей в покое. Если они не хотят молиться, то и не надо.
— Мэрибет, Поль, Рита…
Никто из детей не шевельнулся, не издал ни звука. Казалось, они застыли, как застывают в воздухе летчики, осознающие неминуемость падения и пытающиеся решить, на какую сторону падать безопаснее, — вот дети и решали, чью же сторону им принять: Бога и бабушки или матери. Первым принял решение самый младший, Поль. Он уткнул залитое слезами смуглое личико в юбку Хуаниты и снова заревел.
— Прекрати хныкать, — приказала мать и небрежно подтолкнула его в сторону Филдинга.
Филдинг почувствовал себя в роли зрителя на игре в бейсбол, который вдруг видит, что мяч вылетел за пределы поля и летит в его направлении, и ему уже ничего не остается, кроме как ловить его. Он подхватил ребенка на руки и унес в спальню, подальше от кричащих женщин.
— Ты попадешь в ад, грешница!
— Вот и прекрасно. У меня там имеются родственники.
— Не смей произносить его имя. Он не в аду. Священник говорит, что сейчас он с ангелами.
— Ну, если он смог попасть к ангелам, то и я туда попаду без труда.
— Ай, липки, липки, — напевал Филдинг прямо в ухо малышу, — кот играл на скрипке. Вот корова полетела, на луну она присела. Тут захохотала над ней собачка-крошка, а тарелка убежала со столовой ложкой. Сам-то ты видел когда-нибудь, как корова прыгает на луну?
В глазах его маленького собеседника появилась печаль, словно ответ его на вопрос должен был быть очень серьезным.
— Я раз видел корову.
— Которая прыгала на луну?
— Не-е! Она давала молоко. Бабушка возила нас на большое ранчо, а там коровы давали молоко. Бабушка сказала, что коровам, чтобы дать нам молока, надо много работать, поэтому я должен был не пролить ни капли и выпить все до донышка.
— Когда-то я тоже работал на ранчо. И уж можешь мне поверить, работал я побольше любой коровы.
— А ты тоже работал на бабулином ранчо?
— Нет. Это было очень далеко отсюда.
Крик в соседней комнате неожиданно прекратился. Хуанита исчезла в другой части дома, миссис Розарио стояла на коленях перед алтарем, нежно придерживая левой рукой голову Иисуса. Она молилась без слов, но по выражению ее лица Филдинг чувствовал, что взывает она не к прощению, а к мщению.
— Я хочу папу, — сказал малыш.
— Он очень скоро вернется. Может, ты хочешь послушать про те неприятности, которые были у мисс Маффит? Крошка мисс Маффит села на тахту, сразу съела творожок и сладкую пахту. Тут к ней змейка подползла и испугала, и мисс Маффит тут же взяла и убежала. А ты боишься змей?
— Нет.
— Ну и умница. Змеи иногда могут даже очень пригодиться.
Воротник рубашки намок от пота, и Филдинг ощущал, как каждые несколько секунд сердце делает лишний удар, словно его гоняли по всей грудной клетке. Ему довольно часто приходила в голову мысль об инфаркте, но, если это случалось дома, он просто пропускал пару стаканчиков и забывал об этом. Но здесь он не мог позволить себе забыть. По правде сказать, инфаркт казался неизбежным в этот сумасшедший день, кульминацией которого стали поломанное распятие и запертая дверь, мрачная женщина, застывшая в молитве, перепуганные дети, Хуанита и мисс Маффит. «А сейчас, леди и джентльмены, торжественный финал нашего представления — Стэнли Филдинг и его никуда не годная система артерий!»
— Мисс Маффит, — он прислушался к своему сердцу, — была настоящей маленькой девочкой. Ты знал об этом?
— Такая же настоящая, как я?
— Совершенно верно, такая же настоящая, как ты. Она жила лет эдак двести-триста назад. Ну и однажды ее отец написал про нее стихотворение, и теперь дети во всем мире любят слушать про крошку мисс Маффит.
— Я не люблю. — Мальчик покачал головой, и его курчавые волосы защекотали горло Филдинга.
— Не любишь? В самом деле? А про что бы ты хотел послушать? И не надо кричать, мы не должны беспокоить бабушку.
— Расскажи про ранчо.
— Какое ранчо?
— На котором ты работал.
— Давно это было. — «Дамы и господа, прежде чем наш замечательный исполнитель приступит к своему номеру, он развлечет вас некоторыми деталями из собственной биографии». — Была у меня кобыла по имени Винни. Настоящая ковбойская лошадь. Ковбойская лошадь должна быть быстрой и умной, Винни как раз подходила, она могла отбить корову от стада так же легко, как ты можешь вытащить из вазы апельсин.
— Перед тем как вы пришли, бабушка дала нам яблок. Я свое спрятал. Сказать куда?
— Ты лучше не доверяйся мне. Я не слишком хорошо храню чужие секреты.
— Ты проговоришься?
— Ага. Иногда со мной такое случалось.
— И со мной все время. Яблоко спрятано под…
— Тсс. — Филдинг погладил ребенка по голове. Не сказав ни слова, мальчик самим своим видом ответил на все его вопросы. Темные глаза и волосы, смуглая кожа говорили сами за себя. Ясно было одно: произошла ошибка. Но по чьей вине и почему?
«Господи! — подумал он. — Как мне нужно опрокинуть стаканчик. Если бы я выпил, у меня заработала бы голова. Со стаканом в руке я могу думать. Думать».
— А как тебя зовут? — спросил Поль.
— Фостер, — ответил Филдинг. Он представлялся Фостером довольно часто, и ему уже казалось, что он говорит чистую правду. — Сэм Фостер.
— Ты знаешь моего папу?
— Не уверен.
— А где он?
Малыш задал хороший вопрос, но в голове Филдинга появился еще более интересный. Не где, а кто. «Кто же твой отец, дружок?» — Подумал Филдинг.
Ребенок обхватил его шею своими ручонками так плотно, что Филдинг просто не мог шевельнуть головой, даже для того, чтобы оглядеться вокруг. Неожиданно он ощутил присутствие какого-то странного запаха, который из-за волнения раньше не почувствовал. Лишь минуту-вторую спустя он догадался, что пахнет расплавленным воском.
Поднявшись с кровати, он осторожно разжал руки ребенка и поставил его на пол, затем повернулся и увидел фотографию молодого человека рядом с мерцающей свечой. Сердце забилось в волнении, застучало с таким грохотом, словно Хуанита вновь принялась колотить в запертую дверь. Красная пелена опустилась на глаза, руки и ноги вдруг обмякли и распухли. «Вот оно, — подумал он. — Дамы и господа, вот оно! Я иду…»
Он попал в ловушку.
Теперь он понимал это ясно и отчетливо. Все, что случилось до того, было продуманным планом по заманиванию его в западню. Они все, даже ребенок, выучили наизусть свои роли. Каждый жест, движение, сцена, вплоть до сцены с разбитой дверью, были тщательно отрепетированы и поэтому казались вполне реальными. И все это вело к тому моменту, когда он постиг истину.
Он поднял распухшую руку и вытер обильно заливавший глаза пот со лба. Теперь они поджидали его в соседней комнате, гадая, каким станет его следующий шаг. Миссис Розарио делала вид, что молится. Хуанита якобы собиралась идти вместе с ним, дети притворялись, что очень напуганы. Они все были там, вслушивались, всматривались, ждали, когда же он выдаст себя, сделает одно-единственное неверное движение. Даже этот малыш — шпион. Эти невинные глаза, глядящие на него, вовсе не невинны, рот ангелочка принадлежит демону.
«Теперь он с ангелами». Филдинг вспомнил слова миссис Розарио. Сейчас уж он точно знал, о ком она говорила, безумный смех подкатился к горлу и чуть не задушил его. Филдинг чуть ослабил галстук, дышать стало легче, но тут же затянул его снова. Он не должен дать понять тем, кто за ним наблюдает, что эта фотография имеет для него какое-то значение или что он пытался разузнать об отце мальчика.
Где-то в подсознании билась мысль: все совсем не так, но он никак не мог отогнать от себя нахлынувшие вдруг подозрения. Покрытое пеленой страха сознание перемешивало реальность и вымысел, появлялось парадоксальное ощущение: встревоженная молодая женщина — в реальности преступница, ее мать — злокозненная ведьма, а дети — вовсе не дети, а так и не выросшие взрослые.
— Эй, я готова, — окликнула его Хуанита.
Филдинг обернулся так резко, что потерял равновесие и был вынужден ухватиться за спинку кровати, дабы не рухнуть вниз.
Он не мог выдавить из себя ни слова, но все же сумел кивнуть. Пелена начинала спадать, и он отчетливо разглядел Хуаниту: перед ним стояла молодая женщина, стройная и красивая, одетая в бело-голубое платье, с наброшенным на плечи красным свитером и в красных босоножках из змеиной кожи на тончайших каблуках-шпильках.
— Пойдем, — сказала она. — Надо поскорее уносить ноги из этого сумасшедшего дома.
Он вышел из комнаты, все еще ощущая дрожь в ставших ватными ногах. Но облегчение уже наступило: не было никакого заговора, никакой ловушки, он сам все придумал, застигнутый врасплох всепоглощающим чувством вины и раскаяния. Хуанита, миссис Розарио, дети были тут совсем ни при чем. Они не знали ни его настоящего имени, ни того, зачем он к ним пришел. Фотография у изголовья кровати оказалась тем самым ужасным совпадением, которые иногда случаются в жизни.
И все же… «Господи! Дай же мне выпить, ну дай мне выпить!»
Миссис Розарио перекрестилась и отвернулась от алтаря. Она по-прежнему не обращала никакого внимания на Филдинга, даже краем глаза не посмотрела в его сторону. Она поглядела через плечо не замечаемого ею гостя на Хуаниту:
— Куда это ты собралась?
— Прогуляться.
— Купишь мне новое распятие. Поняла?
Хуанита послюнявила указательный палец и аккуратно провела им по бровям:
— Купить тебе распятие? Думаешь, я такая добренькая?
— Ты не добрая, — холодно ответила миссис Розарио. — Но ты достаточно благоразумна и понимаешь, что живешь в моем доме. Если я захлопну у тебя перед носом дверь, ты окажешься на улице.
— Ты уже раз попыталась ее запереть. Видишь, что из этого получилось?
— Если подобное повторится, я вызову полицию. Тебя арестуют, а детей отправят в приют.
Хуанита побледнела, затем усмехнулась и пожала плечами так резко, что свитер упал на пол. Филдинг нагнулся, чтобы поднять его, но она буквально вырвала у него из рук принадлежавшую ей вещь.
— Ну и что? — крикнула она матери в лицо. — По крайней мере им будет там не хуже, чем в этом сумасшедшем доме, где их бабка ползает половину всей жизни на коленях перед боженькой.
Миссис Розарио впервые посмотрела на Филдинга:
— Куда вы ведете мою дочь?
— Он меня никуда не ведет, — вмешалась в разговор Хуанита. — Это я его веду. Это у меня машина.
— Не смей выводить машину из гаража! Джо сказал, ты сумасшедшая и тебе нельзя доверять руль. Ты погибнешь в дорожной катастрофе, а ты просто не можешь погибнуть, когда на твоей совести столько грехов и ты в них еще не раскаялась.
— Мы собирались пойти в кино, — пояснил Филдинг миссис Розарио, — но если вы возражаете… То есть мне не хотелось бы стать причиной недоразумений в семье.
— В таком случае вам лучше покинуть этот дом. Моя дочь замужем. Замужние женщины не ходят в кино с незнакомыми мужчинами, а джентльмены не делают им подобных предложений. Я даже не знаю, кто вы такой.
— Меня зовут Сэм Фостер, мадам.
— Ну и что? Первый раз слышу.
— Отстань от него, — потребовала Хуанита. — И не суй нос в мои личные дела!
— Это мой дом, и все, что в нем происходит, касается меня непосредственно.
— Ну и подавись своей конурой! Ешь ее с маслом, эту вшивую хибару!
— Мой дом давал приют тебе и твоим детям в самую трудную пору. Ты бы жила на улице, если б не…
— Я обожаю улицу, — перебила ее дочь.
— Да, конечно. Сейчас, когда светло и солнечно, ты очень любишь улицу. Подожди, наступит ночь, придет холод и, может быть, дождь. Ты вернешься сюда вся в слезах.
— А ты бы очень хотела, чтобы я приползла к твоему порогу в слезах, верно? Что ж, начинай просить дождя у своего боженьки, увидишь, будет ли по-твоему. — Хуанита распахнула входную дверь и кивнула Филдингу головой, как бы приглашая его выйти из дома раньше ее. — Увидишь, приползу ли я сюда в слезах.
— Цыганка, — прошипела в ярости миссис Розарио. — Ты вовсе мне не дочь, ты цыганка. Я нашла тебя в чистом поле и пожалела. В тебе нет ни капли моей крови, цыганка!
Хуанита с грохотом закрыла дверь. Мадонны на стенах содрогнулись, но продолжали улыбаться.
Гранатовые деревья на Гранада-стрит по-прежнему медленно покачивались под порывами ветра.
— Я родилась здесь, в больнице Святого Иосифа, — сказала Хуанита. — Там есть в книге соответствующая запись. Ты ведь не поверил в эту чепуху про чистое поле?
— Пойдем куда-нибудь и выпьем по стаканчику.
— Конечно. Так ты поверил или нет?
— Во что?
— Да в эту чепуху про цыганку.
— Нет. — Филдинг был уже готов сорваться с места и побежать, чтобы как можно скорее оказаться подальше от этого жуткого дома с обезглавленным распятием.
Хуанита на огромных шпильках неловко семенила за ним по улице.
— Послушай, не так быстро.
— Мне нужно выпить. Нервы на пределе.
— Она тебя тоже достала?
— Еще как!
— Раньше, когда я жила дома, она не была такой чокнутой. Конечно, религиозности в ней и тогда хватало, но не столько. А теперь она пытается отправлять людей прямиком в Рай. Свечку видел?
— Я так и подумал.
— Машина у меня здесь за углом. Я держу ее в отдельном гараже, чтобы дети не поцарапали.
— Машина нам ни к чему, — заметил Филдинг. — Я тоже не могу погибнуть, не покаявшись во всех грехах.
— Она чокнутая!
— Конечно, вот только…
— Значит, ты слышал эту фигню про чистое поле? Вранье. В больнице Святого Иосифа есть запись о моем рождении…
Миссис Розарио стояла перед разбитой дверью. Она словно пыталась заслонить от Пинаты смертельную рану, которую получил ее дом.
— Прошу простить меня за любопытство, — извинился Пината. — Молодой человек на фотографии — отец Хуаниты?
— Имя отца Хуаниты не произносится в этом доме уже двадцать лет. У меня и в мыслях бы не было тратить драгоценный воск на спасение его души. — Она скрестила руки на груди. — Должна вам напомнить: я пригласила вас пройти, чтобы поговорить о мистере Фостере. И ни о чем другом. Только о мистере Фостере.
— Хорошо. Куда он направился, когда вышел из дома вместе с вашей дочерью?
— Не знаю. Сказали, что собираются в кино. Но Хуанита очень редко ходит смотреть фильмы. Она боится темных замкнутых пространств.
— Чем же тогда она занимается после работы перед выходными?
— Ходит по магазинам, берет детей на пляж, а иногда на причал ловить рыбу. Бывает, она чувствует себя очень счастливой. — Миссис Розарио принялась разглядывать собственные руки, словно пыталась прочесть по линиям ладоней прошлое и так и не могла разглядеть будущее. — И тогда просто невозможно представить себе, что может жить человек еще более счастливый, чем она.
— А чем она занимается, когда чувствует себя несчастной?
— Я не слежу за ней. У меня на руках дети.
— Но до вас ведь доходят какие-то слухи?
— Ну, может, мои друзья иногда сообщают мне, что она ведет себя, как бы это выразиться, не совсем правильно.
— Злоупотребляет спиртным? Я спрашиваю об этом потому, что у Фостера эта слабость выражена весьма отчетливо. Если этот недостаток есть и у Хуаниты, мне будет легче принять решение, где их искать.
— Иногда она выпивает.
— У себя в кафе?
— Что вы! — резко воскликнула миссис Розарио. — У себя в кафе никогда. Миссис Брустер не позволит ей выпить даже стакан пива.
«Веладу» можно вычеркнуть, мелькнуло в голове у Пинаты. Остается всего ничего: двадцать пять — тридцать заведений, которые можно с натяжкой назвать барами, да еще восемьдесят-девяносто ресторанов в городе и ближайшем пригороде, где тоже подают спиртное. Правда, большая часть ресторанов была недоступна Хуаните из-за ее происхождения. Ей или откровенно укажут на дверь, или элегантно откажутся обслужить, ссылаясь на святое право хозяина самому решать, кого предпочесть в качестве клиента. Бары же располагались по преимуществу в районах, где дискриминация автоматически вела к банкротству владельца; поэтому логичнее всего искать Хуаниту в одном из баров. Несмотря на все рассказы об агрессивности этой молодой женщины, Пината подозревал, что она слишком робка, чтобы решиться оторваться от тех мест, где она чувствовала себя как дома.
— Миссис Розарио, — спросил Пината, — четыре года назад Хуанита уехала из нашего города и поселилась в Лос-Анджелесе. Почему?
— Она устала от преследований со стороны полиции и управления по контролю над условно осужденными, от людей из клиники. Они замучили ее своими разговорами, то и дело говорили ей, что она неправильно себя ведет, что она должна вести себя по-другому, что ей делать, что носить, как обращаться с детьми.
— Но ведь они пытались ей помочь.
— Странная это помощь, если от нее один вред, — сердито откликнулась его собеседница. — Когда ее арестовали в последний раз, она ведь ничего такого не сделала. Очень трудно молодой женщине, за юбку которой цепляются постоянно пятеро детей, ни разу никуда не пойти. Она заперла их в квартире, но только для того, чтобы они не убежали на улицу и не оказались под колесами. А соседи, когда они принялись плакать, пожаловались, в полиции же сказали: а что, если бы был пожар или землетрясение. Вот ее и арестовали, а детей отправили в приют. Вы это называете настоящей помощью? Я в такой помощи не нуждаюсь. Если у них есть только это, мы обойдемся. Хуанита, как только ее выпустили, решила то же самое. Она уехала сразу, в ту же ночь. Дети уже спали, и я попросила миссис Лопес приглядеть за ними, пока я схожу в церковь. Когда я вернулась, дочери уже не было. — Миссис Розарио покачала головой, чувствовалось, что ей очень больно вспоминать об этом. — Я не думала, что она уедет вот так неожиданно, без мужа, без друзей, за несколько недель до родов.
— А записку она вам оставила?
— Нет.
— И вы не знали, куда она уехала?
— Нет. Я ни разу не получила от нее ни весточки, не видела ее, пока две недели назад она не вернулась. Люди из управления по контролю и клиника пытались пару раз тут что-нибудь вынюхать. Я сказала им то же самое, что и вам сейчас говорю.
— Это я понял, — согласился Пината. — Вот только правда ли то, о чем вы говорите?
Миссис Розарио моргнула, ее оливковые глаза на какую-то секунду исчезли, и Пината увидел иссушенные ночами без слез веки.
— Целых четыре года я не имела от нее никаких известий, и вдруг стук в дверь, и появляется она, а с ней шестеро детей, муж и машина. Хуанита без удержу твердила мне, как ей счастливо живется. Я подумала, что это действительно так: ребенок — чудо, автомобиль — прелесть, муж — ну просто красавец. Насторожило меня только выражение ее глаз. В них было какое-то беспокойство. Когда у нее такое настроение, она практически ничего не ест, почти не спит, все время находится в движении, день и ночь, носится с места на место и никогда не устает.
«С места на место, — мысленно повторил Пината. — Двадцать баров, восемьдесят ресторанов, шестьдесят тысяч жителей. Пора в путь».
— Человек, с которым она ушла, — спросила миссис Розарио, — этот мистер Фостер, он что, алкоголик?
— Да.
— Найдите их и отправьте Хуаниту домой.
— Попробую.
— Передайте ей, мне стыдно за то, что я назвала ее цыганкой. Я просто перестала себя контролировать — это иногда случается. Потом мне стало горько и стыдно. Пожалуйста, разыщите ее и скажите, что я раскаиваюсь.
— Сделаю все, что в моих силах.
— Поторопитесь, пока этот человек не довел ее до беды.
Пината вовсе не был уверен, кто из этой пары кого доведет до беды, но вместе Хуанита и Филдинг представляли собой довольно опасное соединение. Он написал свою фамилию, телефон и адрес конторы на клочке бумаги, протянул миссис Розарио.
Она прочла, держа бумажку на вытянутой руке — у нее была дальнозоркость.
— Пината, — миссис Розарио одобрительно кивнула, — хорошее имя доброго католика.
— Да.
— Если бы моя дочь чаще ходила в церковь, она бы никогда не заболела.
— Возможно. — Пината согласился, понимая, что спорить в данной ситуации бесполезно. — Я буду вам чрезвычайно признателен, если вы немедленно дадите знать, когда Хуанита или Филдинг снова появятся здесь.
— Филдинг?
— Это его настоящая фамилия.
— Филдинг, — спокойно повторила она. Затем аккуратно сложила протянутый Пинатой клочок и сунула в карман своего черного платья. — Полагаю, то, как называют себя люди, не имеет никакого значения. Может, и Филдинг его ненастоящая фамилия. Как вы считаете?
— Уверен, что настоящая.
— Ладно, не мое дело. — Она подошла к входной двери и широко ее распахнула. — Вам не найти ни Хуаниты, ни Филдинга. На машине они могли уехать куда угодно.
— Все же хочу попробовать.
— Не нужно, прошу вас.
— Но вы же сами только что просили найти ее и отправить домой.
— Я устала, — с горечью сказала миссис Розарио. — Как я устала. Пусть она исчезнет.
— У меня есть поручение, которое я должен выполнить.
— Что ж, выполняйте. Всего доброго, мистер Пината, если, конечно, это ваше настоящее имя.
— В любом случае оно единственное.
— Мне все равно.
Он едва переступил порог, как она захлопнула дверь с такой силой, что ему показалось, будто взрывная волна вышвырнула его из дома.
На крыльце стоявшего по соседству дома Лопесов никого не было. Сломанный розовый обруч валялся на ступеньках.
Миссис Розарио подождала, пока отъехавшая машина завернет за угол. Наблюдая сквозь занавески, она ощущала, как все ближе подступают к сердцу холод и слабость, словно его сжала чья-то железная рука и кровь перестала течь в ее жилах. Она коснулась серебряного креста на груди в надежде, что это прикосновение согреет и успокоит ее. Но металл был так же холоден, как и ее тело.
«Пината, — подумала она. — Звучит фальшиво. Впрочем, он даже не пытался сделать вид, что оно настоящее, говорил, оно единственное, и больше ничего».
Миссис Розарио прошла на кухню и взяла со стола телефонный справочник, нашла в нем Стивенса Пинату, номер телефона совпадал с тем, что он записал на бумажке.
Она стояла, прислонившись к раковине, и никак не могла принять решение. Мистер Барнетт строго-настрого запретил ей звонить в свою адвокатскую контору, если только не самые непредвиденные обстоятельства, и ни в коем случае нельзя звонить ему домой. Но какое право он имел давать ей подобные приказания? Может, это он прислал Пинату и Филдинга шпионить за ней? Что ж, они ничего не узнали, ни один из них. На фотографии тридцатилетней давности изображен юноша, ничем не похожий на умершего.
Время шло, неумолимо отмеряя минуты, каждая из которых стучала как удар сердца. Какой тяжелый длинный день. Их становилось все больше. Карлосу повезло, он избавился от этого. Теперь он на небе с ангелами. Свечи больше не нужны — так сказал священник. «Вне всякого сомнения, он теперь на небе, — сказал падре, — ты не должна становиться фанатичкой, церковь этого не любит. Твоя молитва длилась достаточно долго. Достаточно».
Он был прав. Все это продолжалось слишком долго…
Она сняла телефонную трубку.
15. Твоя мать сдержала клятву, Дэйзи. Мы все еще не вместе, ты и я. Она скрыла свой позор, поскольку не могла нести печать его на своем челе так, как можем, должны и несем ее мы, слабые и униженные
В воскресенье днем Ада Филдинг с несколькими приятельницами обедала в ресторане в нижней части города. После обеда она прошла в туалетную комнату, чтобы привести в порядок макияж, за ней последовала миссис Уэлдон, одна из участниц их компании, которую она не слишком хорошо знала, да и не слишком жаловала. Большие, все время рыскающие по сторонам глаза миссис Уэлдон были прикрыты вуалью, словно окна тюлем, а тонкие злые губы постоянно двигались, даже тогда, когда она ничего не говорила, будто эта женщина все время пережевывала застрявшие в зубах семечки от прошлого.
Поправляя вуаль перед зеркалом у раковины, миссис Уэлдон спросила:
— Как там Дэйзи поживает?
— Дэйзи? — переспросила миссис Филдинг. — Прекрасно, благодарю. Лучше быть не может.
— А Джим?
Миссис Филдинг и не подозревала, что собеседница знает, как зовут ее дочь и зятя, но вида не подала. За прошедшие годы она научилась скрывать очень многое за безмятежной улыбкой.
— У Джима все прекрасно. Он собирался в выходной поехать в северную часть штата, присмотрел там участок земли для покупки, но решил подождать, пока станет прохладнее. Удивительный год, не правда ли? Такая жара, и ни капли дождя.
Но миссис Уэлдон вовсе не собиралась переключаться на погоду. Она настроилась поговорить совсем о другом, о людях.
— Моя приятельница как-то видела Дэйзи. Коринна, вы ведь не раз слышали, как я упоминала ее в своих рассказах. Очаровательная девушка, она живет со мной по соседству — ну, по возрасту она, конечно, не девушка, ей около сорока, но фигура у нее как у девушки. Правда, она с детства была довольно худенькой. Это ведь имеет большое значение для фигуры. Так вот Коринна видела Дэйзи несколько дней назад и сказала, что выглядела ваша дочь похудевшей и осунувшейся.
— Неужели? Я как-то не замечала.
— Это было в четверг. Да-да, в четверг. Дэйзи шла по Пьедра-стрит с молодым человеком. Причем это был явно не Джим. Джим ведь светлокожий блондин, а этот человек выглядел, ну, скажем так, довольно смуглым.
— У Дэйзи большое количество знакомых, и блондинов, и брюнетов, — заметила миссис Филдинг небрежно.
— Вы ведь понимаете, что я имею в виду, когда говорю о его смуглости.
— Боюсь, не очень.
— Конечно, ведь вы родились не у нас в Калифорнии. — Миссис Уэлдон сделала паузу и беспомощно покачала головой — не родившиеся в Калифорнии всегда оказывались такими тупыми и бестолковыми. — Я хочу сказать, что это человек не из наших.
Ада Филдинг прекрасно поняла, что именно хотела сказать эта женщина, но куда разумнее было разыграть невинность и невозмутимость — для сплетников нет ничего слаще, чем увидеть неожиданные признаки волнения: участившееся дыхание, румянец, нервно сжимающиеся кулаки. Руки миссис Филдинг оставались спокойными, дыхание ровным, а слой пудры скрыл выступивший было румянец. Но она знала, щеки ее покраснели, она чувствовала, как загорелись лицо и шея, и это ее очень раздражало, ведь повода к беспокойству не существовало. Дэйзи прошлась по улице со смуглокожим молодым человеком. Ну и что из этого? У нее самые разные знакомые. Все же в городе, подобном этому, следовало быть осторожнее. Есть принципиальная разница между терпимостью и глупостью, а Дэйзи даже тогда, когда ею двигали самые лучшие намерения, не всегда вела себя умно.
— Да, родилась я не в Калифорнии, а в Колорадо, — вежливо согласилась она. — Вы когда-нибудь бывали в Колорадо? У нас совершенно изумительный горный пейзаж.
Но миссис Уэлдон было совершенно наплевать на Колорадо.
— По странному стечению обстоятельств, — продолжала она болтать, — Коринна узнала этого молодого человека. Она познакомилась с ним в прошлом году, когда у нее было маленькое недоразумение с полицией. Она выпила за игрой в бридж всего один слабенький коктейль, но, когда она перебежала улицу на красный свет — Коринна клянется, что был уже желтый, — полиция заявила, что она находилась в состоянии опьянения. Это было ужасно. Суббота, банки закрыты, ее адвокат укатил играть в гольф, родители отправились на выходные в Палм-Спрингс, а эта бедняжка так деликатна — она никогда ничего не ест. Но как бы то ни было, появился молодой человек и заплатил за нее штраф. Коринна никак не может вспомнить, как его зовут, но узнала своего спасителя без труда — он такой симпатичный, если, конечно, не считать того, что он, скажем так, смуглый.
— Вы рассказали прекрасную историю о недоразумении Коринны с полицией, — холодно улыбнулась миссис Филдинг. — Я обязательно ее кому-нибудь поведаю. Надо не забыть.
Почти всю неделю Дэйзи предпринимала попытки остаться дома в одиночестве. Наконец ей это удалось. Мать отправилась в нижнюю часть города сделать кое-какие покупки в магазинах. Стелла взяла выходной после того, как Дэйзи сумела убедить девушку, что та не слишком хорошо выглядит, а Джим отправился к Адаму Барнетту, чтобы испытать под парусом его новый гоночный шлюп. Дэйзи сама организовала приглашение и его принятие: Джим страдал морской болезнью, а Адам, не слишком еще приноровившийся к своему новому судну, предпочел бы более опытного помощника, но ни тот, ни другой в спор с ней вступать не стали.
Из кухонного окна она внимательно следила за машиной Джима, пока та не скрылась за поворотом вьющейся вдоль каньона дороги. Затем, не теряя времени, Дэйзи спустилась на первый этаж дома. Здесь находились еще одна спальня и ванная комната, предназначенные для гостей; веранда, раскрашенная в бледно-зеленый и бирюзовый цвета, в полутьме казалась заполненной водой; здесь же располагалась мастерская Джима, а в самом дальнем конце дома — его рабочий кабинет. Мебель в нем была сделана руками самого хозяина, явно экспериментальная и совершенно непригодная к использованию из-за ее чересчур модернистского вида. Самое большое место в комнате занимало совершенно неуместно здесь выглядевшее очень старомодное, огромных размеров бюро с откидной крышкой, купленное Джимом на аукционе. Он хотел изучить его устройство и создать улучшенную версию. Но старое бюро оказалось таким удобным и функционально совершенным, что он так и не взялся за его переделку.
Большой верхний ящик и многочисленные ящички были заперты, ключ при этом лежал у всех на виду, прямо на подоконнике. Дэйзи подумала о том, как это характерно для Джима: запереть все на ключ, будто кругом одни воры, а потом оставить ключ для всеобщего обозрения, словно он все-таки пришел к выводу, что красть у него нечего.
Она открыла бюро. Принц стоял в дверях и с явным неодобрением косился на нее желтым глазом. Он прекрасно знал, что Дэйзи нечего делать в этой комнате, и чувствовал ее нервозность.
Вещи в верхней части бюро были распределены довольно разумно: тут были отдельные ящички для марок, газетных вырезок, отделения для текущих счетов, ждущих ответа писем, банковских книжек, объявлений о продажах земельных участков, опубликованных в газетах других городов. Большие нижние ящики, напротив, были беспорядочно забиты запылившимися старыми письмами и смятыми открытками, банковскими декларациями, полупустыми пачками сигарет и коробками спичек.
Она принялась детально изучать содержимое ящиков, аккуратно выкладывая каждый предмет на недоделанный стол с крышкой неопределенной формы, который Джим мастерил для коттеджа ее матери. По правде сказать, она не слишком-то надеялась обнаружить хоть что-нибудь, но продолжала искать, ее руки двигались неловко и неуверенно, словно чувство вины и стыда сковало их тяжелыми цепями. Джим всегда доверял ей, а она была откровенна с ним. А теперь, мелькнула у нее мысль, после восьми лет совместной жизни, она рылась в его личных бумагах, как обычный вор. И, как обычный вор, она ничего не находила. Открытки были абсолютно неинтересными, письма невинными. Она уже подумывала о том, как станет извиняться перед мужем: «Джим, милый, прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть…»
В нижнем левом ящике у самой стенки она наткнулась на кипу старых чековых книжек. Они лежали в абсолютном беспорядке. Первая сверху была годичной давности и покрывала четыре месяца.
Вовсе не предполагая найти что-то важное, Дэйзи листала страницы, не слишком обращая внимание на записи — так перелистывают скучную книгу, в которой много героев, но никакого сюжета. Большинство персонажей она прекрасно знала: Стелла, фармацевт, владельцы магазинов, книжного и готового платья, фирма по поставке строительного оборудования, зубной врач, ветеринар, садовник, почтальон. Самая большая сумма — двести пятьдесят долларов — причиталась, судя по предъявленным счетам, Стелле. На корешке чека со следующей по размеру суммой в двести долларов значились буквы А и Б. Он был датирован первым сентября.
Она проверила корешки следующего месяца и снова обнаружила такую же сумму, выплаченную в октябре. Дойдя до последней страницы книжки, она насчитала в конечном итоге четыре корешка, каждый на двести долларов, которые выплачивались Аб в начале месяца.
Аб. Она не знала никого, чье имя или фамилия начинались бы с этого сочетания. Среди ее знакомых не было ни Абнера, ни Аббота, ни Абернотти, ни Абигайл. Ближе всех стоял Адам. Адам Барнетт. А. Б.
Сначала она не слишком удивилась: в том, что Адам получал деньги от Джима, не было ничего противоестественного. Он адвокат Джима и оформляет его налоговую декларацию. Однако сумма — двести в месяц, то есть две тысячи четыреста долларов в год, — казалось, несколько чрезмерна даже в качестве гонорара консультанту по налогам. Кроме того, ее удивило, что Джим платил ему не через контору, а со своего личного счета. Может, муж выплачивал долг и занял деньги у Адама, возможно, он хотел сохранить этот факт в тайне от своих компаньонов. Возможно, он был не таким преуспевающим бизнесменом, каким хотел казаться Дэйзи и ее матери?
«Как это глупо с его стороны, не говорить мне правду, — подумала она. — Я без труда могла бы ограничить свои потребности. Нам с мамой прекрасно удавалось жить по минимуму, если это необходимо, а подобного рода необходимость возникала у нас достаточно часто».
Принц неожиданно гавкнул и, с шумом пронесшись по веранде, взлетел вверх по лестнице. Хотя Дэйзи не слышала никаких звуков с верхнего этажа, она сразу поняла, что кто-то вошел в дом, и принялась быстро и торопливо запихивать в ящики вытащенные бумаги. Возможно, она успела бы убрать следы своего «преступления», если бы Принц не счел своей прямой обязанностью проводить миссис Филдинг вниз к Дэйзи.
В течение нескольких секунд женщины смущенно разглядывали друг друга. Затем Дэйзи, ощущая повисшую в воздухе неловкость, произнесла:
— Я думала, ты собиралась пройти днем по магазинам?
— Я передумала. В городе слишком жарко.
— Неужели?
— Ужасно, хотя здесь у вас прохладно и свежо.
— Это верно.
— Объясни мне, пожалуйста, чем ты занимаешься?
Разыгрывавшаяся сцена напомнила Дэйзи картинку из далекого детства: мать, полная сил и праведного гнева, нависает над ней и она — съежившаяся, перепуганная, действительно совершившая какой-то проступок. Но теперь Дэйзи стала старше и прекрасно знала: главное — не выдать себя, не показать страх или вину.
— Я искала одну вещь и подумала, что Джим мог положить ее сюда.
— И это было для тебя так важно, что ты не могла дождаться его возвращения и спросить его самого?
— Напротив, это такой пустяк, что я просто не захотела его беспокоить. Ты ведь знаешь, у него столько забот.
— Пожалуй, тебе это известно лучше, чем мне. Ты прибавляешь их ему с таким усердием.
— Мама, не надо. Не начинай.
— Я и не начинаю! — резко парировала Ада Филдинг. — Ты сама затеяла все это в прошлый понедельник, когда позволила себе впасть в истерику из-за идиотского сна. Так все это и началось, из-за этого сна, и жизнь рассыпалась на куски. Были мгновения, когда мне и впрямь начинало казаться, что ты сошла с ума — слезы, крики, блуждания в одиночестве по кладбищу в поисках могилы, которую ты сподобилась разглядеть во сне, расспросы-допросы, даже Стеллу ты не смогла оставить в покое со своими разговорами о мертвом мексиканце, про которого никто из нас даже не слышал, — это же абсолютное безумие!
— Если это и безумие, то мое, а не твое. Тебе не о чем беспокоиться.
— А это! Ты рыщешь по комнате Джима, суешь нос в его личные бумаги. Что это такое? Что ты тут ищешь?
— Ты прекрасно знаешь, что я ищу. Джим не мог не рассказать тебе. Он ведь делится с тобой всем без исключения.
— Только потому, что больше ни о чем ты не хочешь с ним разговаривать сама.
Устремив взгляд в стену перед собой, Дэйзи размышляла, сколько раз Джим и мать обсуждали ситуацию. Может быть, они даже провели своего рода консилиум в ее отсутствие, два доктора над тяжелым больным, симптомы болезни которого они никак не могут определить.
«Она ищет потерянный день, доктор Филдинг. — О, это очень серьезно, доктор Харкер. — Конечно, конечно. У меня это первый случай. — Возможно, нам придется оперировать. — Хорошая мысль, замечательная. Если потерянный день куда и подевался, он наверняка у нее внутри. Мы вытащим его на свет и наконец от него избавимся. Нельзя оставлять его внутри. Это опасно».
— По-моему, — заметила миссис Филдинг, — тебе неприятна сама мысль, что Джим мне доверяет.
— Нисколько.
— Молодые женщины, как правило, счастливы, если муж и теща находят общий язык. У нас с Джимом могут быть разногласия по многим вопросам, но мы забываем о них ради тебя, потому что оба тебя очень любим. — На глазах миссис Филдинг появились слезы, уголки губ опустились, казалось, еще секунда, и она заплачет. Она прижала пальцы к губам, будто пыталась вернуть их в прежнее положение. — Ты ведь знаешь, как мы любим тебя, правда?
— Да. — Она знала, они любили ее, каждый по-своему, и ни один до конца. Джим любил ее ровно настолько, насколько она соответствовала его представлениям об идеальной жене. Ее мать любила ее как отражение самой себя, но отражение, в котором не существовало недостатков оригинала. Да, конечно, ее любили. Быть любимой вовсе не проблема. Проблема заключается в том, что, оказавшись в качестве объекта любви двух таких сильных личностей, как Джим и Ада Филдинг, она лишилась собственной способности любить импульсивно и искренне.
Неожиданно она подумала о Пинате, и на душе стало неспокойно. Дэйзи вспомнила, как возвращались они с кладбища в город, как отразились на лице его мука и страдание в тусклом свете приборной доски автомобиля — наверное, он думал, что никто его не видит и нет нужды скрывать терзавшую его скорбь.
Она обернулась и заметила, что мать пристально ее разглядывает, и сразу поняла, нужно прекратить о нем думать. Порой ее пугала способность матери прочитывать ее мысли.
«В таком случае, — подумала она, — я действительно находящийся в ее распоряжении кинопроектор. Она сидит сзади и смотрит фильмы, вырезая куски и перемонтируя кадры. Но Пинату она увидеть не сможет. Она просто о нем не знает, как не знает никто на свете».
Пината принадлежал только ей, он был спрятан в потайной ящичек в самой глубине души Дэйзи.
Она перестала перекладывать бумаги, затем заперла стол, положила ключ на подоконник. Все выглядело точно так же, как в тот момент, когда она вошла в комнату. Джиму было ни к чему знать, что она рылась в столе и обнаружила эти помесячные выплаты Адаму. Если только ему не скажет об этом мать.
— Полагаю, — сказала Дэйзи, — что ты ему обо всем расскажешь?
— Считаю своим долгом.
— Может, у тебя есть какой-то долг и в отношении меня?
— Если бы я видела, что ты поступаешь логично и рационально, я бы и не подумала говорить Джиму. Да, у меня есть перед тобой обязательства, и они заключаются в том, чтобы уберечь тебя от последствий твоих же совершенно безответственных поступков.
— Я безответственна, — согласилась Дэйзи, нелогична, неразумна и безответственна. Как мой отец. Продолжай. Скажи об этом еще раз. Я такая же, как мой отец.
— Мне незачем повторять. Это правда.
— И в чем же конкретно проявилась моя безответственность?
— В целом ряде поступков, насколько мне известно. Об одном мне хотелось бы узнать поподробнее.
— Ты могла бы спросить у меня.
— И спрошу.
Миссис Филдинг села на стул, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Дэйзи хорошо знала эту позу матери. Так миссис Филдинг подчеркивала особенную серьезность разговора, свое колоссальное терпение, материнскую боль («все это доставляет мне куда больше страданий, чем тебе»), а также гнев и негодование, отфильтрованные с такой тщательностью, что они просто ощущались на вкус. Как неразбавленное виски.
— Сегодня я обедала с миссис Уэлдон, — сказала миссис Филдинг дочери, — ты ее, конечно, помнишь.
— Очень смутно.
— Совершенно невозможная женщина, но надо отдать ей должное — у нее необычайная способность вылавливать по кусочкам информацию о ком угодно. На этот раз информация касалась тебя. Возможно, все это покажется тебе пустяком. Мне — нет. Случившееся показывает, что ты не так осторожна, как следовало бы. Ты не можешь позволить городу сплетничать по своему поводу. Джим становится здесь все более заметной фигурой. К тому же он очень нежный супруг. Ни одна из знакомых с ним женщин не может не завидовать тебе.
Все это Дэйзи слышала уже не раз. Менялась интонация, штампы, но суть оставалась прежней: ей, Дэйзи, чрезвычайно повезло в жизни и она каждый день должна благодарить небеса за то, что Джим с ней не разводится, хотя она и не в состоянии подарить ему наследника. Миссис Филдинг была слишком воспитанна, чтобы сказать об этом прямо, но ее намеки звучали весьма красноречиво: Дэйзи должна быть сверхстарательной женой, коль уж у нее не получилось стать матерью. Важнее всего был факт пребывания замужем, а не то, кто вступал в брак. И для миссис Филдинг замужество дочери значило так много не по каким-то религиозным или нравственным мотивам, а потому, что это была единственная гарантия более или менее благополучного бытия. Дэйзи все прекрасно понимала. С одной стороны, она сочувствовала матери, поскольку видела, как та старается поддерживать отношения дочери с мужем, но, с другой, ее не могло не возмущать и не раздражать то, что речь постоянно шла не о жизни Дэйзи, ее замужестве или муже, но скорее о чем-то принадлежащем матери.
— Ты меня слушаешь?
— Да, мама.
— Почему же не отвечаешь? Ты была в городе после обеда в четверг?
— Да.
— На Пьедра-стрит?
— Может, и на Пьедра-стрит. Что здесь такого? Какая разница?
— Тебя там кое-кто видел, — пояснила миссис Филдинг. — Ближайшая соседка миссис Уэлдон по имени Коринна. Она сказала, что ты шла с очень симпатичным смуглокожим молодым человеком, у которого какие-то связи с тюрьмой и полицией. Это правда, Дэйзи?
Она боролась с искушением солгать, оставить Пинату в полной безопасности ящичка для заветных тайн внутри своей души, но побоялась, что ложь принесет куда больше вреда, чем правда.
— Да, я там была.
— Кто этот мужчина?
— Он занимается расследованиями.
— Ты хочешь сказать, что он детектив?
— Да.
— Но чего ради ты расхаживаешь по городу в сопровождении детектива?
— Почему бы нет? Стояла превосходная погода, а я так люблю гулять.
Наступило молчание, затем раздался голос миссис Филдинг, мягкий и жалящий, как жидкий кислород:
— Я бы попросила тебя прекратить говорить мне дерзости. Как ты познакомилась с этим человеком?
— Благодаря моему, — тут она остановилась, — через одного моего знакомого. Тогда я еще не знала, что он частный сыщик. А когда выяснила, то наняла его.
— Ты его наняла? Но зачем?
— Чтобы он выполнил одно поручение. В данный момент это все, что я могу сказать по этому поводу.
Она направилась к двери, мать торопливо окликнула ее:
— Подожди!
— Я предпочитаю не обсуждать…
— Ах, это ты предпочитаешь! Надо же! А я предпочитаю обсуждать. Нам необходимо решить этот вопрос до того, как Джим узнает обо всем сам.
— Нам нечего решать, — ответила Дэйзи спокойно и ровно: она знала, мать ждет, пока ее дочь потеряет терпение. Любимая роль лучше всего удавалась миссис Филдинг, когда люди выходили из себя. — Я наняла мистера Пинату, чтобы он выполнил мое поручение, и в данный момент он занимается именно этим. Узнает ли об этом Джим, не имеет никакого значения. Он все время нанимает людей у себя в конторе. Я не создаю ему с этим проблем, поскольку наем его персонала не мое дело.
— И ты полагаешь, Джиму нет никакого дела до того, что его жена болтается по городу в компании мексиканца?
— Расовая принадлежность мистера Пинаты не является предметом нашего обсуждения в настоящий момент. Я наняла его с учетом профессиональных качеств, а не по расовому признаку. Я практически ничего не знаю о нем самом. Он не делился никакой информацией на этот счет, а я его ни о чем таком не спрашивала.
— Терпимость — это одно, а глупость — совершенно другое. — В голосе миссис Филдинг вдруг прозвучала странная хрипотца, точно ее ярость, не желая вылиться в слова, застряла где-то в горле. — Ты ничего не знаешь об этих людях. Они хитры и коварны. Ты в этом ничегошеньки не смыслишь. Если дать ему малейший шанс, он использует тебя в своих целях, обманет…
— В каком же месте ты так много разузнала о человеке, которого и в глаза не видела?
— Мне ни к чему его видеть. Они все совершенно одинаковы. Ты должна порвать всяческие отношения с ним до того, как они доведут тебя до серьезных неприятностей.
— Отношения? — в изумлении воскликнула Дэйзи. — Бог мой! Можно подумать, он мой любовник, а не человек, которого я наняла.
Дэйзи глубоко вздохнула, пытаясь обрести спокойствие.
— Что же касается моих шатаний по городу, то это неправда. Мистер Пината проводил меня до машины по окончании нашего делового свидания. Удовлетворена ли подобным объяснением ты, а также миссис Уэлдон и Коринна?
— Нет.
— Боюсь, вам придется довольствоваться сказанным. Больше мне сказать по данному вопросу нечего.
— Сядь! — резко приказала миссис Филдинг. — Послушай меня.
— Я уже все услышала.
— Пожалуйста, забудь хоть на мгновение, что я твоя мать.
— Хорошо. — Она подумала, что сделать это несложно. В зеленоватом свете, проникавшем в комнату с веранды, мерцающее лицо миссис Филдинг казалось чужим, словно лицо существа, скрывающегося в морских глубинах.
— Ради себя самой, — взмолилась миссис Филдинг, — скажи, зачем ты наняла Пинату?
— Я пытаюсь восстановить один мой день. И мне понадобился кто-то, скажем так, объективный, кто смог бы мне помочь.
— И это все? И не имеет никакого отношения к Джиму?
— Нет.
— А как насчет того, другого, чье имя на могиле?
— Я ничего о нем не узнала, — призналась Дэйзи.
— Но пыталась?
— Конечно.
— Конечно? — взвизгнула миссис Филдинг. — Что это значит — «конечно»? Неужели ты настолько глупа, что считаешь его могилу той самой, которую видела во сне?
— Я точно знаю, это та самая могила. Мистер Пината был со мной на кладбище. Он узнал ее раньше меня, по тому описанию, которое я дала, пересказывая сон.
Наступила долгая пауза. Наконец ее нарушил полный боли шепот миссис Филдинг:
— Господи, что же мне делать? Что с тобой происходит, Дэйзи?
— Что бы со мной ни происходило, это происходит именно со мной, а не с тобой.
— Ты мой единственный ребенок, твое благополучие и счастье для меня куда важнее собственного. Твоя жизнь — это моя жизнь.
— Уже нет.
— Ну почему ты так изменилась? — В глазах матери появились слезы разочарования, злости, жалости к себе, все это перемешалось и слилось воедино. — Что с нами произошло?
— Не плачь, пожалуйста, — устало попросила Дэйзи. — С нами ничего не произошло, если не считать того, что мы обе стали немного старше, к тому же ты хочешь участвовать в моей жизни куда активнее, чем я того желаю.
— Да, Господи! Я только пытаюсь сделать твою жизнь чуть проще, хочу защитить тебя. Какой смысл переживать все то, что мне пришлось пережить, если я не могу передать тебе свой опыт? Моя собственная семья рухнула. Неужели ты можешь осуждать меня за то, что я пытаюсь удержать тебя от подобного исхода? Возможно, если б в моей жизни был кто-то, наставлявший меня так, как я наставляю тебя, я бы никогда не вышла замуж за Стэна Филдинга. Я дождалась бы кого-нибудь более достойного и надежного, такого, как твой Джим, а не стала бы связывать жизнь с человеком, в жизни не сказавшим правдивого слова и не совершившим честного поступка со дня своего появления на свет.
Она продолжала говорить, меря шагами комнату так, словно оказалась в тюрьме собственного прошлого. Дэйзи слушала ее вполуха, пытаясь припомнить случаи, когда отец лгал ей. Правда, это была скорее не ложь, а мечты, которым так и не довелось обратиться в реальность. «Когда-нибудь, Дэйзи, детка, я возьму тебя и маму в Париж посмотреть на Эйфелеву башню». Иногда это было сафари в Кении, коронация в Лондоне, Парфенон в Афинах.
Если это и ложь, то она принадлежит жизни в той мере, в какой принадлежал жизни сам Филдинг. Так или иначе, ему ведь все равно никто не верил.
— Дэйзи, ты меня слушаешь?
— Да, мама.
— В таком случае я требую, чтобы ты прекратила эти игры. Понятно? Люди из нашего круга не нанимают частных детективов. Уже в самом этом слове есть что-то мерзкое.
— Я не уверена, что мы относимся к таким людям, — возразила Дэйзи, — скорее, хотим казаться.
— Хотим казаться? Так-то ты воспринимаешь желание достойно выглядеть в глазах других людей. По-твоему, это хотеть казаться. Что ж, я так не считаю. На мой взгляд, это обыкновенный здравый смысл и чувство уважения к себе. — Миссис Филдинг поднесла к губам руку, словно хотела остановить лившийся словесный поток. — Интересно, как же ты представляешь себе нормальное человеческое поведение — нанять большой зал и громко объявить всему городу с кафедры о своих секретах?
— У меня нет тайн.
— Нет тайн? В самом деле? Твоя глупость просто приводит меня в отчаяние. — Мать Дэйзи упала на стул, подобно камню, падающему в воду. — Господи! Я в полном отчаянии. — Слова шли из самой глубины ее души, напоминая пузырьки, поднимающиеся со дна пруда. — Я так, я так устала.
Взгляд Дэйзи был полон горечи:
— Тебе есть от чего уставать. Как много сил нужно, чтобы жить двумя жизнями — за себя и за меня.
В комнате наступила тишина. Было слышно, как нервно дышит колли и тихо стучат в окно ветки чайного дерева, словно просившегося в дом.
— Ты должна наконец, — мягко сказала дочь, — оставить меня одну. Ты слышишь, мама? Это очень важно. Ты должна оставить меня одну.
— Я поступила бы именно так, если б знала, что у тебя достаточно сил и ты можешь обойтись без моей помощи.
— Так дай же мне попробовать.
— Ты выбрала очень неудачное время для заявлений о своей независимости. Куда более неудачное, чем ты думаешь.
— Любое время окажется неудачным, если в этом замешана ты. Разве не так?
— Послушай, маленькая дурочка. Джим — прекрасный муж. У вас чудесная семья. И теперь, под воздействием минутного каприза, ты хочешь поставить на карту свою судьбу?
— Уж не хочешь ли ты сказать, что Джим действительно разведется со мной из-за того только, что я наняла детектива?
— Все, что я хотела…
— А может, ты боишься, — перебила она мать, — как бы детектив не раскопал какие-нибудь факты, которые Джим хотел скрыть?
— Будь ты моложе, — возмутилась Миссис Филдинг, — я бы вымыла тебе рот мылом за подобные слова. Твой муж — самый порядочный, самый нравственный человек из всех, кого я когда-либо встречала. Пройдет время, ты станешь старше и будешь в состоянии понимать серьезные вещи, я смогу рассказать тебе про Джима такое, что приведет тебя в изумление.
— По поводу одного факта я уже в изумлении, причем обнаружила его сама, без помощи детективов, — Дэйзи быстро посмотрела на бюро. — Он платил Адаму Барнетту по двести долларов каждый месяц. Я нашла корешки чеков.
— Ну и что?
— Это кажется несколько необычным. Как ты думаешь?
— Конечно, но только для тебя.
— Похоже, ты что-то об этом знаешь.
— Все, причем в подробностях, — сухо ответила миссис Филдинг. — Джим купил земельный участок, который принадлежал Адаму, неподалеку от ущелья Святой Инезы. Он планировал построить в горах небольшой домик, сюрприз к годовщине вашего брака. Жаль, что мне пришлось рассказать тебе об этом. Но лучше уж испортить сюрприз, чем давать основания твоим подозрениям. Должно быть, у тебя, Дэйзи, колоссальный комплекс вины, иначе ты не обвиняла бы других с такой быстротой.
— А я и не обвиняла, я только поинтересовалась…
— Неужели? За что же, по-твоему, Адам получил эти деньги? — Миссис Филдинг с трудом поднялась со стула, точно все ее тело оцепенело от долгого сидения. — Мне ясно, что этот Пината очень дурно влияет на тебя, иначе в твою голову просто не пришли бы подобные мысли.
— Он не имеет никакого отношения…
— Я хочу, чтобы ты немедленно позвонила ему и сообщила, что больше не нуждаешься в его услугах. Я иду к себе, должна немножко отдохнуть. Доктор говорил, мне надо избегать такого рода сцен. Надеюсь, к следующей встрече причина наших разногласий исчезнет.
— Ты полагаешь, отказ от услуг Пинаты решит все проблемы?
— По крайней мере он станет началом их решения. Надо же с чего-то начать.
Прежним решительным шагом миссис Филдинг двинулась к двери, но ее обвисшие плечи говорили о многом. Дэйзи никогда не видела ее такой. Она вспомнила слова матери об отчаянии.
«Что ж, это правда, — подумала молодая женщина. — Она в отчаянии. Как странно испытывать это Чувство, когда светит солнце, а Пината бродит где-то по городу».
Она посмотрела на стоявший в комнате телефон. Казалось, его блестящий черный шнур связывает ее с самой жизнью. Все, что нужно сделать, — поднять трубку и набрать номер. Даже если его нет на месте, она сможет оставить сообщение для него на коммутаторе: «Позвони мне, встреть меня. Я хочу тебя видеть».
Звук шагов миссис Филдинг еще раздавался на лестнице, когда телефон вдруг зазвонил. Она заставила себя подойти к аппарату размеренно и неторопливо, с трудом подавив желание кинуться к нему бегом.
— Алло?
— Междугородный вызов для миссис Дэйзи Харкер.
— Я слушаю.
— Говорите, мадам. Ваш абонент на линии.
Дэйзи ждала, надеялась, хотя и совершенно безосновательно, что звонит Пината, связывается с ней таким образом для страховки, опасаясь присутствия поблизости Джима или матери.
Но голос принадлежал женщине и звучал нервно и взвинченно:
— Я знаю, мне не следовало звонить вам так неожиданно, миссис Харкер, может, мне лучше называть вас Дэйзи, хотя это выглядит не слишком воспитанно, ведь мы еще не знакомы…
— Простите, с кем я говорю?
— Это Мюриэл, ваша новая, как бы получше выразиться, ну да, мачеха. — Она нервно рассмеялась. — Наверное, вы несколько ошарашены. Поднимаете трубку, а неизвестно кто представляется вам новой мачехой.
— Да нет. Я знала, что мой отец снова женился.
— Он написал вам об этом?
— Не совсем. Эта новость дошла до меня окольными путями, как и все новости, касающиеся изменений в его личной жизни.
— Простите, — быстро отреагировала Мюриэл, в ее голосе чувствовалось нервное напряжение. — Я просила его написать вам, а потом не раз напоминала.
— Здесь ни в коей мере нет вашей вины. Примите мои самые искренние поздравления. Надеюсь, вы будете счастливы.
— Спасибо.
— Откуда вы звоните?
— Из квартиры мисс Виттенберг, нашей соседки по коридору. Мисс Виттенберг обещала не подслушивать, она даже заткнула пальцами уши.
Все это напоминало первоапрельский розыгрыш: «Я ваша новая мачеха. Мисс Виттенберг заткнула пальцами уши».
— Мой отец с вами?
— Нет. Именно поэтому я и звоню, очень за него беспокоюсь. Мне не следовало отпускать его одного в его состоянии. Автостоп небезопасен даже для молодых и здоровых, когда нет особых слабостей и пристрастий. Полагаю, — осторожно прибавила Мюриэл, — вы, как его дочь, знаете, что он пьет.
— Мне это известно.
— В последнее время у него с этим делом не было особых Проблем, я за ним присматриваю. Но сегодня он не захотел взять меня с собой. Он сказал, у нас нет денег на автобусные билеты на двоих и он в одиночку доберется автостопом.
— Вы хотите сказать, что он поехал сюда, в Сан-Феличе?
— Да, он очень хотел вас увидеть. Его очень мучила совесть за то, что он сбежал и не повидался с вами. Потерял просто-напросто самообладание. Стэн ведь очень совестливый человек, он и пьет из-за этого. Это как боль, которую надо заглушить.
— Я его еще не видела, и сюда он не звонил, — сказала Дэйзи. — Вы уверены, что он собирался приехать прямо к нам?
— Ну конечно. Он даже сказал, что вы, может быть, разопьете все вместе бутылочку шампанского, дабы отметить встречу.
«Как это похоже на отца, — подумала Дэйзи. — В Париж смотреть на Эйфелеву башню, в Лондон на коронацию, в Сан-Феличе, чтобы отпраздновать встречу шампанским». Ее вдруг охватило чувство горечи и гнева. Она вновь почувствовала внутри себя младенца, который никак не может родиться, но и умереть тоже не может. Эта тяжесть ослабила захлестнувшие ее вдруг чувства.
— Стэн бы не одобрил мой звонок, — продолжала Мюриэл, — но я ничего не могла с собой поделать. Когда он приехал в прошлый раз, то связался с этой официанткой, Нитой.
— Нитой?
— Нитой Гарсиа. Так он ее называл.
— Но в заметке говорилось, что ее фамилия Донелли.
— Ну и что! Про Стэна там тоже написали, что его фамилия Фостер, — Мюриэл сухо засмеялась, в голосе ее почувствовалось осуждение. — Конечно, я, как все женщины, подозрительна, но я так и не смогла удержаться от подозрения, что вот он поехал и еще раз встретится с ней, попадет из-за этого в какую-нибудь передрягу. Я надеялась, может, он уже связался с вами, ну и вы строго-настрого ему наказали не встречаться с теми, с кем не надо встречаться.
— Он со мной не связался, — ответила Дэйзи. — Боюсь, если бы эта встреча произошла, я не смогла бы наказать ему строго-настрого что бы то ни было.
— Ну что же. Извините за беспокойство, — похоже, она уже собиралась повесить трубку.
— Секундочку, Мюриэл, — торопливо проговорила Дэйзи. — В четверг вечером я отправила отцу письмо специальной почтой и задала ему очень важный вопрос. Он не поэтому решил так неожиданно меня повидать?
— Я ничего не знаю об этом письме.
— Оно было отправлено на адрес склада.
— Он ничего о нем не говорил. Может, не получил? Он читал мне ваши письма, но другие, как раз перед тем, как уехал. Стэн хранит их в старом чемодане. Вы ведь знаете его старый чемодан, набитый всяким хламом? Он все время таскает его за собой. Знаете?
Дэйзи вспомнила чемодан отца. Единственное, что он унес с собой, когда ушел из их квартиры в Денвере в один из зимних дней. «Дэйзи, детка, я собираюсь отправиться в маленькое путешествие. Не переставай любить своего папочку». Путешествие длилось ют уже пятнадцать лет, и она так и не перестала его любить.
— Он читал ваше письмо, — продолжала Мюриэл, — и неожиданно расстроился.
— Откуда вы знаете, что это было мое письмо?
— Он сразу же принялся говорить, каким плохим отцом оказался. Кроме того, — бесхитростно призналась она, — кроме вас, ему никто не пишет.
— Он говорил вам, о чем письмо?
— Нет.
— Он положил его обратно в чемодан?
— Нет. Сразу же, как он ушел, я посмотрела в чемодане, но его там не было, и я догадалась, что он взял его с собой. — В голосе Мюриэл прозвучала нотка смущения и попытка оправдаться: — Чемодан ведь не был заперт, только обмотан цепью.
— А откуда вы знали, какое именно письмо искать?
— Оно было в розовом конверте.
Дэйзи хотела сказать, что не пользуется разноцветными конвертами, как вдруг вспомнила, что одна из ее знакомых подарила ей пачку ко дню рождения несколько лет назад.
— А какой на конверте был написан адрес?
— Какая-то гостиница в Альбукерке.
— Понятно.
Адрес в Альбукерке и розовая бумага свидетельствовали о том, что письмо, скорее всего, написано в декабре пятьдесят пятого. В конце того года ее отец перебрался из Иллинойса в Нью-Мексико, но пробыл там всего месяц. Она вспомнила, как отправила ему подарок к Рождеству и чек в гостиницу в Альбукерке, а открытку с благодарностью за подарки и жалобами на то, что Нью-Мексико ему не понравился из-за обилия пыли, получила две недели спустя из города Топека в штате Канзас. Открытка казалась очень печальной, а буквы на ней прыгали вкривь и вкось, будто он был болен или сильно пьян — скорее всего, то и другое одновременно.
— Если Стэн узнает, что я вам звонила, он придет в ярость, — нервно проговорила Мюриэл. — Может, вы не скажете ему об этом, когда увидите?
— Я могу вообще его не увидеть. Он в состоянии оказаться не в окрестностях Сан-Феличе, а в каком-нибудь другом месте.
— Но он сказал…
— Да, он сказал…
«Он уже сказал как-то, — мысленно добавила она, — что отправляется в небольшое путешествие, и оно затянулось на пятнадцать с лишним лет». Возможно, у него началось очередное маленькое путешествие, и Мюриэл, такая же наивная, как Дэйзи в юности, станет бродить по улицам города, высматривая его в толпе прохожих; она будет то и дело видеть его лицо в проезжающем мимо автомобиле; замечать, как он входит в закрывающиеся двери лифта. Дэйзи сотни раз доводилось испытывать это чувство, и всегда автомобиль уносился слишком быстро, лицо в толпе оказывалось слишком далеко, а двери лифта захлопывались у нее перед носом.
— Что ж, — повторила Мюриэл, — извините за беспокойство.
— Никакого беспокойства. Напротив, я очень благодарна вам за звонок.
— Стэн дал мне другой номер, чтобы я позвонила по нему в случае срочной надобности, какого-то мистера Пинаты. Но я не хотела звонить совершенно незнакомому человеку по поводу — ну, об известной вам слабости Стэна.
Дэйзи мысленно спросила себя, сколько незнакомых людей на огромном пространстве страны знали об известной слабости Стэна и какому еще количеству предстоит узнать о ней за сегодняшний день.
— Мюриэл, — обратилась она к собеседнице.
— Да?
— Ни о чем не беспокойтесь. Я свяжусь с мистером Пинатой. Если мой отец в городе, мы отыщем его и присмотрим за ним.
— Спасибо, — в голосе Мюриэл зазвучали слезы. — Огромное вам спасибо. Стэн всегда говорил, что вы замечательная дочь.
— Не принимайте то, что он говорит, слишком всерьез.
— Но он действительно имел это в виду. И я тоже. Я так благодарна вам за то, что вы для него сделали. Дело ведь не в деньгах. Куда важнее знать, что есть кто-то, кто заботится о тебе и переживает за тебя.
«Да уж, — с горечью подумала Дэйзи, повесив трубку, — я все еще забочусь о нем. Продолжаю любить отца даже после пятнадцати лет его маленького путешествия. Если он в городе, я найду его. Я успею подбежать к двери лифта до того, как она закроется; проносящаяся мимо машина остановится на красный свет, ее задержит полицейский, или у нее лопнет колесо; лицо в толпе окажется его лицом».
Ветер усиливался, за окном носились стаи птиц и летящие листья, ветки чайного дерева бились об окно с таким звуком, словно о стекло скреблись когтями десятки животных.
Дэйзи сидела, судорожно сжимая в руке телефонную трубку. Она дрожала так, что можно было подумать, между ней и улицей не было стеклянной стены большого окна. Она с трудом набрала номер Пинаты, и, когда на другом конце провода ей ответили, что его нет, молодая женщина была готова кричать на телефонистку, обвинить ее в том, что та все перепутала или просто ее обманывает.
Она сделала глубокий вдох, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться.
— Когда он будет?
— Это коммутатор. Он позвонил и сказал, что появится в конторе к семи. Правда, он обещал до этого позвонить и узнать, были ли ему звонки. Вы хотите что-то передать?
— Попросите его позвонить… — она остановилась в сомнении: Дэйзи не была уверена, что следует называть себя, да и вряд ли Пината захочет звонить ей домой, когда поблизости будут мать или Джим. — Нет, я буду у него в конторе ровно в семь.
— Как я должна вас записать, ваше имя?
— Скажите просто, что это связано с могилой.
16. Стыд — вот мой ежедневный удел, только он кормит меня Нужно ли удивляться, что я истощен?
Джим прождал на причале почти час, но вот наконец появился Адам Барнетт. Он вбежал на волнорез, тяжело, но устойчиво ставя ноги в морских сапогах.
— Извини за опоздание. Меня задержали.
— Я догадался.
— Не надо злиться. Я ничего не мог поделать. — Он уселся рядом с Джимом. — Все равно выход в море отменяется. Они подняли штормовое предупреждение для малых судов.
— Что ж. Тогда мне лучше отправиться домой.
— Да нет, подожди немного.
— Зачем?
Хотя кругом не было ни души, Адам понизил голос:
— Час назад мне позвонила миссис Розарио. Приехала Хуанита. Но что еще хуже — Филдинг тоже в городе.
— Филдинг? Отец Дэйзи?
— И самое плохое — они встретились.
— Но ведь они незнакомы.
— Ну, они ухитрились познакомиться, причем очень спешили, если верить миссис Розарио.
— Бессмыслица какая-то, — озадаченно произнес Джим. — Филдинг не имеет никакого отношения к нашим… договоренностям.
— У миссис Розарио почему-то сложилось впечатление, что мы, ты или я, послали его шпионить за ней.
— Да я не видел его целую вечность.
— Я вообще никогда его не видел, о чем не преминул сообщить миссис Розарио. Она была очень взволнованна, к концу практически невменяема. Она настаивала, чтобы я поклялся памятью ее покойного брата, что не имею никакого отношения к появлению Филдинга в ее доме. — Адам бросил взгляд на пенистые барашки волн, под напором ветра их становилось все больше. — Ты что-нибудь знаешь о ее покойном брате?
— Ничего.
— Оказывается, его звали Карлос.
— Я же сказал тебе уже, что ничего о нем не знаю. Верно?
— Ну, ну. Не надо сердиться, я ведь просто спросил.
— Ты спросил два раза, — резко ответил Джим. — Один раз явно лишний. Мои отношения с миссис Розарио были недолгими и не включали обсуждение семейных проблем. Тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было.
— Ну, сказать, что мы совсем не затрагивали семейных вопросов, не совсем верно. Правда?
— Что касается меня, вне всякого сомнения. Я даже не узнаю ее на улице.
В порт вошло рыбачье судно. О количестве улова можно было судить по глубоко осевшей в воду корме и по количеству чаек, громко ссорившихся у него за кормой и пытавшихся выхватывать куски рыбы друг у друга.
— Чего же она хочет? — поинтересовался Джим. — Еще денег?
— О деньгах она даже не упоминала. Мне показалось, в доме произошел какой-то скандал, когда там был Филдинг, хотя, насколько я смог понять, он к нему непричастен. Миссис Розарио была очень огорчена и нуждалась в утешении.
— Надеюсь, ты ее утешил?
— Конечно. Я поклялся памятью ее покойного брата. Которого ты не знаешь.
— Которого я не знаю. О чем заявляю уже в третий раз. К чему такая настойчивость, Адам?
— Она очень много и довольно бессвязно говорила о нем, мне стало любопытно. Вот и все. Каким образом мертвый брат вписывается в схему наших договоренностей по поводу Хуаниты?
— Эта женщина явно ненормальна.
— Согласен. Вопрос лишь в том, насколько она ненормальна.
Джим встал и потянулся, широко раскинув руки.
— Что ж, оставляю тебя вместе со своими вопросами. Я должен ехать домой, а то Дэйзи решит, что мы оба утонули.
— Не уверен, — тщательно подбирая слова, сказал Адам, — что Дэйзи вообще есть дело до нас с тобой.
— Не понял?
— Перед самым моим уходом позвонила Ада Филдинг и попросила передать тебе, что несколько дней назад Дэйзи наняла частного детектива по фамилии Пината.
— Господи!
— Миссис Филдинг полагает, ты должен принять меры.
— Она полагает, — на лице Джима появилось выражение печали и усталости, — и какие же, интересно?
— Думаю, она хочет, чтобы детектива уволили. В конце концов, речь идет о твоих деньгах. — Адам замолчал, разглядывая пришвартовывающуюся к берегу рыбачью шхуну и жалея, что он находится здесь, а не на корабле. — Есть и еще кое-что, если, конечно, ты намерен продолжать разговор.
— Не уверен, что испытываю подобное желание.
— Все равно послушай. Дэйзи назначила встречу этому человеку в его конторе сегодня в семь. Твоя жена обещала новой супруге Филдинга, что вместе с Пинатой обязательно его разыщет.
— Новой супруге Филдинга? Она-то каким боком сюда попала?
— Эта женщина побоялась, что с Филдингом снова что-нибудь случится, и позвонила Дэйзи из Лос-Анджелеса.
— Что бы ты ни говорил, я совершенно ничего не понимаю. Что все это значит?
— Я полагал, именно ты разъяснишь мне эти загадки.
Джим покачал головой:
— Ничего сказать не могу. Даже понятия не имею, как Филдинг мог влезть в эти дела, если он, конечно, влез. Что касается его жены, то я не знал о ее существовании до того, как Дэйзи сообщила мне о ней неделю назад. Говорю тебе, я в полной растерянности.
— Да, это я уже слышал.
— Судя по интонации, ты не слишком-то мне веришь.
— Пожалуй. Помни, лучше врать жене, чем адвокату.
— Я предпочитаю самый безопасный вариант, — возразил Джим, — не вру ни тому, ни другому.
— А как насчет той девушки?
— Когда это случилось, я рассказал Дэйзи обо всем — имена и все прочее, она отнеслась к этому довольно спокойно. Похоже, теперь она про это забыла, но здесь моей вины нет. Я ей признался.
— Зачем?
— Как зачем? В тот момент мне казалось, что это единственный разумный, честный, благородный поступок.
— Благородный? Возможно, — Адам загадочно улыбнулся, — а вот разумный вряд ли.
— Рано или поздно она все равно бы узнала.
— Твоя логика напомнила мне один случай. Я первый раз взял мужа сестры, чтобы пройтись с ним под парусом. В тот день было довольно ветрено, яхта шла очень быстро и с соответствующим креном, Том чрезвычайно испугался, что мы вот-вот потонем, выпрыгнул за борт и поплыл к берегу. Я знаю, ты не очень-то любишь плавать под парусом. Может, ты даже считаешь, что Том поступил правильно. В действительности все обстоит по-другому. Он сделал опасную глупость: чуть было не утонул, с трудом доплыв до берега, а яхта, естественно, никуда не перевернулась.
— Она бы все равно узнала, — повторил Джим.
— Каким образом? Девица эта уехала из города и в очередной раз вышла замуж, болтать ей самой явно было невыгодно. Что касается ее матери, то все переговоры вел я. Ты ни во что не вмешивался, фамилия твоя упоминалась только формально, — он нагнулся и начал выковыривать застрявший в рифленой подошве камешек. — Меня всегда удивляло, почему ты не дал довести дело до суда, особенно если не собирался держать его в тайне от Дэйзи.
— Я не мог позволить, чтобы произошел публичный скандал.
— Я уверен, мы бы выиграли.
— Без скандала бы не обошлось в любом случае. Кроме того, это был, — тут Джим сделал паузу, — и есть мой ребенок. Надеюсь, ты не собираешься заставлять меня лжесвидетельствовать?
— Конечно, нет. Сама по себе репутация этой девицы уже являлась достаточным основанием для сомнений в правомерности ее притязаний.
— Другими словами, мне следовало оставаться на борту судна до того момента, пока оно не пойдет ко дну?
— Оно не потонуло.
— Нет, это бы потонуло обязательно.
— Ты не стал дожидаться, чтобы убедиться в обратном, а сразу прыгнул в воду.
— Прекратим этот разговор, Адам. Сделанного не воротишь. Причем это давние дела. Зачем возвращаться в прошлое?
— А ты помнишь, когда конкретно это произошло?
— Нет. Я стараюсь не вспоминать.
— Четыре года назад, точнее, второго декабря тысяча девятьсот пятьдесят пятого года — в этот день я впервые оформил в своем кабинете выплату миссис Розарио. Перед тем как пойти на встречу с тобой, я специально проверил, — он натянул на голову капюшон ветровки. — Тебе лучше поехать домой и переговорить с Дэйзи.
— Пожалуй.
— Ладно, увидимся позже. Я пока еще задержусь. Надо проверить, все ли на яхте закреплено и увязано. Мне очень не нравятся эти волны. Жаль, что погода подкачала.
— Да нет. Я все равно не хотел выходить в море.
— По правде сказать, я и не собирался тебя приглашать.
— Так это Дэйзи подстроила?
— Да.
— Она становится неплохим заговорщиком. — Джим резко повернулся и пошел к автостоянке.
Садясь в машину, он думал не о Дэйзи, а о лодке, которая так и не утонула, и о человеке, прыгнувшем за борт и чуть было не пошедшем ко дну. Глупый и опасный поступок — так определил его Адам. Но иногда глупые и опасные поступки просто необходимы. Подчас люди не прыгают, их сталкивают.
Дэйзи старательно делала вид — вдруг за ней решил понаблюдать кто-нибудь из рыбаков или служащих пристани, — что прячется за стеной домика начальника пристани от ветра. Она даже притворялась замерзшей — дрожала, поднимала воротник пальто, терла руки, но очень скоро действительно замерзла, холод буквально сковал каждую клеточку тела.
Она наблюдала, как они беседовали метрах в пятидесяти от нее на волнорезе. Со стороны казалось, что они обсуждают погоду, но Дэйзи понимала, что речь у них идет не о погоде. Еще больше укрепилась она в своем мнении, когда Джим резко повернулся и пошел с таким видом, точно они с Адамом поссорились. Дэйзи подождала, пока Джим сядет в машину. В ту же секунду она бросилась к Адаму, спускавшемуся по качающейся на волнах платформе к намертво закрепленным кольцам.
— Адам!
Он повернулся и стал подниматься по платформе к перилам, покачиваясь в такт ударявшим волнам.
— Привет, Дэйзи. Вы разминулись с Джимом. Он ушел пару минут назад.
— Очень жаль, — ничто в ее голосе не говорило о том, сколько времени ей пришлось ждать, пока муж уйдет.
— Я мог бы его догнать.
— Нет, нет. Не стоит беспокоиться.
— Он сказал, что едет домой.
— Дома мы с ним и увидимся, — сказала Дэйзи. — Ты ведь тоже не собираешься оставаться здесь надолго?
— Мы вообще не выходили сегодня. Штормовое предупреждение.
— Сочувствую.
— Джим не слишком огорчен, — сухо заметил Адам. — Кстати, когда ты в следующий раз станешь подыскивать мне партнера для выхода в море, найди кого-нибудь, кто это любит. Хорошо?
— Попробую. — Дэйзи прислонилась к самым перилам и смотрела вниз. По камням сновали крабы, пытаясь, очевидно, найти самый большой и безопасный, чтобы переждать под ним шторм. — Если вы с Джимом не смогли выйти в море, то чем же тогда занимались?
— Разговаривали.
— Обо мне?
— Конечно. Мы всегда о тебе разговариваем. Я спрашиваю Джима, как ты поживаешь, а он дает мне обстоятельный отчет.
— Ну и как я? Хотелось бы услышать мнение Джима о моем здоровье, физическом и психическом.
На лице Адама сохранялась спокойная улыбка:
— Ты несколько раздражена сегодня. Это ясно. Впрочем, так считаю я, а не Джим.
— Он рассказал тебе о своих планах к нашей годовщине?
— Мы обсудили очень много…
— Он придумал несколько очаровательных сюрпризов, — перебила она его. — Только я об этом ничего не знаю.
— Но ты все равно узнала.
— Естественно. Слухи. Должна сказать, ты смог очень хорошо скрыть все это от меня, особенно если учитывать, что ты должен был обо всем узнать первым.
— Хранить тайну, — сдержанно заметил Адам, — часть моей профессии.
— И какого же размера он будет, я имею в виду сюрприз? Большой?
— Большой, но не слишком.
— А стиль?
— Стиль? Очень стильный.
— Ты ведь и понятия не имеешь, о чем я говорю. Верно?
— Пойдем. — Он взял ее под руку. — Я куплю тебе чашку кофе в яхт-клубе.
— Нет!
— Дэйзи, не надо на меня набрасываться. Что с тобой сегодня?
— Рада, что ты спросил. Я бы все равно тебе рассказала. Сегодня днем я обнаружила у Джима в ящике бюро корешки чеков. По ним следует, что он платил тебе двести долларов в месяц в течение определенного времени.
— Ну и что?
— Я спросила у матери. Она сказала, это деньги за участок земли, который Джим купил у тебя, чтобы построить небольшой домик в горах. Думаю, она лжет.
— Может, лжет, — Адам пожал плечами. — А может, действительно думает, что это правда.
— Но это неправда?
— Конечно, нет.
— Для чего эти деньги, Адам?
— Это деньги для ребенка Джима от другой женщины. — С этими словами он отвернулся в сторону, чтобы не видеть гримасу боли и потрясения на ее лице. — Тебе говорили об этом в свое время, Дэйзи. Неужели ты забыла?
— Ребенок Джима, — она запнулась, — как странно это звучит. Как странно.
Ее рука судорожно сжимала перила, будто она боялась, что какая-то сила против воли швырнет ее в пучину.
— А кто это был? — Она снова замолчала. — Ну, мальчик или девочка?
— Не знаю.
— Как это не знаешь? Ты что же, не спросил его?
— Какой толк в подобных вопросах? Джим тоже не знает.
Она повернулась к Адаму и посмотрела на него ничего не видящими глазами, точно зрачки ее затянуло тонким слоем льда:
— Ты хочешь сказать, что он никогда не видел ребенка?
— Не видел. Эта женщина уехала из города еще до родов. С тех пор он не имел от нее известий.
— Но она же написала ему письмо после рождения ребенка.
— Между заинтересованными сторонами было заключено соглашение, по которому никакие контакты не допускались, включая переписку.
— Какой ужас! Не видеть собственного ребенка. Это бесчеловечно. Не могу поверить, чтобы Джим пошел на нарушение своих обязательств перед…
— Секундочку! — резко перебил ее Адам. — Джим ничего не нарушал. Сказать по правде, послушайся он тогда моего совета, ему вообще не пришлось бы признавать отцовство. У этой женщины целый выводок детей, чьих отцов никто никогда не видел. К тому же у нее имелся муж, хотя он в это время предположительно находился за границей. Если бы она только выдвинула обвинения против Джима — в чем я сильно сомневаюсь, нахальства бы не хватило, — ей пришлось бы очень туго, попытайся она доказать хоть что-нибудь. Но Джим, так уж случилось, тихо признал отцовство, и при мне с миссис Розарио, матерью этой женщины, было заключено финансовое соглашение. Вот и все.
— Вот и все, — повторила Дэйзи. — Ты рассуждаешь как адвокат, Адам, только с точки зрения соблюдения законов и бездоказательности случившегося. Ты ничего не сказал о справедливости.
— В данном случае, как мне кажется, справедливость восторжествовала.
— Ты называешь торжеством справедливости то, что Джим, который так мечтал стать отцом, оторван от собственной плоти и крови?
— Он сам определил условия соглашения.
— Не могу в это поверить!
— Спроси его самого.
— Мне кажется, ни один мужчина, не говоря уже о Джиме, не отказался бы от возможности хотя б один-единственный раз увидеть собственное дитя.
— В данных обстоятельствах, — возразил Адам, — Джим избрал единственный разумный путь. Обстоятельства же вовсе не таковы, как ты их себе вообразила в соответствии с собственными сентиментальными иллюзиями. Никаких сантиментов. Эта женщина не испытывала к Джиму особых чувств, как, впрочем, и он к ней. Ребенок родился не в результате волнительной любви. Если он жив — но ни Хуанита, ни миссис Розарио не станут особенно спешить с извещением о его кончине, — он наполовину мексиканец, мать его — сумасшедшая…
— Прекрати! Я не желаю больше слышать об этом!
— Я должен показать тебе случившееся в действительном свете, дабы удержать тебя от чрезмерной сентиментальности и, возможно, от каких-нибудь неразумных поступков, о которых впоследствии пришлось бы сильно пожалеть.
— Неразумных?
Адам откинул назад капюшон ветровки, словно неожиданно потеплело:
— Насколько я знаю, ты наняла детектива, чтобы отыскать этого ребенка.
— Значит, ты знаешь о Пинате?
— Да.
— А Джим?
— Тоже.
— Ну и ладно. Мне все равно, — сказала она с подчеркнутым равнодушием. — Нет, правда, все равно. Наверное, пришла пора выложить на стол карты. Ты не прав только в одном. Я наняла Пинату совсем по другому поводу. С какой стати я буду кого-то нанимать, чтобы разыскивать ребенка, о существовании которого я даже не знала?
— Это не так. Тебе говорили.
— Я не могу вспомнить.
— Тем не менее тебе говорили.
— Прекрати повторять это таким голосом, будто забыть о чем-то — смертный грех. Хорошо, пусть мне говорили. Я забыла. Это не то, что женщина хочет помнить, когда речь идет о ее муже.
— Подсознательно ты все равно помнила, — возразил Адам. — Твой сон это подтверждает. Даты на могильном камне и на первом чеке миссис Розарио совпадают. В этот же день Хуанита уехала из города, а Джим, возможно, признался тебе во всем. Верно?
— Я не знаю, я ничего не знаю.
— Попробуй вспомнить. Где ты была в тот день?
— Я работала. В клинике.
— Что произошло после того, как ты окончила работу?
— Я поехала домой. Наверное…
— На чем?
— На своей машине. Впрочем, нет. — Она вглядывалась в воду так, будто там, где-то в глубине, таились ее воспоминания. — За мной заехал Джим. Он ждал меня в машине. Я вышла через служебный ход и пошла через всю автостоянку. Тут я и увидела, как из его машины выходит молодая женщина. Я не раз встречала ее — она была одной из наших пациенток, — но особого внимания не обращала. Я и тогда бы на нее не взглянула, если б она не беседовала с Джимом. К тому же бросалось в глаза, что она на последнем месяце беременности. Джим открыл мне дверцу машины…
— Кто эта девушка? — спросила Дэйзи.
— Ее зовут Хуанита Гарсиа.
— Надеюсь, место в палате ей уже готово.
— Я тоже на это надеюсь.
— У тебя что-то бледный вид, Джим. Ты здоров?
Он наклонился к ней и взял за руку с такой силой, что сразу же онемели пальцы.
— Послушай, Дэйзи. Я тебя люблю. Ты ведь всегда будешь об этом помнить? Я люблю тебя. Обещай, что будешь об этом помнить. Я сделаю все, что в моих силах, ты будешь счастлива.
— Что с тобой, Джим? Ты никогда так со мной не разговаривал. Можно подумать, ты собираешься умереть.
— Эта женщина… Ее ребенок… Я должен тебе сказать…
— Я ничего не хочу об этом слышать. — Она отвернулась и с привычной улыбкой посмотрела в окно машины, улыбкой, появлявшейся у нее с самого утра и исчезавшей лишь с вечерним умыванием. — Так рано стемнело. Как жаль, что за весь год не удается накопить достаточно дневного времени.
— Дэйзи, послушай. Ничто не изменится, никаких скандалов не будет. Она в ближайшее время уедет из города.
— В газете пишут, завтра в горах снова выпадет снег.
— Дэйзи, дай мне объяснить все по порядку.
— Горы выглядят намного привлекательнее в этих снежных шапочках.
Часть III Незнакомец
17. Мне незачем жить. Но я прохожу сквозь череду дней, закованный в собственное тело, я уже давно хочу сбросить эту кожу, чтобы снова увидеть вас, моих самых любимых, тебя и Аду
Они побывали уже в пяти барах, и Филдинг изрядно утомился от беспрерывного передвижения с места на место. Но Хуанита была настроена двигаться дальше. Она даже садилась на самый краешек табурета, словно ждала, что внутри у нее раздастся сигнал отправления и она помчится дальше.
Ту-ту-у-у-у…
— Ради всего святого, неужели ты не можешь остановиться? — взмолился Филдинг. Выпитое начинало сказываться. Правда, не на голове — разум его оставался по-прежнему острым и ясным, он был переполнен шутками и ценнейшими сведениями, а вот ноги подкачали. Они постарели, и им было трудно таскать его тело по многочисленным забегаловкам. Ноги жаждали покоя, в то время как ум усиленно трудился, обрушивая на Хуаниту, бармена, парня у стойки потоки обильной информации. Конечно, никто не подходил ему по уровню. Он должен был опускаться до них. Но они внимательно слушали и прекрасно понимали, что имеют дело с джентльменом старой школы.
— В какой же такой школе ты учился? — поинтересовался бармен, подмигнув при этом незаметно левым глазом Хуаните.
— Ты не понял, дружище, — снисходительно пояснил Филдинг. — Я говорил не о конкретной школе. Это фигура речи.
— Ну-ну…
— Это совершенно точно. Кстати, о старой школе. Уинстон Черчилль учился в Хэрроу. Ты вот знаешь, как зовут тех, кто учился в Хэрроу?
— Догадываюсь, что их называют так же, как и всех остальных простых смертных.
— Ни в коем случае! Их зовут хэрровианцы.
— Быть того не может!
— Ей-Богу!
— Приятель твой явно окосел, — сказал бармен Хуаните.
Молодая женщина презрительно поглядела на говорившего:
— С ним все в порядке. Он всегда так разговаривает. Эй, Фостер, ты что, окосел?
— Нисколько, — ответил Филдинг. — Я в прекрасной форме. А как ты себя чувствуешь, дорогая?
— Очень болят ноги.
— Ну так сними туфли.
Хуанита принялась стаскивать обеими руками левую туфлю:
— Это настоящая змеиная кожа. Я уплатила за них девятнадцать долларов.
— Должно быть, у тебя огромные чаевые.
— Да нет. У меня богатый дядюшка.
Она поставила свои остроносые туфли на каблуках-шпильках на стойку перед собой. Снятые с ног, туфли обычного размера выглядели теперь огромными и бесформенными, как будто принадлежали какому-нибудь гиганту, любившему к тому же причинять себе боль.
На фоне огромных туфель количество алкоголя в стакане Филдинга казалось совершенно мизерным, на что он не преминул указать бармену. Тот потребовал от Хуаниты прекратить безобразие и надеть обувь на ноги.
— Я ничего не делаю, — сказала она.
— Когда я прихожу в вашу забегаловку пропустить стаканчик, то не начинаю немедленно раздеваться и не оставляю свою одежду на стойке.
— Почему бы тебе действительно это не сделать? — заметила Хуанита. — Думаю, это произвело бы фурор. Могу себе представить, как раздуется и вся позеленеет от злости миссис Брустер.
— Ну, в общем, если хочешь демонстрировать стриптиз, сядь в одну из кабинок сзади, там тебя полиция не увидит. По субботам они проходят здесь раз по десять.
— Плевала я на легавых.
— Ну? А хочешь знать, что однажды произошло во Фриско? Там по улице, я читал об этом в газете, какая-то девка шла босиком, она больше ничего не делала, и они ее арестовали. Ей-Богу!
Хуанита заявила, что она ни капельки не верит в эту чепуху, но тут же подхватила туфли и стакан и пошла к кабинкам. Филдинг последовал за ней.
— Давай побыстрее, — сказала она. — Допивай и пошли. Меня уже тошнит от этой дыры.
— Мы ведь только что пришли.
— Я хочу туда, где весело, а здесь весельем и не пахнет.
— Ну почему? Мне вот весело. Разве ты не слышишь, как я смеюсь? Хо-хо-хо, ха-ха-ха.
Хуанита, казалось, хотела раздавить свой стакан — с такой силой она сжимала его обеими руками.
— Ненавижу этот город. Как я жалею, что вернулась сюда. Дорого бы я заплатила, чтобы оказаться подальше отсюда и никого больше не видеть: ни мою мамашу, ни остальных. Я хотела бы поехать туда, где меня никто не знает, где все совершенно чужие.
— Они все узнают про тебя очень скоро.
— Как?
— Ты сама им расскажешь, — сказал Филдинг, — как я. Я приезжал в сотни городов, никому не известный человек, и уже через десять минут начинал рассказывать кому-нибудь о себе. Может, я говорил не всю правду и даже назывался чужим именем, но я разговаривал. Понимаешь? А когда разговариваешь, все равно рассказываешь. Так что очень быстро ты перестаешь быть чужим в этом городе, и снова нужно отправляться в еще один незнакомый город. Но не будь простофилей, детка. Оставайся здесь, поблизости от своего богатого дядюшки.
Хуанита вдруг хихикнула:
— Я не могу быть слишком поблизости от него. Он умер.
— Умер? Неужели?
— Похоже, ты не больно-то веришь, что у меня был богатый дядюшка.
— А ты его видела когда-нибудь?
— Когда я была маленькой. Он приезжал и привез мне серебряный пояс. Он был сделан индейцами из настоящего серебра.
— А где он жил?
— В Нью-Мексико, занимался разведением скота. Благодаря этому занятию у него появились большие деньги.
«У него никогда не было денег, — подумал Филдинг, — если не считать нескольких долларов, остававшихся к субботе и заканчивавшихся в воскресенье, поскольку он не мог противостоять своим внутренним потребностям».
— И он оставил эти деньги тебе?
— Моей матери, поскольку она его сестра. Каждый месяц она получает от адвоката чек, в один и тот же срок, как часы, из этого, ну, как его, специального фонда.
— А сама-то ты видела эти чеки?
— Я видела деньги. Моя мать посылала мне каждый месяц, чтобы было чем кормить детей. Двести долларов, — с гордостью добавила она. — Так что если ты думаешь, что я должна работать в такой дыре, как «Велада», то очень заблуждаешься. Я занимаюсь этим для развлечения. Быть официанткой все же веселее, чем сидеть дома с выводком детей.
С каждой минутой история становилась все более безумной. Филдинг сделал бармену знак, чтобы тот принес им еще по коктейлю, а сам лихорадочно подсчитывал: ежемесячный доход в двести долларов означал, что размер основного капитала, переданного в фонд, равен примерно пятидесяти тысячам долларов. Когда он в последний раз видел Камиллу, тот сидел без работы и отчаянно пытался раздобыть денег на одежду и еду. Но не похоже, что Хуанита врет. Ее гордость за богатого дядюшку казалась столь же естественной, что и похвальба девятнадцатидолларовыми туфлями из змеиной кожи. От всего этого попахивало обычным вымогательством, но Филдинг был абсолютно уверен — Хуанита совершенно не догадывается о роли, которую ей отвели. Ее использовал в своих целях кто-то гораздо более хитрый и умный.
«Но это же безумие, — подумал он. — Ведь это она получает деньги. Она сама призналась в этом».
— А как зовут адвоката? — поинтересовался Филдинг.
— Какого адвоката?
— Того, который посылает деньги.
— С какой стати я стану тебе говорить?
— Ну, мы же друзья. Разве нет?
— Не знаю, друзья мы или нет, — Хуанита пожала плечами. — Ты задаешь слишком много вопросов.
— Только потому, что мне небезразлична твоя судьба.
— Слишком многим она небезразлична, только толку никакого. Впрочем, я все равно не знаю, как его зовут.
— А живет он в этом городе?
— Ты глухой или как? Я же сказала уже: я ни разу не видела чеки и не знаю этого адвоката. Моя мамаша сама каждый месяц посылала мне деньги из фонда, созданного моим дядей.
— Этот твой дядя, а как он умер?
— Его убили.
— Что значит «убили»?
Хуанита зевнула, но слишком широко и громко, чтобы зевок показался естественным:
— С чего это тебя потянуло на разговор о старом покойном дядюшке?
— Старые покойные дядюшки меня очень интересуют, особенно когда они богаты.
— Тебе там ничего не обломится.
— Догадываюсь. Мне просто любопытно. Так как же он умер?
— Он попал в автомобильную катастрофу в Нью-Мексико четыре года назад. — Хуанита пыталась сделать вид, что эта тема ей совершенно неинтересна, и с преувеличенным вниманием принялась разглядывать цветы на обоях. Но Филдингу почему-то казалось, что и ее страшно занимает и озадачивает предмет их беседы. В действительности она, похоже, не прочь поболтать об этом, несмотря на деланное равнодушие. — Он погиб прямо перед тем, как священник должен был его причастить. Поэтому моя мамаша постоянно за него молится и жжет свечки, чтобы он попал на небо. Ты же видел свечку?
— Конечно.
— Очень смешно. Она так заботится о брате, которого до этого десятки лет не видела. Можно подумать, она ему как-то насолила, а теперь пытается искупить вину.
— Ну, если б она ему насолила, вряд ли он стал бы оставлять ей свои деньги.
— Может, он про это не знал. — Она наклонилась и стала обводить острым ногтем одну из роз на обоях. На грязной бумаге остался глубокий след. — Мне кажется, она его шибко полюбила только после того, как он умер и оставил ей деньги. До этого она о нем вообще не вспоминала.
Филдинг подумал, что тот о сестре тоже не вспоминал. Один-единственный раз, перед самой смертью:
«— Перед тем как я пойду, хочу повидаться со своей сестрой Филоменой. — Ты не можешь этого сделать, Кудряш. — Я хочу, чтобы она за меня молилась, она хорошая женщина. — Ты просто рехнулся, если собираешься сейчас с кем-нибудь встречаться. Слишком опасно. — Нет, я должен с ней попрощаться». В это время у него не хватило бы сил даже на то, чтобы попрощаться. Какие уж тут деньги.
— Он оставил завещание? — поинтересовался Филдинг.
— Никогда не видела, но она говорит, что оставил.
— Ты ей не веришь?
— Не знаю.
— Когда ты впервые об этом узнала?
— За день до рождения Поля она вдруг сказала, что дядя Карл умер и оставил завещание. Если я выполню определенные условия, то буду получать каждый месяц двести долларов.
— Что значит «определенные условия»?
— Во-первых, я должна была уехать из города и рожать в Лос-Анджелесе. Полное сумасшествие. Он заинтересовался моим сыночком, хотя прежде не прислал никому ни одного подарка к Рождеству. Когда я спросила об этом мать, она сказала, мол, дядя Карл хотел, чтобы ребенок родился в Лос-Анджелесе, поскольку сам там родился. Сантименты чистой воды.
Филдинг вспомнил, что Карлос родился в Аризоне. Он говорил ему об этом, должно быть, десятки раз — Флагстафф, штат Аризона. И уж он-то знал лучше всех, что умер тот не в автомобильной катастрофе в Нью-Мексико, а здесь, в этом городишке, примерно в километре отсюда с собственным ножом между ребрами.
Так что в рассказе девчушки точным был только один факт: Камилла умер без последнего причастия.
— Подозреваю, он был очень сентиментальным, — продолжала Хуанита. — Моя мамаша тоже. Очень смешно. Я жила в Лос-Анджелесе, все шло отлично, но вдруг ей стукнуло в голову, что она хочет видеть меня и детей. Она написала в письме, мол, очень постарела, одинока, у нее слабое сердце, очень хочет, чтобы мы пожили у нее какое-то время. Джо как раз остался без работы, и приглашение оказалось как раз ко времени. Наверное, я тоже тогда помешалась. Не прошло и часа после приезда, как она уже орала на меня, а я на нее. Вот так. Она хочет, чтобы я была поблизости и одновременно подальше от нее. Но ведь так быть не может. Одно из двух. Ладно, теперь-то я собираюсь решить этот вопрос раз и навсегда. Уеду из города и больше не вернусь.
— Не знаю, удастся ли тебе уехать.
— А что такое?
— Будь поаккуратнее.
— Почему? Что мне угрожает?
Все. Разные люди. — Ему вдруг захотелось рассказать ей всю правду, по крайней мере то, что он знал. Но доверять ей Филдинг не мог, не был уверен, что она не проболтается кому-нибудь. Если же Хуанита примется болтать в присутствии тех, кто опасен, то сама окажется под угрозой и его поставит под удар. Может, она уже в опасности, только не чувствует. Его спутница по-прежнему увлеченно обводила ногтем розы на грязных обоях и настолько погрузилась в свое занятие, что по сосредоточенности напоминала художника или ребенка. — Будь любезна, прервись на секундочку, — попросил Филдинг.
— Что?
— Хватит дурью заниматься! Оставь обои в покое.
— Но так ведь красивее.
— Конечно, конечно. Но я хочу, чтобы ты меня выслушала. Ты меня слушаешь?
— Да.
— Я приехал в ваш город, чтобы повидать Джима Харкера. — Он наклонился к ней и отчетливо повторил это имя: — Джима Харкера.
— Ну и что?
— Ты ведь его помнишь?
— Никогда о нем не слышала прежде.
— Подумай!
Она нахмурилась, густые брови почти сошлись, напоминая двух изготовившихся к схватке пушистых зверьков.
— Когда мне, в конце концов, прекратят приказывать, чтобы я думала! Я думаю. Думать ведь просто. Трудно, наоборот, не думать. Я и так все время думаю, но я не могу думать о Джиме Харкере, если я о нем никогда не слышала. Думай, как же. Разбежалась!
Крохотное это слово полностью разрушило ее творческое настроение, убило веселье. Она отвернулась от стены и принялась стирать бумажной салфеткой грязь с ладоней. Закончив, она смяла салфетку в комок и швырнула на пол со вздохом горечи и отчаяния — ее попытка сделать мир красивее не удалась.
Помрачневший бармен вышел из-за стойки и подошел к их столику. Можно было подумать, что сейчас он сделает ей выговор за беспорядок. Но вместо этого он сказал:
— Только что звонила миссис Брустер, интересовалась, нет ли тебя здесь.
На лице Хуаниты мгновенно появилось выражение полнейшего равнодушия — верный признак того, что ей любопытно:
— И что ты ей сказал?
— Я сказал, что приму ее просьбу во внимание и, если только ты появишься, обязательно попрошу позвонить ей. О чем я тебе и сообщаю.
— Спасибо, — сказала Хуанита, не двигаясь с места.
— Ты собираешься звонить?
— Чтобы она пошла и настучала моей мамаше? Я что, дура, по-твоему?
— Тебе лучше ей позвонить, — упрямо твердил бармен. — Она в «Веладе».
— Ну и что? Она в «Веладе», а я в этой дыре. Как, кстати, ее называют?
— «Эль Параисо».
— Рай, стало быть? Ну, умора! Слушай, Фостер, вот так умора — ты и я, мы оба чужие в этом уголке Рая.
Бармен повернулся к Филдингу. Веко его в раздражении подергивалось:
— Если ты ее приятель, объясни ей получше, что миссис Брустер надо позвонить. Ее искала там пара парней, в «Веладе». Один из них — частный детектив.
Детектив, вяло подумал Филдинг. Значит, и Пината в этом замешан.
Особенно он даже не удивился. Догадывался с того самого момента, когда письмо Дэйзи ему доставили на адрес склада. Она никак не могла узнать его адрес, только через Пинату. Ясно, что Пината разыскивал Хуаниту — Дэйзи наняла его именно для этого. Но как во все это вписывается Камилла? Насколько Филдинг знал, это имя даже не упоминалось в присутствии Дэйзи, она просто не подозревала о существовании этого человека.
Он вдруг догадался, что Хуанита и бармен смотрят на него, точно ждут какого-то ответа, а он не слышал адресованного ему вопроса.
— Ну? — повторил бармен.
— Что «ну»?
— Знаешь какого-нибудь частного детектива у нас в городе?
— Откуда?
— Очень странно. Он ведь и тебя искал.
— С какой стати? Я ничего не сделал.
Хуанита громко закричала, что она тоже ничего не сделала, но ни один из ее собеседников не обратил на нее внимание.
Филдинг искоса посмотрел на бармена, похоже, ему составляло немало труда сфокусировать взгляд.
— Ты говорил, в «Веладу» приходили двое. Кто второй?
— Понятия не имею.
— Легавый?
— Если бы легавый, миссис Брустер об этом обязательно бы упомянула. Она сказала только: здоровый мужик, светловолосый и вел себя как-то странно. Нервный какой-то. Знаешь кого-нибудь такого?
— Конечно. Уйму. — «Одного точно знаю, — подумал Филдинг. — Правда, когда я видел его в Чикаго в последний раз, он не нервничал. Теперь у него есть из-за чего беспокоиться». — Даже кое-кто из моих лучших друзей порой нервничает.
— Верю, верю. — Бармен бросил на Хуаниту быстрый взгляд. — Я пошел обратно за стойку. Не говори потом, что я тебя не предупреждал.
Как только он отошел, Хуанита перегнулась через стол и доверительно зашептала:
— Я не думаю, что меня ищет какой-то детектив или блондин этот, здоровый. Чего ради им меня искать?
— Может, у них есть к тебе вопросы.
— Какие еще вопросы?
Филдинг на секунду задумался. Ему очень хотелось помочь этой девочке, чем-то она напоминала ему Дэйзи. Получалось, что судьба самым чудовищным образом определила их обеих своими жертвами — Дэйзи и Хуаниту, хотя они никогда не встречались и, возможно, не встретятся, несмотря на то что имели так много общего друг с другом. Ему было жаль их обеих. Однако чувство жалости, как и чувство любви, и даже чувство ненависти, отличалось у Филдинга большой изменчивостью: оно очень сильно зависело от погоды — таяло летом, замерзало зимой, улетало при сильном ветре и вообще сохранялось в его душе каким-то чудом.
Доказательством этого чуда стали слова, слетевшие с его губ:
— О Поле.
— О каком Поле?
— О твоем сыне.
— С какой стати они будут спрашивать меня о Поле? Он слишком мал, чтобы ввязаться в какое-то серьезное дело, ему еще нет четырех. Самое страшное, на что он способен, — разбить окно или украсть какой-нибудь пустяк.
— Девочка, не будь наивной.
— Что значит наивной?
— Невинной.
Глаза Хуаниты широко распахнулись от ярости:
— Я вовсе не невинна. Может, я и глупа, но не невинна!
— Ладно, ладно. Брось.
— Я не собираюсь ничего бросать! Я хочу знать, с какой стати эти люди совершенно неожиданно начинают интересоваться моими детьми!
— Не всеми. Только Полем.
— Почему?
— Думаю, они пытаются выяснить, кто его отец.
— Пошли вы все к черту! — закричала Хуанита. — Какое им до этого дело?
— На этот вопрос у меня ответа нет.
— Тебя вообще-то тоже не касается, но я скажу. Так случилось, что я в то время была замужем. У меня муж был.
— Как его звали?
— Педро Гарсиа.
— И именно он был отцом Поля?
Хуанита схватила одну из туфель, и Филдинг испугался, ему показалось, что она сейчас его ударит. Но вместо этого его собеседница принялась натягивать ее на ногу.
— Ей-Богу, я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать оскорбления от дешевки, возомнившей себя районным прокурором.
— Извини. Мне было необходимо задать тебе эти вопросы. Я пытаюсь помочь, но мне самому есть что скрывать. Что случилось с этим Гарсиа?
— Я с ним развелась.
Филдинг знал, что по крайней мере в этой части рассказа она сознательно врала. После того как в прошлый понедельник он сбежал из конторы Пинаты, Филдинг отправился в архив муниципалитета, чтобы просмотреть записи в книге актов гражданского состояния. На развод подал сам Гарсиа. Хуанита не пыталась оспаривать его заявление, не требовала алиментов или денег на содержание детей. Странное, признаться, решение, если ребенок и впрямь был от Гарсиа. Только сейчас Филдингу пришло в голову, что Хуанита могла не знать имени настоящего отца своего сына — ее это совсем не волновало. Кто-то, кого она сняла в баре или на улице, — моряк с пришедшего в порт судна, летчик с базы «Ванденберг». Все беременности Хуаниты были совершенно случайными. Можно с уверенностью утверждать только одно: маленький Поль нисколько не походил на Джима Харкера.
Хуанита завершила сложный эксперимент по обуванию собственных ног, сунула под мышку сумочку. Казалось, она вот-вот встанет и пойдет к выходу, но этого не происходило.
— А что ты имел в виду, когда говорил, что тебе самому есть что скрывать?
— Этот детектив разыскивает и меня.
— Довольно странно все выглядит, если подумать. Кто-то, наверное, сказал ему, что мы вместе.
— Может, миссис Брустер.
— Исключено, — сказала она решительно. — Детективу она не назовет даже точное время.
— Больше об этом никто не знает. Только ты и твоя мать.
— Вот именно. Ей-Богу! Именно моя мамаша ему про нас с тобой напела.
— Но сначала кто-то должен был дать ему твой адрес, — заметил Филдинг. — Может, мальчишка-подавальщик или одна из официанток.
— Никто моего адреса не знает. Я никогда ничего не говорю о себе людям такого сорта.
— Значит, он как-то выяснил.
— Ладно. Значит, он как-то выяснил. А мне что за дело? Я не совершила ничего противозаконного. С какой стати я должна бежать?
— Может быть, — продолжал Филдинг, тщательно подбирая слова, — ты оказалась вовлечена в какую-то игру, о которой сама ничего не знаешь?
— Например?
— Объяснить тебе ничего не могу. — Себе он тоже ничего не мог объяснить, в его схеме оказалось слишком много белых пятен, которые следовало заполнить. Как только он их закроет, долг его будет исполнен, и он сможет двинуться дальше. Важнее всего избавиться от этой девицы. Она слишком бросается в глаза, а ему нужно двигаться быстро и налегке, не то, в случае неудачи, придется отправиться очень далеко.
Удача. Филдинг верил в удачу, как другие верят в Бога, родину или мать. Удаче он приписывал все свои победы, ее же обвинял в поражениях. Несколько раз на дню он трогал свисавшую с цепочки часов заячью лапку, ожидая от этого крохотного кусочка кости и шерсти невиданных чудес, но никогда не жаловался, если чуда не случалось. Его необычайный фатализм страшно озадачивал вторую жену и ужасно раздражал первую. Грядущую катастрофу он чувствовал столь же отчетливо, как и предстоящий запой. И то, и другое было, в его разумении, вещами, находившимися вне человеческого контроля, над которыми у него не было власти. Что бы ни случилось, как бы ни выпали кости, куда бы ни упал шарик, как бы ни разломилось печенье — все это зависело от степени везения или невезения. Степень его собственной ответственности была не больше, чем у лапки, прикрепленной к цепочке часов.
— Почему же ты не можешь мне объяснить? — спросила Хуанита.
— Потому что не могу.
— Мне надоели все эти намеки. Можно подумать, меня собираются убить. Я ничего не боюсь. Меня некому убивать. Меня никто не ненавидит, только если моя мамаша, ну и Джо иногда, ну, может, еще кто-нибудь.
— Я не говорил, что тебя собираются убить.
— А прозвучало именно так.
— Я только сказал, чтобы ты была поосторожнее.
— Как, черт побери, я могу быть поосторожнее, если даже не знаю, кого или чего мне опасаться. — Она почти легла грудью на стол и пристально посмотрела на него совершенно трезвыми глазами. — Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты обыкновенный псих.
Филдинг не обиделся. Напротив, он был очень доволен. Обозвав его психом, Хуанита тем самым освободила его от какого бы то ни было чувства ответственности по отношению к ней. То, что он собирался сделать, показалось легким, даже неизбежным: «Она обозвала меня психом, что ж, тогда я имею полное право украсть ее машину».
Единственная проблема заключалась в том, чтобы на несколько минут удалить Хуаниту из-за стола, причем таким образом, чтобы сумочка с ключами осталась здесь.
— Тебе лучше позвонить миссис Брустер, — сказал он решительно.
— Зачем еще?
— Для твоей же пользы. Я тут ни при чем — ты должна узнать у нее все, что можно, про тех двоих, что тебя разыскивали.
— Я не хочу с ней разговаривать. Она всегда командует.
— Как хочешь. Но если ты передумаешь… — он вытащил из кармана десятицентовик и положил перед ней.
Хуанита посмотрела на монету с жадностью маленького ребенка:
— Я не знаю, что ей сказать.
— Пусть говорит она сама.
— Может, она наврала про этих двоих и хочет только, чтобы я испугалась и прибежала домой?
— Не думаю. По-моему, она твой верный друг.
Монета в десять центов решила все. Хуанита смахнула ее со стола небрежным жестом профессиональной официантки.
— Пригляди, пожалуйста, за моей сумочкой.
— Ладно.
— Я сейчас вернусь.
— Конечно.
Покачиваясь, она двинулась к кабинке телефона, зажатой между краем стойки бара и дверью в кухню. Филдинг ждал, поглаживая лапку мягко и нежно, как живого зверька. Все снова зависело от удачи: сможет ли Хуанита вспомнить номер миссис Брустер сразу или ей придется искать его в справочнике. Если она начнет искать, он получит секунд тридцать-сорок, чтобы открыть сумочку, найти среди всякого добра ключи и дойти до входной двери. Если она наберет номер сразу, ничего не остается, как схватить сумочку и бежать к выходу. Кто знает, удастся ли ему проскочить бармена и тех посетителей, которых он сейчас обслуживает. После нескольких стаканов спиртного в Филдинге просыпалась сентиментальность, еще пара-тройка, и она исчезала окончательно, но сейчас ему претила мысль украсть дамскую сумочку. Машина — совсем другое дело. За свою жизнь он украл не одну машину, обманул не одну женщину. Но ни разу он не крал женских сумочек. Кроме того, кража сумочки представлялась довольно рискованным делом: она слишком велика, чтобы спрятать ее в карман или под пиджак. Похоже, оставался единственно возможный вариант — высыпать ее содержимое на стоящий рядом стул, забрать ключи и снова положить сумочку на место. Вся операция потребует не более четырех-пяти секунд…
Хуанита продолжала набирать номер.
Сумочка лежала на расстоянии вытянутой руки — черный пластиковый четырехугольник с позолоченным замком и ручкой. Филдинг вдруг увидел на блестящем пластике миниатюрное отражение собственного лица. Оно выглядело на удивление молодо и невинно, без морщин. Совсем не та физиономия, что смотрела на него по утрам из засиженного мухами, заляпанного грязью и прочими следами проходящей жизни зеркала. Лицо на пластиковой поверхности принадлежало его юности, так же как и фотография Камиллы в спальне миссис Розарио. «Камилла, — сказал он себе, и острая боль отозвалась вдруг уколом в сердце, наверное, эту бессмысленную боль испытал его друг, когда наваха вошла в него. — Мы оба были молоды, я и Кудряш. Но он опоздал, а у меня еще есть шанс».
Его вдруг охватило страстное желание схватить сумочку, но не потому, что там были деньги или ключи, а для того, чтобы поймать вот это выражение неиспорченной юности, невинности, отразившейся на пластике и неподвластной времени.
Он мельком взглянул на телефонную кабинку. Хуанита, что-то бормоча под нос, вешала трубку. Он подумал, что шанс пропал даром, она дозвонилась до «Велады», и ей сказали, что миссис Брустер уже ушла. Но вот он увидел, как она берет прикрепленный к стене цепью телефонный справочник, и понял — должно быть, она услышала сигнал «занято» и решила еще раз проверить номер. Фортуна давала ему новую попытку.
Филдинг снова посмотрел на сумочку, на этот раз угол зрения изменился: его отражение, вновь глядевшее ему в глаза, походило на уродливые морды в комнате смеха. Лоб сместился вправо, а челюсть влево, между ними расплывались нос и две глазные щели. Яростно вскрикнув, он сгреб сумочку со стола и вывалил ее содержимое на соседний стул. Ключи от машины висели на отдельной цепочке, их нетрудно было отличить от других. Филдинг опустил их в карман, поднялся из-за стола и неторопливо двинулся в сторону двери. Он не торопился, не желая привлекать особого внимания к своей персоне. Он уже проделывал этот трюк сотни раз — дружеское прощание с хозяйкой комнаты, торговцем, администратором гостиницы или хозяином винного магазина — с теми, с кем он не собирался расплачиваться, рассчитывая больше никогда не встретиться.
Проходя мимо стойки, он улыбнулся бармену:
— Будь любезен, передай Хуаните, что я вернусь через несколько минут. Ладно?
— Ты не заплатил за последний заказ.
— Неужели? Дико извиняюсь. — Задержка оказалась непредвиденной, но он продолжал улыбаться, пока нащупывал в кармане доллар. Единственным признаком беспокойства можно было считать только взгляд, брошенный в сторону телефонной кабинки. — Прошу.
— Спасибо, — кивнул бармен.
— Хуанита беседует с миссис Брустер, а я подумал, что не помешает прогуляться и немного подышать свежим воздухом.
— Конечно.
— Ну, до скорого.
Как только Филдинг очутился на улице, вальяжность и расслабленность тут же исчезли. Он торопливо пошел по тротуару навстречу холодному ветру, больно хлестнувшему по лицу.
До последней секунды у него не было никакого ясного и продуманного плана. Полагаясь лишь на интуицию и не задумываясь о последствиях, он бросался в самую гущу чего-то, в чем еще сам до конца не разобрался. Раздобыть машину и добраться до дома Дэйзи — таково было его желание. У Дэйзи он обязательно встретится с Адой — эта мысль приводила его в восторг. Трезвый он не мог появляться перед бывшей женой, пьяный был готов немедленно затеять самый непристойный скандал. Но сейчас, в подвешенном состоянии, он чувствовал в себе силы совладать с ней, противостоять ей без злобы, сорвать с нее маску, но без всякой жестокости. Сейчас он мог преподать ей несколько уроков хороших манер:
«Дорогая Ада, мне очень неприятно тебя отвлекать, но во имя справедливости я вынужден настаивать на том, чтобы ты поведала нам правду о своем участии в этом маленьком заговоре…»
Филдинг ни на секунду не почувствовал, насколько смешно то, что фразы о правде и справедливости сочинял он, человек, вся жизнь которого напоминала марафонскую дистанцию, где, обгоняя его на несколько шагов, бежала правда, а чуть отставая от него, справедливость. Он никак не мог нагнать первую, а вторая не могла догнать его.
Машину они оставили в самом конце квартала, перед длинным каркасным зданием с залитой тусклым светом вывеской, извещавшей о его назначении: «Бильярд». То, что название заведения было написано только по-испански, означало — белых в нем не ждут. Хотя внутри было полно народу, из-за приоткрытой двери доносился лишь приглушенный шум, прерывавшийся ударами кия и стуком о полку выставляемых шаров. У входа бесцельно болталась группа, состоявшая из молодых негров и мексиканцев, у одного из них в руках был кий. Казалось, он использует его, как тамбурмажор свой жезл, поднимая и опуская в такт лишь ему одному звучащей музыке.
Когда Филдинг приблизился, паренек опустил кий и прокричал:
— Тра-та-та. Ты убит, приятель.
Трезвый Филдинг их испугался бы, пьяный обязательно затеял бы скандал, а вот в нынешнем его состоянии, в данный момент, он широко улыбнулся пареньку и прошел мимо возбужденной компании со словами:
— Очень смешно, сынок. Тебе надо сниматься на телевидении…
На кольце висело два ключа, взятых из сумочки Хуаниты: один от багажника, другой от дверей и зажигания. Вначале он попробовал открыть дверцу не тем ключом. Неважное начало, особенно если учесть, что за ним с пристальным интересом наблюдали эти ребятишки. Казалось, они прекрасно знали, что он затеял, и собирались посмотреть, удастся ему выполнить свой план или его схватят. Позднее — если это время все-таки настанет — они будут в состоянии дать детальное описание машины и ее похитителя. А может, Хуанита уже позвонила в полицию, и они получили описание ее машины по рации. Он рассчитывал на то, что недоверие Хуаниты к представителям власти удержит ее от этого шага, но кто знает, ведь она непредсказуема.
Оказавшись в машине, он вдруг ощутил, как его охватывает панический ужас от одного взгляда на панель управления. Он довольно давно не садился за руль, тем более такой шикарной машины, с огромным количеством всяких кнопок и тумблеров. Он никак не мог догадаться, на что надо нажать, чтобы включить в салоне свет. Впрочем, и без света он знал, где находится самый ценный объект — полпинты виски, купленные им в одном из баров, а позже спрятанные под сиденьем на полу. Едва бутылка успела коснуться его губ, как Филдинг уже почувствовал воздействие ее содержимого. В какое-то мгновение его охватило чувство вины, вина превратилась в упрек, упрек — в жажду отмщения, отмщение придало сил: «Клянусь всем святым, я им преподам урок!»
Человеку в обычном состоянии понадобилось бы довольно много времени, чтобы пережить последовательную смену всех этих эмоций. Но Филдинг в своем поведении, скорее, походил на тех, кого настолько часто подвергали гипнозу, что достаточно было щелкнуть пальцами, и они входили в это состояние. Запах пробки, приближение горлышка и: «Клянусь всем святым! Я покажу этим самоуверенным, лицемерным, снисходительным ублюдкам!»
Один из негров подошел к машине и принялся колотить ногой по правому заднему колесу с таким отсутствующим видом, точно это колесо находилось там лишь для того, чтобы по нему лупили ботинком, а у самого «футболиста» просто не было занятия важнее, чем это.
— Убери свою черную лапу подальше от моего колеса, хамло! — прокричал Филдинг, не поднимая стекла. Он прекрасно сознавал: подобная фраза — вызов на драку, но не менее отчетливо он понимал тем самым уголком мозга, который продолжал связывать его с окружающей действительностью, что никто не расслышит произносимых оскорблений из-за толстого автомобильного стекла, да еще и при таком ветре.
Он нажал на стартер. Машина пару раз дернулась вперед. Мотор заглох. Только тут Филдинг сообразил, что не отжал педаль экстренного торможения. Он снял автомобиль с тормоза, завел мотор и посмотрел в зеркало, дабы убедиться, что сзади нет машин. Автомобилей поблизости не было, и он уже готовился съехать с тротуара, когда увидел двух Хуанит, бегущих по самому центру дороги. Обе они были босы и вовсю размахивали руками, юбки их развевались на ветру как флаги.
Вид двух приближающихся фурий поверг его в ужас. Он запаниковал и чересчур усердно нажал на акселератор, выжав его до упора. Мотор взревел и снова заглох. Филдинг понял: ему ничего не остается, как сидеть и ждать.
Он опустил оконное стекло и снова посмотрел на дорогу. Ему пришлось очень старательно прищурить глаза, чтобы обе Хуаниты соединились в одну. За двадцать метров он отчетливо различал ее крик. В этой части города любой крик воспринимался не как просьба о помощи, а как знак надвигающейся беды: группа молодых негров и мексиканцев исчезла без следа, двери в бильярдную мгновенно захлопнулись, будто сработала электронная система сигнализации, отреагировавшая на опасное возрастание децибел. И когда прибудет полиция, если этому, конечно, суждено случиться, никто ничего не будет знать ни о воре, укравшем автомобиль, ни о женщине, исходившей криком.
Филдинг взглянул на светившиеся перед ним часы. Половина седьмого. Впереди еще уйма времени. Ему только нужно держать себя в руках, и девчонку удастся утихомирить без труда. То, что она сломя голову неслась к машине, означало одно — полицию его новая подружка не вызывала. Самое важное — оставаться спокойным, действовать взвешенно и хладнокровно.
Но пока он следил за ее приближением, гнев снова застучал в висках, в глазах запрыгали цветные пятна. В цветовых вспышках к нему приблизилось лицо Хуаниты в черных потеках туши и слез, покрасневшее от холода и долгого бега.
— Ты, — крикнула она прерывающимся голосом, — сукин сын! Ты украл мою машину.
— Я как раз возвращался, чтобы забрать тебя. Я же сказал бармену, что сейчас вернусь.
— Грязный… врун!
Он перегнулся через сиденье и открыл правую переднюю дверь.
— Залезай!
— Я сейчас… полицию вызову…
— Залезай!
То, что он дважды повторил приказ, произвело на нее точно такое же воздействие, что и положенная на стол в баре монета. Десять центов положили, чтобы она их взяла, дверцу открыли, чтобы она залезла в машину. Хуанита обошла автомобиль спереди, пристально глядя на Филдинга, словно подозревала его в том, что он ее вот-вот задавит.
Она забралась в машину. Дыхание все еще не восстановилось после бега по дороге.
— Ну и что же ты скажешь, сволочь?
— Ничего такого, во что бы ты могла поверить.
— Я и так бы ни во что не поверила. Ты…
— Успокойся. — Филдинг закурил. Огонек спички сливался с пятнами огня, прыгающими в глазах, и он никак не мог понять, какой же именно огонь настоящий. — Давай обговорим условия нашего соглашения.
— Ты хочешь заключить со мной соглашение? Помру со смеху. А ты ничего, смелый парнишка!
— Хочу одолжить у тебя на пару часов машину.
— Неужели? А что взамен?
— Кой-какая информация.
— Кто тебе сказал, что мне нужна информация от такого старого придурка, как ты?
— Выбирай выражения, дочка!
Хотя голос он практически не повысил, похоже, она почувствовала, в какой он ярости, и, когда снова заговорила, голос звучал вполне примирительно:
— Какую информацию?
— О твоем богатом дядюшке.
— С какой стати мне нужна информация о нем? Он умер, его уже четыре года как похоронили. Кроме того, откуда тебе знать, что мне рассказала мамаша, а что нет?
— То, что я собираюсь тебе рассказать, ни капли не похоже на то, что рассказывала твоя мать. Если, конечно, ты пойдешь мне навстречу. Все, что надо сделать, — одолжить мне на пару часов машину. Я сейчас отвезу тебя домой и верну машину после того, как выполню свое поручение.
Хуанита провела ладонями по щекам и, казалось, очень удивилась, обнаружив на них слезы. Она уже забыла, что плакала, забыла и причину слез.
— Я не хочу домой.
— Надо.
— С какой стати?
— Потому что тебе должно быть любопытно, почему мать лгала своей дочери все эти годы.
Он завел машину и съехал на дорогу. Хуанита настолько удивилась, что возражать ему была не в силах.
— Лгала? Да ты, похоже, совсем рехнулся. Моя мать, она настолько чиста, что даже… — тут Хуанита без всякого смущения использовала довольно приземленную фигуру речи. — Я тебе не верю, Фостер. Ты все придумал, чтобы заполучить мою тачку.
— Тебе и не надо мне верить. Спроси мать.
— О чем?
— Где раздобыл деньги твой богатый дядюшка.
— Он серьезно занимался промышленным разведением скота.
— Он был обычным пастухом.
— У него были…
— У него не было ничего, кроме единственной рубахи, но, я готов поставить десять к одному, и та ворованная. — Последнее утверждение не соответствовало истине, но Филдинг не мог признаться в этом даже себе. Ему просто необходимо было верить, что Камилла оказался презренным лгуном, вором и негодяем.
— Откуда же взялись деньги, которые он мне оставил в этом фонде? — поинтересовалась Хуанита.
— Я же тебе пытаюсь втолковать: никакого фонда нет.
— Но я получаю каждый месяц двести долларов. Откуда они берутся?
— Спроси об этом свою мать.
— Ты говоришь так, будто она мошенница или что-нибудь такое.
— Или что-нибудь такое.
Он повернул налево. Филдинг совершенно не знал этого города, но за долгие годы скитаний выработал привычку фиксировать в памяти те или иные приметы улицы, по которой проходил или проезжал, чтобы потом вернуться по ней в гостиницу или пансионат, делал это уже автоматически, подобно слепому, отсчитывающему шаги между различными местами на своем пути.
Хуанита примостилась на самом краешке сиденья, вся напряженная, в одной руке она сжимала пластиковую сумочку, в другой — туфли из змеиной кожи.
— Она не мошенница.
— Спроси.
— Нечего и спрашивать, может, мы с ней не больно дружим, но поклясться могу, она не мошенница. Вот если она что-то для кого-то делает…
— Если только, — ласково согласился Филдинг.
— Послушай, а чего ты делаешь вид, что так много знаешь о Камилле и моей мамаше?
— Когда-то я дружил с Камиллой.
— Но до сегодняшнего дня ты мою мамашу и в глаза-то не видел. — Она сделала паузу, чтобы обдумать сказанное. — Да ведь ты даже меня не видел до того самого дня, когда подрался с Джо.
— Я о тебе слышал.
— Когда? От кого?
В какое-то мгновение ему очень захотелось сказать ей, когда и от кого он услышал ее имя, показать письмо от Дэйзи, которое он сегодня утром вытащил из старого чемодана. Именно это письмо, полученное четыре года назад, привело его в «Веладу», в то место, где он может хоть что-то выяснить, а то и получить информацию о молодой женщине по имени Хуанита Гарсиа. И она оказалась там, хотя он до сих пор не знал, что это — добрый знак или недобрый. То, что туда вдруг заявился муж и затеял скандал, было невезением чистейшей воды. Мало того, что Филдинг был отброшен далеко назад в своих разысканиях, а миссия его пошла прахом, самым большим невезением могло стать то, что в деле оказался замешан Пината. Пината, а затем и Камилла. Одно из самых страшных потрясений в жизни Филдинга произошло в тот самый момент, когда он, скользнув взглядом по спальне миссис Розарио, увидел портрет Камиллы.
«Вот тогда мне и следовало все бросить, — подумал он. — Сразу же подняться и уйти».
Даже сейчас он не мог понять, почему не бросил все сразу, а лишь чувствовал, что грызущее беспокойство внутри исчезало, когда он ощущал прикосновение опасности (все равно, о чем шла речь: о мелком надувательстве при игре в карты, об обмане хозяйки квартиры или, как в данном конкретном случае, о его собственной жизни и смерти).
— Я не верю, что ты слышал обо мне до этого, — сказала Хуанита. По ее тону становилось ясно, что она очень хочет поверить, она польщена — ее узнают совершенно незнакомые люди, как какую-нибудь кинозвезду. — Я имею в виду, что я не вот какая известная. Так… Как ты мог меня узнать?
— Узнал-таки.
— Расскажи.
— Как-нибудь в другой раз.
Мысль о том, что нужно показать ей письмо и понаблюдать за реакцией, вполне соответствовала свойственному ему чувству изящного юмора. Но упоминания о Хуаните в этом письме сопровождались крайне нелестными для нее эпитетами, и он боялся рисковать, опасаясь, что она вновь рассердится. Кроме того, письмо это имело свои отличия. Пожалуй, из всех посланий Дэйзи оно оказалось единственным, где так отчетливо проявились ее душевные переживания и муки.
«Дорогой папа!
Как бы мне хотелось, чтобы ты был сегодня рядом со мной и мы могли бы поговорить обо всем так, как обычно разговариваем. Говорить с мамой или Джимом совсем не то же самое. Наши беседы всегда заканчиваются тем, что они просто говорят мне, что и как делать.
Скоро Рождество. Как я любила этот праздник — веселье, песни, шуршание бумаги, в которую заворачивают подарки. На этот раз я ничего не чувствую. В нашем доме без детей нет веселья. Я пишу „без детей“ с горькой иронией. Ровно неделю назад я узнала, что другая женщина должна родить — наверное, уже родила — ребенка, отец которого Джим. Я очень хорошо представляю себе, как, читая это место, ты говоришь: „Ну-ну, Дэйзи, детка, а ты уверена, что все поняла правильно?“ Да, я уверена. Джим сам признался мне в этом. И самое страшное: как бы я ни страдала, Джим страдает еще больше, и мы ничем не можем друг другу помочь. Бедный Джим. Как он хотел ребенка, но это дитя он больше никогда не увидит. Эта женщина уже уехала из города, и все соглашения по выплате ей пособия заключены через Адама Барнетта, адвоката Джима.
После того как это письмо будет закончено, я сделаю все возможное, чтобы забыть о случившемся и остаться Джиму хорошей женой. Все кончено, все сделано, я ничего не могу изменить, поэтому мне лучше забыть и простить. Простить легко, забыть труднее, но я постараюсь. Я начну прикладывать к этому силы завтра, а сегодня я кажусь себе запачкавшейся во всем, как свинья, вывалявшаяся в грязной луже.
Эту женщину я видела множество раз. (Сколько парадоксов в нашей жизни. Только стоит им появиться, и они начинают расти и умножаться в числе, как амебы.) Она долгие годы была пациенткой нашей клиники, уходила, потом приходила. Возможно, Джим встретил ее первый раз именно там, когда поджидал меня. Я его не спрашивала, а он ничего не говорил. Как бы то ни было, я знаю, ее зовут Хуанита Гарсиа, она работает официанткой в кафе „Велада“ у подруги своей матери. Она замужем, у нее пятеро детей. Про это Джим мне тоже не говорил, я посмотрела ее карточку в нашей клинике. Обнаружила я там еще кое-что: если тебя не тошнит от парадоксов, попытайся принять еще один — на прошлой неделе полиция арестовала миссис Гарсиа по обвинению в преступно халатном обращении с собственными детьми. Я молю Господа, чтобы Джим не узнал об этом. Подобное известие лишь увеличило бы его страдания, каково только представить себе, что за жизнь ждет его малютку!
Я ничего не сказала маме, но подозреваю, что Джим сказал. Она носится по дому с таким преувеличенно веселым видом, какой бывает у нее только в самых экстренных ситуациях. Так было в прошлом году, когда я узнала, что бесплодна. Она чуть не довела меня до безумия, говоря о всех тех плюсах, которые есть в моей ситуации.
Только один вопрос по-прежнему мучит меня: зачем Джиму понадобилось рассказывать мне правду? Это признание ничуть не уменьшило его собственных страданий и только добавило к ним мои. Почему, если он больше не собирался видеть эту женщину и ее ребенка, не мог он оставить случившееся в секрете? Но я не должна думать о подобных вещах. Я уже пообещала себе, что забуду обо всем, и я выполню обещание. Я должна. Папа, помолись за меня. И ответь, пожалуйста. Очень тебя прошу.
Твоя любящая дочь.
Дэйзи».На письмо он не ответил. Тогда для этого были десятки причин, но прошли годы, и он забыл о причинах, остался лишь факт: он не ответил на простейшую из просьб. Каждый раз, как только он открывал чемодан, ему била в лицо короткая фраза: «Очень тебя прошу»…
Что ж, теперь он пытается ответить ей, причем с куда большим риском, чем прежде. Только самым черным невезением можно объяснить то, что сестра, о которой Камилла упоминал перед смертью, оказалась миссис Розарио. И все же Филдинг понимал: если рассуждать логично, то нужно провести параллель между Камиллой и Хуанитой. Письмо Дэйзи было датировано девятым декабря. Она писала, что впервые услышала о ребенке Хуаниты за неделю до этого, то есть второго декабря. В этот день умер Камилла, а Хуанита уехала из города. Связь между обозначенными событиями казалась неизбежной. Связующим же звеном выступала миссис Розарио, которая, несмотря на все ее распятия, иконы и ковчежцы, выглядела не менее искусным махинатором, чем Филдинг.
— Поинтересуйся у своей мамаши, — посоветовал он, — где она взяла деньги.
— Может, ей их кто-нибудь дал. — Хуанита упорствовала.
— С какой стати?
— Есть такие люди, они любят просто давать деньги.
— Неужели? Хотелось бы встретить такого до своей смерти.
Они выехали на знакомую улицу. По обе стороны дороги стояли ряды оставленных на ночь машин. Гаражи в этой части города считались непозволительной роскошью.
Филдинг узнал дом; номера он не помнил, но увидел знакомую розовую расцветку. Не успел он притормозить, как новый бело-голубой «кадиллак», яростно визжа новой резиной, рванулся с тротуара по дороге.
— Вернусь через два часа, — сказал он Хуаните.
— Да уж, постарайся.
— Даю слово.
— Плевала я на слово, мне нужна машина.
— Получишь. Ровно через два часа.
Он понятия не имел, когда вернется, через два часа, через два дня или вообще никогда. Все зависело от везения.
18. Я приехал сюда, чтобы увидеть тебя, но мне не хватило на это смелости. Вот поэтому я и пишу: чтобы хоть немного прикоснуться к тебе, чтобы еще раз сказать себе, что смерть моя не будет окончательной. Останешься ты, единственное доказательство того, что я существовал на этом свете. Больше у меня ничего нет
Бело-голубой «кадиллак» бросался в глаза на Опал-стрит не меньше, чем у дома миссис Розарио, вот только замечать его было некому. При первых каплях дождя тротуары опустели. Джим остановил дворники, потушил в салоне свет и принялся ждать в холодной темноте. Хотя он не смотрел на часы, ни на те, что на руке, ни на те, что на приборном щитке автомобиля, знал точно: до семи осталось пять минут. Похоже, всю эту ужасную неделю он носил будильник где-то внутри и мог без труда расслышать с беспощадной точностью тикающие секунды. Время стало для него живым существом, неразрывно связанным с ним, как вцепившаяся мертвой хваткой в брюхо акулы ракушка. Иногда он просыпался среди ночи, и внутренний голос с точностью до секунды называл ему время.
В доме на другой стороне улицы, в конторе Пинаты, горел свет, там двигалась взад-вперед мужская тень. Джима охватила слепая ярость — словно вышедшая из берегов река, она захлестнула его зрение, ослепила его, подавила все другие чувства. Он в равной степени ненавидел Пинату, Филдинга… Пинату за то, что тот извлек из-под земли Карлоса Камиллу, Филдинга за то, что своими бездумными и безответственными поступками тот вызвал все случившиеся события прошедшей недели. Именно его, на первый взгляд совершенно невинный, телефонный звонок в воскресенье вечером стал причиной сна Дэйзи. Если бы не этот сон, Камилла по-прежнему оставался бы мертв, Хуанита забытой, а миссис Розарио совершенно безвестной.
Он детально расспросил Аду Филдинг про телефонный звонок бывшего мужа, пытаясь заставить ее в точности вспомнить, что она могла сказать такого, отчего Дэйзи разволновалась и принялась копаться в памяти. Результатом этого копания стал сон.
— Что ты ей сказала, Ада?
— Я сказала, что ошиблись номером.
— Что еще?
— Сказала, какой-то пьянчуга. Ей-Богу, это уже была чистая правда.
— Должно быть, еще что-то.
— Я хотела, чтобы мой рассказ выглядел максимально правдиво. Я сказала, этот пьяница назвал меня деткой.
Детка. Простое это слово могло вызвать проклятый сон и привести Дэйзи к воспоминаниям о дне, который она заставила себя забыть, о том самом дне, когда Джим сказал ей о ребенке Хуаниты, Так что все началось из-за Филдинга, из-за этого непредсказуемого человека, дружба с которым куда опаснее вражды. Вопросы без ответов стучали в голове, болтались в мозгу, как воздушные змеи без удерживающих их веревок. Что в первую очередь привело Филдинга в Сан-Феличе? Каковы его намерения? Где он сейчас? С ним ли все еще эта девка? Миссис Розарио так и не смогла ответить ни на один из них, но она ответила на самый главный, еще до того, как Джим его задал, — Филдинг видел ребенка, видел Поля.
Он смотрел на косые следы ползущих по стеклу капель и думал о Дэйзи, бредущей по Лоурел-стрит в поисках потерянного дня, как будто день — это вещь, забытая в старом доме. К глазам подступили слезы любви, жалости и беспомощности. Он больше не мог уберечь Дэйзи от того, что ей предстояло узнать об отце, о чем ей так больно будет думать всю оставшуюся жизнь. Но он знал: он должен попытаться во что бы то ни стало остановить ее.
— Джим, нельзя, чтобы она узнала об этом теперь, — сказала Ада Филдинг, а он ответил:
— Это неизбежно.
— Нет, Джим, не говори так.
— Тебе не стоило ей врать с самого начала.
— Я сделала это для ее же спокойствия, Джим. Если бы у нее родились дети, они могли бы быть похожи на него. Это бы ее убило.
— Люди не умирают так легко.
Только сейчас он в полной мере почувствовал справедливость этих слов. Он умирал каждый день, каждый час всю прошедшую неделю, но впереди еще оставался долгий путь мучений.
Харкер несколько раз моргнул, пытаясь стряхнуть накатившиеся слезы, потер глаза кулаком, словно хотел наказать их за то, что они слишком много видели или, наоборот, слишком мало и слишком поздно. Когда он снова открыл глаза, Дэйзи шла вниз по улице, почти бежала с непокрытой головой, в развевающемся на ветру плаще. Она казалась возбужденной, переполненной счастьем, как ребенок, идущий по краю пропасти и знающий, что не будет ни оползня, ни случайного камня, который может подвернуться под ногу.
С карманами, полными вот этих самых камней, он вышел из машины и перешел через улицу, наклонив голову, чтобы защититься от ветра.
— Дэйзи!
Она испуганно вздрогнула, как будто ее окликнул совершенно незнакомый человек. Узнав его, она не сказала ни слова, но он отчетливо увидел, как счастье и возбуждение исчезают у нее в глазах, так меняется лицо человека, истекающего кровью.
— Дэйзи?
— Ты следил за мной, Джим?
— Нет.
— Но ты здесь?
— Ада сказала мне, что у тебя встреча с… — тут он сделал паузу, не желая произносить имя Пинаты, иначе тень за окном стала бы обретать плоть и кровь, — в его конторе. Я прошу, Дэйзи, поедем домой. Если ты хочешь, чтобы я начал умолять тебя, я готов.
— Это ничего не изменит.
— Я все равно должен попытаться, ради тебя самой.
Она отвернулась, на лице скептическая усмешка, скорее даже еле заметное движение губ.
— Как быстро люди готовы делать что-то ради меня, а не ради самих себя.
— У живущих одной семьей все общее. Это невозможно разделить на твое и мое вот так просто.
— Тогда перестань твердить, что это делается ради меня. Если ты хочешь сказать, что во имя спасения нашего брака, так и скажи. Хотя прозвучит куда менее благородно, верно?
— Пожалуйста, оставь иронию, — попросил он устало, — речь идет о слишком важном.
— Так о чем идет речь?
— Ты не понимаешь, к какой ужасной катастрофе приближаешься.
— А ты понимаешь?
— Да.
— Ну скажи мне.
Он промолчал.
— Так скажи, Джим!
— Не могу.
— Ты видишь, как собственная жена приближается к пропасти, по твоим же словам, и не можешь ей сказать, что это значит?
— Не могу.
— Это имеет какое-то отношение к человеку, похороненному в моей могиле?
— Не говори так! — Он вскинулся. — У тебя нет никакой своей могилы. Ты жива, здорова…
— Ты не ответил на вопрос о Камилле.
— Я не могу на него ответить. Здесь замешано слишком много людей.
Она приподняла брови, на лице отразились одновременно удивление и ирония.
— Похоже, за моей спиной существовал какой-то гигантский заговор.
— Моим долгом было защищать тебя. Эта моя обязанность сохраняется. — Он взял ее за руку. — Пойдем, Дэйзи. Забудем все, что случилось на прошлой неделе. Сделаем вид, как будто ничего не было.
Она стояла молча. Барабанил дождь. Как просто было бы в эту самую минуту поддаться его сильной руке, пойти за ним через улицу, дать ему возможность отвести ее назад, в уютный и безопасный мирок. Они вернутся туда, откуда ушли: снова наступит утро очередного понедельника, Джим снова примется читать ей вслух статьи местных газет. Потянутся тихие, спокойные дни, и, если они и не обещают особых развлечений, катастроф в них тоже не предвидится. Боялась она только одного — вдруг ночью вернется ее сон. Она снова взбежит на утес и обнаружит под каменным крестом в тени дерева, известного всем лоцманам, незнакомца.
— Дэйзи, пойдем домой, пока еще не поздно.
— Слишком поздно.
Он смотрел, как она исчезает за дверью. Затем он перешел через дорогу и сел в машину. На тень, видневшуюся в освещенной комнате, Джим больше не смотрел.
Шум дождя, колотившего по черепичной крыше, был так силен, что Пината не услышал ни того, как Дэйзи шла по коридору, ни как она стучала в дверь. Пробило семь. Он три часа гонялся по городу за Хуанитой и Филдингом и наконец дошел до стадии, когда все бары и все люди кажутся совершенно одинаковыми. Он ощущал усталость и раздражение и, когда, подняв голову, увидел Дэйзи в дверном проеме, сказал зло и неприязненно:
— Опаздываете.
Он ждал, он очень надеялся, что она взорвется в ответ и даст ему возможность выпустить пар до конца.
Но она лишь холодно ответила:
— Да. Я встретила у входа Джима.
— Какого Джима?
— Моего мужа. — Она села, откинула со лба рукой мокрые волосы. — Он хотел, чтобы я вернулась с ним домой.
— Что ж вы не вернулись?
— Дело в том, что сегодня днем я выяснила некоторые факты, свидетельствующие в пользу нашего расследования. Мы на правильном пути.
— Что это за факты?
— Мне не очень легко и довольно неприятно рассказывать вам об этом, особенно о женщине. Но вам ведь необходимо знать, чтобы планировать наши дальнейшие действия.
Она несколько раз моргнула. Пината не знал, что тому виной — яркий свет горящих в комнате ламп или подступившие слезы.
— Между нею и Камиллой существует какая-то связь. Я уверена: Джим знает, в чем тут дело, хотя он никогда в этом не признается.
— А вы его спрашивали?
— Да.
— Он дал понять, что был знаком с Камиллой?
— Нет, но я думаю, что был.
Бесстрастно она рассказала ему о событиях прошедшего дня: как она обнаружила корешки чеков в столе Джима, про звонок Мюриэл, сообщившей про поездку Филдинга, о своей беседе на причале с Адамом Барнеттом и, наконец, о встрече с Джимом. Он внимательно выслушал, ничего не комментировал, только ходил по комнате, с силой вбивая в пол каблуки туфель.
Она закончила, и он спросил:
— О чем было письмо в розовом конверте, про которое вспомнила Мюриэл?
— Судя по дате, только об одном — о Хуаните и ее ребенке.
— Это и привело его сюда?
— Да.
— Но почему через четыре года после того, как это случилось?
— Может, тогда у него не было никакой возможности как-то воздействовать на происходящее, — Дэйзи попыталась заступиться за отца. — Я знаю, он хотел помочь.
— Чем, например?
— Морально меня поддержать, выразить сочувствие, дать выговориться. Думаю, то, что он не смог приехать ко мне в нужный момент, мучило его все эти годы. Поэтому, когда он наконец осел поблизости — в Лос-Анджелесе, то решил успокоить свою совесть. Или утолить любопытство. Не знаю. Поступки моего отца довольно сложно объяснить, особенно если он пьет.
«Еще труднее объяснить действия твоего мужа», — подумал Пината. Он перестал ходить по комнате и прислонился к столу, засунув руки в карманы.
— Что вы, миссис Харкер, думаете по поводу заявления вашего мужа о том, что он «защищает» вас?
— Мне кажется, он искренен.
— Не сомневаюсь. Но почему он считает, что вам нужна защита?
— Чтобы избежать катастрофы — он сказал именно так.
— Довольно страшное слово. Интересно, он употреблял его буквально?
— Я уверена в этом.
— А он сказал, кто или что является причиной катастрофы?
— Это я, — ответила Дэйзи. — Я навлекаю ее на собственную голову.
— Каким образом?
— Настаивая на продолжении расследования.
— А если вы прекратите настаивать?
— Ну, если я, как послушная девочка, пойду с ним домой и не стану задавать слишком много вопросов, не буду подслушивать, то, наверное, смогу избежать катастрофы и счастливо проживу всю оставшуюся жизнь. Дело только в том, что я уже не маленькая девочка, я больше не доверяю ни мужу, ни матери и не позволю им решать за меня, что лучше, а что хуже.
Она проговорила все это очень быстро, будто боялась, что может передумать прежде, чем выскажется. Он почувствовал, насколько ей хочется вернуться домой, к своей обычной жизни. Он отдавал должное ее смелости, но сомневался, что за всем этим стоят действительно серьезные причины. «Возвращайся, Дэйзи, детка. Возвращайся обратно на свой край радуги, к горшку с золотом, к прекрасному принцу. Реальный мир слишком жесток для маленьких девочек тридцати лет, ищущих катастрофы».
— Я знаю, о чем вы подумали, — сказала она, помрачнев. — У вас на лице все написано.
Он почувствовал, что краснеет:
— Так вы умеете читать по лицам, миссис Харкер?
— Только по таким открытым, как ваше.
— Не будьте самоуверенны. Я могу оказаться человеком со многими масками.
— Это неважно, Все ваши маски из целлофана.
— Мы теряем время, — не слишком вежливо перебил он. — Нам лучше отправиться к миссис Розарио и уточнить там кое-какие…
— Почему вас так смущает, когда я перехожу к чему-то личному?
Он посмотрел на нее в молчании, потом холодно и отчетливо произнес:
— Замнем, Дэйзи, детка.
Он хотел ее оскорбить, но она казалась лишь озадаченной:
— Почему вы меня так назвали?
— Я попытался в иносказательной форме дать вам понять: не надо устраивать две катастрофы сразу.
— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать.
— Нет? Ну и ладно. — Он снял плащ со спинки стула. — Вы идете со мной?
— Я никуда не пойду, пока вы не объясните, что конкретно имели в виду.
— Попробуйте прочесть на моем лице.
— Не могу. Вы выглядите взбешенным.
— Да вы самая гениальная из всех читающих по лицам, миссис Харкер. Я и впрямь в бешенстве.
— Из-за чего?
— Давайте решим, я просто псих.
— Неадекватный ответ.
— Ладно. Допустим, мне тоже время от времени снятся сны. Только не о покойниках, а о живых людях. Иногда они занимаются в моих снах довольно любопытными вещами, среди них вы. Для большей адекватности я должен выйти за рамки приличий, но вряд ли это так необходимо. Верно?
Она отвернулась, плотно сжав губы.
— Верно? — повторил он.
— Верно.
— Так-то. К черту сны! — Он подошел к двери и распахнул ее. Дэйзи не шевельнулась, Пината нетерпеливо обернулся. — Так вы идете?
— Не знаю.
— Простите. Я не хотел вас напугать.
— Я не испугалась. — Она стояла в своем плаще съежившаяся, как под ударами урагана, только не ясно какого, того, что бушевал за окнами, или у нее в душе. — Я не испугалась, — повторила она снова. — Я просто не знаю, что ждет меня впереди.
— Никто не знает.
— Я ведь привыкла совсем к другому, а сейчас не вижу, что впереди.
— Тогда лучше повернуть назад, — в его голосе прозвучало предчувствие близкого финала. Словно они встретились, прошли какое-то расстояние вместе и расстались, и все это на протяжении одной минуты. Он точно знал, что эта минута прошла и никогда не вернется. — Сейчас я отвезу вас домой.
— Не надо.
— Надо. Роль послушной девочки подходит вам куда больше. Только не прислушивайтесь к происходящему особенно внимательно и не замечайте чересчур много. Все у вас будет в порядке.
Она заплакала, уткнувшись лицом в рукав плаща. Он отвернулся и стал разглядывать непонятное пятно на правой стене. Оно было там, когда он въехал в эту конуру, оно останется, когда он съедет. Его не скрыли даже три слоя краски, и для Пинаты оно стало символом упорства.
— Все у вас будет в порядке, — повторил он. — Возвращение домой может оказаться куда менее болезненным, чем вы думаете. Прошлая неделя была похожа, как бы это лучше выразиться, на маленькое путешествие в царство мечты. Теперь оно закончилось для нас обоих. Пора сходить с корабля, с самолета, на чем еще мы путешествовали?
— Нет.
Он посмотрел на Дэйзи, она все еще прятала лицо в плащ.
— Дэйзи! Ради всего святого! Неужели вы не понимаете, что это невозможно? Вы чужая для этой части города, для этой улицы, для этого кабинета.
— Вы тоже.
— Разница в том, что я уже нахожусь здесь. Я застрял. Понимаете, что это значит?
— Нет.
— Мне нечего предложить вам, кроме имени, и то не моего собственного, доход в лучшем случае средний, в худшем — нищенский. Дом с дырявой крышей. Не слишком много, верно?
— Если я хочу именно этого, то вполне достаточно. Верно?
Она говорила упрямым голосом, но держалась с достоинством. Это трогало за сердце и одновременно раздражало.
— Дэйзи! Ради всего святого! Ну выслушайте же меня. Как вы не понимаете? Я даже не знаю, кто мои родители и к какой расе я сам принадлежу.
— Мне все равно.
— Зато не все равно вашей матери.
— Мою мать довольно часто интересует не то, что нужно.
— Может, вы не совсем к ней справедливы?
— Почему вы так старательно пытаетесь от меня избавиться, Стив?
Никогда прежде она не называла его Стивом. Прозвучавшее из ее уст его имя вдруг впервые стало для него родным, принадлежащим ему по праву, а не чем-то взятым у приходского священника и подаренным ему матерью-настоятельницей. Даже если ему больше не суждено увидеть Дэйзи, он все равно будет благодарен ей за этот самый момент обретения себя.
Дэйзи вытирала глаза носовым платком. Веки слегка покраснели, но не опухли. Он спросил себя, не слишком ли тих и сдержан оказался плач для столь бурных переживаний. Может быть, он видел слезы ребенка, которому не дали игрушку или мороженое?
— Пожалуй, нам лучше не обсуждать все это сегодня, Дэйзи, — мягко сказал он. — Я провожу вас до машины.
— Я хочу поехать с вами.
— Вы ставите меня в непростое положение. Я не могу заставить вас поехать домой, но оставить вас здесь одну, в этой части города, даже при запертых дверях, я тоже не могу.
— Почему вы все время говорите об этом районе как об уголке преисподней?
— Потому, что так оно и есть.
— Я еду с вами, — сказала она.
— В дом миссис Розарио?
— Да, если вы направляетесь именно туда.
— Там может оказаться Хуанита. И малыш.
Губы ее скривились от боли, но она ответила:
— Может быть, встреча с ними — необходимая часть пути к моему взрослению.
19. Только память: как она плакала перед самым твоим появлением на свет, день за днем, у меня даже возникло желание пустить все эти слезы на то, чтобы превратить в цветущие поля сухую пыльную землю вокруг
Она отвела детей к Брустерам и оставила там, не вдаваясь в объяснения; мистер Брустер был инвалидом и любил, чтобы у него собирались гости, когда он смотрел телевизор, поэтому объяснять ничего не понадобилось. Возвращаясь, она старалась не появляться на залитых светом аллеях, а двигалась короткими перебежками по темным дворам и улочкам. Скорчившись под зонтиком, она напоминала гнома, отправившегося по своим ночным делам. Ночи она не боялась и знала, что большинство людей, живших по соседству, относились к ней с благоговением: ведь она зажигала столько свечей и так часто ходила в церковь.
Тонкие стенки дома не могли скрыть никаких тайн. Еще не дойдя до порога, она услышала, как Хуанита мечется по дому, швыряя на пол предметы, будто что-то разыскивая. Миссис Розарио стряхнула воду с зонта и сняла намокшее пальто. «Может, она решила, — мелькнуло в голове у старой женщины, — что я снова за ней шпионю, и она ищет меня по всему дому, даже в тех местах, где я не смогла бы спрятаться, хоть стань я лилипутом. Надо поспешить…»
Но поспешить миссис Розарио не могла. Усталость навалилась на нее с такой силой, что руки и ноги еле двигались. С того самого мгновенья, как Хуанита устроила сегодня днем эту сцену, ее не оставляла боль в животе. Она не становилась острее, но и не прекращалась. Когда она кормила детей ужином, то не взяла в рот ни крошки, ограничившись крохотным лимоном и чашкой анисового чая.
Миссис Розарио тихо вошла в дом и направилась в спальню, чтобы повесить там пальто. Педро помог ей снять с петель разбитую дверь и отнести ее на задний двор, где она будет лежать рядом с другими разбитыми предметами, составлявшими ее жизнь. Там она будет разбухать под дождем и коробиться под солнечными лучами. А на следующей неделе они с Педро отправятся на барахолку и присмотрят себе другую дверь, конечно же подходящего размера. Затем отшлифуют ее наждачной бумагой, потом немного краски…
— На следующей неделе, — громко произнесла она, словно давала обещание исправиться кому-то, обвинившему ее в небрежности. Но сама мысль о долгом походе на барахолку, звук шершавой наждачки, запах краски усилили боль. — Или через две недели, когда я буду себя лучше чувствовать.
Даже в отсутствие двери спальня продолжала оставаться ее святилищем, единственным местом, где она могла побыть наедине со своим горем и виной. Свеча перед портретом Камиллы почти догорела. Она поставила новую и зажгла, обращаясь к покойнику так, как обычно разговаривают с маленькими детьми:
— Прости меня, Карлос, братик мой маленький. Мне очень хотелось, чтобы восторжествовала справедливость, но у меня была Хуанита. В ту самую неделю, когда ты приехал сюда, ее снова арестовали, и я знала: когда бы она ни вернулась в наш город, за ней будут следить; они никогда не оставят ее в покое — ни полиция, ни управление по надзору, ни клиника. Мне нужно было отправить ее куда-нибудь, где она смогла бы начать новую жизнь и стала бы жить спокойно и счастливо. Я же женщина и мать. Кто еще приглядел бы за моей доченькой, которую сглазила в родильном доме ведьма, прикинувшись медсестрой. Сама я не взяла из этих денег ни пенни, Карлос.
Каждый вечер она объясняла Карлосу, что тогда произошло, и каждый вечер в его неподвижной улыбке ей виделись его сомнения, ей приходилось продолжать оправдываться, чтобы убедить брата в том, что у нее не было никаких черных мыслей.
— Я знаю, братик, ты себя не убивал. Когда ты пришел ко мне в тот день вечером, я слышала, ты звонил этой женщине и просил ее о встрече. Я слышала, ты просил денег, я сразу подумала, что из этого не выйдет ничего хорошего. Не надо просить у богатых, лучше просить у бедных. Я боялась за тебя, Карлос. Ты вел себя так странно и ничего не хотел мне говорить, только просил держать все в тайне и молиться за твою душу. Наступил тот час, когда вы должны были встретиться, и я пошла к зарослям у железной дороги. Я заблудилась и не могла вначале тебя найти. Потом я увидела машину, большую и новую, и сразу поняла, это ее машина. Секунду спустя она выскочила из кустов и побежала к автомобилю, словно пыталась от кого-то убежать. Когда я подошла, ты лежал мертвый с ножом в груди. Я поняла, что именно она ударила тебя ножом. Я упала на колени и просила тебя, Карлос, вернуться к жизни, но ты меня не слышал. Я вернулась домой и зажгла свечу за упокой твоей души. Она горит и сегодня.
Она вспомнила, как стояла на коленях перед маленьким алтарем в полной темноте и просила совета у Бога. Она не могла рассказать о случившемся Хуаните или миссис Брустер, им нельзя было доверить такую тайну. Она не могла позвонить в полицию: они были врагами Хуаниты, а значит, и ее врагами. Они даже могли заподозрить ее в том, что она все придумала про ту женщину, поскольку выгораживает Хуаниту.
Она возносила молитвы к небу, и, пока она молилась, одна мысль все отчетливее стучала в ее сознании, вытесняя все другие: нужно позаботиться о Хуаните и ее еще не родившемся ребенке. Никто, кроме нее самой, этого не сделает. Она позвонила этой женщине по телефону, зная только, как ее зовут, как выглядит в полутьме ее силуэт и какого цвета ее машина…
— Нехорошо и очень опасно, Карлос, просить денег у богатых. Я очень боялась за свою жизнь, зная, что она сделала с тобой. Но она боялась еще больше — ведь и терять ей было много больше, чем мне. Я не стала говорить ей, как меня зовут и где я живу, только намекнула, что шла в кустах и видела, как она бежала к машине. Я сказала, что мне не нужны неприятности, я бедная женщина, но денег самой мне не надо, вот только моя дочь Хуанита ждет ребенка, а отца у него нет. Она спросила, рассказывала ли я о тебе, Карлос, кому-нибудь еще. Я сказала, что нет, и это правда. Потом она попросила сказать ей Номер телефона, ей надо кое с кем посоветоваться, а потом она перезвонит. Вскоре она позвонила и сказала, что хочет помочь моей дочери и ее ребенку. Она даже не упоминала о тебе, Карлос, не спорила о суммах, не обвиняла меня в шантаже. «Я хотела бы позаботиться о вашей дочери и ее ребенке» — и все. Она дала мне адрес какой-то конторы, куда нужно было прийти на следующее утро в половине первого. Когда я вошла, то подумала, что попала в ловушку — ее там не было, только высокий блондин и еще адвокат. Никто не говорил о тебе, не назвал твоего имени, Карлос, словно тебя никогда не существовало…
Она со стоном отвернулась от портрета, начался новый приступ боли. Лимон и анисовый чай совсем не помогли, хотя и были сделаны по бабушкиному рецепту, который всегда действовал. Обхватив живот обеими руками, она поплелась в кухню. Она подумала, что ей нужно принять те таблетки, которые прислал им школьный врач для лечения фурункулов у Риты. Тогда она не стала открывать лекарство, сделала девочке припарки из плюща и соленого сала.
Сосредоточившись на своей цели, раздираемая болью, она не замечала стоявшую у плиты Хуаниту, пока та не спросила:
— Ну что, закончила разговаривать сама с собой?
— Я вовсе не разговаривала…
— Что у меня, ушей нет? Я слышала, как ты бормотала и стонала у себя, будто ненормальная.
Миссис Розарио села, скорчившись, за кухонным столом. Боль становилась все сильнее, превращаясь в безжалостное существо, колотившее ее по всем внутренностям, но она знала, что должна поговорить с дочерью именно сейчас. Мистер Харкер ее предупредил, он был просто в ярости оттого, что девочка вернулась.
Воздуха катастрофически не хватало. Хуанита разожгла плиту, чтобы приготовить какой-нибудь еды на ужин, но окно открывать не стала, хотя и должна была бы это сделать. Миссис Розарио дотащилась до окна и распахнула его, потом жадно глотала ртом холодный ночной воздух.
— Где дети? — спросила Хуанита. — Что ты с ними сделала?
— Они у Брустеров.
— Почему они не спят у себя дома?
— Я не хотела, чтобы они ненароком подслушали то, что я собираюсь тебе сказать. — Миссис Розарио вернулась за стол и заставила себя сесть прямо. Она прекрасно знала, как могла отреагировать ее дочь при виде потерявшей силы матери. — Мужчина, который был с тобой, — где он?
— Ему надо кое-что сделать, потом он вернется.
— Сюда?
— Почему бы нет?
— Ты не должна его впускать. Это очень плохой человек. Он все врет. Даже про свое имя. Он не Фостер, а Филдинг.
Хуанита попыталась скрыть раздражение, недоуменно пожав плечами:
— Ну и наплевать. Какая разница…
— Ты ему о чем-нибудь рассказывала?
— Конечно. Я сказала, что у меня болят ноги, а он посоветовал мне снять туфли, и я их сняла…
— У нас нет времени для твоего нахальства, — проговорила миссис Розарио очень тихим голосом. Все ее силы ушли на то, чтобы скрыть от дочери свое плохое самочувствие, но даже в ее шепоте была ярость.
Хуанита почувствовала это и возмутилась. Она побаивалась свою старую мать, которая могла натравить на нее святых и чертей, и страх ее усиливался еще и оттого, что она слишком много рассказала о себе Филдингу.
— Я ни словечка ему не сказала. Вот ей-Богу!
— Он спрашивал тебя про дядю Карлоса?
— Нет.
— Про Поля?
— Нет.
— Хуанита, послушай меня, на этот раз мне нужна только правда.
— Клянусь Святой Марией!
— В чем ты клянешься Святой Марией?
Лицо Хуаниты было совершенно бесстрастно:
— В чем хочешь.
— Хуанита, ты меня боишься? Ты боишься сказать правду? Я чувствую, ты пила вино. Может, ты выпила и забыла, что именно ты ему рассказала?
— Я не сказала ему ни словечка.
— Ни о Поле, ни о Карлосе?
— Клянусь Святой Марией!
Губы миссис Розарио бесшумно шевелились, когда она смиренно склонила голову и перекрестилась. Знакомый жест разбудил в Хуаните неприятные воспоминания, они обрушились на нее как горный камнепад, сметая на своем пути все страхи.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что я вру, старая ведьма! — закричала она.
— Тсс. Не надо говорить так громко. Кто-нибудь может…
— А мне плевать! Мне нечего скрывать! Есть кое-что, о чем ты не хочешь рассказывать!
— Прошу тебя. Нам надо спокойно поговорить, мы…
— Несмотря на все твои стоны и плачи, на все обращения к Всемогущему Господу, ты ведь ничем не лучше, чем мы, простые смертные. Верно?
— Верно, верно. Я ничем не лучше вас.
Комната наполнилась резким смехом молодой женщины:
— Ну, впервые за всю нашу чертову жизнь ты наконец с этим согласилась!
— Успокойся, пожалуйста, хоть на секунду, — попросила миссис Розарио. — Сядь рядом.
— Я могу слушать стоя.
— Полчаса назад здесь был мистер Харкер.
Хуанита смутно помнила, что это имя называл ей Филдинг. Оно тогда ничего для нее не значило и сейчас не имело смысла.
— Какое это имеет ко мне отношение?
— Мистер Харкер — отец Поля.
— Ты что, совсем спятила? Я в жизни своей не слыхала о парне по фамилии Харкер.
— Теперь услышала. Он отец Поля.
— Бог ты мой! Чего ты добиваешься, хочешь доказать, что я совсем спятила и даже не могу вспомнить имя отца собственного ребенка? Ты хочешь упрятать меня под замок, чтобы самой получать деньги из того самого фонда?
— Никакого фонда никогда не существовало, — спокойно сказала ей мать. — Карлос был бедным человеком.
— Зачем же ты врала?
— По необходимости. Если б ты кому-нибудь рассказала о мистере Харкере, нам перестали бы посылать деньги.
— Но как я могла кому-то рассказать про мистера Харкера, если я его даже не знаю. — Хуанита со всего размаха ударила кулаком по столу, солонка подскочила и упала набок, из дырочек тонкими струйками посыпалась соль, словно в ней появились пробоины от выстрела.
Миссис Розарио торопливо схватила щепотку соли и бросила под язык, чтобы уберечь дом от несчастья.
— Прошу тебя, не надо скандалить.
— Тогда отвечай.
— Мистер Харкер помогал Полю, потому что он отец мальчика.
— Никакой он не отец!
— Ты должна говорить именно так, вне зависимости от того, помнишь ты про это или нет.
— Не буду. Это неправда.
Миссис Розарио почти визжала, силясь перекричать Хуаниту:
— Ты должна делать так, как я говорю, и не спорь!
— Ты что, полагаешь, я не в состоянии вспомнить отца Поля? Он был летчик, его отправили в Корею. Я ему писала. Мы собирались пожениться, когда он вернется оттуда.
— Нет, нет! Ты должна меня выслушать. Мистер Харкер…
— Я никогда не слышала о парне по фамилии Харкер. Никогда в жизни! Поняла ты или нет?
— Тсс. — Лицо миссис Розарио стало серым, глаза потемнели от страха, она смотрела на заднюю дверь. — Кто-то стоит на крыльце, — прошептала она в тревоге. — Скорее запри дверь, закрой окна.
— Мне нечего скрывать. Чего ради?
— Господи! Неужели ты так и не послушаешься собственной матери! Неужели ты не поймешь, я стараюсь ради тебя, потому что люблю тебя!
Она протянула руку, пытаясь дотронуться до Хуаниты, но та отступила назад, удивленно и неодобрительно при этом хмыкнув, и подошла к двери.
Она открыла. На пороге стоял мужчина, чуть поодаль, на нижней ступеньке крыльца, остановилась женщина, различить ее лицо в сумраке было невозможно.
Мужчина, Хуанита видела его впервые, вежливо произнес виноватым тоном:
— Я стучал во входную дверь, но никто не открыл, и я подошел к задней.
— Ну и что?
— Меня зовут Стив Пината. Если вы не возражаете, я хотел бы…
— Я вас не знаю.
— Меня знает ваша мать.
— Он детектив, — угрюмо произнесла миссис Розарио. — Не говори ему ничего.
— Я привел с собой миссис Харкер, миссис Розарио. Она хочет поговорить с вами о деле, имеющем для нее принципиальное значение. Можно нам войти?
— Уходите. Я не могу ни с кем разговаривать. Я больна.
По цвету лица и прерывистому дыханию Пината сразу понял, что женщина говорит правду.
— Будет лучше, если вы позволите мне вызвать врача, миссис Розарио.
— Не надо. Просто оставьте меня в покое. Моя дочь и я, мы немного поспорили. Это вас не касается.
— Судя по тому, что я слышал, это непосредственно касается миссис Харкер.
— Пусть она спрашивает своего мужа, а не меня. Я ничего не могу сказать.
— Тогда, боюсь, мне придется задавать вопросы Хуаните.
— Нет! Нет! Хуанита абсолютно ни при чем. Она ничего не знает!
Ухватившись за край стола, миссис Розарио попыталась встать на ноги, но в изнеможении со вздохом упала на стул. Пината подошел к больной женщине и взял ее за руку.
— Позвольте вам помочь.
— Не надо.
— Вам нужно лежать не двигаясь, а я пока вызову врача.
— Нет! Священника — отца Сальваторе…
— Хорошо. Священника, так священника. Сейчас мы с миссис Харкер поможем вам добраться до спальни, а затем я пошлю за отцом Сальваторе. — Он махнул Дэйзи рукой, и она начала подниматься по ступенькам.
До этой минуты Хуанита стояла с совершенно бесстрастным лицом у распахнутой двери, словно все происходившее в комнате ее нисколько не касалось и не вызывало ни малейшего интереса. Но как только Дэйзи вошла в полосу света, молодая женщина узнала ее и вскрикнула.
Она закричала матери по-испански:
— Я встречала эту женщину в клинике. Она пришла, чтобы забрать меня туда. Не разрешай ей это делать! Я обещаю быть хорошей, я обещаю, что куплю тебе новое распятие, буду ходить к мессе и на исповедь, я больше никогда ничего не буду ломать! Только не позволяй забрать меня отсюда!
— Успокойся, — сказал Пината. — Миссис Харкер уже несколько лет не работает в клинике. А теперь послушай меня. Твоя мать очень больна. Ей нужно в больницу. Я хочу, чтобы ты помогла миссис Харкер приглядеть за ней, пока я вызову «скорую помощь».
Услышав про «скорую помощь», миссис Розарио снова попыталась встать на ноги, но тут же плашмя рухнула на стол. Стол опрокинулся, и она медленно и плавно соскользнула на пол. Почти сразу лицо ее почернело. Пината нагнулся и нащупал пульс, пульса не было.
Хуанита смотрела на мать с детским испугом, прижав кулаки к щекам:
— Как смешно она выгладит.
Дэйзи обняла ее за плечи:
— Нам лучше пойти в другую комнату.
— А почему она почернела, как негр?
— Мистер Пината вызвал «скорую помощь». Больше мы ничего сделать не можем.
— Но ведь она не умерла? Она не могла умереть, правда?
— Я не знаю. Мы…
— Господи! Если она умерла, они обвинят в ее смерти меня.
— Ну что ты, — попыталась успокоить ее Дэйзи. — Люди ведь умирают. Какой смысл винить кого-то?
— Они скажут, что это моя вина. Я плохо себя вела по отношению к ней, я разбила ее распятие, сломала дверь.
— Никто тебя не обвинит, — повторила Дэйзи. — Пойдем со мной.
Дэйзи думала только о том, как помочь Хуаните, это позволяло ей держать себя в руках. Она увела Хуаниту в соседнюю комнату и закрыла дверь. Здесь, среди многочисленных алтарей и ковчежцев, мадонн и увенчанных терновым венцом Иисусов, смерть казалась куда более реальной, нежели там, где лежала покойница. Похоже, эта комната только и ждала, что кто-то умрет.
Женщины сидели рядышком на кушетке в неловком молчании, как гости, которых еще не познакомила не слишком расторопная хозяйка.
— Я не знаю, что все это значит, — с отчаянием в голосе произнесла наконец Хуанита. — Просто ничегошеньки не знаю. Она велела мне солгать, а я не захотела. Я никогда никакого мистера Харкера не встречала.
— Это мой муж.
— Ну и ладно. Спросите его. Он вам сам скажет.
— Уже сказал.
— Когда?
— Четыре года назад. Перед тем как родился твой сын.
— И что же он сказал?
— Что он отец мальчика.
— Тогда он ненормальный. — Хуанита так сильно сжала кулачки, что ее широкие большие пальцы практически закрыли остальные. — Да вся ваша кодла свихнулась! Я даже не встречала никакого мистера Харкера!
— Я видела, как ты вылезала из машины мужа на стоянке перед клиникой накануне рождения ребенка.
— Может, он просто подвозил меня. Когда я беременна, меня часто подвозят. Не могу же я их всех помнить. Может, и он был среди них. А может, вы и не меня видели?
— Это была именно ты.
— Ладно. Наверное, я свихнулась. Вы ведь на это намекаете? Они, похоже, должны сейчас подъехать, забрать меня и засадить под замок в одном месте.
— Этого не случится, — сказала Дэйзи.
— Так, пожалуй, даже лучше будет. Я никак не могу разобраться в том, что происходит вокруг. Это как с дядей Карлосом и с деньгами — он ведь сказал, что мать врала про дядю Карлоса.
— Кто сказал?
— Фостер. Или Филдинг. Он сказал, что они с дядей Карлосом давно дружили и он очень много о нем знает, а мать все наврала.
— Твоего дядю зовут, то есть звали, Карлос?
— Ага.
— И ты думаешь, мой… то есть мистер Филдинг говорил правду?
— Думаю, да. С чего ему врать?
— А где он сейчас, этот мистер Филдинг?
— Он сказал, у него важное дело. Он попросил у меня на два часа машину. Мы вроде как сделку заключили. Я дала ему машину, а он мне расскажет про моего дядю.
Дэйзи ни на минуту не усомнилась, что Хуанита говорит правду: именно такую сделку мог заключить ее отец. Что касалось его важного дела, то логически можно было предположить только одно место, куда бы он направился, — ее собственный дом. Филдинг, Хуанита, миссис Розарио, Джим, ее собственная мать, Камилла — все они постепенно сливались в единого монстра, неотвратимо подбиравшегося к ней.
У дома остановилась машина «скорой помощи», успев испустить еще один сигнал своей жуткой сирены.
Хуанита начала тихонько подвывать, уткнувшись головой в колени:
— Они ее заберут отсюда.
— Так нужно.
— Она страшно боится больниц, там умирают.
— Этой больницы она не испугается, Хуанита.
Через какое-то время шум в кухне прекратился. Открылась и с грохотом захлопнулась входная дверь, через минуту машина съехала с тротуара на дорогу. Сирена молчала. Спешить больше было некуда.
Пината вошел в комнату и взглянул на рыдающую молодую женщину:
— Хуанита, я позвонил миссис Брустер. Она сейчас придет и заберет тебя с собой.
— Я с ней не пойду.
— Мы с миссис Харкер не можем оставить тебя здесь одну.
— Я должна оставаться дома, вдруг они отправят маму назад. Здесь некому будет за ней приглядеть, если я…
— Она больше не вернется.
На лице Хуаниты вновь появилось выражение полного безразличия. На лице не было никаких чувств, равнодушие спрятало их, как простыня закрыла лицо матери. Не говоря ни слова, она встала и пошла в спальню. Свеча перед портретом Камиллы все еще горела. Она нагнулась и задула ее. Затем бросилась на кровать, перевернулась на спину и уставилась взглядом в потолок.
— Это всего лишь воск. Обычный воск.
Дэйзи подошла к кровати:
— Мы побудем с тобой, пока не придет миссис Брустер.
— Мне все равно.
— Хуанита, если тебе что-то нужно, если я как-то могу помочь…
— Мне не нужна ничья помощь.
— Я кладу карточку с телефоном вот сюда, на комод.
— Оставьте меня одну. Уходите.
— Хорошо. Мы уходим.
Их провожали тем же словом, что и при встрече, — «уходите». Между двумя этими репликами умерла женщина и родилось чудовище.
20. Пыль и слезы — вот что мне лучше всего запомнилось в день твоего рождения. Плач твоей матери и пыль, проникающая сквозь запертые окна и двери, через печную трубу
На всех окнах были опущены шторы, словно в доме никого не было или люди в нем не хотели, чтобы об их присутствии догадались. Незнакомая Дэйзи машина стояла у гаража. Пината открыл дверцу и внимательно поглядел на регистрационный номер, Дэйзи ждала его под эвкалиптом метрах в тридцати от дома. Едкий сладковато-горький запах мокрой коры щекотал ноздри.
— Это машина Хуаниты, — сказал он. — Должно быть, здесь твой отец.
— Да, я тоже об этом подумала.
— Ты бледна. С тобой все в порядке?
— Наверное.
— Я люблю тебя, Дэйзи.
«Люблю». Звучание слова походило на запах эвкалипта, оно тоже было горьковато-сладким.
— Почему ты говоришь мне об этом сейчас?
— Я хочу, чтобы ты об этом знала. Что бы ни случилось сегодня. Что бы ни выяснилось про мать, про отца, про Джима…
— Час назад ты пытался от меня избавиться, — с сердцем произнесла она. — Ты передумал?
— Да.
— Почему?
— Я видел, как умерла эта женщина.
Он не мог объяснить, насколько его потрясла мысль о том, что у него одна-единственная жизнь, второй попытки уже не будет, и никто не возместит ему его ожидания, не даст диплома за терпение.
Похоже, она поняла его без всяких объяснений.
— Я тоже тебя люблю, Стив.
— Тогда все будет хорошо. Верно?
— Думаю, да.
— У нас нет времени на догадки, Дэйзи.
— Все будет в порядке, — повторила она.
Пината поцеловал ее, и в это мгновение она почти поверила в то, что только что сказала.
Она опиралась на его руку, когда они шли к дому, в котором начался ее кошмар и где он должен был завершиться. Дверь оказалась незапертой. Она отворила ее и вошла в прихожую. Из гостиной не доносилось ни звука, но тишина была наполнена только что замолкнувшими, но еще не утихшими до конца раскатами гнева.
Резкий голос матери прозвучал как выстрел:
— Это ты, Дэйзи?
— Я.
— Ты не одна?
— Нет.
— У нас сугубо личный семейный разговор. Ты должна извиниться перед своим гостем и попросить его удалиться. Немедленно.
— Я не стану этого делать.
— Твой… Твой отец здесь.
— Я знаю.
Дэйзи вошла в комнату, за ней Пината.
Очень похожая на дочь невысокая женщина сидела с ногами в кресле у окна, из которого открывался изумительный пейзаж. Она прижимала к губам носовой платок, пытаясь, очевидно, остановить поток смертоносных слов. На большом диване в одиночестве сидел Харкер с незажженной трубкой в зубах. Он бросил на Дэйзи взгляд, полный осуждения и упрека.
На каминной плите, чуть приподнимавшейся над уровнем пола, возвышался Филдинг, озирая комнату взглядом человека, только что купившего этот дом. Пината мгновенно почувствовал, что Филдинг пьян, но не от того, что много выпил, а от чего-то куда более сильного. Похоже, он долгие годы ждал этой минуты и наконец дождался мгновения, когда его жена в страхе сжалась перед ним в комок, В этом, возможно, и заключалась подлинная причина его приезда в Сан-Феличе, а вовсе не в желании помочь Дэйзи. Он жаждал мщения. Это чувство опьяняло его, Филдинг выглядел совершенно невменяемым, почти безумным.
Дэйзи подошла к нему. Она двигалась очень медленно, будто не была до конца уверена, кто этот странный человек: ее отец или кто-то чужой.
— Папа.
— Да, Дэйзи, детка. — Он казался очень довольным, но не стал спускаться ей навстречу со своего подиума. — Ты прекрасна, как всегда.
— Папа, с тобой все в порядке?
— Конечно, вне всякого сомнения. Лучше не бывает. — Он наклонился к ней и легко коснулся губами ее лба, затем быстро распрямился, словно боялся, что кто-то посягнет на его главенствующие позиции. — Значит, ты привела с собой мистера Пинату. Напрасно, Дэйзи, детка, напрасно. Это ведь чисто семейное дело, и Пинате вряд ли будет здесь интересно.
— Меня наняли, — заметил Пината, — для проведения расследования. До того как оно будет закончено или меня уволят, я выполняю приказы только миссис Харкер. — Он вопросительно взглянул на нее. — Мне уйти?
— Не надо, — она покачала головой.
— Ты можешь об этом пожалеть, Дэйзи, детка, — предостерегающе сказал Филдинг. — Впрочем, сожаление составляет немалую часть нашей жизни. Правда, Ада? Даже, может быть, ее главную часть. Как? Вот только поводы бывают различны. О чем-то сожалеть легче, а о чем-то труднее. Верно, Ада?
Миссис Филдинг проговорила, не отнимая платок от губ:
— Ты пьян.
— Истина в вине, старушка.
— В твоих устах это слово звучит непристойно.
— Я знаю еще более непристойные слова. Самое пристойное из них — любовь. Правда, Ада? Расскажи-ка нам об этом. Давай, валяй!
— Ты… Ты очень злой человек.
— Не спорь с ним, Ада, — попросил Джим. — В этом нет смысла.
— Джим абсолютно прав. Не спорь со мной, и, может, я удалюсь отсюда, как добрый человек, не проронив ни единого слова. Ты бы хотела именно этого? Конечно, хотела бы. Только немножко поздно. Ты слишком заигралась. И даже если я уйду, ничто не изменится.
— Если я и совершала бесчестные поступки, то только по необходимости. — Ее голова начала мелко дрожать, словно удерживавшие мышцы неожиданно ослабели. — Я была вынуждена лгать Дэйзи. Я не могла допустить, чтобы у нее родились дети, которые унаследовали бы характерные признаки ее отца.
— Расскажи-ка Дэйзи об этих характерных признаках. Назови их.
— Я… Прошу тебя, Стэн. Не надо.
— Но у нее же есть право узнать о своем папаше, верно? Ты приняла решение, которое предопределило всю дальнейшую жизнь дочери. Что ж, попробуй оправдаться. — Рот Филдинга растянулся в невеселой улыбке. — Расскажи-ка о тех маленьких чудовищах, которых она могла произвести на свет, если бы не ее умненькая, добренькая мамочка.
Дэйзи стояла, прислонившись к двери, и не сводила глаз, нет, не с матери, не с отца, а с Джима.
— Джим! О чем они говорят, Джим?
— Тебе придется спросить у матери.
— Значит, она лгала мне в тот день в кабинете врача. Это неправда, что у меня не может быть детей?
— Неправда.
— Но зачем она это сделала? Почему ты ей позволил?
— У меня не было другого выхода.
— У тебя не было другого выхода! И это твое единственное объяснение? — Она подошла к нему, капли дождя бесшумно стекали на пушистый ковер. — А как насчет Хуаниты?
— Я встретил ее один-единственный раз, подобрал за три квартала до клиники и подвез. Вполне сознательно. Я знал, кто она такая, и разговаривал с ней до той самой минуты, пока ты не вышла из здания. Я хотел, чтобы ты увидела нас вместе.
— Зачем?
— Я собирался объявить ее ребенка своим.
— У тебя ведь должны были быть причины.
— Ни один мужчина не совершит такого ужасного шага без причин.
— Я могу назвать одну, — сказала она тонким голосом, — ты хотел заставить меня поверить, что в отсутствии у нас детей виновата только я. Теперь ты признаешь, что это была твоя вина? С самого начала!
— Признаю.
— И причина, по которой ты и мать лгали мне, заключалась в том, что вы не хотели подкреплять мои подозрения в твоей, и только твоей, вине.
Он не пытался с ней спорить, хотя знал, что это лишь малая толика правды.
— Это тоже сыграло свою роль, но придумал эту ложь не я, а твоя мать. И я согласился с ней, когда узнал… В общем, когда понял необходимость нашей лжи.
— Почему же она стала необходимой?
— Я должен был защитить твою мать.
Миссис Филдинг подскочила на стуле, как бегун, сорвавшийся с места после выстрела стартового пистолета, только бежать ей было некуда в ее беге без начала и конца.
— Хватит, Джим. Дай я сама ей все расскажу.
— Ты? — повернулась к ней Дэйзи. — Да я не поверю ни единому твоему слову, даже если ты станешь говорить, что сегодня суббота, а на улице дождь.
— Но сегодня как раз суббота, а за окном дождь. Нужно быть полной идиоткой, чтобы отрицать очевидное, пусть об этом говорю я.
— Что ж, давай тогда тебя послушаем.
— Здесь посторонний. — Миссис Филдинг посмотрела на Пинату, затем на Филдинга. — Точнее, двое посторонних. Неужели мы не можем подождать, пока…
— Я и так слишком долго ждала. Порядочность мистера Пинаты вне всяких подозрений, а мой отец не сделает ничего такого, что повредило бы его дочери.
Филдинг кивнул и улыбнулся:
— Это точно, Дэйзи, детка. Можешь не сомневаться…
Пината вдруг заметил, что его улыбка стала насмешливо-циничной. Это его обеспокоило, он никак не мог понять, в чем тут дело. Ему вдруг захотелось, чтобы алкоголь — или что-то там еще, так опьянившее Филдинга, — поскорее улетучился и тот бы почувствовал себя менее уверенно.
Миссис Филдинг заговорила снова, не сводя с Дэйзи глаз:
— Неважно, что ты сейчас думаешь, Дэйзи. Джим сделал все возможное для того, чтобы ты была счастлива. Помни об этом. Я солгала тебе первой и уже объяснила, почему это было необходимо — твои дети получили бы отметину, с которой не должны были бы жить. — Она глубоко вздохнула и вздрогнула, словно от боли в легких или в сердце. — Четыре года назад совершенно неожиданно мне позвонил человек, которого я не видела в течение многих лет и вообще больше не надеялась увидеть. Его звали Карлос Камилла. Стэн и я знали его под кличкой «Кудряш», мы тогда только-только поженились в Нью-Мексико. Он был нашим близким другом. Ты всегда обвиняла меня в расовых предрассудках, но тогда мы очень дружили с Камиллой, годы тогда были нелегкие, но мы всегда помогали друг другу. Он не тратил слов даром, — продолжала миссис Филдинг свой рассказ. — Сказал, что жить ему осталось немного и нужны деньги на похороны. Он напомнил мне… напомнил мне о нашем прошлом, и я, что ж, я согласилась встретиться с ним и принести деньги.
— Две тысячи долларов, — уточнил Пината.
— Да.
— Довольно приличная сумма за воспоминания о прошедших днях, миссис Филдинг.
— Я считала, что должна ему помочь, — ответила она. — По голосу было ясно, что он болен и совершенно разбит. Он говорил о приближающейся смерти. Я спросила, нельзя ли послать ему деньги вместо того, чтобы с ним встречаться. Он ответил, что посылать их некуда, да и вряд ли он их дождется.
— Где вы взяли такую сумму?
— У Джима. Я знала, что он держит в сейфе наличные, причем в больших количествах. Я объяснила ему ситуацию, и он решил, что целесообразнее выплатить сумму, которую просил Камилла.
— Целесообразнее? — переспросил Пината, которому это слово в данных обстоятельствах показалось достаточно неуместным.
— Джим очень щедрый человек.
— Очевидно, у него были основания для подобной щедрости?
— Да.
— Какие же?
— Я отказываюсь отвечать на ваш вопрос.
— Ладно, — согласился Пината, — вы отправились на встречу с Камиллой. Куда?
— В самый конец Гринвальд-стрит, к будке стрелочника. Было поздно и очень темно. Я ничего не различала и подумала, что неправильно поняла его указания. Я уже собиралась уходить, когда услышала, как он окликнул меня, и увидела тень, показавшуюся из зарослей. «Подойди сюда и посмотри на меня», — сказал он, затем зажег спичку, огонь осветил его лицо. Я помнила Карлоса молодым, веселым и красивым, сейчас передо мной стоял живой труп, просто мешок с костями. Я не могла вымолвить ни слова. Нам было нужно так много сказать друг другу, но я не могла, ничего не могла, протянула деньги, и он прошептал: «Храни тебя Господь, Ада, и храни Господь меня, Карлоса».
Пинате вдруг показалось, что в этих предсмертных словах прозвучало неожиданное эхо совсем другого обряда: «Я, Ада, беру в мужья тебя, Карлоса…»
— Мне показалось, что кто-то двигался в нашу сторону, — продолжала миссис Филдинг. — Я испугалась, подбежала к машине и уехала. Когда вернулась домой, зазвонил телефон. Звонила женщина.
— Миссис Розарио?
— Да, хотя она и не представилась. Она сказала, что нашла Карлоса мертвым, что это я его убила. Она не желала слушать ни моих возражений, ни моих оправданий, а только без остановки твердила про свою дочь Хуаниту, о которой кому-то надо позаботиться, поскольку она вот-вот родит ребенка, а у того нет отца. Казалось, ее занимала только одна мысль: где раздобыть денег для дочери и ее младенца. Я сказала, что перезвоню ей после того, как посоветуюсь с кем надо. Потом я пошла в комнату Джима и разбудила его.
Тут она сделала паузу и посмотрела на Дэйзи с печалью и упреком:
— Ты никогда не узнаешь, сколько раз Джим облегчал мое бремя. Я рассказала ему обо всем. Мы решили, что я просто не выдержу процедуру полицейского расследования, это невозможно. Слишком много подозрительных фактов сразу выплыло бы наружу: то, что я знакома с Камиллой, то, что я принесла ему две тысячи долларов. Я бы не выдержала этого. Я поняла, надо заставить миссис Розарио молчать. Проблема заключалась в одном: каким образом заплатить ей, чтобы никто не догадался об истинной причине платежей, даже если узнает о самом факте. Нужно было придумать фальшивый предлог и рассказать о нем кому-нибудь из тех, кто должен сыграть решающую роль, например Адаму Барнетту.
— А предлогом этим, — предположил Пината, — оказалась поддержка ребенка Хуаниты?
— Да. Сама миссис Розарио невольно подсказала нам выход, постоянно твердя о том, что деньги нужны не ей, а Хуаните. Мы решили именно так и поступить. Джим должен был заявить о своем отцовстве и обеспечить ребенка регулярным денежным пособием. Особой удачей нам показалось то, что наша ложь полностью совпадала с моими прежними беседами с Дэйзи. Все решилось на следующий день в кабинете Адама Барнетта. При этом присутствовали Адам, Джим и миссис Розарио. Адам так и не узнал правду. Он даже хотел опротестовать «претензии» Хуаниты через суд, но Джим сумел убедить его не раздувать дело. Это тоже оказалось несложно. У миссис Розарио Джим выяснил, что во второй половине дня Хуаниту ждут в клинике. Он нагнал ее по дороге, подвез и разговаривал с ней в машине на стоянке, пока Дэйзи не вышла из клиники и не увидела их вместе. Затем он во всем признался. Жестоко? Да, Дэйзи, по отношению к тебе мы поступили очень жестоко, но это все же лучше, чем то, что случилось бы, если бы вскрылось совсем другое. Следующие дни были ужасными. Хотя заключение следователя гласило, что смерть Камиллы произошла в результате самоубийства, полиция все еще выясняла, где он мог взять такие деньги, и пыталась установить его личность. Но время шло, а ничего не происходило. Его похоронили, так и не опознав.
— Вы когда-нибудь бывали на его могиле, миссис Филдинг? — спросил Пината.
— Я несколько раз проходила мимо нее, когда мы шли возлагать цветы к могиле родителей Джима.
— Вы оставляли цветы и на могиле Камиллы?
— Нет, что вы! Со мной всегда была Дэйзи.
— Зачем?
— Потому, ну, потому что я хотела видеть ее рядом.
— Вы проявляли какие-нибудь чувства в подобных ситуациях?
— Иногда плакала.
— Дэйзи вас не спрашивала о причине слез?
— Я сказала, что там похоронена моя любимая двоюродная сестра.
— Как звали вашу сестру?
— Я…
Неожиданный приступ кашля, охвативший Филдинга, походил на придушенный смех. После того как приступ прошел, он вытер рукавом глаза.
— У Ады чрезвычайно чувствительная натура. Она рыдает над умершей двоюродной сестрой. Проблема в одном — у ее родителей не было ни сестер, ни братьев. Откуда же взялась эта твоя двоюродная сестра? А, Ада?
Она взглянула на него, бормоча неслышные проклятья.
— Так у вас не было двоюродной сестры, миссис Филдинг? — спросил Пината.
— Я… Нет, не было.
— Вы оплакивали Камиллу?
— Да.
— Почему?
— Он умер и был похоронен без друзей и близких. Я чувствовала свою вину.
— Столь сильное чувство вины, — заметил Пината, — заставляет меня предполагать, что обвинения миссис Розарио в ваш адрес не лишены оснований.
— Я не имею никакого отношения к смерти Камиллы. Он убил себя своим собственным ножом. Таково заключение следователя.
— Сегодня днем я разговаривал с Роем Фондеро, занимавшимся его похоронами. Ему представляется, что руки Камиллы были слишком изуродованы артритом и он не мог воспользоваться этим ножом. У него просто не хватило бы сил.
— Когда я ушла, — твердо сказала миссис Филдинг, — он был еще жив.
— Но когда пришла миссис Розарио — предположим, это именно ее шаги вас спугнули, — когда она пришла, он был мертв. Допустим, гипотеза Фондеро о том, что Камилла не мог воспользоваться ножом, верна. Насколько нам известно, только два человека видели Камиллу в ту ночь: вы и миссис Розарио. Вы полагаете, это миссис Розарио убила родного брата?
— Скорее она, чем я.
— Но каковы ее мотивы?
— Возможно, продуманная схема, чтобы раздобыть денег для дочери. Я не знаю. Почему бы вам не задать этот вопрос ей, а не мне?
— Я не могу ей задать этот вопрос по одной причине, — сказал Пината. — Миссис Розарио умерла сегодня вечером от сердечного приступа.
— Боже! — Миссис Филдинг рухнула на стул, прижав к груди руки. — Смерть окружает меня. Смерть рядом, и нет ничего, что могло бы снять проклятье, нет ни одной новой жизни взамен ушедшей. Вот оно, мое наказание, ни одной новой жизни. — Невидящим взором она посмотрела на Филдинга. — Ты ведь хотел отмщения, Стэн? Вот оно. Ты можешь уйти. Возвращайся обратно в ту конуру, из которой ты выполз.
Улыбка Филдинга исчезла, растворилась в уголках губ, но внутри себя он продолжал ликовать.
— Ты и сама теперь не будешь жить так роскошно, Ада. Верно? Может, и для тебя теперь счастье будет заключаться в том, чтобы найти конуру получше. Твоя возможность жить в стране счастья истекает в ту минуту, когда Дэйзи уйдет от тебя.
— Дэйзи никуда не уйдет!
— Нет? А ты спроси ее.
Мать и дочь смотрели друг на друга в молчании. Наконец Дэйзи сказала, бросив быстрый взгляд на мужа:
— Думаю, Джим уже догадался, что я не останусь. Похоже, он знал об этом несколько последних дней. Как, Джим? Ты не собираешься просить меня остаться?
— Нет.
— А я собираюсь, — резко сказала миссис Филдинг. — Ты не можешь вот так просто взять и уйти сейчас. Я так старалась. Я делала все возможное, чтобы сохранить ваш брак…
Филдинг рассмеялся:
— Люди сами должны укреплять свою семью, моя дорогая Ада. Вспомни, к примеру, нашу. Этот парень, по фамилии Филдинг, за которого ты вышла замуж, был ведь не так уж плох. Он, конечно, не был каким-то там героем, не мог позволить себе заключить договор, навроде того, что есть у вас. Но он обожал тебя, думал, что ты самая чудесная, добродетельная, правдивая…
— Хватит. Я не хочу тебя слушать.
— Самая правдивая.
— Оставь ее в покое, Филдинг, — вмешался Джим. — Ты уже напился крови. Угомонись.
— Может, мне понравился ее вкус, и я хочу еще…
— От этого пострадает Дэйзи. Подумай!
— Подумать о крови Дэйзи? Ладно, я подумаю. — Тут лицо Филдинга приобрело преувеличенно серьезное выражение, как у актера, играющего врача в телесериале. — В ее крови присутствуют некоторые гены, они могут перейти к ее детям и превратить их в чудовищ. Таких же, как ее отец. Верно?
— Ты же знаешь, никто не говорит о чудовищах.
— А Ада говорит. По правде сказать, она становится не совсем нормальной, когда речь заходит именно об этом. Но, наверное, чувство вины всех нас неизбежно делает сумасшедшими, хоть немного.
— Ты, Филдинг, что-то больно хорошо разбираешься в этом предмете, похоже, большой спец по чувству вины, — заметил Пината.
— Еще какой!
— Значит, ты тоже немного сумасшедший?
— Нужно быть сумасшедшим, чтобы заявиться сюда, несмотря на всю опасность, — зарычал Филдинг, как издыхающий от старости пес.
— Опасность? Ты думал, миссис Филдинг или мистер Харкер накинутся на тебя?
— Это уж сам догадайся.
— Попробую. — Пината подошел к стулу, на котором сидела миссис Филдинг. — Когда Камилла позвонил вам в тот вечер из дома миссис Розарио, звонок, как вы сказали, был совершенно неожиданным.
— Да. Мы не встречались много лет. Я не получала от него никаких известий.
— Тогда каким образом он мог узнать, что вы живете в Сан-Феличе и в состоянии оказать ему помощь? Человек на последнем издыхании, как Камилла, не бросится очертя голову через всю страну только в слабой надежде найти женщину, которую он не видел долгие годы, и вдруг выяснить, а не достаточно ли она богата, чтобы его поддержать. Он обязательно должен был знать по крайней мере две вещи: ваш адрес и ваше финансовое положение. Кто ему об этом рассказал?
— Не знаю. Если только… — она запнулась и медленно повернула голову к Филдингу. — Это был… Это был ты, Стэн?
Мгновение помедлив, Филдинг пожал плечами и ответил:
— Конечно. Я и рассказал ему все.
— Но зачем? Чтобы доставить мне неприятности?
— Я решил, что кое-какие хлопоты тебе не повредят. У тебя ведь все действительно сложилось довольно неплохо. Впрочем, ничего конкретного я не планировал. Вначале по крайней мере. Это произошло совершенно случайно. Я приехал в Альбукерке в конце ноября. Решил разыскать Камиллу. Вдруг подумал, что есть какая-то надежда встретить его разбогатевшим и получить от него толику. Типичная мечта нормального тунеядца, честное слово. Увы, когда я разыскал его, он дошел до последней точки. Жена его умерла, а он жил, точнее, не жил, а влачил существование в грязной лачуге с двумя индейцами.
На лице Филдинга появилась безжизненная улыбка:
— Да. Это была та еще встреча, Ада. Жаль, что тебя там не было. Ты получила бы прекрасный урок и научилась бы отличать бедность от нищеты. Бедность заключается во временном отсутствии денег. Нищета же совсем другое: она не оставляет тебя ни на минуту, рвет по ночам желудок, цепляется за руки и ноги, когда идешь, кусает за плечи и уши холодным утром, щиплет горло, когда глотаешь, выжимает из тебя капля за каплей все соки. Камилла сидел на железной койке, подыхая у меня на глазах. Так неужели ты думаешь, что, глядя на него в эту минуту, я хотел доставить тебе неприятности? Какая же ты эгоистка, Ада! Как человек ты не существовала для нас в этот момент, ни для меня, ни для Камиллы. Ты была лишь возможным источником денег, в которых мы оба так отчаянно нуждались — Камилла, чтобы умереть, а я, чтобы жить. «Почему бы, — спросил я его, — нам немножко не потрясти Аду? Она устроила Дэйзи брак с богатеньким мужичком, вряд ли потеря пары тысяч станет для нее ощутимым ударом».
Лицо миссис Филдинг окаменело. На нем застыли боль и удивление:
— И он согласился… согласился меня трясти?
— Тебя или кого другого. Вряд ли для умирающего это имело какое-то значение. Он знал: жить на этом свете ему осталось очень недолго, поэтому он непрестанно думал только о том свете — ему хотелось приличных похорон, а затем и местечка на небе. Подозреваю, замысел получить деньги от тебя понравился ему по двум причинам: в Сан-Феличе у него жила сестра. Он сразу убивал двух зайцев: получал от тебя деньги и встречался с сестрой. Он думал, что у миссис Розарио есть какие-то связи с церковью и они сыграют свою роль после того, как он откинет копыта.
— Значит, ты знал, когда приехал сюда, что Камилла доводится Хуаните дядей? — поинтересовался Пината.
— Откуда? Камилла называл сестру только по имени, Филомена, и его портрет в доме, куда я проводил Хуаниту, явился для меня полнейшей неожиданностью. Но именно тогда я окончательно уверился, что идет какая-то грязная игра. Чересчур много совпадений, чтобы за ними не стоял план. Я не знал, чей это план. Но моей жене подобное всегда удавалось.
— У меня не было другого выхода, — сказала миссис Филдинг. — Я одна думала о будущем.
— На этот раз ты заглянула в своих заботах слишком далеко: ты принялась заботиться о внуках вместо того, чтобы позаботиться о дочери.
— Вернемся к Камилле, — предложил Пината. — Нет никакого сомнения, что ты собирался получить свою долю из той суммы, которую вы хотели выцарапать у твоей бывшей жены?
— Естественно. Ведь идея принадлежала мне.
— И ты был уверен, что она заплатит?
— Да.
— Почему?
— Старые добрые времена и все такое. Я же говорил, Ада очень сентиментальна.
— Я тоже уже говорил, что две тысячи долларов многовато даже за старые добрые времена.
Филдинг пожал плечами:
— Когда-то мы очень крепко дружили. В округе нас называли тремя мушкетерами.
— Неужели? — Пината с трудом мог поверить, что миссис Филдинг, с ее очевидными расовыми предрассудками, могла когда-то поддерживать дружеские отношения с мексиканским пастухом. Но если бы Филдинг говорил неправду, Ада Филдинг обязательно бы возразила, а она даже не пыталась.
«Ладно. Значит, она изменилась с того времени, — подумал Пината. — Может, годы, проведенные с Филдингом, ожесточили ее настолько, что у нее возникло предубеждение против всего, что составляло часть ее прежней жизни. Не могу ее винить».
— Значит, идея заключалась в том, — продолжал он, — что Камилла приезжает в Сан-Феличе, получает деньги и возвращается в Альбукерке. Твою долю он тоже туда привозит?
На лице Филдинга отразилось легкое замешательство:
— Конечно.
— Ты ему доверял?
— А куда было деваться?
— Ну, к примеру, ты мог поехать с ним сюда. Подобное решение в данных обстоятельствах казалось бы достаточно логичным. Верно?
— Мне было все равно.
Ответ звучал довольно странно, особенно для такого опытного проходимца, как Филдинг.
— Так вышло, что ты не получил свою долю. Ведь он убил себя. Да?
— Я не получил свою долю, — с расстановкой произнес Филдинг, — поскольку делить было нечего.
— Как это?
— Камилла не получил денег. Она их не принесла.
Миссис Филдинг на какое-то мгновение потеряла дар речи, потом воскликнула:
— Это неправда! Я отдала ему две тысячи долларов.
— Вранье, Ада! Ты обещала ему две тысячи, но так и не принесла.
— Я клянусь, что отдала ему деньги. Он положил их в конверт и спрятал под рубашку.
— Я не верю…
— Придется поверить, Филдинг, — вмешался Пината. — Там их и нашли, под рубашкой.
— Под рубашкой? Деньги все время были у него под рубашкой?
— Конечно.
— Так почему же этот грязный ублюдок… — Из Филдинга посыпались ругательства, и, хотя упоминался в них Камилла, чувствовалось, что ругает он прежде всего самого себя, ругает и никак не Может остановиться. Складывалось впечатление, будто он копил эти ругательства долгие годы, как деньги для какого-то грандиозного замысла, собирал проклятия для своего старого друга и старого врага, для Камиллы. Пинату поразило, сколько чувств скрывалось за этими ругательствами. Деньги сами по себе не могли стать причиной: они никогда не интересовали Филдинга настолько, чтобы прикладывать к их добыванию слишком значительные усилия, не говоря уже о том, чтобы кого-нибудь за них убить. Может, он вел себя так потому, что его взбесил обман Камиллы? Но эта гипотеза еще менее соответствовала истине. Во-первых, он до сегодняшнего дня не знал об обмане, во-вторых, он был не из тех, кто кидается на обидчика в открытой драке. Если он сердился, то просто уходил, так же как уходил в других непростых жизненных ситуациях.
Филдинг вдруг зашелся в приступе кашля. Пината налил полстакана виски из стоявшего на столе графина и протянул ему. Через десять секунд после того, как Филдинг одним глотком осушил стакан, кашель прекратился. Он вытер рукой рот — жест получился символическим, словно он загнал обратно в глотку слова, которым не нужно было выходить на свет.
— И никакой лекции о пользе воздержания? — хрипло спросил он. — Спасибо, добрый проповедник.
— Ты был рядом с Камиллой в ту ночь, Филдинг?
— Черт! Неужели ты мог подумать, что я настолько доверял ему, что отпустил бы одного? Скорее всего, он не смог бы вернуться обратно в Альбукерке, даже если бы очень захотел. Он умирал.
— Расскажи, как это произошло.
— Я не все могу вспомнить. Много тогда выпил, купил бутылку вина — ночь была холодная. Кудряш не пил: он хотел встретиться с сестрой, а она терпеть не могла пьянство. Когда он вернулся из дома сестры, то сказал, что позвонил Аде и она сейчас должна принести деньги. Я ждал за будкой стрелочника. Ничего не мог разглядеть в этой чертовой темноте, но слышал, как приехала и через несколько минут уехала машина Ады. Я подошел к Камилле. Он сказал, что Ада передумала и денег у нас нет. Я сказал, что он врет. Камилла вынул из кармана нож и раскрыл его. Он грозился убить меня, если я не уйду. Я попытался вырвать у него нож, неожиданно он упал — и прямо на него. И все. Он был мертв в одну секунду. Раз, и все.
Пината не во всем поверил рассказанному, однако был уверен, суд присяжных эта история могла бы убедить в том, что Филдинг действовал в рамках самозащиты. Многое говорило за то, что дело просто не дошло бы до суда. Кроме заявления Филдинга, никаких улик против него не существовало, и вряд ли он стал бы так откровенничать с полицией. Кроме того, окружному прокурору явно не улыбалось снова открывать, да еще без серьезных оснований, закрытое за четыре года до этого дня дело.
— Я услышал, что кто-то идет в нашу сторону, — продолжал Филдинг, — испугался и побежал по тропинке. Очнулся я уже в кабине грузовика, ехавшего куда-то к югу. Я продолжал уходить все дальше и дальше от этого места. Когда я добрался до Альбукерке, я рассказал индейцам, с которыми жил Камилла, что он умер в Лос-Анджелесе. Я боялся, они решат, что он пропал, и заявят в полицию. Они мне поверили. Им в любом случае было совершенно наплевать на него. Камилла не был для них особенно тяжелой потерей, как, впрочем, и для всего остального мира. Грязный, никчемный мексиканец.
Он внимательно посмотрел на Аду и снова улыбнулся, как человек, наслаждающийся шуткой, которую не могли оценить другие — она была слишком утонченной и предназначалась для избранных.
— Правда, Ада?
— Я не знаю, — сказала она без каких-либо эмоций и покачала головой.
— Да ладно тебе, Ада. Расскажи присутствующим. Ты знала Камиллу куда лучше, чем я. Ты ведь говорила, он видит мир как поэт. Но со временем ты научилась разбираться во всем этом куда лучше. Расскажи же им, какой мерзкий, никудышный кусок…
— Хватит, Стэн! Не надо.
— Тогда говори.
— Ладно, какая, вообще, разница? — устало согласилась она. — Он был… он был никудышным человеком.
— Он был ленивой, тупой мексиканской свиньей, несмотря на все твои попытки научить его хоть чему-то. Верно?
— Я… да.
— Тогда повтори.
— Камилла… Камилла был ленивой, грязной мексиканской свиньей.
— Выпьем за это. — Филдинг сошел с каминной плиты и двинулся через всю комнату к графину с виски. — А как насчет тебя, Пината? Ты ведь тоже мексиканская свинья? Выпей же за еще одну свинью, которая оказалась не столь удачлива в своих играх!
Пината почувствовал, как кровь хлынула ему в лицо. «Мексиканская свинья, скоро очередь твоя, грязью смажь свой длинный нож… — Старое оскорбление отозвалось острой болью, как в детстве. — …ты для полюса негож». Чувство гнева, охватившее Пинату, было направлено вовсе не против Филдинга. Он вдруг понял, что этот человек, несмотря на всю свою агрессивность и грубость, страдает, может быть, впервые в жизни от нравственной боли, такой же острой, как та настоящая боль, от которой умерла миссис Розарио. Пината никак не мог понять, в чем причина этой боли, так же как понимал, не будучи специалистом, только внешнюю причину смерти миссис Розарио.
— Тебе лучше больше не пить, Филдинг.
— А, проповедничек, снова завелся! Да? Налей-ка, Дэйзи, детка, мне стаканчик. Будь хорошей девочкой.
Дэйзи чуть не плакала, в глазах у нее стояли слезы:
— Хорошо, папа.
— Ты ведь всегда была хорошей деткой и любила своего папочку. Правда, Дэйзи, детка?
— Правда.
— Тогда поспеши. Меня мучит жажда.
— Сейчас.
Она налила ему полстакана виски и отвернулась, словно для того, чтобы не видеть, как он пьет, не чувствовать эту страшную зависимость, от которой он не мог избавиться.
— Что будет с моим отцом? — спросила она Пинату. — Что они ему сделают?
— Я думаю, ничего, — голос Пинаты звучал куда нежнее, чем того требовали обстоятельства.
— Сначала им понадобится меня найти, Дэйзи, детка, — заметил Филдинг. — А это будет непросто. Я и раньше исчезал без следа, и теперь сумею. Можно сказать, за эти годы у меня появился подлинный талант. Этот бойскаут, — он нацелил на Пинату указательный палец, — может петь своим дружкам из полиции сколько влезет. Бесполезно. Против меня нет улик, кроме тех, что я ношу внутри себя. А к ним, что ж, к ним я уже привык.
Он легко и нежно погладил Дэйзи по волосам.
— Я справлюсь. Не волнуйся за меня, Дэйзи, детка. Я буду то тут, то там. Как-нибудь даже черкну тебе пару строк.
— Не уходи так, так быстро, так…
— Ну, ну. Ты слишком большая девочка, тебе уже нельзя плакать.
— Ну, пожалуйста, не уходи, — просила Дэйзи.
Но она знала, он сейчас уйдет, а она снова начнет его разыскивать, будет узнавать его лицо среди чужих лиц, видеть в пролетающих мимо автомобилях, за закрывающимися дверями лифтов.
Она попыталась обнять его. Он быстро сказал: «До свидания, Дэйзи» — и рванулся к двери.
— Папа…
— Не называй меня больше папой. Кончено.
— Подожди, Филдинг, — сказал Пината. — Не для протокола. Что такого сказал или сделал тебе Камилла, что ты пришел в такую ярость и убил его?
Филдинг не ответил. Он обернулся и посмотрел на бывшую жену ненавидящим взглядом. Затем вышел. Дверь закрылась за ним со стуком, похожим на последний удар молотка, которым забивают гвозди в крышку гроба.
— Почему? — спрашивала Дэйзи. — Почему?
Ее тихий печальный шепот, казалось, бился во всех углах комнаты в поисках ответа.
— Почему это должно было случиться, мама?
Напряженная и молчаливая, миссис Филдинг сидела подобно снежной статуе, ожидающей первых смертоносных лучей солнца.
— Ты обязана мне ответить, мама!
— Да, конечно.
— Прямо сейчас!
— Хорошо.
Со вздохом облегчения миссис Филдинг встала. Она что-то незаметно достала из кармана и теперь держала в руке. Это был конверт, пожелтевший от времени, обтрепавшийся на сгибах — видимо, его сотни раз доставали из карманов, ящиков письменных столов, укромных уголков, сумок, а потом прятали обратно.
— Оно пришло тебе, Дэйзи, много лет назад. Я никогда не думала, что мне придется его отдать.
— Почему ты спрятала его от меня?
— Твой отец объяснил это достаточно ясно.
— Значит, ты его читала?
— Читала? — переспросила миссис Филдинг голосом, полным смертельной усталости. — Сотни, тысячи раз… Я сбилась со счета…
Дэйзи взяла конверт. Дрожащей рукой, незнакомым почерком на нем было написано ее имя и старый адрес на Лаурел-стрит. На почтовом штемпеле стояло: Сан-Феличе, 1 декабря 1955 года.
Пината смотрел, как она разворачивает письмо, в голове снова зазвучала злая дразнилка детских лет: «Мексиканская свинья, скоро очередь твоя…» В сердце вдруг затеплилась надежда, что его детям не придется услышать и запомнить эти слова. Их детям: его и Дэйзи.
20. Дорогая Дэйзи!
Я не видел тебя уже много лет. Может быть, мне уже слишком поздно возвращаться в твою жизнь. Но я ничего не могу поделать. Моя кровь течет в твоих жилах. Когда я умру, частичка меня будет продолжать жить, сначала в тебе, потом в твоих детях, потом в детях твоих детей. Эта мысль скрашивала мою ужасную жизнь, уменьшала те муки, которые мне приходилось испытывать.
Возможно, это письмо до тебя никогда не дойдет. Если так случится, я знаю причину. Твоя мать поклялась страшной клятвой никогда не дать нам встретиться, потому что она стыдится меня. С самого начала она стыдилась не только меня, но и себя. Даже когда она говорила о любви, в ее голосе звучала горечь, как будто какой-то физический недостаток стал причиной нашей любви и она ничего не смогла поделать, словно виной всему была слабость тела, порицаемая ее духом. Но любовь была, Дэйзи. Ты — доказательство существования нашей любви.
Воспоминания душат меня. Я едва могу дышать. Как бы я хотел, чтобы были воспоминания только о хорошем, чтобы я, как тысячи других людей, мог блаженствовать в кругу семьи и счастливо вспоминать о прошлом. Увы, этого не произошло. Я один, в окружении чужих людей, в странном месте. Я пишу эти строки, а постояльцы отеля удивленно разглядывают меня, словно задаваясь вопросом, что делает этот бродяга в принадлежащем им вестибюле, где ему не место, зачем он пишет письмо дочери, которая никогда ему не принадлежала. Твоя мать сдержала клятву, Дэйзи. Мы все еще не вместе, ты и я. Она скрыла свой позор, поскольку не могла нести его печать на своем челе, так как можем, должны и несем ее мы, слабые и униженные.
Стыд — вот мой ежедневный удел, только он и кормит меня. Нужно ли удивляться, что я истощен. Мне незачем жить, но я прохожу сквозь череду людей, закованный в собственное тело, я уже давно хочу сбросить эту кожу, чтобы снова увидеть вас, моих самых любимых, тебя и Аду. Я приехал сюда, чтобы увидеть тебя, но мне не хватило на это смелости. Вот поэтому я и пишу: чтобы хоть ненадолго прикоснуться к тебе, чтобы еще раз сказать себе, что смерть моя не будет окончательной. Останешься ты, единственное доказательство того, что я существовал на этом свете. Больше у меня ничего нет.
Только память: как она плакала перед самым твоим появлением на свет, день за днем, у меня даже возникало желание пустить все эти слезы на то, чтобы превратить в цветущие поля сухую пыльную землю вокруг. Пыль и слезы — вот что я помню лучше всего о дне твоего рождения. Плач твоей матери и пыль, проникающая сквозь запертые двери и закупоренные окна, закрытую печную заслонку. И перед самым моментом, твоего появления на свет она сказала мне: «Что, если ребенок будет похож на тебя? Господи, спаси нас, мое дитя и меня». Ее дитя, не мое.
С самого начала она не подпускала меня к тебе. Чтобы защитить тебя. Она говорила, что у меня микробы, что я весь в грязи из-за того, что работаю со скотом. Я непрестанно мылся, мои плечи уже болели оттого, что я качал воду из колодцев, но все равно я был грязным. Она говорила, что должна оберегать ребенка. Ее ребенка, и никогда моего.
Я не мог протестовать, я даже не мог громко сказать об этом хоть кому-нибудь, но я должен сказать об этом тебе до того, как покину этот свет. Я должен громко объявить, хотя и поклялся ей, что не буду этого делать, объявить — ты моя дочь. Я умираю в надежде, что твоя мать возьмет тебя с собой на мою могилу. Храни Господь тебя, Дэйзи, и твоих детей, и детей твоих детей.
Твой любящий отец
Карлос Камилла.

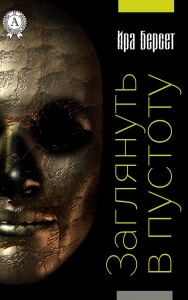
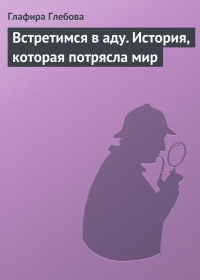
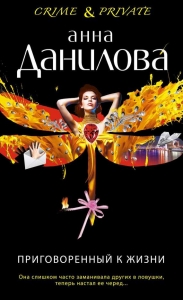

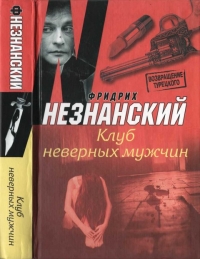
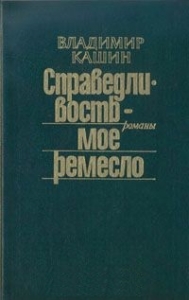


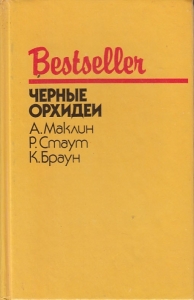

Комментарии к книге «Кто-то в моей могиле», Маргарет Миллар
Всего 0 комментариев