МОЕ ЛЮБИМОЕ УБИЙСТВО: лучший мировой детектив
ЗОЛОТОЙ ВЕК, ИЛИ ПЕСТРАЯ ЛЕНТА ДЕТЕКТИВА
Добротный, старинный, классический детектив — направление весьма почтенное. И, во всяком случае, на своей родине (скажем осторожно: не в Англии, но в пространстве англоязычной культуры) он никогда не считался «низким жанром». Поэтому детективы писали многие признанные мастера. Кстати, как и фантастику. Причем иногда «совмещая» эти жанры в рамках одного произведения — что, впрочем, отдельная тема.
Так или иначе, старые мастера использовали весь арсенал детективных методов — и вовсе не считали, что это требовало отказа от методов общелитературных.
Несколько слов об этих «старых мастерах». Будем надеяться, что читателям все-таки не надо дополнительно представлять таких авторов, как Артур Конан Дойл, Оскар Уайльд, Эдгар Уоллес, Брэм Стокер (он писал не только о вампирах!), Гилберт Кит Честертон (который писал детективы не только о патере Брауне!) и Марк Твен. Впрочем, повесть последнего действительно требует некоторых комментариев.
Твен нередко возвращался к теме новых приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна, причем эти приключения порой обретали детективный характер (вспомним хотя бы повесть «Том Сойер — сыщик»). Но некоторые из них, так и оставшиеся незавершенными, на многие десятилетия оказались погребены в архиве. Это касается и повести «Том Сойер — заговорщик». Она, правда, не завершена то ли всего на несколько страниц, то ли, может быть, даже только на несколько слов: детективная разгадка состоялась, преступники изобличены… Почему автор не поставил точку — нам теперь уже не узнать. Возможно, просто не захотел окончательно прояснять судьбу Герцога и Короля: ведь читатели, выросшие на «Приключениях Гекельберри Финна», уже привыкли к открытому финалу…
Однако, пожалуй, это не объясняет, почему «Том Сойер — заговорщик» пришел к русскоязычным читателям так поздно, уже в XXI в. (англоязычные-то читатели знают его с 1967 г.). А дело, пожалуй, в том, что эта повесть основательно замешана на масонской символике. Вся тайнопись, вся «теория заговора», и даже то нашествие «злодеев-аболиционистов», которого с ужасом ожидают жители городка, проходит под масонским знаком. Конечно, здесь это вообще подростковая шутка (а в реально совершенном преступлении никакой «масонский след» вообще не прослеживается), но для наших идеологов тема показалась слишком скользкой.
Относился ли сам Марк Твен к масонской тематике сколько-нибудь серьезно? На момент написания повести — уже нет: не случайно она буквально напоена иронией по отношению к играм вокруг ложно-многозначительных ритуалов. Прежде, на протяжении своей долгой и бурной жизни, он минимум дважды вступал в масонские ложи и это было достаточно всерьез — но… лишь в той степени, как такие вещи вообще были «серьезны» для американцев (да и англичан) марктвеновского поколения. То есть на самом деле — не очень. Для него, равно как для Конан Дойла и Киплинга, в разное время тоже «отметившихся» на этой ниве, членство в ложе было чем-то вроде клуба по интересам. А заодно, как видим, и источником литературных сюжетов.
Несколько слов о других авторах, представленных в этом разделе.
Эдгар Джепсон (о его соавторе скажем в следующем разделе) в английскую литературу вошел скорее как переводчик с французского и как автор… мистических историй, чаще всего в духе мрачной фэнтези. Последнее как будто противоречит его «позитивистским» детективам, делающим ставку на логику и разум, однако современники Конан Дойла умели держать свой мистицизм и свою веру в прогресс науки, так сказать, на разных поводках. Кроме того, в детективном жанре Джепсон отмечен чуть ли не рекордным количеством успешных работ с самыми разными соавторами, среди которых, помимо известных писателей, были члены его семьи: сын, обе дочери и, по-видимому, жена. Может быть, с этим связана используемая им фигура женщины-детектива, для большинства современников не характерная. Впрочем, чему удивляться, если вспомнить, что девичья фамилия супруги Джепсона была… Холмс!
Эрнст Брама, автор обширного цикла про Макса Каррадоса (из которого на русский доселе переводились лишь две новеллы, и вот в этом сборнике появляются еще две) создал совершенно особый типаж слепого детектива и его пусть не столь гениального, но очень толкового, активного, самоотверженного помощника, в прямом смысле слова заменяющего своему коллеге глаза. Впоследствии эта методика, заметно отличающаяся от конандойловской, была использована многими признанными авторами, включая Рекса Стаута: его Ниро Вульф, правда, не слеп — но практически не выходит из дома, сделав своими «глазами» Арчи Гудвина.
Бертрам Флетчер Робинсон хорошо знаком постоянным читателям «Книжного клуба»: это друг и соавтор Конан Дойла, помогавший ему в разработке сюжета «Собаки Баскервилей», а после своей безвременной смерти «воскрешенный» сэром Артуром в роли журналиста Мелоуна. В сборнике «Не только Шерлок Холмс» мы познакомились с фантастической стороной его творчества, а вот сейчас знакомимся с детективной. Инспектор Аддингтон Пис и его спутник, конечно, несколько напоминают другую детективную пару, созданную воображением великого соавтора Робинсона, — но при этом вполне самостоятельны и наделены уникальными чертами. Их историям посвящен только один сборник из шести рассказов — но проживи Робинсон дольше, он, вероятно, сумел бы развернуть приключения этого тандема в крупномасштабный цикл…
Жак Фатрелл тоже знаком постоянным читателям «Книжного клуба», правда, «заочно». Он появляется на странице 346 антологии «Вкус ужаса», в рассказе Барбары Хэмбли «Рассвет над бегущей водой» (описывающей гибель «Титаника») и, обращаясь к своей жене, произносит там фразу «Мэри, ты должна сесть в шлюпку, я догоню тебя позже!», которая для наших читателей остается одной из многих, но для англоязычных читателей очень узнаваема. Фатрелл, «американский викторианец», автор нескольких сборников про «Думающую Машину» профессора Ван Дузена, в Англии печатался не менее активно, чем в США. И когда он в результате деловой поездки на встречу с британскими издателями подписал очень выгодный контракт, то решил, что на обратном пути может позволить себе забронировать каюту в первом классе «Титаника»… Успокоив жену, которая отказывалась спасаться без него, Жак, вопреки своему обещанию, даже не попытался спастись на следующей шлюпке: вместо этого он, по свидетельствам уцелевших, помогал спасать женщин и детей. В результате с той поры все произведения Фатрелла публикуются только под его именем, хотя при жизни он настаивал, что жена является соавтором по крайней мере части из них. Но она после гибели Жака на «Титанике» никогда не позволяла указывать себя как соавтора…
Столь же заочно, но самым неожиданным образом, известен читателям и Хескеч Хескеч-Причард. Как автор детективов — пожалуй, нет: в этом качестве он перед нами предстает впервые. Но Хескеч-Причард был одним из «строителей империи»: строевой командир и специалист по, как бы сейчас сказали, «спецназовским операциям», знаток штыкового, ножевого и рукопашного боя, мастер скрадывания и несравненный снайпер (то, что его персонаж Ноябрь Джо умеет в охотничьем варианте, сам автор проделывал в боевом!), он вместе со своей матерью Кейт оформил эту часть своей фантастической биографии в полуфантастическом цикле «Приключения дона Q». А потом молодой американский сценарист, познакомившийся с Хескеч-Причардом в окопах Первой мировой, заново «скрестил» биографию своего обожаемого командира с его творчеством, превратив дона Q (который походил скорее на «антигероя» вроде профессора Мориарти или… Фантомаса — правда, более благородного) в блистательного супергероя Зорро!
Так что, как видим, даже самые «неизвестные» из старых мастеров демонстрируют неожиданно значительное пересечение с нашей сегодняшней реальностью…
Артур Конан Дойл
ВСТАТЬ НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ
Мой друг Шерлок Холмс давно советовал мне не бояться предать огласке цепь невероятных событий, относящихся к делу профессора Пресбери. Тем самым, считал он, удастся навсегда покончить со скандальной молвой, двадцать лет назад распространившейся в университете и все еще продолжающей будоражить научную общественность Лондона. Однако случилось так, что лишь сейчас у меня появилась возможность изложить эту историю, расследованную Холмсом в последние годы его практики. Подробности о том, что произошло, долго хранились в моем сейфе наряду с иными весьма многочисленными записками о приключениях моего друга — но наконец получено разрешение их опубликовать. И даже теперь, однако, я должен быть предельно осторожен в изложении этих фактов.
Итак, в воскресенье вечером, в начале сентября 1903 года, мне доставили от Холмса вполне обычную для него краткую записку: «Явитесь тотчас же, если это возможно. Если невозможно — то явитесь все равно! Ш. X.».
Наше с ним общение в те времена происходило весьма своеобразно. Я был одной из его привычек, стойких и долговременных, — наряду со скрипкой, крепким табаком, прокуренной трубкой, разного рода справочниками, а также иными его привязанностями — возможно, и более неприглядными. Время от времени Холмс должен был предпринимать рискованные действия, и ему требовался надежный человек, которому он мог бы довериться в полной мере, — именно таким человеком я и являлся. Но нужен был я и для другого: для шлифовки его логических способностей, поскольку его мысль работала острее в моем присутствии. Ему нравилось, как бы обращаясь ко мне, размышлять вслух. При этом его рассуждения по большей части не требовали от меня ответа — он мог бы с таким же результатом адресовать их, предположим, кровати. Но все же, превратив меня в объект собственной привычки, он начал испытывать необходимость в таком слушателе, как я, и в моих нечастых репликах. Вполне допускаю, что ему была не по вкусу педантичная медлительность моего ума, хотя именно благодаря ей догадки и открытия рождались в его голове особенно быстро и ярко. Вот к этому и сводилась моя роль в нашем приятельском тандеме…
Когда я явился на Бейкер-стрит, Холмс как раз пребывал в раздумье: нахмурившись, погрузился он в свое кресло, задрав высоко колени и без конца затягиваясь своей вечной трубкой. Было очевидно, что моего друга не на шутку занимает какая-то очень серьезная проблема. Кивнув мне на старое кресло, в котором я обычно любил сидеть, он без малого полчаса не давал никак понять, что замечает мое присутствие. И наконец встрепенулся, будто стряхивая с себя отчуждение, и сказал, улыбаясь с привычной легкой иронией, что рад опять видеть меня в нашем общем — когда-то — доме.
— Надеюсь, вы, дорогой Ватсон, не будете на меня в претензии за мою рассеянность. Сегодня мне дали знать об одном поразительном случае, который волей-неволей заставил меня поразмыслить на отвлеченные темы. Я, например, всерьез задумался, не сочинить ли мне что-то вроде краткой монографии о том, насколько полезны собаки в работе детектива.
— Простите, Холмс, но здесь не будет ничего оригинального, — возразил я. — Допустим, ищейки…
— Нет-нет, Ватсон, роль ищеек, конечно же, и так ясна. Однако есть и другая сторона, более щекотливая. Вы, должно быть, не забыли то самое дело — которое вы, при вашей страсти к сенсациям, обозначили как «Дело о Медных буках», — когда мне удалось, изучая психику ребенка, сделать вывод о преступном складе ума его родителя, казалось бы, такого почтенного и добропорядочного?
— Да, отлично помнится.
— Аналогично я выстраиваю и свои размышления о собаках. В любом псе, как в зеркале, видна атмосфера, преобладающая в семье. Скажите, вам когда-нибудь попадалась на глаза беззаботно-веселый зверь, живущий в несчастной семье, либо, напротив, унылое животное — в благополучной? Если злобен хозяин, то и собака кажется бешеной; у опасного хозяина и пес непременно опасен. Когда меняется настроение пса, по этой перемене без труда можно судить о настроении хозяина.
Я с ним не согласился:
— Ну, Холмс, это уж чересчур. Ваши аргументы, по-моему, взяты с потолка.
Он набил трубку и вновь опустился в кресло, никак не отреагировав на мои слова.
— На практике все сказанное мною имеет самое непосредственное отношение к проблеме, которой я сейчас занимаюсь. Она для меня — как запутанный клубок, в котором приходится искать свободную нитку, чтобы потянуть и распутать его целиком. Один из главных путей отыскать этот конец — это, прежде всего, ответ, почему овчарка профессора Пресбери, его преданный пес Рой, то и дело стремится укусить своего хозяина?
Я откинулся на спинку кресла, ощущая разочарование: из-за подобной мелочи он отвлек меня от работы! Холмс коротко глянул на меня.
— Вы ничуть не изменились, остались прежним Ватсоном! — раздраженно сказал он. — Когда вы наконец поймете, что сложнейшие вопросы базируются иногда на подлинных мелочах! Итак, подумайте: не удивляет ли вас, что почтенный, солидный ученый мудрец… вы знаете, конечно, о прославленном Пресбери, физиологе из Кэмфорда… не удивительно ли, что такой человек был дважды искусан своей овчаркой, прежде верно ему служившей? Как, по-вашему, это можно объяснить?
— Собака нездорова, вот и все.
— Ну что же, вполне логичный вывод. Однако на других людей она никогда не бросалась, не считая хозяина — да и то, видимо, в исключительных случаях… Интересная история, Ватсон, чрезвычайно интересная. Но к нам идут — похоже, молодой Беннет приехал раньше, чем было договорено. А жаль, я намеревался поговорить с вами побольше, прежде чем он явится.
Торопливые шаги раздались на лестнице, мы услышали резкий стук. Через несколько секунд перед нашими глазами предстал новый клиент Холмса.
Им оказался стройный, красивый мужчина примерно тридцати лет, одетый не без вкуса, даже изящно. Но если говорить о его манере вести себя, тут бросалась в глаза скорей уж робость ученого, нежели развязность светского щеголя. Они с Холмсом пожали друг другу руки, а потом он бросил на меня слегка растерянный взгляд.
— Но, мистер Холмс, вопрос у меня очень щекотливый, — сказал гость. — Вы же знаете, как много связывает меня с профессором Пресбери: это касается и частной жизни, и моей работы. А потому я предпочел бы обсудить это дело наедине.
— Не беспокойтесь, мистер Беннет. Доктор Ватсон человек в высшей степени тактичный, и к тому же — заверяю вас — в подобном деле мне, скорее всего, не обойтись без помощника.
— Как пожелаете, мистер Холмс. Вы, конечно, понимаете, отчего мне приходится соблюдать такую осторожность по этому поводу…
— Вы тоже это поймете, Ватсон, если я сообщу вам, что джентльмен, с которым мы разговариваем, мистер Джон Беннет, работает ассистентом профессора Пресбери, живет у него в доме и обручен с его единственной дочерью. Без сомнения, этот видный ученый должен в высшей степени полагаться на преданность Беннета. Так вот, чтобы соблюсти ее, этот джентльмен и просит нас предпринять все возможное для раскрытия этой поразительной тайны.
— Да, я именно такого мнения, мистер Холмс. К этому я и стремлюсь. Знает ли доктор Ватсон о том, как обстоят дела?
— Я еще не успел рассказать ему об основных событиях.
— В таком случае, может быть, я опять изложу главные детали происходящего, прежде чем перейти к тому, что совершилось в последние дни?
— Пожалуй, я займусь этим сам, — сказал Холмс. — И заодно проследите, хорошо ли я запомнил порядок событий. Так вот, Ватсон: профессор — личность европейского масштаба. Наука всегда была основным стержнем его жизни, и на репутации нет ни единого пятна. Он вдов; имеет дочь, которую зовут Эдит. Человек он, как я понял, очень упорный, бескомпромиссный — и несколько воинственный, если можно так выразиться… Вот предпосылки к нашей истории.
Всего несколько месяцев тому в его жизни произошел вдруг резкий перелом. Невзирая на свой почтенный возраст… а профессору, между прочим, шестьдесят один год… он попросил у профессора Морфи, своего коллеги по кафедре сравнительной анатомии, руки его дочери. Этот поступок, по всей видимости, имел мало общего со степенным ухаживанием человека в возрасте — нет, он влюбился пылко, как юноша, и трудно представить себе более горячую страсть. Юная леди Элис Морфи — девушка завидных достоинств. Ум и красота у нее незаурядные, что делает вполне объяснимым, отчего профессор так в нее влюблен. И все же его домочадцы были не очень довольны таким поворотом дел.
— На наш взгляд, это было уже чересчур, — добавил гость.
— Именно так. Чересчур страстно и не вполне в рамках природных границ. Хотя профессор Пресбери — человек немолодой, но обладает значительным состоянием, так что у отца будущей невесты возражений не было. Сама она, видимо, предпочла бы иной вариант — ее руки просили джентльмены менее блестящие в практическом смысле, но близкие к ней по возрасту. И все же профессор был, надо думать, ей по вкусу, невзирая на его эксцентричность. Препятствием мог быть только возраст жениха.
Как раз в тот самый период размеренная жизнь профессора взорвалась еще одной странной переменой. Он совершил поступок, обычно не свойственный ему: отправился в поездку, не сообщив своим домашним, куда именно уезжает. Две недели был в отлучке, а затем вернулся назад, усталый, как утомляет только длительное путешествие. Куда именно ездил, так и осталось загадкой — при том, что вообще-то профессор никогда не страдал скрытностью.
По случайному совпадению наш клиент, мистер Беннет, получил вскоре письмо от своего приятеля, пражского ученого. Тот сообщал, что встретил в Праге профессора Пресбери, но побеседовать с ним не удалось. Благодаря такому случаю семья профессора и узнала, где именно он побывал.
Теперь мы перейдем к важнейшим происшествиям. Именно с той самой поездки профессор начал необъяснимо меняться. Все домочадцы стали замечать в нем совершенно не свойственные ранее черты: как будто что-то затмило его ум, приглушив все хорошее и благородное. Ум его, правда, был все так же замечателен; лекции по-прежнему великолепны. Однако нечто новое, темное и непредсказуемое, начало подспудно проявляться в профессоре. Дочь, обожающая его, тщетно стремилась поговорить с ним по душам, преодолеть невидимую стену, которой он окружил себя. Да и вы, сэр, насколько я знаю, старались сделать то же самое, но безрезультатно. Ну а сейчас, мистер Беннет, опишите доктору тот случай, связанный с письмами.
— Прежде всего упомяну, доктор Ватсон, что профессор не таил от меня никаких секретов. Даже сыну или младшему брату никто не доверял бы больше. Я, как его секретарь, занимался всеми приходившими на его имя бумагами: открывал письма и упорядочивал их. Но после того, как он вернулся из Праги, ситуация приняла другой оборот. Он сообщил мне, что, вероятно, станет получать письма от лондонского отправителя, которые можно будет распознать благодаря крестику под маркой. Эти письма я должен специально отбирать и не вскрывать ни в коем случае, читать их будет лишь он. Вслед за этим мы и вправду получили несколько таких писем; на конвертах стоял корявый почерк не очень грамотного человека. Возможно, профессор и посылал ему ответы, хотя все они проходили мимо меня.
— Не забудьте о шкатулке, — сказал Холмс.
— Да, именно — шкатулка. После этой поездки у профессора появилась небольшая шкатулка из резного дерева — единственный предмет, который ясно доказывает, что он был на континенте, а судя по виду этой вещицы, сделана она была в Германии или в Австро-Венгрии. Профессор спрятал ее в шкаф, где хранилась лабораторная посуда. Как-то раз, ища одну пробирку, я случайно коснулся этой шкатулки. Профессор был разгневан, заметив это, и принялся упрекать меня за чрезмерное любопытство, причем в грубых выражениях — что изумило меня, поскольку прежде такого никогда не случалось. Расстроившись, я объяснил, что у меня не было намерения взять шкатулку, я и дотронулся-то до нее совершенно случайно. Однако до самого вечера профессор то и дело мрачно поглядывал на меня, и я понимал, что этот случай его все еще беспокоит. — Мистер Беннет достал записную книжку из кармана и уточнил: — А произошло это второго июля.
— Свидетель вы отменный, — похвалил его Холмс. — Те даты, что вы зафиксировали, вполне могут понадобиться для моего расследования.
— Да ведь именно профессор учил меня систематичности в деталях, как и многому другому… Но продолжаю: когда стали проявляться всяческие аномалии в его поступках, я решил, что мне надлежит отыскать их причину. Я стал записывать тщательнее — и вот у меня значится, что в тот же день, второго июля, едва только профессор вышел из кабинета в холл, как на него напал обычно послушный пес Рой. Это повторилось одиннадцатого числа и вслед за тем опять — уже двадцатого. Так что пса отдали на конюшню. А жаль, собака умная и ласковая… Но, наверное, мой рассказ вас уже утомил?
Беннет произнес это не без упрека, потому что Холмс, кажется, отвлекся. Лицо у него стало каменным, и он смотрел мимо нас, куда-то в потолок. Слова Беннета заставили его пробудиться от оцепенения.
— Любопытно! И весьма, — буркнул он. — Надо сказать, мистер Беннет, этих деталей я прежде от вас не слышал. Ну что же, суть происходящего мы описали подробно, не правда ли? Но вы говорили о чем-то, совершившемся в последние дни…
И тут приятный, искренний взгляд нашего клиента омрачился тенью какого-то нехорошего воспоминания.
— Этот случай произошел позавчера ночью, — начал он. — Я был в постели, меня мучила бессонница. Часов около двух в коридоре послышались глухие, непонятные звуки. Приоткрыв дверь, я глянул в щелку… А между прочим, спальня профессора расположена прямо напротив, в конце коридора.
— Простите, число? — перебил Холмс.
Рассказчика, похоже, огорчило, что тот прервал его столь малозначащим вопросом:
— Я говорил вам, сэр, что это было в позапрошлую ночь, то есть третьего сентября.
Кивнув, Холмс ответил с улыбкой:
— Дальше, пожалуйста!
— Итак, спальня профессора находится в конце коридора, и он должен миновать мою дверь, чтобы выйти на лестницу. Представьте только, мистер Холмс, эту ужасную картину! Не скажу, чтобы мои нервы были слабыми, но увиденное испугало меня. В коридоре царила тьма, и лишь напротив одного окна — на полпути ко мне — лежал отблеск лунного света. Но все же я заметил, что по коридору, в моем направлении, перемещается нечто темное и скрюченное. Когда лунный отблеск лег на него, я увидел отчетливо, что это был профессор. И, мистер Холмс, передвигался он ползком, да, именно ползком! На четырех конечностях, вернее сказать: поскольку он стоял при этом не на коленях, а на ступнях и низко опустил голову — ниже локтей. И шел он при этом, как мне представилось, довольно-таки легко. Увиденное настолько поразило меня, что я решился сделать шаг и поинтересоваться, нуждается ли профессор в помощи, только когда он достиг двери моей спальни. Реакцию пересказать нельзя! Сразу же он вскочил, прокричал в лицо нечто жуткое, какое-то ругательство, бросился прямо к лестнице и помчался вниз. Я ждал его час или больше, но он так и не показался. В свою спальню вернулся, надо полагать, на рассвете.
— Ну, Ватсон, каково ваше мнение по этому поводу? — поинтересовался Холмс со взглядом патологоанатома, только что пересказавшего феноменальный случай из своей практики.
— По-видимому, люмбаго. Я знал одного больного, при сильном приступе передвигавшегося буквально таким же образом. Легко понять, какой ужас это вызывало у окружающих.
— Отлично, Ватсон! Благодаря вам я, как правило, трезво смотрю на вещи. Но все же трудно представить, что перед нами именно люмбаго — так как профессору сразу же удалось распрямиться.
— Его физическое здоровье в полном порядке, — пояснил Беннет. — Его самочувствие лучше, чем когда-либо за последние годы. Итак, мистер Холмс, я пересказал все события. В полицию обратиться было бы неуместно, но мы терзаемся мыслью, что нам предпринять. Мы ясно ощущаем, что нас ожидает какая-то грозная опасность. Эдит… я имею в виду мисс Пресбери… тоже считает, что нельзя оставаться в бездействии.
— Дело интереснейшее, без сомнения, и мы должны рассмотреть его самым тщательным образом. Ваши выводы, Ватсон?
— Должен заключить, что это, как видно, случай душевного нездоровья, — ответил я. — Любовная страсть, вероятно, повлияла на умственную деятельность пожилого профессора, и за границу он отправился, надеясь излечиться от своего влечения. Ну а шкатулка и письма, безусловно, связаны с чем-то важным, но не с любовью — например, долговая расписка или акции, которые он и прячет в шкатулке…
— А овчарку, стало быть, возмущает эта финансовая операция? Нет-нет, Ватсон. Ситуация, я думаю, намного сложнее. И вариант я предлагаю только один…
Какой вариант имел в виду Шерлок Холмс, мы так и не узнали, поскольку в этот самый момент дверь открылась, и слуга сообщил нам о появлении какой-то юной леди. Лишь только она появилась в дверном проеме — мистер Беннет поднялся с невнятным возгласом и подбежал к ней, коснувшись рукой ее ладони.
— Эдит, дорогая! Надеюсь, не произошло ничего страшного?
— Мне волей-неволей пришлось отправиться за вами. Ах, Джек, я была так напугана! Это просто невыносимо — оставаться там вместе с ним!
— Мистер Холмс, позвольте вам представить ту девушку, о которой я уже рассказывал. Это Эдит, моя невеста.
— Мы уже слегка догадались об этом — не так ли, Ватсон? — улыбнулся Холмс. — Как я понял, мисс Пресбери, случилась какая-то неприятная новость, и вы решили сообщить нам об этом?
Наша гостья — девушка милой и вполне английской наружности — улыбнулась Холмсу в ответ и присела рядом с мистером Беннетом.
— Как только я обнаружила, что Беннета нет в гостинице, я тут же поняла, что, возможно, он у вас. Он уже рассказывал о намерении воспользоваться вашими услугами. Прошу вас, мистер Холмс, скажите, вы можете как-то помочь моему несчастному отцу?
— Я очень надеюсь, что да, мисс Пресбери. Хотя, скажу вам честно, в деле много загадок. Должно быть, что-нибудь станет ясней, когда я услышу ваш рассказ.
— Это случилось прошлой ночью, мистер Холмс. До этого отец еще как-то держался, но вел себя очень странно, словно во сне, — думаю, он порой вообще не осознавал, что происходит вокруг. Это с ним в последнее время случается. И вот вчера был именно такой день. Этот человек, с которым я прожила всю жизнь… Вчера это был не мой отец — а кто-то иной. Да, внешний его облик остался тем же самым, но… это явно был другой человек!
— Расскажите мне все в подробностях.
— Ночью я проснулась от бешеного лая собаки — бедняга Рой, сейчас его держат возле конюшни, на цепи! Признаюсь, теперь я запираю ночью свою дверь на замок, потому что все мы постоянно ощущаем, будто на нас надвигается какая-то неведомая гроза. Джек… я хочу сказать, мистер Беннет может подтвердить вам то же самое… Моя комната находится на третьем этаже. Луна светила в окно, потому что жалюзи по чистой случайности оказались подняты. Я лежала, открыв глаза и слушая лай нашего Роя. И тут внезапно лицо моего отца появилось в окне… Представьте себя, мистер Холмс, мое сердце чуть не разорвалось от ужаса и неожиданности. Да, его лицо прижалось к стеклу, он смотрел на меня и пытался распахнуть окно. Соверши он это — я бы, кажется, лишилась рассудка. Нет, мистер Холмс, не думайте, что все это мне почудилось. Пожалуйста, поверьте мне. Примерно полминуты я не могла даже пошевелиться и все лежала и смотрела на это лицо. Потом оно пропало куда-то, а я долго-долго пыталась подняться с кровати, чтобы узнать, куда именно. И, не двигаясь, лежала всю ночь, меня бил озноб. Когда мы завтракали, отец был груб и придирчив, а про ночной эпизод не упоминал. Я тоже не решилась сказать об этом ни слова и лишь искала повод, чтобы покинуть его и уехать в город. Вот потому я здесь…
Ее рассказ, по-видимому, серьезно озадачил Холмса.
— Вы сказали, молодая леди, что ваша спальня на третьем этаже. А есть ли в саду длинная лестница?
— Нет, мистер Холмс, в этом все и дело. До окна нельзя добраться, и как он это сделал — ума не приложу.
— А случилось это третьего сентября, — сказал Холмс. — Что, несомненно, существенно для дела.
Теперь удивление отразилось на лице мисс Пресбери, а господин Беннет лишь сказал:
— Но, мистер Холмс, к чему опять о датах? Разве это играет какую-то роль в нашем случае?
— Очень вероятно, что да. Хотя не могу судить наверняка, потому что полной картины еще не имею.
— Неужели вы решили, что помешательство профессора как-то связано с фазами луны?
— Нет, никоим образом. Мои догадки лежат в решительно иной области. Не согласитесь ли вы передать мне свою записную книжку, чтобы я занялся анализом чисел?.. Итак, Ватсон, теперь, я думаю, ясно, в каком направлении действовать. Эта молодая леди сказала нам, а ее чутью я доверяю всецело, — что в некоторые дни ее отец очень слабо запоминает происходящее. Так что мы вполне можем наведаться к нему, пояснив, будто в какой-то из этих дней договаривались о встрече. Он решит, что всему виной его забывчивость, — мы же, в качестве удачного начинания, побеседуем с ним и изучим нашего профессора в непосредственной близости.
— Замечательная идея! — сказал мистер Беннет. — Хотя не могу не предупредить, что профессор иногда ведет себя несдержанно и агрессивно.
Холмс, улыбнувшись, ответил:
— И, однако же, у меня есть серьезные причины отправиться к нему именно теперь. Так что завтра, мистер Беннет, мы непременно приедем в Кэмфорд. Насколько я помню, в гостинице «Шахматная доска» подают хороший портвейн, а постельное белье там просто превосходное! А это значит, Ватсон, что наши последующие несколько дней будут весьма завидными.
Утром понедельника поезд уже вез нас в прославленный университетский городок. Холмсу, как человеку без жесткого распорядка, было нетрудно покинуть Лондон, я же оказался вынужден в спешке менять планы, поскольку моя практика была на ту пору чрезвычайно обширной. Разговор о деле Холмс завел лишь тогда, когда мы прибыли в старинную гостиницу, расхваленную им накануне, и занесли туда свои чемоданы.
— Я полагаю, Ватсон, что профессор сейчас будет дома. В одиннадцать он читает лекцию, а после этого у него, вероятно, второй завтрак.
— И все же как мы ему поясним свой визит?
Холмс посмотрел в записную книжку Беннета.
— Возьмем, например, двадцать пятое августа — он был как раз днем буйства и неспокойного самочувствия. Учтем, что в такие дни он слабо помнит, что происходит. Если мы заявим со всей уверенностью, что в этот день договорились о встрече, — пожалуй, он едва ли станет возражать. Скажите, решитесь ли вы на такой бесцеремонный поступок?
— Риск — дело благородное, — сказал я.
— Браво, Ватсон! Фраза из детского стишка, а может — поэмы Лонгфелло. И, между прочим, отличный девиз для фирмы… Спросим кого-нибудь из благожелательных аборигенов, и он обязательно покажет нам дорогу.
Так и случилось в самом скором времени: блистающий новизной отделки кэб повез нас между старинных зданий университета, а затем свернул в аллею и остановился перед красивым особняком, вокруг которого зеленели газоны, а на стенах цвела алая глициния. Было ясно, что профессор Пресбери высоко ценит комфорт — и даже, пожалуй, некоторую пышность своего жилища. Как только мы приблизились к дому, в одном из окон возникла голова, окаймленная гривой седых волос. Какое-то время нам пришлось ожидать снаружи, под внимательным взглядом, рассматривавшим нас сквозь прицел больших очков в роговой оправе. Но минуту спустя мы были допущены в святая святых этого дома — в кабинет профессора. А вскоре перед нами предстал и его загадочный хозяин, из-за необычных поступков которого мы и явились сюда из Лондона.
Должен сразу признать, что ни облик знаменитого ученого, ни его манеры не давали ни малейшего повода заподозрить его в экстравагантном чудачестве. Скорее напротив: благообразный пожилой джентльмен в строгом сюртуке, высокий, солидный, с резкими чертами лица и исполненной внутреннего достоинства осанкой, присущей опытным лекторам. Выразительнее всего мне показался его взгляд: цепкий, не упускающий даже мельчайшей детали — и умный, чертовски умный.
Он бегло посмотрел на наши визитные карточки.
— Садитесь, пожалуйста, господа. Чем могу быть вам полезен?
Холмс ответил вежливой улыбкой:
— Именно об этом хотел бы я узнать у вас, сэр.
— У меня, сэр?
— Гм… Допускаю, что случилась какая-то ошибка. Но мне через посредника была передана информация, что профессору Пресбери из Кэмфорда срочно требуется моя помощь.
— Даже так? — Мне показалось, что пристальный взгляд серых глаз профессора мгновенно утратил доброжелательность. — Значит, вам была «передана информация»? Не могу ли я поинтересоваться — кем именно?!
— Прошу извинить меня, профессор, но именно это является конфиденциальным. Однако, если эти сведения ошибочны — не смею на них настаивать. Мне остается лишь попрощаться с вами, разумеется, предварительно принеся свои извинения.
— Ну нет уж! Я не намерен оставлять подобные случаи без внимания: особенно теперь, когда вы до такой степени возбудили мой интерес. Можете ли вы представить мне какое-либо письменное подтверждение ваших слов? Письмо, телеграмму? На худой конец — простую записку?
— Нет.
— Не будете же вы утверждать, будто я сам вас сюда пригласил?
— Я бы не хотел отвечать на такие вопросы, сэр.
— Да ну? — с издевкой заметил профессор. — Ладно, на этот-то вопрос я могу получить ответ и вопреки вашему согласию!
Он дернул за шнурок звонка. Менее чем через минуту на пороге кабинета возник наш лондонский знакомый.
— Входите, мистер Беннет. Вот эти два джентльмена, явившиеся из Лондона, уверяют, что их сюда приглашали. Вы ведете всю мою переписку. Значится ли у вас корреспондент по имени Холмс?
— Нет, сэр, — потупившись, ответствовал Беннет.
— Итак, вопрос решен. — Профессор уставил на моего спутника свирепый взгляд. — Должен сказать, джентльмены, — он резко подался вперед, опершись костяшками пальцев о столешницу, — что ваше появление теперь выглядит вдвойне подозрительным!
Холмс пожал плечами.
— Мне остается лишь извиниться перед вами за наш ошибочный приход.
— Этим вы не отделаетесь, мистер Холмс! — резко завизжал пожилой джентльмен, и его лицо вдруг исказила гримаса немыслимой ярости. Он заступил нам путь к двери, бешено размахивая в воздухе кулаками. — Не думайте, что вам удастся так легко отсюда уйти!
В дикой злобе, с какими-то странными ужимками, он обрушил на нас потоки брани. Уверен, что нам бы только силой удалось пробиться к выходу, не вмешайся мистер Беннет.
— Дорогой профессор, — закричал он, — подумайте о своем положении в обществе! Что скажут о вас в университете! Мистер Холмс — человек, пользующийся в Лондоне доброй известностью. Нельзя так вести себя с ним из-за какого-то недоразумения!
Наш слишком неприветливый хозяин угрюмо сделал шаг в сторону. После всего, что сопровождало нашу встречу, было большим облегчением снова очутиться в тени университетской аллеи. Но Холмса это происшествие, по-видимому, лишь позабавило.
— У нашего маститого ученого явно не в порядке нервы, — заметил он. — Допускаю, что мы, вторгаясь к нему, были не очень тактичны, однако же смогли пронаблюдать его в непосредственной близости. Что и было необходимо. Но слышите, Ватсон: он отправился в погоню за нами! Как видите, ярость действительно не позволила ему оставить нас в покое.
К моему облегчению, вместо разъяренного профессора из-за поворота аллеи выбежал его ассистент. С трудом переводя дух, он остановился напротив нас.
— Мне так тяжело было наблюдать за этой сценой, мистер Холмс! Я должен извиниться перед вами.
— Не волнуйтесь, юноша! Человек моего рода занятий привык сталкиваться и с худшим.
— Но я действительно никогда не видел профессора в таком возбужденном состоянии! С ним просто боязно находиться рядом. Вы понимаете теперь, почему мы с его дочерью так беспокоимся? При этом о помрачении ума речь не идет: его рассудок совершенно ясен!
— Даже чересчур! — кивнул Холмс. — В этом и состоит моя ошибка. Как видим, память у него существенно крепче, чем я ожидал. Между прочим, нельзя ли, раз мы уже здесь, взглянуть на окно комнаты мисс Пресбери?
— Вот оно, посмотрите. Второе слева, — показал мистер Беннет, когда мы, пробравшись через кусты, вышли на участок, откуда был хорошо виден весь особняк.
— Ого, туда совсем не просто залезть. Хотя… Посмотрите: снизу тянется плющ, а над ним, вон там, водосточная труба. Все это, что ни говори, — точки опоры.
— Я бы, честно говоря, не смог туда влезть, — признался мистер Беннет.
— Разумеется! Для обычного человека это, безусловно, будет крайне рискованным делом.
— Мистер Холмс, я должен сделать вам еще одно признание. Мне удалось добыть координаты того господина, которому профессор отправляет письма по лондонскому адресу. Сегодня утром мне удалось скопировать адрес. Поступок, позорящий честь личного секретаря, — но что мне еще оставалось!
Холмс взглянул на адрес — и спрятал бумажку в карман.
— «Дорак»? Интересное имя! Славянское, как я думаю. Пожалуй, это — важный элемент. Возвращаемся в Лондон сегодня же: не вижу смысла оставаться здесь. Арестовывать вашего шефа не за что — он не совершил ничего преступного. Поместить его под наблюдение врачей тоже нет никаких оснований: невозможно доказать, что его разум пошатнулся. Остается лишь тактика выжидания…
— Но как же нам с Эдит быть?
— Наберитесь терпения, мистер Беннет. События, думается, начнут разворачиваться очень быстро. Если я хоть что-то правильно понимаю — перелома можно ожидать во вторник. В этот день мы, разумеется, прибудем в Кэмфорд. При всем том могу признать, что обстановка в доме крайне напряженная. Так что, если у мисс Пресбери есть возможность продлить свою отлучку…
— Это несложно.
— Тогда пусть она останется в Лондоне до тех пор, пока мы не убедимся, что опасность полностью миновала. А ваш шеф пусть ведет себя, как его душе угодно, не надо ему возражать. Насколько я понял, когда он в хорошем расположении духа, с ним вполне можно ладить…
— Смотрите, вот он! — испуганно прошептал Беннет.
Мы увидели сквозь листву, как в дверном проеме возникла высокая, статная фигура профессора. Он стоял, чуть наклонившись вперед и как-то странно покачивая свешенными вдоль корпуса руками. Оглядываясь туда-сюда, он вертел головой из стороны в сторону. Беннет тут же махнул нам рукой в знак прощания и, скрывшись за деревьями, вскоре вынырнул из-за крон деревьев рядом с профессором. Они отправились в дом, говоря о чем-то друг с другом и жестикулируя, — слов не было слышно, но очевидно было, что разговор у них напряженный и, пожалуй, даже яростный.
— По-видимому, сей досточтимый джентльмен догадался, что происходит, — заметил Холмс, когда мы возвращались в гостиницу. — После этой краткой встречи у меня сложилось впечатление, что профессор — личность на удивление ясного ума и прекрасной логики. Легко вспыхивает, как порох, но, тем не менее, я его понимаю: трудно не взорваться, когда за тобой следят детективы — и вдобавок, что нетрудно заподозрить, их послали именно твои домочадцы. Тревожусь за нашего Беннета: должно быть, ему приходится туго.
По дороге Холмс заглянул на почту и послал какую-то телеграмму. И, к вечеру получив ответ, показал его мне:
«Ездил на Коммершл-роуд, видел Дорака. Пожилой чех, любезен и обходителен. Хозяин большого универсального магазина.
Мерсер»
— С Мерсером у вас не было случая познакомиться, — сказал Холмс. — Он обычно выполняет для меня мелкие поручения. Я стремился узнать хоть что-нибудь о человеке, с которым профессор ведет тайную переписку. Он чех — и, очевидно, это имеет отношение к поездке в Прагу.
— Ну, наконец хотя бы что-то к чему-то имеет отношение! — сказал я. — Прежде мы имели только набор непостижимых и никак не связанных явлений. Вот, к примеру, можно ли объединить изменение характера овчарки — и поездку профессора в Чехию? Или оба этих факта — с человеком, гуляющим на четвереньках по ночному коридору? Но что загадочнее всего, так это ваши даты!
Холмс с усмешкой потер руки. Разговор этот, к слову, проходил в старинном холле отеля «Шахматная доска», и именно за бутылкой портвейна, упомянутого вчера моим другом.
— В таком случае давайте все это обсудим. И начнем как раз с дат, — сказал он и соединил кончики пальцев, точь-в-точь учитель, обращающийся к своим ученикам. — Как следует из дневника этого учтивого юноши, профессор начал совершать загадочные поступки второго июля — и затем его приступы, если не ошибаюсь, с единственным исключением повторялись каждый девятый день. Да, кстати, и последний такой случай, происшедший в пятницу, был третьего сентября, а предпоследний — двадцать пятого августа. Очевидно, перед нами никак не обычное совпадение.
Я не мог не согласиться с его словами.
— И оттого, — продолжал Холмс, — мы должны сделать вывод, что с промежутком в девять дней профессор употребляет некое снадобье, воздействующее на него кратковременно, но очень эффективно. Из-за чего раздражительность, свойственная Пресбери, заметно обостряется. А посоветовали ему это средство во время той поездки в Прагу, и вот теперь его поставляет чех, торгующий в Лондоне. Клубок распутывается, Ватсон!
— А как же собака, и лицо в окне, и человек на четвереньках? — возразил я.
— Ну что ж, я думаю, мы разгадаем и эти загадки. Полагаю, до вторника ничего не случится — а до тех пор мы будем лишь поддерживать связь с Беннетом и наслаждаться радостями, которые доставляет нам этот маленький чудесный городок.
Наутро мистер Беннет зашел к нам и рассказал о последних событиях. Холмс был прав, прошедший день для нашего молодого друга оказался несладким. Профессор не винил его открыто в инспирировании нашего визита и, тем не менее, обращался с ним чрезвычайно сурово, даже враждебно. Чувствовалось, что шеф был оскорблен не на шутку. Но утром вел себя так, словно бы ничего не случилось, и, как всегда, прочел великолепную лекцию в битком набитой аудитории.
— И если бы не эти загадочные приступы, — заключил Беннет, — я мог бы решить, что он сегодня свеж и полон энергии, как никогда, и ум по-прежнему ясен. Но все-таки это не наш профессор, не близкий нам человек, которого мы знали столько лет…
— Я полагаю, что минимум неделю бояться вам нечего, — сказал Холмс. — Я сильно занят, а доктор Ватсон должен спешить к своим пациентам. Уговоримся, что во вторник примерно в это же время суток мы встретимся здесь, в гостинице. Я абсолютно уверен, что в следующий раз до того, как распрощаемся, мы непременно узнаем причину всех ваших волнений и страхов. Ну а сейчас пишите нам и сообщайте обо всем, что происходит.
После этого я не видел своего друга несколько дней, а вечером в понедельник получил опять краткую записку с просьбой встретиться завтра на вокзале. Когда мы сели на поезд, идущий в Кэмфорд, Холмс сообщил, что в особняке Пресбери пока все спокойно, ничто не нарушает заведенного распорядка, и поведение хозяина тоже остается в пределах нормы. Об этом же сказал и мистер Беннет, посетив нас вечером в нашем обычном номере «Шахматной доски». И добавил:
— Нынче профессор получил от своего лондонского корреспондента письмо и маленький сверток — помеченные, как всегда, крестиком, и потому я их не открывал. Это все.
— Думаю, и этого вполне хватит, — мрачно произнес Холмс. — Что ж, мистер Беннет, сегодня ночью, я полагаю, мы раскроем эту тайну хотя бы отчасти. Если я рассуждаю в верном направлении, мы сможем закончить нашу историю, однако для этого потребуется внимательно следить за профессором. Так что советую вам не спать сегодня и быть настороже. Когда услышите шаги в коридоре, выгляните наружу и потихоньку двигайтесь за вашим шефом, но не давайте ему, ради бога, этого понять. Я и доктор Ватсон будем находиться поблизости. Ну и еще… Куда профессор прячет ключ от шкатулки, о которой вы нам говорили?
— Обычно носит с собой, на цепочке для часов.
— Вероятно, разгадка скрыта именно там… А замок, если придется, можно и взломать. Кроме вас, есть в доме крепкий мужчина?
— Только Макфейл, кучер.
— А где он ночует?
— В комнатушке над конюшней.
— Не исключено, что он нам будет нужен. Итак, работы на сегодняшний вечер нет, будем следить за развитием событий. До свидания, мистер Беннет! Хотя мы наверняка с вами встретимся еще до рассвета.
Стояла уже почти полночь, когда мы спрятались в кустах напротив крыльца профессорского дома. Несмотря на чистое небо, было довольно-таки прохладно, но, к счастью, мы захватили с собой теплые пальто. Вдруг подул ветерок, и по небу медленно поплыли облака, то и дело закрывая лунный свет. Наше пребывание в засаде было бы чрезвычайно скучным, но этому препятствовало тревожное ожидание развязки и убежденность моего друга, что цепь странных явлений, так беспокоящих нас, сегодня наконец завершится.
— Если девять дней опять вступят в свою силу, — сказал Холмс, — профессор непременно обнаружит перед нами свой второй облик. Все факты говорят об этом: и то, что странное поведение началось именно вслед за поездкой в Прагу, и тайные письма от лондонского посредника, чеха с Коммершл-роуд, действующего, как видно, по указанию из Праги, — да и, в конце концов, сегодняшняя посылка, полученная от этого самого чеха. Какое средство употребляет профессор и для чего — мы сейчас не можем понять; но, без сомнения, это снадобье ему доставляется из Праги. И принимает он его по четкому предписанию: на каждый девятый день. Именно на это я и обратил сразу внимание. Однако симптомы, которые возникают в результате, весьма загадочны. Вы, доктор, не заметили, как выглядят средние суставы его пальцев?
Мне пришлось сознаться, что нет.
— Переразвитые, покрытые мозолями — похожего я никогда не видел, при всем опыте моей работы. Всегда первым делом бросайте взгляд на кисти рук, Ватсон. А потом уже изучайте манжеты, ботинки, брюки в области коленей… Да, суставы весьма необычные. Такие мозоли образуются лишь в случае, если ходить на… — Тут Холмс запнулся — и вдруг хлопнул себя по лбу. — О боже мой, Ватсон, ну какой я осел! Так нелегко представить — но вот она, разгадка! И тут же все распутывается! Странно, что я прежде не видел логику событий. Суставы, отчего я не думал о суставах? И, кстати, собака! И плющ!.. Нет, пожалуй, и вправду наступил срок уйти от дел и отдохнуть на крохотной ферме, о которой я уже столько времени грезил… Но тс-с-с, Ватсон! Видите, он выходит! Теперь проверим, прав ли я.
Дверные створки открылись медленно, и в ярко освещенном проеме показался силуэт профессора Пресбери. В ночном халате, не двигаясь, он чуть наклонился вперед — как и тогда, когда мы с ним в первый раз увиделись, — и так же низко опустил руки.
Затем он спустился с крыльца и сразу же переменился до невероятия: встал на четыре конечности и побежал, без конца подпрыгивая, будто бы энергия переполняла его и хлестала через край. Миновал фасад и свернул за угол. Как только он скрылся, из дверей особняка выскочил Беннет и, крадучись, направился следом.
— Скорей, Ватсон! — прошептал Холмс, и мы бесшумно поспешили через кусты к тому участку, где можно было наблюдать за боковой стеной особняка, опутанной плющом и ярко освещенной молодым месяцем. Мы тут же заметили скорченную фигуру профессора — как вдруг он, прямо на наших глазах, с невероятной ловкостью стал взбираться по стене. Прыгая с ветки на ветку без всякой видимой цели, без труда переставляя ноги и легко цепляясь руками, он прямо-таки ликовал от захлестывающей его свободы ничем не ограниченных движений. Полы его одеяния вились по ветру, и больше всего он сейчас напоминал исполинскую летучую мышь, скользящую в стремительном полете вдоль залитой лунным светом стены. Но через какое-то время это, похоже, ему надоело — и он, перепрыгивая с ветки на ветку, устремился к земле. Потом, спустившись, опять встал на четыре конечности. И этой дикой, невозможной походкой запрыгал к конюшне. Пес уже давно выскочил наружу, заходясь яростным рыком. Увидев хозяина, он и вовсе будто озверел: рванулся с привязи, содрогаясь, будто в конвульсиях. Профессор, не поднимаясь на две ноги, подобрался к собаке почти вплотную, но так, чтобы она не могла до него дотянуться. Скорчившись, подобно животному, рядом с беснующейся овчаркой, он принялся вовсю ее дразнить. Подбирал с земли гравий и швырял его в пса, норовя попасть по уязвимому носу; тыкал его палкой; гримасничая, кривлялся прямо возле разверстой собачьей пасти — словом, всеми силами старался распалить и без того неуемное бешенство своего недавнего любимца. Сопровождая Холмса в его рискованных приключениях, я насмотрелся всякого — но не припомню более устрашающей картины: эта фигура, еще сохраняющая все признаки человеческого существа, по-обезьяньи беснующаяся перед разъяренным животным и осознанно, изощренно пытающаяся пробудить в нем еще большую ярость.
И в этот миг случилось непоправимое! Цепь выдержала — но овчарка сумела вывернуться из ошейника, рассчитанного на более широкую шею сторожевого пса. До нас донесся резкий звук упавшего железа — в следующее мгновение собака и человек клубком покатились по земле, сплетясь в ближней схватке. Овчарка захлебывалась хриплым рыком, а человек — неожиданно пронзительным визгом, полным звериного ужаса. Разъяренный пес без промаха схватил своего хозяина за горло, изо всех сил стиснул челюсти — и профессор, мгновенно лишившись чувств, оказался буквально на краю гибели. Подбежав, мы бросились их растаскивать. Мы, конечно, сильно рисковали — но выручил Беннет. Лишь одного его окрика оказалось достаточно, чтобы огромный пес тут же угомонился.
На шум из конюшенных помещений выскочил ничего не понимающий со сна, испуганный кучер.
— Так и знал, что этим все кончится! — сказал он, узнав, что случилось. — Я ведь и прежде видел, какие штуки проделывает тут профессор, и был уверен, что в конце концов собака доберется до него.
Роя, без сопротивления с его стороны, снова посадили на цепь. А профессора мы отнесли в спальню, где Беннет, сам медик по образованию, помог мне наложить бинты на его глубоко прокушенную шею. Раны были достаточно серьезны: хотя клыки и не затронули сонную артерию, но все-таки Пресбери потерял много крови. Однако через полчаса опасность для жизни была ликвидирована. Я сделал раненому укол морфия — и он заснул глубоким сном.
И после этого — только тогда! — мы смогли посмотреть друг на друга и обсудить сложившуюся ситуацию.
— Мне кажется, его должен осмотреть первоклассный хирург, — сказал я.
— Нет, не дай бог! — возразил Беннет. — Пока лишь домашние знают, что случилось с профессором, история будет храниться в секрете. Но если это станет известно кому-то постороннему, начнутся толки и сплетни. Необходимо помнить о положении профессора в университете, о его европейской известности, да и о том, как воспримет такие пересуды его дочь.
— Вы абсолютно правы, — сказал Холмс. — Полагаю, сейчас, когда мы можем действовать свободно, у нас есть шанс избежать огласки и при этом исключить вероятность повторения нынешнего прискорбного случая. Мистер Беннет, возьмите, пожалуйста, этот ключ на цепочке. Макфейл проследит за больным и в случае чего известит нас, а мы отправимся поглядеть, что же лежит в загадочной шкатулке профессора.
Предметов там было немного, но чрезвычайно важных: пара флаконов, пустой и только-только начатый, а также шприц и несколько писем. Корявый почерк и крестики под марками свидетельствовали, что это именно те конверты, которые не должен был вскрывать секретарь. Отправителем всюду значился «А. Дорак», проживающий на Коммершл-роуд; в основном это были извещения, что профессору Пресбери переслан новый флакон с препаратом, либо денежные расписки. Но нашелся все же и конверт с австрийской маркой, проштампованный в Праге и надписанный, судя по почерку, образованным человеком.
— Как раз то, что мы искали! — воскликнул Холмс и достал письмо из конверта.
«Уважаемый коллега! — с интересом прочитали мы. — После Вашего визита я немало размышлял над Вашими обстоятельствами. А они таковы, что у Вас просто нет иной возможности справиться с ними, не воспользовавшись моим средством. И все-таки убедительно прошу Вас быть внимательным при его приеме, поскольку должен с сожалением признать, что оно совсем не безопасно.
Наверное, мы допустили ошибку, применив в нем сыворотку большого лангура, а не какой-нибудь из человекообразных обезьян. Лангуром мы воспользовались, как я говорил Вам, лишь оттого, что иной возможности не было. Но это животное передвигается исключительно на четырех конечностях, к тому же обитает на деревьях, т. е. является преимущественно лазающим. В то время как у человекообразных есть по крайней мере склонность к двуногому наземному передвижению, да и по ряду других признаков они намного ближе к человеку.
Убедительно прошу Вас сохранять тайну о нашем эксперименте во избежание преждевременной огласки. В нее посвящен лишь один мой клиент — наш английский посредник А. Дорак.
Буду Вам весьма признателен, если согласитесь еженедельно посылать мне Ваши отчеты.
С искренним уважением,
Ваш Г. Левенштейн»
Левенштейн! Увидев эту фамилию, я сразу же припомнил краткую газетную заметку об экспериментах мало кому известного ученого, который стремился раскрыть тайну омоложения и создания жизненного эликсира. Левенштейн, пражский ученый! Левенштейн — автор чудесной сыворотки, которая якобы дарует человеку небывалую силу, подвергшийся остракизму со стороны ученого мира за нежелание делиться секретом своего открытия…[1]
Я сообщил друзьям все, что удалось вспомнить об этом Левенштейне, а Беннет тут же отыскал на полке зоологический справочник.
— «Большой лангур, или хульман, — прочитал он, — крупная обезьяна, живущая в лесах на склонах Гималаев. Это самый крупный и близкий к человекообразным вид приматов из числа обитающих в Индии…»
Далее следовала масса уже чисто зоологических подробностей.
— Таким образом, мистер Холмс, — радостно заявил Беннет, — все выяснилось! С вашей помощью мы все-таки определили истоки зла!
— Подлинные истоки зла, — уточнил Холмс, — это, конечно же, запоздалая любовная страсть — и даже не сама по себе, а лишь вкупе с обуявшей пожилого профессора мыслью, что для исполнения всех его желаний требуется одна только молодость. А это, к сожалению, невозможно. Того, кто пытается вывести себя из-под действия законов, которые для всех начертала природа, неизбежно ожидает беда. Даже лучший, умнейший представитель людского рода способен опуститься до уровня неразумной твари, если изберет иной путь, а не предначертанный ему природой…
Холмс немного помолчал, разглядывая флакон с прозрачной жидкостью. Какие мысли обуревали его в этот миг? Я узнал об этом, когда мой друг решительно воскликнул:
— Я отправлю этому человеку письмо — и дам понять, что он, пропагандируя свой метод, совершает тяжкое преступление! А нам, господа, можно уже не волноваться ни о чем. Беспокоит меня лишь то обстоятельство, что рецидивы подобного явления в дальнейшем все же не исключены. Отыщутся и другие люди, которые, вполне возможно, начнут действовать куда изощренней. В этом я и вижу опасность для всего человечества! Причем опасность чрезвычайно грозную. Представьте себе этот мир, Ватсон: корыстолюбец, сладострастник, никчемный хлыщ — кто из них откажется продлить срок своей пустопорожней жизни?! И лишь носители подлинной духовности будут, как и прежде, стремиться не к этому, а к высоким целям… Дикое и чудовищное соотношение! В какую же омерзительную помойку превратится тогда наше злосчастное будущее!
При этих словах Холмс из предсказателя грядущих бед вдруг превратился в человека действия. Он резко поднялся, чуть не опрокинув стул.
— Итак, мой дорогой Беннет, теперь мы с вами, как я понимаю, легко соединим вместе все факты, которые прежде нам виделись разрозненными. Вполне естественно, что первым, кто обнаружил перемену в вашем шефе, был пес. Для того собаке и дано обоняние! И не своего прежнего хозяина атаковал Рой, а пришедшую на его место обезьяну. Верно и обратное: именно она — обезьяна, а не профессор — истязала пса. Что касается лазанья, то для обезьяны это не риск, а удовольствие! У окна же мисс Пресбери обезьяна, по-видимому, оказалась лишь случайно…
Полагаю, Ватсон, нам еще хватит времени выпить по чашечке чая до отхода поезда на Лондон.
СЛУЧАЙ В ПОЛКУ
Это была крайне деликатная история. Думаю, у нас в Третьем Карабинерском полку ее забудут не скоро — то есть вообще не забудут.
Нравы в Третьем Карабинерском были столь же свободны, сколь тверда дисциплина, так что если в полк прибывал простой и незамысловатый служака, склонный жить исключительно по уставу — что ж, ему в этом смысле тоже предоставлялась полная свобода действий и его армейская карьера абсолютно не страдала. Но все же есть предел тому, что Полковник, при всем своем великодушии, считал допустимым. А уж коль скоро Полковник был ярым сторонником честной игры во всех смыслах, то и в первоначальном смысле, то есть за карточным столом, о нарушении ее, разумеется, не могло быть и речи. В таких вопросах даже тень подозрения — нечто абсолютно чудовищное.
Ну сами посудите. К библейским заповедям и ко всякому писаному кодексу можно относиться примерно так же, как к залпам арабских ружей при Кассасине:[2] ты учитываешь их значимость, принимаешь к сведению, но идешь сквозь них с этакой веселой беззаботностью, ведь, в конце концов, рисковать жизнью — это твоя профессия, не так ли? Но неписаные кодексы, законы чести высятся гранитными бастионами меж руин заповедей и уставов. Они кратки, ясны и порой «неудобны», но горе тому, кто их нарушит.
А раз уж в любом случае следует поступать по законам чести, то среди этих законов есть и вот какой: карточные долги надо платить. Поступать иначе попросту не спортивно. Это все равно что белое перо[3] — а такими перьями Карабинеры сроду отмечены не были и вовек не будут.
Короче говоря, кодекс был прост, в каком-то смысле даже примитивен, однако соблюдался свято — чем далеко не всегда могут похвастаться более сложные и развитые системы.
Если уж и был в офицерском собрании человек, который мог считаться у юных субалтернов живым эталоном кодекса, то таковым следует считать майора Эррингтона. Он был человек в возрасте, то есть старше всех остальных Карабинеров и не моложе Полковника (который нам, юнцам, тогда казался стариком); прошел добровольцем через две войны, после одной из них еще какое-то время работал как военный атташе; нес на своем теле рану от пули, выпущенной из винтовки Бердана, — a у нас, надо сказать, эту винтовку всегда считали куда более неприятной штукой, чем афганские мушкеты-джезали или даже те ремингтоновские винтовки, которыми были вооружены солдаты Араби-паши.
Все мы прошли Египет и Судан, но только майор мог мельком обмолвиться о том, как он рядом с Гурко пересекал Балканы или проехал мимо свиты Красного Принца всего за два дня до Гравелотта, — и каждый из нас смущенно опускал взгляд, каждому казались мелки наши победы над фуззи и патанами,[4] каждый невольно задумывался о том, как мог выглядеть мир, если бы вместо министерства иностранных дел всем заправляли молодые офицеры Третьего Карабинерского — и каждый приходил к выводу, что этот мир был бы гораздо лучше. Во всяком случае, энергичнее.
Вы, конечно, сейчас подумали, что майор не упускал случая козырнуть своими заслугами. Ничего подобного! Он был не просто вежлив, но прямо-таки чрезвычайно деликатен. Пожалуй, это можно было назвать его единственным недостатком, потому что всему своя мера, особенно в условиях военного лагеря. Во время сражения трудно было пожелать себе лучшего командира, чем Эррингтон, но вот в мирное время он почти не умел быть строгим руководителем. Даже когда перед ним представал пьяный как сапожник нижний чин, только что совершивший вопиющее, на грани дезертирства или вроде этого, правонарушение перед уставом — майор, конечно, сурово хмурил брови, метал глазами молнии и говорил с ним очень грозным голосом, но солдат таким не обманешь: они все равно чувствовали, что перед ними «отец-командир», причем больше отец, чем командир…
Еще надо сказать вам, что Эррингтон происходил из очень богатой семьи, он был обеспеченнее всех в полку и мог позволить себе свободно относиться к деньгам — но тратил не больше, чем любой другой офицер. Иные из нас, самые юные, негласно записали его в скупцы — но остальные, наоборот, считали это очередным примером особой деликатности майора: он не хотел выставить себя слишком богатым, а точнее, всех прочих слишком бедными.
Неудивительно поэтому, что мнение майора для нас значило чрезвычайно многое. Мы, молодые офицеры, буквально смотрели ему в рот. В любом полку случаются всякого рода ссоры, конфликты и недоразумения, которые нельзя ни загонять внутрь, ни, тем более, выносить наружу, так что для их разрешения требуется мудрое и авторитетное суждение кого-нибудь из старших командиров. Майор, попыхивая сигарой, терпеливо выслушивал суть дела, затем возводил глаза к потолку, словно наблюдая за душистыми клубами сигарного дыма, — и говорил: «Думаю, Джонс, что вам лучше бы взять свои слова обратно» или «При этих обстоятельствах, Хэл, ваши действия следует считать оправданными», после чего вопрос оказывался улажен наилучшим образом.
Словом, скажи нам кто-нибудь, что Полковник украл полковой сервиз или что наш капеллан пригласил к чаю единственного в Третьем Карабинерском атеиста (таковым у нас был старший сержант), мы бы удивились этому меньше, чем слуху, будто майор Эррингтон может быть замешан в чем-нибудь постыдном. Но этот слух действительно возник.
Дело обстояло так. Не помню, упоминал ли я уже, что Полковник был человек в высшей степени азартный. Карты, кости, скачки, верный шанс либо почти безнадежный — ему было все равно: лишь бы держать ставку за или против хоть чего-нибудь. Это было приемлемо, когда игра шла в нашем офицерском кругу, где ставки обычно не поднимались выше шиллинга за очко и полукроны за вист. Даже когда Полковнику не повезло в борьбе за кубок того регионального чемпионата, который проводился в масштабах всего Третьего Карабинерского — что ж, там ставки тоже не выходили за пределы разумного.
Но когда он вдруг решил подписаться на американские железнодорожные акции, то снял для этого с банковского счета все свои сбережения (приносившие верных семь процентов в месяц), да еще и кредит в том же банке взял — и вложил эти средства в дело, где игроки сидят по ту сторону океана, а банкомет вообще расположился на Уолл-стрит. Бесполезно было пытаться объяснить старику, что по сравнению с этим риском рулетка в Монте-Карло — милая семейная игра «на интерес». Последовало неизбежное: железнодорожная линия сменила владельца (ее приобрел какой-то особо крупный финансовый туз), прежние акции упали с шестидесяти двух пунктов до цены бумаги, на которой были напечатаны, — а дела нашего славного командира замерли в миллиметре от процесса о банкротстве. И не просто замерли, но неуклонно двигались к тому самому процессу. На сотые доли миллиметра в день — однако де-факто это означало, что времени остаются считаные недели. А как только дело поступит в суд, Полковник, разумеется, в тот же день подаст в отставку.
Шила в мешке не утаишь, так что мы все знали — хотя, разумеется, не потому, что наш командир хоть словом об этом обмолвился: он был горд как Люцифер. Итак, Полковник упорно молчал, а службу в эти роковые недели нес особенно безупречно — но все-таки в глазах его сквозила смертная тоска, а мундир иной раз переставал сидеть на фигуре идеально и нелепо обвисал, подобно штатскому сюртуку.
Конечно, все мы очень жалели нашего славного старика, но не знали, чем тут можно помочь. А-а, ладно, скажу вам честно: даже больше, чем за самого полковника, мы беспокоились за его дочь, юную мисс Виолетту. Все Карабинеры буквально обожали Виолетту Лоуэлл, и ее горе стало горем полка как такового. Была ли она идеальной красавицей? Положим, нет — но очень хорошенькая девушка, свежая, как английская весна, очень умная, очень чуткая, очень… Да что там говорить: для всех она была образцом женственности. Знаете, есть такие девушки — вот только увидишь их и уже больше не можешь о них не думать, причем не в красоте как таковой тут дело. Такое это наслаждение — просто быть рядом с ними, слышать их голос, видеть их счастливые лица… От самого их присутствия жизнь становится лучше и чище. Словом, если вы таких девушек встречали, то поймете меня без долгих объяснений.
Именно такой была наша Виолетта. Мы буквально боготворили ее, все без исключения, от «старого» майора до только что поступившего в полк субалтерна, у которого, конечно, бритвенные принадлежности в экипировку входили, но на практике еще не использовались за ненадобностью. И когда на юное личико Виолетты упала тень той печали, которая угнетала ее отца, нам тоже стало не до веселья. И даже тот факт, что как раз тогда наш полковой поставщик отправил Карабинерам большую партию «Дойца-Гельдерманна»[5] урожая 81-го года, не мог вернуть нам хорошее настроение.
Майор переживал больше всех. Мне кажется, что он принял ситуацию даже ближе к сердцу, чем сам Полковник (кстати, майор-то как раз был единственным, кто по старой дружбе попытался намекнуть, что, мол, не стоит покупать те проклятые акции). Наверное, Эррингтон, понимая, что позор банкротства станет для его старого друга смертельным ударом, винил себя в том, что высказал свои предостережения недостаточно настойчиво. Ну и еще — кажется, он совсем по-особому относился к дочери Полковника. С уверенностью этого сказать мы не могли: майор был человек сдержанный, даже, пожалуй, застенчивый, он свои чувства, очень по-английски, скрывал так тщательно, словно они были позорными недостатками. Но все-таки иной раз удавалось заметить, как теплел его взгляд, устремленный на юную Виолетту. То есть у каждого из нас теплел, однако у него — иначе. Во всяком случае, так нам казалось.
У Полковника было обыкновение после ужина удаляться в свой кабинет. Это не означало желания остаться в одиночестве: каждый, кто последовал бы за ним, оказывался там долгожданным гостем. Майор Эррингтон и несколько офицеров, включая и вашего покорного слугу, обычно как раз следовали туда — и майор с Полковником обычно садились играть в вист друг против друга, а мы, все остальные, кто тоже вистовал, кто просто становился вокруг стола посмотреть на игру. О, уверяю вас, там было на что посмотреть! Полковник был игроком не просто азартным, но поистине великолепным, причем играть он предпочитал на крупные ставки. Близок ли он был к банкротству, далек ли — от этого ничего не менялось: по крайней мере в офицерском собрании Полковник считал для себя делом чести придерживаться прежнего кодекса.
А вот поведение майора в последнее время сделалось несколько странным. Одно время он вообще отказывался играть на деньги; но недавно, как раз когда с Полковником произошла эта неприятная история, своему обыкновению изменил. Не просто ответил на традиционный вызов полковника, но, похоже, косвенно побуждал его повышать ставки — и вообще играл как человек, очень озабоченный выигрышем: крайне внимательно наблюдал за сдачей карт, следил, чтобы все денежные ставки сразу выкладывались на стол… В тот день майор был просто не похож сам на себя: он нервничал, грубо ошибался в игре — но фортуна все равно оказалась на его стороне. Тяжело было видеть, как в результате этой игры Полковник, и так-то потерявший почти все, делается еще беднее, а самый богатый человек полка — еще богаче. Однако майор по-прежнему был для нас эталоном чести, поэтому мы верили: если он поступает именно так, а не иначе, значит, для того есть особо веские причины.
Да, так думали все мы… кроме одного. Маленький и молодой секонд-лейтенант Петеркин был приписан к Третьему Карабинерскому совсем недавно, но он вообще был из молодых, да ранний: если бы существовала книга «Инструкция для мальчиков: 50 способов казаться взрослым еще до того, как у тебя пробьются первые усы», то он бы оказался ее усерднейшим читателем. В том числе и по части карточных игр.
В девять лет он, благо финансы семьи позволяли, уже сам делал букмекерские ставки, в десять скопил из выигрышей очень приличную сумму, а к тринадцати годам ставки уже не делал, но принимал — иными словами, держал подпольный тотализатор. Так что к тому времени, как обзавелся первыми усами и лейтенантскими погонами, был он уже настолько сведущ, проницателен и опытен, что мог дать фору иному ветерану. В области карт, естественно.
Для юнца, к тому же «из чужаков», это не такое уж достоинство. Однако мужеством Петеркин тоже не был обделен, да и чувство юмора у него имелось — в общем, мы с ним прилично ладили. До тех пор, пока он не обронил против майора первое слово подозрения.
Отлично помню, как это случилось. Дело было утром, в бильярдной: нас, лейтенантов, там собралось шестеро, и Остин, молодой капитан. Он как раз гонял с Петеркином шары — и вдруг с грохотом швырнул кий на пол.
— Вы — проклятый маленький лгун, Петеркин! — воскликнул Остин.
Мы понятия не имели, в чем там дело, но сразу повернулись к ним. Петеркин абсолютно не выглядел смущенным. Он спокойно натирал мелом набойку своего кия.
— Думаю, капитан Остин, вскоре вам придется пожалеть о своих словах, — спокойно, даже почти весело произнес Петеркин.
— Вы так считаете?
— Да. Более того скажу: полагаю, вы за них передо мной извинитесь.
— Да неужто?
— Вот именно. Все, чего я прошу, — пойти сегодня со мной вечером в… скажем так, разведку и убедиться во всем собственными глазами. А завтра все мы снова встретимся здесь в этот же час, и вы сообщите ныне присутствующим джентльменам свои выводы по поводу… предмета нашей размолвки.
— Эти джентльмены не имеют к ней никакого касательства!
— Простите, капитан, но отныне имеют. Вы бросили мне… гм, необдуманное обвинение в их присутствии — и взять свои слова назад вам тоже надлежит в их присутствии. Впрочем, если желаете, я сейчас объясню им суть нашего спора и они сами решат, как…
— Ни слова! — гневно воскликнул Остин. — Не смейте повторять эту клевету!
— Что ж, как хотите. Но в этом случае вы должны согласиться на мои условия.
— Хорошо, я сделаю это. Сегодня вечером я отправлюсь в то, что вы изволили назвать «разведкой», а завтра, когда мы все встретимся здесь, публично расскажу о ее результатах. И уж будьте уверены, молодой человек: после этого вам придется сменить место службы, потому что пребывание в Третьем Карабинерском для вас сделается очень некомфортным!
Капитан удалился, в ярости хлопнув дверью. А Петеркин только хмыкнул и продолжил катать шары уже в одиночестве, оставаясь совершенно глух к нашим вопросам по поводу того, что же такое сейчас произошло.
Разумеется, на следующее утро все мы собрались в бильярдной. Петеркин по-прежнему не говорил ничего — но в глазах его мелькнул странный блеск, когда капитан, единственный из нас слегка запоздавший, появился на пороге.
Остин словно постарел лет на десять. Таким удрученным мы его еще не видели.
— Ну что ж, — произнес он, — никогда бы не поверил этому, если бы не увидел собственными глазами, — никогда! Вынужден, черт побери, взять свои слова обратно. Петеркин, вы были правы. Представить себе не мог, что офицер Карабинеров способен пасть так низко…
— Да, это скверная история, капитан, — кивнул Петеркин. — Конечно, заметил я ее только случайно, но раз уж так…
— Раз уж так — то вы правильно сделали, что не стали молчать. Такие случаи выносят на офицерский суд чести.
— Если это такое дело, в котором затронуты вопросы чести, то, полагаю, прежде всего следует посоветоваться с майором Эррингтоном, — вступил в беседу лейтенант Хартридж.
Капитан горько усмехнулся.
— Ладно уж, молодые люди, придется вам сказать, — произнес он после паузы. — Это не тот вопрос, который можно держать в секрете… Помните, майор недавно играл с Полковником, и на столе были крупные суммы? Так вот, знайте: Эррингтон специально тренируется, отрабатывая шулерский трюк, позволяющий при сдаче карт спрятать одну из них в рукав и тем усилить свою карточную руку.[6] Мы, Петеркин и я, наблюдали эти тренировки собственными глазами. Да, джентльмены, сейчас вы можете сказать мне все, что собираетесь, но повторяю: вчера я стоял напротив окна в комнату майора и видел это, черт побери, своими глазами. А вы же знаете, что наш старина Полковник, при всем мастерстве игры, близорук… Эррингтон передергивал самым бесстыдным образом, будучи абсолютно уверен, что противник ничего не заметит, а никто другой к игре и присматриваться не будет… по крайней мере, в этом смысле. Я… я должен рассказать это Полковнику. Полагаю, это моя обязанность.
— Наверное, нам всем следует присутствовать при игре сегодня вечером, — сказал Петеркин. — Конечно, не подходить к столу вплотную и не таращиться на игроков, но быть начеку. Шестеро свидетелей — вполне достаточно, чтобы уладить вопрос.
— Даже шестьдесят свидетелей не заставят поверить меня, что… — начал было Хартридж.
— Что ж, тогда вы просто поверите своим собственным глазам, как мы с секонд-лейтенантом поверили своим, — пожал плечами капитан. — Разумеется, младшим офицерам крайне неловко обвинять в таких вещах одного из своих командиров, человека с двадцатилетним послужным списком — черт побери, блестящим! Но то, что неуместно для нас, уместно для командира полка. А он будет предупрежден, будет бдителен — и сможет поступить так, как сочтет в той ситуации нужным. Шулерство в офицерской компании — не та вещь, которой можно позволить долго существовать. Сегодня вечером мы решим этот вопрос раз и навсегда.
И вот наступил вечер. Мы все собрались в кабинете Полковника. За стол, как и в прошлый раз, сели только двое старших, майор и сам Полковник. Лицо последнего приобрело чуть более багряный оттенок, чем обычно. Это, как нам было известно, являлось несомненным признаком близкой ярости: редкой, но неукротимой.
Лицо капитана Остина было аналогичного цвета. Конечно, он имел основания предполагать, что, если обвинение не подтвердится, гнев полкового командира будет излит на него.
— Какие ставки? — спросил майор.
— По фунту за партию, как и раньше.
— По фунту за каждую взятку, если не возражаете, — предложил майор.
— Отлично. Фунт за взятку.[7] — Полковник надел пенсне и смерил противника изучающим взгядом. Майор перетасовал колоду и дал подснять.
Первые три партии закончились вничью. У майора карты были лучше, но его противник оказался искуснее в розыгрыше.
В четвертой партии сдача снова перешла к майору. Он положил колоду на стол и прикрыл ее локтями так, что мне стало не видно, как он тасует.
Полковник зашел с валета, и майор побил его дамой. Когда он протянул руку, чтобы забрать взятку, Полковник вдруг резко подался вперед в кресле, и с его уст сорвалось столь непривычное для всех, кто знал нашего командира, ругательство.
— Поднимите рукав, сэр! — воскликнул он в следующий миг, вскакивая на ноги. — Ну же! У вас карта под рукавом!
Майор тоже вскочил, опрокинув кресло. Мы все уже были на ногах, но ни один из участников игры не обратил на нас ни малейшего внимания.
Полковник, совершенно багровый от негодования, указывал пальцем на одну из карт, лежащих рубашкой вверх. Майор вытянулся, как на плацу. Он слегка побледнел, но не более того.
— Да, сэр, должен признать: у меня в рукаве карта. Но вы же не станете на основании этого обвинять меня в шулерстве?
Полковник оперся на стол костяшками кулаков.
— Это не первый раз, — констатировал он.
— Вы предполагаете, что я воспользовался шулерской уловкой, чтобы получить над вами несправедливое преимущество?
— Мне нечего «предполагать». Я своими глазами видел, как вы передернули!
— А я-то думал, что у вас была возможность хорошо узнать меня за двадцать лет, — произнес майор Эррингтон неожиданно мягким голосом. — Достаточно хорошо, чтобы вы могли прийти к иным выводам… Имею честь пожелать всем вам доброго вечера, джентльмены.
Майор холодно поклонился и вышел прочь.
Едва лишь дверь за ним закрылась, как распахнулись занавески на противоположном конце кабинета. Там находилась небольшая комнатка, где как раз сейчас мисс Лоуэлл готовила всем нам кофе. И вот она ступила через порог, не глядя ни на кого из нас, только на отца.
— Папа! Я представить себе не могу, что ты сказал такое мистеру Эррингтону! Как ты мог так жестоко и несправедливо его оскорбить?
— Я не сказал ничего несправедливого, дорогая. Капитан Остин, вы видели все? Подтвердите, что я не ошибся!
— Да, сэр. Вы не ошиблись. Я видел шулерский прием. Не только как развивалась партия, но и карту, которую он передернул. Вот она. — Он наклонился вперед и вскрыл верхнюю карту.
— Точно, — воскликнул Полковник. — Это козырный король.
— Так и есть.
— Но кто же в здравом уме передергивает так, чтобы не сдать себе козырного короля, а наоборот, лишиться его? Кстати, на что он его заменил?
Наш командир перевернул карту на столе рубашкой вниз. Это оказалась восьмерка. Полковник присвистнул и запустил пальцы в шевелюру.
— Это ослабило его руку, — сказал он. — Зачем он это сделал?
— Затем, папа, что он намеренно старался проиграть тебе.
— Честное слово, сэр, теперь, когда я задумываюсь обо всем этом, то понимаю: мисс Лоуэлл совершенно права! — воскликнул капитан. — Вот почему он назначил такие высокие ставки, вот почему так из рук вон плохо играл, сегодня и в прошлый раз… Но ему пришли на руки слишком хорошие карты — и майор попытался от них избавиться. Он явно стремился к проигрышу, не знаю уж, по какой причине… О! Простите, сэр…
— О господи! — Полковник застонал от отчаяния. — Сумею ли я остановить…
И он выбежал из кабинета вслед за майором.
Таким образом то, что сперва выглядело как ужасающее нарушение кодекса чести, объяснилось самым благородным образом. Конечно, майор лучше всех знал, насколько Полковник близок к финансовому краху. И, разумеется, он понимал, что его старый друг откажется от любой прямой попытки оказать ему помощь. Вот и попробовал сделать это за карточным столом. Но судьба распорядилась так, что ему пришли слишком хорошие карты, поэтому, желая помочь, майор, наоборот, дополнительно навредил. Чтобы избежать повторения этого, он и воспользовался карточным трюком — недостаточно ловко, ибо плутовать в игре совсем не умел, даже специально потренировавшись для этого, — чем и навлек на себя наши подозрения.
Полковник принес ему самые искренние извинения — и был прощен. А потом произошло чудо: американский миллионер, совсем было обанкротивший железнодорожную компанию, держателем акций которой так опрометчиво сделался Полковник, внезапно скончался — и акции начали стремительно расти в цене. Скоро их стоимость достигла восьмидесяти семи пунктов, так что наш славный командир, как оказалось в итоге, действительно сделал удачную ставку.
Какое-то время мы полагали, что дополнительным залогом примирения станет брак между майором и юной Виолеттой: во всяком случае, на это ставили два и даже три к одному. Но девушка, нарушив все литературные каноны, вышла замуж за очень многообещающего молодого улана из Мадрасского корпуса — и покинула Третий Карабинерский.
А майор в результате так и остался холостяком. И, наверное, таковым пребудет до конца дней своих.
ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Некоторые реалии этого рассказа требуют пояснения для современных читателей. Причем в первую очередь не «картежные», а военные.
Например, в сноске кратко упоминалось, что для военнослужащих британской армии белое перо — традиционный символ трусости. Но история этого символа столь интересна, что заслуживает более развернутого описания.
Восходит он к оперению бойцовых петухов: у их английских пород в норме нет белых перьев, так что любая белая метка выдает примесь «не бойцовой» крови. Если офицеру втыкали в мундир белое перо — это могли сделать сослуживцы, заметившие, что он уклоняется от опасных поручений, или женщины в тылу, если этот офицер норовил слишком явно отсиживаться на тыловой должности, — его военная карьера могла считаться оконченной.
Трактовка этого символа несколько усложнилась лишь начиная с 1914 г., когда он, с одной стороны, начал осознанно использоваться в среде идейных пацифистов, готовых даже пойти на смерть, но не убивать, — а с другой, «женское общественное мнение» как-то уж слишком распоясалось. Активистки принялись направо и налево помечать белыми перьями действительно необходимых в тылу работников оборонных предприятий и государственных служащих… своих любовников, с которыми вдруг «раздружились» (это по тем временам был безотказный способ спровадить надоевшего возлюбленного на фронт)… солдат, приехавших с фронта в краткосрочный отпуск или, того хуже, только что выписавшихся из госпиталя… После этой истерии «награждение» белым пером перестало восприниматься как безоговорочно позорный знак, но рассказ Конан Дойла был написан задолго до того, в 1892 г.
Любопытно, что в американской армии как при Конан Дойле, так и сейчас белое перо — наоборот, почетный знак отличия меткого и отважного стрелка.
Раз уж речь зашла о таких стрелках, придется сказать и об упоминающемся в рассказе оружии.
Джезали — длинный мушкет афганских горцев, довольно часто с нарезным стволом: оружие, при всей своей примитивности, очень мощное, дальнобойное и точное, особенно когда в качестве спускового устройства использовался английский кремневый замок, снятый с ружей типа «смуглянка Бесс» (давно устаревших и переданных индийским союзным племенам… от которых они нередко попадали в руки племен уже откровенно вражеских). Англичане успели познакомиться с ним в нескольких войнах: именно пулей джезали был ранен… доктор Ватсон (по «Этюду в багровых тонах» — в плечо, а вот по «Знаку четырех» — в ногу). Если же говорить о длительности боевого применения, то джезали вообще не имеют аналогов: некоторым из них довелось пострелять не только по современникам Ватсона и Холмса, но даже по советским солдатам эпохи «выполнения интернационального долга».
Заслуженно известная оружейная фирма Ремингтона больше прославлена револьверами, чем винтовками, но и винтовок за свою вот уже почти двухвековую историю выпустила немало. В данном случае речь идет об однозарядной «ремингтоновке» с качающимся затвором, выпускавшейся с 1867 по 1912 г. Она побывала на множестве войн, от Франко-прусской (где была последней новинкой) до Первой мировой (по меркам которой эта винтовка, конечно, являлась совсем устаревшей), состояла на вооружении без малого трех десятков стран — включая и Египет времен Араби-паши.
Винтовка Бердана (знаменитая «берданка») по происхождению такое же американское оружие, как и продукция Ремингтона, однако вскоре она была принята на вооружение русской армии, там неоднократно модернизировалась и очень хорошо себя зарекомендовала. По мнению многих военных специалистов, это вообще лучший образец армейской винтовки до той поры, когда, уже на исходе XIX в., были разработаны по-настоящему надежные винтовочные магазины, позволившие переключиться с однозарядных конструкций на многозарядные.
К «берданкам» у англичан особое отношение, намек на которое проскальзывает и в этом рассказе (особенно при учете того, что через несколько строк упоминается Гурко). Дело в том, что «неприятной штукой» они считались не только из-за своих боевых качеств. Винтовки Бердана могли оказаться у афганцев главным образом потому, что тогдашняя Россия поставляла им оружие и вообще всячески «подзуживала» совершать набеги на северные районы Индии (теперь это территория Пакистана), британской колонии. Что ж, надо признать: эти намеки имели под собой основание…
Что касается Гурко, то это очень известный в России род, насчитывающий много славных представителей. В данном случае, несомненно, речь идет о генерал-фельдмаршале Иосифе Владимировиче Гурко (1828–1901), который во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., еще в звании генерал-лейтенанта, показал себя как один из успешнейших военачальников эпохи. При каких обстоятельствах с ним мог познакомиться британский военный атташе и каковы тогда вообще были отношения между Россией и Великобританией, нынешние читатели могут судить, например, по «Турецкому гамбиту» Б. Акунина, где неоднозначность ситуации передана вполне объективно. Это был достаточно сложный исторический момент, когда англичане и русские, на момент начала кампании (когда речь шла о спасении Болгарии) бывшие почти союзниками, к ее финалу (когда речь зашла уже о возможности уничтожения Турции) стали почти врагами, причем «царь-миротворец» Александр II, строго говоря, даже отдал приказ, после выполнения которого война с Англией делалась неизбежной, — и только открытый саботаж этого распоряжения высшим военным руководством избавил генерал-лейтенанта Гурко и майора Эррингтона от необходимости сражаться друг с другом.
В следующей фразе майор упоминает еще и Красного Принца. Носителей этого прозвища в Европе было почти столько же, сколько в России Гурко, но упоминание города Гравелотт (где во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. произошло чрезвычайно кровопролитное сражение) позволяет сузить рамки до одного-единственного кандидата. Это член прусской королевской фамилии Гогенцоллернов: принц — точнее, герцог — Фридрих Карл (1828–1885). Прусский, а заодно и русский генерал-фельдмаршал: в то время, при учете родственных отношений между династиями, такое «фельдмаршальство по совместительству» еще было возможно. Прозвище свое Фридрих Карл, в отличие от остальных «красных принцев», заработал дважды — и за красный кавалерийский мундир, и за огненно-рыжую шевелюру. В каком-то смысле Красный Принц может быть назван двойником Гурко: прямой и честный вояка, за пределами своей профессии ничем не интересующийся (так что даже любителям политических оценок трудно оценить его «прогрессивность» или «реакционность»), но в ней достигший такого совершенства, что вызывает восхищение даже у врагов. Под Гравелоттом именно он, в статусе командующего армией, решил в пользу Пруссии исход и битвы, и войны как таковой.
Интереснее другое: при каких обстоятельствах английский офицер мог «проехать мимо его свиты» за два дня до этого рокового для французов сражения? Симпатии Англии тогда были на стороне Франции, она даже почти объявила Пруссии войну… все же лишь «почти», так что военный атташе в принципе имел шанс оказаться неподалеку от Красного Принца. Но тогда он вряд ли стал бы этим хвастать в кругу сослуживцев! По-видимому, Франко-прусская война — одна из тех, в которых Эррингтон принимал участие как доброволец, причем сражался он против пруссаков. А мимо окруженного свитой Фридриха Карла проехал, будучи в разведке!
Что касается собственно «карточной» стороны рассказа, то она описана грамотно, но, по мнению специалистов, несколько натужно. Это явно «взгляд со стороны». В число увлечений сэра Артура входили самые разные спортивные игры — но ни одна из карточных…
ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД
Истинным домом Малыша Уилсона следовало считать, по-видимому, Атлантический океан, поскольку ни Англия, ни Америка не выказывали ни малейшего желания принимать его у себя. Однако он ухитрился некими кривыми путями пробраться в Лондон и там внедриться — увы, на самом краешке того социального слоя, который именуют криминальным. Мы с Уолдреном встречались с ним время от времени в маленькой пивнушке с подмоченной репутацией в глубине района Сохо — в одном из тех местечек, которые открываются, когда уходит последний почтальон, и закрываются перед приходом первых молочников. Но беседы шли там весьма примечательные, достойные внимания. К сожалению, невозможно сделать добродетель столь же привлекательной, как порок, потому что добродетель — явление негативное, а порок — позитивное. Человек, не позволяющий себе совершать поступки определенного рода, несомненно, является наилучшим гражданином, однако он начисто лишен обаяния тех людей, которые себе позволяют все. Как ни грустно, но это правда.
Когда Малыш Уилсон принимался разглагольствовать, мы обращались в слух: мир, описываемый им, был нам совершенно неведом, а он умел, в своеобразной грубоватой манере, живописать его так, что тот становился близок нам. Наклонив стул под опасным углом, сдвинув черную сигару в уголок рта, Малыш вводил нас в этот странный подпольный мир больших американских городов, — а гидом он был, несомненно, весьма компетентным. Казалось, что по ту сторону океана он боялся не столько шерифов и полицейского начальства, сколько своих сограждан и сородичей по преступному миру: они явно доставляли ему кучу неприятностей. Для нас служила поучением даже сцена его ухода из погребка рано поутру. Засунув руки под полы пиджака, он бросал быстрые, острые взгляды затравленного зверька направо и налево, стоя в дверях, и лишь затем рисковал явить свою неприглядную личность улице.
Богатый опыт — или живое воображение, или и то и другое — позволяли ему зачаровывать нас, когда ему этого хотелось. В ту ночь, о которой пойдет разговор, он пустился в изложение очень длинной истории. Уолдрен считает, что пересказывать ее бесполезно, поскольку главная ее прелесть заключалась в великом и могучем американском языке. (Например, родную страну Малыш ласково именовал «Амуркой».) Ну, я тоже немножко им владею, в общем-то. Во всяком случае, постараюсь дать вам образчик речей Уилсона.
— Я бы больше успел, — так выразился он, — не будь там той старой юбки с помойным ведром. Расскажу вам все, как было, пока еще свежо в памяти.
Было это в некоем городишке, в Амурке. Названия не скажу, это, понимаете ли, может иметь последствия, и потом, история такая могла случиться в любом из дюжины подобных местечек. Вы только вообразите себе город открытый, нет, просто-таки распахнутый настежь — наверное, никакая власть в мире не могла бы его захлопнуть обратно. Город прогнил насквозь сверху донизу, от мэра до последнего посыльного в отеле. Все было в руках мошенников, бутлегеров, киднепперов, головорезов, рэкетиров, грабителей и прочей шушеры. Притом учтите, что бутлегер и грабитель — это зачастую один и тот же человек: сам занимается продажей спиртного из-под полы, а заодно крадет выручку у других парней. Полиция была приручена, судьи безопасны, окружного адвоката регулярно подкупали, с мэром договаривались. Честного судейского не взялась бы страховать ни одна компания. Гангстеры отправились бы с ним на конную прогулку за денек до вынесения приговора их корешу. Потому ничего удивительного, что вам пришлось бы вызвать в суд с полсотни людишек, прежде чем удалось бы подцепить хоть одного. Безопасности не было нигде. Даже представитель прокуратуры штата занимался рэкетом по игровым автоматам в аптеках. Да, сэр, у этого старого городишки, как у бурно кипящего котла, напрочь сорвало крышку. Я там был на подхвате и потому все хорошо знаю: сам промышлял сбытом поддельного пива, пока полиция меня не закупила.
Все это нарастало вроде как бы постепенно. Поначалу приличных граждан забавляло, когда всякие итальяшки и испанчики сшибали друг друга из разных там автоматов, даже Томпсонов.[8] Банды ссорились: какой-нибудь парень с тремя «и» в фамилии требовал не мешать ему работать в такой-то части города, а другой парень, с тремя «о», начинал ему вставлять палки в колеса и поигрывать мускулами. Затем начиналась пальба, самая отчаянная, и в кого пуля ни попадет — значит, одним мошенником стало меньше. Но мало-помалу приличные граждане начали соображать, что вскоре они станут следующей мишенью для стрельбы. Тогда кое-кто зашевелился, завозмущался. Здесь уже почуяли поживу рэкетиры, каждый лавочник подвергся шантажу либо нападению горилл, спущенных с поводка, — улицы украсились кучами ломаного добра, вышвырнутого наружу, причем поверх кучи выбрасывали самого владельца. Да и деньги тоже были на стороне проходимцев, а деньги в возлюбленной стране Господа — это все. О да, подонки распоясались, и никто не мог придумать, как избыть эту беду. Но выход был, и нашел его один парень, по имени Гидеон X. Фэншоу. Я готов воздать по заслугам Гидеону, ей-ей.
Он был странный тип, этот Гидеон X. Фэншоу. Одни считали его чокнутым, другие — гением. Он был очень, очень богат, поскольку состоял младшим партнером у Гоулда и Фэншоу, по части недвижимости. Всю свою жизнь он просидел в библиотеке среди книг, весь в мечтах, но порой как встрепенется — и начинаются разные дела. Скажем, один раз проснулся он и взобрался на самую высокую гору Аляски. В другой раз, проснувшись, убил троих взломщиков, проникших в его дом. Во время войны тоже мечтать бросил, и целый год никто его не видал, пока он не вернулся без ноги, зато с французской медалью. Да, странный он был и не очень-то легкий в обращении — в голове полно шестеренок для думания, но рот — как крысоловка, а челюсть вообще как у людоеда. Теперь он мечтать бросил и примечал, что творится вокруг. Вскоре кое-кому от этого стало жарко. Учтите, люди, можете мне верить: в Амурке полно опасного народу, но самый опасный — рядовой гражданин, когда его загоняют в угол и нет у него иного выхода, кроме как самому забодать кого-то. Слыхали про общество Бодрствующих из Сан-Франциско? Ну вот, про это я и толкую.
С месяц или около того Гидеон только крутился по городу в своей машине, беседовал с одним, расспрашивал другого и нащупывал свой путь. Потом начались собрания — ночь напролет — в его библиотеке, где обсуждалось поведение тузов закона и полиции, и добывались адреса, и создавались планы, и всем объяснялось общее положение дел, и распределились расходы. В то время я состоял стукачом при полиции, и меня зазывали на одну-две такие встречи, где набиралось до двух сотен выдающихся граждан и где меня норовили расспросить, чего я знаю. Мне хорошо платили, но велели захлопнуть пасть и помалкивать, а не то меня самого прихлопнут, и, ей-ей, у тех парней слово с делом не расходилось.
Во всей нашей конторе был один-единственный честный человечек, а именно старина Джек Барлоу, начальник полиции. Силеноку него недоставало — иначе его бы уж давно выставили из города или в покойники зачислили, — но весь он был такой белый, прямо-таки чистенький. Однажды вечером Гидеон Фэншоу наведался к Джеку Барлоу, и вот я сейчас вам перескажу, о чем они толковали, своими словами, конечно. Поздоровался Гидеон, оглядел комнату и спрашивает:
— Ну-ка, Джон, колитесь: нету здесь по углам кого слишком любопытного? Никаких стенографисток за углом?
— Если с собой не привели — нету, мистер Фэншоу, — говорит шеф этак по-дружески и подталкивает к нему коробку сигар.
— Честно, Джон?
— Ага. Можете так и считать.
— Ну, тогда я буду говорить без обиняков, Джон. Выкажу каждое слово лицевой стороной. Прежде всего, слыхали вы когда-нибудь про общество ПОКО?
— Признаться, не припоминаю. У меня в голове все эти общества поперепутывались.
— Прекрасно, вот я и пришел вам про это рассказать. В него входит две сотни наилучших граждан, и буквы эти означают: «Пора Кончать».
— В смысле — с мошенниками и бутлегерами?
— Именно. Вы же сами понимаете, Джон, ничуть не хуже меня, что давно пора как-то зашевелиться. Мы все вам верим. Мы знаем, вы-то сами человек честный. Но власти у вас никакой нет. Ваши работнички прогнили все, снизу доверху. Разве не так?
— Да я бы все по местам расставил, и даже быстро, будь у меня поддержка, мистер Фэншоу. Только что я могу? У этих типов — деньги, и они скупили народ на корню.
— Кроме вас!
— Нет, мистер Фэншоу, есть и еще несколько таких. Но что мы можем поделать?
— Поделать вы не можете ничего, Джон. Вот почему мы взялись сделать все за вас. Итак, первым делом — уж простите за прямоту — я знаю, сколько стоит ваша служба.
— Это узнать нетрудно из годовых отчетов. Там это, пожалуй, единственная правильная цифра!
— Хорошо, тогда… — мистер Фэншоу вытащил вязку бумажек из кармана, — вот, возьмите. Это облигации на предъявителя, по первоклассным займам. Берите же и сохраните их!
— Мистер Фэншоу, вы меня оскорбляете. Как же вы можете называть меня честным человеком и делать мне подобные предложения?
— Спокойнее, Джон, не кипятитесь! Вы не поняли, что я имею в виду. Держите эти облигации в качестве гарантии, что вы не пострадаете, если у нас что-то не сложится. Если все пойдет как надо, вы просто отдадите их. Но ежели вас выгонят из-за наших дел, тогда будет лишь справедливо, если мы возместим вам потери, нами же причиненные. Ну, против этого возражать не будете?
— Н-ну… звучит вроде бы довольно хорошо, мистер Фэншоу. Если ради вас я рискую своим местом, значит… в общем, я человек семейный, и мне нужно на что-то жить. Но все зависит от того, чего вы от меня хотите. Ежели мошенничать — лучше сразу выкинуть их в мусор и забыть!
— То, что направлено против мошенников, не может быть мошенничеством. Прежде всего скажите, Джон, есть ли в вашей конторе еще хоть кто-то порядочный?
— Есть. Я, пожалуй, наберу сотни две, на кого стоит положиться.
— Тогда сформируйте из них отдельную бригаду и распорядитесь выполнить все, что им велят, однажды ночью — дату я укажу. Всех прочих держите в главном управлении или где угодно еще, лишь бы не слонялись по улицам. Мы не хотим причинять вред никому из копов, если удастся, а ежели они сунутся между нами и мерзавцами, вреда не оберешься. Можете вы это устроить?
— Пожалуй, это будет разумно.
— Прекрасно. А вам я предлагаю поехать куда-нибудь поразвлечься в такое местечко, где вас не смогут достать по телефону, а заместителю вашему приказать ничего не трогать до вашего возвращения. Тогда у нас будут развязаны руки. И больше нам от вас ничего не нужно.
— Но что вы задумали, мистер Фэншоу?
— Э, лучше не расспрашивайте, Джон. Пока вы ничего не знаете, вас никто не назовет соучастником. Просто уезжайте и оставьте все на нас. Если выгорит, тогда отдадите мне эти бумаги. Если получится осечка, вас уволят, и только-то. Ясно?
— Звучит страшновато, мистер Фэншоу. Но вот вам в этом моя рука, я делаю все, как вы просите.
Так и получилось. И когда настало четырнадцатое мая, честный Джон попросту слинял подальше, а две сотни добрых упряжных волов — то бишь копов в униформе — явились к Конференц-холлу, где в тот вечер засел Гидеон X. Фэншоу и его ребята из ПОКО.
Пробило двенадцать, когда раздался свисток. Всех подонков выследили заранее, и теперь добраться до них труда не составляло. Три сотни автомобилей, набитые крутыми, сильно злыми гражданами, ринулись по их следам, и почти всех взяли тепленькими. Баб, впрочем, не трогали. Было сочтено более благоразумным связываться только с мужчинами. По всему городу шумели драки, гремела пальба, но дело прошло как запланировали. К часу дня на четыре квартала от Холла улицы были забиты машинами в два ряда, и в каждой — крепко вооруженная охрана и совсем не вооруженные пленники. Тогда Фил Хадсон, тот парень, что возглавил рейд, жесткий такой парень, бывший военный летчик-ас, доложил Фэншоу, что все готово и в порядке.
Зал был ярко освещен, и в дальнем его конце восседал за высоким столом Фэншоу с дюжиной своих присных, а по столу были разложены списки и всякие бумаги, и перед каждым заседателем лежал на столе пистолет. За Фэншоу стояла охрана, двадцать молодцов с дробовиками, и у каждого на рукаве значок «ПОКО». В обществе ПОКО состояло много отставных вояк. Вообще в здании их набралось две, а то и три сотни, не считая штатской публики вроде меня. Я уже говорил, что в то время состоял стукачом в полиции и вместе с другими пришел, только чтобы покивать головой пару раз, когда потребуется подтвердить, кто есть кто, или же помотать ею в случае, если тип будет нести всякую чушь.
Вот, значит, Фил Хадсон подошел к тому помосту, отдал честь и говорит:
— Мы взяли всех, кого удалось найти, шеф. Кое-кто был предупрежден и сумел смыться, но таких немного.
— Скольких вы взяли, Фил?
— Тысячу с лишком.
— Потери есть?
— Пришлось подстрелить с десяток пташек. Из горожан пострадали шестеро.
— Плохо! Очень плохо! Впрочем, нам пора заняться делом. Приведите сюда мэра первым.
Подводят к столу толстого Тома Бакстера, ужасно удивленного, — по охраннику с обеих сторон. Глупый старик-деревенщина, на ферме разбогател, а в большом городе принялся денежки спускать. С бабами в жизни дела не имел и продажен был, как участки на кладбище.
— Вы за это поплатитесь, мистер Фэншоу! Что это за бесчинства вы тут устроили?
— Мы намерены почистить этот город, мистер мэр, и начинаем с самого верха. Комитет ПОКО исследовал свидетельские показания по вашему делу. Вы покрывали мошенников. Вы брали у них деньги. Вы пользовались служебным положением не так, как полагается. Уберите его!
— Убрать? Меня? Куда убрать?
— В Одеон. Там вы встретите всех своих друзей. Одиночество вам не грозит. Уведите!
Так вот, мэру приставили к ребрам дуло пистолета, провели через зал в боковую дверь, а потом вошла целая процессия. Первым был Берджес, окружной адвокат, и зашумела буря:
— Я привлеку вас к суду по закону, мистер Фэншоу! Вы понимаете, что меня вытащили из собственной спальни эти ваши грубияны и что у меня под пальто одна пижама?!
— Нехорошо! Очень нехорошо! — молвил Фэншоу. — Но граждане этого города недовольны тем, как вы исполняете свои обязанности, мистер поверенный. Они рассмотрели свидетельские показания, и ваше дело проиграно.
— Да какое вы имеете право…
— Право народа. Ведь власть исходит от народа, вы помните, мистер поверенный, и потому всякая власть должна прислушиваться к народу. Вы брали деньги за то, что позволяли преступникам ускользнуть из когтей закона. Вы смотрели сквозь пальцы на убийц. Вы были слугой на жалованье у гангстеров. Уведите его в Одеон!
— Зачем? — Толстое брюшко коротышки, любителя покушать, тряслось, как студень.
— Скажем, затем, чтобы сфотографировать, — ответил Фэншоу. — Понимаете ли, вы нам нужны всей компанией. Уведите его!
Следующим был Молтак, рослый чернявый поляк, босс пивного рэкета Южной стороны; про него говорили, будто он за два года сколотил пять миллионов зеленых. Он был здоровенный, прямо великан, весь волосатый и мускулистый, и он воткнул злобный взгляд в заседателей на возвышении, будто орудие убийства.
— Я тебя достану! Я тебя проучу за это! — прорычал он.
— Ну, пока выглядит так, что скорее мы вас достали, мистер Молтак, — уточнил Фэншоу, мягко улыбнувшись. — Против вас и вашей шайки говорят двадцать случаев убийств. Скольких из его людей мы взяли, Хадсон?
— Там, снаружи — семьдесят шесть штук.
— Что ж, мы не будем выделять кого-то одного. Им всем одна дорога. Мы еще повидаемся в Одеоне, Молтак. Уведите его, и всю его шайку тоже!
Парень попытался учинить скандал, но ему заломили руки за спину, и замысел не удался. Да, скажу вам, умели обращаться с людьми эти отставные служаки! Его скоренько утащили и освободили место для Дженнаро, босса «Societas Meridionale», по-нашему «Южное общество»: хрупкий такой, маленький южанин, смазливый, в вечернем костюме — и в убийствах по уши. Его выдернули с каких-то шикарных посиделок, и он очень об этом скорбел.
— Мистер Фэншоу, вы прервали мое общение с гостями! Как вы смеете? Я находился в обществе самых достойных людей города. У меня сегодня обедают шестеро судей, а вы меня с ними разлучили!
— Судей взяли, Фил? — спросил Фэншоу.
— Да, шеф.
— Ну, пусть идут следом за прочими. Ладно, Дженнаро, тут говорить не о чем. На вас висит почти пятьдесят убийств. Конечно, вы не совершали их своими руками. У вас есть головорезы и стрелки. И все-таки виновник — вы. Сколько народу в его шайке?
— Штук шестьдесят взяли.
— Этого для начала хватит. Долой их всех, в Одеон.
И так вот всю ночь их вводили одного за другим, всяческих гангстеров, наемных убийц, стрелков, бутлегеров, угонщиков, рэкетиров, жуликов, воров — и простых карманников, и грабителей, — подонков любого размера и покроя. Фэншоу запасся досье на каждого: проведет пальцем по списку, найдет запись, скажет пару слов — и готово. То и дело он обращался за справками к своим друзьям, пару раз смотрел на меня или на кого-нибудь еще, кто знал всю подноготную этих людишек, в ожидании кивка. Нескольких пойманных он отпустил, всего лишь сурово пожурив, чтобы впредь не шалили. Но большинству была одна дорога — в Одеон. Наконец когда уже забрезжил рассвет, Фэншоу встал, потянулся, бросил недокуренную сигару — последнюю из бессчетного множества, потребленного им за ночь, — и спустился с возвышения. За ним потянулись заседатели. Ушел и я.
На улице толпился народ, но копы и ребята из ПОКО расчистили проезд, и Фэншоу вместе со своим комитетом поехал к Одеону, который располагался всего в трех или четырех кварталах оттуда. Я же пошел пешком, расталкивая толпу, и добрался до места, когда они уже вошли внутрь. У дверей стояла охрана. Я увидел Мак-Донована, своего дружка из полицейского управления, но он схватил меня за плечо и не дал проскользнуть мимо.
— Не вздумай туда соваться, Малыш, — говорит. — Те парни знают, кто ты и что ты, и если попадешь к ним, думаю, от тебя не останется чего похоронить можно.
— И все-таки посмотреть хочется! Может, найдется уголок, а, Мак?
Тут он показывает на боковую дверцу, обитую железным листом, и открывает ее.
— Лезь по этой лестнице, — говорит он. — Охрана Президента может тебя послать подальше, но если сумеешь пройти, оттуда все видно.
Вот я взобрался по лестнице — и наткнулся лбом на дуло: часовые там, наверху, не дремали. Но я сумел одного расположить к себе, и он позволил мне устроиться в уголке, откуда я мог все видеть, никому не мешая.
Одеон — это большой, квадратный зал для танцев, без признаков мебели. Только на одной стене устроена галерея, где обычно играет оркестр: там я и оказался. На галерею вела единственная лестница, вход на нее был заперт и охранялся. Внизу имелось еще несколько таких дверец, все обитые железом и под охраной, а высокие окна были все заколочены досками. Зал был полнехонек, тысячи полторы народу, кое-кто хорошо одет, другие — большая часть — в лохмотьях любых сортов, но все как один просто плясали от ярости: трясли кулаками, выкрикивали в адрес галереи всевозможные проклятия и угрозы, что именно они сделают с ПОКОвцами, когда освободятся.
Пляска сумасшедших — вот на что это было похоже. Глядя сверху, в ярком освещении можно было видеть только вопящие рты, перекошенные лица и кулаки, бессильно метящие в Президента. Я бы ему, право, дал награду за хладнокровие. Он сидел с несколькими комитетчиками, молча глядя на беснующуюся внизу свору, спокойный, как рыба во льду. Слева и справа от него стояли большие бронзовые треножники, покрытые бархатной тканью, как в ателье у фотографа. Сзади маячили с полдюжины ПОКОвцев, и солдат круче я нигде не видал.
Наконец Фэншоу поднялся и махнул рукой, призывая к тишине. В ответ послышались крики ненависти, но он стоял и смотрел на толпу сверху вниз, будто сама смерть с глазами-ледышками, и крики умолкли. Настала такая тишина, словно зал вдруг опустел. И тогда он заговорил, и в голосе его проскакивали электрические разряды.
— В этом помещении я вижу нескольких настоящих амурканцев, стыд им и позор, — сказал он. — Их совратили и увели с пути истинного, но ведь именно их народ избрал, им доверил вести свои дела! Я весьма сожалею об их участи, но благодарить за все они должны лишь самих себя. Что касается прочих присутствующих, все вы прибыли из других стран, гонимые нуждой или угнетением. Вы приехали сюда, и Амурка приветствовала вас. Нигде больше не встретили бы вы такого великодушия и щедрости! В течение года она уравняла вас в правах со своими старейшими обитателями. Она предоставила вам бескрайние земли, чтобы вы могли найти себе место и проявить все свои природные способности. Вот что Амурка сделала для вас. И что же вы сделали для Амурки? Вы нарушили ее законы, опозорили ее города, развратили ее граждан неправедно добытыми деньгами, взломали систему правосудия, убили тех хранителей мира, которых не удалось развратить. Одним словом, вы столько всего натворили, что наконец мы, настоящий народ, вынуждены были подняться и показать вам, что существует еще, жива еще Амурка, и прежде, и ныне добрая, снисходительная, великодушная, но наделенная также силой для покарания тех, кто ее обижает. Вы сами заставили нас. Вы не оставили нам иного выбора. Я все сказал. Приступайте!
После этих слов охранники, стоявшие по сторонам от него, сдернули бархатные покрышки с двух пулеметов. Закаленные в бою со злом граждане заняли позиции, и бойня началась.
Я глянул вниз. Стадо ринулось к дверям. Другие полезли на заколоченные окна. Еще кто-то пытался вжаться в угол; они там сбивались кучками, будто крысы, когда чуют рядом терьера. Я видел, как они мечутся и вопят, и дергаются, и падают, и пытаются спрятаться за спинами других, и мертвые тела валятся грудами, и судьи лежат один на другом, и мэр бежит, вскинув руки. Все, все это я видел, но тут… но тут…
— Ну, что же дальше случилось?
— Эх, я же сказал с самого начала, эта карга забренчала своим помойным ведром, и этот звук перекрыл тарахтение пулеметов, и она принялась делать книксены и кудахтать, она-де думала, будто бы я уж встал и ушел…
Мы долго сидели, храня недовольное молчание.
— Вы имеете в виду, — воскликнул я наконец, — что все это вам приснилось?
— Называйте это сном, ежели желаете, — ответил он, вынимая изжеванную сигару изо рта. — Я бы предпочел назвать это видением. На самом деле ничего такого пока не случилось. Но погодите маленько, ребята, дайте срок!
Бедный старина Малыш! Мы почувствовали, что окончание его рассказа несколько отдает провалом. Но конец его собственной истории получился намного драматичнее. Спустя несколько дней мы обнаружили короткую заметку в утренней газете: «Американец по фамилии Уилсон был найден полицией вчера рано поутру на крыльце жилого дома по улице Карлайл, в Сохо, с несколькими ножевыми ранами на теле. Нападающие, видимо, поджидали его в тени за дверью и напали, когда он по своему обыкновению возвращался домой ранним утром. Он еще был жив, когда его нашли, но отказался сделать какое-либо заявление и умер по дороге в больницу. В настоящее время нет никаких ключей к этому происшествию, убийцы скрылись. Но у нас есть основания считать эту трагедию одним из эпизодов гангстерской войны, которая сотрясает ныне Америку».
Оскар Уайльд СФИНКС БЕЗ ЗАГАДКИ
Однажды я сидел в Cafe de la Paix, за одним из столиков, выставленных на улицу, и смотрел на блеск и нищету парижской жизни. Потягивая вермут, я разглядывал необыкновенное сочетание надменной пышности и глубочайшей нужды, мелькавших прямо передо мною. Вдруг я услыхал свое имя; обернувшись, я увидал лорда Мерчисона. Мы не виделись со времен обучения в колледже — почти десять лет, — и я был рад нашей встрече; мы тепло пожали друг другу руки. В Оксфорде мы были близкими друзьями. Я очень любил его, он был такой красивый, такой жизнерадостный и к тому же в высшей степени достойный человек. Мы, студенты, не раз говорили о нем: он был бы лучшим из людей, если бы не его полное неприятие лжи. Впрочем, мы восхищались им прежде всего за его невероятную искренность. Теперь же лорд Мерчисон, судя по всему, весьма сильно изменился. Он выглядел встревоженным, и, казалось, некие сомнения одолевали его. Вряд ли это объяснялось скептицизмом, ставшим обычным в наши дни: Мерчисон был убежденным консерватором и верил в Писание столь же твердо, сколь и в палату лордов. Поэтому я счел, что причиной его треволнений может быть женщина, и спросил, женился ли он уже.
— Я не понимаю женщин настолько хорошо, чтобы жениться, — ответил он.
— Мой дорогой Джеральд, — сказал я, — женщин надо любить, а не понимать.
— Я не могу любить там, где не могу доверять, — возразил он.
— О, я уверен, Джеральд, у вас есть какая-то тайна! — воскликнул я. — Поведайте же мне ее!
— Давайте съездим куда-нибудь в другое место, — сказал Мерчисон, — здесь слишком людно. О нет, только не желтую коляску, пожалуйста! Прошу вас, выберите экипаж любого другого цвета — вот, этот темно-зеленый вполне подходит, — произнес он нечто загадочное, и через несколько мгновений мы уже катили по бульвару в сторону Мадлен.[9]
— Итак, куда поедем? — спросил я.
— О, да куда хотите! — отозвался Джеральд. — Я бы предложил Restaurant des Bois, там можно пообедать, а потом вы расскажете мне о себе.
— Я бы сначала послушал вас, — возразил я. — Ужасно хочется услышать вашу тайну!
Лорд Мерчисон достал из кармана небольшой сафьяновый футляр с серебряной застежкой и передал мне. Я раскрыл его и увидел фотографию высокой, стройной женщины. Распущенные волосы и большие глаза, глядевшие чуть рассеянно, создавали удивительно яркий, необычный образ; так выглядят ясновидящие. Одета женщина была в дорогие меха.
— Что вы скажете об этом лице? — спросил Джеральд. — Как по-вашему, оно искренне?
Я пристально вгляделся в лицо женщины. Человек с таким лицом, подумалось мне, наверняка хранит какой-то секрет, однако добро или зло кроется в нем, понять было невозможно. Женщина на фотографии была очаровательна, но казалось, что ее прелесть, будто лицо фантасмагорической скульптуры, слеплена из множества тайн. Незнакомка представлялась мне скорее одухотворенной, нежели красивой. На ее губах играла легкая улыбка, слишком утонченная, чтобы ее можно было назвать милой.
— Ну же, — нетерпеливо вскричал Джеральд, — скажите что-нибудь!
— Джоконда в соболях, — ответил я. — Расскажите мне все, что вам известно о ней.
— Не сейчас, — возразил мой собеседник, — после обеда, — и перевел разговор на другую тему.
Однако едва официант принес нам кофе и сигареты, я потребовал у Джеральда исполнить обещанное. Он поднялся с места, несколько раз прошелся туда-сюда, затем опустился в кресло и рассказал мне удивительную историю.
— Однажды я прогуливался по Бонд-стрит; было около пяти часов вечера. Улицу запрудили экипажи, движение было крайне затруднено. Мое внимание привлекла легкая двухместная повозка желтого цвета, стоявшая возле самого тротуара. Когда я проходил мимо, из нее выглянула дама — та самая, портрет которой я вам только что показал. С первого взгляда она покорила меня; всю ночь и весь следующий день ее образ не выходил у меня из головы. Я был одержим идеей найти ее, бродил по этой чертовой улице, бесцеремонно заглядывая в экипажи, и надеялся увидеть снова маленькую желтую коляску. Однако таинственная дама так и не появилась, и через некоторое время я поверил, что она просто померещилась мне. Примерно через неделю я обедал в доме мадам де Растель. Обед должны были подать в восемь вечера, однако в половине девятого мы все еще были в гостиной, ожидая кого-то из запаздывающих гостей. Наконец слуга распахнул двери и возвестил о приходе леди Элрой. Представьте, она и оказалась той прекрасной незнакомкой, которую я столь безуспешно искал! Она вошла очень медленно, удивительный лунный луч, убранный в серые кружева. Я и помыслить не мог о такой удаче, однако именно меня леди Элрой попросила проводить ее к столу. Когда мы все расселись, я, думая, что завожу совершенно невинную беседу, заметил:
— Кажется, я недавно видел вас на Бонд-стрит, леди Элрой.
Она смертельно побледнела и очень тихо произнесла:
— Умоляю, не говорите так громко, вас могут услышать.
Коря себя за такое неудачное начало разговора, я торопливо поменял тему и стал обсуждать с леди Элрой французские пьесы. Она отвечала мало, все тем же низким музыкальным голосом, сводившим меня сума, и, казалось, все время боялась, что за нашей беседой следят. Я был страстно влюблен, глупо, как мальчишка, и флер загадочности, окружавший ее таинственный образ, лишь сильнее манил меня, разжигая мое любопытство. Провожая ее к выходу — а она ушла почти сразу же после обеда, — я попросил позволения нанести ей визит. Поколебавшись пару мгновений, она огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет, сказала:
— Хорошо, завтра без четверти пять.
Я умолял мадам де Растель рассказать мне о леди Элрой, но все, что мне удалось выяснить, — это что она вдова и в собственности у нее красивый особняк на Парк-Лейн. Когда мадам де Растель поведала мне эти скудные сведения, какой-то ученый зануда пустился в пространные рассуждения о вдовах как иллюстрации того, что в браке выживает сильнейший; я понял, что больше ничего узнать не удастся, и откланялся.
На следующий день я прибыл на Парк-Лейн точно в назначенный час, однако дворецкий сказал мне, что леди Элрой только что уехала. Я вернулся в клуб весьма озадаченный и совершенно несчастный, долго думал и решился написать ей письмо, в котором умолял дать мне еще один шанс. Несколько дней ответа не было, но наконец я получил лаконичную записку, в которой леди Элрой сообщала мне, что будет дома в четыре часа дня в воскресенье. Записка оканчивалась странным постскриптумом: «Пожалуйста, не присылайте мне более сюда писем; при встрече я все объясню».
В воскресенье она приняла меня и была весьма мила. Однако, когда мы прощались, она попросила, если мне понадобится написать ей, присылать письма на другой адрес, вот он: «Миссис Нокс, почтовый ящик книжной торговли Уитекера, Грин-стрит».
— Существуют причины, — сказала она, — особые причины, по которым я не могу получать корреспонденцию на домашний адрес.
На протяжении всего сезона мы с ней виделись очень много, однако ее всегда окутывала атмосфера загадочности. Иногда я подозревал, что бедняжка находится во власти какого-то мужчины, но она была такой неприступной, что в это невозможно было поверить всерьез. Я никак не мог разобраться в происходящем и склониться к какой-либо точке зрения, поскольку леди Элрой в некотором роде походила на кристалл, который можно наблюдать в музее: в один момент он совершенно прозрачен, в следующий же становится мутным. И все же в одном вопросе я определился: я решил попросить ее стать моей женой. Надо признаться, я невероятно устал от всех этих нескончаемых секретов, от таинственности, которой она окутывала все мои визиты и бесчисленных мер предосторожности, которых она требовала в тех редких случаях, когда я решался ей написать. Я послал письмо на указанный ею адрес и попросил о встрече в шесть вечера в следующий понедельник. Она ответила согласием, и я был на седьмом небе от счастья. Леди Элрой покорила мое сердце, несмотря — как я тогда полагал — на окружавшие ее тайны. Сейчас я понимаю, что сходил с ума по ней не вопреки, а во многом благодаря ее загадочности… Впрочем, нет: я любил именно ее, ту женщину, которой она была. Все эти секреты и загадки сводили меня с ума и заставляли тревожиться о ней. О, зачем только мне был дан шанс прикоснуться наконец к ее тайнам?!
— Так вы выяснили все? — спросил я.
— Боюсь, что да. Впрочем, судите сами.
Дождавшись понедельника, я позавтракал у дяди и около четырех часов был на Мэрлибоун-роуд. Мой дядя живет у Риджентс-парк. Чтобы добраться до Пикадилли, я срезал путь и пошел обшарпанными переулками. И вдруг я увидел леди Элрой; она шла очень быстро, а лицо ее скрывала густая вуаль. Дойдя до последнего дома в квартале, она поднялась на крыльцо, достала ключ, отперла им дверь и вошла. «Вот она, тайна!» — сказал я себе и внимательно осмотрел дом. На первый взгляд это было одно из тех мест, где сдают комнаты. У двери лежат платок, который уронила леди Элрой; я поднял его и спрятал в карман. Некоторое время я раздумывал, как же мне теперь вести себя, но по здравом размышлении решил, что не имею права шпионить за ней, и пошел в клуб.
В шесть часов я прибыл к ней. Леди Элрой лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой удивительных лунных камней, загадочных, как она сама; я часто видел на ней эти камни. Выглядела леди Элрой невероятно обворожительно.
— Я так рада видеть вас, — сказала она, — я целый день не выходила из дому.
Я был потрясен ее ложью. Глядя прямо на нее, я достал из кармана оброненный ею у странного дома платок и протянул ей.
— Вы потеряли вот это сегодня на Кемнор-стрит, леди Элрой, — произнес я, из последних сил стараясь оставаться невозмутимым. В ее глазах отразился ужас, но она не попыталась взять платок. — Что вы там делали? — спросил я.
— Какое вы имеете право допрашивать меня? — спросила она вместо ответа.
— Право человека, который любит вас, — сказал я. — Я пришел сюда, чтобы просить вашей руки.
Она спрятала лицо в ладонях и залилась слезами.
— Расскажите мне правду! — продолжал я.
Она поднялась с кушетки, посмотрела на меня в упор и сказала:
— Мне не в чем признаться вам, лорд Мерчисон.
— Вы с кем-то встречались там! — вскричал я. — Вот в чем заключается ваша тайна!
Она была бледна как полотно, но настаивала:
— Я ни с кем не встречалась.
— Почему вы не можете сказать мне правду? — воскликнул я.
— Я сказала правду!
Откровенно говоря, я совсем потерял рассудок. Не помню, что конкретно я ей наговорил, но определенно не стоило позволять себе подобное в беседе с женщиной. Наконец я попросту сбежал от нее. На следующий день она прислала мне письмо; я вернул его нераспечатанным и немедленно, не тратя времени на сборы, отправился в Норвегию вместе с Аланом Колвиллем.
Через месяц я вернулся, и меня встретило известие о смерти леди Элрой, напечатанное в утренней газете. Она подхватила простуду в опере и за пять дней сгорела в лихорадке. Воспаление легких… Я заперся в своем доме и некоторое время никого не принимал и никуда не ездил. Я так любил ее, я буквально обезумел от любви! Господи, как же я любил эту женщину!
— Вы бывали снова там, в том странном доме? — спросил я.
— Бывал, — ответил он. — Однажды я собрался с духом и приехал на Кемнор-стрит. Я ничего не мог с собой поделать, сомнения терзали меня. Я постучал, мне открыла респектабельного вида женщина. Я спросил, нет ли у нее свободных комнат. «Думаю, могу сдать вам гостиные, — сказала она, — дама, снявшая их, не появляется уже три месяца». — «Эта дама?» — спросил я, показав ей фотографию, которую показывал и вам. «О да, это она! — воскликнула женщина. — Скажите, сэр, когда она вернется?» — «Увы, — отвечал я, — она умерла». — «О нет, сэр, нет! Она ведь была лучшей из всех моих постояльцев! Эта дама платила мне три гинеи в неделю всего лишь за то, чтобы иногда прийти и посидеть в гостиной!» — «Она встречалась с кем-нибудь?» — спросил я. Однако женщина принялась убеждать меня, что ее постоялица всегда приходила одна, и никто не наносил ей визитов. «Но что же тогда она здесь делала, господи?» — вскричал я. «Всего лишь сидела в гостиной, сэр, — отвечала женщина, — иногда читала книгу или пила чай». Я не знал, что еще сказать, просто дал ей соверен и ушел. Теперь скажите мне, как вы думаете, что все это значило? Верите ли вы, что та женщина не солгала мне?
— Определенно верю.
— Тогда почему леди Элрой ходила туда?!
— Джеральд, мой дорогой друг, — ответил я, — все очень просто: леди Элрой была женщиной, одержимой страстью к таинственности. Она снимала те комнаты, чтобы время от время доставлять себе особенное удовольствие: ходить туда, скрывая лицо густой вуалью, и воображать себя героиней какого-нибудь романа, окруженной интригами. Бог весть, какие диковинные истории она выдумывала, сидя за столом в одинокой гостиной. Она обожала все загадочное, но сама была не более чем Сфинксом без загадки.
— Вы правда так думаете?
— Я совершенно в этом уверен.
Лорд Мерчисон вновь извлек свой сафьяновый футляр, открыл его и долго смотрел на фотографию.
— Сомневаюсь! — сказал он наконец.
Бертрам Флетчер Робинсон
ПРОПАВШИЙ МИЛЛИОНЕР
Из цикла «Хроники Аддингтона Писа»
Сейчас, стоя спиной к камину и покуривая, я не мог перестать размышлять об этом деле. Деле, которое бесспорно стоило всех кричащих заголовков в газетах — и которое, казалось, не оставляло места загадкам.
Сайлас Дж. Форд был равно знаменит по обе стороны Атлантики. Миллионные обороты в США делали ему прессу с того момента, как он ступил на английскую землю. Его корпорации, синдикаты и картели заставили проснуться ленивый лондонский бизнес. Газеты захлебывались хвалой и хулой, наперебой выдавая то сплетни, то опровержения.
Форд был миллионером — Форд был на грани разорения, которое вызовет мировой кризис. Пьяница и трезвенник разом, игрок и самый что ни на есть примерный прихожанин, закоренелый женоненавистник-холостяк и влюбленный жених, готовый вот-вот объявить о помолвке… я терялся в той лавине слухов, которая катилась по Британии, шаг в шаг следуя за заокеанским гостем.
А потом тот исчез, сгинул, просто испарился в один момент.
* * *
Восемнадцатого декабря, в четверг, он покинул Лондон и направился в Гемпшир, где арендовал Мьюдон-холл, чудный старый особняк лорда Беверли. С ним были двое — наиболее доверенные лица из числа его сотрудников. Утром пятницы они были еще с ним, но в три часа пополудни вернулись в столицу. Сам Форд вызвал секретаря и с четырех до семи работал с ним за закрытыми дверями. Когда весь мир стоит на грани паники, такому человеку, как Форд, не до праздности.
В восемь вечера он отужинал и предался единственному развлечению, которое себе позволял: около часа провел за органом в картинной галерее. Наконец в четверть двенадцатого отпустил своего камердинера Джексона и лег спать.
Сорок пять минут спустя Харборд, секретарь, был разбужен телефонным звонком: Форд распорядился протянуть в поместье провод из Камдона, небольшого городка по соседству. Звонили из Лондона со срочным сообщением. Настолько срочным, что секретарь решился разбудить своего босса.
На стук никто не ответил. Харборд зашел в комнату — но кровать была пуста.
Харборд удивился, но ничего не заподозрил и решил поискать начальника по дому. Вскоре к поискам присоединился лакей, а чуть позже — разбуженный Джексон и дворецкий. Постепенно изумление перешло в ужас. По тревоге подняли всех слуг, взяли фонари на конюшне и обыскали территорию поместья.
Днем выпал снег, покрывший газон по обе стороны крыльца довольно толстым слоем. На нем-то и остались следы, которые заметил старший слуга. Похоже, мистер Форд спустился с крыльца и сошел с дорожки и пошел прямо по траве к стене из нешлифованного камня, отделявшей поместье от большой дороги, ведшей от деревушки Мьюдон в Камдон. Дорога эта проходила примерно в четверти мили от особняка.
Ошибка была исключена: миллионер носил необычную обувь, широкую, с плоскими носками — следы от нее нельзя было ни с чем спутать.
Светя фонарями, все ринулись по следу — но у стены тот прервался. Забраться на нее, конечно, было бы несложно любому, кто держит себя в форме, — но люди, лошади и колеса экипажей давно превратили снег на дороге в серую слякоть, и разобрать следы, если они и были, сделалось невозможно.
Оставалось только вернуться в поместье — в смятении и растерянности. Позвонили в Лондон — но объяснения происшедшему не получили. Утром мистер Харборд первым же поездом отправился в столицу. Ни он, ни его друзья по известным причинам не желали огласки, и потому лишь вечером, убедившись в бесплодности всех своих затей, они решились обратиться в Скотленд-Ярд.
Свежие газеты уже пошли в набор, а местонахождение мистера Сайласа Дж. Форда оставалось неизвестным…
Терзаемый любопытством, я поднимался по ступенькам к кабинету инспектора Писа. Может, хоть у этого маленького полицейского найдутся для меня новости?
Он стоял у камина и курил, хмуро и сонно глядя на кончик сигареты — совсем как я незадолго до того. У его ног на какой-то тряпке стояла аккуратно упакованная сумка.
— А я вас как раз ждал, мистер Филипс. Есть у вас идеи относительно этой загадки?
— Любовная интрижка? Ну, или временное помешательство… — навскидку предположил я.
— О, эти две версии можно легко объединить, — усмехнулся инспектор. — Еще варианты?
— Отсутствуют. Я как раз пришел узнать вашу версию.
— У меня ее нет. И я бы очень хотел, чтобы в ближайшее время ее и не было. Если желаете развеять скуку, гадая, что да как, — я бы посоветовал вам задуматься, зачем человеку, который желает бесследно исчезнуть, оставлять именно это — следы на собственном газоне. Что же до меня — через десять минут с Ватерлоо отходит мой поезд, и я надеюсь уже к вечеру получить более точную информацию.
Я, преисполнившись энтузиазма, попросился с ним.
— Если вы будете готовы в срок, — ответил инспектор.
В третьем часу дня наш поезд прибыл в старый Камдон.
У станции нас встретили, и вот спустя пять минут мы уже покинули узенькие городские улочки и были готовы штурмовать первый рубеж холмистых пустошей. Унылый вид! Ровные волны безлюдных голых холмов вздымались и опускались, подобно океаническим валам, и только ветер — холодный и равнодушный — вольно гулял, изредка натыкаясь на пару растрепанных елей, чьи мохнатые лапы чернели из-под снега.
Снег покрывал и взъерошенные вершины холмов, и темные ложбины меж ними.
Я поежился и поднял воротник, поплотнее запахиваясь в пальто.
Еще получасом позже мы наконец увидели башни старинного поместья. Оно пряталось внизу, в долине, у тихой речки, сейчас совсем смолкнувшей в объятиях льда и снега, окруженное густым диким парком. От фасада разбегались в стороны широкие газоны, льнувшие к аллее. Синие тени живой изгороди и паутинных крон обнажившихся к зиме деревьев едва тревожили их белое безмолвие. Стена, отделявшая поместье от большой дороги, казалась тонкой чернильной линией на белом листе.
Я бесцеремонно ткнул пальцем и крикнул:
— Здесь, здесь он и пропал!
— Полагаю, да, — кивнул Пис. — И если он и впрямь два дня скитается тут в снегах, ему должно очень хотеться к камельку. Вы вот замерзли — а на вас, уж извините, всяко не ночная рубашка надета, если можно так выразиться.
У крыльца нас встретил худощавый, бледный молодой человек, светловолосый и немного робкий. Когда мы начали выбираться из коляски, он подошел и предложил помочь.
— Харборд, — представился он. — А вы, должно быть, инспектор Аддингтон Пис?
Его рука заметно подрагивала. Он был напуган, и напуган явно, настолько, что это вызывало интерес.
— Мистер Рансом, управляющий в лондонской конторе мистера Форда, уже здесь. Он ожидает вас в библиотеке.
Мы последовали за секретарем и очутились в комнате, от пола до потолка уставленной книжными полками.
Между ними, как зверь в клетке, мерил шагами пол высокий сумрачный мужчина, лицо которого на свету показалось мне посеревшим и измученным.
— Инспектор Пис, значит, — сказал он. — Ну что ж, инспектор, хотите денег — только назовите сумму. Хотите снести к чертям этот дом — не вопрос. Только найдите нашего шефа — иначе мы пропали, Богом клянусь.
— Все настолько плохо?
— Полагаю, вы человек надежный… что ж, все гораздо хуже, чем вы могли бы представить. Ситуация обострена до предела, а босс… он все держал в уме, никому не доверял — даже мне. Знай я достоверно, что он мертв, я бы смог что-то сделать, а так… так я парализован! — Он стукнул кулаком по столу и отвернулся.
— Когда вы последний раз видели мистера Форда, как он себя чувствовал? Не нервничал ли он?
— У мистера Форда нервов нет. Он чувствовал себя как нельзя лучше.
— У него не могло не быть недругов в мире больших капиталов. И, полагаю, успех его планов был бы для многих воистину сокрушителен… Не знаете ли вы кого-то, кто мог бы пожелать избавиться от мистера Форда во имя спасения своего дела?
— Нет, — поразмыслив, ответил управляющий. — Нет, никого не знаю. Это все слишком большие шишки. Не думаю, что им может помешать голос совести, но они всегда знают, стоит ли овчинка выделки. И не любят связываться с затеями, которые светят тюремным сроком.
— Ваше действительное положение было известно на рынке?
— Разумеется, нет.
— Кто-то мог о нем знать?
— Полагаю, примерно десяток людей по обе стороны Атлантики могут примерно представлять ситуацию. Точно же знают все обстоятельства… не думаю, что больше четырех человек.
— И кто именно?
— Два наших партнера в США, мистер Харборд, которого вы видите, и я сам.
Инспектор развернулся к секретарю, ободряюще улыбнулся и слегка склонил голову:
— Можете что-то добавить? Какие-то имена?
— Н-нет, — сморгнул Харборд.
Казалось, он не совсем уловил смысл вопроса.
— Что ж, благодарю. Могу я увидеть место столь удивительного исчезновения?
Мы пересекли аллею, изрытую колесами экипажей, и вышли на ровный газон. Следы были еще заметны, хотя поверх них явственно протоптался не один человек. Обозрев картину, Пис сердито вопросил Харборда:
— Вы принимали участие в поисках?
— Да.
— Тогда чем вы думали, когда позволили вашим людям практически уничтожить следы? Почему не приказали им держаться поодаль?
— Мы… мы спешили, — неловко ответил тот. — Мы не подумали…
По протоптанной в ходе поисков тропе мы дошли до широкого пятачка вытоптанного снега. Должно быть, здесь поисковая партия остановилась и что-то обсуждала.
За пятачком я увидел пару дюжин отпечатков знакомых ботинок — очень четкие и ясно различимые, они утыкались в невысокую — примерно шесть футов в высоту — каменную стену.
— Что ж, мистер Харборд, благодарю вас и ваших помощников, что вы пощадили хоть малую часть улики… — Пис склонился, внимательно изучая отпечаток на снегу. — Мистер Форд переодевался к ужину? — уточнил он у секретаря.
— Разумеется! А что?
— Ничего. Просто любопытно узнать: если для легкой вечерней прогулки он обулся в охотничьи сапоги, во что же он был одет?
Инспектор Пис прошел вдоль следов до стены и неожиданно ловко для человека его возраста и привычек одним движением подтянулся и уселся на гребне стены под нашими изумленными взглядами. Потом он уперся руками, встал на четвереньки и медленно пополз по верху стены вдоль газона — зрелище, которое было бы забавным, если бы не мужество, которое требовалось от этого невысокого и не сильного человека, и не его величайшая осторожность.
Вдруг он остановился, улыбнулся нам и, велев оставаться на месте, спрыгнул со стены на ту сторону.
Мистер Харборд предложил мне сигарету. Мы терпеливо ждали, и вот наконец над стеной вновь показалась голова инспектора, а вскоре он сам занял прежнее свое место и свесил ноги.
Вид у него был весьма довольный, но нам он ничего не сказал, а я уже знал, что спрашивать бесполезно.
Мы вернулись в особняк. Еще в прихожей инспектор велел позвать Джексона, камердинера. Тот явился через несколько минут — высокий, опрятный крепкий парень с узким и длинным лицом, одетый в черный костюм. Он поклонился и воззрился на нас с самым предупредительным видом.
— Странные дела творятся, а, Джексон? — хмыкнул инспектор.
— Есть такое.
— И что ты сам думаешь?
— Правду сказать, сэр, я считал, что мистер Форд просто сбежал. Но нынче не знаю, что и думать.
— А с чего бы ему сбегать?
— Так сразу и не сказать, сэр. Но позавчера он как-то больно уж странно себя вел.
— Давно ему служишь?
— Нет, сэр. Я камердинер достопочтенного Джона Дорна, сына лорда Беверли. Мистер Форд нанял меня вместе с поместьем.
— Понятно… Что ж, покажи-ка мне спальню своего пропавшего хозяина. Мистер Харборд, разрешите ненадолго вас оставить. Можете пока побеседовать с моим помощником.
Мы сидели и курили в кабинете секретаря. Мистер Харборд уничтожал сигарету за сигаретой — молча, не говоря ни слова. Он вообще был как-то неразговорчив. Инспектор вернулся, когда уже стемнело, и мы разошлись, чтобы приготовиться к ужину. Я попытался перекинуться с ним парой слов по дороге, но он только молча помотал головой и продолжил путь.
Ужин кое-как подошел к концу, и мы покинули столовую, оставив Рансома наедине с уже вторым графином портвейна. Пис снова куда-то запропастился, и я устроился в библиотеке с книжкой. Там я просидел до половины одиннадцатого и отправился спать. Поднимаясь по лестнице, я заметил, как слуга гасит свет в прихожей.
Комната моя была в старом крыле особняка, по ту сторону картинной галереи, и не сказать, чтоб мне было легко до нее добраться. Длинные, неосвещенные коридоры пугали меня, таинственное происшествие будоражило душу, и, помнится, я вздрагивал от каждого скрипа половицы и все всматривался в темноту, ожидая черт знает каких жутких неожиданностей. Так что я был невероятно рад отгородиться от темноты закрытой дверью и остаться наедине с весело потрескивающими в открытом камине дровами.
Посреди ночи я проснулся — что-то напугало меня так, что я даже подскочил на кровати. Сердце отчаянно колотилось. Той ночью, хотя я сплю довольно крепко, я был напряжен даже во сне и даже сквозь сон услышал: кто-то стукнул ко мне в дверь.
В странном смятении, которое всегда бывает у внезапно разбуженных людей, я вслушивался в тишину. Вдруг — снова стук, на сей раз в стену у меня над головой. Скрипнула половица. Там, снаружи, кто-то шел по темному коридору. Остановился. В щель под дверью проник невнятный отблеск. Огонь помигал и загорелся ровно: кто-то там, снаружи, зажег свечу.
Свет разбудил во мне мужество.
Зачем кому бы то ни было пробираться в потемках, если у него была с собою свеча? Я подошел к двери и осторожно выглянул.
Метрах в тридцати стоял какой-то мужчина — резкая черная тень, очерченная огнем свечи. Он был спиной ко мне, но я мог видеть, как он поднимает свечу и вглядывается в темноту, пытаясь разглядеть что-то в дальнем конце коридора.
Внезапно он тронулся с места.
Оставив за спиной картинную галерею и основное здание, он шел по коридору, который заканчивался у глубоко утопленного в стену окна. Медленно-медленно незнакомец продвигался вперед, светя то направо, то налево. Весь его вид выдавал настороженное оживление — как если бы он старательно искал нечто, которое боялся найти.
У окна он замер, огляделся, тревожно прислушиваясь. Проверил раму. Подергал дверь справа от себя — та оказалась заперта. В этот момент я ясно увидел его профиль, очерченный светом свечи: это был Харборд.
Между нами было не больше полусотни метров. Ошибка была исключена.
Стоило ему начать разворачиваться, я шарахнулся обратно в комнату.
Харборд был очень возбужден, и я слышал, как он что-то бормотал на ходу. Когда он прошел мимо, я снова выглянул и следил за ним, пока тот не скрылся за углом и огонек свечи не затерялся где-то в тенях картинной галереи.
Перед тем как вернуться в постель, я старательно закрыл дверь на ключ.
В семь утра, едва проснувшись и наскоро одевшись, я поспешил рассказать инспектору Пису о ночном происшествии. Мы вместе поднялись ко мне и осмотрели коридор. Оказалось, что там, помимо моей, всего две комнаты: одна, та что слева, принадлежала Рансому, вторая, справа, была большой кладовкой, ключ от которой, как выяснилось после кратких расспросов, хранился у экономки.
Кого же искал Харборд? Я терялся в догадках, а Пис, если и сделал какие-то выводы, делиться ими не спешил.
Самого секретаря — как всегда, нервозного и подавленного — мы встретили в главном зале по пути в столовую. Он мимоходом кивнул нам и собирался продолжить путь, но инспектор остановил его:
— Доброе утро! Можно вас на пару слов?
— Разумеется, инспектор. Что-то случилось?
— Я бы хотел попросить вас об одолжении. Видите ли, мы с моим помощником не можем никуда отсюда уйти. Не могли бы вы, если случится нужда, отправиться в Лондон и…
— Дня мне хватит? — перебил он.
— Нет, к сожалению. Дело может занять трое-четверо суток.
— В таком случае вынужден отказать, извините.
— О, не стоит извинений! — ободряюще улыбнулся маленький инспектор. — Мы просто попросим кого-нибудь еще, вот и все.
Почти сразу после нас в столовую влетел Рансом с пачкой писем и телеграмм в руке. Не сказав ни слова приветствия, он упал на стул и принялся вскрывать конверты один за другим, просматривая их содержимое. Чем больше он читал, тем мрачнее становился, пока вдруг не грохнул кулаком по столу так, что фарфор подпрыгнул и зазвенел.
— Ну, инспектор? Как? — спросил он.
Пис покачал головой.
— Вам недостает вдохновения? — рявкнул Рансом. — Может, денег не хватает?
— Отнюдь. Это дело чести. Вопрос моей репутации.
— Которую вы, черт подери, вот-вот потеряете! Что б вам не поторопиться немного, а то шатаетесь тут, как будто у вас почасовая оплата! Я тебе говорю, коп: тысячи, сотни тысяч превращаются в ничто каждый час, который вы тратите попусту!
И он зашагал взад-вперед по столовой, как по библиотеке в нашу первую встречу.
— Собираетесь ли вы возвращаться в Лондон?
Управляющий замер и сердито воззрился на инспектора.
— Нет. Я останусь здесь до тех пор, пока вы, уважаемый инспектор Аддингтон Пис, не скажете мне наконец что-нибудь определенно и четко.
— Видите ли, у меня есть дело в Лондоне, которое я хотел бы поручить человеку, знавшему Форда лично. Но ни вы, ни мистер Харборд не желаете покидать Мьюдон… Нет ли у вас кого-то на примете?
— Джексон, камердинер, — подумав, сказал управляющий. — Если, конечно, вы найдете его достаточно смышленым. Я пошлю за ним.
Пока вызванный лакей искал камердинера, в столовой висела глухая неспокойная тишина. Нас словно накрыло тенью недоброй загадки, повисшей над Мьюдоном. Один только Джексон, замерший в ожидании приказа, был спокоен и даже бодр — высокий, словно излучающий надежность и готовность служить.
— Господин инспектор желает, чтобы ты отправился в Лондон. Подробнее он сам тебе объяснит. Скорый из Камдона отходит в одиннадцать, — сообщил Рансом.
— Понял, сэр. Вернуться к вечеру?
— Нет, Джексон. Боюсь, дело займет несколько дней.
Камердинер развернулся, прошел пару шагов, но внезапно вернулся.
— Простите, пожалуйста, сэр инспектор, но в нынешних обстоятельствах я бы просил разрешения остаться тут, в Мьюдоне.
— Да какого черта? — возмутился Рансом.
— Видите ли, сэр, я последний видел мистера Форда. И я вроде как был и остаюсь под подозрением. Так что я бы хотел остаться здесь, пока его не найдут, — не ради него, так ради самого себя.
— Трогательно до невозможности. — Рансом был в ярости. — Вот только ты или делаешь, что говорят, или пакуешь вещички и выметаешься. Так что подумай-ка хорошенько!
— Я, сэр, думаю, что вы ко мне несправедливы. Но даже вы не заставите меня сделать то, чего я наотрез не желаю.
— Ах ты наглый проходимец! — начал было тот, но инспектор остановил его мягким жестом.
— Право, мистер Рансом, в конце концов, я могу как-то иначе все обустроить. Это естественно, что Джексон заботится о своей репутации. Джексон, вы можете быть свободны.
Через полчаса, когда все разбрелись, позавтракав, кто куда, я предложил Пису свои услуги, выразив готовность отправиться в Лондон и сделать там все, что требуется.
— Мне нынче не везет на добровольцев, — вздохнул инспектор. — Я-то полагал, они ухватятся за любую возможность заняться делом. Здесь им совершенно нечем себя развлечь… Впрочем, у них есть веские основания не покидать дом. Как и у вас, мистер Филипс, — я никак не могу вас отпустить.
— Неужели я вам так нужен? Вы мне льстите, Пис.
— Мне нужно, чтобы вы отправились в спальню. Займитесь там чем угодно — читайте, пишите, но держите дверь приоткрытой. Если кто пройдет мимо — проследите за ним, по возможности не выдавая себя. Я сменю вас в половине второго: не собираюсь морить вас голодом.
Оставалось только послушаться — тем более что это был своего рода знак доверия, — но боже, каким напряженным и скучным одновременно оказалось мое дежурство! Мимо не проходил никто, кроме унылой горничной. Я пытался разобраться в творящемся вокруг, но чем глубже я зарывался, тем больше путался в противоречивых предположениях. Ничему, кажется, я не радовался так, как явившемуся мне на смену инспектору.
Короткий зимний день потихоньку клонился к вечеру, а мы так и менялись местами на нашем посту. Пришло и прошло время ужинать. Я был свободен с девяти, но в половину одиннадцатого налил себе виски с содовой и присоединился к инспектору.
Тот сидел в центре комнаты, покуривая трубочку с самым довольным видом.
— Спать пора, разве нет? — Я невольно чихнул, вдохнув крепкий табачный дым.
— О нет, нет. Видите ли, нам придется не спать всю ночь.
Я молча повалился на софу у окна. Пожалуй, я был не в лучшем настроении.
— Вы ведь сами со мной напросились, не так ли?
— Так. И я не жалуюсь, верно? Я готов, если скажете, хоть запереться здесь на целую неделю! Но все-таки хотелось бы знать, в чем смысл ваших и наших действий.
— Я и не думал загадывать загадки, мистер Филипс. Просто вот так сразу и не объяснить в паре слов, что тут творится.
Я знал, что большего он не скажет, а потому только кивнул и раскурил трубку. В одиннадцать вечера Пис встал и погасил свет.
— Если ничего неожиданного не случится, смените меня через четыре часа. А пока ложитесь спать — я возьму на себя первую вахту.
Я лег и закрыл глаза, но уснуть не получалось — я просто лежал и слушал тишину огромного дома, развлекаясь пустыми размышлениями. Где-то внизу гулко били часы — каждые пятнадцать минут. Я считал удары — от полуночи до часа, от часа до двух.
Пис перестал курить и замер, как кошка у мышиной норки.
Четверти часа не прошло, когда я услышал едва различимый скрип половиц и сел, весь как натянутая струна, обратившись в слух. Знакомый звук: кто-то в темноте ведет рукой по стене, нашаривая дорогу. Прошел мимо. Пис не шелохнулся.
Может, уснул?
Я шепотом окликнул его и услышал в ответ тишайшее «Тссс…»
Минута, еще одна — и комнату залил ровный свет электрического фонарика.
Инспектор поднялся и выскользнул за дверь — я за ним вслед. Яркий луч легко рассекал тени, но коридор был пуст, и мы не могли увидеть никакого укрытия.
— Вы слишком долго ждали, — разочарованно прошептал я.
— Ничуть. Он ведь не дурак. Разве зря он крадется, как дикий зверь, шарахаясь от каждой тени? Скрипучая доска, шум, вспышка света — и все наши долгие и утомительные труды пошли бы прахом.
— И все же он улизнул.
— Я так не думаю…
Мы крались вдоль коридора, и тут я заметил, что дубовый паркет весь покрыт пылью. Но днем он был совершенно чист — иначе я непременно обратил бы внимание. Я замер, разглядывая неожиданную загадку.
— Мука, — шепнул инспектор, тронув меня за плечо.
— Мука?
— Да. Это я ее рассыпал. Вот и первый результат…
Он направил на пол свет фонарика и указал рукой. В муке четко виднелась половина отпечатка чьей-то ноги.
Пол был посыпан мукой только вдоль стен, и отпечатки были редки. Мы миновали спальню Рансома — но след шел дальше. Кладовку — но и ее он миновал. Дальше было только окно — и двадцать футов до земли от окна.
Неужто секретарь сгинул вслед за Сайласом Фордом?
Инспектор замер и схватил меня за руку. В пятне света от фонарика четко виднелись отпечатки ног. Человек стоял, развернувшись боком к проходу.
Выходило, что он… он просто прошел сквозь стену!
— Пис, что все это может значить?!
Вы, дорогой читатель, конечно, сейчас сидите дома, в мире и покое, и полагаете, должно быть, что я был полным идиотом — но я и впрямь перепугался, сильно и явно.
Пис, должно быть, услышал страх в моем голосе, потому что дружески хлопнул меня по спине.
— Неужели вы никогда не слышали про «поповские норы»?[10] В те годы, когда строили Мьюдон-холл, без такой не обходилось ни одно поместье. Католики, протестанты, роялисты, республиканцы — всем им рано или поздно требовался тайник, где можно отсидеться.
— Но как…
— А как он туда попал, мы как раз сейчас и выясняем. И поскольку ломать паркет мы не собираемся, полагаю, проще всего будет подождать, пока он выйдет.
И он выключил фонарь.
Все погрузилось во тьму. Только окно слабо светилось звездным светом, очерчивая старинные камни проема. Тени окружили нас непроницаемым барьером, и мы, замерев, стояли напротив стены, скрывавшей потайной ход.
Минут через десять или чуть больше мы услышали где-то далеко внизу — по крайней мере, так нам показалось — звук закрывающейся двери, скорее даже эхо звука. Разобрать его можно было только в такой непроницаемой тишине, едва нарушаемой даже дыханием. Бежали секунды.
Вдруг, словно лезвие меча, темноту пронзил узкий луч света между стенных панелей. Он стал шире и ярче, и вот скользящая стенная панель полностью открыла потайной ход.
Пис напрягся, словно атлет в ожидании старта.
Еще пауза — и на квадрате света обозначилась тень, а из прохода кто-то высунулся, осматриваясь. Лица толком не было видно — только блеснули зубы в непонятной улыбке. Незнакомец вышел из потайного хода — и Аддингтон Пис одним коротким скачком налетел на него, как охотничий пес, одним ударом сбив его с ног. Тот, впрочем, отчаянно отбивался, и не без успеха, так что мне пришлось прийти на помощь. Щелчок наручников — и тот затих.
Это был Джексон, камердинер мистера Форда.
Мы недолго оставались наедине с ним: щелкнул ключ в замке, и в коридор раненым быком вылетел Рансом. Мигом позже послышался топот босых пяток: прибежал Харборд, размахивая тяжелой тростью.
Оба они замерли на границе светового пятна, глядя то на нас, то на дыру в стене.
— Какого черта?! — наконец рявкнул Рансом.
— Искали выход из вашей проблемы и нашли его, — мило улыбнулся инспектор. — Надеюсь, вы будете так добры проследовать за мной.
И шагнул в проем, подобрав с пола подсвечник. Джексон оставил его там, когда открывал ход изнутри. Огонек свечи озарил ступени, шедшие куда-то вниз.
— Джексон пойдет с нами, полагаю. Мистер Филипс, будьте добры, проследите за ним.
Мы представляли собою довольно странное зрелище, когда спускались: впереди инспектор Пис со свечой, за ним Рансом с камердинером, за ними я, а замыкал процессию Харборд. Тридцать каменных ступенек, вырубленных в стене, тяжелая старинная дверь — и перед нами открылась небольшая комната, футов семь вширь и двенадцать вглубь. В дальнем ее конце на матраце лежал человек, связанный и с кляпом во рту. Когда свет упал на его лицо, Рансом не сдержал изумления:
— Сайлас Форд, черт меня подери!
Мы торопливо вынули кляп и разрезали веревки на его запястьях. Он задумчиво переводил взгляд с одного из нас на другого, одновременно распутывая узел на лодыжках.
— Благодарю вас, джентльмены, — наконец сказал он. — Рансом, как обстоят дела?
— Плохо, сэр. Но еще не все потеряно.
Форд кивнул и провел пальцами по волосам — несколько нервным, быстрым жестом.
— Я смотрю, вы поймали моего изобретательного друга. Будьте добры, проверьте его карманы. Там лежит нечто, что я хотел бы попросить назад.
Нечто было вложено в небольшую книжку: чек на пять тысяч фунтов, датированный прошлой неделей, с сопроводительным письмом управляющему одного из банков.
Форд задумчиво взял эту бумажку в руки, повертел ее в пальцах.
— Весьма находчиво с вашей стороны, Джексон, — сказал он. — Отличный план. Похитить человека, когда он готов на все ради большого дела… Да, вы бы непременно получили требуемое.
— Но как вы здесь вообще оказались? — вмешался Рансом.
— Он рассказал, что нашел потайную комнату — «поповскую нору». Предложил показать. И я покорно отправился в ловушку. Такое может случиться с каждым, знаете ли. Когда мы спустились, он набросил мне на голову мешок — и меньше, чем через минуту, я был связан и обездвижен. Джексон кормил меня дважды в сутки, причем следил, чтобы я не позвал на помощь. Он назначил себе сутки форы, как получит деньги, — и через сутки вам бы сказали, где меня искать. Какое-то время я держался, но сегодня решил сдаться: промедление стало слишком опасным. Харборд, у вас есть закурить? Благодарю. А кто эти два джентльмена?
— Я Пис. Инспектор Аддингтон Пис, Скотленд-Ярд.
— Так я вам обязан своим спасением? Инспектор кивнул.
— Вы не пожалеете об этом. А вот эти что обо всем этом думали?
— Ну, сэр, основная мысль была, что вы обрели крылья и улетели.
По дороге в город Пис изложил мне свою версию происшествия. Попробую пересказать ее по возможности вкратце.
— Я достаточно быстро пришел к выводу, что Форд, живой или мертвый, находится где-то в поместье. Буде он решил бы сбежать — что крайне маловероятно, — он едва ли оставил бы следы поперек газона на обозрение всем желающим. Более того, нашим ребятам не удалось отыскать ни единого следа его присутствия ни на одной из близлежащих станций. Автомобиль? Неплохая версия, но на дороге не было следов шин. Один из слуг — ему тоже пришла в голову такая мысль — специально осмотрел дорогу при дневном свете.
— Затем стена. Когда я залез на нее, то увидел, что снег с нее сброшен, — значит, кто-то полз по верху стены. Я повторил его путь и вслед за ним спрыгнул — и тут меня ждало любопытное открытие. На полоске дерна под стеной были еще следы! Но совсем другие: это были следы узких ботинок, спустившиеся к дороге и затерявшиеся где-то в грязи под отпечатками овечьих копыт — днем ранее по дороге прогнали целое стадо.
— Я осмотрел следы как мог тщательно. Может быть, это один из поисковой партии? Решил проверить, не перелез ли Форд через стену? А может быть, некто надел ботинки Форда, прошелся поперек газона, залез на стену, там сменил обувь и скрылся? Может быть, он хотел, чтобы все поверили, что Форд сбежал, покинул поместье?
— А потом, когда я обыскивал комнаты Форда, мне повезло еще раз. Чистильщик обуви сказал, что у его хозяина было три пары охотничьих сапог. И все три пары были на месте! Кто-то совершил очень грубую ошибку. Вместо того чтобы спрятать сапоги, он их вернул. Таким образом, обман окончательно раскрылся. Но где же Форд?! Жив он или мертв, в доме или где-то снаружи?
— Милейший чистильщик обуви дал мне возможность осмотреть все ботинки, какие только были в доме. И измерения, сделанные мною у стены, совпали с ботинками Джексона, камердинера. Но действовал ли он в одиночку, или Харборд, а может даже и Рансом, тоже были в деле? Это требовалось выяснить прежде, чем начинать действовать.
— Ваш рассказ о ночной прогулке Харборда дал мне недостающий ключ. Несомненно, секретарь следовал за кем-то, и этот кто-то загадочным образом исчез. Не могло ли в том коридоре быть входа в потайную комнату? Если да — то это объяснило бы и поведение Харборда, и загадочное исчезновение его хозяина. И тогда Харборд невиновен.
— Итак, предположим, что Форд — чей-то пленник. В таком случае его непременно надо кормить и поить — а это значит, что его тюремщик не может покинуть Мьюдон-холл надолго. Я попытался поймать преступника, предложив всем троим поездку в Лондон, — но ловушка не сработала: все трое повели себя одинаково. Впрочем, оставался еще шанс поймать вымогателя на горячем, установив вахту в вашей комнате, по случайности оказавшейся идеальным наблюдательным пунктом. Но Джексону хватило ума не высовываться до поздней ночи. Тогда я посыпал пол мукой в надежде, что древняя хитрость сработает, — и она сработала. Вот и все. Теперь вам понятно?
— Да, вот только… откуда Джексон узнал про потайной ход?
— Он давно служил в этом доме. Вам лучше спросить его прошлого хозяина.
ТАЙНА НЕФРИТОВОГО КОПЬЯ
Из цикла «Хроники Аддингтона Писа»
— Вы инспектор Пис, сэр?
Этот мальчик выглядел как ученик садовника, каковым наверняка и являлся; он застыл на платформе ричмондского вокзала, глядя на нас с торжественностью херувима. Коротышка-инспектор кивнул ему, перерывая карманы в поисках билетов.
— У меня экипаж для вас, сэр.
— Ты из усадьбы Вязы?
— Да, сэр. Мисс Шеррик послала меня встретить вас, потому как узнала, что вы приезжаете.
Мы поднялись по лестнице к дороге, уселись в кэб, мальчик забрался на козлы, и мы потащились по крутой и узкой улице, мимо гостиницы «Звезда и подвязка», некогда весьма прославленной, и дальше, еще около мили по Кингстонскому тракту, а потом, по слову нашего юного проводника, кэб остановился у калитки в ограде из штакетника. Не успели мы вылезти, как красивая девушка распахнула ворота и остановилась перед нами.
Она была высокая и гибкая, с нежным цветом лица, свойственным блондинкам. И остановившийся взгляд ее расширенных голубых глаз, и дрожание полных алых губ выдавали страх и сильную тревогу.
— Вы инспектор Аддингтон Пис?
— Да, мисс Шеррик.
В характере нашего маленького инспектора есть нечто такое, что вызывает доверие невиновных, да, честно говоря, и немалого числа виновных, причем последним это служит во вред. По моим наблюдениям, подобное доверие внушают некоторые знаменитые врачи. Поэтому я не удивился, когда мисс Шеррик подошла прямо к Пису и, доверчиво положив руку на его плечо, взглянула с безмолвной мольбой:
— Вы знаете, что его арестовали?
— Не слыхал. Кого «его»?
— Мистера Бойна!
— Того, кто нашел тело?
— Да. Того, за кого я собираюсь замуж.
Фраза мне понравилась. Она действовала сильнее, чем любые уверения в невиновности человека, какие девушка могла бы произнести. Пис, видимо, тоже это отметил, ибо улыбнулся и уважительно поглядел на нее, склонив голову к плечу.
— Вы же не думаете, что он виновен? — сказала она тихо. — Вы не можете так думать, вы для этого слишком умны, инспектор Пис!
— Моя дорогая юная леди, в два часа дня я услышал о том, что некоего полковника Балстрода из усадьбы Вязы под Ричмондом закололи насмерть на дороге вблизи от его дома. В телеграмме, поступившей в Скотленд-Ярд, содержался лишь один этот факт. Взяв с собой друга — вот он, рядом со мной, — я успел сесть на поезд в 2.35 с вокзала Ватерлоо. Сейчас половина четвертого. Поймите, я еще даже не приступил к работе!
— Я послала мальчика встретить вас, чтобы вы меня выслушали, прежде чем увидитесь с… с полицией там, в доме. Хочу рассказать вам все, что знаю.
— Это, без сомнения, будет ценным вкладом, — сказал инспектор. — Найдется ли здесь уголок, где бы нас не побеспокоили?
Вместо ответа она провела нас за калитку и дальше по петляющей дорожке. Пара поворотов — и мы оказались на прогалине среди лавров и рододендронов. На дальнем ее краю стояла садовая скамья, на которую мы и уселись, готовые услышать новые подробности трагедии; лично я испытывал сильнейшую тревогу.
— Мой отец давно овдовел, — начала мисс Шеррик, — и, умирая, он назначил моими опекунами и доверенными двух братьев моей матери, полковника Балстрода и мистера Анструтера Балстрода. Полковник Балстрод, служивший в Индии, вышел в отставку за год до смерти моего отца и приобрел этот дом. Я перебралась жить к нему. Ричмонд его устраивал, поскольку он мог проводить день в своем лондонском клубе и притом не опаздывать к обеду домой.
Мой дядя Анструтер тоже жил в Индии. Много лет он был плантатором на Цейлоне, а нынешней весной вернулся на родину и по совету дядюшки-полковника купил дом неподалеку от нас.
А с мистером Бойном я познакомилась на прошлое Рождество. Мы ездили кататься на коньках на заливных лугах по берегам Темзы. Он юрист и неплохо зарабатывает, но богачом его не назовешь. Я же, к сожалению, богатая наследница, инспектор Пис.
— Я понимаю, мисс Шеррик.
— Полковник Балстрод рассчитывал, что я найду себе, как он выражался, первоклассную партию. Мы с мистером Бойном были помолвлены уже две недели, когда наконец решились известить полковника. Мы знали, что это будет трудно, да ведь мешканьем беды не избудешь! Бойн условился с ним о встрече сегодня в час.
Утро казалось бесконечным. Когда настало назначенное время, я не смогла усидеть в своей комнате, выскользнула через боковую дверь и ушла в верхний сад — он расположен по другую сторону от дома. Там я бродила, борясь с тяжелыми мыслями. Потом на конюшенных часа пробило полвторого, и я повернула к дому. Все уже должно было решиться между ними, так или иначе.
Я вышла на въездную аллею и приближалась ко входу, когда увидела Каллена, нашего дворецкого. Он выбежал из Глухомани — так здесь называют заросли кустарников, где мы с вами сейчас находимся, — и побежал через лужайку прямо ко мне. Он был сильно возбужден, размахивал руками и что-то кричал. Каллен — человек дородный и настолько респектабельный, что оставалось лишь предположить, будто он рехнулся. Ярдов за двадцать он заметил меня и тут же свернул в сторону крыльца, словно желая скрыться с моих глаз.
— В чем дело, Каллен? — окликнула я его.
Он замедлил шаг, потом остановился и уставился на меня с очень странным выражением лица.
— Пойдемте в дом, мисс, — запинаясь, проговорил он. — Это не ваши шалости. Дело это мерзкое, ох-ох, черное, мерзкое дело!
— Вы о чем, Каллен? — спросила я как могла спокойнее, хотя он сильно испугал меня.
— Несчастный случай с полковником, мисс, там, у калитки. Я хотел вызвать врача…
Слушать дальше я не стала. Я была очень привязана к своему опекуну, мистер Пис. Он хоть и вспыльчив, но со мной всегда был добрым и внимательным. Я развернулась, чтобы идти к нему, и тогда Каллен, задыхаясь, догнал меня и попытался остановить взмахом руки. Сошел он с ума или нет, я не могла допустить, чтобы он запугивал меня. Потому я обошла его и помчалась по траве к воротам Глухомани — тем самым, через которые мы только что прошли. Неподалеку от них я встретила Бойна. Это меня удивило — я ведь думала, что он уже ушел. За его спиной я видела ворота, по ту сторону от них двое наших садовников с серьезными лицами говорили о чем-то.
Я спросила у мистера Бойна, в чем дело. Вместо ответа он взял меня за руку и повел обратно к дому. Он был очень бледен и выглядел больным. Я умоляла его объяснить ситуацию, и наконец он открыл мне правду. Моего дядю, полковника Балстрода, нашли лежащим на дороге — заколотого насмерть копьем! Никому не удавалось понять, кто мог бы его убить…
Тело внесли в дом, и лишь тогда мне позволили взглянуть на него. Даже смерть не разгладила его черты, не стерла судорогу ненависти. О, это ужасно, ужасно!
Самообладание изменило ей, и она зарыдала, спрятав лицо в ладонях. Не сразу сумела она взять себя в руки, и когда снова, с трудом, заговорила, речь ее стала прерывистой.
— Было около трех часов дня. Бойн пришел в комнату, где я сидела. Он сказал, что мой дядя сильно рассердился на него, наговорил злых слов… Они поссорились; но печаль Бойна звучала искренне. Я уверена, он не фальшивил! И он просил не верить никаким слухам о нем, которые могут дойти до меня. Затем он ушел. Я выглянула из окна и увидела, что он идет по дороге, и рядом с ним — полицейский. Слуги столпились на крыльце, глазели на него и указывали пальцами. В этот момент, уж не знаю отчего… я ощутила неладное — может, из-за того, что сказал мне Каллен. Сбежав по лестнице вниз, я велела слугам отвечать. Им не хотелось, но я все-таки узнала… что его… его арестовали за убийство.
Мы немного подождали, но мисс Шеррик больше ничего не добавила. Тогда маленький инспектор встал и со свойственной ему учтивостью подал ей руку. Девушка приняла его помощь и сказала, глядя на него сквозь слезы:
— Мистер Пис, он невиновен!
— Я твердо верю в это, мисс Шеррик.
Они пошли по дорожке к дому, я последовал за ними.
Вскоре заросли кустарника кончились, и перед нами открылась широкая лужайка. В центре ее возвышался старинный, обросший пристройками особняк из красного кирпича.
Мы пересекли газон и, завернув за угол дома, приблизились к крыльцу, от которого уходила вдаль извилистая аллея, укрытая в тени больших вязов. Дверь пропустила нас в просторный холл, больше под стать какому-нибудь музею, чем жилищу семьи, любящей уют. Бронзовые боги и богини поблескивали в углах, драконы, вырезанные из тикового дерева, злобно пялились на восточное оружие и доспехи, развешанные по стенам; неяркие оттенки слоновой кости и нефрита контрастировали с блеском лазурной росписи старинных китайских ваз. Здесь, среди военной добычи, привезенной с Востока, мисс Шеррик оставила нас. Я смотрел ей вслед, пока она поднималась по лестнице в свою комнату — прелестный образ, лучшее воплощение печальной красоты в глазах мужчины. Когда она скрылась, из двери справа вышел высокий худощавый человек в штатском костюме и поздоровался с инспектором.
— Добрый день, сержант Хэйлз, — отозвался Аддингтон Пис. — Итак, вы арестовали Бойна?
— Да, сэр.
— На каких основаниях?
— Почти все улики указывают на него.
— Неужели? Я с удовольствием послушаю!
— В общем, сэр, дело было так. Мистер Бойн явился к полковнику Балстроду около часа дня. Его провели в библиотеку и…
— Минуточку, — прервал его инспектор. — Где находится библиотека?
— Вот за этой дверью, сэр, — ответил Хэйлз, указав на комнату, откуда он вышел.
— Пожалуй, мне будет проще все понять, если мы пойдем туда.
Библиотека представляла собой длинную комнату с низким потолком, со стеллажами вдоль стен, по большей части пустыми. Это помещение явно было недавней пристройкой — оно располагалось под углом к основному зданию и благодаря этому имело окна с обеих сторон. Два из них, справа от нас, выходили на въездную аллею; из двух окон слева можно было видеть треугольную поляну, поросшую травой, с цветочными клумбами, на которую выходило также несколько окон задней части дома.
— Пожалуйста, продолжайте, — сказал инспектор Пис.
— Спустя примерно десять минут Каллен, дворецкий, расслышал возбужденные голоса. Это походило на ссору чуть не до драки — во всяком случае, так он выразился.
— Как он мог это расслышать? Подслушивал из холла?
— Нет, сэр, он находился в буфетной, чистил серебро. Окно буфетной — первое из тех, что вы видите в это окно. А окна библиотеки были открыты, так что звук громких голосов Каллен мог услышать, хотя слов, как он утверждает, не разобрал.
Рамы обоих окон были подняты; инспектор подошел к одному из них, высунул голову, потом, прежде чем вернуться к нам, закрыл эти окна.
— Не стоит соблазнять Каллена, — мягко сказал он. — Он там, на своем посту, и проявляет простительное любопытство. Что же дальше, сержант?
— В тот момент колокольчик в буфетной резко зазвонил, и дворецкий поспешил на вызов. Войдя в холл, он застал там полковника и мистера Бойна. «Зарубите себе на носу, Бойн, — говорил полковник, — если я еще раз увижу, как вы увиваетесь вокруг кошелька моей племянницы, душу из вас вытрясу, всю до капли вытрясу, разрази меня гром!» Молодой человек хмуро посмотрел на полковника, но, заметив, что за спиной хозяина стоит дворецкий, промолчал. «Выведите этого молодчика вон, Каллен, — велел полковник, — и если он тут когда-нибудь появится, захлопните дверь перед его носом!» И затем он тяжелым шагом направился обратно в библиотеку, ругаясь так замысловато, что у дворецкого, как он выразился, мурашки по спине побежали. Эта сцена настолько потрясла Каллена, который уже уверовал в действительность помолвки Бойна и мисс Шеррик, что он не сразу опомнился и, не в силах сдвинуться с места, наблюдал из-под навеса крыльца за молодым джентльменом. Бойн прошел по аллее около ста ярдов, затем оглянулся на дом и, не заметив дворецкого, как тот полагает, свернул влево, по тропинке, ведущей к плодовому саду. Каллен не знал, как это понимать. Однако ему не пристало вмешиваться в господские дела, и он наконец ушел к себе в буфетную. Высунувшись из своего окна, он увидел, что полковник сидит и пишет, — сержант указал пальцем на двухтумбовый письменный стол, заваленный бумагами, у дальнего окна со стороны поляны, — и поэтому решил, что Балстрод не мог видеть, как Бойн ушел с аллеи, поскольку все это время сидел к ней спиной.
Примерно двадцать минут спустя Каллен и Мэри Томас, горничная, находились в столовой, накрывали стол к завтраку. Окна этой комнаты выходят на газон перед домом. Внезапно они услыхали крик, и в следующее мгновение полковник промчался мимо них, выбежал на газон и направился в сторону Глухомани. В руке он держал револьвер и заряжал его на ходу. В спешке он обронил два патрона, — я нашел их при осмотре территории. Каллен служит Балстроду много лет, он сам — старый солдат; завидев револьвер, он уронил поднос, который держал, выскочил из окна и кинулся догонять своего хозяина, к этому времени уже скрывшегося в зарослях. Он… ну, то есть старик, бегать не горазд, и был он, по его прикидке, примерно на середине газона, когда расслышал отдаленный вопль, и это заставило его прибавить ходу. Очень уж этот звук его испугал. Каллен сказал мне, что, побывав в стольких боях, ни с чем не спутаешь крик человека, внезапно получившего смертельную рану. Так что он уже был готов к тому, что увидел, когда наконец добрался до дальней калитки: его хозяин лежал мертвый на дороге. А над полковником, дергая за копье, которое послужило орудием убийства, стоял Бойн.
Поблизости никого не было видно, а Каллен, стоя на изгибе дороги, мог видеть ярдов на пятьдесят в обе стороны. Он для себя уже решил, кто виноват. Бойн, должно быть, прочел подозрение на лице дворецкого, потому как, по словам Каллена, отскочил в сторону и уставился на него — белый как полотно. И говорит: «А что это вы, Каллен, так на меня смотрите? Не думаете ли вы…» Тут Каллен указывает на тело. «Если, мол, сумеете объяснить вот это, тогда, значит, вы, сэр, да простится мне такая дерзость, чертовски умны!» — «Вы с ума сошли! — возмущается Бойн. — Я-де только что нашел его в таком состоянии». — «И откуда же вы выскочили, позвольте полюбопытствовать?» — спросил дворецкий. Как можно более язвительно спросил, по его словам. «Я был в верхнем саду, не желая сталкиваться с полковником, и вы это отлично знаете, Каллен, — возражает молодой человек. — Я обошел дом сзади и добрался до верхней части Глухомани. Потом двинулся по центральной дорожке к калитке и тут услышал чей-то крик. Я тотчас побежал на голос. Не прошло и минуты, когда явились вы. Дворецкий не стал с ним спорить, оставил его у тела и поспешил за помощью. На лужайке он встретил двух садовников и отправил их на место происшествия. Тогда же, видимо, он столкнулся с мисс Шеррик возле крыльца. Вот так… На основании этих фактов, сэр, я и арестовал Бойна.
— Мне кажется, — сказал инспектор, покачав головой, — мне кажется, сержант Хэйлз, что его не следовало арестовывать.
— Но все говорит против него, признайте!
— На факт его виновности или невиновности это не влияет никоим образом. Врач тело осматривал?
— Да, сэр, и извлек копье.
— И вы позволили ему это сделать? — резко спросил наш коротышка.
— Я знал, что вас это раздосадует, но это было сделано, пока я ходил осматривать газон и дорогу. Доктор сказал, что старался обращаться с копьем осторожно и делать лишь самое необходимое, но ему пришлось распилить древко надвое.
— Это еще почему?
— Он сказал, что удар был нанесен с большой силой.
— Очень большой?
— Да, сэр, он даже сказал «с огромной».
Аддингтон Пис подошел к окну и там остался, глядя на аллею вязов, тихо шелестящих на легком ветру.
— Врач еще не ушел? — спросил он, не оборачиваясь.
— Нет, сэр.
— Мы не должны упустить ни единой подробности. Где сейчас копье?
Сержант открыл стоявший в простенке шкаф, достал два деревянных обломка и показал нам. Древесина была светло-желтого оттенка; темные пятна на отполированной поверхности говорили сами за себя. Наконечник был широкий и плоский. Некогда его изготовили из драгоценного нефрита и украсили тончайшей резьбой. Копье предназначалось для какой-то восточной церемонии, а не для боя. Это было совершенно очевидно.
Пис вернулся к окну и с предельной тщательностью осмотрел улику. Потом вытащил увеличительное стекло и сосредоточенно уставился на пятнышко, обнаруженное им на более длинном из обломков.
— Правильно ли я вас понял, Хэйлз, что Бойна застали при попытке выдернуть копье?
— Да, сэр.
— Кто-то еще к нему прикасался?
— Насколько я знаю, никто, кроме доктора.
— А вы сами?
— Конечно, и я тоже, сэр.
— Позвольте мне взглянуть на ваши руки.
Улыбнувшись, сержант исполнил его просьбу. За последние несколько часов руки его явно не подвергались мытью.
— Благодарю вас. Вы установили, кто был владельцем этого копья?
— Нет, сэр. Весьма сожалею, но мне это не удалось.
— Вы уже допрашивали Каллена или мисс Шеррик?
— Нет, сэр, — честно сказал сержант, бестрепетно взглянув на инспектора.
Аддингтон Пис переместился к камину и нажал на электрический звонок. Через несколько мгновений дверь открылась, и вошел дородный краснолицый мужчина. Мы не могли ошибиться — и стать, и костюм выдавали в нем настоящего британского дворецкого.
— Полковник Балстрод коллекционировал нефрит? — спросил у него инспектор самым невинным тоном.
— Да, сэр.
— Я заметил образчики в холле. А скажите-ка, мистер Каллен, среди его трофеев вы это копье видели?
Дворецкий взглянул на обломки и, содрогнувшись, отступил на шаг.
— Это… этим его убили, — пробормотал он, запинаясь.
— Совершенно верно. Однако вы не ответили на мой вопрос.
— Может, что-то похожее и было, но я бы не поручился за это, сэр. Полковник никому не позволял прикасаться к его коллекции. Только он или мисс Шеррик. Они и пыль с этого всего вытирали сами, и переставляли. И он то и дело покупал что-нибудь новое.
— Значит, мисс Шеррик должна знать все экспонаты?
— Весьма вероятно, сэр.
— Спасибо. Можете идти.
Как только преданный слуга закрыл за собою дверь, сержант вытянулся в струнку перед инспектором и отдал честь.
— Я обязан был заметить эту коллекцию, — сказал он. — Я выказал себя сущим болваном, сэр.
— Человека, способного сделать такое признание, никак нельзя считать глупцом, сержант Хэйлз. А сейчас будьте добры проводить меня на второй этаж, в комнату полковника. Мистер Филипс, вы можете подождать меня здесь.
Они отсутствовали более получаса, и я употребил свободное время на то, чтобы поразмыслить над загадкой. Когда Пис явился ко мне домой этим утром, как раз перед вторым завтраком, объявил, что ему подвернулся не лишенный оригинальности случай в Ричмонде и пригласил, если мне интересно, сопровождать его, я и вообразить не мог настолько странную историю. Да и мой друг-коротышка, наверное, тоже.
Полковник Балстрод много лет прослужил в Индии. Неужели он соприкоснулся там с какими-то зловещими тайнами Востока, которые настигли его на родине, в пригороде Лондона? Некий силач, метнувший копье с чудовищной силой… в этом мне чудилось нечто неестественное, труднообъяснимое. При всем при том дело могло в конечном счете оказаться очень простым. Бойн, по-видимому, человек крепкий, а та слепая ярость, которая побуждает законопослушного гражданина к убийству, сродни безумию… безумие же придает страдальцу небывалую силу. Я все еще не пришел к какому-либо решению, когда дверь открылась, пропуская малыша-инспектора.
— Прав ли был сержант Хэйлз? — спросил я его. — Он преувеличивает, или… копье действительно метнули с необычной яростью?
— Воистину необычной. Это преступление великана либо…
Он не договорил и долго стоял, постукивая пальцами по столу и глядя, как летний закат играет в окне оттенками зелени и золота. Наконец, медленно наклонив голову, он обернулся ко мне.
— Хэйлз ждет, — сказал он, — нам пора браться за работу. Скоро стемнеет.
Сержант провел нас по лужайке до Глухомани, а потом по тамошним тропинкам до уже знакомой калитки. Дождь, пролившийся рано утром, превратил дорожную пыль в серую грязь, а полуденное солнце ее высушило. На ее поверхности сохранились колеи от колес — телег и экипажей, велосипедов и автомобилей. Они представляли собой путаную сеть расходящихся линий, сущую головоломку. Однако Пис рассматривал их еще внимательнее, чем следы на дорожках сада. Особенно его беспокоило положение, в котором обнаружили тело покойного. Наконец сержант подвел нас к тому месту, где упал полковник; мы увидели вмятину в подсыхающей грязи.
Было очевидно, что Балстрод прошел около десяти ярдов от ворот, когда копье поразило его. Он упал почти посредине дороги, довольно широкой в этом месте и окаймленной полосами травы по обочинам. Его нашли с револьвером, зажатым в руке, хотя выстрелить ему так и не довелось.
Мы пошли дальше. Аддингтон Пис шел первым, не сводя глаз с поверхности дороги, мы с сержантом двигались следом. Что касается меня, то я даже приблизительно не представлял, чего он надеется добиться этой прогулкой. Думаю, и сержант был в таком же положении. Мы обошли сады по наружному периметру, и наконец дорога, повернув налево, привела нас к главным воротам усадьбы. Здесь инспектор велел нам остановиться. Сам он продолжил движение, а потом вдруг опустился на колени возле живой изгороди. Когда он вернулся к нам, лицо его излучало благодушное удовлетворение. Он с улыбкой взглянул на аллею, тянущуюся за воротами: старые вязы сонно шелестели листвой в сгущающихся сумерках.
— Как здесь красиво! — воскликнул он. — Возблагодарим Провидение за то, что у этих старинных поместий до сих пор находятся владельцы или арендаторы, способные противостоять нынешним горе-строителям и всем их затеям! Эге, а это еще кто явился?
Так он отреагировал, обернувшись на автомобильный гудок. Судя по звуку, машина была совсем близко, ведь бензиновый двигатель работает намного громче, чем относительно тихий паровой. Мы тут же ее увидели; она остановилась, шофер спрыгнул на землю и подбежал к воротам, чтобы их открыть. Пассажира мы разглядеть не смогли — шапка с большим козырьком, защитные очки и длинный белый плащ-пыльник почти целиком маскировали его внешность. Когда автомобиль проехал мимо нас в сторону дома и скрылся за изгибом аллеи, прямо у меня над ухом раздался тихий смешок. Я удивился и спросил:
— Что это с вами, Пис? В чем вы нашли повод для смеха?
— Да мне-то не до смеха, мистер Филипс, — ответил он. — Тут впору смеяться лишь самой судьбе.
Бывают моменты, когда человеку, наделенному обычным природным любопытством, поведение инспектора Аддингтона Писа кажется чрезвычайно несносным.
Мы молча зашагали по аллее. Автомобиль уже стоял перед крыльцом, шофер, розовощекий юноша, околачивался возле него. Пис вежливо поздоровался с ним и тут же пустился в рассуждения о грязи на дорогах и опасностях скольжения.
— Неужели нет средства избежать таких случаев? Говорят, будто есть такое изобретение, которое им препятствует, — что-то вроде тонких цепей, надеваемых на шины. Это прекрасно!
— Это наилучшее средство, сэр, — сказал парень. — Мистер Балстрод иногда их применяет на своем моторе.
— Ага, значит, этот автомобиль принадлежит мистеру Анструтеру Балстроду?
— Да, сэр. Он приходится братом здешнему несчастному джентльмену.
— Сейчас-то дороги совсем сухие, — продолжал Пис, — а вот если бы вам потребовалось выехать сегодня утром…
— Так мистер Балстрод и воспользовался цепями нынче утром, — перебил его шофер. — Он ездил без меня, но, когда вернулся, сказал, что они очень пригодились, потому как дороги были плохи.
— Ага, а после полудня мистер Балстрод, значит, решил, что все высохло и можно обойтись без них?
— Да. Он велел мне снять их. И…
— Приятно видеть, что полиция проявляет интерес к моторному спорту, — раздался высокий, пронзительный голос позади нас. — А меня сложилось впечатление — ложное, как я теперь вижу, — будто вы непримиримо враждебны к нему.
Анструтер Балстрод — а это, несомненно, был именно он — представлял собою нечто вроде усохшей желтой оболочки человека. Годы, проведенные под солнцем Индии, высосали английскую кровь из его вен и окрасили щеки в тусклый цвет обожженной глины. Он стоял на ступеньке крыльца, заложив руки за спину, и его маленькие, словно пара черных бусин, глазки уставились на инспектора с выражением крайнего неудовольствия. Рот под щетинистыми усами искривила злая гримаса, свидетельствуя о том, что бедняга полковник был не единственным членом семейства Балстрод, страдающим буйным нравом. За его плечом я разглядел бледное лицо мисс Шеррик, наблюдавшей за нами. Теперь она вышла из тени, сочтя нужным объяснить ситуацию.
— Дядя, это инспектор Пис, — сказала она нервно.
— Я понял, моя дорогая, понял. Неужели ты думаешь, что я не сумею распознать сыщика с первого взгляда? Итак, инспектор, вы уже изловили нужную добычу, верно?
— Если вы соизволите пройти в библиотеку, мистер Балстрод, я отвечу на все вопросы, как смогу.
Шел девятый час, и приятные сумерки долгого летнего вечера уже сгущались в более плотные тени. Старый дом не был оборудован газовым освещением, но мисс Шеррик распорядилась принести керосиновые лампы. Все мы расселись у большого камина, кроме Писа, который ступил на каминный коврик, заслонив цветы, украшающие пустой очаг. Абажур лампы рассеивал свет, и наши лица виднелись как в тумане. В воздухе чувствовалось напряжение, смутная тревога, и я сидел в своем кресле, выпрямившись, нервный и настороженный.
— Ну что же, инспектор, — повторил мистер Балстрод, — что вы имеете нам сообщить?
Пис молча подошел к лампе и положил рядом с ней обломок копья длиной в четыре дюйма, с нефритовым наконечником, уже отчищенным и натертым до блеска.
— Вы узнаете эту вещь, мисс Шеррик?
Девушка склонилась над уликой спокойно: ведь она не знала, какую роль сыграло копье в этой мрачной трагедии.
— Конечно, узнаю, — сказала она. — Это уникальное изделие, и полковник Балстрод ценил его превыше всей остальной коллекции. Я точно помню, что утром оно висело в холле, поскольку работала там, вытирала пыль. Каким образом оно сломалось?
— Неприятная случайность, мисс Шеррик.
— Мой бедный дядя ужасно рассердился бы из-за этого, да и вы, дядя Анструтер, наверное, тоже — ведь вы, насколько я понимаю, теперь имеете на него право.
— Мы пришли сюда, Мэри, не затем, чтобы толковать о коллекционировании нефрита, — проворчал старый плантатор.
— А копье на самом деле принадлежит вам, мистер Балстрод? — вкрадчиво поинтересовался инспектор.
Старик выпрямился в кресле, уперся стиснутыми кулаками в колени, а его глазки-бусины уставились куда-то в пространство.
— Это копье — моя собственность, господин детектив. Мой брат все равно что украл его у меня, угрожая физической расправой, если я попытаюсь затребовать эту вещь обратно. Самый совершенный образчик художественного ремесла в моей собственной коллекции! Я намерен обратиться к юристам, чтобы заявить свои права в законном порядке.
— Похоже, ваш брат повел себя с вами весьма грубо и своенравно, мистер Балстрод. Удивляюсь, почему вы в один прекрасный день не пришли и не отобрали свое имущество!
Плантатор встал, принужденно усмехнувшись.
— Я не грабитель, не взломщик, — сказал он. — Кроме того, я должен заметить, что не желаю сидеть здесь ночь напролет. Могу я что-то еще сделать для вас, инспектор?
— Нет, мистер Балстрод.
— А для тебя, Мэри?
— Нет, дядя. Со мной здесь остаются горничная и Агата, экономка.
— Ну, вот и хорошо. Возблагодарим господа за то, что преступник уже не разгуливает на свободе. Наша превосходная полиция отлично поработала. Быстро разобрались, ей-ей, умные парнишки. И как сноровисто схватили его! Приятно познакомиться с таким человеком, как вы, инспектор Аддингтон Пис. Выдающимся человеком, вот как я назову вас, разрази меня гром!
Он визгливо рассмеялся, сотрясаясь всем телом и вцепившись пальцами в край стола. Затем низко поклонился всем присутствующим и, высокомерно вскинув голову, вышел из комнаты. Пис направился туда же, и я последовал за ними.
Под навесом крыльца горел фонарь, и Балстрод остановился в кругу света. В ярком освещении он выглядел особенно желтым, старым и свирепым.
— Нехорошо получается, мистер Балстрод, — сказал Аддингтон Пис.
— Согласен с вами. Может, мне вас подвезти? — совершенно спокойно спросил он, указывая на свой автомобиль. — Так, пожалуй, будет удобнее всего.
Балстрод обернулся, заметил меня и засмеялся снова, как будто мое присутствие добавило пикантности его веселью. Они с инспектором, по-видимому, отлично понимали друг друга. Честно говоря, это меня озадачило.
— Вижу, вы не откровенничаете со своими помощниками, Пис, — заметил старик.
Маленький инспектор поклонился.
— В то же время, — продолжал старый плантатор, — прежде чем мы уедем, я хотел бы сделать одно заявление. Предупреждать меня не нужно. Я знаю законы.
— Как вам будет угодно, мистер Балстрод.
— В начале вечера я насмехался над полицией, но сейчас хочу принести свои извинения. Вы отлично справились с этим делом. Я так и не понял, каким образом вам удалось вычислить меня. Прошу учесть, что о смерти брата я узнал только из телеграммы, которую получил около полудня от племянницы. Это меня потрясло; в первый момент я был склонен к тому, чтобы не признаваться. Так я мог бы избежать многих неудобств.
— И подставить под удар ни в чем не повинного человека, — сказал инспектор.
— Ну, положим, вы не могли найти явные доказательства его вины, а я мог бы как-то выкрутиться. Это была чистая случайность. Я не намеревался даже ранить его.
— Именно так, мистер Балстрод — как если бы вы, идя по горной тропе, выбросили стеклянную бутылку, не подозревая, что она разобьется о голову путника, находящегося ниже на тропе.
Наконец-то ситуация прояснилась! Обстоятельства странным образом сложились так, что этот человек стал убийцей собственного брата. Я инстинктивно отшатнулся, но все же не отвел глаз от его лица.
— Видите ли, — продолжал Балстрод, — братец Вильям когда-то присвоил нефритовое копье, принадлежавшее мне, — как и почему, сейчас несущественно. Я вознамерился вернуть отнятое. Я знаю, в каком часу он завтракает, и, оставив свой автомобиль на дороге, пошел по аллее, рассчитывая найти открытую дверь и никого вокруг.
Поначалу все складывалось удачно. Парадная дверь была распахнута настежь. Я вошел в дом, снял копье со стены и направился обратно к машине. Пройдя примерно пятьдесят ярдов в сторону ворот, я услышал громкий рев, а потом братец Вильям выскочил на крыльцо, с оружием в руке.
Признаюсь, это меня испугало, поскольку я знал, до какой степени он вспыльчив; но я, хоть и старше, способен двигаться намного быстрее, и потому пустился бежать. Добравшись до ворот, я оглянулся — и не увидел его. Тогда я подумал, что благоразумие взяло верх и Вильям предпочел закончить завтрак.
Я не желал, чтобы кто-нибудь видел, куда я поехал и чем занимаюсь, а потому оставил шофера дома и сидел за рулем сам. Я запустил двигатель, забрался на сиденье, положив копье рядом с собой, и тронулся с места. Машина развила скорость добрых тридцать миль в час, когда я добрался до того поворота, и там-то, стоя посреди дороги, меня поджидал Вильям, размахивая своим револьвером и проклиная меня как вора. Он догадался пробежать через Глухомань, чтобы опередить меня.
Честное слово, я испугался, потому что хорошо знаю горячность и дурной нрав Вильяма. Я подхватил копье и, проезжая мимо, выкинул его не глядя. Пусть уж владеет своим сокровищем, подумал я, пусть носится с ним, будь он неладен! Никакой кусок резного нефрита, по-моему, не стоит того, чтобы во мне просверлили дырку! Что за этим последовало, я не видел, так как в ту же минуту машину повело вбок, и мне с трудом удалось вырулить и не перевернуться. По-видимому, копье попало в него острым концом, а я ведь ехал на скорости тридцать миль в час…
Племянница прислала мне телеграмму. Получив ее, я понял, что произошло, и меня охватила дикая паника. Я решил, что попробую выкрутиться. Видите, я ничего не скрываю. Я вспомнил, что мог оставить на дороге след от шин, и велел своему шоферу снять цепи с колес машины. Потом отправился сюда снова — выяснить, как обстоят дела. Ну а остальное вам известно.
— Этим признанием вы себе не навредили, мистер Балстрод, — сказал инспектор Аддингтон Пис.
— Благодарю вас. А теперь, если вам угодно будет забраться на борт, я отвезу вас в полицейский участок. Вы ведь хотите вытащить оттуда Бойна и засадить меня, верно, инспектор?
Его пронзительный смех все еще доносился издали, когда автомобиль растворился в ночной темноте.
Только на следующий день мы уселись, дымя трубками, в моем кабинете, и Пис наконец-то разъяснил мне ход своих рассуждений. Они достаточно интересны и заслуживают изложения, хотя бы краткого.
— В пользу Бойна говорило многое, — сказал он. — Рассказ мисс Шеррик не только совпал с показаниями Каллена, но еще и прояснил те моменты, которые дворецкому показались подозрительными. Молодой человек свернул с аллеи, надеясь встретить мисс Шеррик. Каллен упомянул о том, что Бойн, уходя, спросил, где она, и ему было сказано: «Где-то в верхнем саду». Однако он не сумел найти девушку там и, вероятно, решил, что она ушла завтракать. Бойн утверждал, что услышал крик, когда проходил по Глухомани. Так вот, будь это ложь, каким образом к нему могло попасть копье? Затем возник вопрос: обладает ли этот юноша той феноменальной силой, о которой свидетельствовал трагический результат броска? Как видите, возникли неувязки.
Первая здравая мысль пришла ко мне, когда я осматривал в спальне тело убитого. Сила, приложенная к копью при броске, превышала обычные человеческие способности. Либо убийца обладал чудовищными мышцами, либо он бросал копье с быстро движущегося экипажа.
Вспомните, какие объявления расклеены в вагонах железной дороги: пассажиров просят не выбрасывать бутылки из окон, поскольку это опасно для жизни путевых обходчиков и рабочих. Однако опасность заключается не в силе броска, а в высокой скорости поезда. Здесь могло произойти нечто подобное.
И тут мне удалось сделать примечательное открытие. Приглядевшись к древку копья попристальнее, я обнаружил пятнышко того смазочного масла, которое используют в автомобилях. Это позволяло предположить, что оружие недавно побывало в руках у человека, перед тем занимавшегося уходом за машиной. А кто из группы возможных подозреваемых имеет какое-либо отношение к моторам или механике? Никто!
С другой стороны, я заметил в холле коллекцию вещиц из нефрита. Наконечник этого копья необычайно красив. Не принадлежало ли оно к собственной коллекции полковника? Копья не было при нем, когда он понесся к Глухомани, на бегу заряжая свой револьвер. Зачем же ему понадобилось так вооружаться? Его ограбили?
Но грабитель не мог ни проникнуть в дом, ни уйти этим путем — иначе Каллен непременно заметил бы его. Возможно, полковник устремился наперерез?
Тогда я решил осмотреть дорогу и нашел следы от колес машины в подсыхающей грязи — следы необычные, заметьте, поскольку водителя занесло, и он съехал с дороги как раз в том месте, где стоял полковник. Различить их было нетрудно благодаря отпечаткам цепей, натянутых на шины. Следы привели к главным воротам, и прямо рядом с ними машина простояла некоторое время вплотную к изгороди. Пока автомобиль ждал, смазочное масло просочилось на дорогу. Ситуация становилась все яснее.
Разговор с шофером Балстрода сделал картину самоочевидной. Ну а информация, полученная от мисс Шеррик, и сообщение ее дяди о ссоре с братом из-за копья развеяли мои последние сомнения. Вы все поняли?
— Да, — сказал я. — Теперь-то история кажется совсем простой… Однако Балстроду основательно не повезло. Он попал в весьма незавидное положение.
— Думаю, он выпутается, — сказал Аддингтон Пис. — У его показаний есть важное достоинство: они не только вразумительны, но еще и правдивы.
— А что же Бойн?
— Я видел, как его встретила мисс Шеррик. Зрелища такого рода заставляют закоренелого холостяка пожалеть о своих заблуждениях, Филипс. Поверьте мне: в мире существует великое счастье, о котором ничего не ведаем мы — одинокие мужчины.
Марк Твен ТОМ СОЙЕР — ЗАГОВОРЩИК
ГЛАВА 1
Ну так вот, мы вернулись домой, и я жил у вдовы Дуглас на Кардиффской горе всю зиму и весну и снова набирался у нее и у старой мисс Уотсон хороших манер, а Джим работал у вдовы, чтобы на вырученные деньги когда-нибудь освободить жену и детей. Лето было уже на носу — вылезли первые листочки, и ветреница расцвела. Скоро придет пора играть в шарики, гонять обруч и запускать воздушных змеев; можно уже ходить босиком, а воздух такой мягкий и пахучий, и пар подымается от земли, и птицы в лесу поют. Из комнат выносят печурки и убирают на чердак, а на рынке уже продают пестрые соломенные шляпы и рыболовные крючки, и девчонки гуляют в белых платьях и голубых лентах, а мальчишкам не сидится на месте, и всем ясно, что проклятой зиме конец. Зима — хорошая штука, когда это настоящая зима — со льдом на реках, градом, мокрым снегом, трескучими морозами, вьюгами и всем прочим, а вот весна никуда не годится — сплошные дожди, грязь, слякоть, одно слово — тоска, и уж скорей бы она кончилась. Вот и Том Сойер то же говорит.
Мы с Джимом и Томом радовались теплу и солнышку и в субботу с утра пораньше взяли челнок и поплыли к мысу на острове Джексона, где можно спрятаться от всех и построить планы на будущее. То есть насчет планов — это была затея Тома. Мы с Джимом никогда планов не строим — незачем голову ломать и время впустую тратить, лучше просто сидеть и ждать, что дальше будет. Но Том говорит, что сидят и ждут одни лентяи, а на Провидение тем более нельзя надеяться — от него уж точно никакой пользы. Джим отвечает, что грех так думать, да и говорит:
— Нельзя так, масса Том. Вы Провидению не поможете, да и не нужно ему помогать. И еще, масса Том, если вы что-то задумали, а Провидению это не нравится, то старик Джим вам тоже не помощник.
Том понял, что ошибся, — если так и дальше пойдет, Джим ни о каких планах и слышать не захочет. Решил он попробовать по-другому, да и спрашивает:
— Джим, а Провидение заранее знает все, что должно произойти, так?
— А то как же! С самого сотворения мира!
— Понятно. А если я строю план (то есть мне кажется, что это я строю план, а Провидение тут вроде ни при чем) и ничего из него не выходит? Значит, Провидение не захотело?
— Да, нельзя на него полагаться — вот что это значит.
— А если план удается, значит, так хотело Провидение, а я просто попал в точку?
— Так оно и есть, помереть мне на этом месте!
— Значит, я должен и дальше придумывать, пока не угадаю, чего хочет Провидение?
— Разумеется, масса Том, так и надо, греха в этом нет.
— Выходит, можно предлагать планы?
— Да, конечно, предлагайте сколько душе угодно. Провидение возражать не станет, если сможет спервоначала на них посмотреть. Но не вздумайте жить по ним, по планам этим, масса Том, — кроме как по одному, правильному, потому что грех совать нос куда не след и жить по плану, который не по вкусу Провидению.
И снова все шло как надо. Сами видите, он просто обвел Джима вокруг пальца — опять мы начинали спор сначала, а Джим об этом и не подозревал. Том и говорит:
— Значит, все в порядке, и мы сейчас сядем вот тут на песок и что-нибудь придумаем — просто чтобы с тоски не помереть и чтоб лето зря не пропадало. Я читал книжки знающих людей, покумекал, и у меня есть в запасе пара-тройка отличных идей — выбирай любую.
— Ну, — говорю, — выкладывай первую!
— Первая, и самая замечательная, — это гражданская война, — если получится ее устроить.
— Ерунда, — говорю. — К черту гражданскую войну. Так я и знал, Том Сойер, что ты выберешь одни сплошные опасности, хлопоты и расходы — без них ты не можешь.
— И славу! — отвечает он с жаром. — Ты забыл самое главное — славу!
— Ну да, — говорю. — Это уж само собой. Чтобы Том Сойер приволок план, в котором ни на грош славы, — да это все равно как старый Джимми Граймс явится с кувшином без единой капли виски.
Я нарочно съехидничал, чтобы его смутить, и своего добился: он притих, сделался неразговорчивым, а меня обозвал ослом.
А Джим все думал, думал, да и спрашивает:
— Масса Том, а что значит «гражданская»?
— Ну… как бы тебе объяснить… в общем, хорошая, добрая, правильная и все такое прочее. Можно сказать, христианская.
— Масса Том, но ведь на войне дерутся и убивают друг друга?
— Разумеется.
— И это, по-вашему, хорошо, правильно и по-христиански?
— Ну… понимаешь… она просто так называется, только и всего.
— Вот вы и попались, масса Том! Просто так называется! Только и всего! Гражданская война! Да не бывает такой войны. Подумать только: хорошие люди — добрые, справедливые, в церковь ходят — идут друг друга резать, рубить, крошить и убивать. Да быть такого не может! Это вы все напридумывали сами, масса Том. Да еще говорите, это хороший план. Не затевайте вы гражданской войны, масса Том, — Провидение этого не позволит.
— А ты откуда знаешь, пока мы не попробовали?
— Откуда знаю? Да не позволит Провидение хорошим людям воевать — оно о такой войне и не слыхивало.
— Еще как слыхивало! Гражданские войны — дело старинное. Их столько было, что и не сосчитать.
Джим даже ответить не мог, до того удивился. И обиделся, — мол, грех Тому так говорить. А Том и отвечает, что это правда, — это каждый знает, кто историю учил. Ну и Джиму ничего не оставалось, как поверить, но он не хотел и сказал, что Провидение больше такого не допустит; а потом засомневался, разволновался и попросил Тома больше гражданскую войну не предлагать. И не успокоился, пока Том не пообещал.
Том уступил, но очень неохотно. Потом он только и делал, что говорил о своем плане и жалел о нем. Видите, какое у него доброе сердце: сначала он твердо решил устроить гражданскую войну, да еще и думал подготовиться к ней с размахом, а потом все планы отбросил в сторону, чтобы угодить какому-то негру. Мало кто из ребят на такое бы решился. Но Том, он такой: уж если ему кто понравится, он для этого человека на все готов. Да, Том Сойер на моей памяти совершил немало благородных поступков, но, пожалуй, самый благородный — когда он отменил гражданскую войну, то есть отдал контрприказ. Да, так он и сказал! Ну и слово! Ему-то выговорить — пара пустяков, а у меня от таких слов язык отваливается. Он уже все приготовил и собирался выставить целый миллиард солдат, ни больше ни меньше, а еще военное снаряжение — не знаю, что это за штука, наверное, духовые оркестры. Я-то знаю Тома Сойера: уж если он станет готовиться к войне и в спешке что-нибудь позабудет, то уж точно не духовые оркестры. Но он отказался от гражданской войны, и это один из лучших его поступков. А ведь мог бы запросто ее устроить — стоило ему только захотеть. И где тут справедливость, что вся слава досталась Гарриет Бичер-Стоу и прочим подражателям, как будто они начали войну, а о Томе Сойере — ни словца, сколько ни ройся в книжках по истории, но ведь он-то был первый, кто дотумкал ее устроить, — за много-много лет до всех остальных. И все-то он придумал сам, и уж куда лучше, чем они, и стоило бы это в сорок раз дороже, и, если бы не Джим, он бы всех опередил и вся слава была бы его. Я это точно знаю, потому что был там и хоть сейчас покажу то самое местечко на острове Джексона — на песчаной косе у мелководья. И где же памятник Тому Сойеру, хотел бы я знать? Нет его, да и навряд когда будет. Вот так всегда: один что-то сделает, а другому за это памятник ставят.
Ну ладно, я его спрашиваю:
— И какой твой следующий план, Том?
А он отвечает, что хорошо бы устроить революцию. Джим облизнулся и говорит:
— Слово-то какое длинное, масса Том, и красивое! Что такое революция?
— Ну, это когда из всех людей только девять десятых одобряют правительство, а остальным оно не нравится, и они в порыве патриотизма поднимают восстание и свергают его, а на его место ставят новое. Славы в революции — почти как в гражданской войне, а хлопот с ней меньше, если ты на правильной стороне, потому что не нужно столько людей. Вот почему революцию устраивать выгодно. Это каждый может.
— Слушай, Том, — говорю, — как может одна десятая людей свалить правительство, если все остальные против? Чушь какая-то. Не может такого быть.
— Еще как может! Много ты смыслишь в истории, Гек Финн! Да ты посмотри на французскую революцию и на нашу. Тут все понятно. И ту и другую начинала кучка людей. Ведь когда они начинают, то не думают: «А давайте-ка устроим революцию!» И только когда все закончится, понимают что это, оказывается, была революция. Наши ребята сначала хотели справедливых налогов, только и всего. А когда закончили, огляделись — оказалось, что свергли короля. И еще получили столько налогов, свободы — хоть отбавляй, даже не знали, что с этим делать. Вашингтон только в конце догадался, что это была революция, да и то не уразумел, когда именно она произошла, — а ведь был там с самого начала. То же и с Кромвелем, и с французами. С революцией всегда так: когда она начинается, ни у кого и в мыслях нет ее устраивать. А еще одна штука — что король всегда остается.
— Каждый раз?
— Конечно. Это и есть революция — свергаешь старого короля, а на его место ставишь нового.
— Том Сойер, — спрашиваю, — где же мы найдем короля, чтобы его свергать? У нас ведь нет короля.
— А нам никого и не надо свергать, Гек Финн. Наоборот надо его посадить на трон.
Он сказал, что на революцию уйдут все летние каникулы, и я был согласен. Но тут Джим говорит:
— Масса Том, мне это не по душе. Я ничего не имел против королей, пока не провозился с тем королем все прошлое лето. С меня довольно. Вот ведь был паршивец, правда, Гек? Хуже не бывает — не просыхал, да еще на пару с герцогом чуть не ограбил мисс Мэри и Заячью Губу. Нет уж с меня хватит. Не хочу больше связываться с королями.
Том сказал, что это был ненастоящий король и по нему нельзя судить обо всех остальных. Но как он ни пытался убедить Джима — все без толку. Джим, он такой — уж если что-то решил, значит, раз и навсегда. Он сказал, что с революцией забот и хлопот не оберешься, а когда закончим, обязательно появится наш старый король и все испортит. Это уже было похоже на правду, и мне сделалось не по себе. Я подумал: а не слишком ли мы рискуем? — и перешел на сторону Джима. Жалко было снова огорчать Тома — ведь он так надеялся и радовался; но сейчас, когда вспоминаю, каждый раз думаю, что все к лучшему. Короли не по нашей части. Мы к ним не привыкли и не знаем, как сделать, чтобы король сидел тихо и был доволен. Да и жалованье они вроде бы никому не увеличивают, и за житье во дворце не платят. Сердце-то у них доброе, и бедных они жалеют, и благотворительными делами занимаются, и даже подаяние собирают — уж это я точно знаю; но им самим это ничего не стоит. Они просто делают вид, что экономят, только и всего. Если королю приспичит переправиться через реку, он возьмет десяток кораблей, не меньше, и не важно, что паром рядом. Но самая большая беда — их ни за что не утихомиришь. Вечно они беспокоятся, кому передать корону, а стоит это уладить — им еще что-нибудь подавай. И всегда норовят оттяпать чью-нибудь землю. Конгресс — одно сплошное наказание, да и то с ним лучше. По крайней мере, всегда знаешь, чего от него ожидать. И можно его поменять, когда захочешь. Новый наверняка будет хуже прежнего, зато хоть какая-то перемена, а с королем такое не пройдет.
Пришлось Тому отказаться от революции. Он и говорит: раз так, давайте поднимем восстание. Ну, мы с Джимом согласились, да сколько ни думали, не смогли придумать, из-за чего восставать. Том стал было нам объяснять, но без толку. Пришлось ему согласиться, что восстание — это ни то ни се, как головастик без хвоста. Обычный головастик — это просто бунт, когда хвост отвалится — это восстание, а когда и лапки отросли, и хвост отвалился — это уже революция. Погоревали немножко, но ничего не поделаешь, пришлось и эту затею оставить.
— Ну, — спрашиваю, — а дальше что?
Том и говорит, что у него в запасе остался еще один план, в чем-то даже самый лучший, потому что главное в нем — тайна. Во всех предыдущих главное — слава. Слава, конечно, штука важная и ценная, но для настоящего удовольствия тайна все-таки лучше. Не было нужды нам рассказывать, что Том Сойер любит тайны, — это мы и так знаем. Чего он только не сделает ради тайны! Такой уж уродился. Я и спрашиваю:
— Что же это за план?
— Просто отличный, Гек! Давайте устроим заговор.
— А это трудно, масса Том? А у нас получится?
— Еще бы, это всякий сможет.
— А как его делают, масса Том? Что значит заговор?
— Это когда замышляют что-то против кого-то, тайно. Собираются ночью в укромном месте и замышляют. И уж конечно, в масках, с паролями и все такое прочее. Жорж Кадудаль[11] устраивал заговор. Не помню, в чем там было дело, но у него получилось. И у нас тоже получится.
— А много для этого нужно денег, масса Том?
— Денег? Да ни единого цента, если только не возьмешься за дело с размахом, как в Варфоломеевскую ночь.
— А что за ночь такая, масса Том? Что тогда случилось?
— Точно не знаю, но они взялись за дело с размахом. Это было во Франции. Кажется, пресвитериане вырезали миссионеров.
Джим огорчился и говорит с досадой:
— Значит, не выйдет у нас никакого заговора. Пресвитерианцев у нас полно, а миссионеров нет.
— К чертовой бабушке миссионеров, зачем они нам?
— Как зачем? Как же вы собрались устраивать заговор, масса Том, если у нас только половина того, что нужно?
— Да неужто мы не найдем кого-нибудь вместо миссионеров?
— А это будет правильно, масса Том?
— Правильно? Неважно, правильно или нет. Чем больше в заговоре неправильного, тем лучше. Нам осталось только найти кого-нибудь вместо миссионеров, а потом…
— Но, масса Том, разве они согласятся, пока мы им не объясним, что по-другому нельзя, что мы не нашли ми…
— Замолчи, слушать надоело! Никогда еще не встречал такого негра — только и знает, что спорить, а сам не понимает, о чем ему толкуют. Если помолчишь минутку, я устрою такой заговор, которому Варфоломеевская ночь в подметки не годится, и притом без единого миссионера.
Джим понял, что ему лучше не вмешиваться, но продолжал ворчать себе под нос, как у негров водится, что ничегошеньки не стоит заговор, если его устраивают не по правилам, а собирают из чего под руку попадется. Том его не слушал, и правильно делал: с негром надо как с ребенком, пускай себе бормочет, пока самому не надоест.
Том уставился в землю, подпер рукой подбородок и как будто позабыл о нас и обо всем вокруг. А когда поднялся и стал ходить взад-вперед по песку, качая головой, я сообразил, что заговор уже зреет. Растянулся на солнышке и уснул — ведь я пока здесь не нужен и могу отдохнуть. Вздремнул часок, а когда проснулся, Том уже был готов и все продумал.
ГЛАВА 2
Идея у него была отличная — я это сразу понял. Вот что он придумал: надо всех до смерти перепугать этими аболиционистами, которые все хотят негров освободить. Время было самое подходящее: уже больше двух недель ходили слухи о чужаках, которых видели в лесу на иллинойсской стороне, — они то появлялись, то исчезали, то снова появлялись. Думали, что они только и ждут случая, чтобы устроить побег какому-нибудь негру! Пока еще никто не сбежал, да и вряд ли сбежит, и никакие это, видно, не аболиционисты. Но на чужака в те дни в наших краях смотрели косо, если он не говорил начистоту, кто он и откуда. В общем, в городе было неспокойно. Стоило к человеку подскочить сзади и крикнуть: «Аболиционист!», чтобы он от ужаса подпрыгнул и холодным потом покрылся.
И порядки ввели строгие: неграм запретили выходить на улицу после захода солнца. А всех молодых парней забрали в патрульные — охранять по ночам улицы и задерживать чужаков.
Том сказал, что для заговора сейчас самое время — как по заказу! Стоит нам только начать, а дальше оно само пойдет. Говорил, если делать все правильно и с умом, то за три дня можно весь город на уши поставить. И я ему поверил — уж Том-то знал толк в заговорах и всем таком прочем, а в тайнах разбирался лучше некуда.
Для начала, сказал он, у нас должно быть много «ран-де-ву» — укромных мест, где мы будем встречаться и строить планы. Лучше, если они будут в разных концах города: во-первых, так интересней, а во-вторых, где бы мы ни оказались, всегда какое-нибудь из них будет под рукой. Одно — в старом доме с привидениями, что стоял на отшибе в трех милях к северу от города, где Рачий ручей вытекает из Сомовьей лощины. Другое — наша с Джимом пещерка на горе, в глухом лесу на острове Джексона. Еще одно — большая пещера в трех милях к югу от города, та самая пещера Индейца Джо, где мы нашли деньги, которые спрятали грабители. И еще — старая заброшенная бойня на южной окраине города, возле устья ручья. Вонь там стоит такая, что даже хорьки разбегаются. Мы с Джимом просили Тома придумать какое-нибудь другое место, а он ни в какую: во-первых, говорит, это отличная «стратегичная точка» (да, так он и сказал!), а во-вторых, туда хорошо прятаться в случае отступления — тамошняя вонь забьет наш запах, так что никакие собаки не найдут! А если даже и найдут, то наши враги за ними не последуют, потому что задохнутся. Мысль была хорошая, и мы согласились.
Мы с Джимом подумали: раз у нас так много работы, значит, и заговорщиков должно быть больше. Но Том только усмехнулся и говорит:
— Вспомните, что погубило Гая Фокса? А Титуса Оутса?[12]
И посмотрел на меня строго-строго. Но я и виду не подал, что не знаю, кто эти ребята. Том посмотрел так же на Джима, но тот и ухом не повел, так что больше и говорить было не о чем.
Том назначил нашу пещеру на острове Джексона главным штабом и сказал, что это место священное: обычными делами можно заниматься и в других наших укрытиях, но Государственный Совет будет собираться только здесь. И еще для такого важного заговора, как наш, нужно два Государственных Совета: Совет Десяти и Совет Трех. У Совета Десяти будут черные мантии, а у Совета Трех — красные. И еще у всех будут маски. Совет Десяти — это мы все вместе, а Совет Трех — это сам Том. Потому что Совет Трех — самый главный и может аннулировать (любимое слово Тома!) все, что сделает другой Совет. Я и спрашиваю: может, тогда обойдемся без Совета Десяти — сэкономим на жалованье? А Том отвечает:
— Если бы я смыслил в заговорах столько же, сколько и ты, Гек Финн, я бы виду не показывал.
А сейчас, сказал он, мы пойдем в Палату Совета и проведем первое заседание. Ничего страшного, что пока без мантий и масок, — на следующем заседании объявим амнистию и сами себя оправдаем, и никто не будет объявлен вне закона. А дальше всегда будем заседать как положено. Такой уж он уродился, Том, — любил все делать по правилам. Пока он рассуждал да порядок наводил, я бы успел стащить десяток арбузов!
В нашей старой пещере все осталось по-прежнему с тех пор, как мы с Джимом оттуда сбежали и отправились на плоту вниз по реке. Том созвал Совет Десяти и произнес речь о том, какое важное дело нам предстоит и что каждый из нас должен это понять и выполнять свой долг без страха и упрека. А потом взял с нас клятву устроить заговор во благо просвещенного христианского мира и навести ужас на весь город, и да поможет нам Господь в правом деле, аминь!
Том избрал себя Председателем Совета и Секретарем и открыл заседание:
— Мы должны обсудить множество вопросов — им нет числа. О них я расскажу по порядку, всему свое время. Но есть один самый важный вопрос — с него-то мы и начнем. Как думает Совет, с чего?
Я честно сказал, что не знаю. Джим тоже.
— Ну, тогда я скажу. Чем сейчас так напуганы люди? Чего они боятся? Думаю, вы знаете.
— Наверное, что негры могут сбежать.
— Правильно. Значит, в чем наш долг как заговорщиков?
Джим не знал, я тоже.
— Если бы ты хоть чуточку подумал, Гек Финн, ты бы сказал. Если люди чего-то ждут, мы должны им это дать. Неужели непонятно? Нужно устроить побег негра!
— Да господь с вами, масса Том! Ведь нас повесят!
— Ну а чего же ты хотел? Для чего, по-твоему, заговоры? Чтобы всех на свете сделать бессмертными? Без риска это вообще никакой не заговор, и честности в нем ни на грош. А что значит честный заговор? Это если мы добьемся, чего хотим, и все сделаем правильно и с умом, и чтобы нас при этом не повесили. Так у нас и получится. А теперь — к делу. Для начала нужно найти подходящего негра, а потом устроить ему побег.
— Ничего у нас не выйдет, Том. Здесь, в городе, ни один негр нас и слушать не станет — перепугается до смерти, побежит к хозяину и донесет на нас.
Том в ответ так посмотрел, будто ему за меня стыдно стало.
— Что, по-твоему, я этого сам не знаю?
Я не понимал, к чему он клонит.
— Выходит, Том Сойер, нам не найти ни одного негра, который согласится сбежать. И что же нам тогда делать?
— Пустяки. Мы приведем своего.
— Ну да, привести — это проще простого. Только где мы его найдем?
— Он уже здесь. Негром буду я.
Мы с Джимом рассмеялись. А Том и отвечает, что уже все продумал и у нас обязательно получится. И рассказал нам свой план — отличный, первый сорт. Он перекрасится в черный цвет под беглого негра и спрячется в доме с привидениями, а я должен выдать его старому Брэдишу из Сомовьей лощины — торговцу неграми и первому негодяю в городе. А потом мы устроим ему побег — вот тут-то и начнется самое интересное. А если Том сказал — значит, непременно начнется!
Но стоило нам только обо всем договориться, Джима, как всегда, начала мучить совесть. Джим стал говорить, что он — человек верующий и не может делать то, чего религия не одобряет. Мол, сам по себе заговор — это ничего страшного, да только вот не взять ли нам лицензию?
Само собой понятно, как ему это в голову пришло. Ведь если надумаешь чем-то заняться — трактир открыть, или торговать вразнос, или негров продавать, или грузы на телеге перевозить, или представления давать, или собаку держать, — на все нужна лицензия. Значит, и с заговором так же, а без лицензии заговор устраивать — грех, потому что мы обманываем правительство. Джим очень тревожился и сказал, что молился, чтобы Бог вразумил его. А потом и говорит так жалобно — знаете, как негры, когда ничего не понимают и всего боятся:
— Господь не ответил на мою молитву прямо, но, по всему видно, он против заговора, если у нас нет лицензии.
Я, разумеется, понял — нечего обижаться на бедного негра, он ведь хотел как лучше. Но все равно досадно было: думал, вот-вот сорвется наш план, совсем как революция и гражданская война, и ничего тут не поделаешь — ведь если Джим что-то вбил себе в голову, он никого и слушать не станет. Его уговаривать — только силы зря тратить. Может быть, Том попробует: раз у нас теперь в запасе один только заговор — значит, надо его спасать. Думал, он разозлится, вспылит — ведь ему и так порядком досталось, — и пропал тогда наш заговор!
Но Том и не думал злиться. Наоборот, держался молодцом. Пожалуй, никогда он не поступал так мудро, как в тот раз. Мне его доводилось видеть во всяких переделках — кажется, и времени нет раздумывать, и не выйти ему сухим из воды — а он всякий раз выпутывался. Вот и сейчас не растерялся. Думаю, скажет слово — и все пропало! Ничего подобного, он отвечает спокойно, как ни в чем не бывало:
— Спасибо, Джим, молодец, что напомнил. Я про лицензию начисто забыл. Если бы не ты, мы бы поздно спохватились и ввязались в заговор, не освященный законом. — И говорит своим серьезным голосом, очень солидно: «Созвать Совет Трех!» Взобрался на трон, то есть на ящик из-под гвоздей, и приказал дать нам лицензию на целый год, чтобы устраивать какие угодно заговоры в штате Миссури и близлежащих государствах, и велел Генеральному Секретарю записать это в протокол и поставить большую печать.
Джим так обрадовался, что просто не знал, как благодарить Тома. Лицензия, по-моему, гроша ломаного не стоила, но я тогда ничего не сказал.
Только одно теперь Джима тревожило, но мы сразу придумали, как ему помочь. Он опасался, что нехорошо продавать Тома, — ведь Том мне не принадлежит, а значит, это мошенничество. Том и не думал спорить, сказал, что, если хоть какая-нибудь мелочь в плане кажется нечестной, надо ее из плана исключить — зачем ввязываться в заговор, если он нечестный? Ну, думаю, это уже не заговор, а воскресная школа какая-то получается! Но вслух я ничего не сказал.
И вот решил Том сделать по-другому: написать листовки, где за него будет обещана награда. А я его найду, но продавать не стану, а выдам Кроту Брэдишу за часть награды. Крот — не настоящее имя. Он подслеповат, вот его и прозвали Кротом.
Джим согласился, хотя, по-моему, какая разница: продавать мальчика, который тебе не принадлежит, или долю награды, если она не настоящая и никто ее не собирается платить. Я так и сказал Тому с глазу на глаз, а он и отвечает, что я смыслю в этом не больше курицы. С чего это я взял, что мы не заплатим Брэдишу? Конечно, заплатим!
Я ничего не ответил. Но про себя подумал: если бы у меня были деньги, а Том позабыл бы про это и не вмешивался, мы бы и вдвоем с Кротом Брэдишем как-нибудь это дело уладили.
ГЛАВА 3
Мы поплыли назад в город, и Джим пошел домой, а мы с Томом — в плотничью мастерскую и купили много гладких сосновых брусков, как Том хотел. А потом зашли в лавку, купили шило, долото и маленький резец и спрятали их у тети Полли на чердаке. Я остался у Тома ужинать и ночевать, а ночью мы удрали из дома и отправились бродить по городу — хотели поглядеть на патрульных. Было темно и тихо, на улицах — ни души, разве что собаки да кошки, которым не спалось. Все огни были потушены — только в домах, где лежали больные, светились за шторами слабые огоньки. И на всех углах стояли патрульные и говорили: «Стой, кто идет!» А мы в ответ: «Свои». А они спрашивают: «Пароль?» Мы и говорим, что никакого пароля у нас нет, а они смотрят и отвечают: «Ах, это вы! Отправляйтесь-ка лучше домой — мелюзге вроде вас давно спать пора».
А мы улучили минуту и прокрались вверх по лестнице в типографию, задернули шторы и зажгли свечу. Старый седой мистер Дэй, поденщик, спал на полу под печатным станком, подложив под голову саквояж. Он даже не шелохнулся, и мы заслонили свечу и принялись ходить на цыпочках по комнате. Мы взяли себе типографской бумаги — голубой, зеленой, красной и белой, — немного чернил, красных и черных, и отрезали маленький кусочек от нового валька, чтобы наносить краску, а на стол положили монету в двадцать пять центов в уплату. Потом нам захотелось пить. Мы нашли какую-то бутылку, подумали, что это лимонад, и выпили до донышка, а это оказалось лекарство от чахотки — на нем была этикетка, но оно было очень хорошее и помогло. Это было лекарство мистера Дэя, и мы положили на стол еще двадцать пять центов; потом задули свечу, отнесли нашу добычу домой и были очень довольны. А еще стащили у тети Полли щетку для волос — пригодится, чтобы печатать, — и легли спать.
Том не захотел браться за дело в воскресенье, а в понедельник утром мы достали с чердака наши лохмотья, в которые переодевались, когда играли в негров, и Том примерил свой парик, холщовую рубаху, драные штаны с одной подтяжкой и соломенную шляпу с провалившимся верхом и обгрызенными полями — вид у него был хоть куда, потому что рубашку сто лет не стирали, а остальное тряпье пробовали на зуб крысы.
А после Том написал листовку: «Сбежал превосходный глухонемой негритянский мальчик! За поимку награда 100 долларов» — и так далее и тому подобное. И описал подробно, как он будет выглядеть, когда переоденется и выкрасится в черный цвет. И добавил, что негра нужно вернуть «Саймону Харкнесу, поместье «Одинокая Сосна», Арканзас», — Том знал отлично, что такого места на белом свете нет.
Потом мы отыскали нашу старую цепь с висячим замком и двумя ключами — мы с ней играли в «Узника Бастилии» — да еще немного сажи и топленого сала, и положили вместе с остальными нашими пожитками (Том называл все это «реквизит» — умное слово для барахла, за которое и сорока центов не дашь).
Теперь нам нужна была корзина, но мы никак не могли найти подходящую — все были малы. Только одна была в самый раз — ивовая корзина тети Полли. Тетя Полли очень ею гордилась и берегла пуще глаза: сколько ни проси у нее, все равно не даст. Ну, мы спустились и стащили ее, пока тетя Полли торговалась за сома с каким-то негром. Принесли корзину к себе на чердак и сложили в нее все наше барахло. А потом целый час не могли никуда уйти — ни Сида, ни Мэри не было дома, и, кроме нас, некому было помочь тете Полли искать корзину. В конце концов она решила, что корзину спер негр, который продал ей сома, и кинулась его искать — тут мы и улизнули. Том сказал, что нам помогает само Провидение, а я подумал: нам-то и впрямь помогает, но как же негр? А Том и говорит: подожди, оно и о негре позаботится каким-нибудь таинственным, непостижимым образом. Так оно и вышло. Когда тетя Полли отругала негра на чем свет стоит, а он доказал, что корзину не брал, она очень расстроилась, попросила прощения и купила у негра еще одного сома. Мы его нашли вечером в буфете и променяли на коробку сардин, чтобы взять их на остров, а тетя Полли подумала, что сома съела кошка. Я и говорю: «Ну вот, Провидение помогло негру, а от кошки отвернулось». А Том в ответ: подожди, о кошке оно тоже позаботится таинственным, непостижимым образом. Так и получилось: пока тетя Полли ходила за хворостиной, чтобы отхлестать ее, кошка съела и второго сома. Выходит, прав был Том: каждого из нас Провидение хранит, надо только доверять ему — и все будет хорошо, и никто без помощи не останется.
Наутро мы спрятали наши пожитки наверху в доме с привидениями и вернулись с корзиной в город. Корзина нам очень пригодилась, чтобы перетаскивать еду и кухонную утварь в большую лодку Джима. Я остался в лодке сторожить припасы, а Том пошел за покупками, и при этом ни в одну лавку не заходил дважды, чтобы не приставали с расспросами. И наконец Том притащил с чердака сосновые бруски, типографскую краску и все наши печатные принадлежности. Мы переправились на остров, а там отнесли наше добро в пещеру — теперь для заговора все было готово.
Домой вернулись засветло, корзину спрятали в дровяном сарае, а ночью встали и повесили ее на ручку входной двери. Утром тетя Полли нашла корзину и спрашивает Тома, как она там очутилась. Том и отвечает: не иначе как ангелы принесли. А тетя Полли говорит: да, наверное, так оно и есть, и она знает парочку таких ангелов и после завтрака с ними разберется. Честное слово, так бы она и сделала, задержись мы хоть на минуту.
Но Том очень торопился с листовками, так что мы удрали при первой возможности, взяли челнок и поплыли вниз по реке в Гукервилль, что за семь миль отсюда, — там есть маленькая типография, у которой заказы бывают от силы раз в пять лет. Там для нас отпечатали сто пятьдесят листовок про беглого негра. Назад мы поплыли по тихой воде вдоль самого берега, домой вернулись засветло, листовки спрятали на чердаке, потом нам задали взбучку (правда, совсем небольшую), а после был ужин и семейное богослужение. Спать легли усталые как собаки, зато довольные — ведь мы сделали все, что нужно.
Заснули мы тотчас же — всегда быстро засыпаешь, если ты устал, и сделал все, что мог, и старался изо всех сил, и на душе спокойно, и нет никаких забот. А о том, как нам проснуться, мы ни капли не тревожились: погода была хорошая, и, пока она не переменится, нам все равно больше делать нечего, а уж если переменится — мы сразу почуем и проснемся. Так оно и вышло.
Около часа ночи началась гроза, и нас разбудили гром и молния. Лило как из ведра, дождь барабанил по крыше так, что можно было оглохнуть, и хлестал по стеклам — в такую погоду хорошо лежать, уютно устроившись под одеялом. Ветер хрипло завывал в трубах: то стихнет, то снова налетит, да как начнет гудеть, свистеть, реветь, дом ходит ходуном, ставни по всей улице хлопают — и вдруг как сверкнет молния, будто все вокруг огнем пылает, и гром как грянет — вот-вот, кажется, весь мир на кусочки разлетится. В такую грозу радуешься, что ты жив-здоров и лежишь в теплой уютной постели. А Том как возьмет да и закричит: «Гек, вставай — сейчас как раз самое время!» — со всей мочи, да только я его еле услышал через весь этот рев и грохот.
Мне хотелось полежать еще хоть капельку, да нельзя было — Том бы не разрешил. Встали мы, оделись при свете молний, взяли одну листовку и кнопки, вылезли через заднее окно на крышу пристройки, проползли вдоль края крыши, спрыгнули на сарай, оттуда — на высокий дощатый забор, с забора — в сад, как обычно, а из сада по тропинке выбежали на улицу.
Дождь лил не переставая, и гром гремел, и ураган так и не стих. Лихая ночка, сказал Том, как раз для темного дела вроде нашего! Я согласился и говорю: зря мы не взяли все листовки — другой такой ночи еще не скоро дождешься. А Том отвечает:
— А зачем нам столько сразу? Скажи-ка, Гек, где у нас вешают листовки?
— На доске у дверей почты — там же, где объявления о пропавших людях, об украденных вещах, о собраниях общества трезвости, о налогах, о том, что продается негр или сдается в аренду магазин, в общем, обо всем — место хорошее, и платить ничего не надо, а реклама денег стоит, вдобавок ее никто и читать не будет.
— Правильно. И разве там вешают сразу по два объявления?
— Нет, только одно. Два сразу читать нельзя — разве только косоглазые могут, а косоглазых у нас мало, чего для них стараться?
— Вот я и взял всего одну листовку.
— Зачем тогда было делать сто пятьдесят? Чтобы каждую ночь вешать новую, и так целых полгода?
— Нет, мы повесим всего одну — этого предостаточно.
— Ну и зачем надо было тратить такую уйму денег, Том? Что, нельзя было напечатать одну?
— А затем, что напечатать сто пятьдесят — это дело обычное. А закажи я одну — печатник принялся бы про себя рассуждать: «Вот странно! За те же деньги можно было заказать полторы сотни, а он просит всего одну. Что-то здесь нечисто, возьму-ка да сообщу кому следует!»
Такой уж он, Том Сойер — любит все продумать заранее. Больше я таких рассудительных ребят не встречал!
И тут сверкнула молния, да так, что везде — от неба до земли — сделалось совсем светло, и все стало видно, как днем, аж до самой реки. И — вот так чудо! — все улицы пустые, кругом ни одного патрульного. А все канавы превратились в ручьи, да такие глубокие и быстрые, что нас едва с ног не сбивало течением. Мы повесили листовку и остались под навесом — слушали грозу да смотрели при свете молний, как вниз по канаве плывут пучки соломы, коробки из-под апельсинов и прочий мусор, и хотели досмотреть до самого конца, но так и не стали — из-за Сида. Если гром его разбудит, он испугается и побежит в нашу комнату, чтобы его утешили, — а нас там нет. Там он дождется, пока мы вернемся, а утром наябедничает, расскажет, как все было, — и не миновать нам взбучки. Такие, как Сид, мало что сами никогда не ослушаются — так еще и другим не дают веселиться. Пришлось возвращаться домой. Том сказал, что Сид слишком хорош для этого мира и жаль, что такие, как он, до сих пор не перевелись. Я ничего не ответил — пускай радуется, что ввернул умное слово: по-моему, нехорошо расстраивать человека только затем, чтобы показать, сколько ты знаешь. Но многие все равно так делают. Я-то знаю, что такое «перевести», — мне вдова объясняла. Перевести можно книгу, а мальчика — нельзя, потому что переводят с одного языка на другой. Вдобавок, книга должна быть иностранная, а Сид никакой не иностранец. Не беда, что Том сказал слово, которого не знает, — он ведь никого при этом не обманывал; Том не раз говорил непонятные слова, но вовсе не для того, чтобы людям голову морочить, а просто потому, что они ему нравились.
Мы пошли домой, надеясь, что Сид не проснулся; по правде сказать, мы даже на это рассчитывали — ведь Провидение о нас заботилось непостижимым образом, и по всему было видно, что нашим заговором оно пока что довольно. Но тут вышла небольшая заминка. Было темно, мы ползли по крыше пристройки, по самому краю. Я полз первым и на полпути к нашему окну присел на корточки, очень осторожно — хотел нащупать гвоздь, который торчал поблизости: я на него несколько раз уже садился, да так, что на другой день и вовсе ни на чем сидеть не хотелось. И тут сверкнула молния, осветила все ярко-ярко, и — здрасьте: Сид на нас в окно смотрит!
Мы влезли в наше окно, сели и стали шепотом совещаться. Надо было что-то делать, а что — непонятно. Том и говорит, что по большому счету это пустяки, но все равно нам сейчас лучше сидеть тихо. Вот если бы Сида отправить подальше — на ферму к дяде Флетчеру, за тридцать миль отсюда, недельки на четыре, — тогда нам никто не будет мешать и заговор пойдет как по маслу. Сид, наверное, пока ни о чем не догадался, но теперь начнет за нами следить и скоро все разнюхает.
Я и спрашиваю:
— Том, когда ты попросишь тетю Полли отправить Сида отдохнуть? Завтра утром?
— А зачем просить? Так дело не пойдет. Она сразу начнет спрашивать, с чего это я вдруг стал так заботиться о Сиде, и заподозрит неладное. Нам нужно что-нибудь такое подстроить, чтобы она сама Сида отправила подальше.
— Вот и придумывай — это как раз по твоей части.
— Надо пораскинуть мозгами. Наверняка это дело можно уладить.
Я начал было раздеваться, а Том говорит:
— Не надо, будем спать в одежде.
— Это еще зачем?
— На нас только рубашки и нанковые штаны, они высохнут за три часа.
— А зачем их сушить, Том?
Но Том уже слушал у двери, храпит Сид или нет. Потом прошмыгнул к нему в комнату, схватил одежду Сида и вывесил за окно, под дождь, а когда она вымокла насквозь, отнес обратно, а сам лег спать. Тут я все понял. Мы прижались друг к дружке, натянули на себя одеяла — было не очень-то приятно, но нужно было терпеть. Том молчал-молчал, думал-думал, а потом говорит:
— Гек, я знаю! Знаю, где можно заразиться корью. Все равно мы рано или поздно ею переболеем — так лучше мне заразиться сейчас, когда она может пригодиться.
— Зачем?
— Если в доме корь, тетя Полли не разрешит Сиду и Мэри здесь оставаться, а отправит их к дяде Флетчеру — больше некуда.
Только я услышал про этот план — мне сразу тошно стало. Я и говорю:
— Не надо, Том! Никуда твой план не годится! А вдруг ты умрешь?
— Умру? Ты что, спятил? Никогда еще такой ерунды не слышал! От кори никто не умирает — только взрослые и совсем маленькие дети.
Я перепугался, стал его отговаривать. Старался как мог, но все впустую — уж очень Тому этот план был по душе, и он во что бы то ни стало хотел попробовать, а меня просил помочь. Ничего не поделаешь, пришлось согласиться. Том рассказал, что нам нужно сделать, и мы заснули.
Проснулись мы уже сухими, а у Сида — вся одежда мокрая. Он уже собрался идти жаловаться на нас, а Том ему: пожалуйста, хоть сейчас, вот и посмотрим, кому из нас больше поверят: ведь наша-то одежда сухая! Сид и говорит, что не был на улице, зато видел, как мы выходили. А Том ему:
— Как тебе не стыдно! Опять ты за свое! Вечно ты ходишь во сне: как примерещится что-нибудь — ты и думаешь, что это правда! Неужели не понимаешь, что тебе это все приснилось? Если ты не ходил во сне, почему тогда твоя одежда мокрая, а наша — сухая?
Сид совсем запутался, ничего не мог понять. Думал он, думал, трогал нашу одежду, да так ничего и не придумал. Да, говорит, теперь понятно, это был просто сон, только уж очень похожий на правду — он отродясь таких не видел! Заговор был спасен, все опасности — позади, Том и говорит: вот видишь, теперь ясно, что Провидение нами довольно. Он был просто в восторге от того, как Провидение охраняет наш заговор и заботится о нем непостижимыми путями, сказал, что на нашем месте кто угодно бы поверил в чудо. Я и сам поверил. Том решил всегда слушаться Провидение, и благодарить его, и стараться все делать как надо. А после завтрака мы пошли к капитану Гарперу, чтобы заразиться корью, — и у нас получилось, хоть и не сразу. А все потому, что мы за дело взялись не с того конца. Том зашел в дом с черного хода, поднялся в комнату, где лежал больной Джо, но только собрался лечь к нему в кровать — и тут вошла мама Джо с лекарством, увидела Тома, да как испугалась и говорит:
— О боже, ты-то как здесь очутился? А ну иди отсюда, глупый мальчишка, — разве ты не знаешь, что у нас корь?
Том стал было объяснять, что просто пришел узнать, как Джо себя чувствует, но миссис Гарпер его не слушала, а все гнала и гнала к двери, пока не выгнала совсем. И говорила при этом:
— Скорей беги, спасайся! Ты меня напугал до смерти, а тетя Полли никогда в жизни мне не простит, если ты заболеешь. И сам будешь виноват: почему не зашел через парадную дверь, как все порядочные люди? — И захлопнула дверь у Тома перед носом.
Но Том теперь знал, что нужно делать. Через час он отправил меня к Гарперам — постучаться в парадную дверь и ждать там маму Джо: кроме нее, открывать было некому — детей из-за кори отправили к соседям, а капитан ушел по делам; и пока я стоял с ней на крыльце да расспрашивал ее о Джо (сказал, что меня вдова Дуглас просила узнать), Том опять пробрался с черного хода к Джо, лег к нему в кровать, накрылся одеялом, а когда вошла мама Джо, она чуть в обморок не упала от ужаса, так и рухнула на стул; а потом заперла Тома в другой комнате и дала знать тете Полли.
Тетя Полли перепугалась до смерти, у нее едва сил хватило, чтобы собрать вещи Сида и Мэри. Но уже через полчаса она их выпроводила из дома — переночевать в таверне, а в четыре утра отправляться в дилижансе к дяде Флетчеру; потом забрала Тома, а меня на порог не хотела пускать; она обнимала Тома, и плакала, и обещала из него выбить всю дурь, как только он выздоровеет.
Я пошел в дом вдовы на Кардиффской горе и все рассказал Джиму, а он и отвечает, что план отличный и удался на славу. Джим ни чуточки не волновался: сказал, что корь — это пустяки, все ею болеют и каждый должен заразиться рано или поздно, так что я тоже успокоился.
Через день-другой Том слег, послали за доктором. Без Тома мы с Джимом не могли устраивать заговор — пришлось нам все дела отложить; вот, думаю, пришла пора малость поскучать — да не тут-то было. Едва Том слег, ему дали лекарство Джо Гарпера, чтобы корь вывести наружу, — и тут оказалось, что никакая это не корь, а самая настоящая скарлатина. Тетя Полли как услышала — побелела вся, схватилась за сердце и не удержалась бы на ногах, если б ее не подхватили. А вслед за ней и весь город переполошился — не было в округе ни одной женщины, которая бы не боялась за своих детей.
Зато мне теперь некогда было скучать — и слава Богу; я-то скарлатиной уже болел, говорят, едва не сделался слепым, лысым, глухонемым дурачком, — так что тетя Полли только рада была, что я могу приходить ей помогать.
Доктор у нас хороший, старой закалки, трудяга, не из тех, кто бездельничает и ждет, пока болезнь разыграется вовсю, — нет, он пытается болезнь опередить: сразу и кровь пустит, и пластырь наклеит, и вольет в тебя целый ковш касторки, да еще ковш горячей соленой воды с горчицей, так что у тебя все внутренности переворачиваются, а потом сядет как ни в чем не бывало и станет думать, как тебя лечить.
Тому становилось все хуже и хуже, ему перестали давать есть, а в комнате закрыли все окна и двери, чтобы стало жарко и уютно и чтоб лихорадку подогреть как следует; а после перестали давать пить — только ложку разваренного хлеба с сахаром через каждые два часа, чтоб во рту не пересыхало. Ясное дело, ничего хуже не бывает: ты помираешь от жажды, и все пьют вкусную холодную воду, а тебе не дают, а между тем она тебе нужна, как никому другому. Том и придумал такую штуку: когда не мог больше терпеть, он мне подмигивал, а я улучал минутку, когда тетя Полли отвернется, и давал ему напиться вволю. Так-то оно лучше стало — я смотрел во все глаза, и стоило Тому подмигнуть — я его тут же поил. Доктор сказал, что для Тома вода сейчас — яд, но я-то знаю: когда весь горишь от скарлатины, тебе уже все равно.
Том лежал две недели, и было ему очень худо. И вот однажды ночью он начал слабеть, и слабел очень быстро. Ему становилось хуже и хуже, он был без памяти да все бредил, бредил и с головой выдал наш заговор, но тетя Полли себя не помнила от горя и совсем его не слушала, а только сидела над ним, и целовала его, и плакала, и смачивала ему лицо влажной тряпочкой, и говорила, что не вынесет, коли он умрет, и как она его любит, и жить без него не может, и что без него станет пусто и одиноко. Она называла Тома всякими ласковыми словами, что приходили в голову, и просила, чтоб он посмотрел на нее и сказал, что узнаёт, а Том не мог. А когда он стал шарить вокруг себя рукой, и наткнулся на тетю Полли, и погладил ее по щеке, и сказал: «Это ты, старина Гек!» — она стала сама не своя от горя и так плакала и причитала, что я не выдержал и отвернулся. А утром пришел доктор, посмотрел на Тома и говорит тихо так, ласково: «Что Господь ни делает — все к лучшему, мы не должны роптать». А тетя Полли… нет, не могу дальше рассказывать — на нее смотреть было больно до слез. Доктор подал знак, и вошел священник, и начал молиться, а мы все стояли молча у кровати и ждали, а тетя Полли плакала. Том лежал тихо-тихо, с закрытыми глазами. Потом открыл глаза, но, казалось, ничего вокруг не видел — просто взгляд блуждал по сторонам, а потом остановился на мне. И тут один глаз закрылся, а второй как начал жмуриться, щуриться, дергаться, и вот наконец у Тома получилось — он подмигнул, хоть и совсем криво! Я бегом к ведру с холодной водой, говорю: «Держите его!» — а сам подношу Тому кружку к губам. Том начал пить жадно-жадно — первый раз за весь день и всю ночь удалось его напоить как следует. Доктор сказал: «Бедный мальчик! Теперь давайте ему все, что он захочет, — ему уже ничего не повредит».
А вышло по-другому. Вода спасла ему жизнь. С той самой минуты Том начал выздоравливать и через пять дней уже мог сидеть, а еще через пять — ходил по комнате. Тетя Полли так радовалась и благодарила судьбу, что даже сказала мне по секрету: хорошо бы Том сейчас напроказничал, а она бы его простила. А еще сказала, что не знала раньше, как он ей дорог, и поняла по-настоящему только сейчас, когда чуть не потеряла его. А еще, что все к лучшему, что она получила хороший урок и теперь будет с Томом поласковее, что бы он ни натворил. И еще сказала, что знай мы, как тяжело терять дорогого человека, то ни единым словом не обижали бы наших близких.
ГЛАВА 4
Когда Том болел, в первую неделю ему было не так уж и плохо, потом сделалось и впрямь худо, ну а после он пошел на поправку, так что только середина болезни для него пропала зря. А все остальное время он занимался заговором: вначале все обдумывал, чтобы мы с Джимом могли закончить дело, если он умрет, — это было бы для Тома лучше всякого памятника, а когда выздоравливал, хотел быть во главе. Как только я пришел за ним ухаживать, он тотчас послал меня к мистеру Бакстеру, начальнику типографии, раздобыть шрифты и попросить, чтобы Тома научили набирать. Мистер Бакстер — очень известный человек в городе, все его уважают. Под началом у него мистер Дэй и ученик. Ни одно благотворительное дело без мистера Бакстера не обходится, и старается он, как может, — ведь на нем держится вся церковь. По воскресеньям он собирает пожертвования, у всех на глазах, открыто, ходит с тарелкой, а когда закончит, ставит ее на стол — так, чтобы все видели, сколько собрали, и никогда не шарит в ней, как старый Пакстон. А еще мистер Бакстер — Внутренний страж масонов, Внешний страж Общества взаимопомощи, важное лицо в Обществе врагов бутылки, и в «Дочерях Ревекки», и в «Царских дочерях», и Великий хранитель рыцарей нравственности, и Великий маршал Ордена добрых тамплиеров, и священных одеяний у него видимо-невидимо, а если где какое шествие, он всегда идет со знаменем, или со шпагой, или несет Библию на подносе, а виду него такой важный, степенный — и при этом не получает ни цента. Словом, хороший человек, лучше не бывает.
Пришел я к мистеру Бакстеру, а он сидит за столом с пером в руке, склонился над длинной полоской бумаги с широкими полями, вычеркивает чуть ли не все подряд, ставит на полях галочки и ругается. Я и говорю ему, что Том заболел и может умереть, и…
Тут он ни с того ни с сего меня перебивает и говорит быстро и горячо:
— Том? Умирает? Не бывать этому! У нас только один Том Сойер, второго такого больше не будет. Чем я могу помочь? Ну, говори же!
Я начал:
— Том просил… можно ему…
— Можно все, что угодно! Ну, — говорит, — о чем он просит? — А голос такой бодрый, живой, и видно, что от всей души.
— Можно ему взять горсточку старого шрифта, который вам больше не нужен, и…
Тут он опять меня перебил и крикнул мистеру Дэю:
— Скажи чертенку, пусть принесет из пекла большую горсть, да поживей!
Я тогда не знал, что чертями печатники кличут своих подмастерьев, а пеклом зовут ящик для изношенного шрифта, поэтому у меня от страха мурашки по спине забегали. Через минуту мистер Дэй сказал:
— Чертенок говорит, в пекле пусто, сэр.
— Ясно. Тогда принеси побольше пирога![13]
У меня аж слюнки потекли — все-таки здорово, что я сюда пришел! Тут ученик принес пару банок из-под устриц, а в банках шрифт — само собой, старый, нового у них не водилось. Потом мистер Бакстер послал ученика за верстаткой и наборной линейкой, а после — за старой кассой, она размером со стиральную доску и вся поделена на маленькие ящички. Все буквы разложили по ящичкам: А — в один, Б — в другой, В — в третий, большие буквы отдельно от маленьких, и мистер Бакстер отправил ученика со мной — помочь донести шрифт и научить Тома набирать.
Парнишка показал Тому, что к чему, а Том всего за два дня, сидя в кровати, набрал весь шрифт из банок, а потом разложил все буквы обратно по местам. Правда, молодчина? Еще бы, на то он и Том Сойер! За пять дней он сам научился печатному ремеслу и теперь мог набирать не хуже других — честное слово, могу доказать! Я отнес в типографию то, что Том набрал, а мистер Бакстер отпечатал. И когда увидел, что вышло, был просто потрясен — да, так он и сказал! — и дал мне два отпечатка — один для меня, другой для Тома, и мой до сих пор цел.
О НАБОРЕ
Благор0дное искуссство кНигопе¶атания
которое в оДной из типаграфий наЗвали
хРанит?лем всех искусств заqодилось в замкє
на горе вЫрезали буквы на берЁ30вых дощеч-
ках и никто не Знал и неОжидал
4то они отпечАтаютца єто было сл?чайно?
открыти? поЭтому поНемецки шрифт
называєтсR Buchslaben от сл0ва Stab палка
даже сей4ас когда делается и3 металла и
пусть в?се нарОды б*агослов*яют имена
Гутенберга и Фуста* иЗобретателей <
книГопе4атания аМинь
ТОМ СОЙЕР ПечатникКогда мистер Бакстер отпечатал этот лист и взглянул на него, у него слезы на глаза навернулись. Он сказал:
— Будь я проклят, если во всем христианском мире найдется хоть один печатник, который сможет так набрать, — разве что мистер Дэй, да и то когда напьется.
Когда я Тому рассказал, его так и распирало от гордости — и недаром, тут есть чем гордиться. Но для Тома все это оказалось слишком: сначала выдумывал из головы, потом сам набирал, да еще и очень волновался и старался, чтобы все было правильно, — вот он и не выдержал, слег совсем. Хворь на него люто накинулась, так что он больше и сделать ничего не успел до той самой минуты, когда доктор сказал:
— Гек, у него конвалесценция.
Я не ожидал, что дела так плохи, — взял да и рухнул на месте от ужаса. Меня облили водой, привели в чувство и объяснили, что к чему: доктор, оказывается, хотел сказать, что Том выздоравливает.
Знаете, некоторые ребята, когда выздоравливают, тут же перестают раскаиваться и снова принимаются за свое — мол, раз все хорошо кончилось, нечего было пугаться. Другое дело Том: он сказал, что чудом спасся и должен благодарить Провидение и что помощь человеческая немногого стоит, а в человеческой мудрости и вовсе проку нет — вот посмотри на нас, и поймешь.
— Посмотри на нас, Гек. Мы хотели заразиться корью. Значит, мы ничего не знали и были слепы. Если поразмыслить хорошенько, какой прок от кори? Да никакого. Ну, постирают после нее белье, проветрят комнаты, заберут детей домой — и все, и выходит, что ты зря болел. Другое дело скарлатина. Когда выздоравливаешь — весь дом убирают дочиста, все вещи сжигают, и ни Сида, ни Мэри к дому и близко не подпустят целых шесть недель, а за шесть недель знаешь сколько всего можно успеть? Как думаешь, Гек, кто нам устроил скарлатину, когда мы ни о чем не знали и ничего лучше кори придумать не могли? Ясное дело, не мы сами. И пусть это тебе будет уроком. О заговоре заботится высшая мудрость — выше нашей, Гек. Когда начинаешь сомневаться и теряешь веру — ничего не бойся, просто вспомни скарлатину и подумай: раз нам Провидение так помогло, значит, поможет и в этот раз. Главное — верить. Если веришь, то все обязательно будет хорошо — даже лучше, чем ты сам можешь устроить.
И правда, думаю, так оно и есть. Прав Том, тут не придерешься. Скарлатина спасла наш план: это из-за нее Сид остался в деревне, и не мы сами это придумали.
На дворе уже стояло самое настоящее лето, и Том совсем поправился. Погода для заговора была самая подходящая, и все остальное как по заказу. Мы перевезли нашу маленькую типографию на остров, чтобы она была всегда под рукой, и, пока я весь день ловил рыбу, плескался в реке, покуривал да дремал, Том достал резцы и прочие инструменты взял один из брусков и вырезал на нем:
Потом намазал брусок черной типографской краской, намочил лист белой бумаги, положил на брусок и сверху накрыл одеялом, а поверх одеяла положил еще брусок — гладкий, тяжелый — и принялся по нему стучать изо всех сил колотушкой. А когда достал листок, на нем все отпечаталось, очень красиво, но — бог ты мой! — задом наперед, и прочитать было можно, только стоя на голове. Ни я, ни Том не могли понять, как так получилось. Посмотрели на брусок — а с ним все в порядке. Выходит, не в нем дело. Напечатали еще раз — опять вышло наперекосяк. Стали думать, и, кажется, поняли, почему у нас не получается. Положили листок в самом низу, брусок перевернули вверх ногами и снова напечатали. Но и это не помогло — опять вышло задом наперед.
Том сказал, что, когда он набирал шрифт на верстатке, получалось вверх ногами и задом наперед, только непонятно, оставляет ли мистер Бакстер шрифт так или исправляет. Наверняка исправляет — ведь напечатанные строчки читались правильно, но сами мы этому фокусу вряд ли научимся. Значит, надо подождать, а потом выведать у мистера Бакстера этот секрет — он нам, конечно, расскажет, если только мы поклянемся никому больше не говорить, а мы обязательно поклянемся — и Том, и я.
Том очень расстроился — еще бы, столько трудов пропало даром. Мне на него жалко было смотреть: сидит без дела, такой усталый, грустный. И вдруг он ни с того ни с сего опять развеселился и сказал, что нам здорово повезло. Ведь листовки задом наперед — для заговора самое оно: такие странные, зловещие, таинственные. В них даже есть что-то дьявольское, от них народ перепугается в тысячу раз сильнее, чем от обычных, правильных листовок. И говорит:
— Гек, мы же открыли новый способ печати, и теперь прославимся, как Гутенберг и Фуст,[14] и станем знамениты на весь мир, а наш способ сможем запатентовать: разрешим его использовать только для заговоров, да и то лишь людям с безупречной репутацией и лучшим мастерам своего дела.
В общем, все у нас наладилось. Ведь говорил Том: когда дела идут хуже некуда, надо просто верить, и ждать, и не унывать — и все обязательно будет хорошо.
Я спросил Тома, кто такие Сыны Свободы, а он отвечает: люди обязательно подумают, что это аболиционисты, и перепугаются до смерти. И тогда я спрашиваю, для чего вверху нарисован орех, а он в ответ: это не орех, это глаз и бровь. Глаз означает бдительность, и он сим-во-ли-чес-кий. Такой уж он уродился, Том Сойер: если в плане нет ничего символического — это не по его части, он тут же об этом плане забудет и пойдет искать что-нибудь новенькое.
Том сказал, что у нас должен быть рог с низким торжественным звуком — чтобы Сыны Свободы могли давать сигнал. Мы срубили молодое деревце орешника, содрали с него кору — получилась длинная широкая полоска, а после ужина отнесли ее к Джиму, и он свернул кору в длинный рог, суженный к концу. А потом пошли в лес вдовы Дуглас, на том склоне горы, что смотрит на город, и Джим забрался на самое высокое дерево и спрятал рог в ветвях. Мы вернулись домой, легли спать, а ночью улизнули из дома и пошли к набережной, а оттуда — к дому Слейтера. Патрульные спали, мы прокрались за домами, пролезли в узенький проход между ювелирным магазином и почтой, повесили нашу листовку на доску объявлений и тем же путем вернулись домой.
А утром, за завтраком, всем было видно, что тетя Полли чем-то расстроена: она места себе не находила, то и дело вскакивала, подходила к окну, выглядывала на улицу да бормотала что-то себе под нос. А вместо сахара положила себе в кофе соль и чуть не подавилась. А то вдруг возьмет кусочек поджаренного хлеба, начнет маслом намазывать, да тут же о нем забудет и положит обратно. И вот стоит она, смотрит тоскливо в окно, а Том на место хлеба положил карманный справочник по правописанию. Взяла тетя Полли, не глядя, книжку, намазала маслом и поднесла было ко рту — да как разозлится, швырнет ее через всю комнату и говорит:
— Черт побери, я так расстроилась — совсем не соображаю, что делаю. И есть отчего. Знали бы вы, бедные дети, какая нам всем грозит опасность.
— А что случилось, тетя Полли? — Том сделал вид, что очень удивился.
— Разве ты не видишь, какая толпа собралась на улице — ходят туда-сюда и галдят как сумасшедшие? А все потому, что возле почты повесили кошмарную листовку и аболиционисты хотят поджечь город и выпустить на волю всех негров!
— Тетя Полли, ради бога, успокойтесь! Не так уж все и страшно на самом деле.
— Ты-то что об этом знаешь, дурачок? Здесь был Оливер Бентон, и Планкет, редактор, приходил, и Джек Флэкер, и все мне рассказали. Пока ты спал, а потом только сидел да думал, я слушала взрослых людей, которые не слоняются без дела, а узнают всю правду, как она есть, — ну и кому я после этого должна верить, тебе или им?
Тетя Полли Тому не дала и слова в ответ сказать, а велела нам доедать поскорее да идти на улицу и смотреть во все глаза, что там делается, и обо всем ей рассказать, чтобы она была готова к худшему. А мы и рады: выбежали на улицу и видим — все идет как надо, лучше некуда. Том и говорит: если б он умер, то до конца дней жалел бы, что этого не увидел!
К почте было не подойти. Вокруг толпа, и каждый норовит пролезть поближе, чтобы взглянуть на листовку, а обратно идет бледный и рассказывает обо всем тем, кто стоит с краю.
Джек Флэкер, сыщик, теперь сделался самым важным человеком в городе: все вились вокруг него и пытались что-нибудь выспросить, а он — ни слова, только кивает в ответ да приговаривает: «Не волнуйтесь, ничего страшного, я сам обо всем позабочусь». А все шепчутся: «Бьюсь об заклад, что он знает этих негодяев и держит их на крючке, и выведет их на чистую воду, как только захочет, — вы только в глаза ему посмотрите, от таких глаз не спрячешься!» Полковник Элдер добавил, что листовка очень необычная, а потом доказал, что она — дело рук не простого сброда, а настоящих изуверов, к тому же умнейших. Том, когда услышал, обрадовался: еще бы, ведь полковника в городе все уважали — он был из старой виргинской знати, из высшего общества. Полковник говорил, что листовка напечатана каким-то новым способом — таинственным и невероятным, а еще о том, до чего мы дошли и куда катится мир в наше смутное время, — да так говорил, что все дрожали от ужаса.
Дрожали не только от речей полковника — вздрагивали еще и при каждом слове о сигналах. Говорили, что могут проснуться однажды ночью с перерезанным горлом, а в ушах будут раздаваться ужасные звуки. И вдруг кто-то сказал, что в листовке не написано, что это будет за звук. Многие думали, что заговорщики, скорее всего, будут трубить в рог, но это ничем не докажешь. Кузнец Пит Крюгер, немец, сказал, что это могут быть и удары по наковальне, а Эйб Уоллес, звонарь, добавил: может быть, станут звонить в колокол. А потом все дружно встали и давай ругаться: вот, мол, досада, что никто ничего не знает наверняка, знать бы, что это будет, всем бы полегчало, могли бы даже вздремнуть чуток.
Тут снова заговорил полковник Элдер: мол, это, конечно, плохо, но еще хуже, что не назван день.
— Да, — отвечали ему, — неизвестно, когда они придут, в листовке об этом ни слова. Может, через неделю-другую, а может, со дня на день.
— А то и сегодня ночью, — сказал полковник, и снова все задрожали. — Время не ждет, друзья, надо готовиться — не через неделю, не завтра, а прямо сейчас.
Толпа загудела, все сказали, что полковник прав. Он стал говорить дальше, произнес целую речь, чтобы всех подбодрить. Потом Клегхорн, мировой судья, тоже произнес речь — к этому времени шум поднялся страшный, весь город высыпал на улицу. И пока все не улеглось, встал редактор Планкет и принялся расхваливать полковника Элдера: мол, он и на войне был, и под Новым Орлеаном сражался, и знал толк в военном деле, — как раз такой человек нам сейчас и нужен. И предложил выбрать полковника начальником полиции и ввести в городе военное положение. Так и сделали. Полковник всех поблагодарил, сказал, что для него это большая честь, и приказал капитану Хаскинсу и капитану Сэму Рамфорду созвать свои роты, разбить лагерь на городской площади, и по всему городу расставить отряды для охраны, и раздать им боевые патроны, форму и все такое прочее. На этом все стали расходиться, и мы отправились восвояси.
Том сказал, что все идет отлично, но я так совсем не думал. Я и говорю:
— Как же нам теперь ходить по ночам? Ведь солдаты станут следить за нами и мешать! Мы связаны по рукам и ногам, Том, мы ничего не можем сделать!
— А вот и нет. Теперь нам будет даже лучше, чем раньше.
— Это почему же?
— Им будут нужны шпионы, а взять их неоткуда — они и сами прекрасно знают. От Джека Флэкера толку никакого, он и средь бела дня на ровном месте заблудится и никого не выследит. А у меня есть репутация — ведь я разоблачил Данлепов и нашел бриллианты.[15] Я все устрою, вот увидишь!
Как Том сказал, так и сделал. Полковник рад был, что Том вызвался, и попросил его, если можно, привести еще ребят — пусть будут у Тома под началом. Ну, Том и отвечает, что ему нужны только мы с Джимом. Пусть, говорит, Джим шпионит среди негров. Полковник в ответ: отличная мысль — Джима все знают, и ему можно доверять. Дал он Тому пропуска для нас троих, и все было улажено.
Мы пошли домой и обо всем рассказали, кроме шпионских дел и пропусков. А вскоре услышали барабанную дробь и звук флейты, сначала вдалеке, а потом все ближе, ближе, и вот уже рядом марширует рота Сэма Рамфорда — раз-два, раз-два! — все солдаты дружно печатают шаг, а Сэм ревет: «На пле-чо! Равнение нале-во! Впе-р-р-ред!» — и все такое прочее. А флейты визжат, и барабаны грохочут вовсю — аж звон стоит в ушах! — ей-богу, отличное было зрелище, любого бы расшевелило. Детей вокруг столпилось больше, чем было солдат, и форма у солдат была красивая, и знамя тоже, а когда Сэм Рамфорд махал в воздухе саблей и кричал, сабля так сверкала на солнце, что любо-дорого было посмотреть! И только тетя Полли стояла бледная, грустная и вся дрожала. Она и говорит:
— Что нас ждет, одному Богу известно. Как хорошо, что Сид и Мэри… ах, Том, если бы только ты был там, с ними!
Теперь пришел наш с Томом черед дрожать от страха. Не дай бог, тетя Полли отправит Тома куда-нибудь подальше в деревню — в дом, где все уже переболели скарлатиной и согласятся взять его к себе. Том понял, что нельзя терять ни минуты. Мы вышли через черный ход — вроде притащить дров для кухни, а сами поплыли на остров думать, как же нам быть. Том сел один поодаль и стал размышлять, а потом взял сосновый брусок, что-то вырезал на нем и напечатал красной краской много-много вот таких листовок:
Отнесли мы листовки домой, а ночью отправились по шпионским делам и, когда солдаты нас останавливали, показывали пропуска. Мы развесили на дверях шестнадцать листовок, и судье Тэтчеру повесили, и тете Полли — а все потому, что Том сказал: если повесить листовку только одной тете Полли и больше никому, то все остальные сразу что-то заподозрят. Осталось еще много нерасклеенных листовок, но Том решил, что они нам еще пригодятся.
На утро — это была среда — опять поднялся большой переполох: те, у кого на дверях были листовки, радовались и благодарили судьбу, а те, у кого их не было, перепугались, разозлились и принялись ругать тех, у кого они были: мол, если они сами не аболиционисты, то уж точно их любимчики, а это почти одно и то же. И никто не мог взять в толк, как же это шайка Сынов Свободы ухитрилась под носом у солдат пробраться в город и развесить листовки. Ясное дело, все заволновались и начали подозревать друг дружку, не знали, кто свой, кто чужой. Кое-кто даже говорил, что город кишит изменниками. И вдруг все сразу замолчали — боялись сказать еще хоть слово: ведь и так слишком много всего наговорили, да еще, может быть, и не тем, кому надо.
Никогда еще при мне никто так страшно не ругался, как полковник; и Том то же говорит. Полковник собрал капитанов у себя в штабе и сказал, что это позор, что так дальше продолжаться не может и впредь надо лучше следить. И капитаны обещали стараться.
Том велел мне записывать имена тех, кто плохо говорит о людях, у которых на дверях висят наши защитные листовки, и сам тоже обещал записывать.
Тетю Полли успокоила листовка на двери, она уже не так боялась, как раньше. Но утром пришла миссис Лоусон, жена адвоката, и вконец ее расстроила. Она сделала вид, что ничего не знает о листовке тети Полли, и говорит: слава богу, у нее самой такая не висит, ей и не надо. Но если кто-то хочет, чтобы их защищали подпольные шайки аболиционистов, и им не стыдно — то пожалуйста, ей все равно! А когда тетя Полли покраснела и ни слова не могла в ответ вымолвить, миссис Лоусон встала и говорит: «Может быть, я лишнее сболтнула, простите меня», — и ушла, надувшись, а от спокойствия тети Полли и следа не осталось.
Ночью мы повесили листовки на дверях у всех, кого взяли на заметку, и у миссис Лоусон тоже. Это многих заставило замолчать, и миссис Лоусон тоже притихла и успокоилась, не то что раньше. А еще одну листовку мы нацепили на спину Джеку Флэкеру — он спал на своем посту у дровяного склада. Утром мы с Томом пошли бродить по городу и вдруг видим: пять листовок висят не на тех дверях, куда мы их вешали.
Том и говорит: подожди до завтрашнего утра — увидим еще кое-что интересное! Так оно и вышло: все, у кого были листовки, подписали их своими именами, чтоб никто не стащил, — их ведь воровали по всему городу. И тетя Полли подписала свое имя — крупно, разборчиво. И миссис Лоусон тоже.
К субботе все в городе, у кого не было листовок, ходили усталые и помятые — все три ночи они не ложились, слушали сигналы, а когда становилось невмоготу, так и засыпали одетыми. А сигналов все не было и не было, все уже перестали бояться, но тут пришла газета, и все началось сначала — ведь в ней только об этом речь и шла, да так все расписывали, что хуже некуда. И еще там печатали отрывки из иллинойсских и сент-луисских газет — вот, мол, какая слава идет о нашем городе. Все и гордились, и боялись, а газету читали от корки до корки — Том говорит, раньше сроду такого не было. Он тоже загордился и сказал, что заговор у нас на славу и надо продолжать и теперь наделать еще больше шуму.
ГЛАВА 5
Дела у нас опять пошли на лад, и ночью мы повесили объявление о награде за беглого чернокожего мальчика. Джим был с нами, по шпионским делам. А потом мы стали строить планы на завтра, и вот что придумали. Ближе к вечеру мы с Томом пойдем к дому с привидениями у Рачьего ручья, и, пока Том переодевается в негра, я отправлюсь дальше — к Кроту Брэдишу, и скажу, что знаю, где прячется этот самый негр, и могу показать ему место в обмен на часть награды. Потом приведу его куда нужно и передам ему Тома, вместе с цепью и всем прочим, а у Тома будет с собой запасной ключ, и ночью он снимет с цепи замок, сбежит, вернется в дом с привидениями, переоденется, смоет с себя краску в ручье и отнесет негритянский костюм домой. А Джим в полночь заберется на высокое дерево, протрубит в рог и нагонит страх на весь город. Утром Крот, конечно, явится в город и расскажет, что у него сбежал негр. Вот тогда все уж точно подумают, что это дело рук аболиционистов, — славная будет заварушка! А Том мог бы поработать сыщиком, помочь искать самого себя: то-то будет интересно!
На другой день, под вечер, мы подходили к дому с привидениями и уже почти выбрались из леса на открытое место, как вдруг Том схватил меня за руку и говорит: стой, кто-то идет вдоль ручья! Смотрим — и вправду, Крот Брэдиш! Том велел мне идти ему навстречу, рассказать, в чем дело, и увести его подальше, а он, Том, тем временем переоделся бы в доме с привидениями. Я оставил Тома ждать в кустах, а сам пошел навстречу Кроту и рассказал ему про негра. Только Крот и не подумал сразу никуда кидаться, а наоборот, был недоволен: стал чесать в голове, ругаться потихоньку и сказал, что уже поймал одного беглого негра полчаса назад, а с двумя ему уже не справиться, да еще в такое неспокойное времечко, и не мог бы я за своим пока приглядеть, а через денек-другой снова прийти?
Что делать дальше, я не знал. Теперь в заговоре блеску могло сильно поубавиться, и Тому бы это вряд ли понравилось. Я и постарался как-то выкрутиться и сказал, что, пожалуй, справлюсь с этим делом. Брэдиш обрадовался, ответил, что я ничего при этом не теряю, и стал рассказывать, какого превосходного негра он заполучил: за него обещана награда в пятьсот долларов, а Крот перекупил его за двести у человека, который его поймал, так что триста долларов чистой прибыли обеспечены — дельце выгодное, отлично сработано! А сейчас он идет в город повидаться с шерифом и все уладить. Только Крот исчез из виду, я свистнул Тому, он вышел, и я выложил ему плохие новости.
Том совсем скис. Я так и знал, что он огорчится. Он-то мечтал, что скоро смоет краску и пойдет охотиться сам за собой, и тут начнутся приключения одно другого интереснее. Ну никак он не мог успокоиться. Я про себя стал думать, что Провидение отворачивается от нашего заговора. Думал-думал, а потом взял да ляпнул по глупости. Том здорово разозлился и сразу накинулся на меня: мол, как мне не стыдно, я человек без веры и не заслуживаю милостей Провидения, и как же я не понимаю, что это один из самых таинственных и непостижимых ходов во всем заговоре! Ну, думаю, раз Том ругается, значит, скоро все пойдет на лад, надо просто оставить его в покое и не вмешиваться — пускай твердит, пока сам не поверит, что все идет по плану и так и должно быть. Так оно и вышло. Том опять повеселел, сказал, что все к лучшему и какой же он был дурак и грешник — не догадался, что к чему, и сразу нос повесил. Я молча слушал, а он тарахтел и тарахтел, да и говорит наконец: все, теперь ясно, в чем новый план Провидения, — нужно пойти и поменяться местами с тем негром! Том уже собрался идти переодеваться, только я ему говорю:
— Том Сойер, за того негра обещают пятьсот долларов, а за тебя никогда в жизни столько не дадут, как ты ни одевайся.
Тут уж, как ни крути, Том ничего не мог поделать. Но он виду не хотел подавать, что я его посадил в лужу. С минуту он просто болтал, что в голову придет, а сам пытался сообразить, а потом и говорит: пока мы того негра своими глазами не увидим, ничего точно сказать нельзя. И зовет меня: пошли!
По мне, так идти никакого толку не было, да не хотелось обижать Тома, и мы двинулись вверх по лощине. Уже стемнело, но дорогу мы знали. Подошли к бревенчатой хижине, света в ней не было, но в пристройке горел огонь, и через щели все было видно. Негр был мужчина, да еще какой верзила — за такого и тысячу долларов не жалко отдать! Он был в цепях и, растянувшись на земле, громко храпел.
Том и предложил: давай зайдем да рассмотрим его хорошенько! А я — ни в какую. Нет уж, говорю, увольте — ночью с незнакомым негром, да еще в таком глухом месте, шутки плохи. А Том в ответ: ну ладно, не хочешь — не надо, никто не заставляет. Он без труда отодвинул щеколду и вполз на четвереньках внутрь, а я смотрел в щель, что же дальше. Том добрался до дальнего конца комнаты, где лежал негр, взял свечку, заслонил ее рукой и стал разглядывать негра, а тот храпел, широко раскрыв рот. Вдруг вижу — Том застыл от удивления: наверное, негр что-то сказал во сне, я и сам слышал, как он что-то пробурчал. Том поднял старые стоптанные башмаки негра и принялся их вертеть так и сяк, рассматривать, совсем как заправский сыщик. Тут из одного башмака что-то выпало. Том поднял и стал осматриваться вокруг — ну ни дать ни взять настоящий сыщик! — потом поставил свечу на место, выполз наружу и говорит: пошли!
Мы отправились в дом с привидениями, и, пока взбирались вверх по Кардифской горе, Том говорил:
— Это тебе хороший урок, Гек Финн, — в следующий раз не будешь таким маловером.
— Это еще почему?
— А потому, что все шло по плану, по замыслу Провидения, верно?
— Верно. Все шло по плану — и план провалился.
— Так уж и провалился! По плану негр должен был сбежать оттуда сегодня ночью, так ведь?
— Да.
— Ну, все к тому идет.
— Ерунда! Что ты несешь?
— Это должен был быть белый негр, так?
— Да.
— Вот-вот. Значит, так оно и будет!
— Не может быть, Том!
— Может!
— Том, он что, правда белый? Честное индейское?
— Честное индейское, Гек, — белый.
— Ну и ну! Сколько лет на свете живу, а такого еще не видел!
— Гек, все идет точь-в-точь как мы задумывали. Провидение ничего в нашем плане не изменило, всего-навсего другого человека на мое место поставило. Теперь-то у тебя веры должно прибавиться.
— Еще бы, Том, такая диковина…
— Диковина? Да я же тебе говорил, что это самый таинственный и непостижимый ход во всем заговоре. Теперь ты, конечно, и сам убедился. Мы не знаем, зачем Провидение так сделало, Гек, но ясно одно — это к лучшему.
Том говорил очень торжественно, и не зря. Еще бы, все было так странно и удивительно! Мы притихли на минутку, а потом я спрашиваю:
— Том, откуда ты знаешь, что он белый?
— Да по всему видно. Если бы старый Крот видел хоть чуточку получше, его бы не провели. Для начала, Гек, ладони у этого негра черные.
— Ну и что?
— Ну и болван же ты, Гек! У настоящих негров не бывает черных ладоней!
— И правда, Том, я об этом и не подумал.
— А еще он разговаривал во сне, и говор у него был, как у белого, — видно, еще не научился и во сне говорить, как негры.
— А с чего ты взял, что он сегодня ночью сбежит?
— Доказательство — у него в ботинке.
— Оттуда что-то выпало. Это оно и есть?
— Выпали две вещи, одну я положил назад. Это был ключ. Но сперва я попробовал вставить его в замок у негра на цепи, и он подошел.
— Ну и дела!
— Вот видишь, он действует точь-в-точь по нашему плану!
— Вот чудеса, Том! Отродясь ничего такого не видывал! А что еще выпало из ботинка?
— Оно у меня с собой.
— Дай посмотреть, Том! Что это?
Но он меня остановил и говорит: сейчас темно, все равно ничего не увидишь. Я догадался, что у него опять какая-то тайна и надо подождать, пока он сам не расскажет. Я и спрашиваю, как ему пришло в голову искать у негра в башмаках. Том в ответ фыркнул:
— Ты что, совсем думать разучился, Гек Финн? Где бы, по-твоему, стал искать настоящий сыщик? Везде — и ни чего бы не пропустил. Сначала он ищет в самых видных местах — то есть там, где искать никому и в голову не придет а если там ничего не найдет, то примется за более укромные, то есть обычные, места. Но осмотреть он должен все такая у него работа. И на суде должен все помнить. Мне конечно, не хотелось, чтобы в ботинках что-то нашлось.
— Почему, Том?
— Я же тебе сказал почему. Потому что ботинки — слишком уж очевидное место. Если белый выдает себя за негра, он догадается, что его новый хозяин, может быть, захочет его обыскать, а поэтому ничего подозрительного в карманах прятать не станет, ведь так?
— Сам бы я до этого не додумался, но, наверное, так оно и есть. Все-то ты замечаешь, Том, во все вникаешь.
— На то я и сыщик. Я запомнил каждую мелочь в этой пристройке и обо всем могу рассказать: от мушкета на крючке, без кремня в замке, до старых серебряных часов Брэдиша — они висят под полкой, минутная стрелка у них сломана — она такой же длины, как часовая, и если захочешь узнать по ним время, то ошибешься недели на две, не меньше. И еще я заметил…
Вдруг меня осенило:
— Том!
— Что?
— Ну и дураки мы с тобой!
— Почему?
— Потому что теряем время попусту! Скорей бегом к шерифу — пусть он придет сюда, схватит этого молодчика и посадит в тюрьму за то, что он надул Крота Брэдиша.
Том так и застыл на месте, да и отвечает ехидно:
— Ты что, и вправду так думаешь?
Я смутился, но все равно сказал: «Да», хоть и не очень твердо.
— Гек Финн, — отвечает он горестно, — вечно ты упускаешь из виду отличные возможности. Заговор идет как по маслу, а ты хочешь так бездарно выдать негра шерифу и все испортить.
— Почему испортить, Том Сойер?
— А ты подумай немножко и увидишь. Как, по-твоему, на нашем месте поступил бы сыщик? Пошел бы, как самый обычный простофиля, поймал бы этого жулика, выведал у него, где его сообщник, потом схватил бы и сообщника, вытряс из него двести долларов, и все? И до утра бы все закончилось, и никакого блеску! Никогда еще не встречал таких твердолобых, как ты, Гек Финн!
— Ну а что же еще, по-твоему, делать, Том Сойер? Если у сыщика есть хоть капля здравого смысла, он так и поступит.
— Здравый смысл! — передразнил Том. — Дурачок, зачем сыщику здравый смысл? Он тут вовсе не нужен, а нужна гениальность, проницательность и чудесные озарения. Сыщик, у которого есть здравый смысл, никогда себе славы не наживет, а то и вовсе без куска хлеба останется.
— Ну и что же, — спрашиваю, — теперь делать?
— Выход у нас только один. Оставим в покое этих жуликов — пускай делают свое дело и убираются, а мы найдем улики и выследим их. На это, может быть, уйдет не одна неделя, зато славы будет, сколько нам и не снилось! Тут все дело в уликах.
— Ладно, — отвечаю сердито, — будь по-твоему, но, сдается мне, глупости все это.
— С чего ты взял, что глупости, Гек Финн?
— Потому что вилами по воде писано, поймаешь ты их или нет, а если даже и поймаешь, то они уже просадят свои двести долларов, и Кроту этих денег не вернуть. Где же тут здравый смысл?
— Говорил я тебе, что в частном сыске никакого здравого смысла нет, ну и чурбан ты! Это выше, и лучше, и благороднее, а деньги — кому они нужны? Тут дело в славе!
— Ладно, — отвечаю, — делай, как знаешь, я мешать не стану. Выкладывай свой план.
— Ну вот, совсем другое дело! Пошли, а пока будем взбираться наверх, я тебе расскажу. Эти два мошенника думают, что они в безопасности. Им невдомек, что в захудалом городишке вроде нашего могут быть сыщики. Им такое и в голову не придет! Потому-то они для нас легкая добыча. Негр смоет краску, они переоденутся по-новому, так что их ни Крот не узнает, ни кто-нибудь еще, и, вполне возможно, останутся пока здесь, чтобы еще кого-нибудь надуть. Ну а теперь — наш план. Если вы с Джимом встретите здесь чужака, сразу говорите мне. Если это тот самый негр, я узнаю его и оставлю в покое, пока не застану с другим чужаком, — тут-то мы их и схватим!
— А вдруг ты их с кем-нибудь перепутаешь?
— Предоставь дело мне, все будет как надо, вот увидишь.
— Это и есть весь план, Том?
— Этого более чем достаточно. Все, что от тебя нужно, — выслеживать чужаков и рассказывать мне.
Мы пошли дальше, забрались на наше дерево, а там уже сидел Джим. Мы ему рассказали, что к чему, а он обрадовался и ответил, что наш заговор — самый лучший на свете и идет как надо. А в половине второго ночи Джим протрубил в рог. Вышло очень громко и страшно — даже мертвецы и те, наверное, в могилах переворачивались. Потом мы отправились в город — смотреть, что же мы натворили.
ГЛАВА 6
Получилось так, что лучше не бывает! И Том так сказал, и Джим. Народу было на улицах видимо-невидимо, и все так перепугались, будто конец света настал. В домах огни горят, все кричат наперебой, и ругаются, и пророчествуют, а сами от страха даже не понимают, что говорят. И барабаны грохочут, и флейты играют, и солдаты маршируют, а полковник Элдер и Сэм Рамфорд выкрикивают команды, и собаки воют — словом, красота необыкновенная!
За час до рассвета Том засобирался обратно к Кроту Брэдишу — искать следы и прочие улики, пока они еще свеженькие, и тогда можно будет выслеживать беглого негра. Тетя Полли, понятное дело, станет волноваться, но идти к ней отпрашиваться сейчас нельзя: возьмет да и запрет Тома на замок, и как же тогда наш заговор? Том и велел Джиму сходить к тете Полли — объяснить, что Том ушел по шпионским делам, попросить у нее разрешения и успокоить ее, а потом Джим нас догонит. Мы с Томом пошли по дороге вдоль реки и добрались до домика Крота, когда уже светало.
Пришли, а там — о боже! Прямо возле пристройки на земле лежит Крот Брэдиш, весь в крови — похоже, помер; рядом с ним его старый мушкет, на стволе — волосы и кровь; пристройка открыта, негра и след простыл, все перевернуто, вещи разбросаны, поломаны, а вокруг полно отпечатков, следов и улик — выбирай на вкус. Том велел мне бежать за гробовщиком — только не за новым, пусть лучше за дело возьмется Джек Трамбулл, наш старый приятель, — а он, Том, меня догонит, как только соберет улики.
Уж чего-чего, а проворства Тому не занимать. Я и за поворот зайти не успел, оглянулся — а он уже мне шляпой машет. Подбежал я к нему, а он говорит:
— За помощью идти не нужно, Гек. Обо всем уже позаботились.
— То есть как позаботились, Том? Почему ты так думаешь?
— Я не думаю, я знаю. Здесь был Джим.
Оказалось, и вправду был. Том нашел его следы. Джим, ясное дело, пошел короткой дорогой, через гору, и нас обогнал — мы ведь шли по длинной, вдоль реки. Я совсем из сил выбился и был рад-радешенек, что теперь не надо ни за кем бежать. Пока Том осматривал улики, я зашел за дом — оттуда не было видно мертвеца — и присел отдохнуть. А уже через пару минут пришел Том и говорит, что со всем управился: кроме Крота и Джима, здесь были еще четверо и у него есть их следы, а в пристройке — только следы Крота, белого негра и еще чьи-то — наверное, его приятеля. Джим и двое других пошли за помощью короткой дорогой через гору, а негр и его сообщник побежали к ручью — скорей за ними!
По следу идти было легко: кругом низенькие кочки с чахлой травой, а между ними — голая земля, и следы глубоко отпечатались в пыли. Сразу видно, бежали что есть силы. Том и говорит:
— Похоже, места наши они плохо знают, а может быть, совсем уж перепугались или в темноте с дороги сбились. Как ни кинь, если они сейчас же не свернут влево, им придется худо.
— Так оно и есть, — говорю, — они бегут прямехонько к обрыву.
Обрыв был двенадцать футов высотой и сплошь порос низкими кустами — если не знаешь наших мест, его и днем не увидишь, пока не очутишься на самом краю. Мы шли по следу до самого конца, потом свернули влево, спустились, снова отыскали след и шли по нему еще пятьдесят ярдов до ручья. Вода в ручье поднялась высоко, как никогда, но уже начала спадать, и вдоль берега шла широкая полоса подсохшей грязи — сморщенная, вонючая. Том и говорит:
— На наше счастье, Гек, приятель негра ушиб левую ногу, когда упал с обрыва, — видишь, он ее приволакивал, и негру пришлось помогать. Вот и еще одна улика!
Такой уж он, Том: его медом не корми — подавай улики! Он и говорит:
— Они стащили челнок старого капитана Хейнса.
Том сказал, что узнал челнок по отпечатку носа в иле. Может, и правда — не знаю. Сколько раз я брал без спросу этот челнок, никогда не обращал внимания. Я и говорю:
— Все, можно идти домой. Они уже в Иллинойсе, теперь поминай как звали.
А Том в ответ: нет, погоди, может, в Иллинойсе, а может, и нет. Не надо спешить — лучше самим взять и проверить. И говорит:
— Что толку гадать? Есть только один способ что-то узнать наверняка: увидеть своими глазами. И вообще, посмотри на дело со всех сторон. А если нога у парня сломана? Он что, пойдет в Иллинойс, где леса без конца и края? Как бы не так, ему сейчас не в Иллинойс надо, а к доктору. В городе они точно не были, их бы сразу загребли. Они ведь чужаки, а время сейчас смутное, и чужакам в городе появляться опасно. К нам они спустились вниз по реке или пришли с того берега; Крота они знают, не в первый раз имеют с ним дело. Если у парня сломана нога, то им нужен будет врач.
— Значит, Том, они ушли в город.
— В челноке капитана Хейнса? Прямо с места убийства? Притом что челнок они как пить дать стащили? Нет, не могли они уйти в город.
— Пожалуй, не могли. Что же им теперь делать, Том?
Мы брели вдоль ручья вниз по течению. Том подумал-подумал, да и говорит:
— Гек, если у них времени некуда девать, то могли и успеть, но, судя по всему, нет. До ближайшего города вверх по реке двадцать миль, это целый день пути на таком челноке с одним веслом. До ближайшего города вниз по реке двадцать одна миля — пять часов ходу. Но толку от этого все равно никакого — об убийстве там узнают сегодня же, и даже утопи они челнок Хейнса и укради другой, все равно от вопросов, что у парня с ногой, им не уйти. — Том поразмыслил еще, да и говорит: — Хорошо, если они успели. Надеюсь, времени им хватило. Тогда к вечеру мы их поймаем, это уж точно!
— Хорошо бы! — отвечаю.
Мы шагали дальше, Том на ходу высматривал улики. И вдруг покачал головой, вздохнул глубоко, да и говорит:
— Нет, Гек, ничего не выйдет. Они где-то здесь, рядом — не хватило им времени.
— Откуда ты знаешь?
— То ли негр проспал, то ли сообщник опоздал часа на три, то ли еще что случилось, но управились они только к рассвету.
— С чего ты взял, Том?
— Когда мы пришли, Крот был еще теплый — я его пощупал под жилетом.
Меня в дрожь бросило от ужаса: я бы ни за что так не смог.
— А дальше? — спрашиваю.
— Чтобы тайком привести к приятелю доктора, негр должен смыть краску и переодеться в костюм, какие носят белые, да и приятель, наверное, тоже переодетый. Ну, у негра точно есть запасное платье. Переодеться ему нужно сразу после побега, пока его никто не увидел. Значит, одежда должна быть спрятана неподалеку. Ну а пока негр смоет краску, да они переоденутся, да проплывут три мили, уже наступит день, начнется погоня, и их поймают в первом же городе — не важно, в какую сторону они поплывут. Если они так сделали, то просчитались.
Прошагали мы около полумили вниз по ручью, поравнялись с кустами позади дома с привидениями и тут снова наткнулись на след. Том и говорит:
— Вот интересно! Они все сделали вперед нас и точь-в-точь по нашему плану: и в негров переоделись, как мы хотели, и в раздевалку нашу забрались. Они здесь уже побывали, Гек.
Челнок было не видать. То ли они его спрятали, то ли пустили по течению — не знаю, да это и не важно. Прокрались мы через кусты и видим: прямо к дому, через высокий бурьян, где раньше был сад, тянутся следы. Окна так и остались заколочены с прошлого лета, когда мы с Томом здесь играли в банду фальшивомонетчиков — вырезали по ночам деньги из жести, а по воскресеньям жертвовали их миссионерам. Дом казался, как всегда, одиноким и мрачным. Том и говорит: а теперь встаем на четвереньки и ползем через бурьян — медленно-медленно, и ни в коем случае не шумим, а то нас услышат. Я отвечаю:
— Кто? Я? Да ни за какие коврижки! Если хочешь нарваться на этих бандитов и попасть в беду — дело твое, я тебя здесь подожду, но сам с места не двинусь.
Том взял курс по своему маленькому компасу и пополз, а я сидел в кустах и смотрел. Том здорово все провернул. Только верхушки бурьяна слегка шевелились: покачаются-покачаются, потом все стихнет, а после опять зашевелится, но уже чуть поодаль, и я всегда знал, где Том, а Том хоть и медленно, но все время продвигался вперед. Наконец он туда пробрался, а я ждал долго-долго, чуть со скуки не помер, а потом испугался, что его схватили и задушили до смерти. И тут вижу — трава шевелится. Значит, Том возвращается! Слов нет, как я обрадовался. Том поравнялся со мной и говорит:
— Пошли, все в порядке — они там. Я прополз через дыру, где свиньи пролезают под дом, темно было хоть глаз выколи, я и сунул голову в трещину в полу…
— Ну и дурак!
— Сам дурак — меня не было видно! Меня бы даже при свете никто не увидел — мешал наш фальшивомонетный сундук. Я их тоже не видел, зато слышал. Они были совсем рядом, почти как ты сейчас. Будь у меня трость, я мог бы до них дотянуться и ткнуть. Но лучше не надо.
— Значит, Том Сойер, хоть капля здравого смысла у тебя осталась, но все равно меньше, чем нужно. Что они говорили?
— Обсуждали драку.
— Ну, само собой разумеется. А если поточнее?
— Много чего.
Тут он сказал, что очень устал и ему неохота тащиться пешком в город, да и спешить некуда — лучше прыгнуть в воду и доплыть до города на спине. Мне это пришлось по душе, но я понял, что о том разговоре больше ничего не узнаю. Похоже, те два мошенника опять что-то задумали, но их план пока что как цыпленок, который из яйца не вылупился, и Том еще не готов рассказать.
А вскоре на нас свалилась такая удача, что нам и не снилось. Добрались мы до места, где ручей впадает в реку, и видим: у берега стоит ялик с веслами в уключинах, а хозяина поблизости не видно. Вот мы и решили взять его на время. Том поблагодарил Провидение, мы сели в ялик, отошли подальше от берега, бросили весла — пусть плывет себе по течению, а сами разлеглись и закурили трубки. Вот было здорово — после всего, что нам досталось за день! Немного погодя Том говорит:
— В плане этого не было, но все к лучшему.
— Чего не было?
— Убийства. Жаль, конечно, Крота Брэдиша — он ничего плохого не делал. Но ведь кто-то же должен был оказаться на его месте, и для заговора это очень хорошо, правда, Гек? Мы должны благодарить Провидение. И верить сильнее, чем когда-либо. Сначала бы это и в голову не пришло, Гек, но теперь ясно, что заговор, если его устраивать по всем правилам, ничуть не хуже революции. Ей-богу, не хуже, и хлопот с ним меньше.
— Да, пожалуй.
— Понимаешь, Гек, заговор кое в чем очень похож на революцию, а если не знаешь, так их и вовсе не отличишь. Его устраивают из-за чего-то одного, а выходит совсем другое. Мы хотели всего-навсего перепугать народ в городке, а кончилось убийством работорговца. Значит, тут налицо все признаки революции, и раз у нас дело идет так гладко, думаю, если постараться хорошенько, можно наш заговор превратить в самую настоящую революцию. Нужен только капитал и повод, из-за чего восставать.
Ну, раз Том завелся, лучше оставить его в покое. Пусть себе обдумывает свой план, пусть разукрасит его хорошенько, а я полежу тихонечко и отдохну.
Добрались мы до города, сошли на берег возле Холодного ручья — там, где мельница, а навстречу нам Билл, одноногий негр Хиггинса, подпрыгивает, опираясь на костыль, запыхался, от страха сам не свой и говорит:
— Масса Том, старик Джим просит, чтобы вы с Геком шли к нему в тюрьму, да поживей — его поймали и посадили за решетку.
— За что?
— Он убил старого Крота Брэдиша.
— Господи помилуй! — отвечаю.
Посмотрел я на Тома, а он весь сияет от радости. Меня просто в дрожь бросило.
Дал он Биллу десять центов и говорит как ни в чем не бывало:
— Хорошо, беги, мы сейчас придем! — Билл ушел, и мы ускорили шаг. Том и говорит радостно: — Правда, здорово все идет? Это самый блестящий ход, мы бы в жизни до такого не додумались! Теперь-то ты поверишь по-настоящему и перестанешь вешать нос.
— Том Сойер, — отвечаю, — что ты здесь нашел хорошего? — Я был сам не свой от горя и злости и чуть не плакал. — Старина Джим, наш самый лучший друг, золотое сердце, другого такого честного и чистого человека на свете нет, и вот теперь его хотят повесить за убийство, которого он не совершал. Я-то точно знаю, что он никого не убивал, а все из-за этого проклятого заговора, чтоб его…
— Замолчи! Не тебе судить, что хорошо, а что плохо! Первый раз вижу такого болвана: что ни делает Провидение, все ему не по нраву. Постыдился бы! Кто здесь главный заговорщик — ты, что ли? Да как бы не так: ты мешаешь заговору как только можешь! Говоришь, нашего Джима повесят? Ну ты и осел, да разве мы допустим, чтоб его повесили?
— Нет, но…
— Замолчи! Никаких «но»! Все будет хорошо, просто великолепно. Мы с тобой и с Джимом будем купаться в лучах славы! Дубина ты, счастья своего не понимаешь! Говоришь, Джима повесят? Ничего подобного, он станет героем — вот что будет! И духовой оркестр, и факельное шествие в придачу, не будь я сыщик!
У меня, ясное дело, отлегло от сердца. Этим всегда кончается: Том так твердо во все верит, что, хочешь не хочешь, начинаешь с ним соглашаться.
Мы с Томом были важные птицы, с пропусками, так что пробились через толпу у входа в тюрьму, и шериф нас пропустил, а больше никого не хотел пускать. Том мне шепнул: ни в чем не признавайся! Он собрался говорить с шерифом за нас обоих, и сам тоже сделал вид, что ничего не знает. Все удалось как нельзя лучше, Том шерифу ни единым словом не проболтался. Старик Джим перепугался до смерти и был уверен, что его повесят, а Том нисколечко не волновался и говорил ему: не бойся, до этого дело не дойдет. И десяти минут не прошло, как Джим успокоился и повеселел. Том Джиму сказал, что полицейские ему не будут задавать вопросов, а если вдруг кто-то зайдет и спросит что-нибудь, надо отвечать: я ни с кем не буду разговаривать, кроме своего адвоката. А после Джим рассказал нам, что с ним случилось.
Тетю Полли он дома не застал: она, ясное дело, выбежала на улицу посмотреть, что за ужас там творится. Джим сразу пошел нас догонять, но отправился короткой дорогой через Кардифскую гору, а мы-то шли по длинной, вдоль реки, так что до дома Брэдиша он добрался еще затемно, споткнулся о мертвого Крота и упал прямо на него. А как стал подниматься, тут подбежали двое и схватили его. Оказалось, это Бак Фишер и старый капитан Хейнс прибежали на страшный шум и теперь рады были, что поймали Джима с поличным. Джим хотел им все объяснить, но ему и слова сказать не дали — мол, слово негра не стоит ломаного гроша. Пощупали Кроту сердце, сказали, что он мертв, отвели Джима обратной дорогой в город, а оттуда в тюрьму и всем рассказали, что стряслось, и тут такой переполох поднялся, что дальше некуда. Том поразмыслил чуть-чуть, да и говорит задумчиво:
— Могло быть и лучше. Но и так тоже неплохо.
— Боже милосердный, масса Том, разве можно так говорить? Я сижу тут весь в его крови, а вы…
— Так, неплохо — хорошее доказательство, просто отличное, но с ним далеко не уедешь.
— О чем это вы, масса Том?
— Само по себе это ничего не доказывает. Нужен мотив.
— Что такое мотив, масса Том?
— Причина для убийства Крота Брэдиша.
— Боже сохрани, масса Том, я же не убивал его!
— Знаю. В этом-то вся и загвоздка. Доказать, что ты мог его убить, труда не составляет. Это, конечно, хорошо, но, чтобы отправить человека на виселицу — во всяком случае, белого, — этого мало. А будь у тебя мотив — было бы куда надежней.
— То ли я не в своем уме, масса Том, то ли вы. Ничего не понимаю, провалиться мне на этом месте!
— Да черт побери, это же проще простого! Давай разберемся. Я хочу тебя спасти — тут все понятно, это пара пустяков. Но что особенного в том, чтобы просто вытащить человека из тюрьмы? То ли дело спасти его от виселицы! Тут должно быть убийство с отягчающими обстоятельствами, понимаешь? А значит, у тебя должен быть мотив — и тогда все будет просто замечательно! Джим, если придумаешь подходящий мотив, я сделаю так, что тебя осудят за убийство с отягчающими обстоятельствами, — мне это раз плюнуть!
Том был как на иголках от новой затеи, а Джим… Джим до того изумился и перепугался, что слова не мог вымолвить.
— Масса Том, побойтесь Бога, сынок, — я бы ни за что…
— Не хнычь, говорю тебе, а подумай о мотиве! Пока ты дурака валяешь, я бы на твоем месте напридумывал уже с десяток! Скажи, тебе нравился Крот Брэдиш? А ты ему?
Джим замялся. Том сразу все понял и принялся его расспрашивать. Как Джим ни юлил, ничего ему не помогло. Том вытянул из него всю правду: оказалось, когда старая мисс Уотсон чуть не продала Джима на Юг, а Джим услыхал про это и сбежал, и мы с ним поплыли на плоту в Арканзас — так вот, тут не обошлось без Брэдиша. Это он уговорил мисс Уотсон продать Джима, а сам хотел быть посредником. Наконец Том говорит:
— Все, хватит. Вот и мотив. Теперь все у нас как надо: это убийство с отягчающими обстоятельствами, и мы повеселимся на славу, а в конце ты, Джим, станешь героем — готов поспорить на тысячу долларов.
Но Джиму это ни чуточки не понравилось. Он сказал, что был бы рад и за десять центов выйти из игры. Том был очень доволен. Теперь, говорит, нужно рассказать окружному прокурору про мотив, и тогда все пойдет как по маслу. Потом он договорился с шерифом, чтобы Джиму давали табак, и вкусную еду, и все, что он пожелает, а Джиму на прощание пообещал, что мы будем приходить каждый день и скучать ему не дадим. А потом мы ушли.
ГЛАВА 7
Шум поднялся на весь город. Все говорили об убийстве, и никто не сомневался, что Джим в сговоре с Сынами Свободы, и что бандиты ему заплатили за убийство работорговца, и что убийства еще будут: каждый, у кого есть негры, должен опасаться за свою жизнь, и что, мол, это только начало, и теперь, вот увидите, город потопят в крови. Так они говорили. Все, что болтали про Джима, — это, конечно, вздор. Он всегда был хорошим негром, и все это знали. Но его уже больше года как отпустили на волю, поэтому на него, известное дело, злились, а о доброте его и думать забыли. Так всегда бывает. А о Кроте Брэдише так горевали, будто он был ангел. Все о нем печалились и без конца рассказывали друг другу о его маленьких добрых делах, про которые раньше никто не вспоминал. А чего вспоминать — ведь их никогда и не было. Еще вчера никто бы слова доброго о Кроте не сказал, всем было на него наплевать — ведь работорговцев все презирают. А сегодня горюют о нем: ах, какая потеря. Такие уж они, люди, — большинство совсем бестолковые.
Джима, конечно, собирались линчевать, все так говорили. На улицах возле тюрьмы собралась толпа — все кричат наперебой и ждут не дождутся, когда начинать. Но за дверью сидел капитан Бен Хаскинс, шериф, и, если бы толпа вломилась без спросу, никому бы, понятное дело, не поздоровилось. А у входа стоял полковник Элдер — при нем толпе тоже не развернуться. Так что мы с Томом шли себе спокойно дальше и о Джиме не тревожились. Том пустил слух о мотиве, чтобы он дошел до окружного прокурора. Потом мы зашли с черного хода к тете Полли перекусить. Поесть раздобыли без труда, ведь тетя Полли ушла набираться впечатлений и искать Тома. Оттуда мы пошли на гору — вздремнуть в лесу, где никто не мешает, и Том выложил мне свой план.
Сегодня, говорит, пойдем на дознание, а завтра нас допросят на совете присяжных, только наши показания против капитана Хейнса и Бака Фишера никто и слушать не станет, так что Джима обвинят в убийстве как пить дать. Где-то через месяц будет суд. Как раз за это время нога у того парня заживет, он уже сможет ходить. Значит, нам нужно устроить так: только в суде дело против Джима повернется, мы как раз схватим тех двух жуликов и приведем в зал — то-то будет шуму! — и Джим станет героем, и мы вместе с ним.
Мне этот план не понравился, очень уж он страшный и риск большой: а вдруг что-нибудь случится? Ведь если хоть что-то не заладится, Джима уже не спасти. Он ведь негр, а значит, дело гиблое. Я и говорю: давай скажем шерифу, пусть поймает тех двоих прямо сейчас и посадит в тюрьму. Тогда они будут в наших руках.
Но Том меня и слушать не хотел. Если мы так сделаем, разве в этом будет что-то особенное? Нет, нужно их схватить, когда они ничего не подозревают, и привести в суд, а там устроить настоящий спектакль, как тогда в Арканзасе. Видно, Тому после Арканзаса слава в голову ударила — ничего больше не мог делать по-простому.
Тут у нас глаза стали слипаться, и решили мы: вздремнем часок, а потом пойдем на дознание. И, знамо дело, проспали. Пришли — а все уже кончилось, никого нет, и труп тоже унесли. Ну, ничего страшного — завтра пойдем на совет присяжных.
Оказалось, мы проспали чуть ли не до вечера, и время шло к закату. Пора домой ужинать, а Том говорит: нет, нужно убедиться, что те двое на месте. Надо подождать до темноты, а там он еще разок зайдет в дом с привидениями и послушает. Я обрадовался — так спокойнее. Спустились мы вдоль ручья, прокрались к реке, прошагали вниз по течению еще четверть мили под обрывом, вошли в воду и стали там ждать. А через час после того, как стемнело, вернулись, Том пробрался через бурьян к дому, а я остался.
Жду-жду, кругом темно, и тихо, и одиноко, и дом с привидениями близко-близко — просто мурашки по спине бегают от ужаса! Времени-то на самом деле не так уж много прошло, а казалось, целый век ждал. Наконец Том продирается через бурьян и говорит:
— Бедный Джим, бедный Джим, его повесят — их там нет!
Я едва не рухнул на месте. У меня все плыло перед глазами, казалось, еще чуть-чуть и в обморок упаду. Тут я не выдержал и расплакался — что толку терпеть? Смотрю, а Том тоже плачет и говорит:
— Зачем я это сделал? Ну зачем, Гек? Они уже были в моих руках, и не будь я таким ослом, я мог бы спасти Джима! Говорил ты мне, Гек, чтоб я рассказал шерифу, а я, дурак, не послушал, и вот теперь они сбежали, и мы их больше никогда не увидим, и Джима теперь не спасти — и все из-за меня, лучше бы я умер!
Том готов был сквозь землю провалиться и много злых слов наговорил про себя — я и сам собирался все это ему сказать, да у меня духу не хватило, хоть слова и вертелись на языке. Я стал было его утешать, а он и слушать не хочет: говорит, лучше ругай меня, обзывай самыми страшными словами, какие знаешь, только от них мне сейчас будет польза. И сам как начал себя ругать: мол, с чего это он сразу решил, что у того парня сломана нога? Может, это всего-навсего растяжение, теперь-то уже ясно, что так оно и есть! И вдруг он что-то придумал, да и говорит:
— Пошли!
И мы помчались по дороге. А что, сказал Том, если они отправились в ближайший город ниже по течению? Тогда мы успеем на пароход и опередим их. Когда прошли Холодный ручей, увидели пароход. Добрались до пристани, а он уже отходил, но мы успели запрыгнуть на борт. Нам кричат: да знаете ли вы, куда пароход идет? А нам хоть бы что — забрались на штормовой навес, отошли подальше к корме, уселись среди искр и стали высматривать челнок. О совете присяжных мы и думать забыли, и Том сказал, что это не важно, главное сейчас — найти убийц, только так мы можем спасти Джима.
Том совсем голову потерял, оттого что дал им уйти и на Джима такая беда свалилась. Он даже говорить не мог ясно и понятно. Скоро и до Тома дошло, что у него в голове все перепуталось:
— Гек, мне так плохо, что я с горя соображать перестал. Понимаешь, нам сейчас на этом пароходе делать нечего!
— Почему, Том?
— Потому что пароход нам бы пригодился, если бы у парня была сломана нога — а она не сломана. Значит, ему не нужен доктор и он может идти на все четыре стороны. Они ушли в Иллинойс, там леса без конца и края, лучше и безопаснее места для них не придумаешь. Гек, они ушли, как только стемнело. Поплыви мы тогда от устья ручья, а не на четверть мили выше по течению, мы бы их увидели. Вот бы сейчас оказаться в городе — все бы за это отдал! Мы бы вышли на след, отыскали их лагерь и загнали бы их в угол — это пара пустяков, ведь у парня болит нога, и он ни шагу не может ступить без помощи. Гек, нам нужно вернуться, и чем скорее, тем лучше. Какой же я осел, что забыл про ногу и кинулся бежать на этот пароход!
Теперь я и сам понял — сначала мне просто в голову не пришло. Но Тома ругать не стал. Ведь если подумать, он не виноват, что просчитался. На его месте кто угодно бы соображать перестал. Я хотел было его подбодрить, а он обозлился, разобиделся и говорит:
— Удача изменила нам, и против этого ничего не поделаешь — вот, смотри!
Гляжу — и правда: дождь начался. Мне так жаль стало Тома, что я чуть не заплакал.
— Теперь следы смоет. — Том совсем отчаялся и сказал, что если с Джимом что-нибудь случится, то он сам с собой рассчитается как следует — вышибет себе мозги и уж точно не промахнется!
Я смотреть не мог, как он мучается, и стал его утешать. Говорю, еще неизвестно, куда они пошли. Мы ведь даже не знаем, кто они, тогда откуда нам знать, что они будут делать? Что, если они из банды Беррела?
— Может быть. Ну и что из этого?
— Значит, им, наверное, безопаснее вместе с остальной бандой.
— Разумеется. Продолжай.
— Где у них притон — на Лисьем острове?
— Ну да.
— Далеко отсюда?
— Сто семьдесят миль.
— В челноке они доберутся за четыре ночи, если днем будут прятаться. Может, они как раз на пути туда!
— Дай я тебя обниму, Гек! Хоть один здравомыслящий человек у нас остался! Гек, если мы задержим их на пути туда, а с нами будет шериф… Гек, если они впереди нас, то и часа не пройдет, как мы с ними поравняемся, а потом устроим погоню на этом же самом пароходе! Держу пари, Гек, мы на правильном пути! А теперь быстро на полубак — и гляди в оба. А я пойду в рубку и тоже буду смотреть. Если их увидишь, гаркни три раза со всей мочи, а я тем временем подготовлю рулевого, так что он тоже будет рваться в бой! Бежим!
И мы припустили во все лопатки. Том опять повеселел, приободрился, а я рад был, что мне в голову пришла эта мысль, хоть я в нее не особо верил. Скорей уж они ушли в Иллинойс, как Том сказал. Он и сам поймет, как только придет в себя, и тогда мы вернемся домой. А если тот парень и вправду сильно ушиб ногу, то через денек-другой появятся новые следы — и не так уж далеко в лесу.
На полубаке было темно хоть глаз выколи, и я споткнулся о кого-то, а он как заорет:
— Что ты, черт побери, тут делаешь? — Да как схватит меня за ногу!
Я был ни жив ни мертв от страха и начал хныкать — ведь я узнал голос Короля! А еще один голос отвечает:
— Да это же просто мальчишка, старый ты боров! Он не нарочно! Нет у тебя жалости к людям и никогда не было!
Господи помилуй, да это же Герцог!
Ну, думаю, вот я и попался!
Тут Король и говорит:
— Выходит, ты мальчик? Так бы сразу и сказал! А я уж думал, корова. Что ты здесь делаешь? Откуда ты? Как тебя зовут?
Я, разумеется, отвечать не хочу, но чую, что придется. Постарался изменить голос:
— Билл Парсонс, сэр.
— Боже праведный! — Герцог привстал и заглянул мне в лицо. — Ты-то как здесь очутился, Гек Финн?
Язык у него заплетался — наверное, Герцог был пьяный. Но это как раз к лучшему, пьяный Герцог куда добрее трезвого. Ну, думаю, теперь никак не отвертишься: придется им все рассказать. И раз уж меня застали врасплох, стал рассказывать очень осторожно и, ясное дело, наврал с три короба. А когда закончил, они только фыркнули, и Герцог говорит:
— А теперь для разнообразия расскажи нам хоть чуточку правды.
Я опять начал заливать, но Герцог меня оборвал и говорит:
— Подожди, Гекльберри, лучше я тебе помогу.
Ну, думаю, теперь мне несдобровать! Герцог — он хитрый, сейчас начнет расспрашивать и вытянет из меня всю правду. Я, конечно, знал все его штуки и очень боялся. Тогда, в Арканзасе, когда я дал Джиму сбежать, Королю с Герцогом пришлось здорово раскошелиться, а теперь я у них в руках. Они от меня не отстанут, пока не узнают, где Джим, — это уж точно. Герцог начал, а вслед за ним и Король стал соваться с вопросами, а Герцог ему: замолчи, ты ни черта не соображаешь и только все портишь! Король рассердился.
Ну и пришлось выложить им всю правду: Джим в тюрьме, здесь, у нас в городе.
— За что?
Как только Герцог спросил, мне сразу стало ясно, что делать. Если есть надежда, что Джима оправдают, они принесут свои фальшивые бумаги, увезут его на Юг, а там продадут. Но если я им дам понять, что Джима повесят и от петли ему не уйти, то они не станут с ним возиться и мы от них избавимся. Я рад был, что до такого додумался, и решил: свалю-ка я убийство на Джима, да так, чтоб они не сомневались.
— За что? — спрашивает Герцог.
— За убийство, — говорю как ни в чем не бывало.
— Тысяча чертей!
— Да, — говорю, — он убил, и было за что. Это точно он, как пить дать.
— Вот жалость-то какая — он ведь на самом деле вовсе не плохой негр. Но откуда ты знаешь, что это он?
— Потому что старый капитан Хейнс с Баком Фишером его поймали прямо на месте преступления. Он ударил работорговца по голове его же собственным мушкетом, споткнулся о тело, упал и только стал подниматься — а они тут как тут. Было темно, но они были неподалеку и услыхали шум. Уж лучше бы они были где-нибудь еще. Если бы Джим не упал, он бы, наверное, сумел удрать.
— Вот беда-то какая. Так что, работорговец и вправду умер?
— Мертвее не бывает, сегодня после обеда похоронили.
— Жуть! А Джим сознался?
— Нет. Только говорит, что негру бесполезно оправдываться, если против него двое белых.
— Это верно, не так ли, ваше величество?
— Да, так и есть — негру выше головы не прыгнуть.
— А может, это не он убил? Не было ли вокруг подозрительных личностей?
— Нет, никого.
— Точно?
— Точно. А если б даже и были, где у них мотив? Не станут же они убивать человека просто так, от нечего делать?
— Не станут. Но, может, и у Джима мотива не было?
— Был, ваша светлость, в том-то вся и штука, что был. Все знают, как этот работорговец однажды поступил с Джимом, а двое слышали, что Джим обещал отомстить ему когда-нибудь. Я-то знаю, что это одни слухи, да что толку? Ведь распускали-то их белые, а Джим — всего-навсего негр.
— Да, плохи у Джима дела.
— Бедняга Джим, он и сам знает. Все говорят, что его повесят, и на его стороне никого нет — ведь он же вольный негр.
Все молчали. Значит, думаю, я им хорошо объяснил — теперь-то они оставят Джима в покое, и нам с Томом никто не будет мешать, и мы найдем тех двоих и выручим Джима из беды. На душе у меня стало хорошо, спокойно. Немного погодя Герцог говорит:
— Я кое-что придумал. Мне нужно с вами переговорить, ваше величество.
Они с Королем отошли в сторонку и стали о чем-то шептаться, а когда вернулись, Герцог говорит:
— Вижу, ты любишь Джима и тебе жаль его. Как, по-твоему, что лучше — если его продадут на Юг или если его повесят?
ГЛАВА 8
Такого поворота я не ожидал. Меня будто оглушило. Я не мог понять, к чему он клонит. Не успел я опомниться, а он продолжает:
— Тебе решать. Мы с Королем уже не раз выходили на след Джима и вновь теряли его. Дело в том, что у нас есть ордер на арест Джима — от губернатора штата Кентукки для губернатора штата Миссури и других уполномоченных лиц. Подделка, конечно, но бумага и печати настоящие, и по этому ордеру мы можем схватить Джима где угодно, и никто нам не помешает. Сначала, когда мы шли по этому следу, он привел нас в Александрию, что за шестьдесят миль к северу отсюда. Мы потеряли его вновь и решили уже отказаться от поисков навсегда. А сегодня сели на этот пароход…
— Не зная, что справедливое, всемогущее Провидение…
— Замолчи ты, старая пивная бочка, и не перебивай. В твоей власти, Гек, спасти Джима или отправить его на виселицу. Ну, выбирай!
— Видит Бог, ваша светлость, я дорого бы дал, чтобы его спасти, — только скажите мне как!
— Проще простого. Представь, что Джим убил человека где-нибудь в Теннесси, или в Миссисипи, или в Арканзасе год с небольшим назад, когда вы с Джимом помогали нам с Королем вести плот, и мы с Королем хотели продать Джима как нашего собственного негра — да он и был наш, по праву нашедшего, ведь это мы его нашли, когда он плыл по реке на плоту без хозяина…
— Да, он и сейчас наш, — рявкнул Король.
— Заткните глотку, ваше величество, и не сотрясайте попусту воздух. Представь, Гек, что Джим и вправду убил человека — плантатора или кого-нибудь там еще. Теперь понятно, к чему я клоню?
— Совсем непонятно! Джим никого не убивал. Он ни на шаг от меня не отходил, и даже если бы…
— Хватит, не прикидывайся дурачком. Ясное дело, он никого не убивал, не в этом суть. А суть вот в чем: представь, что он вправду убил человека. Ясно? По-настоящему. Теперь понятно?
— Нет.
— Дьявольщина! Понимаешь, черт побери, что Джима нельзя судить здесь, если там его уже судили? Все убийства нужно расставить по порядку, так ведь? Это и ежу ясно. Отлично. А теперь — наш план: нам он поможет заполучить обратно нашего негра, а тебе — спасти жизнь твоему черному приятелю. Завтра в Сент-Луисе мы зайдем к одному нашему другу, который занимается темными делишками. Это он сделал для нас фальшивые бумаги, а теперь их подправит, как нам нужно: вместо «побег» напишет «убийство» — ну, то самое, что Джим совершил на Юге. А завтра-послезавтра вернемся сюда, предъявим бумаги, заберем Джима на Юг и там продадим — разумеется, не в Кентукки, а как можно дальше к устью реки, куда не доберутся власти Миссури, когда поймут, что их обвели вокруг пальца.
Ей-богу, я был на седьмом небе от счастья — даже ангелы, наверное, так не радуются, когда смотрят с небес, как детей католиков тащат на веревке в пресвитерианскую воскресную школу. Вот ведь какие чудеса бывают: только что ходил грустный, на сердце кошки скребли, и, казалось, конца не будет твоим бедам, а потом вдруг случается какая-нибудь мелочь, которой вовсе и не ждал, — и сердце уже прыгает от радости, и все твои печали позади, и ты доволен и счастлив, как Содом с Гоморрой и все прочие патриархи![16] Говорю про себя: вот так удача для Тома Сойера! И для Джима тоже. Если Король с Герцогом все сделают как надо, то Джим в безопасности, и если через три месяца Джим не будет в Англии на свободе — значит, мы разучились освобождать негров и лучше нам заняться чем-нибудь другим.
Я им сказал: мне план по душе, я согласен. Король с Герцогом обрадовались и даже руку мне пожали — в первый раз в жизни они до меня так снизошли. Я и говорю: хочу вам помочь, только расскажите как. Герцог в ответ:
— Ты можешь нам очень здорово помочь, Гек, и при этом ничем не рискуешь. Все, что от тебя требуется, это держать язык за зубами.
— Договорились.
— Если хочешь, можешь рассказать Джиму. Скажи ему: когда увидит нас, узнает, что мы от шерифа, и услышит, зачем мы пришли, пускай сделает испуганный и виноватый вид. Это должно подействовать. Только пусть ничем не показывает, что видел нас раньше. И ты тоже виду не подавай, что знаешь нас. С этим надо очень осторожно.
— Хорошо, ваша светлость, буду осторожен и ничем не выдам, что мы знакомы.
— А теперь скажи, что ты делаешь на этом пароходе?
Такого я не ожидал. Я не знал, что ответить, и сказал: путешествую, чтобы поправить здоровье. Но Король с Герцогом были в хорошем настроении и не стали ничего выпытывать, только рассмеялись и спросили, где же курорт. А я отвечаю: вон там — видите, огни горят? Ну, они меня и отпустили. Стали прощаться и говорят: смотри не опустоши там все курятники!
Я отправился к рубке, настроение было лучше некуда, а потом вспомнил, что все это время не следил за челноком, но, думаю, невелика беда — все равно никакого челнока не было, а то бы Том с рулевым его заметили и бросились в погоню. Наверху контролер проверял билеты, мы с Томом спустились на крышу рубки, и я говорю ему шепотом:
— Представляешь, Король и Герцог здесь — внизу, на полубаке!
— Не может быть!
— Да провалиться мне на этом месте! Хочешь посмотреть?
— Еще бы! Пошли!
Мы скорей бегом на полубак. Король и Герцог после наших с Джимом приключений стали у нас в городе знаменитостями — Том, как и любой другой на его месте, все бы на свете отдал, чтобы взглянуть на них. Когда Том их видел в Арканзасе, они были с ног до головы в дегте и в перьях, и люди с факелами тащили их верхом на шесте — ну точь-в-точь облачный столп, который вывел Моисея из тростников.[17] И сейчас Том, понятное дело, хотел полюбоваться на них без перьев, потому что в перьях они были больше похожи на лопнувшие подушки.
Но ничего у нас не вышло. Пароход подходил боком к плавучей пристани, и помощники капитана, само собой, всех прогнали с полубака. Там не осталось ни одного пассажира — только матросы с грузами носились туда-сюда, ярко-красные при свете топки и огней, а на остальной палубе — тьма кромешная и ничего не видно. Мы спрыгнули на берег и отправились к северной окраине города, там нашли длинный плот из бревен и поплыли. Уселись на краю, свесив ноги в воду, а вокруг — тихо-тихо, только волны слегка плещут о плот. Мы болтали и смотрели, не покажется ли челнок, а кругом комары пищали, и лягушки квакали вовсю, как у них водится в такие летние ночи, и было тепло, уютно и славно.
Стал я рассказывать Тому про план. Теперь, говорю, надо держать язык за зубами и никому ни слова, кроме Джима. Том сразу повеселел, даже чуть не запрыгал от радости. Сказал, что теперь с Джимом ничего не случится. Даже если мы не найдем убийц, план Герцога его все равно спасет, а потом мы снова поможем Джиму бежать из рабства и здорово повеселимся: увезем Джима в Англию и передадим самой королеве — пусть он помогает на кухне, прислуживает за столом, а еще будет телохранителем и знаменитостью. И мы славно попутешествуем — увидим Тауэр, и могилу Шекспира, и узнаем, в какой стране мы все жили, пока не начали бороться за справедливые налоги и равное представительство в парламенте и не подняли шум, потому что ничего этого не было.
Но тут Том сказал, что получил хороший урок и больше не станет ради славы разбрасываться удобными случаями. Нет уж, с этого дня — никакой славы, главное — дело! Джима надо спасать чем быстрее, тем лучше, и не беда, если без шума.
Я обрадовался: наконец-то Том дело говорит! Раньше он просто был не в себе, сразу видно. Зато теперь-то он точно в здравом уме! Он даже сказал: пусть лучше Король и Герцог придут ночью, заберут Джима из тюрьмы и выведут из города незаметно, без всякого шума — хватит показухи, теперь с ней покончено. Ей-богу, мне снова стало не по себе: неужели Тома опять занесло, только в другую сторону? Но я промолчал.
Том и говорит, что новый план — самый надежный, лучше не придумаешь, но это не значит, что надо сидеть сложа руки: а вдруг Короля с Герцогом посадят в тюрьму (уж этого-то всегда можно ожидать), а когда выпустят, Джима спасать будет уже поздно…
— Не надо, Том! — перебил я его. — Об этом не то что говорить, даже думать нельзя.
— Нет, Гек, придется. Раз такое может случиться, значит, надо все хорошенько обдумать, нельзя больше ничего упускать из виду. Пока мы ждем, давай денек-другой поищем тех двоих — надо пользоваться любым случаем. — Том помолчал, вздохнул тяжело и говорит: — Жаль, до дождя не успели. И зря мы сюда приехали.
Мы смотрели во все глаза ночь напролет, почти до рассвета, хотели и вовсе не ложиться спать, но потом взяли да и заснули. Проснулись — а уже полдень. Ну, думаем, это никуда не годится! Мы разделись, окунулись, а потом пошли в город. Там съели на двоих целых шестьдесят четыре блинчика и еще много всяких вкусностей, наелись — и сразу полегчало. Спрашивали про челнок, но никто его не видел, а пароход опоздал, и, когда мы добрались до дома, уже стемнело. Джима обвинили в убийстве с отягчающими обстоятельствами, Крот Брэдиш уже лежал в могиле, а в городе только и было разговоров что о всезнающем, загадочном Провидении — в душе, наверное, все ему удивлялись и благодарили его, но никто прямо сказать не решался.
Съели мы еще шестьдесят четыре блинчика и пошли в тюрьму утешить Джима, а когда рассказали ему про новый план, он растревожился не на шутку и даже не знал, радоваться ему или печалиться. Джим и говорит:
— Господи помилуй, не успел выпутаться из одной переделки — сразу в другую попадаю. — Но тут он увидел, как Том расстроился, и стало ему стыдно. Погладил он Тома по голове черной морщинистой рукой и говорит: — Ничего, сынок, не грусти. Я-то знаю, что вы стараетесь изо всех сил, и, что бы ни случилось, старик Джим на вас не в обиде.
Джим, конечно, до смерти боялся снова очутиться в лапах у Короля с Герцогом — ему даже говорить-то об этом было страшно. Но он знал, что мы с Томом не дадим ему надолго остаться в рабстве — если смелость, упорство и хитрость хоть чего-нибудь да стоят! Он, разумеется, успокоился и говорит: если королева попробует его в деле и увидит, какой он честный и работящий, то на следующий год она прибавит ему жалованье. А Том в ответ: ясное дело, прибавит — она же молодая и неопытная. Так что все были довольны, Том собрался домой и говорит: пойдем со мной! — мы и пошли вместе.
Дома тетя Полли задала Тому трепку, но совсем не страшную. Сначала она здорово сердилась, но когда мы рассказали, что два дня рыбачили на том берегу и не знали, что протрубил рог и перепугал до смерти весь город, а еще было убийство, и убийца — Джим, тетя Полли забыла, что злилась на нас. Ей не терпелось поскорей рассказать новости, она бы это удовольствие ни на что не променяла!
И тетя Полли принялась за дело: целых два часа рассказывала, все на свете переврала, зато развлеклась на славу А когда закончила, то история вышла в десять раз страшнее чем на самом деле, — Том наверняка пожалел, что не назначил тетю Полли заправлять заговором. Но Джима ей было очень жаль: не иначе как Крот пытался его убить, а то бы Джим не вышиб ему мозги мушкетом!
— Что, и вправду вышиб, тетя Полли?
— Честное слово!
А вечером вся компания заявилась к тете Полли в гости, и сыщик Флэкер тоже пришел. Он собрал улики и уже знал об убийстве все, будто своими глазами видел. А гости сидели и слушали, раскрыв рот, да восхищались: ай да Флэкер, ай да молодчина!
Все это, конечно, была полная околесица, но им было невдомек. Флэкер говорил, что никаких Сынов Свободы на самом деле нет — это выдумка банды Беррела, он готов доказать. Стоило ему сказать «банда Беррела», как все вздрогнули и придвинулись друг к дружке поближе. Он и говорит: в городе сейчас шестеро из банды Беррела, и все они — ваши хорошие знакомые, вы с ними каждый день видитесь, беседуете. (Тут все снова вздрогнули.) Имена он называть пока не стал — говорил, еще не время, но схватить он их может когда угодно. У них есть план: сжечь и разграбить город и выпустить на волю всех негров — это он готов доказать. (Все так дрожали, что дом трясся; даже молоко, наверное, и то скисло.) А Джим с ними заодно: у него, Флэкера, есть улики, и он готов доказать хоть сейчас. А еще он выследил банду и знает, где у них притон, — только нам пока не скажет. И наконец, он нашел запасы еды, их хватит для шестнадцати человек на целых шесть недель (ясное дело, наши с Томом!). И еще нашел их печатные принадлежности, утащил подальше и спрятал, и покажет их, как только будет готов. Он узнал секрет фигур, напечатанных на листовках красной краской, только это очень страшно и нельзя рассказывать при чувствительных, пугливых женщинах. (Тут все еще крепче прижались друг к дружке, ни живы ни мертвы от страха.) А печатал листовки не какой-нибудь обычный негодяй, а самый страшный злодей на всем белом свете, к тому же дьявольски умный. И по мелким признакам, которых бы никто больше не заметил (а если б даже и заметил, то все равно ничего бы не понял), видно, что это не кто иной, как сам Беррел. Во всей Америке только Беррел смог бы так напечатать. И этот самый Беррел сейчас в городе, переодетый, торгует в лавке, и это он трубил в рог. Старая мисс Уотсон, как услышала — сразу упала в обморок, и свалилась прямо на кошку, и отдавила ей хвост. Кошка взвыла, а мисс Уотсон еще долго приводили в чувство. Наконец Флэкер сказал, что у Джима два сообщника. Он видел их следы — оба карлики, один косоглазый, а другой — левша. Как он узнал — не важно, но он за ними следил, и не беда, что они сейчас ушли из города, — он все равно их застанет врасплох и поймает.
Ну и болван! Ведь это же были мы с Томом! Но все остальные слушали как зачарованные и говорили: вот чудо — сыщик каждую мелочь подмечает, все читает, словно книгу, и ничего от него не утаишь. И если бы не Флэкер, так бы до самой смерти и не узнали, кто всю эту заваруху начал, поэтому весь город перед ним в долгу. А Флэкер в ответ: пустяки, у него просто работа такая, а на самом деле это всякий может — нужны только тренировка и дар.
— Разумеется, главное — дар! — сказала тетя Полли, и все за ней повторили.
У тети Полли к сыщикам была слабость — ведь Том тоже хотел стать сыщиком, — и она очень гордилась тем, что Том сделал тогда у дяди Сайласа.[18]
ГЛАВА 9
На следующее утро мы еще затемно перебрались на тот берег, а на рассвете начали искать следы. Том в прошлый раз измерил их длину и ширину, а форму каблуков знал точно — там, в пристройке, он залил в отпечатки сало со свечи, получились тоненькие отливки. Он вырвал листок из конторской книги Крота и обвел их его же пером. По мне, следы как следы, ничего особенного, только у второго на левом ботинке у каблука отбит внутренний передний угол. Но нам, по-моему, от этого никакой пользы — ведь он ушиб левую ногу, когда упал с обрыва, и если он ее и сейчас волочит, то никакого каблука видно не будет. Том мне на это в ответ: если бы он волочил ногу, по следам было бы видно. Ну да, так оно и есть, я спорить не стал.
Мы начали искать на иллинойсском берегу, выше по течению в миле от парома. Там есть низинка, куда можно уложить хромого, но она всего одна, а вокруг нее до самого парома — обрывистый берег, десять футов высотой, как стена. Следов было много, и свежих и старых. Но те, что нам нужны, наверное, давно уже затоптали. Мы завернули поглубже в лес, дошли вдоль реки до самого парома, а там — тоже следы, но не те. А ниже парома на целые мили ни одного места, где они могли бы высадиться. Вот мы и пошли по дороге, ведущей от парома, и все прочесали по обеим ее сторонам, и прошли вдвое дальше, чем за это время мог уйти хромой, но все без толку.
Искали мы до самого вечера, а на другой день вернулись и снова искали, все вокруг обшарили, до самой темноты бродили — и никакой пользы. На третий день обыскали остров Джексона — ничьих следов не было, кроме Флэкера. Он утащил наши печатные принадлежности и часть еды. Мы перебрались на наш берег, хотели зайти в пещеру, а там — солдаты: их полковник Элдер туда послал из-за всей этой шумихи с заговором, и сунься туда кто чужой — ему бы не поздоровилось!
Делать нечего, поплыли мы домой. Том опять нос повесил — ведь Джиму теперь придется ехать на Юг с Королем и Герцогом, и немало хлебнет он горя, пока мы устроим ему побег и отправимся в Англию. И вдруг Том как подпрыгнет от радости, да и говорит:
— Ну и дураки мы с тобой, Гек!
— Я и сам знаю, что дураки. А что?
— Нам с тобой здорово повезло — вот что!
— Ну давай выкладывай, я слушаю.
— Значит, так: тех двоих мы не нашли и никогда не найдем. И если Джим останется здесь, не миновать ему виселицы — понимаешь? Поэтому хорошо, что его продадут на Юг, и здорово, что ты наткнулся на Короля с Герцогом! Лучше и быть не могло, потому что…
— Ерунда, — отвечаю. — Еще пару минут назад ты места себе не находил оттого, что Джима продают на Юг, а теперь говоришь, что нам повезло. С чего это вдруг?
— Потому что никто его на Юг не продаст.
Я от радости чуть не подпрыгнул и едва не отшиб себе пятки, но сдержался, чтобы потом не расстраиваться, и спрашиваю:
— И как ты собрался этому помешать?
— Просто. Дураки мы, что раньше до этого не додумались. Мы спустимся вместе с ними по реке на том же пароходе, а когда доберемся до Каира, окажемся в свободном штате. И тут мы скажем: на Юге вам за Джима дадут самое большее тысячу долларов, а здесь вы можете получить эту тысячу прямо сейчас!
Тут я не удержался, подпрыгнул, и отшиб себе пятки. И говорю:
— Вот здорово, Том! С меня половина денег.
— Нет, с тебя нисколько.
— Нет, половина.
— Нет, нисколько. Если бы не заговор, Джим не сидел бы в тюрьме и ничто бы ему не угрожало. Все из-за меня — значит, мне и платить.
— Так нечестно, — отвечаю. — Как я, по-твоему, заполучил половину разбойничьих денег и сделался таким богачом? Из-за того, что я такой умный? Нет, это все благодаря тебе! По-хорошему, все эти деньги твои, а ты их не стал брать.
Я до тех пор к нему приставал, пока он не согласился.
— А теперь слушай, — говорю. — Не такие уж мы дураки, что раньше не додумались. Здесь мы бы Джима купить не смогли — ведь он свободный, и покупать его не у кого. Никто нам его не продаст, кроме Короля с Герцогом, а у них можно его купить только на свободной земле, чтобы переправить вверх по реке Огайо в Канаду, а оттуда — в Англию. Выходит, мы уже обо всем хорошенько подумали, и не такие уж мы дураки.
— Ладно, не дураки, но разве нам не повезло, что мы поплыли вниз по реке, когда вроде и смысла в этом не было? А если бы не поплыли, так и не встретили бы Короля с Герцогом, и тогда Джима уж точно бы повесили. Будто какая-то сила вмешалась — правда, Гек?
Голос у него был очень торжественный: не иначе как снова почуял волю Провидения. Я ему так и сказал, а Том отвечает:
— Теперь-то ты научишься верить по-настоящему.
Я чуть было не сказал: «Вот было бы здорово — другой что-то делает, а хвалят за это меня», но прикусил язык. И правильно сделал. Том поразмыслил чуть-чуть и говорит:
— Придется нам, Гек, заговор отложить — у нас и так дел по горло, мы не сможем им заниматься как следует.
Я разозлился и чуть не сказал: «Мы его и так давно отложили, и уж точно ничего хорошего от него не видим, столько натерпелись, а он того не стоит», — но снова сдержался, как в прошлый раз. Думаю, правильно сделал.
После ужина мы пошли в тюрьму, принесли Джиму пирога и еще всякой всячины, рассказали ему, как мы собираемся купить его в Каире и переправить в Англию. Ей-богу, Джим не выдержал и расплакался, да еще и пирогом подавился, и пришлось его колотить по спине, чтоб он не задохнулся, — а то бы никакой разницы: что задохнулся, что повесили.
Джим пришел в себя, повеселел, тоску его как рукой сняло. Взял он свое банджо и стал петь — только не «Скоро буду далеко отсюда», как раньше, а «Джинни, напеки лепешек» и все самые веселые песни, какие только знал. И хохотал до упаду над Королем и Герцогом, а я смотрел на него, и у меня душа радовалась. А потом лихо сплясал негритянский танец и сказал, что с детства себя таким молодым не чувствовал.
Он захотел повидаться с женой и детьми, если их хозяева разрешат, и с шерифом тоже — а ведь раньше и слышать об этом не хотел. Мы обещали, что попробуем это устроить. Хорошо бы привести их завтра утром, чтобы Джим успел с ними попрощаться, пока не приплыли на пароходе Король и Герцог.
В ту ночь мы собрались в дорогу, а утром я пошел к судье Тэтчеру и взял восемьсот долларов. Судья очень удивился, но я ему так и не сказал, для чего мне деньги. Том взял еще восемьсот, и мы пошли договариваться насчет жены и детей Джима. Хозяева были очень к нам добры, но не смогли их отпустить прямо сейчас. Обещали, что отпустят в другой раз — может быть, на следующей неделе, ведь торопиться некуда? Мы, ясное дело, ответили, что некуда, — а куда было деваться?
Мы пошли в тюрьму, и Джим очень расстроился, но понял, что ничего тут не поделаешь. Неграм к таким вещам не привыкать.
Мы болтали как ни в чем не бывало, пока не услыхали шум парохода. Тут мы так разволновались, что даже говорить не могли. И каждый раз, когда на дверях лязгали цепи и засовы, у меня дух захватывало и я думал про себя: это они! Но никто не появлялся.
Король с Герцогом так и не пришли. И мы, и Джим, конечно, расстроились, но подумали: ничего страшного — они, наверное, напились, устроили драку, и их забрали в каталажку, а завтра они появятся. Ну, мы спрятали деньги и пошли на рыбалку.
На другой день решили, что суд будет через три недели.
И снова ни Короля, ни Герцога.
Мы решили: подождем еще денек и, если они не появятся, отправимся в Сент-Луис, пойдем в каталажку и узнаем, сколько им еще осталось сидеть.
Они не появились. Пришлось нам ехать в Сент-Луис. И ей-богу, оказалось, что в каталажке их нет и не было!
Дела были хуже некуда. Том даже стоять не мог — пришлось ему сесть.
Мы не знали, что теперь делать: где ж этим жуликам еще быть, кроме каталажки?
Тогда мы пошли в следственную тюрьму. Никакого толку — там их тоже не было.
Нам с Томом стало страшно. Но надо было не сидеть сложа руки, а что-то делать. Город большой, просто огромный — говорят, в нем народу шестьдесят тысяч, а может, это и вранье. Но мы все равно за четыре дня обшарили его вдоль и поперек, особенно самые лихие места. Но Короля с Герцогом так и не нашли — их как ветром сдуло.
Мы совсем приуныли — ничегошеньки у нас не получается! Наверняка с ними что-то случилось — неизвестно что, но, ясное дело, не пустяк какой-нибудь. И если так дальше пойдет, то и Джиму несдобровать. Я решил, что они умерли, но Тому ничего не сказал — ему бы от этого легче не стало.
Пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Мы почти всю дорогу молчали — говорить было не о чем, зато было о чем подумать. Самое главное — что мы скажем Джиму и как сделать, чтобы он не терял надежду.
В тюрьму мы ходили каждый день, и делали вид, что ничего не случилось, и притворялись веселыми. Старались мы как могли, но получалось у нас из рук вон плохо — никто бы на такое не поддался, кроме старика Джима, который нам верил. Держались мы две недели с лишним, и в жизни не было у нас дела трудней и печальней. И каждый раз мы повторяли, что все будет хорошо, но к концу у нас уже не получалось сказать это твердо и от души, и Джим почуял неладное, и сам принялся нас подбадривать и утешать. Мы едва могли это вынести: значит, он понял, что мы сами не верим по-настоящему, и от жалости к нам даже за себя перестал бояться, но был такой час, когда мы к тюрьме и близко не подходили, — когда прибывал пароход. Каждый раз мы его встречали и смотрели, кто сходит на берег. Вначале, бывало, подходит пароход к пристани, и кажется мне: вон эти два жулика, в толпе на полубаке. Толкаю Тома локтем и говорю: «Вон они!» — а потом оказывается, что обознался. И в конце мы уже ходили туда по привычке, пассажиров оглядывали безо всякого интереса, а как все сойдут на берег, разворачивались и шли прочь. Странное дело: месяц назад я все бы отдал, чтобы избавиться от Короля с Герцогом, а сейчас я бы им обрадовался, как родной маме!
Том побледнел, потерял аппетит, спал плохо, ходил мрачный и все больше молчал. Тетя Полли так беспокоилась за него, что чуть с ума не сошла. Она думала, это Сыны Свободы так напугали Тома своими листовками и рогом, что тот заболел. Каждый день она пичкала Тома всеми лекарствами, что под руку попадутся, а когда подглядывала за ним в замочную скважину, Том, вместо того чтобы скармливать лекарства кошке, ел их сам. От этого тетя Полли еще пуще перепугалась, а еще сказала: попадись мне этот Сын Свободы, что развесил листовки, ей-богу, кости ему переломаю!
Мы с Томом были свидетелями, а защищать Джима должен был молодой такой адвокат — он приехал в город совсем недавно и сидел без работы, а больше никто не взялся защищать свободного негра, хотя мы обещали хорошо заплатить. Им не хотелось подводить Тома, но ведь им тут на жизнь зарабатывать, а вольных негров у нас не любят. Том все понимал — он бы и сам не стал защищать свободного негра, кроме Джима.
ГЛАВА 10
Наутро тетя Полли не хотела пускать Тома в суд. Говорила, что мальчишкам там делать нечего, да нас и не пропустят — весь город туда собирается, и нам места не хватит. А Том и отвечает:
— Для нас с Геком место найдется. Мы будем свидетелями.
Тетя Полли ушам своим не поверила. Сдвинула очки на лоб и говорит:
— Свидетелями? Вам-то что об этом известно, хотела бы я знать?
Но мы не стали тратить время на разговоры и поскорее удрали. А тетя Полли пусть спокойно прихорашивается — она ведь тоже идет туда вместе со всеми.
В суде было не протолкнуться. И женщин было очень много — целых семь или восемь скамеек. И тетя Полли, и вдова Дуглас, и мисс Уотсон, и миссис Лоусон — все сидели рядом. И Тэтчеры, и еще очень многие позади них — все из высшего общества. И Джим был там, и шериф.
Вошел судья, сел с торжественным видом и открыл заседание. Мистер Лоусон произнес речь и сказал, что сейчас с помощью двух свидетелей докажет, что Джим виновен и что у него был мотив. Тому, ясное дело, было не очень-то приятно это слышать.
Молоденький адвокат в своей речи сказал, что с помощью двух свидетелей докажет алиби и что убийца не Джим, а неизвестный. Все заулыбались, а мне стало жаль беднягу: он так волновался, робел и знал, что у него по правде нет никаких доказательств, вот и не мог говорить так же твердо и уверенно, как мистер Лоусон. А еще знал, что над ним все смеются и не очень-то уважают — ведь он адвокат вольного негра, не бог весть какая птица.
Вышел Флэкер и стал рассказывать, как, по его мнению, было дело. Разложил все по полочкам, разобрал улики, а все слушали не дыша и только удивлялись, как это у него все выходит так просто и ясно и как он до всего дошел одним лишь своим умом — и ничем больше.
Вслед за ним капитан Хейнс и Бак Фишер рассказали, как поймали Джима на месте преступления и как бедняга Крот лежал мертвый, а Джим как раз поднимался на ноги после того, как проломил ему голову мушкетом, поскользнулся и упал.
И тут показали мушкет, на стволе была ржавчина и волосы — и все вздрогнули от ужаса. А когда показали окровавленную одежду, все опять задрожали.
Потом я рассказал все, что знал, и вернулся на свое место. Толку от этого не было — никто не поверил ни единому моему слову — почти у всех на лице это было написано.
Потом вызвали Тома Сойера. Вокруг меня зашушукались: «Конечно, без него и тут не обошлось. Да если б Том Сойер захворал и не смог распоряжаться, то и солнечных затмений бы не было!» А тетя Полли и другие женщины встрепенулись: интересно, чем Том может тут помочь и кому от этого будет польза.
— Томас Сойер, где вы были в ночь с субботы на воскресенье, когда было совершено убийство?
— Руководил заговором.
— Что? — переспросил судья, глядя на него сверху вниз.
— Руководил заговором, ваша честь.
— Такая откровенность может быть опасна. Расскажите нам вашу историю, но будьте осторожны, не раскрывайте ничего, что могло бы вам повредить.
Том и рассказал все без утайки: как мы устроили заговор и раскрутили его на совесть. Полковник Элдер и капитан Сэм сидели пристыженные и злые, потому что все вокруг смеялись. А когда открылось, что Сыны Свободы — это мы и есть, и страшные листовки отпечатали и развесили на дверях тоже мы, а вовсе никакой не Беррел, как сказал Флэкер, все опять засмеялись, и пришел черед Флэкера краснеть от стыда.
Том стал рассказывать дальше — начистоту, без вранья, до того места, как Джим протрубил в рог, слез с дерева, и мы все вместе пошли в город — полюбоваться на переполох. И видно было, что все нам верят: ведь ясно, что мы не сочиняем. Все шло к тому, что алиби удастся доказать, и люди кивали головами, и на Джима теперь глядели дружелюбнее. А мистер Лоусон уже не был таким спокойным, как прежде. Но судья наконец спросил:
— Вы сказали, что обвиняемый должен был предупредить вашу тетушку, а потом догнать вас. В котором часу это было?
А Том, ей-богу, не знал. Мы не обратили внимания, который был час. Делать нечего, пришлось Тому говорить наугад, а в этом, сами понимаете, хорошего мало. По тому, как на нас смотрели люди, видно было, что дело плохо. А мистер Лоусон опять сделался спокойным.
— Зачем вы пошли к дому Брэдиша?
Тут Том рассказал и про эту часть заговора: как он хотел выдать себя за беглого негра, чтобы я сбыл его Брэдишу, а у Брэдиша уже был один беглый негр — ну и все такое прочее. И как Том ночью хотел рассмотреть негра повнимательнее, а это оказался вовсе никакой не негр. И как в ботинке у него оказался ключ, и Том подумал, что он готовит побег, и решил остаться, собрать улики и выследить негра, когда тот сбежит. И выходило у Тома складно, совсем как в книжке, а судья и все остальные слушали, затаив дыхание.
Том рассказал, как мы пришли туда днем, а Крот лежит мертвый, и Том послал меня за гробовщиком, а потом нашел следы Джима, позвал меня и говорит: все в порядке, Джим был здесь и, конечно, пошел рассказать об убийстве.
Многие заулыбались, а мистер Лоусон, так тот не выдержал и расхохотался.
Но Том продолжал как ни в чем не бывало и рассказал, как мы пошли по следу в дом с привидениями, как он пробрался туда, и стал подслушивать, и услыхал разговор убийц, но их самих не видел.
— Не видели?
— Нет, сэр. — И объяснил почему.
— Может быть, вы их услышали в своем воображении? — сказал мистер Лоусон и рассмеялся. В зале тоже многие засмеялись, а один парень, который сидел недалеко от меня, сказал другу: «Лучше бы он пораньше остановился, пока не начал завираться». А тот в ответ: «Да, Том совсем запутался».
— Продолжайте, — говорит судья. — Расскажите, что вы слышали.
— Вот как все было. Один метался и рычал, а другой стонал. А потом первый, тот, что рычал, говорит вполголоса: «Замолчи ты, старый нюня, дай человеку поспать немножко». Тот, который стонал, отвечает: «Если бы у тебя нога так же болела, ты бы еще не так разнюнился, и вообще это ты во всем виноват; когда пришел Брэдиш и увидал, что мы собираемся бежать, надо было помочь мне, а не мешать; тогда бы я проломил ему башку прямо там, в пристройке, а не снаружи. Он бы и пикнуть не успел, и никто бы не подоспел на помощь, и не пришлось бы нам бежать напрямик, и нога моя была бы цела, и не лежали бы мы здесь, дрожа от страха, что нас вот-вот схватят. А ты на меня рычишь, нюней обзываешь — видать, нет у тебя ни сердца, ни христианских чувств, ни хорошего воспитания». Первый ему в ответ: «Это все из-за тебя — опоздал часа на три, а то и на четыре, да еще и явился, как всегда, пьяный». — «Вовсе не пьяный — я заблудился, такое со всяким может случиться». — «Ладно, — говорит первый, — будь по-твоему, только заткнись и сиди тихо. Можешь сочинять свое последнее слово — пригодится, когда пойдешь на виселицу. Вот и меня повесят — и поделом, нечего было связываться с таким болваном». Другой начал было снова жаловаться на ногу, а первый и говорит: если сейчас же не заткнешься, я тебе ее оторву и повяжу вокруг головы. Потом они угомонились, и я ушел.
Когда Том закончил, стояла мертвая тишина — так всегда бывает, когда слушают и не верят, и стыдно за того, кто говорил. Жалостливая такая тишина. Наконец судья откашлялся и спрашивает сурово:
— Если это правда, то почему вы не пошли сразу к шерифу и не рассказали ему? Чем это объяснить?
Том уставился в пол и теребил верхнюю пуговицу. Я-то знал, что это для него уже слишком. Разве мог он сказать, что не пошел к шерифу потому, что хотел сам расследовать убийство, как настоящий сыщик, и прославиться? А чтобы славы было еще больше, устроил так, что подозрение пало на Джима, да еще и придумал для него мотив и стал рассказывать о нем при мистере Лоусоне — и получилось, что он по собственной глупости упустил убийц, и теперь из-за него Джима повесят вместо них? Да не мог Том сказать такое. Все уставились на него, а он стоял и теребил пуговицу. Судья подождал немного и еще раз спросил, почему Том не пошел к шерифу. У Тома слезы на глазах, он сглотнул раз, другой и говорит еле слышно:
— Не знаю, сэр.
Ненадолго опять стало тихо, потом судья и адвокат говорили речи, и мистер Лоусон очень зло насмехался над Томом и его «сказкой», так он назвал нашу историю. А через две минуты присяжные признали Джима виновным в умышленном убийстве. Старик Джим поднялся, и судья начал речь о том, почему Джиму придется умереть, а Том сидел, опустив голову, и плакал.
Вдруг смотрим — ну и чудеса: Король и Герцог протискиваются сквозь толпу, становятся перед судьей, и Король говорит:
— Извините, ваша честь, одну минуточку…
Том поднял глаза, а тут Герцог вступил:
— Мы хотели бы уладить один небольшой вопрос…
А Том вскочил да как закричит:
— Я узнаю голоса — это убийцы!
Видели бы вы, что за переполох тут начался! Все повскакивали с мест и встали на цыпочки, чтобы лучше было видно. Шериф рявкнул: по местам! А Король с Герцогом стоят ошарашенные и страшно бледные — уж можете мне поверить. Судья и спрашивает:
— На каком основании вы их обвиняете?
— Потому что знаю, ваша честь.
— Откуда вы знаете — вы же сами сказали, что не видели их?
— Не важно, у меня есть доказательства.
— Какие?
Том достал лист из конторской книги Крота, показал рисунок и говорит:
— Если один из них не переобулся — вот отпечаток его левой подошвы.
Посмотрели — так оно и есть. А Королю стало совсем худо.
— Отлично, — говорит судья, — продолжайте.
Том достал из кармана вставные челюсти и говорит:
— Если они подойдут второму, значит, он и есть тот самый белый негр, которого мы видели в пристройке.
Гилберт Кит Честертон
ОМУТ ЕЗУСА
Эти двое мужчин повстречались на ступенях величественного здания, расположенного в Парке Приор. Один из них был архитектором, другой — археологом, и лорд Балмер, пригласивший их, легкомысленно счел правильным и естественным поступком представить их друг другу. Расплывчатость и туманность мышления, стоит отметить, была свойственна лорду в той же мере, что и легкомыслие, четких логических связей он проводить не умел, а посему основной причиной знакомства послужило то, что в словах «архитектор» и «археолог» совпали три начальные буквы. Миру оставалось лишь замереть в благоговении перед таким способом мыслей. Жаль, история умалчивает, не познакомил бы он, исходя из тех же соображений, дипломата с дипломантом, картежника с картографом, а доктора с докером.
Лорд Балмер был полным, светловолосым молодым человеком с крепкой шеей. Когда он говорил, то беспрестанно жестикулировал: то бессознательно поигрывал перчатками, то вертел в пальцах трость.
— Уж вы-то двое найдете, о чем поговорить, — жизнерадостно заявил он. — Старинные здания и все такое. Кстати, не мне судить, конечно, но то, на ступеньках которого мы стоим, достаточно древнее. А я, уж простите, вынужден отлучиться на минутку: нужно позаботиться о приглашениях на рождественский шурум-бурум моей сестрицы. Разумеется, вы тоже приглашены. Джулиет жаждет бала-маскарада: аббаты, крестоносцы, все такое прочее — одним словом, тряхнем стариной и вспомним о предках.
— Полагаю, аббат в предках — это слишком,[19] — улыбнулся археолог.
— Ну, какого-нибудь двоюродного прадедушку я вполне могу себе представить, — со смехом возразил архитектор. Затем он рассеянно оглядел ландшафт перед домом. Все выглядело вполне упорядоченным: искусственное озеро, в центре которого располагалась статуя нимфы в античном стиле, окружало множество деревьев. Сейчас их черные, застывшие ветви покрывал иней — зима выдалась суровой.
— Похоже, морозы грядут нешуточные, — подхватил его светлость. — Сестрица надеется не только потанцевать, но и вволю покататься на коньках.
— Если крестоносцы явятся в полной броне, то как бы вам не утопить своих славных предков, — заметил собеседник.
Лорд Балмер отмахнулся:
— Ха! Вот уж об этом не беспокойтесь. Глубина нашего милого озерца нигде не превышает пары футов.
Балмер картинно воздел руку и воткнул в воду свою трость, демонстрируя, насколько же озеро мелководно. В прозрачной воде можно было увидеть ее короткий конец, и на миг всем присутствующим показалось, будто грузная фигура его светлости опирается на преломленный посох. Но, разумеется, это было всего лишь естественное преломление света в воде.
— Так что худшее, чего можно ожидать, это севший на… кгм… севший в лужу аббат, — заключил лорд Балмер и развернулся. — Что ж, оревуар. Если что-то подобное случится — я обязательно сообщу.
Археолог и архитектор остались стоять на величественных каменных ступенях, улыбаясь друг другу. Тут необходимо заметить, что, несмотря на якобы общие интересы, внешне эти двое являли между собою разительный контраст, а наблюдатель с развитым и живым воображением мог бы приметить также некоторые противоречивые черты и в облике каждого из них.
Первый джентльмен звался мистером Джеймсом Хэддоу. Он прибыл сюда из Высшей судебной гильдии, а точнее — одной из тамошних вечно сонных каморок, набитых пергаментами и кожаными портфелями. Его жизненным призванием являлась юриспруденция, история же была всего лишь хобби; среди всего прочего он являлся адвокатом и поверенным в делах поместья Парк Приора. Сам он совершенно не выглядел лентяем — напротив, казался в высшей степени бодрым и энергичным. Во взгляде его голубых, чуть навыкате, глаз читалась проницательность, а рыжие волосы были аккуратно причесаны. Такой же безупречной аккуратностью отличался и его костюм.
Второй гость, которого звали Леонард Крейн, явился прямиком из безвкусно-кричащей, плебейской конторы строительных подрядчиков и агентов по сдаче недвижимости. Она располагалась в соседнем пригороде, в конце ряда построенных тяп-ляп домов, и привлекала всеобщее внимание, поскольку на ее стене висели ярко раскрашенные планы и чертежи строений, а также объявления, написанные огромными буквами. Однако серьезный наблюдатель, приглядевшись повнимательнее, мог бы заметить в глазах мистера Крейна отголоски того внутреннего сияния, которое некоторые зовут мечтательностью. Его светлые, не слишком длинные волосы, возможно, следовало бы назвать встрепанными. Да, как ни печально, но архитектор увлекался еще и живописью. Впрочем, не стоило объяснять все его поведение лишь тем, что он был человеком искусства. Что-то еще таилось в нем, что-то трудноуловимое, что при известной подозрительности могло бы быть сочтено опасным. Мечтательность не мешала ему время от времени огорошить друзей, написав картину или даже занявшись новым видом спорта. Это полностью шло вразрез с его обычной жизнью, словно пробуждались отголоски каких-то его предыдущих воплощений.
Сейчас, впрочем, он поторопился заверить мистера Хэддоу, что совершенно не разбирается в археологии. Улыбнувшись, он сказал:
— Не хочу вводить вас в заблуждение: я вряд ли даже приблизительно представляю себе, чем занимаются археологи. Разве что, опираясь на полузабытый мной греческий язык, могу предположить, что археолог — это такой человек, который изучает все древнее.
— Да уж, — мрачно ответил Хэддоу, — археолог — это такой человек, который изучает все древнее, чтобы понять: перед тобой новодел.
Мгновение Крейн оторопело смотрел на собеседника, а затем вновь улыбнулся:
— Могу ли я предположить, что недавно мы как раз вели беседу об этих самых старинных вещах, которые на поверку оказались не совсем старинными?
Его собеседник тоже некоторое время помолчал, а затем на его суровом лице появилась слабая улыбка, и он неторопливо ответил:
— Что ж, стена, опоясывающая поместье, и впрямь древняя. Одни ворота в ней изготовлены в период расцвета готики, причем я не вижу никаких следов разрушения или реконструкции. А вот жилой дом и поместье в целом… в здании угадываются идеи эпохи романтизма, но я практически уверен, что построено оно не в те времена. Использовано слишком много модных сейчас архитектурных приемов. Да и если поговорить о названии… Парк Приор тотчас же вызывает в памяти средневековое аббатство, залитое лунным светом. Полагаю, спиритуалисты всех мастей и посейчас видят здесь призрак какого-нибудь монаха. Но если верить единственному найденному мною на сегодняшний день научному труду о здешних местах, поместье назвали Парк Приор по той же причине, по которой любой сельский дом называют домом Поджера или Бейкера. Просто-напросто когда-то здесь стоял одинокий дом мистера Приора, его ферма, служившая ориентиром для местных жителей. И подобных случаев тьмы и тьмы, что здесь, что где-либо еще. Скажем, на месте этого пригорода в незапамятные времена стояла деревушка. Вы знаете, как мы, британцы, любим выбрасывать буквы, произнося названия, так что в народной памяти название это сохранилось, как Омтезус. Многие из второсортных поэтишек по этому поводу предавались фантазиям об Омуте Езуса, кельтского бога-быка, с жертвоприношениями, волхвованием и прочими глупостями, вовсю нагоняя кельтскую муть по окраинным гостиницам. Однако любой, взявший на себя труд ознакомиться с фактами, узнает, что «Вдомлезус» — это просто сокращение от «в дом лезут». Скорее всего, название пошло от какого-нибудь банального местного происшествия. Именно это я и имел в виду, говоря, что археологи ищут по-настоящему старинные вещи, но находят по большей части современные поделки.
Тут кое-что отвлекло внимание Крейна от сравнительного анализа древностей и новшеств, и эта причина вскоре стала очевидной и подошла поближе. Джулиет Брай, сестра лорда Балмера, неспешно пересекала лужайку в сопровождении некоего джентльмена. Еще двое шли позади них. Возможно, точка зрения молодого архитектора кому-то показалась бы нелогичной, но сейчас он явно предпочитал, чтобы Джулиет сопровождали трое мужчин, а не один.
Итак, рядом с Джулиет шел знаменитый итальянский князь Бородино.[20] Он был настолько известен, насколько может быть известен видный дипломат, чьей основной специализацией являлись секретные операции. Сейчас он совершал турне по загородным поместьям Англии, а вот какие именно дела привели его в Парк Приор — это было окружено такой тайной, о которой мог бы мечтать любой дипломат. Князь мог бы прослыть первостатейным красавцем, не будь он лыс как колено, и это первое, что бросалось в глаза в его внешности. Однако лысый — это мягко сказано: звучит фантастически, но мир был бы потрясен, если б кто-либо обнаружил на князе хоть малейшие следы растительности. Пожалуй, подобное открытие можно было бы сравнить с появлением роскошной шевелюры на бюсте какого-нибудь римского императора. Костюм облегал высокую фигуру князя и был застегнут на все пуговицы, что еще больше подчеркивало силу и мощь этого человека. В петлицу князь вставил красный цветок.
У одного из двоих идущих сзади джентльменов также имелась лысина, но не настолько впечатляющая. Он явно начал лысеть преждевременно, поскольку его вислые светло-русые усы еще не тронула седина, а если взгляд временами и тяжелел, то это объяснялось не годами, а утомленностью. Его звали Хорн Фишер, и он обладал счастливой способностью легко и непринужденно болтать обо всем на свете — чем сейчас и занимался.
Его спутник привлекал куда больше внимания, и его внешний вид даже мог показаться зловещим. Он был старинным и наиболее близким другом лорда Балмера, и это придавало ему особый вес в глазах окружающих. С аскетической простотой он называл себя всего лишь мистером Брэйном, но за этим именем скрывался человек, много лет проведший в Индии и приобретший там недюжинный опыт полицейской и судебной деятельности. Враги, имевшиеся у него в достаточном количестве, рассказывали о предпринятых им мерах борьбы с преступностью так, словно он сам совершал нечто ужасное. Сейчас он представлял из себя загорелого, неимоверно тощего мужчину с темными, глубоко запавшими глазами и черными усами, прятавшими движения его рта. И хотя мистер Брэйн напоминал больного неведомой тропической лихорадкой, двигался он куда энергичней, чем его усталый спутник.
— Что ж, все решено! — с невероятным воодушевлением провозгласила леди, стоило ей приблизиться на расстояние, позволяющее поприветствовать друг друга. — Всем вам предстоит надеть маскарадные костюмы, и очень может статься, что и коньки. И я не желаю даже слышать, князь, будто одно не вяжется с другим. Наконец-то ударили морозы! Когда еще нам в Англии выпадет такой шанс?
— В Индии тоже не слишком-то снежно, — вставил реплику мистер Брэйн.
— Да и Италия не такая уж ледяная страна, — поддакнул князь.
— О, Италия-то как раз ледяная страна, — заметил Хорн Фишер. — Ведь у тамошних мороженщиков полно сладкого льда. По мнению многих британцев, Италия вообще заселена исключительно мороженщиками и шарманщиками. Здесь их, кстати, тоже полным-полно. Как думаете, может, это замаскированная армия завоевателей?
— Как знать, как знать, — ответил князь, и в его улыбке проскочило едва заметное высокомерие, — а вдруг это тайные агенты нашей дипломатии? Армия шарманщиков может распространить уйму слухов, а уж на что способны их мартышки, мне вообще запрещено рассказывать.
— Все шарманщики полны шарма, — легкомысленно скаламбурил мистер Фишер. — Но если уж говорить о морозах, то недавно в Италии как раз было холодно. Да и в Индии можно найти такие лютые холода, по сравнению с которыми лед на этом милом кругленьком пруду покажется уютным местом. Я имею в виду вершины Гималаев.
Джулиет Брай, которая собрала вокруг себя всех этих джентльменов, была крайне привлекательной леди, темноволосой, чернобровой, со смеющимися глазами. В ее высокомерных замашках, несмотря ни на что, проскальзывала сердечность и даже некоторое подлинное величие. В большинстве случаев ей удавалось помыкать и братом, хотя этот великий мира сего, как многие другие мужчины с неясными мечтами и смутными фантазиями, мог нешуточно вспылить, если его загоняли в угол. Естественно, гостей она тоже считала в некотором роде своими подданными и полагала себя вправе обязать их всех, даже самых несговорчивых и стоящих очень высоко на социальной лестнице, участвовать в устроенном ею тематическом средневековом маскараде. Могло показаться, что она повелевает даже стихиями, подобно великой колдунье, ведь воздух неуклонно становился холоднее, а мороз крепчал. Этой ночью лед на озерце блистал в лунном свете, а по крепости, похоже, был сравним с мраморным полом. На следующий день кататься и даже танцевать на нем можно было еще до наступления темноты.
Парк Приор, а точнее, весь округ Омтезус, когда-то являлся обычной сельской местностью, а впоследствии стал пригородом. Когда-то лишь одни двери в стенах поместья выходили на человеческое поселение; теперь же, какую калитку вы бы ни распахнули, все дороги вели в широко раскинувшийся Лондон. И мистер Хэддоу, проводивший исторические изыскания в библиотеке и окрестностях поместья, вряд ли мог рассчитывать на особенные успехи. Да, из бумаг ему удалось понять, что Парк Приор изначально был чем-то вроде фермы Приора, человека достаточно значимого в местном сообществе, но общество изменилось, и нынешняя ситуация крайне мешала мистеру Хэддоу докопаться до истоков. Останься в окрестностях хоть один исконно местный житель, и историю мистера Приора удалось бы восстановить, сколь бы древней она ни являлась. Но нынешние кочевые племена ремесленников и офисных работников постоянно меняли один пригород на другой, переводили детей из одной школы в другую и не запоминали дела давно минувших дней. Чем образованней они были, тем полней и качественней забывали историю собственных предков.
Однако же, когда мистер Хэддоу на следующее утро вышел из библиотеки и увидал застывшие деревья, черным лесом обступившие обледеневший пруд, ему на миг показалось, будто он находится в далекой сельской глухомани. Старинная стена, огибающая парк, надежно берегла оставшийся клочок первозданной дикости и романтики. Так легко было вообразить этот темный лес невозбранно простирающимся по горам и долам куда-то в бесконечность! Черные и серые, посеребренные инеем, зимние деревья казались еще более мрачными и суровыми из-за пестрых карнавальных облачений гостей Парка Приор. Люди расположились небольшими группами по берегам искусственного озерца, а некоторые уже бродили по его поверхности. Дабы поддержать дух маскарада, все уже облачились в разноцветные наряды, и рыжеволосый юрист в черном костюме был единственным напоминанием о современной эпохе.
— А почему вы еще не переоделись? — возмущенно спросила Джулиет. Ее прелестное личико обрамлял рогатый эннен — башнеподобный головной убор, какой носили в четырнадцатом веке. Выглядело это потрясающе. — Мы все уже с головой окунулись в средневековье. Даже мистер Брэйн нацепил какую-то коричневую хламиду и заявил, что он монах. А мистер Фишер нашел в кухне пару старых мешков из-под картошки и сшил их — стало быть, он тоже монах. Что же до князя, то он просто великолепен в пурпурной мантии! Он изображает кардинала и выглядит так, будто запросто способен отравить всех и каждого. И вы тоже просто обязаны кем-нибудь стать!
— Я обязательно кем-нибудь стану, — отвечал мистер Хэддоу, — просто чуть позже. А сейчас я ни кто иной, как поверенный вашего семейства, — ну и еще любитель старины. И в этом качестве мне необходимо срочно обсудить с вашим братом пару юридических вопросов и мелкое расследование, которое он мне поручил. Отчитываясь об юридических делах, я и должен выглядеть, как юрист.
— Но братец уже стал совсем другим человеком! — воскликнула девушка. — И преображение вышло удачным. Если так можно выразиться, он прошел этот путь до конца. Кстати, а вот и он! Сейчас обрушит на вас все свое великолепие.
Сиятельный лорд и впрямь величественной поступью шествовал к ним. Он был облачен в великолепный пурпурно-золотой костюм шестнадцатого века, шляпу украшал плюмаж, на поясе висел меч с позолоченной рукоятью. В самом деле, сейчас в движениях лорда Балмера проскальзывало нечто большее, нежели обычная для него экспансивность и выразительность жестов, словно бы плюмаж с его шляпы превратился в боевое знамя, вьющееся над головой. Полы отороченного золотым шитьем плаща плескались на ветру, словно крылья короля эльфов из театральной постановки. Его светлость даже изволил небрежным жестом обнажить меч и сейчас помахивал им, как ранее тростью. В свете последующих событий многие утверждали, будто в этой пышности уже тогда виделось нечто темное и зловещее; то, что духовидцы назвали бы обреченностью. Но увы — тогда многие всего лишь задались вопросом: может, лорд изволил выпить лишку?
Так как лорд Балмер шел к сестре, то первым человеком, которого он миновал на своем пути, был Леонард Крейн, облаченный в костюм из ярко-зеленого линкольнширского сукна, с рогом, висящим на перевязи, и мечом, подходящим Робину Гуду. Леонард сопровождал леди и делал это, честно говоря, большую часть времени — слишком долго, если судить с точки зрения обычной вежливости. Совсем недавно он продемонстрировал один из своих скрытых талантов — умение мастерски кататься на коньках, но даже теперь, когда катание завершилось, не торопился отдаляться от партнерши. Неистовый Балмер играючи взмахнул своим разукрашенным мечом, сделав довольно удачный выпад и пробормотав нечто близкое к цитате из Шекспира о крысе и венецианских дукатах.[21]
Возможно, Крейн в тот миг тоже испытывал подавленное волнение. Так или иначе, он одним движением выхватил свой меч и парировал удар, а затем, к изумлению присутствующих, выбил оружие из рук лорда Балмера. Меч с золотой рукоятью взвился в воздух и со звоном упал на лед.
— Почему я не знала? — вскричала леди Джулиет с вполне простительным в подобном случае негодованием. — Почему вы не рассказывали мне, что в состоянии себя защитить?
Лорд Балмер поднял меч. Выглядел он сейчас скорее озадаченно, нежели рассерженно, и это подтверждало идею о том, что разум его светлости витает сейчас где-то очень далеко. Затем он внезапно развернулся к своему поверенному и сообщил:
— С делами разберемся после ужина. Я, знаете ли, почти совсем не покатался на коньках и сомневаюсь, что лед продержится до завтрашнего вечера. Думаю, мне следует встать пораньше и проехать в одиночестве пару кругов.
— Кто как, а я точно не нарушу вашего одиночества, — сообщил Хорн Фишер в своей обычной утомленной манере. — Даже если бы мне взбрело в голову начать день по-американски, то есть вскочить ни свет ни заря и кинуться заниматься спортом, я не стал бы заходить так далеко. Нет-нет, вставать засветло в декабре — это не про меня. Кто рано встает — к тому грипп пристает.
— О, ну мне-то смерть от гриппа не грозит, — со смехом отвечал лорд Балмер.
* * *
Большинство гостей, катавшихся на пруду, остались в Парке Приор на ночь, а остальные группами по двое-трое потянулись к выходу еще до того, как пришла пора готовиться ко сну. Соседи, которых всегда приглашали в поместье на подобные вечеринки, добирались домой пешком либо на машинах. Господин поверенный, по совместительству — любитель археологии, на последнем поезде вернулся в свою контору — клиент затребовал некую бумагу, и без нее дальнейший разговор оказался невозможным. А те, кто заночевал в поместье, неспешно собирались разойтись по спальням. Хорн Фишер первым ушел в свою комнату, лишая себя какой бы то ни было возможности оправдать собственное нежелание встать и покататься на коньках спозаранку. Однако хоть он и выглядел сонным, но уснуть никак не мог. Он взял со стола книгу о старинной топографии — именно из нее Хэддоу почерпнул первые намеки о происхождении названия здешних мест.
Фишер обладал странной, хоть и не бросающейся в глаза, способностью проявлять интерес ко всему на свете. Посему он тщательно перечитал книгу, не упуская ни единой подробности, делая пометки тут и там, выделяя детали, заставившие его сомневаться при предыдущем прочтении. Нынешние его выводы несколько отличались от сделанных ранее…
Комната Фишера выходила окнами на искусственное озеро, притихшее сейчас в окружении безмолвного леса. Поэтому она оказалась самой тихой: никакие отзвуки вечерних развлечений не долетали сюда. Фишер досконально изучил аргументы в пользу того, что поместье названо в честь фермера Приора, а деревня именуется так из-за вторжения неизвестных в чей-то дом, вычленил все новомодные измышления о монахах и божественных омутах и внезапно осознал, что прислушивается к звукам, раздающимся в стылой ночной мгле. Они не были слишком громкими и больше всего походили на тяжелые удары, словно кто-то отчаянно пытался выбраться и бился о деревянную дверь. Затем послышался скрип или треск, словно бы преграда поддалась и открыла путь к свободе.
Фишер распахнул дверь, ведущую из его собственной спальни, и застыл, прислушиваясь. Но все, что он смог уловить, — это разговоры и смех на нижних этажах. Не было оснований предполагать, что охрана окажется небрежной и оставит дом без защиты. Он снова подошел к открытому окну, поглядел на замерзший пруд, на статую нимфы, освещенную холодной луной, на чернеющие деревья вокруг озерца… Опять прислушался. Но безмолвие вновь воцарилось в этом тихом месте, и как Фишер ни напрягал слух, он не сумел различить ничего, кроме одинокого гудка проходящего вдали поезда.
Тогда Фишер напомнил себе, сколько странных звуков можно услыхать в любой, самой обычной ночи, пожал плечами и устало растянулся на кровати.
Проснулся он внезапно, рывком, как от удара грома. В ушах еще эхом отдавался душераздирающий вопль.
На какое-то мгновение Фишер застыл, а затем спрыгнул с кровати, путаясь в просторном одеянии из мешков, которое носил весь день. Сперва он бросился к окну, распахнутому, но занавешенному плотной шторой, не пускавшей в комнату свет. Отдернув штору, Фишер высунулся из окна, но все, что он увидел, — это серый, туманный рассвет, встающий из-за черных деревьев, которые обступили маленький пруд. И хотя звук несомненно прилетел со стороны открытого окна, окружающий пейзаж казался неизменным что под сиянием луны, что под слабыми солнечными лучами.
Фишер безвольно опустил длинную руку на подоконник, но внезапно сжал пальцы в кулак, словно пытаясь унять дрожь. Голубые глаза его расширились от ужаса.
Учитывая, как много усилий он приложил прошлой ночью, услыхав странные звуки, как старательно успокаивал нервы доводами здравого смысла, такие эмоции могли бы показаться чрезмерными и даже излишними. Но звук звуку рознь. Полсотни различных событий могли сопровождаться звуками, услышанными ночью, — от колки дров до битья бутылок. А звук, эхом отразившийся от темного здания на рассвете, имел одно-единственное происхождение: то был ужасный человеческий вопль. И, что ужаснее всего, Фишер узнал кричавшего.
Также было ясно, что кричавший звал на помощь. Фишеру показалось, будто он даже расслышал коротенькое слово, но оно оборвалось, как будто у человека закончился воздух либо он сорвал горло. В памяти остались лишь издевательские отголоски.
Но вот в том, кто именно кричал, никаких сомнений не было. Фишер не сомневался, что зычный, раскатистый голос Френсиса Брая, барона Балмера, прозвучал в предрассветных сумерках в последний раз.
Вряд ли Фишер мог впоследствии сказать, сколько времени он простоял у окна. В себя его привело некое движение, всколыхнувшее доселе неизменный пейзаж. По дорожке, огибающей озеро и проходящей как раз под окнами Фишера, медленно и неслышно ступал человек. Он двигался спокойно и хладнокровно и выглядел поистине величественно в ярко-алой мантии. Это был итальянский князь, все еще в карнавальном обличье кардинала. Многие из гостей уже день или два не снимали маскарадных костюмов, да и сам Фишер находил свою рясу, сшитую из старых мешков из-под картофеля, вполне подходящей для повседневной носки. Но человек, надевший в столь раннее утро такой цветистый красный наряд, смотрелся, тем не менее, необычно, если не сказать нелепо.
Разве что этот человек и вовсе не ложился спать. Фишер перегнулся через подоконник и крикнул:
— Что стряслось?
Итальянец обратил к нему лицо, бледное настолько, что оно казалось желтоватой гипсовой маской.
— Полагаю, нам лучше обсудить это внизу, — сказал князь Бородино.
Фишер бросился к лестнице, сбежал по ступенькам и практически столкнулся с облаченным в красное князем, заходящим в дверь и перекрывшим собственным телом путь на улицу.
— Вы слышали крик? — требовательно спросил Фишер.
— Я услышал шум, — ответил дипломат, — услышал шум и вышел из дома.
На лицо князя падала тень, так что невозможно было прочесть его истинные чувства.
— Кричал лорд Балмер, — в голосе Фишера звучала настойчивость. — Клянусь, я его узнал!
— Вы хорошо знакомы с лордом? — полюбопытствовал князь.
Вопрос, на первый взгляд, совершенно неуместный, был, однако, не лишен логики. Фишер вынужден был ответить совершенно наобум:
— Я знал его крайне поверхностно.
— Похоже, все знали его лишь поверхностно, — ровным тоном подхватил беседу князь. — Абсолютно все. Кроме, разве что, этого типа по фамилии Брэйн. Он, конечно, намного старше Балмера, но, полагаю, совместных тайн у них хватало.
Фишер внезапно вздрогнул, словно выходя из минутного транса, и, когда он заговорил снова, голос его окреп и налился силой:
— Послушайте, давайте все-таки сходим и оглядимся. Вдруг что-то случилось?
— Кажется, лед начал таять, — почти безразличным тоном ответил князь.
Они вышли из дома. Черные трещины и разводы на грязно-сером льду и впрямь доказывали, что мороз значительно ослабел. Именно это предсказывал день назад лорд Балмер.
Воспоминание о том, прошедшем дне заставило вновь задуматься над загадкой дня сегодняшнего.
— Итак, Балмер знал, что грядет оттепель, — отметил князь. — Поэтому он и намеревался покататься на коньках в такую рань. Как вы считаете, мог он завопить, провалившись под лед?
Фишер выглядел озадаченным.
— Изо всех людей, которых я знаю, Балмер — последний, кто станет голосить, промочив носки. А больше ему здесь ничего не грозило: при его росте вода здесь вряд ли доходила ему до лодыжек. Здесь так мелко, что водоросли на дне озера видны ясно, словно сквозь тонкое стекло. Нет-нет, если бы Балмер проломил лед, мы бы не услышали вопля. Потом — другое дело: он бы топал ногами, сыпал проклятиями и требовал у слуг сухие ботинки, добираясь до дома по этой самой тропке.
— Надеюсь, мы еще увидим его светлость в добром здравии, — задумчиво сказал дипломат. — Что ж, значит, крик донесся из леса.
— В любом случае, кричали не в доме, уж в этом-то я готов поклясться, — пробормотал Фишер, и двое мужчин скрылись в сумерках зимнего леса.
Небо на востоке налилось ярко-красным, и на фоне восхода ветви казались еще темнее, чем раньше, а опушка леса напоминала диковинное оперение черной птицы, в противовес суровой простоте каждого отдельно взятого, оголенного зимними холодами дерева. Много часов спустя, на закате, это видение повторилось, хотя смотрелось мягче, деликатней. Сумерки прочертили на земле длинные темно-зеленые линии, а поиски, начавшиеся с восходом, так и не завершились. Мало-помалу даже до тугодумов дошло, что происходит нечто сверхъестественное: гости нигде не сумели отыскать ни малейших следов хозяина.
Слуги утверждали, что постель лорда Балмера смята, а его чудесный костюм исчез вместе с коньками. Так что вполне могло оказаться, что его светлость поднялся рано утром, следуя намеченному и объявленному заранее плану. Но лорда Балмера не нашли нигде, ни живого, ни мертвого, хотя обыскали весь дом — от чердака до подвала, и весь парк — от стены, отделявшей поместье от основного мира, до пруда в центре.
Хорн Фишер внезапно понял, что лишь стойкое предчувствие мешает ему признать хозяина дома живым, и приподнял бесцветную бровь, когда его умом завладела другая, совсем естественная в данных обстоятельствах загадка, а именно: почему же все поиски не дают никаких результатов?
Возможно ли, что лорд Балмер внезапно уехал в своей неповторимой манере? Скажем, случилась какая-то надобность…
Взвесив все «за» и «против», Хорн Фишер отмел это предположение. Во-первых, он действительно узнал голос, прозвучавший в предрассветных сумерках. Ошибки быть не могло. А во-вторых, имелись и иные обстоятельства. Изо всех ворот, расположенных в величественной старинной стене, окружавшей парк, открывались лишь одни, и привратник не отпирал их почти что до полудня. Не видел он и чтобы кто-либо выходил. Фишер был практически убежден, что задача, стоящая перед ним, математического свойства, и касается она замкнутого пространства. Все инстинкты Фишера настолько уверенно твердили о свершившейся трагедии, что он испытал бы истинное облегчение, найдя мертвое тело. Он горевал бы, но не страшился, найди кто-нибудь тело благородного лорда повешенным на одном из деревьев Парка Приор, словно на виселице, или плавающим в пруду, побелевшим и похожим на какую-нибудь необычную водоросль.
Фишера куда сильней боялся не найти вообще ничего.
Вскоре он понял, что за ним следят даже во время его самых диковинных и далеких вылазок. Он часто замечал человека, тенью следующего за ним, когда он исследовал самые потаенные лесные поляны либо внимательно разглядывал дальние участки старинной стены. Рот человека, скрытый темными усами, хранил молчание, а глубоко посаженные глаза непрерывно стреляли по сторонам. Похоже, Брэйн из полиции Индии начал выслеживать добычу, подобно тому, как опытный охотник идет по следу тигра. Учитывая, что он являлся единственным другом пропавшего лорда, это следовало счесть вполне естественным поведением, и Фишер решился на некоторую откровенность.
— Когда я нахожусь в чьем-либо обществе, молчание нервирует меня, — сказал он. — Возможно, стоит растопить лед, поговорив, к примеру, о погоде? Которая, к слову, заставляет таять лед. Хотя эта метафора в нашем случае звучит мрачно, как я понимаю.
— Я так не думаю, — коротко отвечал Брэйн. — Я вообще не понимаю, при чем здесь лед. Что нам до льда?
— И как вы собираетесь поступить? — поинтересовался Фишер.
— Ну, я, разумеется, известил власти, но надеюсь что-нибудь отыскать до того, как здесь появится полиция, — ответил полуангличанин-полуиндус. — Не могу сказать, что местные полицейские работают эффективно. Масса бумажной волокиты, запрет на арест без постановления суда и тому подобные глупости. В первую очередь нам следует убедиться, что никто не удрал. Для этого соберем всех как можно скорее и, так сказать, пересчитаем их по головам. За последнее время никто не уезжал, кроме того юриста, помешанного на старине.
— Юрист ни при чем: он покинул поместье вчера поздно вечером, — сообщил Фишер. — И через восемь часов после того, как шофер Балмера посадил юриста на поезд, я слышал голос его светлости так же ясно, как сейчас слышу ваш.
— Полагаю, в призраков вы не верите? — осведомился мужчина, долгое время проживший в Индии. После паузы Брэйн добавил: — Есть и еще кое-кто, о ком я хотел бы знать, прежде чем мы отправимся за парнем, организовавшим себе алиби прямиком в храме правосудия. Я говорю о том типе в зеленом — архитекторе, вырядившемся, будто лесной разбойник. Что-то я давно его не видел.
Свои намерения мистеру Брэйну удалось выполнить, и растерявшиеся вконец гости собрались вместе еще до прихода полиции. Но когда он впервые решил привлечь всеобщее внимание к тому, что молодой архитектор задерживается, и подверг сомнению его честность, то столкнулся с некоторыми затруднениями и психологическим давлением с абсолютно неожиданной стороны.
Ужасное известие об исчезновении брата Джулиет Брай перенесла с мрачным стоицизмом, в котором, пожалуй, оцепенения было больше, чем боли и горя. Но когда речь зашла о Крейне, девушка моментально впала в раздражение и гнев.
— Никто здесь не собирается никому выносить приговоры, — четко отделяя слова, произнес Брэйн. — Мы просто хотим знать о мистере Крейне чуточку побольше. Кажется, мало кто здесь может похвастаться знаниями о его характере или происхождении. И, разумеется, тот факт, что вчера он скрестил мечи с беднягой Балмером и запросто мог его проткнуть, поскольку фехтует куда лучше, — это чистое совпадение, не более того. О да, это всего лишь странный случай. Он не может служить основанием для возбуждения уголовного дела против кого бы то ни было, да мы и не имеем права возбуждать против кого бы то ни было уголовные дела. Это дело полиции, а мы — всего лишь кучка ищеек-любителей.
— А по-моему, вы все — кучка снобов, вот вы кто! — воскликнула Джулиет. — Мистер Крейн — гений, идущий собственным, непроторенным путем, и только поэтому вы тут же назначили его на роль убийцы, просто у вас нет смелости заявить об этом прямо! Он нацепил игрушечный меч, и так уж вышло, что сумел им верно воспользоваться, — и все, вы тут же жаждете убедить всех и каждого, будто он пользуется мечом, как самый настоящий кровавый маньяк, убивая всех без разбору и без причины! И поскольку он мог ударить моего братца, но не сделал этого, вы все пришли к выводу, что он несомненно нанес удар! Вот почему ваши аргументы не стоят ломаного пенса! Вы предполагаете, что он сбежал? Но вы ошибаетесь так же сильно, как и во всем остальном. Вот он идет, смотрите!
Действительно, как и говорила Джулиет, мужчина в зеленом маскарадном костюме Робина Гуда неторопливо вышел из-за серых от влаги стволов деревьев и направился к собравшимся.
Пускай Крейн и двигался неторопливо, видно было, что он полностью владеет собой и не боится. Однако лицо его выглядело необычайно бледным, а еще Брэйн и Фишер одновременно отметили чрезвычайно важную деталь его зеленого костюма. Точнее, ее отсутствие: рог по-прежнему висел на своем месте, на перевязи, а вот меч исчез.
Брэйн достаточно сильно удивил всех, не задав вопроса, который напрашивался сам собой. Но расследование вел он, и гости негласно признали его главным, а он предпочел не заметить витавшего в воздухе напряжения и сменил тему разговора, безмятежно заявив:
— Что ж, наконец-то все в сборе, и я могу выяснить то, что жаждал узнать с самого начала. Кто-нибудь из присутствующих лично встречался этим утром с лордом Балмером или хотя бы видел его?
Леонард Крейн, казалось, побледнел еще больше. Он по очереди вглядывался в лица стоящих перед ним людей, пока его взор не упал на Джулиет. Тогда его губы слегка приоткрылись, и он сказал:
— Да. Я с ним встречался.
Брэйн быстро спросил:
— Он был жив? Хорошо себя чувствовал? Как он был одет?
— Мне показалось, что он чувствовал себя превосходно. — В голосе Крейна звучали странные интонации. — На нем был тот же костюм, что и вчера, пурпур и золото. Он скопировал этот костюм с портрета своего предка, жившего в шестнадцатом веке. В руках лорд Балмер держал коньки.
— А на поясе у него висел меч, я полагаю, — кивнул бывший полицейский. — Кстати, а где ваш меч, мистер Крейн?
— Я его выбросил.
В наступившей тишине у многих гостей в голове мелькнула одна и та же мысль, непроизвольно воплотившись в череду цветных картин. Участники маскарада чересчур уже срослись со своими причудливыми одеяниями, пышность и пестроту которых лишь подчеркивали стоящие вокруг темно-серые деревья с серебристым инеем на отдельных ветвях. Мир для них словно превратился в цветной витраж, где были изображены неспешно прогуливающиеся святые. Сходство усиливалось тем, что многие ради смеха нацепили на себя одеяния монахов и церковных иерархов. Но картина, наиболее ярко запечатлевшаяся в памяти присутствующих, была чем угодно, только не сценкой из жития святых: две фигуры, скрестившие мечи так, что лезвия образовали блестящий крест. Мужчина в ярко-зеленом — и его соперник, чье одеяние в лучах солнца отливало фиолетовым. Даже в качестве шутки этот поединок носил драматический оттенок. Мысль о том, что в предрассветных сумерках те же самые люди обнажили мечи тем же самым образом, превратив фарс в трагедию, казалась странной и жуткой.
— Вы оскорбили его? — внезапно спросил Брэйн.
Мужчина в ярко-зеленом даже не пошевелился, но ответил:
— Да. Если быть точным, то он оскорбил меня.
— Почему он оскорбил вас? — поинтересовался дознаватель, и Леонард Крейн промолчал.
Хорн Фишер странным образом потерял интерес к разворачивающемуся на его глазах ужасному расследованию. Сквозь полуприкрытые веки он лениво следил за князем Бородино, которому именно сейчас вздумалось прогуляться к опушке леса. Князь постоял там некоторое время, словно бы раздумывая, а затем скрылся в тени деревьев.
Из неуместно рассеянного состояния Фишера вырвал звенящий голос Джулиет Брай, в котором звучала неслыханная доселе решимость:
— Если проблема только в этом, то, думаю, лучше объясниться сразу. Я обручена с мистером Крейном. Когда мы рассказали о помолвке моему брату, он ее не одобрил. Это все.
Похоже, Брэйн и Фишер ни капли не удивились, но первый все же счел нужным тихо и отчетливо сказать:
— Все, за исключением маленького обстоятельства: мистер Крейн и ваш брат направились в лес… обсудить проблему. И там один из них потерял меч, а вдобавок еще и спутника.
Издевательская усмешка исказила мертвенно-бледные черты лица Крейна, когда он произнес:
— Дозволено ли мне будет поинтересоваться, как я впоследствии распорядился этими якобы утерянными предметами? Ваше утверждение о том, что я убийца, вызывает лишь смех, но давайте на миг примем его за истину. Теперь вам следует доказать, что я еще и волшебник. Если я воткнул в вашего несчастного друга меч, то куда же я потом дел тело? Повелел эльфам спрятать его в полых холмах? А может, одним легким мановением руки превратил тело в белую олениху?
— Глумиться сейчас не место и не время, — решительно оборвал Крейна англо-индусский судья. — Ваши издевки по поводу исчезновения лорда Балмера не возвысят вас ни в чьих глазах.
Фишер задумчиво, возможно, даже несколько скучающе смотрел на кромку леса, и вот, сквозь переплетение серых ветвей, сквозь строй тонких древесных стволов, проступило нечто цвета запекшейся крови, подобное грозовым тучам, освещаемым закатным солнцем. Князь Бородино, все еще в пышном кардинальском облачении, снова шел по лесной тропке с опушки. У Брэйна мелькнула было мысль, что князь, должно быть, отправился на поиски утерянного оружия. Но когда князь подошел к остальным гостям, все заметили: в руках он держал топор, а не меч.
Странное состояние души овладело присутствующими. Они вдруг остро ощутили, как не соответствуют мрачности тайны их нелепые карнавальные одеяния. Поначалу всеми овладел ужасный стыд, как будто их застукали в шутовских колпаках, завалившихся прямиком с вечеринки на событие, изрядно напоминающее похороны. Многие ощутили настоятельную потребность сбежать, немедленно переодеться пускай не в траурный, но хотя бы в более пристойный костюм. Но в данный момент это выглядело бы еще одной игрой в переодевание, куда более непристойной и нелепой. И покуда гости Парка Приор пытались примириться с тем, как они сейчас выглядят, пришло новое, очень странное ощущение. Более всего им прониклись такие тонко чувствующие натуры, как Крейн, Джулиет и Фишер, но в той или иной мере оно коснулось почти всех, за исключением разве что чересчур приземленного мистера Брэйна. Словно все они здесь стали тенями своих собственных предков, охотившихся в здешнем темном лесу и рыбачивших в зловещем озерце, и теперь им надо разыграть старинную пьесу, половина слов из которой давным-давно позабыта. Движения пестрых фигурок теперь обрели смысл, заложенный в них когда-то давным-давно. Так глазу опытного человека открываются тайны, скрытые в немых геральдических знаках. Действия, позы, даже случайные предметы — все теперь воспринималось аллегорией, иносказанием, но подсказки, позволяющей разгадать это послание, не было. И сейчас, в решающий момент, присутствующие тоже не могли отыскать ключ к происшедшим таинственным событиям.
Князя видели все. Он стоял в просвете между тонкими стволами деревьев, облаченный в мантию цвета запекшейся крови, с хмурым, будто высеченным из бронзы лицом, и держал в руках новое воплощение смерти. Подсознательно все в той или иной степени ощутили, что теперь дело приняло совсем иной, крайне скверный оборот. Вряд ли глазеющие на князя леди и джентльмены могли бы сформулировать внятные доводы, но два меча внезапно начали казаться лишь деревянными сабельками, а рассказ о них рассыпался вдребезги, будто стеклянная кукла, сломанная и безжалостно выброшенная. Бородино выглядел сейчас словно палач, явившийся из глубины далеких времен, — облаченный в красное, наводящий ужас. И он нес в руках топор, дабы покарать преступника. Крейн преступником не был.
Служивший ранее в индийской полиции мистер Брэйн свирепо поглядел на добычу князя и помедлил секунду или две, прежде чем заговорить резким, почти охрипшим голосом:
— И что вы собираетесь делать с этой штукой? Похоже, это топор дровосека…
— Вполне естественный ход мыслей, — вздохнул Хорн Фишер. — Если вы видите в лесу кошку, то считаете ее дикой, хотя она, вполне возможно, только что спрыгнула с дивана в гостиной. Так случилось, что я абсолютно точно знаю: этот топор принадлежит не дровосеку. Он взят с кухни, это мясницкий топорик или что-то в этом духе. Кто-то забрал его и выбросил в лесу. Но когда я брал в кухне мешки из-под картошки, из которых впоследствии воссоздал образ средневекового отшельника, то видел этот топорик именно там.
— Так или иначе, а вещица любопытная. Орудие мясника, выполнившее мясницкую работу, — заметил князь, протягивая оружие Фишеру.
Тот взял инструмент и принялся внимательно разглядывать, а затем тихо сказал:
— Да, это, несомненно, орудие преступления.
Брэйн уставился на тускло-голубую сталь топора жестким и пристальным взглядом.
— Я вас не понимаю, — буркнул он. — Здесь же нет… нет никаких следов.
— Он не пролил крови, если вы об этом, — сказал Фишер, — но именно с помощью этого топора было совершено преступление. Когда преступник использовал это орудие, он готовил преступление — и подготовил его так хорошо, как только было возможно.
— О чем это вы?
— Когда убийство свершилось, убийцы рядом не было, — пояснил Фишер. — Плох тот убийца, что в момент убийства находится рядом с жертвой.
Брэйн поморщился:
— У меня создается впечатление, что вы рассказываете мне все это лишь из любви к мистификациям. Если желаете поделиться чем-нибудь полезным, будьте любезны, выражайтесь вразумительней.
— Единственный полезный совет, который я вам могу дать, — задумчиво сказал Фишер, — это провести небольшое исследование местной топографии и переписей населения. Там должен бы отыскаться некий мистер Приор, фермер из здешних краев. Думаю, некоторые бытовые подробности из жизни покойника могут пролить свет на эту жуткую историю.
Лицо Брэйна исказила презрительная усмешка.
— И вы предполагаете, что у человека, жаждущего отомстить за покойного друга, нет дел важнее, чем изучить местную топографию?
— О да, — ответил Фишер. — И я обязан вытащить на свет Божий правду относительно того, кто залез в дом.
* * *
В эту ночь Леонард Крейн бродил где попало, не разбирая дороги. Неудивительно, что он все время двигался вдоль высокой, казавшейся ему бесконечной, стены, окружавшей небольшой лес.
Сгустившиеся сумерки предвещали ненастье, дул сильный западный ветер, обычно сопровождающий оттепель. Леонардом двигало отчаянное стремление прояснить хотя бы для себя ситуацию, запятнавшую его доброе имя, и в настоящее время реально угрожающую его свободе. Полицейские, которые нынче занимались расследованием, не арестовали его, но он прекрасно понимал: стоит ему покинуть поместье, как он тотчас же будет брошен за решетку.
Бессвязные на первый взгляд намеки Хорна Фишера, которые тот все еще отказывался объяснять, пробудили художественную сторону натуры архитектора и побудили его к стихийным размышлениям. Он решил повертеть в мыслях загадочное послание так и эдак, переворачивать его вверх тормашками и раскручивать во все стороны, пока не доберется до сути.
Все происходящее каким-то образом было связано с человеком, который давным-давно залез в дом, и Леонард честно рыскал вдоль высокой стены, отыскивая хоть какую-то возможность для таинственного незнакомца перелезть через нее. Но стена казалась нерушимой: ни лаза, ни выщербины — ни малейшей зацепки! Профессиональные знания привели Леонарда к выводу, что каменная кладка была положена одним мастером и что с тех пор стена не перестраивалась. Существовали лишь одни ворота, используемые всеми, и вряд ли это проливало свет на загадку. Молодой архитектор не нашел ровным счетом ничего, похожего на потайной ход или любой другой способ проникнуть в дом.
Сейчас Леонард двигался по узкой тропинке вдоль наветренной стороны стены. Порывы неистового восточного ветра выгибали дугой и клонили к земле покрытые инеем темные деревья. Угасающие отблески закатного солнца вскоре должно было сменить мерцание молний, поскольку штормовые тучи уже затянули половину неба и вскоре грозили поглотить слабый свет медленно проявляющейся луны. Голова Леонарда закружилась, а ноги несли его все к тому же непроходимому для посторонних людей препятствию. Он снова и снова кружил у неприступной стены, думая при этом о стене, возникшей в его собственной голове. Воображение рисовало некое четвертое измерение, которое само по себе было омутом, скрывавшим под своими черными водами что угодно. Мир виделся под новым углом, неведомые доселе чувства пробивали себе дорогу. Словно бы включился волшебный фонарь или магическая призма, и в ее лучах, неведомых обычной науке, Леонард видел тело лорда Балмера, светящееся и жуткое, в огненном круге света перелетающее через рощу и через стену. Вдобавок молодого архитектора не оставляла в покое пугающая уверенность в том, что все это — дело рук давно почившего мистера Приора. Уж слишком уважительно мистер Фишер отзывался о мистере Приоре, и ведь было же что-то в обыденной жизни покойного фермера такое, в чем следовало искать первопричину нынешних чудовищных событий!
Впрочем, Леонард знал уже, что никто из местных жителей ничего не помнил о семействе Приор.
Лунный свет стал сильнее и ярче, а ветер разогнал тучи и почти угас, напоминая о себе лишь редкими порывами, когда Леонард вернулся к искусственному озеру перед домом. Сейчас озеро казалось еще более ненатуральным, и тому были причины: весь окружающий пейзаж казался вышедшим из-под кисти величайшего мастера декоративного искусства Антуана Ватто. Фасад дома, построенный явно в подражание дворцам Палладио, белел в лунном свете, и тот же свет заливал серебром обнаженную языческую нимфу в центре пруда.
К своему изумлению, Леонард увидал позади нимфы еще одну фигуру, сидящую почти столь же безжизненно. Луна высветила нахмуренные брови и страдальческое выражение лица Хорна Фишера. Тот все еще был облачен в рубище отшельника и, видимо, искал того же, что и другие отшельники, — одиночества. Однако Фишер поглядел на Крейна и улыбнулся ему так, словно ждал его.
— Слушайте, вы можете рассказать мне об этом деле хоть что-нибудь? — взмолился Крейн, подойдя к Фишеру и встав прямо перед ним.
— Вскорости я буду вынужден всем рассказать о том, что я выяснил, в мельчайших подробностях, — ответил Фишер. — Но у меня нет причин отказать вам в праве узнать все первому. Однако для начала, возможно, и вы не откажетесь поделиться со мной информацией? Что в действительности произошло, когда вы утром увиделись с Балмером? Вы отшвырнули меч, но вы не убивали.
— Я не убил именно потому, что отшвырнул свой меч, — сказал Крейн. — Я намеренно избавился от оружия, чтобы… даже не знаю, что именно могло произойти. — Наступила пауза. Затем Леонард тихим голосом добавил: — Покойный лорд Балмер отличался легким нравом… может, даже чересчур легким. Он был весьма благосклонен к людям, стоящим ниже его на социальной лестнице, и даже мог пригласить собственного юриста и безродного архитектора погостить в своем доме и принять участие в любом празднике, в любом развлечении… Но была в его характере и обратная сторона, и она проявлялась, стоило низшему возжелать стать равным. Когда я объявил ему, что помолвлен с его сестрой… я просто не могу и не желаю описывать, как он себя повел. Больше всего это походило на припадок у буйнопомешанного. Впрочем, истина, насколько я понимаю, куда прозаичнее. Такая штука, как грубость джентльмена, существует и поныне. И это самая мерзкая вещь во всем мире.
— Да, знаю, — хмыкнул Фишер. — Благородные Тюдоры эпохи Возрождения вытворяли что-то подобное.
Крейн поднял взгляд:
— Странно, что вы об этом вспомнили. Видите ли, пока мы разговаривали с ним, на меня снизошло необычное ощущение. Будто наш с ним разговор уже случался в далеком прошлом, а теперь он лишь повторяется. Что я действительно некогда был человеком вне закона, человеком, который прячется в лесах наподобие Робина Гуда, а он действительно шагнул на поляну из какого-то старинного портрета, во всем этом пурпуре и перьях… Но он всего лишь был одержимым малым, из тех, кто не признает ни Божьих, ни человеческих законов. Разумеется, я взбунтовался и ушел. Поверьте, если бы я не ушел, мне действительно пришлось бы заколоть его.
— О да, — закивал Фишер. — Он был так же одержим, как и его предок, вот и весь сказ. Все великолепно сходится.
— Что с чем сходится? — внезапно завопил его собеседник. — Я не вижу у этой истории ни начала, ни конца! Вы утверждали, будто тайна кроется в человеке, который залез в дом, но я не смог найти места, где этот человек мог бы перебраться через стену!
— А никакого человека не было, — усмехнулся Фишер. — Вот в этом-то и заключена самая главная тайна.
Подумав пару секунд, Фишер добавил:
— Ну разве что под проникновением в дом следует понимать раскрытие давних тайн этого места… Послушайте я расскажу вам все, но для лучшего понимания придется сделать некоторое отступление. Вы должны понять одну из ловушек современного мышления: люди привыкли верить тому, что им говорят, даже не замечая этого. Я поясню на примере, если позволите. Неподалеку отсюда, в пригороде, расположена харчевня под названием «Святой Георгий и дракон». Теперь, допустим, я начну рассказывать всем, что это — лишь искаженная версия правильного названия «Король Георг и драгун». Мне поверит множество людей. Поверит, даже не пытаясь перепроверить; поверит, исходя лишь из смутного ощущения, что такое вполне возможно, раз оно настолько обыденно. Такое толкование разом превратит нечто романтическое, овеянное легендой, в современное, ничем не примечательное название. Вот так любую чушь заставляют звучать солидно, хотя она не подкреплена никакими доводами. Конечно, найдется пара человек, у которых хватит ума вспомнить, как они видели Святого Георгия на старинных итальянских картинах или на гравюрах к французским романам, но большинство вообще ни о чем таком не задумается. Люди спрячут куда подальше свой скептицизм просто потому, что это скептицизм. Ум современного человека отрицает любые авторитеты, зато готов принять все, что угодно, лишь бы оно не было подкреплено авторитетными источниками. Собственно говоря, здесь произошло именно это.
Мистер Фишер перевел дыхание и продолжил:
— Вряд ли мы узнаем, кому именно пришло в голову отрицать, что Парк Приор когда-то был аббатством. Просто некто однажды решил, что поместье названо так по фамилии мистера Приора, жившего сравнительно недавно. Что куда важнее — никто не стал проверять эту теорию. Даже мысли не мелькнуло рассказать эту историю местным жителям, узнать, жил ли здесь хоть какой-нибудь мистер Приор и как так случилось, что никто не видел его и никогда о нем не слыхал. А ведь здесь действительно существовало аббатство, и его постигла судьба большинства аббатств: вельможа эпохи Тюдоров, носивший на шляпе плюмаж, огнем и мечом захватил церковные земли. Он был способен и на более ужасные преступления, я расскажу вам о них чуть позже. Но сейчас я хочу обратить внимание на то, как ловко сработала ловушка для ума. В эту же самую ловушку разум современных исследователей попался и во второй раз. На картах, изданных известными учеными, название нашего округа пишется как «Омтезус». Эти ученые мужи упоминают вскользь, не без усмешки, что здешние бедняки, наиболее презираемая и гонимая каста, произносят это название раздельно — «Омут Езуса». Но ведь произношение абсолютно верно. Неправильным является написание.
— Вы хотите сказать, — быстро переспросил Крейн, — что где-то в наших краях действительно есть омут?
— Этот омут здесь, — сказал Фишер и, протянув руку, указал на зеркальную гладь озерца. — Омут здесь, а истина лежит на его дне. Где-то там, под водой, расположен глубокий колодец. Основатель этого дома совершил грех, на который редко отваживались даже его приятели-головорезы. Грех, который следовало упрятать поглубже даже в беззаконную эпоху разграбления монастырей. В народной памяти колодец был прочно связан с чудесами, которые совершал один святой. Последний приор, защищавший аббатство, сам тоже был сродни святым людям; по крайней мере, он совершенно точно оказался мучеником. Он бросил вызов новому владельцу и потребовал от того немедля покинуть это место. Тогда вельможа впал в ярость и ударил приора кинжалом, а потом утопил тело в колодце. В том самом колодце, где спустя четыреста лет упокоился наследник узурпатора, облаченный в точно такой же пурпур и шагающий по миру столь же надменно.
— Хорошо, но почему лед под Балмером провалился именно в этом единственном месте? — требовательно воскликнул Крейн, и Хорн Фишер спокойно ответил ему:
— Все просто. Именно в этом единственном месте лед пошел трещинами. И их пробил единственный человек, который знал об Омуте Езуса. Сделано это было намеренно, кухонным топориком, именно там, где надо, — ночью я слышал удары, но ничего тогда не понял. На месте, где раньше находился колодец, устроили искусственное озерцо — наверное, потому, что правду иногда следует спрятать за свежесочиненной легендой. Но разве вы не видите, что последовательно делали эти вельможи-язычники? Они пытались заставить всех забыть о святом месте, водрузив над ним варварскую мелкую богиню, подобно тому, как римский император построил храм Венеры над Гробом Господним. Но до правды все еще можно было докопаться, если б только нашелся человек с научным складом ума и обладающий стремлением найти истину. Что ж, такой человек нашелся. И он очень стремился отыскать истину.
— И что же это за человек? — спросил Крейн, заранее уже предчувствуя ответ.
— Он единственный, у кого было алиби, — отвечал Фишер. — Джеймс Хэддоу, юрист и любитель старины, уехал ночью, задолго до трагедии. Но он оставил трещины на льду, и эти трещины сложились для лорда Балмера в черную звезду Полынь. Он сорвался с места внезапно, хотя ранее предполагал остаться. Я полагаю, причиной отъезда явилась омерзительная истерика, которую лорд Балмер устроил во время их деловой беседы. Вам и самому известно, как Балмер умел превращать вполне приятных людей в кровожадных убийц. Кроме того, могу себе вообразить некоторые прегрешения, в которых нашему юристу следовало бы покаяться и которые, если бы о них разболтал взбешенный клиент, могли бы привести к огромным проблемам. Но люди, насколько я разбираюсь в человеческой натуре, вполне способны жульничать на работе, однако к хобби всегда относятся добросовестно. Хэддоу мог проворачивать сколько угодно бесчестных делишек на поприще юриспруденции, а вот археологией он занимался честно, с полной самоотдачей. Иначе и быть не могло. Ухватив кончик нити, ведущей к правде об Омуте Езуса, он не успокоился, пока не распутал весь клубок до конца. Его невозможно было надуть новомодными газетными россказнями о мистере Приоре и неизвестном, якобы залезшем в дом. Хэддоу выяснил все, вплоть до точного местонахождения колодца, и он был вознагражден за это — если, конечно, можно счесть наградой удачное убийство.
— А вы каким образом выяснили эту забытую историю? — полюбопытствовал молодой архитектор.
Лицо Хорна Фишера омрачилось, и он сказал:
— Мне изначально было многое известно. И после случившегося мне стыдно говорить с такой легкостью о бедняге Балмере. Он уже полностью оплатил свою вину, а мы все пока даже и не приступили. Осмелюсь сказать, что каждая выкуренная мною сигара, каждая выпитая мною рюмка ликера вольно или невольно явились следствием разграбления святынь либо притеснения бедняков. Стоит лишь чуть-чуть покопаться в английской истории — и мы тут же рухнем в этот черный омут, в эту гигантскую брешь, проделанную в бастионах британской истории. Она прикрыта тоненьким фиговым листком ложных знаний и правил, точно так же, как огромный, черный, запятнанный кровью колодец спрятан под тихим мелководным прудом с декоративными водорослями. Ледок на этом озере, что и говорить, тонкий, но пока что он держится, и он достаточно крепок, чтобы выдержать нас, когда мы наряжаемся монахами и пляшем на нем, потешаясь над любезным нашему сердцу эксцентричным старым добрым средневековьем. Мне было велено переодеться в маскарадный костюм — что ж, я надел маскарадный костюм, руководствуясь своим вкусом и причудами. Я надел единственный костюм, подходящий, по моему твердому убеждению, человеку, унаследовавшему положение джентльмена и не утратившему при этом чувства меры.
В ответ на вопросительный взгляд Фишер встал и широким жестом указал на свой наряд.
— Власяница, — сказал он. — И я бы обязательно посыпал голову пеплом. Вот только, боюсь, он быстро свалится с моей лысого темени.
ЗАГАДКА ПОЕЗДА
Из цикла «Величие мелочей», 1909
Все эти разговоры о детективных сюжетах на железной дороге погрузили меня в пучину воспоминаний. Не буду говорить, что в этой истории правда, а что — нет, вы сами скоро поймете, что в ней нет ни слова лжи. В ней также нет ни разгадки, ни концовки. Как и многие события в нашей жизни, это лишь фрагмент головоломки, чрезвычайно увлекательной, но непостижимой для человеческого ума. Вся сложность жизни в том, что в ней слишком много интересного, и потому интерес наш ни на чем подолгу не задерживается. Мелочи, которых мы не замечаем, на самом деле есть обрывки бесчисленных историй, а наше обыденное и бесцельное существование — тысячи увлекательных детективных сюжетов, спутавшихся в единый клубок.
То, что я пережил, сродни всему этому, и как бы то ни было, это вовсе не выдумка. Я не выдумывал события, те немногие, которыми богата эта история; но что еще более важно, я не выдумывал атмосферу той местности, а ведь это в ней заключался весь ужас происходящего. Я помню все так, словно вижу наяву, и описывать буду именно то, что вижу.
Пепельным осенним полднем несколько лет назад я стоял у вокзала в Оксфорде, собираясь взять билет до Лондона. И по какой-то причине — от праздности ли, от пустоты в голове или в бледно-сером небе, от холода — взбрела мне в голову прихоть не ехать поездом, а выйти на дорогу и пройти пешком хотя бы часть пути. Уж не знаю, как оно у вас, но пасмурная погода, в которую у всех все валится из рук, впускает в мою жизнь романтику и стремление к движению. В ясные дни мне ничего не хочется; мир совершенен и прекрасен, и остается только им любоваться. Под бирюзовым куполом неба меня тянет на приключения не больше, чем под куполом церкви. Но когда фон нашей жизни сереет, во имя священного стремления к жизни я стремлюсь расцветить его огнем и кровью. Когда блекнут небеса, человек сияет ярче обычного. Когда на небе свинцом и тусклым серебром постановлено ничему не происходить, именно тогда бессмертная душа, вершина творения сущего, возвышается и молвит: да произойдет! Даже если произойдет всего лишь убийство полицейского. Но это лишь отвлеченные рассуждения все о том же — тусклое небо пробудило во мне жажду перемен, скучная погода отвратила меня от скучного поезда, так что я двинулся в путь по проселочным дорогам. Вероятно, именно в тот момент и город, и небо причудливым образом меня прокляли: спустя годы я написал в статье для «Дэйли Ньюс» о сэре Джордже Тревельяне из Оксфорда, прекрасно зная, что он работал в Кембридже.[22]
Местность, по которой я шел, была призрачной и бесцветной. Поля и кроны деревьев, обычно зеленые, по цвету не отличались от неба и точно так же тонули в тумане. А спустя несколько часов день стал клониться к вечеру. Болезненно-бледный закат слабо цеплялся за линию горизонта, будто бы страшась оставить мир во тьме, и чем больше он угасал, тем ближе и угрожающе надвигались небеса. Облака, ранее просто тусклые, разбухли и вскоре излились на землю темным полотном дождя. Дождь слепил, атаковал меня, как вражеский солдат в ближнем бою, а небеса склонились надо мной и загремели в уши. Я шел долго, пока не встретил наконец человека, и к тому времени уже принял решение. Я спросил у него, где поблизости можно сесть на поезд до Паддингтона. Он указал мне на тихую маленькую станцию (я даже названия не вспомнить не могу) в отдалении от дороги, одинокую, будто горная хижина на перевале.
Пожалуй, ничего подобного этой станции я раньше не видел — ничего столь же древнего, иронично-печального и потустороннего. Казалось, дождь лил над ней с самого сотворения мира. Потоки воды струились по деревянным доскам, будто гнилой сок самого дерева, будто само здание станции разваливалось на части и истекало гнилью.
Мне потребовалось почти десять минут, чтобы найти там хоть одну живую душу. Душа на поверку оказалась весьма унылой, и на мой вопрос о поезде ответила сонно и неразборчиво. Насколько я смог понять, поезд должен был подойти через полчаса. В ожидании его я присел, зажег сигару и принялся наблюдать за последними клочьями истерзанного заката, слушая беспрерывный шум дождя.
Прошло около получаса или чуть меньше, прежде чем поезд медленно вполз на станцию. Он был непривычно темным; вдоль его длинного черного туловища не виднелось ни единого проблеска света, и поблизости не было проводника. Мне не оставалось иного выбора, как подойти к паровозу и громко поинтересоваться у машиниста, следует ли поезд до Лондона.
— Ну… да, сэр, — сказал он с необъяснимой неохотой. — Он следует до Лондона, но…
Тут поезд тронулся, и я запрыгнул в первый вагон. Там царила кромешная тьма. Я сидел в ней, курил и размышлял, а поезд двигался по темнеющим просторам, исчерканным одинокими тополями, пока наконец не замедлил ход и не остановился прямо посреди поля. Раздался глухой стук, как будто кто-то спрыгнул с паровоза, и в моем окне появилась растрепанная черная голова.
— Простите, сэр, — сказал машинист, — но мне кажется… пожалуй, вам стоит об этом знать… в этом поезде умер человек.
* * *
Будь я человеком тонкой душевной организации, несомненно был бы сражен этим новым знанием и ощутил бы настойчивую потребность выйти из поезда и немного подышать. На деле же я, стыдно сказать, объяснил вежливо, но твердо, что, если меня благополучно доставят к Паддингтону, остальное не столь важно. Но когда поезд снова тронулся, я все-таки кое-что сделал — не задумываясь, просто следуя инстинктам. Я выбросил сигару. Было в этом что-то древнее, как сама земля, и родственное траурным ритуалам. Мне показалось вдруг невыносимо ужасным, что во всем поезде едут только два человека, причем один из них мертв, а второй курит сигару. И когда ее пылающий красным золотом кончик угас, как погребальный костер, символически затушенный во время церемонии, я осознал, что ритуал этот воистину бессмертен. Я осознал его истоки и сущность, и понял, что перед лицом священного таинства слова бессмысленны, зато несут смысл действия. И я понял, что ритуал всегда будет требовать отказа от чего-либо — уничтожения хлеба и вина, возложенных нами к алтарю наших богов.
Когда поезд, пыхтя, дополз наконец до Паддингтона, я выскочил из него неожиданно резво. Задняя часть поезда была огорожена, вокруг стояли полицейские, но никто не подходил близко. Они что-то охраняли и одновременно прятали. Возможно, это была смерть в одной из ее самых шокирующих обличий, возможно, что-то подобное Мертхэмскому делу,[23] столь густо замешанное на человеческой злобе и тайнах, что почти превозносимое за это; а возможно, что-нибудь гораздо хуже. Я с облегчением покинул станцию и вышел в город, где увидел смеющиеся лица, озаренные светом фонарей. С того самого дня и по сегодняшний я не имею ни малейшего понятия о том, какой странной истории тогда коснулся и что стало с моим попутчиком во тьме.
Хескеч Хескеч-Причард УБИЙСТВО В УТИНОМ КЛУБЕ
Из цикла «Новембер Джо: детектив из дремучих лесов»
Джо, прозванный Новембер, что означает, как вы догадались, месяц ноябрь, приехал в Квебек, чтобы запастись всем необходимым для зимнего сезона охоты. Он как-то упомянул в разговоре, что лучшие охотничьи угодья в штате Мэн все больше скудеют, и он намеревался перебраться на южный берег реки Св. Лаврентия, куда-нибудь за Римуски.[24]
О приезде Новембера я был осведомлен заранее, поскольку за два часа до его появления в мою контору доставили телеграмму на его имя, — живя в Квебеке, он всегда останавливался в разных пансионах, в деловой части города, но в качестве постоянного почтового адреса указывал мой. Поэтому я ничуть не удивился, заслышав в приемной мягкий голос Джо. Он поддразнивал моего старого клерка. Другого такого раздражительного субъекта, как Хью Визерспун, не сыщешь, но и он, подобно многим другим, поддавался обаянию Новембера. Тут же раздался стук в дверь, и Джо бочком вошел в комнату, держась за шляпу обеими руками. Он чувствовал себя непринужденно лишь под открытым небом; сейчас, подходя ко мне, он застенчиво улыбался, а его бесшумные мокасины осторожно ступали по навощенному полу.
Я вручил ему телеграмму, и он сразу же распечатал ее. Там значилось:
«Предлагаю пятьдесят долларов день если немедленно приедете Утиный клуб Тамаринд. — Эйлин М. Ист».
Джо присвистнул и, по своему обыкновению, не сказал ничего.
— Кто такая Эйлин М. Ист? — спросил я.
Джо помолчал, потом ткнул пальцем в телеграмму и ответил:
— Это переслали сюда из Лаветты. Почтмейстер Том знал, что я навещу вас. А мисс Ист — это барышня из той компании американцев, что я водил этой весной вверх по лососевой речке Томпсона.
Я не успел задать следующий вопрос — в дверь постучали, вошел клерк и принес вторую телеграмму. Джо прочел:
«Непременно приезжайте. Случилось убийство. Дело жизни и смерти. Отвечайте, пожалуйста. — Эйлин М. Ист»
— Напишете ответ за меня? — спросил Джо.
Я кивнул, зная что писать Джо не горазд.
— «Мисс Эйлин М. Ист», — продиктовал он. — Вставьте это, сэр, будьте добры. А дальше «буду поездом 3.38», и подпишите.
— Как подписывать?
— Да просто Новембер.
Я выполнил его просьбу, позвонил и, вновь вызвав клерка, велел отдать текст телеграммы ожидавшему посыльному. Мой гость помолчал еще немного и вдруг спросил:
— А вы поедете со мной, мистер Кварич?
Я взглянул на кипы деловых бумаг, загромоздивших мой рабочий стол; как мне приходилось уже неоднократно упоминать, я на самом деле весьма деловой человек, или, по крайней мере, мне следовало бы оставаться таковым, ибо мои интересы, унаследованные от отца и деда, прочно связаны с развитием нашего доминиона, Канады, в широких масштабах — от минерального и растительного царств до гидроэлектростанций и освещения наших крупнейших городов…
— Поеду, конечно, мне нужно только десять минут, чтобы дать Визерспуну необходимые инструкции.
Джо заглянул в соседнюю комнату.
— Старина, хозяин вас ждет, прямо сейчас!
Визерспун явился в кабинет, шаркая туфлями.
— Я пока пойду добуду упряжку, — сказал Новембер, — и подожду на улице. Вам ведь нужно еще заскочить к себе на базу за снаряжением. А времени у нас не так уж и много.
Четверть часа спустя мы с Джо уже мчались вовсю в наемном экипаже. Я живу у сестры на улице Св. Людовика, довольно далеко от центра, но лошадь нам попалась отличная, и мы неслись стрелой.
Сестру я дома не застал — она отправилась куда-то пить чай с подругами. Но она давно уже привыкла к моим прихотливым исчезновениям, и потому я со спокойной совестью ограничился запиской, в которой объяснял, что на день-другой покидаю Квебек в обществе Джо Новембера.
Мы поспели на вокзал вовремя, и вскоре локомотив уже вез нас на всех парах по сельской местности, окружающей город Квебек.
Читатель, возможно, не слыхал о клубе «Тамаринд». Это маленькое сообщество состоит преимущественно из деловых людей Монреаля и Нью-Йорка, которым я предоставил право охоты на озерах, протянувшихся цепочкой неподалеку от реки Св. Лаврентия, на принадлежащих мне землях. На эти озера ежевечерне слетаются утки, которые кормятся на побережье во время отлива, а осенью там можно отлично пострелять на перелетах, берут в среднем от десяти до двадцати пар тушек на ружье — больше по правилам клуба не разрешается. В сезон жилой домик клуба служит обычно пристанищем двум-трем членам клуба: это всего лишь простая бревенчатая постройка, но внутри там тепло и уютно. На самом деле желающих вступить в наши ряды много, но им приходится записываться и ждать своей очереди, потому что вместить всех сразу клуб «Тамаринд» физически не может.
Все эти факты приходили мне в голову и выстраивались в определенной последовательности, пока поезд катил все вперед и вперед. Наконец я сказал Джо:
— Убийство в клубе «Тамаринд»! Немыслимо. Разве что какой-то браконьер подстрелил одного из егерей.
— Могло и так случиться, — отозвался Джо, — да только мисс Ист написала «дело жизни и смерти». Что это значит? Я все никак не догадаюсь… Но мы уж почти на месте! Скоро услышим что-нибудь еще.
Состав подошел к маленькой платформе, от которой рукой подать до клуба «Тамаринд», и остановился. Не успели мы спрыгнуть с подножки вагона, как из станционного домика вышла девушка, наделенная всей прелестью, какую дарят темные волосы и живое, милое лицо. Она подбежала к нам и порывисто схватила Новембера за руку.
— Ох, Джо, до чего же я рада видеть вас!
Женщины всегда находят Джо Новембера привлекательным. Каково бы ни было их общественное положение, высокое или низкое, он нравится всем. Разумеется, отчасти такую благосклонность вызывает его внешность — шесть футов крепких мышц обычно ласкают взгляд женщин. Особенно когда к ним прилагается стройная шея и такие черты лица, как у Джо. Но действовала также и свойственная ему необычная, задушевная манера обращения, способная очаровать кого угодно: он, похоже, просто не мог, перемолвившись с женщиной тремя словами, не создать у нее впечатление, что он всецело к ее услугам, — впрочем, так оно и было на самом деле.
— Как только я получил из Лаветты ваше послание, тотчас сюда и отправился, — просто сказал житель лесов. — И мистер Кварич вот со мною. Земля-то, которая под клубом, его.
Мисс Ист окинула меня острым взглядом. Ее темные глаза были полны неприкрытой тревоги.
— Надеюсь, вы будете на моей стороне, мистер Кварич, — сказала она. — Сейчас я ужасно нуждаюсь в друзьях.
— Да что стряслось-то, мисс Эйлин? — спросил Джо, когда она умолкла.
— Моего дядю застрелили, Джо.
— Мистера Гаррисона?
— Да…
— Мне очень-очень жаль это слышать. Он был хороший, справедливый человек.
— Но это еще не все. Остальное гораздо хуже! Говорят, будто убил его Голт.
— Мистер Голт?! — воскликнул в изумлении Новембер. — Быть того не может!
— Уж я-то знаю, знаю! А все остальные уверены, что это совершил он! Я позвала вас затем, чтобы вы доказали им его невиновность. И вы это сделаете, правда, Джо?
— Расстараюсь, как смогу!
Я видел, что девушка теряет самообладание; то, как мисс Ист сумела взять себя в руки, мне понравилось.
— Я должна рассказать вам, что произошло, — сказала она, — и хочу, чтобы вы, Джо, успели сходить на то место до темноты. Пойдемте же!
Шагая по дорожке, ведущей к «Тамаринду», я внимательно вслушивался в ее слова, чтобы представить себе картину в целом.
— Вчера днем нас в клубе было пятеро. Из женщин — только я. Мужчины надумали поохотиться вечером на уток, потому что с утра шел дождь, а потом ветер переменился и к трем часам дня небо очистилось. Все четверо и пошли: мой дядя, мистер Хинкс, Эгберт Симонсон и… и Тед Голт.
— Тот самый мистер Хинкс, который с нами ловил лосося этой весной? — уточнил Джо.
— Да… Чаще всего я сопровождаю дядю по вечерам, но вчера в зарослях кустарника было так мокро, что я предпочла остаться. Так вот, они четверо вышли, и в обычное время один за другим вернулись — все, кроме дяди. В половине восьмого я начала беспокоиться и послала Тима Картера, старшего егеря, посмотреть, все ли в порядке. И он нашел дядю, мертвого, в его засидке.
— А почему подумали на мистера Голта?
Девушка замялась на мгновение.
— У него и у дяди места рядом, идти туда довольно далеко. Они вышли вместе, и люди слышали их голоса, очень громкие, как будто они ссорились. Эгберт Симонсон по возвращении жаловался, что они своим криком все озеро переполошили. Ну, конечно же, из-за этого Теда и заподозрили.
— А мистер Голт признал, что они поссорились? — спросил Джо.
— Да. Дядя был сердит на него, — ответила она, и ее щеки чуть-чуть порозовели. — Ведь Тед небогат, Джо, вы же это знаете.
— Угу! — отозвался Джо с полным пониманием. Помолчал, потом задал другой вопрос: — А кто высказал подозрения насчет мистера Голта?
— Тим Картер. Он собрал все свидетельства против него.
— Что за свидетельства?
— Дядя и Тед находились близко друг от друга на линии стрельбы.
— А кому досталось место снаружи — мистеру Гаррисону или мистеру Голту?
— Теду…
— Ладно, а с другой стороны от вашего дяди кто сидел? Я думаю, кого-то еще там разместили?
— Там отвели место мистеру Хинксу.
— Отчего же Картер вообразил, будто это сделал мистер Голт?
— Ах! В том-то и весь ужас. Дядю убили дробью шестого номера.
— И что с того?
— Здесь только Тед пользуется такой. У всех остальных четвертый.
Джо присвистнул и умолк на несколько минут. Потом он сказал:
— Знаете, мисс Эйлин, вам, пожалуй, не стоит мне больше ничего рассказывать. Я лучше выслушаю истории Голта и Картера от них самих, из первых рук.
Девушка застыла на месте.
— Новембер, вы же не верите, что это был Тед, нет?
— Конечно, не верю, — сказал он. — Мистер Голт не такой человек. Где он сейчас?
— Разве я вам не говорила? На предыдущем поезде явилась полиция, его арестовали и держат под стражей. Это ужасно!
Вскоре мы добрались до места, и полчаса спустя Джо Новембер встретился лицом к лицу с Картером, который встретил его не слишком тепло и не добавил ничего сверх уже сказанного им полицейскому инспектору. Его показания были даны под присягой и записаны по всей форме, сам Картер их только подписал. Бумагу нам предоставили, ее содержание я привожу ниже:
«Вчера вечером, около пяти часов, четверо членов клуба — Гаррисон, Хинкс, Симонсон и Голт — отправились на Камышовую Шейку. Камышовая Шейка имеет в длину почти полмили, а шириной ярдов сто. Это что-то вроде низкого мыса, который выдается в озеро Гусиное. Охотники разошлись по своим местам. Я их не провожал, потому как мне было велено плыть на каноэ до северного края озера и гонять уток, ежели какие туда залетят, так, чтобы они летели на выстрел. На Камышовой Шейке устроено шесть засидок. Перед выходом члены клуба, согласно пункту устава № 16, тянули жребий, кому какая достанется. Голт вытащил номер первый, то бишь он получил засидку, самую близкую к оконечности Шейки и наиболее удаленную от здания клуба. Гаррисон оказался номером вторым. Номер третий остался свободным. Хинкс пошел в номер четвертый, а Симонсон — в номер пятый.
Камышовая Шейка по всей длине заросла кустами и тростником, и стрелки друг друга видеть не могут. Засидки представляют собой углубления в земле, с заслонами из камыша и веток ольхи.
Стрельба началась прежде, чем я добрался до северной стороны, и продолжалась дотемна. Со стороны устья налетело несколько сот уток. Я выждал минут десять после последнего выстрела и тогда отправился обратно в клуб. Когда я пришел туда, оказалось, что Гаррисон не вернулся. Я услышал об этом от Симонсона, который злился, потому как, по его словам, Гаррисон и Голт по дороге к своим местам говорили громко, на повышенных тонах. Симонсона это разозлило, так как он полагал, что они своими криками спугнули целую стаю уток, по которым он мог бы пострелять.
В половине восьмого мисс Ист, племянница Гаррисона, зашла в клубную кухню, где я в тот момент находился — договаривался, чтобы люди сходили подобрать утиные тушки. Их нельзя подбирать, пока идет охота, иначе остальных распугаешь. Когда ветер заходит с севера, как было вчера вечером, он отгоняет убитых уток к южному берегу Гусиного. Я велел Ноэлю Шарлю и Винезу, двоим нашим младшим егерям, чтобы позаботились о сборе дичи. А тут мисс Ист и говорит, что ее дядя Гаррисон не вернулся и чтобы я пошел взглянуть, отчего он задержался. Она боялась, уж не угодил ли он в трясину, ведь было уже темно. Было видно, что она тревожится, и Ситаванга Салли, индейская скво, которая у нас служит поварихой, пыталась ее подбодрить. Она сказала, что тропа от Камышовой Шейки легкая, не заблудишься.
Я оставил мисс Ист в компании Салли и вышел. На небе была луна, но светила не сильно. Я дошел до Камышовой Шейки и обнаружил Гаррисона в засидке номер два. Он был мертв и уже остыл. Мне подумалось, что он, наверное, сам себя случайно застрелил. Я поднял тело и потащил к дому. Когда до клуба оставалось ярдов пятьдесят, я закричал. Мне навстречу выбежал Голт. Я ему рассказал, что Гаррисон сам застрелился. А он говорит: «О боже! Какая беда для Эйли!» Мисс Ист услыхала мои слова и тут же выскочила на улицу. Очень сильно она переживала.
Мы занесли тело в дом и положили на кровать. Только тут я в первый раз рассмотрел рану. Со мной была повариха Салли — она пришла, чтобы обрядить тело. Я сказал ей: «Не мог он сам застрелиться так».
Это я сказал потому, что увидел, что дробь легла в россыпь. Если бы стреляли с близкого расстояния, так не получилось бы. Салли согласилась со мной. Стоит ли чего-то ее мнение, не знаю. Может, и стоит. Вообще-то индианки, которым стукнуло шестьдесят, в мертвецах разбираются. Я сунул палец в рану и вытащил дробинку. Потом мы накрыли тело одеялом и вышли.
Я запер дверь и унес ключ. Потому как рана была жуткая, и я почел за лучшее, чтобы мисс Ист тела не видела. А я оттуда пошел в оружейную и сравнил ту дробинку из раны с другими размерами. Оказалось, что это номер шестой. Из всех членов клуба номером шестым пользуется только мистер Голт. Гаррисон, Симонсон и Хинкс — эти все используют номер четыре. Об этой дробинке шестого размера я никому не рассказал.
На заре я сходил снова на Камышовую Шейку и хорошенько разведал все подробности. Это было нетрудно, потому как на влажной глине следы отчетливые. Никто не проходил мимо засидки номер два, кроме Голта. На обратном пути он двигался по кромке воды, пока не поравнялся с засидкой номер два, где сидел Гаррисон. По следам на илистом берегу было видно, что он свернул в его сторону. Надо полагать, что он приблизился к Гаррисону шагов на двенадцать. Там он задержался, судя по следам. Наверное, тогда-то он и выстрелил. После этого он вернулся на берег озера и пошел дальше в сторону клуба.
Закончив этот осмотр, я доложил Симонсону, старосте клуба. Как я понимаю, это он дал телеграмму в полицию.
Подписано: Т. Картер»
Я читал этот опус вслух, а Новембер слушал с тем чрезвычайным вниманием, которое он всегда проявлял к письменному или печатному слову. Когда я закончил чтение, он воздержался от вопросов, но высказал желание повидаться с Голтом. Его держали в одной из комнат под охраной; инспектор распорядился впустить нас, и рослый молодой полицейский вышел, тактично оставив нас наедине.
Джо пожал арестанту руку с серьезным и сочувственным выражением лица.
— Ну что ж, мистер Голт, я очень сожалею, что все так сложилось, и рад, что мисс Эйлин позвала меня.
— Это она вас вызвала? — воскликнул Голт.
— Конечно.
— Это лучшая новость с того момента, как меня посадили под замок! Значит, она верит, что я невиновен.
— А как же иначе! — подтвердил Джо. — И теперь я хочу услышать от вас все, что сумеете припомнить из вчерашнего дня, до того, как мистера Гаррисона нашли мертвым.
Голт задумался.
— Итак, приступим! — сказал он наконец. — Начну с самого начала. Около полудня я пошел прогуляться по лесу с Эй… то есть мисс Ист. Я просил ее выйти за меня замуж. Она ответила согласием. А ведь я человек небогатый, хотя, впрочем, и не бедный.
— Это уж точно, — согласился Джо, для которого десятая часть доходов Голта была бы невообразимым богатством, пределом мечтаний.[25]
— К сожалению, — продолжал Голт, — мы предвидели, что у нас возникнут затруднения с ее дядей, мистером Гаррисоном. Мы оба считали, что нельзя увиливать от трудного разговора, и потому решили, что я воспользуюсь первой же удобной возможностью, чтобы известить мистера Гаррисона о положении дел. К моменту, когда мы возвратились в клубный домик, Хинкс, Симонсон, Гаррисон и егерь Картер как раз собрались на вечернюю охоту. Я присоединился к ним, и так удачно получилось, что мне выпало по жребию быть соседом мистера Гаррисона. Симонсон и Хинкс ушли вдвоем, я остался наедине с Гаррисоном и сразу же рассказал ему, как мы поладили с Эйлин и хотим пожениться.
Джо склонил голову набок, что у него означало полное одобрение.
— Он разъярился, — добавил Голт, — я даже представить себе не мог, что судья — а он служил судьей в Штатах — может так разозлиться. Он обвинил меня в том, что я гонюсь за ее долларами, а не за нею самой.
— Неужто он и впрямь так думал? — сказал Джо рассудительно. — Это же надо быть слепым!
Голт улыбнулся.
— Спасибо, Новембер. Эйли много раз говорила мне, что вы — самый учтивый среди жителей лесов. Что касается Гаррисона, осмелюсь предположить, что он не обошелся бы со мною так сурово, если бы я не препятствовал ему раз-другой в делах клубных. Этой весной я забаллотировал человека, которого он рекомендовал в члены клуба.
— Забаллотировали? Это как понимать? — удивился Джо.
— Высказался против его принятия.
— И всего-то? Давайте дальше.
— В общем, вы уже поняли, что он не стеснялся в выражениях. Я умолял его не судить поспешно, потому что мы все равно бы поженились, но предпочитали все-таки получить его благословение. От этого, разумеется, он прямо-таки обезумел. Я понял, что никакого успеха в этих обстоятельствах не добьюсь, а потому оставил его и пошел к себе на засидку, которая располагалась рядом, на самом конце Шейки.
— Где же вы его оставили?
— Примерно в пятидесяти ярдах по эту сторону от его засидки.
— И что было потом?
— Я не просидел в своей засидке и десяти минут, как начали прибывать утки. Их было множество. Я выпустил, наверное, семьдесят зарядов, а то и все восемьдесят. Гаррисон тоже палил вовсю.
— Вам было его видно?
— Нет, тростник слишком высок, но я то и дело замечал, как падают подстреленные им утки. Их я мог видеть потому, что они летели на высоте двадцати или тридцати ярдов.
Джо кивнул.
— В четверть седьмого перелет уток закончился, и стрельба на линии стала затихать. В половине седьмого все прекратилось, и я решил вернуться в клуб.
— Минуточку, — вставил Джо. — В котором часу Гаррисон выстрелил в последний раз, не вспомните?
— Да, наверное, где-то около десяти минут седьмого.
— А птицы еще пролетали над ним после этого?
— Кажется, да.
— И он не стрелял?
— Нет.
— Вас это не удивило?
— Не очень. Было уже почти совсем темно, а Гаррисон — не слишком ловкий стрелок.
— Теперь расскажите мне все, что сможете вспомнить, поподробнее, о том, как вы шли обратно в клуб.
— Я взял свое ружье и патронташ, почти пустой, и зашагал по обрезу воды, пока не оказался напротив засидки Гаррисона. Там я приостановился. Мне пришло в голову сделать еще одну попытку переубедить его. Я окликнул его по имени. Ответа не было. Тогда я подобрался поближе по илистой отмели и крикнул снова.
— Вы были наверху отмели? Могли заглянуть внутрь засидки?
— Краем глаза мог, но было темно, и Гаррисона я разглядеть не смог. Оставалось предположить, что он уже вернулся в клуб. Ну, тогда я вернулся снова на берег и направился в сторону клуба в одиночку.
— Вам никто не встретился по дороге?
— По-моему, на южной стороне озера виднелась какая-то фигура.
— Где именно?
— Примерно напротив засидки номер три на Камышовой Шейке.
— Так… Вы ничего больше не упустили?
— Нет, ничего больше я вспомнить не могу. Но я хочу спросить у вас кое-что. Скажите, почему меня арестовали? Мне вроде нечего поставить в вину…
Новембер взглянул на Голта в упор.
— Хорошо бы так было, да дело плохо. Видите ли, мистер Гаррисон был убит дробью шестого размера.
— Ну и что?
— Этот размер из всех членов клуб используете только вы.
— Боже милостивый!
— Смотрите дальше, Голт, — продолжал Джо, — один факт — это дробь, другой — рядом с засидкой мистера Гаррисона нашли только ваши следы. Кроме того, шум вашей ссоры слышали люди.
— Цепочка совпадений! — в отчаянии воскликнул Голт. — Просто совпадения!
Джо кивнул и вышел из комнаты, ничего больше не сказав.
Как только мы покинули здание клуба, я спросил, что он думает обо всем этом. Он ответил встречным вопросом:
— А вы что думаете?
— Улики против Голта — очевиднее некуда, — печально сказал я. — Человека застрелили в засидке. Мимо проходил только тот, кого арестовали. Стреляли дробью номер шесть; ею пользовался опять же только тот, кого арестовали. Добавим еще ссору, судя по всему, весьма жаркую, и вот вам полностью готовое дело на радость любому следователю.
— Так оно и есть, — согласился Джо. — И хуже всего то, что рассказ самого Голта нам ничуть не помог.
— Вы не верите его словам?
— Только ему я и верю на самом деле.
Я позволил себе усомниться.
— Ну, видите ли, если бы он вздумал лгать, — сказал Джо, — то сочинил бы историйку покрасивее, разве не так? Давайте-ка сходим на Камышовую Шейку.
Добрались мы до Камышовой Шейки довольно быстро. Ради удобства читателей я должен описать эту местность. Камышовая Шейка представляет собою глинистую косу, сплошь заросшую тростником, которая тянется, как уже упоминалось, ярдов на восемьсот и врезается в воды озера, нигде не поднимаясь выше, чем на двенадцать футов.
Стоило нам ступить на косу, как Джо Новембер позабыл обо всем, кроме следов на земле. Он изучал каждый ярд почвы с предельной тщательностью и, медленно продвигаясь вперед, давал свои разъяснения, как будто читал по книге. Для него все было очевидно.
Поначалу отпечатков ног было много, потом осталось только два разных вида. Джо указал на них:
— Вот, поглядите! Сапоги с набойками на каблуках — это Гаррисон, мокасины — это Голт. Здесь они, похоже, и остановились, когда Голт сказал Гаррисону, что собирается жениться на мисс Эйлин. Видите, Гаррисон стоял, упираясь каблуками, и вдавил приклад своего ружья в землю.
— Да, я понимаю.
— А тут, — пройдя пару шагов, снова заговорил Джо, — они расстались. Следы Гаррисона ведут вверх по косе, а Голт пошел дальше. Лучше сперва последовать за Голтом.
Так мы и поступили. След привел нас прямо к засидке, где находился вчера молодой человек. Охотник обычно сидит пригнувшись; приняв такую же позу, мы выяснили, что густая поросль тростника заслоняет вид со всех сторон. Глинистая почва засидки была усеяна отстрелянными гильзами.
— Вот тут он опустился на колено, поджидая уток, — сказал Джо, указав на круглую вмятину. — Больше тут ничего для нас интересного нету.
Мы двинулись в обратном направлении, все так же идя по следам Голта. Он возвращался другим путем, понизу, вдоль кромки воды. Однако почти точно напротив места трагедии отпечатки сворачивали под прямым углом и вели вверх по косе в нескольких ярдах от засидки, где нашли тело Гаррисона.
— Он тут остановился, — сказал Джо, — и какое-то время простоял. Сейчас, мистер Кварич, я погляжу, что тут можно найти.
— Немного же ты найдешь! — произнес голос позади нас. — Во всяком случае, такого, чего не нашли до тебя. На твоем месте, Новембер, я бы отказался от этой затеи. Напрасные труды! Голт виноват. Следы ясные, как пропечатанные.
— Бывает, что и печатные буквы не всегда правду говорят, Тим Картер, — резко отпарировал Джо.
Картер, крепыш-лесник с упрямым лицом, нечесаными русыми вихрами и маленькими бакенбардами, сделал шаг вперед, но Джо остановил его взмахом руки.
— Посторонись-ка, Тим, — сказал он, — я не хочу, чтобы ты тут повсюду топтался и перерыл землю своими ножищами.
Картер уселся рядом со мной на бревне, прибитом волнами к берегу и лежавшем среди тростников, и мы вместе стали наблюдать за Новембером. Я мысленно поддерживал его, ибо не мог забыть о горячих надеждах мисс Ист. Но на лице Картера было написано выражение презрительного веселья.
Даже Джо редко производил настолько дотошный осмотр, и это укрепило мой оптимизм. Прежде всего он прошелся по каждой линии следов. Потом что-то измерил пальцами там и тут и наконец принялся подбирать и рассматривать ружейные пыжи, валявшиеся вокруг во множестве.
Внезапно он резко подался в мою сторону и выхватил очередной пыж прямо у меня из-под ног.
— Вы оба будьте свидетелями, где я эту штуку нашел! — воскликнул он.
Картер поднялся и предложил с ухмылкой:
— Ежели желаешь, могу отметить место!
— Отлично! Отмечай.
Картер нашел палку и воткнул в землю.
— Ладно, — сказал он, — дальше что?
Джо пропустил вопрос мимо ушей. Он теперь осматривал бревно, на котором мы только что сидели, и прилегающий к нему участок берега у воды. Наконец, явно удовлетворенный результатом, он подошел ко мне.
— Я хочу, чтобы вы сберегли это, — сказал он, вручив мне найденный пыж. — Думаю, он понадобится как улика.
Картер, услышав его слова, ухмыльнулся еще шире.
— Все обнюхал, Джо?
— Здесь — да, все.
— Куда теперь двинешься?
— На южный берег.
— Хочешь, пойду с тобой?
— Как тебе угодно.
Мы шли долго, храня молчание. Двое охотников были очевидно настроены антагонистически. Картер, довольный своей причастностью к обвинению Голта, питал естественную подозрительность ко всякому, кто попытался бы усомниться в его выводах. Какое мнение составил об этой истории Новембер, я и вообразить не брался. Возможно, он сумел увидеть свет там, где для меня все было покрыто мраком. С другой стороны, я по-прежнему и сам не мог выстроить более убедительную последовательность событий, чем та, которая привела Картера от факта преступления к Голту: ссора, номер дроби, присутствие Голт в десяти ярдах от укрытия убитого примерно в то время, когда, по-видимому, было совершено убийство…
Я прокручивал эту цепочку снова и снова. В ней не было слабого звена, и, вспомнив об Эйлин Ист, я мысленно застонал. Она верила в Голта, и, скорее ради нее, чем ради него, я горячо желал, чтобы Новембер сумел опровергнуть доводы мрачного Картера, хотя возможность исполнения моей мечты оставалась под большим вопросом.
Наконец мы оказались на южном берегу, и Джо спросил:
— Кто-нибудь сюда ездил сегодня?
— Понятия не имею, — хмуро отозвался Картер. — Ежели и ездил кто, так ты же у нас знаменитый следопыт, сам увидишь, разве нет?
Не удостоив его ответом, Джо взмахом руки велел нам оставаться на месте, а сам, пройдясь туда-сюда по берегу, направился от озера наискось вверх по склону холма. Оттуда он спустился к лодочному сараю, где хранятся каноэ. Вскоре мы услышали, как он зовет нас. Подойдя к сараю, мы застали его за осмотром одной из лодок.
— Когда на ней плавали в последний раз? — спросил он.
— С пятницы — ни разу.
— Вот это любопытно, — сказал Джо, указывая на что-то пальцем. На дне лодки было видно небольшое пятно крови.
— Можешь это объяснить, Тим Картер?
— Наверное, Винез и Ноэль Шарль брали каноэ, чтобы подобрать застреленных уток нынче утром, — предположил Картер.
— Они не подходили к сараю, — возразил Джо. — Я отыскал их следы. Они прошли по склону выше, вон там.
— Значит, по-твоему, эта кровь как-то связана с убийством? — фыркнул Картер.
— Я склонен так считать, — сказал Джо.
На обратном пути к клубу мысли мои кружились вихрем. Как ни мало я разбирался в путанице всех этих знаков и подсказок, теперь ситуация представлялась мне намного более сложной, чем раньше. Когда мы приблизились к зданию клуба, мисс Ист, явно дожидавшаяся нас, выбежала на крыльцо.
— Ну как? — задыхаясь, вскричала она. — Что вам удалось сделать? Нашли разгадку?
— Мне бы нужно взглянуть на ружья членов клуба, прежде чем я отвечу вам, — сказал Джо.
— Они все хранятся в оружейной.
Оружейная в клубе представляла собой небольшую пристройку, где приезжающие охотники оставляли оружие, привезенное с собой. Картер взял со стойки одно ружье и протянул Новемберу.
— Вот это принадлежит Голту.
Джо небрежно повертел ружье, бегло осмотрел его и сказал:
— Двенадцатый калибр.
— Ясное дело, — сказал Картер. — И у всех остальных двенадцатый, кроме Симонсона. У того десятый.
— А второе ружье есть у кого-то из гостей?
— Только у Симонсона.
— И где оно?
— Здесь то, с которым он охотился вчера вечером.
— А другое — парное к нему?
— Вот оно, в чехле.
Джо вынул ружье из чехла, собрал и внимательно осмотрел. Потом с такой же тщательностью разобрал и вновь вложил в чехол.
— Джо, неужели вам нечего мне сказать? Джо! — воскликнула мисс Ист, бледнея от страха и надежды.
— Теперь мне пора задать один вопрос Ситаванга Салли, — сказал Новембер, — и, пожалуй, мистеру Голту стоит при этом присутствовать.
По знаку Эйлин Картер, состроив гримасу величайшего неудовольствия, вышел, чтобы привести повариху и подозреваемого. Голт пришел первым, в сопровождении полицейского инспектора. Тем временем Джо взялся за ружье Голта и заглянул в оба ствола. Но как только явилась Ситаванга Салли, он его защелкнул и отставил.
Она была чистокровной индианкой и, подобно многим женщинам своего племени, которые теряют приметы возраста, как только минуют годы юности, казалась не старой и не молодой: высокие скулы, обрамленные жидкими волосами, запавшие тусклые глаза без всякого выражения. Войдя, она уставилась на Джо. Новембер ответил ей острым взглядом.
— Скажи, Салли, — произнес он наконец, — зачем ты убила старика Гаррисона?
— Нет, нет! Я их не убивать! Их Голт убивать! — возразила она, показав желтые зубы из-под припухшей верхней губы.
Джо покачал головой.
— Ни к чему это, Салли, — сказал он. — Я знаю, что ты застрелила его из второго ружья мистера Симонсона — из того, что вон в том чехле.
— Моя не убивать! Не убивать! — закричала она.
Она вскинула была руки, поддавшись возбуждению, но тут же уронила их и вернулась к обычному своему стоическому безразличию.
— Вы бы лучше доложили, что откопали, Джо, — сказал инспектор нетерпеливо.
— Должен признаться, — начал Новембер негромко и просто, как всегда, — что мне очень не сразу удалось найти хоть что-то против улик Картера. Я-то был уверен, что Голт не убивал, значит, должен быть кто-нибудь другой. Но нашел я следы только Голта и Картера, а Картер всю историю выложил довольно точно. Вот почему я принялся искать третьего, и появиться этот третий мог, только приплыв на каноэ.
Однако никаких признаков, что к берегу приставало каноэ, я не нашел, хотя очень старательно искал. И все-таки застрелить человека с воды никто бы не мог, потому как оттуда слишком далеко до того места, где нашли тело мистера Гаррисона. В общем, вы понимаете, у меня не оставалось никакой другой разгадки: кто-то приплыл на каноэ, вылез на бревно, которое лежит неподалеку от засидки, прошел по нему до конца и выстрелил в мистера Гаррисона оттуда.
Теперь другое: расстояние от бревна до тела мистера Гаррисона — более одиннадцати ярдов, и все же разброс дроби небольшой — вы это видели; потому я догадался, что убийца, кто бы он ни был, пользовался ружьем, у которого ствол с полным чоком:[26] такие посылают дробь сильно и кучно, притом, как мне представлялось, это было ружье большего калибра, чем двенадцатый. И я начал искать заново, и в конце концов нашел свежий пыж от недавнего выстрела из ружья десятого калибра (он сейчас у мистера Кварича).
Между тем, и у Гаррисона, и у Голта ружья двенадцатого калибра. Единственный, у кого была десятка, — это мистер Симонсон, а он расположился дальше всех, в засидке возле самого клуба. Кроме того, он ходит в сапогах, подбитых гвоздями, и никак не мог бы пройти по этому трухлявому бревну, не оставив отчетливых следов. Значит, это был не он. Но я полностью убедился, что кто-то, обутый в мокасины или галоши, стрелял из ружья-десятки. И еще я понял, что убийство не было внезапным. Тот, кто его совершил, продумал все заранее.
— А это вы откуда взяли? — вставил офицер.
— Дробь номер шесть, помните? Не было там патронов для десятки, заряженных номером шестым. Тот, кто все это затеял, вероятно, зарядил те патроны нарочно, чтобы подозрение пало на мистера Голта.
— Понятно.
— Ну вот, — продолжал Джо, — вот что мне дал осмотр Камышовой Шейки. Дальше ничего другого не оставалось, как обойти озеро и взглянуть на лодки. Тем более что мистер Голт сказал нам с мистером Кваричем, будто видел, как кто-то ходил по южному берегу почти сразу после того, как случилось убийство. Мы, значит, и прогулялись туда. Конечно, там я и нашел следы от пары маленьких мокасин — они вели вниз, к лодочному сараю, а потом снова вверх. «Ситаванга Салли, — говорю я себе, — уж больно эти следочки похожи на твои…»
— Но откуда же взялось пятно в каноэ — ведь это не могла быть кровь Гаррисона?
— Да и не была, — сказал Джо. — Кровь была ее, Салли, собственная. Силенок-то у женщины немного, а у этих ружей-десяток чертовская отдача. Я рассудил так, что у нее кровь носом пошла. Гляньте, как у нее щека и губа распухли.
Пока Джо произносил слово за словом, сплетая все туже сеть вокруг индейской скво, я наблюдал за ее застывшим лицом. Когда он указал на распухший рот Салли, ее черты внезапно оживились; никогда не приходилось мне видеть такого выражения дичайшей, мстительной страсти. Признав безнадежность своего положения, она отбросила все уловки.
— Да, моя убить Гаррисон! — выкрикнула она. — Моя убить им хорошо!
— Ох, Салли, — сказала сквозь слезы Эйлин. — Он всегда делал тебе добро!
— Гаррисон дьявол! — яростно возразила индианка. — Моя клялась убить им перед месяц листьев. Гаррисон убить Птица Прерий — мой сын.
— Что это означает? — Эйлин в ужасе оглянулась на нас.
— Полагаю, у меня есть объяснение, — сказал инспектор. — Месяц листьев — это июнь. А мистер Гаррисон был судьей в Штатах, не так ли?
— Так…
— И он вел какие-то дела индейцев из резерваций. Помнится, мне говорили, что сын этой женщины попал в беду из-за кражи лошадей…
— Плохой человек сказать, что Птица Прерий украсть им, — перебила его Салли. — Черные одежды… черно одетые человеки болтать-болтать. Потом старый Гаррисон болтать. Забрать Птица Прерий — далеко, далеко. Моя пойти следом.
— Так оно и было, — продолжал инспектор. — Я помню, что Птицу Прерий судили, ему дали десять лет. Вероятно, приговор вынес судья Гаррисон. Птица умер в заключении. Если так, тогда все понятно. Индейцы никогда не забывают.
— Птица Прерий, он мертвый. Моя клялась убить им, Гаррисон. Теперь Птица Прерий счастливый. Моя готов идти к им, — заявила старая скво и вновь впала в свое бесстрастное молчание.
— Она думала, что мистер Гаррисон лично ответствен за смерть ее сына, — добавил инспектор.
— Бедная женщина! — вздохнула Эйлин.
К моему рассказу мало что можно добавить. Расследование в дальнейшем подтвердило факты, приведенные инспектором; стало ясно, что Ситаванга Салли, проведав об участии Гаррисона в охотах клуба «Тамаринд», нанялась туда с единственной целью отмщения за сына. Она, несомненно, заметила чувство, возникшее между Эйлин и Голтом, и попыталась навлечь подозрения на последнего, чтобы отомстить в полной мере, а заодно и отвести подозрения от себя.
Индейцы все еще придерживаются древнего закона — кровь за кровь. Он прост и понятен.
Наиболее точный итог этого дела, как мне кажется, подвел сам Новембер:
— Похоже, что индейцы порой считают наше цивилизованное правосудие сущей неразберихой, — сказал он.
Эрнст Брама
ТРАГЕДИЯ В КОТТЕДЖЕ БРУКБЕНД
— Макс, — произнес мистер Карлайл, когда Паркинсон закрыл за собой дверь, — это лейтенант Хольер, которого ты согласился увидеть.
— Услышать, — поправил Каррадос, улыбаясь прямо в пышущее здоровьем и слегка смущенное лицо незнакомца перед ним. — Мистер Хольер знает о моей слепоте?
— Мистер Карлайл сказал мне, — ответил юноша, — но на самом деле я уже слышал о вас, мистер Каррадос, от одного из наших людей. Речь шла о крушении корабля «Иван Саратов».
Каррадос с добродушным смирением покачал головой.
— А ведь владельцы поклялись хранить все в полном секрете, — посетовал он. — Что ж, полагаю, это неизбежно. Надеюсь, мистер Хольер, ваше дело не касается пробоин в днище?
— Нет, мое дело довольно личное, — ответил лейтенант. — Моя сестра, миссис Крик… Впрочем, мистер Карлайл расскажет об этом лучше, чем я. Он все знает.
— Нет-нет. Карлайл профессионал. Позвольте мне услышать необработанную версию, мистер Хольер. Уши заменяют мне глаза, знаете ли.
— Хорошо, сэр. Я могу рассказать вам обо всем, это верно, но я боюсь, что все сказанное и сделанное может показаться очень незначительным, несмотря на то, что для меня это важно.
— Иногда мелочи имеют огромное значение, — подбодрил его Каррадос. — Не стесняйтесь.
Вот что рассказал лейтенант Хольер:
— Моя сестра, Миллисент, замужем за человеком по фамилии Крик. Ей сейчас почти двадцать восемь, а он по меньшей мере на пятнадцать лет ее старше. Ни мою мать (которая теперь уже умерла), ни меня Крик никогда особо не волновал. Мы ничего не имели против него, кроме разве что некоторой разницы в возрасте. Но никто из нас не нашел с ним общего языка. Он был мрачный, неразговорчивый человек, и его угрюмое молчание убивало любую беседу. Поэтому, разумеется, мы не очень часто виделись.
— Как ты понимаешь, Макс, это было четыре или пять лет назад, — бесцеремонно вмешался мистер Карлайл. Непреклонное молчание Каррадоса было ему ответом. Карлайл высморкался, умудрившись придать этому действию обиженное звучание, и тогда лейтенант Хольер продолжил:
— Миллисент вышла замуж за Крика после очень недолгой помолвки. Это была ужасно мрачная свадьба — по мне, так больше похожая на похороны. Крик — человек нелюдимый, едва ли у него были друзья или деловые знакомые. Он был каким-то агентом и держал контору в Холборне. Полагаю, этим он зарабатывал на жизнь, хотя мы почти ничего не знали о его личных делах. С тех пор, как я понимаю, дела его шли все хуже, и я подозреваю, что последние несколько лет они держатся на плаву всецело за счет небольшого дохода Миллисент. Хотите ли вы знать подробности?
— Рассказывайте, прошу вас, — кивнул Каррадос.
— Когда наш отец умер семь лет назад, он оставил три тысячи фунтов. Они были вложены в Канадские акции и приносили чуть больше сотни в год. По его завещанию на этот доход должна была жить моя мать, а после ее смерти деньги переходили Миллисент, при условии единовременной выплаты мне пятисот фунтов. Однако в личной беседе отец посоветовал мне позволить Миллисент хранить эти деньги и получать с них доход, пока они не понадобятся мне для чего-то конкретного. Ведь она не будет особенно богата. Видите ли, мистер Каррадос, на мое образование и развитие было потрачено куда больше, чем на ее. У меня было жалование, и кроме того, я, в конце концов, мужчина и мог позаботиться о себе намного лучше.
— Совершенно верно, — согласился Каррадос.
— Поэтому я ничего не имел против, — продолжил лейтенант. — Три года назад я приезжал домой, но с ними особо не виделся. Они жили на съемной квартире. До прошлой недели это был единственный раз, когда я встречался с ними после свадьбы. Тем временем наша мать умерла, и Миллисент стала получать доход. Тогда же она написала мне несколько писем. В остальное время мы не часто писали друг другу, но около года назад Миллисент прислала мне их новый адрес — коттедж Брукбенд, Муллин Коммон — они сняли дом. Получив два месяца отпуска, я, само собой разумеется, решил навестить их, полный намерения провести с ними как можно больше времени, но уже через неделю съехал под вымышленным предлогом. Унылое, невыносимое место, все пропитанное неописуемо гнетущей атмосферой. — Он беспокойно огляделся, наклонился и понизил голос. — Мистер Каррадос, я совершенно уверен, что Крик только и ждет удобного момента, чтобы убить Миллисент.
— Продолжайте, — спокойно ответил Каррадос. — Вас ведь убедила не только неделя в мрачной обстановке коттеджа Брукбенд, мистер Хольер.
— Я не вполне уверен, — с сомнением признался Хольер. — К этому вполне могли привести подозрительность и ненависть ко мне, скрытая под маской вежливости. И все-таки было кое-что более существенное. На следующий день после моего приезда Миллисент рассказала, что, безо всяких сомнений, несколько месяцев назад Крик собирался отравить ее гербицидом. Она проговорилась об обстоятельствах этого в минуту сильного нервного потрясения, но позже отказалась возвращаться к разговору об этом — даже слабо отрицала. Все, что мне с величайшей сложностью удалось вытянуть из нее, расспрашивая о муже и его делах, — Миллисент была совершенно уверена, что Крик подмешал яд в бутылку портера, которую она должна была выпить за ужином, оставшись одна. Когда это не сработало, он вылил смесь, вымыл бутылку и добавил в нее остатки из другой.
Гербициды вместе с другими смесями хранились в том же шкафу, что и пиво, и были разлиты в такие же бутылки, но с надлежащими этикетками. Так что я не сомневаюсь, что, вернувшись домой и обнаружив Миллисент мертвой или умирающей, он бы представил это так, словно она в темноте перепутала бутылки и успела сделать глоток яда, прежде чем обнаружила свою ошибку.
— Да, — согласился Каррадос. — Легкий и безопасный способ.
— Вы должны знать, мистер Каррадос, что они живут весьма скромно и Миллисент практически полностью находится во власти своего мужа. У них всего одна служанка — женщина, которая приходит на несколько часов каждый день. Дом стоит весьма уединенно. Крик иногда отсутствует по нескольку дней, а Миллисент своей гордостью или безразличием оттолкнула от себя всех старых друзей и не завела новых. Он может отравить ее, закопать тело в саду и уехать за тысячи миль, прежде чем кто-нибудь начнет справляться о ней. Что же мне делать, мистер Каррадос?
— Маловероятно, чтобы он попытался теперь отравить ее чем-нибудь еще, — рассудил Каррадос. — Этот план провалился, и его жена будет настороже. Он может знать или, по крайней мере, подозревать, что кому-то об этом известно. Нет… Самой разумной мерой предосторожности для вашей сестры будет уйти от этого человека, мистер Хольер. Но она ведь не сделает этого?
— Нет, — подтвердил Хольер. — Я сразу ей это предложил. — Молодой человек некоторое время боролся с сомнениями, а потом выпалил: — Честно говоря, мистер Каррадос, я не понимаю Миллисент. Она сильно изменилась. Она ненавидит Крика и обращается с ним со скрытым презрением, которое как кислота разъедает их жизнь. И все же она неимоверно ревнует его и не позволит ничему, кроме смерти, разлучить их. Их жизнь ужасна. Как бы сильно мне ни был неприятен Крик, прожив с ними неделю, я должен признать — он изрядно от нее натерпелся. Было бы не так уж удивительно, если бы он в сердцах убил ее.
— Это нас не касается, — сказал Каррадос. — В игре такого рода надо выбирать сторону, и мы сделаем это. Остается убедиться, что наша сторона выиграет. Вы упомянули ревность, мистер Хольер. Вы полагаете, у миссис Крик есть реальные основания?
— Мне стоило сказать об этом, — ответил Хольер. — Мне довелось познакомиться с репортером, работающим в том же квартале, что и Крик. Когда я упомянул его имя, он ухмыльнулся. «Крик, — сказал он, — у него роман с машинисткой, не так ли?» — «Вообще-то, он муж моей сестры, — ответил я. — Что за машинистка?». Парень сразу срезался. «Нет-нет, — сказал он. — Я не знал, что он женат. Не хочу ни во что такое впутываться. Я только говорю, что у него есть машинистка. Что такого? У нас тоже есть, у всех есть». И больше мне ничего не удалось у него выяснить, хотя эти слова и усмешка подразумевали… Ну, вы понимаете, мистер Каррадос.
Каррадос повернулся к своему другу.
— Полагаю, ты уже все знаешь о машинистке, Луис?
— За ней установлено строгое наблюдение, — с торжественной важностью ответил мистер Карлайл.
— Она не замужем?
— Нет. Если верить общему мнению, нет.
— Это все, что сейчас важно. Мистер Хольер предоставил нам три превосходные причины, по которым этот человек может желать избавиться от жены. Если принять во внимание попытку отравления — несмотря на то, что у нас есть только подозрение ревнивой женщины, — то к желанию можно прибавить и намерение. Что ж, мы возьмемся за это. Есть у вас фотография мистера Крика?
Лейтенант достал блокнот.
— Мистер Карлайл уже спрашивал меня. Вот лучшее, что я смог достать.
Каррадос позвонил в звонок.
— Паркинсон, — сказал он, когда тот явился на зов, — вот фотография мистера… Кстати, как его имя?
— Остин, — подсказал Хольер, который следил за происходящим со смесью восторга и чувства значимости происходящего.
— …мистера Остина Крика. Может понадобиться, чтобы вы его опознали.
Паркинсон взглянул на снимок и вернул его своему хозяину.
— Могу я спросить, как давно была сделана фотография этого джентльмена, сэр? — уточнил он.
— Около шести лет назад, — ответил лейтенант, с откровенным любопытством рассматривая нового участника этой драмы. — Но он с тех пор совсем не изменился.
— Благодарю вас, сэр. Я приложу все усилия к тому, чтобы запомнить мистера Крика, сэр.
Когда Паркинсон покинул комнату, лейтенант Хольер встал. Встреча, похоже, подошла к концу.
— Да, еще одно, — спохватился он. — Боюсь, пока я гостил в Брукбенде, я совершил ошибку. Мне показалось, что если уж деньги Миллисент рано или поздно попадут в руки Крика, я могу, по крайней мере, получить свои пятьсот фунтов. Хотя бы чтобы потом помочь ей. Так что я заговорил об этом и сказал, что хотел бы получить деньги сейчас, поскольку есть возможность выгодно их вложить.
— И вы полагаете…
— Возможно, это подтолкнет Крика действовать быстрее, чем он намеревался. Возможно, получив во владение всю сумму, он посчитает очень неудобным возвращать ее часть.
— Тем лучше. Меня беспокоит, что, если вашей сестре грозит смерть, это может случиться как на следующей неделе, так и в следующем году. Простите мою жестокость, мистер Хольер, но для меня это всего лишь дело, и я оцениваю его со стратегической точки зрения. Агентство мистера Карлайла не может присматривать за миссис Крик вечно, только несколько недель. Увеличивая риск сейчас, мы уменьшаем его в будущем.
— Понимаю, — согласился Хольер. — Я ужасно беспокоюсь, но полностью полагаюсь на вас.
— Тогда мы предоставим мистеру Крику все стимулы и возможности действовать. Где вы теперь остановились?
— У друзей в Сент-Олбанс.
— Это слишком далеко.
Глаза его остались непроницаемыми, но отголосок зарождающегося интереса в голосе заставил мистера Карлайла забыть о тяжком оскорблении, так недавно нанесенном его чувству собственного достоинства.
— Дайте мне несколько минут, пожалуйста. Можете выкурить сигарету, мистер Хольер.
Слепец отошел к окну и, казалось, устремил взгляд на лужайку в тени кипарисов. Лейтенант прикурил сигарету, а мистер Карлайл взял номер журнала «Панч».[27] Спустя некоторое время Каррадос вновь повернулся к ним.
— Вы готовы отказаться от своих планов? — потребовал он ответа от визитера.
— Безусловно.
— Очень хорошо. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас пошли в коттедж Брукбенд. Скажите сестре, что ваш отпуск неожиданно прервали и вы завтра отправляетесь в плавание.
— На «Воинственном»?
— Нет-нет, «Воинственный» никуда не уходит. По пути изучите расписание рейсов и найдите корабль, который отходит завтра. Скажите, что вас перевели. И добавьте, что вас не будет всего два или три месяца, а по возвращении вы хотите получить свои пятьсот фунтов. Не оставайтесь там надолго, пожалуйста.
— Понимаю, сэр.
— Сент-Олбанс слишком далеко. Извинитесь перед друзьями и сегодня же съезжайте оттуда. Найдите жилье в городе, где у вас был бы доступ к телефону. Дайте знать нам с мистером Карлайлом, где вы остановились. Не попадайтесь на глаза Крику. Мне не хотелось бы заставлять вас сидеть дома, будто привязанного, но нам могут понадобиться ваши услуги. Мы дадим вам знать, как только что-то произойдет, и, если от вас ничего не понадобится, вы сможете быть свободны.
— Я не возражаю. Могу я еще что-нибудь сейчас сделать?
— Ничего. Лучшее, что вы могли сделать, — прийти к мистеру Карлайлу. Вы отдали судьбу своей сестры на попечение проницательнейшего человека в Лондоне.
Тот, кому был посвящен этот весьма неожиданный панегирик, внезапно обнаружил, что начал краснеть от смущения.
— Итак, Макс? — осторожно начал мистер Карлайл, когда они остались одни.
— Итак, Луис?
— Конечно, не имело смысла втолковывать это юному Хольеру, но по сути дела каждый человек способен распоряжаться жизнью любого другого, и ничего тут не поделаешь.
— Если только он не заблуждается, — признал Каррадос.
— Именно так.
— И если он совсем не заботится о последствиях.
— Конечно.
— Два весьма веских уточнения. Крика, очевидно, касаются они оба. Ты его видел?
— Нет. Я велел своему человеку докладывать о его делах в городе. Потом, два дня тому назад, когда дело начало казаться интересным — ибо Крик, очевидно, серьезно увлечен машинисткой, Макс, и со дня на день дело может принять серьезный оборот, — я лично съездил в Муллин Коммон. Хотя дом и стоит уединенно, возле него проходит трамвайный маршрут. Ты знаешь эти садовые рынки в сельских районах, что в дюжине миль от Лондона, — попеременно предлагают кирпичи и капусту. На месте оказалось довольно легко разузнать о Крике. Он ни с кем там не общается, каждый день в разное время ездит в город и, говорят, у него чертовски трудно выманить деньги. В конце концов я познакомился с одним стариком, который раньше иногда работал в саду в Брукбенде. У него свой дом с садом и теплицей, и дело обошлось мне в стоимость фунта помидоров.
— Было ли это выгодным вложением?
— В помидоры — да, в информацию — нет. Старик, похоже, имеет роковой недостаток — он ослеплен обидой. Несколько недель назад Крик сказал, что больше не нуждается в его услугах и в дальнейшем сам будет заниматься садом.
— Это уже что-то, Луис.
— Если только Крик собирался отравить свою жену гиосциамином и закопать в саду, вместо того чтобы подсунуть ей динамит и утверждать потом, что он случайно оказался среди угля.
— Верно, верно. И все же…
— Впрочем, у старика было собственное объяснение для всего, что делал Крик. Крик — сумасшедший. Он даже видел, как тот пускал воздушного змея в своем саду, причем змей потерпел крушение среди деревьев, запутавшись в ветвях. Парень лет десяти справился бы лучше, заявил старик. Без сомнения, этот эпизод имел место, я сам видел змея, висящего над дорогой. То, что здравомыслящий человек может тратить свое время на игрушки, было выше понимания старика.
— В последнее время немало людей запускают самых разных воздушных змеев, — заметил Каррадос. — Он интересуется авиацией?
— Возможно. У него есть кое-какие научные знания. Что ты хочешь, чтобы я теперь сделал, Макс?
— Ты выполнишь любую просьбу?
— Безусловно, не считая обычных оговорок.
— Пусть твой человек продолжает следить за Криком в городе, и дай мне знать, что ему удастся выяснить. Пообедаешь со мной. Позвони на работу, скажи, что тебя задержало неприятное дело, и затем дай выходной достопочтенному Паркинсону, присматривающему за мной. Мы возьмем машину и поедем прогуляться в Муллин Коммон. Если хватит времени, может быть, доедем до Брайтона, поедим в «Корабле» и вернемся назад по холодку.
— Любезный и трижды счастливый смертный, — вздохнул мистер Карлайл, взгляд его блуждал по комнате.
Но так получилось, что до Брайтона они в этот день не добрались. Каррадос намеревался всего лишь заехать в Брукбенд по пути и разузнать об окрестностях, опираясь на свои высокоразвитые способности и с помощью описаний мистера Карлайла. За сто ярдов от дома они приказали шоферу снизить скорость и неторопливо проезжали мимо, когда открытие мистера Карлайла полностью изменило их планы.
— Боже милостивый! — неожиданно воскликнул этот джентльмен. — Тут доска с объявлением. Дом сдается!
Каррадос вновь поднял трубку связи с водителем.[28] Они обменялись парой слов, и машина остановилась на обочине, в двадцати шагах от границы сада. Достав свою записную книжку, мистер Карлайл записал адрес агентства, продающего дом.
— Вы не могли бы заглянуть под капот и проверить двигатель, Харрис? — произнес Каррадос. — Мы бы хотели задержаться здесь на несколько минут.
— Это довольно неожиданно, Хольер ничего не знал о том, что они уезжают, — заметил мистер Карлайл.
— Возможно, не в ближайшие три месяца. И все же, Луис, мы сходим в агентство, возьмем разрешение на осмотр дома и посмотрим, можно ли это использовать.
Между садом и дорогой пролегала густая изгородь, обвитая зеленью, которая надежно скрывала дом от посторонних взглядов. За изгородью виднелся редкий кустарник, на ближайшем к машине углу цвел каштан. Оставшиеся позади деревянные ворота когда-то были белыми, но теперь они покосились, и грязь глубоко въелась в них. Сама дорога представляла из себя непрезентабельную сельскую улочку эпохи появления электромобиля. Казалось, больше здесь нечего было делать, ведь они узнали все, что могли. Каррадос уже собирался приказать Гаррису уезжать, когда его ухо уловило чуть различимый шум.
— Кто-то выходит из дома, Луис, — предупредил он друга. — Это может быть Хольер, хотя он уже давно должен был уйти.
— Я ничего не слышу, — ответил тот, но, пока он говорил, дверь с шумом распахнулась. Мистер Карлайл скользнул на другое сиденье и спрятался за номером газеты «Земной шар».[29] — Крик собственной персоной, — громко прошептал он, когда человек вышел за ворота. — Хольер был прав, он совсем не изменился. Полагаю, ждет машину.
Но машина, которая вскоре проехала мимо в том направлении, куда вглядывался мистер Крик, не заинтересовала его. Минуту или две он выжидающе смотрел на дорогу, а затем медленно зашагал обратно к дому.
— Мы подождем еще пять или десять минут, — решил Каррадос. — Гаррис великолепный актер.
Но прежде чем прошло даже пять минут, их терпение было вознаграждено. Неторопливо крутя педали, подъехал мальчик, разносящий телеграммы, оставил велосипеду ворот и прошел в дом. Очевидно, ответа на телеграмму не последовало, поскольку меньше чем через минуту мальчик снова проехал мимо них. За углом громко зазвенел звонок приближающегося трамвая, и, спеша на этот звук, вновь появился мистер Крик — на этот раз с небольшим чемоданом в руке. Оглянувшись, Крик поторопился к остановке и, сев в остановившийся трамвай, был унесен в неизвестном направлении.
— Очень любезно со стороны мистера Крика, — с некоторым удовлетворением отметил Каррадос. — Теперь мы сможем посмотреть дом в его отсутствие. И также может быть полезным взглянуть на телеграмму.
— Может, и так, Макс, — слегка сухо согласился мистер Карлайл. — Но если она, что скорее всего, в кармане у Крика, как ты предлагаешь это сделать?
— Сходив на почту, Луис.
— Ну конечно. Ты когда-нибудь уже пытался получить копию телеграммы, адресованной кому-то другому?
— Не думаю, что мне случалось это делать прежде, — признал Каррадос. — А тебе?
— Раз или два мне пришлось стать соучастником этого преступления. Как правило, это требует предельной деликатности или значительных затрат.
— Тогда ради Хольера будем надеяться, что словолитчик на месте.
Мистер Карлайл незаметно улыбнулся, давая понять, что в некотором роде ждал возможности по-дружески отомстить.
Чуть позже, оставив машину в начале извилистой Высокой улицы, двое мужчин позвонили в дверь сельской почты.
Они уже побывали в агентстве и получили разрешение осмотреть Брукбенд, не без труда отклонив предложение весьма настойчивого клерка сопровождать их. Причина этого вскоре выяснилась. «На самом деле, — пояснил юноша, — это мы попросили съехать предыдущего владельца».
— Не очень-то он хорош, да? — сочувственно заметил Каррадос.
— Он чудовищный скряга, — признался клерк, ободренный дружеским тоном. — За пятнадцать месяцев мы не получили от него ни пенни за аренду. Вот почему я хотел бы…
— Мы заплатим всю сумму, — ответил Каррадос.
Почта располагалась в помещении книжного магазина. Не без некоторого душевного трепета мистер Карлайл осознал, что его втянули в сомнительную авантюру. Каррадос, напротив, представлял собой само спокойствие.
— Вы только что послали телеграмму в коттедж Брукбенд, — сказал он юной леди за зарешеченным окошком. — Мы полагаем, что произошла ошибка и телеграмму надо повторить. — Он достал кошелек. — Сколько это будет стоить?
Очевидно, это была необычная просьба.
— О, — растерянно отозвалась девушка, — подождите минуту, пожалуйста. — Она обернулась к стопке дубликатов телеграмм и неуверенно пролистала верхние. — Думаю, все в порядке. Вы хотите повторить?
— Будьте так добры.
Только тень удивления от этого вопроса проскользнула в учтивом тоне.
— Четыре пенса. Если произойдет ошибка, сумма будет возвращена.
Каррадос отдал монеты и получил сдачу.
— Это не займет много времени? — небрежно спросил он, надевая перчатки.
— Скорее всего, не более четверти часа, — ответила девушка.
— Итак, ты сделал это, — сказал мистер Карлайл, когда они пошли обратно к машине. — И как ты намерен получить эту телеграмму, Макс?
— Попросить, — лаконично ответил тот.
И безо всяких сложных ухищрений он просто попросил и получил ее. Машина, оставленная на повороте, предупреждающе просигналила, когда приблизился разносчик телеграмм. Тогда Каррадос принял весьма естественную позу, положив руку на ворота, пока мистер Карлайл делал вид, что прощается и уходит. Все это выглядело очень убедительно, когда мальчик подъехал к дому.
— Крику, в коттедж Брукбенд? — спросил Каррадос, протягивая руку, и безо всякой задней мысли мальчик отдал ему конверт и уехал в полной уверенности, что ответа не будет.
— Однажды, мой друг, — заметил мистер Карлайл, нервно поглядывая в сторону скрытого за оградой дома, — ваше хитроумие загонит вас в угол.
— Оно же меня и выведет, — был ответ. — Давайте теперь посмотрим дом. Телеграмма может подождать.
Неопрятная служанка взяла у них разрешение и оставила стоять у двери. Некоторое время спустя появилась женщина, которая, как они оба знали, должна была быть миссис Крик.
— Вы хотели бы посмотреть дом? — спросила она безо всякого интереса в голосе и, не дожидаясь ответа, повернулась к ближайшей двери и открыла ее. — Это гостиная, — сказала она, пропуская их в комнату.
Пока они делали вид, что осматривают скудно обставленную и пропахшую сыростью комнату, миссис Крик оставалась безмолвной и безучастной.
— Столовая, — продолжила она, проходя по узкому коридору и открывая следующую дверь.
В надежде завязать разговор, мистер Карлайл решился произнести какую-то добродушную банальность, но эта затея не увенчалась успехом. Несомненно, они бы обошли весь дом в таком же ледяном молчании, если бы Каррадос не оступился — мистер Карлайл не мог припомнить, чтобы прежде с ним происходило подобное. Пересекая коридор, Каррадос запнулся о коврик и чуть не упал.
— Простите мою неуклюжесть, — сказал он леди, — я, к несчастью, совсем слеп. Но, — добавил он с улыбкой, стремясь сгладить впечатление от своих слов, — даже слепому нужен дом.
Мистер Карлайл был удивлен, увидев, как краска заливает лицо миссис Крик.
— Слепой! — воскликнула она. — О, простите меня. Почему же вы не сказали? Вы могли упасть.
— Обычно я неплохо справляюсь, — ответил он, — но, конечно, незнакомый дом…
Миссис Крик аккуратно положила руку ему на плечо.
— Вы должны позволить мне вести вас, хотя бы чуть-чуть, — сказала она.
Хотя дом был небольшим, он был полон коридоров и неудобных поворотов. Каррадос задавал обычные вопросы и нашел, что миссис Крик довольно любезна, хоть и не словоохотлива. Мистер Карлайл следовал за ними из комнаты в комнату в надежде узнать что-нибудь, что могло бы быть полезным, хотя и не особо на это рассчитывая.
— Это последняя, самая большая спальня, — сказала их провожатая. Наверху только две комнаты были полностью обставлены, и мистер Карлайл сразу заметил, тогда как Каррадос знал и не видя, что именно эту занимали Крики.
— Очень приятный вид отсюда, — заявил мистер Карлайл.
— Да, наверное, — с сомнением отозвалась леди.
Из окна был виден заросший зеленью сад и дорога за ним. За стеклянной дверью находился небольшой балкон, и Каррадос подошел к нему, влекомый тем странным влиянием, которое всегда производил на него свет.
— Полагаю, здесь понадобится некоторый ремонт, — сказал он, постояв там с минуту.
— Боюсь, что так, — признала миссис Крик.
— Я спрашиваю, потому что здесь, на полу, положен лист металла, — продолжил он. — Для внимательного наблюдателя это означает, что в доме есть гниль.
— Мой муж сказал, что доски прогнили из-за воды, которая скапливается у окна во время дождя, — ответила она. — Он недавно положил его сюда. Я сама ничего не замечала.
Впервые за все это время она упомянула своего мужа, и мистер Карлайл навострил уши.
— Что ж, это меня не слишком волнует, — сказал Каррадос. — Нельзя ли мне выйти на балкон?
— О да, если вам так угодно. — И, увидев, что он пытается нащупать задвижку, миссис Крик добавила: — Позвольте мне открыть.
Но окно было уже открыто, и Каррадос, поворачиваясь в разных направлениях, определил его местоположение.
— Укромный и солнечный уголок, — заметил он. — Идеальное место для того, чтобы посидеть в шезлонге с книгой.
Миссис Крик слегка высокомерно пожала плечами.
— Может быть, — ответила она, — но я никогда его не использовала.
— Изредка, конечно, — продолжил он мягко. — Для меня это был бы лучший отдых. Но…
— Я хотела сказать, что никогда даже не выходила на этот балкон, но это не совсем так. Я использую его в двух случаях, одинаково романтичных: изредка я вытряхиваю здесь тряпку для пыли, и, когда мой муж возвращается поздно и без ключа, он будит меня и я выхожу сбросить ему свой ключ.
Дальнейшие откровения о ночных привычках мистера Крика были прерваны, к большому неудовольствию мистера Карлайла, выразительным кашлем, донесшимся от подножия лестницы. Они услышали, как тележка торговца въехала в ворота, затем раздались стук в дверь и топот шагов по коридору.
— Извините, пожалуйста, я на минуту, — сказала миссис Крик.
— Луис, — громко прошептал Каррадос, как только они остались одни, — встань возле двери.
С невероятной правдоподобностью мистер Карлайл изобразил интерес к якобы восхитившей его картине, расположившись при этом так, что невозможно было открыть дверь больше чем на несколько дюймов. Стоя так, он наблюдал за весьма любопытными действиями своего сообщника: опустившись на колени на полу в спальне, Каррадос с минуту стоял, прижав ухо к листу металла, который полностью завладел его вниманием. Затем он поднялся, кивнул, отряхнул брюки, и мистер Карлайл сменил позу на менее подозрительную.
— Какие прекрасные розы растут у вас под балконом, — заметил Каррадос, заходя обратно в комнату, когда вернулась миссис Крик. — Полагаю, вы обожаете ухаживать за садом?
— Терпеть не могу, — ответила она.
— Но эти глории, столь заботливо направленные…
— Да? — ответила она. — Полагаю, мой муж недавно приколотил их.
По иронии судьбы, самые бессмысленные замечания Каррадоса выводили разговор на отсутствующего мистера Крика.
— Хотите посмотреть сад?
Сад оказался огромным и запущенным. За домом в основном росли фруктовые деревья. У фасада еще поддерживалось какое-то подобие порядка. Здесь были газон, кустарник и тропинка, по которой они прошли. Две вещи интересовали Каррадоса: почва под балконом, которой он устроил экзамен на пригодность для роз, и прекрасный каштан на углу у дороги.
Когда они вернулись к машине, мистер Карлайл посетовал, что им так мало удалось узнать о том, куда уехал Крик.
— Возможно, телеграмма подскажет нам что-то, — предположил Каррадос. — Прочти ее, Луис.
Мистер Карлайл вскрыл конверт, взглянул на вложение и, несмотря на разочарование, не смог сдержать смех.
— Мой бедный Макс, — объяснил он, — все твои ухищрения были впустую. Очевидно, желая взять отпуск, Крик предусмотрительно озаботился получить прогноз погоды в Метеорологическом бюро. Слушай: «В настоящее время в Лондоне тепло и ясно. В дальнейшем ожидается небольшое похолодание, без осадков». Ну и ну, я-то за свои четыре пенса хотя бы получил фунт помидоров.
— Тут твой выигрыш несомненен, Луис, — с улыбкой согласился Каррадос. — Интересно, — задумчиво добавил он, — это особый стиль Криков — проводить выходные в Лондоне?
— Погоди, — отозвался Мистер Карлайл, снова глядя на телеграмму, — ей-богу, это странно, Макс. Они ездят в Уэстон-сьюпер-Мэр.[30] С чего это он стал узнавать про Лондон?
— У меня есть предположение, но, чтобы убедиться, надо будет приехать сюда еще раз. Взгляни еще раз на воздушного змея, Луис. От него не тянется несколько ярдов веревки?
— Да, тянется.
— Весьма толстая веревка — необычно для воздушного змея?
— Да, но как ты узнал?
Пока они ехали обратно, Каррадос объяснил, и мистер Карлайл был просто поражен. «Ради бога, Макс, неужели это возможно?!» — недоверчиво повторял он.
Час спустя он удостоверился, что это возможно. В ответ на его запрос из офиса сообщили, что «они» отправляются с Паддингтона в Уэстон в половине пятого.
Прошло больше недели с их знакомства с Каррадосом, прежде чем лейтенанта Хольера вызвали в особняк «Башни». Прибыв, он обнаружил, что мистер Карлайл уже здесь, и двое друзей ждут его.
— Я оставался дома весь день после вашего звонка этим утром, мистер Каррадос, — сообщил он, пожимая им руки. — Получив второе сообщение, я был полностью готов к выходу. Вот как мне удалось прийти вовремя. Надеюсь, все в порядке?
— Превосходно, — ответил Каррадос. — Вам лучше перекусить, прежде чем мы приступим. Нас ждет долгая и наверняка весьма захватывающая ночь.
— И уж точно сырая, — согласился лейтенант. — Над Муллином собиралась гроза, когда я шел.
— Поэтому вы и здесь, — произнес хозяин дома. — Мы ждем определенного рода сообщение, чтобы начать, и пока вы можете, раз уж есть время, узнать, что, как мы предполагаем, произойдет. Как вы заметили, надвигается гроза. Метеорологическое бюро утром дало прогноз — если условия не изменятся, гроза накроет весь Лондон. Сейчас уже очевидно, что менее чем через час начнется буря. Где-то будут повреждены деревья и здания, где-то, возможно, молнией будут убиты люди.
— Вот как.
— Замысел мистера Крика состоит в том, что его жена должна стать одной из жертв.
— Я не совсем понимаю. — Хольер переводил взгляд с одного на другого. — Я совершенно согласен, что Крику было бы чрезвычайно удобно, если бы так получилось, но без сомнений шанс на это до смешного мал.
— Тем не менее, если мы не вмешаемся, вердикт следователя будет именно таков. Знаете ли вы, что муж вашей сестры имеет некоторые познания в области электричества, мистер Хольер?
— Не уверен. Он был таким скрытным, и мы так мало о нем знали…
— А между тем в 1896 году Остин Крик опубликовал статью «Переменный ток» в американском «Научном мире». Это можно назвать довольно близким знакомством.
— Вы хотите сказать, что он собирается направить молнию?
— Только в глазах врача, который засвидетельствует смерть, и следователя. Эта буря, возможность, которой он ждал неделями, всего лишь прикрытие. Оружие, которое он намерен использовать, не менее могущественное, чем молния, но куда более сговорчивое — электрический ток высокого напряжения, текущий по трамвайным проводам возле ворот.
— Ох! — воскликнул лейтенант Хольер, внезапно озаренный пониманием.
— Где-то между одиннадцатью часами — тем временем, когда ваша сестра ложится спать, — и половиной второго ночи — до этого времени он может полагаться на ток — Крик кинет камень в балконное окно. Все приготовления уже давно сделаны, ему осталось только соединить короткий провод, идущий от оконной ручки, с длинным ответвлением от провода под напряжением. Сделав это, он разбудит жену вышеописанным способом. В тот момент, когда она сдвинет оконную задвижку — а он тщательно отшлифовал ее детали, чтобы обеспечить идеальный контакт, — миссис Крик будет убита электрическим током столь же наверняка, как если бы она сидела на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг.[31]
— Но чего же мы ждем?! — вскричал Хольер, вскакивая на ноги, бледный и напуганный. — Уже одиннадцатый час, и вот-вот может случится все, что угодно!
— Ваши чувства понятны, мистер Хольер, — успокаивающе произнес Каррадос, — но вам не о чем волноваться. За Криком следят, за домом следят, и ваша сестра в такой же безопасности, как если бы она спала сегодня в Виндзорском замке. Будьте уверены — что бы ни произошло, Крику не позволят довести свой план до конца, но крайне желательно позволить ему полностью себя скомпрометировать. Муж вашей сестры, мистер Хольер, обладает удивительной способностью прятать концы в воду.
— Проклятый жестокий мерзавец! — яростно воскликнул юный офицер. — Когда я думаю о Миллисент пять лет назад…
— Если уж на то пошло, — мягко заметил Каррадос, — в просвещенных государствах казнь на электрическом стуле считается самым гуманным способом избавиться от неугодных граждан. Крик, безусловно, весьма хитроумный джентльмен. К его несчастью, ему суждено было столкнуться с куда более проницательным умом в лице мистера Карлайла…
— Нет-нет! Ей-богу, Макс! — запротестовал смущенный джентльмен.
— Мистер Хольер сам сможет судить об этом, когда узнает, что именно мистер Карлайл первым обратил внимание на важность сломанного воздушного змея, — решительно настаивал Каррадос. — Затем, конечно, его значение стало ясным и мне — несомненно, как и любому другому. За десять минут, вероятно, провод должен быть перекинут с линии электропередач к каштану. Крику все благоприятствует, и нет никаких шансов на то, что водитель трамвая может заметить что-то особенное. Что с того, что возле линий электропередач есть веревка? Ведь уже больше недели он видел заброшенного змея с несколькими ярдами этой самой веревки, болтающимися на дереве. Весьма тонкий расчет, мистер Хольер. Было бы интересно узнать, как он планировал вести себя после. Полагаю, у него заготовлено с полдюжины маленьких убедительных деталей. Возможно, он просто опалил бы жене волосы, обжег раскаленной кочергой ноги, разбил окно, довольствуясь тем, что лучшее — враг хорошего. Видите ли, поскольку молнии столь разнообразны в их проявлении, все, что он бы сделал или не сделал, было бы верно. Он абсолютно защищен тем, что все симптомы указывают на смерть от удара молнии и только молнию можно в этом обвинить — расширенные зрачки, сжавшееся сердце, обескровленные легкие, сократившиеся на треть от нормального веса, и все остальное. Избавившись от всех следов, Крик мог бы «обнаружить» смерть жены и поспешить к ближайшему доктору. Или он мог бы решить обеспечить себе убедительное алиби и скрыться, предоставив кому-то другому найти тело. Мы никогда не узнаем, он никогда не признается.
— Хотел бы я, чтобы так и было, — согласился Хольер. — Я не особенно чувствительный человек, но все это наводит на меня ужас.
— Осталось не более трех часов, лейтенант, — подбодрил его Каррадос. — Так-так, что-то пришло.
Он подошел к телефону и, получив сообщение, сделал еще один звонок и несколько минут с кем-то говорил.
— Все идет гладко, — заметил он, не оборачиваясь. — Ваша сестра легла спать, мистер Хольер.
Затем он вернулся к телефону и начал раздавать указания.
— Итак, — подытожил он, — мы должны поторопиться.
К тому времени, когда они были готовы, их уже ждал автомобиль с крытым кузовом. Лейтенанту показалось, что он узнал Паркинсона в закутанной в плащ фигуре возле водителя, но он не желал медлить ни секунды. Проливной дождь уже превратил дорогу в бурлящую реку, повсюду молнии прорезывали небо, освещенное дрожащим сиянием более далеких вспышек, и затихающее ворчание грома превращалось в близкие и злобные раскаты.
— Одна из тех вещей, по которым я скучаю, — тихо заметил Каррадос, — но я могу расслышать в этом и цвет.
Разбрызгивая воду, машина двинулась к воротам, тяжело накренилась, попав в яму на дороге, и, выправившись, начала с довольным гудением двигаться по пустынному шоссе.
— Мы едем не напрямую? — неожиданно осведомился Хольер, когда они уже проехали несколько миль. Ночная тьма сбивала с толку, но он чувствовал направление, как всякий моряк.
— Нет, через Ханскотт-Грин и затем по проселочной дороге к фруктовому саду за домом, — ответил Каррадос. — Высматривай здесь человека с фонарем, Харрис, — сказал он в трубку водителю.
— Что-то только что мелькнуло впереди, сэр, — последовал ответ, и машина остановилась.
Каррадос опустил ближайшее окно, когда человек в блестящем непромокаемом плаще вышел из кладбищенских ворот и приблизился к машине.
— Инспектор Бидл, сэр, — представился он, заглядывая внутрь.
— Прекрасно, инспектор, — ответил Каррадос. — Садитесь.
— Со мной еще один человек, сэр.
— Для него тоже найдется место.
— Мы оба мокрые насквозь.
— Скоро мы все будем такими же.
Лейтенант пересел на другое сиденье, и двое дородных мужчин сели бок о бок. Меньше чем через пять минут машина снова остановилась, на этот раз на заросшей травой проселочной дороге.
— Теперь надо действовать, — объявил Каррадос. — Инспектор покажет нам дорогу.
Машина развернулась и исчезла в темноте, пока Бидл вел остальных к проходу в изгороди. Через поля они подошли к границе Брукбенда. Скрывавшийся среди листвы человек обменялся парой слов с их провожатым и провел их сквозь тень фруктовых деревьев к задней двери дома.
— Вы найдете выбитое стекло рядом с задвижкой кухонного окна, — сказал слепец.
— Верно, сэр, — ответил инспектор. — Это здесь. Кто пролезет внутрь?
— Мистер Хольер откроет нам дверь. Боюсь, вам лучше снять обувь и мокрый плащ, лейтенант. Будет слишком рискованно оставить хоть какой-то след внутри.
Они ждали, пока не открылась задняя дверь, а затем, избавившись от мокрых вещей, прошли в кухню, где еще теплился огонь в камине. Человек, ждавший их в саду, собрал все снятые вещи и вновь исчез.
Каррадос повернулся к лейтенанту.
— У меня для вас весьма деликатное дело, мистер Хольер. Я хочу, чтобы вы поднялись к своей сестре, разбудили ее и препроводили в другую комнату, по возможности без лишнего шума. Скажите ей столько, сколько сочтете необходимым, и дайте понять, что самая ее жизнь зависит от того, насколько тихо она будет себя вести. Не будьте слишком поспешны, но и не медлите, пожалуйста.
Старые покосившиеся часы на полке буфета отсчитали десять минут, прежде чем молодой человек вернулся.
— На это потребовалось время, — сообщил он с нервным смешком, — но я думаю, теперь все будет в порядке. Она в спальне для гостей.
— Тогда по местам. Вы и Паркинсон пойдете со мной в спальню. Инспектор, вы знаете свою цель, мистер Карлайл пойдет с вами.
Они молча разошлись по дому. Хольер с опасением взглянул на дверь спальни для гостей, когда они проходили мимо, но там было тихо, как в могиле. Нужная им комната располагалась на другом конце коридора.
— Вы могли бы теперь лечь в постель, Хольер, — подсказал Каррадос, когда они вошли в комнату и закрыли дверь. — Спрячьтесь хорошенько под одеялом. Крику придется подняться на балкон, как вы понимаете, и он, скорее всего, заглянет в окно, но не посмеет зайти дальше. Затем, когда он начнет бросать камни, накиньте халат вашей сестры. Я скажу вам, что делать дальше.
Следующий час показался лейтенанту самым долгим в его жизни. Временами он слышал шепот, которым обменивались мужчины, спрятавшиеся за занавесками, но ничего не мог разглядеть. Затем Каррадос предупредил его:
— Он сейчас в саду.
Со стороны наружной стены послышался скрип. Но ночь была полна пугающих звуков, и среди завываний ветра в камин, раскатов грома и шелеста дождя было слышно, как скрипели и потрескивали мебель и половицы. В такой момент никто не сумел бы остаться хладнокровным, и, когда наступил решающий момент и камушек неожиданно ударил в окно со звуком, который обостренные до предела чувства превратили в оглушительный треск, Хольер в мгновение ока вскочил с кровати.
— Тише, тише, — предупреждающе прошептал Каррадос. — Мы подождем еще одного удара. — Он протянул лейтенанту что-то. — Это резиновые перчатки. Я перерезал провод, но вам лучше надеть их. На мгновение подойдите к окну, сдвиньте задвижку, так, чтобы его можно было открыть, и сразу же падайте. Сейчас.
Еще один камень стукнулся о стекло. Сыграть свою роль для Хольера было делом нескольких секунд, а Каррадос несколькими касаниями расправил на нем халат, чтобы лучше замаскировать его широкоплечую фигуру. Но последовала непредвиденная и в данных обстоятельствах довольно жуткая пауза, когда Крик, в соответствии с деталями его неведомого плана, продолжил снова и снова бросать камни в стекло, так что задрожал даже абсолютно невозмутимый Паркинсон.
— Последний акт, — прошептал Каррадос через минуту после того, как все стихло. — Он обходит дом. Держитесь. Мы сейчас спрячемся.
Он съежился под защитой импровизированной ширмы из одежды, и, казалось, пустота и безмолвие вновь воцарились в доме.
В полудюжине мест спрятавшиеся люди напряженно вслушивались в тишину, пытаясь уловить малейший признак движения.
Крик шел очень тихо, возможно, испытывая странное замешательство от непосредственной близости несчастья, автором которого он не побоялся стать. Он замер на мгновение у двери в спальню, а затем очень осторожно открыл ее и в неверном свете прочел подтверждение своих надежд.
— Наконец-то! — услышали они резкий шепот, полный облегчения. — Наконец-то!
Он сделал еще шаг, и две тени упали на него сзади, по одной с каждой стороны.
Полный удивления и первобытного ужаса крик вырвался у него, в отчаянном порыве он попытался вырваться, и ему почти удалось засунуть одну руку в карман. Затем его запястья медленно соединились, и наручники защелкнулись на них.
— Я инспектор Бидл, — сказал человек справа. — Вы арестованы за попытку убийства вашей жены, Миллисент Крик.
— Вы с ума сошли, — с отчаянной решимостью возразил этот несчастный. — Ее убило молнией!
— Нет, негодяй, она жива! — яростно воскликнул Хольер, вскакивая на ноги. — Хочешь ее увидеть?
— Я также должен предупредить вас, — безучастно продолжал инспектор, — что все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
Испуганный вскрик в дальнем конце коридора привлек их внимание.
— Мистер Каррадос, — позвал Хольер, — ох, идите же сюда!
Стоя у открытой двери спальни, лейтенант все еще смотрел на что-то в комнате, сжимая в руке маленькую бутылочку.
— Мертва! — рыдая, воскликнул он. — Вот это было рядом с ней. Умерла именно теперь, когда она могла освободиться от этого мерзавца!
Слепец прошел в комнату, втянул ноздрями воздух и осторожно положил руку на грудь миссис Крик, пытаясь ощутить сердцебиение, которого, увы, не было.
— Да, — ответил он. — Как это ни странно, Хольер, женщины не всегда этого хотят.
ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ГАРРИ-АРТИСТА
Когда частный детектив мистер Карлайл решил выбраться из своего офиса и посетить сейфовое хранилище на Лукас-стрит в районе площади Пикадилли, его сопровождал сыщик-любитель Макс Каррадос. Последний около десяти минут провел в круглом холле хранилища, спокойно сидя среди пальм, пока мистер Карлайл занимался своим сейфом в одном из предназначенных для этого маленьких кабинетов. Именно эта мелочь вылилась в любопытный эпизод их совместной биографии.
В то время по общепринятому мнению хранилище на Лукас-стрит (позже оно было переоборудовано в картинную галерею) являлось самым надежным местом в Лондоне. Фасад здания был стилизован под огромную дверь сейфа, и под прозвищем «Сейф» это место стало символом надежности и неприступности. По слухам, половина ценных бумаг западного Лондона видела сейфы этого хранилища изнутри, как и большая часть фамильных драгоценностей здешнего общества. Это, конечно, было явным преувеличением, однако доля правды, ставшая основой для этих слухов, была достаточно солидной, чтобы поразить воображение.
В то время как обычные сейфы безнаказанно уносили целиком или весьма изобретательно вскрывали при помощи новейших достижений науки, держателей ценных бумаг, весьма обеспокоенных происходящим, не могло не привлечь учреждение, чьи скромные претензии были выражены в телеграфном адресе: «Неприступно». Сюда же поступали футляры с ювелирными изделиями, которые следовало хранить от помолвки до свадьбы, а также тогда, когда в соответствии с традициями семейство в полном составе отправлялось на север — или на юг, восток или запад, словом, куда угодно, — а дом в Лондоне закрывался. Отправить в хранилище столовое серебро и прочие ценности было своего рода частью ритуала, заведенного порядка, без которого поездка переставала быть данью традиции. Кроме того, сюда постоянно обращалось и немало торговцев: ювелиры, маклеры, агенты по продаже картин, антиквариата и ценных предметов искусства пользовались услугами «Сейфа» для хранения запасов, которые не требовалось постоянно иметь под рукой.
В здание вел всего лишь один вход — в виде гигантской замочной скважины, чтобы подчеркнуть сходство с дверью огромного сейфа, упомянутой выше. Первый этаж был полностью занят обычными офисами, все хранилища и сейфы располагались в подвале, фундамент которого был выполнен из стали. Попасть туда можно было, спустившись по лестнице или на лифте. В любом случае посетитель оказывался перед массивной решеткой. За ней стоял жуткого вида привратник, который никогда не покидал свой пост и чьей единственной обязанностью было открывать и закрывать решетку перед прибывающими и уходящими посетителями. Далее короткий коридор вел в центральный круглый холл, где и ждал своего друга Каррадос. Отсюда, словно лучи от солнца, расходились проходы, ведущие к хранилищам и сейфам. Каждый проход преграждала решетка, едва ли менее внушительная, чем самая первая, на входе. Между проходами располагались двери комнат, выполнявших роль личных кабинетов для клиентов компании, а также дверь кабинета управляющего. Вокруг царила тишина, все выглядело внушающим трепет и абсолютно неприступным.
«Но так ли это на самом деле?» — мелькнуло сомнение у Каррадоса, когда он достиг этой точки в своих размышлениях.
— Прости, что задержал тебя так надолго, мой дорогой Макс, — прервал его мысли бодрый голос мистера Карлайла. Он вышел из кабинета и пересекал холл, держа в руках коробку для документов. — Погоди минуту, и я к тебе вернусь.
Каррадос улыбнулся и кивнул, а затем вновь напустил на себя то обычное выражение, с которым единственно и может один джентльмен терпеливо ожидать возвращения другого. Он прекрасно умел внимательно наблюдать, не выдавая, впрочем, своего чрезмерного любопытства, ведь прочие чувства — слух и обоняние, например, — вполне могли быть до предела обострены, тогда как окружающим могло бы показаться, что наблюдатель вот-вот заснет.
— Идем, — жизнерадостно заявил мистер Карлайл, натягивая серые замшевые перчатки и возвращаясь к креслу, в котором сидел его друг.
— Ты же никуда конкретно сейчас не торопишься?
— Нет, — подтвердил детектив, немного помедлив от удивления. — Вовсе нет. Что ты предлагаешь?
— Здесь очень мило, — безмятежно ответил Каррадос. — Прохладно и спокойно, бронированная сталь отделяет нас от пыли и спешки жаркого июльского полдня. Мне бы хотелось здесь задержаться еще на несколько минут.
— Конечно, — согласился мистер Карлайл, занимая соседнее кресло и глядя на Каррадоса, как если бы он был абсолютно уверен, что в словах того есть нечто большее. — Полагаю, некоторые люди, арендующие здесь сейфы, весьма интересны. Мы можем встретить епископа, победителя скачек или даже артистку из мюзикла. К сожалению, сейчас, кажется, здесь затишье.
— Двое человек спустились сюда, пока ты был в своем кабинете, — небрежно заметил Каррадос. — Первый использовал лифт. Полагаю, он был среднего возраста, весьма дородный мужчина. У него в руках была трость, на голове — шелковая шляпа, и он использовал очки для чтения. Второй спустился по лестнице. Я полагаю, он вошел в здание в тот самый момент, как лифт начал спускаться. Он сбежал вниз по ступенькам, так что они оба вошли одновременно, но второй, хотя он и более энергичный из двоих, помедлил в коридоре, так что полный первым прошел к сейфу.
Понимающий взгляд мистера Карлайла словно говорил: «Продолжай, друг мой, к чему ты ведешь?» Но детектив ограничился лишь заинтересованным: «И?»
— Когда ты вышел минуту назад, наш второй потихоньку открыл дверь своего кабинета. Без сомнений, он выглянул наружу. Затем, также тихо, он закрыл дверь. Ты не был тем, кого он ждал, Луис.
— И на том спасибо, — выразительно произнес мистер Карлайл. — Что дальше, Макс?
— Это все, они оба до сих пор прячутся.
Оба помолчали немного. Мистер Карлайл испытывал замешательство, в котором никогда бы не признался. В его глазах эпизод выглядел весьма незначительным, но он знал, что те мелочи, которые казались Максу важными, имели обыкновение позже превращаться в своего рода знаковые детали, когда приходило время восстановить целостную картину. Казалось, слепота Каррадоса в самом деле давала ему фору.
— В этом и правда что-то есть, Макс? — спросил он наконец.
— Кто знает? — ответил Каррадос. — В конце концов, мы могли бы дождаться их ухода. Эти жестяные коробки для документов — я полагаю, такая есть в каждом сейфе?
— Как я понимаю, да. Порядок таков: ты берешь коробку, уносишь ее в свой кабинет, там открываешь и делаешь то, что тебе нужно. Затем вновь закрываешь и помещаешь обратно в сейф.
— Тише! Наш первый выходит, — торопливо прошептал Каррадос. — Вот, давай вместе поглядим на это.
Он открыл брошюру, которую достал из кармана, и они притворились, что изучают ее содержимое.
— Похоже, ты был прав, мой друг, — пробормотал мистер Карлайл, указывая на якобы заинтересовавший его заголовок. — Цилиндр, трость и очки. Чисто выбритый краснолицый старикан. Кажется… да, я знаю этого человека. Говорят, он крупный букмекер.
— Второй тоже выходит, — прошептал Каррадос.
Букмекер прошел через холл, присоединился к управляющему, чьей обязанностью было открывать сейфы, и вместе с ним исчез в одном из коридоров. Второй медленно расхаживал взад и вперед, ожидая своей очереди. Мистер Карлайл шепотом доложил о его перемещениях и описал его. Это был молодой человек среднего роста, неплохо одетый — неброский повседневный костюм, зеленая фетровая шляпа с кисточкой и коричневые ботинки. К тому времени как детектив добрался до описания вьющихся каштановых волос, широких косматых усов и смуглого веснушчатого лица, первый посетитель уже закончил свои дела и покидал хранилище.
— Во всяком случае, это не подмена, — заявил мистер Карлайл. — Его коробка наполовину меньше и вряд ли может быть использована для замены.
— Теперь пойдем, — сказал Каррадос, вставая. — Здесь больше ничего не узнать.
Они вызвали лифт и задержались на несколько минут на ступенях за пределами гигантской замочной скважины, обсуждая капиталовложения, как это могли бы делать прощаясь, пара вкладчиков или адвокат с клиентом. В пятидесяти ярдах от них очень большой цилиндр с весьма не ровными полями, нахлобученный на голову букмекера двигался по Пикадилли.
Лифт в холле позади них вновь вернулся наверх, лязгнули ворота. Второй мужчина не спеша вышел и пошел прочь даже не оглянувшись.
— Он пошел в противоположном направлении, — почти беспомощно воскликнул мистер Карлайл. — Ни «хромого козла», ни «следуй за мной», ни даже безыскусного, но эффективного мешка с песком.
— Какого цвета у него глаза? — спросил Каррадос.
— Ей-богу, я никогда не замечаю, — признался тот.
— Паркинсон бы заметил, — был строгий ответ.
— Я не Паркинсон, — резко возразил мистер Карлайл, — и, исключительно на правах друга, Макс, позволь мне сказать, что, несмотря на мое безграничное восхищение твоими удивительными способностями, у меня есть сильнейшее подозрение, что весь этот инцидент — смехотворнейший вздор, порожденный богатым воображением восторженного криминалиста.
Каррадос принял эту вспышку предельно доброжелательно.
— Пойдем и выпьем по чашке кофе, Луис, — предложил он. — Заведение Мехмеда в двух шагах отсюда.
Мехмед был свободным от национальных предрассудков мужчиной, чей магазин снаружи выглядел как обычный дом, а изнутри — как восточная табачная лавка. Араб в тюрбане принес гостям сигареты и чашки с кофе, приправленным шафраном, поприветствовал их по восточному обычаю и удалился.
— Знаешь, мой дорогой друг, — продолжил мистер Карлайл, потягивая кофе и гадая про себя, был ли он в самом деле очень хорош или очень плох, — если говорить серьезно, единственная подозрительная деталь — наш рыжий приятель, поджидающий другого, чтобы уйти, — может иметь с дюжину весьма невинных объяснений.
— Настолько невинных, что завтра я планирую сам арендовать сейф.
— Ты думаешь, что все в порядке?
— Напротив, я убежден, что что-то очень сильно не так.
— Тогда почему?..
— Я ничего не буду хранить в этом сейфе, но это даст мне право входа. И я бы посоветовал тебе, Луис, во-первых, как можно скорее опустошить свой сейф, а во-вторых, оставить свою визитную карточку управляющему.
Мистер Карлайл отставил чашку, убедившись наконец, что кофе и в самом деле отвратительный.
— Но мой дорогой Макс, это учреждение — «Сейф» — неприступно!
— Когда я был в Штатах три года назад, главный портье одного отеля пытался убедить меня, что здание совершенно несгораемое. Я немедленно переехал в другой отель. Две недели спустя первый отель сгорел дотла. Здание, я полагаю, было несгораемым, но, конечно же, мебель и крепежные балки — нет. И стены пали.
— Весьма остроумно, — согласился мистер Карлайл, — но почему на самом деле ты выехал? Ты знаешь, что не сможешь обмануть меня своим сверхъестественным шестым чувством, мой друг.
Каррадос улыбнулся, таким образом давая понять наблюдающему слуге, что он может приблизиться и вновь наполнить их крошечные чашки.
— Возможно, — ответил слепец, — потому что слишком много безответственных людей были убеждены в том, что отель не загорится.
— Вот оно что. Да, ты прав: чем больше уверенность, тем больше и риск. Но только если результатом такой самоуверенности является безответственность. Как, по-твоему, охраняется это место, Макс?
— Говорят, что на ночь они запирают дверь, — саркастически ответил Каррадос.
— И прячут ключ под коврик, чтобы быть готовыми к первым утренним посетителям, — усмехнулся мистер Карлайл в том же тоне. — Эх, старина! Что ж, позволь мне рассказать тебе…
— О взломе не может быть и речи, несомненно, — признал Каррадос.
— Это упрощает дело. Обсудим возможность мошенничества. Здесь тоже столько предосторожностей, что многие люди полагают весь этот порядок довольно утомительным. Признаться, я так не думаю. Я благодарен им за возможность защитить свою собственность, и я охотно пишу свое имя и называю пароль, которые управляющий сверяет со своей регистрационной книгой, прежде чем снять первый замок с моего сейфа. Подпись сжигают прямо у меня на глазах в своего рода тигле, пароль я выбрал сам и он записан только в книге, посмотреть которую может один лишь управляющий, и мой ключ существует в единственном экземпляре.
— Ни дубликата, ни ключа у управляющего?
— Ни того ни другого. Если ключ потеряется, квалифицированному мастеру полдня придется прорезать путь внутрь. Кроме того, ты должен помнить, что клиентов хранилища не так уж много. Все более или менее знакомы служащим, и незнакомец сразу привлечет внимание. Итак, Макс, при каком стечении обстоятельств мошенник сможет узнать мой пароль, подделать подпись, получить мой ключ и стать похожим на меня? И наконец, как он сможет узнать, есть ли в моем сейфе что-нибудь, что будет стоить всех этих ухищрений? — с триумфом заключил мистер Карлайл и, весьма воодушевленный своей непоколебимой позицией, отпил из вновь наполненной чашки, прежде чем понял, что делает.
— В отеле, о котором я только что говорил, — ответил Каррадос, — был служащий, единственной обязанностью которого было в случае тревоги охранять три железные двери. В ночь пожара у него страшно разболелся зуб, и он ускользнул буквально на четверть часа, чтобы выдернуть его. Там была наисовременнейшая автоматическая система пожарной сигнализации. Ее испытывали всего лишь за день до этого, и электрик, не вполне удовлетворенный тем, как работает одна из частей, убрал ее и не успел заменить. Ночной портье, как оказалось, получил разрешение явиться на пару часов позже в эту конкретную ночь, и пожарный отеля, чьи обязанности он взял на себя, не получил уведомления. Наконец, в то же время был большой пожар на берегу реки, и все пожарные были на другом конце города.
Мистер Карлайл заставил себя с сомнением хмыкнуть. Каррадос немного наклонился вперед.
— Все эти обстоятельства сложились так по чистой случайности. Разве невозможно, Луис, чтобы даже более невероятный ряд совпадений мог быть спланирован?
— Наш рыжий приятель?
— Возможно. Только он на самом деле не рыжий.
Расслабленность мистера Карлайла неожиданно сменилась напряженным вниманием.
— У него были фальшивые усы.
— Фальшивые усы! — повторил пораженный джентльмен. — Но ты не можешь видеть! Нет, Макс, в самом деле, это уже слишком!
— Если бы ты только не доверял так безоговорочно своим драгоценным старым и заблуждающимся глазам, ты бы и сам это понял, — резко возразил Каррадос. — От него на пять ярдов распространялся аромат клея с ноткой теплой, потеющей кожи. Это могло навести только на одну мысль. Я искал другие доказательства маскировки и нашел их — все эти препараты имеют запах. Волосы, которые ты описал, весьма походили на парик, длинный, чтобы скрыть соединения, и завитый, чтобы уменьшить длину. Все это мелочи. Всего лишь основание для того, чтобы появились подозрения. Я расскажу тебе еще об одной мелочи. Когда этот человек уединился в кабинете со своей коробкой для документов, он даже не открыл ее. Возможно, в ней только кирпичи и газеты. Он лишь наблюдал.
— Наблюдал за букмекером.
— Верно, но, возможно, за этим кроется что-то большее. Все указывает на какой-то тщательно разрабатываемый план. Тем не менее, если ты всем доволен…
— Я вполне доволен, — вежливо ответил мистер Карлайл. — Я считаю «Сейф» почти национальным достоянием, поскольку безусловно доверяю принятым ими мерам предосторожности против любого вида взлома или мошенничества.
До сих пор мнение мистера Карлайла, казалось, было непоколебимо как скала, но в этот момент он достал часы, пробормотал что-то себе под нос, чтобы скоротать время, вновь посмотрел на часы и продолжил:
— Боюсь, я забыл посмотреть пару бумаг. Чтобы завтра снова не приходить, я, пожалуй, вернусь сейчас…
— Конечно, — с убийственной серьезностью согласился Каррадос. — Я подожду тебя.
Следующие двадцать минут он сидел там, пил время от времени из крошечной чашки вскипяченный кофе и, судя по всему, безмятежно наслаждался своеобразной атмосферой, которую мистер Мехмед умудрился перенести сюда с берегов Персидского залива.
Наконец мистер Карлайл вернулся, полный искренних сожалений о том, что заставил своего друга ждать так долго, но, с другой стороны, весьма отрешенный и рассеянный. Любой, имеющий глаза, заметил бы в руках у мистера Карлайла пакет примерно такого же размера и объема, как коробка для документов, помещавшаяся в его сейфе.
На следующий день Каррадос явился в хранилище как будущий арендатор. Управляющий показал ему подвал и сейфы, объяснил разнообразные предосторожности, предпринимаемые, чтобы сделать мошенничество или взлом невозможными: неприступность стен из закаленной стали, фундамент из электростойкого бетона, полную изоляцию внутреннего остова здания на металлических опорах, сделанную таким образом, что внутри здания сторож мог ходить вверх, вниз и везде вокруг настоящих внешних стен, и это не имело бы никакого отношения к рекламного вида фасаду — гигантскому сейфу; и наконец систему, которая в течение трех минут способна затопить подвал паром в случае тревоги. Эти детали были общеизвестны. «Сейф» был особенным местом, и его директора решили, что никакой беды не будет, если открыто демонстрировать свою силу.
В сопровождении Паркинсона с его наблюдательными глазами Каррадос уделил этим тонкостям весьма пристальное, но не обнадежившее его внимание. Предоставив решение вопроса о рыжем человеке своему собственному хитроумию, он постоянно задавался вопросом: «Как бы я мог решить ограбить это место?» Идею со взломом он сразу отверг как невыполнимую. Также, когда дело дошло до предупреждения мошенничества, он выполнил все те простые, но эффективные меры предосторожности, которые, по мнению мистера Карлайла, исключали любую возможность найти лазейку.
— Поскольку я слеп, я могу расписаться прямо в книге, — предложил Каррадос, когда управляющий подал ему просмоленный бланк для этой цели. Предосторожность против одной исключительной способности остальных клиентов могла бы показаться излишней в его случае.
Но управляющий не попался в ловушку.
— Это наше нерушимое правило для всех, сэр, — учтиво отозвался он. — Какое слово вы выберете?
Паркинсон, кстати говоря, остался в холле.
— Предположим, случится так, что я его забуду. Как мы тогда поступим?
— В этом случае, боюсь, я могу настаивать на том, чтобы вы подтвердили свою личность, — объяснил менеджер. — Это редко случается.
— Тогда пусть будет «сговор».
Слово было записано, и книга закрыта.
— Вот ваш ключ, сэр. Если позволите, ваше кольцо-ключ…
Прошла неделя, а Каррадос нисколько не приблизился к решению проблемы, которую поставил перед собой. Он, конечно, обнаружил несколько способов, с помощью которых можно было бы добраться до содержимого сейфов: некоторые простые и отчаянные, балансирующие на краю пропасти и способные провалиться так или иначе; другие более продуманные, в целом более безопасные, но и более уязвимые с точки зрения их хитроумности и сложности. И, отметая возможность соучастия управляющего — условие, которое Каррадос признал неосуществимым, — все они основывались на небрежении формальностями, которые обеспечивали безопасность. Каррадос продолжал находить поводы, чтобы посещать хранилище несколько раз в неделю, и «наблюдал» с тихим упорством, достойным совсем иного, лучшего применения. Но от начала и до конца не было никаких признаков слабости в практичных методах учреждения; также во время его визитов не появлялся ни «рыжий», ни кто-либо еще, замаскированный подобным образом. Прошла еще одна неделя. Шутки мистера Карлайла становились все более невыносимыми, да и сам Каррадос, хотя он ни на йоту не отступил от своего убеждения, вынужден был склониться перед реальными фактами. Управляющий с упорством добропорядочного человека, помешанного на всеобъемлющей безопасности, отказывался участвовать в обсуждении возможных способов мошенничества. Не в силах четко сформулировать свои подозрения, Каррадос отстранился от активного расследования и предоставил делам идти своим чередом, дожидаясь своего часа.
Час настал, если быть точным, в одно пятничное утро, через семнадцать дней после первого визита Каррадоса в «Сейф». Вернувшись довольно поздно вечером в четверг, он узнал, что некто, назвавшийся Дрейкоттом, просил встречи с ним. По всей видимости, дело было довольно важным для визитера, поскольку он вернулся спустя три часа в надежде застать мистера Каррадоса. Когда эта надежда не оправдалась, он оставил записку. Каррадос вскрыл конверт и пробежался пальцем по следующим словам:
«Милостивый государь, сегодня я обратился за советом к мистеру Луису Карлайлу, и он полагает, что вы захотите встретиться со мной. Я перезвоню утром, скажем, в 9 часов. Если это слишком рано или неудобно по другим причинам, я умоляю вас оставить сообщение настолько быстро, насколько это возможно.
С уважением,
Герберт Дрейкотт.
P. S. Стоит добавить, что я являюсь владельцем сейфа в хранилище Лукас-стрит. Г. Д.»
По описанию Дрейкотта стало ясно, что это не букмекер из Вест-Энда. Визитер, как пояснил слуга, был худощавый и жилистый человек с острыми чертами лица. Каррадос положительно был заинтересован таким развитием событий, которое, казалось, должно было оправдать его подозрения о заговоре.
На следующее утро, без пяти минут девять, вновь объявился мистер Дрейкотт.
— Очень любезно с вашей стороны согласиться встретиться со мной так скоро, — извинился он перед Каррадосом, сразу же принявшим его. — Я не очень разбираюсь в английских порядках — я австралиец — и боялся, что это может быть слишком рано.
— Что касается меня, то вы могли бы прийти и парой часов раньше, — ответил Каррадос. — Для вас, полагаю, это было бы тоже не трудно, — добавил он, — вряд ли вы много спали прошедшей ночью.
— Я вовсе не спал, — уточнил Дрейкотт. — Но странно, что вы это заметили. Из слов мистера Карлайла я понял — простите меня, если я ошибаюсь, — я понял, что вы слепы.
Каррадос легко усмехнулся этому признанию.
— О да, — ответил он. — Но пусть это вас не волнует. В чем состоит ваша проблема?
— Боюсь, для меня это больше, чем просто проблема, мистер Каррадос.
Спокойные прищуренные глаза Дрейкотта, в глубине которых таилось выражение, которое можно заметить у людей, привыкших смотреть вдаль, поверх огромных пространств земли или воды, сейчас были обращены к Каррадосу с откровенным выражением покорности судьбе.
— Боюсь, это настоящая катастрофа. Я работаю инженером в районе горы Магдалена в Кулгарди. Не хочу утомлять вас излишними деталями, так что скажу лишь, что около двух лет назад мне представилась возможность приобрести долю в весьма многообещающем участке, отведенном под разработку, — золото, как вы понимаете, причем и руда, и россыпи. Чем дальше шла работа, тем больше и больше я вкладывал в это предприятие — к тому времени его уже нельзя было назвать рискованным. Результаты были хорошими, лучше, чем мы осмеливались ожидать, но по разным причинам расходы были ужасны. Мы поняли, что это больше, чем мы ожидали, и согласились, что нам нужна помощь извне.
До сих пор мистер Дрейкотт рассказывал довольно спокойно, находясь под влиянием тихого отчаяния, которое буквально исходило от него. Но в этот момент воспоминание о ситуации, в которой он оказался, привело его в бешенство.
— Ну какого черта я должен снова через это проходить! — вырвалось у него. — Ни вы, ни кто-либо еще ничего не сможет сделать! Меня ограбили, обчистили, лишили всего, что у меня было!
И, мучимый этими мыслями и бессильным гневом, несчастный инженер избивал дубовый стол до тех пор, пока у него не начали кровоточить костяшки пальцев.
Каррадос ждал, пока минет эта вспышка ярости.
— Продолжайте, будьте так добры, мистер Дрейкотт, — сказал он. — Именно то, что вы хотели рассказать мне, и есть то, что я хочу услышать.
— Простите, сэр, — извинился тот, и его смуглая кожа окрасилась румянцем. — Я должен лучше себя контролировать. Но это происшествие слишком потрясло меня. Трижды за прошедшую ночь я брался за свой револьвер и трижды откладывал его… Итак, мы договорились, что я поеду в Лондон и попытаюсь заинтересовать некоторых коммерсантов в области недвижимости. Мы могли бы сделать это на месте или в Перте, чтобы быть уверенными, но, понимаете ли, тогда они могли бы захотеть контролировать все. Шесть недель спустя я прибыл сюда. Я привез с собой лучшие образцы кварца и добытого золота, рассыпного и самородного, результат нескольких недель работы, в общем около двухсот сорока унций. Включая Звезду Магдалены — наш счастливый самородок, глыбу чистого золота весом почти в семь фунтов. Я увидел рекламу хранилища на Лукас-стрит, и мне показалось, что это именно то, что нужно. Кроме золота у меня были все документы по участку — планы, отчеты, квитанции, разрешения и все остальное. И, после того как я обналичил аккредитив, у меня на руках оказалось около ста пятидесяти фунтов. Конечно, я мог оставить все в банке, но более удобным, казалось, было иметь собственный сейф, к которому можно было бы обратиться в любое время, и уединенный кабинет, в котором я также мог бы принимать любых джентльменов.
Я и не подозревал, что что-то может пойти не так. Переговоры застопорились на некоторое время — сейчас в этой стране плохое время для бизнеса, полагаю. Затем, вчера, мне кое-что понадобилось. Я пришел на Лукас-стрит, как делал тысячу раз до этого, открыл свой сейф, перенес внутренний ящик в комнату… Мистер Каррадос, он был пуст!
— Абсолютно пуст?
— Нет. — Он горько рассмеялся. — На дне был лист оберточной бумаги. Я узнал в нем обрывок, который оставил там на случай, если захочу сделать сверток. Но это убедило меня в том, что я не открыл чужой сейф. Это была моя первая мысль.
— Это невозможно сделать.
— Я так и понял, сэр. И еще в пустом ящике была бумажка с моим именем. Я был ошеломлен. Это казалось невозможным. Думаю, я простоял там, не двигаясь, несколько минут — хотя мне показалось, что несколько часов. Затем я закрыл коробку, поставил ее назад, закрыл сейф и ушел.
— Не заявив о том, что произошло?
— Да, мистер Каррадос.
Спокойные голубые глаза внимательно смотрели на него с выражением обиженной задумчивости.
— Видите ли, я посчитал тогда, что тот, кто сделал это, должен быть где-то рядом.
— Вы ошибались, — сказал Каррадос.
— Мистер Карлайл, кажется, думает так же. Я знаю только, что ключ все время был у меня и я никому не говорил пароль. Честно говоря, у меня было ощущение, словно мне вылили ушат ледяной воды за шиворот, когда я понял, что стою один в самом неприступном подвале Лондона и ни одна живая душа не знает, где я.
— Словно в современной версии Суинни Тодда?[32]
— Я слышал о таких вещах в Лондоне, — признал Дрейкотт. — Так или иначе, я ушел. Это была ошибка, теперь я это понимаю. Кто мне поверит — все это звучит совершенно неправдоподобно. И как они вышли на меня? Как узнали, что у меня есть? Я не напивался, не болтал, не кутил. Это все меня просто убивает.
— Это не они на вас вышли, а вы на них, — ответил Каррадос. — Неважно как. Вам поверят, не сомневайтесь. Но насчет того, чтобы все вернуть…
Неоконченная фраза подтвердила худшие опасения Дрейкотта.
— У меня есть номера банкнот, — с тенью надежды сообщил он. — Их можно задержать, верно?
— Задержать? Да, — признал Каррадос. — И чего вы этим достигнете? Банки и полиция будут уведомлены, но в каждом крошечном пабе отсюда и до Лендс-Энда эту проблему решат, нацарапав на обороте «Джон Джонс» таким образом, чтобы номер банкноты было невозможно разобрать. Увы, мистер Дрейкотт, я понимаю, что это весьма затруднительно, однако вы должны смириться: вам придется ждать новых поступлений из дома. Где вы остановились?
Дрейкотт заколебался.
— До сих пор я жил в Эбботсфорде, в Блумсбери, — сказал он с некоторым смущением. — На самом деле, мистер Каррадос, я думаю, мне стоило сказать о своем положении, прежде чем консультироваться, поскольку я… я не вижу надежды на то, что смогу содержать себя. Зная, что в моем сейфе достаточно средств, я несколько запустил свои дела. Вчера я в основном пошел за тем, чтобы взять несколько банкнот. У меня в кармане недельный счет за отель и, — он оглядел свои брюки, — я заказал пару вещей, к сожалению.
— Несомненно, это лишь вопрос времени, — ободрил его Каррадос.
Вместо ответа Дрейкотт уронил руки на стол и спрятал в них лицо. С минуту он молчал.
— Это не слишком хорошо, мистер Каррадос, — сказал он, когда вновь смог говорить. — Я не могу вынести это. Говорите что хотите, но я просто не могу сказать тем двоим парням, что я потерял все, и просить их прислать мне еще. Они и не смогли бы, если бы я попросил. Поймите, сэр. Шахта весьма ценная, мы возлагаем на нее огромные надежды, но это уже за пределами наших возможностей. Мы трое вложили в это предприятие все, что у нас было. Пока я здесь, они там выполняют черную работу, просто чтобы продолжать что-то делать… ждут, о боже, ждут хороших новостей от меня!
Каррадос подошел к столу, написал что-то и, не говоря ни слова, протянул бумагу своему визитеру.
— Что это? — в замешательстве спросил Дрейкотт. — Это… Это чек на сто фунтов.
— Это поможет вам на какое-то время, — невозмутимо объяснил Каррадос. — Такой человек как вы не должен бросать свое дело из-за подобной неудачи. Телеграфируйте своим партнерам, что вам срочно требуются копии всех документов. С этим они справятся, не беспокойтесь. Золото… его не вернуть. Напишите подробнее в следующем письме. Расскажите им все и добавьте, что, несмотря ни на что, вы близки к успеху как никогда.
Мистер Дрейкотт в глубокой задумчивости сложил чек и бережно убрал его в записную книжку.
— Не знаю, догадываетесь ли вы об этом, — сказал он странным голосом, — но я думаю, что вы сегодня спасли мою жизнь. Не деньгами, но своей поддержкой… и верой. Если бы вы могли видеть, вы бы лучше поняли, что я сейчас чувствую.
Каррадос тихо рассмеялся. Его всегда забавляло, когда люди говорили ему, что он намного больше мог бы узнать, если бы был зрячим.
— Теперь мы пойдем на Лукас-стрит и заставим управляющего испытать самый большой шок в его жизни, — только и ответил он. — Пойдемте, мистер Дрейкотт, я уже вызвал машину.
Но так случилось, что судьба избрала иное орудие для того, чтобы преподнести управляющему это волнующее известие. Когда они вышли из машины напротив «Сейфа», подъехало такси, и их поприветствовал радостный и взволнованный голос мистера Карлайла.
— Подожди минуту, Макс! — воскликнул он, поворачиваясь к водителю, чтобы расплатиться. Эту операцию он произвел с видом горделивой важности, которая почти компенсировала любое мелочное неудовлетворение финансовой стороной дела, которое могло бы ее сопровождать. — Это несомненная удача. Давай сверим информацию. Я только что получил сообщение от управляющего, в котором он почти умолял немедленно приехать. Я предположил, что дело в нашем колониальном друге, но он заговорил о профессоре Холмфасте Балдже. Возможно ли это, в самом деле, чтобы он обнаружил то же самое?
— Что сказал управляющий? — спросил Каррадос.
— Он был совершенно бессвязен, но, думаю, это естественно. Что ты успел сделать?
— Ничего, — ответил Каррадос. Он повернулся спиной к «Сейфу» и, казалось, внимательно изучал противоположную сторону улицы. — Здесь прямо напротив табачная лавка?
— Верно.
— Что они продают на первом этаже?
— Вероятно, «Втирро». Рискну предположить это, поскольку надпись «Втирайте Втирро от всего!» украшает каждое окно.
— Окна матовые?
— Да, верхняя половина, о непостижимый человек.
Каррадос вернулся к своей машине.
— Пока нас не будет, Паркинсон, сходите на ту сторону и купите жестянку, бутылку, коробку или пачку «Втирро».
— Что такое «Втирро», Макс? — с жадным любопытством поинтересовался Карлайл.
— Мы пока не знаем. Когда Паркинсон добудет его, ты, Луис, будешь тем, кто его опробует.
Они спустились в подвал и прошли мимо охранника у решетки, чье поведение выдавало смутное понимание: что-то происходит. Не было нужды гадать почему. В отдалении, приглушенный бронированными стенами коридора, рокотал властный голос, словно слышимый под водой гул колокола.
— Тем не менее, каковы факты? — вопрошал он с едкостью растерянной беспомощности. — Меня уверяют, что другого ключа не существует, и все же мой сейф был открыт. Мне дают понять, что без кодового слова неуполномоченное лицо не сможет фальсифицировать мое право на владение. Мое тщательно подобранное слово — «антропофаг», сэр. Является ли оно распространенным в преступной среде? Но мой сейф пуст! Каково же объяснение? Кто в этом виновен? Что было сделано? И где же полиция?
— Если вы считаете, что наилучшим выходом было бы стоять на пороге и, размахивая руками, подзывать первого попавшегося констебля, то позвольте мне не согласиться с вами, сэр, — возразил растерянный менеджер. — Вы можете быть уверены, что было сделано все возможное, чтобы разгадать эту тайну. Как я уже сказал вам, я уже позвонил профессиональному детективу и одному из директоров.
— Но этого недостаточно! — в ярости настаивал профессор. — Вернет ли какой-то простой детектив мои четырех-с-половиной-процентные японские облигации на шесть тысяч фунтов стерлингов? Зависит ли возвращение моих бесценных записок «Полифилетические свадебные обряды пещерных людей в среднем плейстоцене» от какого-то там директора? Я настаиваю на том, что надо вызвать полицию — всех, кого только можно. Привести в движение весь Скотленд-Ярд. Необходимо тщательное расследование. Я являюсь клиентом вашего драгоценного учреждения всего полгода, и вот итог!
— Вы держите в руках ключ от тайны, профессор Балдж, — спокойно перебил его Каррадос.
— Кто это, сэр? — раздраженно спросил профессор.
— Позвольте мне, — вмешался мистер Карлайл с обычной самоуверенностью. — Я Луис Карлайл с Бамптон-стрит. Этот джентльмен — Макс Каррадос, выдающийся детектив-любитель.
— Я буду благодарен любой помощи, способной пролить свет на это ужасающее происшествие, — свысока ответил профессор звучным голосом. — Позвольте мне ввести вас в курс дела…
— Возможно, если бы мы пошли в ваш кабинет, — предложил управляющему Каррадос, — нас с меньшей вероятностью могли бы прервать.
— Несомненно, несомненно, — прогудел профессор, принимая это предложение от имени всех остальных. — Факты, сэр, таковы: я, к несчастью, являюсь владельцем сейфа, в который несколько месяцев назад поместил, среди менее важных вещей, шестьдесят облигаций Японского государственного займа — главная часть моей скромной удачи — и рукопись весьма важного черновика работы «Полифилетические свадебные обряды пещерных людей в среднем плейстоцене». Сегодня я пришел забрать купоны на получение дохода, срок оплаты которых наступает пятнадцатого, чтобы по своему обыкновению внести ими предоплату за неделю в мой банк. И что я нашел? Мой сейф, запертый и, несомненно, нетронутый, как и месяц назад, когда я последний раз его видел. Но он далеко не нетронут, сэр! Он был открыт, ограблен, полностью обчищен! Не осталось ни единой облигации, ни клочка бумаги!
Нараставшее возмущение управляющего во время последней части этого монолога было очевидно, и теперь он взорвался:
— Позвольте решительно вам возразить, профессор Балдж. Вы снова говорите, что последний раз приходили месяц назад. Вы будете моими свидетелями, джентльмены. Вы поймете важность, которую может представлять это заявление, когда я скажу, что профессор обращался к своему сейфу не далее как в прошлый понедельник.
Профессор уставился на него как разъяренное животное, причем сходство усиливалось благодаря его типичной козлиной бородке.
— Как вы смеете мне возражать? — воскликнул он, резко хлопая ладонью по столу. — Меня не было здесь в понедельник.
Управляющий холодно пожал плечами.
— Вы забываете, что служащие тоже вас видели, — парировал он. — Разве мы не можем верить своим собственным глазам?
— Всеобщее убеждение, но, тем не менее, не всегда заслуживающее абсолютного доверия, — мягко заметил Каррадос.
— Я не могу ошибаться.
— Тогда можете ли вы мне сказать, не глядя, какого цвета глаза у профессора Балджа?
На минуту повисло будоражащее воображение и выжидательное молчание. Профессор развернулся спиной к управляющему, и тот от задумчивости перешел к смущению.
— Я в самом деле не знаю, мистер Каррадос, — наконец заявил он надменно. — Я не обращаю внимания на такие незначительные мелочи.
— Тогда вы можете ошибаться, — мягко, но решительно ответил Каррадос.
— Но густые волосы, почтенная борода, выдающийся нос, тяжелые брови…
— Всего лишь самые заметные особенности, которые легче всего подделать. Они притягивают взгляд. Если хотите защитить себя от жульничества, приучитесь лучше смотреть на сами глаза и особенно на пятна в них, на форму ногтей, расположение ушей. Эти вещи невозможно подделать.
— Вы всерьез предполагаете, что тот человек не был профессором Балджем, что это был мошенник?
— Такой вывод неизбежен. Профессор, где вы были в понедельник?
— Я ездил с кратким курсом лекций по центральным графствам. В воскресенье я был в Ноттингеме. В понедельник в Бирмингеме. Я только вчера вернулся в Лондон.
Каррадос вновь повернулся к управляющему и указал на Дрейкотта, до сих пор остававшегося без внимания.
— А этот джентльмен? Не приходил ли он случайно в понедельник?
— Нет, мистер Каррадос. Но я давал ему доступ к сейфу во вторник после полудня и еще раз вчера.
Дрейкотт печально покачал головой.
— Вчера я обнаружил его пустым, — сказал он. — И весь вторник я провел в Брайтоне, пытаясь добиться встречи с одним джентльменом.
Управляющий внезапно сел.
— Боже милостивый, еще один, — слабо воскликнул он.
— Боюсь, это только начало, — сказал Каррадос. — Мы должны взглянуть на вашу книгу с записями об арендаторах.
Менеджер встрепенулся и запротестовал.
— Это невозможно. Никто кроме меня или моего помощника никогда не видел эту книгу. Это было бы беспрецедентно.
— Обстоятельства беспрецедентны, — ответил Каррадос.
— Если на пути расследования этих джентльменов возникнут хоть какие-то трудности, я посчитаю своим долгом доложить об этом в министерство внутренних дел, — объявил профессор трубным голосом, словно бы обращаясь к потолку.
Каррадос протестующе поднял руку.
— Могу я сделать предложение? — сказал он. — Итак, я слеп. Следовательно?..
— Хорошо, — уступил управляющий. — Но всех остальных я должен попросить удалиться.
В течение пяти минут Каррадос слушал список арендаторов, пока управляющий зачитывал его. Иногда он останавливал это перечисление, чтобы поразмышлять мгновение, временами касался кончиками пальцев подписи и сравнивал ее с остальными. Время от времени его интересовал пароль. Но когда список закончился, Каррадос продолжал смотреть в никуда, без малейшего намека на озарение.
— Все совершенно очевидно и, тем не менее, совершенно невероятно, — задумчиво сказал он. — Вы утверждаете, что за последние полгода книгой занимались только вы?
— У меня не было ни дня отпуска в этом году.
— Обед?
— Мне подают его сюда.
— И этот кабинет не может быть открыт без вашего ведома, если вы отлучитесь?
— Это невозможно. Дверь оснащена мощной пружиной и автоматическим замком, срабатывающим от легкого касания. Ее невозможно оставить открытой случайно, только если специально подпереть чем-нибудь.
— И вы полагаете, что ни у кого не было возможности получить доступ к этой книге?
— Нет, — был ответ. Каррадос встал и стал надевать перчатки.
— Тогда я отказываюсь продолжать расследование, — холодно сказал он.
— Почему? — с запинкой произнес управляющий.
— Потому что я имею все основания полагать, что вы обманываете меня.
— Умоляю, присядьте, мистер Каррадос. Это верно, что, когда вы задали мне последний вопрос, я неожиданно вспомнил об одном обстоятельстве, из-за которого — если уж быть абсолютно точным — мне стоило ответить «Да» вместо «Нет». Но это не то, о чем вы спрашивали. Было бы нелепо придавать этому инциденту какое-либо значение.
— Позвольте мне судить.
— Так и поступите, мистер Каррадос. Я живу с сестрой в многоквартирном доме на Уиндермер. Несколько месяцев назад она познакомилась с семейной парой, недавно въехавшей в квартиру напротив. Муж — ученый человек, проводящий большую часть времени в Британском музее. Но его жену интересовали совсем другие вещи, она намного моложе, ярче, жизнерадостнее, в сущности простая девушка, самая очаровательная и искренняя из тех, что я когда-либо встречал. Амелия, моя сестра, с легкостью…
— Постойте! — воскликнул Каррадос. — Ученый средних лет и очаровательная молодая жена! Говорите как можно более кратко. Если я прав, может понадобиться немедленно выехать в порт. Она, естественно, приходила сюда?
— Вместе с мужем, — чопорно ответил управляющий. — Миссис Скотт много путешествовала и имела привычку делать фотографии всех мест, где бывала. Когда случайно была упомянута моя должность, она была совершенно захвачена идеей добавить в свою коллекцию фотографии хранилища — восторженная, как ребенок… Не было причины отказывать ей, это место часто фотографировали для рекламных целей.
— Она пришла и принесла камеру — прямо у вас под носом!
— Не понимаю, что вы имеете в виду под «прямо у вас под носом». Она пришла вместе с мужем в один из вечеров, незадолго до закрытия. Конечно, она принесла камеру — невелика беда.
— И ухитрилась остаться одна?
— Я возражаю против слова «ухитрилась». Так… так получилось. Я послал за чаем, и в это время…
— Как долго она пробыла здесь одна?
— Самое большее две или три минуты. Когда я вернулся, она сидела за моим столом. Вот о чем я говорил. Шалунья надела мои очки и держала большую книгу. Мы были хорошими друзьями, и ей нравилось передразнивать меня. Признаюсь, я испугался — просто инстинктивно, — когда увидел, что она взяла книгу, но в следующую минуту понял, что она держит ее вверх ногами.
— Умно! Она не успевала вовремя вернуть ее назад. И камера со специально подобранной пленкой уже снимала последние несколько страниц с ее стороны!
— Это дитя!
— Да. Ей двадцать семь лет, и она сбивала шляпы с высоколобых мужей повсюду от Петербурга до Буэнос-Айреса! Свяжитесь со Скотленд-Ярдом и попросите приехать инспектора Бидла.
Управляющий тяжело дышал.
— Позвонить в полицию и предать дело огласке означает уничтожить наше учреждение — вера в него будет подорвана. Я не могу сделать этого без указаний свыше.
— Тогда, безусловно, это сделает профессор.
— Прежде чем вы пришли, я позвонил директору, который единственный из всех сейчас в городе, и доложил ему о ситуации, как она обстояла на тот момент. Возможно, он уже прибыл. Если вы пройдете со мной в зал заседаний совета директоров, то мы узнаем это.
Они поднялись на этаж выше, по пути к ним присоединился мистер Карлайл.
— Извините меня, я отойду на минуту, — сказал управляющий.
Паркинсон, беседовавший с портье на тему стоимости земли, подошел к ним.
— Сожалею, сэр, — доложил он, — но я не смог купить «Втирро». Магазин, по всей видимости, закрылся.
— Какая жалость. Мистер Карлайл уже настроился.
— Пройдемте сюда, пожалуйста, — позвал управляющий, вновь появляясь перед ними.
В зале заседаний они нашли седовласого пожилого джентльмена, который явился на зов управляющего из чувства долга, а затем остановился в дальнем углу пустой комнаты в надежде, что его не заметят. Он был совершенно безобиден и, казалось, сам прекрасно об этом знал.
— Весьма печальное дело, джентльмены, — обратился он к ним негромко и доверчиво. — Мне доложили, что вы рекомендовали обратиться в Скотленд-Ярд. Такой ход дел был бы крайне неудачным для заведения, которое зависит от безоговорочного доверия общества.
— Это единственно возможный вариант, — ответил Каррадос.
— Ваше имя, мистер Каррадос, хорошо мне известно в связи с одним деликатным делом. Не могли бы вы не доводить это дело до огласки?
— Это невозможно. Должно быть проведено обширное расследование. Необходимо досмотреть каждый порт. Это может сделать только полиция, — сказал Каррадос и добавил со значением: — И только я могу направить полицию по верному пути.
— И вы сделаете это, мистер Каррадос?
Каррадос обворожительно улыбнулся. Он знал, что больше всего привлекает людей в его услугах.
— Моя позиция такова, — ответил он. — До сих пор я работал исключительно как любитель. В этой роли я предотвратил одно или два преступления, исправлял случайную несправедливость и всегда был к услугам моего друга, настоящего профессионала, Луиса Карлайла. Однако сейчас я не вижу причин, по которым должен бесплатно помогать коммерческой фирме в обычном для таких дел инциденте. Я должен требовать вознаграждение за любую информацию, чисто символическое, скажем, сто фунтов.
Директор выглядел так, словно его вера в человечество только что пошатнулась.
— Сто фунтов — это очень щедрое вознаграждение для такой небольшой фирмы, как наша, мистер Каррадос, — обиженно заметил он.
— И это, конечно, не включает профессиональные издержки мистера Карлайла, — добавил Каррадос.
— Зависит ли эта сумма от какой-то определенной работы? — уточнил управляющий.
— Я не возражаю против того, чтобы обозначить ее как сумму за то, чтобы я добыл для вас — и для полиции как основание для розысков — фотографию и описание вора.
С минуту двое руководителей учреждения посовещались в отдалении, затем управляющий вернулся к Каррадосу.
— Мы согласимся, мистер Каррадос, при условии, что эти вещи будут у нас в течение двух дней. В противном случае…
— Нет, нет! — возмущенно воскликнул мистер Карлайл, но Каррадос добродушно прервал его:
— Я приму условие с тем же азартом, с которым оно было выдвинуто. В течение сорока восьми часов или никакой оплаты. Чек, конечно же, выдадут мне тотчас, как я предоставлю необходимое?
— Вы можете быть уверены в этом.
Каррадос достал свой бумажник, извлек из него конверт с американским штемпелем, из которого вынул фотокарточку.
— Вот фотография, — объявил он. — Его зовут Улисс К. Грум, но он более известен как Гарри-Артист. Описание вы найдете на оборотной стороне.
Пять минут спустя, когда они остались одни, мистер Карлайл высказал свое мнение об этой сделке.
— Ты совершеннейший плут, Макс, — сказал он, — хотя и весьма очаровательный, должен признать. Но исключительно ради собственного удовольствия ты так шокируешь людей.
— Напротив, — возразил Каррадос, — это люди шокируют меня.
— Теперь эта фотография. Почему я ничего не слышал о ней раньше?
Каррадос достал свои часы и дотронулся до них.
— Сейчас без трех минут одиннадцать, я получил ее в двадцать минут девятого.
— И при этом час назад ты уверял меня, что ничего не сделал.
— Я и не сделал — поскольку не было результата. Пока я не выжал из управляющего в его кабинете основополагающий факт для своей теории, я был далек от уверенности как никогда.
— Как я — до сих пор, — намекнул мистер Карлайл.
— Я подхожу к этому, Луис. Я переверну для тебя всю картину. У мошенника было целых два дня форы и шанс, что его удастся поймать — один к девяти. Мы все знаем, и дело меня больше не интересует. Но это твоя работа. Вот факты. В тот раз, когда «рыжий» человек попался на нашем пути, я сразу обратил намного более пристальное внимание на его цели и намерения, чем ты. В тот же день я отправил зашифрованную телеграмму Пирсону в Нью-Йорк. Я запросил сведения о любом человеке, подходящем под следующее описание — в основном меня интересовали дурные вести о нем, — про которого было бы известно, что он покинул Штаты: образованный, эксперт в области маскировки, дерзкий в своих авантюрах, знаток в области мошенничества в банках и хранилищах.
— Почему Штаты, Макс?
— Это было озарение. Я рассудил, что он должен быть англоговорящим. Новый поворот в проницательности и находчивости современных янки сделал их специалистами в области хитроумных изобретений, во всех смыслах. Невзламываемые замки и безудержные взломщики, сейфы, защищенные от грабежа, и грабители, специализирующиеся на сейфах, в равной степени исходят из Штатов. Так что я провел простую проверку. Когда мы говорили в тот день, а «рыжий» проходил мимо нас, я произнес «Нью-Йорк», или, скорее «Ню-Йок» на американский манер — так, чтобы он услышал.
— Я помню. Он не повернулся и не остановился.
— Он был весьма осторожен, но в звуке его шагов — хотя твои бедные старые глаза не могли этого увидеть, Луис, — была «психологическая пауза», полная остановка примерно на пять секунд. Точно так же, и ты бы остановился, если бы услышал слово «Лондон» в далекой стране. Но неважно, как и почему. Суть в следующем.
Одиннадцать месяцев назад Гарри-Артист успешно ограбил сейф в конторе мистера Мак-Кинки, Дж. Ф. Хиггса и Ко в Кливленде, Огайо. Он только что женился на умной, но весьма покладистой третьесортной актрисе варьете, англичанке по происхождению, и ему нужны были деньги на медовый месяц. Он получил около пятисот фунтов, с этими деньгами прибыл в Европу и остановился в Лондоне на несколько месяцев. Этот период отмечен взломом почтового отделения на Конгрив-сквер, если ты помнишь. Сперва Артист обдумывал, какие из британских учреждений наиболее привлекательны, а затем его внимание остановилось на этом хранилище. Возможно, скрытый вызов, содержащийся в телеграфном адресе, захватил его настолько, что ограбить «Сейф» стало для него делом профессиональной чести. Во всяком случае, его наверняка привлекло предприятие, обещавшее не только славу, но и весьма солидную выручку. Первая часть плана для самого искусного криминального «артиста» была сущим пустяком. В течение трех месяцев он появлялся в «Сейфе» в двенадцати разных обликах и арендовал двенадцать сейфов разной величины. В то же время он проводил доскональное изучение методов этого учреждения. Как можно скорее он возвращал ключи обратно, для дальнейшего использования, сделав дубликаты для собственных целей, конечно. Пять, кажется, он вернул в свой первый визит, один был получен позже, с бурными извинениями, заказным письмом, один был возвращен через главный Берлинский банк. Полгода назад он ненадолго приходил сюда, исключительно для того, чтобы избавиться от двух или более ключей. Один он хранил от начала и до конца, последнюю пару получил во время второго долгого визита сюда, три или четыре месяца назад.
Это подводит нас к важной части хладнокровной авантюры. У него были акции Атлантического и Южно-Центрального почтового фондов, когда он прибыл сюда в апреле. Похоже, Гарри создал три предприятия: дом — в обличье пожилого ученого с молодой женой, который, конечно же, жил по соседству с нашим дорогим управляющим; наблюдательный пункт, на окнах которого он намалевал надпись «Втирайте Втирро от всего!», чтобы как-то оправдать его существование; и где-то еще гримерную, непременно с двумя выходами на разных улицах.
Около шести недель назад он приступил к последнему акту этой пьесы. Миссис Гарри до смешного просто сумела сфотографировать необходимую страницу или две из регистрационной книги. Я не сомневаюсь, что за недели до этого каждый, кто приходил в хранилище, был внимательно изучен, но благодаря фотографиям знания о них удалось соединить с информацией о тех, в чьи руки попали старые ключи Артиста — фотографии дали им имена, адреса, номера сейфов, кодовые слова и подписи. Остальное было просто.
— О да, клянусь богом, для такого человека это не более чем игра, — согласился мистер Карлайл с профессиональным восхищением. — Он мог придумать тысячу способов изучить голос, манеры и наружность своих жертв. Скольких же он обчистил?
— Мы можем только догадываться. Я бы поставил на семерых сомнительных визитеров в минувшие понедельник и вторник. Двоих он по какой-то причине проигнорировал, оставшиеся два сейфа никто не арендовал. Есть один момент, который вызывает интерес.
— Что такое, Макс?
— У Артиста был один сообщник, известный как Билли-Тянучка, но кроме него — за исключением, конечно же, жены, — он обычно никому не доверял. Однако очевидно, что как минимум семь человек в последнее время были под пристальным наблюдением. Что напоминает мне…
— Да, Макс?
— Хотел бы я знать, не воспользовался ли Гарри услугами ни о чем не подозревающих частных сыскных агентств.
— Не думаю, — улыбнулся детектив. — Едва ли это сработало бы…
— О, не знаю. Миссис Гарри в образе ревнивой жены или подозрительной возлюбленной вполне могла бы…
Улыбка мистера Карлайла вдруг исчезла.
— О господи! — воскликнул он. — Я вспомнил…
— Да, Луис? — со смешком в голосе уточнил Каррадос.
— Я вспомнил, что мне надо позвонить клиенту, прежде чем придет инспектор Бидл, — закончил мистер Карлайл, вставая с некоторой поспешностью.
В дверях он почти столкнулся с потрясенным директором, который ломал руки в полном отчаянии от нового удара судьбы.
— Мистер Каррадос! — дрожащим голосом проблеял несчастный пожилой джентльмен. — Мистер Каррадос, появился еще один — сэр Бенджамин Гамп. Он настаивает на том, чтобы встретиться со мной. Вы же не… вы же не оставите нас?
— Я не смогу оставаться здесь неделю, — живо ответил Каррадос, — и сейчас мне уже пора. Это только начало долгой вереницы посетителей. Уверен, мистер Карлайл поддержит вас.
Он кивнул «Всего доброго», глядя каждому прямо в глаза, и вышел, проделав весь путь с потрясающей уверенностью, которая часто заставляла окружающих забыть о его недуге. Вероятно, он не желал вновь сталкиваться с неловкой благодарностью Дрейкотта, поскольку меньше чем через минуту они услышали, как взвизгнула отъезжающая машина.
— Не беспокойтесь, мой дорогой сэр, — заверил своего клиента мистер Карлайл с непробиваемой самоуверенностью. — Не беспокойтесь. Я останусь взамен. Возможно, мне лучше сейчас же представиться сэру Бенджамину.
Директор обратил на него умоляющий, полный надежды взгляд, словно пойманное в ловушку животное.
— Он в подвале, — прошептал он. — Если понадоблюсь — я буду в зале заседаний.
В подвале мистер Карлайл без труда нашел свою цель. Сэр Бенджамин был несдержан и замкнут, сбит с толку и решителен, многословен и раздражителен, и все это то одновременно, то по очереди. Он уже потребовал, чтобы управляющий, профессор Балдж, Дрейкотт и два клерка рассмотрели его дело, и теперь они были вовлечены в бесконечное бесплодное и путаное обсуждение. Сыщика немедленно подвергли допросу, так что он старался отвечать как можно внушительнее, сам узнавая в то же время новые обстоятельства дела.
Последние события были совершенно удивительными. Меньше часа назад сэр Бенджамин получил посылку от районного курьера. В ней находился футляр для драгоценностей, который должен был в это время покоиться под охраной в одном из сейфов. Поспешно вскрыв его, получатель получил подтверждение своих самых худших опасений. Он был пуст — то есть в нем не было драгоценностей, вместо них, словно для того, чтобы усилить нанесенный удар, лежала исписанная аккуратным почерком карточка, и взволнованный баронет прочел на ней изречение, подходящее, но в этот момент совершенно неуместное: «Не собирайте себе сокровищ на земле…»
Карточку передали по кругу, и все взгляды устремились на сыщика в ожидании его экспертного заключения.
— …где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, — с важностью прочитал мистер Карлайл. — Хм. Это самая важная улика, сэр Бенджамин…
— Эй, что такое? Что это? — раздался голос с противоположной стороны холла. — Почему, будь я проклят, у вас такая же штука? Смотрите, смотрите, джентльмены! Послушайте, что происходит? Эй вы, сюда, пустите меня к моему сейфу. Я хочу знать сейчас же!
Букмекер размашистым шагом подошел к ним, размахивая пред их лицами точной копией карточки, которую держал в руках мистер Карлайл.
— Клянусь богом, это совершенно невероятно! — воскликнул этот джентльмен, сравнивая две карточки. — Вы только что получили это, мистер… мистер Берг, верно?
— Так и есть, Берг — на работе Айсберг. Благодаря лорду Гарри я могу принять эту потерю достаточно хладнокровно, но это… это оскорбительно! Полчаса назад мне вручили содержимое одного из конвертов, который должен был быть здесь и столь же защищен, как Английский банк! Что за шутка, скажите на милость? Сюда, Джонни, поторопись и пусти меня к моему сейфу.
Установленный порядок теперь был отброшен. Не было ни намека на знаменитые меры предосторожности заведения. Управляющий вместе с клиентом позвал служащего и, когда он не явился тотчас, повторил свой зов.
— Джон, ступай и немедленно проводи мистера Берга к его сейфу.
— Сию минуту, сэр, — отозвался растерянный служащий, торопясь разделаться со своей собственной проблемой. — Тут какой-то олух думает, что пришел в камеру хранения, насколько я смог понять — он иностранец.
— Забудь о нем, — строго ответил управляющий. — Сейф мистера Берга номер 01724.
Мистер Берг с сопровождающим удалились в один из роскошных, украшенных колоннадой коридоров. Остальные, один или двое, тоже слышавшие этот разговор, оглянулись вокруг и заметили странного человека, который решительно направился к ним. Он был, по всей видимости, типичный пожилой немецкий турист — длинноволосый, в очках, броско одетый, погруженный в интеллектуальные размышления о философии жизни. Одна рука его была занята трубкой, столь же очевидно германской, как и ее владелец, вторая сжимала саквояж, который обеспечил бы первый взрыв смеха любому клоуну.
Совершенно проигнорировав то, что собравшиеся были заняты, немец растолкал их и нашел управляющего.
— Это есть хранилище, nicht wahr?[33]
— Именно так, — надменно согласился управляющий, — но сейчас…
— Ваш парень не особо понятлив. — Глаза за толстыми стеклами очков сощурились в тяжеловесной попытке пошутить. — Он забыл свое дело. Вот хорошая сумка…
Поставленный на возвышение саквояж в полной мере продемонстрировал свои чудовищные пропорции. С одного конца безвольно свисала манжета фланелевой рубашки, с другой стороны заявлял о своем существовании древний воротничок с нелепым дополнением, известным как «манишка». Удивительно ли, что управляющий неодобрительно отнесся к такой настойчивости? Репутация «Сейфа» среди его клиентов была подорвана и без подобного фарса в этот трагический час.
— Да, да, — прошептал управляющий, пытаясь выдворить потенциального вкладчика, — но вы ошиблись, это не…
— Это есть хранилище? Хорошо. Моя сумка — я хочу надежно хранить ее до моего поезда. Ja?[34]
— Nein, nein![35] — почти прошипел несчастный управляющий. — Уходите, сэр, уходите! Это не камера хранения! Джон, проводи этого джентльмена.
Мистер Берг и его сопровождающий уже вернулись из своего похода. Внутренняя коробка была открыта, и не было нужды спрашивать о результатах осмотра. Букмекер тряс головой, как ошалевший бык.
— Пропало, все мое имущество пропало! — прокричал он через весь холл. — Украдено из «Сейфа» до последней крупицы!
Для тех, кто ничего не знал о том, как было осуществлено мошенничество, казалось, пошатнулась вся финансовая безопасность столицы. Воцарилась потрясенная тишина, и в ней было слышно, как звякнула гигантская решетка на входе в подвал, выпуская столь несвоевременно пришедшего иностранца. Но, словно в это страшное утро события не могли стоять на месте, его тут же сменил опрятный мужчина в строгом церковном одеянии, которого впустили тогда же, когда вышел назойливый немец.
— Отец Питерсхэм! — воскликнул профессор, шагнув навстречу новому посетителю, чтобы поприветствовать его.
— Во имя Господа, профессор Балдж! — приветствовал его в ответ священник. — Вы здесь! Со мной произошло нечто весьма тревожное. Я немедленно должен попасть к своему сейфу. — Он обращался то к управляющему, то к профессору, в равной степени завладев их вниманием. — Весьма тревожное и возмутительное происшествие. Мой сейф, пожалуйста… да-да, преподобный Генри Нокс Питерсхэм. Я только что получил коробку, маленькую коробку, ничего не стоящую, но одну из тех, как я думаю, да, я уверен, что это одна из них; коробка, в которой хранились семейные драгоценности определенного рода, которые должны сейчас находиться здесь, в моем сейфе. Номер 7436? Пожалуй, да, да. Да, вот мой ключ. Но помимо столь обескураживающего впечатления, профессор, коробка содержала — и я должен заявить, что такое цитирование Библии священнику моего ранга является наиболее непристойным, — содержала, м-да, вот это: «Не собирайте себе сокровищ на земле…» Боже мой, да у меня в столе множество проповедей с тем же самым стихом! Я особенно люблю то весьма насущное предостережение, которое он несет в себе. И адресовать его мне! Это чудовищно!
— Номер 7436, Джон, — приказал управляющий с усталой покорностью в голосе.
Служащий направился к другому бронированному проходу. Стремительно завернув за угол, он споткнулся обо что-то, почти сумел сдержать богохульство, сорвавшееся с его губ, и оглянулся.
— Это снова старая сумка проклятого иностранца! — расстроенно объяснил он в попытке оправдаться. — В конце концов он оставил ее тут.
— Вынесите ее наружу и выбросьте, когда закончите, — коротко ответил управляющий.
— Эй, погодите, — задумчиво произнес Джон, не замечая своей фамильярности. — Погодите минуту. Тут занятная штука. Тут бирка, которой раньше не было. «Почему бы не заглянуть внутрь?»
— «Почему бы не заглянуть внутрь?» — повторил кто-то.
— Так тут написано.
Последовала еще одна озадаченная пауза. Все были захвачены мыслью о еще более таинственной головоломке, чем та, с которой они столкнулись до этого. Один за другим они начали подходить с видом здравомыслящих людей, которые не любопытны, но полагают, что тоже могли бы взглянуть.
— Ба! Будь я проклят, — неожиданно воскликнул мистер Берг, — если это не тот же почерк, каким подписаны наши карточки!
— Ей-богу, вы правы! — согласился мистер Карлайл. — Что ж, почему бы не заглянуть внутрь?
Наклонившись над сумкой, служащий прочел вердикт на лицах окружавших его людей и в мгновение ока потянул за обе пряжки. Центральная застежка была не застегнута и разошлась от прикосновения. Фланелевая рубашка, чудной воротничок и еще несколько предметов верхней одежды были отброшены в сторону, рука Джона погрузилась глубже…
Гарри-Артист действовал в соответствии со своим драматическим чутьем. Ничего не было завернуто, напротив богатые трофеи были нарочно открыты и выставлены напоказ, так что извержение из сумки, когда Джон, хранитель ключей, в порыве нелепого сумасбродства поднял ее и расшвырял содержимое по полу, напоминало дележ добычи в логове контрабандистов, или исполнение мечты спекулянта, или взрыв в пещере Аладдина, или что-то столь же не вероятно расточительное и сумасбродное. Банкноты разлетелись во все стороны, вслед за ними по полу, словно мусор, раскатились золотые соверены; ценные бумаги и облигации на тысячи и десятки тысяч фунтов лились проливным дождем вперемешку с ювелирными украшениями и необработанными драгоценными камнями. Желтый камень, выглядевший на четыре фунта, но весивший в два раза больше, упал на ногу священнику, заставив того отскочить к стене и скривиться. Кинжал с рубином в рукояти порезал запястье управляющего, пока тот пытался обуздать этот сверкающий беспорядок. Несмотря на его усилия, сверкающий рог изобилия продолжал заливать все вокруг, барабаня, звеня, стуча, шелестя, грохоча, мерцая своими дарами, пока не закончился, словно в завершающей сцене эффектного балета, золотым дождем, который сверкающей вуалью из золотого песка укрыл всю предыдущую гору драгоценностей.
— Мое золото! — выдохнул Дрейкотт.
— Мои пятифунтовые, черт возьми! — воскликнул букмекер, бросаясь к трофеям.
— Мои японские облигации, купоны и все, и… да, даже рукопись моей работы «Полифилетические свадебные обряды пещерных людей в среднем плейстоцене»! Ха! — Нечто близкое к истерическому смеху восторга завершило этот вклад профессора в общее столпотворение, и очевидцы потом утверждали, что на мгновение почтенный ученый, казалось, встал на одну ногу и начал танцевать канкан.
— Бриллианты моей жены, слава богу! — рыдал сэр Бенджамин с видом школьника, который успешно избежал розог.
— Но что все это значит? — спросил сбитый с толку священник. — Тут и мои семейные реликвии — несколько неплохих жемчужин, коллекция камей моего деда и другие мелочи… но кто?..
— Возможно, здесь есть какое-то объяснение, — предположил мистер Карлайл, отцепляя конверт, который был прикреплен к подкладке сумки. — Он адресован «Семи богатым грешникам». Мне прочесть?
По некоторым причинам ответ был не единогласным, но этого было достаточно.
Мистер Карлайл вскрыл конверт.
«Мои дорогие друзья. Довольны ли вы? Счастливы ли вы сейчас? О да, но не истинной радостью обновления, которая единственно может принести свет страдающей душе. Остановитесь, пока еще есть время. Отбросьте бремя своих греховных страстей, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Евангелие от Марка, 8:36)
О мои друзья, у вас был чертовски ничтожный шанс. До прошлой пятницы я держал в своих порочных руках ваши богатства и радовался своему бесчестному коварству, но в тот день, когда мы с моей заслуживающей всяческого порицания сообщницей стояли и слушали, единственно ради развлечения, речь новообращенного на собрании Армии спасения в парке Клэпхэм, божественный свет внезапно озарил наши заблудшие души, и там и тогда мы нашли спасение. Алилуйя!
То, что мы сделали, чтобы завершить бесчестный план, над которым мы трудились долгие месяцы, было сделано исключительно ради вашего же блага, дорогие друзья, хотя вас до сих пор отделяют от нас ваши греховные желания. Пусть это будет уроком для вас. Продайте все и раздайте бедным — через организацию Армии спасения, если хотите, — и так собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут (Евангелие от Матфея, 6:20)
Искренне ваш для добрых дел Генри, рядовой Армии спасения.
P.S. (торопливо).: Могу также сказать вам, что ни одно хранилище не может быть и в самом деле неприступным, хотя сейфовое хранилище Сайруса Дж. Кои и К° на 24 западной улице в Нью-Йорке ближе всего к сути этого понятия. И даже его я мог бы ограбить дочиста, если бы взялся за него как следует, — то есть я мог бы сделать это в те дни, когда я был грешником. Что же до вас, то я рекомендовал бы сменить телеграфный адрес на «Земляной орех».
У. К. Г.».
— Этот постскриптум звучит как слова так и не раскаявшегося грешника, мистер Карлайл, — прошептал инспектор Бидл, прибывший как раз вовремя, чтобы услышать, как читают письмо.
Эдгар Джепсон и Роберт Эсташ ЧАЙНЫЙ ЛИСТ
Артур Килстерн и Джордж Хью Виллоутон встретились в турецкой бане на Дьюк-стрит, в районе Сент-Джеймс,[36] и в той же турецкой бане расстались чуть больше года спустя. Оба они были людьми тяжелого нрава: Килстерн сварлив, а Виллоутон вспыльчив. Чей нрав хуже, было воистину сложно решить; и когда я обнаружил, что они вдруг сделались друзьями, то предсказал их дружбе срок три месяца. Но они продержались почти год.
Когда ссора наконец разразилась, причиной ее стала Рут, дочь Килстерна. Виллоутон влюбился в нее, она — в него, они заключили помолвку и собирались пожениться. Шесть месяцев спустя, несмотря на тот очевидный факт, что любовь между ними не угасла, помолвка была расторгнута. Ни он, ни она не объяснили, почему это случилось. Я полагаю, что Виллоутон дал Рут распробовать свой адский характер и получил достойный отпор.
Рут была не самым характерным образчиком семейства Килстернов, во всяком случае внешне. Подобно представителям большинства старых линкольнширских семейств, потомков викингов — соратников короля Канута — всякий Килстерн похож на других Килстернов: светловолосые, белокожие, с голубыми глазами и прямыми носами. Однако Рут пошла в родню матери: у нее были темно-каштановые волосы, чуть вздернутый носик, карие глаза, какие часто называют «влажные», и губы, как нельзя лучше приспособленные для поцелуев. Она была гордая, самостоятельная, пылкая и обладала характером достаточно твердым, чтобы сосуществовать со старым грубияном Килстерном. Как ни удивительно, она была искренне привязана к отцу, несмотря на то что тот постоянно пытался ее запугать; но и он, насколько я могу судить, был крепко привязан к ней. Пожалуй, она была единственным существом на свете, кого он действительно любил. Он занимался внедрением научных открытий в промышленность; дочь работала у него в лаборатории, и он платил ей пятьсот фунтов в год, а значит, она была отменной работницей.
Килстерн был глубоко уязвлен разрывом помолвки и вообразил, будто Виллоутон соблазнил его дочь и бросил. Рут тоже сильно переживала: теплые тона ее личика несколько поблекли, губы стали суше и сжались в тонкую линию. А Виллоутон бушевал как никогда; он напоминал медведя, у которого постоянно болит голова. Я попытался нащупать дорожку и к нему, и к Рут, чтобы помочь им как-то примириться. Мягко выражаясь, меня отвергли. Виллоутон разразился бранью; Рут вспыхнула и потребовала, чтобы я не лез в дела, которые меня не касаются. Тем не менее у меня осталось прочное впечатление, что оба они страшно тосковали в разлуке и охотно сошлись бы снова, если бы им не мешала дурацкая гордыня.
Килстерн вовсю старался поддержать неприязнь Рут к Виллоутону. Хотя, в общем, эта история меня действительно не касалась, но как-то вечером я высказал ему все, что думал, — на его дурной нрав мне всегда было в высшей степени наплевать; суть моей речи сводилась к тому, что с его стороны глупо вмешиваться и намного лучше будет оставить парочку в покое. Разумеется, он сразу разъярился и стал кричать, что Виллоутон грязный пес и мерзкий негодяй, — по меньшей мере, это были самые добрые из эпитетов, которыми он наградил недруга. Тут у меня отчего-то мелькнула мысль, нет ли у их ссоры более серьезной причины, чем разрыв помолвки.
Эта моя догадка подкреплялась теми чрезвычайными усилиями, которые затрачивал Килстерн, чтобы навредить Виллоутону. Во всех клубах, куда он захаживал — в «Атенеуме», «Девоншире» и «Сэвиле», — он с удивительной изобретательностью обязательно сворачивал разговор на Виллоутона, после чего принимался доказывать, что тот — мерзавец и самый отвратительный из негодяев. Конечно, это вредило Виллоутону, хотя и не настолько, как хотелось бы Килстерну, ибо Виллоутон был инженером, каких мало; а сильно навредить человеку, досконально знающему свое дело, не так-то легко. Он нужен людям. Но все-таки Виллоутону доставалось, и он знал, что этому виной Килстерн. Я слышал от двух знакомых, что они по-дружески намекнули об этом Виллоутону. Это его настроения не улучшило.
Он был специалистом по строительству тех зданий из железобетона, которые теперь растут как грибы по всему Лондону, столь же выдающимся в своей области, как Килстерн — в своей. Они были схожи не только уровнем интеллекта и нравом; полагаю, что и образ мыслей у них был примерно одинаков. Во всяком случае, оба решительно не желали изменять свои устоявшиеся привычки из-за этой истории с помолвкой.
Одна из таких привычек заключалась в посещении турецкой бани, в банном заведении на Дьюк-стрит, в четыре часа пополудни во второй и последний вторник каждого месяца. Они неукоснительно придерживались этого распорядка. То, что они будут вынуждены по вторникам сталкиваться друг с другом, не привело их обоих к решению изменить хотя бы час появления в бане. Сдвинуть срок всего на двадцать минут — и они виделись бы лишь мимоходом, издали. Однако они упорно являлись, как и прежде, одновременно. Толстокожесть? Да, они были толстокожими. Они не притворялись, что не видят друг друга; они тут же начинали переругиваться — и рычали друг на друга почти непрерывно. Я знаю это, потому что сам иногда бывал в турецкой бане в тот же час.
Их последняя встреча в бане состоялась примерно через три месяца после расторжения помолвки; там они и расстались навсегда.
Около полутора месяцев Килстерн выглядел больным: лицо у него стало серым, глаза тусклыми, и он начал терять вес. Однако во второй вторник октября он прибыл в баню пунктуально в четыре часа и, по своему обыкновению, привез термос с чаем. Это был чай какого-то очень изысканного китайского сорта. Когда Килстерну казалось, что он потеет недостаточно, он выпивал этот чай в парной; если потоотделение было обильным, чаепитие происходило после бани. Виллоутон приехал чуть попозже. Килстерн уже разделся и вошел в банный зал за пару минут до Виллоутона. В горячем отделении они пробыли примерно одно и то же время; в парную Килстерн перебрался через минуту после Виллоутона. Перед этим он велел принести термос, который забыл в раздевалке, и взял его с собой в парную.
Случилось так, что кроме них в парной никого не было; прошло не более двух минут, когда четверо мужчин в горячем отделении услышали, что они ссорятся. Килстерн обозвал Виллоутона, в своем обыкновении и помимо прочего, грязным псом и мерзким негодяем, а потом заявил, что непременно его доконает. Виллоутон дважды предложил ему убираться к дьяволу. Килстерн продолжал оскорблять его, и наконец Виллоутон заорал: «Эй, заткнись, старый дурак! Или я тебя прикончу!»
Килстерн не заткнулся. Через пару минут Виллоутон, ворча себе под нос, вывалился из парной, пересек горячий зал и, войдя в массажный кабинет, вверил себя заботам служителей. Прошло еще несколько минут, и один из купальщиков, по имени Хелстон, отправился в парную. Тут же раздался его отчаянный крик. Килстерн лежал на залитой кровью кушетке, и кровь еще текла из раны у него над сердцем.
Поднялся невообразимый гам. Вызвали полицию, Виллоутона арестовали. Разумеется, он вышел из себя и, яростно протестуя, уверяя, что не имеет ничего общего с этим преступлением, обругал полицейских. Это не вызвало у них готовности ему верить.
Осмотрев помещение и мертвое тело, детектив-инспектор, уполномоченный расследовать дело, пришел к выводу, что Килстерна закололи кинжалом, когда тот пил свой чай. Термос валялся на полу у его ног; недопитый чай, очевидно, разлился, поскольку на полу возле горлышка пустого термоса нашли чайные листочки. По-видимому, служанка, заливавшая чай в термос, плохо его отцедила. Все выглядело так, словно убийца воспользовался моментом, когда Килстерн приступил к чаепитию, чтобы нанести удар: термос, поднесенный ко рту, заслонял жертве обзор и помешал увидеть, что происходит.
Дело казалось бы простым и ясным, если бы не одно осложнение: орудие убийства не было найдено. Виллоутон мог без труда пронести его в баню в складках полотенца, в которое там принято заворачиваться. Но как он от него избавился? Где мог его спрятать? Турецкая баня — не то место, где можно спрятать хоть что-нибудь. Там пусто, как в амбаре до жатвы, — и даже хуже; а Виллоутон находился в самой пустой ее части. Полиция обыскала там каждый уголок — хотя особого смысла в этом не было, так как Виллоутон, выйдя из парной, сразу прошел через горячий зал в массажную. Когда Хелстон закричал об убийстве, Виллоутон вместе с массажистами примчался в парную и там оставался до ареста. Поскольку все считали, что он — убийца, банщики и массажисты не спускали с него глаз. Все они единодушно утверждали, что Виллоутон не ходил в раздевалку один; ему никто бы этого не позволил.
Он не мог пронести орудие убийства в баню иначе, как запрятав его в складках полотенца, которое набросил на себя. И вынести мог только таким же способом. Однако, войдя в массажную, он оставил полотенце рядом со столом, где его массировали, и оно все еще лежало там, когда начался обыск, нетронутое. Ни какого-либо оружия, ни следов крови на нем не обнаружили. Отсутствие пятен крови само по себе немного значило, так как Виллоутон мог отереть нож, или кинжал, или чем он там пользовался, о лежанку, на которой расположился Килстерн. Признаков такого действия на лежанке не было; но их могла скрыть кровь, вытекавшая из раны.
А вот то, что оружие исчезло, привело в недоумение полицию, а затем и публику, читающую газеты.
Через некоторое время медики, производившие вскрытие, выяснили, что рана была нанесена круглым заостренным предметом около трех четвертей дюйма в диаметре.[37] Оно проникло в тело на три с лишним дюйма, и, если предположить, что у него имелась рукоятка, пусть даже не более четырех дюймов в длину, получалось орудие немалого размера, которое невозможно было проглядеть. Медики также обнаружили еще одно доказательство того, что Килстерн пил чай в момент, когда его закололи. Они извлекли из раны две половинки чайного листа, который, очевидно, упал на тело Килстерна, а затем попал в рану на острие оружия и был разрезан пополам его острием. Кроме того, выяснилось, что у Килстерна была раковая опухоль. Этот факт в газеты не попал — мне рассказали о нем в клубе «Девоншир».
Виллоутон предстал перед мировым судьей и, к удивлению большинства публики, отказался от защиты. Стоя на месте для свидетелей, он присягнул в том, что и пальцем не касался Килстерна, не держал никаких предметов, способных причинить вред, ничего не приносил с собой в турецкую баню и, следовательно, ему нечего было там прятать, и наконец, что в глаза не видел каких-либо орудий, похожих на описание, данное медиками. Его взяли под стражу и назначили судебное расследование.
Газеты вовсю разглагольствовали о преступлении; о нем толковали повсюду, и людей занимал лишь один вопрос: где Виллоутон спрятал оружие? Энтузиасты писали в газеты, что он, вероятно, хитроумно уложил его где-то у всех на глазах и его не нашли именно потому, что все было слишком очевидно. Другие уверяли, будто «круглый заостренный предмет» — это, должно быть, что-то вроде толстого свинцового карандаша, причем будто это и был толстый свинцовый карандаш, а потому полиция не обратила на него внимания при обыске. Однако полиция не проглядела толстый свинцовый карандаш; там не было никакого толстого свинцового карандаша. Агенты рыскали по всей Англии вдоль и поперек — Виллоутон много ездил на автомобиле, — чтобы отыскать мастера, продавшего ему столь странное и необычное оружие. Мастера, продавшего оружие, не нашли; такого мастера вообще не существовало в природе. Тогда пришли к заключению, что Килстерна убили обрезком железного или стального прута, заточенного как карандаш.
Несмотря на то что только Виллоутон мог убить Килстерна, я не мог поверить, что он действительно это сделал. Конечно, Килстерн изо всех сил старался напакостить ему в обществе и подмочить профессиональную репутацию, однако этого мотива явно было недостаточно для убийства. Виллоутон был слишком умен, чтобы не осознавать, что люди мало обращают внимания на попытки дискредитировать человека, который им нужен для дела, а уж мнение общества его беспокоило весьма мало. По своему характеру он вполне был способен покалечить, а то и убить человека в одном из своих припадков ярости; но он был не из тех, кто загодя готовит хладнокровное убийство; а убийство Килстерна, без всяких сомнений, было сознательно спланировано.
Будучи самым близким другом Виллоутона, я добился свидания с ним в тюрьме. Он был искренне тронут моим поступком и благодарен за сочувствие. Я узнал, что его больше никто не навещал. Виллоутон пребывал в подавленном настроении, выглядел, естественно, измученным и заметно притих. Эта перемена могла стать постоянной. Хью охотно говорил со мной об убийстве. Он откровенно признался мне, что в сложившихся обстоятельствах я вряд ли поверю в его невиновность, он на это не надеется; но он не убивал и даже под угрозой казни не может догадаться, кто это сотворил. И я ему поверил — то, как он говорил о своей беде, полностью убедило меня. Я сказал, что убежден в его непричастности к убийству Килстерна; Виллоутон, кажется, воспринял мои слова как пустое утешение, но снова взглянул на меня с благодарностью.
Рут сильно горевала по отцу, но опасность, угрожавшая Виллоутону, отчасти отвлекала ее от потери. Женщина может насмерть рассориться с мужчиной и все-таки не желать ему смерти на виселице; а шансы Виллоутона избежать петли были ничтожны. Она, тем не менее, ни на миг не усомнилась в том, что он ее отца не убивал.
— Нет, об этом и речи быть не может — вообще не может этого быть! — твердо сказала она, когда я пришел навестить ее. — Если бы папа убил Хью — это я бы поняла. У него были на то причины — во всяком случае, он сам себе внушил это. Но у Хью какие были причины убивать папу? Из-за того, что папа лез из кожи вон, чтобы ему навредить? Чепуха! Люди сплошь и рядом стараются таким образом навредить другим, но толку от этих демаршей мало, и Хью это отлично знает.
— Конечно, так оно и есть, — согласился я. — Хью наверняка не принимал всерьез выходки вашего папаши. Но не забывайте о его адском темпераменте.
— Уж я-то не забываю, — возразила она. — В приступе ярости он мог бы убить человека. Но тут о приступах речь не шла. Кто-то хорошо все продумал и явился с оружием наготове.
Я должен был признать, что в этом есть резон. Но кто же тогда виновен? Я напомнил девушке, что полиция тщательно разузнала про всех лиц, находившихся в бане на момент преступления, и служащих, и посетителей, но ни один из них не имел никакого отношения к ее отцу и не общался с ним, кроме массажиста.
— Это был либо один из них, либо кто-то еще пришел, сделал дело и сразу скрылся, либо была применена какая-то особая хитрость, — сказала она, нахмурившись, и задумалась.
— Я не могу придумать, как мог оказаться в бане кто-то кроме тех людей, присутствие которых уже установлено, — сказал я. — На самом деле это невозможно.
Вскоре Рут получила от коронера повестку — ее вызывали в суд как свидетельницу обвинения. Это вовсе не было необходимо и даже казалось странным, поскольку следствие могло добыть свидетельства неприязни между двумя мужчинами, не привлекая к делу девушку. Вероятно, вызов объяснялся тем, что имеющемуся мотиву хотели любыми средствами придать больше вескости. Перспектива выступить в качестве свидетельницы огорчила Рут сильнее, чем я мог бы ожидать. Впрочем, те дни были тяжелым испытанием для нее.
В день, когда должен был начаться суд, я заехал к Рут утром после завтрака, чтобы отвезти ее в Нью-Бейли.[38] Девушка была бледна и выглядела так, словно не спала ночь. Ею владело сильное волнение, что неудивительно, и она едва сдерживалась, хотя обычно отлично умела скрывать свои чувства.
Во время следствия мы, разумеется, поддерживали контакт с Хемли, солиситором[39] Виллоутона; и теперь тот не забыл оставить для нас места прямо за своей спиной. Он хотел, чтобы Рут была у него под рукой на случай, если возникнут вопросы, которые она могла бы осветить лучше всех, будучи хорошо осведомлена об отношениях между Виллоутоном и ее отцом. Я верно рассчитал время — мы прибыли, как раз когда присяжные уже дали клятву. В зале суда, разумеется, было полно женщин — и супруги пэров, и жены политиков, букмекеров и прочих; почти все они были разряжены в пух и прах и надушены до невозможности.
Затем вошел судья, и атмосфера в зале сразу приобрела тот оттенок тревожного напряжения, который всегда сопровождает слушание дел об убийствах. Примерно то же чувство возникает в комнате смертельно больного, только в суде еще хуже.
С судьей Виллоутону не повезло. Гарбоулд, субъект с заурядной внешностью, жесткими чертами лица и крайне грубыми манерами, имел обоснованную репутацию судьи-вешателя; было известно, что он всегда подыгрывает стороне обвинения.
Ввели Виллоутона. Он сел на скамью подсудимых, с видом совершенно больным и сильно подавленным. Однако держался он достойно и довольно ровным голосом сказал, что не признает себя виновным.
Гриторикс, ведущий королевский адвокат, произнес обвинительную речь. Из нее следовало, что полиция никаких новых фактов не выявила.
Следующим номером шли свидетельские показания. Сперва Хелстон рассказал о том, как нашел тело убитого; потом он же и те трое, кто присутствовал вместе с ним в горячем зале, описали услышанную ими ссору между Виллоутоном и покойным, а также возвращение Виллоутона из парной, ругающегося и откровенно разъяренного. Один из них, нервный старый джентльмен по имени Андервуд, заявил, что более жестокой ссоры в жизни не слышал. Никто из этих четверых не мог ответить на вопрос, прятал ли Виллоутон орудие убийства в складках своего полотенца; все они были уверены, что в руках он не держал ничего.
Медики, производившие вскрытие, также подверглись перекрестному допросу. Хэзелдин, адвокат Виллоутона, непреложно установил тот факт, что неизвестное орудие было значительного размера; его круглое острие, вероятно, имело более половины дюйма в диаметре и от трех до четырех дюймов в длину. По их мнению, для того, чтобы вонзить в сердце острие такой толщины, его нужно было крепко держать, а значит, у него имелась рукоятка длиной не менее четырех дюймов. Это мог быть обрезок железного или стального прута, заточенный как карандаш. В любом случае орудие такого размера невозможно было ни быстро спрятать, ни уничтожить бесследно в турецкой бане. Опровергнуть вывод медэкспертов насчет чайного листа Хэзелдину не удалось; они были твердо убеждены, что листок попал в рану и был разрезан пополам острием неизвестного оружия, а это доказывало, что рана была нанесена в момент, когда Килстерн пил чай.
Детектива-инспектора Брекета, который расследовал дело, допрашивали долго, главным образом о том, как он искал таинственное орудие. Он четко дал понять, что в данной бане орудия убийства не было ни в горячем отделении, ни в массажной, ни в раздевалке. Искали даже в вестибюле и кабинете администратора. Инспектор велел спустить воду из глубокого бассейна; он обыскал крыши, хотя не было сомнений, что стеклянные рамы на потолке и в горячем зале, и в парной к моменту преступления были закрыты. Пересмотрев факты повторно, он выдвинул предположение, что у Виллоутона был сообщник, который и унес оружие. Этот вариант он рассматривал со всей тщательностью.
По утверждению массажиста, Виллоутон пришел к нему в таком ужасном раздражении, что он задумался о причине недовольства клиента. В ходе перекрестного допроса Арбетнот, ассистент Хэзелдина, окончательно установил, что если Виллоутон не успел спрятать оружие в совершенно пустом помещении парной, оно могло быть спрятано только в полотенце. Затем он вытащил из массажиста четкое подтверждение того факта, что Виллоутон положил полотенце рядом с лежаком, на котором его массировали, что он выбежал в горячий зал раньше, чем массажист, затем последний вернулся к себе, а Виллоутон остался в зале, обсуждая происшествие; полотенце так и лежало на прежнем месте, и ни какого-либо оружия, ни следов крови на нем не было.
Поскольку инспектор отбросил возможность ситуации, при которой сообщник проник бы в комнату, вынул оружие из полотенца и ускользнул с ним из бани, благодаря этим показаниям стало очевидно, что оружия из парной не выносили.
Тогда обвинитель вызвал свидетелей, которые рассказали о неприязни, существовавшей между Килстерном и Виллоутоном. Три известных и влиятельных человека сообщили о попытках Килстерна дискредитировать Виллоутона в их глазах и о клевете в адрес последнего. Один из них счел своим долгом осведомить об этом Виллоутона, и Виллоутон сильно рассердился. Арбетнот, в свою очередь, установил, что измышления Килстерна о ком бы то ни было не производили большого эффекта, поскольку все знали о его чрезвычайной сварливости.
Я заметил, что во время перекрестного допроса массажиста, слушая его показания, Рут ерзала на своем месте и нетерпеливо оглядывалась на входную дверь, как будто поджидая кого-то. И вот, как раз когда ее вызвали на место свидетеля, в зал суда вошел высокий, сутуловатый мужчина лет шестидесяти, седоволосый, с седой бородкой. В руках у него был пакет, завернутый в коричневую бумагу. Лицо его показалось мне знакомым, но вспомнить имя я не смог. Он взглянул на девушку издали и кивнул. Рут коротко, с облегчением вздохнула, наклонилась к солиситору Виллоутона и, отдав ему письмо, которое держала в руке, указала на седобородого. Потом спокойно поднялась на возвышение.
Хемли прочитал письмо и сразу же передал его Хэзелдину, что-то негромко объяснив. Я уловил нотку возбуждения в его приглушенном голосе. Хэзелдин тоже прочел письмо и явно заволновался. Хемли поднялся с места и направился к пришельцу, все еще стоявшему в дверях зала. Между ними завязался серьезный разговор.
Гриторикс начал допрашивать Рут, и я, естественно, сосредоточил свое внимание на ней. Вопросы его снова имели целью подчеркнуть, как сильно не ладили Килстерн и Виллоутон. Рут попросили рассказать присяжным, в чем именно заключались угрозы Килстерна. Потом — совершенно неожиданно — обвинитель резко сменил направление. Удивительно, какие только подробности не разнюхивает полиция, если случай и в самом деле важный! Гриторикс принялся расспрашивать Рут о ее собственных отношениях с Виллоутоном; его вопросы явственно должны были подвести к выводу, что они не только были помолвлены, но и состояли в любовной связи.
Мне сразу стало ясно, куда клонит обвинитель. Он хотел извлечь выгоду из обычной склонности британских присяжных и судей к соблюдению высокой морали: они намного охотнее отправляют на виселицу мужчину или женщину, подозреваемых в убийстве, если узнают, что те состояли в аморальных отношениях с противоположным полом. Не было лучшего способа настроить жюри враждебно к Виллоутону, чем доказать, что он соблазнил Рут, пообещав жениться на ней.
Разумеется, Хэзелдин тут же вскочил и опротестовал поведение обвинителя, указав, что эти сведения несущественны и вопросы недопустимы; Гарбоулд, разумеется, с ним не согласился — младшие коллеги недаром наградили его прозвищем «вешатель». Хэзелдин был великолепен. Его схватка с Гарбоулдом была самой ожесточенной из всех — а их бывало много. Гарбоулд всякий раз делает глупость, допуская подобные схватки. Хэзелдин всегда одерживает верх или создает впечатление, что одерживает, и это обеспечивает ему благосклонность присяжных. Однако Гарбоулд получил свою должность не за ум, а благодаря политическим связям. Он постановил, что вопросы допустимы и сам кое-что спросил у Рут.
Тут наконец Виллоутон не выдержал и возмутился, заявив, что все это выходит за рамки дела и является грубым нарушением закона. Голос у Виллоутона звонкий и громкий. И он не тот человек, которого легко утихомирить, если он утихомириваться не хочет. На это потребовалось время. Когда подсудимого удалось унять, Гарбоулд уже был весь багровый от злости. Теперь уж точно он был готов повесить Виллоутона во что бы то ни стало.
Тем не менее, наблюдая за присяжными, я заметил, что бурная реакция Виллоутона им скорее понравилась, а протест Хэзелдина подорвал доверие к Гарбоулду. Лица у представителей обвинения вытянулись, и я понял, что этот эпизод они бездарно провалили.
Гриторикс, при поддержке Гарбоулда, все-таки повел свою линию дальше; Рут не выглядела сломленной, наоборот, она держалась с вызовом и, оживленная, раскрасневшаяся, стала еще прелестнее. Она признала, что они с Виллоутоном были любовниками; что, провожая ее после танцевального вечера или из театра, он неоднократно оставался у нее до раннего утра. Одна из горничных выследила их — так королевский обвинитель добыл свои факты.
Несмотря на успех протеста Хэзелдина, я опасался, что создаваемое Гриториксом представление о Виллоутоне как о соблазнителе, совратившем девушку, пообещав жениться на ней, сильно повредит ему в глазах присяжных — и, скорее всего, доведет его до петли.
Рут слегка покраснела от этого испытания, но отнюдь не была обескуражена. Под конец она заметила:
— Все это могло бы побудить моего отца убить мистера Виллоутона, но не давало мистеру Виллоутону повода убить моего отца!
Естественно, Гарбоулд тут же обрушился не нее, как камнепад в горах:
— Вас вызвали, чтобы отвечать на вопросы, а не бросаться пустыми словами… — и так далее в том же духе.
Теперь Гриторикс перешел к вопросу о разрыве помолвки. Он хотел добиться от дочери Килстерна признания, что виноват в разрыве Виллоутон, который скомпрометировал ее, а потом бросил. Рут не поддалась и отрицала это категорически. Она заявила, что между ними произошла ссора, и помолвку разорвала она сама. На этом она стояла твердо, и сместить ее с занятой позиции не удалось, хотя Гарбоулд и пытался с дружеским усердием помочь обвинителю.
В разгар этой перепалки Виллоутон, который в накалившейся до предела атмосфере зала вновь стал самим собою, произнес очень неприязненным, насмешливым тоном:
— Она говорит чистую правду. Зачем вы терзаете ее?
И снова Гарбоулд взвился, сердито отчитал его за вмешательство, велел молчать и заявил, что не допустит превращение зала суда в балаган.
— С дрессированным медведем на судейском кресле, — сказал Хэзелдин Арбетноту шепотом, но довольно громким.
Кое-кто из присутствующих рассмеялся, в том числе один из присяжных. К тому моменту, когда Гарбоулд разделался с ним, пожалуй, никто из присяжных не обвинил бы Виллоутона, даже если бы лично наблюдал, как он убивает Килстерна.
Виллоутон тем временем написал записку, которую передали Хэзелдину.
Наступил черед Хэзелдина вести допрос Рут. Держался он очень уверенно. Сперва он получил от нее показания о том, что ее отец и Виллоутон отлично ладили друг с другом до разрыва помолвки; затем установил, что Килстерн горячо сочувствовал дочери, и, когда горничная-шпионка доложила ему об ее интимных отношениях с Виллоутоном, он разъярился не намного сильнее, чем уже был разъярен.
Затем Хэзелдин спросил:
— Правда ли, что после разрыва помолвки подсудимый неоднократно просил вас простить его и возобновить ваш союз?
— Четыре раза, — сказала Рут.
— И вы отказались?
— Да, — Рут бросила на Виллоутона странный взгляд и добавила: — Его следовало проучить.
— Просил ли он вас затем хотя бы вступить с ним в формальный брак, обещая по выходе из церкви сразу же оставить вас в покое?
— Да.
— И вы ему отказали?
— Да… — ответила Рут.
Гарбоулд наклонился вперед и бросил весьма язвительно:
— И почему же вы не воспользовались возможностью исправить ваше постыдное поведение?
— В нем не было ничего постыдного, — огрызнулась Рут и окинула судью откровенно враждебным взглядом. Потом добавила наивно: — Я отказывала потому, что могла не торопиться. Он всегда успел бы жениться на мне, если бы я передумала и захотела этого.
В зале стало тихо. Я уже не сомневался, что обвинение село в лужу, затронув вопрос отношений между Рут и Виллоутоном, поскольку он явно стремился избавить ее любой ценой от ущерба, который мог проистечь из их общей неосторожности. И все же настроения присяжных, увы, непредсказуемы.
Между тем Хэзелдин переменил тактику. Он спросил с подчеркнутым сочувствием:
— Скажите, верно ли, что ваш отец страдал от рака в болезненной форме?
— Боли становились все сильнее, — грустно сказала Рут.
— Составил ли он завещание, привел ли в порядок свои дела за несколько дней до смерти?
— За три дня.
— Случалось ли вам слышать от него о самоубийстве?
— Он однажды сказал, что еще немного продержится, а потом покончит со всем разом, — сказала Рут и, помолчав, добавила: — Именно так он и поступил.
Казалось, будто весь зал вздрогнул. Люди зашевелились, зашептались, и по рядам прошла волна тихого шороха. Гарбоулд откинулся на спинку кресла, недоверчиво хмыкнул и свирепо уставился на Рут.
— Не объясните ли вы суду, почему так считаете? — спросил Хэзелдин.
Рут с явным усилием взяла себя в руки; румянец на ее лице поблек, и она выглядела очень усталой. Но заговорила она тихим, ровным голосом:
— Я ни единой минуты не верила, что Виллоутон убил моего отца. А вот если бы отец убил Виллоутона, я думала бы иначе.
Гарбоулд навис над нею и рявкнул, что суду требуются не выдумки и фантазии, а факты.
Не думаю, чтобы Рут услышала его; она сейчас заботилась лишь о точном выражении своих доводов. Она продолжала тем же ровным тоном:
— Загадка исчезнувшего оружия, конечно, озадачила меня, как и всех: что это за предмет и куда он делся? Но я не верила, что это заточенный обрезок стального прута толщиной в полдюйма. Если кто-то явился в турецкую баню с целью убить моего отца и скрыть орудие, зачем брать такую большую вещь, которую трудно спрятать? Шляпная булавка, например, пригодилась бы не хуже, а спрятать ее куда легче. Однако сильнее всего меня смущал чайный листок, попавший в рану. Все остальные чаинки лежали на полу вокруг термоса. Это я узнала от инспектора Брекета. И мне казалось невероятным, чтобы один листок упал отцу на грудь, к тому же в той самой точке над сердцем, где острие пробило кожу, и так проник внутрь. На мой взгляд, для случайного совпадения это было слишком. И все же я не смогла приблизиться к пониманию больше, чем другие люди.
Гарбоулд прервал ее и потребовал перейти к фактам. В его тоне сквозила неприкрытая злоба. Хэзелдин встал и заявил протест: свидетельницу нельзя прерывать, она нашла разгадку тайны, над которой бились лучшие умы Англии, и ей следует позволить высказаться в той форме, какую она предпочтет.
Рут пропустила мимо ушей и этот обмен репликами, и когда они умолкли, продолжила все так же размеренно:
— Я, конечно, помнила, как отец хотел «покончить со всем разом». Но никто не способен с такой раной встать и спрятать оружие. Наконец позавчера ночью мне привиделось во сне, будто я вхожу в лабораторию и вижу на рабочем столе отца заостренный стальной стержень.
— Вот уже и до снов дошло! — презрительно пробормотал Гарбоулд и, откинувшись на спинку кресла, сложил руки на животе.
— Сон меня не особенно впечатлил, разумеется, — продолжала Рут. — Я так напряженно и так долго размышляла над этой задачей — немудрено, что мне стали сниться подобные вещи. Но наутро, после завтрака, у меня вдруг возникло ощущение, что разгадку следует искать в лаборатории — если удастся обнаружить, в чем ее суть. Этому ощущению я тоже не поддалась; однако оно становилось все сильнее, и после полудня я все-таки пошла в лабораторию и взялась за поиски. Я перерыла все ящики стола — там ничего не было. Тогда я обошла помещение, всюду заглянула, все осмотрела — и приборы, и реторты, колбы и так далее. Потом стала посредине комнаты и, медленно поворачиваясь, вгляделась в комнату как можно пристальнее. Только тогда мой взгляд остановился на газовом цилиндре, то есть баллоне, который лежал под стеной, у двери, видимо, приготовленный на выброс. Я перевернула его, чтобы узнать, какой газ в нем хранился. Но на цилиндре не было ярлыка.
Девушка умокла и обвела зал взглядом, как бы призывая к особому вниманию, и продолжила рассказ:
— Это меня насторожило. Ведь по правилам газовые баллоны обязательно снабжаются ярлыком — многие газы опасны. Я провернула вентиль, но не услышала характерного шипения. Баллон был пуст. Тогда я взяла регистрационный журнал, в котором фиксируется поступление всех рабочих материалов; согласно найденным мною записям, за десять дней до смерти отцу доставили баллон СО2, то есть углекислого газа, и семь фунтов[40] льда. И во все оставшиеся дни он получал те же семь фунтов льда. Именно сочетание льда и СО2 навело меня на верную мысль. Углекислый газ, или двуокись углерода, имеет очень низкую точку замерзания, восемьдесят градусов по Цельсию; когда он выходит из баллона и смешивается с воздухом, образуются мелкие кристаллы, попросту снег. Если этот снег подвергнуть сжатию, получится лед, чрезвычайно твердый и прочный. Тогда-то я и догадалась, что отец мог набрать нужное количество этого снега и, вложив его в форму, создать орудие, которое позволяло нанести ему смертельную рану — и тут же мгновенно исчезло бы!
Она вновь остановилась; множество глаз следило за ней из зала с таким восторгом, какому позавидовал бы любой рассказчик. И продолжение последовало:
— Я поняла, что именно это он и сделал. Сомневаться не приходилось. Лед из двуокиси углерода можно превратить в твердый и прочный кинжал, который быстро растает в парном отделении турецкой бани, испарится, не оставив даже запаха, поскольку он запаха не имеет. Таким образом, орудие убийства исчезнет. И наличие чайного листика объясняется теперь очень просто. Отцу было все равно, хорошо ли промыт термос, когда он помещал туда свой ледяной кинжал — главное, что термос одинаково хорошо держит и тепло, и холод, как всем известно. Он изготовил кинжал заранее, за день или за неделю, и спрятал его сразу же в термос; но чтобы надежнее сберечь его, он держал термос во льду до того момента, когда намеревался им воспользоваться. И никак иначе объяснить чайный листок нельзя. Он с самого начала прилип к острию кинжала и так попал в рану!
Она умолкла, и по залу прошел, если можно так выразиться, общий вздох облегчения.
Тишину прервал Гарбоулд.
— Почему же вы сразу не изложили эту вашу фантастическую теорию полиции? — спросил он раздраженно и недоверчиво.
— Потому что это было бы без толку, — немедленно парировала Рут. — Мало ли что могло прийти мне в голову! Нужно было, чтобы и другие люди могли мне поверить. Нужны были точные доказательства. Я стала их искать. Чутье подсказывало мне, что они существуют. Где-то должна была остаться форма. И я ее нашла!
В этих словах прозвучало неприкрытое торжество. Девушка улыбнулась Виллоутону и продолжала:
— Точнее, я обнаружила ее обломки. В ящике, куда мы выбрасываем всякий мусор, отработанные реактивы, негодные приборы и разбитые пробирки, я нашла несколько кусков эбонита и сразу поняла, что это — обломки продолговатой емкости. Тогда я скатала из воска стержень известного размера и стала прикладывать к нему найденные фрагменты. На эту работу я потратила целую ночь. Мне удалось собрать почти полную форму, недоставало лишь мелких осколков. Зато самую важную часть — заостренный наконечник — я нашла!
Рут сунула руку в свою сумочку и, достав странный предмет черного цвета, длиной около девяти дюймов и толщиной примерно дюйм, подняла его над головой, чтобы все могли видеть.
Кто-то из публики не удержался и зааплодировал; в зале тотчас поднялась буря рукоплесканий, и в ней потонули и призывы пристава к порядку, и рычание Гарбоулда.
Когда всплеск эмоций утих, Хэзелдин, который никогда не упускает нужного момента, бесстрастно произнес:
— У меня больше нет вопросов к свидетельнице, милорд, — и сел на свое место.
Эта реплика показалась мне завершающим аккордом, и присяжные, несомненно, восприняли ее так же.
Гарбоулд, красный как рак, наклонился к Рут и почти заорал:
— И вы рассчитываете, что жюри поверит, будто такой почтенный человек, как ваш отец, способен был, умирая, сознательно подстроить ловушку, чтобы довести подсудимого до виселицы?
Рут взглянула на него, пожала плечами и сказала с тем мудрым пониманием человеческой природы, какого можно было бы ожидать от женщины в зрелых летах:
— Да, папа мог так поступить. И он, конечно же, был убежден, что у него есть веские причины, чтобы убить мистера Виллоутона.
Что-то в ее тоне и жестах создавало непреложную уверенность в том, что Килстерн был способен не только придумать, но и осуществить подобную месть.
Гриторикс отказался допрашивать Рут; он посовещался с Хэзелдином, и наконец тот поднялся и начал защитительную речь. Она оказалась короткой. Хэзелдин заявил, что не хочет напрасно отнимать время у суда, и потому, ввиду того, что мисс Килстерн сама разрешила загадку смерти своего отца, ограничится вызовом одного свидетеля, а именно профессора Мозли.
Тот сутуловатый, седоволосый мужчина с седой бородкой, который с таким опозданием явился в суд, поднялся на свидетельское место. Теперь я понял, почему его лицо показалось мне знакомым: конечно же, я встречал его фотографии в газетах. Пакет, завернутый в коричневую бумагу, все еще был у него в руках.
Отвечая на вопросы Хэзелдина, он подтвердил, что из двуокиси углерода можно, и даже нетрудно, изготовить оружие достаточно твердое, острое и прочное, чтобы нанести такую рану, от которой скончался Килстерн.
— Способ изготовления такого орудия заключается в следующем: вы берете мешочек из замши, натягиваете его на вентиль баллона с двуокисью углерода, надеваете защитные перчатки и, держа мешочек левой рукой, правой открываете вентиль. Двуокись углерода испаряется так быстро, что почти сразу доходит до своей точки замерзания, 80° по Цельсию; таким образом, в замшевом мешочке она переходит в твердую форму и накапливается в виде двууглекислого снега. Затем вы заворачиваете вентиль, снег перекладываете ложкой в эбонитовую форму нужной толщины и утрамбовываете его при помощи эбонитового песта до получения стержня требуемой твердости.
Профессор подтвердил также и то, что в процессе накапливания снега и его уплотнения форму рекомендуется держать во льду, а готовый стержень хранить в термосе до тех пор, пока он не понадобится.
— И вы изготовили такой стержень? — спросил Хэзелдин.
— Да, — профессор развязал бечевку и стал разворачивать свой пакет. — Сегодня в половине восьмого часа утра мисс Килстерн вытащила меня из постели, чтобы поделиться своими открытиями. Я сразу же понял, что она нашла верное решение, — а ведь проблема смерти ее отца, признаться, порядком меня заинтриговала. Поэтому я наскоро позавтракал и взялся за работу, чтобы изготовить аналогичное орудие для демонстрации здесь, в суде. Вот оно.
С этими словами Мозли вынул из коричневой бумаги термос, отвинтил его крышку и перевернул. На ладонь профессора, защищенную перчаткой, выпал белый стержень около восьми дюймов длиной. Он поднял руку, чтобы присяжные могли рассмотреть этот предмет.
— Лед из двуокиси углерода — самый твердый и прочный из всех известных нам видов льда. Я уверен, что мистер Килстерн совершил самоубийство при помощи подобного стержня. Разница между моим образцом и орудием, которым воспользовался покойный, лишь в одном: то было остроконечным. У меня не было соответствующей эбонитовой формы; но та форма, которую мисс Килстерн собрала из обломков, заострена. Мистеру Килстерну, несомненно, изготовили ее по специальному заказу. Вероятно, он обратился в фирму Хокинса и Спендера.
Мозли вложил ледяной стержень обратно в термос и завинтил крышку.
Хэзелдин сел. Тот присяжный, которого отчитывал Гарбоулд, наклонился к старшине жюри и сказал ему что-то с серьезным выражением лица. Гриторикс встал и спросил:
— Касательно острия этого стержня прошу уточнить, профессор Мозли: как долго он останется достаточно острым, чтобы пронзить кожу человека при такой высокой температуре воздуха?
— Достаточно долго, на мой взгляд, — сказал профессор. — Я обдумал и этот вопрос. Следует учесть, что Килстерн по роду своих занятий отличался большой ловкостью движений и, с другой стороны, обладая научными знаниями, отчетливо понимал, что и как нужно будет сделать. Для того чтобы вынуть стержень из термоса и направить его в заданную точку, ему требовалось не более одной секунды — а то и меньше. Полагаю, что он приставил его острием к своему телу левой рукой, а правой сильно ударил по другому концу. На все это не могло уйти более двух секунд. К тому же, учтите, что чайный листок не удержался бы на острие, если бы оно растаяло.
— Благодарю вас, — сказал Гриторикс, повернулся и стал совещаться с королевскими адвокатами. Потом он заявил: — Мы полагаем, что дальнейшее рассмотрение дела излишне, милорд.
Старшина присяжных поспешно встал и сказал:
— Жюри также не желает более ничего слушать, милорд. Мы вполне удовлетворены и считаем, что подсудимый невиновен.
Гарбоулд заколебался. Готов поспорить, что он предпочел бы затянуть процесс. Но тут его взгляд упал на Хэзелдина, который наблюдал за ним; по-моему, судья решил не предоставлять ему возможность для новых обидных высказываний.
Угрожающе насупившись, он в официальном тоне обратился к присяжным, которые столь же официально произнесли вердикт: «Невиновен!» И судье оставалось лишь одно — отпустить Виллоутона.
Я вышел из здания суда вместе с Рут, и мы стали ждать, когда Виллоутон выйдет.
Наконец он появился в дверях, застыл на пороге и встряхнулся. Потом увидел Рут и подошел к ней. Они ничего не сказали друг другу. Она просто взяла его под руку, и они вместе покинули двор Нью-Бейли.
Мы здорово пошумели, приветствуя их.
Жак Фатрелл ТИАРА МИССИС РОЗВЕЛЛ
Едва ли профессор Ван Дузен, известный также как Думающая Машина, взялся бы за загадку тиары миссис Розвелл, не будь в этом деле замешан его ученый собрат. А не взялся бы Думающая Машина — взялась бы полиция, и покатилось бы: великосветский скандал, разрушенный брак, по меньшей мере четыре сломанные судьбы… Это было очевидно всем, и ему в том числе — может быть, потому он и взялся искать выход из ситуации, у которой, казалось, был только закономерный итог.
С этой историей профессора ознакомили в его собственной лаборатории — той самой, что стала свидетельницей открытий, потрясших мир и коренным образом изменивших представление о нем по крайней мере в трех естественных науках. Вот и сейчас его огромная голова с копной соломенных волос кивала чему-то происходящему в крохотной вселенной приборного стекла, а внимательно прищуренные глаза тем временем с сердито-довольным видом следили за огоньком спиртовки.
Внезапно зашедшая Марта, экономка — невысокая хрупкая женщина, казавшаяся, впрочем, весьма рослой рядом со своим почтенным нанимателем, отвлекла профессора.
— Что там? — раздраженно уточнил он.
Марта молча протянула ему две визитки: на одной значилось имя Чарльза Вингейта Филда — известного астронома и давнего знакомого, на другой — миссис Ричард Ватсон Розвелл, которое профессор видел впервые.
— Джентльмен сказал, что дело большой важности. А леди, бедняжка, все плачет.
— Отчего?
— Да ради бога, я спрашивала, что ли?
— Что ж… минуточку, сейчас спущусь.
И действительно, минуту спустя он уже появился в приемной.
То была небольшая комнатка, существование которой профессор полагал излишней роскошью; навстречу ему поднялся мистер Филд и женщина лет сорока пяти, в роскошном платье, изысканная, красивая зрелой, яркой красотой. Лицо ее выдавало, что она только что плакала, — но сейчас осушила слезы и с интересом разглядывала вошедшего: его бледное лицо, яркие внимательные глаза, длинные руки.
Их представили, и все расселись по местам. Сам профессор выбрал глубокое мягкое кресло.
— Я как-то рассказывал миссис Розвелл о вас и ваших достижениях, — начал Филд. — А теперь привел ее к вам. Нам нужна помощь в деле весьма запутанном… и это дело — не из тех, в которых уместно вмешательство полиции. Если…
— Если миссис Розвелл поведает мне о деле, я буду благодарен, — оборвал его Думающая Машина.
— Поведаю, но вкратце, — ответила та. — Речь идет об исчезновении одного камушка из тиары… тиары, спрятанной в сейфе… код от которого знаю только я. По семейным обстоятельствам я…
— Простите, мадам, но давайте все по порядку. Помните: я не знаю ничего не только о деле, но и о вас самой.
Миссис Розвелл озадаченно посмотрела на мистера Филда. Представить, что она, чье имя было на первых полосах всех газет, она, царившая в свете, она, задававшая невероятно роскошные приемы, она, ставшая иконой благотворительности, могла быть кому-то неизвестна…
Но Филд только многозначительно кивнул — и ей ничего не оставалось, кроме как начать рассказ.
— Мой первый муж был англичанином, Сидни Грантам. Семь лет назад он оставил меня вдовой с сыном-подростком — его зовут Артур, он заканчивает Гарвард и недавно отметил совершеннолетие. Муж не оставил завещания, и потому все его состояние, включая фамильные драгоценности, перешли к нам. В том числе и та самая тиара. Сейчас я снова замужем — за мистером Розвеллом. Он тоже очень богат, у него дочь, Жаннет, ей девятнадцать. Живем мы на улице Содружества, и, хотя в доме полно слуг, решительно невозможно…
Профессор снова решительно вмешался в ее речь:
— Не выношу это слово. Невозможного не существует — так что извольте воздержаться от употребления этого слова. Хотя бы при мне.
Миссис Розвелл сморгнула, но продолжила как ни в чем не бывало:
— Моя спальня на втором этаже. С ней соединена проходом спальня моей падчерицы. Дверь между нашими комнатами всегда открыта: Жаннет неврастенична и очень пуглива. Зато двери в холл всегда закрыты, как и решетки на окнах. Горничные — и моя, и ее — ночуют в крыле для слуг. Все эти предосторожности необходимы, поскольку, как я уже упоминала, в моей спальне, в маленьком потайном сейфе, хранятся драгоценности стоимостью не менее чем в полмиллиона долларов. Код от сейфа известен лишь мне одной. Раньше его знал еще один мужчина, но он скончался.
Итак, прошлым вечером, в четверг, давали прием, на который я надевала тиару. Вернулась я около пяти часов утра, то есть уже сегодня. Горничных отпустили, они были у себя. Жаннет крепко спала. Я сняла тиару и прочие драгоценности, положила в сейф — я уверена, что тогда камушек был на месте! — закрыла дверцу, набрала код и еще подергала за ручку, чтобы проверить, закрылось ли. Тогда… тогда…
Миссис Розвелл вдруг задохнулась и разрыдалась — казалось, беспричинно.
Мужчины молчали, не зная, что предпринять; Думающая Машина был совершенно растерян. Он с трудом переносил общество женщин, а женщины плачущие его почти пугали. Наконец он не выдержал:
— Дальше. Что было дальше? Говорите!
— Было пять часов… — она помедлила и все же продолжила, — когда я легла спать. Но всего через двадцать минут меня разбудил крик: «Жаннет, Жаннет, Жаннет!» Сон слетел мгновенно. Но это был только какаду, он живет у меня в комнате уже много лет, на жердочке у окна. Я подумала: должно быть, Жаннет заходила и его потревожила. Зашла к ней, даже потрясла за плечо — нет, она спала, я уверена. Я вернулась в комнату — и только тут увидела, что сейф открыт, его содержимое разбросано по полу. Грабители, подумала я. Должно быть, их спугнул попугай. Но нет: все двери и окна были заперты. Я начала собирать вещи и укладывать их на место и тут заметила, что с тиары пропал камушек. Было видно, что он не выпал — его вырвали из крепления. На всякий случай я поискала — на полу, в сейфе. Не нашла. И вот… получается, он мог исчезнуть только… только благодаря… некоему поступку моей падчерицы. Ведь если не она потревожила какаду, зачем ему кричать ее имя? И он уж никак не смог бы открыть сейф…
И она снова разрыдалась, а мужчины снова молча выжидали, и снова молчание прервал Думающая Машина.
— Вы зажигали свет? — задал он вопрос.
— Да.
— Птица… Она раньше будила вас своими воплями?
— Нет.
— «Жаннет». Это слово, которое попугай постоянно повторяет?
— Нет. Может быть, пару раз, не больше. Он почти не говорящий и не очень любит ее.
— Что-то еще пропало? Драгоценности, бумаги, письма?
— Нет. Только тот камушек.
Думающая Машина взял с полки том энциклопедии, над которым в то время работал.
— Вы где-нибудь записывали код?
— Да, но, я полагаю, решительно не…
Профессор дернул плечом.
— Где именно?
— Код начинается с цифры три, — поспешила объяснить миссис Розвелл. — И эта цифра отмечена на третьей странице тома «Отверженных», который я держу в спальне среди прочих книг. Вторая цифра находится на странице 33, третья — на триста тридцать третьей. Полностью код — 3-14-9. Но даже если кто-то и заметит мои пометки, едва ли он свяжет числа в тексте книги с кодом от сейфа.
Профессор снова дернул плечом, и мистер Филд совершенно верно догадался, что тот несколько раздражен.
— Вы сказали, ваша приемная дочь… неврастеничка. В медицинском смысле? Если так, была ли выявлена склонность к лунатизму?
Миссис Розвелл вспыхнула.
— Да, у нее нервическое расстройство. Но во сне она не ходила, хотя… ее лечат пять или шесть докторов, и временами мы опасались… опасались за…
Она бессильно умолкла. Профессор странно покосился на нее, но вскоре снова уставился в потолок.
— Понимаю. Вы опасались за ее рассудок. Еще вопрос: могла ли девушка ходить во сне так, что вы об этом не узнали бы?
— Д-да. Пож-жалуй, да.
— Теперь сын. Расскажите о нем. Он лентяй? Напротив, склонен к наукам? Его содержание? Любовные связи?
Миссис Розвелл вновь вспыхнула: очевидно, последние слова Думающей Машины ее чем-то задели. Она вопросительно глянула на мистера Филда.
— Вовсе незачем… — начал тот.
— Мой сын бы никогда… — прервала его она.
— Мадам, — вмешался Мыслящая Машина. — Поймите: вы сами не даете мне решать вашу проблему. Возможно, решение вам и не нужно? Что ж… — Он приподнялся с кресла.
— Простите! — Бедная женщина вновь была готова разрыдаться. — Сыну и дочери выплачивают содержание в десять тысяч в год. Сын склонен к политическим наукам, а дочь интересуется благотворительностью. Связей же у него нет… кроме… кроме давней и прочной привязанности к приемной сестре. К несчастью…
— Не стоит, я понял, — в который раз прервал собеседницу профессор. — Естественно, вы не можете одобрить этих чувств, так как опасаетесь за психическое здоровье падчерицы. В остальном — нет ли у вас некой предубежденности в ее отношении?
— Нет, нет, — быстро возразила миссис Розвелл. — Я к ней очень привязана. Но поймите, я должна думать о счастье Артура!
— Полагаю, ваш сын в курсе вашего мнения по этому поводу?
— Я пыталась ему намекнуть. Не хотела говорить открыто. Но, думаю, он не представляет, насколько тяжело ее положение и как оно ухудшалось в прошлом.
— Насколько вы знаете, он или она когда-либо брали в руки или читали книгу, в которой зашифрован код сейфа?
— Насколько знаю, нет.
— А слуги?
— Нет.
— Тиара. Она у вас с собой?
Миссис Розвелл кивнула.
То было изумительной красоты изделие, сияющее, переливающееся, тончайшей работы и высочайших художественных достоинств, мнимо невесомое, но на деле неожиданно оттягивающее руку весом литого золота. На острие тиары блистал бриллиант в пять или шесть каратов, и от него разбегались выложенные более мелкими камнями лучи. Пустое место было сразу заметно: зубчики крепления были почти совсем разогнуты.
Думающая Машина молча осмотрел шедевр ювелирного искусства.
— Дело не требует моего вмешательства, — сказал он вдруг. — Вы не желаете огласки. Значит, вам надо самой выследить вора. Не говорите никому — особенно сыну или падчерице. Если повторить ситуацию, повторится и результат — это азбучная истина научной мысли, а наука не ошибается. Значит, пропадет еще один камень.
Миссис Розвелл была ошарашена, мистер Филд заинтересованно подался вперед.
— Если вы увидите, каким образом пропадет второй камень, — не обратил ни малейшего внимания на их реакцию Думающая Машина, — вы поймете, как пропал первый, и сможете вернуть оба.
— Но если кража может повториться, не лучше ли отослать тиару в безопасное место? И я… я опасаюсь за свою жизнь.
— Не опасайтесь. Вам абсолютно ничего не грозит. Будет тиара на месте или нет — сейф все равно откроют, — с загадочной уверенностью сказал профессор, по-прежнему не обращая внимания на изумление слушателей. — Так что пусть она остается в сейфе. Если вы узнаете ответ, не надо мне о нем рассказывать. Если нет — сообщите, и я лично разберусь с этим делом. В любом случае не вздумайте вмешиваться в происходящее.
Мистер Филд поднялся — беседа явно была окончена. Впрочем, один вопрос у него оставался:
— У вас есть некая теория, объясняющая, что случилось на самом деле? Как именно украли камень?
— Если я вам расскажу — вы не поверите, — отмахнулся Думающая Машина. — Всего доброго.
Через три дня миссис Розвелл, глубоко взволнованная, вызвала профессора Ван Дузена к себе.
— Украли еще один камушек! — почти в панике сказала она. — Все повторилось точно так же, как в первый раз, даже крик попугая. Я следила, несколько ночей, но вчера так устала, что меня сморил сон. И снова меня разбудил какаду. Но зачем Жаннет…
— Мне надо увидеть место преступления.
Его провели в комнату, ставшую свидетелем загадочного события. Он вновь осмотрел тиару, затем — дверцу сейфа. Перелистал страницы книги-шифра, уточнил комбинацию цифр, рассмотрел пометки. Несколько раз открыл и закрыл сейф. Проверил замки на дверях и решетки на окнах.
Наконец он замер и изучающим взором уставился на попугая. То был и впрямь какаду, очень крупный, с ярко-желтым хохолком, придававшим ему вид этакой вдохновенной меланхолии.
Вскоре птице надоело играть в гляделки, и только реакция Думающей Машины спасла его очки от кражи.
Открылось дверь, и зашла девушка, невероятно красивая внешне, с дивными, золотисто-рыжими густыми локонами — но болезненно-бледная и с какой-то бесконечной бессильной тоской во взоре. То была Жаннет; заметив незнакомца, она испуганно извинилась и замерла, словно не зная, что делать.
Профессор коротко кивнул ей в знак приветствия и вновь обернулся на какаду. Тот сердито клокотал, его недавно обвисший хохолок воинственно вздыбился.
Поведение птицы привлекло внимание миссис Розвелл, и она схватила профессора за запястье, привлекая его внимание:
— Смотрите!
— Жаннет, Жаннет, Жаннет! — откликнулся ей Какаду. Девушка упала в кресло, не замечая ни напряженного внимания мачехи, ни хрипло-пронзительных воплей попугая.
— Вы устали. Должно быть, у вас нарушен сон, мисс Розвелл?
— А? Да… — ответила та. — Я все сплю, сплю, но совсем не высыпаюсь. Такая усталость… и сны. Мне все время снится попугай. Чудится, что он зовет меня…
Миссис Розвелл кинула быстрый взгляд на профессора. Тот пересек комнату, опустился на колено перед креслом и послушал у Жаннет пульс.
— Вы любите читать? — спросил он. — Эту вот книгу, например, читали? — указал он на том «Отверженных».
— Только в переводе. Я плохо знаю французский. Еще несколько не связанных между собой вопросов и невнятных ответов — и профессор оставил девушку и вышел. На лестнице он дал миссис Розвелл инструкции, изумившие ее до глубины души, и направился восвояси.
Жаннет легла в одиннадцать и вскоре уже крепко спала. Двери и окна были заперты с вечера. Миссис Розвелл в час ночи разбудил будильник. Она встала, взяла крохотный кувшинчик с туалетного столика и тихо, неслышно прокралась в комнату падчерицы. Та лежала белая как полотно, бессильно вытянув руки поверх одеяла. Миссис Розвелл склонилась над ними, затем так же неслышно ускользнула к себе. Еще полчаса — и она спокойно спала.
Рано поутру она позвонила профессору Ван Дузену, Думающей Машине, и проговорила с ним четверть часа. Она что-то объясняла, тот отвечал — коротко и по возможности односложно. Затем она положила трубку, и профессор вызвонил доктора Хендерсона, известного психиатра, и доктора Форрестера — международного значения специалиста по нервным расстройствам.
Обоим он сказал одно и то же: «Хочу показать вам нечто совершенно невероятное».
Неверный свет ночника порождал странные тени, то ли очерчивающие, то ли скрывающие предметы. Белым пятном среди них выделялась кровать миссис Розвелл, да еще сейф поблескивал серебряным колесиком замка. В спальне Жаннет было темно. Если прислушаться, можно было услышать ровное дыхание спящей девушки. Какаду временно покинул свой насест. Снаружи смутно доносился глухой шум ночного города.
Где-то вдалеке часы пробили четыре раза.
Скрипнули половицы, послышались легкие шаги — и на пороге показалась Жаннет, похожая на призрак: облаченная в белое, с широко распахнутыми глазами и встрепанными волосами. В свете ночника они то казались совсем черными, то взблескивали золотом.
На миг она замерла. В темноте кто-то коротко ахнул и тут же словно зажал себе рот.
Не замечая этого, Жаннет прошла к письменному столу, перебрала книги и взяла «Отверженных». Несколько раз она перелистывала страницы, подносила книгу к глазам, вглядываясь, затем довольно кивала.
Положив книгу на место, она направилась к сейфу. В этот момент из теней вынырнул человек, неслышно подкрался к ней и, стоило ей наклониться, направил ей прямо в лицо резкий белый луч электрического фонаря. Жаннет не заметила и этого.
Тогда человек направил свет на ее руки — сперва на одну, затем на другую.
Колесико кодового замка тем временем послушно крутнулось вперед назад, затем замерло. Раздался щелчок, и сейф открылся.
В свете электрического фонаря насмешливо поблескивала тиара.
Снова раздался приглушенный вздох. Девушка вынула тиару из сейфа и равнодушно уронила на пол. И снова сдавленный вскрик раздался из темноты.
Быстрыми, дергаными движениями Жаннет выбрасывала драгоценности вон. Она что-то искала — но, должно быть, тщетно, потому что вскоре она тяжко вздохнула и встала, тоскливо глядя в пустой сейф. Так она стояла некоторое время, а затем человек с фонарем спросил — тихо, но достаточно отчетливо:
— Что вы ищете?
— Письма… — выдохнула она едва слышно, но все же достаточно внятно, и развернулась, направившись к себе. Ее влажные глаза блеснули в электрическом луче, и человек с фонарем ухватил ее за руку, не пуская.
Жаннет замерла, словно в недоумении, затем ее веки сомкнулись, она обмякла — но через миг распахнула глаза, в неподдельном ужасе глядя на незнакомое лицо перед собой, коротко вскрикнула и потеряла сознание.
— Доктор Форрестер, полагаю, ей нужна ваша помощь.
Несомненно, это был спокойный голос Думающей Машины.
Он включил свет — и комната словно вмиг заполнилась людьми. Сам Ван Дузен, почтенные доктора, мистер и миссис Розвелл, Артур Грантам с искаженным болью и тревогой лицом…
Доктор Форрестер подхватил бесчувственную Жаннет.
Миссис Розвелл упала в кресло. Ее муж, не зная, что делать, бездумно гладил ее по голове — раз за разом, раз за разом.
— Все в порядке. У девушки просто шок, — все так же спокойно сказал Ван Дузен.
Грантам воззрился на него — яростно, мальчишески-гневно.
— Это все ложь! Она не крала брильянтов! — воскликнул он.
— Почему вы так думаете? — голос Думающей Машины был холоден.
— Потому что… потому что я сам их крал! — выпалил Артур. — Знай я, что вы провернете подобное, ни за что бы не решился.
Миссис Розвелл неверяще распахнула глаза.
— А-а… И как вы извлекли камни из креплений? — безэмоционально уточнил Думающая Машина.
— Я… да очень просто, своими руками!
— Покажите, как именно. — Собеседник протянул ему тиару.
Артур выхватил ее и попытался вынуть хоть один камень, но тщетно. Покраснев, он оставил напрасные попытки и осел на кровать рядом с бесчувственной Жаннет.
— Это было благородно. Но глупо, — прокомментировал Думающая Машина. — Я знаю, что вы не крали драгоценностей (и вы это нам доказали сами). Более того, смею заметить, что к краже непричастна и сама мисс Розвелл.
Изумление Артура отразилось на лицах его отца и мачехи. Доктора, безучастные ко всему, занимались своим делом.
— Но тогда где камни? — воскликнула миссис Розвелл.
Профессор глянул на нее устало, и во взгляде его ясно читался упрек.
— В легкодоступном месте, в полном порядке, — отмахнулся он. Снова послушал пульс Жаннет, затем хмыкнул: — Могли бы вы поверить, что сумеречное состояние при лунатизме способно давать подобный эффект?
— Ни за что, — честно сказал Хендерсон.
— Да, интересный, очень интересный случай, — согласился с ним Форрестер.
А час спустя внизу, в озаренной бледным рассветом гостиной, Думающая Машина делился с семейством и друзьями своими до невероятия простыми умозаключениями. Слушатели его были усталыми и вымотаны случившимся, Артур бледен и беспокоен, но все они слушали, слушали изо всех немногих сил.
Наверху мирно спала Жаннет.
— В действительности ответ на главный вопрос было несложно найти. — Профессор Ван Дузен сел в кресло и привычно уставился в потолок. — Сложнее было разобраться с необычными, чтоб не сказать невероятными, сопутствующими эффектами… которые, впрочем, лишь облегчили поиск оного ответа. В сущности, в общих чертах я понял все сразу, как только в моем распоряжении оказались все нужные мне подробности дела. Факт плюс факт — как два плюс два, и ответ очевиден.
Грабители? Эту гипотезу можно отмести сразу. Они бы не ограничились одним камушком. Юный мистер Грантам? Он получает в год десять тысяч и, по словам его матери, благонравен и занят лишь учебой. Ему ни к чему воровать. Тем более что запертые двери исключают для него возможность проникнуть в спальню. То же обстоятельство исключает из числа подозреваемых и слуг.
Оставались лишь вы, миссис Розвелл, и ваша падчерица. Единственный возможный мотив для вас — кинуть тень подозрения на мисс Розвелл. Я счел вас не способной на подобный поступок. Оставалась падчерица, укравшая камни или осознанно, или в приступе лунатизма. Для осознанной кражи недоставало мотива: она также имеет десять тысяч в год. Оставался только приступ лунатизма — и это он и был, если говорить о том, как открыли сейф.
Грантам, весь в напряжении, подался вперед, вцепившись в ручки кресла. Его мать успокаивающе положила свою узкую белую ладонь поверх его, но он только сердито обернулся на нее и снова уставился на Ван Дузена, Думающую Машину.
Мистер Розвелл и оба именитых доктора завороженно следили за извивами логики профессора.
— Итак, лунатизм. Но кто же сомнамбула? Едва ли это могли оказаться вы, миссис Розвелл. Вы нормальная здоровая женщина с крепкими нервами. Более того, если принять за правду то, что вас разбудил крик попугая, вы не можете быть сомнабулой. Ваша падчерица? Глубокое нервическое расстройство, столь серьезное, что вы опасались за ее психическое здоровье. Все указывало на нее — даже попугай. Как был открыт сейф? Примем, что код известен лишь вам. Однако он был записан — следовательно, некто мог его узнать. В здравом уме ваша падчерица его не знает; нельзя сказать, что знает она его и в сумеречном состоянии, вызванном лунатизмом, — но в своем сне она знает, где и как его можно узнать. Откуда ей стала доступна эта информация, мне неизвестно и выяснить это я не могу. Но в сумеречном состоянии она уверена, что в сейфе находится нечто, для нее очень дорогое и ей бесконечно нужное. В реальности это может быть не так, но она в этом уверена. И это не драгоценности — они ей вовсе не нужны, как легко было заметить. Что же тогда? Письмо или письма. Я знал это и до того, как сама мисс Розвелл это подтвердила. Что за письма — не имеет значения. Вы, полагаю, сочли нужным спрятать их или вовсе уничтожить.
И муж, и сын уставились на миссис Розвелл с подозрением, и та начала было:
— Письма были…
— Не имеет значения, — оборвал ее Ван Дузен. — Оставьте ваш скелет в шкафу, он мне не интересен.
— Что бы это ни было, это ложь! — воскликнул Грантам, но его пыл прошел незамеченным.
— Несмотря на то, что я был совершенно уверен, что именно мисс Розвелл открывала сейф и именно тем путем, который она нам сегодня продемонстрировала, — продолжил профессор, — я все же решил озаботиться дополнительным доказательством. Когда пропал еще один камушек, я попросил миссис Розвелл испачкать руки спящей девушки клубничным вареньем — хватило бы и маленькой капельки. И если «Отверженные» оказались бы испачканы, а сейф открыт — все было бы очевидно. Почему варенье? Потому что никто в здравом уме не пойдет взламывать сейф, когда руки у него испачканы клубничным вареньем. Книга была испачкана — и я вызвал уважаемых докторов. Остальное вам известно. Могу только добавить, что попытка мистера Грантама взять вину на себя выставила его совершенным дураком. Никто не смог бы достать камень из крепления голыми руками.
Он умолк, предоставив слушателям возможность проследовать путем его умозаключений и увидеть дело его глазами. Наконец Грантам спросил:
— Но камни-то где?
— Ах да, — спохватился Думающая Машина, словно он совсем забыл о настоящей цели расследования. — Миссис Розвелл, прикажите принести попугая. Я, — пояснил он, — велел убрать его из комнаты, чтобы он не вмешался в неподходящий момент.
Миссис Розвелл повернулась и отдала приказ одному из слуг. Вскоре тот вернулся, несколько удивленный.
— Птица умерла, мадам, — сообщил он.
— Умерла?!
— Умерла? Отлично. Принесите тушку.
— Но почему попугай?..
— От несварения желудка. О, вот и вор.
— Кто? Я? — сморгнул слуга.
— Да нет, покойник. — Профессор поднял дохлого попугая за лапку. — У него была возможность, был необходимый инструмент — отличный острый клюв, было достаточно сил. Страсть к блестящим вещам он показал, попытавшись украсть мои очки. Он увидел на полу тиару. Его манил ее блеск. Он выковырял один из камней и проглотил. Боль, последовавшая за этим, рассердила его, и он закричал, как всегда в недовольстве: «Жаннет!» Любой учебник поведает вам, что попугай какаду клювом легко может проделать то, что голыми руками без специального инструмента никак не повторить.
К вечеру от профессора пришла посылка с двумя бриллиантами, стеклянной головкой от шляпной булавки, хрустальной пуговицей от бальной туфли и заключением по делу: острое несварение желудка.
Брэм Стокер КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Из цикла «Под знаком метели»
Поезд шел, за окном завывала вьюга — так что даже на станциях из вагона было не выйти. Все газеты давно прочитаны. Только и остается, что по очереди рассказывать занимательные истории. К счастью, мы — те, кто заперт сейчас в утробе несущегося сквозь белую равнину пассажирского состава, — театральная труппа. Запас таких историй у нас практически неисчерпаем.
— Конечно, все вы помните Уолси Гартсайда… — начал один из нас (Альфаж, если по фамилии, и Импресарио, если по месту в труппе), потому что сейчас была его очередь.
Помолчал немного. Скорбно поджал губы. И продолжил:
— Да, разумеется, помните. Его амплуа было — трагик. Отлично помню, как он решил, что именно этот сценический псевдоним подходит ему более всего. Меня это, честно говоря, не слишком обрадовало, потому что выбранное им сценическое имя чересчур походило на выбранное мной, точнее, моими первыми импресарио — то есть родителями — настоящее имя. Оставалось лишь утешать себя, что он как «Уолси» вышел на жизненную сцену куда позже, чем я как Уэлси.
Импресарио снова умолк на мгновение, давая каждому вспомнить, что да, Уэлси Альфаж — это он, собственной персоной. После чего продолжал вновь:
— Когда люди, смотрящие на мир с театральных подмостков, уделяют большое внимание общественному мнению — это привычно, ничего удивительного тут нет. Но Гартсайд в этом несколько превосходил среднего представителя своей профессии. Он…
— Вы называете это «несколько превосходил»?! — с горячностью, заставляющей предположить что-то личное, вмешался тот из нас, кто в труппе именовался, по своему театральному амплуа, Второй Резонер. — Ну и ну! А что же тогда, по-вашему, называется «больной на всю голову»?! Да он соглашался только на власть над всем миром — и это только по самым скромным меркам! Он срывал чужие афиши! Он жаждал славы так, что это было прямым оскорблением для всех, кто когда-либо с ним работал, — и для здравого смысла как такового!
— Не буду спорить, — спокойно ответил Импресарио. — Даже те, кто наблюдал его славолюбие со стороны, как видим, постоянно оказывались глубоко шокированы. Но с теми, кто занимался рекламированием его имени — отвечал за финансовые расходы, за договоренности с театром, интервью с газетчиками и прочее, — он превращался попросту в Infant Terrible. На афишах, которые должны были анонсировать его выступления, отсутствовали чьи-либо имена; то есть в прямом смысле слова отсутствовали. Разумеется, кроме его собственного. О, вот оно-то было в наличии: огромными буквами, ярким шрифтом, всеми цветами радуги и на каждом свободном дюйме. Причем качество, которое могли обеспечить провинциальные типографии тех городов, где проходили гастроли, не устраивало Гартсайда категорически. Так что он специально заказывал их в Нью-Йорке или Лондоне.
— Вот-вот! — опять вмешался Второй Резонер. — И при этом Гартсайд уверял всех вокруг, что мнение публики его совершенно не интересует, — он, мол, выше этого! И деньги его, разумеется, тоже не интересовали. Как же!
— Именно так он и утверждал, — кивнул Импресарио. Теперь голос его звучал сухо, а весь вид, безусловно, должен был продемонстрировать Второму Резонеру, насколько тот не прав. Мы все тут же посмотрели на Второго Резонера крайне укоризненно. Он действительно был не прав. Тот, кто входит в театральную труппу, должен уметь не только говорить, но и слушать. А сейчас, вдобавок ко всему, труппа как единое целое желала слушать, причем желала слушать рассказ Импресарио, но никак не комментарии к нему!
Так что Второй Резонер ощутил себя персоной, стремительно приближающейся к тому, чтобы сделаться non grata. И предпочел замолчать. А мистер Альфаж, соответственно, получил возможность продолжить:
— …Когда он устраивал свой первый американский тур, то хотел заполучить в импресарио лучшего знатока своего дела. Кого-нибудь из тех мастеров, кто обладает прирожденными навыками дипломатии, способностями дирижировать прессой, стратегическим мышлением генерал-фельдмаршала, юридическим опытом генерального прокурора…
— Ладно-ладно, старина, — позволил себе вмешаться один из нас (на этот раз не Резонер). — Мы уже догадались, что этому ничтожному актеришке несказанно посчастливилось: его взял под покровительство великий ты.
— Большое спасибо, Боунс. Ты совершенно прав. Что ж, Гартсайд был трагиком — и, разумеется, жаждал аншлагов. Все трагики в этом смысле одинаковы. И не только в этом.
— Ну уж, что касается всех… — запальчиво начал тот из нас, кто по фамилии был известен как Доверкур, а по месту в труппе как Трагик. Но осекся под внимательным взглядом Импресарио.
— Итак, — продолжил тот после воистину театральной паузы, — я, как выразился Боунс, действительно взял этого актера под покровительство. И думал, что отлично представляю, как именно организовать его турне. Но Боунс знает — о, он знает это по себе, как и все мы, люди сцены! — сколь необорима бывает жажда публичного признания. И у Гартсайда она была замешана из совсем уж особого теста.
(Многие из нас при этих словах хмыкнули.)
— Вы правы. Гартсайд настоял, чтобы контракт был заключен так: я прибываю к еще до начала рекламной кампании, я провожу при нем — и все это время он обучает меня… моему же делу. Я попытался объяснить ему, что такая кампания имеет свои законы, мне давно и хорошо известные, которые не перестают действовать от того, признает их кто-то или нет. Однако Гартсайд не принял мои доводы во внимание. Более того, он высказался о них, м-м-м… весьма эмоционально, чтоб не назвать это иначе. После чего прочитал мне обширную лекцию о том, как надо продавать ЕГО на сценическом рынке. По его мнению, публика желает знать о нем, несравненном, много. Как можно больше. И главное, всякого. Не обязательно хорошего. То есть, в принципе, для разнообразия можно было распространять о нем и хорошие сведения тоже, но плохие — лучше. И чаще. Сказав это, он изложил мне инструкции с подробной программой моих действий на грядущее турне.
— Надо сказать, этот тип подошел к делу по-настоящему ответственно! — воскликнул кто-то из нас.
— В своем роде — да. «Пусть публика думает обо мне, — сказал он, — как о Дон Жуане — но не просто совратителе чужих жен и невест, но о по-настоящему жестоком, мстительном субъекте. Такого, рядом с которым ни одна женщина не может быть спокойна за свою честь, а ни один мужчина — за свою жизнь. К черту все рассуждения о моральном облике! Публику они волнуют не больше, чем меня самого. Говорите обо мне что хотите — лишь бы после этого обо мне заговорила публика. Пусть она ждет моего появления с энтузиазмом, пусть даже этот энтузиазм будет испуганным или гневным. Стоп! Не надо мне возражать. Просто повинуйтесь моим командам. А посмеете отступить от них хоть на дюйм — я сверну вам шею, как цыпленку!»
— Смело…
— Не то слово. Что ж, он не хотел слушать возражений — я и не стал ему возражать. Хотя, признаюсь, был доведен до белого каления. А меня, всем известно, разозлить нелегко, особенно при исполнении профессиональных обязанностей. Однако спорить с клиентом — вот это уж точно непрофессионально; не говоря уж о том, что с таким человеком спорить бесполезно вообще. Зачем? Если он, уверенный в своей непогрешимости, требует буквального выполнения собственных инструкций — да будет так… Но это можно сделать по-разному. Бог мой, да чего вообще стоит любая инструкция по сравнению с ее творческим воплощением, с фантазией и опытом следующего — или не следующего — ей рекламного агента? Страшна не та собака, что рычит, а та, что кусает. «Что ж, мистер Уолси — не Уэлси! — Гартсайд, — сказал я себе, — Вы хотите, чтобы я строго следовал вашим инструкциям? Вот и отлично! Отныне любая проистекающая из них ошибка будет вашей, а не моей». Вслед за чем взял листок бумаги и начертал там своей рукой вот этот документ:
«Перечень категорических указаний, полученных Монтегью Фэйзом Альфанжем, эсквайром, от Уолси Гартсайда, которым первый, являясь импресарио последнего, обязуется неукоснительно следовать.
1. Публика желает знать об Уолси Гартсайде как можно больше. Причем плохие сведения о нем можно и нужно распространять активнее, чем хорошие.
2. Публика должна думает нем как о жестоком, мстительном субъекте, совратителе чужих жен и невест.
3. Публика должна всерьез допускать, что рядом с Уолси Гартсайдом ни одна женщина не может быть спокойна за свою честь, а ни один мужчина — за свою жизнь.
4. Монтегью Фэйзу Альфанжу как импресарио Уолси Гартсайда официально предписывается распространять утверждения, порочащие моральный облик последнего.
5. Монтегью Фэйзу Альфанжу как импресарио Уолси Гартсайда разрешается говорить о нем что угодно — лишь бы публика ждала появления последнего с энтузиазмом, пусть даже гневным.
Дата.
Подпись»
Наутро я отнес этот документ Гартсайду на подпись, заявив, что непременно хочу получить росчерк его пера под столь мудрой, всеобъемлющей и во всех отношениях великолепной рекомендацией.
— Неужели он подписал? — почти взвизгнул от восторга самый младший из нас.
— Не просто подписал — а с самодовольной улыбкой! — В улыбке Импресарио тоже сквозило самодовольство. — Трагики, да будет вам известно, падки на лесть.
(Никто, включая Доверкура, ему не возразил.)
— А назавтра я отправился организовывать турне, — продолжал Импресарио. — График был рассчитан на неделю: ночь в дороге, утром — прибытие в очередной город, выступление там, потом снова на вокзал и так семь раз. Изнурительно до невозможности, но тут уже дело Гартсайда было соизмерять пределы своих сил, причем в данном случае я говорю без малейшей иронии: в таких вопросах актеру никто не советчик, он все знает сам… или должен знать. Мне тоже нелегко пришлось. Импресарио в таких случаях начинает разъезжать, вы все знаете, гораздо ранее, чем актер, и ездит больше. Я буквально жил в поездах, а днем без устали — то есть, увы, очень даже с усталью — бегал по различным театральным конторам и по редакциям газет тех городов, через которые пролегал маршрут турне. Полагаю, что существует некий отряд ангелов-хранителей, которые оберегают каждого из импресарио, потому что одному ангелу с такой работой не справиться. И если это действительно так — то мое турне для них наверняка оказалось чертовски сложным случаем. Просто чудо, что в разъездах вторым, а чаще, честно говоря, даже третьим классом я не заработал то, что называется DT.[41] К тому же надо учесть, что в мелких, так сказать, «однолошадных» городках, через которые пролегал мой путь, и газеты тоже были «однолошадные». Их редакторы, бедняжки, нечего-то толком не умели — поэтому они охотно принимали в печать мои статьи… Впрочем, если не считать дополнительную нагрузку на меня, это и вправду был наилучший выход. Черта с два провинциальным газетчикам удалось бы написать толковую театральную статью. Нет, господа, они такое даже ради спасения своей души не осилят!
— И вы…
— Да. Я заполнил Уолси Гартсайдом всю их свободную площадь. То есть вообще всю, кроме рекламных страниц. И за допечатку большего тиража им заплатил, хотя, откровенно говоря, не знаю, насколько он был увеличен реально. Думаю, у Гартсайда потемнело в глазах, когда он получил все счета, но я действовал строго по инструкции. Если же говорить о содержании этих статей, то это было как раз то, что мой клиент хотел видеть. Я описывал его как гения сцены, чьи возможности выходят за все и всяческие границы, включая границы самой сцены, а также добра и зла; говорил о нем как о художнике, раздвинувшем пределы театрального искусства… Но при этом упомянул и о его бесчинствах, и о донжуанском списке. Причем в такой тональности, что местные донжуаны (а они существуют даже в самых захолустных городках) тут же заговорили о суде Линча, а местные красотки полностью опустошили прилавки галантерейных магазинов, скупив все платья, хотя бы отдаленно напоминающие модные, и все украшения, хотя бы отдаленно не напоминающие фальшивые. А спрос на турнюры, корсеты и парики из натуральных волос оказался так велик, что их заказывали из Нью-Йорка!
— Неужели?
— Будьте уверены! О, эта первая статья была шедевром. Под моим пером Гартсайд превратился в человека с сердцем льва и душой злодея; я наделил его талантом завзятого шулера и снайперской меткостью Буффало Билла, ученостью Эразма, голосом де Рецке и силой Милона — это было еще до того, как взошла звезда Сэндоу.[42] И завершил все это описанием гипнотического дара, которому не может противиться публика в театральном зале, представители сильного пола в курительном зале, а представительницы пола прекрасного, естественно, в будуаре. Разумеется, газеты тут же ухватились за тему гипноза. Она вызвала бурные дискуссии в нескольких провинциальных ежедневниках, шквал читательских писем — причем некоторые даже написал не я, — короче говоря, огромное количество читателей следило за дискуссией по поводу того, является ли этот опасный дар общественным благом или проклятием. Полагаю, будет лишним уточнять, что значительная часть этих читателей была обречена стать зрителями, которые, сами того не осознавая, гипнотически потянутся к Гартсайду и отдадут деньги за билеты на его выступления. Так что к тому моменту, когда прорекламированная мной звезда явилась в город Патриция-Сити,[43] с которого должно было начаться турне, все дамы из лучших слоев общества пребывали в полном экстазе. Он не стал менее полным, когда они увидели эффектную фигуру этого, как говорили все вокруг, криминального таланта. Я, конечно, позаботился и о том, чтобы прибытие Гартсайда было оформлено надлежащим образом: со станции до гостиницы он следовал на заднем сиденье роскошного открытого автомобиля. Дамы трепетали. В восторге или в ужасе? Я склонен считать — в предвкушении. Нет более верного способа приручить дракона сладострастия, чем возможность влиять на ум и сердце добродетельных женщин…
— Замечательная формулировка, мистер Альфаж! — воскликнула одна из нас, в труппе — Первая Старуха. И назидательно подняла указующий перст к небесам. Или, во всяком случае, к потолку вагона.
— Право же, вы мне льстите, дорогая, — Импресарио галантно прижал руку к сердцу. — Это, может быть, величественно, как истина, но вместе с тем банально, как школьная пропись.
— И тем не менее это действительно так, — сказал тот из нас, кто в труппе исполнял роль Трагика. — По временам своей молодости — бурной молодости! — помню… Вот ведь в чем ужас: никакой талант, никакое мастерство — ничего-то они не стоят, если отсутствует этот гламурный налет… О этот водоворот страсти, Евин дар, неизменный со времен эдемских врат и того яблока, которое…
— Ну, это уже метафора, — скучным голосом сказал молодой человек с Оксфордским дипломом, который в труппе занимал довольно неопределенное положение, в данный момент сводящееся к тому, чтобы возвращать Трагика с небес на землю. — Но мы поняли, что имеет в виду мистер Альфаж. Продолжайте же, будьте так любезны!
— Что ж, отчего бы мне и не быть любезным… К тому моменту, когда должно было состояться его первое выступление, я обрабатывал другой городок, в пятидесяти милях по железной дороге, но примчался в Патриция-Сити — за свои деньги, между прочим! — чтобы увидеть все собственными глазами. А посмотреть было на что. Гартсайд ликовал. Он снисходительно сообщил мне, что моя работа как импресарио — лучшая, которую он когда-либо видел. «Давай, действуй в том же духе, мой мальчик, — так он сказал, человек, мягко говоря, не годящийся мне в отцы, — даю тебе карт-бланш». Потрясенный «моим мальчиком», я немедленно отбыл из Патриция-Сити. Впрочем, признаюсь: мне не хотелось проверять, не сочтет ли все-таки Гартсайд, что я обеспечил ему менее бурную встречу, чем он сам вообразил. Уверен, что ему представлялось, что вокзал осаждают разъяренные толпы линчевателей с веревками наготове — и требуется не менее двух-трех полков федеральных войск, чтобы сдержать их пыл.
— Ему действительно этого хотелось?
— Он считал, что да. Кроме того, он считал, что этот пыл должен возрастать от города к городу. Между тем я уже убедился: следующий город, при использовании аналогичной методики, даст в лучшем случае такой же результат, как Патриция-Сити. И что же мне было делать? Признать свое поражение как импресарио? Ну нет, только не это! Вывод очевиден: не можем увеличить Соблазн — значит, углубим Порок. Инструкции не содержали никаких указаний на то, как это технически можно сделать, но на то нам, импресарио, и дан опыт, талант, а также все прочие качества профессии. Мне предстояло собрать урожай еще в пяти городах, а сценарий требовал постоянного нагнетания — так что ночь я провел в раздумьях, с блокнотом и карандашом в руках. А наутро обратился в бюро — и мне прислали толковую машинистку. Ей я и надиктовывал все статьи, заметки и рекламные объявления для прессы. Главным тут было не перепутать, куда и что отправлять.
— Судя по вашим словам, это действительно представляло опасность.
— Смертельную опасность! Когда я прибыл в Хастонвиль, следующий пункт турне, железо было уже горячо. Простое население пребывало в ярости, а уж отцы города готовы были собственноручно растерзать Гартсайда на куски. Его прибытие воспринималось здесь как деталь международного заговора, покушающегося на знамя американской свободы. «Очень скверное у нас составляется мнение о Британском содружестве, — сурово сказали мне, едва лишь я ступил на землю Хастонвиля, — если его центральная страна, Англия, формально именующая себя дружественным государством, высаживает на нас десант в лице главы преступного декадентского клана Гартсайда, а также его бандитствующей группы поддержки. То, что он до сих пор остается на свободе, — явный вызов общественным устоям, сэр, плевок в лицо вселенской гармонии и пощечина общественной нравственности! Этот человек — смертельная угроза умственному и душевному развитию нашей страны, раковая опухоль на живом теле прогресса, оскорбление традиционной морали, справедливости, чувства достоинства всех божьих созданий — и, берем выше, самого их творца! Доселе государственным мужам, уповающим на строгое соблюдение писаных законов, не удавалось остановить победного шествия этого чудовища. Но знайте, сэр, что есть законы выше этого! И есть деревья в наших лесах, а у этих деревьев есть горизонтальные ветви — а в нашем городе, сэр, нет недостатка в прочных пеньковых веревках!
И жива в наших сердцах память о героических пионерах-основателях Хастонвиля, а также о тех методах, которыми они боролись со злоумышленниками. Кроме петли, сэр, в их распоряжении был деготь, смола, пух и перья![44] Героических хастонвильцев не сломить и поныне. Если будет надо, они предадут свои жилища огню и сами скроются в дебрях окружающих лесов, но не отдадут своих женщин на поругание, а мужчин на истребление! Надеемся, намек достаточно ясен, сэр? Verbum sapientice sufficet![45] И горе тому, кто нас не понял»…
— Вы сообщили об этом Гартсайду?
— Незамедлительно. Он был счастлив. «Продолжайте в том же духе, мой мальчик! Да грянет буря! Пусть сильнее грянет международная буря!»
— И что же было потом?
— Потом я отправился в Комсток, следующий пункт нашего турне, третий по значению и размерам пункт в программе. За несколько дней до этого я наводнил тамошние газеты соответствующими заметками, и редакторы с благодарностью писали мне, что все мои тексты поставлены в печать. Но когда я появился на пороге «Улюлю!!!» — это крупнейшее из периодических изданий Комстока, — то был встречен более чем холодно. Вы меня знаете, друзья. Я не склонен к нерешительности или колебаниям…
— Это еще слишком мягко сказано, сэр! — с болью в голосе произнес наш Трагик. — Вы с абсолютной решительностью и без малейших колебаний подставили своего клиента, а моего собрата по профессии…
Импресарио посмотрел на Трагика так же, как на него самого посмотрели в редакции «Улюлю!!!» — то есть более чем холодно. И с бесстрастным видом продолжил:
— …Однако в тот момент заколебался. Хотя бы потому, что рядом с редактором, этим импресарио на уровне газеты, сидел старший городской импресарио, то есть губернатор. Извините меня за этот каламбур, он, возможно, не очень смешон, но тогда мне и самому было не до смеха. Впрочем, губернатор посмотрел сквозь меня как сквозь пустое место, поднялся и ушел. А я в растерянности сказал редактору, что если мои статьи действительно показались слишком резкими, то… Однако редактор остановил меня, сказав, что дело совсем не в этом «слишком». «Напечатан ли тираж последнего номера, в который была прислана самая большая и острая из моих статей?» — спросил я. Редактор хмыкнул, почесал нос, посмотрел в потолок — и признался, что нет. «То есть как это? — возмутился я. — Разве за нее не было заплачено вперед? Ровно двадцать процентов аванса — и вот сейчас я привез с собой остальные восемьдесят!» Редактор снова хмыкнул. «Дело не в авансе, — сказал он, — просто вот уже и губернатор сетует, что у нас очень неправильно и однобоко освещается культурная жизнь города. Если уж и Хастонвиль, этот жалкий, ничтожный городишко, пробудился — то и нам негоже убаюкивать ум, честь и совесть Комстока всяческими призывами к смирению. По мнению отцов города, делать это — означает тянуть Комсток в прошлое. Молодые комстокцы полны энергии, но нуждаются в примерах для подражания, сэр! И нам, их духовным лидерам, нельзя отсиживаться за чужими спинами. Особенно если это спины хастонвильцев. Никакого сладенького сиропа, сэр, пусть этим занимается «Хастонвильское знамя свободы»; а нам нужен по-настоящему боевой листок, который будет продаваться лучше, чем любое из хастонвильских изданий! Так что присланные вами материалы, сэр, нас категорически не устраивают. Они слишком пресны и беззубы».
— Беззубы? — ахнули мы все хором.
— Вот именно. Я тоже ахнул. А потом спросил, как же, по его мнению, можно увеличить остроту моей статьи? Ведь она и так уже дошла до максимума! Редактор вскочил. Вытаращил на меня глаза. Замахал руками, как ветряная мельница. «Это вы называете максимумом? — желчно усмехнулся он. — Надо же, не думал я, что когда-либо встречу театрального агента, сомневающегося, можно ли увеличить остроту рекламного материала… Пьян я, что ли, и вы мне мерещитесь, такой высокоморальный, что аж сияние вокруг головы и крылышки за плечами? Так вроде рано: надираюсь я обычно ближе к полудню, причем до чертиков, а не до ангелов. Ладно, подвигайтесь поближе и слушайте меня, мистер. Нас тут сейчас только двое — так что не будем притворяться друг перед другом. К черту мораль, примеры для подражания и прочую ерунду. Только не здесь. Комсток — это такой город, вокруг которого полно лесов; так вот, нам надо выдать такой материал, чтобы как можно большая их часть была переработана на бумажную массу для экстренных допечаток «Улюлю!!!». Когда от вас пришли первые статьи — я возликовал. Я созвал всю свою команду — и сказал ребятам: «Смотрите, какое начало! Сумеете продолжить так же? Если да — то мы перехватим эстафету, все напишем сами и похороним этого автора, когда он, приехав к нам, сдохнет от зависти!» Ребята очень старались — но не оправдали моих надежд. Они умеют сбивать спесь со лжепророков, мистер, но самим превращаться в лжепророков им оказалось не под силу. То есть надежда все-таки на вас, мистер, потому что им, даже взятым вместе, далеко до вас одного. Итак, за работу. Вы знаете вашего парня как никто иной. Сделайте нам сенсацию! Что-нибудь совершенно невозможное — но так, чтобы наши комстокские простофили в это поверили. Ну, не мне вас учить. Жду от вас статью к семи. Можно раньше. Как только она будет у меня на столе — немедленно даю ее в номер, бросив все остальные дела».
— И вы управились к семи?
— Я управился раньше. Причем полностью оставаясь в рамках инструкций, данных мне клиентом. Собственно, даже моя прошлая статья была достаточно остра — так что я просто дополнил ее пикантными подробностями. Зверское избиение жены — что должно было усилить репутацию Дон Жуана. Мошенничество на скачках в Дерби — это всегда полезно, читатель у нас человек азартный. Ограбление почтового вагона — со взломом, с особой жестокостью, с многочисленными жертвами. Подробное описание следствия, суда и приговора, вынесенного лично лордом-канцлером.[46] А в финале — захватывающее изложение побега из тюрьмы, чуть ли не прямо из-под виселицы, под градом пуль. Поскольку я не намеревался ни получить тумаков от ребят из «Улюлю!!!» как конкурент, ни, того хуже, попасть на комстокское кладбище, линчеванный как сообщник, — то статью я передал прямо на перроне, за считаные минуты до отхода поезда.
— Редактор, надо полагать, был доволен?
— Еще бы! Он был на седьмом небе. «Это лучший материал, который мне когда-либо доводилось видеть! Вот вам деньги, прячьте их и поскорей уезжайте, а потом спишемся насчет авторских прав по поводу издания всех ваших статей отдельной брошюрой. Имею основания полагать, что сразу после того, как один из наших дубов украсится желудем необычной формы[47] — а это, безусловно, произойдет уже сегодня вечером, — такое отдельное издание принесет огромную прибыль! Согласны?»
— И вы согласились?
— Разумеется! Я согласился с тем, что такая перспектива вполне реальна. А поскольку на перроне стояли два поезда, причем один из них направлялся в Хастонвиль, то я тут же передал его машинисту загодя подготовленное письмо. Это был резервный способ срочно связаться с Гартсайдом, мы такое предусмотрели заранее, хотя и для других целей. В том письме я подробно и убедительно изложил ему эту самую перспективу…
— И как же поступил Гартсайд?
— Благоразумно. Он, конечно, сумасшедший, но ведь не дурак же! Так что мой клиент изменил маршрут, комстокские линчеватели зря проскучали весь вечер вокруг облюбованного ими дуба — и никакой особенный желудь на нем не вырос.
— Ладно, Хэмпич, — сказал тот из нас, кто сейчас выполнял обязанности председателя. — Сейчас твоя очередь.
— Благодарю! — тот из нас, кого звали Хэмпич, поднялся с места. — Мистер Альфаж рассказал нам историю, которую трудно превзойти. Но я, тем не менее, постараюсь. Со мной был такой случай…
Поезд несся сквозь вьюгу…
Эдгар Уоллес
ДОМУШНИК
— Всегда хорошо взять то, что плохо лежало, — объяснял своей дочке Эльзе старина Том Беркс. — Небольшой дополнительный доход еще никому не помешал.
Виски неизменно делало его словоохотливым. Восемь стаканов — и вот он уже роняет жемчуга словес на пыльный пол своей столовой в доме на Эльскомб-кресчент (телефон мэйферский, остановка — «район Бэйсуотер»).
— Опять же, глупо ждать, что миллионер вздумает жениться. Особенно если он уже был однажды женат. Вот и твой Пойнтинг: у него есть деньги. И есть дети. А дети — это, знаешь ли, большая помеха. Но если он вдруг решит осчастливить тебя, скажем, предложив мне пост директора, — не отказывай.
И вот, когда, в приступе легкого помешательства, полковник Пойнтинг предложил Эльзе изумрудную брошь, причину многих грядущих бед, — Эльза приняла этот дар.
То есть, конечно, не сразу… конечно, она возражала — ведь такой ценный подарок… честная девушка не может… даже от близкого друга… если, конечно, он не…
Что «не» — не сказала ни она, ни опьяненный любовью старик, которого в тот момент слегка отрезвили мысли о детях.
— Застраховать надо, — мудро посоветовал дочери Том Беркс. — Если эта штуковина стоит хоть ломаный грош, то она стоит тыщи три, не меньше.
Эльза благоразумно последовала его совету — и это тоже было, как выяснилось, не к добру.
И уж совсем не к добру была внезапная нервная просьба полковника — ненадолго вернуть ему брошь. Только показать дочери и сразу отдать назад.
(— Ну-ну, посмотрим: может и отдаст, — покачал головой старый циник Том.)
В ту же ночь брошь пропала.
Неизвестный или неизвестные похитили ее с туалетного столика.
Полковника тут же известили срочной телеграммой.
Вместо ответа он явился лично — в крайне растрепанных чувствах, на такси и в сопровождении детектива.
И вот тут-то начались действительно крупные неприятности: детективы задавали такие неудобные вопросы, а Эльза так горько плакала, а полковник так старался ее утешить — что совершенно не заметил, как сделал ей предложение.
Как будто потерять драгоценную изумрудную брошь ему казалось недостаточным!
Заметьте, дорогие любители загадок: до сих пор мисс Дороти Пойнтинг оставалась в полнейшем неведении. Эльзу она считала не стоящей вниманья танцоркой, с которой папаша иногда проводит время. Она и мысли не допускала, что этой самой танцорке могли подарить фамильную драгоценность.
И вот — разом две шокирующие новости!
Реакция мисс Дороти была резко негативна и столь же резко расходилась с представлениями полковника о том, как смиренные дочери должны встречать слова отца, снизошедшего (да-да, именно так и никак иначе!) до того, чтобы известить недостойную о своем грядущем браке.
Известил он ее за ужином — покашливая и срываясь то на гневные монологи, то на униженную мольбу.
— Она, конечно, еще очень молода… но, право, она очень славная девушка. И если… но если ты вдруг сочтешь, что тебе неуместно… уместнее жить отдельно — то квартира на Портленд-плейс… и Зоннингштед! Он, конечно, твой…
Дороти задумчиво оглядела отца. Он был все еще хорош собой — румяный, совершенно седой, стройный и по-военному статный.
Лучше бы ему быть толстяком, подумала Дороти. Ничто так не укрощает эгоизм, как заметное брюшко.
Увы, полковнику было чем гордиться — и он тщеславно гордился и маленькими аккуратными ступнями, и стройностью, и почти по-женски красивыми руками, которые сейчас дрожали в такт с гарденией в бутоньерке.
— Эльза Беркс очень славная девушка, — твердо повторил он. — Тебе она, конечно, не нравится; да я этого и не ожидал. Но пойми, это… огромная честь для меня, что она… готова свою юность… в жертву…
— Для тебя — или для твоей компании? — мягко уточнила Дороти.
Полковник впал в ярость, о чем немедленно и сообщил: все равно как-то иначе выразить ее он не мог по невероятной мягкости характера.
— Нет, я просто в ярости! Только потому, что моя девочка небогата, ты… Мне жаль, что я вообще решил обсудить все это с тобой!
Улыбка. Оказывается, и она может раздражать.
Дороти отряхнула подол платья из белой жоржетки, встала, взяла со стола сигарету. Закурила.
— Дорогой мой старикашечка, — задумчиво повела она рукой. — Мне вот что интересно: сказал бы ты мне хоть слово, если бы тебе не пришлось объяснять, как так вышло, что у твоей бесценной Эльзы украли огромную изумрудную брошь? Мамину брошь. Но тебе пришлось…
— Беспочвенно… — начал было тот, тщательно изображая негодование.
Дороти остановила его мягким жестом.
— Эта история уже во всех газетах. Когда я прочитала, что у Эльзы украли изумрудную брошь, я кое-что заподозрила. Потом я увидела фотографии и окончательно убедилась. У тебя столько денег, милый папенька, что ты мог бы ей купить хоть мешок этих изумрудов. Но нет — ты предпочел подарить мамину брошь. Это было очень жестоко — и очень пошло. Вот и все. — Она стряхнула пепел в камин. — Ах да! Не сердись только — ну вот не могу не похвалить благоразумие твоей Эльзы. Это ведь надо же: брошка только-только ей в руки попала, а она уже бежит ее застраховать.
— Ты слишком далеко… — нахмурился полковник.
— Не дальше Портленд-плейс, если эта нелепая история с женитьбой продолжится. Ну, разве что я вздумаю пуститься в какую-нибудь романтическую авантюру — скажем, вздумаю сама зарабатывать себе на жизнь.
И тут как раз прибыл Джонни Веннер. И одновременно вошла Эльза, высокая и похожая на валькирию — то есть склонная к полноте, рыжая, белокожая и с огнем в глазах.
— Эта женщина делает красоту чем-то непристойным, — резко сказала Дороти.
Обращалась она к Джонни Веннеру — милому, прекрасно воспитанному гвардейцу, который был настолько богат, что не мог рассчитывать на удачную партию.
Помимо этого, он был очень жалостлив. А надо сказать, ничто так не огорчает женщину, как отвергнутая жалость; но жалость, поставленная на защиту соперницы, бывает отвергнута всегда.
— Ну, это чертовски несправедливо по отношению к нашей милой Эльзе.
Дороти с трудом, но сумела напомнить себе, что она леди.
Мисс Берк была согласна со своим защитником; между делом она предложила будущей падчерице «пойти в спаленку и там поговорить по душам, как девочка с девочкой». Дороти сдержалась и все-таки не предложила выбрать для разговора мясной чулан.
— Видишь ли, — будущая мачеха уселась на кровать, старательно демонстрируя красивые длинные ноги, — нам надо с тобой поладить. Знаю, ты меня не выносишь — я даже сказала Кларенсу…
— Э… а кто это такой? — сморгнула Дороти.
— Твой милый папенька, — мурлыкнула Эльза.
— Господи… вот уж никогда бы не подумала… так что ты там сказала Кларенсу?
Эльза сглотнула.
— Я сказала твоему отцу: глупо ожидать, что ты, э…
— Выброшу белый флаг?
— Право, ну зачем так банально! — Кто бы не протестовал на ее месте? — Уверена, мы подружимся. Не желаешь как-нибудь отужинать с нами? Мой папашка такой дуся…
И так далее.
Дороти молча, в глубоком изумлении, слушала, как страшно было поутру не найти брошь на ее законном месте и какими душками оказались господа из страховой компании.
Никакого желания звонить Эльзе или ее отцу она не испытывала. И все же однажды, ведомая беспричинным капризом, она зашла в дом на Эльскомб-кресчент. Эльзы дома не было. Был ее папаша.
— К'нешна… — промямлил он. — Ткое дело, кто б п'думал…
Давеча он хорошенько напраздновался, радуясь грядущему обогащению. Однако ж, ощутив чье-то присутствие, с трудом, но почти проснулся.
— И я грю, Эльза: я грю, брать, что плохо лежит, — святое дело… — начал он и долго еще продолжал.
Дороти стояла как парализованная и слушала его, покуда он не начал похрапывать.
* * *
На самом деле настоящие воры в законе назначают встречи вовсе не в темных подвалах с заколоченными окнами и множеством тайных входов и выходов. Они беседуют даже не за железными дверями, обходятся без телохранителей и не имеют привычки перебрасываться репликами через грязный стол, держа руку на заряженном револьвере или рукояти блестящего кинжала.
Что там — старый Том Беркс в жизни не держал в руках пистолета, а кинжалы, будь то блестящие или не очень, почитал чем-то… как бы помягче сказать — иностранным.
В далекой невозвратимой своей юности он пару раз попадал полисмену в шлем из плевательной трубочки, но поводом для гордости это не считал.
А воровским притоном нынче послужил весьма респектабельный ресторан Эмилио, что невдалеке от Стрэнда. Здесь в свете ярких ламп серебро и стекло блистали на белоснежных скатертях, в немецких серебряных вазах в виде рога изобилия красовались букеты цветов, вдоль стен были сиденья из красного плюша, а на стенах — огромные зеркала, на которых теснились замки и пейзажи, так что даме, желавшей попудрить носик, приходилось постараться, чтоб найти кусочек зеркала между тучными лебедями и блистающими минаретами.
Воровская же пирушка состояла из crème duchesse, sole au bonne femme и poulet curry au casserole.[48] Из напитков Том выбрал кофе; Морган, будучи моложе и беднее, использовал шанс попробовать pêche melba[49] за чужой счет.
Беркс тяжко вздохнул, стряхивая в кофейник пепел с сигары, и в который раз печально помянул некую Лу.
— Какая женщина! Нет, но какая женщина!
Восторг в его голосе мешался со священным ужасом.
Лысый, тяжеловесный, краснолицый, морщинистый — сейчас он, казалось, и впрямь испытывает глубокое горе. Морган был моложе, и несчастья былых товарищей трогали его куда меньше. Если говорить о внешности, то Морган был мужчина лет тридцати, с неприятным, болезненно-худым лицом и большими, грубыми руками с шишковатыми пальцами.
— Держалась бы за друзей — настоящих друзей, я хочу сказать, — была бы свободна, как ветер и сидела бы сейчас с нами за ужином…
— Нет-нет, только ланч, — мурлыкнул Том. — И только в Карлтоне. Она всегда выбирала только лучшее. Эх…
И он снова вздохнул.
Проныра Морган — его звали пронырой за неуловимость и чудовищную худобу, которая, по слухам, позволяла ему проскользнуть между прутьями любой банковской решетки, — был весь сама услужливость и предупредительность.
— Слишком легкомысленна, вот что я скажу, — философски добавил Том. — Слишком уверена в себе и не любит вспоминать о своих обязательствах. Я ж говорил ей с месяц назад: Лу, ты мне нужна. Большое дело намечается, без тебя никак, так что освободи для меня пару дней в районе Нового года…
Морган нетерпеливо цыкнул зубом.
— Я-то думал…
Но Тома не интересовало, что он там думал.
— А она мне — что работает на Ринси. А он растяпа, я ей говорил. Я ей полсотни дал — деньги потеряны, но это не суть, Проныра, я пахал как проклятый, чтоб обделать дельце… — Он то ли испустил тоскливый стон, то ли просто достал изо рта сигару. — А сейчас у меня, черт подери, есть все — и где эта Лу?
Морган задумался, вспоминая: а собственно, где?
— Не тупи, — сердито бросил Том. — Что я, не знаю, что она в Галловей?[50] Полгода невеликий срок, и ей еще отсрочку дают. Но где ж я теперь найду Ту Самую?!
Проныра ухмыльнулся.
— И нечего лыбиться!
Вид у Тома был ожидаемо кислый.
— Я ее для тебя нашел, — просто пояснил Проныра.
Том скептически прикусил сигару.
— Нашел? Небось, Мэгги Сварти, Гэй Джойлер или кого вроде них? Да из них леди, как из меня! На нары захотел, что ли?
— Я нашел леди, — повторил Проныра.
Том скривился.
— То, что ты считаешь леди, и настоящая леди — две вещи несовместные.
Проныра не обиделся.
— Настоящая леди, без обмана. Молодая, симпатичная и на пианинах умеет. Ее так приперло, что она на все готова — ну, кроме всяких интересностей.
— Интересностей?
— Ну там, обнимашки, поцелуйчики, все такое, — пояснил Морган.
Том поднял бровь.
— Не, я даже не пробовал, — поспешно оговорился тот, опасаясь выглядеть дураком. — Но один там пригласил ее в кино, так она его к черту послала.
— Леди… — Беркс прижмурился, словно от сильной боли.
— Леди, отвечаю. Я слюбился с тамошней уборщицей — и что б ты думал, я нашел?
Беркс пожал плечами, и Морган достал горсть рваной бумаги, которую ловко разложил так, что из обрывков составился кусок письма.
Беркс достал пенсне, старательно устроил его на переносице, по привычке приоткрыл рот, как всегда, когда его что-то интересовало, и прочитал:
— «Верните брошь — и я воздержусь от каких-либо крайних мер…» Да, написано на хорошей бумаге, почерк женский. — Беркс был знатоком в этих делах. — Небось горничная какая-нибудь. А ты — леди…
Но Проныра возражал столь искренне и так верил в свои слова, что ему практически удалось убедить собеседника. Правда, оставалось убедить еще и девушку, но Проныра, как человек ответственный и тактичный, был уверен, что все преодолимо.
* * *
Мисс Мэри Смит не была легкой добычей. С тех пор как она взяла некую брошь с туалетного столика Эльзы Беркс, она отошла от дел. Брошь ценой в три тысячи фунтов она желала бы приколоть прямо к сердцу, но, поскольку это было невозможно, приходилось носить ее на груди.
Она меняла квартиры так же легко, как меняла имена, — и делала это тем более часто, что Эльза вышла на ее след и предложила прощение и забвение в обмен на некую брошь. Увы, мисс Мэри Смит желала совсем иного.
Сейчас она сидела на краю кровати в Блумсберри-лодж и размышляла, что едва ли Эльза и впрямь наведет на нее полицию — этого странно было бы ожидать. С другой стороны, как она собирается объяснить…
Но ее размышления прервал стук консьержки.
— Да? — недовольно откликнулась Мэри.
— Там один джентльмен желает перекинуться с вами парой слов, — зашла та и протянула визитную карточку. Написанное на ней весьма впечатляло:
«Мистер Фетерло-Морган. Управляющий совет Нью-Амстердама».
Ничего странного Мэри в этих словах не заметила и мирно спустилась в небольшую каморку в стене прихожей, которую здесь называли гостиной.
Мистер Морган знал женщин и полагал колебание ошибкой, неизменно ведущей к провалу. Он предпочитал брать нахрапом.
— Доброе утро, мисс, — поздоровался он вежливо. — Нам надо поговорить.
Мэри выжидательно молчала.
— Не люблю тянуть кота за хвост. — Времени на пустые разговоры не было. — Слыхали про мисс Беркс? Спорим, нет? Спорим, вы ее близко не видели?
— Вы выиграли спор, — холодно пожала плечами Мэри. — Можете плясать от радости.
Это была не совсем та реакция, на которую рассчитывал Проныра, но он не растерялся и, скрыв минутное замешательство за слишком широким жестом, выхватил из-за пазухи сафьяновый кошелек и резко открыл. Там, среди множества визиток на разное имя, пряталась вырезка из газеты. Ее-то Проныра и предъявил мисс Смит.
— Вот. Читайте.
Та взяла листок, нахмурилась, потом начала:
— Купившим костюм — пара износостойких кальсон в подарок! Качество гарантируем!
— С другой стороны, — Проныра был слегка на взводе. — Переверните лист.
— Полиция разыскивает изумрудную брошь, похищенную, предположительно, профессиональным домушником с туалетного столика мисс Эльзы Беркс на прошлой неделе. Ознакомиться с официальным описанием пропавшей драгоценности можно… стоимость три тысячи фунтов, страховая компания назначила награду в двести фунтов… мисс Беркс, невеста полковника Пойнтинга, владельца судоходной компании, сообщает, что, хотя брошь была застрахована, главная ее ценность — в тех чувствах, память о которых она хранит…
Мэри вернула вырезку Моргану.
— Чувствительность — проклятие праздных классов.
Морган довольно усмехнулся — неприятным, кашляющим смешком.
— Так оно и есть. Знаете полковника?
Она помедлила, но кивнула.
— А его дом на Парк-лейн? Может, бывали там?
— Хорошо знаю.
В ее взгляде читался вопрос.
— Я человек простой, — начал Морган.
Мэри несколько издевательски кивнула. Это сбивало с мысли, но он все-таки продолжил:
— Так вот, не будем тянуть кота за хвост…
— Вы это уже говорили.
Немногим женщинам дотоле удавалось смутить Проныру. Эта вошла в их число.
— Вы на крючке. Я тоже. Я знаю, что брошь приколота…
— Право, это уже невежливо. Итак, вы знаете, я тоже. И?
— Хотите сотню фунтов за пустяковое дельце? У меня их есть. Вам надо только отправиться на Парк-лейн, приглашение мы подделаем. Погуляете там среди колонн и между делом подадите одному моему приятелю знак, что он может войти. Смекаете?
— Нет. Все, что я могу «смекнуть», — вы хотите, чтобы я пошла в гости к полковнику, а мне этого делать нельзя. В первую очередь потому, что… — Она помедлила. — Нет, никак нельзя.
Проныра ухмыльнулся. В «гостиной» они были одни, хотя едва ли это могло продолжаться долго.
— А теперь я кое-что тебе скажу, — доверительно шепнул он. — Думаешь, тебя узнают, да?
Она кивнула, и он попытался погладить ее по запястью — увы, не вышло, она слишком быстро и резко одернула рукав. Повторно выразить таким образом свои дружеские чувства Морган не решился.
— Так вот: это будет костюмированная вечеринка.
— А!
Разумеется, о костюмированных вечеринках она все знала. Аж рот приоткрыла.
— Маски, ну разумеется! Какая прелесть! — В ее глазах появился интерес. — И как, этот ваш друг на крючке — его вот-вот вздернут или уже вздернули? Или я чего-то не понимаю?
— Вот только не надо вот этого! Тоже мне монашка нашлась, — невежливо осек ее Морган. — Всему свое место, а наивняку не место сейчас. Я спрашиваю: согласна? Цена вопроса — полсотни авансом, полсотни потом.
Та прикусила губу, глядя то ли на Моргана, то ли как-то сквозь него.
— Я правильно понимаю, что ваш приятель намерен… — Она умолкла, предоставляя Моргану подобрать формулировку.
— Намерен обделать кое-какое дельце у полковника на Парк-лейн, ага.
— И я должна подать ему знак… Каким образом?
— Раз плюнуть: просто подойдите к евойному окну и…
— Его. Его окну, — тихо поправила Мэри.
— Нам и евойное сгодится. Подойдешь к нему, достанешь носовой платок и вроде как высморкаешься. Но не раньше, чем Пойнтинг отправится раздавать призы за лучший костюм, — все как раз в гостиной соберутся. Теперь-то смекнула?
Она смекнула и даже заинтересовалась — а потому исполнилась энтузиазма.
Назначила на вечер встречу с мистером Томпсоном (под этим изысканным псевдонимом скрывался Том Беркс), выбрала маскарадный костюм — Пьеро или Пьеретту.
— Не самый оригинальный вариант, но…
— Да без разницы, лишь бы чистый был, — пожал плечами Проныра.
Итак, все приготовления к одному из изящнейших ограблений по-тихому были сделаны. В кабинете полковника Пойнтинга воров дожидался сейф с изрядной суммой денег.
* * *
Надо сказать, что в реальности Парк-лейн вовсе не место постоянного лихорадочного веселья. Совсем наоборот: эта оживленная улица населена в основном теми, кто достаточно богат, чтобы не жить на ней. Год за годом их окна задернуты белыми шторами, их мебель закрыта белыми полотняными чехлами.
Недостойное же меньшинство, которое и впрямь обитает на Парк-лейн, как правило, приемов не устраивает.
Поэтому костюмированная вечеринка полковника Пойнтинга привлекла столько внимания, что полицейские с трудом находили, где припарковаться.
Полковник встречал гостей на верхней площадке лестницы, облаченный (духовно и физически) в тогу римского отца-сенатора — как он объяснил печальному Джонни Веннеру, одетому в столь приземленную вещь, как вечерний костюм-тройка. С юным гвардейцем полковник беседовал в перерывах между приветствиями.
— Не знаю, где Дороти, и знать не хочу, — жестко сказал он. — Видели бы вы письмо, которое она написала Эльзе (Здравствуйте! Здравствуйте!), точнее, начала писать! К счастью, я зашел в библиотеку, пока дочь говорила по телефону (Добрый вечер, леди Карл..! Здравствуйте!) и прочитал его. Моя дочь не смеет говорить моей невесте, по сути — приказывать ей, оставить ее отца!
— Он премерзкий старикашка, — сказал Веннер, но сказал невпопад.
— Я про себя, — уточнил полковник. — Отца Дороти, не Эльзы. (Здравствуйте! Рад встрече!) Нет, Веннер, я этого так не… (Здравствуйте, мисс… э-э…)
Прекрасная незнакомка только улыбнулась и махнула рукой, прежде чем раствориться в толпе.
— Какие ножки, а? Нет, ну какие ножки! Так вот, Дороти сбежала из дому, и я уверен, что она преследует мою Эльзу. Нет, малышка ничего не говорит, но я-то вижу! Вот доберусь до Дороти, и… Милая!
Милая нынче была совсем не мила. Она места себе не находила от беспокойства — и это при том, что папаша ей твердо обещал не напиваться до конца мероприятия. Волновало ее, впрочем, не это. Едва зайдя, она утянула римского патриция в укромный уголок — и целая толпа чертей, клоунов и венецианских дам осталась без приветствия.
— Все в порядке, милая, все в порядке. Разрешение на брак уже есть. Багаж отошли на вокзал Виктория… Симплон-экспресс, может, слышала? Италия — чудное местечко…
Для Эльзы сейчас Италия значила не больше, чем прошлогодний снег.
— Письмо. От Дороти. Ничего от нее не пришло?
Она была немного не в себе, что читалось как в срывающемся голосе, так и в том, что она выбрала костюм Офелии. Впрочем, полковник вполне понимал ее волнение.
— Ну-ну, не стоит забивать свою прелестную головку мыслями о моей неразумной дочери, — ласково сказал он. — Ни писем, ни звонков, все в порядке.
И ему пришлось вернуться на площадку, где в ожидании приветствия столпились Мефистофели, Пьеро, Генрихи Восьмые и джентльмены эпохи Регентства.
Незнакомка в маске держалась особняком и, испытывая мрачное наслаждение, следила за хмурым Джонни Веннером, также оставшимся без пары. Между делом она станцевала с Ромео, с доисторическим человеком и с Нельсоном и также между делом огорчилась, глядя на Офелию в объятиях римского сенатора.
А надо сказать, что костюмированные вечеринки полковник Пойнтинг устраивал ежегодно, и все они непременно завершались вручением приза за лучший костюм. Вот и сейчас трое льстецов, проголосовавших за Офелию, вывели ее в центр комнаты.
— Друзья мои!
Сенатор прокашлялся и поправил усы, вошедшие в моду еще при Октавиане Августе.
— Друзья мои! Позвольте мне ныне, в сей радостный вечер, преуготовляющий величайшее событие в моей жизни, вручить приз в виде копии столь несчастливо утраченной броши победительнице, избранной честным и непредвзятым судом…
Равнодушный наблюдатель спросил бы (а неравнодушный тоже спросил бы, но шепотом) откуда полковник Пойнтинг знал, кого выберут судьи.
— Эта копия…
— А почему не оригинал, папенька?
Полковник мигом развернулся на голос. Незнакомка сняла маску.
— Дороти! — вскрикнул он. — Но…
Та спокойно показала какой-то предмет.
— Если твоей подружке выплатили страховку, это принадлежит компании.
— Где… где ты ее нашла?
Дороти оглядела толпу заинтересованных гостей, подошла ближе и совсем тихо сказала:
— Она и не терялась. — Услышали ее только полковник и побледневшая Эльза. — Она лежала в спальне под матрасом. А мистер Беркс, старый дурак, сам рассказал мне, как ему пригодятся деньги со страховки.
— Ложь! — выдохнула Эльза. — Ты… ты…
Полковник жестом остановил ее. Он был само достоинство — насколько им может быть человек в тоге и розовом венке.
— Хватит клеветать на Эльзу. Завтра свадьба.
— Но, папенька… разрешение на брак… — уставилась Дороти на отца. — Надо же дождаться!
— Милая моя, — ласково и даже несколько игриво сказал полковник. — Там наверху, в сейфе, у меня в чековой книжке лежит одна такая бумажка. На ней подпись епископа Лондонского. И хватит об этом. Ну-ну, милая, извинись перед Эльзой за свои дурацкие подозрения!
— В сейфе… — тихо повторила Дороти.
Внезапно она рванулась к окну, отдернула занавеску и взмахнула рукой.
— Дороти! — воскликнул полковник в тревоге; на миг ему померещилось, что та замыслила покончить с собой и теперь прощается с жизнью.
— Ну, давайте посидим, побеседуем… — сказала та, столь же неожиданно вернувшись. — Томми, ну же, услужи мне: позови всех сюда. Всех-всех! Даже слуг!
— Ты ведь не собираешься устраивать сцены, да? — нервно уточнил полковник.
— Нет. Я просто хочу выпить за здоровье своего доброго друга Тома, — загадочно ответила та.
В конце улицы стоял извозчик. Том Беркс прогулочным шагом подошел к нему и сел в кеб, где его уже в нетерпении дожидался Морган.
— Ну как?
— Туточки. — Том поставил добычу на дно экипажа. — Девчонка молодец, отличная работа. Она заслужила награду.
— Девки! — довольно ухмыльнулся Проныра Морган. — На все для меня готовы!
НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ГОЛЬФ-КЛУБА
Когда он покинул кабинет истинно великого человека и вышел на лестницу, его накрыло прозрение, да такое, что захотелось усесться прямо на покрытые ковром ступени и замереть, чтоб ничто не мешало как следует обдумать открывшуюся истину.
Пару раз он даже замер-таки, повиснув всей тяжестью на массивной перилине — ему казалось, что так легче думается.
Разумеется, Джон Дженнер спятил, совершенно спятил.
И самым ярким признаком этого был невероятный, необъяснимый, дичайший эгоизм.
Все время — я, мое, моя: «Мое имя нужно защитить, моя честь попрана и должна быть отомщена, я — рыцарь без страха и упрека, готовый сразиться с целым миром»…
Бобби Маккензи проглотил истерический смешок.
Еще семь ступеней вниз — и прихожая, откуда он направится в гостиную к Лесли Дженнер.
— Эх! — Он достал из рукава платочек, утер пот со лба.
Две ступеньки. Он помедлил. Еще три. Замер, барабаня пальцами по перилине.
Последние две он перемахнул в один шаг, пересек прихожую, решительно взялся за дверную ручку… и понял, что у него дрожат колени.
Нет, он был крепким, здоровым и симпатичным парнем, привычным к сложностям человеческого общения в частности и к жизненным трудностям вообще. В семнадцатом году, в полуразрушенном окопе близ Арраса, именно он сумел подбодрить своих измотанных сослуживцев непристойной шуточкой, вошедшей в анналы солдафонского юмора. Но сейчас ему было как-то не до шуток.
Бобби собрал всю свою решимость и повернул-таки дверную ручку — как голову в петлю сунул.
Она… она стояла у камина, и ее плечи тряслись. Она не обернулась, даже когда дверь с громким стуком закрылась.
— Мисс Дженнер… — просипел он. — Не… не стоит так… Та обернулась — и Бобби поперхнулся, не веря своим глазам.
— Так ты… смеялась?
— А что мне еще делать? — саркастически сказала она. — Над папиными рассуждениями только смеяться и остается.
Он медленно кивнул.
Она ему нравилась. Она всем нравилась, эта Лесли Дженнер, — тонкая, почти невесомая, гибкая, остроумная…
— В общих чертах я тебе еще когда все описала. Я так понимаю, папа дорассказал остальное?
— Я так понимаю, да, — осторожно ответил Бобби.
— То есть объяснил, что я провела ночь неизвестно с кем в гольф-клубе?
Бобби снова ответил кивком.
— Значит, придется уточнять подробности… — Она села и указала Бобби на большое кресло напротив.
Тот беспомощно в него упал.
— Я гостила у Винслоу, — начала она. — Они с папой давние друзья. На старика Винслоу он только что не молится — потому что молится он лишь на себя самого. Поводом для праздника был день рождения одного из бесчисленных Винслоу-младших, кой благополучно достиг совершенных лет. Разумеется, ожидалось ликование народное и веселье сердец по этому поводу. Разумеется, отец тоже туда собрался — но случилась очередная катастрофа вселенского масштаба. То ли сталь поднялась на одну восьмую, то ли сало упало на двадцать четвертую, то ли еще что — но мир, как всегда, рухнул. Пришлось отправиться в одиночку. А это около двадцати миль за город, и приходится идти по безлюдной местности, которую еще называют Смоки-парк. Местность сия пуста и безвидна, и…
— Мисс Дженнер! Молю, не надо библеизмов! Нет, ты как хочешь, но просто твой отец…
— Книга Иова? — живо уточнила та. — «Он поставил меня притчею для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень»? Следовало ожидать. Но вернемся к нашей забавной истории… Во время танцев не случилось ничего особенного — разве что я заметила, как ты отчаянно домогаешься к Сибилле Торберн.
— Я? Домогаюсь? — взвыл Бобби. — О боже… нет, не важно. Продолжай.
— Как бы то ни было, ты изо всех сил пытался чего-то от нее добиться. Джек Марш сказал.
— С него станется. Но чтоб я домогался к жене моего лучшего друга… бред какой-то! Но что дальше-то было?
— Я ехала домой, уже после полуночи, и тут мотор заглох. То ли масло залили в бензобак, то ли бензин в двигатель — уж не знаю. Как бы то ни было, Андерсон, наш шофер, нырнул под днище машины и не вернулся, давая о себе знать только невнятным нытьем вперемешку с ругательствами. А-а, нет: пару раз он высунулся, извинился и посетовал на погоду. А видишь ли, ночь обещала быть теплой, поэтому я взяла открытую машину, без верха, вот тут и пошел дождь. Лило просто… просто не знаю, как сказать…
— Дьявольски сильно?
— Вот да, спасибо. Поняв, что еще немного — и я промокну до нитки, я начала искать укрытие и тут вспомнила, что невдалеке был домик — здание местного гольф-клуба. Мы же на поле заглохли. Оставив шофера в неведении, я пробежала вдоль дорожки к зданию клуба. К тому моменту полило еще более так, как ты сказал. Дверь была закрыта, но не заперта, так что я зашла. Причем, заметь, я была от машины на расстоянии громкого крика, но шофер не знал, что я вообще куда-то ушла, понимаешь?
Кивок.
— И вот стоило мне зайти — как меня накрыло жуткое чувство, что рядом кто-то есть. В тихом ужасе я попятилась к двери — и тут меня осторожно, но очень крепко ухватили за руку. «Закричишь, — сказал кто-то, изменив голос (именно изменив, я это как-то почувствовала), — оторву твою башку ко всем чертям!».
— Джентльмен, однако, — хмыкнул Бобби.
— Он не был каким-нибудь злодеем, — пожала плечами Лесли. — Даже наоборот. Очень любезно объяснил, что он бы никогда, но это для моего же блага, и я, как разумная девушка, должна понять, что все это он делает только по вине неких ужасных обстоятельств. В какой-то момент я с изумлением поняла, что он боится даже больше, чем я.
— И ты его не видела?
— Именно так. Было темно. Меня позвал шофер; я хотела было откликнуться, но мне заткнули рот. Вскоре послышался шум мотора: должно быть, Андерсон решил, что я пошла пешком и поехал потихоньку, надеясь перехватить меня по дороге. Не знаю, что я тогда сказала этому незнакомцу, но точно ничего хорошего. Впрочем, он не обратил внимания. Только сказал, что до половины второго я должна сидеть тихо.
— Жутко испугалась, наверное?
— Да нет, знаешь… самое странное — мне было совершенно не страшно. Я сидела и думала, что встретилась с весьма необычным человеком. Версии строила — одна фантастичнее другой…
— Это какие? — Бобби даже заинтересовался.
— Ну там, старинная вражда, кровная месть, все такое, романтический герой пускается в бега, когда я случайно становлюсь у него на пути… Помню, гадала, зачем мне нужно сидеть так долго — аж до половины второго. Потом, правда, кое-что прояснилось: я слышала, как по дороге проехала машина, даже увидела огни фар на склоне. И вот эта машина остановилась точно там, где до того заглохла наша. Кто-то пошел по дорожке, я услышала громкий свист. И тут начинается самое занятное! Он толкнул меня в угол, рявкнул: «Ни звука!» — и пошел к дверям. Кто-то спросил его: мол, это ты? А он ответил — жутким, хриплым, нечеловеческим каким-то голосом: «Да пошел ты!» Второй промолчал и пошел прочь — я слышала, как он шлепал по лужам, а потом машина унеслась прочь на дикой скорости.
— А что твой тюремщик?
— Вернулся и хохотал так, как будто устроил лучшую шутку в своей жизни. Но для него-то это было дело нешуточное. Понимаешь, я как раз начала со всей возможной суровостью требовать от него, чтобы он, как причина моих бед, лично доставил меня домой — и тут как раз прибыл папа. Я мельком увидела его машину и услышала, как он распекает Андерсона: «Неужели ты, дурак, думаешь, что моей дочери могло не хватить мозгов спрятаться от дождя? Разумеется, она в здании гольф-клуба!» Он потребовал фонарь, и мой тюремщик занервничал, и спросил, кто это. Я холодно известила его, что это мой отец, — и тут бедняга испугался так, что мне снова стало его жаль. А уж когда я назвалась, он и вовсе чуть не свалился в обморок.
— Я так смотрю, он и не знал, какую крупную рыбку поймал…
— Не надо сарказма, а? И вот папа шел с фонарем по тропинке, когда мой злодей распахнул дверь и помчался прочь, путая следы, как перепуганный заяц. Папа только и увидел, что его спину, и то на пару секунд. А потом… — Лесли нахмурилась. — Потом я заварила кашу, которую нам расхлебывать. Нет, будь я тогда в здравом уме, я бы просто сказала всю правду, по порядку, вот как тебе…
— Но эта правда выглядела недостаточно правдоподобно? — мрачно уточнил Бобби.
Лесли кивнула.
— Именно. Но это правда. Неправдоподобность ее была так очевидна, что я живо представила отца, как он стоит, руки в боки, и смотрит на меня, как на… У меня всегда было слишком живое воображение. Я просто не смогла бы ничего объяснить. А он как раз начал спрашивать — так мягко и ласково, что ужас: «Кто был этот человек?» И я нашла самый легкий выход. Просто назвала первое имя, пришедшее в голову.
— Мое.
— Да.
— И тебе, конечно, не пришло в голову, что надо будет объясняться со мной? Что ты рушишь мою только начавшуюся карьеру, очерняешь мое доброе имя и лишаешь меня будущего?
— Пришло, но не сразу, — покаялась та. — Когда мы были уже дома, я побежала к папе и рассказала все как есть. Сперва он заявил, что я тебя выгораживаю, потом… ради всего святого, я должна покаяться, ради всего святого, он едва тебя не пристрелил, ради всего святого, никогда наш гордый герб не был осквернен подобным… Я поняла, насколько была не права. Я и сейчас это понимаю. Бобби, прости меня, пожалуйста, — мне ведь еще с Джеком Маршем объясняться!
— А Джек у нас что, заинтересованное лицо? — уточнил молодой человек. Лесли помедлила.
— Ну… в общем, да. Тут такое дело… понимаешь, он мне очень нравится, но я его очень боюсь. Ты мне тоже нравишься, и тебя я не боюсь совсем. Понимаешь?
— Понимаю. И мне это очень нравится.
Она бросила на него короткий резкий взгляд — слишком уж многозначительно прозвучали его слова.
— Ах да! Ты ведь так и не рассказал, как прошел ваш разговор. Он предлагал тебе жениться на мне?
Бобби кивнул.
— Он этого настоятельно требовал, я бы сказал.
— Ох, бедняга. Наверное, сложно было вывернуться, да?
— Да нет, в общем-то. — Бобби смахнул с колен несуществующие крошки. — Я и не выворачивался.
— Ты… не выворачивался? — Она ахнула и воззрилась на него в изумлении.
— Ну да. Просто сказал «Ладно, хорошо».
Повисло молчание.
— То есть… ты… То есть ты принял мою руку и сердце? — совсем тихо сказала Лесли.
Бобби кивнул — в который уже раз.
— Вариантов не было, — виновато развел он руками. — Он требовал срочно венчаться. Причем венчаться без шума — на чем твой отец особенно настаивал. Он был пугающе убедителен, знаешь ли.
Лесли молчала, не в силах сказать ни слова.
— Мне тоже нелегко придется, — с горечью сказал Бобби. — Я-то всю жизнь мечтал о широкой свадьбе. Чтоб с рисом, с арками из цветочных гирлянд, с подружками невесты, шаферами и прочим в таком роде. Представляешь, как меня огорчило требование венчаться «по-тихому»?
— Но… ну ты же шутишь, да?! — отчаянно воззвала к нему девушка.
— Ничуть, — решительно мотнул тот головой. — Все во имя вашего уважаемого родового герба. Ничего о нем не знаю, но если он похож на наш — ему не помешает позолота. И вообще, мезальянс — семейная традиция Маккензи. Еще со времен Брюса и Уоллеса.[51]
Только сейчас Лесли Дженнер окончательно осознала, что ее практически выдали замуж — без ее участия и даже не сказавшись.
— Бобби! Ты сейчас же, сейчас же отправишься к папе и скажешь, что это был не ты! — рявкнула она. — Помолвку надо расторгнуть. Срочно! Я настаиваю! Это… это ужасно!
Бобби хмыкнул.
— Ну вот сама пойди и скажи. Тебе всяко больше веры, чем мне.
— Но это ужасно! Это… просто чудовищно!
— Ну, не знаю, не знаю, — Бобби поудобнее уселся в кресле. — По мне, так не так уж и чудовищно. Хотя учти — добровольно я бы на тебе не женился.
— Обидеть меня хочешь?
— Ничуть, видит Бог. Просто, честно говоря, ты слишком хороша для меня. Пугающе хороша. Я никогда бы не решился сделать тебе предложение. Но — твой отец требует срочно венчаться, требует принять долю в компании…
— Он тебе еще приплатил за согласие?! — Лесли задохнулась, потом сглотнула и решительно заявила: — Я точно иду к отцу. Я расскажу ему все как есть, всю ужасную правду. Я его люблю и желаю ему счастья, но не ценой собственной разрушенной жизни!
— Если что, мою разрушенную жизнь тоже можешь упомянуть! — крикнул Бобби ей вслед.
Должно быть, девушка его не услышала, так как была уже на середине лестницы.
Дальше двери отцовского кабинета она, впрочем, не прошла.
Простояла перед ней минуты три и вернулась — хмурая и невеселая.
— Я не могу, — сказала она тоскливо. — Не могу. Я открыла дверь, а там папа, бедный, и он… он…
— М-м?
— Он плакал! — всхлипнула Лесли. — Так, как будто у него вот-вот разорвется сердце.
— Надо же, никогда не думал, что можно так убиваться из-за ста тысяч фунтов…
— Болван! — Лесли едва удержалась от пощечины. — Причем тут деньги? Это все из-за меня, из-за меня… — И она упала в кресло, закрыв лицо руками.
— Ну а может, и из-за меня тоже. Такой добрый и замечательный человек, как твой папаша, конечно, не может не оплакать загубленную им карьеру и разбитые им мечты такого многообещающего юноши, как я.
— Карьера его… мечты его… — Лесли топнула ногой. — Боже, что я за дура! Набитая дура!
Бобби не возразил — как, впрочем, и не согласился.
Просто сидел и ждал, пока та успокоится.
— Что ж, остается смириться, — наконец решительно сказала она. — Я бы смеялась, не будь все так погано…
— А я и посмеяться не мог, — пожал плечами Бобби. — Думаю вот: сумел бы я переубедить твоего отца? По крайней мере, попробовать стоило… бы, если бы ты не заговорила о Джеке Марше.
Та резко развернулась:
— Что ты имел в виду?
— Только то, что сказал. Твои слова про Джека Марша — вот что обрекло тебя на муки.
— Но, Бобби!
Тот встал спиной к камину, сжав губы.
— Нам остается только смириться и обвенчаться, — сказал он. — Да, нам обоим придется туго — но что-то подсказывает мне, что при другом раскладе тебе пришлось бы гораздо хуже.
Снова повисло молчание.
Наконец Лесли обреченно спросила:
— Когда свадьба?
Бобби поскреб подбородок.
— Как насчет следующего четверга?
* * *
Три недели спустя они сидели по разные стороны стола в небольшом номере отеля Сент-Морис и разбирали немногочисленные письма. Через форточку до них смутно доносился шум Рю-Риволи и легкий аромат пришедшей весны, состоящий из цветения мимозы, белоснежных нарциссов на клумбах и бесчисленных ваз с фиалками.
Вдруг Лесли передала мужу конверт:
— Прочти. Это от Джека.
Тот внимательно прочитал письмо — от начала до конца, так медленно и вдумчиво, что его жене надоело ждать.
— Ну же! Там нет ничего такого особенного. Вообще, очень мило с его стороны так спокойно принять все происшедшее.
— Воистину, очень мило, — Бобби вернул жене конверт. — Тебе стоит написать ответ. Сперва, как хорошая девочка, ты, конечно, скажешь ему спасибо за проявленную деликатность. А потом… потом ты скажешь ему, что в силу сложившихся обстоятельств встречаться с ним для тебя невозможно и нежелательно.
Она ошарашено подняла на мужа глаза.
— Ты это к чему?
— Можешь добавить, что твой муж вообще настаивает, чтобы вы прекратили всякое общение.
— С ума сошел? Конечно, я такого не напишу! — возмутилась Лесли.
— Напишешь, — спокойно сказал Бобби. — Вот такой вот я самодур, уж прости. Я ничего не просил у тебя со дня нашей свадьбы, и я не собираюсь чего-то требовать и впредь. Кроме одного. Через пару лет можешь развестись со мной, на здоровье, я не стану возражать. Даже отдам тебе те распрекрасные акции, которые мне презентовал твой папаша в виде приданого. Тогда общайся с кем хочешь и как хочешь. Но до тех пор Джек Марш — персона нон-грата.
— Для тебя.
— Для тебя тоже, просто тебе не хватает… просто ты этого сама еще не знаешь.
Сдержав порыв на месте прирезать мужа ножом для рыбы, Лесли выпрямилась и положила руки на колени.
— Ни слова подобного не напишу никогда в жизни. Мои друзья — друзья мне вне зависимости от твоего о них мнения! Может, тебе и другие письма показать? Там есть несколько от моих родственниц — поздравляют со свадьбой и завидуют моему счастью. Можно смеяться?
— Отчего нет? — Бобби был невозмутим. — Письма моих незамужних тетушек еще более забавны. А вот, — он перебрал бумаги, — вот письмо от дядюшки Энгуса. Он напоминает мне, что по традиции первенцу дома Маккензи дают имя…
Лесли встала.
— Не смешно. Если ты намерен и дальше так себя вести — я ухожу.
Неделю спустя они вернулись в Лондон казаться счастливой семьей. Впрочем, здесь это было легче: пропало постоянное напряжение, ведь у каждого из них был свой круг общения и свои занятия, так что можно было не общаться друг с другом.
Семейная жизнь была испытанием для обоих.
Венчание вообще напомнило Бобби какую-то комиссию на собачьей выставке. Так погано он себя чувствовал только в тот раз, когда его вызвали в налоговую.
Медовый же месяц был и вовсе ужасен и измучил супругов невероятной скукой, отдохнуть от которой удалось только в недолгие часы посещения Лувра.
Бурная жизнь Лондона подарила им желанный отдых.
Через несколько дней после их прибытия миссис Вандерслуис-Картер устраивала ужин и танцы. На ужин не пригласили ни Лесли, ни Бобби, но на танцы пришли оба.
Около полуночи Бобби, искавший свою жену, обнаружил ее в алькове с Джеком Маршем.
Вид у последнего был весьма печальный — видимо, он рассказывал о каких-то жизненных неприятностях.
Подняв глаза и поймав что-то очень неприятное в выражении лица своего мужа, Лесли наскоро попрощалась с бывшим женихом.
— Можешь идти, — сказал Бобби. — Я догоню. Нам тут кое о чем надо потолковать.
— Нет уж, если идти — так вместе, — нервно ответила та.
— Ступай и подожди меня, — жестко повторил Бобби.
Марш был уже на ногах. Лесли медлила, и все бы закончилось хорошо, удержи Марш язык за зубами.
— Лесли просто рассказывала, — начал он беспечно, — как она…
— Мою жену зовут миссис Маккензи, — уточнил Бобби. — Советую забыть, что ты мог называть ее как-то иначе.
— Но, Бобби… — прошептала испуганная Лесли.
— И вот еще что, — не обращая на нее внимания, продолжил тот. — Еще раз увижу, что ты к моей жене подошел — возьму за шкирку и выброшу вон ко всем чертям. Понял?
Тот покраснел от ярости.
— Да ты у нас, оказывается, оратор! — хмыкнул он. — Такой талант — и еще не в парламенте?
Бобби не ответил. Вместо этого он чуть отступил и влепил Маршу крепкий хук в челюсть. Тот упал на пол.
— Объяснять я ничего не буду, — уже дома сказал Маккензи разъяренной Лесли. — Просто учти на будущее, что тебе лучше не встречаться с Маршем. Во избежание. Мы разведемся, как только это можно будет сделать без скандала в обществе, я обещаю. Но до тех пор всякая твоя встреча с Джеком Маршем будет кончаться таким вот образом.
Увы, вся сцена попалась на глаза человеку, который Бобби Маккензи просто ненавидел, — и это была Сибилла Торнберн.
Все увиденное она напела своему супругу, разумеется, должным образом все раскрасив. Тот, бедняга, чувствовал некоторую неловкость — все-таки объектом обсуждения был его лучший друг.
— Дикарь! Истинный дикарь, чудовище! — пела Сибилла.
— Ну-ну, зачем так, — вяло протестовал ее муж.
Он был старше жены на двадцать лет — румяный, краснощекий спортсмен, не выносивший любого занятия, требовавшего напрягать мозг.
— Бобби у нас, конечно, малый вспыльчивый, но уж если он дал в физиономию Маршу, будь уверена: Марш этого заслуживал.
Потеряв всякое благоразумие, миссис Торнберн решительно занесла ядовитое жало.
Красавица, она была предметом общего восхищения, и ее мужу это даже нравилось.
Но способ, которым, по ее словам, выразил свое восхищение Бобби Маккензи, его несколько огорчил и заставил нахмуриться.
— И когда это все произошло?
— На балу у Винслоу. За несколько дней до их свадьбы с Лесли Дженнер.
— Что-то мне не верится… хотя…
Он вспомнил багаж, стоявший в холле, жену в дорожном костюме, ее невнятные объяснения…
— Это было какое-то помешательство, — прошептала та, ища себе оправдания. — Да, да, помешательство. Такое могло бы случиться с каждой. Как бы женщина ни любила мужа… Понимаешь, я была сбита с толку! Он меня словно зачаровал, но потом я вспомнила, как люблю тебя, какой ты у меня замечательный… я просто не могла…
Она уже рыдала — вполне искренне, потому что сказала слишком много и бросила слишком серьезные обвинения, чтоб это могло остаться без последствий.
Потому мстительное удовольствие мешалось в ее душе с ужасом.
— Но, Дуглас, милый… давай забудем об этом! Право, мне не следовало вообще об этом говорить…
— Нет, это хорошо, что ты все рассказала… вот что еще: я в тот вечер заметил синяк у тебя на запястье. Это Бобби?
Та кивнула.
— Но ради всего святого, ради меня, Дуглас, не надо… не надо ничего предпринимать. Просто забудь!
— Я подумаю о твоей просьбе, — странным тоном ответил Дуглас Торберн и ушел в свою комнату.
Наутро произошла встреча двух несчастных жен: мисс Торберн воспользовалась отсутствием Бобби и явилась в отель, где остановились молодые. Лесли, мало знавшей эту даму, но инстинктивно ее не выносившей, пришлось принять супругу лучшего друга своего мужа.
— Лесли, вы должны мне помочь! — с ходу начала та. — Я в ужасной ситуации. Я была зла на Бобби и кое-что рассказала о нем мужу… и теперь я так боюсь, так боюсь…
— И что же вы рассказали своему мужу о Бобби? — холодно уточнила Лесли.
То, что она была на него зла, и не просто, а очень зла, не отменяло неприязни к гостье.
Та помедлила, но сказала:
— Я рассказала, что он хотел со мной бежать.
У Лесли буквально подкосились ноги.
— Бежать? С вами? — недоверчиво переспросила она.
Гостья молча кивнула.
— И когда же?
— В тот вечер, когда мы все были у Винслоу. Помните?
— О да, — мрачно сказала Лесли. — У меня есть причины помнить тот вечер. Итак, Бобби предложил вам вместе бежать?
Миссис Торберн медлила с ответом.
— Я сказала мужу…
— Правду? Или соврали? — резко спросила Лесли.
— Ну… видите ли, между мной и Бобби случилась небольшая размолвка…
— Сказали правду или солгали? — холодно повторила Лесли. — Я-то знаю, что вы солгали. Бобби не способен на подобную подлость.
— Конечно, вы защищаете мужа, — колко ответила миссис Торберн.
— Разумеется.
— Но он зверь, монстр! — яростно всхлипнула та. — Он разрушил мою жизнь! — И разрыдалась.
В голосе ее была неподдельная искренность, чуть было не тронувшая сердце Лесли. Но унаследованная от отца скверная привычка докапываться до правды во что бы то ни стало перевесила.
— Итак, Бобби вынуждал вас бежать с ним? — Этот вопрос был отчаянно важен.
От него зависело счастье Лесли, возможность не вышвыривать из своей жизни паренька, с которым она виделась там-сям на званых вечерах и который нес милую чушь о женитьбе.
— Да! — крикнула миссис Торберн.
Лесли улыбнулась.
— Ложь, милочка. И преглупая, надо сказать. Бобби подобное и в голову не приходило, уж я-то знаю. И расспрошу его при случае — мне интересно, что произошло на самом деле.
— Я лишь хочу, чтоб вы ему сказали держаться подальше от моего мужа, а то мало ли что, — угрожающе хмыкнула миссис Торберн. — Вы бесчувственная женщина, Лесли. Я-то надеялась с вами подружиться.
— То есть вы полагали, что я радостно поверю вам на слово? И буду считать Бобби мерзавцем? Ну уж нет, я слишком хорошо его знаю.
— Иллюзии — прекрасная вещь, — холодно пожала плечами миссис Торберн. — Однако быстро вы его узнали. Просто внезапно. Эта женитьба… в ней многовато загадок.
— Загадок? Что ж, любой брак в чем-то загадочен.
Сибилла уже направлялась к двери, когда Лесли ее остановила.
— Постойте! — В ее глазах загорелся странный огонь. — Вы рассказали мужу историю про побег. А когда вы намеревались бежать? То есть по вашим словам — когда?
— Ночью после вечеринки у Винслоу.
— И ваш муж… он что-нибудь подозревал? Что вы хотите с кем-то бежать?
— Он ничего не подозревал. Он… Зачем вы спрашиваете?
— Умоляю, расскажите! Это очень важно!
— Дуглас перехватил меня в холле. Я уже переоделась и собрала вещи — чемодан был неподалеку. Я… не ожидала, что он будет на вечере. У него были какие-то дела в Эдинбурге.
— А встречу вы назначили где-то неподалеку от особняка?
Миссис Торберн медлила с ответом.
— Да, мы… назначили…
— А время? Время встречи? — почти беззвучно продолжила задавать вопросы Лесли.
— Я сказала мужу… что мы решили встретиться между полуночью и половиной второго.
— И он должен был ждать вас в здании гольф-клуба в Смоки-парк, — так же шепотом сказала Лесли. Миссис Торберн впала в оцепенение.
— Да-да, вы договорились. С полуночи и до половины второго, в здании гольф-клуба. Только не с Бобби, так?
— Откуда… откуда вы знаете?
— Не с Бобби. А с Джеком Маршем! А Бобби узнал об этом. И вам помешал. Так он и разрушил ваше счастье, да?
Миссис Торберн вновь разрыдалась.
— Чертов ябеда! Да, он подслушал, он все подслушал! Я хотела идти за Джеком, но твой драгоценный Бобби так хватанул меня за руку, что синяк остался!
— И… он ждал в здании гольф-клуба… — медленно продолжила Лесли.
— Джек? — приоткрыв в изумлении рот, уточнила миссис Торберн.
— Да нет же, Бобби! Боже, как здорово! Он решил дождаться вас, сорвать встречу и спасти тем самым ваше доброе имя и доброе имя вашего мужа! А мне ни слова не сказал, чтоб вас не выдать!
— Откуда такая уверенность, что он там был?
— Просто той ночью я тоже оказалась в здании гольф-клуба, — прямо ответила Лесли.
* * *
Бобби Маккензи вернулся с ужина хмурым и помрачневшим. Жена ждала его внизу, в прихожей.
— Я в беде, — сказал он. — Получил премерзкое письмо от старого приятеля.
— Ничего, утром он пришлет тебе свои извинения, — беспечно ответила Лесли.
— С чего бы? У тебя открылся дар ясновидения, что ли?
— Нет. Просто я велела его жене рассказать правду.
Бобби остолбенел.
— Что это за игра в загадки, юная леди?
— Вот только не надо устраивать сцен. И вообще, улыбнись! Не хочу начинать свой второй медовый месяц с грустных мыслей!
Бобби, все еще не опомнившийся, только спросил растерянно:
— И… когда отправляемся?
— В девять утра, паромом от Виктории.
Он посмотрел на часы.
— А как насчет ночного на Борнмут?
БЕЛЫЕ ЧУЛКИ
I
Джон Тревор не был ревнив. Он десятки раз говорил это себе, сейчас он впервые сказал это Марджори Баннинг.
— Ревнив! — вспыхнула она, но тут же взяла себя в руки. — Я не совсем понимаю тебя. Что значит — ревнив?
Было заметно, что Джеку неприятно заводить этот разговор.
— Ревнив — глупое слово, конечно, я хотел сказать, подозри… — начал он и опять осекся.
Молодые люди сидели в Гайд-парке под раскидистым вязом; толпа, способная свести с ума любого, была достаточно далеко, чтобы ее вредное влияние свелось к минимуму. В поле их зрения были только три флиртующие парочки, гувернантка с коляской, полицейский и несколько играющих детей.
— Я хочу сказать, — выговорил отчаявшийся найти нужные слова Джек, — дорогая, я доверяю тебе, и… ну, не хочу выведывать твои секреты, но…
— Но? — повторила она холодно.
— Я всего лишь хотел бы заметить, что три раза видел, как ты едешь в шикарной машине…
— В машине клиента, — тихо ответила она.
— Но обязанности парикмахера определенно не занимают весь день и вечер, — настаивал Джек. — Мне очень жаль, если эти расспросы тебе неприятны, правда жаль, но дело в том, что я видел тебя в этой машине именно в те дни, когда ты говорила, что занята вечером.
Она ответила не сразу.
Она чувствовала себя не в своей тарелке и горько досадовала — не только на то, что Джек усомнился в ней, что в его глазах ее поведение выглядит и впрямь подозрительно, но и на то, что она не может ничего объяснить. А больше всего она огорчилась из-за того, что ее молчание подтверждало его подозрения.
— Кто натолкнул тебя на такие мысли? — спросила она. — Леннокс Мэйн?
— Леннокс? — фыркнул он. — Ну что за глупости, Марджори! У Леннокса и в мыслях нет говорить о тебе плохое — мне или кому-то другому. Леннокс прекрасно к тебе относится — вспомни, это ведь он нас познакомил.
Она задумчиво закусила губу. Девушка была отлично осведомлена, что Леннокс от нее в восторге — в том восторге, который он приберегал для любой подвернувшейся девушки-работницы; а поскольку и Марджори была всего лишь девушкой-работницей, то и свои чувства к ней молодой человек почерпнул из той же категории.
Марджори работала в большой парикмахерской в Вест-Энде и ненавидела свою работу; ненавидела не только из-за самой необходимости работать. Ее отец, скромный провинциальный доктор, умер несколько лет тому назад, оставив жену и дочь без гроша. Друг их семьи был знаком с владельцем парикмахерской, а старому Феннетту нужна была секретарша. На эту должность ее и нанял этот «цирюльник для женщин», как насмешливо обзывал его Леннокс Мэйн. Впрочем, девушка вскоре перешла от обязанностей секретарши к парикмахерской работе — мистер Феннетт, мастер своего дела, взялся посвящать ее в таинства «культуры цвета».
— Мне ужасно жаль, что это тебя беспокоит, — чопорно ответила она, поднимаясь, — но у нас, работниц, есть свои обязанности, Джек.
— Бога ради, не называй ты себя работницей! — мгновенно вышел из себя он. — Конечно, дорогая, я принимаю твое объяснение, только зачем делать из твоей работы тайну?
Внезапно она схватила его за руку.
— Потому что мне платят за соблюдение тайны, — с улыбкой ответила она. — А теперь пойдем к «Брату Янусу» — я умираю с голоду.
Во время обеда они опять заговорили о Ленноксе.
— Я знаю, что ты его недолюбливаешь, — сказал Джек. — Но он отличный парень и, более того, очень мне полезен, а я не могу позволить себе терять полезных друзей. Мы учились вместе, но, конечно, он всегда был умнее меня. Он уже заработал себе состояние, а я до сих пор собираю ту тысячу, которая позволит мне ввести тебя в самый невзрачный домик в пригороде…
Она протянула руку под столом и сжала его ладонь.
— Ты прелесть, — вздохнула она, — но я надеюсь, что ты никогда не будешь зарабатывать деньги так, как Леннокс.
Он хотел было возмутиться, но она продолжила, движением головы отметая его возражения:
— Девушки, которые красят седеющие локоны знатным дамам, слышат много странного, — сказала она, — а у Леннокса дурная слава человека, который добывает деньги сомнительными путями.
— Но его дядя… — начал он.
— Его дядя очень богат, но ненавидит Леннокса. Все говорят об этом.
— А вот здесь ты ошибаешься, — торжественно возразил Джек. — Они плохо ладили, но теперь наконец помирились. Я ужинал с Ленноксом вчера вечером, когда ты разъезжала в этой твоей дорогой машине, — дорогая, я ничего плохого не хотел сказать, — в общем, я ужинал с ним, и Леннокс говорил, что старик стал весьма дружелюбен. И более того, — понизил голос Джек, — он поможет мне заработать большие деньги.
— Леннокс? — недоверчиво переспросила девушка и покачала головой. — Я могу представить, как Леннокс наживает состояние сам или как он обещает золотые горы наивным девицам, но не могу представить его помогающим разбогатеть приятелю.
Джон только рассмеялся.
— Разве он когда-нибудь пытался вскружить голову обещаниями тебе? — спросил юноша, но Марджори не стала отвечать.
Она познакомилась с Ленноксом Мэйном в доме их общего друга, а потом они встречались в парке, как теперь с Джеком. Леннокс предложил ей будущее, которое сулило определенные материальные выгоды, но имело недостатки с точки зрения морали. А потом однажды в воскресенье, когда они гуляли возле реки, Марджори познакомилась с Джеком Тревором… после этого держать филантропа на расстоянии становилось все легче и легче.
На закате, когда молодые люди входили обратно в Парк через Мраморную арку, навстречу им попался неопрятного вида человечек с лошадиным лицом, который, завидев Джека, прикоснулся к шляпе и широко улыбнулся.
— Это Вилли Джинс, — сказал Джек с улыбкой. — Его отец был нашим конюхом, когда мы жили в Ройстоне. Интересно, что он делает в Лондоне?
— А чем он занимается? — спросила девушка.
— Он собирает информацию о лошадях.
— То есть?
— О лошадях, участвующих в скачках. Вилли отлично знает свое дело. Он работает на одну из спортивных газет, и, думается, там ему неплохо платят.
— Вот странно! — сказала Марджори и рассмеялась.
— Что тебя так развеселило? — спросил Джек, но она не ответила.
II
В странном человеке, неподвижно распростершемся на верху стены, было что-то от хамелеона. Его зеленая пятнистая куртка, желтые бриджи и гетры настолько сливались со стеной и нависающими над ней ветвями деревьев, что девять из десяти людей прошли бы мимо, ничего не заметив; впрочем, солнечный майский день только начинался — было всего лишь семь часов утра — и на улице не было прохожих, способных нарушить его спокойствие. Опираясь локтями на осыпающуюся кладку, он лежал, будто приклеившись к сильному биноклю, и так напряженно следил за чем-то, что лицо его болезненно скривилось.
Уже двадцать минут он ждал в этом положении, и его плотный спутник, сидевший невдалеке за рулем машины, только терпеливо вздыхал. Он повернул голову, услышав приближение наблюдателя.
— Закончил? — спросил он.
— Угу, — ответил тот.
Толстяк вздохнул снова и направил автомобиль к деревне. Неряшливый наблюдатель нарушил молчание, только когда они добрались до окраин Болдока.
— Ямынь захромал, — бросил он.
При этих словах водитель от избытка эмоций едва не вырулил на обочину.
— Захромал? — недоверчиво переспросил он.
Вилли кивнул.
— Начал хромать на середине галопа, — уточнил он. — Теперь ему дерби никак не выиграть.
Толстый мужчина тяжело дышал.
Они были братьями (Вилли — младший, Пол — старший), хотя семейного сходства между ними было не больше, чем между крысой и почтенной домашней курицей.
Машина остановилась возле почтового отделения Болдока, Вилли вышел и остановился в задумчивости. Так он стоял некоторое время, почесывая подбородок и проявляя другие неожиданные признаки неуверенности. Затем он забрался обратно в машину.
— Поехали в гараж, заправимся.
— Это еще зачем? — спросил сбитый с толку Пол. — Я думал, ты собираешься послать теле…
— Какая разница, что ты там думал, — нетерпеливо прервал его брат, — поехали, и залей полный бак. Отвези меня в Лондон. Почта не будет работать еще полчаса.
Пол нечленораздельно пробурчал что-то, долженствовавшее выражать удивление и раздражение.
Вилли снизошел до объяснения, только когда братья вернулись на Стивенедж-роуд.
— Если послать телеграмму отсюда, через несколько минут о ней все будут знать, — скептически хмыкнул он. — Ты знаешь эти городки. А мистер Мэйн мне такого вовек не простил бы.
Леннокс Мэйн был главным работодателем Вилли. Несмотря на наличие других клиентов, Джинс-младший в значительной степени зависел от гонорара, получаемого от этого зажиточного покровителя.
У мистера Джинса была интересная профессия. Он был одним из тех, кто в спортивной прессе называются «наблюдатели», и держал штаб-квартиру в Ньюмаркете. Но есть конюшни и за пределами столицы скачек, так что, когда главному нанимателю Джинса-младшего требовалась информация, которую нельзя было получить другим способом, Вилли отправлялся в Уилтшир Даунс, Эпсом или в другое нужное место, и из первых рук добывал информацию о самочувствии нужных лошадей.
— Повезло немного, не без этого, — задумчиво проговорил он через некоторое время. — Не думаю, что есть в Англии еще кто-то, кто сумел бы проследить за лошадьми старого Греймана. Обычно он выставляет в дозор с полдюжины человек, чтобы никто не проскользнул через стену.
Стюарт Грейман владел обширным поместьем на Ройстон-Роуд, прекрасно подходящим для столь скрытой и замкнутой персоны: парк, где дрессировали лошадей, окружала высокая стена, а люди Греймана были сама преданность.
Ценную информацию из конюшни обычно можно добыть, сведя знакомство с кем-то из конюхов, но то ли Грейман платил слугам слишком хорошо, то ли так тщательно подбирал персонал — в результате постороннему можно было и не надеяться узнать что-либо. И потому старик наводил на букмекеров ужас. Из его конюшни выходили неожиданные победители — секреты хранились настолько хорошо, что лишь когда скачка заканчивалась и букмекерские конторы начинали выплачивать выигрыши, становилось понятно, что победитель был «ожидаем». В общем, Грейман мог позволить себе не скупиться, и до сих пор добыть достоверные сведения о его лошадях не удалось никому.
Так что радость Вилли была вполне понятна — он добился, по сути, невероятного успеха.
Запыленная машина остановилась в ухоженном сквере, и ответивший на звонок в дверь раздраженный дворецкий отнюдь не сразу согласился впустить посетителей.
Леннокс Мэйн, щеголеватого вида молодой человек, как раз завтракал; появление неряшливого Джинса удивило его гораздо меньше, чем дворецкого.
— Садитесь, — коротко пригласил он и, когда посетители сели, а дворецкий вышел, снова перевел взгляд на Вилли. — Что у вас?
Вилли вывалил новости; Мэйн слушал, задумчиво нахмурясь.
— Старый дьявол, — негромко и не без восхищения проговорил он, — хитрый старый дьявол!
Вилли в принципе был более чем согласен со словами, которыми любящий племянник описал своего дядю Стюарта, но недоумевал, как его новости могли выставить мистера Греймана в более дьявольском свете, нежели обычно.
Леннокс сделал паузу, собираясь с мыслями.
— Джинс, вы понимаете, что это должно остаться в тайне. Ни слова о хромоте Ямыня. Могу сказать вам, что десять минут назад дядя звонил мне и сказал, что скакал на Ямыне, и тот в прекрасной форме.
— Что? — задохнулся от возмущения Вилли. — Да этот конь хром, как…
— Не сомневаюсь, — перебил его наниматель, — но у мистера Греймана есть причины не разглашать это. Он поставил значительную сумму на победу этой лошади в дерби, и теперь нужно время, чтобы выправить положение. Какие еще кони бежали?
— Я не очень хорошо знаю его лошадей, — пояснил Вилли, — но жеребец, который всех обставил, неотразим — таких коней еще поискать. Он обошел остальных, как будто они на месте стояли. Засечь время я не мог, но шли они галопом.
— Ты точно уверен, что захромал именно Ямынь?
— Более чем уверен, сэр. — Вилли решительно кивнул. — Я видел его в Аскоте и Ньюмаркете в прошлом году — эти белые ноги ни с чем не спутать. Нечасто увидишь гнедого коня с четырьмя белыми чулками.
Хозяин помолчал еще немного.
— А какой масти был жеребец, выигравший галоп?
— Полностью гнедой, без единого белого пятнышка.
— Хм, — задумчиво протянул мистер Мэйн, — это, должно быть, Фэйрилэнд. Я припоминаю его. Спасибо, что пришли, — сказал он, кивком отпуская посетителей, — и помните…
— Ни гугу, — отозвался Вилли, сворачивая две банкноты, которые наниматель толкнул к нему через стол.
Оставшись один, мистер Леннокс Мэйн какое-то время напряженно раздумывал. У него и в мыслях не было винить дядю. Мэйн не мог позволить себе осуждать других за нечестную игру, ведь отнюдь не рыцарские добродетели приносили деньги ему самому. Он был азартным игроком, притом успешным. Он играл на бирже, играл на скачках, но больше всего дохода приносили ставки на других людей — или против них. И вот в этой игре он допустил уже два досадных промаха. Он решил сыграть на расположении своего дяди по матери, Стюарта Греймана, и переоценил при этом собственную хитрость — Леннокс использовал информацию, получаемую от скрытного дяди, для своих дел, и, к его ужасу, это выплыло наружу. Дядя охладел к племяннику на долгих пять лет и смягчился только недавно — при встрече в «Карлтон-Грилл» во время ланча Ленноксу было сообщено, что он прощен.
— Старый дьявол, — восхищенно пробормотал он, — чуть не купил меня!
Старый Грэйман сказал ему, что на победу Ямыня в дерби можно ставить смело.
Леннокс Мэйн не доверял никому и менее всего — старику, который, как он подозревал, затаил на своего племянника обиду. Вот почему он послал Джинса проверить правдивость сведений о невероятной скорости хромого Ямыня. Двухлетний Ямынь до сих пор участвовал только в двух скачках. Его тщательно готовили к большим победам, и рассказанная стариком история выглядела полностью достоверной.
Итак, старик пытался обмануть его! К счастью, Леннокс не успел поставить ни пенни.
Грейман был одной из его неудач, второй была Марджори Баннинг. Временами Леннокс Мэйн раздраженно думал, что она была величайшей его неудачей. Она казалось такой простой. Настолько стесненной обстоятельствами, что, казалось, должна была сама упасть ему в руки.
Стоило Мэйну вспомнить об этой девушке, как резко зазвонил телефон и раздался голос Джона Тревора.
Леннокс услышал имя, и его лицо перекосилось, но голос оставался приветливым.
— Привет, Джек! Заходи, конечно. Ты разве сегодня не работаешь? Хорошо.
Он повесил трубку и вернулся к столу. Джек Тревор! Его глаза сузились. Мэйн отнюдь не простил своего наивного друга, и десять минут размышлял, сопоставлял и прикидывал.
Джек занимал неплохую должность в одной из городских контор, а поскольку торговля резиной в Англии в то время потихоньку приходила в упадок, служба не отнимала много времени.
Леннокс принял гостя в кабинете и подвинул ему серебряную коробку с сигаретами.
— Что привело тебя на запад в этот час? — спросил он. — Останешься на обед?
Джек покачал головой.
— Дело в том, — выпалил он, — что я несколько встревожен, Леннокс. По поводу Марджори.
Брови Леннокса взлетели вверх.
— Что такое? — спросил он. — Хочет перекрасить тебя в блондина?
— Не настолько все плохо, — улыбнулся Джек, — но… я знаю, ты очень хорошо относишься к Марджори. Леннокс, ты человек умный и даешь бесценные советы, а… понимаешь, я очень волнуюсь из-за Марджори. — Он довольно долго молчал, а Леннокс с интересом наблюдал за другом. — В общем, либо у нее есть таинственный друг, либо таинственная работа, — сказал Джек наконец. — Четырежды я видел, как она проезжала мимо на шикарной машине.
— Одна?
Джек кивнул.
— Наверное, просто к клиентке ехала, — пожал плечами собеседник. — Знаешь, даже у женщин, способных приобрести хорошую машину, бывает нужда в особых услугах парикмахера.
— Даже женщины, владеющие дорогими машинами, не нуждаются в услугах парикмахера с трех часов пополудни до одиннадцати вечера, — возразил Джек, — а Марджори возвращается к себе в гнездышко именно в это время. Знаю, что следить за собственной невестой — отвратительно, но именно так я и поступил. Она получает большие деньги. Я поговорил с ее домовладелицей. Позвонил ей под тем предлогом, что звонил Марджори, но не застал, и поговорил с ней на тему отлучек Марджори; домовладелица сказала, что Марджори разменивала для нее чек на сотню фунтов.
— Хм, — сказал Леннокс. Он был не менее озадачен, чем Джек. Подумав, он ответил: — Всему этому наверняка есть простое объяснение, старина, так что не переживай. Уж в чем-чем, а в ветрености Марджори обвинить нельзя. Когда ты собираешься жениться?
Джек неопределенно пожал плечами.
— Да бог его знает. Хорошо тебе говорить о женитьбе, с твоим-то достатком, но мне на свадьбу копить еще месяцев двенадцать.
— Ты уже определился с суммой, которая тебе нужна на свадьбу? — с улыбкой осведомился Леннокс.
— Тысяча фунтов, — ответил Джек, — и шесть сотен у меня уже есть.
— Тогда, старина, я помогу добыть тебе даже не тысячу, а десять тысяч.
Джек изумленно воззрился на него.
— О чем ты, черт возьми, говоришь?
— О темной лошадке, Ямыне, — ответил Леннокс, — это лошадь моего дяди. Я ведь сказал как-то, что помогу тебе сколотить состояние, — вот сейчас мы этим и займемся.
Он поднялся, подошел к столу, взял утреннюю газету и какое-то время перелистывал страницы.
— Смотри, вот ставки, — показал он статью. — Сто к шести на Ямыня — а то, что он выиграет дерби, так же несомненно, как то, что ты женишься на своей Марджори. Сегодня ты можешь выиграть десять тысяч за шесть сотен — завтра ставки уже будут ниже.
— Боже правый! Я не могу позволить себе потерять шесть сотен фунтов, — охнул Джек, но Леннокс только рассмеялся.
— Если б ты знал, насколько мал риск, то не дрожал бы, как заяц. Говорю тебе, это верное дело.
— Ну, наверное, шестьдесят фунтов я поставить могу…
— Шестьдесят? — фыркнул в ответ собеседник. — Старина, какой смысл собирать деньги по крохам? Вот тебе шанс, какой бывает раз в жизни, и, если ты в своем уме, ты его не упустишь. Завтра ставки будут где-нибудь шесть к одному, а не шестнадцать, а сейчас ты можешь поставить деньги и выиграть целое состояние, практически не рискуя.
Он с полчаса говорил о лошадях — о Ямыне, его скорости, его родословной, — а Джек завороженно слушал.
— Я позвоню букмекеру и сделаю ставку за тебя.
— Постой, постой, — сдавленным голосом возразил Джек, когда Мэйн поднял трубку, — это огромный риск, Леннокс.
— И огромный выигрыш, — возразил искуситель. Будь у Мэйна больше времени, он бы устроил дело таким образом, чтобы шесть сотен упали к нему в карман, но сейчас это было невозможно. Джека Тревора следовало поймать немедленно или отказаться от этой идеи вообще — нельзя было давать ему время подумать или спросить у кого-нибудь совета или, того хуже, обнаружить, что Ямынь хром. Секрет мог перестать быть секретом в любой момент — новости мог разнести недовольный чем-нибудь помощник конюха, случайно пропущенный шпион, излишне словоохотливый ветеринар… Потеря шести сотен фунтов не обязательно расстроит замужество маленькой вздорной парикмахерши, но уж точно заставит парочку отложить это событие.
— Согласен, — решился Джек и будто во сне слушал спокойный голос приятеля:
— Ставка на имя мистера Джона Тревора, Кастлмейн-Гарденс… Да, я ручаюсь за него. Спасибо.
Он повесил трубку и теперь смотрел на Джека со странной улыбкой.
— Поздравляю, — мягко сказал он, и Джек отправился обратно в город; голова молодого человека кружилась, и даже загадки его невесты бледнели от осознания собственной невероятной опрометчивости.
Марджори Баннинг, услышав новости, сразу упала на стул. К счастью, стул был на месте.
— Ты поставил все деньги на лошадь? — потерянно переспросила она. — Ох, Джек!
— Но, дорогая, — уверенно возразил Джек, — все, что говорил Леннокс, правда, и деньги, считай, уже наши. Вчера на эту лошадь ставили шестнадцать к одному, а сегодня — всего лишь восемь к одному.
— Ох, Джек, — только и смогла повторить она.
Джеку нужно было найти оправдание в собственных глазах. Он до ужаса отчетливо ощущал собственную глупость и проклинал себя за то, что прислушался к голосу искушения.
— Все хорошо, Марджори, — сказал он в малоуспешной попытке ободрить ее, — конь принадлежит дяде Леннокса Мэйна, и тот сказал Ленноксу, что эта лошадь точно победит. Марджори, дорогая, подумай, что для нас означают десять тысяч фунтов…
Она слушала, но не спешила успокаиваться. Зная, каких трудов и жертв стоило ему собрать эту сумму, понимая даже лучше жениха, во что выльется потеря этих денег, она не могла чувствовать ничего, кроме глухого отчаяния.
В это же время мистер Леннокс Мэйн испытывал сходные чувства, хоть и по другой причине. Получив телеграмму, «король наблюдателей» — вряд ли бывал на свете король более неряшливый, небритый и нервный — спешно вернулся на Манчестер-сквер; теперь замызганный «форд» с полным водителем ждали у дверей, а мистер Вилли Джинс ерзал на стуле и со всем терпением, какое у него нашлось, пытался выстоять под градом оскорблений своего нанимателя.
— Ты полный кретин, а я идиот, что решил нанять тебя, — бушевал Леннокс Мэйн. — Какой смысл шпионить за лошадьми, если тебя все видят?! Говорил же тебе: никому не говори, что ты связан со мной, олух чертов, — нет, тебе понадобилось открыть рот!
— Не было такого, — возмутился обвиняемый, — я никогда не болтаю. По-вашему, как бы я зарабатывал на жизнь, если бы…
— Нет, ты проболтался. Вот, послушай. — Леннокс схватил письмо со стола. — Это от моего дяди. Послушай, идиот ты чертов:
«Похоже, Вам недостаточно сказанного мной, и Вы нанимаете шпиона наблюдать за моими лошадьми. Передайте мистеру Вилли Джинсу вот что: если его еще раз увидят в моем поместье или где-то рядом, он получит порку, какой еще не видал…»
Последний абзац, в котором Стюарт Грейман высказывал свое мнение по поводу племянника, Леннокс опустил.
— Я и в мыслях не держал, что меня кто-то видел; когда я был на стене, вокруг было ни души… — пробормотал мистер Джинс. — Я честно заработал свои полсотни.
— От меня ты не получишь ни гроша, — отрезал Леннокс. — Я уже заплатил тебе все, что ты наработал, — выметайся, и больше чтоб я тебя не видел.
Вернувшись к брату, мистер Вилли Джинс пребывал в отнюдь не блестящем расположении духа.
— Куда теперь? — невозмутимо спросил толстяк.
Вилли назвал место, куда вело много маршрутов, а найти дорогу было легко; его старший брат, привычный к эмоциональным вспышкам младшего, отправился не по указанному адресу, а туда, куда они собирались с самого начала — в Эпсом. На въезде в Гайд-парк полицейский предостерегающе поднял было руку, завидев автомобиль-развалюху, но «форд» мистера Джинса подходил под определение «личная машина» согласно действующему законодательству, и братьям было позволено присоединиться к сверкающей череде машин, медленно въезжавших в парк.
Сама судьба заставила «форд» заглохнуть в десятке шагов от места, где сидели хмурые возлюбленные.
— Что за странное авто, — сказала девушка, — и разве это не тот человек, которого мы давеча видели, — ну тот, который следит за лошадьми?
— Да, он самый, — угрюмо подтвердил Джек, и вдруг вскинулся: интересно, он в курсе?
Он поднялся и подошел к шпиону; завидев Тревора, мрачный Вилли приподнял кепку.
— Добрый вечер, мистер Тревор.
— Куда вы направляетесь? — осведомился Джек.
— В Эпсом, посмотреть дерби. Большая часть лошадей уже там, кроме, — сморщился он, — кроме Ямыня.
— А его там почему нет? — спросил Джек, холодея; враждебность, с которой Джине отзывался о фаворите, наводила на худшие подозрения.
— Да потому что он не бежит сегодня, вот почему, — зло бросил он.
— Не бежит? То есть как это? — медленно переспросил Джек.
— Он охромел, — сказал человечек. — Надеюсь, вы на него не ставили?
Джек механически кивнул.
— Пойдемте со мной, — убитым голосом сказал Тревор. — Марджори, у меня скверные новости, — с тяжелым вздохом выговорил он. — Джинс говорит, что Ямынь захромал.
— Все так, — кивнул шпион, — хром, как старый Джанкет. Это другой конь мистера Греймана. Вы наверняка помните, сэр: ну тот, который все время выигрывал кентер, а потом сбивал ноги на последней сотне ярдов.
— Я о лошадях мало знаю, — сказал Джек. — Расскажите мне о Ямыне. Давно он захромал?
— Да вот уже три дня как, — ответил человечек. — Я за ним неделю наблюдал. Он надорвался в конце галопа.
— Но знает ли мистер Грейман?
— Мистер Грейман? — фыркнул наблюдатель. — Еще бы ему не знать. Своему племяннику Ленноксу Мэйну он вот говорить не захотел, зато сказал я — и даже спасибо за это не получил.
— Когда вы сказали ему? — спросил Джек, стремительно бледнея.
— Так Леннокс Мэйн знал!
Джек был потрясен до глубины души.
— Этого просто не может быть! — Он покачал головой. — Леннокс бы никогда…
— Леннокс Мэйн и родную тетю бы продал, — презрительно скривился Вилли.
— Так это Леннокс убедил тебя поставить на эту лошадь? — спросила девушка.
Джек кивнул.
— Вы уверены, что Ямынь охромел?
— Клянусь. Я знаю Ямыня как свои пять пальцев, — решительно кивнул человечек. — Это единственная лошадь с четырьмя белыми чулками в конюшнях Болдока…
— Болдок! — Девушка вскочила на ноги, смотря на Джинса. — Вы сказали — Болдок?
— Именно так, мисс.
— Кто владеет этой усадьбой? — быстро спросила она. — Фамилия?
— Грейман.
— Какой он из себя?
— Старик лет шестидесяти, седой и жесткий, как гвоздь. Тот еще старый дьявол; готов поспорить, он слишком хитер даже для Леннокса Мэйна.
Она долго молчала после того, как Джинс пошел своей дорогой дальше, а потом внезапно спросила:
— Пригласишь меня на дерби, Джек?
— Боже правый! Вот уж не думал, что тебе захочется это видеть, — покачал он головой, — видеть крушение всех наших надежд.
— Так ты возьмешь меня туда, Джек? Мы можем нанять авто на день и посмотреть гонку с его крыши. Отвезешь меня туда?
От удивления он смог только кивнуть. До сих пор она не проявляла ни малейшего интереса к скачкам.
Похоже, какие-то сведения о проблемах гнедого фаворита все же просочились наружу, потому как утром гонки на Ямыня давали уже двадцать пять к одному, а утренняя пресса муссировала слухи о постигшей его неудаче.
«До нас дошли сведения, — писала «Спортинг-пост», — что с Ямынем, «темной лошадкой» мистера Греймана, не все в порядке. Возможно, неверным будет называть этого коня «темной лошадкой», поскольку он уже дважды принимал участие в скачках, но, пока имя Ямыня не появилось в списке участников, немногие могли предположить, что сын Мандарина и Эттабелль намеревается участвовать в соревнованиях такого уровня. Мы питаем глубокое уважение к хозяину лошади мистеру Стюарту Грейману и надеемся, что слухи преувеличены».
Марджори раньше не бывала на скачках и, наверное, была бы впечатлена и более скромным событием, но Эпсом стал настоящим откровением. Это были не столько скачки, сколько гигантский фестиваль и ярмарка. Толпа пугала девушку. Стоя на крыше автомобиля, она попыталась прикинуть число собравшихся. За пестрым скопищем народу не видно было травы на холмах; люди бесчисленной фалангой тянулись от одного края скакового круга до другого, занимали все места, окружали букмекеров и заполняли беговые дорожки между гонками. Оглушающий шум, беспрестанное движение, калейдоскоп цветов, палатки и афиши привлекали ее внимание больше, чем лошади.
— Публика только о Ямыне и говорит, — сказал Джек, вернувшийся с разведки. — Говорят, что Ямынь в скачке участвовать не будет. Газеты готовят нас к этому. Боюсь, дорогая, я показал себя невероятным глупцом.
Она перегнулась через край крыши и вложила что-то в его руку — листок бумаги, с удивлением понял Джек.
— Это что — кредитный билет? Ты собираешься сделать ставку?
Она кивнула.
— Я хочу, чтобы ты сделал ставку для меня.
— И на кого же?
— На Ямыня, — ответила девушка.
— На Ямыня! — недоверчиво повторил Джек и посмотрел на билет. Тот был на сотню фунтов. Юноша только беспомощно воззрился на невесту. — Не нужно этого делать, право же, не стоит.
— Я прошу тебя, — твердо сказала она.
Джек пробрался туда, где принимали ставки букмекеры из конторы Таттерсолла, и после окончания предварявшей дерби гонки нашел там своего знакомого. Когда юноша вернулся к невесте, ставки выросли еще.
— За эту сотню мы в случае выигрыша получим две тысячи, — сказал он, — но я еле заставил себя сделать ставку.
— Я бы очень разозлилась, не сделай ты этого, — ответила девушка.
— Но зачем… — начал было он и замолчал, когда на доске появились имена участвующих лошадей. — Ямынь участвует, — прошептал он.
Никто не знал этого лучше Марджори. Она видела бирюзовый камзол жокея на предварявшем скачки параде и заметила знаменитые белые чулки сына Мандарина, когда лошади выходили к старту. Ее рука, державшая бинокль, болела от напряжения, но она все смотрела на бирюзовый камзол, пока белая лента не взлетела вверх и две сотни тысяч голосов не закричали в унисон: «Стартуют!»
Бирюзовый камзол был третьим на подъеме, четвертым на ровном участке у поворота железной дороги, снова третьим на выходе на прямую после поворота с Таттенхем Корнер — а затем пронзительный голос ближайшего букмекера возвестил: «Ямынь победил!»
— Не знаю, с чего и начать, — сказала она тем вечером. Они ужинали вместе, но на сей раз у Марджори. — Все началось с месяц назад, когда пожилой джентльмен появился в парикмахерской и прошел к хозяину, мистеру Феннету. Они говорили минут десять, после чего послали за мной. Мистер Феннет сказал мне, что у этого господина особый заказ и что нужен эксперт в покраске волос. Я сначала думала, что речь идет о нем самом, и было даже жаль, что этому джентльмену захотелось избавиться от благородной седины. Только на следующей неделе я узнала, зачем в действительности потребовались мои услуги, когда за мной прислали машину и отвезли в Болдок. И вот тогда он рассказал мне суть дела. Он спросил, все ли необходимое для обесцвечивания и окраски у меня с собой, и, когда я ответила утвердительно, посвятил меня в тайну. Он сказал, что очень щепетильно относится к масти своих лошадей и что у него есть великолепный конь с белыми ногами — вот эти-то ноги ему и не нравились. Он хотел, чтобы я выкрасила ноги, и конь стал полностью гнедым. Конечно, сначала я рассмеялась — это звучало так забавно, — но он был совершенно серьезен, а потом меня познакомили с этим самым конем. Более странного клиента у меня еще не было, — улыбнулась она.
— И ты перекрасила лошадь?
Она кивнула.
— Но это было не все. Был еще один конь, чьи ноги нужно было обесцветить. Бедненький, теперь ему так и ходить с белыми чулками, разве что хозяин пожелает опять его перекрасить. Тогда я ничего не знала, но теперь знаю, что это конь по имени Джанкет. Каждые несколько дней я должна была ехать в Болдок, обновлять краску и повторять обесцвечивание. Мистер Грейман договорился с мистером Феннетом, что мой гонорар останется в тайне даже от фирмы, и, конечно, я ничего не сказала — даже тебе.
— Значит, когда я видел тебя в машине…
— Я ездила в Болдок красить и обесцвечивать моих очаровательных клиентов, — рассмеялась она. — Я совершенно не разбираюсь в скаковых лошадях и не имела ни малейшего представления, что конь, которого я красила — Ямынь. Пока Вилли Джинс не сказал «Болдок», я не знала, что конюшня имеет какое-то отношение к Дерби. Утром, после того как мы расстались, мне пришлось опять ехать в Болдок и удалять краску: мистер Грейман сказал, что передумал и снова хочет видеть коня с белыми чулками. Вот тогда я отважилась поговорить с ним и рассказала, в каком ты положении. Он рассказал мне всю правду и взял обещание хранить все в тайне. Он помирился с Ленноксом и все рассказал ему о Ямыне, но потом узнал, что Леннокс ему не верит и следит за лошадьми. Мистер Грейман настолько разозлился из-за этого, что решил пойти на обман — перекрасил лошадей и позволил шпиону увидеть, как охромел бедный Джанкет, — он знал, что тому не выдержать кентера. Он сказал мне, что поставил на Ямыня, и это принесет ему целое состояние.
— Так значит ты, единственная из всех собравшихся на Эпсом Даунс, точно знала, что Ямынь победит?
— А разве я не на него поставила? — с улыбкой спросила парикмахерша.
НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
Для старых мастеров, включая мастеров детективного жанра, как мы уже знаем, весьма характерна тяга и к фантастике, и к откровенной мистике. Но они умели и переосмыслить эту свою склонность. Для Викторианской и Поствикторианской эпохи (включая и синхронные ей пласты американской культуры) очень характерны «ложномистические» детективы. То есть такие, в которых общий ход сюжета сперва настраивал читателей на сверхъестественные объяснения — но в финале выясняется, что это «ложное решение», а на самом деле все обошлось без него.
Крайне любопытно проследить, как в такие игры играют и те, от кого, казалось бы, этого ждать совсем не приходится. Например, Эдгар По, который, хотя и считается одним из основателей классического детектива без всякой мистики, ничуть не меньше (даже больше!) прославлен произведениями по-настоящему мистическими, без всякой «ложности».
Примерно то же можно сказать и о Натаниэле Готорне, который был очень склонен выводить логику своих произведений за грань реальности, однако порой намеренно остается на этой грани, не делая последний шаг и позволяя читателю самому прийти к тем или иным выводам.
Что до Роберта Говарда, создателя знаменитого «Конана-Варвара» (и не только!), то для него, помимо абсолютно «черных» сюжетов, весьма типично, да простится нам этот каламбур, восхваление достоинств белой расы. Сейчас такое мог бы писать лишь крайне тенденциозный автор, но в ту пору представления о корректности не совпадали с нынешними. И тем более ценно увидеть, как говардовские сыщики, вопреки всему, оказываются способны проявить сочувствие и уважение к союзникам или достойным противникам вне зависимости от цвета их кожи. Да и на чувство долга этот цвет не влияет: недаром в рассказе «Оскал золота» великолепный образчик белого супермена готов рискнуть жизнью ради и темнокожей девушки, и китайской девочки.
А Роберт Эсташ (так на французский манер звучит его псевдоним: по-английски следовало бы произносить не «Эсташ», а «Юстас»), писавший отдельно от Эдгара Джепсона столь же часто, как и Джепсон отдельно от него, — это на самом деле Юстас Роберт Бартон, очень известный врач, а по совместительству и писатель. Совместимость врача и автора детективов мы видим на примере того же Конан Дойла. Но в отличие от своего знаменитого коллеги Роберт Эсташ мистицизмом если и интересовался, то лишь в плане разоблачения, проводя в своих детективах культ разума, перед которым отступают суеверия и мистика.
Эдгар Алан По ТЫ ЕСИ МУЖ СОТВОРИВЫЙ СИЕ!
Я намерен сейчас разыграть из себя Эдипа[52] и в этом качестве раскрыть секрет знаменитой «загадки Брякнисдуру».[53] Посему расскажу вам, — ибо это могу сделать я один, — суть того фокуса, который породил «загадку Брякнисдуру», точнее «чудо в Брякнисдуру»: то единственное, достоверное, всеми признанное, неоспариваемое и неоспоримое чудо, которое искоренило среди брякнисдурцев неверие и обратило к истинно ортодоксальной религиозности, ранее свойственной в основном старым дамам, практические умы средних горожан, прежде дерзавших впадать в скептицизм.
Это событие, — о котором негоже рассуждать легкомысленным тоном, — случилось летом 18… года. Мистер Барнабас Тудойсюдойс, один из самых богатых и уважаемых жителей Брякнисдуру, пропал из городка — и, что важно, при таких обстоятельствах, которые заставляли подозревать нечто в высшей степени недоброе. Он выехал верхом из Брякнисдуру в субботу, рано поутру, публично изъявив желание посетить соседний городок, милях в пятнадцать, и воротиться сегодня же: как говорится, ближе к ночи, но в тот же день.
Через два часа после отъезда лошадь его воротилась домой одна, без всадника и без седельных сумок, которые мистер Тудойсюдойс заведомо взял с собой в дорогу. Вдобавок несчастное животное было тяжело ранено и густо покрыто грязью. Все это, понятным образом, крайне встревожило всех друзей старого джентльмена, а когда он не воротился и в воскресенье, жители городка en masse[54] отправились на розыски, надеясь отыскать если не пропавшего, то хотя бы его труп.
Более всех и энергичнее всех хлопотал при этом закадычный друг исчезнувшего, мистер Чарльз Славни, известный в просторечии под кличкою «Славни Чарли» или даже «Славни старина Чарли». Не знаю и знать не хочу, вступает ли тут в силу изумительное совпадение, или же имена наши имеют незаметное влияние на наши человеческие свойства, но более чем несомненно: вряд ли существует на свете хоть один Чарльз, который не был бы открытым, честным, прямым, добродушным, чистосердечным малым, обладателем ясного, звучного, приятного тембра голоса, ласкающим всякий слух, а взгляд его столь же прямо и открыт, как он сам, причем в этом взгляде читается: «У меня чистая совесть, я никого не боюсь и не способен ни на что дурное». Не верите жизни — поверьте театральной сцене: там все положительные персонажи, относящиеся к категории «беззаботный джентльмен», всегда именуют не иначе как Чарльз.
В общем, хотя «Славни Чарли» появился в Брякнисдуру не более как за полгода до описываемых событий и никто ничего не знал о его прошлой жизни, ему не стоило никакого труда познакомиться с наиболее почетнейшими людьми города и завоевать их всеобщее расположение. Любой уважаемый брякнисдурец без колебаний доверил бы ему в долг тысячу и даже более долларов,[55] не требуя в качестве гарантии ничего, кроме честного слова; что же касается брякнисдурок, то они были готовы для него буквально на все, без каких-либо мыслимых исключений. Сами видите, какими привилегиями пользуется человек, получивший при крещении имя Чарльз — и, как следствие, прилагающуюся к имени располагающую внешность, которая повсеместно слывет лучшим эквивалентом рекомендательного письма.
Я говорил уже, что мистер Тудойсюдойс был одним из самых почтенных людей в Брякнисдуру — и, без всякого сомнения, просто самым богатым, без всяких «одним из»; ну а «Славни старина Чарли» находился с ним в отношениях самых дружеских, можно сказать, братских. Жили эти пожилые джентльмены по соседству и, хотя мистер Тудойсюдойс редко навещал мистера Славни, а уж трапезу не принимал в его доме вообще ни разу, это отнюдь не мешало их дружбе, потому что «старина Чарли» не пропускал и дня, чтобы не проведать своего приятеля три или четыре раза, причем зачастую оставался позавтракать, выпить чашку чая или даже пообедать; а уж подсчитать, сколько при этом выпивалось вина, было бы поистине трудно. Чарли особенно любил Шато Марго,[56] а мистер Тудойсюдойс, по всему было видно, больше всего любил смотреть, как друг его поглощает этот драгоценный напиток буквально квартами. И вот однажды, когда друзья уже более чем порядочно нагрузились, мистер Тудойсюдойс хлопнул «старину Чарли» по плечу и сказал:
— Клянусь, старина Чарли, что за всю свою жизни я не встречал лучшего малого, чем ты, дружище! И если уж, черти меня забери, это вино так тебе по душе, что на другие ты и смотреть не в силах, то быть по сему: получишь от меня в презент большой ящик Шато Марго… Не отнекивайся: как сказано, так и будет! И чтоб мне сгнить без погребения (мистер Тудойсюдойс, как видите, обладал дурной привычкой давать опрометчивые и богохульные клятвы, а на этот раз он вообще превзошел самого себя, ибо ранее редко заходил далее «чтоб мне провалиться», или уже известного нам «черти меня забери», или просто «да будь оно все проклято»), если я не напишу сегодня же вечером в город, чтобы мои поставщики выслали тебе двойной заказ этого вина, да причем самого лучшего урожая… В общем, знай: ты получишь его на днях, причем — сюрприз! — именно тогда, когда меньше всего будешь ожидать этого!
Я упоминаю о таком щедром намерении мистера Тудойсюдойса исключительно для еще одного доказательства сердечности отношений, существовавших между двумя друзьями, — ни для чего иного.
Итак, в то роковое воскресенье, утром которого стало уже полностью очевидным, что с мистером Тудойсюдойсом случилось какое-то несчастье, «старина Чарли», я видел это своими глазами, был потрясен более всех. Услышав, что лошадь воротилась домой без хозяина, без принадлежащих хозяину седельных сумок и вся залитая кровью из двух ран, оставленных пистолетной пулей (которая пробила бедному животному грудную клетку насквозь, хотя и не сразила его наповал), он, словно лишившись ближайшего любимого родственника, мгновенно побледнел как смерть и затрясся, точно в жесточайшей лихорадке.
Сначала, по-видимому, он был так подавлен горем, что был не в состоянии что-нибудь предпринять сам или дать сколько-то разумную рекомендацию другим; даже советовал прочим друзьям мистера Тудойсюдойса, рвавшимися на поиски, не спешить, а вместо этого повременить неделю-другую, а пожалуй, даже месяц-другой, в надежде, что обнаружатся какие-нибудь новые подробности, а может быть, и сам пропавший объявится собственной персоной, после чего объяснит самым естественным образом, куда он отправился и почему отослал свою лошадь обратно. Я полагаю, что всем из нас не раз доводилось замечать у людей, удрученных непомерно большим горем, этакую вот склонность к промедлению, к выжиданию чего-то, к надежде на чудо. Их разум как бы тупеет или, точнее, впадает в спячку, им претит всякая деятельность и вообще ничего не хочется, кроме как лежать в постели и «нянчиться со своею бедою» (как экспрессивно, но точно выражаются наши старшие представительницы прекрасного пола), то есть оставаться всецело погруженными в свою утрату. Брякнисдурцы были так проникнуты уважением к уму и жизненному опыту «старины Чарли», что большинство из них действительно пришли к выводу, дескать, сейчас и вправду лучше всего выждать, пока не, как сформулировал сей достойный джентльмен, «обнаружатся какие-нибудь новые подробности». На том, вполне вероятно, все и порешили бы, не вмешайся в дело племянник мистера Тудойсюдойса, молодой человек очень легкомысленного образа жизни, незавидной репутации, а вдобавок крайне вздорного характера. Этот неугомонный родственник (фамилия его, к вашему сведению, была О'Хламонн) и слышать не хотел об откладывании дела, но, наоборот, яростно отстаивал необходимость тотчас же отправляться на розыски «тела злодейски убитого дядюшки». Именно таково было его подлинное выражение, и мистер Славни тогда же метко заметил, что оно звучит «странно, чтобы не сказать более». Слова «старины Чарли» произвели большое впечатление на толпу, и один из присутствующих брякнисдурцев тотчас немедленно поинтересовался, каким же именно образом молодому мистеру О'Хламонну могли до такой степени оказаться известны все подробности исчезновения его богатого родственника, что он рискует так прямо и недвусмысленно называть своего дядю жертвой «злодейского убийства». Вслед за этим немедленно разгорелся достаточно напряженный спор и обмен резкими формулировками, отчасти между всеми присутствующими, но преимущественно между самим «стариной Чарли» и О'Хламонном, что, впрочем, не было новостью, потому что эти двое все последние три-четыре месяца крайне не ладили между собою; однажды дело дошло даже до того, что О'Хламонн послал «старину Чарли» в классический нокдаун за то, что тот якобы позволил себе слишком хозяйничать в их, то есть О'Хламонна и его дядюшки, доме. Говорят, что мистер Славни продемонстрировал в том случае удивительную сдержанность и христианское отношение к ближнему. Он поднялся с пола, оправил на себе одежду — и даже не попытался воздать молодому человеку тем же образом, которым только что получил от него сам. Правда, с его губ сорвались слова, что, мол, «придет время — и ты заплатишь за это сполна» — но и только; выражение, как сами понимаете, более чем естественное в пылу гнева, бесспорно, не значившее при тех обстоятельствах ничего особенного и, вне всяких сомнений, тотчас же забытое даже тем, кто его произнес.
Как бы там ни было, вопрос был в настоящую минуту не в этом (все согласны, что вышеупомянутый эпизод вовсе не имеет отношения к делу), а в настоятельных стремлениях племянника немедленно организовать поиски своего дяди, на что побуждаемые им жители городка в конце концов и решились. Уточним: это сперва они решились действовать именно так, как договорились было друг с другом и с О'Хламонном. Само собой разумеется, что это была не лучшая стратегия: виданное ли дело — разослать во все стороны небольшие самостоятельные партии, каждая из которых искала бы следы исчезнувшего самостоятельно, тем самым обеспечивая наиболее полный охват и прочесывание местности! Но, к счастью, «старина Чарли» сумел им доказать (не знаю уж теперь, каким путем, вся его блестящая аргументация как-то не сохранилась в моей памяти) всю губительную несообразность такого плана — по крайней мере, доказал это всем, кроме разве что лично О'Хламонна, — и было решено, что поиски, как можно более внимательные, пусть даже за счет отказа от быстроты, будут производиться именно en masse, причем под предводительством самого «старины Чарли».
Что касается этого, то вскоре горожане убедились в правильности своего выбора: лучшего предводителя, чем «старина Чарли», славящийся поистине рысьей зоркостью, им нельзя было и пожелать. Но, хотя он водил свой отряд по таким чащобам и таким потайным тропкам, о которых никто из коренных брякнисдурцев даже понятия не имел, хотя заглядывал во все лесные завалы, звериные логова и даже чуть ли не мышиные норы, — прошла целая неделя, а дело не подвинулось ни на шаг. Никакого следа пропавшего мистера Тудойсюдойса так и не отыскалось. Впрочем, фразу «никакого следа» не надо понимать буквально. Следы как раз существовали, и именно оставленные копытами лошади, принадлежавшей Тудойсюдойсу (ее подковы были помечены особым образом); видно было, что злосчастный старый джентльмен отъехал от Брякнисдуру мили на три по главной дороге, ведущей в соседний город. Затем следы сворачивали на тропинку, тянувшуюся через небольшой перелесок и позволявшую сократить путь на добрых полмили. По этим следам поисковая партия дошла до небольшого заболоченного озерка, полускрытого в густых зарослях куманики. Следы копыт здесь исчезали. Но, по-видимому, тут происходила какая-то борьба, после чего какое-то большое тело, много превышающее человеческое размерами и весом, было протащено от тропинки к этому озерку. Обыскали баграми весь водоем (он был неглубок), причем дважды, но не нашли ничего и в печали совсем уже собрались было идти назад, когда, должно быть, само провидение внушило мистеру Славни мысль спустить из этого озерца всю воду. Такое предложение было принято с единогласным и радостным одобрением, все поспешили поздравить «старину Чарли» за его мудрую изобретательность — и работа закипела. Поскольку многие брякнисдурцы, допуская возможность того, что им придется откапывать труп, прихватили с собой заступы, дело было завершено очень скоро и увенчалось полным успехом. Когда дно обнажилось еще даже не до конца, все увидели среди ила черный вельветовый камзол, который был тотчас же и почти всеми сразу опознан как принадлежавший мистеру О'Хламонну. Этот жилет оказался изорванным и испачканным кровью, однако многие из присутствовавших тотчас же припомнили, что видели его на молодом человеке именно в то утро, когда уехал и исчез мистер Тудойсюдойс; а другие горожане с той же уверенностью засвидетельствовали, что все оставшееся время того дня мистер О'Хламонн был уже в совершенно другом жилете. И, что даже важнее, среди собравшихся здесь брякнисдурцев не нашлось ни единого человека, который видел бы на мистере О'Хламонне этот самый жилет когда-либо после рокового дня.
Дело принимало для О'Хламонна худой оборот, причем возникшие против него подозрения тут же перешли почти что в уверенность, когда он страшно побледнел и абсолютно не нашелся, что ответить в оправдание на посыпавшиеся со всех сторон вопросы. Тотчас же те немногие лица, которые, несмотря на его разгульный образ жизни, еще знались с ним, поголовно отреклись от этой своей дружбы; более того, они даже громче, чем все его явные и давнишние недруги, стали требовать его немедленного взятия под стражу. Но тут-то и выказалось во всем своем блеске великодушие мистера Славни. Он горячо и красноречиво вступился за юношу, напирая несколько раз в своей речи на то, что лично он, Славни Чарльз, охотно прощает свою обиду этому молодому джентльмену, — «наследнику достойного мистера Тудойсюдойса», — обиду, нанесенную ему, Славни Чарльзу, «в необдуманном порыве гнева». Искренне и от всей души прощает — а посему вместо того, чтобы настаивать на подозрениях, которые, к сожалению, возникают против мистера О'Хламонна, будет стараться из всех сил, употребит все свое, пускай даже слишком слабое для этого случая, красноречие на то, чтобы… чтобы… э-э-э… по возможности смягчить, насколько позволяет ему, Славни Чарльзу, совесть и рассудок — да, хотя бы смягчить явственно зловещие для молодого человека обстоятельства этого чрезвычайно тяжелого дела…
Мистер Славни продолжал говорить в том же духе добрых полчаса, к большой чести своего сердца и ума; но всем известно, что пылкое и искреннее добросердечие часто бывает крайне неудачливо в своих намерениях; они вовлекают людей, яро усердствующих в чью-нибудь пользу, во всяческие contre-temps или, того хуже, mal aproposisms;[57] итак, даже при самых благих намерениях, такой защитник сплошь и рядом скорее вредит своему подзащитному, нежели выручает его из беды. Так и в данном случае, хотя «старина Чарли» буквально выложился в пользу подозреваемого лица и именно для этого, а вовсе не для того, возвыситься в глазах своих сограждан, произносил свою замечательную речь — каждое его слово попадало в прямо противоположную желаемой цель и только усиливало общие подозрения, доводя первоначальное недовольство толпы уже до подлинной ярости.
Одним из самых непростительных промахов оратора было наименование заподозренного «наследником достойного мистера Тудойсюдойса». До этой его обмолвки никто и не помышлял о таком мотиве. Помнили только, что года два тому назад старик грозил племяннику лишить его наследства (а других родных у Тудойсюдойса не было), и все жители Брякнисдуру были до того просты, что думали — это наверняка уже решенное дело! В результате лишь слова «старины Чарли» заставили их предположить, что угроза дяди так и могла остаться только словесной угрозой. И непосредственно из этой мысли вырос вопрос «cui bono?» — поистине губительный вопрос, усиливавший подозрения против молодого человека еще более, нежели находка его жилета.
В данном случае, исключительно ради пущей ясности (надеюсь, что читатели правильно меня поймут!), я вынужден на некоторое время отвлечься от повествования. Замечу, что простое и краткое латинское выражение «cui bono?» слишком часто, если не всегда, переводится и истолковывается неточно. «Cui bono» во всех душещипательных романах, — например, принадлежащих перу миссис Гор[58] (хотя бы роман «Сесил»), которая так любит приводить цитаты на всех языках, начиная с древнехалдейского и заканчивая языком индейцев племени чикасо (причем, когда ей не хватает собственной эрудиции, она руководствуется каталогами Бекфорда[59]) — так вот, во всех этих романах сенсаций, от Бульвера и Диккенса до Радиденегчтоугодно и Эйнсворта,[60] — во всех них эти два кратких латинских слова переводятся «ради какой цели?», что на самом деле выражается несколько иной формулой «quo bono»; между тем как точный перевод гласит «кому на пользу?». Это юридическая формулировка, применимая в случаях, подобных описываемому, то есть таких, в которых вероподобие личности убийцы совпадает с вероподобием выгоды, которую он может извлечь из совершенного преступления. В данном случае вопрос «cui bono?» самым недвусмысленным образом указывал на мистера О'Хламонна. Его дядя, ранее сделавший завещание в его пользу, был твердо намерен изменить свою волю, однако, как выяснилось, не привел в исполнение этого намерения. Если бы завещание было изменено, то единственным поводом к убийству представлялось бы мщение со стороны племянника; но и тут сдерживающим обстоятельством могла стать надежда вновь заслужить расположение дяди. Однако при наличии завещания и, одновременно, сохранявшейся угрозе, которая продолжала висеть над головой молодого человека, было ясно, что боязнь лишиться наследства действительно могла вовлечь его в ужасное преступление. Так после короткого совещания решили почтенные граждане Брякнисдуру — и пришли в единогласное восхищение от весомой основательности своего вывода.
На основании этого молодой О'Хламонн был тут же арестован, после чего все, для очистки совести еще немного продолжив поиски, под караулом повели его обратно в город. На обратном пути случилось еще нечто, дополнительно подтвердившее общие подозрения. Мистер Славни, который, во соблюдение так и не снятого с него статуса предводителя поисковой партии, продолжал идти впереди всех, вдруг сделал несколько быстрых шагов в сторону от тропинки, остановился и поднял из травы какой-то небольшой предмет. Быстро осмотрев его, он хотел уже спрятать найденное в карман своей куртки, но не проявил при этом должной ловкости, и движение его было замечено. В результате предмет на глазах у всех был извлечен из его кармана — и оказался ножом испанского образца, каковой нож сразу дюжина человек опознали как принадлежащий О'Хламонну. С этим не возникло проблем еще и потому, что на черенке был выгравирован его вензель. Но хуже всего, что лезвие ножа оказалось не только раскрыто, но и испачкано кровью!
Нечего и говорить, что это развеяло последние сомнения даже у тех, у кого они еще сохранялись. Так что сразу по прибытии в город О'Хламонн был немедленно доставлен в магистратуру, где предстал перед городским чиновником, исполнявшим роль следователя.
Положение молодого человека еще более ухудшилось после первого же допроса. Спрошенный о том, где он находился утром того дня, когда пропал мистер Тудойсюдойс, он ничтоже сумняшеся заявил, что был на охоте, причем с мощным нарезным ружьем, ибо охотился на оленей — и именно неподалеку от того озерка, в котором благодаря счастливой догадливости мистера Славни был найден его жилет.
При этих словах «старина Чарли» выступил впереди со слезами на глазах попросил, чтобы его тоже подвергли допросу. Он заявил, что рад бы промолчать, однако сознание своего долга — как перед Всевышним, так и перед ближними — не дозволяет ему долее скрывать ничего… До сих пор, продолжал он, искреннее расположение к юноше (несмотря на перенесенные от него оскорбления) заставляло его, Славни Чарльза, допускать, почти против воли, многочисленные натяжки, способные умалить подозрения, с такой силой возникавшие против мистера О'Хламонна, но теперь он, Славни Чарльз, не может более умалчивать ни о чем, он должен высказать все, даже если в результате его сердце разорвется от скорби!
Произнеся это, «старина Чарли» поведал всем, что накануне своего отъезда в соседний город почтенный мистер Тудойсюдойс в присутствии его, мистера Славни, объявил своему племяннику, что предпримет эту поездку, дабы поместить очень большую сумму в «Фермерский и промышленный банк», причем в дальнейшем разговоре подтвердил свою твердую решимость уничтожить прежнее завещание и не оставить молодому человеку ни шиллинга. Он (свидетель) теперь торжественно вопрошает у него (обвиняемого), так ли обстояло все на самом деле, и если да, то в точных ли подробностях, а если нет, то какие именно факты искажены? К большому удивлению присутствовавших О'Хламонн ответил, что дядя действительно говорил все это.
Тут магистрат счел своим долгом распорядиться насчет обыска в доме мистера Тудойсюдойса, а конкретно — в комнате, которую занимал там племянник; за чем и были отправлены двое констеблей. Почти незамедлительно те вернулись, принеся с собой обнаруженный там бумажник, известный всему городу: из красновато-коричневой кожи и запирающийся на небольшой замок с цепочкой из прочных стальных звеньев; дядюшка обвиняемого не расставался с ним уже много лет. Однако все ценные бумаги, что были в нем, исчезли бесследно: следователь только время зря потратил, убеждая юношу сознаться, куда он вложил (или хотя бы положил) похищенное. Мистер О'Хламонн, вопреки очевидности, продолжал разыгрывать полное неведение — даже когда констебли предъявили следствию обнаруженные ими между собственно кроватью и покрывающим ее тюфяком предметы: рубашку и шейный платок, принадлежащие несчастному племяннику и густо обагренные кровью его еще более несчастной жертвы.
Надо же было так случиться, чтобы именно в это время стало известно, что лошадь мистера Тудойсюдойса пала в своей конюшне вследствие полученной ею в тот злосчастный день раны, и мистер Славни тотчас же предложил произвести исследование post mortem,[61] сиречь вскрытие, целью какового был бы поиск поразившей бедное животное пули. Это было сделано и, лишний раз подтверждая вину подозреваемого, «старина Чарли», с особой тщательностью обследовав грудную клетку трупа лошади, обнаружил там пулю необычно большого калибра, которая совершенно точно подошла к нарезному охотничьему ружью О'Хламонна, между тем как для всего прочего огнестрельного оружия, находившегося в Брякнисдуру и окрестностях, она была слишком велика. Еще большим и, действительно, воистину завершающим доказательством стал обнаруженный на этой пуле след нарезки, угол которой в точности совпадал с тем, который диктовали пуле на две отливные формочки, которые О'Хламонн не отказывался признавать за свои.
После находки пули магистрат счел излишним опрашивать еще каких бы то ни было свидетелей, и дело О'Хламонн было тут же предназначено для передачи в суд, причем без права досудебного взятия на поруки, хотя мистер Славни горячо восставал против такой строгости и сам предлагал внести за подозреваемого какой угодно залог. Такое великодушие со стороны «Славни старины Чарли» вполне соответствовало его благородному, прямо-таки рыцарскому образу действий в этом деле, да и в продолжение всего его брякнисдурского этапа жизни. Впечатление отнюдь не умалялось тем фактом, что сей достойный джентльмен, обуреваемый искренним состраданием к молодому преступнику, несколько подзабыл даже о собственном состоянии финансов, ибо ведь у него, мистера Славни, не было ни малейшей возможности внести «какой угодно залог», если он превышал хотя бы один доллар!
Дело О'Хламонна было назначено к слушанию в ближайшую же сессию уголовного суда. Приговор было нетрудно предугадать заранее. Публика громко выражала свое негодование в адрес подсудимого, а новые доказательства, пусть косвенные, но подкрепленные обнародованием еще кое-каких эпизодов не в пользу обвиняемого (эпизодов, которые крайне щепетильная совесть мистера Славни не позволяла ему утаить), сплелись в столь прочную цепь и произвели столь гнетущее впечатление, что присяжные, даже не удаляясь для совещания, произнесли формулировку: «виновен в убийстве первой степени».[62] После чего был торжественно прочитан смертный приговор, и несчастного юношу отвели в тюрьму, где ему предстояло дожидаться исполнения неумолимой кары правосудия.
Но благородное поведение «старины Чарли» еще более возвысило его в глазах всех достойных брякнисдурцев и брякнисдурок. Отныне мистера Славни возлюбили в десять раз более прежнего; приглашения так и сыпались на него — и в результате, понятно, он, желая воздать добром за добро и вообще поддержать свое реноме, оказался вынужден отступить от обычно царившего в его доме режима крайней экономии (к каковому прежде вынуждала исключительная ограниченность средств) — и стал устраивать у себя регулярные reunions.[63] Эти собрания отличались большим оживлением, которое немного затуманивалось лишь при эпизодических воспоминаниях о роковой участи, вскорости ожидающей племянника того почтенного джентльмена, которого так оплакивал гостеприимный хозяин, до сих пор причисляющий покойного к сонму своих друзей.
Однажды достойный мистер Славни был приятно изумлен получением следующего письма:
Чарльзу Славни, эскв., Брякнисдуру.
От Г., С., X. и К°.
Шат. Мар. А. — № 1. — 6 дюж. бут. (1/2 гросса).
Чарльзу Славни, эсквайру.
Достопочтенный сэр!
Согласно заказу, полученному нами два месяца тому назад от нашего уважаемого клиента, м-ра Барнаби Тудойсюдойса, имеем честь выслать вам сего же утра по указанному адресу двойной ящик Шато Марго. Марка упаковки — «антилопа», цвет сургучной печати — сиреневый. Номер и маркировку ящика см. на полях.
Всегда к вашим услугам
Грюкк, Стукк, Хрюкк и К°.
Город: …
Дата: 21 июня 18…
P. S. Ящик будет доставлен вам грузовой повозкой на следующий день по получении вами сего извещения. Просим передать наше почтение м-ру Тудойсюдойсу.
Г., С., X. и К°.
Следует уточнить, что после смерти мистера Тудойсюдойса мистер Славни потерял всякую надежду на получение обещанного презента, и потому такой дар теперь был сочтен им за особую милость судьбы. Он был в столь полном восторге, что немедленно пригласил к себе на завтрашний petit souper[64] большое общество, чтобы воздать честь щедротам старого доброго Тудойсюдойса. Вы спросите, в каких фразах он описал присылку дара от «старого доброго Тудойсюдойса»? Не то чтобы в особенно цветистых… Собственно говоря, мистер Славни, рассылая свои приглашения, не упомянул о «старом добром Тудойсюдойсе» вовсе. Он счел за лучшее умолчать о том, что получал вино в подарок от покойного, а вместо этого просто созвал своих друзей отведать отличного Шато Марго, еще два месяца тому назад выписанного им самим из Европы через столицу штата — и вот наконец завтра этот заказ будет выполнен. Я, по правде говоря, не менее, чем вы, удивлен, отчего же все-таки «старина Чарли» не пожелал объявить, что вино подарено ему его покойным другом; причина этого умолчания для меня до сих пор остается не совсем понятна, хотя, несомненно, тому были очень веские и высокие в моральном смысле причины.
Итак, завтрашний день наступил, и в доме мистера Славни собралось большое и вместе с тем по-настоящему избранное общество. Право слово, к «старине Чарли» явилось чуть не полгородка, то есть, по вашему выбору, в полном составе либо Брякни, либо Сдуру. В числе гостей был и я. К великой досаде хозяина, ящик с Шато Марго был доставлен много позже, чем ожидалось, так что приглашенные уже воздали должное великолепному ужину, предложенному им мистером Славни, и даже успели порядочно осоловеть, поскольку ужин этот включал спиртное, пускай и менее изысканного сорта. Но вот наконец ящик все же прибыл — чудовищно громадный ящик, говоря по чести, — и так как все гости были в самом веселом расположении духа, то nem. con.[65] было решено, что его следует водрузить на стол и вскрыть тотчас же.
Сказано — сделано. Я тоже оказался среди тех, чьими стараниями ящик был установлен среди бутылок и бокалов, из которых многие при этом весьма пострадали, но это уже не могло никого остановить. «Старина Чарли», осоловевший более многих, с совершенно побагровевшим лицом уселся во главе стола, приняв вид комического достоинства и в шутливой ярости принялся неистово стучать по столешнице графином, призывая общество «сохранять спокойствие вплоть до того мига, как сокровище будет извлечено из своей гробницы». Ему пришлось повторить это несколько раз повышенно громогласным голосом — и, как часто происходит в подобных случаях, когда тишина вдруг наступила, она оказалась поистине мертвой. Меня попросили снять крышку, на что я согласился, как говорится, «с величайшей готовностью и искренним удовольствием». Я запустил в щель стамеску, несколько раз, причем совсем не сильно, ударил по ней молотком — и крышка немедленно отлетела. Но в тот же миг из-под нее поднялось, перейдя из лежачего в сидячее положение, тело убитого мистера Тудойсюдойса: страшное, покрытое трупными пятнами и запекшейся кровью, уже наполовину разложившееся. Труп, словно погруженный в глубокую скорбь, несколько мгновений смотрел своими тусклыми, ввалившимися, тронутыми тлением глазами в лицо сидевшего прямо напротив него мистера Славни, а затем зловещим шепотом, медленно, но раздельно и совершенно ясно проговорил: «Ты еси муж сотворивый сие!»,[66] после чего, перегнувшись или, вернее сказать, переломившись в груди, завалился набок, с грохотом уронив руки на праздничный стол, — как видно, полностью довольный содеянным.
Невозможно описать последовавшую за тем сцену. Некоторые из гостей в паническом страхе кинулись прочь через двери и окна, не заботясь о том, открыты ли они; многие же буквально попадали в обморок, причем особый пример тут показали самые, казалось бы, здоровые и крепкие мужчины. Но после того как первый, неудержимый пароксизм ужаса миновал, те, кто еще оставался в комнате, все как один обратили взгляды на мистера Славни. Если мне доведется прожить еще хоть тысячу лет, то и тогда не забуду выражения той смертельной муки, которая проступила на его бледном, как кость, лице, всего за минуту перед тем красном от вина и радостного воодушевления. Он просидел несколько мгновений неподвижно, как мраморная статуя; взгляд его, совершенно безжизненный, казался обращенным внутрь, в самую глубь его души, ничтожной, жалкой души убийцы. Потом вдруг этот взгляд словно бы вновь ожил для внешнего мира, и «старина Чарли», вскочив с своего места, повалился головой и руками вперед, прямо на стол, почти соприкасаясь с трупом — и из его уст полилась покаянная исповедь в преступлении, том самом преступлении, за которое был присужден к смерти молодой О'Хламонн.
Сущность его исповеди заключалась в следующем: он проследовал верхом за своею жертвой до самого озерца, там выстрелил в лошадь Тудойсюдойса, а самому мистеру Тудойсюдойсу нанес смертельный удар по голове тяжелой рукоятью своего пистолета; обчистил карманы мертвеца; потом, считая лошадь убитой, с большим трудом отволок ее тушу в колючие заросли куманики, взвалил труп Тудойсюдойса к себе на седло и отвез его далее в чащу леса, где и спрятал тщательно. Жилет, нож, бумажник и пуля были подброшены им самим туда, где они были найдены, чтобы отмстить О'Хламонну. Рубашка и шейный платок, густо испятнанные красным, тоже были подброшены им.
К концу этого страшного рассказа речь преступника, в последние минуты и так несвязная, стала звучать все глуше. Произнеся заключительное слово признания, он поднялся, сделал шаг прочь от стола и упал — мертвым…
* * *
Способ, которым было исторгнуто это вынужденное признание, столь же прост, сколь и эффектен. Слишком откровенные (пускай и под маской простодушной чистосердечности) показания мистера Славни с самого начала не нравились мне настолько, что возбудили по-настоящему серьезные подозрения. О'Хламонн сбил его с ног в моем присутствии, и от меня не укрылось выражение запредельной, поистине сатанинской злобы, промелькнувшее на лице «старины Чарли», пускай он сам и успел убрать его буквально через мгновение. Накал этой злобы был таков, что вселил в меня полную уверенность: обиженный исполнит свое обещание отплатить оскорбителю, как бы мимолетно оно ни прозвучало. Так что после этого я оценивал все поступки «Славни старины Чарли» совершенно с другой точки зрения, нежели почтенные граждане Брякнисдуру. Минимально непредвзятому наблюдателю легко было увидеть, что все отягчающие обвинение свидетельства, прямые или косвенные, исходили единственно от самого мистера Славни. А уж окончательно открыла мне глаза пуля, найденная им в трупе лошади. Жители Брякнисдуру успели забыть, что в груди животного имелись две раны: одна, через которую пуля вошла, и другая, через которую она вышла, пробив тело насквозь; но я-то не был коренным брякнисдурцем и забывать этого не собирался! А поскольку эта пуля все-таки отыскалась во время вскрытия, то, очевидно, она была подложена туда именно тем, кто якобы нашел ее. Запятнанные кровью рубашка и шейный платок лишь подтвердили и закрепили мои подозрения, потому что, при по-настоящему внимательном рассмотрении, пятна оказались оставленными не кровью, а красным вином: судя по всему, кларетом. При таких обстоятельствах, да еще при учете того, сколь неожиданно мистер Славни преобразился в гораздо более щедрого и гостеприимного человека, чем недавно мог себе позволить, — я начал сильно подозревать в убийстве его самого. И это мое подозрение не стало слабее от того, что я его никому не сообщил.
Итак, я стал втайне от всех разыскивать труп мистера Тудойсюдойса, направляя свои поиски, совершенно понятным образом, в места, диаметрально противоположные тем, по которым водил всех мистер Славни. В конце концов через несколько дней я наткнулся на русло пересохшего, почти заросшего колючим кустарником ручейка, в котором и нашел то, что искал.
Между тем я тоже слышал разговор между двумя закадычными друзьями, в ходе которого мистер Тудойсюдойс пообещал (а точнее, его коварный приятель ухитрился выманить такое обещание) мистеру Славни в подарок партию Шато Марго. Это и подсказало мне способ дальнейших действий. Добыв крепкую и гибкую полосу китового уса, я пропустил ее через горло покойника вглубь его пищевода, уложил тело в старый ящик из-под вина — и с силой пригнул верхнюю часть трупа вперед, при чем, разумеется, сгибался и китовый ус; заколотить крышку, придерживая тело в таком положении, стоило мне, конечно, большого труда, но зато я был уверен, что лишь только будут вынуты гвозди с нужной стороны, как крышка тотчас же отлетит и труп в то же мгновение выпрямится. Наладив все, я сделал на ящике уже известную вам маркировку — и отправил мистеру Славни извещение о посылке от лица виноторговой фирмы, с которой имел дело Тудойсюдойс. Мой слуга должен был по условленному знаку подвезти ящик к порогу мистера Славни. В отношении слов, которые должен был произнести труп, я целиком и полностью полагался на свои навыки чревовещателя; также я рассчитывал, что эффект окажется достаточным для того, чтобы пробудить остатки совести убийцы.
Полагаю, что объяснять более нечего. Мистер О'Хламонн был тотчас же освобожден из узилища, унаследовал все состояние покойного дядюшки, принял к сведению горький опыт, начал жизнь, как говорится, с чистого листа — и в этой новой жизни все у него сложилось более чем удачно.
Натаниэль Готорн ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ СВЯЩЕННИКА
Пономарь стоял на крыльце Милфордского молитвенного дома, усердно дергая за веревку колокола. Деревенские старики, сутулясь, брели по улице. Румяные детишки весело вышагивали рядом с родителями или шествовали нарочито важно, осознавая, что их воскресные наряды требуют вести себя с особым достоинством. Принаряженные холостяки искоса поглядывали на хорошеньких девиц, и им казалось, что в субботнее утро те выглядят намного прелестнее, чем в будни. Когда большинство народа просочилось в двери, пономарь принялся посматривать на двери дома преподобного мистера Хупера. Выход священника был для него сигналом к прекращению звона. И вот пастор вышел — и пономарь вскричал в изумлении:
— А что это у нашего доброго пастыря Хупера с лицом?
Все, кто услышал этот возглас, тотчас обернулись и узрели знакомую фигуру: это несомненно был Хупер, который неспешным шагом, в задумчивости, приближался к дому собраний. И все они разом вздрогнули, удивившись сильнее, чем если бы вдруг некий неизвестный священник явился вытряхнуть пыль из подушек на кафедре мистера Хупера.
— Вы уверены, что это — наш пастор? — робко спросил у пономаря Гудмен Грей.
— Да, разумеется, это добрый наш мистер Хупер, — ответил пономарь. — Его должен был сменить пастор Шатт, из Уэстбери, но он вчера прислал записку с извинением, что не сможет быть, — ему нужно провести погребальную службу.
Стороннему наблюдателю столь сильное удивление показалось бы, пожалуй, необоснованным. Хупер, хорошо воспитанный джентльмен около тридцати лет от роду, хотя все еще не женатый, был одет с приличествующей духовной особе опрятностью, как будто заботливая жена накрахмалила ему воротничок и выбила скопившуюся за неделю пыль из складок его воскресного костюма. Лишь одна деталь нарушала привычный облик Хупера. Вокруг лба его была повязана и свисала на лицо черная вуаль. Складки ее спускались так низко, что колебались от его дыхания. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вуаль состоит из сложенного вдвое полотнища крепа, которое полностью скрывало черты лица пастора, за исключением рта и подбородка, но, по-видимому, не мешало видеть — хотя все предметы, как одушевленные, так и неодушевленные, должно быть, казались ему затемненными. Окутанный этим мрачным покровом, добрый мистер Хупер продвигался вперед тихо и медленно, слегка сгорбившись и глядя себе под ноги, как свойственно людям, погруженным в размышления. Впрочем, это не помешало ему приветствовать кивком головы тех прихожан, которые все еще стояли на ступенях крыльца. Однако они были так потрясены этим зрелищем, что позабыли ответить.
— Право слово, мне чудится, будто под вуалью у нашего доброго пастора нет лица, — пробормотал пономарь.
— Не нравится мне это, — откликнулась одна из старух, споткнувшись на пороге здания. — Он всего лишь спрятал свое лицо, а сделался каким-то чудовищем!
— Пастор сошел с ума! — воскликнул Гудмен Грей, переступив порог следом за ним.
Таинственное явление уже обсуждали шепотом в зале, когда Хупер вошел. Собравшиеся волновались. Мало кто смог удержаться от того, чтобы не повернуть голову к двери; многие повскакивали, а несколько мальчиков вскарабкались на скамьи и спрыгнули обратно на пол с ужасным шумом. Поднялся общий ропот, шуршали юбки женщин, шаркали башмаки мужчин, не было той почтительной тишины, с которой надлежит встречать духовного наставника. Тем не менее Хупер, казалось, и не заметил смятения, охватившего паству. Он вошел почти бесшумно и двинулся по проходу между скамьями, склоняя голову направо и налево. Дойдя до старейшего из прихожан, седоволосого прадедушки, которому было отведено особое кресло посредине прохода, Хупер низко поклонился. Странно было видеть, как медленно доходило изменение во внешности пастора до этого почтенного старца. Он осознал причину волнения окружающих, по-видимому, лишь когда Хупер, взойдя по ступенькам, занял свое место на кафедре, лицом к лицу с людьми — если не считать черной вуали. Это таинственное покрывало так и не было снято. Оно мерно колыхалось от дыхания пастора, когда тот выпевал псалом; оно затемняло страницы священной книги, когда он читал из Писания, а когда, вскинув голову, приступил к молитве, складки ткани плотно легли на его лицо. Неужели он хотел таким образом укрыться от того страшного создания, о коем говорил?
Этот простой кусок крепа так сильно действовал на нервы, что нескольким наиболее чувствительным женщинам пришлось покинуть дом молитвы. Хотя, возможно, священнику было столь же страшно смотреть на бледные лица паствы, как им — на его черную вуаль.
Мистер Хупер пользовался репутацией хорошего проповедника; но он был не из тех, кто мечет громы и молнии. Он предпочитал обращать своих подопечных к небесам мягкими, убедительными словами, а не загонять их туда бичом слова Божьего. Проповедь, произнесенная им в тот раз, по стилю и манере речи ничем не отличалась от всего, что он прежде произносил с кафедры. И все же было нечто такое то ли в чувстве, пронизывавшем его речь, то ли в воображении слушателей, отчего проповедь оказала намного более глубокое впечатление на слушателей, чем все ранее исходившее из уст пастора. В ней сквозила, сильнее, чем обычно, тихая меланхолия, свойственная темпераменту Хупера. Темой он избрал скрытые грехи, те печальные тайны, которыми мы не делимся даже с теми, кто дороже всех нашему сердцу. Мы всегда готовы спрятать их и от собственной совести, забывая, что Всеведущий разглядит их. Слова пастора были тихи, но обладали пронзительной силой. Каждый из собравшихся, будь то невинная девушка или ожесточенный жизнью мужчина, чувствовал, что проповедник словно прокрался к ним в душу под прикрытием своей жуткой вуали и там обнаружил залежи греховности в делах или мыслях. Многие прижимали стиснутые руки к груди. В том, что говорил Хупер, не было ничего ужасного, во всяком случае угрожающего; и все же, когда в его печальном голосе слышалась дрожь, слушатели содрогались. Благоговейному страху сопутствовало непривычное воодушевление. Люди так остро воспринимали перемену, случившуюся с их пастырем, что порадовались бы неожиданному порыву ветра, который мог приподнять завесу, — и они не удивились бы, увидев под ней лицо незнакомца, хотя очертания фигуры, жесты и голос несомненно принадлежали Хуперу.
По окончании службы люди заторопились к выходу с неприличной поспешностью. Им не терпелось поделиться долго сдерживаемыми чувствами; к тому же, как только черная вуаль перестала маячить у них перед глазами, им сразу становилось легче. Одни собрались в тесные кружки, сблизив головы и тихонько перешептываясь; другие поодиночке расходились по домам, молча, в задумчивости. Кое-кто громко судачил и осквернял день субботний нарочито громким смехом. Находились и умники, которые покачивали головами, намекая, что уже проникли в тайну. Одному или двум решительно казалось, что никакой тайны тут нет: просто мистер Хупер слишком много читает по ночам при свечах, и у него наконец заболели глаза. Вскоре после того, как паства покинула дом собраний, следом вышел и пастырь. Обращаясь своим закутанным лицом то к одной кучке народу, то к другой, Хупер оказал надлежащий почет седоголовым, приветствовал людей зрелого возраста достойно и доброжелательно, как пристало другу и духовному руководителю; молодежи он давал почувствовать и свою строгость, и доброту. Малым детям он возлагал руки на головы, благословляя их. Он всегда так поступал по субботним дням; но сегодня ответом на его учтивость были только недоуменные и испуганные взгляды. Никто, в отличие от прежних дней, не оспаривал честь проводить пастора до дома. Старый сквайр Сондерс, видимо, по слабости памяти забыл пригласить Хупера к своему столу, чтобы добрый священник благословил пищу. А между тем это приглашение неукоснительно поступало почти каждое воскресенье с того дня, как Хупер здесь появился.
Итак, он сразу возвратился к себе домой, и люди, издали следившие за ним, видели, как он оглянулся, прежде чем закрыть за собою дверь. По губам его из-под черной вуали, как мгновенная вспышка света, промелькнула печальная улыбка, и он скрылся в доме.
— До чего странно, — сказала супруга доктора, — ведь это обычная черная вуаль, многие женщины носят такую на шляпках. А на лице мистера Хупера она выглядит просто ужасно!
— Надо полагать, у Хупера не все в порядке с рассудком, — заметил ее муж, единственный врач в селении. — Однако страннее всего тот эффект, который производит эта причуда, даже на такого трезвомыслящего человека, как я. Закрывая только верхнюю часть лица пастора, вуаль воздействует на всю его фигуру и придает ему сходство с призраком с головы до ног. Разве ты этого не чувствуешь?
— Весьма даже чувствую, — ответствовала леди, — и я бы не согласилась остаться с ним наедине ни за какие сокровища мира. Не удивлюсь, если он забоится оставаться наедине сам с собой!
— С людьми такое иногда случается, — отозвался доктор.
К полуденной службе обстоятельства не изменились. После нее должно было состояться погребение недавно умершей молодой леди, о чем и возвестил колокол. Родные и друзья собрались в доме, просто знакомые столпились у входа, толкуя о добродетелях покойной, но всякие разговоры смолкли, когда появился Хупер, по-прежнему под черной вуалью. В данном случае эта эмблема печали была вполне уместна. Священник вошел в помещение, где положили тело, и склонился над гробом, чтобы проститься со своей прихожанкой, оставившей сей мир. Когда он наклонился, вуаль свесилась вниз с его лица, так что несчастная девушка, не будь глаза ее сомкнуты навеки, могла бы увидеть его лицо. И Хупер поспешно подхватил вуаль и поправил ее складки. Неужели он и впрямь испугался взгляда покойницы? Одна из присутствовавших при этой встрече живого с мертвой не постеснялась утверждать, будто бы в момент, когда черты пастора открылись, тело едва заметно содрогнулось, отчего сместились складки савана и оборки муслинового чепца, хотя лицо сохраняло мертвенное спокойствие. Правда, свидетельницей сего чуда оказалась лишь одна суеверная старушка. От гроба Хупер перешел в комнату, где собрались скорбящие родные, а затем вышел на площадку лестницы, чтобы произнести прощальную речь. Она была нежной, трогательной, печальной — и все же столько в ней было надежды на небесное блаженство, что даже самым скорбным звукам его голоса словно вторили нежные переливы арф, поющих под пальцами мертвых. Слушающих охватила дрожь, хотя они лишь смутно улавливали смысл его призыва; он же молился о том, чтобы они, да и он сам, и весь род людской, были готовы, как, по его убеждению, была готова эта юная дева, к тому суровому часу, когда сорваны будут покровы с их лиц. Затем явились носильщики, поднатужившись, взялись за гроб, и процессия потянулась следом за покойницей, наводя печаль на всю улицу, а мистер Хупер под своей черной вуалью шел позади всех.
— Почему ты все время оглядываешься? — спросил один из участников процессии свою спутницу.
— Мне почудилось, — ответила та, — что наш пастор идет рука об руку с духом девушки.
— И мне тоже, в ту же минуту, — признался другой.
А вечером того же дня состоялась свадьба самой красивой пары во всем Милфорде. Несмотря на природную склонность к меланхолии, Хупер в подобных случаях проявлял мирную веселость, глядя на праздничные утехи с понимающей улыбкой. Ликование более бурное он бы отверг. Именно это его качество привлекало людей больше всего. Гости, сошедшиеся на свадьбу, ожидали прибытия пастора с нетерпением, надеясь, что непонятный страх, внушаемый им в течение дня, теперь развеется. Увы, надежда не сбылась. Первое, что бросилось всем в глаза, как только мистер Хупер вошел, была все та же жуткая черная вуаль, которая добавляла траура похоронам, но на свадьбе смотрелась как зловещее предзнаменование. Гостям сразу же показалось, что из-под черного крепа выплыло облако мглы и затмило сияние свечей. Брачующиеся подошли к священнику. Но пальцы невесты, лежавшие в дрожащей ладони жениха, были холодны, а личико мертвенно бледно. За ее спиною зашептались о том, что девушка, похороненная несколькими часами ранее, восстала из гроба, чтобы обвенчаться. Вряд ли бывало другое венчание столь же унылое, как в тот памятный вечер, когда звон колокола возвестил о совершении брака. По окончании обряда Хупер поднял бокал вина, желая счастья молодым в том духе приятной шутливости, который должен был прояснить лица гостей, как веселые отблески огня, разведенного в камине. Но когда пастор поднес бокал к губам, черная вуаль отразилась в стекле, и, увидев, как это выглядит, он проникся тем же ужасом, который испытывали все окружающие. Он содрогнулся всем телом, губы его побелели, нетронутое вино пролилось на ковер.
Хупер бросился вон из дома, во тьму. Ибо Ночь уже накинула на землю свою черную вуаль.
На следующий день по всему Милфорду не судачили ни о чем, кроме черной вуали пастора Хупера. Этот предмет, а также тайна, которую он скрывал, обеспечил тему для всестороннего обсуждения приятелям, встретившимся на улице, и кумушкам, выглядывающим из окон. Трактирщик преподносил эту историю посетителям как главную новость дня. Дети болтали о ней по дороге в школу. Один изобретательный чертенок вздумал закрыть лицо старым черным платком, чтобы напугать однокашников, но при этом и сам перепугался до полусмерти от собственной шалости.
Примечательно, что ни один из хлопотунов и записных нахалов прихода не осмелился прямо спросить у Хупера, зачем он так себя ведет. До сих пор у него не было недостатка в советчиках по малейшему поводу, и обычно он прислушивался к их мнениям. Он вряд ли ошибался в своих суждениях, но обладал настолько острым недоверием к себе самому, что даже самая легкая критика заставляла его видеть в рядовом проступке преступление. Прихожанам эта его простительная слабость была отлично известна. И все же ни единому человеку в округе не пришло в голову сделать пастору дружеское внушение по поводу черной вуали. Всех останавливал страх — его не выражали открыто, но и скрыть полностью не могли, а потому каждый перекладывал ответственность на другого, пока наконец не надумали направить к мистеру Хуперу делегацию духовенства, чтобы поговорили с ним об этой тайне, прежде чем та переросла в скандал.
Однако посольство потерпело сокрушительную неудачу. Священник принял коллег вежливо, по-дружески, но когда все расселись, он умолк, переложив на плечи посетителей бремя начала тяжелого разговора. Причина визита ясна была и без объяснений. Черная вуаль все еще обвивала лоб Хупера и скрывала все черты, кроме его мягких губ. Изредка можно было заметить, как они складывались в слабую меланхолическую улыбку. Однако присутствующие могли бы утверждать, что этот лоскут крепа заслоняет от них сердце несчастного, являя собою символ той устрашающей тайны, что отделила его от людей. Если бы он сбросил вуаль, с ним заговорили бы прямо. Иначе не получалось. Посему они просидели долгое время в смятении душевном, безмолвствуя и пытаясь уклониться от пристального взгляда Хупера, который они ощущали, хотя видеть не могли. В конце концов удрученная делегация удалилась ни с чем и, вернувшись к своим избирателям, объявила, что дело слишком сложное, разобраться в нем мог бы разве что совет представителей многих церквей, а то и всеобщий синод созвать потребуется.
Во всем селении лишь одна особа не поддалась тому жуткому чувству, которое черная вуаль наводила на остальных жителей. Когда церковники вернулись, не добыв никакого объяснения, и не осмелились даже потребовать его, эта особа со всем свойственным ей тихим упорством решила разогнать то темное облако, что сгущалось вокруг мистера Хупера, час от часу становясь все мрачнее.
Ее звали Элизабет; она была помолвлена с пастором, готовилась вскоре стать его женой и потому считала себя вправе узнать, что скрывает черная вуаль. Как только пастор пришел навестить ее, она приступила к разговору просто и прямо, что облегчило ситуацию для них обоих. Усадив гостя в кресло, она села напротив и пристально рассмотрела пресловутую вуаль, но не увидела ничего такого, что могло бы навеять тот жуткий мрак, который столь сильно пугал толпу; это была всего лишь сложенная вдвое полоска крепа, свисающая со лба на щеки, — она позволяла видеть рот Хупера и слегка колыхалась от его дыхания.
— Нет, — громко сказала она и улыбнулась, — ничего нет ужасного в этом куске крепа, хотя он и скрывает лицо, на которое я всегда смотрю с удовольствием. Давайте же, мой добрый друг, разгоним тучи и вернем солнце на небо. Сперва снимите эту вашу вуаль, а потом поведайте мне, зачем вы ее надели.
Хупер слабо улыбнулся.
— Настанет однажды час, — сказал он, — когда всем нам придется сбросить вуали. Я прошу вас не сердиться, мой милый друг, если я буду носить этот покров из крепа до того момента.
— Ваши слова также таинственны, — ответствовала юная леди. — Снимите покров хотя бы с них, по меньшей мере.
— Я постараюсь, Элизабет, — сказал он, — насколько это допускает данный мною обет. Знайте же, что эта вуаль есть знак и символ, и я обязан носить ее вечно, на свету и в темноте, в одиночестве и пред лицом толпы, при незнакомцах и при близких друзьях. Ни единому смертному не дозволено увидеть меня без вуали. Эта мрачная завеса должна отделить меня от мира. Даже вы, Элизабет, никогда не заглянете за нее!
— Какое же несчастье так удручило вас, — серьезно спросила девушка, — что вы решили навеки затмить таким способом свой взор?
— Все знают, что это знак траура, — ответил Хупер, — а у меня, как, полагаю, у большинства смертных, есть достаточно причин для скорби, чтобы обозначить их черной вуалью.
— А если мир не поверит, что это есть выражение общей, невинной скорби? — не отступала Элизабет. — Вас любят и уважают, но люди не могут не подумать, что вы прячете лицо из-за какого-то тайного греха. Шепчутся уже. Ради святости вашего сана, прошу вас, устраните повод для скандала!
Щеки ее заалели, когда она намекнула на характер слухов, которые уже широко разошлись по селению. Но обычная мягкость не оставила Хупера. Он даже улыбнулся еще раз — той самой улыбкой, которая всегда казалась светлым бликом, отблеском света, мерцающего из-под вуали.
— Если я испытываю скорбь, это уже достаточная причина, — просто ответил он. — Но если я тем самым скрываю тайный грех, кому из смертных не потребовалось бы сделать то же самое?
И дальше он продолжал с тихим, но непреодолимым упорством сопротивляться ее уговорам. Наконец Элизабет умолкла и задумалась. Возможно, она изыскивала новые способы, чтобы избавить своего суженого от столь мрачной фантазии, каковая, если у нее не имелось иного смысла, могла быть признаком душевного заболевания. Характер у девушки был потверже, чем у Хупера, и все-таки слезы покатились по ее лицу. Но через мгновение новое чувство вытеснило печаль из сердца Элизабет; черный покров притянул ее взгляд, и будто сумерки внезапно окутали девушку: она ощутила наконец ужас, навеваемый вуалью. Она вскочила и, дрожа, приблизилась к пастору.
— А-а, теперь и вас проняло, верно? — удрученно сказал он.
Она не ответила, но прикрыла глаза ладонью и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Он бросился к ней и схватил за руку.
— Будьте терпеливы со мною, Элизабет! — отчаянно вскричал он. — Не покидайте меня, хотя эта вуаль и должна остаться между нами, пока мы пребываем в земной юдоли. Будьте со моею, и там, в иной жизни, не будет никакого покрова на лице моем, никакой тьмы между нашими душами! Эта вуаль — лишь для бренного мира, не для вечности! О! Вы не знаете, как я одинок и как мне страшно пребывать в одиночестве под моей черной вуалью. Не покидайте меня навсегда в этой тьме отверженности!
— Поднимите вуаль хотя бы единожды и посмотрите мне в лицо, — сказала она.
— Ни за что! Это невозможно! — ответил Хупер.
— Тогда прощайте! — сказала Элизабет.
Она высвободила свою руку из его пальцев и медленно пошла прочь; у двери она остановилась, чтобы еще раз взглянуть на него, и содрогнулась, почувствовав, что почти проникла в тайну черной вуали. Хупер страдал; но даже и в тот момент он улыбнулся, подумав, что лишь вещественная преграда отделила его от счастья, хотя те ужасы, которые она скрывала, погрузили бы во тьму и самую нежную любовь.
С тех пор никто больше не пытался снять с мистера Хупера вуаль или напрямую добиться правды о той тайне, которую она, по общему мнению, скрывала. Люди, претендовавшие на то, что стоят выше простонародных предрассудков, считали вуаль эксцентрической причудой, какие зачастую позволяют себе в целом разумные, рассудительные личности, что делает их лишь внешне похожими на безумцев. Но в глазах толпы Хупер необратимо сделался пугалом, букой. Ему не удавалось пройти спокойно по улице, ибо не мог он не замечать, как добрые и робкие сворачивают в сторону, чтобы не столкнуться с ним, а другие выхваляются тем, как смело пошли ему навстречу. Подобные дерзкие выходки вынудили пастора отказаться от привычки прогуливаться на закате дня по кладбищу. Стоило ему только в задумчивости остановиться у ворот, как тотчас из-за могильных камней высовывались головы зевак, чтобы поглазеть на его черную вуаль. Они же пустили в оборот сказочку о том, что Хупера прогнали с кладбища взгляды покойников. Глубочайшее горе причиняли его доброму сердцу дети, которые бросали самые веселые свои забавы и разбегались, лишь завидев издали его приближение. Инстинктивный испуг малышей сильнее, чем что-либо другое, заставлял его чувствовать, какой сверхъестественной жутью пропитана черная ткань его вуали. Надо заметить, что пастор и сам испытывал великое отвращение к своей вуали. Прихожане это хорошо знали: он старался не проходить мимо зеркал и даже остерегался пить из водоемов, в гладкой поверхности которых могла отразиться его внешность, — ибо всякий раз это потрясало его до глубины души. Наблюдения такого рода придавали правдоподобие домыслам, что совесть Хупера терзает память о некоем совершенном им преступлении, слишком ужасном, чтобы признаться в нем прямо или скрыть его полностью, и потому несчастный ограничивается этим темным намеком. Так получалось, что черная вуаль набрасывала тень на белый день, не позволяя различить, где горе, а где грех, и завеса подозрений окутывала бедного священника, не пропуская ни единого лучика любви или сочувствия. Поговаривали, будто некий призрак и враг рода человеческого заключили с ним союз. Терпя муки душевные и страдая от неприязни окружающих, он постоянно жил в потемках, блуждая на ощупь в лабиринтах собственной души; переплет темных нитей одевал для него в траур весь мир. Даже своенравный ветер, как утверждали люди, соблюдал мрачную тайну и не осмеливался сорвать вуаль. Но добрый пастор Хупер по-прежнему печально улыбался, видя вокруг себя бледные лица суетной толпы.
Впрочем, нет худа без добра! Черная вуаль напрочь испортила жизнь Хупера, но она же пошла на пользу его священническому служению. Благодаря этому таинственному символу — ибо иной очевидной причины не было — он обрел невероятную власть над теми душами, которые терзались своими грехами. Те, кого ему удавалось наставить на путь истинный, глядя на него, всегда испытывали то же смятение, что вызывали у них собственные проступки. Они утверждали, конечно, в иносказательном смысле, что, прежде чем он привел их к свету божественному, они находились вместе с ним под черной вуалью. Наводимый ею мрак и в самом деле позволял пастырю сочувствовать всем темным страстям. Умирающие грешники взывали к мистеру Хуперу и не желали испускать последний вздох, пока его не будет рядом. И все же каждого из них пробирала дрожь, когда священник склонялся, чтобы прошептать слова утешения; им страшно было видеть скрытое тканью лицо так близко от своего. Таков был ужас, веявший от черной вуали, даже в момент, когда Смерть срывает все покровы! Порою люди приходили издалека, чтобы побывать в церкви на его службе с единственным праздным желанием поглазеть на его фигуру, раз уж на лицо смотреть запрещено. Но многие уходили домой преображенными! В те дни, когда краем нашим управлял губернатор Белчер, Хупера как-то назначили провести службу на церемонии избрания. Он предстал со своею вуалью перед высоким начальством, советниками и представителями общин, и произвел на них столь глубокое впечатление, что все законодательные акты того года отличались благочестием и суровостью, напоминающими о временах наших предков.
В таких трудах Хупер провел долгую жизнь. Все его поведение, все поступки были безупречны, но облако темных подозрений вокруг него так и не развеялось; он был добрым и любящим, но его не любили и смутно боялись. Он существовал осторонь от людей; здоровые и счастливые его чурались, но те, кого настигала смертельная тоска, сразу призывали его на помощь. Год за годом уходил в небытие, припорошив белым снегом голову пастора над траурной полосой вуали, и мало-помалу он прославился по всем церквям Новой Англии. Его звали теперь отец Хупер. Почти все те прихожане, которые были взрослыми, когда он прибыл в Милфорд, один за другим отправились на покой во главе похоронных процессий; на его службы в церковь приходило много людей, но на кладбище за церковью их было гораздо больше. Долгие дни трудов миновали, настал поздний вечер; пришел час отдохнуть и отцу Хуперу.
Свечи в комнате, где умирал старый священник, были прикрыты экраном, и в их неярком свете он мог различить несколько лиц. Родственников у него уже не осталось. Но здесь был врач, серьезный как приличествовало в данных обстоятельствах, однако невозмутимый, который знал, что не сможет спасти пациента и стремился лишь облегчить его боль. Здесь же были и дьяконы, и другие клирики выдающегося благочестия. Присутствовал и преподобный мистер Кларк, из соседнего Уэстбери, молодой и рьяный богослов, который примчался верхом, чтобы успеть помолиться у ложа умирающего собрата. И наконец, здесь была сиделка. Не наемная служительница смерти, нет; но та, чья тихая любовь втайне сберегалась все эти годы, в одиночестве, неподвластная холодному веянию старости, и не угасла бы даже в ее смертный час. Не кто иная, как Элизабет! В этом окружении покоилась на подушке седая голова доброго отца Хупера, неизменно обвитая черной вуалью, закрывающей лицо. Он дышал слабо, с трудом, и тонкая ткань едва колыхалась. Целую жизнь этот лоскут крепа заслонял ему весь мир; он отделил его от радостей дружбы и от любви женщины, он заключал его в печальнейшей из тюрем — в его собственной душе; и в этот час он все еще скрывал его лицо, отчего затемненная комната казалась еще темнее, и даже сияние вечности не пробилось бы сквозь эту завесу.
В предыдущие дни сознание старика было затуманено, он не мог отличить прошлое от настоящего, все смешалось в его мыслях, а порой они уносились вперед, к неизвестности, ожидающей его по ту сторону жизни. Случались и приступы лихорадочного бреда, когда он метался из стороны в сторону, растрачивая те немногие силы, что еще у него оставались. И все же ни судорожные припадки, ни самые необузданные фантомы, создаваемые его разумом, уже не способным удержать ни одну трезвую мысль, не заставили его отказаться от упорного желания сохранить вуаль на лице. Но на случай, если бы потрясенная душа его оплошала, рядом находилась преданная женщина, которая, будь в этом нужда, зажмурившись, вновь прикрыла бы старческое лицо, виденное ею в последний раз в расцвете молодости. Наконец одолеваемый смертью старик затих, исчерпав все силы своего тела и духа. Пульс его едва был едва уловим, дыхание становилось все слабее, и долгие, глубокие, неровные вздохи предвещали скорый отлет его души.
Священник из Уэстбери приблизился к его постели.
— Почтенный отец Хупер, — сказал он, — миг вашего освобождения близок. Готовы ли вы к снятию завесы, что отделяет скоротечное время от вечности?
Отец Хупер ответил сперва простым движением головы; затем, осознав, по-видимому, что этот слабый кивок могут понять неправильно, с трудом, еле слышно проговорил:
— Да. Усталая душа моя терпеливо ждет, когда завеса будет снята.
— Так пристало ли, — продолжил преподобный мистер Кларк, — человеку, столь преданному молитве, подавшему пастве безупречный пример, человеку святому и в деяниях, и в помыслах, насколько могут судить смертные… пристало ли одному из отцов церкви оставить после себя тень, которая может зачернить жизнь столь чистую? Молю вас, достопочтенный брат мой, не допустите подобной ошибки! Доставьте нам радость, дайте увидеть ваш облик, когда вы воспарите к ждущей вас награде. Прежде чем вечность раскроется перед вами, позвольте мне снять черную вуаль с вашего лица!
И, говоря так, преподобный Кларк нагнулся, чтобы обнажить тайну, скрывавшуюся долгие годы. Но отец Хупер внезапно обрел силы, что потрясло всех присутствующих: выпростав обе руки из-под одеяла, он крепко ухватился за свою вуаль, полный решимости сопротивляться, если пастор из Уэстбери вздумает бороться с умирающим.
— Ни за что! — вскричал старый священник. — На земле — никогда!
— Скрытный старик! — воскликнул испуганный пастор. — С каким же ужасным преступлением на душе отправляешься ты на высший суд?
Дыхание отца Хупера участилось; воздух клокотал у него в горле; но, протянув вперед руки могучим усилием, он сумел удержать уходящую жизнь на те несколько минут, что он хотел говорить. Он даже приподнялся в постели и сел; он дрожал, ощущая прикосновение смерти, а черная вуаль, особо жуткая в этот последний миг, тяжело легла ему на лицо, будто пропитанная всеми ужасами прожитой жизни. И все же слабая, печальная улыбка, столь часто мелькавшая из-под складок, снова появилась на губах отца Хупера, как лучик света во мгле.
— Почему вы тревожитесь за меня одного? — вскричал он, обведя взглядом из-под вуали круг бледных лиц. — Тревожьтесь также и за каждого из вас. Неужто мужчины избегали меня, и женщины не выказывали жалости, и дети разбегались с воплями только из-за этой черной вуали? Что, кроме тайны, смутно обозначенной ею, могло сделать этот кусок ткани столь ужасным? Если в сем мире друг открывает своему другу сокровеннейшие помыслы своего сердца, если любящий мужчина до конца доверяет любимой женщине; если люди правы, считая возможным скрывать от взора Создателя свои грехи, накапливая их отвратительными грудами в глубинах души, тогда назовите меня чудовищем, во имя символа, в тени коего я жил, и умрите! Я озираюсь сейчас вокруг себя. И что же? На каждом, каждом лице вижу я черную вуаль!
Слушавшие его отшатнулись друг от друга в обоюдном испуге, а отец Хупер упал на подушки уже мертвым, но с прежней улыбкой на устах. Снять вуаль никто не решился; с нею уложили его в гроб и так, под вуалью, снесли на кладбище.
Много раз прорастали и увядали травы на его могиле, надгробный камень оброс мхом, и лицо доброго пастыря Хупера обратилось в прах; но и доселе становится страшно при мысли, что истлело оно под Черной Вуалью!
Роберт Говард ОСКАЛ ЗОЛОТА
ГЛАВА 1
В погоне за убийцей
— Это единственная дорога через болота, мистер. — Проводник показал пальцем на узкую тропинку, вьющуюся среди дубов и кипарисов.
Стив Харрисон только пожал широкими плечами. Расстилавшийся перед ним пейзаж не был привлекательным. В свете послеполуденного солнца длинные тени, словно гигантские пальцы, прикрыли мрачные низинки между поросшими мхом деревьями.
— Вы бы лучше подождали до утра, — продолжал проводник, высокий, долговязый мужчина в ковбойских ботинках и потертой одежде. — Сейчас уже поздновато. Этот мерзавец не стоит того, чтобы гоняться за ним по болотам после наступления темноты.
— Я не могу ждать, Роджерс, — ответил детектив. — К утру тот тип может оказаться… слишком далеко.
— Да куда ему деться с этой тропинки? — возразил Роджерс. Он все еще переминался с ноги на ногу возле начала дорожки, не решаясь идти вперед. — Тут другого пути нет. Если решит пойти другим путем, то непременно угодит в глубокий омут или попадет на обед аллигаторам. Здесь их прорва. Он ведь не бывал раньше на наших болотах, нет?
— Подозреваю, что ни одного болота он вообще не видел. Коренной горожанин.
— Тогда он точно не сможет сойти с этой тропинки, — уверенно заявил Роджерс.
— С другой стороны, он ведь может и не понимать, какая опасность ему в этом случае грозит, — проворчал Харрисон.
— Что, вы говорили, он натворил? — спросил Роджерс, сплюнув табачный сок точно на жука, ползущего по черной листве.
— Стукнул старого китайца по голове секачом для разделки мяса и украл все, что тот скопил за всю свою жизнь, — десять тысяч долларов в банкнотах по тысяче долларов. У старика осталась маленькая внучка. Она будет нищенствовать, если мы не найдем эти деньги. Вот одна из причин, по которым я намерен отыскать эту крысу до того, как она сгниет в этих болотах. Я хочу вернуть деньги ребенку.
— И вы считаете, что человек, который несколько дней назад прошел этой тропинкой, именно он?
— Больше некому, — угрюмо буркнул Харрисон. — Мы преследовали его через полстраны, не давая приблизиться к границе или добраться до одного из портов. Мы почти накрыли его, но он выскользнул. Похоже, это единственное место, где можно спрятаться. Не для того я столько времени гонялся за ним, чтобы отступить сейчас. Если он утонет в болоте, мы никогда его не найдем, да и деньги потеряются. Человек, которого он убил, был хорошим, честным китайцем. А этот парень — его зовут Вэнь Шан — настоящий негодяй.
— Он может тут напороться на кое-кого себе подстать, — жуя табак, продолжал Роджерс. — Конечно, ничего особенного. Всего лишь негры, живущие на болотах. Они не похожи на черномазых, что живут в округе. Поселились на болотах лет пятьдесят-шестьдесят назад. Беженцы с Гаити или что-то вроде того. Здесь ведь недалеко побережье. Кожа у них желтоватая. Кроме того, они редко выходят из болот. Они живут уединенно и не любят чужестранцев… Что это?
Они только миновали очередной поворот тропинки и увидели, что кто-то лежит впереди на дороге, — кто-то темный, забрызганный кровью, стонущий и едва шевелящийся.
— Негр! — воскликнул проводник. — Его, похоже, ножом пырнули.
Не надо быть экспертом, чтобы понять: он прав.
— Я знаю этого парня! — объявил Роджерс, когда они склонились над раненым. — Он не из болотных крыс. Это Джо Корли. В прошлом месяце он порезал другого негра на танцах и сбежал. Говорили, что с тех пор он прячется на болотах. Эй, Джо! Джо Корли!
Раненый застонал, и взгляд его стекленеющих глаз заметался из стороны в сторону. Его кожа стала пепельной — он явно был уже при смерти.
— Кто тебя ранил, Джо? — поинтересовался Роджерс.
— Болотный Кот! — с трудом произнес умирающий.
Проводник, крепко выругавшись, встревоженно огляделся, словно ожидая, что кто-то вот-вот прыгнет на него из-за деревьев.
— Я пытался выбраться отсюда… — прошептал негр.
— Чего ради? — вновь спросил Роджерс. — Ты же знал, что попадешь в тюрьму, если тебя поймают!
— Лучше попасть в тюрьму… чем эта дьявольщина… на болотах. — И голос умирающего превратился в неразборчивое бормотание.
— О чем ты говоришь, Джо? — Роджерс был настойчив.
— Негритянское вуду, — вновь заговорил Корли. — Китаец пытался помочь… не дайте им меня утащить… потом Джон Бартоломью… Уууууу!
Кровь, хлынувшая из горла, обагрила уголки его губ, тело дернулось в конвульсии, а потом застыло.
— Он мертв, — прошептал Роджерс. Его выпученные от страха глаза уставились на тропинку.
— Он что-то говорил о китайце, — произнес Харрисон. — Что бы тут ни произошло, мы на правильном пути. Оставим его пока тут. Теперь с ним ничего не случится. Пойдем.
— Вы собираетесь идти дальше? — воскликнул Роджерс.
— Почему нет?
— Мистер Харрисон, — скорбно объявил Роджерс, — вы предложили мне хорошие деньги за то, чтобы я проводил вас через это болото. Однако я скажу, что у вас не хватит никаких денег, чтобы заставить меня идти туда ночью.
— Но почему? — удивился Харрисон. — Только потому, что того черного убил какой-то другой негр…
— Тут все сложнее, — решительно возразил проводник. — Этот парень, Корли, пытался выбраться из болот, когда они достали его. Он знал, что его посадят в тюрьму, но он все равно пытался сбежать. Выходит, там было нечто, испугавшее его до мозга костей. Слышали, он сказал, что за ним гонится Болотный Кот?
— Ну и?
— Болотным Котом у нас называют одного безумного ниггера, живущего на болотах. Прошло уже много лет с тех пор, как его в последний раз видели белые люди. Лично я всегда считал, что это всего лишь негритянские страшилки, которые здешние черномазые рассказывают для того, чтобы застращать чужаков… Но, похоже, все не так. Он убил Джо Корлея. Он убьет и нас, если мы отправимся бродить во тьме по болоту. Почему, черт возьми, нам нужно идти туда прямо сейчас?
Произнеся эту речь, Роджерс нервно огляделся по сторонам и вытащил из кобуры тяжелый шестизарядник с дулом невероятной длины. Челюсти его, жующие табак, заработали с огромной скоростью. Ему явно было не по себе.
— А как насчет другого парня — Джона Бартоломью? — спросил Харрисон.
— Не знаю. Никогда о нем не слышал. Пошли отсюда. Мы возьмем людей и утром вернемся за телом Джо.
— Я пойду дальше, — буркнул Харрисон, поднявшись и отряхнув ладони.
— Вы что, спятили? Вы же пропадете… — начал было Роджерс.
— Ничего со мной не случится, если я не сойду с тропы.
— Даже если так, то здесь ведь есть Болотный Кот… или аллигаторы вас утащат…
— И все же я воспользуюсь своим шансом, — резко объявил Харрисон. — Вэнь Шан где-то на этих болотах. А если ему удастся выбраться отсюда до того, как я схвачу его, — снова последую за ним.
— Но если вы подождете совсем немного, мы утром соберем отряд и отправимся на поиски, — не унимался Роджерс.
Харрисон даже не пытался объяснить этому человеку свое почти маниакальное желание работать в одиночку. Ничего больше не сказав, он повернулся и широким шагом отправился по тропинке.
— Да вы, черт побери, сошли с ума! — закричал ему вслед Роджерс. — Если ваш беглец миновал хижину Селии Помполои, остановитесь! — крикнул он снова через несколько секунд, увидев, что детектив продолжает идти. — Останьтесь на ночь в хижине! Селия — большая шишка у тутошних негров. Ее хижина — первая, на которую вы тут наткнетесь. Я — в город, соберу поисковый отряд, и завтра утром мы отправимся…
Слова его сделались неразборчивы: детектив миновал поворот тропинки и теперь между ним и проводником были густые заросли. Харрисон остался один.
Шагая дальше по тропинке, он заметил капли крови на листьях. Следы на земле говорили о том, что кто-то тащил волоком нечто тяжелое. Тащил — или тащился сам. Похоже, Джо Корли прополз какое-то расстояние, прежде чем на него вновь напали и добили.
Харрисон отлично представлял себе, как несчастный ползет по тропинке, словно искалеченная змея. Чтобы смертельно раненный человек прополз такое расстояние, его должно было что-то подгонять: жажда жизни — или… страх.
Харрисон не видел солнца, но знал, что оно стоит над самым горизонтом. Детектив шел все дальше и дальше вглубь болот, а тени становились все длиннее. Среди деревьев появились участки вспенившейся грязи, а тропинка, петляя меж них, становилась все более извилистой. Однако Харрисон и не думал останавливаться. В густой растительности могла спрятаться не одна сотня беглецов, но, скорее всего, Вэнь Шан постарается найти приют не там, а в одной из хижин посреди этих болот. Китаец-горожанин, он наверняка боится заблудиться. Скорее всего, он будет искать компанию людей, пусть даже черных.
Внезапно детектив остановился. Наступили сумерки, и болото буквально проснулось. Загудели насекомые, в воздухе над тропой замелькали крылья то ли летучих мышей, толи сов, со всех сторон доносился утробный крик лягушек-быков. Но детектив услышал и другие звуки. Что-то двигалось среди деревьев параллельно тропинке.
Харрисон вытащил свой револьвер сорок пятого калибра и стал ждать. Ничего не происходило. Но все его чувства были настороже. Детектив знал, что за ним кто-то пристально наблюдает, он почти физически ощущал прикосновение чужого взгляда. Быть может, это тот самый китаец?
Кусты возле тропинки зашевелились, хотя никакого ветра не было. Харрисон протиснулся между переплетенными ветками кипарисов, держа оружие наготове. И тут его нога скользнула в грязи, и он повалился в гниющую растительность, врезавшись лицом в моховую подушку. За кустом никого не оказалось, но детектив мог поклясться, что видел тень, которая, скользнув прочь, исчезла среди деревьев. Какое-то время сыщик стоял, раздумывая, а потом, опустив взгляд, увидел четкий отпечаток в болотном суглинке. Харрисон подошел ближе и присмотрелся: это был отпечаток большой, чуть скошенной босой ступни. Вокруг уныло гудели москиты.
Без сомнения, только что за этим кустом стоял человек.
Пожав плечами, Харрисон вернулся на тропинку. Этот след не мог принадлежать Вэнь Шану, а все остальные детектива не интересовали. Вполне могло быть, что кто-то из местных решил проследить за чужаком.
Детектив приветственно крикнул, повернувшись в сторону деревьев, среди которых скрылся незнакомец, а потом громким голосом объявил, что у него самые дружественные намерения. Никто ему не ответил.
Повернувшись, Харрисон широким шагом отправился по тропинке. Однако он не расслаблялся, так как время от времени слышал слабые шлепки и другие звуки, словно кто-то крался среди кустов параллельно тропинке. Впрочем, его ничуть не волновало, что за ним следит некое невидимое и, вполне возможно, враждебно настроенное существо.
Стало так темно, что Харрисон не видел тропинки, но находил дорогу скорее интуитивно. Над болотами разносились странные крики то ли четвероногих, то ли крылатых, время от времени слышались и низкие хрипяще-хрюкающие звуки: сперва они ставили Харрисона в тупик, а потом он сообразил, что это, скорее всего, «брачные песни» самцов аллигаторов. Он не удивился бы, даже если одна из чешуйчатых тварей выползла бы на тропинку прямо перед ним. Интересно бы знать, как избегает аллигаторов тот парень, который крадется за ним по кустам…
И тут одна из веточек треснула много ближе к тропинке, чем раньше. Харрисон тихо выругался, пытаясь рассмотреть хоть что-то в стигийской тьме под обросшими мхом ветвями.
Кто-то шел сквозь надвигающуюся темноту, приближаясь к нему.
Харрисон почувствовал, как у него по спине поползли мурашки. Эта тропинка — настоящее прибежище для рептилий — была не слишком подходящим местом для схватки еще и с тем самым безумным негром (а кем еще мог оказаться неизвестный, ночью бродящий по болоту?), который, видимо, недавно убил Джо Корли. С предельной осторожностью детектив медленно пошел дальше — и вдруг впереди сквозь ветви деревьев замерцал тусклый свет. Ускорив шаги, Харрисон вскоре вышел из полной тьмы в серую полумглу.
Он достиг участка твердой земли, где редкие деревья (они, словно черные занавеси, окружили чистую полянку) давали последним солнечным лучам рассеять темноту. За стволами деревьев на другой стороне Харрисон заметил блеск черной воды. Посреди поляны стояла хижина из грубо отесанных стволов. Через крошечное окно пробивался свет масляной лампы.
Выйдя из-под защиты леса, Харрисон бросил взгляд назад, но не увидел никакого движения среди папоротников, не услышал хруста ветвей. Едва различимая тропинка вела сюда, огибала хижину и исчезала во тьме на противоположной стороне поляны. Эта хижина, сообразил Харрисон, скорее всего, и была жилищем Селии Помполои. Детектив быстрым шагом подошел к просевшему крыльцу и постучал в неказистую, но добротно сработанную дверь.
Внутри послышалось какое-то движение, а потом дверь распахнулась. Однако Харрисон был совсем не готов к тому, что увидел. Он ожидал встретить босую нищенку-попрошайку. Вместо этого перед ним оказался высокий, гибкий, могучий молодой человек, одетый аккуратно и, главное, как горожанин. А черты его лица и светлая кожа говорили о заметной примеси европейской крови.
— Добрый вечер, сэр. — Судя по речи этого человека, он как минимум получил некоторое образование.
— Меня зовут Харрисон, — объявил детектив, продемонстрировав свой значок. — Я ищу одного негодяя, который должен был проходить тут… Это китаец. Он убийца. И зовут его Вэнь Шан. Знаете что-то о нем?
— Да, сэр, — тут же ответил мулат. — Три дня назад этот человек прошел мимо моей хижины.
— А где он сейчас? — поинтересовался Харрисон.
Мулат только развел руками.
— Не могу сказать. Я мало общаюсь с теми, кто обитает в глубине болот, но, думаю, он прячется где-то среди них. Я не видел, чтобы он прошел назад по этой тропинке.
— А вы не могли бы проводить меня к другим хижинам?
— С радостью, сэр, но только при дневном свете.
— Предпочел бы отправиться этой ночью, — хмуро произнес Харрисон.
— Невозможно, сэр, — запротестовал мулат. — Это очень опасно. Вы сильно рискуете, если отправитесь сейчас дальше. Идти тут далеко. К тому же остальные хижины стоят на болоте. Ночью мы не выходим из своих жилищ. На болотах много всякого-разного, опасного для людей.
— К примеру, Болотный Кот? — Голос Харрисона по-прежнему был угрюм.
Мулат бросил на детектива быстрый взгляд, в котором читалось удивление.
— Несколько часов назад он убил человека по имени Джо Корли, — пояснил детектив. — Я нашел Корли на тропе. И, если не ошибаюсь, этот лунатик — Болотный Кот — преследовал меня последние полчаса, пробираясь по болоту вдоль тропинки.
Мулат тут же насторожился. Высунувшись из хижины, он внимательно оглядел темные лесные заросли.
— Заходите, — сказал он. — Если Болотный Кот шастает по округе, небезопасно оставаться в лесу. Заходите и проведите эту ночь у меня, а на заре я провожу вас к хижинам на болоте.
У Харрисона не было никакого плана, который мог обеспечить что-то лучшее. Кроме того, действительно глупо на ощупь бродить в ночи по неизвестным болотам. Только теперь он понял, что совершил ошибку, отправившись сюда в сумерках. Но работа в одиночку давно стала частью его натуры, кроме того, он по природе был человеком безрассудным. Преследуя преступника, Харрисон в полдень покинул маленький городок на краю болот и без колебания вошел в лес. Однако теперь уже и он сомневался, что разумно будет идти дальше в темноте.
— Это хижина Селии Помполои? — поинтересовался детектив.
— Точно, — ответил мулат. — Она умерла три недели назад. Теперь я живу тут один. Зовут меня Джон Бартоломью.
Харрисон немедленно воспрянул духом, рассматривая мулата с новым интересом. Джон Бартоломью. Джо Корли прошептал его имя, прежде чем умереть.
— Вы знали Джо Корли? — требовательно спросил он.
— Слегка. Он прятался на болотах от закона. Человек, дошедший до низшей ступени деградации… хотя, конечно, я с сожалением услышал о его смерти.
— А что человек с вашим образованием делает в этих дебрях? — прямо спросил детектив.
Бартоломью криво усмехнулся.
— Не всегда мы сами можем выбирать свое окружение, мистер Харрисон. Не только преступники живут в отдаленных, уединенных уголках. Да, некоторые из тех, кто приходит на болота, напоминают вашего китайца. Они бегут от закона. Другие приезжают сюда под нажимом обстоятельств. А кое-кто из тех, кто постиг в жизни горькое разочарование, оказывается здесь в поисках забвения…
Бартоломью задвинул крепкий засов на двери. Харрисон тем временем осмотрел его жилище. В хижине было две комнаты, одна за другой, разделенные крепкой дверью. Пол, устланный деревянной плиткой, выглядел чистым, комнаты тоже чисты, но скудно обставлены: стол, скамьи, койка у стены — все ручной работы. Тут имелся и очаг, над которым висела примитивная кухонная посуда. А еще — шкаф, накрытый полотнищем ткани.
— Будете жареный бекон с кукурузой? — поинтересовался Бартоломью. — А может, чашечку кофе? Не так уж много я могу вам предложить, но…
— Нет, спасибо. Я хорошенько наелся, прежде чем отправился на болота. Лучше расскажите мне о людях, которые тут живут.
— Я уже говорил вам, что мало общаюсь с местными, — ответил Бартоломью. — Они живут единым кланом и с подозрением относятся к чужакам. К тому же они не любят других цветных. Их отцы переселились сюда с Гаити, спасаясь от одной из революций, которые несколько раз заливали кровью этот несчастный остров. У них странные обычаи. Вы слышали о братстве вуду?
Харрисон кивнул.
— Так вот, эти люди — вудисты. Я знаю, что они устраивают на болотах тайные сборища. Слышал, как в ночи стучат барабаны, и видел огни, сверкающие за деревьями. В такое время даже тут я не ощущаю себя в безопасности. О да, эти люди способны на кровавые жертвоприношения, особенно когда их древняя природа выходит из-под контроля — что случается во время каждого из этих звериных ритуалов вуду.
— Почему же белые обитатели соседнего городка не прекратили все это? — поинтересовался Харрисон.
— Они ничего не знают. К тому же никто по своей воле не пойдет сюда, чтобы заставить их соблюдать закон. Болотные люди не потерпят вмешательства в свои обряды… Селия Помполои, жившая в этой хижине, была женщиной мудрой и отчасти образованной… в какой-то мере. Она была единственной среди здешних, кто ходил «наружу» — так они говорят о мире за пределами болот. Селия даже в школе училась. Однако, насколько мне известно, она была жрицей культа и председательствовала при проведении ритуала. Думаю, во время последней вакханалии она и погибла. Ее тело нашли на болотах, так сильно обглоданное аллигаторами, что опознать Селию удалось лишь по обрывкам одежды.
— А кто такой Болотный Кот? — спросил Харрисон.
— Маньяк, живущий на болотах, словно дикий зверь. Время от времени у него случаются припадки ярости, и в такое время он ужасен.
— А мог он убить китайца, если бы подвернулся подходящий случай?
— Когда у него случается припадок, он может убить любого. Вы говорили, что тот китаец и сам убийца?
— Убийца и вор, — хмуро произнес Харрисон. — Украл десять тысяч у человека, которого убил.
Бартоломью посмотрел на детектива с новым интересом, хотел было о чем-то спросить, но в последний момент, видимо, передумал.
Харрисон поднялся, зевая.
— Думаю, мне нужно чуток вздремнуть, — сообщил он.
Бартоломью взял лампу и отвел гостя в заднюю комнату, которая была того же размера, что и передняя, но из мебели тут имелась только койка и скамья.
— У меня всего одна лампа, сэр, — признался мулат. — Я оставлю ее вам.
— Не стоит беспокойства, — сказал Харрисон. Он подспудно не доверял масляным лампам: в детстве, был случай, одна из них взорвалась едва ли не у него в руках. — Я, как кошка, люблю темноту. Лампа мне не нужна.
Еще раз извинившись за жалкое состояние своего жилища, Бартоломью пожелал гостю спокойной ночи, чуть пригнувшись, чтобы не зацепить головой притолоку, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Харрисон, уже просто по привычке, внимательно осмотрел и эту комнату. Звездный свет проникал в помещение через маленькое окно, забранное толстыми деревянными прутьями. Второй двери в комнате не было — только та, через которую он вошел.
Детектив лег на койку, не раздеваясь, даже сапоги не снял, и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Больше всего он опасался, что Вэнь Шан опять сбежит. Однако изберет ли китаец для бегства ту же самую дорогу, по которой и пришел сюда? Конечно, на краю болот дежурили полицейские, но ведь Вэнь Шан может с легкость обмануть их, особенно ночью. А что, если через болота есть и другая дорога? К тому же, если Бартоломью, как он сам сказал, мало знаком с местными неграми, где гарантия, что он сможет провести детектива туда, где прячется китаец?
Эти и другие сомнения мучили Харрисона, пока он лежал, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. Неожиданно полоска света, пробивавшаяся из-под двери, потухла — Бартоломью потушил лампу. Тогда Харрисон послал к дьяволу все сомнения и уснул.
ГЛАВА 2
Следы убийцы
Снаружи послышался негромкий звук: кто-то осторожно ощупывал и пробовал на прочность прутья, перегораживающие окно. Это разбудило детектива: как всегда в таких случаях, Харрисон проснулся мгновенно, словно боец по тревоге. Что-то закрыло окно, что-то темное и округлое, с двумя мерцающими точками. А потом детектив понял, что рассматривает человеческую голову. В мертвенном звездном свете сверкали круглые глаза и оскаленные зубы.
Стараясь сделать так, чтобы его движения не были заметны, детектив достал револьвер. Он лежал на койке, и рука с оружием была у стены, так что незваный наблюдатель не видел его оружия. Однако голова неожиданно исчезла, словно пришельца предупредил инстинкт.
Харрисон, нахмурившись, сел на кровати, с трудом подавив вполне естественное желание немедленно броситься к окну и выглянуть наружу. Ночь скрыла незнакомца, бродившего за стеной.
Было во всем этом деле нечто смертельно опасное. Незнакомец, без всякого сомнения, пытался залезть в комнату. Был ли это тот же самый человек, что преследовал сыщика на болотах? А может быть — неожиданная мысль, — китаец договорился с кем-то из местных, чтобы те помогли ему следить за всяким, кто приходит на болота? Харрисон выругался. Как же он не подумал об этом раньше?
Чиркнув спичкой, он прикрыл ее ладонью, сложенной чашечкой, и посмотрел на часы. Те показывали всего десять вечера. Ночь только начиналась. Детектив угрюмо посмотрел на стену за койкой — и неожиданно злое шипение сорвалось с его губ. Спичка обожгла ему пальцы и погасла. Он зажег следующую и вновь принялся внимательно изучать стену. В щели между бревнами был спрятан нож, и его зловещий искривленный клинок был испачкан… в чем-то. По спине Харрисона непроизвольно прокатилась волна дрожи. Это могла быть кровь животного: теленка или борова… Но кто мог резать домашний скот прямо в этой комнате? И почему клинок не почистили?
Короче говоря, все выглядело так, словно кто-то нанес смертельный удар, а потом попытался быстро избавиться от улики.
Детектив взял нож и осмотрел его внимательнее. Кровь на клинке засохла и потемнела, словно с того времени, как им воспользовались, прошло немало часов. Сам нож не был похож на те, которыми обычно пользуются мясники или охотники…
Внезапно Харрисон напрягся: он узнал тип оружия. Это был китайский кинжал!
Спичка догорела, и Харрисон сделал то, что на его месте сделал бы любой нормальный человек: перегнулся через край койки и заглянул под нее — так как это было единственное место в комнате, где можно было спрятать что-то сравнительно крупное. Конечно, он не ожидал обнаружить там труп Вэнь Шана. Он вообще действовал неосознанно, более повинуясь инстинкту, чем разуму. И никакого трупа там действительно не оказалось.
Рука скользнула по необработанным бревнам пола, а потом нащупала что-то еще — что-то небольшое, засунутое, точно так же, как и нож, в щель между бревнами.
Через мгновение в руках у детектива оказался плоский пакет из хрустящей бумаги, перевязанный промасленной шелковой нитью. Держа в одной руке горящую спичку, другой он разорвал бумагу. Его взгляду предстало десять старых банкнот, каждая по тысяче долларов.
Потушив спичку, детектив замер во тьме, пытаясь выстроить логическую версию, объясняющую его находку.
Итак, Джон Бартоломью врал. Без сомнения, он приютил китайца, как приютил Харрисона. Детектив отчетливо представил себе призрачную тень, склонившуюся над китайцем, спящим на этой же постели. А потом — быстрый удар ножа, и…
Детектив яростно зарычал, переполненный досадой, которая может быть понятна лишь профессиональному — и обманутому! — охотнику за головами. Без сомнения, тело Вэнь Шана гниет сейчас где-то в липкой болотной грязи. Однако деньги он вернуть сможет. Хвала невнимательности Бартоломью, который плохо их спрятал.
И что из этого следует? Лишь случайная цепочка обстоятельств позволила Харрисону прийти к этому выводу, а не другому. Быть может, деньги спрятал вовсе и не хозяин хижины, а китаец, опасаясь за…
И тут Харрисон снова замер. Под дверью он увидел тоненькую полоску света. Неужели Бартоломью до сих пор не лег спать? Но ведь детектив помнил, как мулат задул лампу. Харрисон поднялся и бесшумно скользнул к толстой двери. Оказавшись возле нее, он услышал приглушенное бормотание. Говорившие были совсем рядом, стояли прямо за дверью.
Детектив приложил ухо к дверной фрамуге и узнал характерную манеру речи Джона Бартоломью.
— Не испортите все дело, — прошептал мулат. — Надо схватить его до того, как он успеет достать свой револьвер. Он ведь ничего не подозревает. Правда, я оставил нож китайца между бревен в стене — только сейчас вспомнил! Но там темно, и детектив нипочем не найдет его. Зря он оказался здесь в эту ночь. Нельзя оставлять его в живых.
— Мы сработаем быстро и чисто, маса, — прошептал другой голос, с гортанным акцентом, отличающимся от любого другого негритянского говора, известного Харрисону. Детектив тут же решил, что специально такой акцент не воспроизвести.
— Вот и отлично. А Джо Корли можно уже не бояться. Болотный Кот выполнил все мои инструкции.
— Выходит, Болотный Кот сейчас рыщет где-то снаружи. — Второй голос тоже обладал необычным, даже для южного негра, акцентом. — Не люблю его. Почему он сам все не сделает?
— Он выполняет мои приказы, но ему нельзя доверять во всем. Сколько мы еще будем тут стоять и болтать? Детектив проснется, начнет подозревать что-то. Разом открывайте дверь и бросайтесь на него. Бейте ножами в…
Харрисон всегда верил, что лучшая защита — это яростная атака. У него был только один выход. Детектив действовал без колебаний. Он навалился могучим плечом на дверь, толчком отворил ее, ворвался в комнату с револьвером наизготовку и рявкнул:
— Руки вверх, черт вас побери!
В комнате оказалось пять человек. Бартоломью стоял с лампой, прикрывая ее свет левой рукой. Кроме него в комнате было еще четверо тощих, оборванных негров. У всех в руках были ножи.
Они отшатнулись с криками ужаса. Не колеблясь ни мгновения, оборванцы выполнили приказ: подняли руки, побросав на пол оружие. Может быть, на какой-то миг, но белый человек стал в этой хижине полным хозяином положения. Однако Бартоломью, тоже опешивший, продолжал держать в руках лампу.
— Назад, к стене! — прорычал Харрисон.
Все четверо послушно отступили к стене, пораженные неожиданным появлением детектива. Харрисон знал, что опасаться стоит лишь Джона Бартоломью, а не этих его подручных.
— Поставь лампу на пол, — приказал он мулату. — Встань рядом с остальными…
Бартоломью наклонился, словно для того, чтобы поставить лампу… но тут же быстро, словно дикий кот, опрокинул ее, ничком бросился на пол и нырнул под стол. Револьвер Харрисона с грохотом выплюнул пулю, но даже сам детектив знал, что в круговерти теней промахнулся. Метнувшись вперед, он выпрыгнул за дверь. Внутри темной хижины у него не было никаких шансов против четырех рычащих от ярости, словно бешеные псы, негров, пусть они даже побросали свои ножи.
Уже оказавшись на другой стороне поляны, детектив услышал, как Бартоломью яростным голосом выкрикивает приказы. Однако детектив не пошел по тропе — путь, очевидный для любого. Обойдя хижину, он метнулся к деревьям, растущим с другой стороны.
Харрисон бежал вперед, куда глаза глядят. Единственным его желанием было отыскать место, где он смог бы спрятаться, а потом, если надо будет, открыть огонь по преследователям. Луна только встала, и ее свет скорее придал теням более резкие очертания, а не высветил их, сделав полупрозрачными. В этих условиях огнестрельное оружие не могло дать таких преимуществ, как при лучшем освещении, — но все же…
Он слышал, как негры с шумом высыпали из хижины и бросились в разные стороны, мгновенно растворившись среди теней. Однако детектив успел затаиться прежде, чем преследователи заметили его. Теперь он наблюдал за хижиной через переплетение ветвей и видел, как то один, то другой негр выскакивают на поляну, словно собаки, ищущие след, завывая от первобытной жажды крови и разочарования. Ножи в их руках сверкали под лунным светом.
Сыщик отступил вглубь болота и с удивлением обнаружил, что земля тут более сухая, чем он ожидал. А потом неожиданно он оказался на краю болотной прогалины, посреди которой сверкала черная вода. И в этой воде что-то двигалось. Детектив инстинктивно отскочил, так как отлично знал, кто может смотреть на него из чернильной воды горящими в темноте глазами.
И тут его сзади обхватили сильные руки, больше напоминающие лапы обезьяны.
Харрисон резко наклонился, а потом по-кошачьему выгнул могучую спину. Его противник соскользнул вперед и упал на землю, но так и не выпустил из рук куртку полицейского. Харрисон качнулся назад. От чудовищного напряжения затрещали швы рукавов, но детективу удалось освободиться.
Его противник тут же вскочил на ноги. Он стоял на краю омута, рыча, словно дикий зверь. Харрисон разглядел нападавшего. Это был полуобнаженный негр огромного роста Длинные косицы спутанных волос, окаменевшие от засохшей на них грязи, отчасти закрывали его перекошенное злобой лицо. На толстых вывороченных губах выступила пена.
Детектив сразу понял, что перед ним Болотный Кот.
В левой руке негр все еще сжимал оборванный рукав куртки, но в правой блестела сталь. Словно предчувствуя следующее движение безумца, детектив пригнулся и выстрелил от бедра. Брошенный нож просвистел у него над ухом в тот же миг, когда прогремел выстрел.
Болотный Кот качнулся и рухнул спиной вперед в черную промоину. Во все стороны полетели брызги, вода вспенилась, и на мгновение детектив увидел тупую морду рептилии, но аллигатор тут же скрылся под водой вместе с раненым негром.
Харрисон отступил, а потом замер, услышав треск ветвей, — подручные Бартоломью продирались сквозь лес, ориентируясь на звук выстрела. Детектив отступил в тень к зарослям молодых эвкалиптов[67] и стал ждать, держа револьвер наготове. Через несколько секунд преследователи — сам Джон Бартоломью и четверо негров — выскочили на берег омута.
Они разошлись вдоль прогалины, а потом Бартоломью рассмеялся, показав на окровавленные клочья одежды, которые плавали на поблескивающей вспенившейся воде.
— Вот куртка этого придурка! Должно быть, он вбежал прямо в воду и 'гатор его слопал! Я-то знаю, в какое бешенство они приходят, если кто-то лезет в их камыши. Слышите треск костей?
Смех Бартоломью звучал до такой степени «по-злодейски», что в других обстоятельствах это показалось бы наигранным.
— Ну, о нем можно больше не беспокоиться, — продолжал мулат. — Если власти пришлют кого-то на поиски этого детектива, мы скажем правду: он сошел с тропы, оступился, упал в омут — и его схватил аллигатор. Точно так же, как Селию Помполои.
— Эх, и вопила же она, наверное, от ужаса, когда 'гаторы тащили ее к воде! — произнес один из болотных негров.
— Да уж. И мы никогда не найдем от нее ни косточки, — добавил Бартоломью.
— А этот детектив сказал, в чем вина китайца? — спросил другой негр.
— Только подтвердил, что китаец сказал правду: он убил человека.
— Лучше бы он банк ограбил, — равнодушно заметил кто-то. — Тогда у него были бы деньги.
— Лучше. Но он не ограбил банк, — процедил Бартоломью. — Ты же видел, как мы его обыскивали. Ладно, теперь возвращайтесь к остальным и помогите им с китайцем. Этот желтопузый — тертый калач, но мы не можем себе позволить выпустить его. Завтра на его поиски сюда явится куча народу, и если они доберутся до него раньше, чем будет сделано дело, то узнают обо всем! — Он вновь зловеще и многозначительно рассмеялся. — Поспешите! Ступайте! Я хочу побыть один. Мне нужно поговорить с духами и совершить несколько обрядов, связанных со смертью, так что оставьте меня одного. Ступайте!
Негры, раболепно кланяясь, отступили, а потом, повернувшись, направились к хижине. Вскоре мулат не спеша последовал за ними.
Харрисон глядел им вслед, прокручивая в голове все, что только что узнал. Часть сказанного показалась ему тарабарщиной, но определенные вещи он понял совершенно четко. Первое: китаец, без сомнения, жив и где-то прячется. Второе: Бартоломью лгал, когда говорил о своих отношениях с болотными жителями. Да, он не был одним из них, но определенно верховодил над ними.
И еще: Бартоломью соврал им относительно денег. А может, и нет? Харрисон вспомнил, как изменилось выражение лица мулата, когда он упомянул о десяти тысячах. Возможно, Бартоломью ничего и не знал о деньгах, может быть, китаец, подозревая что-то, спрятал деньги под кроватью до того, как на него напали?
Харрисон вышел из тени и прокрался следом за неграми. Пока те считали, что он мертв, он мог продолжать свое расследование, не боясь погони. Его рубашка из темного материала не отсвечивала в темноте. Детектив, несмотря на свой огромный рост, был мастер скрадывания. Ему часто приходилось использовать всевозможные трюки при работе во всякого рода «восточных» (китайских, в частности) кварталах, где за тобой постоянно кто-то следит и стремится подслушать все, что ты ни скажешь.
Выйдя на край поляны, посреди которой стояла хижина Бартоломью, детектив увидел, как четверо из его врагов уходят по тропинке, ведущей вглубь болот. Они шли след в след, рослые, сутулые, втянув головы в плечи и наклоняясь всем корпусом вперед, как обезьяны. Бартоломью, судя по всему, собирался отправиться назад, в хижину. Харрисон последовал было за уходящими неграми, но потом заколебался.
Бартоломью был сейчас в его власти. Детектив мог прокрасться в хижину, приставить револьвер к виску мулата и потребовать, чтобы тот рассказал все, что знает о китайце: где тот может скрываться и где негры его спрячут (если поймают), прежде чем скормить аллигаторам. Однако Харрисон знал, что такие, как мулат, могут быть очень упрямыми.
Пока он размышлял в хижину, Бартоломью остановился на пороге перед хижиной. Мулат жевал табачную жвачку, настороженно вглядываясь в тени. В руке у него была тяжелая плеть. Потом он шагнул в ту сторону, где среди ветвей скрывался детектив.
Бартоломью прошел всего в нескольких ярдах от укрытия, и лунный свет высветил его черты. Харрисон с изумлением отметил, насколько изменилось лицо главного из его противников: тот теперь выглядел поистине демонически, будто исполненный некой зловещей потусторонней силы.
Харрисон изменил свои планы, решив поохотиться за Бартоломью. Теперь ему казалось особенно важно узнать, что еще скрывает этот человек. Это оказалось несложно: Бартоломью не смотрел ни назад, ни по сторонам. Однако мулат пошел странным, петляющим маршрутом, то и дело обходя темные омуты и завалы гниющей посреди трясины растительности, которая даже в лунном свете выглядела ядовитой. Детективу постоянно приходилось идти пригнувшись, чтобы его не заметили.
Неожиданно впереди показалась хижина, спрятанная среди деревьев, заросшая испанским мхом,[68] очень похожим на серую вуаль. Бартоломью огляделся, потом вставил ключ в скважину большого замка, висящего на двери. Харрисон не сомневался, что преступник привел его туда, где на самом деле держат Вэнь Шана.
Бартоломью исчез внутри хижины, прикрыв за собой дверь. Свет замерцал в щелях между бревнами. Потом послышались негромкие голоса. Разговаривали шепотом, слишком тихо, чтобы Харрисон смог различить голоса. Потом последовал вполне определенный звук: свист и хлопок плети, ударившей по обнаженной коже. Кто-то пронзительно закричал от боли. Только тогда Харрисон догадался: Бартоломью втайне прокрался к своему пленнику, чтобы пытать его… И для этого у мулата была весьма веская причина: он хотел узнать, куда китаец спрятал деньги, о которых сказал ему детектив. Очевидно, Бартоломью не хотел делиться ими со своими людьми.
Харрисон начал осторожно пробираться к хижине, намереваясь ворваться в нее и прекратить истязания. Он и сам с удовольствием пристрелил бы Вэнь Шана, но мысль о пытках ему, как любому цивилизованному человеку, была чужда. Однако, прежде чем он добрался до хижины, звуки ударов смолкли, свет потух, и мулат вновь появился на пороге. Вытерев пот со лба, он запер дверь, убрал ключ в карман и, поигрывая плетью, удалился. Харрисон присел на корточки, укрывшись в тени. И опять Бартоломью прошел мимо сыщика, так и не заметив его.
Теперь детектив окончательно сделал выбор: сперва предстояло заняться Вэнь Шаном, а мулатом он займется чуть позже.
Когда мулат исчез, Харрисон поднялся и широким шагом подошел к хижине. Отсутствие стражи ничуть не озадачило детектива, тем более после разговора, который он слышал ранее. Да и не было времени строить различные гипотезы. Дверь была заперта на толстую цепь, которая удерживала массивный засов. Однако, просунув дуло револьвера в щель между досок и используя его как рычаг, Харрисон без особого труда справился с проблемой.
Чуть приоткрыв дверь, детектив заглянул внутрь хижины. Внутри было очень темно, но он услышал чье-то дыхание, прерываемое истерическими всхлипами. Детектив чиркнул спичкой, потом поднял ее повыше над головой. Пленник находился тут — скорчившись, лежал на грязном полу. Но это оказался вовсе не Вэнь Шан. Это была женщина.
Мулатка — молодая и по-своему красивая. На ней была лишь короткая, изорванная в лохмотья нижняя сорочка. От связанных за спиной рук тянулась длинная веревка из сыромятной кожи, прикрепленная к тяжелой скобе в стене. Девушка, замерев, смотрела на Харрисона. В ее взгляде читался одновременно и ужас, и надежда. Слезы катились по ее щекам.
— Кто ты такая, черт побери? — спросил детектив.
— Селия Помполои! — Голос у нее оказался глубоким и музыкальным, хотя сейчас он дрожал — девушка готова была впасть в истерику. — Белый человек, прикончи меня, ради бога! Я не могу больше терпеть. Я все равно умру, я знаю!
— Я думал, ты уже мертва, — пробормотал детектив.
— Все это подстроил Джон Бартоломью! — воскликнула несчастная. — Он привел смуглую девчонку «извне» сюда, на болота, потом убил ее и одел в мое платье. После он бросил труп в болото аллигаторам, и те обгрызли его так, что никто не мог распознать. Когда люди нашли тело, они решили, что это и есть я, Селия Помполои. Он держит меня тут уже три недели и пытает каждую ночь.
— Почему?
Харрисон обнаружил огарок свечи, оставленный на полочке у входа, и сразу запалил его. Потом он подошел к девушке и разрезал кожаные ремни, освободив ее руки. Она покачиваясь, встала, растирая окровавленные и распухшие запястья. Скудный наряд не позволял усомниться в ее словах: все тело было покрыто рубцами, мулатка, безусловно выдержала не одну жестокую порку.
— Он настоящий дьявол! — Ее темные глаза смертоносно сверкнули. Кем-кем, а уж смирившейся жертвой она себя явно не считала. — Он явился на болота, назвавшись жрецом Великой Змеи. Он сказал, что приехал с Гаити… лживый пес. На самом деле он из Санто-Доминго[69] и такой же жрец, как ты… Я — истинная жрица Змеи, поэтому люди повиновались мне! Вот почему он попытался убрать меня с дороги. Я убью его!
— Но зачем он истязал тебя?
— Потому что я не говорила ему того, что он хотел знать, — угрюмо ответила девушка.
Опустив голову и поджав одну обнаженную ногу — ни дать, ни взять провинившаяся школьница, стоящая перед учительницей, — она, казалось, размышляла, стоит ли говорить дальше или этого ее объяснения Харрисону уже более чем достаточно. Его белая кожа являлась непреодолимым препятствием. Белому не следовало знать тайны болот. Наконец девушка решилась и продолжила:
— Он явился сюда, чтобы украсть одну драгоценность — Сердце Великой Змеи, которое мы привезли сюда с Гаити давным-давно. Он не был жрецом. Самозванец. Он почему-то решил, что я отдам ему Сердце, а потом убегу с ним с болот. Когда я отказалась, он притащил меня в эту старую хижину — туда, где никто не услышит моих криков. Люди Болот избегают ее, так как считают, что это место проклято и тут обитают призраки… Он сказал, что станет пороть меня до тех пор, пока я не скажу ему, где спрятано Сердце, но я никогда не открою ему этот секрет, даже если он сорвет всю плоть с моих костей. Я одна знаю эту тайну! Потому что я — истинная жрица Змеи и хранительница ее Сердца!
Судя по всему, она свято верила в свой культ — одну из ветвей вуду и в самом деле считала себя истинной жрицей.
— А ты не слышала ничего о китайце Вэнь Шане? — продолжал задавать вопросы детектив.
— Джон Бартоломью как-то упомянул о нем, похваляясь. Этот китаец — он пришел на болота, чтобы спрятаться от блюстителей порядка, и Бартоломью пообещал ему помочь. Потом он позвал людей болот, и они схватили китайца. Тот успел тяжело ранить ножом одного из людей Бартоломью, но они сумели взять Вэнь Шаня живым…
— Зачем он им нужен?
Селию, казалось, охватило то мстительное состояние, какое порой бывает только у женщин, и она готова была рассказать обо всем, даже о том, о чем в обычной обстановке никогда не помянула бы.
— Бартоломью объявил, что в старые времена был великим жрецом. Сказал, что понимает желания людей. Пообещал, что вернет… жертвоприношения. Мы сами отказались от них более тридцати лет назад. Тогда мы приносили жертвы Великой Змее: красного и белого петуха. Но Бартоломью обещал им… козла без рогов. Однако провести обряд он сможет, только когда Сердце окажется в его руках. Именно поэтому он и ищет его. На самом же деле он хотел завладеть Сердцем и сбежать еще до начала обряда жертвоприношения. Но мой отказ спутал его планы. А у людей постепенно начинает таять терпение. Если он не выполнит обещанное, они просто-напросто его убьют… Вначале он решил сделать жертвой негра «извне», того Джо Корли, который прятался на болотах. Но когда появился китаец, Бартоломью решил, что тот лучше подойдет на роль жертвы. А сегодня Бартоломью сказал мне, что у китайца были деньги, и теперь он заставит рассказать желтопузого, где тот их спрятал. Так что он собирается получить деньги и Сердце, как только я сдамся и расскажу ему, где оно спрятано…
— Подожди минутку, — попросил Харрисон. — Разъясни-ка мне, что собирается сделать Бартоломей с Вэнь Шаном?
— Он отдаст его Великой Змее, — ответила девушка, сделав традиционный жест умиротворения и обожания, словно произнесла имя, которое должно внушать благоговейный трепет.
— Человеческое… жертвоприношение?..
— Да.
— Ну и ну, будь я проклят! — воскликнул детектив. — Если б я сам не вырос на Юге, никогда бы в это не поверил. Когда же состоится жертвоприношение?
— Сегодня ночью!
— Ты уверена? — Едва успев произнести эти слова, детектив вспомнил инструкции, которые Бартоломью давал своим подчиненным. — Черт побери! Где это случится и когда?
— Перед самой зарей, на дальней окраине болот.
— Я должен отыскать Вэнь Шана и остановить это! — воскликнул детектив. — Где его держат?
— В месте для жертвоприношений. Его охраняет множество людей. Тебе никогда не найти дорогу туда. Ты утонешь в трясине или попадешь в пасть 'гатору. Ну а если ты все же доберешься туда, Народ Болот разорвет тебя на куски.
— Отведи меня туда, а о «народе» я позабочусь сам, — хрипло произнес он. — Ты же хочешь отомстить Бартоломью. Все так и будет: отведи меня туда, и этого окажется довольно. Я всегда работаю один, — сердито добавил Харрисон. — Так что не думай, что изменяю этому принципу ради твоих прекрасных глаз. Но это болото все же поопаснее какой-нибудь мирной Ривер-стрит…
— Хорошо! — Ее зрачки сверкнули, и она оскалилась в предвкушении мести. — Я отведу тебя к Алтарю.
— Сколько времени займет эта «прогулка»?
— Около часа. Если бы ты шел сам, то понадобилось бы много больше времени. А так мы двинемся напрямую. Чужому там не пройти…
— Я буду идти за тобой след в след, — пообещал детектив. Он взглянул на часы, потом погасил свечу. — Раз так — идем прямо сейчас. Двигайся самым кратким маршрутом, а обо мне не беспокойся. Я сам смогу за себя постоять.
Девушка крепко сжала запястье детектива и чуть ли не вытолкнула его через дверь, дрожа от нетерпения, словно гончая, почуявшая дичь.
— Постой. — Детектив остановился, пораженный неожиданно пришедшей идеей. — А что, если вернуться в твою хижину и арестовать Бартоломью…
— Его там уже нет. Он, конечно, отправился к Алтарю. Так что лучше и нам поспешить туда.
ГЛАВА 3
Храм вуду
Харрисон на всю жизнь запомнил ночную прогулку через болота в компании Селии Помполои. Они шли там, где, казалось, пройти невозможно. Грязь чавкала под ногами, иногда черная гнилая вода доходила до колен, но Селия уверенно находила твердую землю там, где должна была разверзнуться бездонная трясина. Она вела детектива по болоту, где мох прогибался под весом человека. С легкостью девушка прыгала с кочки на кочку, скользила между омутами черной воды, в которых шевелились неповоротливые аллигаторы. Харрисон едва поспевал за ней. Он вспотел, его мутило от невыносимого зловония, исходившего от липкой грязи, заляпавшей всю его одежду. Но в нем проснулся некий инстинкт, присущий разве что бульдогам. Он готов был неделю идти через болото, так как был уверен, что на другом конце пути тот, на кого он охотился. Влажные, низкие облака затянули небо, где раньше ярко сияла луна, и теперь Харрисон то и дело спотыкался, словно слепой, полностью зависящий от своего поводыря. Селия тенью скользила перед ним, ее смуглое полуобнаженное тело было неразличимо во тьме.
А потом где-то впереди зазвучали барабаны. И чем дальше шли девушка с детективом, тем громче становились звуки. За черными силуэтами деревьев возникло красное мерцание.
— Огни для жертвоприношения! — задохнулась Селия, прибавив шаг. — Поспешим!
Где-то в большом тяжелом теле Харрисона словно включился резервный источник энергии. Детектив, казалось, летел следом за девушкой. А она легко бежала по болоту, где вода доходила ей до колена. Она обладала инстинктом, присущим лишь обитателям болот, отлично зная, куда ступать.
Впереди Харрисон увидел что-то сверкающее — и понял, что это не грязевое поле. Через несколько секунд Селия остановилась у настоящего озерца, пускай вода в нем была смрадной и нездоровой на вид.
— Место, где расположен Алтарь, со всех сторон окружено водой. Туда ведет только одна тропинка, — прошептала она. — Мы в самом сердце болот. Сюда обычно никто не заходит. Тут нет хижин. Следуй за мной! Мы пойдем по мосту, о существовании которого никто, кроме меня, не знает.
В озерцо впадало нечто вроде реки, причем с проточной водой, хотя течение было едва заметным. Там, где, вялый поток суживался до пятидесяти футов, лежало упавшее дерево. Селия забралась на него и пошла по стволу, балансируя руками. Несколько шагов, и она оказалась на другой стороне — стройная, призрачная фигурка в облаке лунного света. Харрисон же сел на бревно верхом, а потом стал медленно продвигаться вперед, самым постыдным образом отставая от своей спутницы.
Что поделать: он был слишком тяжел для эквилибристики. Его ноги болтались всего в футе от темной поверхности болота, и Селия, попеременно наблюдавшая то за его движениями, то за мерцанием света впереди, вдруг, в очередной раз взглянув на него, закричала, предупреждая об опасности.
Харрисон вовремя поджал ноги. Из воды высунулось что-то огромное и ужасно клацнуло гигантскими челюстями.
Харрисон с огромной скоростью прополз по бревну оставшиеся несколько футов и вылез на берег. Чувствовал он себя при этом, мягко говоря, сильно обескураженным. Преступники с ножами в темной комнате ничуть не пугали его, а вот чудовищные твари из глубины болот…
Но теперь наконец под ногами сыщика была твердая земля.
Они, как и говорила Селия, оказались на островке в самом сердце болот. Девушка сразу направилась дальше. Задыхаясь от переполнявших ее эмоций, мулатка торопливо пробиралась сквозь заросли кипарисов. Она вся взмокла от пота, рука, державшая Харрисона за запястье, стала влажной и скользкой.
Через несколько минут, когда сверкающие огни за деревьями стали ослепительными, Селия остановилась и опустилась во влажную плесень, потащив за собой своего спутника. Перед ними открылась невероятная картина: такое могло происходить разве что в далекие времена, когда человек только-только стал человеком.
Перед девушкой и детективом раскинулась поляна, очищенная от кустов, но по краям окруженная черной стеной кипарисов. С одной стороны была утоптанная дорога, которая уходила куда-то во тьму. С другой — низкий холм. Эта дорога, видимо, и была окончанием той тропинки, по которой Харрисон пришел на болота.
За дорогой в свете факелов тускло мерцала вода. В конце дороги у подножия холма столпилось человек пятьдесят, в основном женщины и дети, чей цвет кожи — изжелта-смуглый — был точно таким же, как у Селии. Харрисон и не подозревал, что на болотах живет столько народу. Их взгляды были устремлены на колоду черного дерева, установленную у основания холма, — своего рода алтарь. А за колодой-алтарем стоял странный деревянный идол, вырезанный с таким дьявольским искусством, что в свете факелов казался живым. Детектив сразу же интуитивно понял, что подобное чудовище не могли вырезать в Америке. Чернокожие наверняка привезли его с собой с Гаити, точно так же, как в свое время их предки привезли его из Африки. Над идолом витала аура Конго, непроходимых джунглей — изгибающиеся, примитивные формы, присущие всему первобытному. Харрисон не был суеверным, но и он почувствовал, как по спине ползут мурашки. В его подсознании зашевелились воспоминания предков. Откуда-то всплыли неясные, чудовищные образы, порожденные в туманные дни на заре человечества, когда первобытные люди поклонялись чудовищным богам.
Перед идолом у алтаря сидела старуха, которая выбивала ладонями на барабане стаккато в невероятном ритме. Тамтам под ее руками то рычал, то бормотал, то громыхал. И сидящие на корточках негры раскачивались, подпевая в такт ритму. Хоть голоса и звучали приглушенно, в них явно угадывались истерические нотки. Выпученные глаза и оскаленные зубы чернокожих сверкали в свете факелов.
Харрисон же высматривал Джона Бартоломью и Вэнь Шана. Потянувшись, он коснулся руки своей спутницы, чтобы привлечь ее внимание. Но девушка не замечала его. Ее тонкая фигурка была напряжена, она дрожала всем телом, словно крепко натянутая проволока. Неожиданно песнопение изменилось, превратившись в дикие, волчьи завывания.
Из тени деревьев за идолом вышел Джон Бартоломью. На нем была лишь набедренная повязка, и со стороны казалось, что он снял с себя весь налет цивилизации вместе с нормальной одеждой. Выражение его лица совершенно изменилось. Теперь он стал истинным воплощением настоящего варвара. Харрисон разглядывал его мощные бицепсы, рельефные грудные мускулы, на которых играли отблески огня факелов. А потом произошло нечто, переключившее внимание детектива на себя. Рядом с Бартоломью показался другой человек. Видно было, что идет он неохотно, однако стоило ему появиться, по толпе прокатилась новая волна восторженных криков.
Могучей левой рукой Бартоломью держал за косу Вэнь Шана. Тот тащился за мулатом, словно баран, идущий на бойню. Китаец был совершенно голый, и его желтая кожа в свете факелов казалась настоящей слоновой костью. Руки несчастного были связаны за спиной, и он, словно ребенок, не мог ничего сделать против своего палача. Вэнь Шан сам по себе был небольшого роста, а рядом с гигантским мулатом он казался и вовсе крохой. Харрисон отчетливо различил его мучительные всхлипывания, после того как стихли крики приветствия, и смокли барабаны. Негры алчущими крови взглядами уставились на обреченного. Упираясь ногами изо всех сил, маленький китаец пытался воспрепятствовать движению вперед, но мулат был неумолим. В правой руке Бартоломью сверкал огромный и, видимо, острый, как бритва, тесак с клинком в форме полумесяца. Зрители затаили дыхание; в этот момент они перестали быть людьми двадцатого века, вся толпа словно бы разом сделала шаг назад, вниз по лестнице эволюции, возвращаясь в первобытные джунгли и превращаясь в настоящих дикарей. Они жаждали кровавого праздника, достойного их далеких предков.
На лице Бартоломью Харрисон заметил следы страха и безумной решимости. Он чувствовал, что ужасное доисторическое действо, невольным участником которого стал мулат, пугает его самого. Бартоломей отлично понимал, что должен сделать, и это его отнюдь не радовало. Речь уже не шла о праве владеть драгоценным сердцем бога-змеи, но подлинная борьба за жизнь: мулат вынужден был сейчас заплатить любую цену, чтобы и дальше повелевать этим волчьим братством дьяволопоклонников, от которых зависела его судьба.
Харрисон поднял револьвер и стал следить за происходящим через прорезь прицела. Расстояние до Бартоломью было не так уж велико, но освещение слишком иллюзорно. Он чувствовал, что должен с первого выстрела попасть в широкую грудь Джона Бартоломью. Если он выйдет на открытое место и попытается арестовать этого человека, негры в своем нынешнем состоянии, доходящем до фанатического экстаза, и в самом деле разорвут его на куски. Но если их верховный жрец падет с первого выстрела, среди них может начаться паника. Его палец уже замер на спусковом крючке, когда огни неожиданно погасли, и наступила полная темнота. А потом факелы вспыхнули снова, только огонь сделался теперь невероятного, колдовского цвета — зеленым. В этом свете лица собравшихся здесь больше всего напоминали лица трупов, не один день пролежавших в воде.
За те мгновения, что на поляне царила тьма, Бартоломью достиг алтаря. Мулат силой уложил на него голову жертвы и застыл над ним, словно бронзовая статуя. Правая рука его была высоко поднята, занеся над головой китайца острый, сверкающий сталью полумесяц. А потом, раньше, чем удар снес голову Вэнь Шана, раньше, чем Харрисон успел надавить на спуск, случилось что-то сверхъестественное, заставившее всех застыть на своих местах.
В призрачном зеленом мерцании рядом с Алтарем появилась еще одна фигура, такая гибкая, что, казалось, плыла над землей, а не шла по ней. Стон вырвался из глоток негров, и они опустились на колени. В зеленом мерцании, которое превратило ее прекрасные черты в настоящий лик смерти, Селия Помполои выглядела пугающе, словно труп утопленницы, поднявшийся из своей подводной могилы.
— Селия!
Этот крик разом вырвался из дюжины глоток. А дальше начался настоящий бедлам.
— Селия Помполои!
— Она восстала из могилы!
— Она вернулась назад из Ада!
— Да, да, псы! — Этот крик жрицы больше напоминал завывание призрака, чем человеческий голос. — Я — Селия Помполои! Я вернулась из Ада, чтобы отправить туда Джона Бартоломью!
И, словно разъяренная фурия, она бросилась вперед через поляну, залитую зеленым светом. Невесть откуда взявшись, в ее руке сверкнул нож.
Бартоломью, на мгновение парализованный ее появлением, быстро пришел в себя. Отпустив Вэнь Шана, он шагнул в сторону и взмахнул своим изогнутым клинком, вложив в удар всю свою силу. Харрисон видел, как желваками ходят мускулы под черной кожей мулата. Однако самозваный жрец промахнулся. Селия прыгнула на него, словно разъяренная пантера. Она проскользнула под идущим по широкой дуге взмахом тяжелого сверкающего клинка — и по самую рукоять вонзила свой нож в сердце Джона Бартоломью. Сдавленно вскрикнув, он повернулся и упал, увлекая девушку за собой, так как она не выпускала из рук кинжала, глубоко погрузившегося в грудь мулата.
Разжав наконец ладонь, она поднялась, задыхаясь от все еще не утоленного гнева. Ее волосы растрепались, глаза пылали, яркие губы скривились в дьявольском оскале. Люди закричали и разом отшатнулись от Селии. Они ведь считали, что она и в самом деле восстала из мертвых.
— Псы! — закричала она, переполненная яростью. — Глупцы! Свиньи! Почему вы утратили цель, забыли все, чему я вас учила, позволили этой собаке вновь сделать из вас животных, точно таких, какими были ваши предки? Ах вы!.. — Она схватила горящую ветвь и, словно плеть, обрушилась на толпу, хлеща налево и направо. Люди закричали от боли. Огонь жег их, искры слепили. Завывая, сыпля бранью и крича от ужаса, они развернулись и побежали всей толпой по мощенной стволами деревьев гати к своим хижинам, спасаясь от обезумевшей жрицы, которая, выкрикивая проклятия, продолжала хлестать их горящей ветвью.
Вскоре Народ Болот исчез в темноте, и его крики тоже затихли вдали.
Харрисон поднялся, тряхнул головой, отгоняя наваждение, и спокойно вышел на поляну. Бартоломью был мертв. Остекленевшим взглядом он уставился на луну, выглянувшую из-за рассеявшихся облаков. Вэнь Шан стоял рядом с алтарем на коленях и что-то бессвязно бормотал по-китайски. Харрисон рывком поднял его на ноги.
— Вэнь Шан, я арестовываю вас за убийство Ли Кэньцуна, — устало объявил детектив. — Предупреждаю, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
Эта официальная формула придала всей сцене еще один штрих безумия, являя полный контраст с тем ужасом, который совсем недавно царил вокруг. Китаец даже не сопротивлялся. Он был слишком потрясен. Все, что он мог, так это прошептать:
— Это разобьет сердце моего почтенного отца. Он скорее предпочел бы увидеть меня мертвым, чем принять такой позор.
— Об этом нужно было думать раньше, — устало произнес Харрисон.
Потом он разрезал веревку на запястьях Вэнь Шана и хотел было надеть на него наручники, но вспомнил, что они остались в кармане, а значит, пропали где-то в глубине трясины.
— Ладно, — вздохнул детектив. — Не думаю, что тебе понадобятся наручники. Пойдем-ка отсюда.
Положив свою тяжелую руку на плечо голого пленника, он то ли повел, то ли потащил его к мощеной гати. У Харрисона кружилась голова от усталости, но неуемное желание препроводить своего пленника в тюрьму не давало ему остановиться. Он больше не ощущал страха перед Людьми Болот, но хотел побыстрее покинуть эти места, словно погруженные в гниение. Вэнь Шан то и дело оглядывался по сторонам. Глаза китайца бегали из стороны в сторону, словно он все еще не мог оправиться от ужаса.
— У меня есть десять тысяч долларов, — неожиданно заканючил он, — я успел их спрятать перед тем, как негры схватили меня. И я отдам их вам, если вы отпустите меня…
— Ох, заткнись уж! — тяжело вздохнул Харрисон, сердито пнув своего пленника.
Вэнь Шан споткнулся и упал на колени, его голое плечо выскользнуло из руки Харрисона. Детектив остановился и хотел было снова схватить китайца, но тот, подхватив с земли обломок сука, отскочил в сторону и дико закружил над головой этим жалким подобием оружия. Харрисон отшатнулся, едва не упав, а китаец в последней безнадежной попытке обрести свободу не бросился бежать по дорожке, на которой стоял детектив, а устремился к черной воде, мерцающей за рядом кипарисов. Харрисон навскидку выстрелил ему вслед, но, похоже, не попал. Вэнь Шан добежал до берега и бросился в омут.
Какое-то время детектив наблюдал, как китаец, загребая, плыл к нависающим над водой папоротникам. А потом ночь прорезал дикий крик. Вода возле пловца вздыбилась, потом словно бы вскипела, и на мгновение над поверхностью мелькнул гребнистый изгиб ужасного тела рептилии. Еще через секунду смешанная с кровью вода сомкнулась над головой преступника.
Харрисон перевел дух и тяжело опустился на ближайший трухлявый пень.
— Ладно, — устало пробормотал он себе под нос. — Вот и закончилась погоня. Так, пожалуй, будет даже лучше. Семья Вэнь действительно испытает облегчение, узнав, что их преступный сын умер, а не опозорил род, оказавшись в тюрьме. В отличие от него, это — достойные люди. Только вот рассказывать о том, как Селия зарезала Бартоломью, пожалуй, не стоит. Не хотелось бы, чтобы она пострадала из-за убийства этой мерзкой крысы — а по закону-то она все равно будет виновна… Нет, пусть все это останется в прошлом. А мне, пожалуй, пора идти: нужно вернуть деньги внучке старого Ли Кэньцуна. К тому же мне сейчас просто необходим хорошо прожаренный стэйк, а потом мягкая перина — и другие блага цивилизации…
Роберт Эсташ ТАК ГОВОРИЛ ШИВА
Тем летом мне случилось получить приглашение отужинать в Вэлкам-клубе при Выставке в Эрлс-корте вместе с одним моим знакомцем-медиком и несколькими его коллегами. И вот один из них, некий доктор Лорье, многообещающий молодой человек, несмотря на юные годы ставший уже признанным специалистом по душевным болезням (в тот вечер он как раз отмечал назначение в одну из крупнейших лондонских лечебниц для умалишенных), рассказал нам следующую занятную историю.
— Должен заметить, мистер Белл, — начал он, — причуды человеческого разума — область весьма обширная и доселе не исследованная. Скажем, недавно я столкнулся с примечательным и ужасным случаем умственного расстройства. Что любопытно, больной не опустившийся отщепенец, а джентльмен, вхожий в лучшие дома. Он не женат, владелец прелестного поместья в провинции. Детство и юность он провел в Индии — там он и помешался на теме, которая ныне выросла до ужасающей в своем величии мономании.
— Вот как? Прошу же, расскажите, пожалуйста. Если, разумеется, это не будет идти вразрез с медицинской этикой.
— Едва ли я заговорил бы об этом человеке, не будь у меня намерения поведать, насколько возможно, его историю.
— Знакомы мы уже много лет — точнее, много лет встречаемся в городе то здесь, то там. Но недавно ко мне зашел его племянник, весьма озабоченный состоянием здоровья дядюшки. Дело в том, что оный дядя уже много лет как буквально помешан на некой смеси теософии и спиритизма, со всеми их махатмами и прочей ерундистикой. Разумеется, он свято верит в свой дар говорения с духами и регулярно устраивает различные представления самого странного рода.
— Но позвольте! Подобное помешательство — совершенно невинно, и вы не вправе называть человека безумцем только из-за его убеждений. Ведь тогда сотням наших с вами современников место в желтом доме!
— Разумеется, оно невинно — ровно до тех пор, пока не переходит границы глупостей наподобие столоверчения или материализации духов. Но не когда увлечение (или же скажем прямо — помешательство) ведет к совсем иным практикам, многие из которых, как в нашем случае, несут даже непосредственную угрозу жизни и здоровью человека.
— Разумеется. Значит, его убеждения превратились в некое странное наваждение? Но как?
— О… Видите ли, мой пациент некогда увлекся индуизмом настолько, что даже получил жреческое посвящение. Разумеется, он поддерживал тесные связи с другими… жрецами, особенно с одним брамином высокой степени посвящения, владельцем примечательной скульптурной группы, изображавшей Тримурти, индостанскую Троицу — то есть Брахму, Вишну и Шиву. И вот неким неизвестным мне образом мой пациент сумел заполучить одну из статуй — а конкретно, статую Шивы, которую он увез в Британию и поместил в картинной галерее своего поместья. Еще тогда, надо сказать, он верил, что идола вручила ему сама судьба, и приписывал статуе некие божественные или, по крайней мере, сверхъестественные качества. Теперь же его помешательство дошло до того, что идол с ним якобы заговорил — на хинди, разумеется. Это мне поведал его племянник. Как и то, что бедняга каждый вечер преклоняет перед своим богом колени, и тот отдает ему распоряжения на грядущий день. Эти приказы абсолютно бессмысленны, даже безумны. Следуя им, мой пациент почти растратил свое немалое состояние, выбрасывая огромные деньги на украшение омерзительного идола — рубины, сапфиры, бриллианты, золото. Он полностью отказался от своей воли, руководствуясь лишь «приказами» идола. Есть и еще кое-что. С этим моим пациентом проживает его племянница — милая юная леди, которой он всегда весьма симпатизировал Теперь же все резко изменилось: он гонит девушку прочь, всячески третирует, даже угрожает убить ее — как он утверждает, в наказание за предательство, о котором ему сообщил, как и следовало ожидать, бог Шива. Юноша, обратившийся ко мне за помощью, помолвлен с бедняжкой и конечно, волнуется за нее; однако беда в том, что юная леди глубоко привязана к своему дяде и отказывается подтвердить обвинения в его адрес. Например, отрицает, что тот грозил ей смертью, — несмотря на то, что это было сказано в присутствии молодого человека, племянника. Итак, требуется беспристрастный вердикт врача — на этом настаивают друзья и родственники бедняжки. И завтра я отправляюсь к ним, дабы лично освидетельствовать шивопоклонника.
— Я так понимаю — вердикт, строго говоря, уже готов?
— Отнюдь нет. Он будет вынесен, только если я засвидетельствую ясные признаки его болезни.
— Великая власть вручена вам, психиатрам! — воскликнул я. — Власть оторвать человека от его близких и навеки заточить в стенах больницы… И сколь страшна эта власть в руках недостойного человека![70]
Доктор Лорье сдвинул брови и бросил на меня острый и резкий взгляд.
— К чему это вы? — уточнил он. — Разумеется, никто не застрахован от ошибки; но эти ошибки — единичные, смею заметить, — не отменяют требований закона: добросовестности суждения и тщательности заботы о больном.
— Все так, все так, и не мне судить, но… Но, будь я врачом, я никогда не осмелился бы подписать акт о недееспособности.
Завершить беседу нам не довелось — ужин подошел к концу, и гости уже расходились.
У ворот я поймал доктора Лорье и, отведя в сторону, попросил:
— Не могли бы вы… это дерзость с моей стороны, просить вас о подобном, но… видите ли, величайшая страсть в моей жизни — это нераскрытые тайны, загадки. И вы показали мне одну из наиболее занятных. Не могли бы вы поведать мне о результатах вашего завтрашнего визита к тому теософу?
Я наскоро нацарапал на карточке свой адрес и протянул психиатру, уверенный, что ее сей же час вернут с негодованием. Но доктор Лорье лишь улыбнулся — или так мне показалось в свете приворотных фонарей?
— Всенепременно. Не могу отказать вам в просьбе, если для вас это столь важно. Вечер добрый.
Мы пожали друг другу руки и разошлись.
* * *
Признаться, за делами я позабыл и доктора Лорье, и его обещание — тем большим было мое изумление, когда в понедельник он явился ко мне.
— Я явился выполнить данное вам слово. Однако позвольте не только удовлетворить ваше законное любопытство, но и спросить вашего совета: сколько я понимаю, дело оказалось больше по вашей части, нежели по моей.
— Вот как?! Что же случилось?
— Об этом я и намерен вам рассказать. Но сначала — поклянитесь сохранить в тайне все, что я вам расскажу. Если узнают, что я советовался с вами… это совершенно убьет мою репутацию.
Разумеется, я пообещал молчать.
— В таком случае — слушайте. Мой пациент — это Эдуард Тезигер из поместья Инд, что в Сомерсетшире. Туда я и направился — как было оговорено. На станции меня встретил Джаспер Багвелл, племянник — любознательный молодой человек, худой, невысокого роста. Он подвез меня в Инд, где я встретился с доктором Дальтоном — лечащим врачом моего пациента. Оба мы, независимо друг от друга, пришли к печальному выводу: мистер Тезигер — несомненно, сумасшедший.
После обеда все мы — то есть Багвелл, Тезигер, Дальтон и я — вышли прогуляться. Внезапно нас нагнала племянница моего пациента. Она некоторое время следила за мной взглядом, а затем подошла и вполголоса сказала, что ей надо поговорить со мною наедине. Конечно же, я исполнил ее просьбу.
— Я резко сбавил шаг, — продолжал Лорье, — и вскоре мы как бы ненароком отстали от наших спутников. Тогда она спросила, считаю ли я ее дядю душевнобольным. Я ответил, что не готов пока вынести свое суждение. «Что ж, — ответила она, — тогда послушайте, что я вам скажу. Джаспер что-то задумал, зря вы его слушаете. Дядя, конечно, чудной человек, нельзя не признать. И идолу Шивы он служит — ну так он же настоящий брамин, не ряженый». И она расплакалась, а затем, сглотнув слезы, добавила: «Мне так его жаль!» В удивлении я не мог не спросить — почему она столь враждебно настроена к Джасперу Багвеллу, ведь он же ее жених?! Та заметно смутилась и словно бы испугалась. «Я — она медлила, подбирая слова, — я дала свое согласие только потому, что это единственный способ спасти дядюшку», — наконец ответила она. Я не сдержал изумления. «Хотела бы я сказать больше, но не смею, — горько сказала та. — Жалкое я существо! Я только могу сказать, что убеждена: дело нечисто. Поверьте! Вы верите мне?!» Вразумительного ответа я ей дать не смог, и вскоре она оставила меня, присоединившись к любимому дядюшке.
Тем же вечером мне представился случай побеседовать наедине с этим самым дядюшкой. Тогда он открыл мне то, что дотоле держал в секрете. Сперва он долго распространялся про Индию, в особенности же — про индуизм и религию браминов, про статую Шивы, которую он поместил в мраморной галерее, дабы ничто не мешало проводить перед ней положенные священнодействия. Склонившись ко мне и не отводя от меня взгляда, он со всей серьезностью сообщил, что с помощью неких обрядов и молитв смог добиться от идола внятных ответов, высказанных на святом языке Индии — санскрите. Что идол совершенно подчинил его себе и что он, Эдуард Тезигер, не мыслит ослушаться его приказов. «Шива суров и не терпит промедления, — сказал он мне с глубокой верой в свои слова. — Даже когда его приказы поистине ужасны. Но идемте: вы должны сами его увидеть».
Разумеется, я согласился. И вот мы, миновав столовую и зимний сад, вышли в овальную залу. Там, на пьедестале, громоздилось это омерзительное чудовище — деревянное подобие человека о пяти головах, с трезубцем в одной из рук.[71] Признаться, я не удержался от улыбки, не в силах представить, что нормальный (да и ненормальный) человек может верить в подобную противоестественную гадость.
Тем не менее я настоял, чтобы мой безумец предпринял все шаги, которые требуются для того, чтобы заставить статую «говорить», — таким образом я надеялся убедиться в своем диагнозе.
— Безумец охотно послушался, — доктор кивнул сам себе, — да, да, охотно послушался и с самым ответственным видом произвел все положенные действия, весьма причудливые. Затем он пригасил лампу и, склонившись на колени, начал беседовать с идолом, время от времени умолкая — очевидно, прислушиваясь к одному ему ясному ответу. Несколько минут продолжалась эта «беседа», после чего пациент сказал, что Шива закончил. Я возразил, что не слышал ни слова, и меня назвали лжецом.
Он подкрутил фитиль, и в более ярком свете лампы я заметил, что деревянный уродец украшен драгоценными камнями. Оставлять их безо всякой охраны в людном месте — само по себе повод усомниться в душевном здоровье человека. Да, все симптомы совпадали — и все же мною владело странное беспокойство, и я никак не мог решиться подписать акт. В тот же вечер Багвелл явился поторопить меня. К его — да и к собственному — изумлению, я отказал, сославшись на то, что случай сложный и требует дополнительного освидетельствования. Тот настаивал, но я был тверд — к его большому недовольству.
— И что же?
— И вот я здесь, прошу у вас совета. Ваши слова о великой и страшной ответственности преследовали меня.
— Доктор Лорье, я был бы бесконечно рад вам помочь, но чем же я могу быть вам полезен? Я мало разбираюсь в болезнях, тем паче — в душевных. Мисс Тезигер говорила, что дело нечисто… а вы? Вы сами что-то подозреваете?
— Доказательств у меня нет, и все же — да, я чувствую какую-то ложь. Но — доказательств нет.
— И я нужен вам, чтобы их добыть?
— Именно. Надеюсь, вы согласитесь отправиться со мной в Инд — как мой друг и один из ведущих британских эзотериков? Мистер Тезигер будет рад пообщаться с человеком, разделяющим его взгляды. Итак?
Прямо сказать, роль была не из тех, которые я сыграл бы с радостью; но дело было и впрямь интересным, а мысль, что дело может оказаться в рамках моей компетенции, решила все. Я согласился.
На другой день доктор Лорье известил Инд о нашем намерении их навестить; нам телеграфировали, что ждут с нетерпением. Тем же вечером мы уже были в поместье, где нас встретила высокая девушка с двумя великолепными ретриверами на поводке — та самая мисс Тезигер.
Доктор Лорье велел вознице остановиться, спрыгнул на землю и подошел поприветствовать хозяйку. Я последовал за ним.
— Мисс Тезигер, — заговорил он с ней. — Позвольте представить вам моего старинного друга, мистера Джона Белла.
Девушка внимательно осмотрела меня и, видимо, осталась довольна — ее глаза тепло улыбнулись мне.
— Зачем вы приехали? — резко развернулась она к доктору Лорье.
— Увидеться с вашим дядей.
— И с доктором Дальтоном? — Ее губы дрогнули.
— Полагаю, да. Поверьте, я прибыл не за тем, чтобы причинить горе вам и вашей семье. Напротив: я прибыл, чтобы найти истину. И в этом мне поможет мой дорогой друг.
— Истину? Значит, вы тоже полагаете, что дело нечисто? — В ее глазах вспыхнула надежда.
— У меня нет на то оснований.
— Но они есть! Неужели вы мне не верите? Я… — Она осеклась и резко обернулась.
За спиной у нее послышались быстро приближающиеся шаги.
— Это он! Он меня преследует! Доктор, мистер Белл — я должна встретиться с вами или с одним из вас. Наедине. Это очень важно!
Не успели мы ей ответить, как перед нами предстал Джаспер Багвелл.
Он поприветствовал нас и проводил свою кузину-невесту внимательным и недобрым взглядом, на который та, впрочем, не обратила ни малейшего внимания.
— Бедняжка, — вздохнул он.
— Кто?
— Кузина Тезигер, — ответил Джаспер. — Она ведь жертва наваждения не в меньшей, а то и в большей степени, чем дядюшка. Как это страшно: ходить по краю смерти и отказываться это даже замечать! А чем более странным становится бедный старик, тем крепче кузина за него цепляется. Она на шаг отойти от него не хочет, хотя им обоим опасно оставаться вместе. Я сам не свой от постоянной тревоги, не могу ее оставить одну ни днем, ни даже ночью — несколько раз бывало, что этот безумец направлялся в сторону ее комнаты, и лишь мое случайное появление спасло Хелен от, несомненно, жуткой участи. Видели бы вы, как он смотрит на нее! А недавно он мрачно сообщил, что Шива требует от него жизнь бедняжки — та, мол, отвергла догматы брахманизма, и это препятствует дяде на том великом пути, который ему указывает статуя!
Это были, без сомнения, тревожные вести; но и ему мы не успели ответить, так как уже стояли на пороге дома. Словно по волшебству, лицо Багвелла из изнуренного тревогой стало веселым и беспечным, и он самым жизнерадостным тоном представил меня хозяину поместья.
Эдуард Тезигер оказался почтенным старцем, гладко выбритым, высоким, с благородной сединой в длинных, почти до пояса, волосах, властным ртом и орлиным носом. Его речь выдавала в нем человека образованного; говорил он неспешно, плавно, тщательно подбирая слова, его жесты были скупы и отточены.
Никто не назвал бы этого человека ненормальным — напротив, он казался эталоном здравого ума.
За ужином мне случилось сесть напротив мисс Тезигер. Она все больше молчала, ее терзала какая-то печаль. Часто она вскидывала глаза на дядю; тот, я заметил, избегал встречаться с ней взглядом. Заметил я и то, что он нервно среагировал на ее появление и успокоился лишь тогда, когда она покинула столовую. Он подсел ко мне и завел разговор:
— Очень, очень рад, что вы выбрались к нам! Столь редко случается человеку встретить истинно родственную душу! Скажите, дорогой мистер Белл, изучали ли вы индуизм?
— Весьма поверхностно, — признался я. — Но в процессе изучения мне довелось соприкоснуться с неизведанным. — И без перехода добавил: — Я слышал, вы обладаете дивным кумиром Шивы?
— Тише! — Тот аж побледнел. — Не стоит всуе призывать Его Имя! — Помедлив, он склонился ко мне и прошептал: — Я хотел бы показать вам нечто особенное, тайное. Только между мной и вами.
— Что же?
— Не желаете ли еще вина? Или пройдем в галерею?
Я, разумеется, предпочел второе, и мы встали из-за стола. Мы миновали зимний сад и очутились в мраморной галерее. Это был овальной формы зал, более двенадцати в длину и весьма причудливо украшенный: стены облицованы мрамором, внизу их украшал рельеф в египетском стиле. Посреди комнаты красовался не менее причудливый фонтан в виде распростершего крылья лебедя, из клюва которого в круглую чашу текла вода. Поодаль от фонтана, словно глядя на него, стоял деревянный идол, у ног которого притулился небольшой алтарь.
Я подошел, чтобы как следует все рассмотреть. На пьедестале примерно в половину человеческого роста стояла деревянная фигура той же высоты — так, что его жуткие рожи были примерно на уровне моего лица. На шеях и на каждой из пяти голов я заметил украшения из драгоценных камней невероятной красоты и стоимости. Рука, державшая трезубец, была унизана бесценными кольцами.
У меня не хватит слов, чтоб описать то, насколько омерзительна была представившаяся мне картина чудовищного идола. Когда же я заметил, как взирает на него мистер Тезигер — с удивительной помесью благоговения и животного ужаса, — я мысленно согласился с Багвеллом: это был сумасшедший, и притом опасный сумасшедший.
Меж тем мой гостеприимец громко кашлянул, привлекая к себе мое внимание.
— Ныне для меня настали тяжкие времена, — негромко сказал он, — и я стал жертвой некой великой, грозной и неведомой мне самому силы. — Тут он и вовсе перешел на шепот. — Многие годы тому назад, когда я отверг веру моих предков ради брахманского посвящения, я не знал, на что иду. Я похитил Шиву из дома моего друга и принес его в свой дом. Тогда же я ощутил, какую власть надо мной имеет этот кумир. В Индии я разбогател. Вернувшись в Англию, приобрел этот дом и нашел в нем галерею почти такой, какой вы ее видите; оставалось облицевать мрамором стены и поместить Шиву на его место. Прошли годы. Я изучал беспечно принятую мною религию, практиковал спиритизм, и все более и более меня охватывал таинственный огонь моей веры. И чем дальше, тем больше я убеждался: то, что кажется лишь куском дерева, — сущность, и сущность, полная темной злобы. Никогда не забуду тот жуткий вечер, когда Шива заговорил со мной!
— Давно это случилось? — уточнил я.
— Должно быть, несколько месяцев назад. Я стоял на коленях перед алтарем и по своему обыкновению молился, когда услышал голос, бормотавший на санскрите. Сперва я не поверил своим ушам, но вскоре… вскоре я привык к нашим еженощным беседам. Тогда, в самом начале, он отдал несколько приказов — вы видите, я их исполнил, — указал Тезигер на драгоценности. — Я не могу ослушаться его, я весь ему принадлежу. Но его последний приказ был ужасен… поистине ужасен… — Старик весь задрожал.
Все время нашего разговора он не отрывал взгляда от идолища, но теперь отошел подальше и повернулся к нему спиной.
— Рано или поздно я должен буду подчиниться, — слабым голосом простонал он. — Но это сводит меня с ума… сводит сума!
— Что? Молю вас, скажите!
— Я не смею. Это слишком, слишком ужасно. Та, кто мне дороже всех на свете… страшная, чудовищная жертва… которую я не смогу не принести. Да, да, не смогу. Не смогу не покориться власти, что превыше людей… Молю, не надо больше слов! Я вижу желанную мне жалость в ваших глазах.
— Да. Да, клянусь, мне жаль вас!
Стоило мне это произнести, как дверь открылась и вошли остальные участники застолья. Мисс Тезигер подбежала к дяде и положила руку ему на предплечье.
— Дядюшка, отчего бы вам не отправиться спать? — ласково и тревожно сказала она. — Той ночью вам не спалось, вы все бродили, я слышала. Вы так устали за день… уверена, эти господа охотно вас отпустят ко сну.
— Действительно, мистер Тезигер, вы выглядите совершенно утомленным. И я рекомендовал бы вам отойти ко сну немедля, — согласился с ней доктор Лорье.
— Погодите немного… немного. — Его голос срывался. — Хелен, дитя мое, ступай. Ступай, моя радость.
— Иди же! Не стоит раздражать его! — прошипел Багвелл.
Она в отчаянии бросила на нас взгляд, но он остался без ответа, и бедняжка нас покинула.
— А теперь, мистер Тезигер, могу ли я вас попросить оказать нам любезность и обратиться к вашему божеству?
Тот помрачнел и какое-то время оставался в молчании. Затем решительно склонил голову:
— Ваше искусство медиума позволит вам услышать Голос — и тем самым убедить доктора Лорье в его реальности. Хорошо же.
И он последовательно произвел череду каких-то весьма странных действий, после которых склонился пред алтарем и заговорил на санскрите.
Выглядело это совершенно дико. И, хотя я стоял совсем близко, я слышал лишь голос самого мистера Тезигера.
— Шива молчит, — наконец поднялся тот. — Как удивительно… должно быть, кто-то здесь не дает ему говорить… да, удивительно…
Но в голосе его я услышал не столько разочарование, сколько облегчение.
— Вам пора спать, дядюшка, — решительно заявил Багвелл. — Вы устали.
— Да, я устал. Позаботься о гостях, племянник, — приказал тот и, изысканно пожелав нам доброй ночи, ушел восвояси.
— Самый странный образчик безумия, который только мне попадался! — воскликнул я. — Мистер Багвелл, позвольте мне повнимательнее осмотреть идола.
— Как пожелаете, — неприязненным тоном сказал тот. — Только не вздумайте снимать его с пьедестала, дядя всегда замечает, когда статую кто-то трогал, — прибавил он быстро. — Тьфу, мерзость! Может быть, пойдем уже отсюда?
Что-то в его лице убедило меня: осматривать идола надо без него. Потому мы прошли в курилку, где некоторое время предавались пустой болтовне, пока не разошлись по своим комнатам.
Там, на столе, меня ждала записка — от мисс Тезигер, как я узнал к своему изумлению. Та сожалела, что поговорить наедине не удалось, и просила встречи в пять утра в парке. Порвав записку на клочки, я отправился в кровать, но мне не спалось: мешала тревога, смешанная с любопытством.
Не могло быть ни малейшего сомнения, что Тезигер безумен, и болезнь шаг за шагом подводит его к опасному краю. И та, кто так льнет к нему сейчас, не замечая этого, конечно же, в опасности. Ее надлежит спасти.
В назначенный час я поднялся, оделся и выскользнул из спящего дома.
Она ждала меня в лавровой аллее.
— Ах, как хорошо, что вы пришли! Но здесь говорить нельзя.
— Отчего же? Сейчас все спят.
— Джаспер не спит! Он, мне кажется, вовсе никогда не ложится. Всю ночь он опять бродил возле моей комнаты.
— Нельзя винить его в том, что он заботится о вашей же безопасности.
Она сердито нахмурилась.
— Вижу, он с вами уже говорил! Что ж, теперь мой черед. Идемте в беседку, там он нас ни за что не найдет.
И она проводила меня в изящную, со вкусом оформленную беседку, втолкнула внутрь и привалилась спиной к двери.
— Теперь я могу говорить, — радостно сказала она. — Во всем этом кроется какая-то мерзкая тайна — и я уверена, что за этим стоит Джаспер.
— Отчего же?
— Женская интуиция. Ну и… до того, как приехал Джаспер, дядюшка, конечно, браминствовал. Мне это было не по нраву, потому я не посещала его молений и даже не говорила с ним о Шиве и прочей гадости. Но! Да, он браминствовал — но в остальном, в том, что не касалось этой его недорелигии, он был нормальным, абсолютно нормальным, счастливым, разумным и очень добрым человеком. Меня он любил всем сердцем, как и моего покойного отца, а потому, незадолго до явления Джаспера, назначил меня наследницей всего своего огромного состояния. Джаспера же он, напротив, не выносил; то, что тот расположился у нас, как у себя дома, его раздражало. Я не встречала кузена с детства — а встретив, прониклась к нему глубокой неприязнью. Он же не оставлял меня своим назойливым вниманием, все время расспрашивая о дядюшке, его жизни, привычках… Занятное совпадение: в детстве, до того, как его увезли в Индию, Джаспер жил здесь, в этом доме… Он все вертелся в галерее… предлагал дядюшке поговорить с Шивой, хотя видел, что тот очень волнуется…
И вот две недели спустя дядюшка услышал глас Шивы. Я никогда не забуду этот день! Дядюшка весь горел в странном возбуждении, руки его дрожали, голос срывался… А после — день за днем он становился все слабее и телом, и духом, но глаза его горели все ярче. Это пугало, но пожаловаться Джасперу я не смела.
День за днем дядя все сильнее погружался в свою болезнь. Он все больше времени стал проводить перед алтарем, умоляя меня сопровождать его, надеясь, что я тоже услышу Голос. Он потратил целое состояние на те драгоценности — он показал их мне прежде, чем украсить ими статую. Мне было горько от осознания собственной никчемности — а Джаспер только стоял и смотрел.
А потом — с месяц назад — дядю как подменили. Раньше он доверял мне, как себе, — а теперь видеть меня не желает. Каждый раз просит уйти. Однажды спросил, закрываю ли я комнату на ночь. Я только рассмеялась, а он попросил меня закрываться. Сказал, ради него. Видели бы вы, как у Джаспера загорелись глаза! Но он тут же уткнулся в книгу, будто ничего и не слышал.
Я успокоила дядю, но, конечно, не послушала его. И тогда Джаспер начал меня запугивать, говорить, что дядя совсем сошел с ума и его безумие заставляет его желать мне зла… Но он же ничего не знает!
Отважная девушка не выдержала и разрыдалась: напряжение выплеснулось из нее фонтаном слез.
— Я сказала, что Джаспер лжет, что дядя никогда бы не пожелал мне зла, я ведь так его люблю! И тут он… он сказал, что кое-что знает, за что дядю запрячут надолго. «В дом безумцев?» — спросила я, и он ответил, что да, и ему нужно только заключение двух врачей. Я плакала, я просила пощадить дядины седины, не лишать его свободы — ведь это же так жестоко! Я просила оставить нас в покое, оставить нас совсем — если он боится дядю, то я — вовсе нет и останусь с ним во что бы то ни стало. И он… он сказал, что любит меня и желает, поэтому он пощадит дядю если я… если я стану его невестой.
Я сопротивлялась, как могла, но в итоге сдалась. Мы втайне заключили помолвку — чтоб не узнал дядя. Конечно, любит он не меня, а мое грядущее богатство. Должно быть, он слышал, что я унаследую дядино состояние. Сам он совсем нищий. Вот. Теперь вы все знаете, мистер Белл.
С каждым днем все становится хуже и хуже, страшнее и страшнее. Порой я и сама начинаю верить, что мне грозит опасность. Добрым, ласковым моим дядей словно демон какой овладел. А ведь для девушки нет ничего страшнее, чем видеть, как тот, кого она любит больше жизни, отворачивается от нее! И самая смерть мне не так страшна, как его холодность ко мне. Я бы жизнь отдала за него… и отдам: Джаспер сказал, что или я выхожу за него замуж в течение недели, или я должна убедить доктора Лорье подписать акт. Если же я не сделаю ни того ни другого… что ж, он найдет в Лондоне других докторов.
— И вы выбрали?
— Через неделю мы обвенчаемся, если, конечно, ничто не прольет свет на эту жуткую тайну. Я не могу позволить им заточить моего любимого дядю в лечебницу для сумасшедших, не могу…
— Благодарю вас за откровенность, — помедлив, сказал я. — Я сделаю для вас все, что в моих силах. Когда, вы сказали, ваш дядя впервые услышал голос статуи?
— Два или три месяца тому назад, вскоре после приезда Джаспера. Мистер Белл, миленький, вы правда можете нам помочь?!
— Я сделаю, что смогу, но пока все очень уж туманно. А вы… не могли бы вы хоть ненадолго покинуть поместье?
— Не желаю. Я не боюсь дядюшку, он любит меня. А вот Джаспера я боюсь.
Она оставила меня, а я рассудил, что сейчас, в столь ранний час, кода даже слуги еще спят, самое время осмотреть идола и алтарь.
Я зашел в галерею; яркий солнечный свет заливал ее, лишая идола доброй доли внушительности, и я пообещал себе, что камня на камне не оставлю, если это поможет мне узнать истину. Но чем тщательнее я искал, тем дальше истина от меня ускользала.
Внутри статуи смог бы спрятаться только карлик. Ни единого признака чего-то наподобие трубки, вделанной в статую, чтобы через нее говорить (такое я видел в Помпеях) не было заметно. Идол стоял слишком далеко от стены, чтобы кто-то мог шептать сквозь нее.
Против своей воли я все больше убеждался, что Голос — плод безумия Эдуарда Тезигера.
Я уже собирался оставить безнадежные поиски и вернуться ко сну, когда ненароком преклонил колени перед алтарем. Я только хотел подняться, как заметил нечто странное. Прислушался — да, несомненно: стоило преклонить колени, как слышалось глухое шипение, прекращавшееся, как только я вставал. Несколько раз я опускался на колени и вставал — и странный эффект повторялся, заставляя теряться в догадках.
Что его вызвало? Почему при мне? И если вызвало, то как?
Я судорожно огляделся вокруг — и вдруг меня осенила догадка, бывшая на грани безумия. Я рванулся к фонтану и припал ухом к клюву бронзового лебедя. Так и есть! Еле слышный звук, который издавала вода, поднимаясь к клюву, чтобы исторгнуться наружу, — тот же, что я слышал шестью метрами дальше у алтаря.
Но как это могло быть?
Я на миг растерялся — но вскоре осознал, в чем дело, и разгадка сама пришла ко мне. Мозаика сложилась сама, кусочек за кусочком.
Зала была овальной — а мне ли не знать акустические возможности таких зал! В них непременно есть две фокусные точки, между которыми звук распределяется так, что, изданный в одной из них, он непременно будет слышан и в другой. В первой точке находился фонтан. Вторую занимала голова человека, склонившегося перед алтарем.
Мог ли человек говорить сквозь клюв птицы, как те жрецы? Мог, когда вода не текла.
Я был так охвачен восторгом своей догадки, что едва взял себя в руки. Мне ли не знать, что в подобных делах потребны спокойствие и хладнокровие! Без них столь жуткий заговор разоблачить не удастся.
Я вышел в зимний сад и нашел садовника — тот как раз разбирался с цветочными горшками и очень удивился, застав меня на ногах в столь ранний час.
Мы перебросились парой слов, и я спросил:
— А не подскажете, как тот лебяжий фонтан включают-выключают?
— С легкостью, сэр. Трубы выходят как раз сюда, здесь и кран.
И впрямь: вдоль стены шла свинцовая труба, заканчивавшаяся двумя вентилями и слепым ответвлением, на котором был кран. А рядом лежала насадка, в точности подходившая к крану.
— Для чего она вам? — указал я на нее садовнику.
— Мы крепим к ней кишку поливать растения, — пояснил тот.
— И когда вы поливаете сад, фонтан, должно быть, не работает?
— Ну да. Оно и хорошо — даже странно, что раньше никто не догадался так делать!
— А кто догадался? — Сердце чуть не выпрыгивало у меня из груди.
— Так мистер Багвелл же, сэр. Он все и приспособил. Ему понадобилось много воды — поливать его индийские травы. Хотя, скажу вам, сэр, им все равно не пережить зимы.
Весь дьявольский план встал теперь передо мной как на ладони — ясно и просто. Конечно, второй вентиль, отключавший разом и кишку, и фонтан, был абсолютно лишним… но только не для Багвелла.
Я ринулся к доктору Лорье. Тот только собрался вставать, и открытие мое его повергло в изумление не меньше, чем меня самого.
— Значит, отключив воду, он мог говорить в кран, как в рупор… и его слова, через клюв лебедя, в силу акустических особенностей залы, передавались прямо в уши мистеру Тезигеру… — произнес доктор Лорье. — Так?
— Именно, — подтвердил я. — Теперь позвольте мне сказать, что мы должны сделать. Вам нужно сказать Багвеллу, что вы подпишете акт только в том случае, если Тезигер прилюдно подтвердит, что слышит голоса. Испытание назначьте на девять вечера. Я притворно покину поместье — это даст Багвеллу расслабиться. Он меня определенно опасается, и мой отъезд придаст ему наглости. Но я, разумеется, никуда не денусь. Сойду с поезда на ближайшей станции и вернусь под покровом темноты. Проследите, чтоб не закрыли дверь в зимний сад! Через нее я проникну в дом и спрячусь среди растений. Вы же будете в галерее с Тезигером. Как только я позову — будьте готовы. Мы должны поймать этого негодяя на месте преступления!
Доктор Лорье согласился с моим наскоро придуманным планом, и в четыре часа пополудни я покинул поместье, провожаемый тоскливым взором побледневшей и измученной мисс Тезигер. Багвелл подвез меня до станции и даже посадил на поезд, пожелав мне счастливого пути с вполне понятной искренностью.
В половине девятого я снова был в поместье. Дверь зимнего сада ждала моего прихода, и я легко скрылся в темноте среди огромных причудливых растений. Вскоре открылась дверь, и я услышал, как Багвелл проскользнул к крану, перекрыл воду и начал отвинчивать затычку. Как ни тяжело было, я дождался, пока он заговорит в трубу, и только тогда схватил его и громко позвал доктора Лорье.
Багвелл был ошарашен и только и мог, что смотреть на меня, онемев от ужаса и гнева. Через несколько мгновений доктор и Тезигер были уже с нами. Я все еще держал Багвелла, не давая вырваться, покуда доктор Лорье не подал мне знак.
Я подробно объяснил мистеру Тезигеру, как именно злодей едва не свел его с ума. Тот сперва не поверил моим словам, и лишь повторная демонстрация того, как слова, сказанные в кран, доносятся до его ушей, заставила его убедиться в моей правоте.
Кажется, это подарило ему огромное облегчение.
— Вы же, — бросил он Багвеллу, — немедленно покинете этот дом, если не желаете познакомиться с полицией. Немедленно, сэр. И… где Хелен? Где мое дорогое дитя?
Он еще не договорил, а Багвелл еще не успел прийти в себя и ринуться прочь, как она появилась на пороге.
— Что случилось? Что случилось, дядя? — тревожно вопрошала девушка.
— Ничего. Ничего страшного. — Старик обнял ее и прижал к груди. — Все хорошо. Не могу тебе ничего сказать, но поверь: теперь все хорошо. Я вел себя как болван… хуже: как безумец. Но ныне я здоров и мой разум очищен. Мистер Белл, я перед вами в огромном долгу. Но… позволите ли старику попросить вас об еще одной услуге?
— Все, что пожелаете, сэр.
— Разбейте кумира. В безумии своем я верил, что этот омерзительный кусок дерева властен над моей душой и моей судьбой. Теперь я раскаялся. И все же… уничтожьте его. Пусть его не станет. Я не желаю его видеть.
Тем же утром, когда я собрался покинуть поместье навсегда, меня нежданно настиг Багвелл. Должно быть, он специально меня дожидался.
— Хочу вам кое-что сказать, мистер Белл, — начал он. — Вы выиграли; я проиграл. Игра была опасная, ставка была высока, и я не мог вообразить, что кто-то сумеет додуматься, как я заставил Шиву говорить. Теперь мне предстоит навсегда покинуть Англию… но перед тем я должен вам объяснить, как я поддался искушению. Инд я покинул давным-давно и едва помнил дни, проведенные здесь… но однажды я вспомнил, как один наш гость, ученый, разъяснял мне особенности акустики овальной залы. И меня охватило желание. Желал я не Хелен, о нет — я жаждал ее денег. Нищему без гроша за душой сложно устоять перед подобным искушением. И вот я решил довести и без того не слишком нормального дядюшку до совершенного сумасшествия… и заполучить Хелен… и ее миллионы.
Впрочем, вы сами знаете, как близок я был к победе — и как позорно проиграл.
ЖЕЛАЮЩИЕ СТРАННОГО
Помимо ложно фантастического объяснения старые мастера достаточно часто прибегали и к тем или иным разновидностям фантастики — не выходя при этом за пределы детектива и действуя, в рамках повествования, именно детективными методами.
Тут мы встречаем как незнакомцев, так и писателей более чем знакомых — но выступающих в неожиданном амплуа.
Эдит Несбит — «прабабушка фэнтези», причем фэнтези прежде всего детской, автор множества историй про принцесс, драконов и прочих обитателей невозможных миров. Тем не менее случалось ей писать и жесткие, очень взрослые истории, в которых неведомое, действуя именно детективными методами, вторгается в повседневную действительность.
Великий Редьярд Киплинг, к фантастике обращавшийся заметно чаще, чем к детективу, порой работал и на стыке этих жанров. Не остерегаясь затрагивать самые страшные вопросы, создавая пронзительные, на грани острой боли, литературные шедевры.
Амброз Бирс, желчный и последовательный борец с мистицизмом, столь же часто экспериментировал и на ниве загадочного. Причем делал это то с иронией (как бы полемизируя с Эдгаром По), то, наоборот, абсолютно всерьез. Настолько всерьез, что, наверняка вопреки своему желанию, ухитрился войти в современные каталоги паранормальных явлений — как благодаря своим произведениям, так и самой своей судьбой.
Уильям Дж. Уинтл — британский автор, ныне основательно забытый, но в первой трети XX в. пользовавшийся значительной известностью. Наибольшую популярность ему принесли повести и рассказы на стыке «привиденческого» и детективного жанра, а также… серьезные эссе, в которых Уинтл исследовал тему «потустороннего» (в том числе, вопросы существования привидений) с максимально научным, по тем временам, подходом: приводил статистику, пытался вычислить закономерности и даже провести эксперименты… А его рассказ «Зов тьмы» в английской литературе до сих пор считается пускай и полузабытой, но все-таки классикой, причем проходящей по ведомству двух жанров — «литературы ужасов» и детектива.
И, наконец, абсолютный незнакомец Малькольм Кларк Дэй, во времена Уинтла весьма популярный, а потом словно бы бесследно исчезнувший — да так, что нам вообще ничего не известно о нем, кроме имени (псевдонима?). Хотя, пожалуй, ничего особенно загадочного тут нет. Интернета в ту пору не существовало, а сами старые мастера умели хранить свои и чужие тайны…
Эдит Несбит АВТОМОБИЛЬ ИЗ НИОТКУДА
У нас в Англии хватает холмистых пустошей, где фермы, словно живые существа, ютятся на укрытых от ветра участках склонов, деревья же, в свою очередь, жмутся к фермам — и повсюду царит суровая простота, но не безмятежная, а наоборот, как бы застывшая в напряжении. Там хорошо летом, когда дни долги, трава мягка, а издали доносится песня жаворонка и чуть слышный перезвон овечьих колокольчиков. Но в пору метелей или даже просто холодных дождей, в пору промозглого тумана лучше не бродить по склонам холмов. В такие дни место человека под кровом, в тепле, где потрескивает камин, у окна горит лампа — и жизнь, имя которой любовь, заставляет отступить тени, подкрадывающиеся снаружи, из студеного мрака…
Зря я все-таки выбрала такой тон. Что поделать: меня не учили красоте литературного слога, но, наверное, это будет неправильно — просто изложить события, как они происходили? Думаю, даже почти уверена, что при этом пропадет то, что называется настроением. А без него в случившемся точно не разобраться. Впрочем — ладно: пожалуй, самые простые слова тут будут и самыми верными.
* * *
Итак, я — дипломированная медицинская сестра. И я отправлялась из Лондона в Чарлстаун, где мне предстоял уход за пациентом «в состоянии психического расстройства». Время действия — ноябрь, столичные улицы затянуты густым туманом, такси ехало с черепашьей скоростью, так что я, как и опасалась, опоздала на поезд. Известив об этом телеграммой своих нанимателей, я зашла в зал ожидания на вокзале Лондон-Бридж. Кроме меня там было всего двое пассажиров, женщина (из числа тех, которых без малейшей иронии называют «настоящая леди») и ее маленький сын, очень живой и непосредственный мальчик, меня не раз заставивший улыбнуться. Мать его, однако, держалась замкнуто и не поддерживала общения. Как выяснилось, нам предстояло ехать одним и тем же рейсом, но в вагонах разного класса: они — первого, а я — третьего. И в тот момент, когда мы, выйдя на перрон, поспешили к противоположным концам поезда, я вовсе не думала, что наша встреча будет иметь какое-либо продолжение.
Однако так уж случилось, что меня никто не встретил. Уже темнело, дул сильный ветер, дождь не просто накрапывал, но лил — а единственная дорога, ведущая к железнодорожной станции, была пустынна. Я стояла на платформе в полной растерянности, совсем одна… впрочем, нет, не одна: на этой остановке, оказывается, сошли еще двое пассажиров. Женщина и ребенок. Те самые.
Женщина, проходя мимо, задержала на мне взгляд, возможно, чуть долее, чем собиралась, — после чего сочла невежливым промолчать.
— Разве вы не телеграфировали, чтобы за вами прислали машину или экипаж?
Я объяснила, что произошло.
— Идемте со мной, — женщина приняла решение, — за нами вот-вот приедет автомобиль. Вы позволите подвезти вас?
— Буду очень благодарна!
— Хорошо. Куда вы направляетесь?
— В Чарлстаун, — сказала я, и в этот миг по лицу женщины пробежала гримаса словно бы потаенной боли. Она тут же вновь овладела собой, но у меня, при всей молодости, уже был выработан профессиональный взгляд на такие вещи.
— Что с вами?
— Со мной все в порядке, — сухо ответила моя собеседница. — Значит, Чарлстаун… И какой дом?
Я назвала адрес — и тут же заметила, что лицо женщины вновь исказилось от боли, страха или иного столь же неприятного чувства.
— Простите, но что, существует какая-то причина, по которой мне не следует ехать туда? — поинтересовалась я со свойственной молодости прямотой.
— Нет-нет, что вы.
И тут я поняла: причина есть, но она касается не меня, а этой моей случайной спутницы.
— О, благодарю вас, но, право слово, не стоит беспокоиться. Вероятно, вы с сыном направляетесь отнюдь не в Чарлстаун, а мне совсем не хотелось бы…
— Да нет, все в порядке, не обращайте внимания. Конечно, я подвезу вас, — произнесла женщина, и тут же ее сын указал в сторону дороги:
— Мам! Ну мама! Наша машина давно уже ждет!
Это действительно было так, даже странно, что никто из нас не расслышал звук подъезжающего автомобиля: должно быть, шум дождя помешал. Я совершенно не разбираюсь в легковых авто, хотя, пожалуй, надо бы: ведь теперь они уже перестают быть принадлежностью только самых богатых людей. Впрочем, именно эта машина была из числа по-настоящему роскошных: мы разместились в салоне с неменьшим удобством, чем в железнодорожном купе, лицом друг к другу, а ребенок занял специальное небольшое сиденье между нами.
Мотор приглушенно взревел — и автомобиль понесся сквозь тьму. Вокруг уже ничего не было видно, только яркий сноп света от фар, высвечивающий дорогу впереди. Мы ехали довольно долго. Потом шофер остановил машину, вышел, открыл какие-то ворота. Дорога за ними стала более тряской: по-видимому, мы свернули с шоссе на проселок.
Никто из нас не произносил ни слова. Мальчик задремал, а мы с его матерью словно бы боялись нарушить какой-то негласный уговор.
Наконец машина остановилась снова. Шофер распахнул передо мной дверцу, помог выбраться. Автомобиль стоял перед каким-то домом: невысокая садовая ограда, свет керосиновых ламп в окнах первого этажа… Больше ничего не удалось рассмотреть, но почему-то я была уверена, что дом обширен и хорошей постройки, что он окружен старыми развесистыми деревьями, а где-то совсем поблизости находится открытый водоем: пруд? река? Так потом все и оказалось. Не спрашивайте, откуда это стало мне известно: может быть, по звуку дождевых капель, падающих на древесные кроны, на водную гладь и на черепичную кровлю… Не знаю.
Шофер протянул руку за моим чемоданом, поднес его к воротам. Коротко, почти беззвучно, попрощался: кажется, он тоже избегал говорить вслух. Сел за руль. Но машина продолжала стоять: с работающим мотором, со включенными фарами…
— О, пожалуйста, не нужно ждать, пока мне откроют! — обратилась я к владелице автомобиля. — Я и без того так задержала вас… Я вам очень, очень благодарна!
Ни слова в ответ. И только когда я, взойдя на крыльцо, постучала в дверь дома — автомобиль вдруг взревел, сорвался с места и, мгновенно набрав скорость, исчез во тьме.
На стук дверного молотка никто не ответил. Я энергично повторила попытку, затем какое-то время постояла, прислушиваясь, — и уловила внутри дома тихие перешептывания. Рев автомобильного мотора к тому времени растаял в ночи, свет фар тоже не был виден. Все складывалось настолько странно, что я впервые по-настоящему ощутила тревогу. Но, как бы там ни было, сейчас мне предстояло попасть в дом: не оставаться же на улице под дождем!
— Откройте, пожалуйста! Я медсестра! Из Лондона!
Прошло еще несколько томительно долгих секунд — и вот наконец заскрежетал открываемый замок. Дверь распахнулась. Боже, какое же это счастье: видеть свет, вход в человеческое жилье, лица встречающих меня людей!
— Входите, о входите же, дорогая! — Голос принадлежал пожилой женщине. А потом мужской голос из-за ее спины произнес: — Извините, что заставили вас ждать. Мы не слышали, как вы постучали.
Я посмотрела на дверной молоток, все еще зажатый в моей руке, — и… предпочла промолчать.
Хозяева провели меня внутрь, кто-то принял у меня из рук чемодан. Когда глаза наконец привыкли к свету, я сумела оценить обстановку дома: добротный уют середины Викторианской эпохи, много бархата и красного дерева. Женщина — маленькая, худощавая, старше средних лет — доброжелательно улыбалась мне.
— Миссис Элдридж? — вопросительно произнесла я.
— Да, дорогая, вы не ошиблись. — Голос хозяйки был столь же мягок, как ее улыбка. — Я очень рада, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам будет тут удобно. У нас здесь немного скучновато, но мы постараемся…
— Не беспокойтесь, миссис Элдридж, мне будет тут удобно. Что до скуки — то я ведь не развлекаться сюда приехала, а обеспечить профессиональный уход. За…
— Нет, не за мной. — Она правильно истолковала мою паузу. — За ним. Роберт Элдридж, мой муж — он нуждается в… в помощи. Я понимаю, это покажется странным, ведь именно он написал вам в Лондон, что его жене, после тяжелой болезни, требуются услуги медицинской сестры. Но вы же видите: я не больна…
— Понятно, — коротко ответила я. Никогда не стоит спорить с нанимателями, особенно в таких деликатных вопросах.
— Дело в том, что… — начала было женщина, но тут на лестнице послышались шаги ее супруга. — О! Наверное, нам лучше переговорить позже. Сейчас принесу вам в комнату свечи и горячую воду…
Она торопливо ускользнула куда-то в глубины дома. Мистер Элдридж, остановившись на пороге, несколько секунд молча смотрел ей вслед, а я украдкой рассматривала его. Довольно пожилой человек с аккуратно подстриженной бородкой, очень благообразный, очень обычный.
— Вы будете ухаживать за ней, — тихо сказал он. — Надеюсь, ничего серьезного — но мне не хотелось бы, чтобы посторонние видели ее в таком… таком состоянии. У нее бывают… симптомы.
— Какие именно? — Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал исключительно с профессиональной интонацией, без эмоций.
— Она думает, что я сошел с ума, — произнес хозяин с нервным смешком.
— Что ж, это один из самых обычных симптомов. Что-нибудь еще?
— Нет, но этого достаточно. Моя жена… видите ли, в последнее время она не вполне воспринимает реальность. Не видит того, что реально есть, происходит вокруг нее. Не слышит некоторых звуков. Не чует запахов. Кстати, раз уж об этом зашла речь… Перед тем как вы постучали в нашу дверь — вам, случайно, не показалось, что откуда-то неподалеку доносится гул автомобильного двигателя?
— Это было авто, на котором я приехала. Меня никто не встретил на станции, но там оказалась одна леди из этих мест, и она…
Тут я заметила, что он меня не слушает. Взгляд мистер Элдриджа был устремлен на его жену, как раз входившую в комнату с кувшином в одной руке и подсвечником в другой.
Хозяева подошли друг к другу и коротко переговорили о чем-то. Очень тихо — так, что я смогла расслышать только одну фразу: «…она села в настоящий автомобиль».
Оставалось только предположить, что в этой сельской глуши автомобиль до сих пор считается диковинкой.
Тут и вправду были проблемы с новшествами цивилизации. Мою телеграмму, между прочим, доставили только на следующий день.
Дом моих хозяев был не просто загородной усадьбой, но и центром фермерских владений — когда-то явно процветающих, однако теперь, даже на мой неопытный взгляд, до странности заброшенных. Время для таких наблюдений у меня имелось: собственно, проблема была скорее с моими профессиональными обязанностями. По сути они сводились к тому, чтобы быть компаньонкой миссис Элдридж в ее домашних хлопотах и сидеть рядом, поддерживая ничего не значащий разговор, когда она мирно вышивала в гостиной. Но после нескольких дней такой пасторальной жизни я начала замечать кое-что необычное.
Судя по всему, супруги Элдридж очень любили друг друга — но эта любовь была явственно окрашена скорбью, общим чувством горькой утраты. При этом хозяйка усадьбы, которую я имела возможность наблюдать ближе, совершенно не проявляла никаких признаков помешательства — из-за чего у меня поневоле возникали сомнения именно насчет хозяина. Поутру оба они пребывали в хорошем настроении, но к середине дня оно уступало место подавленности, а после вечернего чая, уже в сумерках, супружеская чета неизменно уходила на прогулку по тропе через холмы к недалекому морю. Но эта прогулка не приносила им успокоения: женщина, вернувшись, часто плакала у себя в спальне, а он надолго запирался в своем маленьком кабинете. Как-то раз мистер Элдридж позвонил в контору, принимающую вещи на хранение, и передал вскоре прибывшему оттуда курьеру кое-что из своего кабинета: я заметила, что это в основном было охотничье снаряжение — ружья, патроны…
Однако даже важнее, чем все эти подробности, была неуловимая атмосфера страха и отчаяния, совершенно противоречащая «внешней» жизни усадьбы, такой мирной и размеренной. Я не знала, что и думать. В конце концов, мне часто приходилось иметь дело с людьми в беде, с семьями, чья жизнь омрачена тяжелой болезнью или потерей близких. Но здесь было не то. Или, во всяком случае, не только то.
А еще скажу: мне было очень жаль моих хозяев, так трогательно поддерживавших друг друга в своей неведомой беде, а ко мне относившихся как к дорогой гостье. Но я совершенно не знала, чем им помочь. Возможно, девушка из фермерской семьи сумела бы нащупать этот путь интуитивно, однако мне, уроженке Лондона, не помогал ни личный опыт, ни медицинские знания.
— Думаю, мне лучше уехать, — как-то раз сказала я миссис Элдридж. — Мне нечего здесь делать. Вы совершенно здоровы.
— Я? — грустно улыбнулась она.
— Вы оба совершенно здоровы. Так что с моей стороны просто непорядочно жить в вашем доме, получать за это деньги — и ничего не делать для вас.
— Но вы делаете, — возразила хозяйка, — вы даже не можете представить, как много делаете для нас, дорогая… О, не оставляйте нас, пожалуйста!
На некоторое время между нами повисло молчание.
— У нас была дочь, — не глядя на меня, сказала женщина. И несколько бессвязно продолжила: — А он так и не вернулся.
— Н-не вернулся?
— Я хочу сказать… Мой муж сейчас не совсем здесь.
— Вы имеете в виду… О, миссис Элдридж, пожалуйста, расскажите мне все — может быть, я все-таки сумею помочь! — В эту минуту я не сомневалась, что из них двоих в помощи нуждается именно ее супруг.
— Он видит то, чего на самом деле нет, — объяснила женщина. — Слышит звуки, которых нет. И ощущает запахи, которых нет в действительности.
Я вспомнила разговор с мистером Элдриджем в ночь моего прибытия — и снова заколебалась.
— Как давно это началось?
— Сразу же после смерти нашей Бесси. В день ее похорон. Ее сшиб автомобиль, нам сказали — это был несчастный случай… на Брайтонском шоссе… Автомобиль темно-лилейного цвета, его успели рассмотреть многие. Темные лилии — ведь траурные букеты из них возлагали на гроб королевы Виктории… Моя бедная девочка, ее сопровождал королевский траур. Но ведь это обычный цвет для автомобиля, ведь так? Многие из них окрашены похоже: фиолетовый тон, сиреневый, фиалковый… вот и лилейный… Ничего особенного, правда?
Я в замешательстве молчала. Разумеется, в этих словах мог быть оттенок безумия — но ведь могло быть и просто материнское горе, лишающее возможности связно излагать мысль. Должно быть, какие-то сомнения все же проступили на моем лице, потому что миссис Элдридж вдруг поднялась и, пробормотав: «Нет, вам не нужно знать больше», вышла прочь из комнаты.
После этого она избегала надолго оставаться со мной наедине, так что снова поговорить у нас не получилось. Впрочем, узнать что-либо у ее супруга тоже не удалось.
Кое-что мне стало известно через несколько месяцев, уже весной, в пору цветения дрока. Я одно время подумывала о том, не постараться ли украдкой сопроводить мистера и миссис Элдридж во время их вечерних прогулок — но потом устыдилась этой мысли, решив, что мной, возможно, руководит скорее обычное женское любопытство, чем долг сестры милосердия, стремящейся лучше понять болезнь пациента. Так что наша встреча действительно была случайной. Купив в деревенской лавке немного шелковых ниток для вышивки, я решила пройтись вдоль берега (совсем недалеко от Чарлстауна начинается морское побережье: та самая знаменитая линия окаймляющих Англию меловых скал, омываемых вечным прибоем Ла-Манша) — и задержалась, очарованная пиршеством закатных красок, вечерним пением птиц и ароматом цветущих зарослей. Как-то незаметно дорога вывела меня на самый край мелового обрыва. Сориентировавшись, я повернула назад — и почти сразу услышала голоса. Говорили двое, мужчина и женщина. Они были от меня всего в дюжине ярдов, но сумерки уже сгустились и мы оставались невидимы друг для друга.
— Да нет же, — сказала она. — Нет. Никто сюда не едет…
— А я говорю тебе — едет, дорогая! Ну прислушайся: разве ты не слышишь, как рокочет мотор? Совсем близко. Наверное, уже за тем утесом.
— Нет, не слышу…
— Да ты просто глуха и слепа, если… Дорогая! Осторожней!
Что-то в этом возгласе заставило меня сделать шаг вперед. Я увидела их, супругов Элдридж, совсем неподалеку от себя; они стояли на середине грунтовой дороги. Как раз в этот самый момент мистер Элдридж стремительно отскочил на обочину — и яростным движением изо всех сил рванул к себе жену. Ярость эта была направлена не на нее: даже со стороны было очевидно — мужчина убежден, что в последний миг спасает миссис Элдридж от какой-то грозной опасности, невидимо и неудержимо надвигающейся на нее по дороге.
Пораженная, я замерла на месте. Супруги не видели меня. Она смотрела на него с любовью, жалостью и мукой — а его взор был устремлен на дорогу, вслед той бесплотной опасности, которая, надо думать, сейчас уносилась прочь.
— Будь он проклят… — наконец сказал мистер Элдридж. — Ну теперь-то ты, во всяком случае, убедилась? Ведь даже если закрыть глаза и заткнуть уши, все равно этот запах…
— Идем домой, Роберт. — Она обняла его. — Идем домой, родной. Когда мы вместе окажемся под кровом нашего дома, уже не будет важно, кто из нас и что видел…
— Теперь я знаю, кто из вас нуждается в моей помощи, — сказала я на следующий день, под благовидным предлогом попросив хозяйку заглянуть ко мне в комнату.
— И кто же? — К моему удивлению, этот вопрос миссис Элдридж задала с искренней тревогой.
— Разумеется, ваш муж! Ведь на дороге ничего не было…
Она упала в кресло и разрыдалась. Успокоить ее мне удалось с большим трудом и далеко не сразу.
— Какое облегчение… — наконец смогла выговорить миссис Элдридж, — ведь я никогда не могла быть уверена до конца, кто из нас прав… И в какие-то минуты была почти уверена, что — он! О, как я вам благодарна…
Должна признать, меня немного покоробила та радость, с которой она произносила эти слова. Ведь, по сути, я сообщала ей не только о ее собственном здоровье — но и о душевной болезни мужа. Мужа, которого она так любила и о котором так беспокоилась.
Но тут же мне пришлось раскаяться в своих чувствах.
— Ну, слушайте, — женщина, вытерев слезы, заговорила с неожиданным спокойствием. — Что у моего мужа галлюцинации — это, разумеется, достаточно скверно. Но гораздо хуже — для него! — было бы, окажись эти видения правдой. Я смогу о нем позаботиться, теперь мы сумеем защитить его. Призрачная угроза всего лишь раз в день — о, какое счастье, что это именно так! Может быть, мне даже удастся когда-нибудь убедить его, что на самом деле ему ничего не грозит…
— Это происходит каждый вечер? — Я присела рядом с миссис Элдридж и взяла ее за руку.
— После похорон Бесси — да. О, какое счастье, что я теперь могу с кем-то поделиться… Я вам рассказывала: нашу девочку насмерть сбила машина, автомобиль цвета темных лилий. И с тех пор мой муж уверен: каждый вечер этот автомобиль проносится мимо нас по этой дороге, ведущей к морю. Роберт видит его, слышит рев мотора и шорох шин, ощущает запах… как оно называется, это вещество, на котором ездят машины?
— Бензин?
— Да, конечно же, бензин. Роберт убежден, что эта машина проезжает здесь снова и снова, будто ей мало того, что она унесла нашу девочку… Видите ли, Роберт был там и все видел. Он подхватил Бесси на руки сразу после того, как автомобиль проехался по ней. Я ее увидела уже позже — это, наверное, не так тяжело…
— А этот автомобиль… Его нашли? Я имею в виду — того, кто сидел за рулем?
— Нашли. Это нашу Бесси нам уже больше не найти, а того, кто ее убил, — что же… Его нашли на следующее утро после ее похорон. Там, под меловыми утесами. Разбитым, как это говорят, всмятку. Оба: и автомобиль, и тот, кто за рулем. А за рулем сидел его владелец — и тогда, когда сбил нашу дочь, и тогда, когда его машина падала с обрыва. Сейчас его вдова больше не садится за руль, о нет: их новую машину водит шофер. Это она, кстати, вас подвезла от железной дороги.
— Странно, что теперь она не боится ездить на автомобиле, пускай даже с шофером. — Я сама почувствовала, насколько нелепо прозвучала эта реплика, но ничего умнее в голову не пришло.
— О, — миссис Элдридж как-то равнодушно махнула рукой, — это то, к чему люди привыкают… Мы же не перестали ходить пешком после того, как наша девочка погибла. А для той семьи пользоваться автомобилем — так же естественно, как своими ногами. Вот и мой муж, мой бедный старый Роберт, не может отвыкнуть ходить вдоль той дороги на которой в последний раз видел ту машину… темно-лилейную машину… И ему, конечно, легче, когда я хожу с ним.
Сказав это, она вдруг заторопилась: уже наступало время вечерней прогулки. Никто из нас, конечно, не подозревал, что эта прогулка для нее не состоится, так как буквально через минуту миссис Элдридж, поспешно спускаясь по лестнице на первый этаж, оступится, упадет и получит сильное растяжение связок. Я наложила ей на лодыжку плотную повязку. Такое растяжение — травма достаточно безобидная, но о том, чтобы с ним идти через холмы, конечно, не могло быть и речи.
Мужчина, стоя перед выходом из дома, неуверенно мял в руках кепку. Женщина лежала на диване в гостиной. Наши взгляды встретились.
— Мистер Элдридж не должен пропустить эту прогулку, — прошептала она. — И не должен идти на нее один. Вы меня понимаете?
Вот так я в первый раз совершила вечернюю прогулку с Робертом Элдриджем. Нам обоим было очень неловко, я отлично сознавала, что он не хочет идти со мной — но что без меня ему будет еще хуже.
Всю дорогу мы шли молча. В какой-то момент мой спутник повел себя так, что, не знай я, в чем дело, он испугал бы меня до смерти: отскочив на обочину, буквально распластался спиной по плотной стене обступающих дорогу кустов дрока, и меня тоже заставил прижаться к ней. Лицо его при этом исказилось гримасой бессильного гнева. Я поняла: ему вновь привиделся несущийся по дороге призрачный автомобиль.
Мы благополучно вернулись домой. Но на следующий день лодыжка миссис Элдридж распухла, как бревно, — и мне снова пришлось сопровождать ее мужа.
Почти на том же самом месте вчерашняя сцена повторилась — правда, не буквально. На этот раз мой спутник, по-видимому, издали «услышал» рев призрачного мотора и отступил на край дороги. Я не последовала его примеру.
— Отойдите, прошу вас… — прошептал он, и в его голосе была такая мука, что я не решилась ослушаться.
Когда автомобиль-призрак промчался мимо — во всяком случае, по мнению моего спутника, — я не потребовала объяснений. Но мистер Элдридж, видимо, сам ощутил, что нужно хоть что-нибудь сказать.
— Эта штука убьет меня на днях, — произнес он почти равнодушно. — И пускай. Если б не моя бедная жена — я давно уже перестал бы противиться судьбе…
— Расскажите мне все. — В голосе моем, как теперь понимаю, прозвучали неуместные нотки апломба, с которым опытный специалист обращается к несведущему пациенту. Роберт Элдридж только усмехнулся устало.
— А что же, и расскажу. Это ей я рассказать не мог. Право слово, жаль, что я не католик: у них хоть исповедь принята… Ладно, вам, юная леди, я могу поведать о своем грехе, не погубив душу больше, чем она уже погублена. Этот человек — тот, который убил мою девочку и скрылся с места преступления, — был, как потом выяснилось, плохо знаком с местностью. Но перед самым столкновением он видел, что я смотрю прямо на него, — и понимал, конечно: я разглядел его достаточно хорошо, чтобы опознать при очной ставке. Мы все думали — он спрячет машину в гараже и сам засядет у себя дома, за опущенными ставнями, носа не высовывая на улицу. Но случилось иначе. Он куда-то не туда свернул — и уже не знал, как ему попасть домой, во всяком случае, без того, чтобы попасться на глаза слишком многим. И начал колесить по округе… сворачивал на проселочные дороги, прятался в рощицах… вот так он и проездил на своем проклятом лилейном автомобиле до самого времени похорон нашей Бесси. И как раз вечером, когда я возвращался с кладбища — один, моей супруге этот путь был тогда не по силам, — он подъехал ко мне сзади. Вот прямо здесь. Поздние сумерки, туман, чертова машина светит фарами, я отхожу на обочину, водитель останавливается и спрашивает: «Приятель, как проехать в сторону Хексманна?»… И тут — я узнаю его. А он меня нет: стою в полоборота, заслоняюсь рукой от света. И я говорю ему: «Езжайте прямо!» — зная, что эта дорога ведет прямо к утесу и там резко обрывается, почти на самом краю, а сам этот край и уходящую вбок тропку может рассмотреть только идущий пешком, причем не ночью… Он: «Благодарю, приятель!» — и дал газу, мотор заурчал, взревел…
Я было дернулся за ним следом — но разве может человек угнаться за машиной! Вот так это случилось. Он был виновен — но я, получается, совершил умышленное убийство. И теперь каждый вечер…
— Стоп, — решительно сказала я. — Никакого умышленного убийства вы не совершали. Я даже думаю, что вообще ничего не было. Вы тогда находились в шоке после смерти дочери — а такие моменты человек запоминает очень смутно. Как бы там ни было, вам не следует ходить здесь по вечерам.
— Я должен. — Он покачал головой. — С некоторых пор я знаю — только не спрашивайте откуда! — что кто-то должен видеть этот автомобиль. Видеть, слышать, обонять… Кто-то один. Если не я — то этот жребий достанется другому, совсем постороннему человеку. А то, что я вижу… Нет, не стану рассказывать даже вам. Но уж поверьте: это не просто призрак машины с человеческим призраком за рулем. Все куда страшнее…
— И все-таки расскажите, — потребовала я еще более решительно. — Я не врач, но, безусловно, медик. А мы, конечно, говорим о проявлениях болезни. Так что можете ничего от меня не таить.
И мистер Элдридж рассказал все. О чем мне тут же пришлось пожалеть. Я-то была уверена, что ему все же видится неупокоенный дух машины и человека, обагренный кровью его дочери… Нет. Все и вправду оказалось гораздо страшнее. Настолько, что остерегусь доверить этот рассказ бумаге.
Однако я была совсем молода, ни во что сверхъестественное не верила, зато во всемогуществе медицины была уверена абсолютно. Поэтому тут же принялась убеждать моего пациента, что все его проблемы не требуют потустороннего объяснения, а для того, чтобы укрепить расшатанную шоком психику, достаточно всего-навсего один раз пропустить вечернюю встречу с этим автомобилем-призраком, который на самом деле, конечно, лишь галлюцинация.
— Но если я не пойду… — он заколебался, — его увидит кто-то другой.
— Никто не увидит! — заявила я с величайшей убежденностью.
— Нет. Вы не понимаете. Кто-нибудь обязательно окажется там — и тогда…
— Хорошо, тогда этим «кем-нибудь» буду лично я. — Боюсь, что в моем голосе звучал даже не врачебный апломб, но ласковая снисходительность взрослого, разговаривающего с испуганным ребенком. — Я согласна перенять вашу эстафету. Следующий вечер проведите дома, рядом с миссис Элдридж, а я схожу сюда, ничего, разумеется, не увижу — и со спокойной душой вернусь к вам.
— Со спокойной душой… — странным голосом повторил он.
Весь следующий день я посвятила тому, чтобы уговорить мистера Элдриджа принять мой план. И вплоть до последней минуты казалось, что все мои попытки тщетны. Но он все-таки сдался, буквально в последний момент, стоя перед дверью. Да, он согласен не идти сегодня на вечернюю прогулку по своему привычному маршруту — в том случае, если я сделаю это за него.
И я пошла.
Наверное, будь я более умелым литератором, читатель уже полностью представлял бы мои чувства в ту минуту. А так мне приходится поведать о них самой. Честно говоря, я не была так спокойна, как хотелось бы. В душе каждого человека соседствуют трус и храбрец, и моего храбреца сейчас подкармливал весь прошлый жизненный опыт, а труса — опыт последних месяцев, проведенных с этими людьми, почти побежденными своими страхами. Страхом неведомого, страхом друг за друга, страхом страха. К сожалению, на темной вечерней дороге эти древние чувства были куда убедительней, чем под кровом дома, при ярком свете керосиновых ламп, столь убедительно символизирующих Прогресс и Науку!
Тем не менее я бодро шагала по уже хорошо известному мне пути. И меньше всего собиралась задумываться о природе того ужаса, который мог быть связан с появлением призрачного автомобиля. О спиритизме, гипнотизме, телепатии и прочих пугающих новинках я тоже старалась не думать.
А вот и пункт назначения: тот участок дороги, на котором Роберт Элдридж каждый раз шарахается к обочине. Как и следовало ожидать, там пусто. Но я дала своему пациенту обещание простоять там пять минут — и это обещание сдержу.
Пять минут — долгий срок, если чего-то напряженно ждешь, особенно в вечерней тиши, под неяркими звездами. Я то и дело поглядывала на часы. Три минуты. Четыре с половиной. Без четверти пять (что, всего пятнадцать секунд прошло?!).
Пять минут. И ничего страшного. Миссис Элдридж сказала бы: «Какое облегчение…».
Я повернулась, чтобы идти обратно, — и едва сдержала весьма темпераментный возглас: мой пациент, оказывается, вместо того чтобы оставаться дома, все это время тайно следовал за мной. Сейчас он стоял на краю дороги, в дюжине ярдов от меня — и смотрел куда-то в сторону.
…Нет, не в сторону он смотрел, а назад: на автомобиль, стремительно несущийся по проселку. Еще за секунду до этого, клянусь, никакой машины там не было — но вот же она: сверкают фары, рычит и фыркает мотор, шуршат по дороге шины. И почему-то смотреть на все это страшно до ужаса.
Я прижалась спиной к кустарнику, чтобы пропустить приближающуюся машину, — хотя и понимала, что никакой машины на самом деле нет. А вот Роберт Элдридж повел себя иначе, чем ранее. С громким возгласом «Нет, нет, никогда больше!» он шагнул на дорогу — и бампер автомобиля бесплотно ударил по нему, а потом колеса прокатились не то по его телу, не то сквозь него…
Мгновение спустя машина пронеслась мимо меня. Смотреть на нее по-прежнему было невыразимо страшно — но я не могла отвести взгляд.
В сумерках трудно судить о цвете. Однако уверена: цвет был темно-лилейный.
Все-таки медицинская сестра во мне сумела победить испуганную девушку. Я бросилась бежать не прочь, а к мистеру Элдриджу, моему пациенту. Но тут же поняла, что в моей помощи он более не нуждается.
— Это, наверное, даже лучше для него, — таковы были первые слова миссис Элдридж, когда она узнала о несчастье с мужем, — он ведь так страдал, бедный мой, бедный…
Миссис Элдридж попросила меня не покидать ее. Я не могла ей отказать. Но мне не пришлось пробыть в Чарлстауне долго: вскоре она угасла, как свеча.
…Может быть, по проселочной дороге действительно проехал самый обычный автомобиль, управляемый шофером из плоти и крови, а все остальное — эмоции, обман перенапряженных нервов? Но если человека сбивает машина — это оставляет на теле вполне вещественные и очень заметные следы. А в данном случае этого не было. Ни ран, ни ушибов, ни, в конце концов, следов на одежде. Да, вот еще что я должна сказать: грунтовая дорога была влажна от вечерней росы — но отпечатков шин на ней не осталось.
Диагноз был «смерть от внезапной остановки сердца». У врача, обследовавшего тело, не возникло даже тени сомнения. Я — единственная, кто знает: смерть Роберта Элдриджа была насильственной. Он погиб под колесами автомобиля, возникшего из ниоткуда и пронесшегося сквозь материальный мир, как тень.
Наверное, мистер Элдридж видел эту машину по-своему, иначе, чем я. Мне довелось испытать гораздо менее необоримый ужас, чем ему. Но в одном я уверена: водительское сиденье лилейного авто пустовало. Там не было ни человека, ни призрака.
Вообще никого.
Амброз Бирс
ВДОВЕЦ ТЕРМОР
Обстоятельства, при которых Джорам Термор овдовел, так никогда и не стали достоянием общественности. Разумеется, я-то в курсе, ибо я и есть тот самый Джорам Термор, и жена моя, покойная Элизабет Мэри Термор, тоже прекрасно осведомлена — впрочем, никто так и не поверил ее словам, так что тайна эта покрыта мраком и по сей день.
Когда я женился на Элизабет Мэри Джонин, она была весьма состоятельна, иначе и быть не могло — за душой у меня не было ни гроша, и сердце мое не лежало к работе ни в малейшей степени. В то время я руководил кафедрой в университете Грэймолкина, и профессорское бытие отвратило меня и от низменного физического труда, и от зарабатывания денег. Более того, я все-таки был из рода Термор, чей девиз с незапамятных времен гласил: Laborare est errare («Труд порочен»). Единственный раз семейная традиция была нарушена, и случилось это в семнадцатом веке, когда сэр Альдебаран Термор де Петерс-Термор, выдающийся взломщик того времени, принял личное участие в сложнейшей операции, затеянной некоторыми его подчиненными. Это пятно позора обрекло всех его потомков на мучительный стыд.
Пребывание в профессорской должности, разумеется, не требовало от меня идти против семейной традиции. Ни разу с самого основания кафедры там не случалось более двух студентов в группе, и я успешно утолял их жажду знаний, зачитывая вслух конспекты лекций своего предшественника, которые нашел в его вещах, — бедняга утонул во время поездки на Мальту. Так я благополучно избежал позора оплачиваемого труда, пусть даже оплата этих лекций исчислялась исключительно статусом.
Разумеется, в таких обстоятельствах я не мог не рассматривать Элизабет Мэри как подарок судьбы. Она поступила неблагоразумно, отказавшись разделить со мной имущество, но это не имело значения. Как известно, по законам этой страны жена владеет собственным имуществом на протяжении всей жизни, однако после ее смерти оно отходит мужу, и даже в завещании изменить это невозможно. А смертность среди жен хоть и значительна, но за рамки нормы не выходит.
Связав себя узами брака с Мэри Элизабет и облагородив ее фамилией Термор, я почувствовал, что это накладывает определенные ограничения на характер ее кончины — новый статус требовал достойного ему соответствия. Я мог бы овдоветь и обычными методами, но тем самым уронил бы семейную честь и навлек бы на себя справедливый упрек. Однако подходящая схема никак не шла на ум.
В этом безвыходном положении я решил обратиться к семейному архиву, бесценному собранию документов, фиксировавших информацию о Терморах с самого основателя рода, жившего в седьмом веке нашей эры. Я знал, что среди этих священных бумаг смогу отыскать подробные описания всех более-менее значительных убийств, совершенных моими ныне почившими предками на протяжении сорока поколений. И в этой массе материала обязательно должно было найтись верное решение.
В собрании этом оказались преудивительнейшие артефакты. Там были и дворянские грамоты, жалованные моим предкам за дерзкие и изобретательные способы избавления от претендентов на трон или же тех, кто этот трон занимал; звезды, кресты и прочие знаки отличия самых засекреченных и подпольных ведомств; разнообразные подарки от самых преступных из всех мировых сообществ, фактическая стоимость которых не поддавалась исчислению. Были там и мантии, и драгоценности, и фамильные мечи, и прочие знаки почета и уважения самого разного толка. Был там и винный кубок, изготовленный из королевского черепа, и владетельные грамоты на огромные поместья, давным-давно отчужденные, конфискованные, проданные или попросту заброшенные. Был там и рукописный требник с гравюрами, некогда принадлежавший сэру Альдебарану Термору де Петерс-Термору, да не упокоит Господь его порочную душу. Были и забальзамированные уши некоторых самых выдающихся врагов рода, и тонкая кишка одного итальянского чиновника, питавшего личную неприязнь к нашему роду, — скрученная в скакалку, она верно служила играм юных Терморов на протяжении целых шести поколений. Были там и сувениры, и реликвии, ценностью выходящие за рамки всякого воображения, но волею сентиментальных традиций обреченные вековать век в этой сокровищнице.
Как нынешний глава семьи я был хранителем всех этих бесценных предметов и для пущей их безопасности выстроил в собственном винном погребе сейфовую комнату с толстой каменной кладкой. Ее несокрушимые стены и единственная стальная дверь могли выдержать и землетрясение, и коварно неторопливое течение времени, и вторжение влекомых алчностью и жаждой наживы субъектов.
Эту сокровищницу моей души, источник сентиментальных дум и кладезь преступных деяний я и посетил, надеясь обрести там вдохновение для задуманного убийства. Каково же было мое невыразимое изумление, мой неописуемый ужас, когда я обнаружил, что комната пуста! Каждая полка, каждый сундук, каждый ящичек — все было выпотрошено и опустошено. Ни малейшего следа не осталось от коллекции, равной которой не было во всем мире! Более того, мне удалось выяснить, что до меня массивную стальную дверь не открывал никто — не было на ней ни единой царапины, и печати на замке были нетронуты.
Ночь я провел в причитаниях и попытках расследования, ничто из этого успехом не увенчалось. Загадку не брали никакие теории, а боль потери исцелить было невозможно. Но даже в эту ужасную ночь мои стойкий дух не оставил своего замысла насчет Элизабет Мэри, и на рассвете я был как никогда полон решимости к благополучному (для меня) разрешению нашего брачного союза. Казалось, утрата сблизила меня духовно с достославными предками, и не поддаться их зову, звучавшему в моей крови, было решительно невозможно.
Вскоре я разработал план действий. Заготовив моток толстой бечевы, я проник в спальню своей жены и застал ее, как и ожидалось, крепко спящей. Не успела она и проснуться, как я крепко связал ее по рукам и ногам. Она очень удивилась, ей было больно, но несмотря на все возражения, даже самые громкие, я отнес Мэри Элизабет в опустевшую сейфовую комнату, куда раньше ей строго воспрещалось заходить. Я усадил ее, связанную, в угол, и следующие двое суток стаскивал вниз кирпичи и известь, а утром третьего дня надежно заложил этот угол сверху донизу. Ее мольбы о милосердии я пропускал мимо ушей, и смягчился лишь единожды, когда она попросила ее развязать, пообещав не сопротивляться, и действительно сдержала это обещание. Отведенное ей пространство составляло четыре на шесть футов. Когда я положил последний кирпич, на самом верху, у потолка, она попрощалась со мной — очень спокойно, должно быть, она перешла к тому времени все грани отчаяния. Я же отдыхал от трудов, и заслуженно — все было сделано в полном соответствии с традициями моего древнего и славного рода. Единственная мысль омрачала мое благодушие: приводя замысел в исполнение, я замарал свои руки трудом, но никто и никогда об этом не узнает.
Я проспал всю ночь, а наутро отправился к судье, заведовавшему имущественными правами и вопросами наследования, и сделал чистосердечное признание, пересказав все в точности до мелочей — единственно роль усердного строителя в своем рассказе я отвел слуге. Судья назначил уполномоченное лицо, было проведено тщательное обследование подвала, и на основе его результатов к субботе Элизабет Мэри Термор была официально признана мертвой. По закону я вступил во владение ее поместьем, и хотя ценность его ни в коей мере не компенсировала утрату моей сокровищницы, мое нищенское существование осталось в прошлом, и я превратился в состоятельного и уважаемого человека.
Спустя около полугода после описываемых событий до меня дошли странные слухи — будто бы призрак моей покойной жены видели то тут, то там, но всегда на значительном расстоянии от Грэймолкина. Я не смог выявить источник этих слухов, они разнились в описаниях и деталях и сходились лишь в одном, приписывая этому призраку изрядно мирскую состоятельность, а также необычную для потусторонних тел дерзость. Дух был облачен в изысканные дорогие одеяния, но, что еще более возмутительно, являлся посреди бела дня и даже иногда управлял экипажем! Словами не выразить, как возмущен я был этими сообщениями. Возможно, тут крылось нечто более земное, чем суеверие о том, что топтать нашу грешную землю способны лишь непогребенные. Я снарядил небольшую команду рабочих с мотыгами и ломами, отвел их в запустелую ныне комнату и приказал разобрать стену, ставшую гробницей моей супруги. Я был полон решимости отдать телу Элизабет Мэри последние почести и похоронить его, что должно было, как я надеялся, отвлечь призрак от блужданий по миру живых и стать этому времяпрепровождению достойной альтернативой.
Не прошло и нескольких минут, как в стене появилась брешь, и я, сунувшись в нее с фонарем, огляделся вокруг. Пусто! Ни костей, ни волос, ни останков одежды. Этот крохотный закуток, согласно моим письменным показаниям ставший официальной могилой всего, что осталось от покойной миссис Термор, был совершенно пуст! Это поразительное открытие стало слишком тяжелым ударом для моей психики, и без того подточенной тревогами и загадками. Я вскрикнул и упал без сознания. Несколько следующих месяцев я метался в лихорадке на грани жизни и смерти, терзаясь в своем бреду ужасными видениями, и вновь встал на ноги не раньше того дня, когда мой лечащий врач покинул страну, прихватив с собой шкатулку с драгоценностями из моего сейфа.
Следующим летом я вновь навестил свой винный погреб, в углу которого и оборудовал тогда свою сейфовую комнату. Я катил бочку с «мадейрой», она вывернулась из рук и врезалась в перегородку, и я с удивлением заметил, что от удара несколько кирпичей из этой перегородки сместили свое положение.
Я надавил на них руками и с легкостью вытолкнул вперед — как я выяснил тут же, прямо в закуток, где была с почестями захоронена моя досточтимая супруга. В четырех футах за отверстием высилась стена, выложенная мною собственноручно для оказания вышеупомянутых почестей. Осознание обрушилось на меня, и я принялся за обыск погреба, и за рядом бочек обнаружил четыре исторически весьма ценных, хоть и не имеющих отношения к делу, предмета:
— заплесневелые останки герцогской мантии из хлопчатобумажной саржи, предположительно одиннадцатого века;
— рукописный требник с гравюрами и именем сэра Альдебарана Термора де Петерс-Термора на титульной странице;
— винный кубок, выделанный из человеческого черепа и пропитавшийся вином насквозь;
— и наконец, железный крест рыцаря-командора Ордена Отравителей Австрийской империи.
Больше там не оказалось ничего — ни ценностей, ни бумаг, но и этих находок было достаточно, чтобы увидеть полную картину происшедшего. Моя жена давным-давно открыла для себя эту сокровищницу и с помощью черепа смогла расшатать несколько камней.
Через это отверстие она в несколько заходов изъяла всю коллекцию и, несомненно, успешно ее реализовала, переведя в валюту и недвижимость. Когда я, еще не осознавая себя рукой возмездия (что печалит меня и поныне), решил замуровать ее в погребе, волею злого рока я избрал тот его угол, где и находились эти расшатанные камни. Нет никакого сомнения в том, что она выдвинула их, выскользнула в погреб и задвинула обратно, заметя все следы, еще до того, как я положил последний кирпич. Из погреба она с легкостью выбралась незамеченной, а на свободе ее ждали припрятанные в нескольких местах баснословные богатства. Я сбился с ног, пытаясь выхлопотать постановление о совместном проживании законных супругов, но его высокоблагородие господин судья напомнил, что официально Элизабет Мэри мертва, и в моей ситуации остается только подать прошение об эксгумации, чтобы зафиксировать факт воскрешения юридически. Так что все идет к тому, что до конца дней мне суждено залечивать эту душевную и материальную рану, нанесенную мне женщиной без малейшего признака стыда и совести.
МОЕ ЛЮБИМОЕ УБИЙСТВО
Убив собственную мать при обстоятельствах, которые были названы «с особой жестокостью», я попал под арест, а затем и под суд, который длится, по счету на настоящий день, вот уже семь лет. Сегодня, подводя итог, судья сказал, что ему еще ни разу в жизни не приходилось выносить приговор по столь жуткому преступлению.
Тогда с места поднялся мой адвокат и заявил:
— Ваша честь, преступление может рассматриваться как «ужасное» или, если угодно, «восхитительное» лишь в сравнении с чем-то. Если бы вы имели возможность ознакомиться с подробностями прошлого убийства, которое было совершено моим подзащитным — речь идет об убийстве его дяди, — вы, полагаю, имели бы основания усмотреть в его последующем преступлении явную тенденцию к его, моего клиента, исправлению и даже проявление к жертве своего рода сыновьей почтительности, тогда как ранее он, мой клиент, был абсолютно глух к родственным чувствам. Неописуемая, выходящая за все и всяческие пределы жестокость предшествующего убийства, безусловно, могла бы быть вменена ему, моему клиенту, в вину; и если не принимать во внимание обстоятельство, что достопочтенный судья, выносивший приговор по тому делу, одновременно являлся президентом страховой компании, в которой мой клиент незадолго перед этим на крупную сумму застраховал свою жизнь, указав в графе «риск» не что-нибудь иное, но именно «повешение», — так вот, если не принимать во внимание это, то действительно трудно представить, каким образом он, мой клиент, мог быть оправдан. Однако поскольку факт оправдания все-таки имел место, то он, как бы там ни было, создает прецедент. Таким образом, попрошу вашу о честь выслушать показания моего клиента по тому прошлому делу и решить, не является ли дело нынешнее гораздо менее заслуживающим наказания. Также прошу учесть, что он, мой клиент, претерпит значительный моральный ущерб непосредственно в процессе произнесения этих своих показаний, ибо они, показания, заставят вновь пережить его, моего клиента, те тяжкие воспоминания, которые связаны с ним, прошлым убийством.
— Ваша честь, я возражаю, — поднялся с места окружной прокурор. — Апелляция к обстоятельствам прошлого дела была бы законной, окажись этот довод выдвинут три года назад, весной 1881 года. Однако поскольку в надлежащее время обвиняемый не сделал соответствующего заявления, на сей день срок давности…
— С формальной точки зрения вы правы, — покачал головой судья, — и в апелляционном суде ваш довод был бы принят во внимание. Но в данном случае, поскольку имеет место быть суд присяжных, а речь идет о возможности или невозможности вынесения оправдательного приговора, ваше возражение не принимается.
— Ваша честь, я протестую, — сказал прокурор.
— В данном случае вы не имеете права протестовать, — объяснил судья, — ибо для вынесения протеста вам нужно было заблаговременно подать апелляционную жалобу насчет дополнительных заявлений, произносимых под присягой.[72] В следующий раз будьте внимательней, сэр: ведь именно за такую ошибку я был вынужден отстранить от процесса вашего предшественника; правда, это было давно — еще в первый год заседаний по этому делу… Так что, пожалуйста, давайте поскорее приведем обвиняемого к присяге — и пусть воспользуется своим шансом.
Непосредственно вслед за этим я произнес слова присяги, а потом произнес оправдательную речь, которая произвела на судью столь сильное впечатление, что он, даже не озаботясь дальнейшим поиском смягчающих обстоятельств, просто поручил жюри присяжных утвердить мне оправдательный приговор. Что и было сделано. В результате я вышел из здания суда невинным, аки агнец, без единого пятнышка на своей репутации.
Речь эту я, впрочем, сейчас приведу. Возможно, она вам пригодится:
— Я родился в 1856 году в городишке Каламаки, штат Мичиган, в семье честных и уважаемых родителей, что было мне в последующие годы большим утешением; прошу суд отметить: из этих двух родителей я препроводил на Небо только одного. В 1867 году семья переехала в Калифорнию и поселилась неподалеку от поселка, носящего живописное название Голова Негра, где мой отец открыл дорожное агентство, которое и процветало в соответствии с его представлениями о процветании, а также деловыми возможностями. Он был тихий, замкнутый человек, а сейчас его чувства смиряет еще и почтенный возраст — тем не менее глубоко убежден: по поводу того события, о котором я вам намереваюсь поведать, он бы испытывал только и исключительно бурную радость… может быть, несколько умеряемую тем плачевным обстоятельством, что я, его единственный сын и наполовину сирота, нахожусь сейчас под судом.
Четыре года спустя, поздним вечером, к нам в дом постучались бродячие проповедники. У них не было денег, чтобы оплатить ночлег, и вместо этого они прочли нам проповедь, столь зажигательную, что мы всей семьей, хвала Создателю, немедленно обратились к религии и сочли свой тогдашний бизнес недостаточно богоугодным. Мой отец под воздействием христианских чувств сразу же написал в Стоктон своему брату, достопочтенному Уильяму Ридли, а когда тот приехал — не просто предложил ему войти в дело, но и буквально передал наше дорожное агентство под его руководство. И это несмотря на то, что взнос дядюшки Уитли сводился к минимуму: ни денег, ни юридического обеспечения, только винчестер да укороченный, чтобы удобнее было носить под плащом, дробовик, ну и еще комплект сделанных из мешковины масок, на самого дядюшку и его сыновей, Ридли-младших. Вскоре после этого наше семейство перебралось из окрестностей Головы Негра в поселок с не менее живописным названием Скала Призраков, где и открыло богоугодное заведение, а именно танцевальный зал. Он получил благочестивое название «Во имя Господа под шарманку» — и каждый вечер перед началом танцулек там неизменно читалась молитва. Именно в этом заведении моя почтенная мать, да будет она благословенна в танце, получила, за некоторые особенности своей фигуры, прозвище «Пляшущая Моржиха».
Осенью 75-го мне довелось проезжать на почтовом дилижансе по маршруту Койот — Махала — Скала Призраков. Кроме меня в том дилижансе было еще четыре пассажира. Не доезжая примерно трех миль до Головы Негра, наш экипаж был остановлен вооруженными людьми в масках. Эти люди, которых я, несмотря на маски, безошибочно идентифицировал как моего дядю Уильяма и двух его сыновей, очень тщательно обшарили весь дилижанс, не нашли ничего заслуживающего внимания в пассажирском багаже — и принялись за самих пассажиров. Прошу обратить внимание, что я был целиком и полностью верен семейным ценностям: на равных с остальными пассажирами поднял руки, дал себя обыскать, лишился золотых часов и сорока долларов — но ни тогда, ни позже даже полусловом не дал понять кому-либо из своих попутчиков, что опознал джентльменов, обеспечивших нам столь волнующие минуты. Однако через несколько дней я наведался в Голову Негра, зашел в бывшую нашу, а теперь дядюшкину контору и попросил его, так же по-семейному, вернуть мне деньги и часы. К моему удивлению, дядя и кузены категорически отрицали свою причастность к тому ночному эпизоду. Более того: признав, что им об этом эпизоде известно (как и всей округе), они сделали вид, будто подозревают в его организации… меня с отцом. И считают этот наш — будто бы наш! — эпизод вопиющим нарушением семейного разделения труда. Дядюшка даже намекнул, что в качестве ответного жеста рассматривает возможность учреждения в Голове Негра танцевального зала с целью перехватить часть наших клиентов. Увидев в этом замечательную возможность (ибо, по правде говоря, наше заведение в Скале Призраков уже и без этого начало, при всей богоугодности, терять популярность), я пообещал дяде забыть о прошлом, при условии, что он возьмет меня в долю и, разумеется, скроет эту нашу маленькую договоренность от отца. Тем не менее дядюшка Уильям отверг даже это предложение, столь щедрое и справедливое.
Тогда я понял, что ему абсолютно незачем оставаться в живых.
Тщательно продумав, как воплотить этот свой план — по лишению дядюшки жизни — в жизнь, я поделился им с родителями и получил их благословение. Отец сказал, что он гордится мной, а мать добавила, что, хотя ее религиозные чувства запрещают молиться за чью-либо смерть, она будет без каких-либо уточнений молить Бога об успехе моего начинания, причем в череде ежедневных молитв эта окажется первой.
Однако убить такого человека, как мой дядя, не так-то просто. Поэтому в качестве предварительной меры я, заботясь о своей безопасности, записался кандидатом в скалопризрачное отделение могущественного ордена Рыцарей убийства. Спустя некоторое время, когда истек мой испытательный срок, я уже, как полностью посвященный, получил допуск к спискам членов ордена — и лишь тогда узнал, кто в нем состоит: все обряды посвящения производились в масках, почти таких же, как были приняты в семье дядюшки![73]
Каково же было мое изумление, когда в списке имен я обнаружил… своего дядюшку! Его фамилия значилась в третьей от начала строке, а должность звучала как «младший вице-канцлер Порядка». Тут я почувствовал, что судьба дает мне возможность превысить мои самые смелые мечты. Ведь доселе я рассчитывал совершить только одно лишь убийство, а теперь вдруг понял, что могу добавить к нему неповиновение (иерархам ордена) и предательство (интересов ордена). Моя добрая мать по такому поводу несомненно сказала бы, что это знамение свыше.
А вдобавок как раз тогда произошло нечто, не просто наполнившее мою, так сказать, чашу радости до краев, но и переполнившее ее, так что чистая радость хлынула по стенкам. За нападение на дилижанс, то самое, при котором я лишился денег и часов, была арестована банда из трех человек. Это оказались какие-то совсем «залетные» грабители, чужие в нашей местности, и хотя я приложил массу усилий, чтобы посеять сомнения в их вине и перенести ее на некое очень известное в здешних краях семейство, тоже из трех человек, все оказалось втуне: грабители были осуждены. Так что задуманное мной убийство вдобавок ко всему становилось еще и полностью бессмысленным — на что ранее даже надеяться не приходилось!
Итак, одним прекрасным утром я, вооруженный винчестером, появился перед жилищем дядюшки Уильяма и спросил сидевшую на крыльце тетушку Мэри, дома ли ее муж, сразу же сообщив, что прибыл по важному делу: мне нужно его убить. Тетушка улыбнулась весьма сардонически, сопроводив эту ухмылку словами, что многие весьма достойные джентльмены прибывали сюда с аналогичными намерениями, а удалялись не своими ногами и без каких-либо намерений вообще — так что я должен ее простить, если она, никоим образом не подвергая сомнению мою добросовестность, все же усомнится насчет моей компетентности в этом вопросе. Эта прозвучало так, словно по мне за милю видно, что я до сих пор никого еще не убивал. Оскорбленный недоверием, я вскинул винтовку и ранил китайца, который как раз в этот момент случайно оказался напротив входа в дом. Тетушка, покачав головой, сказала, что знает многие семьи, которые могли бы сделать нечто в этом роде, но Билл Ридли все-таки лошадка совсем другой масти. После чего, правда, не отказалась сообщить мне, что я найду его за ручьем, на овечьем выгоне. И добавила, что, надеется, в этой схватке победит достойный. Но кто именно, не сказала.
Как видите, тетя Мэри — женщина очень справедливая. Я таких больше не встречал. А вы?
Дядюшку я обнаружил как раз в тот момент, когда он, стоя на коленях спиной ко мне, скоблил расстеленную на траве баранью шкуру. Поскольку в пределах его досягаемости не было ни ружья, ни револьвера, у меня не поднялась рука хладнокровно и безжалостно застрелить своего ближайшего родственника: напротив, я подошел вплотную, вежливо поздоровался — и, едва лишь дядюшка поднял голову, крепко врезал ему прикладом своей винтовки по темени. Удар у меня хорошо поставлен, так что дядюшка, коротко содрогнувшись всем телом, простерся навзничь, бессмысленно уставившись в небо и выпустив из пальцев то, что держал в момент нашей встречи, а именно — разделочный нож. Прежде чем он пришел в себя и сумел что-либо предпринять, нож был уже в моих руках.
Вы все, конечно, знаете, что если человеку подрезать ахиллово сухожилие, то крови при этом он потеряет немного, но на ногу не сможет ступить. Ну или на обе ноги, если подрезать и правое, и левое сухожилие. Так что дядя, очнувшись, обнаружил себя полностью обезноженным — и целиком в моей власти.
— Сэмюэль, мальчик мой, — сказал он, — ты меня одолел. Я достаточно великодушен, чтобы признать этот факт, не пытаясь его оспорить. Так что прошу тебя лишь об одном: прежде чем прикончить, доставь меня домой. Ибо я хочу, как подобает добропорядочному человеку, умереть под своим кровом и в кругу семьи.
Подумав, я ответил, что считаю просьбу выполнимой, если он не возражает против того, чтобы проделать это путешествие в мешке: и мне нести будет легче, и вопросов со стороны соседей, если таковые случайно встретятся, не возникнет. Дядя согласился, и я сходил к сараю за мешком из-под муки.
Однако, как выяснилось, мешок был хотя и шире моего дядюшки, однако гораздо короче. Так что я был вынужден согнуть его так, что колени прижимались к груди — и, завязав горловину мешка над дядиной головой, тронулся в обратный путь.
Дядя Уильям был человек крупный и даже в мешке не сделался меньше, во всяком случае по весу. Я с большим трудом взвалил его на спину. Шатаясь, пробрел некоторое расстояние к дому, но вскоре понял, что задача мне предстоит гораздо более трудная, чем казалось.
К счастью, остановился передохнуть я как раз под дубом, на толстой поперечной ветви которого соседские дети устроили самодельные качели, попросту дощечку на двух веревках. На эту дощечку я и присел для отдыха, но потом веревки, прочно закрепленные на дереве, подтолкнули меня к оригинальному решению. Не прошло и двадцати минут, как мешок, содержавший в себе моего дядюшку, раскачивался, подобно маятнику, надежно обвязанный этими веревками, в пяти футах над землей. Надо сказать, что дядю Уильяма я в свои планы не посвятил, так что он пребывал в полнейшем неведении по поводу того, чем я занимаюсь. К чести его должен заметить, что он даже при таких обстоятельствах не роптал на судьбу, а те слова, которые все-таки доносились из мешка, были чем угодно, только не смиренными призывами к христианскому милосердию.
Отступив на несколько шагов, я полюбовался деянием рук своих. Тем временем один из дядюшкиных баранов, очень приметный, заинтересовавшись, подходил все ближе.
Без этого барана не стоило и за дело браться. Но он был в наличии — и в самом дурном расположении духа. Впрочем, в ином расположении духа его никто никогда не видел. Это был баран-боец, знаменитый на всю округу, кошмар и гордость дядюшкиного стада. Трудно сказать, за что именно он обиделся на весь мир, но обида была глубока, а порожденная ей месть — страшна. Вялое слово «бодаться» даже близко не передает масштабов развиваемой им военной деятельности. Его врагом был весь окружающий универсум, с которым баран и сражался, используя тактику даже не стенобитного тарана, но пушечного ядра. Разогнавшись, он в длинном прыжке воспарял над землей, как ангел или демон, описывал параболу, рассекая воздух, подобно птице — и обрушивался на противника, что бы тот ни представлял, под рассчитанным с исключительной точностью углом, так что основной разрушительный эффект создавался не столько за счет прочности его рогоносного лба, сколько благодаря весу и скорости.
Энергия его удара, в пересчете тонн на квадратный фут, была колоссальна. При столкновении лоб в лоб этот баран одним ударом насмерть сражал быка-четырехлетку. Ни одна каменная ограда не могла противостоять ему сколько-нибудь долго, ни одно дерево, по каким-то причинам вызвавшее его гнев: все их он, расщепив, повергал во прах и попирал победоносным копытом их листья.
И вот это воплощение грубой силы, эта апокалиптическая тварь, эта живая молния, доселе мирно отдыхающая в тени соседнего дуба, проявила интерес к тому маятнику, который сейчас, моими стараниями, изображал из себя его хозяин, висящий в мешке. И, жаждая новых подвигов и славы, Зверь-из-бездны шагнул вперед.
Я еще раз качнул мешок, уже не плавно, а резко. Скрытый внутри дядюшка издал долгий вопль, полный боли и угрозы и закончившийся тем протяжным стенанием, на которое способен только разъяренный — или, наоборот, попавший под колесо — кот. Этого оказалось достаточно, чтобы грозный овен немедленно перевел свои боевые приготовления в последнюю фазу. Четвероного чеканя шаг, он остановился в пятидесяти ярдах от живого маятника, который своим движением и все еще доносящимся из глубин мешка воплем, казалось, вызывал на бой. Голова круторогого демона внезапно склонилась до земли, будто придавленная весом собственных рогов; а затем я увидел только белую полосу, прочертившую пространство от того места, где секунду назад стоял баран, почти до того, где висел дядя Уильям, сорок шесть ярдов из пятидесяти. Последние четыре ярда баран преодолел уже над землей, в прыжке.
Для атаки он выбрал нижнюю часть мешка и, ударив в него со страшным стуком, подбросил вертикально вверх. Заорав так, что прошлый вопль можно было счесть за легкую разминку, мой дядя взмыл выше уровня ветви, на которой крепились качели. Там натяжение веревки оборвало его полет и швырнуло мешок назад, в точности на голову свирепому овну. Тот упал и покатился по земле клубом спутанной белой шерсти, в которой мелькали то огромные рога, то копыта. Однако вскоре баран поднялся, тряхнул головой и сперва злобно затанцевал на месте, а потом начал пятиться, готовясь к новой атаке. Отойдя на прежнее расстояние, он ринулся вперед такой же неразличимой для глаза белой длиннорунной волной — вновь сорок шесть ярдов стремительного бега, затем четырехярдовый прыжок, — но на этот раз, пыша злобой, слегка промахнулся и ударил по пляшущему на веревке мешку до того, как тот достиг нижней точки. В результате мешок полетел горизонтально, а затем закружился по траектории, радиус которой был продиктован длиной веревки (составлявшей, я забыл это сказать, около двадцати футов). Скорость этого вращения была такова, что я оценивал ее скорее не на глаз, а на слух, по дядиным воплям, достигавшим крещендо в ближайшей ко мне части окружности и диминуэндо — на противоположной.
В дяде еще оставалось достаточно жизненных сил, а его положение в мешке и пятифутовое расстояние до земли заставляли барана раз за разом наносить удары снизу вверх. Подобно растению, корни которого дотянулись до слоя ядовитого минерала, мой дядюшка, так сказать, отмирал от корней до вершины.
Баран продолжал свои атаки, уже не отходя далеко для разгона. Лихорадка боя воспламенила его сердце, а его возмущенный бараний разум кипел и туманился, опьяненный вином ярости. Подобно боксеру, который в бешенстве забыл свое мастерство и начал драться как уличный забияка, нанося удары с неверной дистанции, баран подскакивал, бодая кружащийся над его головой мешок, иногда попадал по нему, но в четверть силы, чаще же вообще промахивался. Однако чем больше было промахов, тем медленнее вращался и ниже опускался мешок, а это позволяло четвероногому монстру возобновлять прицельные удары, каждый из которых вызывал новую порцию воплей, производящих на меня неизгладимое впечатление.
Вдруг словно полковой рожок пропел отбой: баран прекратил боевые действия и направился прочь, задумчиво морща склоненное к земле чело и время от времени срывая травинку-другую. Еще немного — и он начал пастись. Действительно ли овен устали от треволнений войны и решил, перековав меч на орало, усовершенствоваться в искусстве мира? Шаг за шагом удалялся он прочь от поля брани, оставляя за собой идеально прямую дорожку выеденной до грунта травы — и так продолжалось, пока расстояние между ним и дядюшкой Уильямом не достигло четверти мили. Тогда баран остановился, жуя жвачку и обернувшись к месту былого сражения, так сказать, тылом; лишь иногда оглядывался на него, так сказать, через плечо.
Между тем вопли дяди Уильяма утратили свою эмоциональную наполненность, сменившись протяжными жалобными стонами. Иногда в них звучало мое имя — но теперь дядюшка уже не храбрился, а призывал меня на помощь, что было чрезвычайно приятно для моего слуха. Судя по всему, он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, что такое с ним творится, и был в несказанном ужасе. О да, когда Смерть приходит облаченная в Тайну — это действительно Страшно.
Постепенно амплитуда колебаний маятника, который представляло собой тело моего дяди (или, вернее, то, что от него осталось), уменьшилась, и наконец мешок повис неподвижно. Я подошел к нему и уже собирался нанести дядюшке coup de grace,[74] когда вдруг услышал, а перед тем даже почувствовал через подошвы, по сотрясению почвы, что надвигается нечто катастрофическое. Бросил взгляд в сторону, куда удалился баран, — и едва успел отскочить.
«Нечто катастрофическое» надвигалось с грохотом, как поезд или горный обвал. В тридцати футах от нас стремительное облако пыли, которое оставляла за собой и вокруг себя туша несущегося сквозь пространство барана, вдруг остановилось — и из нее по высокой дуге, подобно огромной птице, выпорхнуло длиннорунное и длиннорогое тело.
Оно взмыло в воздух так легко и изящно, словно полет для него был естественней бега, и неслось с такой скоростью, что взгляд не успевал ее оценить. Однако и того, что я все-таки увидел, оказалось достаточно для умиленного преклонения перед всемогуществом Творца. Совершенство прочерченной в воздухе дуги было таково, что хотелось забыть о ее стремительности: в памяти осталось медленное и плавное движение, именно полет, а не прыжок. Пространство и время равно склонились перед бараном, структура мироздания менялась, сопровождая его блистательный бросок. Если пробег Зверя по земле внушал ужас, то его ангельский взлет вызывал восторг. Уже не злобный овен, а благороднейший агнец плыл через воздух, смиренно склонив голову, подогнув передние конечности и по-птичьи отведя назад сведенные вместе задние. На высоте сорока или даже пятидесяти футов — поскольку движение все-таки было стремительным, примитивный человеческий глаз не в силах оценить точнее — это существо достигло апогея своего сверхъестественного прыжка, на мгновение словно бы замерло, а потом, не изменяя своей плывуще-летящей позы, почти отвесно устремилось вниз. Лишь в последний миг перед ударом чары распались и полет, перестав казаться медлительно-плавным, стал молниеносным, каким он, собственно, был изначально.
Баран ударил в мешок со звуком, с которым поражает цель пушечное ядро. В верхнюю часть мешка, туда, где находилась голова и шея моего несчастного дяди.
Удар был страшен. Он раздробил череп, сломал шею, оборвал веревку и не просто вмял мешок вместе с телом в землю, но буквально расплескал его, как грязь.
От сотрясения остановились все часы во всех городках и поселках между Лон-Хэнд и Датч-Дэн. А высокоученый профессор Дэвидсон, который случайно оказался в наших краях, убедительно объяснил, что волна колебаний грунта шла севера на юг и была вызвана не землетрясением, но, скорее всего, падением метеорита; поэтому… Впрочем, что поэтому, уже неважно…
Короче говоря, леди и джентльмены, я имею основания полагать, что убийство моего дядюшки Уильяма является эталоном злодейства. И превзойти его удастся не скоро. Если вообще когда-нибудь удастся.
ИЗ ЦИКЛА «ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?» СЛЕДЫ ЧАРЛЗА АШМОРА
Семья Кристиана Ашмора состояла из его жены, матери, двух взрослых дочерей и сына 16 лет. Они жили в Трое, штат Нью-Йорк, были состоятельными и респектабельными людьми. У них было много друзей, некоторые из потомков которых, читая эти строки, возможно, впервые узнают о необычайной судьбе молодого человека. В 1871 или 1872 году семья Ашморов переехала из Трои в Ричмонд, штат Индиана, а год или два спустя — в окрестности Квинси, штат Иллинойс, где мистер Ашмор купил ферму. Почти рядом с их домом протекал ручей с чистой холодной водой, откуда семья брала ее для домашнего пользования в любое время года.
Вечером 9 ноября 1878 года около 9 часов молодой Чарлз Ашмор покинул свое место возле камина, взял жестяное ведро и отправился к ручью. Поскольку он все не возвращался, семья начала беспокоиться. Подойдя к двери, через которую он вышел, отец позвал его, но ответа не услышал. Тогда он зажег фонарь и со старшей дочерью, Мартой, которая настояла на том, чтобы пойти с ним, двинулся на поиски. Выпал легкий снежок, которым замело тропинку и сделало следы молодого человека очень заметными: каждый отпечаток был отчетливо виден. Пройдя немного больше половины пути, около 75 ярдов, отец, который шел впереди, вдруг остановился, поднял фонарь и стал всматриваться в темноту.
— Что случилось, отец? — спросила девушка. А случилось следующее: след Чарлза внезапно обрывался, дальше шел гладкий, нетронутый снег. Последние следы были такими же отчетливыми, как и все предшествующие, — видны были даже отпечатки гвоздей на подошве. Мистер Ашмор взглянул наверх. Мерцали звезды, на небе не было ни облачка, все это не поддавалось объяснению, которое само собой напрашивалось, такое же неправдоподобное, как и новый снегопад с отчетливо видимой границей. Подальше обойдя последние следы, чтобы оставить их нетронутыми для дальнейшего исследования, мужчина проследовал к ручью, за ним пошла вмиг ослабевшая и напуганная его дочь. Оба не обменялись ни словом о том, что увидели. Ручей был затянут льдом уже несколько часов.
Возвращаясь домой, они заметили, что по обеим сторонам следа по всей его длине насыпало снега. От него не шло других следов.
Утренний свет не выявил чего-либо нового. Гладкий, чистый, нетронутый первый снег лежал повсюду.
Четыре дня спустя убитая горем мать пошла на ручей за водой. Когда она вернулась, то рассказала, что, проходя мимо того места, где кончался след, она услышала голос сына и сразу же начала звать его. Как ей казалось, голос доносился то с одной, то из другой стороны. Когда ее спросили, что говорил голос, она не смогла ответить, однако утверждала, что слова были слышны вполне отчетливо. Через считаные минуты вся семья была на месте, но ничего не было слышно, а про голос подумали, что это могла быть галлюцинация, вызванная тревогой матери и ее расстроенными нервами. Но после этого, через неравные промежутки времени, голос слышали и другие члены семьи. Все утверждали, что это был, несомненно, голос Чарлза Ашмора. Все сходились на том, что он исходил с большого расстояния, был еле слышим, однако с отчетливой артикуляцией. Однако никто не смог определить направление, откуда он слышался, или повторить то, что он говорил. Промежутки тишины становились все длиннее и длиннее, голос доносился каждый раз все слабее и был как бы отдаленней, а с середины лета его больше не слышали.
Если кто и знает судьбу Чарлза Ашмора, то это, наверное, его мать. Она уже умерла.
НЕ ДОБЕЖАВШИЙ ДО ФИНИША
Джеймс Берн Уорсон был сапожником и жил в Лимингтоне, графство Уорвикшир (Англия). У него был маленький магазинчик на одном из ответвлений дороги в Уорвик. В своем скромном кругу он считался порядочным человеком, хотя, как и многие люди его сословия в английских городах, любил выпить. Под действием ликера он делал глупые ставки. Вот однажды он похвастался своей ловкостью пешехода и спортсмена и в результате решил помериться силами с природой. Поспорив на один соверен, он решил пробежать всю дорогу в Ковентри и обратно — дистанцию длиной более 40 миль. Это было 3 сентября 1873 года. Он начал забег в компании человека, с которым поспорил и имя которого осталось неизвестным, а также Бархама Уайза, торговца льном, и Хамерсона Бэрнса, фотографа, которые следовали за ним в легкой коляске.
Несколько миль Уорсон пробежал на славу, без видимой усталости, ибо имел необыкновенную выносливость и не был настолько пьян, чтобы сойти с дистанции. Три человека в карете ехали сзади неподалеку, дружески подбадривая его время от времени, благо настроение у всех было хорошее. Внезапно на самой середине пути, менее чем в 10 ярдах от них и полностью в их поле зрения, человек споткнулся, полетел головой вперед, издал ужасающий крик и исчез! Он не упал на землю, нет, он исчез прежде, чем коснулся ее! От него не нашли и следа.
После бесцельного шатания на месте исчезновения трое мужчин вернулись в Лимингтон и поведали свою потрясающую историю, за что были взяты под арест. Но у них была добрая репутация, их всегда считали людьми честными, тем более они были трезвы во время происшествия, и ничего порочащего их данный под присягой отчет о необычном приключении, насчет которого мнение общественности разделилось по всей Англии, не обнаружили. Если у них и имелся злой умысел, то его экстравагантное осуществление, безусловно, поразило бы любого здравомыслящего человека.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Амброз Бирс делал все возможное, чтобы его рассказы выглядели достоверно — приводил фамилии, даты, точное указание места, ссылки на научные авторитеты, — поэтому ничего удивительного, что их порой принимали за отчеты о подлинных происшествиях. Более того, и до сих пор принимают. На эти истории прямо или косвенно ссылается ряд современных авторов, чьи книги посвящены «таинственным исчезновениям»…
По нелепой иронии судьбы Амброз Бирс и сам в каком-то смысле повторил судьбу своих персонажей. В 1913 году он бесследно исчез, отправившись военным корреспондентом в охваченную революцией Мексику. Хотя в тех условиях тотальной неразберихи и самоуправства революционных вождей подобное исчезновение практически наверняка означало незарегистрированную гибель, «тайна Амброза Бирса» до сих пор привлекает внимание любителей всяческих загадок…
Редьярд Киплинг ОКОПНАЯ МАДОННА
Что бы ни вздумал люд простой
О тех, кто выше поставлен судьбой,
Являли в веках они вновь и вновь
Величье души и без меры любовь.
О милая, счастье души моей!
Пусть нас разлучило течение дней,
Исчезла навечно ты, скрылась из глаз —
Но боги не сделают так еще раз!
Суинберн. Les Noyades[75]После завершения войны ряды нашей «Ложи Инструкторов» (филиал ложи «Вера и Труд», исполнительный комитет № 5837), сильно поредевшие, начали пополняться в основном за счет бывших солдат. Чуда тут никакого не было: сейчас ведь, собственно, значительная часть человечества из таких солдат и состояла… А вот получись у новопринятых, каждый из которых продолжал нести в своей душе груз фронтовых воспоминаний, легко и просто наладить сотрудничество с остальными собратьями по ложе — это точно стало бы чудом. Но наш Доктор — он же Первый страж, он же просто брат Кид, энергичный крепыш с острой бородкой, вечно устремленной вперед, словно торпеда, — всегда был готов разобраться со всем, хоть мало-мальски имеющем отношение к нервному срыву. Так что я мог со спокойной совестью проверять кандидатов только на верность принципам ложи, а если мне что-то казалось сомнительным с медицинской точки зрения, то отправлял новичков к нему. А Кид не зря оттрубил два года военным врачом Южно-Лондонского батальона.[76] Разумеется, по этим самым причинам среди попадавших к нему на консультацию братьев по ложе часто оказывались фронтовые друзья и знакомые, но отзывы Доктора во всех случаях были беспристрастны.
Клемент Стрэнджвик, рослый, худощавый юноша, пришел к нам как раз из какой-то Южно-Лондонской ложи. Его работа не вызывала нареканий, собеседование тоже прошло успешно, но странный, блуждающий взгляд молодого человека и его покрасневшие от бессонницы глаза все-таки наводили на мысль о нервной болезни. Так что я после некоторых колебаний отправил его к Киду. Тот сразу признал в новичке штабного ординарца своего батальона, поздравил его с тем, что он не только жив, но и здоров, — после чего двое однополчан погрузились в воспоминания о совместно пережитом на Сомме.[77]
— Надеюсь, я поступил правильно, Кид? — спросил я Доктора, когда мы готовились к очередному заседанию ложи.
— О, вполне. Парень, кстати, напомнил мне, что мы уже встречались как врач и пациент.
— Во время битвы на Сомме?
— Нет, уже в восемнадцатом, при Сампуа.[78] Он и в ту пору был вестовым. Мне тогда, кстати, пришлось буквально собирать его по кусочкам — не телесно, слава богу, но именно в плане психики… а это тоже не сахар.
— Шок?
— Да как сказать… Нечто вроде того, но он тогда мне не помог во всем разобраться, а, прямо скажем, мешал всеми силами. Причем о симуляции речь не идет: юноша был буквально на пределе, с ним случилось что-то весьма серьезное, но… Ну, сами понимаете: если бы пациенты говорили нам только правду, медицина, наверное, сделалась бы по-настоящему точной наукой.
Заседание мы провели успешно — но потом Кид попросил нас всех задержаться и прочитал нечто вроде импровизированной лекции о строительстве Храма Соломона, во время какового строительства и были сформированы первые ложи, причем входящие в них собратья в равной мере наслаждались работой и великолепными банкетами — причем у меня создалось впечатление, что во всех этих процессах Кид выше всего ставит искусство заваривания чая, ну и совместное курение сигар тоже.[79] По ходу лекции мы как раз и предавались табакокурению на фоне чаепития, все было пускай не слишком занимательно, но очень мило — однако Стрэнджвик вдруг явственно занервничал, покраснел и вместе с креслом отодвинулся от стола. Ножки кресла завизжали по паркету — бывший ординарец рывком вскочил и с возгласом «О моя тетушка! Нет, я больше не могу этого вынести!» под общий смех выбежал из зала заседаний.
— Так я и думал, — шепнул мне Кид. — Идем за ним!
Мы настигли молодого человека в коридоре, истерически рыдающего и заламывающего руки; подхватив его под локти, довели, чуть ли не донесли, до небольшой комнаты, где у нас хранилась запасная мебель и парадные регалии ложи, используемые крайне редко; плотно закрыли за собой дверь.
— Не волнуйтесь, я… я в порядке, — жалобно произнес юноша.
— Разумеется, мой мальчик, — кивнул Кид. Раскрыл дверцу небольшого шкафчика, достал оттуда графин с водой, стакан и какой-то пузырек (если не ошибаюсь, еще вчера там ничего такого не было, но, похоже, Доктор заранее позаботился все припасти), быстро смешал микстуру, дал Стрэнджвику выпить, усадил его на кожаный диван. — Тут даже не о чем говорить. Я видел тебя в десятикратно худшем беспорядке. Но давай лучше все-таки расскажи, что тебя беспокоит.
Успокаивающе держа руку пациента в обеих своих, он ловко подтащил ногой стул и уселся напротив дивана. Стул скрипнул.
— Нет! — буквально завизжал Стрэнджвик. — Я не могу этого вынести! Ни скрипа такого, ни когда что-то со скрежетом тянется по полу, ни звука дверных петель — ничего! Как тогда эти короткие французские сапожки… из-под деревянного настила… а скрипит оно все вместе… Что мне было делать? Что я должен был сделать?
Кто-то деликатно постучал в дверь и негромко осведомился, нужна ли нам помощь.
— Нет-нет, все нормально, — ровным голосом произнес Кид. — Возвращайтесь в зал, а мы еще немного пробудем в этой комнате, хорошо? Оставьте нас здесь одних, пожалуйста…
Снаружи донеслись шаги, звук задергиваемых занавесок, приглушенные удаляющиеся голоса, потом мы услышали, как осторожно закрывается дверь в зал. Коридор опустел.
Стрэнджвик, давясь словами, невнятно бормотал что-то страшное: о насквозь промерзших мертвецах, чьи тела скрипят, как дерево на морозе.
— Он по-прежнему таится, — уголком рта шепнул мне Доктор. — Все как в прошлый раз. Говорит о разной жути — лишь бы не проболтаться о том, что его на самом деле пугает.
— Почему же, — возразил я, — человеческий мозг ведь и вправду с трудом выносит такое. Помню, как-то у меня тоже был на фронте случай: конец октября, мороз…
— Тс-с-с! Не спугните парня! Кажется, сейчас он действительно проговорится насчет адреса того ада, в котором… О ЧЕМ ТЫ СЕЙЧАС ДУМАЕШЬ? — Эту последнюю фразу Кид произнес в полный голос.
— Французский тупик, Мясницкий ров, — немедленно ответил юноша странным голосом.
— Да, кое-что там было, в Мясницком рву, — кивнул Кид. — Но не лучше ли взглянуть страху в глаза, чем позволить ему подкрадываться со спины?
(Он взглядом попросил меня поддержать игру.)
— Так что случилось во Французском тупике? — наугад поинтересовался я.
— Так у нас называли позицию, которую мы заняли после французской части, когда этой части… не стало, — совершенно спокойно объяснил Доктор. — Как раз под Сампуа. То есть вся часть по-прежнему была там, но… Знаете, каждая нация в смерть уходит по-своему, так вот, французы делают это очень аккуратно. Они все лежали ровными рядами по ту сторону бруствера, и их тела образовывали этакую вот дополнительную стену, удерживая собой полужидкий вал грязи и подтаявшего снега. Незадолго перед этим пришла оттепель, так что промерзшие траншеи превратились в кашу. Собственно, ничего такого: нашим ребятам тоже довелось сложить из своих тел еще одну линию бруствера, не здесь, так где-то рядом. Но там нас не было, а были мы в Мясницком рву… так его у нас прозвали. Зрелище, конечно, было нелегкое. Джерри[80] держали наши позиции под таким плотным обстрелом, что даже и речи не могло зайти о том, чтобы убрать трупы. Счастье еще, что мы оказались в этом Рву уже на исходе ноября… Ладно. Помнишь, как это было, Стрэнджвик?
— Боже мой, да! Помню! Они все лежали там несколько месяцев, совсем твердые! А потом, когда нам вот-вот предстояло подниматься из окопов в атаку, то сверху набросали щиты из досок, как помост, — и мы ступали то по доскам, то по телам! И тела под сапогами скрипели точно так же, как доски!
— На мой взгляд, скорее как дубленая кожа, — невозмутимо заметил Кид. — И в самом деле действует на нервы.
— Действует на нервы?! — выдохнул Стрэнджвик. — Да я до сих пор только эти звуки и слышу! Прямо сейчас — тоже!
— Отнюдь. Всему свое время — и сейчас время жизни. Еще год будешь слышать этот скрип, но все тише и тише… А потом — все. Ну-ка, мой мальчик, глотни еще вот этого снадобья — и сосредоточься на том, как утихает душевная боль. А потом для разнообразия постараешься не прятаться от правды, но посмотреть ей в лицо. Договорились?
Доктор снова открыл шкаф и осторожно добавил в стакан небольшую порцию какой-то темной жидкости.
— Так, отлично… Выпей залпом, полежи еще несколько минут и будет порядок. Нет-нет, ничего не говори.
Отставив в сторону опустевший стакан, Кид повернулся ко мне. Задумчиво потеребил бороду.
— Да уж, Мясницкий ров — точно не то, что захочется увидеть во второй раз, — произнес он вполголоса. — И вспоминать об этом тоже… удовольствие из последних. Я вот сейчас изображаю из себя старшего, опытного, хладнокровного — но мне ведь тоже впору забиться в истерике, как этому юноше. Так что давайте поговорим о чем-нибудь другом. О другом… Хм, как раз тогда имел место один странный случай: был у нас во втором взводе сержант — убей меня бог, не вспомню его фамилию… такой пожилой дядька, явно преуменьшивший свой возраст из патриотических соображений, чтобы попасть на фронт… Но, пожилой там или нет, как сержант он был в высшей степени на своем месте: отличный служака, точный и опытный. Ему как раз предстояло отправиться в двухнедельный отпуск, но… В январе это было. До сих пор не понимаю, как он мог совершить такую ошибку… Эй, молодой человек, ты по-прежнему слышишь меня?
— Да, сэр.
— Помнишь тот случай? Ты ведь тогда состоял при батальонном штабе, правильно?
— Да, сэр. Ординарцем. — Стрэнджвик говорил невнятно, язык его, казалось, тяжело ворочается во рту: по-видимому, успокоительное снадобье уже начинало действовать. — Это случилось двадцать первого января, сэр.
— Ага, точно. Он отбыл из окопов, отметился в штабе, а потом, после наступления темноты, ему предстояло сесть на поезд до Арраса — забавный такой старенький паровозик с несколькими вагонами… Ну и поскольку у него еще было несколько часов, прежде чем отправиться к станции, он, видимо, решил провести это время в тепле, а не на холоде. В общем, сержант зашел в небольшой пустовавший блиндаж, как раз во Французском тупике, и взял для обогрева две угольные жаровни, позаимствованные из какого-то разрушенного кафе. Как назло, это оказался единственный из уцелевших блиндажей, оборудованный для того, чтобы пересидеть в нем газовую атаку: с дверью, открывающейся внутрь и очень плотно прилегающей к косяку, все щели тоже плотно законопачены… Наверное, старик пригрелся и задремал, не заметив, как дверь случайно закрылась. Короче говоря, к отправлению поезда он не явился. Поиск был объявлен почти сразу: исчезновение взводного сержанта — не шутка. Но нашли его уже утром. Мертвого. Угарный газ внутри плотно закупоренного блиндажа столь же смертоносен, как боевые отравляющие газы — снаружи. Кажется, на него наткнулся кто-то из пулеметчиков, да?
— Нет, сэр. Минометчик. Капрал Грант, сэр.
— Точно. Капрал Грант, у него еще на шее был такой приметный шрам…
— Бородавка, сэр.
— Да, она самая. Что ж, сынок, с памятью у тебя все в порядке, более чем. А как звали того сержанта — помнишь?
— Годзой, сэр. Джон Годзой.
— Верно. Я его осматривал наутро — окоченевшее тело между двумя жаровнями… Ну, они погасли, конечно, так что температура в блиндаже действительно опустилась ниже нуля, да и трупное окоченение тоже имело место, это-то у меня сомнений не вызвало. А вот что при мертвеце не оказалось, кроме официальных документов, ни клочка бумаги — вызвало. Ни начатого письма домой, ни писем из дома, ни блокнота, ни дневника… Честно говоря, это единственное, что заставило меня усомниться, точно ли произошел несчастный случай. А не… что-то другое.
Стрэнджвик слегка привстал на диване, окинул взглядом комнату и нахмурился, словно не вполне уверенный, где находится.
— Я ведь тогда все рассказал, сэр. Специально для вас. Отлично помню, как вы записывали мои показания… Он тогда догнал меня и спросил о дороге. Я указал ему тропку вдоль ряда столбов… Думал, он пойдет через траншею Пэррота, сэр, — это ведь к станции и кратчайший путь, и самый удобный. До Французского тупика еще поди доберись: там после артобстрела целый завал из бревен был на пути.
— Ну да, ну да, теперь и я это вспомнил. Ты был последним, кто видел старину Годзоя живым. Это было двадцать первого января, говоришь? Именно так. А не припомнишь ли, когда Дирлоу и Биллингс привели тебя ко мне? Именно в тот момент ты ничего не соображал, но ведь позже, к вечеру того же дня, пришел в себя… так какого это было числа?
И Кид опустил руку на плечо Стрэнджвика — так, как в детективных историях победоносный сыщик кладет руку на плечо изобличенного злодея.
Юноша посмотрел на него в полном недоумении:
— Я попал к вам двадцать четвертого января, сэр, — пробормотал он. — Но… ведь вы же не думаете, что я причастен к смерти сержанта?
Я не мог сдержать улыбки при виде того, как сконфузился Кид.
— Тогда что, черт возьми, произошло с тобой двадцать четвертого? — рыкнул он, пытаясь яростью замаскировать смущение.
— Я же говорил вам, сэр. Это Мясницкий ров так на меня повлиял. Вы ведь сами знаете, как там все…
— Чушь! Ты соврал мне тогда, так не повторяй то же самое сейчас! Именно потому, что я действительно знаю, «как там все». Мы оба солдаты, молодой человек, и на фронте были не первый день! Нет уж: случилось что-то совсем особенное! Может быть, даже в Мясницком рву. Но что-то такое, о чем ты мне не рассказал!
— Ой… Доктор, вы догадались еще тогда? — Стрэнджвик вдруг всхлипнул совершенно по-детски.
— Помнишь, что сказал мне, когда Дирлоу и Биллингс держали тебя за плечи?
— Что-нибудь о Мясницком рве?
— О нет! То есть и это тоже, много всего ты сказал о том, как промерзшие трупы скрипят под ногами, — но это все была «упаковка», в которую ты завернул свой вопрос о том, видел ли я телеграмму. Какую телеграмму? А когда ты спросил, какая польза бороться против зверей-офицеров, если мертвецы не встают, — это что имелось в виду?
— Я… Я сказал «зверей-офицеров»?!
— Именно. Не бойся, это не призыв к мятежу, а цитата из заупокойной службы. Слегка перевранная, но можно догадаться, о чем речь.
— Ну… Значит, я где-то слышал эту фразу. Как же иначе? — Стрэнджвик внезапно вздрогнул всем телом.
— Наверняка. Вопрос только, где именно. И другой вопрос — где ты слышал тот гимн, который распевал до тех самых пор, как я сделал тебе укол. Что-то о милосердии и любви. Вспоминаешь?
— Сам гимн? Да… Во всяком случае, постараюсь вспомнить. — Юноша наморщил лоб, а потом процитировал, слегка неуверенно: — «Когда у кого-то есть в сердце Господь — да верует, верует в милость Его» — да, что-то в этом роде, кажется. Там дальше точно есть и про любовь еще. Но я уже забыл.[81]
Он встряхнулся и пожал плечами.
— А от кого ты это слышал? — Кид был настойчив.
— Так от Годзоя же. — Стрэнджвик снова пожал плечами. — Двадцать пер…
Он осекся.
— Ох… Да, этого я вам тогда не рассказал, сэр, — после короткой паузы произнес он странно высоким голосом. — А зачем? Что бы вы с этим стали делать? Особенно раз уж она действительно умерла…
— Кто умер?
— Те… Тетушка Арминий.
— Значит, в той телеграмме, насчет которой ты обмолвился, сообщалось о смерти тети? И ты, чтобы меня запутать, начал болтать о чем-то постороннем, изображая шок? Так?
— Не совсем — но… Доктор, ладно, у меня нет шансов обмануть вас. Но я только потом понял, что от тех жаровен может быть и… и такое тоже. Как я мог догадаться? Да мы все грелись у них! Вот я и решил, что дядя Джон тоже хочет там отогреться, прежде чем идти к поезду. Откуда мне было знать, что он имел в виду, когда сказал — мол, ему надо «прибраться по дому»…
Стрэнджвик резко, неприятно рассмеялся. А потом из его груди вырвались звуки, похожие на рыдания, — вот только слез на глазах не было.
Кид, вновь обретший невозмутимость, терпеливо ждал, пока молодой человек успокоится тоже.
— Итак, продолжим. Значит, Джон Годзой был твоим дядей?
— Нет. — Стрэнджвик смотрел в пол. — Мы просто его так называли — я и сестренка. На нашей улице, сэр, все общались запросто. А я его всю свою жизнь знал, да. С детства. Мой отец с ним был дружен — не разлей вода. Ну а тех, с кем па и ма дружат, у нас в квартале всегда зовут «дядя» или «тетя», что, нельзя разве?
— Можно, можно. Значит, дядя… Что он за человек был — можешь мне рассказать?
— Лучше не бывает. Он все деньги, что ему как сержанту следовали, домой отправлял, жене. У них маленький домик с палисадником, на стенах всякие индийские диковины развешаны — я с детства любил на них глазеть… Да и потом, во время войны, бывал там часто, это ведь на соседней улице. Дядя Джон сразу в армию отправился — а мне еще три года как срок не пришел. Его жена, она намного младше, меня в их доме принимала прямо как сестра, даже не как тетушка…
— Значит, она намного младше… А он как, разве не слишком стар был, чтобы попасть в действующую армию?
— О, сэр, если по-честному — у него ни единого шанса не было. Ему ведь сильно за полсотни. Но когда наш Южно-Лондонский батальон только формировался да проходил обучение — обучал нас как раз он, его должность значилась «сержант-инструктор». А когда нашим пришло время отбывать на фронт — он как-то сумел сделать так, чтобы отправиться вместе с ними, просто сержантом. Писал с фронта моим родителям, ну и мне тоже. Предлагал, когда я войду в призывной возраст, подать заявление, чтобы попасть не куда-нибудь, а в наш земляческий батальон, в его взвод. Ну и в начале семнадцатого года — мне тогда действительно пришел срок надевать форму,[82] — ма сказала: раз так, то и вправду лучше к дядюшке Джону…
— Я и представить себе не мог, что вы с ним так хорошо знакомы, — буркнул Кид.
— Ну так, сэр, этого и вправду было не разобрать. Дядюшка Джон — он у себя во взводе любимчиков не заводил, хоть как ты будь с ним знаком. И поблажек мне по службе никогда не делал, да я от него и не ждал такого. Зато когда писал ма и па, обязательно рассказывал о моих успехах. О боже мой! О черт! — Стрэнджвик вдруг застонал. — Как же все перепуталось в этой кровавой каше — особенно когда между людьми такая разница в возрасте…
— Ну-ну, успокойся. — Кид не дал ему снова впасть в отчаяние. — Значит, он писал твоим родителям?
— Ага. У ма ухудшилось зрение во время этих воздушных налетов на Лондон — она то шила, то те же письма читала, когда приходилось из-за бомбежек в полутемные подвалы спускаться… В общем, последние письма она уже просила читать кого-нибудь из родных. Чаще всего — тетю Арминий.
— Ту, о смерти которой ты получил телеграмму? Постой: но разве…
— Ну да. Я говорил, что дядя Джон мне не дядя, по крови то есть, но вот его жена — она мамина младшая сестра. Ма тогда было крепко за сорок, а та — сильно младше. Когда дядя Джон ушел на войну, она осталась одна, но ни на секунду не потерялась — все делала, всем помогала, во всем разбиралась лучше всех, а ведь в те первые военные годы, сэр, даже самые опытные из старших растерялись, нам-то, подросткам, это было виднее всего… Чтоб не сидеть дома, пошла работать на армейский склад, да еще и Сисси, это моя младшая сестренка, выхаживала, буквально спасла ее, когда та хворала корью. После этого мы с Сисси, если честно, больше у нее жили, чем у себя дома. Устроили там себе, как это у нас называлось, «зайчиные логова»… Дело в том, что дядя Арми… э… дядя Джон — он столяр был, ну, знаете, «ремонт домашней мебели, установка встроенных шкафов и прочее», такие объявления в газетах; вот и у них в доме мебель была не покупная, всякие шкафчики, встроенные и еще как — играй там, прячься, живи… А ей, в смысле тете Арминий, тоже в радость. Она этого не говорила, но мы чувствовали. У них ведь, сэр, своих детей не было…
Молодой человек остановился и смущенно посмотрел на нас. Мы с Доктором не знали, что сказать.
— Судя по твоему описанию, это была замечательная женщина, — после короткой паузы нарушил молчание Кид.
— Так и есть, сэр. А вдобавок еще и высокая, очень стройная и вообще по-женски красивая — мальцом я, конечно, этого не замечал, но к семнадцатому-то году был уже не такой и малец, чтобы… Имя ее было Белла, но мы с сестренкой всегда называли ее «тетушка Арминий». Понимаете?
— Вообще-то нет.
— Ну как же, сэр, в школьном учебнике есть картинка Арминия[83] — молодой такой красавец в доспехах; так вот она — вылитый он. Такая вся рослая и статная из себя. Сисси еще в шутку спрашивала: «Те, а куда ты свой шлем и броню запрятала, почему их не носишь? Они бы тебе так хорошо пошли, честно-честно!»
— Понятно… Значит, она читала твоей матери письма вслух. Письма от своего мужа, где шла речь о тебе. И, наверное, твои письма тоже… Так?
— Вот побожусь, сэр, что я это словно бы своими глазами вижу: как тетя Арминий каждый раз, получив очередное письмо, переходит через улицу, стучится в дверь нашего дома… Что хотите со мной делайте, да пусть меня хоть повесят: я тогда, на фронте, не представлял себе это, а именно видел, несколько раз, не знаю уж как! Это никакие не шутки, когда такое вот видение обрушивается человеку на голову — и… и… и если мертвые действительно восстают, то что мне со всем этим делать — со всем, во что я верил в жизни… Вот кто скажет, что мне с этим делать дальше? Кто мне скажет?!..
Я даже отшатнулся почти в испуге. Но Кид не дрогнул.
— А тебе самому сержант Гудзой показывал эти письма? — очень тихо спросил он. — Те, в которых он писал о тебе — твоим родителям, своей жене?
— Да там особенно нечего было, наверное, показывать, — с неожиданным равнодушием, равнодушием молодости, ответил Стрэнджвик. — Сами знаете, как эти фронтовые письма сочиняются… В окопах, по правде, не до того. Но дяде Джону, конечно, спасибо: его письма обо мне были большим утешением для ма. Сам-то я писать не мастак. А вот письма из дома до дыр зачитывал, это да. Сохранил их все. Мои домашние тоже писать не очень — но каждые две недели от них что-нибудь да приходило. С этим мне точно повезло больше, чем чуть ли не всем остальным. За это тоже спасибо дяде Джону: без его писем так навряд ли бы вышло…
— Понятно. Но ты все же иногда и сам писал домой, разумеется. Сообщал там новости о сержанте?
— Ну как, сэр… Скорее нет. Хотя должен бы, само собой. Но на самом деле разве что про свои дела быстренько упомяну — и ладно… А вот он, дядя Джон то есть, всегда мне что-то зачитывал вслух из тех писем, что ему приходили, если там про меня было. Как-то раз пошутил: мол, если со мной — с ним! — что-нибудь случится, ты — я! — тетушку Арминий не оставь. А то, дескать, твоя (моя в смысле) ма пишет, что ты последний год все время в доме моей жены ночевал. А ведь взрослый уже парень. И родство не такое близкое, чтобы из-за этого было запретно вступать в брак, и разница в возрасте, мол, не больше, чем у нас с ней… то есть у дяди Джона с тетей Арминий, пускай в их случае старший он, а в нашем — она… Меня аж в жар бросило: я ведь, когда в отпуск приезжал, познакомился с одной девушкой, провожал ее до дома, записки в окно ей швырял — вот как далеко у нас с ней все зашло…
— И что же, ты женился на ней? — Кид остро глянул на своего собеседника. — Сейчас, когда вернулся домой?
— Нет! — Юноша прямо-таки содрогнулся при этом вопросе. — То есть… не потому, что дядя Джон сказал — но… Или все-таки потому? Клянусь, сэр, я же не мог о ней так даже подумать — ведь не мог, правда? Она настолько старше меня, да и замужем, и мы вообще, что называется, дружили семьями — ну как же так можно, ведь совсем нельзя, так? Тем паче что, когда я приезжал на побывку, перед Рождеством это было, она со мной говорила как с любимым племянником, и только! Сказала мне…
И тут голос Стрэнджвика изменился.
— …Сказала мне, — продолжил он, — «Ты ведь с моим Джоном, сержантом Годзоем, скоро увидишься?» — «Даже слишком скоро», — отвечаю: оно, конечно, кому бы не хотелось задержаться в отпуске еще хоть на денек-другой? «Тогда скажи ему, что к двадцать первому числу следующего месяца я, похоже, избавлюсь от всех моих проблем, — говорит, — и приду увидеться с ним». — «Это как?» — не понимаю. «Так, что я умру, — говорит совершенно спокойно. — Все хорошо, ты только не волнуйся, и он тоже пусть не волнуется. Двадцать первого января или сразу после я с ним повидаюсь».
— Что с ней было? — спросил Кид, мгновенно превращаясь из самодеятельного следователя в профессионального врача.
— Да что-то с сердцем… Но она о своих телесных хворях никому не рассказывала. Никогда. Мы все думали: она и по части здоровья, что называется, «в доспехах», как Арминий…
— Понятно. Да, такое бывает… — В голосе Доктора сквозила грусть. — Ты точно запомнил ее слова?
— Да уж куда точнее. «Скажи дяде Джону, что к двадцать первому января я избавлюсь от всех моих проблем. То есть умру. И приду увидеться с ним, пусть он не волнуется». Я стою, челюсть отвесив, а она смеется: «Да ты наверняка все забудешь: у тебя ведь голова дырявая, мне ли не знать! Давай-ка я лучше это запишу! Отдашь ему сразу, как увидишься». Села за стол, написала какую-то короткую записку, вложила ее в то письмо, которое уже раньше подготовила для своего мужа, и закрыла конверт.
— А потом что?
— Потом она меня поцеловала в лоб и в щеку — я всегда был ее любимцем… не в том, конечно, смысле, вы же не думаете так, сэр?… дала мне то письмо, мы попрощались — и я отбыл к месту несения службы. Насчет моей дырявой памяти она, пожалуй, была права: разговор этот, такой странный, мне не то что совсем не запомнился, но так… как-то поперек соображения встал. Ну вот, на третий день, как вернулся на передовую, доставляю из штаба какое-то сообщение минометчикам, то есть капралу Гранту и его ребятам — и вижу, что у них в блиндаже несколько человек из второго взвода. И сержант Годзой тоже с ними. Я взял и отдал ему то письмо. Что ж, мы немного посидели, погрелись возле жаровни — одной из тех, — и тут вдруг капрал Грант и говорит, не понижая голоса, на весь блиндаж: «Мне это не нравится». — «Что?» — спрашиваем. А он таким особенным своим голосом, вы же знаете: «То, как он читает письмо это. Твою могилу, папаша Джон, вижу на листе бумаги сей!» Ну, сэр, вы же знаете, как это бывало, когда Грант своим особенным голосом изрекал пророчества или уж как их назвать… и что порой случалось потом… Ранкин, например, после такого вот предсказания решил, что ему дешевле будет застрелиться, чем ждать, пока все оно сбудется!
— Знаю, — подтвердил Кид и, взглянув на меня, объяснил: — Грант, что не так уж редко случается у хайлендеров, обладал даром «двойного зрения»… но пользовался им, черт его побери, только чтобы пугать своих товарищей по окопной жизни. Через некоторое время после того случая он погиб — и, скажу по правде, лично я о нем не слишком сожалел. Ладно — так что же было дальше?
— Дальше… Дальше Грант прошипел мне: «Вот, любуйся, проклятый англичанин: это твоих рук дело!» И кивнул в сторону сержанта Годзоя. А дядя Джон сидит себе, прислонившись к стене, и ничего такого вроде по нему не видно. Наоборот, выглядит он как-то торжественно, важно, словно только что побрился. И гимн мурлычет — тот, который я потом пытался вспомнить… Заметил, что мы на него смотрим, улыбнулся — а это с ним не часто случалось! — и говорит: вот, мол, мне тут написали, что совсем скоро, двадцать первого, меня сюрприз ожидает. Аккуратно сложил письмо, спрятал его в нагрудный карман и вышел.
— Он при этом держался спокойно?
— Ну да. Совсем. В общем, похоже было, что капрал со своим предсказанием насчет могилы попал пальцем в небо. Я ему тогда сразу сказал, чтобы он поосторожней трепал языком: и про могилу, и про «проклятых англичан» — с нами-то ладно, а вот если кто из офицеров услышит… Как бы там ни было, вскоре я обо всем позабыл: это ведь, сэр, случилось одиннадцатого числа, а в те дни мне пришлось мотаться больше обычного. Джерри тогда попытались начать подготовку к наступлению — а мы, соответственно, делали все, чтобы им воспрепятствовать…
— Я помню, — сухо произнес Кид. — Рассказывай о сержанте.
— С сержантом, дядей Джоном то есть, мы следующие десять дней и не виделись ни разу. А вот двадцать первого я доставлял в их взвод несколько извещений — ну и его имя там, помню, тоже значилось. Но вообще-то туда я только на обратном пути заглянул. Основное задание у меня тогда было — восстановить связь с батареей, что в Попугайчиковом овраге стояла, помните?
— В каком? А-а, в Малом Попугайном?
— И так тоже его называли. В общем, эта позиция то и дело оказывалась отрезана. Вот и двадцать первого джерри как начали садить тяжелыми минами, так и прервалось сообщение.
— Так минометный-то еще не самое худшее. Там у них за полуразрушенным домом располагалась пулеметная точка — специально по душу тех, кто будет к тому оврагу пробираться…
— Да, была такая. Четверо ребят из Варвикского полка незадолго до меня как раз и нарвались, один за другим. Открытое ведь пространство, хоть беги, хоть ползи… Но от канала тогда очень удачно потянулась стена тумана — вот я и проскочил. Другое дело, что потом, уже на обратном пути, в том тумане заплутал немного: там были две неглубокие траншеи, очень похожие, мне бы по восточной пойти, а я двинулся вдоль западной. Вот меня и вывело к Французскому тупику. И тут — раз! — туман рассеивается, а я оказываюсь на виду у пулеметчиков. Ничего: успел залечь. Дальше уж путь один: ползком мимо старой котельной, потом через Зоопарк скелетов — это где лошадей поубивало… пробрался под телегой, там довольно удобный лаз, только надо прямо по мертвецам ползти, их там на шесть футов навалено: в Зоопарке ведь поубивало не только лошадей…
Стрэнджвик умолк. Его тело содрогалось в ознобе.
— Я понимаю, это тяжело вспоминать… — успокаивающе начал было Кид.
— Тяжело? — Юноша чуть ли не отмахнулся. — Нет, холодно! Как раз в такие минуты, если о чем-то думать в том смысле, что «тяжело» или там «страшно», — тут тебе и конец. Но пока я полз, морозом меня пробрало до самых костей, что правда, то правда. И вот в эту минуту вдруг вспомнил про тетю Арминий… сам не знаю, с чего вдруг. Почему-то мне это даже смешным показалось. Ладно, дальше уж местность закрытая от обстрела, встаю на ноги, иду… и все гадаю: а почему это я именно сейчас о тете подумал? И тут — вижу ее…
— Что?!
— Не знаю… Вижу ее… или не ее: краем глаза, полсекунды… Обернулся — да нет, конечно, ничего, только мешки с песком стенкой сложены и над ними клок тумана колышется, а сквозь него просвечивают какие-то клочья тряпья на колючей проволоке. И снова мне это смешным показалось: вот так я тогда чувствовал. Что ж, иду себе, иду: без спешки, осторожно, потому как сейчас вовсе нечего давать джерри лишнюю возможность себя ухлопать — и по Аллее Старых Грабель выхожу на позиции второго взвода. Передал пакет офицеру, дядю Джона в тот раз не увидел, потому что мне еще надо было спешить на левый фланг… Ну и дальше, до самого вечера, то ползком, то бегом: гелиограф[84] и полевой телефон — это, конечно, хорошо, но вестового они не заменят. В половине девятого, уже совсем никакой, прихожу в себя — и вижу, что последнее поручение снова занесло меня во второй взвод. Дядюшка Джон уже насколько мог привел в полный порядок форму, умылся, тщательно отскоблил щетину, как настоящий денди: готов отправляться в Аррас и дальше в Лондон. А что ж, по всему выходило, ему там и быть уже назавтра — само собой, если джерри не начнут артобстрел ближнего тыла; тогда поезд к станции, конечно, не подадут. Но не было похоже, что у них в планах такой обстрел. «Пойдем вместе, — говорит, — нам больше полдороги по пути». Мы и тронулись понемногу. По старой траншее — помните, сэр, той, которая вела через Хэлнакер?[85] — мимо землянок, укрепленных шпалами… помните же, да, сэр?
Кид кивнул.
— Значит, идем мы — и дядя Джон заводит разговор о том, что вскоре увидит моих ма и па, спрашивает, не передать ли им чего… И тут, боже, дьявол, сам не знаю, отчего вдруг я возьми и брякни, что прямо сегодня, недавно совсем, видел тетю Арминий. И добавил: мол, вот уж чего точно никак не ожидал — так это встретиться с ней здесь. А потом, дурак такой, рассмеялся. Кажется, это вообще был последний раз, когда я смеялся… «О! — говорит он самым обыкновенным голосом. — Правда видел?» — «Нет, конечно. Померещилось». — «А где?» — «Да мы как раз сейчас недалеко проходим», — отвечаю. И показываю ему: вот мешки с песком, вон обрывки материи на проволоке… тумана там уже нет, но все равно понятно — можно тут обмануться, особенно в сумерках… «Вполне вероятно», — говорит он и вроде бы совсем не волнуется: идет со мной рядом, следит, чтобы в грязь не вступить… Тут мы доходим до завала-баррикады перед Французским тупиком — он поворачивает и лезет через нее. «Да нет, — говорю, — нам же не сюда, это же я тут раньше проходил, когда мне померещилось». Он не обращает на меня внимания и исчезает за бревнами завала. Я, ничего не понимая, стою, жду… Через несколько минут дядя Джон возвращается оттуда с двумя жаровнями в руках.
— Теми самыми?
— Да, сэр. «Что ж, Клем, — говорит; а он, сэр, очень редко меня по имени называл, — не боишься?» Я смотрю на него — баран бараном, пытаюсь смекнуть, о чем это он. Вроде получается — о том, не попадем ли мы по пути в тыл под обстрел джерри. Так ведь нет же сейчас никакого обстрела и ясно, что по темноте вряд ли начнут… «Не боюсь, — мотаю головой. — Да и кто уж теперь чего-то боится…» — «Я боюсь, — как-то совсем спокойно говорит он. — Боюсь, что кое-какие строки из письма могут обернуться не так». По-прежнему ничего не понимаю: он что, сейчас письмо думает писать, прямо здесь? А потом он что-то сказал насчет жизни, которая завершает свой круг… и те слова из заупокойной службы, которые я, сэр, так неправильно запомнил.
— «По рассуждению человеческому, — медленно продекламировал Кид, — когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?»[86]
Стрэнджвик кивнул.
— Вот и все… — немного помолчав, продолжил он. — Затем дядя Джон с этими жаровнями прошел в Мясницкий ров — и я за ним. Там было очень холодно. Замерзшая грязь хрустела под ногами. И мне кажется…
— Не надо о том, что только кажется, — прервал его Кид. — Рассказывай лишь то, что видел своими глазами.
— Извините, сэр. Значит, дядя Джон идет по траншее, по Мясницкому рву то есть, держит в руках жаровни и бормочет гимн — тот, что я тоже не очень хорошо запомнил, но лучше, чем, это, про зверей в Ефесе. Доходит до места, которое я ему раньше показывал, и спрашивает: «Где, ты говоришь, она, Клем? А то у меня глаза уже не молодые…» — «Она в своем доме, в Лондоне, — отвечаю даже немного сердито, — по позднему времени, наверное, спит уже. И нам тут тоже нечего делать в такое время, идем дальше, у меня уже зуб на зуб не попадает!» — «А я… — говорит он. — Да, это я…». И тут я понимаю, что говорит это он не мне.
Юноша сглотнул. В воздухе повисла долгая пауза.
— «Что же это с тобой случилось? — говорит он, и я не узнаю его голос. — Как же это? Когда? Но раз так — хвала Господу, Белла, что нам довелось свидеться…» Мы стоим возле того самого блиндажа, где… где его и нашли потом. И да, где мне раньше тетушка померещилась. Я только глазами хлопаю. Вправо оглядываюсь, влево — нет никого, только мы двое в траншее. А потом… вот что хотите — но вижу ее, тетю Арминий. Стоит возле входа в блиндаж. Смотрит на нас. То есть на дядю Джона. Друг на друга они смотрят, глаза в глаза. Вот тут меня все в голове перемешалось. Все, что я знаю о том, что бывает и что нет; все, что понимаю о жизни… Вот я об этом вам ничего и не рассказал потом, когда вы меня расспрашивали. Никому ничего не рассказал. Думаете, я должен был рассказать, сэр?
Кид в затруднении пошевелил пальцами.
— Вижу, у дяди Джона начинает дрожать рука, — продолжил Стрэнджвик. — Наверное, от мороза все-таки: у меня ведь и у самого тогда зуб на зуб не попадал? И вот, сэр, можете считать меня сумасшедшим, но тетя Арминий протягивает ему свою руку. Это я тоже вижу, понимаете? Их пальцы соприкасаются — и его рука перестает дрожать. А потом тетя ему что-то говорит. Я это тоже вижу, но не слышу. А он слышит, и я слышу его ответ: «Да, Белла, за все эти годы мы виделись только один раз. И вот сегодня — второй». Потом вдруг делает такое движение, словно хочет снять с плеча винтовку. И останавливается. «Нет, Белла, — говорит, — не искушай меня. У нас впереди вечность. Проведем ее вместе. А час-другой уже ничего не решает».
— И что же было потом?
— Потом дядя Джон берет те жаровни, подносит их к самому входу в блиндаж. Ставит на землю. Выливает на каждую немножко бензина — там, сэр, перед входом для этого специально бутылочка была припасена, если кто захочет погреться, — чиркает зажигалкой. Коротко кивает мне. Снова берет жаровни, открывает дверь блиндажа, смотрит на тетю Арминий — а она, сэр, все это время стояла там же, где я ее увидел, и рука ее была так же протянута вперед, как когда она коснулась дядиных пальцев, — и говорит ей: «Идем, дорогая».
— А она?
— А она входит за ним следом. В блиндаж. И дверь закрывается за ними обоими. Плотно. Вот и все, сэр. Боже мой, да конечно, я этого вам не рассказал — разве в такое можно поверить? Я и сам бы ни в жисть самому себе не поверил, если б не видел все собственными глазами!
Следующие несколько минут молодой человек посвятил тому, что очень эмоционально повторил это высказывание на разный лад, в нескольких формулировках: пусть и отличающихся друг от друга, но в равной степени окопных. Мы молчали. Наконец Кид спросил юношу, помнит ли он, что случилось дальше.
— Тут у меня некоторый провал, сэр. Что-то я делал, где-то был, куда-то шел… как-то добрел до своей землянки… Меня уже утром разбудили, когда выяснилось, что сержант Годзой в поезд не сел — и кто-то вспомнил, что из взвода он ушел со мной вместе. Разбирательство длилось несколько часов. Ну, вы это, наверное, помните, сэр.
— Разумеется.
— А потом я вызвался доставить сообщение на передовую вместо Дирлоу. Он, знаете, стер большой палец на ноге: и смех, и грех — в лазарет с такой «ранкой» не пойдешь, но… вестовому она, сами понимаете, может стоить жизни. Ну а я к перебежкам, переползанию и прочему в том же духе был готов не меньше, чем вчера. Оно, пожалуй, мне даже нужно было: чтоб не думать… не вспоминать о… Но я дядю Джона найти не успел, сэр. Грант его первым обнаружил. Вернее, так: когда я подошел к блиндажу, Грант уже стоял рядом и пытался его открыть. Это оказалось не так-то просто: дверь изнутри была подперта одним из тех мешков с песком. Специально, сэр. Там раньше у косяка оставалась маленькая щелочка — так вот этот мешок ее и закрыл. Пока мы там возились, я уже понял, что внутри никого живого не найдем. Это было как… не знаю… в общем, все равно, что гроб открывать.
— Значит, вот как обстояло дело… — угрюмо произнес Кид. — Почему же ни мне, ни другим офицерам никто ничего не сказал?
— Мы решили — так будет лучше для доброго имени покойного, — ответил Стрэнджвик. Голос его на сей раз был абсолютно тверд.
— А почему вдруг Грант там оказался?
— Он видел, как дядя Джон собрал уголь для этих жаровен и оставил его в мешочках возле той баррикады. Давно, еще за несколько дней. И Грант каждый раз, как проходил мимо, поглядывал: на месте ли мешочки? А вот в то утро их не оказалось. Ну и когда увидел, что дверь в блиндаж не открывается, все сразу понял. Мы с ним, сэр, когда дверь все-таки сдвинули, тот мешок с песком убрали. Вот оно потом и выглядело, как несчастный случай…
— Значит, Грант знал или догадывался, что на уме у сержанта Годзоя, — и не попытался этого предотвратить?
— Да, сэр. — Если Кид был по-прежнему мрачен, то и голос Стрэнджвика не сделался менее твердым. — Грант знал, что ничто на небе или на земле уже не может ни помочь, ни помешать сержанту Годзою. Так он мне сам сказал, сэр. И я ему верю.
— Понятно. — Доктор явно ощутил, что настойчивость в этом вопросе проявлять не следует. — И что же ты сделал потом?
— Вернулся в штаб. — Юноша пожал плечами. — А там мне вскоре передали телеграмму из Лондона. От моей ма. О том, что тетя Арминий умерла.
— Когда это случилось? — Кид тут же вновь переключился на роль детектива-любителя.
— Рано утром двадцать первого. Понимаете, сэр? Двадцать первого. Утром. Она умерла — и это его убило. У меня потом было время подумать, вспомнить… Когда мы стояли в самом Аррасе — вы же нам сами рассказывали, помните? Об ангелах Монса и прочее в том же духе…
— Гм… Помнить-то я помню. Но это, видишь ли, была лекция о галлюцинациях. Которые иногда возникают при переутомлении или… Ладно, сейчас не будем. Значит, говоришь, сержанта Годзоя подкосила смерть его жены?
— Да, сэр! Подкосила. Или это иначе называется. Может, он, наоборот, понял, что нет никакой смерти. То есть преграды между жизнью и смертью. А если она и есть, то через нее можно перелезть — вот как через ту баррикаду во Французском тупике. Я видел. Я все видел. А если уж мертвые возвращаются — то как вообще говорить о том, что бывает и чего не бывает?!
Стрэнджвик вскочил с дивана и заходил по комнате, бурно жестикулируя.
— Я видел. Видел своими глазами, — повторял он. — Она ушла, потом пришла — и они ушли вместе. Он не стал убивать себя вот так прямо, а если не совсем прямо — то такая смерть, наверное, не разлучает. Их точно не разлучила. Я уверен, они вместе. Сейчас и навсегда. Ушли туда, в вечность, держась за руки. А я куда уйду? А мы? Вот вы двое, старшие, умные — вы можете сказать, во имя чего мы еженощно и ежечасно подвергаемся бедствиям?
— Бог его знает, — тихо сказал Кид: не то в ответ, не то самому себе.
— Может быть, нам лучше позвонить, вызвать помощь? — шепнул я ему. — Ведь парень сейчас окончательно потеряет контроль над своим рассудком!
— Нет-нет, не бойтесь. Это пик, через несколько секунд возбуждение начнет спадать. Уж поверьте, я такого в своей фронтовой практике навидался. О! Вот, кажется, сейчас…
— Исчезла навечно ты, скрылась из глаз — но боги не сделают так еще раз! — вдруг продекламировал Стрэнджвик хриплым, ломающимся, даже не юношеским, а мальчишеским голосом. Глаза его закатились, он пошатнулся.
Доктор подскочил было к нему, чтобы поддержать, — но молодой человек вновь выпрямился.
— И, чтоб я был проклят, пусть она не говорит, что будет всегда со мной! — выкрикнул он в приступе безумной ярости. — Какая разница, кто кому кидал записки в окно! Если хочет — пусть подает в суд! Что она знает? Что она знает о жизни и смерти? А я? Я хоть что-то знаю? О том, как смерть перетекает в жизнь, — да, даже слишком; а об остальном?! И все же, все же… Если идти вместе, через жизнь и смерть — то сперва я должен увидеть на ее лице такой же взгляд, как… как смотрела она, когда сумела прийти за тем, с кем прошла по жизни… прийти уже с другой стороны. А вот когда она, эта, сможет посмотреть так — тогда мы и пойдем, рука об руку… И никакая смерть не разлучит нас: она вообще не разлучает, а соединяет! Но она не сможет так посмотреть, увидеть, пойти… Она никогда не может понять… О, будьте вы все прокляты, ступайте в ад, вы все — и родичи, и юристы, и ты, и я… Я всем этим сыт по горло — да!
Он снова покачнулся — и всю ярость будто бы сдуло с его лица. Кид наконец подхватил Стрэнджвика под локоть, помог удержаться на ногах, подвел к дивану. Юноша едва добрел туда — и рухнул пластом. Кид порылся в шкафу, вытащил оттуда одну из ярких мантий,[87] накрыл ею Стрэнджвика, как одеялом.
— М-да… — Доктор покачал головой. — Что ж, вот теперь пик возбуждения действительно миновал. Мальчику нужно какое-то время полежать спокойно, а потом все будет в порядке. Между прочим, кто его рекомендовал в ложу?
— Если не ошибаюсь, один из тех, кто был на сегодняшнем заседании. Он, думаю, и сейчас еще в зале. Спросить?
— Тогда уж и позовите, пожалуйста. Не всю же ночь нам тут парня караулить…
Я пошел в зал — там действительно еще продолжалось чаепитие, а сигарный дым плавал под потолком такими густыми облаками, которые даже не снились строителям Храма Соломона, — и вскоре вернулся, сопровождаемый тем самым братом из Южно-Лондонской ложи. Это был пожилой джентльмен, худощавый, очень корректный — и очень встревоженный.
— Мне очень жаль, если что-то пошло не так, — начал он извиняться буквально с порога. — Видите ли, у молодого человека были… серьезные проблемы. И я решил, что ему полезно провести время в неформальной обстановке, среди единомышленников… Очень жаль, что нервный срыв настиг его именно сейчас!
— Все в порядке. — Кид успокаивающе выставил ладони. — Как я понимаю, вашего протеже настигло прошлое. А уж извиняться за то, что могло случиться с человеком на войне, — это, право слово, излишне. Такое случается.
— Конечно, конечно. Я, строго говоря, имел в виду скорее послевоенные проблемы, но вы правы.
— Да какие уж после войны могут быть проблемы, — весело сказал Кид. — Ну, на работу не самую лучшую удалось устроиться. Ну, отвычка от мирной жизни. Ничего, пройдет…
— С работой у него как раз проблем нет. Тут другое. — Пожилой джентльмен кашлянул. — Вы понимаете, конечно, сэр, что это между нами, — но в данный момент над Клемом нависает угроза судебного обвинения. В нарушении обещания жениться, знаете ли… Гм…
— Ах, вот как…
— Да. Увы. Настоящая драма, я вам скажу. Замечательная девушка, лучшей невесты поискать… тут, конечно, молодым людям никто не советчик, но ведь они же друг друга любят, это всем их знакомым очевидно! И вдруг — такая вот неприятность. Внезапно, без какого-либо объяснения причин. Якобы девушка не может как-то так посмотреть, не может куда-то пойти… Это ведь не объяснение, верно?
— Пожалуй… — медленно произнес Доктор.
— И что только творится в умах современной молодежи… — Наш собеседник скорбно поджал губы.
— Затрудняюсь ответить на столь общий вопрос. Впрочем, физически вот с этим конкретным представителем молодежи все более-менее нормально. Ему нужно немного отдохнуть — а потом забирайте его домой: вы ведь знаете, где он живет? Нет-нет, не стоит благодарности. Помогать людям — мой долг, брат…
— Арминий. Брат Арминий, — ответил пожилой джентльмен. — Да, я, конечно, знаю, где Клем живет. Ведь он же мой племянник. Точнее — племянник моей покойной жены.
Мы с Кидом обменялись быстрыми взглядами.
— С Клемом все-таки что-то серьезное? — встревожился брат Арминий.
— Нет, все хорошо. — Голос Доктора был абсолютно спокоен. — Просто ему нужно немного отдохнуть.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
«Окопная Мадонна» входит в поздний цикл «масонских» рассказов Киплинга. Произведения эти очень странные, находящиеся на стыке нескольких жанров — включая и детективный. На русский язык они не переводились. Впрочем, постоянным читателям «Книжного клуба» известно одно произведение из этого цикла: рассказ «Поцелуй фей» (см. сборник «Шерлок Холмс и не только», 2011). Кстати, там тоже фигурирует доктор Кид, да и личности рассказчиков, от которых ведется повествование, по-видимому, совпадают. Масонские ложи, правда, разные — но они у тогдашних англичан играли роль клубов, так что доктор Кид и рассказчик, в послевоенном Лондоне посещавшие одну ложу, через несколько лет, переехав в провинциальный Беркшир, вполне могли стать членами другого «масонского клуба».
В данном рассказе загадки начинаются прямо с названия. Почему — «Окопная Мадонна», если в самом тексте о Мадонне нет ни слова? Но современникам, пережившим Первую мировую, не надо было ничего объяснять. Так называемая «Окопная Мадонна» — один из персонажей военных легенд: загадочная женская фигура, которая якобы время от времени появляется перед окопами или даже в них самих и молится за всех солдат, вне зависимости от того, под какими знаменами они сражаются.
Следующая загадка связана с эпиграфом из поэмы Суинберна «Les Noyades» (во всем мире она известна именно под этим французским названием, а на русский язык опять-таки никогда не переводилась). Собственно «Les Noyades», «нойяды» — один из самых ужасных эпизодов якобинского революционного террора 1793 года: депутат конвента Жан-Батист Каррье, представлявший якобинскую власть в городе Нант, даже не отправлял арестантов на гильотину, а набивал ими старые баржи и топил в Луаре. Сам Каррье, в полном смысле слова «тыловая крыса» и вообще крайне отвратительная фигура, в поэме знаменитого английского поэта-романтика Элджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) превратился в трагического злодея, который влюбляется в прекрасную аристократку, пытается спасти ее от репрессий своих же соратников — и в результате подвергается вместе с ней «революционной свадьбе» Такая «свадьба» — еще один тип расправы, которую якобинцы под его руководством якобы творили в Нанте (правда, в отличие от вполне реальных «нойяд», это, похоже страшная легенда: эпоха Французской революции порождала их не менее обильно, чем Первая мировая война) Описание ее выглядит так: «контрреволюционеров» связывали попарно, лицом к лицу, обнаженными — одежда пригодится революционному народу! — причем, с революционным юмором, пары старались составлять из мужчин и женщин; а потом сбрасывали их в Луару, даже без барж. Реально Каррье был без всякой романтики отправлен на гильотину, причем в Париже и лишь через год после завершения террора в Нанте, — но образ «смертной свадьбы» навсегда вошел в культурный багаж британских ценителей Суинберна.
В число окопных легенд Первой мировой входит и история «ангелов Монса». Якобы 26 августа 1914 года в ходе жестокой битвы при Монсе (Бельгия) небольшой британский отряд, оказавшийся в безвыходной ситуации, был спасен благодаря вмешательству небесных сил: между ним и гораздо более многочисленными немцами внезапно встала шеренга ангелов — и германские войска, устрашившись, отступили.
Доктор Кид называет этот случай «галлюцинация», сторонники аномальных явлений числят его по своему ведомству. На самом же деле первоисточником данной легенды послужила статья Артура Мэчена, довольно известного журналиста и писателя (кстати, создавшего ряд интересных детективов), который в тот момент совершенно официально выступал как сотрудник пропагандистского отдела. Вся эта история сочинена Мэченом абсолютно «из головы» — но, тем не менее, вскоре начали публиковаться «воспоминания очевидцев», по их словам бывших в тот день под Монсом и видевших ангелов своими глазами. Трудно сказать, что это было: слишком эмоциональные, с путаницей дат, воспоминания тех, кто читал или слышал в пересказе историю Мэчена, — или действительно порожденные ею галлюцинации, что вполне возможно в той обстановке непрерывного стресса, страха и боли.
Вообще, пропагандистские статьи Мэчена несколько раз порождали такие легенды. Самая известная из них — история призрачных английских лучников времен Столетней войны, которые на сей раз не просто «заслонили собой» соотечественников-англичан, но и открыли из своих луков смертоносную стрельбу по наступающим немцам.
Продолжая разговор о реалиях Первой мировой, скажем, что должность Стрэнджвика (батальонный ординарец) отнюдь не «штабная», а тем более не тыловая: такой ординарец находится при командном пункте батальона и исполняет функции вестового, то есть постоянно доставляет поручения командования на передний край, да и сам батальонный штаб обычно расположен фактически на передовой. Из-за необходимости постоянно перемещаться под обстрелом потери среди таких ординарцев были даже выше, чем среди «просто» окопников.
Что до прозвища немецких солдат «джерри», то этот рассказ Киплинга — один из первых, где фигурирует такое наименование. Применительно к солдатам оно все-таки стало распространенным скорее после войны, а непосредственно в ходе боевых действий так называли немецкие стальные шлемы, но, кажется, еще не немцев как таковых. Возможно, Кид и Стрэнджвик (или сам Киплинг) невольно проецируют на свои воспоминания терминологию первых послевоенных лет; но не исключено, что прозвище «джерри» действительно вошло в окопный обиход уже начиная с зимы 1917–1918 гг.
«Двойное зрение» (Second sight или, по-гэльски, An Da Shealladh), которым был наделен капрал Грант — якобы имеющий место феномен предвидения. Традиционно считается, что в первую очередь он позволяет предсказывать смерть окружающим (не самому провидцу: обстоятельства его собственной гибели от него скрыты), причем если такое пророчество уже озвучено, то попытка что-либо изменить приведет к еще более трагическим последствиям; более того, если уж обладатель «двойного зрения» рассказал о том, что увидел, — этим самым он не столько предупредил о беде, сколько ее накликал. Способность к «двойному зрению» приписывалась прежде всего кельтским народам, в том числе и горным шотландцам. А фамилия Грант — не просто шотландская, но и принадлежит одному из наиболее «упертых» горных кланов, многие члены которого даже в Викторианскую эпоху отказывались признавать себя британцами. Собственно, и в знаменитом романе «Дети капитана Гранта» (Жюль Верн перед его написанием специально изучил шотландскую специфику) сложность поисков связана с тем, что капитан Грант отправился в южные моря с целью основать колонию для недовольных английским владычеством шотландцев — и не уведомил Адмиралтейство о своем маршруте.
Цитата из «1-го послания к коринфянам», которую Стрэнджвик сперва запомнил так неправильно, что город Ефес (Ephesus) ему услышался как «офицеры» (officers), в любом случае представляет собой одну из самых загадочных строк в «Деяниях апостолов». По-видимому, апостол Павел говорит о случае, когда его выставили на арену для растерзания дикими зверями, — однако, во-первых, эта казнь, Damnatio ad bestias, которой позже очень часто предавали первых христиан, обычно не применялась для римских граждан (а Павел такое гражданство имел), во-вторых же — непонятно, как ему в таком случае удалось спастись. Так или иначе, для христианского сознания эта формула — символ веры в вечную жизнь, ради которой можно вынести любую опасность…
А вот нарушение обещания жениться в описываемое время было серьезным противоправным поступком. Невеста или ее родители могли подать в суд и получить довольно крупную сумму в качестве компенсации морального ущерба — не говоря уж о том, что после такого суда репутация «нарушителя» оказывалась запятнана. В Викторианскую эпоху такой штраф часто вообще оказывался разорительным (причем за неуплату его могли и в тюрьму посадить), а пятно на биографии — несмываемым. После Первой мировой эти санкции заметно ослабли, но по-прежнему оставались значимыми.
Впрочем, это, конечно, уже нечто из числа «угроз мирного времени», которые для фронтовиков, прошедших через реальную битву на Сомме или выдуманную Киплингом битву при Сампуа, даже не вполне воспринимались как угрозы…
Уильям Дж. Уинтл ЗОВ ТЬМЫ
Джон Бэррон был в замешательстве. Ему никак не удавалось разобраться в происходящем. Живя в своей усадьбе постоянно, с рождения — за вычетом нескольких лет, которые он провел в Регби и Оксфорде, — Бэррон никогда не сталкивался ни с чем подобным.
Невзирая на то, что его предки обитали в этом поместье уже несколько поколений, в фамильных архивах не сохранилось никаких документов о факте покупке земельной собственности и праве на владение ею. Такая ситуация крайне огорчала Джона, поскольку под сомнение ставилась респектабельность его семьи, о которой он, разумеется, был очень высокого мнения.
И немудрено. Род Бэрронов входил в число «старого» дворянства, семейных гербов у них накопилось столько, что они в прямом смысле слова не могли уместиться на общем геральдическом щите. Непосредственные предшественники Джона тоже ничем не умалили репутацию своих предков, да и самому ему удалось сделать замечательную карьеру: работая в суде совсем непродолжительное время, он сумел весьма преуспеть, а потом перед ним открылись еще лучшие перспективы… которые, впрочем, временно пришлось отложить из-за смерти отца. В Баннертоне, заняв отцовское место сквайра и сделавшись влиятельнейшим среди местных землевладельцев, Джон выступал в качестве мирового судьи.
Многие его друзья и знакомые испытывали к нему зависть. У Джона Бэррона было значительное состояние, отличный дом и поместье, множество добрых приятелей и безупречное здоровье. Чего еще оставалось ему желать? Правда, проживающие по соседству дамы утверждали, что ему недостает кое-чего очень существенного, а именно — достойной супруги. Но в данном случае едва ли можно было рассчитывать на беспристрастность их суждений: каждая из этих представительниц прекрасного пола (все они, так уж случилось, были не замужем) совершенно явно видела на месте этой супруги… саму себя. Бэррон же вовсе не проявлял намерения вступить в брак и в непринужденной обстановке, среди друзей, порой даже хвалился тем, что не позволит себя «окольцевать» ни одной прелестнице.
И вот теперь Джон находился в затруднительной ситуации. Ну почему, почему ему приходится заниматься этим делом? Впрочем, он мог успокоить себя тем, что срочного тут ничего нет, да и вообще случившееся даже формально не затрагивает честь рода Бэррон, а уж с нынешними обитателями поместья (им самим и прислугой) тем более никак не связано. Так что, опять-таки если рассуждать формально, он имел право спокойно отложить это дело в долгий ящик и заняться чем-нибудь куда более для себя более злободневным.
Тем не менее решиться на такое он не мог, именно из-за чести рода. Ведь все случилось, по сути, в его фамильном поместье. Даже можно сказать, что при определенных обстоятельствах Бэррон мог бы увидеть это из окна своего кабинета.
Если бы обнаружить хоть что-то по-настоящему существенное! Джон Бэррон занимал должность судьи не зря и знал, как надлежит расследовать даже самые необычные происшествия. Однако до сих пор он все еще не обнаружил чего-либо, что помогло бы разобраться в этом деле.
Происходящее было окутано тайной, а к тайнам Бэррон испытывал крайнее отвращение. Не только потому, что из-за них в тихой сельской местности начинают шнырять полицейские и частные детективы, да ведь и просто судебные заседания здесь — события не из самых привычных. Дело в том, что это игра без выигрыша: если тайна все-таки оказывается раскрыта, это извлекает на свет божий массу скверных подробностей, более неприятных, чем сама исходная проблема, а нераскрытая тайна всегда сеет тревогу и по рождает ощущение опасности. Как юрист Бэррон считал что следовало бы принять своего рода «закон против тайн». Это, конечно, невозможно — но тем хуже для всех общественных устоев, церковных и светских.
И вот теперь округ Баннертон оказался во власти какой-то безусловной и крайне неприятной тайны. Благодаря своей должности судьи Джон Бэррон имел возможность не только официально ознакомиться с делом, но и потратить много часов на то, чтобы внимательно изучить его. Без всякого результата: тайна становилась все более и более запутанной!
Пару недель назад садовник и его жена, снимавшие небольшой домик на окраине городка, вышли по делам, а свою трехлетнюю дочь, как обычно, оставили в доме. Ребенок крепко спал в своей кроватке, дверь была заперта, да и родители вернулись вскоре — спустя всего лишь двадцать минут. Тем не менее, когда они приближались к дому, до них донесся отчаянный крик ребенка. Отец, подскочив к двери, обнаружил, что она все еще заперта, повернул в скважине ключ — и родители вбежали внутрь.
Кровать девочки находилась в гостиной, внутренняя дверь, ведущая туда из коридора, была открыта. С порога родители услышали, что ребенок умолк и крик его сменился страшным, придушенным хрипом. Отец и мать успели заметить на кровати темный силуэт, словно бы накрывающий собой малышку. Им почти не удалось что-то различить — и, хотя у них не возникло сомнений, что перед ними было вполне реальное существо, оно рассеялось подобно туману, едва родители вбежали в комнату. Вряд ли это последнее утверждение садовника и его жены можно принимать на веру — но, во всяком случае, перед тем нечто должно было как-то проникнуть в дом, а в этом как раз крылась загадка. Ведь входная дверь, бесспорно, была заперта.
Быстрое возвращение отца и матери спасло жизнь ребенку — в чем они, впрочем, сначала сомневались. Но столь же поспешно прибывший доктор дал им возможность надеяться, сперва слабую, однако пару дней спустя девочка начала поправляться, и вскоре ее жизни уже больше ничто не угрожало. Было ясно, что на нее напало какое-то хищное животное, вцепилось в горло и едва не прокусило сонную артерию. Доктор, да и сам Джон Бэррон пришли к выводу, что укус, судя по расстоянию между следами зубов, видимо, нанесен огромной собакой. Однако странно было, что собака таких размеров не причинила более серьезных травм; ведь на самом деле такому псу достаточно всего лишь одного движения челюстей, чтобы умертвить ребенка…
Действительно ли это была собака? Если же да — как она проникла в дом? И парадная дверь, и черный ход были заперты; более того, заперты были и все оконные ставни. Казалось бы, это существо, кем оно ни будь, никоим образом не могло прокрасться внутрь. Столь же поразительную загадку и представляло собой его бесследное бегство.
Ни малейшей зацепки не дал внимательный осмотр комнаты, равно как и всего земельного участка в целом. Ничто не было испорчено или сломано, да и вообще рядом с домом не осталось никаких следов. Обращал на себя внимание лишь запах земли, причем не свежий, а странно затхлый, который доктор почувствовал, едва войдя в комнату. О том же запахе говорили и другие люди, осматривавшие место происшествия. Кажется, ощутил его и Джон Бэррон, придя в дом несколькими часами позднее, — однако запах на тот момент существенно ослаб: настолько, что само наличие его уже было под сомнением.
Вскоре к этому случаю добавилось еще несколько местных происшествий — точнее говоря, слухов. Проживавшая рядом старушка рассказала, что некоторое время назад она, выглянув в окно, чтобы узнать погоду, увидела большого черного пса, который мчался через дорогу в направлении дома садовника. По описанию старушки, пес «возможно, был ранен или сильно изнурен»: во всяком случае, он заметно хромал на заднюю лапу.
Еще три человека утверждали, что несколько ночей назад они услышали где-то вдалеке вой собаки — и что тогда же местный фермер пожаловался, будто однажды ночью на его овцу пыталась напасть какая-то бездомная собака. Фермер во всеуслышание заявил, что все собаки, сколько их ни есть на белом свете, рискуют жизнью, если будут покушаться на его скот; но, так как ни одна овца на самом-то деле не пострадала, никто тогда не обратил на этот рассказ особого внимания.
Бэррон отлично знал обо всех этих россказнях. Однако они вряд ли могли иметь значение для человека, привыкшего рассматривать только реальные и неоспоримые факты.
Гораздо больше он уделил внимания другим подробностям, если их уместно так назвать. После того как стало очевидным, что пострадавшая девочка выздоравливает, ее начали расспрашивать, помнит ли она что-нибудь о происшедшем. Малютка спала, когда произошло нападение, и потому она не видела, как и откуда появилась вцепившаяся ей в горло тварь, — однако описала это так: «Меня укусила гадкая страшная леди!». И хотя всем это показалось нелепостью, но когда девочку впрямую спросили, не была ли это собака, она упорно повторила: «Нет, не собака, а старая леди! Гадкая, страшная!».
Родители только отмахнулись, сочтя все плодом детского воображения. Но Бэррона, опытного юриста, поразило сопоставление трех фактов: раны по всей очевидности нанесены большой собакой; сам ребенок утверждал, что его укусила страшно выглядевшая женщина; родители же видели существо, очертаниями скорее напоминавшее человека. Впрочем, размерами «это» действительно было с огромную собаку, цвет его был черен — и, увы, оно исчезло прежде, чем взрослые успели что-либо толком разглядеть.
Да, деревенские слухи вряд ли имели какую-то законную силу, да, именно в таких случаях они возникают практически неизбежно — но любопытно, однако, что во всех этих рассказах речь шла о собаке. Или, во всяком случае, о животном, похожем на собаку. Но каким образом она могла бы проникнуть в запертый дом? Как ей удалось бы выбраться наружу? И отчего ребенок настаивает в своем рассказе, что это была «страшная леди»?
В связи с этим вспоминались разве что старые предания об оборотнях-вервольфах. Но есть ли смысл уделять время этим выдумкам в наше просвещенное время…
В общем, было неудивительно, что Джон Бэррон оказался в замешательстве, и это выводило его из себя. Кроме того, Баннертон ничем не выделялся на фоне других городков по количеству происшествий, что вполне устраивало муниципальные власти. Затраты на проведение судебных заседаний, неизбежная морока с газетчиками — нет, все это было совершенно излишним. Конечно, если бы девочка действительно погибла — это было бы ужасно и само по себе; но вдобавок еще и потому, что история неизбежно приобрела бы широкую известность. Она точно оказалась бы намного более сенсационной, чем любая другая информация местных репортеров, прежде публиковавшаяся в газетах за все время существования городка…
Однако пару дней спустя история получила продолжение, после которого Джон, сколь ни прискорбно, уже при всем желании больше не мог игнорировать это дело. Поскольку теперь речь уже шла о фактах. Тот же фермер сообщил, что на этот раз его овцы не только подверглись нападению, но были искусаны, чуть ли не загрызены. Точнее, две овцы все-таки погибли, и необычным было скорее то, что они получили лишь небольшие, не опасные для жизни укусы — и умерли, вероятно, от сильного страха и последствий длительной погони. Причем собака, если это существо действительно было собакой, безусловно, могла их загрызть и даже растерзать, но почему-то этого не сделала. Возможно, овец гонял свирепый, но небольшой пес? Едва ли: судя по ширине челюстей, оставивших укусы, собака была очень крупной. Крупной, но, выходит, слишком слабой, чтобы и в самом деле загрызть овцу? Очень странно…
А вдобавок произошло еще нечто, о чем Джон Бэррон пока не рассказывал никому. Две ночи подряд он просыпался без, казалось бы, существенных к тому причин; оба раза — непосредственно после полуночи; и в обоих же случаях он вскоре после пробуждения слышал вой, исходивший откуда-то издалека. Этот вой, пронзавший ночную тьму, был совершенно неподобающим звуком для Баннертона, да и вообще для Англии, где, как известно, давно уже не водятся волки. Вой доносился с болота, расположенного прямо за окраиной городка. Временами он ослабевал, но затем снова прорезал ночную тишину — непонятный, жуткий, как стон призрака: сперва хриплый и низкий, потом все выше, пронзительней, мучительней… почти переходя в плач…
Каждую ночь вой умолкал, но потом, где-то через час с лишним, возобновлялся. На вторую ночь голос зверя звучал громче — по-видимому, зверь приблизился. Джон Бэррон уже не мог обманывать себя. Он узнал этот ночной зов. Он не раз слышал его и прежде, когда ему доводилось ездить в путешествия, в том числе и по отдаленным просторам России.
Это выл волк!
Но последний из английских волков, как гласят охотничьи анналы, был застрелен еще в 1680 году. Может быть, та тварь, которая воет ночами за околицей городка, сбежала из передвижного зверинца? Но в таком случае хищник, окажись он в самом деле волком, конечно, произвел бы в овечьем стаде гораздо более ужасное опустошение. И при всех обстоятельствах остается вопрос: если именно волк напал на девочку, то как он забрался в дом? Как выбрался оттуда? И отчего девочка все так же продолжает утверждать, будто ее укусила страшная старуха?
В следующие несколько дней события получили дальнейшее развитие. Другие жители тоже слышали ночной вой и решили, что это бездомная собака, которая бродит по болотам. Зверь напал и на овец другого фермера; в этот раз он успешно их загрыз. Это уже были не шутки — и многие из местных жителей, в том числе все фермеры, отправились охотиться на таинственного хищника. Два дня они прочесывали все болотистые равнины и окружающие леса, но следы зверя так и не были обнаружены.
Однако вскоре Джон услышал рассказ одного из фермеров, давший повод для раздумий. Некоторые охотники заметили, что этот фермер так ни разу и не рискнул войти в кустарник, густо растущий на краю болота. После долгих уговоров и многочисленных насмешек он все же объяснил, в чем тут дело, заявив, правда, что он-то не верит во «всякую там чертовщину», но вот его жена…
А жена его боится этого места вот почему. Оказывается, когда там останавливался цыганский табор — а было это сравнительно недавно, — в нем умерла старуха. Цыгане тайно похоронили ее в этих зарослях и с тех пор больше уже не возвращались туда. Тайна тайной, но эта история, разумеется, вскоре оказалась на устах у многих. Старуху начали считать «королевой» цыганского табора; кроме того, местные жители утверждали, что это была одна из самых опасных ведьм, сколько их ни есть в мире: оттого, мол, ее и похоронили в такой глухой местности, причем втайне. Как ни странно, почти никто не пришел к выводу, что цыганам, возможно, просто не по средствам было оплатить участок на кладбище. Это понимали лишь немногие, но и они сделали для себя вывод, что цыганскую могилу все же не стоит трогать. Никакого резона нет в том, чтобы на ровном месте обзавестись лишними врагами, которые в результате, например, разорили бы курятник или угнали бы скот. В общем, этот цыганский секрет так и не стал известен властям. Джон Бэррон попытался подытожить имеющуюся информацию. Увы, никуда не деться от легенд о вервольфах. Итак, была женщина, о жизни и смерти которой ходили нехорошие слухи и которая была похоронена в глухом месте не на освященной земле. Немного времени спустя — загадочный волк, блуждающий по этой местности в поисках, да, в поисках крови, а не мяса. Поневоле вспомнишь об оборотнях. С другой стороны, поверить в такое может разве что душевнобольной с пошатнувшейся психикой. В общем, полный абсурд.
Тем не менее дело до сих пор не раскрыто. И в голове у Бэррона созрел четкий план действий, который помог бы докопаться до истины. Хотя, даже если удастся раскрыть причину происходящего, придется, по-видимому, оставить все как есть. Но об этом Джон решил подумать позже, когда докопается до истины.
Ну а фермеры все еще продолжали свои попытки справиться с убийцей овец. Повсюду были разбросаны отравленные приманки — однако это привело лишь к тому, что погибла пастушья собака. Каждую ночь молодые люди, держа ружья наготове, поджидали хищника, но без всякого успеха. Никаких дальнейших происшествий и никаких нападений на овец — загадочное существо, кем бы оно ни было, вероятно, покинуло эти места. В то же время Джон Бэррон понимал, что если уж бродячая собака принялась охотиться на овец, то вряд ли она когда-нибудь оставит это занятие. Поэтому, если речь идет действительно всего лишь о таком псе, следует ожидать, что он вернется. Если же это вообще не собака — то никто не знает, чего именно следует ожидать…
И потому Джон не утратил бдительность, даже когда фермеры прекратили охоту на предполагаемого бродячего пса.
Он оказался прав. В одну чрезвычайно темную и ветреную ночь Джон опять услышал все тот же ночной зов: далекий вой. Звук то стихал, то становился сильнее, порывы ветра часто заглушали его. Джон вышел из дома, взяв с собой ружье, и укрылся в заранее намеченной засаде: на склоне холма чуть повыше зарослей, где находилась могила.
Вой начал удаляться — видимо, зверь двинулся в направлении ферм. Вскоре там заскулили собаки — нерешительно, испуганно, явно не рискуя бросить вызов владыке ночи. Затем голос зверя вдруг послышался за поворотом дороги, настолько близко, что Бэррон, человек в высшей степени смелый, с трудом сохранил контроль над собой. Но все же сохранил.
Он осторожно, без щелчка взвел курок, положил ствол ружья на изгородь и замер в ожидании. Но волка все не было. Вместо него на дороге вдруг показалась маленькая худая старушонка. При ходьбе она хромала и опиралась на палку, но все же шла с необычайной для ее возраста скоростью и замедлила шаг, лишь увидев за поворотом дороги судью с ружьем на изготовку. И тут произошло нечто очень странное.
Джон всегда гордился своей наблюдательностью и твердостью рассудка — но в этом случае он не мог бы четко рассказать, что же, собственно, произошло. Так или иначе, увиденное было в большей мере впечатлением, нежели неоспоримым фактом. Взгляд старухи (полный неистовой, нечеловеческой злобы) встретился со взглядом Бэррона — а потом… Потом — полусознательное забытье.
Кажется, Джон пришел в себя всего через несколько секунд, однако старухи перед ним уже не было. Единственное, что он все-таки успел увидеть, — это силуэт большого волка, исчезающего за поворотом.
Джон был, конечно, ошеломлен этим невероятным происшествием, но у него теперь сомнений не осталось: в происходящем как-то участвует волк. Ведь он видел зверя своими глазами! Более суеверный человек мог бы задуматься, сопровождал ли этот зверь старуху или же она действительно превратилась в волка, — но Бэррон ни того ни другого не видел, так что сразу отверг оба этих варианта как сущую нелепицу.
В течение следующего дня Джон ломал голову над случившимся. Неожиданно ему подумалось, что, возможно, стоит сходить к зарослям по ту сторону дороги и оглядеть могилу цыганки. Едва ли можно надеяться обнаружить там какую-либо зацепку, но раз уж он сейчас все равно только время зря тратит…
Во второй половине дня Джон отправился к тому самому месту, которого так боялась жена одного из фермеров. Оно располагалось на окраине, строго говоря, не болота как такового, а «марша», влажного заливного луга, — и представляло собой небольшую рощицу, густо заросшую кустарником и низкими, кривыми деревцами. Обнаружив едва заметную узкую тропинку, Джон пробрался сквозь заросли — и в самой их гуще увидел крохотную прогалину. По-видимому, именно здесь и была могила цыганки.
Но дело оказалось куда хуже, чем думал Джон. Могила оказалась разрыта! Повсюду вокруг была разбросана рыхлая земля, на которой отпечатались следы большой собаки или… да, именно волка.
Джон Бэррон невольно ужаснулся: сам факт, что могилу так грубо потревожили, наводил на даже слишком мрачные предчувствия. Однако все же он, помедлив, приблизился к краю могильной ямы, заглянул в нее. И с некоторым облегчением перевел дух: гроб оказался цел и закрыт крышкой. Итак, во имя всеобщего спокойствия следует просто-напросто вновь засыпать могилу землей.
Джон решил одолжить для этого лопату на ближайшей ферме. Уже придумывая на ходу какое-то пояснение, он повернулся в сторону дороги. В этот момент за его спиной раздался звук, похожий на негромкий смех — и одновременно на сдавленное рычание, которое вполне могла бы издавать волчья глотка! Джон мысленно назвал себя сумасшедшим, но это не развеяло тревогу.
Одолжив лопату и вернувшись к прогалине, Джон тщательно засыпал могилу и разровнял землю на холмике. И в тот момент, когда он, закончив работу, направился к выходу из зарослей, сзади вновь послышался смех. На сей раз еще более тихий. Словно доносился из-под земли.
Бэррон вздохнул свободней, лишь выбравшись на открытое место.
Ничего удивительного, что оставшуюся часть дня Джон думал обо всем этом — и ночью тоже, так как уснуть он не смог. Лежа в кровати, он подкидывал монету и непрерывно размышлял о загадочной могиле, об имеющих к ней отношение происшествиях… И вот после двенадцати он опять услышал все тот же до боли знакомый ночной зов. Сначала волчий вой звучал вдалеке, потом на долгое время настала тишина, и вслед за этим звук послышался так близко к дому, что Бэррон вскочил с постели, как подброшенный. Миг спустя до него донесся отчаянный визг его дворовой собаки, а затем опять наступила тишина; и лишь когда миновало уже долгое время, его слуха вновь коснулся вой — снова далекий…
Утром Джон обнаружил свою собаку возле конуры мертвой, и причина ее смерти была очевидна: глубоко разорванная шея. Больше всего удивляло то, что крови вокруг ее тела почти не обнаружилось. Тем не менее тщательное обследование привело к выводу, что сам по себе укус в шею все же не был смертелен: собака погибла именно из-за кровопотери. Однако где же, собственно, эта кровь? И вообще — разве в волчьей манере так убивать добычу? Питаться плотью своих жертв — да, бесспорно; пить ее кровь — как-то не по-волчьи…
Джон Бэррон не знал, что через день он выяснит все. Потому что ранним вечером, еще задолго до заката солнца, он снова будет идти к болоту и вдруг услышит отчаянный детский крик, как раз со стороны узкой тропки, ведущей к могиле. Бросится на помощь — и его глазам предстанет ужасное зрелище: огромный волк, сомкнувший зубы на горле маленького ребенка.
По счастью, теперь Джон уже не выходил из дома без ружья. Он страшно вскрикнул — и выстрелил сразу же, едва лишь волк, вскинувшись на звук, чуть приподнялся над своей жертвой.
Расстояние было невелико, и сила выстрела буквально опрокинула зверя на спину. Он все же сумел подняться и даже побежать прочь, к болоту, но явно из последних сил.
Джон Бэррон видел, что волк ранен смертельно, и потому не стал его преследовать. Со всех сторон уже бежали люди: детский крик услышали многие. Вскоре раненый мальчик был доставлен к доктору. Ребенку повезло: волк едва успел вонзить в него зубы, жизнь его, благодаря своевременной помощи, оказалась вне опасности.
Перезарядив ружье, Бэррон вместе с одним из местных жителей пошел по следам волка. Со следа было трудно сбиться: вдоль него тянулась цепочка кровавых пятен. Конечно, никакое животное с такой раной не могло уйти далеко. Кровавый след привел их в заросли — но там вдруг неожиданно оборвался.
Джон и его спутник буквально прочесали всю чашу, однако так и не увидели волка, ни живого, ни мертвого. Зато они обнаружили, что могила вновь оказалась разрыта. Рядом с ней на груде развороченной земли лежало окровавленное тело, но оно не принадлежало зверю. Это была старая женщина: невысокая, цыганского вида, в лохмотьях. И — с пулевой раной в боку: как раз там, куда должен был прийтись выстрел Бэррона, направленный в волка.
Зубы старухи тоже были окровавлены. А еще они были длинны, почти как волчьи клыки…
Малькольм Кларк Дэй ПРИЗРАК ДЖОЗЕФА ХАРПЕНДЕНА
— Вот он, значится, Кемсли, а уж город это или деревня — вам решать, сэр. Надеюсь, вы не в претензии на моих лошадок? — В голосе кучера звучала скорее гордость, чем нотки извинения. — Да, мы, стало быть, на час позже супротив обычного прибыли — ну так ведь какая метель, сэр!
Экипаж как раз спускался по восточному склону гряды холмов. Внизу мерцали огни небольшого городка.
— По всему видно — у вас, сэр, особо срочная надобность. — Кучер, скрывая усмешку, покосился на своего единственного пассажира: худенького юношу, скорее даже подростка, дрожащего от холода в своем поношенном пальто. — Эту зиму в тутошних краях запомнят надолго: таких холодов давненько уж не было! Все благоразумные люди, сэр, сейчас носу не кажут из дома…
— Я бы рад быть благоразумным, — вздохнул пассажир, — но задерживаться не могу: спешу к умирающему. Известие прислали прямо в колледж, директор сразу подписал мне разрешение отлучиться — я и так пропустил несколько дней.
— О, тогда извиняйте, сэр. К отцу спешите?
— Нет. К… ну да, к кузену. Джозеф Харпенден. Я называю его кузеном, хотя вообще-то мы гораздо более дальние родственники. Но кроме него у меня на этом свете больше никого и нет. — Голос юноши дрогнул.
— Да уж, паршиво, когда у человека нет родни, — сказал кучер с грубоватым сочувствием. И вдруг в его голосе прорезалось любопытство: — Джозеф Харпенден? Так что же, этот ваш родич, выходит — старый скряга Харпенден-черта-с-два, да?
Лицо юного пассажира вспыхнуло. Он молча кивнул.
— Ух ты! И что, правду говорят, будто он столь же богат, сколь и скуп?
— Честно говоря, я никогда не видел в его доме ни малейших признаков богатства, — сухо ответил юноша. — Сам же кузен все время говорил о своей бедности, из-за которой он вынужден жестоко экономить. Но со мной мистер Харпенден всегда был добр, приютил меня после смерти родителей, оплатил мое обучение в колледже — и, право слово, мне не подобает выслушивать, как о нем говорят неуважительно!
— Ваша правда. Молчу-молчу, сэр, — теперь кучер говорил уже без усмешки. — Ну а вот уже и трактир «Красный лев». Прибыли! Сходи, сынок — и, надеюсь, ты вправду еще застанешь старину Черта-с… э-э, мистера Харпендена в живых.
«Сынок». Ну надо же! Да, ему еще не исполнилось и шестнадцати, но в этом возрасте… ну… Короче говоря, в таком возрасте к джентльмену из хорошей, пускай и обедневшей, семьи надо обращаться «молодой человек»!
Вышеупомянутый молодой человек шагал по улице торопливо, но несколько скованно: в своей ветхой одежде он совсем окоченел за время поездки. Дом, куда он направлялся — старый особняк за околицей, — знал лучшие годы. Теперь он производил тягостное впечатление: размеры и архитектура заставляли вспоминать о временах, когда семья Харпенденов была одной из самых влиятельных в округе — но стены давно облупились, старинные дымоходы обрушились, в кровле зияли дыры, а некоторые окна были заложены кирпичом.
Слабые огоньки теплились только за стеклами окон первого этажа, да и то лишь кое-где, второй этаж был темен — и темен был примыкающий к дому старый деревянный флигель, в котором, собственно, и предпочитал жить старый Джозеф. Увидев это, юноша вдруг резко остановился, со всей отчетливостью поняв: ему все-таки не довелось застать своего последнего родича в живых…
Почему-то при этой мысли он ощутил не горе, а страх — темный, иррациональный. Но превозмог себя, взялся за тяжелый дверной молоток — и, дважды стукнув им по все еще прочным дубовым доскам, отступил на шаг в сторону, чтобы оказаться напротив «французского окна»,[88] за которым, как видно было сквозь щели ставни, горела свеча.
Юноша не знал, кто сейчас откроет ему, но в общем-то выбор был невелик. Когда он был здесь последний раз, в доме оставалось всего двое слуг. Так что к двери подойдет, конечно, или Элизабет, глуховатая седая кухарка, или неприветливый старина Питер, личный секретарь хозяина, год назад сменивший на этом посту покойного мужа Элизабет.
Однако к двери все никто не подходил, а сквозь ветхую ставню молодой человек услышал, что обитатели дома негромко, но, кажется, взволнованно переговариваются друг с другом. С большим удивлением он понял, что их не менее чем трое. Питер, кто-то смутно знакомый, но не входивший в число домочадцев, и наконец абсолютный незнакомец.
— Значит, в завещании… — прошептал последний.
— Вообще-то да, — скрипуче ответил полузнакомый голос, принадлежащий, как юноша сообразил только сейчас, мистеру Пиллингу, поверенному его родича. — Юный мастер Дик является единственным наследником дома и всего, что находится в нем.
— Само собой. Весь городок знает, что мальчишка — единственный наследник. Никто из нас и не собирается лишать его этих развалин и старой мебели. Вопрос в другом: вы как законник можете сказать — значение «всего, что находится в нем» как-то расшифровывается?
— Нет. Можете быть спокойны.
— Да все в порядке, сэр, парень и не знает-то ничегошеньки, — вмешался Питер. — Я, когда, значит, с ним речи вел, завсегда вздыхал вот этак: «Ох, Дик, вы ж, того-этого, не станете у меня выспрашивать, кудой хозяин свое достояние прячет? Не станете ж? А то его, бедолагу, и так-то каждый норовит облапошить, неужто ж и вы того же, значится, поля ягода?» Он завсегда краснел и с разговора сворачивал. Хотя… Краснеть-то краснел, а вот глазищами позыркивал — так что, может статься, нам и впрямь надо, того, поспешить, ежели уж мы трое, стал-быть, решили…
— Тс-с! У стен есть уши!
«А у окон тем более, — мысленно заметил Дик, — зато у вас с ушами точно проблемы, раз вы не слышали, как я в дверь стукнул. Хорошенькая история! Ну и что же мне теперь делать?»
Ответа на этот вопрос он не нашел. Поэтому так и продолжал стоять снаружи, превратившись в слух.
— Ладно. Ну а сам-то старый скряга хоть как-то дал понять, где он это прячет?
— Чтоб сказать да — так нет, сэр. Напрямую он об этом ни словечком не обмолвился. Только иногда, обиняком, с этакой вот усмешечкой пробрасывал: мол, все прямо перед глазами…
— Чтоб ему на том свете пусто было! — в сердцах высказался незнакомец. — Все, что «перед глазами», мы уже перерыли десять раз: ящики письменного стола, бюро, буфет… Пожалуй, надо искать как раз в самых дальних закоулках. А слова старого скупердяя — это обычная скупердяйская хитрость: чтобы еще и после смерти наследникам досадить!
— Пожалуй… — согласился поверенный. — Но нам в любом случае надо управиться до утра: мальчишка, возможно, приедет уже завтра.
И именно в этот момент тот, кого они называли «мальчишка», потерял равновесие — и оперся о ставню рукой. Только на миг, но этого оказалось достаточно: старая створка заскрипела.
— Тс-с-с… Кто это?!
Не оставалось никаких сомнений, что мгновение спустя окно будет распахнуто, — и Дик не успеет скрыться. Поэтому он, чтобы упредить неизбежное, осторожно постучал в ставню.
Трое мужчин одновременно выглянули в окно: мрачные, насупленные, встревоженные — но, кажется, испытавшие определенное облегчение от того, что видят перед собой Дика, а не кого-то вовсе постороннего.
— Ричард? — резко спросил мистер Пиллинг.
— Д-да, это я, — дрожащим голосом произнес молодой человек. — М-можно войти?
— Даже нужно. — Поверенный буквально втянул его в дом. — Что ты тут делаешь?
— Ну, я постучал в дверь — наверное, слишком тихо, и мне никто не ответил. А стучать громче мне не хотелось, ведь мой кузен болен и нуждается в…
— Твой, э-э, кузен уже ни в чем не нуждается, — сухо произнес законник. — Ты слишком долго добирался. Сегодня днем его тело было предано земле.
— Умер и уже похоронен?! — Дику не потребовалось много труда, чтобы изобразить потрясение и горе. — Я даже не успел с ним проститься… Значит, теперь я на свете совсем один!
— Не вполне, — прежним тоном ответил поверенный. — Отныне и до совершеннолетия я назначен твоим опекуном. Покойный мистер Харпенден взял с меня слово, что ты будешь окружен отцовской заботой, — и это слово я сдержу. Так что будешь жить у меня: этот старый дом слишком холоден и неприютен…
На последних словах его голос заметно смягчился.
— А… а где Элизабет? — пробормотал юноша, растерянно озираясь.
— Ей уже нечего тут делать. Так что она вернулась к себе… не знаю уж куда: жила же где-то, прежде чем поступить сюда на службу.
— П-правда? — Дику по-прежнему не приходилось имитировать растерянность: чувства его были неподдельны. — Ну… Наверное, мне все-таки лучше остаться здесь. По крайней мере, сегодня.
— Вот как? И почему же?
— Не знаю, — Дик пожал плечами, — но, в конце концов, дом не должен пустовать — а раз уж кроме меня не осталось никого, кто жил здесь раньше…
— О нет, мой мальчик! — В голосе законника теперь звучали подлинно отеческие обертоны, но взгляд был холоден и подозрителен. — Это, гм, жилище скорби — неподходящее место для юного создания твоих лет. Мы пойдем…
Он взял Дика под локоть и постарался увлечь его к выходу — но тот не сдвинулся с места.
— Мы пойдем… — с нажимом повторил мистер Пиллинг. По-прежнему безрезультатно. — Гм… — Поверенному стало ясно, что настало время сменить тактику. — Мэрфи, мой шурин, отведет тебя ко мне домой и поместит под надзор моей сестры, его супруги. Право же, сегодня ночью тебе не следует оставаться без присмотра.
(«По пути расспроси его», — это законник произнес одними губами. В обычных условиях Дик никогда бы не разобрал его слов, но сейчас он настороженно следил за всем.)
Человек, о котором говорил мистер Пиллинг, кивнул и сделал шаг вперед. Он был высок и грубовато-кряжист, так что пятнадцатилетний Дик сразу почувствовал: можно сколько угодно называть себя юношей или молодым человеком, но с этим мужчиной ему сейчас лучше не спорить.
Дик кивнул, зябко запахнулся в пальто и вместе с шурином мистера Пиллинга вышел из дома. Законник со вздохом облегчения закрыл за ними дверь.
— А теперь, Питер, — он повернулся к слуге, — принеси молоток, долото — да заодно и топор. Посмотрим, не спрятано ли чего под половицами или за стенными панелями. Начать, наверное, следует с этой комнаты.
Они все еще были заняты этим делом, когда шурин снова переступил порог.
— Ну как там паренек? — первым делом поинтересовался поверенный.
— Надежно пристроен.
— Мэрфи! Мы ведь договаривались, что…
— Да все в порядке. Как договаривались, так и сделал. Он заперт наверху, в спальне на втором этаже. Ключ я повернул в замке дважды, дверь подергал, проверил — нет, мальчишке не выйти.
— Да, дверь там крепкая. И до земли далеко. Разве что… У него не может оказаться с собой какой-нибудь веревки?
— Никакой, — Мэрфи помотал головой. — Он пальтишко свое внизу скинул, а в том, что на нем осталось, ничего не спрячешь. А в спальне только тюфяк, постельное белье мы ведь заранее убрали, так что и простыни на веревки не порвать. Да по мне, это все излишние предосторожности: окно ведь там слишком узкое, чтобы человеку протиснуться.
— Пожалуй… Ну ладно: как на ваш взгляд, он что-нибудь знает?
— Вряд ли. По дороге я этак исподволь завел было разговор о сокровищах старика, о тайниках, в которых они могли храниться… Нет, он явно ничего про тайник не слышал.
— Отлично. Хотя, с другой стороны, даже и жаль… Ладно, Мэрфи, со своей частью задания вы справились — а теперь давайте вместе заниматься нашей общей.
…Поиски были усердны, но безуспешны. Трое мужчин сдвинули от стен всю тяжелую мебель, проверили стыки, донца ящиков, осмотрели каминную плиту — но наградой стало всего несколько мелких монет, завалившихся за книжный шкаф. Им даже удалось найти в старинном секретере потайное отделение, однако там тоже было пусто и вообще, скорее всего, последнему хозяину дома этот тайник так и остался неизвестен.
Юрист, его шурин и слуга чувствовали себя странно. Они охотились за легкими деньгами — а вместо этого им сейчас приходилось заниматься тяжелой, монотонной, изнурительной работой. К тому же, когда они буквально переворачивали вверх дном обстановку старого дома — дома, где каждая вещь еще помнила прежнего хозяина, — их странные ощущения с каждой минутой усиливались. Возможно, днем все было бы иначе, но сейчас стояла зимняя ночь, снаружи завывал ветер…
Что-то прошуршало в соседней комнате. Это наверняка была крыса — но все трое вздрогнули.
— Бр-р-р! — Мэрфи нервно огляделся по сторонам. — Вообще-то говоря, скверное это дело — искать тайник мертвеца. Я так и жду все время, что старикан вдруг окликнет нас: мол, кто это тут шастает по моему дому?!
— Ох, и не говорите, сэр! — дрожащим голосом поддержал его Питер. — Я тоже прям-таки чуть ли не слышу его все время… И вижу тоже. Чуть ли не. А может, того, и взаправду.
— Ерунда! — раздраженно отрезал мистер Пиллинг. — Что «взаправду»? Видишь его? Или слышишь?
— Так, это, того… Не знаю, как и объяснить, сэр. Вот ровно что холодом время от времени овевает — и, может, это дурость моя, сэр, но сдается мне: это он мимо проходит.
— Ерунда! — повторил законник уже не раздраженно, а презрительно. — Просто по дому гуляют сквозняки. Что ж, весь первый этаж мы обыскали, теперь попробуем наверху. Питер, бери инструменты, и…
Мистер Пиллинг шагнул было к лестнице, ведущей на второй этаж, когда слуга вдруг схватит его за руку.
— Стойте, сэр! Стойте! Слышите?
Питер задыхался, его лицо посерело, а зубы от страха лязгали так громко, что двое других мужчин далеко не сразу услышали далекий стон. Этот звук, исполненный тоски и боли, донесся откуда-то сверху.
— Крысы… — произнес было поверенный, но осекся и побледнел: стон, безусловно, был человеческий.
— Воры, — предположил шурин. Его рука скользнула в карман камзола и вынырнула оттуда, сжимая короткую, но чрезвычайно массивную дубинку. Тем не менее Мэрфи отнюдь не выказывал желания устремиться на второй этаж и проверить, воры там или…
— Нет, сэр! — Слуга отчаянно замотал головой. — Точно говорю: это его голос! В тот день, когда помереть — он, мой хозяин, вот точно так же стонал!
В этот миг тоскливый протяжный звук повторился. Трое мужчин снова вздрогнули.
Мистер Пиллинг опомнился первым. Возможно, потому, что он острее других ощущал право собственности, пусть и только опекунской, на весь этот дом.
— Снимаем обувь и потихоньку поднимаемся. Кто бы там ни был — он у нас сейчас узнает, как шутки шутить!
— Нет, сэр! Ради всего святого! — Слуга так крепко вцепился законнику в руку, что тот поневоле был вынужден остановиться. — Я знал, я ведь знал: негоже вот так рыться в его имуществе, да еще в самый день похорон! О мистер Харпенден, я… я, стал-быть, раскаиваюсь, я не должен был…
— Ох, родич, а может, и вправду… — подал голос Мэрфи. — Тревожить призраков — оно как-то не того!
На секунду юрист замер в нерешительности, но мысль о золоте, которое он, чего доброго, сейчас потеряет из-за трусости своих компаньонов, побудила его к активным действиям.
— Ну вот что: я поднимаюсь наверх. А вы — как хотите.
Дюжий Мэрфи, содрогаясь и потея, двинулся за своим свойственником. Питер, как марионетка, тоже последовал за ними: оставаться на первом этаже одному, причем в полной темноте (оба фонаря поверенный с шурином унесли с собой), для него было еще страшнее.
Лестница скрипела у них под ногами, а больше никаких звуков не было. Несколько ободренные этим, трое мужчин поднялись на второй этаж — и, не оглядываясь на двери других комнат, без колебаний бросились к спальне прежнего хозяина дома.
Дверь подалась не сразу: похоже, она была заперта изнутри. Переглянувшись, сообщники налегли на нее разом — и, объединив усилия, с треском вломились в спальню. Сейчас их обуревал уже не страх, а ярость.
Однако в комнате не было никого, похожего на вора. Тем не менее пустой ее назвать было все же нельзя. Кто-то сидел в глубоком старом кресле, почти невидимый сквозь полумрак, едва рассеиваемый мечущимся пламенем масляных фонарей. Кто-то невысокого роста и, видимо, слабого телосложения… В длинном завитом парике, какие носили во времена молодости Джозефа Харпендена (над этим вот уже шестьдесят лет как вышедшим из моды париком, с которым покойный хозяин дома не расставался до старости, втихомолку посмеивался весь Кемсли). В ниспадающем до пола широком поношенном плаще, над которым в городке тоже посмеивались.
Лицо, полускрытое ниспадающими на лоб и щеки прядями парика, им почти не удалось рассмотреть: мертвенно-бледное пятно с темными провалами глаз. Тонкая исхудавшая рука, тоже мертвенно-бледная, выпросталась из плаща, обвиняюще направила на пришельцев костлявый указательный палец… Призрак Джозефа Харпендена вновь издал долгий протяжный стон…
Все трое молча развернулись и бросились вниз по лестнице. Проскочили сквозь темный холл, в котором сейчас, казалось, тоже хозяйничали призраки; не задерживаясь ни на миг, без головных уборов и верхней одежды, выбежали наружу в зимнюю ночь. Тяжелая входная дверь захлопнулась за ними.
Призрак обессиленно опустился в кресло. Дрожащей рукой стянул с головы парик, открывая лицо: действительно бледное, испуганное — и молодое. Попросту мальчишеское.
— Они бы меня убили. — Это Дик сказал сам себе вслух. Немного поколебался — и вновь повторил: — Да, убили бы.
Он зябко передернул плечами, вновь осознав, как близка была смерть. Если бы он не сообразил замаскироваться…
Но ведь он не сообразил замаскироваться! Как это ему вдруг в голову пришло: не спрятаться где-нибудь в боковой коморке, а броситься в комнату своего покойного родича, накинуть его плащ, его парик?.. Его ли мысль это была? А странное ощущение ледяного озноба, чьего-то незримого присутствия совсем рядом, словно бы даже «вокруг» себя — это что было?
Об этом Дик решил подумать чуть после. Сейчас он, полностью сохраняя присутствие духа, спустился вниз. Надежно запер входную дверь и все ставни на первом этаже. А потом, сам удивляясь своему хладнокровию, снова поднялся в спальню покойного. Сокровище, конечно, должно было храниться там…
(Этой своей уверенности он тоже удивился.)
…Их западня была рассчитана на взрослого, солидного человека. Когда Мэрфи закрывал за ним двери комнаты в доме мистера Пиллинга — сразу было видно: этот здоровяк давным-давно забыл о временах, когда был мальчишкой. Между тем и протиснуться в окно было не особенно сложно, и добраться по карнизу до водосточной трубы, и тем более спуститься по ней. А вот, никого не оповестив, сразу же броситься в дом своего родственника, чтобы спасти от разграбления какой-то тайник, в котором то ли есть, то ли нет сокровища — это действительно мальчишеский поступок.
На второй этаж Харпенденовой усадьбы Дик проник куда легче, чем выбрался из дома своего новоявленного опекуна. Тут у него были не позабытые «мальчишеские тропки»: еще до колледжа Дик часто играл в прятки со сверстниками, детьми соседей, и хорошо изучил тайные (от взрослых) лазы. Эх, счастливые были времена… и ведь не так уж давно они миновали…
До окна он добрался быстро и бесшумно. Даже странно, что рама скрипнула — причем когда Дик уже был внутри; ну, это дерево рассохлось, наверное. И пол местами поскрипывал, совсем не от его шагов: мальчик даже испугался, что на скрип сейчас прибегут снизу… ведь он так хорошо слышал, как эти трое переговариваются, ходят по первому этажу — почему же звуки со второго этажа оказались для них не слышны? А затем тяжелое кресло вдруг словно само собой ткнулось ему под ноги. Дик сильно ушиб лодыжку и не удержался от вскрика — но… это же было только раз, а не дважды, так ведь? И он лишь коротко вскрикнул; почему же ему самому помнится протяжный стон?
Мальчик тряхнул головой. Воспоминания его словно бы раздваивались. Ладно, все это потом. А сейчас, прямо этой ночью, надо найти тайник.
Легко сказать! Ведь эти трое его не нашли!
И тут Дик… вспомнил? Увидел? Он и сам не смог бы это сформулировать: во всяком случае, представшая его глазам картина была гораздо ярче, чем «просто» воспоминание.
Вот он, маленький, осторожно карабкается по испещренной удобными, почти как ступеньки, выбоинами внешней стене флигеля — и оказывается напротив окна. Его «кузен», а на самом деле двоюродный дядя, старый Джозеф, внимательно смотрит на стену прямо над каминной полкой… на одну из покрывающих стену плит, ничем не отличающихся от других… но к камину пододвинут стул — так, что, встав на него, можно дотянуться как раз до этой плиты…
Старик повернул голову — и посмотрел Дику прямо в глаза. Мальчик вздрогнул: тогда? или сейчас?
— Все прямо перед глазами, малыш… — сказал Джозеф Харпенден (сейчас? тогда? да что же такое происходит?!).
Пол снова скрипнул. А потом внезапное ощущение холода (ведь это же сквозняк, да?) словно бы отодвинулось, хотя и не ушло.
Дик встал на стул и дотянулся до плиты над камином. Никаких признаков тайника. Разве что рельеф на этой плите чуть другой, чем на соседних: везде изображены розы — но вот тут один из лепестков слегка отогнут…
Мальчик нажал на этот лепесток — и за плитой открылась ниша.
Чего там только ни было. Стопки золотых монет, относящихся к нескольким царствованиям: да, похоже, Джозеф Харпенден добрых шестьдесят лет только копил их, совсем не тратил. Драгоценные чаши и кубки всех форм и размеров. Кольца, печатки, золотые цепи, табакерки… изящной работы и грубые, разных эпох, принадлежавшие нескольким поколениям обитателей усадьбы…
А теперь все это принадлежало юному Дику, последнему из Харпенденов. И именно сейчас, буквально запустив руки в золото, он с особой остротой ощутил свое одиночество. Чего бы он ни дал, чтобы хоть кто-нибудь мог разделить с ним радость…
— Клянусь, — торжественно сказал Дик Харпенден, абсолютно не задумываясь, слышит ли его кто-нибудь, — что этому теперь найдется лучшее применение! Золото не будет больше никчемно лежать в стене, как бесполезный хлам, оно не станет бременем вместо блага!
И внезапно он ощутил, как холод, до этой секунды словно продолжающий стоять у него за спиной, окончательно расточается, уходит, перестает существовать.
Дик, а теперь давно уже Ричард Харпенден, сдержал свое слово. Золото перестало быть бременем, не сделалось оно и бесцельной роскошью — а превратилось в больницы, школы, во множество полезных и добрых дел. Старое прозвище «Скряга-черта-с-два» давно забыто; во всяком случае, к Ричарду его никто никогда не относит.
Но в память о нем на окраине Кемсли продолжает выситься любовно отреставрированный дом в георгианском стиле.[89] Надо сказать, у горожан об этой усадьбе продолжают ходить дурные слухи. Как говорят, там до сих пор можно встретить призрак старого Джозефа Харпендена.
Но это неправда. В одну зимнюю ночь призрак сделал там то, что мог и должен был сделать. Именно поэтому с той поры его там нет. И не будет никогда.
С УЛЫБКОЙ И УСМЕШКОЙ
Чего у старых мастеров точно не отнимешь — так это умения посмеяться над самими собой. Представить в ироническом ключе не только чужих, но и своих собственных «священных коров».
Для О. Генри (Уильяма Сиднея Портера) образ «Шенрока Джольнса», разумеется, во всех смыслах чужой, хотя великий американский юморист и сам не раз вступал на детективную стезю, так что даже тут в определенном смысле можно говорить о самоиронии. А вот Роберт Барр — автор круга Конан Дойла, его друг и сподвижник. Человек, для которого детектив — не мимолетное увлечение, но основная специальность. Тем не менее «Великая тайна Пеграма» — пародия и на Конан Дойла, и на самого себя. Примечательна история этого рассказа: он написан в ходе совместного с Конан Дойлом литературного турне по Америке, после того как они внезапно поссорились, стоя на туристской галерее над… Ниагарским водопадом. Причем у Барра мелькнула мысль, что, не будь они оба джентльменами, сейчас им бы в самый раз повторить подвиг Холмса и Мориарти (это он себя, конечно, переоценивал: чтобы справиться с Конан Дойлом, потребовалось бы пятеро таких, как Барр). Потом авторы помирились, но «антихолмсовский» рассказ уже был написан и опубликован — Конан Дойл его, впрочем, воспринял вполне добродушно.
Саки (Гектор Хью Манро) — автор очень необычный, за тонкой иронией и блистательным юмором скрывавший глубокую печаль. Впрочем, жизнь и творчество Саки хорошо известны всем, кто интересуется английской литературой. А вот детективную тематику Саки затрагивал сравнительно редко. Но и в этих случаях оставался самим собой.
Джерома К. Джерома, надеемся, представлять читателям все еще не нужно. Ну и Говарда Чета можно не представлять, хотя и по прямо противоположным причинам: этот американский автор, одно время модный, но тщательно скрывавший все детали своей биографии, в какой-то момент исчез без следа, как и Малькольм Кларк Дэй. Возможно, это оказалось его лучшей шуткой…
Джером К. Джером ЗА И ПЕРЕД КУЛИСАМИ (Путеводитель для любителей детективных пьес)
Джером К. Джером имел дело как профессионал не только с литературой, но и с театром Джером: на разных этапах жизни ему случалось выступать в качестве драматурга и даже (на заре творческого пути) актера — причем труппа, в которой он участвовал, занималась в основном детективными постановками.
Итог этого этапа своей деятельности Джером подвел в одном из довольно ранних произведений, цикле «За и перед кулисами» (1885), где перед читателями предстает своеобразная галерея сценических образов, характерных для детективов Викторианской эпохи. Всего их четырнадцать — и с четырьмя из них мы сейчас предлагаем познакомиться.
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
Его обобщенное имя — Джордж (исключения редки). Во всяком случае, Главную Героиню он просит: «О, зови меня просто Джордж!» Она повинуется, правда, очень робко (она вообще чрезвычайно робка и юна). Он — на вершине блаженства.
Где он работает и чем занимается вообще? Судя по всему, нигде и ничем: у него масса свободного времени. Хотя нет, кое-чем он действительно занят: ищет неприятностей на свою… голову. Цель его жизни — быть обвиненным в преступлении, к которому он не причастен ни сном, ни духом. И если он ухитряется завладеть какой-то вещью убитого Злодеем персонажа, причем сделать это так, чтобы его (не Злодея, конечно, а Героя) можно было хоть сколько-нибудь обоснованно заподозрить в убийстве — значит, жизнь удалась.
Он великий мастер произносить речи, и вообще его ораторское искусство может ввести в дрожь даже самого отважного противника. Во всяком случае, когда Герой читает нотации Злодею — любо-дорого посмотреть, как того бросает в дрожь.
Также Герой непременно обладает тем, что называется «родовая усадьба». Для последней характерен в высшей степени аккуратный садик вокруг — и чрезвычайно эксцентричная архитектура собственно особняка. Впрочем, если говорить об особняке, то мы обычно наблюдаем лишь фасад первого этажа, остальное на сцене не умещается. Зато он утопает в зелени. Настолько, что в этой усадьбе становится тесновато и вообще не слишком удобно. Особенно если учесть, что меж этими зелеными насаждениями постоянно бродят все окрестные жители, включая даже не самых ближних соседей; некоторые из них, кажется, там вообще поселились. Для нормального владельца усадьбы это стало бы по меньшей мере серьезной помехой — а для Героя наоборот: он получает великолепную возможность обратиться ко всей этой публике прямо от входа. Надо заметить, что такие обращения к публике — его любимое времяпрепровождение.
Как правило, непосредственно напротив усадьбы расположен общественный паб.[90] Весьма практично.
Эти вот «родовые владения» — предмет особых тревог Героя. Оно и немудрено. Мы почти сразу понимаем: он не тот типаж, которого можно назвать деловым человеком, и как только принимает управление этими владениями на себя — они немедленно приходят в упадок. К счастью, еще до завершения первого акта усадьба с примыкающими к ней землями переходит в собственность Злодея, так что Герой получает долгожданную передышку. Но в финальном акте он получает всю собственность обратно — и, к свою явному неудовольствию, вынужден снова впрягаться в прежнюю лямку.
Впрочем, следует признать: для этого неудовольствия у него, бедолаги, есть самые веские причины. Вопросы земельной собственности и юриспруденции вообще — это, может быть, не самая ужасная и величественная тайна мироздания, но что-то очень к ней близкое. В высшей степени близкое. По крайней мере, на сцене. Одно время нам казалось, что мы достаточно разбираемся — пускай и на чисто бытовом уровне — в нормах общественного права, но, просмотрев пару детективных пьес, мы осознали, что в этой области знаний являемся просто детьми.
Просьба не кидать в нас тяжелые предметы, но признаемся: мы решили во что бы то ни стало разобраться в том, что представляет собой законодательство, когда оно оказывается вынуждено повиноваться законам сцены. Нашего упорства, увы, хватило ненадолго: через полгода мы ощутили, что серое вещество нашего мозга (работа которого доселе не вызывала нареканий) явственно начинает чернеть. После чего нам пришлось отказаться от дальнейших попыток. Право слово, дешевле и безопасней назначить крупный денежный приз — пятьдесят тысяч фунтов… пожалуй, даже шестьдесят — для того, кто сумеет все это разъяснить.
Награда, кстати говоря, так и осталась невостребованной по сей день. Если хотите — дерзайте.
Собственно говоря, на наш призыв откликнулся только один джентльмен. Он дал очень уверенные пояснения, после которых мы, к сожалению, перестали понимать вообще что бы то ни было. Джентльмен был глубоко потрясен нашей, как он без обиняков выразился, умственной отсталостью — однако, едва успев произнести это, немедленно устремился прочь, а за ним гнались санитары из психиатрической больницы, откуда он, как выяснилось, незадолго перед тем сбежал.
Так что излагаем то, что мы сумели понять о законах сцены самостоятельно:
— Если некто умирает, не оставив завещания, то вся его собственность переходит ближайшему Злодею.
— Если некто умирает, оставив завещание, то вся его собственность переходит тому Злодею, который сумел этим завещанием завладеть.
— Если вы не сумели вовремя отыскать в своих бумагах копию свидетельства о браке (стоимость — три шиллинга шесть пенни), ваш брак признается недействительным.
— Одного злодейского свидетельства со стороны сомнительного типа с неизвестным прошлым и явственной личной заинтересованностью более чем достаточно, чтобы упечь за решетку джентльмена с многолетней безупречной репутацией — причем по обвинению в преступлении, для которого у него абсолютно не было мотивов.
— Тем не менее это обвинение может быть спустя несколько лет полностью аннулировано без какого-либо судебного расследования на основании устного заявления некого комического персонажа.
— Если А. подделывает на чеке подпись Б., то закон приговаривает Б. к десятилетней каторге.
— Если ваше «родовое владение» (да, то самое) вот-вот должно пойти с молотка — то, чтобы снять его с аукциона, достаточно устного извещения за десять минут до начала торгов.
— Вся процедура следствия и суда проходит в центральной зале «родовой усадьбы» (да, той же самой), причем Злодей действует в качестве адвоката, судьи и жюри присяжных в одном лице, а все полицейские, сколько бы их там ни было на сцене, беспрекословно повинуются его указаниям…
Во всяком случае, так выглядит закон сцены на сей момент, когда мы пишем эти слова. Но когда вы их читаете, разумеется, уже введены в действие новые судебные акты, уточнения, прецеденты и т. д., и т. п., и пр.: число их множится с каждой новой пьесой — и мы решительно отказались от всех надежд когда-либо познать всю театральную юриспруденцию целиком.
Вернемся же к нашему Герою. Как уже было сказано, он легко и чуть ли не охотно запутывается в этих тенетах, а Злодей (который, похоже, единственный на сцене человек, знающий дело) с аналогичной легкостью разоряет и всячески губит его. Герой направо и налево подписывает кредитные обязательства, купчие и дарственные в полной уверенности, что это не более чем игра — а потом вдруг с удивлением обнаруживает, что не в состоянии расплатиться со своими кредиторами. В результате у него отнимают жену и детей, а самого его вышвыривают в этот безжалостный мир.
Предоставленный сам себе он, естественно, голодает.
Мы уже знаем: Герой обладает непревзойденным ораторским искусством, он может выйти на просцениум и в красивой позе красивыми словами описать свое горестное положение, может послать Злодея в нокаут, может даже бросить вызов полиции — но на этом, собственно, его умения и заканчиваются. А профессии подобного рода крайне слабо востребованы на рынке рабочей силы. Тут-то до Героя внезапно и доходит, что зарабатывать на жизнь гораздо сложнее, чем ему казалось ранее.
Собственно, работы ему подворачивается много, но уж слишком она для него тяжела. Так что вскоре он обнаруживает, что легче всего прожить за счет эпизодических пожертвований, на которые иногда может расщедриться добродушная ирландская старушка или придурковатая компания деревенских юношей, делящих с Героем странствия и испытывающих подлинный восторг от его мудрых (на их фоне) изречений.
Следующие несколько актов пьесы не балуют нас разнообразием. Герой стенает, обличает жестокость мира, ополчается против небесной и земной несправедливости — и так почти до самого финала. «Почти» — потому что в финале ему возвращается все, что было у него ранее отобрано, так что он может снова отправляться в свои «родовые владения», а стенания о вселенской несправедливости сменяются высокоморальными рассуждениями прямо противоположного склада.
Ох уж эти рассуждения. Это его безусловный конек. Их запасы — главное (и, к сожалению, неисчерпаемое) достояние Героя, остающееся с ним даже после того, как все прочее давно растрачено. Он буквально возносится на них в горние выси, как воздушный шар на нагретом воздухе. Эти проповеди, безусловно, благородны, но подлинных чувств и глубоких мыслей в них не больше, чем можно обнаружить на благотворительных чаепитиях для бедных, куда пускают по шестипенсовым билетикам. Все это мы слышали давно и не раз. Настолько давно, что стоит Герою затянуть очередную проповедь, нам вспоминается унылая обстановка школьного класса: скрипят стальные перья, бубнит учитель, с передней парты доносится шепот «Билли, дай леденец — друг ты мне или нет?», а с задней возглас «Сэр, пожалуйста, скажите Джимми Баглзу, чтобы он не толкал меня под локоть!»…
Зато для Героя эти банальности — драгоценности философской мысли, специально ради нас добытые в глубоких копях Мудрости и Познания.
Галерка им всегда бурно рукоплещет. Там сидят добросердечные люди, неизменно оказывающие радушный прием своим старыми друзьям — даже если это всего лишь цитаты, известные всем со школьной скамьи.
Кроме того, ведь эти мысли очень благопристойны, разве не так? Добры, исполнены нравственности и любви к традиционным ценностям… А наша английская галерка столь высокоморальна и так любит положительные примеры! Право слово, нигде в мире не найти людей, столь склонных поддерживать добро (даже если оно отличается тяжеловесно-занудной нравоучительностью) и осуждать злые мысли, злые речи и деяния…
Кто усомнится, что простая и чистая духом английская публика, собирающаяся на галерки театра Адельфи,[91] в вопросах нравственности даст сто очков вперед всем христианским мученикам!
Да, между прочим: Герой не только мудр и высокоморален, но и изумительно могуч. Что, при взгляде на него такого впечатления не создается? Ну… вообще-то да, но стоит Главной Героине взвизгнуть: «Помогите! Ах, Джордж, спаси меня!» — или стоит полиции только попробовать взять его под арест… Вот тогда боевая мощь Героя становится очевидна всем: двое злодеев (второстепенных), трое громил-хулиганов (специально нанятых) и четверо полицейских (в штатском) разлетаются от его ударов, как кегли.
Иногда, конечно, и Герою случается нокаутировать менее чем троих одним ударом. Но в таких случаях он подозревает, что тяжело заболел, и привселюдно сокрушается: «Да что это со мной такое сегодня?»
Для Героя характерна совершенно особая манера признаваться в любви. Он никогда не делает этого лицом к лицу с Героиней: только со спины. Дело в том, что Героиня (чрезвычайно юная и робкая, не забыли?) в таких случаях всегда смущенно отворачивается — и тогда он простирает к ней руки и изрекает пылкое признание, направляя его девушке куда-то между лопаток.
Еще одна особенность, по которой можно сразу опознать Героя, — лакированные ботинки: сшитые по последней моде, дорогие и тщательно начищенные. Он может быть богат и обитать в семикомнатной квартире, а может ютиться на чердаке и глодать черствую корку, но с ботинками не расстанется.
Даже по самым скромным подсчетам под залог такой обуви можно получить не менее трех с половиной шиллингов.[92] Так что, когда ребенок Героя плачет и просит кушать, его отцу, пожалуй, следовало бы не взывать к небесам, а отнести эти ботинки в ломбард. Но, возможно, он просто не догадывается.
Нам не положено задумываться, почему эти ботинки сохраняют зеркальный блеск даже после того, как Герой пересек в них африканскую пустыню или, единственный уцелевший после кораблекрушения, доплыл до необитаемого острова. Он возвращается из изгнания и вновь отбывает в изгнание, его одежда поношена и изорвана, но ботинки по-прежнему сияют. Их сияние не меркнет и тогда, когда Герой продирается через австралийский буш или, по пути на Северный полюс, оказывается вовлечен в сражение с махдистами в Египте.
Он моет золото на прииске, работает портовым грузчиком или палубным матросом, воюет — но лакированные ботинки всегда на нем.
Это мы говорим о ситуации «в горе». Но «в радости» Герой тоже не расстается с лакированными ботинками. На состязаниях по академической гребле и игре в крикет, на рыбалке и на охоте — лакированные ботинки всегда при нем. Вернее, на нем. Если он получит приглашение посетить небесные чертоги, то и туда отправится в лакированных ботинках. А буде там такого не носят — с сожалением, но решительно отклонит приглашение.
Когда Герою приходится выражать свою мысль, он и это не может сделать сколько-нибудь обыденным способом. «Вы ведь будете писать мне, о мой дорогой, если судьба разлучит нас?» — вопрошает Героиня. Простой смертный ответил бы: «Ну конечно, любимая, каждый день». Однако Герой в высшей степени не случайно пишется с заглавной буквы. Он говорит:
— О сладость моего сердца, видите ли вы там, на небе, эту бледную звезду?
Героиня воздымает очи горе и через некоторое время оказывается вынуждена признать: да, то, что она видит, действительно является звездой, причем отменно бледной. После чего Герой закатывает краткую, не более пяти минут, лекцию об этой звезде — из которой следует, что прекратит писать он лишь в том случае, ежели сие хладное неяркое светило низвергнется с небесной тверди.
Короче говоря, знакомство со множеством Героев заставляет нас искренне томиться по приходу другого героя, не столь традиционного образца. Может быть, он, просто для разнообразия, окажется не так утомительно словоохотлив, будет уделять меньше внимания саморекламе — но зато сумеет просуществовать без посторонней помощи хотя бы сутки, не угодив при этом в беду.
АВАНТЮРИСТКА
Когда мы видим ее впервые — она сидит на столе и курит сигарету. Все. Для сцены этого достаточно. Сигарета на сцене — знак позора.
В реальной жизни вообще-то курильщиков не назовешь носителями порока. Наоборот: по нашим наблюдениям, это обычно весьма цивилизованные и даже добродушные люди.
Чувствуется тут все-таки влияние ИМКА,[93] согласно догматам которой первая сигарета есть первый шаг в пучину грехопадения, куда наш порочный мир стремится завлечь невинную, неопытную и слабую духом молодежь. Как бы там ни было, тот, кто курит на сцене, тем самым открыто декларирует свою принадлежность к лагерю негодяев, если он мужского пола; если же речь идет об Авантюристке, то приговор мягче, но все равно суров: дискредитация женственности, совершенная с особым цинизмом.
Авантюристка, как правило, иностранного происхождения. Хорошо известно, что в Англии не делают «отрицательных» женщин: секрет их изготовления полностью утерян, все имеющиеся ныне в наличии образцы — континентального производства и импортируются ограниченными партиями или поштучно. Когда она говорит по-английски, в ее голосе слышен небольшой (и совершенно очаровательный) французский акцент; впрочем, это компенсируется тем, что, когда Авантюристке приходится говорить по-французски, в речи слышатся очень даже явные раскаты провинциального английского.
Вообще она женщина явно умная и все дела, за которые берется, знает очень хорошо. Пожалуй, ей бы отлично удалось преуспеть в жизни, если бы не ее прошлые друзья и прошлые связи. В общем-то, у каждого из нас есть и те и другие, это нормально; но для Авантюристки ее прошлое является роковым обстоятельством. Друзья и связи преследуют ее ежедневно и ежечасно, не давая ни малейшей передышки. Куда она ни подастся — они неотступно тянутся за ней, как чума или пожар.
Когда Авантюристка как раз завершает процесс «окольцовывания» перспективного молодого человека, друзья и связи материализуются особенно бурно. Максимум, что она может сделать в таких случаях, — это убедить их удалиться в соседнюю комнату, хотя бы ненадолго, буквально на пять минут, чтобы дать ей шанс. Если же авантюристке все-таки удается выйти замуж, они приезжают к ней и живут в ее доме.
Дело в том, что все эти друзья (связи прилагаются) знают ее страшную тайну. За это Авантюристка обеспечивает им безбедное существование много лет подряд. Вообще, можно сделать вывод, что знание страшной тайны — совершенно замечательная профессия: доход высокий, а затраты труда минимальны. На сцене, разумеется.
Главное хобби Авантюристки — выходить замуж. В нем она достигает подлинного профессионализма: у нее несколько мужей одновременно. Они, разумеется, разбросаны по всему миру, а большей частью вообще сидят в тюрьмах, но потом ухитряются сбежать — и, толпой появившись на сцене в последнем акте, полностью разрушают все планы несчастной женщины. На редкость бестолковые мужья, поскольку их собственные планы из-за этого тоже рушатся. Впрочем, у них, вероятно, тоже у каждого по нескольку жен, так что, не преуспев здесь, попробуют в другом месте.
Вообще же бестолковость этих «ранних мужей» — лишь один из их недостатков; хватает и прочих. Что только Авантюристка нашла в этих мужчинах, чего ради шла со всеми ими под венец? Поистине загадка.
А вот за что ее можно похвалить, так это за умение одеваться. Носит она всегда дорогое и модное, причем делает это с большим вкусом. Откуда у нее средства — непонятно: все мужчины, с которыми она сейчас или в сколько-нибудь обозримом прошлом связана, сидят на мели. Очевидно, обслуживающие Авантюристку портные, попав под ее обаяние, согласны ждать денег неограниченно долго.
Если же говорить о живучести, то в этом смысле Авантюристка сродни кошке. Всем (кроме разве что коренных лондонцев, не верящих вообще ни во что) известно, что у кошки девять жизней; вот и у Авантюристки не меньше. Большинство из нас умирает лишь один раз, причем, как правило, это удается с первой же попытки; но Авантюристка пробует раз, пробует другой, а потом входит во вкус. После второй-третьей попытки умереть это превращается у нее в стойкую привычку, без которой она буквально жить не может.
Окружающим (всем этим друзьям и мужам) такая привычка создает массу неудобств. В их жизни и так слишком мало определенности, а тут еще это… Главное же — нет никакой возможности отучить Авантюристку от умирания. Ее мужья, узнав, что она наконец скончалась, приходят в восторг и спешат поскорее жениться снова — но в разгар их медового месяца Авантюристка снова оказывается в центре всеобщего внимания, вполне живая, активная и пышущая здоровьем. Это, согласитесь, действительно раздражает.
Будь мы мужьями (или хотя бы одним из мужей) Авантюристки, мы бы не доверились с такой легкостью слухам о ее смерти. Особенно в третий раз. Мы бы вообще поверили в смерть этой особы, лишь доведись нам собственноручно ее убить и похоронить. Но даже в этом случае простое благоразумие обязывает установить на ее могиле круглосуточное дежурство (возможно, в смену с другими мужьями) и продержать его хотя бы неделю. Просто на всякий случай. Женщины — они, знаете ли, так непостоянны…
Впрочем, будем справедливы: такая вот неубиваемость — достояние отнюдь не только одной Авантюристки. На сцене этим отличаются и некоторые другие персонажи. Даже джентльмены, хотя от них мы, кажется, вправе ожидать большего постоянства. Какое разочарование для любого порядочного убийцы!
Право слово, если как следует задуматься, есть что-то патологическое в том, что человек, добросовестно лишенный жизни в прошлом акте, после антракта снова появляется на сцене, глуповато улыбаясь, но не чувствуя себя ни на пенни менее мертвым, чем до своего убийства. А между тем убивали его умело и со вкусом: пыряли ножом, стреляли, сбрасывали в пропасть глубиной несколько тысяч футов… Господи благослови — все это пошло ему только на пользу, сработало в духе тонизирующего средства!
Одна из категорий героев сцены по своей неуязвимости даже превосходит Авантюристку. Эта категория называется «молодой-человек-спешащий-к-своей-возлюбленной». Ахиллес, которого можно было поразить, по крайней мере, в пяту, — просто полевая былинка на его фоне, хрупкая роза-мимоза. Современная наука, конечно, пытается найти причины повышенной живучести таких молодых людей, но пока что даже самые умудренные профессоры вынуждены беспомощно развести руками. Вы можете предпринять во имя погибели такого юноши любые шаги — устроить землетрясение или кораблекрушение, организовать по знакомству пару извержений вулканов, расстараться с пожаром и потопом… о простых вульгарных взрывах, железнодорожных авариях и тому подобной обыденности уж и не говорим… Думаете, у вас есть надежда преуспеть? Нам очень жаль, если вы так думаете. Искренне советуем вам: займитесь чем-нибудь поумнее. Заодно и время (деньги тоже) сэкономите.
То есть, разумеется, в каждом таком случае погибнут тысячи людей. Но по меньшей мере один непременно спасется. И это, с удручающим постоянством, будет именно он: молодой-человек-спешащий-к-своей-возлюбленной.
Конечно же, он будет значиться среди погибших. Но не обольщайтесь: на самом деле это окажется не он. Какой-то другой молодой человек, обладающий некоторым внешним сходством (точное сходство после столь масштабных катастроф значения не имеет); или кто-то, по ошибке надевший шляпу нашего юного героя; или… или… Короче говоря, обязательно найдутся желающие.
«Если бы я в то роковое утро находился, как положено, на своем посту, — объясняет потом юноша своей рыдающей матери, — то, вне всяких сомнении, меня бы разорвало в кровавые клочья. Но Провидение, которое хранит невинных, распорядилось так, что предыдущим вечером я напился в стельку, потому в момент взрыва лежал пластом, тяжко страдая от похмелья, — а мое место занял молодой инженер, похожий на меня, того же роста и в примерно такой же, как у меня, одежде. Вообще-то это была не его смена, но пришлось ему вне очереди встать на работу, раз уж я этого сделать не смог… Вот он-то и оказался разорван в кровавые клочья вместе со всей бригадой рабочих!» — «Какое счастье! — восклицает благочестивая старушка. — О, хвала небесам, что все случилось именно так!» Сам молодой человек при этом тоже настолько преисполнен благочестивого восторга, что ему приходится даже несколько сбавить пыл, прежде чем предстать перед своей возлюбленной: иначе ей, чего доброго, может показаться обидным такой его приступ ликования, направленный не на нее, а на самого себя.
Попытки прикончить достойного юношу продолжаются, они многочисленны и очень серьезны, но неизменно безуспешны. Этим занимаются, вместе и порознь, все отрицательные персонажи, от третьестепенных помощников Главного Злодея до Главного Злодея лично — однако результат вам уже известен. Даже обидно видеть, сколько энергии и изобретательности потрачены зря в бесплодном стремлении уничтожить довольно-таки ординарное существо. При правильном использовании этих усилий хватило бы на десять миллионов убийств.
Молодому-человеку-спешащему-к-своей-возлюбленной совершенно не обязательно страховать свою жизнь или хотя бы покупать «Тит-Битс».[94] С его стороны это в любом случае будет пустая трата средств.
Все вышесказанное особенно впечатляет на фоне совсем противоположной крайности: назовем ее «фатальная смертность». Сцена знает великое множество персонажей, внутреннее устройство которых столь деликатно, что их, как ни старайся, невозможно сохранить живыми.
Самый яркий пример — типаж под названием «нелюбимый муж». Медицинская наука абсолютно бессильна его спасти — во всяком случае, ближе к финалу последнего акта, хотя бывает и раньше. Более того: мы глубоко сомневаемся, что современная медицинская наука, при всем ее хваленом уровне, вообще может определить, что такое с ним случилось, не говоря уж о том, чтобы вовремя диагностировать болезнь. Только что он выглядел здоровым и физически был очень даже крепок, ни в какие катастрофы не попадает, никто на него не покушается, как вдруг — бац! — он без малейшего предупреждения падает на пол и миг спустя лежит посреди сцены, явно и безнадежно мертвый. Да, нелюбимый муж обожает умирать вот так, на полу, в центральной части сцены, чтобы лучше было видно со всех сторон. Иные чудаки предпочитают смерть в своей постели, но привычки нелюбимого мужа тверды: ему подавай пол. Что ж, это его право. У каждого свой вкус.
Да, между прочим, Авантюристка, при всей своей неубиваемости, в финале тоже умирает с завидной легкостью. Парадокс? Пожалуй, нет: ведь она так долго практиковалась в этом — стоит ли удивляться, что, достигнув, наконец, совершенства, немедленно спешит применить свои умения на практике. Никакой долгой болезни, о которой седовласый доктор театральным шепотом сообщает безутешным родственникам (это зарезервировано для положительных персонажей, о чем сейчас скажем). Всего лишь короткая прогулка вокруг сцены — и готово.
Тут налицо одна из особенностей сцены: все отрицательные персонажи умирают быстро. Их положительным коллегам для этого отведено гораздо больше времени. Они возлежат на диване посреди гостиной, вокруг них рыдают те самые безутешные родственники и с умным видом занимаются чем-то бесполезным добрые старые врачи. Положительный персонаж успевает не только улыбнуться на прощание родным близким и зрителям благостной слабой улыбкой, но вдобавок еще и всех простить. Поскольку «всех» довольно много, это так-таки занимает немало времени. А вот отрицательный персонаж справляется с такой работой буквально за десять секунд и, едва произнеся пресловутые «слова раскаяния», тут же умирает: не в своей постели, а, как принято говорить, в своих сапогах (в случае с Авантюристкой — в изящных туфельках). Что, полагаем, довольно неудобно — но лишь для него самого, а не для окружающих.
Ох уж эти «слова раскаяния»! Для отрицательных персонажей они — главная причина смертности. Страшнее войны и чумы. С одной стороны, конечно, не согрешишь — не покаешься, но с другой, не покаешься — не умрешь. Наш совет всем, кто злодей или где-то рядом: «Если вам дорога жизнь, никогда ни о чем не сожалейте! И уж в любом случае — не кайтесь! А раз уж все-таки покаялись — то пеняйте на себя…».
Вернемся к нашей Авантюристке. Да, она, разумеется, из числа отрицательных персонажей, но можно ли сказать об этой женщине, что она по-настоящему плохой человек? На наш взгляд — ни в коем случае. В ее душе сокрыто не просто доброе зерно, но прямо-таки обильный урожай таких зерен. Это следует хотя бы из того, что прежде, чем умереть, Авантюристка успевает проникнуться искренней любовью к Главному Герою: воистину нелегкий труд, даже своего рода подвиг. Только крайне добродетельная женщина, наделенная ангельским терпением и голубиной кротостью, способна испытать к этому несносному зануде иные чувства, кроме желания швыряться в него кирпичами.
Даже по своим поступкам Авантюристка могла бы считаться вполне добродетельной особой, если бы не Главная Героиня. Во всяком случае, первая уже намеревается проявить высшее благородство и самоотверженность и готова уехать прочь навсегда, чтобы больше никогда не встречаться с Героем (причем в ее искренности сомнений не возникает!), когда вдруг появляется вторая, обладающая поистине гениальной способностью оказываться не в том месте не в то время, и все портит. Это не единственный случай: что бы Авантюристка ни намеревалась сделать, стоит появиться Героине, как все оборачивается наихудшим образом. Разумеется, в конце концов бедняжка заявляет, что один только вид Героини будит в ее, Авантюристки, груди самые дурные чувства.
Мы можем только посочувствовать бедняжке — и признать ее правоту. Лично у нас при взгляде на Героиню возникают в точности такие же ощущения.
Еще несколько доводов в пользу Авантюристки. Возможно, она иногда несколько перебарщивает с иронией и сарказмом (для потенциальной хранительницы домашнего очага это действительно не самые желательные качества), а после того, как она развесит в доме Героя все свои наряды, передвигаться там можно будет только боком; но в целом ее можно назвать очень привлекательной женщиной. Авантюристка красива, умна и наделена живой душой. У нее есть твердость характера и способность настоять на своем. А когда она попадает в опасность, то прежде всего пытается обойтись своими силами, а не взывает к Герою: «Ах, Джордж, спаси меня!»
Ребенка — речь идет о незабываемом типаже Сценический Ребенок — у нее нет. То есть в некоторых пьесах он появляется, но не с ней. В свое время Авантюристка оставила его возле порога чьего-то богатого дома, резонно рассудив, что это проще, чем бросить младенца в реку, да ведь и реки-то поблизости нет. Всякий, кто знает, насколько кошмарным существом может быть Сценический Ребенок, с суровым выражением скажет, что уж для такого-то случая следовало не полениться и все же дойти до речки. Так что это довод скорее не «за», а «против» Авантюристки. Хотя… может быть, и «за»: ей, получается, далеко до идеала, а ведь жизнь с идеальной женщиной совершенно невыносима, не так ли?
Зато у нее никогда не опускаются руки, и уж тем паче она никогда не изъявляет желания «предоставить все естественному течению вещей» (а вот для Героини это более чем характерно).
Когда кто-либо признается Авантюристке в любви, она не ведет себя так, будто это признание оскорбительно или непристойно, и не заявляет, что сделавший его человек сошел с ума (для положительных героинь, даже если не говорить о Главной Героине, это опять-таки крайне характерно). А уж по части обмороков, слез, воплей, рыданий и стенаний она точно не может угнаться даже за самой второстепенной из положительных героинь.
Они в этом деле подлинные мастерицы. Авантюристка, к счастью, нет. Зато она может поставить на место любого из комических персонажей — а это своего рода подвиг: на сцене больше никто не в силах обуздать Комика.
Иногда нам кажется, что Главному Герою очень повезло бы, сумей Авантюристка женить его на себе. Ни один автор пьесы, конечно, не допустит такого вопиющего нарушения канонов — а жаль. Потому что лишь такая женщина сможет — не наверняка и уж точно не сразу, но все-таки шанс остается! — сделать из Героя человека.
ГЛАВНЫЙ ЗЛОДЕЙ
Он тоже курит сигарету — и, хотя не сидит при этом на столе, но зато носит чистый воротничок. В жизни такое сочетание не обязательно указывает на преступную сущность вашего собеседника и, определяя злодеев по этим критериям, вы рискуете совершить ошибку. Но на сцене, как мы уже знаем, ошибка исключена.
Вообще говоря, большая удача, что это правило не действует за пределами сцены, потому что иначе ошибки случались бы постоянно. Вот мы, скажем, тоже носим чистые воротнички — если и не каждый день, то по воскресеньям довольно часто. Страшно даже представить, что в таких случаях могли бы подумать о нас родные и близкие.
Главный Злодей не умеет вовремя и метко ответить на оскорбительную реплику, да и в поступках он тоже решительностью не отличается. С первого по последний акт положительные персонажи тонко вышучивают его или грубо хамят, бьют его по физиономии, пускают в ход трости, вытирают о Злодея ноги в переносном, а иногда даже прямом смысле — но никак не могут получить от него сдачи (опять же в прямом или переносном смысле), хотя порой буквально напрашиваются.
— Ха-ха, вот прямо сейчас, дождусь только седьмой пятницы на неделе! — это наивысший перл его остроумия; и даже его он произносит после долгих раздумий, предварительно удалившись к дальней кулисе.
Тем не менее Злодею практически все удается без особых усилий — в каждом акте до предпоследней минуты. На последней минуте против Злодея выпускают комического персонажа, и тот наносит ему сокрушительное фиаско. Так бывает всегда, и тем более странно, что Злодей каждый раз оказывается неприятно изумлен. Похоже, он не из тех людей, которые способны хоть чему-нибудь научиться на собственных ошибках.
Не так еще давно Злодея было принято изображать оптимистом, этаким неудачливым, но твердо надеющимся на успех философом. «И это пройдет», — стоически произносил он, получив от судьбы (в лице положительных персонажей) очередную порцию разочарований и неудач. Твердость духа помогала вынести ему и не такое. Его вера в грядущую удачу выглядела, правда, несколько по-детски наивной — но все равно подкупала. «Всему свое время», — заявлял он после очередного фиаско, продолжая хранить в глубине души уверенность, что его время тоже когда-нибудь да наступит.
Однако в последнее время Злодей, по-видимому, разочаровался в философских ценностях, отрекся от оптимизма и сменил жизненное кредо. Слов нет, как жаль. Его прежняя позиция очень даже заслуживала уважения.
А вот что касается любви Злодея к Главной Героине — то это чувство хотя и возвышенное, но оно вызывает скорее недоумение. Героиня занудна, ипохондрична, только и делает, что утопает в потоках слез, к тому же для Злодея она представляла бы, говоря юридическим языком, «приобретение с отягощением» (так как к ней обычно прилагаются минимум двое крайне избалованных, дурно воспитанных и вообще чрезвычайно нежелательных детей — подробней см. главу ужасов «Сценический ребенок»). Лично мы никак не можем понять, что он в ней нашел. Однако Злодей ее боготворит.
Самое странное — это до какой степени он упорен в своих чувствах. Героиня даже не думает скрывать свою ненависть к Злодею, причем иногда даже выказывает ее методами, малоподобающими для благовоспитанной леди. Свои признания в любви он никогда не успевает произнести даже до середины: то неожиданно является герой и посылает его в нокаут, то комический персонаж, подслушивающий за дверью, выбегает в сад и оповещает обо всем гостей либо местных жителей — которые немедленно начинают заглядывать в окна и жестоко насмехаться над Злодеем. Как известно, по канону Злодей испытывает к Комику неукратимую ненависть, и чем ближе к финалу, тем сильней; но при учете всего вышесказанного эти чувства трудно назвать неоправданными…
Несмотря на все это, он по-прежнему верен Героине и клянется перед всяким и каждым, что настанет день, когда она будет принадлежать ему. При этом Злодей сам по себе довольно качественный образец товара, и, насколько мы можем судить о состоянии дел на рынке сердечных услуг, девицы должны вешаться ему на шею пачками. Но почему-то он готов раз за разом совершать чрезвычайно утомительные во всех смыслах преступления, терпеть обиды и получать по физиономии — лишь бы заполучить в жены столь мрачный и унылый приз, как Главная Героиня. Он явно полностью попал под власть своей великой любви. Он грабит и убивает, решается на подлог и поджог, нагло врет и мелко жульничает — все во имя нее; ради этой священной цели он бы и перед другими преступлениями не остановился, но, кажется, просто не настолько хорошо знает уголовный кодекс: тут у него серьезный пробел в образовании. Однако все это без толку: Героиня его не любит. И что же, спрашивается, ему делать дальше?
На самом деле этот вопрос касается их обоих. Они как бы взяли друг друга в заложники. Даже самому неискушенному зрителю ясно, что жизнь этой дамы была бы гораздо счастливее, если бы не великая любовь Злодея, — но, с другой стороны, без этого чувства его собственная карьера тоже складывалась бы куда более ровно, успешно и не обязательно с переходом на преступный путь.
Дело, оказывается, в том, что Злодей влюблен в Героиню всю свою сознательную жизнь, с самых нежных лет. «О, я увидел вас, еще когда мы были детьми — и был очарован вами мгновенно, с той самой поры и по сей день!» В результате он готов надрываться, как негр на плантации, чтобы сделать ее богатой и счастливой. Вообще-то с такими задатками ему прямая дорога в положительные персонажи.
В утешение Главная Героиня сообщает Злодею, что она тоже определилась в своих чувствах к нему мгновенно, при первой же встрече, и с той самой поры по сей день испытывает смесь ужаса с омерзением, затрудняясь определить, какое чувство преобладает. Как-то раз, проходя мимо отвратительного болота, она увидела отвратительную жабу — и прижать эту отвратительную рептилию (так говорит Героиня, мы-то рептилий с амфибиями не путаем), покрытую отвратительной слизью, к своей отврати… извините, к своей груди — так вот, даже это ей было бы проделать куда легче, чем хоть на мгновенье представить себя в объятиях Злодея.
Однако для Злодея эти ее слова — все равно, что запах спиртного для алкоголика. Он заявляет, что Героиня в любом случае будет принадлежать ему.
При всем этом Злодей не стесняется вступать в любовные интрижки менее высокого уровня. Едва лишь успев разыграть эту душещипательную сцену с предметом своей Вечной Любви, то есть Героиней, он немедленно спешит приударить за ее горничной или компаньонкой.
Но тут ему тоже не везет. Эти бойкие девицы без долгих слов (особенно — настолько долгих, как позволяет себе Героиня), разве что воскликнув разок: «Ах ты мерзавец!» — тут же лупят его по голове чем-то не смертельным, но звонким.
В последнее время было сочтено, что судьба Злодея, за всю жизнь ни разу не согретого теплом женской любви, может вызвать сочувствие. Поэтому канон был дополнен: со Злодеем сбегает влюбленная в него дочь сельского священника. Однако сам факт этого побега отнесен на десять лет до начала действия пьесы, так что любовь дочери священника, даже если она имела место, давно сменилась лютой ненавистью. Так что затруднительно утверждать, что в современных пьесах Злодей намного выиграл.
Строго говоря, при данных обстоятельствах эту женщину трудно упрекать в непостоянстве. Наоборот, ее поведение естественно. Судите сами: Злодей умыкнул ее, совсем юную, из мирного уюта патриархальной сельской глубинки — и притащил за собой в этот нечестивый Вавилон, сиречь многоязычный и многолюдный Лондон. Причем так и не женился на ней. Трудно сказать почему: должное обоснование на сцене не приводится. Несомненно, десять лет назад она была подлинной красавицей (она и сейчас хоть куда: внешность, ум и темперамент по-прежнему с ней). Если уж Злодей так расположен к семейным радостям — то ему, как любому нормальному человеку, был смысл провести жизнь именно с ней, и жизнь эта явно оказалась бы куда более приятной, чем с Героиней.
Но сценический Злодей — существо упрямое и глухое к доводам ума и сердца…
Его бывшая возлюбленная предоставляла ему шанс — но он воспользовался им наихудшим образом. И ей самой тоже. Даже когда Злодею явно выгодно сохранить с ней пусть минимально дружеские отношения, он этого не делает: кажется, все из того же упрямства, себе и другим назло. Достаточно сказать, что, просто общаясь с этой дамой, Злодей не утруждается элементарной вежливостью: грубо хватает ее за руку и, насильно притянув к себе, зловещим шепотом произносит текст прямо в ухо. А это не только возмутительно, но еще и, надо думать, щекотно.
Хотя — денег на наряды он для нее не жалеет. Что да, то да. Одета она гораздо более модно и со вкусом, чем Героиня.
Слов нет, в жизни встречаются злодеи, но сценический Злодей — существо куда более возвышенное духовно. Те совершают поступки из грязных, корыстных, но поэтому простых и ясных побуждений; этот же сеет зло исключительно из любви к искусству, не ища выгоды для себя лично. Он буквально опьянен своим злодейством, видя в нем высший смысл бытия.
«Лучше быть бедным, но Злодеем, — шепчет он, — чем обладать всеми сокровищами Индии, но сделаться из-за этого праведником». А затем восклицает во весь голос:
— О, я буду, буду Злодеем! С большими неудобствами для себя, потратив массу времени и денег, но зато без малейшей корысти я зарежу доброго безобидного старикашку! А потом сумею сделать так, что в этом преступлении обвинят Героя! И, пока он будет ждать суда за решеткой, буду делать его супруге гнусные любовные предложения! Без толку, конечно, но мне не привыкать. Опять же с большим риском, немалыми затратами времени и денег — но к этому мне тем паче не привыкать… При каждом визите Героиня будет изощренно оскорблять меня, попробую заключить ее в объятия — примется яростно вырываться; ее до тошноты миловидный златовласый ребенок назовет меня «нехоошим и гадким», после чего может даже отказаться поцеловать меня, сколько я ни буду подставлять щеку… А потом проклятый Комик изберет меня в качестве мишени для своего чувства юмора, да и сельские жители, позабыв о работе, все до единого соберутся в общественном пабе, чтобы коллективно свистеть и улюлюкать мне вслед! Все, все будут знать, что я Злодей — и в финале меня схватят, иначе быть просто не может. Но плевать на это — я буду, буду, я все равно буду Злодеем, ха-ха-ха!!!
Вообще же как Злодей плохо умеет использовать свою бывшую возлюбленную, так и сцена неважно использует самого Злодея. Например, у него нет «родовых владений» или иной недвижимости, в результате чего ему поневоле приходится отбирать все это у Героя. Он тяготеет к семейным ценностям, но настоящей семьей так и не обзавелся, следовательно, вынужден покушаться на семьи положительных персонажей; но и тут Злодею хронически не везет, любовь его всегда оказывается безответна, а участь — печальна.
Итак, тщательно подытожив свои знания (сценические) о жизни и о человеческой природе, рискнем сформулировать советы начинающему Злодею:
— Если можете не быть Злодеем — не будьте. Работа тяжелая, риск огромный, а прибыли ничтожны. Игра не стоит свеч.
— Если вы соблазнили и умыкнули дочь провинциального священника, причем она все еще цепляется за вас (в прямом и переносном смысле) — не отцепляйте ее от себя прямо посреди сцены, а тем более не швыряйте ее прямо там на пол. Или, если уж довелось такое сделать, по крайней мере называйте ее при этом по имени, а не… совсем другими словами. Иначе даже она может сменить любовь к вам на противоположное чувство. Да еще пойдет и насплетничает о вашем скверном поведении той, другой, в которую вы сейчас влюблены.
— Относительно числа ваших сообщников: в этом вопросе «чуть-чуть поменьше» — великая вещь! В любом случае, если уж у вас есть сообщники, не издевайтесь над ними и не стремитесь смешивать их с грязью, по крайней мере, так часто. Ну что это за манеры: ведь стоит кому-то из сообщников проговориться — и это приведет вас на виселицу, а вы все равно делаете все возможное, чтобы довести их до белого каления. Лучше уж относитесь к ним вежливо, а в идеале и добычу делите по справедливости.
— Пуще погибели берегитесь комических персонажей! Совершая убийство или взламывая сейф, вы почему-то совершенно игнорируете возможность того, что где-нибудь совсем рядом прячется Комик. Большая ошибка! Наш вам совет: лучше всего убейте его сразу, первым, еще до всех прочих преступлений.
— Не влюбляйтесь в Главную Героиню. Она принадлежит Главному Герою — как вы можете рассчитывать, что после него она полюбит вас? Не говоря уж о том, что это нечестно: вы, конечно, Злодей, но ведь в детстве мама объясняла вам, что чужое брать нехорошо? Чем пытаться соблазнить чужих Героинь, лучше заведите свою собственную!
— И наконец последнее. Какого черта вы в финальном акте каждой пьесы являетесь на место своего преступления?! Нет, мы, конечно, понимаем: место действительно притягательное, да и экскурсия туда не требует дополнительных затрат… Но послушайтесь доброго совета: нет привычки пагубней. Ведь именно там вас и поймают. Как всегда. Вы что же думаете, полиция не смотрит пьесы? Еще как смотрит! Так что в финале полицейские, не утруждая себя сбором доказательств или розысками, просто идут на это самое место — будь то старинный зал или полуразвалившаяся мельница — и ожидают вас там.
Честное слово, если бы не эта дурацкая привычка, в девяти случаях из десяти вам удалось бы остаться безнаказанным. Так что лучше пусть вас тянет прочь от места преступления. Съездите вместо этого на морское побережье в один из курортных городков, мало ли их… А того лучше — отправляйтесь за границу и побудьте там хотя бы недолго, пока в вашей пьесе не дадут занавес. И будет вам счастье…
ДЕТЕКТИВ
О, вот и он. А главное — как вовремя! И как он умен! Допустим, в реальной жизни детективы не встречаются на каждом шагу — по крайней мере, именно тогда, когда в них возникает потребность. Допустим и то, что выдающимся умом они тоже отличаются далеко не всегда. Но это в жизни. А на сцене каждый, кто хоть немного поднимается над общим уровнем благоглупости, автоматически начинает выглядеть хитрее Макиавелли.
Из положительных персонажей это, правда, касается только Детектива.
Он — единственный, кто не проглатывает всю ту чушь, которую несет Злодей. Ну, по крайней мере он проглатывает ее не всегда и не полностью. И обычно не требует добавки.
Кроме того, он — единственный, кого нельзя обмануть, просто сменив пальто и шляпу.
На этом остановимся отдельно. Да будет известно тому, кому еще по случайности неизвестно: люди узнают своих друзей и близких не в лицо или по голосу, о нет! Они узнают их по пальто (как вариант — плащу, мантилье, но это уже максимум) и шляпе. Во всяком случае, на сцене.
К примеру, муж знает, что перед ним его жена, до тех пор, пока на ней синее ольстерское пальто и красная шляпка. Стоит ей сменить униформу — и она делается неузнаваема.
Войдя через другую дверь в желтой накидке и зеленой шляпке другого фасона, она уже может спокойно назваться девушкой из провинции и претендовать на место домработницы. Растерянный муж, конечно же, нуждается в домработнице, причем именно сейчас: ведь его дражайшая супруга куда-то исчезла, а кто-нибудь ведь должен заниматься детьми (иначе они не способны просидеть тихо более трех минут). Итак, он немедленно нанимает девушку из провинции. Правда, после этого иногда испытывает чувство легкой озадаченности: ах эта незнакомка, она чем-то так напоминает дорогую Нэлл, его избранницу… Интересно, чем же? Скорее всего, платьем и обувью, которые она не успела сменить, входя через другую дверь с противоположной стороны кулис.
К сожалению, лишь через несколько томительно долгих действий, сцен или актов дама наконец снова надевает синий ольстер и красную шляпку, входит через дверь не с противоположной, а с, так сказать, первоначальной стороны — и немедленно оказывается узнана. Разумеется, супруг вопрошает ее драматическим тоном, где же она была все эти тяжелые (для него) годы.
Даже злодеи второго плана, помощники Главного Злодея, которым по сюжету положено быть персонажами незначительными, но хитрыми и коварными (хорошо, что им хоть что-нибудь положено!), с удивительной легкостью попадаются на сходную удочку. Во всяком случае, когда ее забрасывает Детектив. Закутавшись в плащ и надвинув шляпу пониже на глаза, он является на их тайное собрание — и моментально сходит там за своего. Ах да, действительно, голос он тоже меняет (на дребезжащий козлетон). В благодарность за это отрицательные персонажи тут же выбалтывают ему все свои злодейские секреты.
Иногда, если отрицательные персонажи, при всех стараниях, все-таки не могут зазвать Детектива в свой круг — они устраивают чаепитие в саду, на открытом воздухе. И там говорят о своих секретах очень громко, чтобы слова были слышны даже за дальними кустами.
Очевидно, они считают, что поступать иначе означает проявлять несправедливость к Детективу, лишая его шанса раскрыть их заговор.
Детектива не следует путать с полицейским. Полицейский (по крайней мере, сценический полицейский) всегда на стороне Зла. А Детектив, наоборот, поддерживает Добродетель.
Вообще, скажем прямо: Детектив — некий земной агент на службе у небесного Провидения. Долгое время он просто стоит в сторонке, ничего не предпринимая, когда честные и достойные персонажи подвергаются жестоким гонениям. Наконец, придя к выводу (по правде говоря, сплошь и рядом — слегка запоздалому, если не слишком преждевременному), что чаша зрительского терпения переполнена, он выступает на первый план. Где и удерживается несколько минут, защелкивая наручники на запястьях отрицательных персонажей, предъявляя Главному Злодею обвинения, сулящие ему как минимум двенадцать лет каторги, а также возвращая положительным персонажам их жен, дома и родовые поместья.
Все счастливы.
Занавес.
Роберт Барр ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА ПЕГРАМА
(Приношу извинения доктору Конан Дойлу и нашему общему другу покойному Ш. Холмсу)
Мимоходом я помянул это дело — «Великую загадку Пергама», по слову журналистов, — в беседе с моим добрым другом Шерли Колмсом. Мне было интересно узнать его мнение.
Дело было так: друг мой играл на скрипке; на лице его лежала печать отрешенного покоя, какую я дотоле не видал ни разу. А ведь чем более спокойным кажется мой друг, тем большая ярость кипит в его груди.
На сей раз причиной ярости стали утренние газеты, привычно восславившие бдительность и компетентность работников Скотленд-Ярда. Надо заметить, что друг мой столь не выносил Скотленд-Ярд, что не мог смотреть ни на крупный, ни на мелкий рогатый скот, а ярды полагал устаревшей мерой длины, годной лишь для колоний.
Тем временем мистер Колмс отложил в сторону скрипку и поприветствовал меня с обычной теплотой в голосе: мы были с ним весьма дружны.
— Хотел бы я знать, Колмс, — я решительно бросился с места в карьер, — что вы думаете о загадке Пеграма?
— О чем, о чем? — переспросил он.
Как это было на него похоже! Весь Лондон обсуждал это дело, все газеты наперебой писали о нем — а Колмс и не подозревал. Он вообще сочетал в себе удивительную неосведомленность о делах повседневных и общеизвестных с глубокими знаниями в самых неожиданных областях. Сия черта его характера сделала общение с ним истинным благом, поскольку он не знал ни о Гладстоне, ни о Солсбери,[95] а следовательно, никогда не спорил со мной по поводу политики.
— Инспектор Грегори поставлен в тупик, — добавил я.
— Охотно верю. Он же сущее дитя, этот инспектор — его может поставить в тупик любая мелочь, хоть квадратура круга, хоть вечный двигатель, — ответил Колмс.
Он никогда не позволял себе ни малейшего проявления профессиональной зависти — черта, редкая в людях и вызывавшая мое искреннее восхищение.
Друг мой тем временем набил трубку, упал в кресло, заложил за голову руки, вытянул ноги, пристроив их на скамеечку у камина, и просто сказал:
— Рассказывайте!
— Старина Барри Кипсон был брокером в Сити. Жил он в Пеграме, и у него была привычка…
— Войдите! — внезапно крикнул Колмс.
Он не двинулся с места, но слегка напугал меня, тем более что я не слышал стука. Еще больше я удивился, когда мой друг засмеялся.
— Право, простите: так заслушался, что забыл первое правило сыщика, — извинился он почти сразу. — Сперва сказал и только потом подумал. Дело в том, что вот-вот придет человек, который поведает мне о преступлении все, что только можно, избавив вас от необходимости меня просвещать.
— Так у вас клиент? Простите, не смею мешать.
Я поднялся, но Колмс меня остановил:
— Нет-нет, никаких клиентов. Честно сказать, я осознал, что ко мне кто-то придет, лишь тогда, когда сказал об этом.
Я ошарашенно глянул на него. Хоть я и имел возможность видеть невероятные способности моего друга в деле, они раз за разом поражали меня.
Колмс затянулся, с удовольствием созерцая восхищенное изумление на моем лице.
— Мои слова не стоят вашего удивления, поверьте. Происходящее на улице отражается в зеркале над камином. И вот я вижу, как некий господин остановился, достал мою визитную карточку, повертел в пальцах, затем бросил взгляд в нашу сторону. Карточку я легко опознал — вы ведь знаете, я всегда заказываю ярко-алые. Если, как вы сказали, загадку обсуждает весь Лондон, — естественно, и этот господин не будет исключением. Вероятно, ему требуется моя консультация по этому вопросу. Все это совершенно очевидно, хотя, разумеется… Войдите!
На сей раз в дверь и впрямь постучали.
— Мне нужен Шерли Колмс, известный сыщик… — начал незнакомец, войдя.
Мой друг не обратил на вошедшего ни малейшего внимания. Тот подошел ближе.
— Он перед вами, — наконец не выдержал я, поскольку Колмс продолжал отрешенно попыхивать трубочкой. Мне даже показалось, что он задремал.
— В таком случае позвольте представиться… — Гость потянулся за визиткой.
— Не стоит. Вы журналист.
— Разве мы знакомы? — недоуменно уточнил тот.
— Отнюдь. Первый раз вас вижу, — ответил Колмс.
— Но тогда как…
— Легче легкого. Вы пишете в вечерний листок. Сегодня написали уничтожающую критику книги вашего друга. Он будет страдать, вы — утешать его. Он никогда не узнает, кто нанес ему этот удар… если, конечно, я не расскажу.
Журналист, покраснев, упал в кресло.
— Это чертовски…
— Чертовски некрасивый поступок? Согласен.
Кое-как взяв себя в руки, гость произнес:
— Надеюсь, вы не откажетесь рассказать, каким образом вы смогли узнать подобное о совершенно незнакомом вам человеке?
— Я не часто рассказываю о своем методе, — невозмутимо ответил Колмс. — Однако в данном случае, если я привью вам наблюдательность и привычку анализировать обстановку, это улучшит ваши профессиональные навыки — что, в свою очередь, пойдет на пользу мне самому, так как ваша газета перестанет наводить на меня смертную скуку. Поэтому я, пожалуй, все же расскажу. Большой и средний пальцы у вас синие от чернильных пятен — следовательно, вам приходится очень много писать. Это, в свою очередь, означает, что вы принадлежите к одному из двух пишущих классов: или вы мелкий клерк — или журналист. Однако клерк должен быть аккуратен; пятна у них на пальцах мелкие или частично смытые. Вывод очевиден. Продолжаю. В кармане у вас — вечерний листок. Купить его мог бы каждый, скажете вы. Бесспорно, но только не сегодняшний номер, который поступит в продажу не раньше чем через полчаса. Следовательно, вы взяли номер прямо в редакции — и, следовательно, вы в этой редакции работаете. В содержании карандашом отмечен отзыв на книгу — а ваша братия никогда не отмечает отзывы и статьи своих коллег. Значит, статья ваша, и вы, вероятнее всего, собираетесь послать ее автору книги. Газетенка ваша нещадно клеймит всех, кто пишет книги и при этом не сотрудник оной газетенки. Ну а что с автором вы дружны, я просто предположил. Наблюдательность и немного простейшей логики — не более того, как можете видеть.
— Вы… мистер Колмс, вы же гений! Вы ровня самому Грегори, богом клянусь!
Друг мой нахмурился, отложил трубку и выхватил свой шестизарядный револьвер.
— Да вы, сэр, вознамерились меня оскорбить!
— Ничуть, богом клянусь, ничуть! Вы… вы хоть завтра могли бы возглавить Скотленд-Ярд! Честное слово, сэр, я так и считаю!
— В таком случае, молитесь! — крикнул Колмс, прицеливаясь.
Я вскочил и встал между ними.
— Нет! Шерли, друг мой, не стреляйте — вы испортите ковер. Разве вы не видите, что этот несчастный не хотел вас обидеть? Более того, он полагал, что хвалит вас!
— Ну, может и так, — ответил Колмс и беспечно бросил револьвер рядом с трубкой.
Журналист облегченно вздохнул. Мой друг мило улыбнулся и с обычной для него вежливой предупредительностью вопросил:
— И чем же я могу быть вам полезен, мистер Уилбер Писакка?
Тот вновь изумленно распахнул глаза.
— Мое имя… откуда?
— Если не помните, как вас зовут, справьтесь на подкладке вашей шляпы, — отмахнулся Колмс.
И впрямь я заметил, что на подкладке цилиндра, который мистер Писакка держал в руках, было ясно видно его имя.
— Что ж, вы, конечно, слышали о загадке Пеграма… — начал он наконец.
— О нет! — воскликнул Колмс. — Только не это! Молю вас, не надо говорить о загадках. Их не существует, хотя в противном случае мир был бы намного терпимее. Не бывает ничего нового. Все, что случается, уже когда-то случилось. Итак, что там с пеграмским делом?
— Эта… хм, история поставила всех в тупик. Наш «Вечерний Клинок» желал бы нанять вас для расследования с правом публикации результата. Оплата самая щедрая. Вы согласитесь?
— Может быть. Расскажите суть дела.
— Мне казалось, она всем известна… что ж. Мистер Барри Кипсон проживал в Пеграме. У него был сезонный проездной первого класса, позволявший доехать от вокзала до его остановки. На поезд он неизменно садился в половине шестого. Несколько недель назад мистер Кипсон заболел гриппом. В первый же рабочий день после выздоровления он взял примерно триста фунтов наличными и покинул офис, чтобы, как обычно, сесть на поезд до Пеграма. Живым его больше не видели — по крайней мере, так полагает полиция. Нашли мистера Кипсона в Брюстере, в купе первого класса Шотландского Экспресса, который идет из Лондона в оный Брюстер без остановок. Мистер Кипсон был застрелен в голову, денег при нем не оказалось — что ясно указывало на убийство с целью ограбления.
— И где же здесь загадка, позвольте спросить?
— В деле хватает необъяснимого. Во-первых, как мистер Кипсон оказался в Шотландском Экспрессе, который отходит в шесть и идет без остановок? Во-вторых, контролеры не пустили бы его по сезонному проездному, а все билеты на Экспресс от двадцать первого были проверены, он не покупал ни один. В-третьих, каким образом убийца сумел скрыться? В-четвертых, пассажиры соседних с трупом купе не слышали ни шума, ни выстрелов…
— Вы уверены, что Экспресс от двадцать первого числа шел и впрямь совершенно без остановок?
— Спасибо, что напомнили! Поезд остановился у светофора, немного не доезжая до Пеграма. Там невдалеке стрелка. Но это буквально считаные секунды — почти сразу подали сигнал, что путь чист, и Экспресс снова тронулся.
Колмс помедлил некоторое время, молча куря трубку.
— Что ж, полагаю, вы хотели бы, чтобы разгадка оказалась в завтрашнем номере?
— Ради бога, нет, конечно! Редакцию вполне устроит, если в течение месяца у вас появится некая объясняющая эти загадки теория…
— Милейший сэр, я работаю не с теориями, но с фактами! Если вы сочтете удобным для себя позвонить мне завтра в восемь утра, подробные материалы по этому делу будут у вас достаточно быстро, чтоб сразу пойти в номер. Не вижу смысла рассиживаться за таким легким делом, как это происшествие. Доброго пути.
Мистер Писакка был столь изумлен, что даже не попрощался, а так и ушел, не в силах вымолвить ни слова. Я проводил его взглядом и заметил, что даже на улице он так и не надел свой цилиндр.
Шерли Колмс вновь откинулся в кресле, вытянул ноги, закинул руки за голову и принялся попыхивать трубочкой — сперва часто, потом все более редкими, но глубокими затяжками. Я не трогал его, понимая, что он ищет разгадку.
Наконец он заговорил — задумчиво и несколько рассеянно:
— Не хотелось бы показаться слишком поспешным, но, Чевотсон, как вы смотрите на то, чтоб нам вместе отправиться сегодня в поездку на Шотландском Экспрессе?
— Но боже мой, Колмс! Уже шестой час, мы не успеем!
— Отнюдь, Чевотсон, отнюдь. Полторы минуты на то, чтоб сменить халат и тапочки на пальто и ботинки, три секунды — надеть шляпу, двадцать пять секунд — спуститься по лестнице, сорок две — поймать попутку, семь минут до вокзала. Вы со мной?
Разумеется, я согласился. Истинное наслаждение — видеть работу мысли столь непревзойденного и невероятного человека, как мой друг.
На вокзале, стоило нам пройти под железный навес над перроном, Колмс глянул на часы и недовольно сказал:
— Мы прибыли на пятнадцать секунд раньше. Не выношу подобные ошибки в вычислениях!
Экспресс был уже совершенно готов к своему долгому пути. Мой друг постучал по плечу одного из проводников и спросил:
— Вы ведь, полагаю, слышали о пеграмской загадке?
— Разумеется, сэр. Все в этом поезде и случилось, сэр.
— В этом самом? Неужто и вагон тот самый?
— Ну, сэр, вот так вышло, что не отцепили его, сэр, — ответил проводник шепотом. — Но вы потише об этом, сэр, не то никто не захочет ехать.
— Разумеется, никому не слова. А не знаете, не занял ли кто то самое купе, где лежал труп?
— Леди и джентльмен, сэр, заняли. Я их и проводил, сэр.
— Вот как! А может быть, вас не затруднит оказать мне небольшую услугу, — Колмс незаметно передал проводнику полусоверен,[96] — и некоторым образом, например через окно, сообщить пассажирам, что именно в их купе произошла знаменитая трагедия?
— Охотно, сэр!
Мы прошли за ним. Стоило проводнику договорить, как раздался вскрик ужаса и на перрон вылетела некая леди, а за ней и багровый от ярости джентльмен, ругавшийся на чем свет стоит. Мы заняли их места, и Колмс сказал:
— Нам хотелось бы, чтоб нас не тревожили до самого Брюстера.
— Я присмотрю за этим, сэр! — Проводник вышел и закрыл двери купе.
Когда он отошел достаточно далеко, я поинтересовался, что же такого мой друг надеется найти здесь, что могло бы пролить свет на столь запутанное дело.
— Ничего, — ответил тот.
— Но тогда зачем мы здесь?
— Чтобы найти подтверждение некоторым моим догадкам.
— Каким же?
Тот ответил — несколько усталым голосом:
— Например, заметьте: Экспресс стоит так, что в любое купе можно зайти как с нашего, так и с противоположного перрона. Человек, который годами ездит с этого вокзала, несомненно, не мог об этом не знать. Таким образом мистер Кипсон проник в поезд за несколько мгновений до отправления.
— Но двери с той стороны заперты!
— К сезонному проездному прилагается ключ, не так ли? Поэтому его не видела охрана. Это объясняет и отсутствие билета. Теперь что касается гриппа. В начале болезни температура тела поднимается на несколько градусов выше нормы, что вызывает лихорадку. Однако затем она, напротив, падает примерно на три четверти градуса ниже нормы. Полагаю вам, как врачу, это известно.
Мне оставалось только согласиться.
— Так вот, падение температуры, как правило, вызывает в человеке неодолимое стремление к самоубийству. На этой стадии гриппа за больным необходим постоянный присмотр. Мистеру Барри Кипсону присмотра не обеспечили. Вы ведь помните двадцать первое? Нет? Потрясающе унылый был день. Грязь и туман, туман и грязь… Отлично. Решение было принято. Он желал остаться, насколько возможно, незамеченным, но забыл свой проездной. Опыт подсказывает мне, что самоубийцы вечно чего-нибудь да забывают.
— А деньги? Как вы объясните то, что они пропали?
— А деньги вообще не имеют значения. Если покойный был неглуп и знал, до каких пределов доходит идиотизм Скотленд-Ярда, он послал их врагу. Если нет — отдал другу. Да, ничто так не склоняет к суициду, как перспектива ночной поездки на Шотландском Экспрессе. А вид из окна на пробегающие мимо северные районы Лондона и вовсе заставляет желать гибели всему миру…
— А что же сталось с орудием убийства?
Шерли Колмс опустил окно и некоторое время изучал верх рамы с лупой в руках. Наконец он удовлетворенно кивнул и снова закрыл окно.
— Как я и полагал, — сказал он, обращаясь не столько ко мне, сколько к самому себе. — Выбоина на раме могла быть оставлена только курком пистолета, выпавшего из бессильной руки самоубийцы. Он, конечно, хотел отбросить пистолет как можно дальше, но сил у него не было — он едва сумел его вообще выкинуть за окно. Пистолет срикошетировал от дальнего рельса и сейчас лежит где-то в траве, примерно в трех метрах от железнодорожного полотна. Остается вопрос, когда именно было совершено самоубийство и где (по счету в милях от Лондона) находится пистолет, но это, к счастью, дело пустячное и не требующее долгих размышлений.
— Шерли, ради всего святого! И это вы называете пустяком? Это же невыполнимая задача!
Мы проезжали северный Лондон. Колмс сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза с видом человека, пораженного смертной скукой.
— Это действительно элементарно, Чевотсон, но я всегда готов оказать услугу другу. Вы же в ответ потрудитесь выучить наконец азбуку детективного дела — и поверьте, я охотно помогу вам прочесть длинные слова. Итак, решив себя убить, Кипсон явно собирался сделать это до прибытия в Брюстер, поскольку там проверяют билеты. И вот поезд начинает тормозить — мы с вами знаем, что на самом деле это стрелка близ Пеграма, но Кипсон этого не знал. Это объясняет и то, что выстрел не услышали: он смешался с визгом тормозов и шумом машины. Возможно, в тот же момент машинист дал свисток. Скорый поезд всегда останавливается как можно ближе к светофору; тормозной путь у него равняется его длине, умноженной на два, — в нашем случае, скорее, на три. И таким образом мы найдем пистолет на расстоянии, равном умноженной на три длине поезда плюс еще половина длины (поскольку наше купе примерно в середине поезда) от светофора.
— Изумительно! — воскликнул я.
— Проще простого, — пожал мой друг плечами.
В этот миг раздался свисток и завизжали тормоза.
— Светофор близ Пеграма! — воскликнул Колмс почти воодушевленно. — Невероятная удача! Сойдем же здесь и проверим мои вычисления на практике, Чевотсон!
Поезд встал, и мы сошли через правые двери купе. Гигантская махина нетерпеливо пыхтела, дожидаясь, когда же красный свет сменится зеленым, и, стоило ей дождаться, рванулась вдаль, набирая скорость. Колмс считал пробегающие мимо вагоны и записывал что-то в блокнот. Стемнело. Тоненький серп луны, клонившийся к закату, еле-еле бросал смутный полусвет на блестящий металл рельс. Сигнальные огни скорого поезда скрылись за холмом, и светофор вновь смотрел на нас недобрым багряным оком. Черная магия одиночества, окутавшая это странное место, опутала меня, но друг мой сыщик, как натура глубоко практичная, был ей неподвластен.
Дойдя до светофорного столба, он повернулся к нему спиной и пошел прочь, отмеривая шаги. Затем он остановился и достал мерную ленту. Отсчитал на ней, с трудом различая цифры в бледном свете молодой луны, десять футов и шесть дюймов и прижал ленту к рельсу, протянув мне другой конец.
Я медленно пошел вниз, потянув ее за собой. Вскоре она кончилась, и я опустил руку в траву, чтобы отметить место. Рука моя нечто нащупала.
— Бог мой, Колмс! Что это?!
— Пистолет, — просто ответил он. Так и оказалось!!!
* * *
Нескоро лондонская пресса забудет сенсацию, которая последовала за публикацией результатов расследования мистера Шерли Колмса в номере «Вечернего Клинка».
Хотел бы я, чтоб моя история здесь и закончилась — но нет!
Колмс законопослушно отдал пистолет в Скотленд-Ярд. Невыносимые шпики, побуждаемые, несомненно, завистью к моему другу, начали выяснять, кому пистолет принадлежал. Вышли на продавца. Тот показал, что никогда не встречал мистера Кипсона, зато продал пистолет человеку, по описанию один в один совпавшему с неким преступником, за которым давно уже установили слежку. Преступника арестовали, и тот в надежде подвести под эшафот своего напарника решил сотрудничать со следствием.
Как оказалось, мистер Кипсон, человек мрачный и нелюдимый, всегда ездил в своем купе один. Это сделало его легкой жертвой. Его убили на обочине путей близ Пеграма, забрали деньги… и только тогда задумались о том, что по-настоящему опасные преступники обдумывают заранее: что делать с телом.
Решили положить убитого на рельсы под колеса подходившего Шотландского Экспресса. Но не успели они втащить его даже на половину насыпи, как Экспресс остановился у светофора. Проводник вышел из вагона и пошел поговорить с машинистом, наведя преступников на мысль сунуть тело в пустое купе. Дверь они открыли ключом покойного. Полагают, что пистолет выпал у них, пока они затаскивали труп на насыпь.
Попытка сотрудничать со следствием провалилась, и Скотленд-Ярд в очередной раз оскорбил моего друга Шерли Колмса, послав ему билет на казнь негодяев.
Говард Четт ТАЙНА ГРОБОВОЙ ДОСКИ
«Добрый самаритянин», отбывший из французского порта Брест, пришел в нью-йоркскую гавань утром 24 декабря. Поскольку судно было полностью загружено товарами на имя крупного нью-йоркского негоцианта Пека, оно бросило якорь напротив его торгового склада и там же было введено в док.
В тот же день около трех часов пополудни, как раз когда на улицах Нью-Йорка бушевала снежная метель, дверь в конторе мистера Пека приоткрылась. И в полусвете сумрачного дня почтенный торговец увидел перед собой совершенно незнакомого человека странной и неприятной наружности.
Когда неожиданный посетитель сбросил с себя плащ с капюшоном и расстегнул пальто, мистер Пек сумел рассмотреть мертвенно-бледное худощавое лицо с глубоко запавшими глазами, которые, как могло показаться, недобро сверкали из-под резко выдавшегося вперед лба. Череп незнакомца покрывали коротко остриженные волосы цвета воронового крыла, а громадные уши оттопыривались, точно крылья летучей мыши. Кроме того, назвать его худым означало сильно приукрасить действительность: он буквально представлял собой живой скелет…
— Как я вижу, сэр, вы меня не знаете, — заметил странный гость. — Но я принес вам письмо от парижской фирмы Баладона и К°; оно вам объяснит, в чем дело. Из него вы увидите, что я владелец ящика, переданного в Бресте лично капитану Коффину[97] и находящегося в настоящую минуту на борту шхуны «Добрый самаритянин». Посылка адресована на имя «Ремо». Кроме того, на ящике имеется знак, состоящий из двух лежащих одно близ другого колец, пронзенных стрелой. Мне, достопочтенный сэр, нужно получить эту посылку елико возможно скорее. Если я не смогу открыть сей ящик завтра, не позднее восьми часов утра, это окажется величайшим несчастьем в моей жизни.
Слушая эти речи, торговец тем временем просматривал бумагу, поданную ему посетителем. В этом документе все в точности соответствовало словам незнакомца. Так что мистер Пек немедленно написал записку капитану Коффину с просьбой выдать ее подателю вышеупомянутый ящик.
Капитан Коффин сидел за столом в большой каюте, когда вдруг дверь в нее отворилась и на пороге появился худой, как скелет, человек. Капитан был очень занят, он сверял свои записи в вахтенном журнале с пометками в судовой роли, а это не так-то просто сделать при свете висящей на стене масляной лампы; однако он выпрямился, любезно поздоровался с посетителем и предложил ему выпить с ним стаканчик грога.
Но когда незваный гость упомянул о ящике, лицо капитана изменилось, все его добродушие исчезло, а голос сделался резок и груб. Он сердито заметил, что чем скорее уберут «этот чертов сундук», тем лучше, и прибавил, что с тех пор, как он появился на борту, шхуну начали преследовать всяческие неудачи и несчастья.
Этот груз был доставлен на палубу «Самаритянина» хотя и не тринадцатого числа, но в пятницу. Едва его успели поместить в кладовую для товаров, как забушевала жестокая буря, которая преследовала несчастное судно целую неделю. Во время качки этот сундук сорвался с креплений и разбил хранящийся по соседству ящик с превосходными голландскими сигарами. А когда помощник капитана хотел удержать «проклятую штуковину», то получил сильнейший удар по ноге и в результате этого ушиба пролежал дней десять. Во время дальнейшего плавания постоянно налетали бури, причем каждый раз во время очередного шквала «этот чертов сундук» опять срывался с креплений и каждый же раз неизбежно причинял какие-нибудь неприятности. Так что с какого-то момента капитан начал употреблять оборот «чертов сундук» без малейших намеков на переносный смысл, всерьез подозревая, что ящиком овладел некий злой дух.
— Если бы вы знали, что в нем лежит, — заметил гость, — вам, конечно, осталось бы только признать свою правоту.
Странный посетитель произнес эти странные слова с таким странным выражением, что капитан нахмурился еще больше прежнего.
— Нет, я как раз не желаю знать, что там хранится. Так что чем скорее вы уберете эту вашу собственность с моего судна, тем лучше.
— В этом наши желания абсолютно совпадают, — кивнул пришелец.
* * *
Но как переправить громоздкий ящик в город? Все матросы были отпущены в увольнение на берег: на палубе не осталось никого, кроме вахтенного, заслуженного ветерана с деревянной ногой. К счастью, капитан Коффин вспомнил о корабельном плотнике, тоже задержавшемся на «Самаритянине», — и счел, что ему можно поручить доставку ящика по назначению.
Плотник был неграмотен, поэтому имя и адрес владельца «чертова сундука» ему предстояло затвердить на память. Впрочем, он все довольно скоро запомнил: «имя хозяина дома — Джедадия Стаут, а посылку следует доставить на Кортленд-стрит там, где она пересекается с Брайд-стрит, во второе здание справа, белое, с зелеными ставнями на окнах».
Ровно в шесть часов вечера плотник «Доброго самаритянина» причалил на шлюпке к портовому волнолому, кликнул себе на помощь четверых здоровенных парней в бедной одежде, из тех, которые постоянно околачиваются в порту, рассчитывая подзаработать как грузчики, — и одиссея началась. Густой снег по-прежнему заметал улицы Нью-Йорка, а конец декабря — это такое время, когда в шесть вечера и без метели ничего не разглядеть. Плотник шествовал во главе процессии, освещая дорогу масляным фонарем.
Величиной, формой и даже тяжестью ящик сильно напоминал гроб, а судя по весу можно было заключить, что это гроб с телом внутри. Так что процессия больше походила на похороны, чем на доставку посылки. Тем не менее все шло хорошо, пока носильщики с плотником во главе не дошли до кабачка на углу Бибер-стрит. Тут один из них — надо думать, случайно, не будем оскорблять кого-либо подозрением — поскользнулся на обледенелом камне мостовой и упал, выпустив свой край ящика; при этом острый угол гроба с безжалостной точностью врезался бедняге в ту самую точку, которую боксеры называют солнечным сплетением. В результате у несчастного парня не просто перехватило дыхание — он минуту-другую вообще пошевелиться не мог.
Пораженные его состоянием остальные носильщики на какое-то время действительно подумали, что их товарища постиг роковой исход. Но тут пострадавший наконец оправился и пускай слабым голосом, но в очень сильных словах охарактеризовал темноту, снег, ящик, его владельца и всех предков последнего до седьмого колена. А вдобавок наотрез отказался идти дальше, пока ему не поставят хотя бы рюмку чего-нибудь покрепче, благо как раз напротив места аварии гостеприимно распахнул свои двери кабачок с незамысловатым, но вполне соответствующим тогдашним нью-йоркским нравам названием «Под лопатой»; широкая железная лопата, исполнявшая функцию вывески, красовалась прямо над входом.
Остальные носильщики со всей решительностью поддержали это требование, охотно согласившись сопровождать пострадавшего под сень лопаты.
Нельзя сказать, что плотник «Доброго самаритянина» питал ярое отвращение к спиртным напиткам, поэтому он не высказал каких-либо возражений. К тому же после первой же дегустации моряк заключил, что подаваемый «Под лопатой» ром отличается отменным качеством. В результате он воздал должное и качеству, и количеству, а остальные участники действа не отставали от него.
Вряд ли следует удивляться, что, когда вся компания вышла из кабачка и снова очутилась среди тьмы и снега, корабельный плотник не только сохранил достаточно смутные воспоминания об адресе, но вдобавок нисколько не был этим огорчен. Тем не менее он все еще смутно осознавал, что должен исполнить какое-то порученное ему дело, поэтому двинулся во главе шествия вперед, опасно помахивая фонарем.
Минут через десять «похоронная процессия» вышла на Брайд-стрит как раз в том месте, где эту улицу пересекала какая-то другая. Тут плотник решил, что цель достигнута и дальше идти не нужно.
Носильщики, тоже далекие от состояния трезвости, все-таки попытались (не слишком настойчиво) возразить ему, заметив, что это не тот перекресток, о котором шла речь на пристани. Но моряк утверждал обратное и в доказательство указал на стоящий по правой стороне улицы дом — точно такой же, как был обозначен в адресе. Правда, назвать «белым» это строение из красного кирпича было затруднительно, но в эту минуту корабельный плотник искренне полагал, что цвет совсем не такая уж важная вещь. Кроме того, окна дома закрывали ставни, которые при дневном свете вполне могли оказаться зелеными.
Плотник поднялся по ступеням на высокое крыльцо дома и принялся изо всех сил колотить дверным молотком.
* * *
Пастор Эбенезер Дулитл принадлежал к числу застенчивых и сдержанных людей, вдобавок он обладал хрупким сложением и легко простужался в зимнюю пору. Его достопочтенная супруга, напротив, не отличалась ни застенчивостью, ни робостью, ни слабым здоровьем: ее физическая крепость и духовная энергия вызвала бы зависть у многих мужчин.
В тот вечер, о котором идет речь, пастор как раз сидел в своем кабинете на втором этаже и заканчивал сочинение рождественской проповеди. Вдруг он услышал громкий и настойчивый стук во входную дверь. Раздались звуки шагов его жены, потом зазвучали раздраженные голоса, один из которых принадлежал миссис Дулитл, а другой, мужской, был абсолютно незнаком. Речь шла о каком-то ящике или сундуке.
После этого слух мистера Дулитла уловил грузные шаги нескольких человек, которые, очевидно, несли увесистую ношу, и стук чего-то тяжело опущенного на пол в прихожей.
Любопытство заставило пастора подняться с кресла и подойти к порогу кабинета, откуда он мог более отчетливо слышать громкие голоса, продолжающие спор внизу, у входных дверей. Из долетавших до него слов он понял, что в его дом принесли какую-то посылку, правомерность доставки которой миссис Дулитл не только отказывалась признать, но и, паче того, требовала немедленного удаления этой вещи прочь. Однако главный носильщик уверял, что ящик принадлежит хозяину дома и что ему, носильщику, был обещан доллар за доставку.
Спор становился все более и более жарким. Однако в какой-то момент пастор осознал, что голоса стихли, а шаги удаляются. Затем входная дверь с грохотом захлопнулась — и наступила мертвая тишина. Точнее, просто тишина, но в ней отчего-то повисло нечто зловещее.
А затем миссис Дулитл попросила мужа спуститься. Каковой просьбе он немедля повиновался.
Внизу пастор увидел длинный ящик в форме гроба, водруженный прямо посреди прихожей. Миссис Дулитл стояла над ним со свечой в руке.
— Ну ты только посмотри, Эбенезер! — произнесла она в негодовании. — Как видишь, эти пьяные болваны все-таки оставили нам… вот это!
Пастор долго осматривал принесенную вещь. Ему удалось обнаружить только то, что на крышке наличествует какая-то неразборчивая надпись — видимо, на иностранном языке — и еще одно слово, «Ремо», которое, даже если оно было именем получателя, ничего не объясняло. По-видимому, чтобы разобраться, кому все-таки следует переслать этот ящик, был лишь один путь: открыть его и постараться по содержимому сделать вывод об адресате. Миссис Дулитл, жаждавшая избавиться от странной посылки, охотно поддержала эту идею.
Принесли отвертку, и пастор, щурясь при свете свечи, которую держала его супруга, принялся отвинчивать удерживающие крышку шурупы. Вскоре был извлечен последний из них. Пастор снял крышку и увидел, что содержимое ящика скрыто под несколькими слоями мягкой белой ваты. Он убрал их один за другим — и, подняв последний, вдруг содрогнулся всем телом: на него бесстрастным взглядом уставилось мертвенно-бледное и, вне всяких сомнений, именно мертвое лицо.
Сомнений не возникло хотя бы только потому, что голова была отделена от туловища: верхняя часть тела убитого и его шея, рассеченная зияющей раной, тоже виднелась из-под приподнятой ваты. Мертвец был облачен в строгий черный костюм; голову, видимо, должен был прикрывать короткий парик, но теперь он сдвинулся, обнажая совершенно лысый или обритый наголо череп.
Пастор оцепенел, не в силах двинуться с места. На какой-то миг ему показалось, что его сердце сейчас остановится. Это был действительно лишь миг, прошло всего одно мгновение, но мистеру Дулитлу казалось, будто он нескончаемо долго смотрел на безжизненное лицо, едва различимое в слабом свете трепетного пламени свечи. Он сумел сбросить с себя оцепенение — но именно в эту секунду раздался сдавленный крик миссис Дулитл и звон упавшего на пол подсвечника. Свеча погасла, и наступила полная темнота.
Дрожа мелкой дрожью, пастор стоял во тьме. И тут до него снова донесся голос жены, испуганный, но без тени истерики:
— Эбенезер! Тише, ради всего святого, и не говори ни слова. Господи, только бы слуги ничего не услышали… Первым делом мы должны закрыть это! — прошептала она. — Стой тут, никуда не двигайся, я принесу новую свечу. А потом мы опять завинтим крышку.
Когда она вернулась с зажженной свечой, пастор поспешно закрыл гроб крышкой и снова взялся за отвертку. Пока он работал, миссис Дулитл стояла молча и думала.
Вдруг она, придя к какой-то мысли, резко воспряла духом.
— Кажется, я знаю, в чем тут дело. Все очень просто: гроб с мертвецом должны были доставить нашему соседу, доктору Стеггу. Пьянчужки, которые принесли его сюда, ошиблись адресом.
— Но, дорогая, — неуверенно промямлил пастор, — что, если этот… этот ящик не имеет отношения и к доктору тоже?
— Да хоть бы и так! — решительно отрезала пасторша. — В любом случае он, врач, лучше нас сумеет распорядиться таким вот рождественским подарком![98]
Дом доктора был всего в каких-нибудь двадцати шагах от пасторского жилища, так что чета Дулитл (а главным образом, конечно, миссис Дулитл) без особого труда протащила туда по снегу страшный ящик. Мистер Дулитл осторожно постучал в дверь, но ответа не услышал…
* * *
Доктор Орфеус Стегг был еще молод и еще не утратил привычек студенческих лет, в число которых входили шумные вечеринки с друзьями. Нечего и говорить, что перед Рождеством тоже состоялась веселая холостяцкая попойка с обильными возлияниями, рассказыванием забавных, но не предназначенных для, например, дамского слуха историй и дегустацией дорогих сортов курительного табака.
Так что в этот вечер он возвращался домой уже около полуночи. Его провожали трое друзей. Все были навеселе, но по дороге озябли от холодного ветра и, конечно, когда доктор предложил зайти к нему в дом и выпить там для согрева по последнему стаканчику, друзья охотно согласились.
Предмета, который громоздился поперек входа, доктор в темноте не заметил до тех пор, пока не споткнулся об него и не упал — с грохотом, но, к счастью, без ушибов.
— О черт! Что это здесь такое?! — закричал он. — Что тут, кто видит?
Один из его друзей принес свечу и при свете ее пламени все рассмотрели большой дощатый ящик, формой несколько напоминавший гроб, а на его крышке имя «Ремо».
— Что бы это могло быть? — озадаченно произнес доктор.
— Конечно же, это подарок на Рождество, — весело сказал один из его товарищей, — присланный тебе кем-то из благодарных пациентов, которого ты по случайности лечил без роковых для него последствий. Может быть, там бутылки бордо или голландские сигары?
— Мне нравится это предположение! Откроем-ка эту штуку поскорей и убедимся, прав ли ты.
Они достали из карманов перочинные ножи — и вскоре им удалось открыть ящик. Затем приятели Стегга принялись отворачивать слои ваты, а сам доктор, слегка пошатываясь, держал свечу. Когда последний слой был снят, перед ними предстало то же зрелище, которое несколько часов назад ввергло в испуг чету Дулитл.
Доктор часто видал мертвых, тем не менее при виде столь неожиданного «рождественского подарка» у него в тот же миг вылетел из головы весь хмель. Его спутники тоже содрогнулись и окаменели от ужаса. В течение четырех или пяти секунд в прихожей стояла абсолютная тишина; ее прервал только сдавленный возглас одного из молодых людей. Звук живого голоса заставил доктора опомниться, и он быстро завернул вату обратно, покрыв мертвое лицо словно бы саваном.
Тот из друзей доктора, который не удержался от вскрика, заявил, что глубоко потрясен и что, наверное, потеряет сознание, если не выйдет немедленно на воздух или не выпьет глотка виски. Предложение, во второй его части, было горячо одобрено остальными, после чего вся компания перешла в буфетную. Тут они стали с таким усердием подкреплять свои силы, что не только совершенно успокоились, но и начали обсуждать сложившуюся ситуацию с определенной долей юмора.
Доктор заявил, что никто из его знакомых не мог прислать ему в качестве рождественского подарка гроб с мертвым телом; а кто это проделал из НЕ знакомых, он прямо-таки не может себе представить. На это кто-то из его приятелей резонно заметил, что раз гроб был доставлен в дом, точнее, к дому Стегга без его ведома и согласия, то этот страшный ящик можно не воспринимать как подарок именно доктору. Следовательно, его можно таким же образом переместить к любому другому дому.
Предложение понравилось всем. После короткого совещания общество решило, что лучшего адресата, чем Джекоб ван Клик, ростовщик по роду деятельности и старый скряга по сути своей, не найти. Крышка была водружена на место и всего через полчаса молодые люди со своей загадочной и страшной ношей были уже возле дома ван Клика. Они втащили гроб на крыльцо, прислонили к дверям стоймя и принялись стучать до тех пор, пока в окне верхнего этажа не показалась голова старого ростовщика в ночном колпаке. После чего с издевательской вежливостью пожелали ему весело провести праздник, выразили надежду, что ему понравится их подарок, — и быстро исчезли в темноте.
Ростовщик жил в кирпичном доме добротной постройки, довольно уродливом, но просторном. В нем могла бы обитать многочисленная семья, между тем все здание занимали только ван Клик и его юная племянница.
Услышав о рождественском подарке, старый скряга, отлично понимавший, что ему не от кого ждать благодарности, решил, что кто-то сыграл с ним злую шутку. Проигнорировать ее он не мог, поскольку видел, что неизвестные пришельцы не только стучались к нему в дверь, но и оставили возле нее какую-то длинную и громоздкую вещь. С высоты второго этажа рассмотреть ее как следует не получалось, поэтому ростовщик оделся, прихватил с собой зажженную свечу и направился вниз.
На средней площадке лестницы он чуть не столкнулся с племянницей. Девушка тоже все слышала, поэтому, естественно, ей захотелось узнать, что за подарок принесли ночные посетители. Она предложила старику пойти вместе с ним, но он сухо отказался от ее помощи.
Поставив свечку на пол перед дверью, ван Клик сперва собирался осторожно приоткрыть створки и выглянуть одним глазком, чтобы увидеть, не притаился ли вблизи кто-то из незваных гостей. Однако ничего из его предосторожностей не вышло: едва он провернул ключ в замке и отодвинул засов, как обе дверные створки резко распахнулись, что-то тяжелое обрушилось на ростовщика, сбив его с ног, а ворвавшийся в прихожую порыв ледяного ветра со снегом затушил свечу.
Ван Клик быстро поднялся и запер дверь. Потом сел на вторгнувшийся в его дом предмет (он уже понял, что это длинный ящик, чем-то похожий на гроб) и про себя, но не менее крепкими словами, чем давешний носильщик напротив кабачка «Под лопатой», охарактеризовал дверь, ящик, потухшую свечу, холодную ночь и даже свои собственные старые ноги. Когда племянница, все еще стоя на лестнице, сверху спросила дядю, не ушибся ли он, ростовщик в сердцах назвал ее дурой. Излив таким образом злобу, он приказал ей принести другую свечу, сообщив сварливым голосом, что «даже такая дура, как ты, должна понимать: без света тут не разобраться».
Через минуту девушка, спустившись в прихожую с новой свечой, с удивлением увидела ящик, похожий на гроб, а на его крышке — крупную надпись «Ремо» и странный знак.
Разумеется, ее тоже не мог не заинтересовать вопрос: что там внутри? Племянница тут же предположила, что, может быть, ящик скрывает в своих глубинах рождественскую индейку, корзинку с фруктами и прочую праздничную снедь, а прислал все это кто-то, собирающийся сразу после Рождества прийти к дядюшке с просьбой о кредите. В ответ ван Клик приказал ей замолчать и идти к себе.
Оставшись наедине с ящиком, он принялся отвинчивать шурупы.
Минут через десять племянница услышала, что ван Клик поднимается по лестнице, ступая как-то странно, словно бы крадучись. Приоткрыв дверь своей комнаты, она поинтересовалась, что же все-таки было в ящике? Дядюшка не отвечал довольно долго — но наконец сказал (голосом столь же странным, как его шаги), что там лежали конопаточные материалы.
Племянница, конечно, изумилась тому, что такую посылку принесли в их дом, да еще ночью. На это старый ростовщик ответил, что произошла путаница: ящик должен был попасть не к нему, а к корабельщику Уайту. И, хотя девушка никаких дополнительных объяснений не требовала, добавил, что эти материалы были смотаны в очень длинные рулоны, потому их и уложили в такой большой ящик.
Впрочем, такие подробности племянницу и в самом деле абсолютно не заинтересовали. Пожав плечами, она отправилась спать.
* * *
Мистер Огастес Бейкер был молодым адвокатом с большими (и небезосновательными) амбициями, но пока еще маленькой практикой. Он и его старушка-мать жили в приличном, хотя и довольно ветхом доме неподалеку от ван Клика.
Хорошенькая племянница старого ростовщика очень нравилась Бейкеру и отвечала ему взаимностью. Но так как дядя, он же опекун девушки, придавал больше значения материальному благосостоянию, чем личным достоинствам, а презренного металла у матери и сына Бейкер имелось мало, то ван Клик отнюдь не поощрял знакомство молодых людей. А когда они все-таки пытались искать встреч друг с другом — всячески препятствовал этому.
Однако в два часа ночи — той же ночи — молодой адвокат проснулся от отчаянного стука во входную дверь. Он выглянул в окно, спросил, кто это к нему ломится, и с удивлением услышал, что неурочный посетитель — не кто иной, как ван Клик собственной персоной.
Чтобы одеться, сбежать вниз и открыть дверь Бейкеру потребовалось не более минуты. При свете принесенной им свечи он увидел расстроенное лицо старика. Ростовщик попросил Огастеса отвести его куда-нибудь, где он мог бы без помех изложить свою проблему. Очутившись в маленьком кабинете адвоката, он сказал:
— Сэр, меня постигло удивительное и страшное несчастье, и я пришел за помощью именно к вам. Я сделал это не потому… не только потому, что надеюсь заплатить за ваш совет более умеренную цену, чем если бы обратился к другому, более опытному юристу, но также и потому, что вы нуждаетесь в расширении своей практики и мое дело, как доброго соседа, всячески этому способствовать. Кроме того, будем играть начистоту: мне кажется, вы неравнодушны к моей племяннице — и если вы поможете мне благополучно выпутаться из неприятностей, я отдам вам ее руку.
После такого предисловия, несказанно удивившего молодого человека, старый ростовщик сжато и четко изложил ему суть дела. Молодой адвокат слушал со смесью внимания и недоверия, судя по всему, гадая, стал ли жертвой жестокого розыгрыша его клиент — или же он сам, Бейкер, сейчас является объектом такого розыгрыша.
— Сэр, — сказал он, — все это слишком странно и необыкновенно. Так что обождите минуту, я накину пальто — и мы вместе с вами прогуляемся к вам домой.
Войдя в прихожую ван Клика, молодой человек осмотрел гроб, прочитал надпись «Ремо» и покачал головой:
— Не знаю никакого Ремо.
— Я тоже, — сказал старик.
— Два кольца, через которые проходит стрела с вильчатым наконечником, — продолжил адвокат. — Какой-то символ… к сожалению, его значение мне тоже неизвестно.[99]
— А уж мне тем более!
— Погодите, — произнес Бейкер, вглядываясь в мелкие буквы надписи, змеящейся по крышке гроба. — Тут что-то написано — если не ошибаюсь, по-французски. Вы умеете читать на этом языке?
— Нет, — мрачно отрезал ван Клик. — Терпеть не могу все проклятые иностранные наречья.[100] А это в особенности!
— Ваше право. Между тем, должен вам заметить, знание иностранных языков иногда бывает в высшей степени полезно. Мне оно, во всяком случае, сейчас очень пригодится…
Огастес наклонил свечу как можно ближе к надписи и прочел ее очень внимательно — хотя и отнюдь не вслух. Потом, некоторое время поразмыслив, он повернулся к старому ростовщику и посмотрел на него с чрезвычайно скорбным, даже траурным выражением. Еще немного помолчал и наконец, полностью овладев собой и тщательно подбирая слова, обратился к старику:
— Значит, сэр, вы даже не подозреваете, что именно представляет собой эта зловещая посылка?
— Нет! — ответил ван Клик, — я знаю только, что в моем доме вдруг ни с того ни с сего оказался гроб, а в этом гробу лежит мертвец с отрубленной головой.
— Знайте же, — сказал адвокат все тем же скорбно-торжественным тоном, — что вам довелось лицезреть безжизненное тело французского джентльмена высокого, даже, прямо скажем, наивысочайшего происхождения. Джентльмена, который был злодейски умерщвлен в Париже преступными революционерами. Вот что я прочитал на крышке гроба.
— Боже мой! Зачем же, — вскрикнул несчастный ростовщик, — зачем же эту мерзость… я хотел сказать, этот ужас, принесли ко мне? Да еще в ночь перед Рождеством! Бог видит, я не замешан в их дела и не имею никакого касательства ни к революционерам, ни к этой их жертве!
— Я верю вам, — сказал Бейкер, — но, может быть, этот гроб прислал вам кто-нибудь из ваших врагов?
— Каких врагов? То есть враги-то найдутся, но они ведь точно не парижские революционеры!
— В любом случае гроб сейчас у вас, и, боюсь, вам не так-то легко будет уверить добропорядочных граждан, что вы совсем ни к чему не причастны, — быстро произнес адвокат. — Впрочем, я готов помочь вам избавиться и от гроба и от… от того, кто лежит в нем. Но возьмусь за это только при одном условии. Боюсь, оно вам не понравится…
Ростовщик нахмурился. Да, он так и предвидел: сейчас с него потребуют непомерно высокий гонорар.
— Так сколько же вы с меня запросите? — произнес он, привычно готовясь входить в роль человека полуразоренного, а то и вовсе обедневшего. — Прошу вас, постарайтесь назначить не слишком непосильную плату…
— Сэр, — сказал Бейкер, — вам известно, что я уже давно люблю вашу племянницу и воспитанницу. Если вы перестанете мешать нашим чувствам — смею вас заверить, взаимным! — и обязуетесь со дня нашей свадьбы до совершеннолетия вашей воспитанницы выплачивать проценты с ее капитала, а потом, как и подобает, передадите в ее распоряжение весь капитал, что, вне всяких сомнений, вы и так намереваетесь сделать… Так вот, тогда я, тоже вне всяких сомнений, сумею помочь вам в вашей проблеме. А говоря кратко — дать вам возможность без потерь выпутаться из этой злосчастной истории.
Условия адвоката при данных обстоятельствах были до такой степени соблазнительны, что лицо старого скряги прояснилось. Причем настолько, что на нем даже чуть было не появилась по-настоящему искренняя улыбка.
— Друг мой! — воскликнул он, — Конечно же, я подпишу это обязательство — а вдобавок от всей души благодарю вас за помощь. Поистине, если вы избавите меня от этого кошмарного гроба и, э-э, его содержимого, я буду считать вас не просто лучшим другом, но прямо-таки спасителем. А иначе мне, право слово, я уж не знаю, что лучше: сойти с ума или самому себе бритвой горло перерезать.
— Прекрасно, — сказал адвокат, — значит, условия устраивают нас обоих. Раз так, займемся делом. Прежде всего нужно доставить этот гроб ко мне в дом. А потом, когда он будет у меня, я уже в общих чертах представляю, что с ним делать…
— Ну, если дело только за этим, — с воодушевлением произнес старик, — то я с удовольствием помогу вам…
Расстояние до дома молодого адвоката было невелико — и вдвоем они управились всего за полчаса.
* * *
На утро следующего дня на стене одного из пустующих складов по Кортленд-стрит красовалась афиша, сообщавшая, что именно здесь герр Пиммельбергер, знаменитый живой скелет из Германии, будет в течение трех ближайших дней демонстрировать не только себя самого, но и «превосходное восковое изображение несчастного короля Франции, Людовика XVI, казненного безбожными якобинцами в 1793 г.». Далее говорилось, что эти две диковины направляются в Филадельфию, а в Нью-Йорке пробудут всего трое суток — в ходе которых горожанам будет предоставлена возможность полюбоваться ими обоими, «скелетом» и восковой фигурой. Цена за эту возможность называлась самая умеренная: со взрослых десять центов, а с детей только пять.
Выставке надлежало открыться через час. А пока в помещении склада стояли двое: сам «живой скелет» и молодой адвокат Бейкер. Стояли и негромко разговаривали, временами поглядывая на простершееся меж них тело «несчастного короля».
Восковая фигура возлежала на подобии катафалка, обитого черным бархатом и усеянного серебряными (а на самом деле искусно вырезанными из фольги) французскими лилиями. Она была облачена в черный костюм, бескровные восковые руки сложены на груди, а отсеченная ножом гильотины голова покоилась рядом с телом.
Живой скелет носил имя Джедадии Стаута, но твердо знал, что нет пророка в своем отечестве, а следовательно, преуспеть на его поприще будет гораздо легче в качестве «герра Пиммельбергера из Германии».[101] Это он накануне побывал у мистера Пека.
— Не правда ли, — сказал Стаут-Пиммельбергер, кивнув в сторону фигуры, — прекрасная работа? И вместе с тем — от каких же мелочей зависит успех или провал… О, если бы вы не доставили короля сегодня утром, это стало бы для меня величайшим несчастьем! Так сколько, говорите, я вам должен за хлопоты?
— Ничего не говорю, — ответил молодой адвокат, — Потому что вы и в самом деле ровно ничего мне не должны. Ни единого цента, сэр. Ибо, видите ли, мне это восковое изображение принесло сегодня ночью величайшее счастье. А все потому, что я-то французский язык изучал. Поэтому мне не составило труда прочитать надпись на гробовой доске и узнать из нее, кому принадлежит гроб, а кому тело.
Саки (Гектор Хью Манро) ИГРУШКИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ И НЕ ТОЛЬКО КОРМ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОК
— Как ни крути, а дела мелких лавочников плохи. У этих крупных концернов есть все, чтобы привлечь покупателей: читальные залы, комнаты для игр, граммофоны — да бог весть что еще! Мы не можем предоставить нашим посетителям даже малую толику всего этого.
Мистер Скэррик разговаривал со своими постояльцами: художник с сестрой поселились в комнате на втором этаже, над его бакалейным магазинчиком, расположенном в пригороде.
— Публика нынче и полфунта сахара не купит, если им не споет при этом Гарри Лаудер, а перед глазами не будет результатов австралийского первенства по крикету. Казалось бы, к большой рождественской распродаже стоило нанять с полдюжины помощников, но если дела будут идти так, как сейчас, мы с Джимми, моим племянником, вполне управимся сами. Впрочем, и это было бы неплохо, сумей я удержать покупателей от поездок в Лондон хоть на несколько недель. Да только вряд ли — разве что дороги совсем заметет снегом. Есть, правда, одна идея… Помните прелестную мисс Лафкомб? Она могла бы устроить у меня полуденные чтения. Ее декламация «Выбора малышки Беатрис» на вечере в почтамте имела оглушительный успех.
Художник явственно содрогнулся.
— Невозможно верней похоронить свой бизнес, нежели действуя подобным образом. Только представьте: вы неспешно рассуждаете о достоинствах карлсбадских слив или засахаренного инжира в качестве рождественского десерта. И тут ход ваших мыслей прерывают историей о сложном выборе малышки Беатрис между ролью Ангела Света и девочки-скаута. Лично я бы взбесился. Нет-нет, — продолжил художник, — стремление выкинуть деньги на ветер, конечно, является врожденным у женщин, но вы очевидно не в состоянии правильно воззвать к нему. Так почему бы не обратиться к другой страсти, которая правит сердцами не только покупательниц, но и покупателей — да всего человечества, если говорить по правде?
— Что же это за страсть, сэр? — спросил бакалейщик.
* * *
Миссис Грейс и мисс Фриттен не успели на лондонский поезд, ушедший в два восемнадцать. Поскольку до трех часов двенадцати минут других рейсов не было, они решили купить бакалейные товары в лавке Скэррика. Да, конечно, ничего особенного там не приобретешь, но хоть можно будет сказать, что пробежались по магазинам.
На некоторое время они углубились в беседу, не обращая внимания на происходящее вокруг (насколько вообще можно не обращать внимания на что-либо, выбирая товары). Однако когда разговор зашел о существенных достоинствах и недостатках пасты из анчоусов от разных производителей, миссис Грейс и мисс Фриттен внезапно услыхали, как кто-то из покупателей делает поразительный заказ:
— Шесть гранатов и упаковку корма для перепелок.
Необычный выбор для здешних мест, что ни говори. А еще необычней оказалась внешность покупателя: юноша лет шестнадцати, с темно-оливковой кожей, большими темными глазами и длинными, тонкими прядями иссиня-черных волос. Он мог бы заработать на жизнь, позируя художнику. По сути, этим он и занимался. Помятая латунная миска, которую он использовал, чтобы складывать туда покупки, показалась остальным покупателям наиболее изумительным предметом, с которым когда-либо ходили в магазин. Даже оборванцу не пришло бы в голову явиться с чем-то подобным. Однако юноша бросил на прилавок золотую монету — очевидно, привезенную из какой-то экзотической страны — и, похоже, не собирался получать сдачу.
— Мы вчера не заплатили за вино и фиги, — сказал он. — А мелочь оставьте в счет будущих покупок.
— Паренек выглядит странно, не находите? — вопросительно взглянула миссис Грейс на бакалейщика, стоило необычному покупателю выйти.
— Думаю, иностранец, — торопливо ответил мистер Скэррик. Как это было не похоже на его обычную манеру изъясняться!
Пару мгновений спустя по магазинчику разнесся властный голос:
— Полтора фунта самого лучшего кофе, который у вас есть, будьте любезны!
Говоривший оказался высоким импозантным мужчиной, весьма похожим на чужеземца. По крайней мере, его длинная черная борода была бы куда более уместна в древней Ассирии, нежели в современном лондонском пригороде.
Пока продавец взвешивал кофе, мужчина внезапно поинтересовался:
— А не покупал ли здесь гранаты смуглый паренек?
— Нет, — бессовестно соврал бакалейщик. Обе леди чуть не подскочили от неожиданности. А бакалейщик продолжил, не моргнув глазом: — У нас, конечно, имеются гранаты, но на них совсем нет спроса.
— Кофе заберет мой слуга, как обычно. — Покупатель достал монету из изящного кошелька тонкой работы, а затем, после короткого раздумья, выпалил: — Кстати, а корм для перепелок у вас есть?
— Нет, — без колебаний отвечал бакалейщик, — мы такое не продаем.
— От чего еще он станет отпираться? — шепотом выдохнула миссис Грейс, с ужасом вспомнив, что недавно мистер Скэррик был почетным гостем на лекции, посвященной Савонароле.[102]
Незнакомец выскочил из магазина, раздраженно зарывшись носом в дорогой меховой воротник своего длинного пальто. Мисс Фриттен впоследствии утверждала, будто мужчина выглядел, словно сатрап, торопящийся разогнать синедрион. Она, правда, не вполне была уверена, что сатрапы когда-либо выполняли эти приятные обязанности, но меткое сравнение придавало описанию веса среди слушателей.
— Знаешь что, давай забудем про поезд в три двенадцать, — сказала миссис Грейс. — Идем к Лоре Липпинг, сегодня все собираются у нее. А нам определенно есть что обсудить.
Когда смуглый юноша на следующий день зашел в бакалею, держа в руках свою странную латунную миску, там уже толпилось довольно много зевак. Большинство из них делало вид, будто им совершенно нечем заняться и они лениво прикидывают, что бы купить. Голос юноши разнесся по всей бакалее — или собравшийся в лавке народ просто внимательно прислушивался?
— Пожалуйста, фунт меду и упаковку корма для перепелок.
— Снова корм для перепелок! — воскликнула мисс Фриттен. — Ну и прожорливы же у них перепела! Если, конечно, речь вообще идет о перепелином корме.
Миссис Грейс осенила блестящая догадка:
— Что, если они говорят про опиум? А бородатый мужчина — сыщик!
— Вряд ли, — возразила Лора Липпинг. — Я уверена: это связано с португальским престолом.[103]
— Больше похоже на интриги персов. Ну, вы понимаете, бывший шах, его претензии… — со значением произнесла мисс Фриттен. — Бородач принадлежит к правящей верхушке.[104] Корм для перепелок — это, без сомнения, потайной знак: от Персии до Палестины рукой подать, а перепела, знаете ли, в Ветхом Завете упоминаются.
— Лишь когда речь идет о чудесах, — уточнила ее младшая сестра-всезнайка. — Я думаю, происходящее как-то связано с любовью.
Тем временем юноша, вызвавший столько пересудов и кривотолков, собрался уже уходить с покупками. Однако его перехватил Джимми, племянник и ученик бакалейщика. Следует отметить, что с его места — у прилавка с сыром и беконом — открывался превосходный вид на улицу.
— У нас есть замечательные апельсины из Джаффы, — поспешно проговорил Джимми, указывая на темный угол, скрытый высокой горой из пачек с бисквитами. Скорее всего, в этих словах тоже содержался некий потайной знак: загадочный юноша метнулся к апельсинам, словно хорек, обнаруживший незапертый курятник после долгих скитаний по зимнему лесу. Почти в то же мгновение в магазинчик ворвался бородатый незнакомец. Подлетев к прилавку, он затребовал фунт фиников и пачку лучшей халвы из Смирны. Халва! Самые опытные местные хозяйки понятия не имели, что это такое. Однако мистер Скэррик, похоже, мог, глазом не моргнув, раздобыть самый лучший сорт этой штуки — из Смирны или откуда-нибудь еще.
— Мы что, попали в сказки Шахерезады? — ахнула мисс Фриттен.
— Тише! Дайте послушать, — умоляюще шепнула миссис Грейс.
— Вчера я спрашивал о смуглом юноше, — заметил бородатый незнакомец. — Может, он был здесь сегодня?
— Как видите, у нас сегодня намного больше народу, чем обычно, — отвечал мистер Скэррик, — но паренька, которого вы описываете, я не припоминаю.
Миссис Грейс и мисс Фриттен триумфально поглядели на подруг. Конечно, достойные леди сожалели, что правда в наши дни — это товар, которого, сколько ни спрашивай, нет в наличии, зато все смогли убедиться, что уж они-то ни капельки не приврали, красочно расписывая лживость мистера Скэррика.
— Если он мне опять скажет, что в джеме нет красителей, ни за что больше не поверю! — трагически шепнула тетушка миссис Грейс.
Загадочный незнакомец отбыл восвояси. Лора Липпинг отчетливо видела, как яростно топорщатся его роскошные усы, с каким негодующим видом он поправляет свой дорогой воротник. Благоразумно выждав некоторое время, охотник за апельсинами тоже высунул нос из-за упаковок с бисквитами. Увы, похоже, в своих поисках он потерпел неудачу — очевидно, не нашлось достаточно качественных плодов. Юноша тоже направился к выходу, и толпа покупателей постепенно начала рассасываться. Люди уносили с собой покупки и свежие сплетни.
В этот раз все собирались у Эмили Йорлинг, так что большинство покупательниц направились прямиком к ее дому. Вот это действительно можно было назвать бурной жизнью — не успели сходить в магазин, как уже пора на чай к подруге!
На следующий день в бакалею пришлось нанять двух помощников, и надо сказать, что сидеть без дела им не пришлось: магазинчик был переполнен. Люди покупали безостановочно; казалось, этому не будет конца. Никогда еще мистер Скэррик не мог так легко уговорить клиентов попробовать что-нибудь новенькое. А те покупательницы, чьи возможности были весьма скромными, выбирали товар так тщательно и возились с ним так долго, словно дома их ожидал муж-пьяница, уже приготовившийся встретить жену с палкой.
День все тянулся и тянулся, но вот раздался возбужденный гул голосов, и темноглазый юноша с латунной миской в руках зашел в бакалею. Кажется, мистер Скэррик тоже заволновался: он резко оборвал леди, неискренним тоном интересующуюся местом обитания рыбы со странным названием «бомбейская утка», и направился к вошедшему, перехватив того на полпути к прилавку.
— Корм для перепелок закончился! — провозгласил мистер Скэррик среди воцарившейся мертвой тишины.
Юноша нерешительно огляделся и собрался было покинуть магазин, но к нему подбежал Джимми и снова заговорил о самых лучших апельсинах. С колебаниями было покончено: юноша стремительно исчез в темном углу с апельсинами.
Разумеется, все посмотрели на дверь. Ожидания не были обмануты: высокий бородатый незнакомец эффектно появился в бакалее. «Ассириец ворвался к нам, будто волк в овчарню», — вспоминала впоследствии тетушка миссис Грейс, утверждая, что это сравнение пришло ей в голову сразу, как только она увидала вошедшего. По большей части, это ее заявление возражений не встречало.
Незнакомец, впрочем, тоже не успел дойти до прилавка. Но его остановил вовсе не мистер Скэррик или кто-либо из его помощников. Нет, это была не замеченная никем до сих пор леди, лицо которой скрывала плотная вуаль. Она неспешно поднялась со своего места и обратилась к вошедшему звонким, проникновенным голосом:
— Неужто ваше превосходительство самолично ходит по магазинам?
— Заказы я делаю сам, — объяснил загадочный бородач. — Слугам чересчур сложно все толком разъяснить.
Дама с вуалью понизила голос, видимо, пытаясь донести до незнакомца сведения в более приватной обстановке, но благодарная аудитория все еще могла слышать каждое ее слово.
— Вы можете приобрести здесь замечательные апельсины из Яффы.
Сообщив это, дама звонко расхохоталась и вышла из магазина.
Мужчина огляделся по сторонам, затем его взор остановился на груде упаковок с бисквитами. Зычным голосом бородач задал вопрос мистеру Скэррику:
— Итак, у вас в бакалее есть хорошие апельсины? Из Яффы, возможно?
Все ожидали, что мистер Скэррик тут же опровергнет саму возможность существования таких товаров в его бакалее. Но прежде чем тот успел ответить, смуглый юноша выскочил из своего укрытия и помчался к выходу, держа перед собой пустую латунную миску. Относительно выражения его лица в тот момент мнения разошлись: кто-то утверждал, что на нем было написано деланое безразличие, кто-то — что оно сияло вызовом, а кто-то просто говорил, будто юноша был смертельно бледен. Нашлись особы, слыхавшие, как стучали от страха зубы паренька; другие, напротив, сообщали, что он насвистывал национальный гимн Ирана. Свидетели, однако, сходились в одном: в описании эффекта, которое появление юноши, казалось, убегавшего со всех ног, произвело на бородатого незнакомца. Вряд ли он мог бы испугаться сильнее, вздумай бешеная собака или ядовитая змея составить ему компанию за чашечкой чая. Окружающая его атмосфера властности и уверенности в себе развеялась, походка утратила решительность — незнакомец в панике метался по бакалее, будто раненый зверь, ищущий спасение в немедленном бегстве. С ошеломляющим безразличием он сделал несколько заказов чуть ли не в случайном порядке (бакалейщик тщательно записал их), а взгляд его при этом не отрывался от входа в магазин. Внезапно он выскочил, с тревогой оглядел улицу и снова поспешил в магазин изображать честного покупателя. Так повторилось несколько раз. После одной из таких отлучек бородатый незнакомец все-таки не вернулся, скрывшись в упавших на городок сумерках.
Более ни он, ни смуглый юноша, ни даже скрытая под вуалью леди не являлись взорам страждущей публики, продолжавшей собираться в магазине у мистера Скэррика в течение еще нескольких дней.
* * *
— Я никогда не смогу должным образом отблагодарить вас и вашу сестру, — сообщил бакалейщик.
— Пустое, — засмущался художник, — мы ведь знатно повеселились. А для натурщика это было неплохим отдыхом после многочасового позирования для «Похищения Гиласа».[105]
— Ну, по крайней мере позвольте мне хотя бы заплатить за ту накладную бороду, которой вы пользовались, — откликнулся бакалейщик.
БЕЛЫЙ ПРИЗРАК
Две пары играли в теннис на вечеринке в саду приходского священника. Как минимум последние четверть века юноши и девушки собирались здесь в это время года и развлекались подобным образом. Время шло, одни игроки уходили, другие занимали на их место, а в остальном ничего не менялось.
Нынешние юноши и девушки прекрасно понимали, какую важную роль эта вечеринка играет в жизни местного маленького сообщества, а потому обращали особое внимание на одежду и изысканность манер. В то же время им нравился спорт, а потому игра шла достаточно азартно. Их усилия (а также одежда и поведение) служили объектом пристального внимания четырех пар глаз. Квартет леди расположился на скамье у самого корта — это были признанные любительницы поглазеть на любое зрелище.
В сущности, это было одной из известнейших традиций здешних вечеринок в саду: четыре леди сидели на своем привычном месте и наблюдали за игрой. Как правило, они крайне мало знали о теннисе, зато чрезвычайно много — об игроках. Также в традицию входило, чтобы две леди из четырех были милы и любезны, а двумя другими неизменно оказывались миссис Доул и миссис Хэтч-Маллард.
— У Евы Джонлет нынче не прическа, а воронье гнездо, — изрекла миссис Хэтч-Маллард. — Волосы, конечно, никогда не были сильной стороной бедняжки, но это же не повод устраивать на голове невесть что! Кому-то придется рано или поздно ей об этом сказать.
Упомянутая прическа Евы Джонлет могла бы избежать осуждения от миссис Хэтч-Маллард, если б не факт, который являлся более значимым: Ева была любимой племянницей миссис Доул. Все чувствовали бы себя значительно лучше, приглашай приходской священник миссис Хэтч-Маллард и миссис Доул поодиночке, но вечеринка в саду проводилась лишь раз в год, и вычеркнуть любую из этих леди из списка приглашенных казалось решительно невозможным. Нет-нет, если только не жаждать разом уничтожить мир и спокойствие в округе.
— А тисовые деревья в это время года особенно прелестны, — вставила леди с нежным, шелковым голосом, напоминающим шиншилловые муфты на картинах Уистлера.
— Что значит «в это время года»? — требовательно спросила миссис Хэтч-Маллард. — Тис прекрасен в любое время года. Вот в чем его особенное очарование!
— Тис отвратителен в любое время года и при любых обстоятельствах, — сообщила миссис Доул медленно и выразительно, будто смакуя саму возможность вставить возражение. — Лучше всего тис смотрится на кладбищах, возле склепов.
Миссис Хэтч-Маллард сардонически фыркнула. В переводе это означало: есть некоторые люди, которые лучше всего смотрятся на кладбищах, а не на вечеринках в саду приходского священника.
— И каков счет? — осведомилась леди с шелковым голосом.
Желаемые сведения ей предоставил молодой джентльмен в белоснежном костюме для игры в теннис. Возникало впечатление, что юноша скорее заботился о том, чтобы не запачкаться, нежели о выигрыше в этой теннисной партии.
— В какого отвратительного юнца вырос этот Берти Диксон! — объявила миссис Доул, внезапно вспомнив, что Берти был любимчиком миссис Хэтч-Маллард. — Молодежь нынче ведет себя совсем иначе, чем двадцать лет назад.
— Разумеется, иначе, — парировала миссис Хэтч-Маллард. — Ведь двадцать лет назад Берти было два года. Даже вы способны увидать разницу между его внешностью и поведением тогда и сейчас.
— Вы знаете, — интимным шепотом обратилась миссис Доул к остальным леди, — я не удивлюсь, если кое-кто считает свою реплику остроумной.
— Миссис Норбери, к вам приезжает кто-нибудь необычный? — торопливо поинтересовалась леди с шелковым голосом. — Вы ведь проводите приемы как раз в это время года?
— Я ожидаю прибытия весьма интересной дамы, — отвечала миссис Норбери, до сих пор безмолвно ожидавшая случая перевести беседу в безопасное русло. — Это моя старинная приятельница, ее зовут Ада Блик…
— Что за ужасное имя! — вставила миссис Хэтч-Маллард.
— Она, знаете ли, ведет свое происхождение от де ла Бликов, старинной гугенотской семьи из Турина.
— Не было в Турине никаких гугенотов, — изрекла миссис Хэтч-Маллард, считавшая себя способной вполне компетентно судить о любом событии трехсотлетней давности.
— Ну, как бы там ни было, она погостит у меня, — продолжала миссис Норбери, быстро вернувшись к временам не столь отдаленным. — Она приезжает сегодня вечером. Удивительная женщина: одаренная ясновидящая, седьмая дочь седьмой дочери и все такое — ну, вы понимаете.
— О, это чрезвычайно любопытно! — прошелестел шелковый голос. — Ну, тогда Эксвуд — самое подходящее для нее место, не так ли? Кажется, там есть несколько призраков…
— Да. Именно поэтому она так жаждала ко мне приехать, что отложила все прочие дела, дабы принять мое приглашение, — сказала миссис Норбери. — У нее были сны, видения и все такое — ну, вы понимаете — и они всегда сбывались с потрясающей точностью. Но вот призраков она не видела ни разу в жизни и ждет не дождется случая восполнить этот пробел. Она состоит в этом, ну, знаете, «Обществе психических исследований»[106]'.
— Полагаю, она встретится с несчастной леди Калламптон, известнейшим привидением Эксвуда, — заметила миссис Доул. — Вы ведь помните: мой предок, сэр Джарвис Калламптон, убил свою молодую жену, когда они гостили в Эксвуде. Припадок ревности, увы. Он задушил ее ремнем от стремени прямо в конюшне, сразу же после того, как супруги вернулись с верховой прогулки. С тех пор люди иногда видят, как она бродит в сумраке по лужайкам и возле конюшни в длинном зеленом облачении, стеная и пытаясь сорвать с шеи удавку. Будет ужасно интересно узнать, увидит ли она…
— Понять не могу, с чего все решили, что ваша подруга обязательно увидит эту дрянную подделку, так называемую леди Калламптон! До сих пор этот призрак являлся лишь горничным да подвыпившим конюхам. А вот мой дядя, владелец Эксвуда, совершил там самоубийство при самых трагических обстоятельствах! Уж он-то точно появляется там чаще прочих призраков.
— Боюсь, миссис Хэтч-Маллард сроду не читала историю нашего графства, написанную мистером Попплом, — сообщила миссис Доул ледяным тоном. — Иначе ей было бы известно, что призрак леди Калламптон являлся множеству заслуживающих доверия свидетелей…
— Ах, Поппл, — насмешливо протянула миссис Хэтч-Маллард. — Да он верит любой дрянной побасенке о старых временах! Поппл, скажите на милость! А вот призрака моего дяди видел сельский староста, он же — мировой судья. Полагаю, вот это может служить достаточным доказательством для кого угодно. И я предупреждаю, миссис Норбери: если ваша ясновидящая подруга увидит какого-либо еще призрака, кроме духа моего дяди, я сочту это личным оскорблением. Преднамеренным!
— Осмелюсь сказать, что она может вообще никого не увидеть. Раньше ей, знаете ли, не удавалось. — В голосе миссис Норбери явственно звучала надежда.
Впоследствии миссис Норбери сокрушалась, подбадриваемая сочувственным вниманием дамы с шелковым голосом:
— Нечего сказать, умею я завести беседу на самую неудачную тему из всех возможных! Видите ли, Эксвуд принадлежит миссис Хэтч-Маллард. Мы лишь арендуем его, и срок аренды скоро истечет. А племянник миссис Хэтч-Маллард недавно изъявил желание пожить там, и если мы оскорбим его тетушку, то она просто откажется продлевать договор. Боже мой, все эти садовые вечеринки — ужасная ошибка! По крайней мере, иногда мне так кажется.
Семейство Норбери развлекало гостью игрой в бридж на протяжении последующих трех вечеров. Они засиживались за столом почти до часу ночи и не слишком-то заботились о выигрыше — лишь бы оградить гостью от нежелательных визитов каких-либо призраков.
— Если мисс Блик, укладываясь спать, будет думать о пиковых королях, каре тузов и ставках, вряд ли она уделит внимание какому-нибудь завалящему призраку, — заметил Хьюго Норбери.
— По крайней мере, я часами рассказывала ей о дядюшке миссис Хэтч-Маллард, — отвечала его жена. — Показала точное место самоубийства, навыдумывала разных душераздирающих деталек… Я даже повесила у нее в комнате старый портрет лорда Джона Расселла. Сказала, что, по моему мнению, это портрет дядюшки в зрелых годах. Если Ада увидит хоть какого-нибудь духа, это просто обязан быть старик Хэтч-Маллард. Уж мы-то точно все для этого сделали.
Увы, все старания пропали впустую. Когда утром третьего дня своего пребывания в Эксвуде Ада Блик спустилась к завтраку, ее глаза покраснели от усталости, зато сияли от волнения, волосы растрепались, а в руках была зажата толстая коричневая книга.
— Я наконец-то увидала сверхъестественное явление! — воскликнула мисс Блик с порога, подбежала к миссис Норбери и поцеловала ее, словно именно та позволила ей получить этот бесценный опыт.
— Призрак? — вскрикнула миссис Норбери. — Это невозможно!
— Возможно и несомненно!
— Пожилого мужчину в костюме, какой носили пятьдесят лет назад? — с надеждой взглянула на подругу миссис Норбери.
— Ничего похожего, — помотала головой Ада. — Это был белый дикобраз.
— Белый дикобраз? — с растерянным изумлением воскликнули оба супруга Норбери.
— Огромный белый дикобраз с желтыми глазами, источавшими погибель, — сообщила Ада. — Я уже начала дремать, но внезапно ощутила присутствие в комнате чего-то необъяснимого, чего-то зловещего. Я вскочила на кровати и огляделась. И вот под окном появилось чудовищное создание, вызвавшее дрожь во всем моем теле. Это был отвратительного вида дикобраз, грязно-белый, с препротивнейшими черными, будто души грешников, когтями. Эти когти скребли и щелкали по полу. А в маленьких желтых глазах ужасного видения притаилось неописуемое зло. Эти жестокие, мучительно страшные глаза смотрели прямо на меня, пока чудовище ползло по полу. Оно преодолело ярд или два до второго окна, которое было открыто, а затем вскарабкалось на подоконник и исчезло. Я наконец сумела вскочить с кровати и тотчас бросилась к окну, однако никаких следов там не обнаружила. Разумеется, я сразу же осознала, что имела дело с пришельцем из иных миров, однако пребывала в неведении о том, с кем именно мне довелось столкнуться, пока не прочла в книге мистера Поппла главу о местных суевериях.
Мисс Блик торопливо распахнула огромный коричневый том и зачитала оттуда:
— Николаса Эрисона, старого скрягу, повесили в Бэтчфорде в тысяча семьсот шестьдесят третьем году за убийство фермера, который случайно наткнулся на тайник Николаса. Призрак старого Эрисона, по утверждениям некоторых людей, бродит возле деревень и сел. Иногда он принимает облик белой совы, иногда — белого дикобраза.
— Быть может, ты читала на ночь истории, рассказанные мистером Попплом, вот тебе в полудреме и привиделся дикобраз?
Предположение миссис Норбери было, вероятно, ближе всего к истине, однако Ада решительно отвергла столь приземленную интерпретацию ее видений. Тогда миссис Норбери быстро сказала:
— Тебе следует молчать об этом! Видишь ли, слуги…
— Молчать? — негодующе вскричала Ада. — Мой долг — предоставить подробнейший доклад в «Общество психических исследований»!
И именно в этот момент Хьюго Норбери, никогда не отличавшийся красноречием, испытал один из самых полезных в своей жизни приливов вдохновения.
— Мы поступили крайне безнравственно, мисс Блик, — сказал он, — но будет жаль, если от этого пострадают и другие. Этот белый дикобраз — старинная шуточка нашего семейства: огромного дикобраза-альбиноса мой отец привез с Ямайки. Там, знаете ли, попадаются экземпляры неимоверных размеров. Мы его прячем в комнате, привязав к лапе нитку, а второй конец этой нити пропускаем через окно. Затем мы тянем за нить, и дикобраз движется, скрежеща когтями по полу, — точь-в-точь, как вы и описали. Ну а после мы просто вытягиваем чучело через окно, и оно исчезает из комнаты. Множество людей уже попались на эту удочку: они все читали Поппла и сочли, что это призрак старика Никки Эрисона. Но мы всегда следим, чтобы шутка не зашла чересчур далеко, и останавливаем наших гостей прежде, чем этот розыгрыш будет на полном серьезе освещен в газетах.
Миссис Хэтч-Маллард в должный срок продлила семейству Норбери аренду, а вот мисс Ада Блик отказалась от продления старой дружбы.
ПУТЬ В КАНОССУ[107]
Демосфен Плуттербафф, смутьян из смутьянов, предстал перед судом. Он совершил серьезное правонарушение, и весь политический мир с тревогой следил за судебным процессом.
Увы, следует отметить, что правительство пострадало куда значительней заключенного: тот взорвал Альберт-Холл накануне грандиозной чайной вечеринки с танцами, которую собирались провести либералы. Ожидалось даже, что Лорд-канцлер Казначейства по этому поводу обнародует свои новые размышления на тему «Распространяют ли куропатки инфекционные болезни?». Плуттербафф отлично выбрал время: разумеется, чайную вечеринку перенесли, но вот кое-какие другие политические события невозможно было отменить ни в коем случае. На следующий день после суда в местечке Немезис-на-Хэнде были назначены дополнительные выборы. Оппозиция открыто заявила, что если Плуттербафф встретит день выборов в тюрьме, то предложенного правительством кандидата ждет полнейшее поражение.
К сожалению, отрицать вину Плуттербаффа либо усомниться в ней оказалось решительно невозможно. Он не только признал вину, но и выразил желание повторить свою эскападу при первой же подвернувшейся возможности, а во время судебного заседания внимательно изучал небольшой макет Зала свободной торговли в Манчестере. Присяжные даже не сомневались, что подсудимый намеренно, со злым умыслом взорвал Альберт-Холл. Проблема состояла в другом: как отыскать смягчающие обстоятельства, при которых стало бы возможным вынести оправдательный приговор? Разумеется, в случае назначения подсудимому какого бы то ни было наказания немедленно последовала бы амнистия, однако правительство считало подобное вмешательство в дела правосудия крайней мерой и от души желало, чтобы нужды в ней не возникло. Даровать смутьяну помилование под давлением электората, под угрозой провала на решающих выборах, без права отменить или хотя бы отложить амнистию — нет-нет, это вовсе не было сокрушительным поражением… но выглядело очень похоже. Противники действующего Кабинета уже готовы были вцепиться правительству в глотку, обвиняя его во всех грехах. Так что беспокойство, царившее в забитом людьми зале суда, а также среди небольших компаний, расположившихся возле телеграфных аппаратов на Даунинг-стрит и в Уайтхолле, было вполне понятным.
И вот присяжные возвратились после обсуждения обстоятельств дела. Люди в зале суда заволновались, раздались встревоженные шепотки, а затем воцарилась полная тишина. Председатель совета присяжных огласил вердикт:
— Жюри присяжных признало подсудимого виновным во взрыве Альберт-Холла. Однако жюри присяжных просит высокий суд обратить внимание на тот факт, что в парламентском округе Немезис-на-Хэнде вскорости пройдут дополнительные выборы.
— Я так понимаю, это можно считать оправданием подсудимого? — вскричал государственный прокурор, вскочив с места.
— Вот уж это вряд ли, — холодно ответствовал судья. — Мой долг — приговорить подсудимого к неделе тюремного заключения.
— И да смилуется над голосованием Господь, — непочтительно подытожил один из стряпчих.
Решение, конечно, получилось скандальным, но судья не считал, что обязан потворствовать политическим амбициям правительства.
Вердикт суда присяжных и окончательный приговор были обнародованы в двадцать минут шестого. А в половину шестого перед резиденцией премьер-министра собралась огромная толпа, горячо распевая на мотив «Трелони»:[108]
«Когда в тюрьму войдет Герой Хотя б на день иль час — Пятнадцать сотен за собой Он уведет от вас!»— Полторы тысячи голосов избирателей! — с содроганием произнес премьер-министр. — Даже думать не желаю об этом кошмаре! В прошлый раз мы выиграли с преимуществом всего в тысячу семь голосов.
— Избирательные участки откроются завтра в восемь утра, — сообщил Генеральный Секретарь. — К семи он должен быть на свободе.
— К половине восьмого, — поправил премьер-министр. — Иначе создастся впечатление, что мы действуем чересчур поспешно.
Генеральный Секретарь кивнул:
— Хорошо, но не позже половины восьмого. Я обещал нашему представителю на месте, что у него будет время повесить на избирательных участках плакаты «Плуттербафф на свободе» прежде, чем начнутся выборы. По его словам, это единственная наша возможность с вечерней почтой получить сообщение о том, что Рэдпроп победил.
На следующее утро ровно в половине восьмого премьер-министр и Генеральный Секретарь делали вид, будто завтракают, еле-еле притрагиваясь к пище и ожидая появления министра внутренних дел, который лично отправился проконтролировать освобождение Плуттербаффа из тюрьмы. Несмотря на ранний час, на улице уже начали собираться люди, и леденящий кровь напев «Пятнадцать сотен за собой он уведет от вас…» постепенно превращался в дружное непрерывное скандирование.
— Они немедленно аплодируют и вопят, стоит им услыхать новости, — с надеждой заметил премьер-министр. — О! Слышите? Сейчас они кого-то освистывают. Наверняка это МакКенна.
Мгновением спустя в комнату зашел министр внутренних дел, и на лице его отображался крах всех надежд, а из груди вырвался вопль:
— Он отказывается выходить!
— Отказывается? Не желает покидать камеру?
— Да, без духового оркестра он не переступит порога своей камеры. Он всегда покидал тюремные стены под звуки духового оркестра и отменять традицию не собирается.
— Но, разумеется, эту проблему решат его сторонники и почитатели? — вопросил премьер-министр. — Вряд ли кто-нибудь ожидает, что мы обязаны предоставить духовой оркестр заключенному, выходящему на свободу. Во имя всего святого, нас же просто не поймут!
— Именно этого его сторонники от нас и ожидают, — буркнул министр внутренних дел. — По их словам, раз именно мы засадили его в тюрьму, стало быть, наша забота обеспечить ему выход под фанфары. А он в любом случае отказывается убираться из тюрьмы без оркестра.
Раздался пронзительный телефонный звонок: на проводе был представитель власти из Немезис-на-Хэнде.
— Выборы начнутся через пять минут. Плуттербафф на свободе? Что за чертовщина там у вас…
Генеральный Секретарь бросил трубку и заявил без обиняков:
— Сейчас не время проявлять гордыню. Доставьте туда музыкантов, в конце-то концов. Пускай Плуттербафф насладится своим оркестром!
— И где вы собрались отыскать музыкантов? — устало спросил министр внутренних дел. — Вряд ли мы сумеем уговорить военный оркестр, а другого под рукой просто нет. Музыканты бастуют, вы что, не слышали?
— Неужто вы не в силах добиться прекращения забастовки? — осведомился Генеральный Секретарь.
— Я попробую, — вздохнул министр внутренних дел и направился к телефону.
Часы пробили восемь. Толпа на улице неистово распевала: «Пятнадцать сотен за собой он уведет от вас!»
На стол легла телеграмма из центрального представительства в Немезис-на-Хэнде. Она была краткой: «В минуту мы теряем двадцать голосов».
Часы пробили десять. Премьер-министр, Генеральный Секретарь, министр внутренних дел и несколько их влиятельных друзей, желающих помочь, собрались у входа в здание тюрьмы, на все лады убеждая Демосфена Плуттербаффа, а тот молча и неподвижно стоял перед ними, скрестив руки на груди. Златоусты законодательных баталий, чье красноречие заставило пасть ниц комиссию по делу Маркони[109] (или, по крайней мере, большую ее часть), попусту растрачивали свои ораторские способности, пытаясь изменить планы этого упрямого, несгибаемого человека. Он не собирался покидать стены тюрьмы без оркестра.
А оркестр они предоставить не могли.
Пробило четверть одиннадцатого.
Половину одиннадцатого.
В ворота тюрьмы то и дело врывались посыльные с телеграфными сообщениями. Отчаянные послания гласили: «Только что отголосовала фабрика Ямли. Угадаете, за кого?» — и все в том же духе. Немезис-на-Хэнде уверенно шел по пути Рединга.[110]
— У вас имеются какие-нибудь музыкальные инструменты? — требовательно спросил Генеральный Секретарь у начальника тюрьмы. — Такие, чтобы играть было полегче. Барабаны, кимвалы — что-то в этом духе.
Начальник тюрьмы пожал плечами:
— Наши надзиратели создали частный маленький оркестр. Но не думаете же вы, что я заставлю их…
— Одолжите нам инструменты, — велел Генеральный Секретарь.
Один из влиятельных друзей, жаждавших помочь, неплохо играл на корнет-а-пистоне, сам Генеральный Секретарь кое-что смыслил в барабанах, а члены Кабинета Министров могли бить в кимвалы более-менее в такт основной мелодии.
— Ну и какую песню вы предпочтете? — осведомился Генеральный Секретарь у Плуттербаффа.
Тот, поразмыслив пару мгновений, отвечал:
— Самую популярную на сегодня.
Все присутствующие сегодня слышали эту мелодию сотни раз, так что исполнить ее достаточно сносно оказалось несложным. И заключенный уверенной поступью отправился на свободу, сопровождаемый словами песни, сочиняемой на ходу: «Такого не желали мы вовеки совершить…» Разумеется, имелось в виду лишенное возможности выбирать правительство, а вовсе не разрушитель Альберт-Холла.
Увы, но и после всех этих мытарств место в парламенте было потеряно, хотя преимущество оппозиционера оказалось незначительным. Профсоюзы на местах слишком уж оскорбились действиями членов Кабинета Министров, которые лично показали пример штрейкбрехерства. Их не смогло умиротворить даже освобождение Плуттербаффа.
Впрочем, несмотря на потерю места, правительство праздновало моральную победу. Оно показало всем, что знает, когда и как именно надо проигрывать.
БРОДЯЧАЯ РЕДАКЦИЯ
Сэр Лулворт Куэйн неторопливо прохаживался по дорожкам зоопарка Зоологического сообщества. Компанию ему составлял племянник, недавно возвратившийся из Мексики. Этот юноша занимался сравнительным анализом родственных видов животных Северной Америки и Старого Света. Именно он и отметил:
— Самое любопытное в видовой миграции — это некий импульс, заставляющий животных сниматься с места, полностью меняющий их настоящее и будущее. Причем очевидных причин для этого не существует: животные долгое время чувствовали себя комфортно в определенной местности, и вдруг…
— Подобное поведение иногда характерно и для рода людского, — отвечал сэр Лулворт. — К слову, наиболее яркий пример я наблюдал здесь, в Англии, пока вы исследовали пустыни Мексики. Я имею в виду жажду странствий, внезапно охватившую персонал и руководство кое-каких лондонских газет. Началось все с одного из наших самых ярких и предприимчивых еженедельников. Его сотрудники удрали на берега Сены и к Монмартру. Это произошло крайне быстро, однако положило начало бесконечным подвижкам в мире прессы. Я бы сказал даже, что словосочетание «распространение печати» с тех пор наполнилось несколько иным значением… Другие редакции моментально последовали примеру первопроходцев. Вскоре Париж вышел из моды, ведь он находился чересчур близко от родного дома. Первенство захватили Нюрнберг, Севилья и Салоники: они стали новыми пастбищами для персонала не только еженедельников, но и ежедневных газет. Некоторые редакции, возможно, не слишком хорошо думали, выбирая места обитания: скажем, один из ведущих рупоров протестантизма в течение двух недель курировался из Трувиля и Монте-Карло.[111] Впрочем, это сочли какой-то ошибкой… Кроме того, случались… хм… накладки, когда наиболее инициативные и предприимчивые редакторы переезжали вместе с редакцией куда-нибудь подальше. К примеру, «Внимательный исследователь», «Спортивные скандалы» и «Газета для юных девиц» одновременно переехали в Хартум. Кто знает, быть может, желание обойти всех конкурентов сподвигло редакцию «Еженедельного информатора», одного из виднейших рупоров либеральной мысли, перенести редакцию на три-четыре недели с Флит-стрит в Восточный Туркестан. Разумеется, добавив время на путешествие туда и обратно. В некотором смысле это было одним из самых примечательных спонтанных перемещений в мире прессы за то время. Ни малейшего следа махинаций, все честно: владелец издания, управляющий, редактор, редакторы отдельных блоков, ведущие колонок, основные репортеры и все такое прочее — все они участвовали в этом действе, которое публика частенько называла Drang nach Osten. В опустевшем редакционном улье оставался лишь смышленый и энергичный мальчик на посылках.
— Похоже, к настоящему моменту все вернулось на круги своя? — спросил племянник.
Сэр Лулворт поморщился:
— Видишь ли, идея с переездами была скомпрометирована некоторыми недобросовестными особами, отнесшимися к ней спустя рукава. Никому не придет в голову восторгаться сообщениями о том, что такая-то и сякая-то газета сдается в печать из Лиссабона или Инсбрука, если есть хоть малейший шанс увидать ведущего рубрики или главного художника, которые по-прежнему завтракают в любимом ресторане. Собственно, «Еженедельный информатор» был решительно настроен не дать ни малейшего повода опорочить свое паломничество. И, надо признать, меры, предпринятые для пересылки статей и сохранения духа газеты во время долгого путешествия, оказались успешными: поначалу все пошло гладко. В Баку была начата серия статей «Влияние учения Кобдена на перевозки с помощью верблюдов».[112] О, это была одна из лучших работ, освещающих свободную торговлю! В то же время видение международной политики, позиционируемое якобы как «взгляд с крыши Яркенда», было настолько точным, как если бы журналист глядел прямиком с Даунинг-стрит — ну или с крыши в полумиле от нее. В лучших, старинных традициях британской журналистики произошло и возвращение редакции в родные пенаты: без напыщенности, самовосхвалений, интервью, жгущих глаголом сердца людей… Редакция вежливо отвергла даже приглашение на банкет в «Клубе путешественников» по случаю возвращения героев. Впрочем, вскорости стало ясно, что поведение журналистов вызвано отнюдь не скромностью, а расчетливостью. Простые наборщики, рекламные агенты и другие работники, не входившие непосредственно в число сотрудников редакции, которые, естественно, не участвовали в великом путешествии на Восток, обнаружили это первыми. Видите ли, связаться с главным редактором и его подчиненными, путешествовавшими с ним, было по-прежнему столь же затруднительно, как если б они оставались в Центральной Азии. Связь между пишущей братией и остальными отделами осуществлял угрюмый, еле державшийся на ногах мальчишка-посыльный. Он-то и охарактеризовал новое положение сардонической фразой: «Будто они в Яркенде остались». Более того, почти все репортеры и выпускающие редактора после возвращения были уволены самым беспардонным образом, а на их место с помощью объявлений наняли новых. Редактор и его ближайшие помощники не показывались этим людям, оставаясь для них таинственными высшими силами, передающими посредством медиума краткие инструкции в напечатанном виде. Живое общение и демократическую простоту прежних дней сменило нечто таинственное, тибетское, скрытое от прочих смертных. Это почувствовали и особы, стремившиеся вовлечь возвратившихся путешественников в суету общественной жизни. Выдающиеся светские львицы, королевы лондонских салонов двадцатого века тщетно метали жемчуг своего гостеприимства в корыто редакционного почтового ящика. Казалось, ничто не отвратит вернувшихся из тибетских странствий отшельников отданного ими обета скрытности — ну, разве что королевское распоряжение, не меньше. Поползли кривотолки: дескать, высокогорье и традиции Востока плохо влияют на умы и характеры, не привычные к подобного рода излишествам. Словом, к яркендской манере руководства люди отнеслись неодобрительно.
— А отразилась ли эта новая манера руководства на содержании еженедельника? — полюбопытствовал племянник.
— О! — вскричал сэр Лулворт. — Вот это было по-настоящему волнующе! Конечно, статьи, посвященные внутренней политике, социальной жизни и ежедневным происшествиям, не слишком-то изменились. Возможно, нотка свойственной Востоку беззаботности появилась в работе отдела редактуры, но ведь стремление слегка расслабиться является вполне естественным для людей, только что вернувшихся из тяжелой поездки. В общем, до высот редактуры, существовавших в прежние времена, добраться уже не удавалось, однако прежняя политика доброжелательности и корректности никуда не делась. А вот в освещении внешней политики произошли революционные перемены. Появились жестокие, циничные, откровенные статьи, переворачивавшие с ног на голову осеннюю мобилизацию в шести ведущих державах мира. Чему бы там репортеры из «Еженедельного информатора» ни учились на Востоке, это явно не было искусством дипломатических недосказанностей. Уличные толпы наслаждались этими статьями, и никогда раньше газета не шла так нарасхват; однако джентльмены с Даунинг-стрит видели ситуацию совершенно иначе. Министр иностранных дел, до сих пор слывший крайне скрытным человеком, стал весьма словоохотлив, причем ему приходилось непрерывно отрицать, что он испытывает к издателям «Еженедельного информатора» какие-либо чувства. Неудивительно, что однажды правительство пришло к выводу о необходимости принятия жестких и решительных мер. К офису газеты направилась делегация, состоящая из премьер-министра, министра иностранных дел, четырех ведущих финансистов и богослова, известного тем, что его воззрения порой доходили до ереси. У дверей редакционного отдела путь им преградил взвинченный до предела, однако непреклонный мальчишка-посыльный.
— Сожалею, но вы не сможете увидеть ни редактора, ни кого-либо из сотрудников, — заявил он.
— А мы настаиваем на том, чтобы повидаться с редактором или с иным компетентным лицом, — ответствовал премьер-министр, и делегация продолжила свой крестовый поход. Мальчишка, однако, сказал правду: никого не было видно. Все комнаты обезлюдели: ни единой живой души.
— Где же редактор? Или приглашенный редактор? Или ведущий рубрики? Или хоть кто-нибудь?
Осыпаемый градом вопросов, мальчишка-посыльный выдвинул ящик одного из столов и достал оттуда необычного вида конверт, отправленный, судя по почтовому штемпелю, из Коканда семь или восемь месяцев тому назад. В конверте лежал обрывок бумаги, на котором было написано: «По пути в Британию нас захватила шайка разбойников. Они требуют в качестве выкупа четверть миллиона, но, возможно, согласятся убавить аппетиты. Пожалуйста, сообщите родственникам, друзьям и правительству». Письмо также содержало инструкции о том, как и где передать деньги, и было подписано руководством еженедельника.
Адресовано письмо оказалось дежурному курьеру, который хладнокровно припрятал его. Никто не может быть героем для собственного мальчика на побегушках. Очевидно, юноша решил, что выгоды в случае возвращения на родину неудачливого персонала еженедельника весьма сомнительны, а вот расходы в четверть миллиона — несомненны и недопустимы. Так что он подсчитывал оклады редакторов и прочих работников, подделывал подписи там, где это было необходимо, нанял новых репортеров, редактировал по мере возможности статьи в различных рубриках и вставлял там, где это возможно, различного рода узкопрофильные статьи, хранящиеся в огромных количествах в редакционных портфелях на случай непредвиденных обстоятельств. Статьи о внешней политике были целиком и полностью написаны им самим.
Разумеется, следовало сохранить в тайне все происшедшее. В редакцию был нанят временный штат, давший подписку о неразглашении. Они издавали газету, пока изнемогающих пленников разыскивали, выкупали и доставляли на родину — по двое-трое, дабы избежать огласки. В конце концов все вернулось на круги своя, и статьи о внешней политике вновь стали соответствовать прежним традициям газеты.
— Простите, — перебил племянник, — но как, во имя всего святого, мальчик-посыльный все это время объяснял родственникам отсутствие…
— В этом-то и заключается основная соль истории, — сказал сэр Лулворт. — Он посылал письмо жене или иному ближайшему родственнику каждого из членов экспедиции. По мере возможности копировал почерк очередного бедолаги и извинялся за дрянные чернила и плохо очиненные перья. В письмах содержалась примерно одна и та же история: дескать, автор, единственный из всей экспедиции, не сумел преодолеть соблазнов первозданной свободы и жизни на Востоке, а потому собирается странствовать там еще некоторое время. Мальчишка-посыльный изменял лишь местность, выбирая другой регион для каждого члена редакции. Сколько же жен немедленно пустилось в погоню за неверными мужьями! Прошло немало времени и случилось множество неприятностей, прежде чем правительству удалось вернуть женщин из их бесплодных скитаний по берегам Аму-Дарьи, пустыне Гоби, оренбургским степям и другим заморским краям. Одна из них, я точно помню, так и затерялась где-то в долине Тигра и Евфрата.
— А что же юноша?
— Юноша? О! Он теперь звезда журналистики.
О. Генри МЕТОДИКА ШЕНРОКА ДЖОЛЬНСА
Я счастлив, что могу назвать себя другом самого Шенрока Джольнса, великого нью-йоркского детектива. Джольнс справедливо считается мозгом детективного дела в нашем мегаполисе. А вдобавок он — признанный знаток стенографии, поэтому каждый раз, когда в городе происходит особенно сенсационное убийство, мой друг сутками пропадает в полицейском участке за настольным телефоном, принимая и фиксируя телефонограммы всяческих болтунов, бывших свидетелями преступления или, по крайней мере, утверждающих это.
Но в другие, более свободные дни, когда «свидетелей» оказывается гораздо меньше, хотя несколько крупных газет уже успели не только раструбить о расследовании по всему миру, но даже назвать преступников, Джольнс совершает со мной прогулку по городу. К моему величайшему удовольствию, при этом он рассказывает о своих чудеснейших методах наблюдения и дедукции.
Как-то раз я явился в полицейский участок и увидел, что великий детектив сосредоточенно глядит на веревочку, туго обвязанную вокруг его мизинца.
— Доброе утро, Ватсуп! — сказал он, не поворачивая головы. — Я чрезвычайно рад, что вы наконец-то осветили свою квартиру электричеством.
— Очень прошу вас сказать мне, как вы узнали об этом! — воскликнул я, пораженный. — Прекрасно знаю, что никому об этом даже не обмолвился. Электричество провели неожиданно, и лишь сегодня утром завершили работу.
— Это проще простого! — весело ответил мне Джольнс. — Как только вы вошли, я сразу же почувствовал запах вашей сигары. Я знаю толк в дорогих сигарах, и мне известно также и то, что только три человека в Нью-Йорке могут позволить себе курить сигары действительно хорошие — и при этом оплачивать счета за газовое освещение. А вы не из их числа. Пустяковая, в общем, задача. Но вот сейчас я занимаюсь значительно более серьезной проблемой, уже моей собственной!
— Да, кстати, что это за веревочка у вас на пальце? — спросил я.
— Вот в этом-то и проблема! — сказал Джольнс. — Эту веревочку завязала мне сегодня жена, чтобы напомнить о каком-то предмете, которую нужно отправить домой. Присядьте, Ватсуп, и извините: я прерву наш разговор на несколько минут.
Великий детектив подошел к стенному телефону, прижал к уху трубку и простоял так минут десять.
— Принимали донесение? — спросил я после того, как он вернулся на свое место.
— Возможно, — с улыбкой возразил Джольнс. — В известной степени это тоже можно назвать донесением. Знаете, дружище, я буду с вами вполне откровенен. Я, что называется, переборщил. Я увеличивал да увеличивал дозы, и теперь дошло до того, что морфий совершенно перестал оказывать на меня действие. Мне теперь необходимо что-то посильнее! Этот телефон сейчас соединял меня с апартаментами в отеле «Уолдорф», где как раз проходят литературные чтения.[113] Что ж, теперь перейдем к разрешению проблемы этой веревочки.
После пяти минут самой сосредоточенной тишины Джольнс посмотрел на меня с улыбкой и кивнул.
— Вы — потрясающий человек! — воскликнул я. — Уже?!
— Это очень просто! — сказал он, подняв палец. — Вы видите этот узелок? Это для того, чтобы не забыть что-то очень важное. Моя дражайшая супруга постоянно говорит: «Ты, может быть, и умен в своих детективных делах, но просить тебя что-либо сделать по дому абсолютно бесполезно: все равно что горох о стену…». Значит, она просила меня купить горох!
— Замечательно! — Я не смог удержать возглас изумления.
— Не желаете пройтись со мной? — предложил Джольнс. — Сейчас как раз затишье, в настоящее время можно говорить только об одном сенсационном случае. Некий МакКарти, ста четырех лет от роду, умер после трапезы, на которой были обильно подаваемы бананы. Все данные так убедительно указывали на мафию, что полиция окружила Клуб № 2, что на Второй авеню, Кошкин-доммер-Гамбринус, и поимка убийцы — вопрос лишь нескольких часов. Поэтому меня еще не призвали на помощь.
Мы с Джольнсом вышли на улицу и направились к остановке трамвая. На полпути мы встретили Рейнгельдера, нашего общего знакомого, который занимал какое-то значительное положение в Сити-Холл.[114]
— Доброе утро! — сказал Джольнс, остановившись. — Я вижу, что вы сегодня хорошо позавтракали.
Всегда следя за малейшими проявлениями замечательной дедуктивной работы моего друга, я успел заметить, как Джольнс мгновенно окинул взглядом большое желтое пятно на груди рубашки Рейнгельдера и пятно поменьше на его подбородке. Несомненно, эти пятна были оставлены яичным желтком.
— Опять вы пускаете в ход ваши детективные методы! — воскликнул Рейнгельдер, буквально-таки покатываясь от смеха. — Готов побиться об заклад на выпивку и на сигару, вы не отгадаете, что именно я ел сегодня на завтрак.
— Идет! — ответил Джольнс. — Сосиски, черный хлеб и кофе!
Рейнгельдер подтвердил все вышесказанное и заплатил пари.
Когда мы пошли дальше, я обратился к моему другу за разъяснением:
— Я думаю, что вы обратили внимание на яичные пятна на его груди и подбородке?
— Верно! — отозвался Джольнс. — Именно это и было отправной точкой! Рейнгельдер — человек очень экономный. Вчера яйца на базаре упали до двадцати восьми центов за дюжину. Сегодня же они стоили сорок два цента. Поэтому Рейнгельдер ел яичницу вчера, а сегодня уже вернулся к своему обыденному меню. С такими мелочами необходимо считаться: они очень значительны. Детектив узнает их еще в младших классах: это — арифметика нашего дела!
Когда мы вошли в трамвай, то сразу увидели, что почти все места заняты женщинами. Мы с Джольнсом остались стоять на задней площадке.
На одном из центральных мест сидел пожилой господин с короткой седенькой бородкой, производивший впечатление типичного хорошо одетого жителя Нью-Йорка. На следующих остановках в вагон вошли еще несколько женщин, и вот уже три или четыре дамы стояли рядом с седым господином, держась за кожаные ремни и выразительно глядя на него, — но мужчина и не думал уступать им место.
— Мы, жители Нью-Йорка, — сказал я, обращаясь к Джольнсу, — настолько утратили свои прежние манеры, что даже для виду не пытаемся соблюдать правила вежливости!
— Очень может быть! — легко ответил Джольнс. — Но этот господин, о котором вы, вероятно, сейчас говорите, уроженец Старой Вирджинии,[115] притом он как раз человек очень вежливый и деликатный. Он провел в Нью-Йорке всего несколько дней, вместе со своей семьей, состоящей из жены и двух дочерей, и сегодня они вместе уезжают на Юг.
— Вы, оказывается, знаете его? — воскликнул я, смутившись.
— Я никогда в жизни его не видел до того момента, как мы вошли в этот вагон! — с улыбкой возразил детектив.
— Но тогда, во имя золотых зубов Аэндорской ворожеи,[116] объясните мне, что это значит! Если все ваши заключения сделаны на основании того, что доступно лишь взгляду, то не иначе как вы призвали на помощь черную магию!
— Нет, всего лишь наблюдательность! — ответил Джольнс. — Если этот старый джентльмен выйдет из вагона прежде нас, то надеюсь, что мне удастся доказать вам правильность моего вывода.
Через три остановки господин встал с намерением выйти из вагона. В дверях мой друг обратился к нему:
— Простите великодушно, сэр, но не будете ли вы полковник Хантер из Норфолка, Вирджиния?
— Нет, сэр! — последовал исключительно вежливый ответ. — Моя фамилия Эллисон, сэр! Майор Уинфельд Р. Эллисон из Ферфакса в названном вами штате. Мне известно, сэр, множество людей в Норфолке: Гудриши, Толливеры и Кребсри, но до сих пор я не имел удовольствия встретить там вашего друга полковника Хантера. Весьма рад доложить вам, сэр, что сегодня ночью я уезжаю в Вирджинию, после того как провел здесь несколько дней вместе с женой и тремя дочерьми. В Норфолке я буду приблизительно через десять дней, и, если вам угодно назвать мне ваше имя, я с удовольствием повидаюсь с полковником Хантером и передам, что вы справлялись о нем.
— Чрезвычайно благодарен, — отозвался Джольнс. — Уж раз вы так любезны, то я прошу передать ему привет от Рейнольдса.
Я взглянул на великого нью-йоркского детектива и заметил на его строгом, благородных очертаний лице выражение скорби. Шенрока Джольнса неизменно огорчала даже самая малая ошибка в его дедуктивных выводах.
— Вы, кажется, изволили говорить о своих трех дочерях? — спросил он джентльмена из Виргинии.
— Да, сэр, дочерей у меня три, и это самые очаровательные девушки во всем графстве Ферфакс! — последовал ответ.
Сказав это, майор Эллисон уже шагнул было из вагона, но Шенрок Джольнс схватил его за рукав.
— Одну секунду, сэр! — пробормотал он вежливо, один лишь я уловил в его голосе нотку волнения. — Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что одна из ваших дочерей — приемная?
— Совершенно верно, сэр! — подтвердил майор, уже стоя на улице. — Но какого черта… как вы узнали это? Это превосходит мое понимание…
— И мое, — сказал я, когда трамвай двинулся дальше.
Убедившись, что не совершил ошибки, Шенрок Джольнс немедленно вернул себе обычную ясность ума и наблюдательность, а заодно и спокойствие. Когда мы вышли из трамвая, он пригласил меня в кафе, пообещав изложить ход мыслей, приведших его к последнему изумительному выводу.
— Во-первых, — начал он, когда мы устроились в кафе, — я определил, что этот джентльмен — не житель Нью-Йорка, поскольку он покраснел и чувствовал себя неловко и неспокойно под взглядами женщин, стоявших около него, хотя и не встал, не уступив никому из них своего места. Ну а по внешности его легко можно понять, что он скорее с Юга, нежели с Запада. Потом я задался вопросом, отчего он не уступил места любой из женщин, хотя испытывал явную, пусть даже не слишком сильную потребность сделать это? На данный вопрос я ответил себе очень скоро. Я заметил, что один глаз этого джентльмена красен и воспален, а кроме того, его лицо усеяно множеством мелких кровоподтеков, каждый диаметром примерно с величиной с карандаш. И наконец, я увидел на обоих его патентованных кожаных башмаках большое количество глубоких отпечатков формы, приближенной к овальной, но срезанных с одного конца. Ну а теперь примите во внимание следующее: в Нью-Йорке есть только один район, где человек может получить такие царапины, раны и отметины, и это место — вся Двадцать Третья стрит и южная часть Шестой авеню, где собираются суфражистки… а также, случайно или нет, расположены ведущие модные магазины. По отпечаткам французских каблучков на сапогах этого джентльмена и по многочисленным точкам на его лице, оставленным дамскими зонтиками, я понял, что он попал в этот торговый центр и выдержал баталию с войском наших амазонок. А так как его лицо отмечено печатью незаурядного интеллекта, то мне стало ясно, что на подобную прогулку он решился не по собственному почину, а вынужден был к тому превосходящими силами его собственного дамского отряда.
— Все это очень хорошо, — сказал я, — но объясните мне, почему вы настаивали на том, что у него есть дочери, да и к тому же еще именно две? Разве одной только жене, без дочерей, не удалось бы послать его в тот самый торговый район?
— Нет, тут обязательно были замешаны дочери! — спокойно возразил Джольнс. — Если бы у него была только жена, то он не поехал бы туда сам, но, в зависимости от возраста супруги, либо отправил ее за покупками, либо… женщина сама предпочла бы отправиться туда в одиночку: особенно если она намного моложе мужа. Вот и весь секрет!
— Ладно, я готов поверить и в это! Однако теперь скажите: почему дочерей именно две? И еще — заклинаю вас всеми святыми, объясните мне, как вы догадались, что у него одна приемная дочь, после того как он поправил вас и сказал, что дочерей у него три?
— Не говорите «догадался»! — сказал мне Шенрок Джольнс с оттенком гордости в голосе. — В моем лексиконе нет таких слов! Я обратил внимание, что петлице майора Эллисона находятся гвоздика и розовый бутон на фоне листа герани. Но ни одна женщина не захочет составить такую странную композицию. Предлагаю вам, Ватсуп, на минуту закрыть глаза и дать волю фантазии. Представьте себе, как очаровательная Адель укрепляет на лацкане гвоздику для того, чтобы ее папочка выглядел как можно презентабельней, а миг спустя заговорила ревность в ее сестрице Эдит, и она торопится вдеть в ту же петлицу розовый бутон… Ведь вы это видите как наяву, не правда ли?
— А потом, — воскликнул я, чувствуя, как мной начинает овладевать энтузиазм, — потом, когда он заявил, что у него три дочери?..
— Я сразу увидел на заднем фоне девушку, которая не прибавила третий цветок, и я понял, что она должна быть…
— Приемной дочерью! — перебил я его. — Вы поразительный человек! Скажите мне еще, каким образом вы узнали, что они уезжают на Юг сегодня же ночью?
И великий детектив ответил мне:
— Из его бокового кармана выпирал какой-то предмет, сравнительно большой и овальный. Объяснить это можно очень просто: в вагоне-ресторане не подают по-настоящему хороший виски, а от Нью-Йорка до Ферфакса дорога в поезде долгая!
— Я снова должен преклониться пред вами! — сказал я. — Разъясните мне еще одну вещь, и тогда исчезнет последняя тень сомнения. Каким образом вы решили, что он — из Вирджинии?
— Вот в чем я согласен с вами: тут была очень слабая примета! — ответил Шенрок Джольнс. — Но ни один опытный сыщик не мог бы не обратить внимания на запах мяты.[117]
НА ДРУГОМ БЕРЕГУ ДЕТЕКТИВА
Сюжеты, в которых победа, вопреки привычному канону, остается за «черным королем», то есть не за сыщиком, а за преступником (ну или тем, кто выступает в качестве последнего перед законом), для старых мастеров, в общем, не характерны. Эрнст Уильям Хорнунг, близкий свойственник Конан Дойла (был женат на его сестре), был едва ли не первым, кто заставил своих «антисыщиков» Раффлза и Мандерса заниматься таким делом — и, надо сказать, сэр Артур оказался этим весьма недоволен. А вот к Гранту Аллену — не родственнику, но другу, единомышленнику и соавтору — у Конан Дойла никаких претензий не возникло…
Интересно, возникли бы они к Саймону Брентли? И знал ли его сэр Артур вообще? Может быть, и да: они ведь все-таки современники. Но мы — в очередной раз! — о жизни этого автора, весьма популярного несколько лет до начала Первой мировой войны, имеем весьма смутное впечатление…
Джек Лондон, почти всю первую половину своей жизни смотревший на мир практически со «дна» (а «Золото краеугольных камней» — рассказ ранний, той поры, когда Лондон еще не обрел писательскую знаменитость) пришел к антидетективу самым естественным образом: он до такой степени был на стороне преследуемого, что ему казалось невозможным солидаризоваться с сыщиком. Даже если тот был явно прав, а его «жертва» — столь же очевидно не права.
Примерно то же можно сказать и об Уильяме Хоупе Ходжсоне. Который, кстати, куда более известен как один из «желающих странного» (цикл «Карнаки: охотник за призраками»). Ну вот и, приступая к детективному жанру, он, как видно, сам себе такое пожелал. В результате оказавшись на стороне… нет, все же не злодея; но неотразимого мошенника — точно.
На стороне настоящих злодеев старые мастера не оказывались никогда. И в этом их отличие от авторов нынешнего поколения.
Пожалуй, это отличие — не в нашу пользу…
Эрнст Хорнунг
МАРТОВСКИЕ ИДЫ
I
В половине первого я вернулся в Олбани[118] как в последний приют отчаявшегося. Сцена моего падения не сильно изменилась с того момента, как я ее оставил. Стол все еще был усеян игральными фишками, заставлен пустыми бокалами и переполненными пепельницами. Окно открыли, чтобы проветрить комнату от дыма, впустив вместо него туман с улицы. Раффлз всего лишь сменил смокинг на один из своих многочисленных блейзеров. Но он так удивленно вздернул брови при моем появлении, словно я поднял его прямо с постели.
— Что-то забыли? — спросил он, увидев меня на пороге.
— Нет, — ответил я и бесцеремонно протиснулся мимо него в комнату, изумляясь собственной наглости.
— Вы же не реванш взять пришли, правда? Поскольку, боюсь, я не смогу вам его дать в одиночку. Я и сам сожалел, что остальные…
Мы стояли лицом к лицу у камина. Я резко оборвал Раффлза.
— Вы, — сказал я, — должно быть, удивлены моему возвращению в такой час и таким образом. Я едва вас знаю. Я ни разу не бывал у вас дома до вчерашнего вечера. Но в школе вы были моим наставником, и вы сказали, что помните меня. Конечно, это не извиняет моего поведения, но не могли бы вы выслушать меня — в течение пары минут?
Поначалу я так волновался, что с трудом выдавливал из себя каждое слово, но по мере того, как я говорил, выражение его лица придавало мне все больше уверенности — и я понял, что не ошибся в своей оценке.
— Конечно, дорогой мой, — сказал он, — столько минут, сколько вам будет угодно. Возьмите сигарету и присаживайтесь.
Он протянул мне свой серебряный портсигар.
— Нет, — твердо ответил я, покачав головой, — нет, курить я не буду. И садиться не буду, спасибо. И вы не станете предлагать мне ни того ни другого, когда услышите то, что я собираюсь сказать.
— Вот как? — удивился он, покосившись на меня, и поджег сигарету. — Почему вы так уверены?
— Потому что, скорее всего, вы выставите меня за дверь, — с горечью воскликнул я, — и будете совершенно правы! Но незачем ходить вокруг да около. Вы знаете, что я только что спустил около двух сотен.
Он кивнул.
— И мои карманы пусты.
— Я помню.
— Но у меня есть чековая книжка, и я выписал каждому из вас чек, прямо за этим столом.
— И?..
— Ни один из них не стоит дороже бумажки, на которой написан, Раффлз. Я уже превысил свой кредит в банке!
— Наверняка это временно?
— Нет. Я истратил все.
— Но мне говорили, что вы весьма обеспечены. Я слышал, вам досталась солидная денежная сумма.
— Это правда. Три года назад. И это стало моим проклятием, теперь у меня не осталось ничего — ни единого пенни! Да, я был идиотом, нет и не будет больше такого идиота, каким был я… Разве этого вам недостаточно? Почему вы не выпроводите меня вон?
Вместо этого он принялся расхаживать взад-вперед с очень мрачным видом.
— Ваши родственники не могут что-нибудь предпринять? — спросил он некоторое время спустя.
— Слава богу, — воскликнул я, — никаких родственников у меня нет! Я был единственным ребенком в семье. И унаследовал все имущество. Меня утешает лишь то, что мои родные мертвы и никогда не узнают о случившемся.
Я упал в кресло и закрыл лицо руками. Раффлз продолжил мерить шагами дорогой ковер, прекрасно гармонирующий с остальной обстановкой его квартиры. Мерный и мягкий ритм его шагов не изменился.
— Вы были способным к литературе молодым человеком, — сказал он после паузы, — вы же редактировали журнал, пока не начали издаваться сами? Так или иначе, я припоминаю, что просил вас сочинять для меня стихи. А литература любого сорта нынче популярная штука, любой дурак может заработать себе этим на жизнь.
Я покачал головой.
— Любой дурак не может списать мои долги, — сказал я.
— Но у вас же есть какая-то квартира? — продолжил он.
— Да, на Маунт-стрит.[119]
— Хорошо, а что насчет мебели?
Я горестно рассмеялся.
— На все оформлены закладные на многие месяц вперед.
Тут Раффлз наконец остановился, вздернув брови и уставившись на меня пронзительным взглядом, который мне было легче вынести теперь, когда он знал худшее. Потом он пожал плечами и продолжил ходить туда-сюда. Некоторое время никто из нас не говорил ни слова. Но на его красивом бесстрастном лице я прочел свою судьбу и свой смертный приговор, и с каждым вздохом проклинал я свое безрассудство и свое малодушие, из-за которых вообще посмел явиться к нему. Потому что он был добр ко мне в школьные годы, когда был капитаном крикетной команды и моим наставником, и я осмелился просить его о великодушии теперь. Потому что я был разорен, а он — достаточно богат, чтобы все лето играть в крикет и бездельничать весь остаток года. Я тщетно понадеялся на его сострадание и сочувствие, на его помощь! Да, в глубине души я надеялся на него, при всей моей внешней неуверенности и заверениях в обратном, и со мной обошлись вполне заслуженно. Вряд ли была хоть капля сострадания и сочувствия в этих раздувшихся ноздрях, в этой напряженной челюсти, в холодных голубых глазах, даже не взглянувших в мою сторону. Я схватил свою шляпу и вскочил на ноги. Я собирался уйти, не сказав ни слова. Но Раффлз встал на моем пути к дверям.
— Куда вы собрались? — спросил он.
— Это моя забота, — ответил я. — Вас я больше не потревожу.
— Тогда как же я смогу вам помочь?
— Я не просил вас о помощи.
— Тогда зачем вы пришли?
— Действительно, зачем? — повторил я его вопрос. — Вы дадите мне пройти?
— Нет, пока вы не скажете, куда идете и что собираетесь делать.
Я не отвечал.
— Неужели у вас достанет мужества? — нарушил он тишину в тоне настолько циничном, что у меня внутри все вскипело от ярости.
— Увидите, — сказал я, отступив на шаг назад и достав револьвер из кармана пальто. — Так что, вы дадите мне пройти или мне придется сделать это прямо здесь?
Я приставил ствол к виску и положил палец на спуск. В состоянии нездорового возбуждения, в котором я пребывал, раздавленный, обесчещенный, наконец-то приняв решение свести счеты со своей никчемной жизнью, я удивлялся лишь тому, что не сделал этого раньше. Мерзкое удовлетворение от того, что я втянул в это другого человека, вносило скудную лепту в мой эгоизм; я с содроганием думал, что чувство страха или же отвращения на лице моего собеседника послужило бы мне последним утешением и я умер бы дьявольски счастливым, глядя на него. Но я увидел нечто совсем иное. Ни отвращения, ни страха, лишь изумление, восхищение и даже радостное предвкушение, которое заставило меня в конце концов, выругавшись, убрать револьвер в карман.
— Вы дьявол! — сказал я. — Похоже, вы хотели, чтобы я это сделал!
— Не совсем, — ответил он, с запоздалым испугом и слегка побледневшим лицом. — Хотя, по правде говоря, я не думал всерьез, что вы решитесь, и ни разу в жизни не был настолько восхищен. Да, никогда ранее я не мог подумать, что ты на такое способен, Банни![120] Нет, я повешусь, если отпущу тебя сейчас. И больше не играй со мной в эти игры, потому что в другой раз ты меня так врасплох не застанешь. Мы должны обдумать, как выпутаться из этого положения. Я и не подозревал, что ты за человек. А ну дай-ка сюда револьвер.
Одной рукой он дружески обнял меня за плечи, другую запустил в карман моего пальто, и я, не пикнув, позволил ему изъять оружие. Не только потому, что Раффлз, когда хотел, мог навязать другому свою волю. Я в жизни не встречал более властного человека, тут ему не было равных; однако мою уступчивость нельзя было объяснить только одним подчинением слабой натуры сильной. Робкая надежда, что привела меня в Олбани, как по волшебству превратилась в почти непереносимое чувство уверенности. Раффлз в конце концов меня выручит! А. Дж. Раффлз станет моим другом! Словно весь мир вдруг оказался на моей стороне; так что я не только не воспротивился, но, напротив, поймал его руку и пожал ее с горячностью столь же сильной, как обуревавшее меня перед тем дикое отчаяние.
— Да благословит вас… тебя Господь! — вскричал я. — Простите меня за все. Я расскажу тебе правду. Я действительно думал, что вы сможете помочь мне в безвыходном положении, хотя прекрасно понимал, что не имею на то никаких оснований. И все же — ради памяти о школьных днях, памяти о прошлом — я надеялся, что, может быть, ты предоставишь мне еще один шанс. Если бы вы отказались, я собирался разнести себе голову — и разнесу, если ты передумаешь.
Я и в самом деле опасался, что он передумает, наблюдая, как меняется его выражение, пока я говорю, — и это несмотря на его дружеский тон и еще более дружеское упоминание моего старого школьного прозвища. Однако его ответ показал, что я ошибаюсь.
— Как мы любим делать поспешные выводы! У меня есть грехи, Банни, однако нерешительность к их числу не относится. Сядь-ка, дружище, и успокой свои нервы сигаретой. Я настаиваю. Виски? Сейчас для тебя нет ничего хуже виски; вот, выпей кофе, я как раз заваривал, когда ты пришел. А теперь послушай, что я скажу. Ты говорил о «еще одном шансе». Что ты имел в виду? Отыграться в баккара? Поверь, это не шанс. Ты надеешься, что тебе должно повезти; а если нет? Попадешь из огня да в полымя, и только. Нет, мой милый, ты и без того крепко увяз. Отдаешь свою судьбу в мои руки или нет? Если да — прекрасно, в таком случае я не дам тебе увязнуть глубже и не стану предъявлять к оплате свой чек. К несчастью, кроме меня ты выдал чеки другим; а что еще хуже, Банни, — я точно так же сижу сейчас на мели, как и ты!
Теперь пришел мой черед воззриться на Раффлза.
— Вы? — воскликнул я. — Вы на мели? В это невозможно поверить, глядя на твои апартаменты.
— Однако я не отказался поверить тебе, — возразил он с улыбкой. — Неужто ты, с твоим-то опытом, можешь думать, что раз человек снимает квартиру в этом доме, состоит в одном-двух клубах и балуется крикетом, у него обязательно должны быть деньги в банке? Уверяю, дорогой мой, в настоящее время у меня на счете так же пусто, как и у тебя. Помимо собственной пронырливости, у меня нет совершенно никаких источников дохода. Сегодня мне было так же необходимо выиграть, как и тебе. Мы с тобой, Банни, товарищи по несчастью, поэтому лучше нам действовать сообща.
— Сообща! — Я ухватился за это слово. — Для вас, Раффлз, я пойду на все, если только вы и в самом деле меня не оставите. Я исполню все, что тебе заблагорассудится. Я пришел к тебе готовым на все — и по-прежнему готов на все. И наплевать мне на то, что надо сделать, если только удастся из этого выпутаться без скандала.
Он опять уселся передо мной, откинувшись на спинку одного из роскошных кресел, которые украшали его комнату. Я снова видел его ленивую позу и спортивную фигуру; бледное, гладко выбритое лицо с заостренными чертами; вьющиеся черные волосы; жесткий решительный рот. И снова почувствовал его поразительно ясный, цепкий, холодный и сияющий, как звезды, взгляд, проникающий в мою черепную коробку и взвешивающий самые заветные тайны моей души.
— Хотел бы я знать, искренне ли ты говоришь, — наконец произнес он. — В теперешнем твоем настроении — безусловно, но кто может поручиться за свои настроения? Впрочем, твои слова и, главное, тон вселяют надежду. К тому же, помнится, в школе ты были отчаянным чертенком; помнится даже, как-то раз ты тогда меня здорово выручил. Вспоминаешь, Банни? Ладно, погоди немного — я, возможно, сумею отплатить тебе сторицей. Дай мне подумать.
Он встал, закурил новую сигарету и снова принялся мерить шагами комнату, расхаживая медленнее, сосредоточенней и куда дольше, чем в прошлый раз. Дважды он останавливался передо мной, словно решаясь заговорить, но потом передумывал и возобновлял молчаливые шаги. Один раз он поднял оконную раму, которую перед тем опустил, и постоял, опершись на подоконник и глядя в туман, заполнивший внутренний дворик Олбани. Тем временем часы на каминной полке отбили час ночи, затем половину второго; мы оба хранили молчание.
Однако я не только терпеливо ждал, сидя в кресле, но за эти полчаса пришел в состояние какой-то неуместной расслабленности. Я бессознательно переложил свою ношу на широкие плечи моего замечательного друга и позволил мыслям лениво следовать за взглядом, пока минуты тянулись одна за другой. Комната была квадратная и большая, с двойными дверями и мраморной каминной полкой, в ней чувствовался мрачноватый старомодный аристократизм, присущий Олбани. В ее обстановке и интерьере подобающая доля небрежности приятно сочеталась с подобающей же долей хорошего вкуса. Больше всего меня, однако, поразило отсутствие в ней атрибутов, обязательных для логова заядлого крикетиста. Вместо традиционного стенда с потрепанными в сражениях битами значительную часть одной из стен занимал книжный шкаф резного дуба, с кое-как рассованными по полкам книгами, а там, где полагалось быть фотографиям крикетных команд, я увидел висящие как попало копии «Любви и смерти» и «Небесной подруги» в пыльных рамках. Можно было счесть, что здесь поселился неудачливый поэт, а не первоклассный спортсмен. Но сложной натуре Раффлза никогда не была чужда тяга к утонченному и изящному; с некоторых картин, украшающих стены, я собственноручно стирал пыль еще в его школьной рабочей комнате. Они-то и натолкнули меня на мысли о другой стороне его многообразной личности — и о давнем случае, про который он только что упомянул.
Всякому известно, насколько зависит атмосфера в школе-интернате для мальчиков от крикетной команды, а в особенности от личности ее капитана. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то спорил с тем, что во времена А. Дж. Раффлза атмосфера в школе была превосходной, а его влияние на эту атмосферу, когда он его оказывал, чем-то сродни благодати. Тем не менее по школе ходили слухи, что, когда все остальные отходят ко сну, он частенько сбегает и разгуливает ночами по городу в кричащей клетчатой паре и накладной бороде. Об этом шептались, но в это не верили. И только я один знал, что это правда, потому что ночь за ночью втягивал за ним веревку, пока все крепко спали, и бодрствовал до нужного часа, чтобы спустить ее из окна по его сигналу. Так вот, однажды ночью он забыл об осторожности и в самом зените своей славы оказался на волосок от позорного исключения. Невероятная дерзость и удивительное самообладание с его стороны, помноженные, несомненно, на долю самообладания с моей, благополучно предотвратили эту печальную развязку. Нет нужды останавливаться на том постыдном случае подробнее, но я не стал бы притворяться, будто забыл о нем, когда в безвыходном своем положении отдался на милость этого человека. Когда он снова остановился передо мной, я подумал именно о том, в какой степени снисходительность Раффлза к моей персоне продиктована тем, что он тоже не забыл об этом происшествии.
— Я думал о той ночи, — начал он, — когда мы чуть не вляпались. Почему ты вздрогнул?
— Я тоже думал об этом.
Он улыбнулся, будто прочитал мои мысли.
— Что ж, Банни, тогда ты был надежным маленьким плутом — не заложил меня и не пошел на попятный. Ты ни о чем не спрашивал и ни о чем не болтал. Хотелось бы знать, ты и сейчас такой же?
— Не знаю, — ответил я, несколько озадаченный его тоном. — Я так запутался в собственных делах, что и сам себе не верю, и другие мне вряд ли поверят. Но друзей я ни разу в жизни не предавал, за это ручаюсь. Будь оно по-другому, я, возможно, не сидел бы сейчас без денег.
— Вот именно, — сказал Раффлз, словно подтверждая кивком свои тайные мысли, — именно таким я тебя помню и готов биться об заклад, что ты и сейчас тот же, каким был десять лет тому назад. Мы не меняемся, Банни. Мы только лишь развиваемся. Ни ты, ни я, полагаю, не изменились по-настоящему с тех времен, когда ты спускал мне веревку, а я карабкался по ней в окно. Для друга ты ведь на все готов, верно?
— На все что угодно, — воскликнул я с радостью.
— Даже на преступление? — улыбнулся Раффлз.
Я ответил не сразу: что-то в его интонации изменилось, и я решил, что он надо мной подтрунивает. Но взгляд его оставался серьезным, а мне было совсем не до оговорок.
— Да, даже на преступление, — заявил я. — Говори, что же нужно, — я в твоем распоряжении.
Он посмотрел на меня сперва с удивлением, потом с сомнением; затем, покачав головой и издав свой неповторимый циничный смешок, перевел разговор на другое.
— Хороший ты парень, Банни! Настоящий сорвиголова, да? Сначала самоубийство, а минуту спустя — любое преступление по моему выбору! Тебе, мальчик мой, требуется помощь, и ты правильно поступил, что обратился к приличному законопослушному гражданину, дорожащему своим добрым именем. Тем не менее мы должны раздобыть эти деньги нынче же ночью — всеми правдами и неправдами.
— Нынче же ночью, Раффлз?
— И чем быстрее, тем лучше. У нас есть время до десяти утра, после каждый час может оказаться роковым. Как только один из тех чеков предъявят в твой банк, тебе конец. Нет, достать деньги нужно ночью, а утром первым делом внести на твой счет. И, думается мне, я знаю, как это сделать.
— В два часа ночи?
— Да.
— Но как… и где… и в такой час?
— У моего друга, совсем рядом, на Бонд-стрит.
— Должно быть, это очень близкий друг.
— Не то слово близкий. Я вхож к нему в любое время, у меня есть собственный ключ.
— И вы поднимете его в столь поздний час?
— Если он в постели.
— И мне необходимо идти вместе с тобой?
— Определенно.
— Тогда придется идти, но должен признаться, Раффлз, мне все это не по душе.
— Ты предпочитаешь альтернативный исход? — усмехнулся мой собеседник и тут же воскликнул извиняющимся тоном: — Нет, черт возьми, это несправедливо! Конечно, я понимаю, что это неприятнейшее испытание. Но тебе не пристало оставаться в стороне. Знаешь что: перед уходом прими порцию — но только одну. Вот виски, вот содовая, пойду надену пальто, а ты пока себе наливай.
Что я и сделал, осмелюсь сказать, щедрою рукой, поскольку очевидная неизбежность предложенного им плана не делала последний в моих глазах менее неприятным. Должен, однако, признаться, что он начал казаться мне не столь уж страшным, прежде чем я опустошил стакан. Тут вернулся Раффлз, в коверкотовом пальто поверх блейзера и небрежно заломленной шляпе из мягкого фетра. Я протянул ему графин, он улыбнулся и отрицательно покачал головой.
— После возвращения, — сказал он. — Сначала дело, потом удовольствие. Заметил, какое сегодня число? — добавил он, отрывая листок шекспировского календаря, пока я приканчивал виски. — 15 марта. «И помни, помни Мартовские Иды».[121] Что скажешь, малыш Банни? Ты-то уж их не забудешь, верно?
Он со смехом подбросил в камин угля и выключил газ, как подобает заботливому квартиросъемщику. Когда мы выходили, часы на каминной полке пробили два.
II
Пикадилли была похожа на канаву, заполненную сырым белым туманом, в обрамлении мутных фонарей, покрытую тонкой пленкой липкой грязи. На пустынных каменных тротуарах мы не встретили ни души, нас лишь наградил суровым внимательным взглядом констебль, совершающий ночной обход, однако, узнав моего спутника, он приложил руку к шлему.
— Как видишь, я знаком с полицией, — рассмеялся Раффлз, когда мы прошли мимо констебля. — В такую погоду им, беднягам, приходится смотреть в оба. Нас с тобой, Банни, туман, может быть, и раздражает, зато он просто благословение для криминальных элементов, особенно в столь поздний час их рабочего времени. Однако мы уже на месте — и будь я проклят, если этот сукин сын не почивает-таки в своей постели.
Мы свернули на Бонд-стрит и через несколько ярдов остановились у обочины по правой стороне. Раффлз вгляделся в окна второго этажа дома напротив — из-за тумана их едва было видно, без единого проблеска света за стеклами. На первом этаже находился ювелирный магазин, как я мог разглядеть в «глазок» в его двери, внутри все было залито ярким светом. Но весь второй этаж, куда с улицы вел отдельный вход, расположенный впритык к магазину, стоял погруженный во мрак, сливаясь с черным небом.
— Лучше вернемся, — стал настаивать я, — утром наверняка успеем.
— Как бы не так, — возразил Раффлз. — У меня есть ключ. Нанесем ему неожиданный визит. Идем.
Схватив меня за правую руку, он быстро перешел через дорогу, открыл американский замок и через секунду резко, но бесшумно закрыл за нами дверь. Мы оказались в темноте. Снаружи приближались чьи-то размеренные шаги; мы слышали их еще тогда, когда в тумане пересекали улицу; теперь они зазвучали совсем близко, и мой спутник еще крепче сжал мне руку.
— Это может быть мой приятель собственной персоной, — шепнул Раффлз. — Он ночная птица. Ни звука, Банни! Сейчас мы его до смерти напугаем. Ага!
Размеренные шаги миновали дверь и проследовали дальше. Раффлз глубоко вздохнул и немного ослабил свою железную хватку.
— Однако по-прежнему ни звука, — продолжал он все тем же шепотом, — мы еще подшутим над ним, где бы он ни был! Снимай ботинки и иди за мной.
Можете удивляться, что я в точности так и поступил, но вам просто не доводилось иметь дело с А. Дж. Раффлзом. Его власть над другими в основном заключалась в располагающем людей умении сочетать качества лидера и командира. Не подчиниться человеку, который столь энергично вел вас за собой, было просто невозможно. Потом вы могли начать задаваться вопросами, но первым делом вы подчинялись. Так и я, услышав, что он скинул туфли, последовал его примеру и стал подниматься следом по лестнице, и только тут до меня дошла вся нелепость подобного похода за деньгами к незнакомому человеку глубокой ночью. Нет, конечно, Раффлз и его приятель были друзьями ближе некуда, и я неизбежно пришел к выводу, что они имели привычку разыгрывать друг друга.
Мы шли по темной лестнице настолько медленно, что мне я успел сделать несколько наблюдений, пока мы поднимались наверх. Растопыренными пальцами правой руки я чувствовал лишь голую сырую стену; пальцы левой скользили по лестничным перилам, покрытым слоем пыли. С тех пор как мы проникли в дом, меня не оставляло странное чувство, нараставшее с каждым шагом. Что за отшельника мы собирались напугать прямо в его келье?
Мы очутились на площадке. Перила повернули налево и снова налево. Еще четыре шага — и мы стояли уже на другой, более длинной площадке, и неожиданно во мраке вспыхнула спичка. Я не слышал, чтобы он ею чиркнул; вспышка меня ослепила. Когда глаза притерпелись к свету, я увидел Раффлза. Подняв спичку одной рукой, он затенял огонек другой, а вокруг были непокрытые полы, голые стены и двери, распахнутые в пустые комнаты.
— Куда ты меня привел? — вскричал я. — В этом доме никто не живет.
— Тише! Терпение! — прошептал он и повел меня в одну из пустых комнат. Спичка погасла на пороге, и он так же бесшумно зажег новую. Затем он встал ко мне спиной и начал возиться с чем-то, чего я не мог видеть. Но когда он отбросил вторую спичку, на месте ее огонька появился новый источник света, и пахнуло керосином. Я шагнул, чтобы глянуть ему через плечо, но он опередил меня, повернулся и поднес к моему лицу крохотную керосиновую лампу.
— Что это? — Я едва не задохнулся от удивления. — Какую мерзкую шутку собираешься ты сыграть?
— Уже сыграл, — ответил он с тихим смешком.
— Со мной?
— Боюсь, Банни, что да.
— Значит, в доме никого нет?
— Только ты да я.
— Стало быть, ты меня за нос водил россказнями про друга на Бонд-стрит, который мог бы ссудить нас деньгами?
— Не совсем. Дэнби и вправду мой приятель.
— Дэнби?
— Хозяин ювелирного магазина внизу.
— Что ты хочешь сказать? — прошептал я, задрожав, как лист на ветру, когда до меня начал доходить смысл его слов. — Ты намерен взять деньги у ювелира?
— Не то чтобы деньги.
— Что же в таком случае?
— Их эквивалент — и не у него, а в его магазине.
Больше спрашивать было не о чем. Я осознал все, кроме собственной тупости. Он сделал мне массу намеков, и я не понял ни единого. И вот я стою в этой пустой комнате, вытаращив на него глаза, а он стоит напротив со своей лампой и смеется надо мною.
— Взломщик! — задохнулся я. — И кто! Ты!
— Я же говорил, что мне приходится изворачиваться.
— Но почему, почему ты мне не сказал, что именно собираешься сделать? Почему не доверился мне? Зачем обязательно лгать? — вопросил я, задетый за живое, несмотря на охвативший меня ужас.
— Я хотел рассказать, — ответил он, — и несколько раз чуть было не рассказал. Помнишь, я выяснял у тебя насчет преступления? Хотя ты, вероятно, успел позабыть свой собственный ответ. Я не думал, что это говорилось совершенно всерьез, но решил тебя испытать. Теперь я вижу, что был прав, и нисколько тебя не виню. Во всем виноват я сам. Уходи, мой дорогой, сию же минуту; я справлюсь один. Что бы там ни случилось, меня ты в любом случае не станешь выдавать.
О его проницательность! Его дьявольская проницательность! Если б он стал мне угрожать, принуждать меня или высмеивать, все могло бы — даже тогда — пойти по-другому. Но он предоставил мне свободу бросить его в трудную минуту. Он не стал меня обвинять. Он даже не подумал связывать меня обязательством хранить тайну: он просто на меня положился. Он знал мои слабые и сильные стороны и, как истинный мастер, сыграл на тех и других.
— Погоди, — сказал я. — Это я натолкнул тебя на мысль о грабеже или ты в любом случае намеревался его совершить?
— Не в любом, — ответил Раффлз. — Ключ у меня уже давно, это верно, но, выиграв нынче в карты, я решил отказаться от этого дела, потому что, по правде говоря, тут не справиться одному.
— Тогда решено — я с тобой.
— Ты серьезно?
— На этот раз да.
— Старина Банни, — прошептал он, поднеся на миг лампу к моему лицу, и тут же принялся объяснять мне план действий, а я кивал, будто мы всю жизнь вместе занимались грабежами.
— Магазин я знаю, — говорил он шепотом, — я там кое-что покупал. Второй этаж мне тоже знаком: вот уже месяц, как он сдается, я ходил его посмотреть и, прежде чем вернуть ключ, сделал слепок. Чего я не знаю, так это как проникнуть со второго этажа на первый; в настоящее время такого хода нет. Можно проделать его отсюда, но я бы предпочел подвал. Погоди, я сейчас объясню.
Он опустил лампу на пол, пробрался к заднему окну, отворил его без единого звука и, сразу же закрыв обратно, вернулся, качая головой.
— Вся надежда была на то, что под этим окном на первом этаже есть такое же, но в темноте ничего не видно, а светить снаружи слишком опасно. Спускайся за мной в подвал и помни: хотя в доме ни души, нельзя производить и малейшего шума. Вот, вот — послушай!
Раздался звук все тех же размеренных шагов по плитам тротуара, что мы слышали раньше. Раффлз притушил лампу, и мы снова застыли в молчании, пока шаги не удалились.
— Либо полисмен, — пробормотал он, — либо сторож, которого в складчину нанимают владельцы местных ювелирных магазинов. Именно сторожа нам и нужно остерегаться: ему платят именно за то, чтобы он замечал, что не так.
Мы очень аккуратно спустились по лестнице, пару раз все же скрипнувшей, несмотря на все предосторожности, забрали в прихожей обувь и спустились еще ниже по узким каменным ступеням. Здесь Раффлз приподнял щиток лампы, надел туфли и предложил мне надеть мои; говорил он несколько громче, чем позволял себе наверху. Теперь мы находились значительно ниже уровня улицы, в тесном помещении с дверью в каждой стене. Три двери стояли распахнутыми, являя взгляду пустые подвалы; четвертая была закрыта на засов, а в замке торчал ключ. Через эту дверь мы выбрались на дно заполненного туманом глубокого квадратного колодца и прямо перед собой увидели такую же. Раффлз поднес к ней лампу, загородив спиной свет. Внезапно раздался треск, от которого у меня зашлось сердце. Я увидел, что в проеме широко распахнутой двери стоит Раффлз и манит меня фомкой.
— Дверь номер один, — прошептал он. — Сколько их всего, один черт знает, мне известно по меньшей мере о двух. Впрочем, с ними особой сложности не предвидится: здесь, внизу, мы меньше рискуем.
Теперь мы стояли у основания узкой каменной лестницы — родной сестры той, по которой только что спускались. Дворик, или скорее колодец, был единственным местом, куда можно было попасть как из пустующей квартиры, так и из магазина. Однако, поднявшись по этой лесенке, мы уперлись в невероятно массивную дверь красного дерева: проход был закрыт.
— Так я и думал, — прошептал Раффлз. Провозившись с замком несколько минут, он передал мне лампу и засунул в карман связку отмычек. — Тут работы где-то на час.
— Открыть просто так невозможно?
— Нет. Я знаю эти замки, не стоит и пробовать. Нам придется его вырезать, и это займет у нас час.
Это заняло у нас сорок семь минут, согласно моим часам, и не у нас, а у Раффлза, и мне не доводилось раньше видеть более точной и методичной работы. От меня потребовалось немного: в одной руке держать притемненную лампу, а в другой — пузырек с лигроином.[122]
Раффлз извлек красиво расшитый футляр, явно предназначенный для бритв; в нем, однако, были не бритвы, а орудия его тайного промысла, включая лигроин. Он выбрал сверло-перку, способное проделать отверстие в дюйм диаметром, и вставил его в маленький, но мощный стальной коловорот. Затем снял пальто и блейзер, аккуратно разложил на верхней ступеньке, стал на них коленями, закатал рукава и принялся сверлить вокруг замочной скважины. Но для начала он смазал перку лигроином, чтобы шума было как можно меньше, и всякий раз повторял эту операцию, приступая к новому отверстию, а часто и досверлив до половины. Чтобы высверлить замок, понадобилось тридцать два захода.
Я заметил, что в первое круглое отверстие Раффлз просунул указательный палец; когда же кружок начал перерастать в удлиняющийся овал, он засунул в него руку вплоть до большого пальца. Я услышал, как он выругался про себя.
— Этого я и боялся!
— Что такое?
— Железная решетка с другой стороны!
— Как нам сквозь нее пробраться? — спросил я тревожно.
— Вырежем замок. Но их может оказаться два. В этом случае один будет наверху, другой — внизу, так что придется сверлить две новые дырки, потому что дверь открывается внутрь. Без этого ее не открыть и на два дюйма.
Признаюсь, что мысль о двух замках меня отнюдь не порадовала, тем более что и один замок уже стоил немалых усилий. Мое разочарование и нетерпение могли бы стать для меня откровением, задумайся я об этом тогда. Но дело в том, что я пустился в наше нечестивое предприятие с невольным пылом, о котором сам тогда и не подозревал. Я был очарован и увлечен романтикой и опасностью происходящего. Нравственное мое чувство, как и чувство страха, были изрядно скованы параличом. И я стоял там с лампой и флакончиком в руках, отдаваясь происходящему с таким самозабвением, с каким ни разу не отдавался ни одному честному занятию. А. Дж. Раффлз стоял на коленях рядом, с взъерошенными темными волосами и с той же настороженной, спокойной и решительной полуулыбкой на губах, с какой я видел его снова и снова отбивающим броски в матче на первенство графства.
Наконец он замкнул цепочку отверстий, выдернул замок со всеми потрохами и по самое плечо просунул мускулистую обнаженную руку сначала в дыру, а потом дальше — между прутьями железной решетки по ту сторону двери.
— Если, — прошептал Раффлз, — там только один замок, он должен быть посредине. Ура! Вот он! Дай мне только его открыть — и путь наконец свободен.
Он вытащил руку, выбрал из связки отмычку и снова запустил ее в отверстие. У меня перехватило дыхание. Я слышал биение своего сердца, тиканье карманных часов и время от времени позвякивание отмычки. И вот наконец раздался тот самый, единственный и безошибочный, щелчок. Через минуту мы оставили за собой распахнутыми дверь красного дерева вместе с решеткой. Раффлз сидел на письменном столе, утирая лицо, а стоящая рядом лампа испускала ровный луч света.
Мы находились в скудно обставленном просторном служебном помещении за магазином, которое, однако, было отделено от него металлической шторой; один только вид последней привел меня в отчаяние. Но Раффлза это, судя по всему, совсем не расстроило, он повесил на вешалку пальто и шляпу и стал осматривать штору, подсвечивая себе лампой.
— Ерунда, — изрек он через минуту, — с этим мы мигом сладим, но по ту сторону — дверь, и вот с ней придется повозиться.
— Еще одна дверь! — тяжело вздохнул я. — Как ты ее одолеешь?
— Взломаю складной фомкой. Металлические шторы можно поднять снизу — в этом их слабое место. Но шума не избежать — и тут-то, Банни, ты мне и понадобишься: без тебя мне не справиться. Будешь следить сверху и стуком давать мне знать, когда поблизости никого не будет. Я тебя провожу и посвечу тебе.
Можете себе представить, до чего мне не хотелось стоять одному, как это называется, «на стреме», и все же чудовищная ответственность, которую на меня возлагали, странным образом будоражила все мои чувства. До тех пор я был всего лишь зрителем, теперь мне предстояло стать участником, и этот новый стимул заставил меня окончательно отринуть мысли о совести и самосохранении, которые и без того уже умерли в моем сердце.
Так что я без единого звука занял наблюдательный пост в комнате над магазином. Окнами она выходила на улицу, и, на наше счастье, в числе того, что сохранили в квартире на усмотрение будущего съемщика, оказались жалюзи, причем уже опущенные. Не было ничего проще, чем стоять, глядя на улицу из-за планок, чтобы топнуть два раза, если кто-то появится, и один — когда улица снова опустеет. Звуки, что до меня доносились, были, за исключением металлического скрежета в самом начале, очень слабыми, но и они полностью прекращались, стоило мне два раза постучать носком ботинка о пол. За час, что я провел у окна, полисмен проходил мимо дома раз шесть, а человек, которого я считал сторожем у ювелиров, и того больше, и они отняли у нас тридцать с лишним минут. Один раз — но только один — у меня сердце ушло в пятки: сторож вдруг остановился и посмотрел через «глазок» в залитый светом магазин. Я ждал свистка, ждал петли или тюрьмы! Но Раффлз прилежно прислушивался к моим сигналам, и сторож пошел себе дальше, ничего не заподозрив.
Наконец и мне был подан условный сигнал. Освещая путь спичками, я спустился по широкой лестнице, затем по узенькой каменной, пересек дворик и поднялся в комнату, где Раффлз встретил меня крепким рукопожатием.
— Отлично, мальчик мой! — сказал он. — В трудную минуту ты все так же надежен и заслужил награду. Я взял на тысячу фунтов, ни на пенни меньше — все у меня в карманах. А в этом шкафчике я обнаружил кое-что еще — приличный портвейн и сигары, предназначенные для коллег бедняги Дэнби. Глотните, вам сразу полегчает. Я также выяснил, где туалет; перед уходом нужно умыться и почиститься, а то я черный, как сажа.
Железная штора была опущена, но он настоял на своем и поднял ее, чтобы я смог через стеклянную дверь по другую ее сторону полюбоваться на его работу. В магазине всю ночь горели две электрические лампы, и в их холодном белом свете я сперва ничего не заметил. Передо мной открылась вполне обычный вид: пустые витрины прилавка — слева, ряд нетронутых стеклянных шкафчиков с серебром — справа, а прямо напротив — туманный черный зрачок смотрового «глазка», который со стороны улицы сиял, как луна на театральной декорации. Витрины опустошил не Раффлз, их содержимое было упрятано в массивный сейф, который Раффлз, раз на него взглянув, решил оставить в покое. Серебром он тоже пренебрег, только выбрал для меня портсигар. Он ограничился оконной витриной из трех отделений, закрытых изнутри на ночь съемными щитами, каждый со своим замком. Раффлз снял их на несколько часов раньше положенного, и в электрическом свете изнанка гофрированной наружной шторы напоминала ребра обглоданного скелета. Все сколько-нибудь ценное исчезло с единственного участка витрины, который нельзя было увидеть сквозь «глазок», прочее пребывало в том виде, в каком было оставлено на ночь. Цепочка взломанных дверей за железной шторой, початая бутылка вина и вскрытая коробка сигар, довольно грязное полотенце в уборной, несколько сгоревших спичек и отпечатки на пыльных перилах — других следов мы после себя не оставили.[123]
— Долго ли я обдумывал? — переспросил Раффлз, когда мы неспешно шли предрассветными улицами с таким видом, будто возвращаемся с танцев. — Нет, Банни, мне это и в голову не приходило, пока я с месяц тому назад не увидел, что верхний этаж сдается внаем.
Тогда я купил в магазине пару вещиц, чтобы разведать на месте что и как. Кстати, я ведь за них так и не заплатил. Клянусь Юпитером, завтра же непременно рассчитаюсь, и если это не идеальная справедливость, значит, ее вообще не существует на свете. Первая вылазка продемонстрировала мне возможности магазина, вторая — невозможность взять его в одиночку. Так что я, можно сказать, поставил крест на своих планах, и тут появляетесь вы, из всех вечеров именно в этот, да еще в самом подходящем состоянии! Но вот мы и в Олбани. Надеюсь, камин не успел догореть, не знаю, Банни, как вы, а я продрог не хуже Китсовой совы.[124]
Возвращаясь с преступления, он еще мог думать о Китсе! Он был способен мечтать об очаге, как любой смертный. Во мне словно прорвало какую-то плотину, и понимание того, как именуется на простом английском языке наше приключение, окатило меня ледяной волной. Раффлз был взломщиком-грабителем. Я помог ему провести одно ограбление, значит, я тоже взломщик. Однако же я мог греться у его огня и смотреть, как он освобождает карманы, словно мы с ним не совершили ничего чудесного или чудовищного!
Кровь застыла у меня в жилах. Мне стало тошно. В голове у меня помутилось. Как любил я этого мерзавца! Как я им восхищался! И вот теперь эти любовь и восхищение должны обратиться в ненависть и отвращение. Я ждал перемены. Я надеялся ощутить ее в своем сердце. Но ждал и надеялся я напрасно!
Я смотрел, как он выгребает из карманов награбленное, столешница переливалась блеском сокровищ. Кольца — дюжинами, бриллианты — десятками, браслеты, кулоны, эгретки, ожерелья, жемчуг, рубины, аметисты, сапфиры и бриллианты. Везде, на всем — бриллианты, испускающие яркие лучи, они ослепляли меня — слепили! — заставляли отрицать очевидное, потому что забыть я уже не мог. Последним он извлек из внутреннего кармана не драгоценный камень, а мой собственный револьвер. И внутри меня все перевернулось. Я, вероятно, что-то сказал — и протянул руку. Как сейчас вижу Раффлза: он снова глядит на меня своим ясным взором из-под изогнутых высоких бровей. Как сейчас вижу: вот он со своей спокойной циничной усмешкой извлекает патроны, прежде чем вернуть мне оружие.
— Можешь мне не верить, Банни, — произнес он, — но я первый раз имел при себе заряженный револьвер. В общем и целом, думаю, это придает уверенности. Но случись что не так — легко оказаться в неприятном положении, даже пустить его в ход, а ведь это совсем не игрушка. Мне, правда, частенько приходило в голову, что человек, только что совершивший убийство, должен испытывать потрясающее ощущение — пока его не взяли в оборот. Да не переживай так, дружище, мне это ощущение незнакомо, и, полагаю, я его никогда не изведаю.
— Но такие дела, как сегодня… Ты ведь и раньше совершал подобное? — спросил я хриплым голосом.
— Раньше? Милый мой Банни, ты меня обижаешь! Разве я работал как новичок? Разумеется, я и раньше совершал подобное.
— Часто?
— Пожалуй, нет. По крайней мере, не настолько часто, чтобы это утратило привлекательность для меня. Честно говоря, лишь тогда, когда позарез нужны были деньги. Слышал про бриллианты Тимблби? Так вот, это было мое последнее дело — и не так уж много я на нем выручил. Можно еще припомнить маленькое дельце на яхте Дормера в Хенли. Это тоже моя работа, какая уж есть. Пока что мне ни разу не удавалось сорвать по-настоящему крупный куш, когда сорву — завяжу.
Я прекрасно помнил оба дела — и подумать только, их совершил он! Невероятно, непостижимо, в голове не укладывалось. Но тут мой взгляд вернулся к столу, к бесконечному искрометному блеску, и неверию пришел конец.
— Как случилось, что ты взялся за это? — спросил я. Любопытство перебороло во мне изумление, а жгучий интерес к его промыслу постепенно перешел в столь же жгучий интерес к самому Раффлзу.
— А-а, долгая история, — ответил он. — Это случилось в колониях, когда я выезжал туда играть в крикет. Сейчас нет времени подробно все излагать, но я тогда очутился в таких же клещах, как вы сегодня, а другого выхода не было. Я искренне верил, что это в первый и последний раз, но, что называется, попробовал вкус крови, и со мною все было кончено. К чему работать, когда можно красть? К чему тянуть однообразную противную лямку, когда можно получить острые ощущения, приключения, риск и обеспеченное существование — все разом? Разумеется, это очень дурно, но не всем же быть высокоморальными, а распределение богатства порочно уже само по себе. Кроме того, этим занимаешься не все время. Мне надоело повторять это самому себе, но в этом — глубокая правда. Мне лишь хотелось бы знать, придется ли тебе по вкусу эта жизнь так же, как и мне.
— Мне по вкусу?! — воскликнул я. — Только не мне! Для меня это не жизнь. Одного раза достаточно!
— Значит, в другой раз ты не согласишься мне помочь?
— И не проси, Раффлз. Ради всего святого, не проси!
— Однако же ты заявлял, что для меня готов на все? Ты сам предлагал мне выбрать преступление! Но я еще тогда понял, что в тебе говорила запальчивость. Сегодня ты меня выручил, и этого мне вполне достаточно, видит Бог. Допускаю, я неблагодарен, неразумен и все прочее. Мне следовало бы поставить на этом точку. Но из всех людей, Банни, мне подходишь только ты, и никто другой! Вспомни, как хорошо сегодня все вышло. Без сучка без задоринки! Сами видишь, в этом нет ничего ужасного, и не будет, если мы станем напарниками.
Он стоял передо мной, положив руки мне на плечи, и улыбался так, как умел только он. Я отвернулся, оперся локтями о каминную полку и прижал ладони к пылающим вискам. В ту же секунду он еще сердечнее хлопнул меня по спине.
— Ладно, дружище! Ты совершенно прав, а я не прав и даже хуже того. Больше я тебя никогда просить не стану. Ступай, если угодно, а к полудню приходи за наличными. Мы не оговаривали условий, но я, понятно, вытащу тебя из беды, тем более что сегодня ты меня так здорово выручил.
Охваченный невероятным возбуждением, я повернулся и процедил сквозь зубы:
— Я снова это сделаю.
Он покачал головой и, добродушно усмехнувшись моей безумной горячности, возразил:
— Только не ты.
— Нет, я! — воскликнул я с проклятием. — Я буду помогать тебе сколько угодно! Какое теперь это может иметь значение? Побывал в деле раз — побываю в другой. В любом случае я человек конченый. Я не могу вернуться к прошлой жизни, да если б и мог — не захотел. Мне теперь на все наплевать! Когда понадоблюсь — я к твоим услугам.
Так в мартовские иды мы с Раффлзом вступили в преступный сговор.
ПОДАРОК ИМПЕРАТОРА
I
В то время как король островных каннибалов корчил рожи королеве Виктории, а европейский монарх рассылал по такому поводу телеграммы, восхищаясь отвагой дикарей, в Англии нарастало недовольство — удивительное дело, ведь тогда подобное еще было в новинку. Но когда просочились слухи, что за приветствиями, для пущего укрепления взаимоотношений, последует подарок невиданной значимости, вывод был сделан однозначный: как европейцы, так и островитяне одновременно лишились рассудка. Ибо подарком этим была жемчужина бесценной красоты, некогда добытая британскими каперами на полинезийских берегах, а затем поднесенная в дар королеве; и вот теперь подарок намеревались вернуть на родину.
Пару недель спустя это событие стало благословением для прессы. Еще в июне страницы запестрели именами, цитатами из переписки и кричащими заголовками. «Дэйли Кроникл» посвятила целую половину страницы очаровательному рисунку с изображением столицы острова, и эту же тему «Пэл Мэл» обыграли в передовице, посоветовав британскому правительству подарить «этим дикарям» пинок под зад. В то время я зарабатывал крохи, но писал то, что было мне по нраву, и на волне этих животрепещущих событий сочинил сатирический стишок, который собрал больше положительных отзывов, чем все мои предыдущие творения. Я собрал вещи и сменил городскую квартиру на недорогое жилье в Темз-Диттоне под предлогом бескорыстного желания поселиться поближе к реке.
— Первоклассно, мальчик мой! — объявил Раффлз, с удобством разместившись в лодке, пока я усердно работал веслами. Он не мог упустить возможности повидать меня на новом месте. — Тебе прилично заплатили, полагаю?
— Ни гроша.
— Какая чушь, Банни! Они весьма состоятельные ребята. Погоди немного, и получишь свой чек.
— Увы, — мрачно ответствовал я. — В моем положении нужно радоваться уже тому, что тебя заметили. Так написал мне главный редактор, и это было очень обстоятельное письмо. — И я назвал имя редактора, далеко не последнего человека в этой области.
— Не говори мне, что ты теперь пишешь под заказ!
О нет, именно об этом я меньше всего хотел говорить. Но было поздно, меня поймали, и скрывать это далее смысла не было — я писал за деньги, потому что они были мне нужны. Откровенно говоря, мои финансы были в ужасном состоянии. Раффлз кивал с понимающим видом, и это меня приободрило. Не так-то просто сводить концы с концами, когда ты вольнонаемный журналист и не имеешь ставки. Кроме того, я подозревал, что беда моей карьеры в том, что я пишу либо недостаточно хорошо, либо недостаточно плохо, и все время переживал за свой стиль. Стихи давались мне легко, но за них никто не платил, а до заметок о частной жизни и прочей халтуры я опускаться не хотел, да и не стал бы.
Раффлз снова кивнул, теперь с улыбкой. Он разглядывал меня, откинувшись на сиденье, и, очевидно, размышлял о том, до чего еще я опустился. Мне казалось, я знал, что он скажет; он говорил это уже не раз: почему бы не повторить снова? Я даже приготовил ответную реплику, но, судя по всему, одни и те же вопросы ему надоели. Он прикрыл глаза, потянулся за газетой, и только когда мы уже миновали кирпично-красные стены Хэмптон-Корта, заговорил снова:
— И за эти стихи они не заплатили ни цента! Дорогой мой Банни, это же сокровище, и не только по форме — как точно ухвачена самая суть! Уж для меня-то эта история определенно прояснилась. Но послушай, она что, в самом деле стоит пятьдесят тысяч фунтов? Одна-единственная жемчужина?
— Сто тысяч, насколько я помню, но это не укладывалось в размер.
— Сто тысяч фунтов! — Раффлз даже зажмурился. И снова мне показалось, что сейчас он вернется к той теме, и снова я ошибся.
— Если это настоящая цена, — воскликнул он, — то ее же просто негде сбыть! Бриллиант можно хотя бы распилить. Но прости меня, Кролик, я совсем забыл!
И больше мы о подарке императора не говорили. Гордость цветет на пустой карман, и никакая нужда не вырвала бы из меня предложение, которого я ожидал от Раффлза. Сейчас-то я понимаю, что мои ожидания как минимум наполовину были пустыми надеждами. Но мы также не поднимали темы, о которой Раффлз предпочел забыть, — о моем так называемом грехопадении и отступничестве, как он с удовольствием это называл. Погруженные в собственные мысли, мы молчали, и в воздухе витало легкое напряжение. Со времени нашей последней встречи прошли месяцы, и когда я провожал его на поезд тем воскресным вечером, казалось, увидеться снова нам предстоит нескоро.
Однако, стоя в ожидании поезда в свете привокзального фонаря, я ощутил на себе пристальный взгляд Раффлза. Я посмотрел на него в упор, и Раффлз покачал головой.
— Неважно выглядишь, Кролик. Воздух Темзы не идет тебе на пользу. Надо бы сменить обстановку.
— Пожалуй, но…
— Морское путешествие было бы в самый раз.
— И Рождество в Сент-Морице, или, может быть, Канны? Или Каир? Звучит великолепно, но ты уже забыл, как у меня обстоит дело с финансами?
— Я ничего не забываю, просто не хотел тебя обидеть. Но морское путешествие тебе уже обеспечено. Я сам хотел немного проветриться, а ты будешь моим гостем. Июль на Средиземноморье, что может быть лучше?
— Но у тебя же крикет…
— К черту крикет!
— Что ж, если ты действительно всерьез…
— Разумеется, всерьез. Так ты едешь?
— Хоть сейчас!
Я пожал ему руку и помахал на прощание, свято уверенный, что больше об этой затее не услышу. Сиюминутная прихоть, такое случается; впрочем, я вскоре пожалел, что ей не суждено сбыться: неделя выдалась тяжелой, и вырваться за пределы Англии хотелось более чем когда-либо. Я ничего не зарабатывал — жил на разницу между тем, что платил за квартиру, и тем, что получал, сдавая ее же в аренду на летний сезон со всей обстановкой. А лето близилось к концу, и в городе меня ждали кредиторы. Как можно было оставаться кристально честным в такой ситуации? Мне не давали кредитов, даже когда в кармане заводились деньги, так что общая плачевность положения искупала для меня его постыдность.
Но от Раффлза, разумеется, я больше ничего не слышал. Прошла неделя, затем еще одна, а затем поздно вечером в среду, обыскавшись его в городе и от отчаяния поужинав в карточном клубе, я вернулся домой и обнаружил от него телеграмму.
«Договорился отбываешь Ватерлоо Норт Герман Ллойд 9.25 утра понедельник следующий встречаю Саутгемптон на борту Улана с билетами подробности письмом»
И письмо действительно пришло, непринужденное, но чувствовалась в нем серьезная обеспокоенность моим здоровьем и моей же карьерой. Это было почти трогательно, особенно в свете того, что последнее время наши отношения балансировали на грани кризиса. Раффлз писал, что забронировал два билета до Неаполя, что едем мы на Капри, где царит всеобщая благодать, будем греться там на солнышке и «на время забудем обо всем». Очаровательное письмо. Я никогда не был в Италии, но Раффлз взял на себя почетную обязанность это исправить. Именно летом Италия особенно хороша, а Неаполитанский залив в это время года прекрасен, как рассвет. Раффлз писал о «благословенной земле» так, будто муза поэзии внезапно снизошла к его перу.
Впрочем, возвращаясь к прозе — с его стороны было не совсем патриотично выбрать для поездки немецкий корабль, но только у немцев получаешь обслуживание, которое действительно стоит своих денег. Была, очевидно и другая причина: и телеграмма, и письмо Раффлза пришли из Бремена, и я догадывался, что его полезные знакомства помогли нам скостить изрядную долю цены за билет Только представьте, какое волнение охватило меня, какой восторг! Я кое-как расплатился с долгами в Темз Диттоне, выжал из одной крохотной газетенки еще более крохотный гонорар и прикупил второй фланелевый костюм. Помню, что последний соверен ушел на коробку столь любимых Раффлзом сигарет «Салливан». Но тем солнечным утром, в понедельник, когда поезд уносил меня к побережью, на сердце у меня было так же легко, как и в кошельке. И утро это было прекраснейшим за все тоскливое лето.
В Саутгемптоне нас уже поджидал катер. Раффлза на борту не было, да я и не искал его, пока мы не приблизились вплотную к лайнеру — и тогда уже, встревожившись, взялся за поиски, но безуспешно. Его не оказалось среди пассажиров, которые, столпившись у бортика, махали руками друзьям на прощание. На борт я поднялся в расстройстве, так как ни билета, ни денег на него при себе не имел, и даже номера каюты не знал. Затаив дыхание, я подозвал стюарда и спросил, на борту ли мистер Раффлз. Слава богу — он был здесь, но где его искать, я себе не представлял Стюард тоже не имел понятия, он вообще торопился по своим делам, так что я отпустил его и принялся за поиски сам. Раффлза не оказалось ни на верхней палубе, ни в кают-компании. В курительном салоне сидел одинокий невысокий немец с лихо закрученными рыжими усами. В отчаянии я даже заглянул в каюту Раффлза — там тоже было пусто, но чемодан с его именем придал мне уверенности. Однако я никак не мог взять в толк, почему он прячется, и в голову лезли отчего-то самые мрачные предположения.
— А-а, вот ты где! Я весь корабль обыскал!
Несмотря на строгий запрет на посещение капитанского мостика, я поднялся и туда, движимый последней надеждой, и мистер А. Дж. Раффлз действительно был там. Расположился он прямо на стеклянной крыше, совсем рядом с одним из офицерских шезлонгов, на котором отдыхала девушка в белом тиковом жакете и юбке, очень стройная и светлокожая, с темными волосами и большими выразительными глазами. Больше я не успел увидеть ничего — он поднялся на ноги и стремительно обернулся, и на лице его тенью промелькнуло раздражение, тут же сменившееся умело разыгранным изумлением.
— Что? Нет, быть того не может… Банни?! — воскликнул он. — Ты-то откуда выпрыгнул?
Он незаметно ущипнул меня за руку, и я что-то промямлил в ответ.
— И ты тоже едешь этим рейсом? Тоже в Неаполь? Ей-богу, какое совпадение! Мисс Вернер, позвольте представить вам моего друга.
И он безо всякого смущения представил меня как своего старого школьного товарища, с которым не виделся месяцами, присочинив при этом уйму небывалых обстоятельств и подробностей, немедленно вогнавших меня в краску. Пришлось отдуваться за двоих; я смутился, и обиделся, и совершенно растерялся, не в силах выдавить ни слова. Оставалось только поддакивать Раффлзу, что, несомненно, было весьма далеко от красноречия.
— Так значит, ты увидел мое имя в списке пассажиров и решил меня поискать? Старый добрый Кролик! Как насчет того, чтобы поселиться в одной каюте? Мои апартаменты на верхней палубе, но вряд ли их предоставят мне в единоличное пользование. Нужно договориться с капитаном, прежде чем ко мне подселят кого-нибудь не от мира сего. Так или иначе, мы это уладим.
Тем временем рулевой вошел в рубку, а лоцман принялся хозяйничать на мостике еще во время нашего разговора. Катер отвалил, и пассажиры на нем принялись махать платочками и громко прощаться. Раскланявшись с мисс Вернер, мы начали спускаться, и тут под нами вздрогнул и глухо зарокотал мотор — наше путешествие началось.
Отношения с Раффлзом не заладились с самого начала. На палубе на мое недоумение он отвечал напускным, но весьма старательным весельем, в каюте же все маски были сорваны.
— Идиот! — зарычал он. — Ты чуть меня не выдал!
— Как я мог тебя выдать? — Я сделал вид, что не слышал оскорбления.
— Да вот так! Любой болван бы сообразил, что я хотел выставить нашу встречу случайной!
— И купил при этом два билета.
— На борту об этом никто не знает. Кроме того, когда я брал билеты, плана еще не было.
— Тогда тебе стоит предупреждать меня о своих планах. Ты вечно продумываешь все в одиночку, ни словом не обмолвившись, и надеешься, что каким-то чудом я сам о них догадаюсь. Откуда мне знать, что у тебя на уме?
Я парировал его выпад не без успеха, и Раффлз немного сник.
— Дело в том, Банни, что ты и не должен был знать. Как бы так выразиться… с возрастом ты стал слишком уж ты добропорядочен.
Тон, которым он произнес старое прозвище, подействовал на меня успокаивающе, но я не мог простить ему все и сразу.
— Если ты опасался об этом писать, — продолжил наступать я, — то должен был хотя бы подать мне знак, когда я ступил на борт! Я бы сделал все как надо, не настолько уж я, как ты выразился, добропорядочен.
Верно, воображение сыграло со мной шутку, но Раффлз и впрямь выглядел смущенным. Пожалуй, таким я видел его в первый и последний раз за все годы нашего знакомства.
— Именно это я и планировал, — возразил он. — Я хотел дождаться тебя в каюте. Но…
— Нашлось занятие поинтереснее?
— Не совсем так.
— Очаровательная мисс Вернер?
— Согласись, она и впрямь очаровательна.
— Австралийские девушки все таковы, — пожал я плечами.
— С чего ты взял, что она из Австралии?
— По голосу.
— Ерунда! — рассмеялся Раффлз. — В ее речи акцента не больше, чем в твоей.[125] Она из немецкой семьи, училась в Дрездене и путешествует в одиночку.
— Состоятельна? — полюбопытствовал я.
— Иди к черту!
Раффлз все еще смеялся, но я понял, что настало время сменить тему.
— Что ж, — сказал я, — эту игру ты затеял не ради мисс Вернер, правильно? Тут кроется что-то еще?
— Полагаю, ты прав.
— Тогда, может, просветишь меня?
Раффлз медлил и осторожничал, и так это было знакомо, тем более по прошествии всех этих месяцев, что я невольно улыбнулся, уже смутно догадываясь о происходящем. Должно быть, это его обнадежило.
— А ты не удерешь с корабля на лодке, Банни?
— Я так не думаю.
— Ну что ж. Припоминаешь жемчужину, о которой писал в своей…
Я перебил его возгласом, не дав договорить:
— Она у тебя!
Мельком я увидел свое отражение в зеркале и тут же залился краской от смущения.
Раффлз, кажется, был слегка озадачен.
— Пока нет, — сказал он. — Но будь уверен, я заполучу ее до того, как мы прибудем в Неаполь.
— Она что, на борту?
— Разумеется.
— Но как? Где? Кто ее пронес?
— Этот самонадеянный немецкий офицеришка с усами торчком.
— Я, кажется, видел его в курительном салоне.
— Да, он самый. Просиживает там все время. Герр капитан Вильгельм фон Хойманн, как значится в списке пассажиров. И, видишь ли, он доверенное лицо самого императора, поэтому жемчужина у него при себе.
— Ты выяснил это в Бремене?
— Нет, в Берлине. Знаю там одного журналиста. Должен сознаться тебе, Банни: я оказался там не случайно!
Я расхохотался.
— Нет нужды оправдываться. Ты сделал именно то, что, как я надеялся, предложишь мне тогда на нашей речной прогулке.
— Ты что, действительно надеялся? — поразился Раффлз, выпучив глаза. Воистину, настал его черед удивляться, а я устыдился еще больше.
— Да, — подтвердил я. — Идея меня весьма захватила, но первым я бы никогда такого не предложил.
— Но разве ты выслушал бы меня в тот день?
Разумеется, я бы его выслушал, и я честно сообщил ему об этом. Нет, я не кичился своей беззастенчивостью и уж тем более не горел азартом человека, которому такие прибыльные приключения в удовольствие. Нет, я высказал все это сквозь зубы, упрямо и дерзко, как человек, пытавшийся вести добродетельную жизнь, но не преуспевший в этом. И, раз уж я поднял эту тему, то добавил еще много чего. Во мне наконец прорезалось красноречие: в мельчайших подробностях я описал Раффлзу свою безнадежную борьбу и неизбежное падение. Разумеется, такие определения мог подобрать только человек с моим опытом, пусть даже опыт этот принадлежал мне одному. Это была вечная история о воре, пытавшемся жить праведной жизнью, — но это шло вопреки его природе, и на этом, в общем-то, история и закончилась.
Раффлз с возмущением отверг мои традиционные взгляды. Душа человека, заявил он, суть шахматная доска: почему бы не перевернуть ее, поменяв местами белое и черное? Зачем так усердно цепляться за что-то одно, как наши предки или персонажи старинной пьесы? Вот сам он, например, чувствовал себя комфортно на любой из клеток этой доски и не брезговал ни одним цветом, ни другим. Мои же умозаключения он охарактеризовал как полный бред.
— Ты в отличной компании, Банни, в отличие от всех этих дешевых моралистов. Они все несут одну и ту же чушь, это еще с Вергилия началось. Я в любой момент могу обратиться к обычной жизни, и рано или поздно непременно так и поступлю. Свое дело вряд ли заведу, но ведь всегда можно уйти в отставку, остепениться и доживать свой век безгрешно, долго и счастливо. Да одна эта жемчужина уже обеспечила бы мне такую перспективу!
— Но ведь ты говорил, что продать такую знаменитость невозможно.
— Можно попытаться. Начать с мелкой рыбешки, и, может быть, спустя пару месяцев наконец повезет. Боже милостивый, мы прославимся по обе стороны океана!
— Ну-ну, сперва ведь нужно ее добыть. Насколько прочен этот господин фон Как-его-там?
— Больше, чем на вид. И нахален, как черт!
Белая юбка скользнула в проеме двери мимо нашей каюты, и я заметил, что усатый немец последовал за ней.
— Но неужели нам придется иметь дело с ним? Разве жемчужина хранится не в корабельном сейфе?
Раффлз недовольно фыркнул, повернувшись ко мне.
— Дорогой мой друг, неужели ты думаешь, что весь экипаж в курсе, что за груз у них на борту? Ты называл цену в сто тысяч фунтов, в Берлине же она бесценна. Не поручусь, что сам капитан знает о том, что везет с собой фон Хойманн.
— А он везет?
— Непременно.
— Тогда у нас один-единственный объект?
Раффлз ответил мне красноречивым взглядом. В проеме снова мелькнуло что-то белое, и Раффлз, шагнув прочь из каюты, присоединился к компании.
II
Не было в моей жизни парохода прекрасней, чем этот «Улан», господина вежливей, чем его капитан, и команды веселей, чем та, что была в его распоряжении. По крайней мере, у меня хватило совести это признать, ибо само же путешествие было ужасно. Никто не был в том повинен, погода, неизменно ясная, тоже была ни при чем. Дело было даже не во мне — я наконец распрощался с остатками совести, на этот раз навсегда, и был морально готов наслаждаться синим небом и синим морем с той же беззаботной легкостью, что и Раффлз. Именно в Раффлзе и была проблема — а точнее, в Раффлзе и этой дерзкой школьнице.
Что он в ней нашел? Разумеется, ничего особенного, но, очевидно, он решил, что обязан подразнить или же наказать меня за годы отступничества, посвятив все свободное время нашего путешествия этой девице. Они везде ходили вместе, порой это доходило до смешного. Встречались они за завтраком и расставались около полуночи, и все это время я непрестанно слышал ее гнусавое хихиканье и его голос, нашептывающий всякие банальности. А это были именно банальности, никаких сомнений! Возможно ли поверить, что кто-то, подобный Раффлзу, с его жизненным опытом и солидным стажем романтических похождений — я намеренно опустил в повествовании эту сторону его характера, потому что она заслуживает отдельной книги, — так вот, спрашиваю я, возможно ли поверить, что такой человек не нашел занятия лучше, чем днями напролет кружить голову школьнице? Правда была на моей стороне, и сомнений в том не было.
Надо признать, у этой девицы были и свои привлекательные стороны. Глаза, решил я, были неплохи, да и загорелое личико смотрелось симпатично, если о чертах лица можно так выразиться.
Дерзка она была, конечно, без меры, а еще молода и полна сил, энергии и любви к жизни, чему оставалось только позавидовать. Пожалуй, цитировать ее не возьмусь — это превыше моих сил, так что просто скажу, что стремился дать наиболее объективную характеристику. Должен признаться, было у меня к ней некоторое предубеждение — я завидовал той легкости, с которой она завоевала Раффлза, а сам я виделся с ним все реже с каждым днем. Нелегко в этом признаться, но, должно быть, я испытывал тогда чувство, отдаленно напоминающее ревность.
Но ревновал не я один — на корабле был еще человек, страдавший от такого положения вещей, и страдал он грубо, резко и бескомпромиссно. Капитан фон Хойманн яростно крутил свои усы, одергивал белоснежные манжеты и надменно таращился на меня сквозь очки. Нам следовало бы найти общий язык на этой почве, но мы так и не обмолвились ни словом. На одной щеке у капитана красовался чудовищный шрам, подарок из Гейдельберга,[126] и я часто думал, что Раффлзу, возможно, грозит вскоре заполучить нечто подобное. Хойманн не всегда оставался за бортом, по нескольку раз на день Раффлз приглашал его принять участие в беседе — но лишь с тем, чтобы перебить соперника в самый животрепещущий момент, перетянув одеяло на себя. Именно так он выразился, когда я с улыбкой укорил его в недостойном отношении к немцу, в то время как все мы находились на немецком корабле.
— Тебя возненавидит весь корабль!
— Ни в коей мере. Только фон Хойманн.
— Разумно ли это? Ведь именно за ним мы охотимся.
— Это разумнейшее решение из всех возможных. Подружиться с ним было бы ужасной ошибкой, это знает любой мошенник.
Это меня утешило, приободрило и даже немного примирило с ситуацией. Я боялся, что Раффлз потерял осторожность, и, внезапно обретя в себе смелость, высказал ему это — мы в тот момент проплывали Гибралтар, и с самого Те-Солента[127] не перебросились ни словом. Раффлз усмехнулся и покачал головой.
— Времени у нас целая уйма, Банни. До Генуи, которой мы достигнем вечером воскресенья, вообще нет смысла что-либо делать. Путешествие только началось, и настоящая жизнь началась вместе ним, так что давай получать от нее удовольствие в полной мере, пока это возможно.
Мы наслаждались послеобеденным отдыхом на прогулочной палубе, и Раффлз, высказавшись, зорко огляделся по сторонам и в следующую же секунду покинул меня, решительным шагом направившись прочь. Я же удалился в курительную комнату, где обосновался в уголке с сигаретой и книгой, и вскоре увидел фон Хойманна — он зашел выпить пива, и вид у него был на редкость мрачный.
Немногие решаются отправиться в морское путешествие по Красному морю в середине лета, и «Улан» действительно был почти пуст. Однако, тем не менее, свободных кают на прогулочной палубе не было, и это стало аргументом для моего переселения к Раффлзу. Я мог бы занять комнату внизу, но решил этого не делать — точнее, Раффлз решил за меня. Так что мы оказались вместе, не вызвав никаких подозрений, но что ждало нас впереди, я не имел ни малейшего понятия.
Воскресным вечером я дремал на своей нижней койке, когда Раффлз раздернул шторы и устроился на диванчике. Пиджака на нем не было.
— Ахилл, спящий в своей кроватке!
— А что еще делать? — спросил я, зевая и потягиваясь. Впрочем, тон Раффлза был полон бодрости, и я постарался ответить тем же.
— У меня есть одна идейка, Банни.
— Да ну!
— Пойми меня правильно. Сегодня вечером я забью свои сто очков! Дела поважнее закончились.
Я спустил ноги на пол и наклонился вперед, копируя позу Раффлза — весь внимание. Дверь каюты была закрыта на щеколду, а открытый иллюминатор — задернут шторкой.
— Мы прибудем в Геную до заката, — продолжал Раффлз. — Именно там все и произойдет.
— Значит, ты так и не передумал?
— Разве я собирался?
— Ты почти не говорил об этом, что мне оставалось думать?
— И я правильно делал, дорогой мой Кролик. К чему портить такое чудесное путешествие пустой болтовней? Но теперь час настал. Мы сделаем это в Генуе или не сделаем вовсе.
— На берегу?
— Нет, прямо на корабле, завтра ночью. Можно бы и сегодня, но лучше все-таки завтра, на случай, если очень не повезет. Если придется применить насилие, мы сможем удрать первым утренним поездом, корабль тронется дальше, и никто ничего не узнает до тех пор, пока бесчувственное или бездыханное тело фон Хойманна не найдут…
— Никаких бездыханных тел! — запротестовал я.
— Разумеется, — успокаивающе сказал Раффлз. — Иначе у нас бы не было причины бежать. Но если бежать все же придется, мы сделаем это утром вторника, во время отплытия, как бы ни легли карты. Не думаю, что придется прибегнуть к насилию — это удел бесталанных неудачников. Сколько раз за все эти годы мне приходилось применять силу, как думаешь? Ни разу, насколько я помню. Но если бы дело пошло паршиво, я сделал бы это без колебаний.
Я спросил Раффлза, как он собирается проникнуть в каюту фон Хойманна незамеченным, и даже в сумраке помещения было заметно, как Раффлз просиял.
— Присаживайся рядом, Банни, и ты все увидишь своими глазами.
Я так и сделал, но ничего нового мне не открылось. Раффлз потянулся и постучал пальцем по решетке над своей кроватью — отверстие в стене в восемнадцать дюймов длиной и примерно вполовину меньше по высоте, за которым начиналась вентиляционная шахта.
— А это, — сказал он, — наша дорога в светлое будущее. Можешь открыть, если хочешь, — там мало что можно рассмотреть, но пара отверток сделает свое дело. Как ты видишь, у этой шахты отсутствует дно. Она проходит по потолку над коридором в ванную комнату и заканчивается слуховым окном на мостике. Вот почему надо сделать это, пока мы стоим в порту, — в это время на мостике нет вахты. Вентиляционное отверстие напротив нас ведет в каюту фон Хойманна. Потребуется, как я уже сказал, пара отверток, а вот посмотри — балка, на ней удобно будет стоять.
— Но что если кто-то будет проходить и посмотрит вверх?
— Весьма маловероятно, что такое случится, да и перестраховку мы себе позволить не можем. Не оставлять же тебя здесь на дежурстве. Самый важный момент — нас не должны видеть после того, как мы якобы пойдем спать. На этой палубе несут караул юнги, они-то и станут нашими свидетелями. Иисусе, это будет загадка века!
— Если, конечно, фон Хойманн не окажет сопротивления.
— Ха! У него просто не будет возможности. На ночь он всегда наливается пивом, а потому спит как сурок, а ведь нет ничего проще, чем усыпить хлороформом крепко спящего человека. Ты даже сам пару раз проворачивал подобное — впрочем, не будем ворошить былое… Фон Хойманн лишится сознания, как только мне удастся дотянуться до него из отверстия. Я попаду в его каюту, ступая по его бесчувственному телу, мой мальчик!
— А где в этот момент буду я?
— Ты будешь подавать инструменты и держать оборону на случай форс-мажора, а также обеспечивать мне моральную поддержку. Обычно это непозволительная роскошь, Банни, но не могу найти в себе сил отказаться, раз уж ты сегодня образец добродетели!
Раффлз объяснил, как мы заметем следы после нашей акции; например, фон Хойманн перед сном обязательно запрет дверь, а мы, уходя, оставим ее открытой. Впрочем, поиски вряд ли затянутся. Жемчужина будет спрятана где-то совсем рядом с фон Хойманном, более того, Раффлз знал наверняка, где она спрятана и как. Разумеется, я поинтересовался, откуда у него эти сведения, и ответ меня не порадовал.
— Это старая история, Банни, я уже и не помню откуда. Вроде бы Ветхий Завет… Там речь о Самсоне, но для него все кончилось печально, и повинна в том Далила.
И он посмотрел на меня так значительно, что я ни на миг не усомнился в своем толковании.
— Значит, в роли Далилы выступает прекрасная австралийка?
— В самом невинном смысле, да.
— Неужто она сумела выведать у него про миссию?
— О да, я заставил его раскрыть все карты, и, как я и надеялся, он выложил свой лучший козырь. Он даже показал Эми жемчужину.
— Эми, значит? А она тут же все тебе рассказала?
— Ничего подобного. С чего ты взял? Выудить из нее эти сведения было крайне непростым делом.
Мне стоило насторожиться, лишь услышав этот тон, но, увы, для этого мне не хватило здравомыслия. Наконец мне открылась истинная причина тому, что Раффлз проводил с этой девицей столько времени, и откровение это меня ослепило.
— Ах ты старый проныра! — вскричал я, указав на него пальцем. — Теперь мне все ясно. Боже, ну и глупцом я был!
— Уверен, что был?
— Уверен! Теперь я понял наконец, что грызло меня всю неделю. Я просто не мог понять, что такого ты нашел в этой девчонке. Мне и в голову не пришло, что это часть плана.
— То есть ты пришел к выводу, что это всего лишь игра?
— Ну конечно, хитрый ты лис!
— Ты разве не знал, что она дочь богатого скваттера?
— Женщины при деньгах так или иначе вешаются на тебя толпами.
— А тебе не приходило в голову, что мне вдруг вздумалось уйти на пенсию, начать жизнь заново и жить долго и счастливо на австралийских полях?
— Твой тон весьма однозначен. Разумеется, нет!
— Банни! — возмутился он так яростно, что я невольно приготовился к защите.
Но это не потребовалось.
— Как думаешь, ты смог бы жить счастливо? — робко спросил я.
— Да бог его знает!
И с этими словами он вышел, оставив меня удивленно обдумывать его слова и интонации, а также их причину, казалось бы, такую незначительную.
III
Я не раз поражался ловкости рук Раффлза, но венцом искусности стала именно эта сложнейшая операция, проведенная в ночь на вторник, с часу до двух, на борту немецкого парохода «Улан» в генуэзском порту.
Все прошло без сучка без задоринки. Все было предусмотрено, и происходило в точности согласно оговоренному плану. Никто не видел нас снизу, на палубе стояли только юнги, а мостик был совершенно пуст. В час двадцать пять Раффлз, совершенно голый, со склянкой в зубах и отверткой за ухом, проскользнул ногами вперед в вентиляционное отверстие над своей койкой и вернулся спустя девятнадцать минут, теперь уже головой вперед, все еще сжимая зубами склянку, в которой, обмотанное ватой для звукоизоляции, покоилось нечто напоминающее огромную серую фасолину. Он отвинтил решетку в каюте фон Хойманна, проник внутрь, добыл искомое и тут же скрылся обратно в шахте так быстро, как только смог. Фон Хойманн не доставил неприятностей — смоченная хлороформом тряпочка сперва под нос, потом на приоткрытый рот, и незваный гость смело перелез прямо через ноги хозяина каюты, не потревожив его сон.
И награда была у нас в руках — жемчужина размером с лесной орех, бледно-розовая, как ноготок юной девушки, подарок европейского императора вождю племени Южных морей, знаменующий конец эры флибустьеров. Когда все было кончено, мы принялись с восхищением ее разглядывать. По такому случаю было торжественно распито виски с содовой, заготовленное с вечера. Успех был ошеломительный, больше, чем нам виделось в самых оптимистичных мечтах. Оставалось только припрятать жемчужину (Раффлз извлек ее из оправы, а саму оправу вернул на место) так, чтобы даже самый тщательный обыск не смог помешать нам пронести ее в Неаполь. Этим занялся Раффлз, а я же отправился спать. Моим предложением было немедленно, той же ночью высадиться в Генуе и дать деру со всех ног. Раффлз об этом и слышать не хотел, и на то была куча причин, позже ставших очевидными.
Вспоминая те события сейчас, я не думаю, что пропажа была обнаружена до отплытия из порта, но уверенности у меня нет. Сложно поверить, что человек, одурманенный хлороформом во сне, наутро не ощутит ни подозрительного запаха, ни каких-либо последствий. Тем не менее утром вторника фон Хойманн вел себя так, будто ничего не случилось. Усы его все так же стояли торчком, а немецкая фуражка была надвинута на самые глаза. В десять утра мы покинули Геную; последний тощий офицер с небритым подбородком сошел с корабля, последний лоточник был выдворен за борт в свою лодчонку, из которой и осыпал нас потом проклятиями, последний опоздавший пассажир ступил на борт — суетливый человечишка с седой бородой, торговавшийся со своим перевозчиком из-за пол-лиры, задерживал нас всех. Но вот наконец концы были отданы, и «Улан» вышел из гавани, огибая маяк. Мы с Раффлзом стояли рядом, опираясь на перила, разглядывая свои тени на волнах цвета бледно-зеленого мрамора, снова бивших о борт.
Фон Хойманн снова перешел в наступление. Наш план это предусматривал, таким образом оттягивая неизбежное. Девушка скучала, это было видно, и изредка бросала взгляды в нашу сторону, но фон Хойманн был настроен чрезвычайно решительно. Раффлз же был мрачен и чем-то обеспокоен, несмотря на наш успех, и я рискнул предположить, что его гнетет скорое расставание с жемчужиной в Неаполе. Со мной он не разговаривал, но и далеко не отпускал.
— Никуда не уходи, Банни. У меня к тебе разговор. Ты умеешь плавать?
— Немного.
— Десять миль одолеешь?
— Десять? — я рассмеялся. — Одну, и то будет неплохо. А почему ты спросил?
— Сегодня расстояние до берега весь день будет примерно таким.
— Во имя всего святого, на что ты намекаешь, Раффлз?
— Ничего особенного. Просто, если запахнет жареным, придется добираться до берега вплавь. Под водой ты тоже не пловец, я так понимаю?
На этот вопрос я не ответил, да и едва расслышал его — я весь покрылся холодным потом.
— Почему должно запахнуть жареным? — шепотом спросил я. — Нас что, раскрыли?
— Нет.
— Тогда к чему ты все это говоришь?
— Возможно, будут неприятности. На борту находится наш старый враг.
— Какой еще старый враг?
— Маккензи.[128]
— Не может быть!
— Бородач, из-за которого задержали корабль.
— Ты уверен?
— Разумеется! И я разочарован, что ты сам его не узнал.
Я приложил к лицу носовой платок. Внезапно мне показалось, что в походке того пассажира действительно было что-то знакомое, более того, походка эта была слишком легка для человека его лет. В свете этого ужасающего откровения даже пресловутая борода показалась мне фальшивой. Я огляделся по сторонам, но старика нигде не было видно.
— В этом вся беда, — сказал Раффлз. — Я видел, как двадцать минут назад он зашел в каюту капитана.
— Но что могло привлечь его внимание? — почти взвыл я от отчаяния. — Может быть, простое совпадение! Может, у него под подозрением кто-то другой?
Раффлз покачал головой.
— Маловероятно.
— И ты думаешь, что он явился по твою душу?
— Я ожидал подобного уже пару недель.
— И тем не менее ты все еще здесь?
— А что мне остается? Я не кинусь в воду без явной на то необходимости. Начинаю жалеть, Банни, что не послушался твоего совета и не сошел на берег в Генуе. Но я не сомневаюсь, что Маккензи держал под наблюдением и порт, и корабль — поэтому и вернулся последним.
Он достал сигарету и протянул мне портсигар, но я нетерпеливо помотал головой.
— Я все еще не понимаю. С чего ему тебя преследовать? Не мог же он отправиться в путешествие только из-за жемчужины, к тому же сберегавшейся в надежных руках. Какие у тебя предположения?
— Я полагаю, какое-то время назад он напал на мой след, вероятно, после того, как упустил в прошлом ноябре нашего друга Крошея. Были и другие признаки. Я действительно не подготовился, но, возможно, все это мне только кажется. Пусть только попробует отыскать жемчужину и вернуть ее на место! А что касается предположений, мой дорогой Банни… Я прекрасно знаю, как он здесь оказался и что планирует делать теперь. Он выяснил, что я уехал из Британии, и решил выяснить причину, затем узнал о фон Хойманне и его миссии, вот тебе и причина. Отличная возможность поймать меня на горячем. Но у него ничего не выйдет, Банни, помяни мое слово. Он может перевернуть корабль вверх дном и вывернуть все наши карманы, когда о пропаже станет известно, но жемчужины он не найдет. Смотри, капитан приглашает этого наглеца в каюту — ну и шуму же будет через пять минут!
Однако шума не случилось. Никто не засуетился, не стал обыскивать пассажиров, даже слухи никакие не разошлись. На палубе царило зловещее спокойствие, и мне стало ясно, что Раффлз нисколько не обеспокоен тем, что его предсказание не сбылось. Тишина продолжалась несколько часов, Маккензи не появлялся, но продолжал действовать — после обеда выяснилось, что он побывал в нашей каюте! Я оставил свою книгу на койке Раффлза, а когда вернулся, покрывало все еще хранило тепло чужого тела. Инстинктивно я сунулся к вентиляционной решетке, но стоило мне ее распахнуть, как хлопнула решетка с противоположной стороны.
Я отыскал Раффлза.
— Все в порядке! — был мне ответ. — Пусть ищет жемчужину.
— Ты что, за борт ее выбросил?
— На этот вопрос предпочту не отвечать.
Он развернулся на каблуках, и остаток дня я то и дело замечал его рядом с незабвенной мисс Вернер. Простенькое льняное платье с алой отделкой в нужных местах замечательно оттеняло цвет лица и красило ее стройную женскую фигурку. А эти живые глаза и белые зубки! Я прямо загляделся на нее тем вечером, но назло себе не позволял лишнего. Вместо того я наворачивал круги вокруг них, надеясь перекинуться словом с Раффлзом, предупредить его о витающей в воздухе угрозе, но он на меня даже ни разу не посмотрел. Так что вскоре я оставил эти попытки, а Раффлза увидел снова только в каюте капитана.
Его вызвали туда первым. Он вошел, улыбаясь, и все еще улыбался, когда я к нему присоединился. В каюте было просторно, как и ожидалось от капитанских апартаментов. Маккензи восседал на кушетке, подметая бородой полированный столик, но перед капитаном лежал револьвер, а старший помощник, впустив меня, закрыл следом дверь и встал к ней спиной. Мизансцену дополнял фон Хойманн, усердно крутивший свои усы.
Раффлз сердечно меня поприветствовал.
— Отличная шутка! — воскликнул он. — Помнишь ту жемчужину, про которую ты писал, Банни? Жемчужина императора, которая стоит немыслимых денег? Оказывается, она была на хранении у нашего доброго знакомого! Он должен был доставить ее людоедскому вождю, но потерял по дороге, представляете? И теперь они решили, что украли ее мы — очевидно, потому что мы британцы!
— Но вы действительно ее украли, я знаю, — вставил Маккензи, наклонившись вперед.
— Вы слышите, сколько в этом голосе патриотизма и преданности? — вопросил Раффлз. — Позвольте представить вам Маккензи, этого доблестного мужа и старого нашего знакомца, истинного сына Шотландии и Скотленд-Ярда!
— Тофольно! — воскликнул капитан. — Фы татите себя обыскать, или я толшен фас застафить?
— Как хотите, — сказал Раффлз. — Но было бы справедливо позволить нам оправдаться. Вы обвиняете нас во взломе каюты капитана фон Хойманна сегодня на рассвете и похищении этой проклятой жемчужины — что ж, я могу доказать, что был у себя всю ночь, и мой друг, несомненно, тоже это может.
— Разумеется, — раздраженно сказал я. — Корабельные юнги могут это засвидетельствовать.
Маккензи рассмеялся и потряс бородой над своим отражением в полированной столешнице.
— Это было весьма умно, — заявил он, — и, несомненно, сработало бы на ура, не будь на борту меня. Но я понял, как вы это провернули, едва бросив взгляд на эти вентиляционные решетки. Так или иначе, капитан, это уже неважно. Сейчас защелкну на этих умниках наручники, и тогда…
— По какому праву! — голос Раффлза зазвенел от возмущения, а такого выражения лица я не видел у него никогда прежде. — Обыщите нас, если хотите, обыщите все наши вещи, но не смейте и пальцем нас тронуть без ордера на арест!
— Я бы никогда, — заверил его Маккензи, роясь в нагрудном кармане, и Раффлз тут же потянулся к своему.
— Держите его руки! — завопил Маккензи, и огромный кольт, бывший при нас все время, но на моей памяти так ни разу и не выстреливший, с грохотом упал на стол прямо в цепкие руки капитана.
— Все, все, — огрызнулся Раффлз на помощника капитана. — Отпустите меня, я больше не буду. А теперь давайте посмотрим на ваш ордер, Маккензи!
— Вы ничего с ним не сделаете?
— А чем это мне поможет? Дайте взглянуть.
Тон Раффлза был жестким, и Маккензи наконец предъявил документ. Раффлз придирчиво его изучил, подняв брови. Его губы были сжаты, но в лице чувствовалось облегчение. Вернув бумагу, он пожал плечами и улыбнулся.
— Вы удовлетворены? — поинтересовался Маккензи.
— Возможно. Мои поздравления, Маккензи, ваши карты действительно хороши. Два взлома и ожерелье Мелроуз, Банни! — На этих словах он повернулся ко мне с печальной улыбкой.
— И все это не составит труда доказать, — объявил Маккензи, пряча ордер в карман. — На вас у меня тоже кое-что есть, — прибавил он, кивнув мне. — Пусть и не так много.
— Потумать только! — с упреком сказал капитан. — Мой корапль теперь форофской притон! Фесьма неприятное опстоятельстфо. Мне притется закофать фас ф канталы то прибытия ф Неаполь.
— Ни в коем случае! — вскричал Раффлз. — Маккензи, вы же не позволите опозорить ваших соотечественников перед всей командой? Капитан, нам все равно некуда бежать. Давайте замнем это до завтра. Я выворачиваю свои карманы, смотрите; Банни, сделай то же самое. Пусть обыщут нас с головы до ног, если думают, что мы вооружены до зубов. Я прошу малого — выйти отсюда без наручников!
— Орушия у фас, мошет, и нет, — сказал капитан, — но что насчет шемчушины, которую фы украли?
— Вы получите ее! — крикнул Раффлз. — В ту же минуту, как пообещаете не поднимать шума среди пассажиров.
— Об этом я позабочусь, — кивнул Маккензи, — если вы будете вести себя хорошо. Ну, так где она?
— На столе, прямо перед вашим носом.
Все глаза устремились на стол, но на отполированной до блеска столешнице было только содержимое наших карманов — часы, блокноты, карандаши, точилки, портсигары, уже упомянутый кольт, и никакой жемчужины.
— Вы водите нас за нос, — сказал Маккензи. — Зачем вам это?
— Ничего подобного, — рассмеялся Раффлз. — Я просто вас проверяю. Ничего криминального.
— Кроме шуток — жемчужина действительно здесь?
— Богом клянусь, она лежит на столе. Маккензи открыл портсигары и одну за другой перетряхнул все сигареты. Затем Раффлз попросил дозволения выкурить одну из них, а получив это дозволение, заметил, что жемчужина легла на стол намного раньше сигарет. Маккензи тут же схватился за кольт и открыл барабан.
— Да нет же, не там, — покачал головой Раффлз. — Но вы уже близко. Проверьте патроны.
Маккензи вытряхнул все патроны на ладонь, по очереди поднес их к уху и потряс, но безрезультатно.
— Да дайте же мне!
И в следующую же секунду Раффлз нашел искомое: надкусил нужный патрон и торжественно водрузил жемчужину императора в центр стола.[129]
— Возможно, после этого вы будете чуть более снисходительны! Капитан, признаю, что в некотором смысле я действительно преступник, и, как вы можете видеть, я стою здесь в вашей власти, готовый провести в кандалах всю ночь, если безопасность корабля того потребует. Все, о чем я прошу, — одно маленькое одолжение.
— Это бутет зафисеть от того, что фы попросите.
— Капитан, на вашем корабле я совершил преступление много страшнее, чем вы можете себе представить! Я обручился с девушкой и хочу с ней проститься!
Я полагаю, на тот момент мы все были одинаково изумлены, однако лишь фон Хойманн, о котором все уже почти забыли, озвучил свои чувства страшным немецким проклятьем, за которым тут последовали яростные возражения на просьбу Раффлза. Впрочем, это не помогло, и хитрюга Раффлз добился своего — ему дозволили побыть с девушкой пять минут в присутствии капитана и Маккензи, стоявших поблизости с оружием наготове, но за гранью слышимости.
Когда мы выходили из каюты, Раффлз остановился и схватил меня за руку.
— Я все-таки впутал тебя в это дело, Банни, так уж получилось. Знал бы ты, как я сожалею… Но тебе ничего серьезного не грозит — почему тебе вообще должно что-то грозить? Прости меня, прошу тебя. Наша разлука может продлиться годы или даже вечность! Ты был преданным другом и всегда был рядом в самый ответственный момент. Возможно, однажды ты сможешь вспоминать об этом с радостью!
В его взгляде я углядел хитринку. Я стиснул зубы, собрался с духом и в последний раз пожал его мужественную и ловкую руку.
Как ярко я помню эту сцену и буду помнить до самой смерти! Она отпечаталась в моей памяти вся, до мельчайших деталей, до последней тени на палубе. Мы проплывали острова меж Генуей и Неаполем, за правым бортом виднелась Эльба, багряный в закатном свете клочок земли. Двери капитанской каюты выходили на прогулочную палубу, залитую солнцем и расчерченную тенями, пустынную — только мы все, кто был в каюте, да бледный тонкий силуэт рядом с Раффлзом. Помолвка! Я поверить не мог, и по сей день не могу. И все же они стояли там, и до нас не доносилось ни слова. Они стояли на фоне заката и сияющего отблесками морского простора, раскинувшегося от берегов Эльбы до самого борта корабля, и тени их протянулись к самым нашим ногам.
А затем случилось непредвиденное — в одно мгновение произошло то, что я до сих пор не знаю, как воспринять. Раффлз схватил девушку, поцеловал на глазах у всех нас и отпрыгнул так резво, что она едва устояла на ногах. Помощник капитана кинулся к нему, а я кинулся за помощником.
Но Раффлз уже стоял на перилах.
— Держи его, Банни! — крикнул он. — Да покрепче!
И я послушно вцепился в помощника изо всех сил, понятия не имея, что творю, и зная одно: Раффлз попросил меня об этом.
Раффлз вскинул руки вверх, опустил голову, и его худое гибкое тело мелькнуло в закатном свете, падая за борт — с небрежностью заправского прыгуна с вышки!
Что творилось на палубе после этого, рассказать не могу, ибо не присутствовал. Также нет смысла в пересказе моих дальнейших злоключений — ни постигшее меня наказание, ни долгое заключение, ни покрывший меня позор не представляют интереса, и читатель может разве что порадоваться тому, что наконец-то мне воздалось по заслугам. Но об одном я должен сказать, хотите верьте, хотите нет, — и тогда уж все будет кончено.
Меня заперли в каюте второго класса с видом на море, заковав в кандалы, как предназначалось Раффлзу. На воду спустили шлюпку и усердно прочесывали море, но безрезультатно, как потом и значилось в отчетах. То ли закатное солнце, играющее на поверхности воды, ослепило всех, то ли я пал жертвой галлюцинации — как знать!
Но так или иначе, лодка вернулась обратно, мотор снова заработал, а я смотрел в иллюминатор на волны, навсегда сомкнувшиеся — так мне казалось — над головой моего верного друга. Внезапно солнце скрылось за Эльбой, море потемнело и затихло, и примерно на полпути к берегу, в милях от корабля я углядел в серой пелене волн черную точку — если, конечно, меня не подвели глаза. Подали сигнал к обеду; возможно, это наконец отвлекло от созерцания моря всех, кроме меня. А я то терял эту точку, то снова находил, и вскоре решил, что окончательно потерял, — а она возникла вновь, такая крохотная на сером полотне моря, и двигалась она прямо к острову, озаренному последними багряно-золотыми лучами заходящего солнца.
И пока я гадал, была ли эта точка человеческой головой, спустилась ночь.[130]
Джек Лондон ЗОЛОТО КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЕЙ
Тяжелая портьера распахнулись рывком — и в комнату вошел молодой человек лет двадцати трех или около того.
Хозяин этого визита не ожидал. Он как раз чиркнул спичкой, чтобы закурить сигарету, — но вместо этого, замерев от изумления, так и простоял несколько секунд, пока не почувствовал, что пламя обжигает ему пальцы. «О боги! Храните нас от всех странствующих и сумасшествующих… или путешествующих!» — воскликнул он, одновременно потрясая рукой, чтобы сбить огонь, и словно бы простирая ее к небесам таким жестом, который, как и произнесенная фраза, выдавал в нем неисправимого любителя театральных эффектов. А потом, словно лишившись сил, рухнул в мягкие кожаные объятия стоящего рядом кресла.
Его гость, приглушенно буркнув что-то нелестное в адрес своих «слишком помешанных на театре друзей», торопливо притоптал спичку — которая от манипуляций хозяина отнюдь не потухла, а наоборот, разгорелась сильнее и, упав на пол, всерьез угрожала пожаром. Затем он все-таки помог своему приятелю закурить, закурил сам — и лишь после этого они приступили к объяснениям.
— Ну ладно, Олли, старина, — сказал хозяин, все еще потирая обожженный палец, — я, конечно, рад твоему визиту, но что у тебя стряслось на этот раз? Твой портной вдруг ощутил тревогу по поводу того, будут ли когда-нибудь оплачены его счета, — и тебе сейчас требуется презренный металл? Или требование исходит от той рыжеволосой красотки, за которой ты недавно так увивался? Скажем, она настолько подчинила тебя своей воле, что ты уже готов по первому ее слову выступить в крестовый поход против нас, обитателей Мотт-стрит и Малбери-стрит, ибо мы своим существованием оскорбляем эстетические чувства твоей возлюбленной?
— Нет, дело обстоит не настолько плохо, — усмехнулся гость. — Но знаешь, какие у них планы?
— Какие? И главное, у кого? У твоих соратников по этому эстетско-крестовому походу?
— Я имею в виду кружок.
— А-а, Арчи и его друзей? Ну и что же они натворили… или собираются натворить? Полагаю, все-таки ничего особенно серьезного? Для этого они, ха-ха, всегда были слишком уж серьезными ребятами…
— Нет, это не слишком серьезно — само по себе. Но, тем не менее, речь идет об очень… да, об очень серьезном деле. Ха-ха-ха! — Олли захохотал, постарался удержаться, но тут же снова сорвался на смех. Героическим усилием придал лицу непроницаемое выражение — однако хихиканье опять прорвало плотину.
— Черт побери твои парадоксы! — заметил хозяин без видимого раздражения. — Несерьезный случай, серьезное дело, серьезная компания очень серьезных молодых людей, твое несерьезное отношение ко всему этому… Отличный повод для иронической эпиграммы! Вот дождешься: возьму и напишу ее.
— Виноват, Дэймон, и молю о милосердии: ради всего святого, не пиши на меня эпиграммы… во всяком случае, пока я тебе всего не объясню.
— Что ж, я умею быть милосердным. Продолжай же, о смертный, и не медли!
— Ладно, слушай. У меня в планах значилось отправиться с приятелями на Кэйп-Веола, ты же знаешь, там сейчас хорошая охота на уток. Должен был отбыть сегодня. Собрался, подготовил охотничье снаряжение, попрощался со всеми на несколько дней — и все это лишь для того, чтобы в последний момент выяснить: приятели передумали, наша охотничья экспедиция не состоится. Ну и что мне оставалось делать? Не знаю, как бы поступил ты, а я решил действовать по контрасту: раз уж сорвалось это лихое развлечение — стану на время добродетельным и, как подобает примерному юноше, нанесу визит вежливости кому-нибудь из старших родичей. Скажем, той моей бруклинской тетушке, у которой особенно долго не бывал. Милейшая старая дева! Я благонравно соглашался с ней, терпел вольности со стороны ее двух персидских кошек, а паче того — со стороны тетушкиной компаньонки, которая за вечерним чаем все уши мне прожужжала разговорами о всеобщем избирательном праве и прочих золотых мечтах суфражисток. Однако даже ей я ни разу не возразил, оцени!
Но ты мне, конечно, поверишь, что после того чаепития мои глаза слипались, а голова буквально трещала. Героическим усилием я заставил себя заглянуть на квартиру к братцу Арчи — не так-то часто я его и навещаю, но тут было нечто иное, чем визит вежливости: меня посетила мысль попросить Арчи, чтобы он назавтра перенял мою эстафету. Ну да, это я о посещении тетушки. Потому что вновь надолго оставить бедняжку без общения после того, как она только начала отогреваться душой, было бы верхом жестокости, но самому мне выдержать два визита подряд — боже упаси!
Арчи не было. По счастью, у меня имелся запасной ключ. Я вошел, прождал некоторое время — но вскоре, утомленный тетушкой, ее кошками и ее компаньонкой, ощутил, что бороться со сном превыше моих сил. Тогда я прилег в будуаре[131] Арчи (у него ведь не кабинет, а подлинный будуар, помнишь?) и благополучно задремал там.
Уж не знаю, долго ли я проспал, но разбудил меня разговор. В квартире собрался кружок: сам Арчи и его компания. Они и не подозревали о моем присутствии — а я… сам не знаю, почему вдруг решил им не показываться. Лежал и слушал.
О, все они были очень серьезны, более чем. Тон там задавал меланхолический мошенник Ле Бланш: автор картин «Мост вздохов» и «Расплата», помнишь, какой шум вокруг них был поднят на последней выставке? Но совсем ненамного отставал Шомберг, его брат-близнец по манере изображать из себя воплощенное страдание. А обсуждали они смерть Уиллиса: на его похоронах в 89-м Арчи, собственно, и познакомился с кружком. Беседа плавно текла меж могилами, иногда задерживалась около надгробных памятников и образовывала водовороты вокруг эпитафий — но очень вскоре, к моему удивлению, сделалась по-настоящему интересной.
Тот молодой идиот, Фесслер, заговорил о глубоком противоречии между подлинными обстоятельствами жизни человека — и тем, как его жизненный путь оказывается представлен в надгробной эпитафии. Шомберг тут же прокомментировал это слегка переиначенной цитатой из Шекспира: мол, «добро переживет людей» — и так далее,[132] а Ле Бланш поддержал его эпитафией сочинения Байрона, мне, так уж вышло, хорошо известной:
Когда гордец тщеславный, жизнь прожив, Заснет навек, хвалы не заслужив, Ваятель режет надпись на плите, Чтоб знали, кто ушел в небытие. И будет надпись лживая гласить: Не кем он был, а кем лишь мог он быть.[133]А уж дальше все это сборище молодых пессимистов начало с болезненным восторгом обличать сам жанр посмертной эпитафии уже не как надгробного текста, а как прощальной речи на похоронах: и религиозное-то ханжество она поощряет, и лицемерие со взломом, и ложь в особо крупных масштабах… Очень скоро они договорились до того, что сам этот обычай в его нынешнем виде — позорное пятно на нашей современной культуре и цивилизации вообще. За обоснованиями дело не стало. Во-первых, если уж составление и произнесение таких речей — оплачиваемая работа (с чем никто не спорит), то в принципе невозможно ожидать от них чего-либо иного, чем медоточивой лести. Во-вторых, чтобы такая речь отражала реальное положение дел, ее должен составлять не наемный проповедник, но человек, хорошо знавший покойного, то есть его друг или враг. В-третьих, враг при таких обстоятельствах вряд ли согласится проявить объективность, а уж друг-то ее не проявит наверняка, потому что другу на похоронах надлежит только льстить, льстить и еще раз льстить.
Итак, по их мнению, надгробные речи являются соблазном и обманом по самой сути своей, ибо сколько-нибудь неприкрытую правду во всей ее красе или уродстве может, при таких обстоятельствах, озвучить только главный виновник церемонии — но он лежит в гробу. А потому следует немедленно объявить беспощадную борьбу этому варварскому и постыдному обычаю.
На этом заседание кружка, по-видимому, и завершилось бы. Но тут взял слово мой братец — и выдвинул более чем оригинальную идею: а почему бы, собственно, «главному виновнику» все-таки не произнести такую речь самому — благо современная техника дает такую возможность?
Все замерли в недоумении. Но тут один из членов сообщества — кажется, это был Моор, — с энтузиазмом воскликнул: «Действительно! Почему бы и нет!»
После чего кружок в полном восторге приступил к реализации этого плана. Единственным доводом против «почему бы и нет» было отсутствие в квартире Арчи фонографа, но серьезным препятствием это стать могло лишь прямо сейчас, а никак не в принципе. Короче говоря, все тут же приняли решение преобразовать свой кружок в неофициальный клуб «Голос с того света»… правда, некоторые предлагали название «Сам себе могильщик»… а, ладно, признаюсь: на самом-то деле они дали своему клубу гораздо более мудреное название, что-то там из греческой мифологии, это я их так «переназвал» на более-менее привычный манер. Выбрали руководство, обсудили устав и тут же торжественно принесли присягу, в которой обязывались упомянуть в похоронной речи все свои деяния: большие и малые, достойные и постыдные. Словом, все, из чего состоит реальная жизнь. А еще они обязались, раз уж не щадят самих себя, не быть снисходительными и к друзьям своим, то есть не забыть и их подвергнуть беспощадной критике, открыто обличив из гроба все ошибки и недостатки.
Договорившись обо всем этом, новый клуб собрал членские взносы на покупку фонографа и звукозаписывающих валиков, причем Арчи был назначен ответственным за их хранение. Для чего хотели было сброситься еще и на сейф, но Арчи показал им сейф, который и так стоял в углу комнаты, — и общество согласилось, что этого вполне достаточно. К концу этой недели все намеревались записать свои прижизненно-посмертные речи и сдать их Арчи, коий обязан хранить валики в сейфе — и выдавать оттуда лишь по мере, э-э-э, похоронной необходимости.
Вот такие дела. На этом кружок, виноват, уже клуб постановил завершить сегодняшнее заседание. И члены его, восхищенные сами собой, покинули квартиру, причем Арчи вышел их проводить. А я незаметно выскользнул следом — и вот я у тебя. Дэймон с легкой укоризной покачал головой.
— Честно говоря, Олли, ты повел себя как девчонка-подросток, которая, едва лишь узнав тайну кого-то из своих подружек, тут же бежит к другой подружке, чтобы все это рассказать, причем поскорее, пока секрет еще горячий. Но… кажется, ты рассказал мне больше, чем сам думаешь. У меня возник план.
— План? Какой?
— Мы тоже организуем кое-что, но уже не у Арчи и не у меня, а на твоей квартире. Чего нам темнить друг перед другом, старина: я на мели, это не секрет. Недавно мне как раз пришла определенная сумма, но ее едва хватило на то, чтобы оплатить накопившиеся долги, и на что теперь жить дальше — большой вопрос. Ты тоже, как понимаю, находишься в финансовом затруднении, хотя и снимаешь просторную квартиру… а может быть, как раз поэтому…
— Еще бы! Я не то что счастливчик Арчи и его богатенькие друзья — вольно ж им с жиру беситься…
— Вот именно. А то, что я задумал, позволит нам разыграть очень остроумную шутку, а заодно и заработать по десять сотен на каждого.[134]
— Ого! Десять сотен долларов на каждого! Пожалуй, это мне поможет встать на ноги… Но, Дэймон, как ты собираешься…
— Я же сказал: устроим у тебя на квартире… некое мероприятие.
— Хватит говорить загадками. Объясняй.
И Дэймон объяснил. И Олли пришел в восторг от этого объяснения. И совещались они до ночи, как лучше им обделать план их. И следующие десять дней тоже встречались постоянно. И были единомысленны.
А через десять дней у Олли был устроен прием. И горели яркие огни во всех комнатах. И пять дюжен и еще десять молодых человек мужеска пола были созваны, и никто не отказался, ибо обещано было: се, грядет нечто ранее небывалое, подлинная утеха душе и разуму, так отчего бы и не прийти? Тем более что Олли с Дэймоном держатся столь многозначительно-таинственно… Интересно же узнать, что они подготовили! Наверняка в самом деле нечто из ряда вон выходящее, потому что стало известно: на их мероприятие приглашен сам профессор Армстронг, которому за это вперед выплачено сто долларов. И один из ближайших помощников Эдисона прибыл из Нью-Джерси, с оплатой еще в сотню долларов плюс, отдельно, полное возмещение всех расходов на поездку. А раз так, то можно ли не упомянуть приглашенного отдельно крупнейшего специалиста по фонографам,[135] специалиста по трубкам Крукса,[136] по кинетоскопам,[137] по электрическим аппаратам…
Короче говоря, трудно было усомниться, что собравшихся на прием прогрессивных молодых людей, жаждущих быть в курсе последних достижений науки и техники, ожидает подлинный пир духа.
В девять вечера Олли представил гостям профессора Армстронга, который ознакомил всех присутствующих с теми новинками, которые может обеспечить применение рентгеновских лучей в самых неожиданных областях знания и практики. Его сменил специалист по кинетоскопам, заставивших всех пережить несколько поистине волшебных минут. А потом выступил помощник Эдисона с рассказом о новых изобретениях своего шефа — и всем стало ясно, что у современной науки в запасе еще много волшебства…
— Кружок весь здесь? — тем временем негромко поинтересовался Дэймон у Олли.
— Ты хочешь сказать — клуб? Да, все ребята Арчи в наличии. Кроме Стаунтона. Я устроил ему телеграмму со срочным вызовом в Коннектикут — и сейчас он на полпути туда.
— Отлично! Хотя, с другой стороны, мне даже жаль, что нам пришлось избавиться от него. Хотел бы я полюбоваться на его физиономию, когда… Как думаешь, он будет очень сердиться?
— За то, что ему не довелось присутствовать здесь сегодня? Точно не будет!
Завершить научный салон должно было выступление специалиста по фонографам. Он кратко изложил благодарным слушателям возможности, которые открывает перед человечеством техника звукозаписи (коснувшись в том числе «возможности слышать голоса тех, кого уже, увы, нет с нами») и начал настраивать свой аппарат. Выбрал один из нескольких лежащих перед ним на столе восковых валиков, вставил в механизм звуковоспроизведения, подключил электрический ток — и под восхищенный шепот наблюдающей за священнодействием публики фонограф заработал.
…Из раструба донесся голос, знакомый здесь если не всем, то многим, а членам клуба «Голос с того света» в особенности. Медленно, торжественно и звучно молодой Стаунтон держал надгробную речь о себе самом.
Бывший кружок, а ныне клуб тут же начал переглядываться. На лицах друзей Арчи читались одновременно все эмоции: страх, смех, смущение… и, конечно же, возмущение. Как странно было слышать Стаунтона, вещающего из глубин механизма, пусть даже механизм этот представлял собой последнюю новинку техники! С какой уморительной серьезностью молодой человек рассуждал о падении нравов общества, которое могут спасти от вырождения только такие вот «механические лекторы», как подробно и критически перечислял он свои собственные недостатки, даже безобиднейшие из них! Он был взвешен самим собой, оценен — и найден легким. После чего, в полном соответствии с уставом клуба, переключился на своих друзей, чья жизнь, по его мнению, тоже не была образцом добродетели…
Это надо было слышать! Отдельные смешки, звучавшие с мест во время «выступления» самого Стаунтона, сменились бурным всеобщим хохотом. А когда голос Стаунтона, с отеческой интонацией передав всем наставления «из иных, высших сфер», пожелал самому себе покоиться с миром и умолк — в зале происходило нечто уже совершенно невообразимое.
Специалист по фонографам вынул цилиндр с записью Стаунтона, потянулся за следующим валиком — и весь клуб «Голос с того света», как один человек, понял, сколь трудное испытание им сейчас предстоит. Да, они намеревались бичевать общество и быть честными, они были полностью убеждены, что это им по силам, — но посмертно! А сейчас проклятый механизм произнесет столько насмешек, разболтает столько тайн, которые никто из них не собирался разглашать при жизни…
Друзья Арчи встревоженно заозирались. Они не знали, чья очередь следующая, не представляли, кто сыграл над ними такую шутку, но чувствовали, что попались. А когда завращался второй цилиндр и из раструба полились слова заупокойной речи самого Арчи — члены клуба не выдержали. Они вскочили со своих мест, бросились к кафедре, на которой помещался фонограф, остановили его и завладели всеми дисками. Олли в притворном гневе стучал по столу, Дэймон не менее активно (и столь же притворно) выражал свое негодование, бурная сцена с участием всех собравшихся в доме гостей затянулась надолго — но наконец публика все же начала расходиться. Еще несколько минут, и в квартире остались только заинтересованные стороны: Олли с Дэймоном, а против них — «Голос с того света» в полном составе. Возмущенный и жаждущий мести.
Теперь стучать по столу было абсолютно незачем. Спокойным голосом и со спокойным лицом, держась в духе образцового злодея из мелодрамы, Олли потребовал по двести пятьдесят долларов за возврат каждого цилиндра — а цилиндров в общей сложности было двенадцать.
Члены клуба отказались, причем с недоумением и негодованием: за что они, собственно, должны платить? Ведь цилиндры уже в их руках!
На что Олли со все тем же холодным бесстрастием намекнул о копиях, сделанных с каждого воскового валика;[138] о том изумлении и негодовании, с которым выслушают «посмертную речь» друзья и родичи каждого из мнимых покойников; о том, что если зловещие цилиндры, которым полагалось говорить только после смерти, подадут голос при жизни, то эта история поистине будет преследовать членов клуба до самой их смерти; о том, что все сказанное — еще не самый худший метод использования звуковых копий; и о том, что благоразумнее все-таки будет заплатить.
— …Что ж, Дэймон, мы пригрозили кнутом — и получили пряник, — сказал Олли, когда бывший кружок, а ныне, пожалуй, больше уже и не клуб, покинул его квартиру. — Но как по твоему мнению: много бы осталось от нас, если б эти рассерженные молодые люди поняли, что на самом деле мы ни при каких обстоятельствах не собираемся кнут применять?
— Предпочитаю не думать об этом. — Его друг как раз заканчивал подсчеты. — Вот смотри: десять раз по двести пятьдесят, да минус пять сотен на расходы, да пополам — это сколько получается?
— По десять сотен долларов на каждого, бог мой! В точности как ты говорил! И если в составлении планов существует хоть что-то фундаментальное, то твоя идея — краеугольный камень этого фундамента…
— В этом фундаменте два таких краеугольных камня: не забывай и про свой вклад.
— Да, ты прав. Два краеугольных камня. Золотых. Потому что каждый — из десяти сотен…
Грант Аллен
СЛУЧАЙ С МЕКСИКАНСКИМ ЯСНОВИДЦЕМ
Мое имя — Сеймур Уилбрехэм Уэнворт. Я прихожусь зятем и личным помощником южноафриканскому миллионеру, известному финансисту сэру Чарльзу Вандрифту. В свое время, когда Чарли был еще мелким адвокатом в Кейптауне, мне посчастливилось жениться на его сестре. Спустя много лет дела Вандрифтов пошли в гору, и их поместье возле Кимберли превратилось в компанию «Клоетдорп Голкондас Лтд». Вот тогда шурин и предложил мне непыльное место секретаря, и с тех пор я стал его постоянным и преданным спутником.
Обычным мошенникам не под силу было провести Чарльза. Он являл собой прекрасный образец энергичного и успешного финансового гения — крепкого телосложения, с твердо очерченной линией рта и цепким взглядом. Я знаю только одного человека, которому удалось это сделать. Но этот человек, как верно подметил комиссар полиции в Ницце, без труда обвел бы вокруг пальца и Видока, и Робер-Удена, и графа Калиостро вместе взятых.
В тот год мы выбрались на пару недель отдохнуть на Ривьеру. Мы не видели необходимости брать с собой жен, так как намеревались приятно провести время и восстановить истощенные трудной работой моральные и физические силы. Впрочем, и сама леди Вандрифт, будучи всецело привержена радостям столичной жизни в Лондоне, не вдохновилась идеей променять ее на провинциальную идиллию средиземноморского побережья. Но мы с Чарльзом настолько устали от повседневных хлопот, что с радостью сменили деловую суматоху Сити на чарующие пейзажи и прозрачный воздух Монте-Карло. Мы просто влюбились в красоту этих мест! Прекрасный вид, который открывается со скал Монако на Приморские Альпы в глубине суши, на чарующую синеву моря с другой стороны и внушительное здание казино между ними, кажется мне самым прекрасным зрелищем в мире. А Чарльза всегда вдохновляла возможность, вдали от лондонской суеты, выиграть несколько сотен, играя после обеда в рулетку под тенью пальм и кактусов Монте-Карло, овеваемых теплым ветром с моря. Безусловно, эта страна — истинный рай для усталого ума и тела. Однако останавливаться в самом княжестве в наши планы не входило. По мнению Чарльза, Монте-Карло в качестве адреса для корреспонденции финансиста не слишком уместно. По этой причине он предпочитает селиться в комфортабельной гостинице на Английской набережной в Ницце. Отправляясь в казино в Монте-Карло, он каждый день совершал полезные для здоровья экскурсии по побережью.
В тот раз мы с удобством обустроились в отеле «Англез», где нам отвели роскошные апартаменты на втором этаже с гостиной, рабочим кабинетом и спальными комнатами. Здесь мы нашли приятное космополитичное общество. В ту пору вся Ницца гудела от разговоров о каком-то любопытном субъекте, известном среди своих поклонников как Великий Мексиканский Ясновидящий. Молва гласила, будто этот человек наделен вторым зрением и прочими сверхъестественными способностями. Хочу сразу сказать, что мой практичный шурин, сталкиваясь с каким-нибудь шарлатаном, тут же загорался желанием разоблачить его. Будучи по натуре наблюдательным деловым человеком, он испытывал, я бы сказал, бескорыстное удовлетворение, когда выводил обманщиков на чистую воду. Многие же дамы в отеле — а некоторым из них довелось лично общаться с этим мексиканцем — рассказывали о нем удивительные истории. Одной, например, ясновидящий раскрыл тайну местонахождения сбежавшего мужа, другой назвал счастливые номера в рулетке, третьей показал в зеркале образ мужчины, которого она тайно любила в течение долгого времени. Разумеется, сэр Чарльз не поверил ни единому слову в этих россказнях, но они настолько разожгли его любопытство, что он захотел познакомиться с удивительным медиумом. И вот как-то раз, беседуя с мадам Пикарде, которой были названы выигрышные номера, мой шурин поинтересовался:
— Как вы думаете, мадам, сколько ваш ясновидящий возьмет за частный сеанс?
— Он делает это не ради личной выгоды, — возразила она, — но для блага человечества. Полагаю, что он с радостью согласится продемонстрировать вам свои потрясающие способности.
— Что за чепуха! — воскликнул Чарльз. — Человеку нужно на что-то жить! Чтобы встретится с ним лично, я готов заплатить пять гиней. В какой гостинице он остановился?
— Хм, по-моему, в «Космополитене», — ответила мадам Пикарде. — Хотя нет, я вспомнила — в «Вестминстере».
Чарльз повернулся ко мне и как можно тише прошептал:
— Вот что, Сеймур. Сразу же после обеда отправляйся к этому типу и предложи ему за пять фунтов немедленно дать в нашем номере частный сеанс. Но ни в коем случае не называй моего имени — держи его в тайне. Веди его сюда, и сразу же поднимайтесь к нам в номер. Так мы избежим возможности сговора. После этого мы посмотрим, много ли ему удастся рассказать о нас.
После обеда я отправился по указанному адресу. Ясновидец показался мне интересным человеком. Он был примерно одного с Чарльзом роста, но имел тонкий и стройный стан. У него было гладковыбритое лицо с идеальными пропорциями — прямо как у бюста Антиноя, который стоит в нашем особняке в районе Мэйфейр. Нос у него был крупный, с горбинкой, а широко распахнутые темные глаза внимательно изучали меня. Однако более всего мой взгляд приковали его длинные и вьющиеся, как у Падеревского,[139] волосы. Они обрамляли высокий белый лоб и точеный профиль лица. Я сразу понял, почему он пользуется такой популярностью у слабого пола: это был лик поэта, артиста и пророка одновременно.
— Я пришел к вам узнать, — начал я, — не желаете ли вы прямо сейчас провести сеанс у одного моего друга. Также хочу сообщить, что за это мероприятие мой друг готов заплатить вам пять фунтов.
Ясновидящий, представившийся сеньором Антонио Эррера, в знак приветствия поклонился мне с истинно испанской учтивостью. На его смуглом лице появилась улыбка, в которой сквозило легкое пренебрежение.
— Я не торгую своим даром, — серьезно ответил он, — я совершенно бескорыстно делюсь им. Если ваш друг, пожелавший остаться инкогнито, желает узреть те духовные силы, которыми я наделен, то я с радостью удовлетворю его любопытство. К счастью — как это часто бывает, когда необходимо поколебать уверенность очередного маловера (а то, что ваш друг маловер, я чувствую подсознательно), — сегодня вечером у меня нет неотложных дел.
Сказав это, ясновидящий в задумчивости провел рукой по своим длинным, роскошным волосам и, словно обращаясь к какому-то невидимому слушателю в комнате, промолвил: «Да, я иду, следуй за мной». Затем он надел широкополое сомбреро, украшенное тесьмой темно-красного цвета, накинул на плечи плащ и закурил сигарету. Когда мы вышли на улицу, он широко зашагал рядом со мной по направлению к отелю «Англез».
Пока мы шли, мексиканец был немногословен и на все вопросы отвечал кратко. Казалась, что он был всецело занят своими мыслями. Когда же мы подошли к дверям отеля и вошли внутрь, он по инерции сделал еще пару шагов вперед, словно не понимая, где находится. Наконец остановившись, сеньор Эррера на мгновение выпрямился и внимательно осмотрелся вокруг.
— А-а, «Англез», — протянул он и снова обратился к своему незримому спутнику: — Здесь, это здесь.
Замечу кстати, что, несмотря на легкий южный акцент, он отлично владел английским языком. Но я все равно улыбнулся при мысли, что этими детскими уловками он намерен обмануть самого сэра Чарльза. Ведь в лондонском Сити всем известно, что его не купить на подобные фокусы. Я понял, что все это — лишь заурядная болтовня трюкача.
Мы поднялись в наш номер, где Чарльз вместе с несколькими знакомыми ожидал будущего представления. Мексиканец вошел в комнату, по-прежнему погруженный в свои мысли. Он был одет в обычный вечерний костюм, однако подпоясан красным шарфом, что добавляло его облику некоторой колоритной причудливости. Ясновидец остановился посреди гостиной, окинув комнату блуждающим взглядом. Затем направился к Чарльзу и протянул ему свою загорелую руку:
— Добрый вечер. Мой внутренний голос говорит мне, что вы — хозяин.
— Ха, неплохое начало, — промолвил Чарльз и обратился к одной из дам: — Миссис Маккензи, вам не кажется, что таким людям просто необходимо быстро соображать, если они хотят преуспеть в своем ремесле?
Ясновидящий внимательно осмотрел его, после чего рассеянно улыбнулся паре гостей, как будто вспомнил их лица по некоей прошлой жизни. Для начала, чтобы испытать это кудесника, Чарльз задал ему несколько простых вопросов касательно меня. Но он давал на них поразительно точные ответы. Говорил он неторопливо, словно сведения открывались ему постепенно.
— Его имя? Его имя начинается на букву «С» и зовут его… зовут его… Сеймур! Сеймур — Уилбрэхем — граф Стаффорд. Хотя нет, не граф Стаффорд — Сеймур Уилбрэхем Уэнтворт! Видимо, в сознании кого-то из присутствующих появилась связь между Уэнтвортом и Стаффордом. Но поскольку я не англичанин, мне эта связь непонятна.
Тут он посмотрел на людей в гостиной, надеясь, что они его поддержат. На выручку ему пришла одна из дам.
— Уэнтворт — это фамилия великого графа Стаффорда, — нежно проворковала она. — Слушая вас, я как раз задалась вопросом, не является ли наш мистер Уэнтворт его далеким потомком?
— Именно так и есть, — решительно заявил сеньор Эррера, и его темные глаза сверкнули.
Его слова заставили меня задуматься. Хотя мой отец всегда считал эту родственную связь не подлежащей сомнению, одного звена в нашей родословной недоставало. Он не мог доказать, что достопочтенный сэр Томас Уилбрэхем Уэнтворт был отцом Джонатана Уэнтворта, торговца лошадьми из Бристоля, от которого мы вели свое происхождение.
— А где же родился я? — неожиданно сменил тему разговора Чарльз.
Провидец хлопнул себя обеими ладонями по лбу и сжал голову руками так, словно боялся, что она вот-вот разорвется от наплыва фактов.
— В Африке… Южной Африке, — прерывающимся голосом проговорил он, — Капская провинция, город Дженсенвиль, улица Де Витта, 1840.
— Клянусь Юпитером, это правда, — изумленно ответил Чарльз. — Видимо, вы действительно умеете читать мысли. Впрочем, обо всем этом можно было узнать заранее, по дороге сюда.
— Неправда, — возразил я, — он даже не знал, куда я его веду, пока мы не подошли к гостинице.
Сеньор Эррера потер подбородок и посмотрел на меня. В его глазах танцевали огоньки лукавства.
— А не позволит ли мне благородная публика назвать номер банкноты, предварительно запечатанной в конверте? — как бы невзначай спросил он.
— В таком случае попрошу вас выйти из комнаты, чтобы я мог сначала показать ее гостям, — сказал Чарльз.
Когда сеньор Эррера удалился, мой шурин осторожно, не выпуская банкноту из рук, показал нам ее номер. Затем он вложил купюру в конверт и тщательно его запечатал.
Ясновидящий вернулся и еще раз внимательно всех осмотрел. Потом тряхнул своей косматой гривой, взял в руки конверт и долго в него всматривался.
— АФ 73549, — медленно произнес он, — купюра номиналом 50 фунтов, выпущенная Банком Англии. Была выменяна вчера на золото после выигрыша в казино Монте-Карло.
— Все понятно, — ликующе воскликнул Чарльз. — Он, должно быть, подменил ее заранее, после чего она попала ко мне. Я помню, что какой-то длинноволосый субъект слонялся по казино. И тем не менее, этот фокус впечатляет.
Тут в разговор вмешалась мадам Пикарде:
— Вы не правы. Месье Эррера действительно может видеть сквозь предметы материального мира! Например, он скажет нам, что находится вот здесь. — С этими словами женщина достала из кармана своего платья золотую коробочку, похожую на те, в которых наши бабушки держали нюхательную соль, и спросила: — Что в ней находится?
Хмуря брови, ясновидец некоторое время разглядывал флакон.
— Три золотые монеты, — наконец ответил он, — одна номиналом пять долларов, вторая — десять франков и третья — двадцать немецких марок с профилем старого императора Вильгельма.
Мадам Пикарде открыла коробочку и показала нам ее содержимое. Чарльз через силу улыбнулся.
— Это какой-то сговор, — тихо проговорил он. — Сговор…
Ясновидящий резко повернулся и мрачно посмотрел на него.
— Вам нужны более убедительные доказательства? — громогласно воскликнул он. — Ну что ж, тогда в левом кармане вашего жилета лежит мятое письмо. С вашего разрешения, я могу огласить его содержимое.
Должен признаться, как бы невероятно это ни звучало, но эти слова заставили Чарльза покраснеть. Я не знаю, что было написано в том письме, но мой шурин только уклончиво ответил:
— Нет, нет, спасибо. Не беспокойтесь. Показанного вами достаточно, чтобы убедить нас в ваших способностях, — раздраженно проговорил он и судорожно пошарил пальцами в кармане, где лежало письмо. Похоже, он действительно испугался, что этот колдун прочитает его.
Мне показалось также, что Чарльз с каким-то беспокойством посмотрел на мадам Пикарде.
Ясновидящий же вежливо поклонился и сказал:
— Сеньор, ваша воля для меня закон. Я никогда не позволял себе злоупотреблять своим даром. В противном случае публика быстро разочаровалась бы во мне: кому хочется услышать о себе всю подноготную?
При этих словах всех охватила неприятная дрожь. Многим показалось, что этот жуткий латиноамериканец знает слишком много. А ведь кое-кто из нас был вовлечен в финансовые операции…
Сеньор Эррера как ни в чем не бывало продолжал свой рассказ.
— Вот, например, пару недель назад, когда я направлялся сюда из Парижа, вместе со мной в вагоне ехал учредитель одной компании — очень умный человек. При себе он имел портфель с секретной документацией. — Тут провидец покосился на Чарльза. — Это были доклады горных инженеров. Полагаю, вы поймете, о чем идет речь, когда я скажу, что они были помечены надписью «Совершенно секретно».
— Подобные грифы являются неотъемлемой часть крупных финансовых операций, — холодно подтвердил Чарльз.
— Именно так, — вполголоса сказал ясновидящий. От его испанского акцента не осталось и следа. — А так как они были засекречены, я с уважением отнесся к печати секретности. И вот к чему я клоню: обладая таким даром, я взял за принцип не использовать его во вред своим последователям.
— Ваши принципы делают вам честь, — язвительно ответил Чарльз и шепнул мне на ухо: «Чертовски сообразительный негодяй. Зря мы притащили его сюда».
Видимо, до сеньора Эрреры дошел смысл слов сэра Чарльза, потому как он поспешил сказать уже другим тоном — более веселым и легким:
— А сейчас, дамы и господа, я покажу вам другую, более интересную сторону оккультизма. Для этого нам понадобится пригасить свет в комнате. Вы не будете возражать, сеньор (я намеренно воздерживаюсь пока от чтения вашего имени в сознании присутствующих), если мы погасим несколько ламп? Да, вот эту и вот эту. Превосходно! — Он высыпал на блюдце немного какого-то порошка из пакетика. — Теперь дайте мне, пожалуйста, спички. Благодарю!
Порошок занялся необычным зеленым пламенем. Затем сеньор Эррера вынул из кармана карточку с тиснеными краями и пузырек с чернилами.
— У вас найдется перо? — спросил он.
Я тотчас принес ручку, которую ясновидящий вручил Чарльзу.
— Будьте так любезны, — сказал он, указывая в центр карточки с небольшим разноцветным квадратиком, — написать здесь ваше имя.
Но Чарльз не любил без причины скреплять своей подписью какие-либо документы. Мало ли на что можно использовать подпись миллионера? Зная это, он спросил:
— Зачем вам это?
— Я хочу, чтобы вы положили карточку в конверт, а затем сожгли его, — объяснил сеньор Эррера, — а после покажу ваше имя, которое будет написано кроваво-красными буквами на моей руке вашим собственным почерком.
Сэр Чарльз взял ручку. Что ж, если карточка с его подписью будет немедленно сожжена, то он не имеет ничего против. И расписался своим твердым, четким почерком, — почерком человека, знающего себе цену и не боящегося даже подписать чек на пять тысяч фунтов.
— Посмотрите на нее очень и очень внимательно, — сказал мексиканец с другого конца комнаты, где он стоял, повернувшись к нам спиной.
И мой шурин долго смотрел на то, что написал. Этот мексиканец по-настоящему заинтриговал его.
— А теперь вложите карточку в конверт, — велел ясновидящий.
Чарльз как завороженный беспрекословно выполнил приказ. Большими шагами сеньор Эррера подошел к нему.
— Отдайте мне его! — потребовал он. Забрав конверт с карточкой, он повернулся и направился к камину, где с торжественным видом бросил его в огонь.
— Обратите внимание — конверт обратился в пепел, — сказал ясновидец. Вернувшись в центр комнаты, — туда, где горел зеленый огонь, — он закатил рукав и показал Чарльзу свою руку. На ней карминовыми буквами было написано имя «Чарльз Вандрифт» — да так, словно мой шурин собственной рукой написал его!
— Я все понял, — растерянно пробормотал Чарльз, отступая назад. — Очень ловкий трюк, но я все-таки разгадал его. Темно-зеленые чернила, зеленое пламя, вы дали мне время посмотреть на мое имя, написанное на карточке, а потом я увидел его у вас на руке, но выведенное уже другим цветом — как бы «противоположным» зеленому!
— Вы так думаете? — насмешливо спросил сеньор Эррера.
— Я в этом уверен, — твердо ответил Чарльз.
Ясновидец молниеносно закатил рукав снова и заговорил звонким голосом:
— Это — ваше имя, но оно не полное. Что, скажете я не прав? А здесь, в таком случае, тоже написано другим цветом?
С этими словами он обнажил предплечье другой руки, где буквами сине-зеленого цвета было написано «Чарльз О'Салливан Вандрифт». Да, это действительно было полное имя, которое дали моему шурину при крещении. Но по прошествии ряда лет он перестал дописывать «О'Салливан», так как, честно говоря, немного стеснялся семьи своей матери.
Чарльз с ужасом уставился на надпись.
— Да, вы правы, — сказал он глухим голосом. Нетрудно было догадаться, что у него больше нет никакого желания продолжать сеанс. Он, конечно, видел этого ясновидящего насквозь. Но тот знал о нас слишком много, а это было не совсем приятно.
— Зажгите свет! — приказал я слугам и прошептал сэру Чарльзу: — Не распорядиться ли мне насчет кофе с ликером бенедиктин?
— Делайте что хотите, — ответил он, — пусть только этот человек прекратит свои дерзкие выходки! А еще, пожалуй, стоило бы предложить мужчинам покурить. Да и дамы не отказались бы от сигаретки — во всяком случае, некоторые из них.
Гости облегченно вздохнули, когда комнату озарил яркий свет. Сеньор Эррера явно окончил свое представление. Он весьма благосклонно отнесся к предложенной ему гаванской сигаре и не спеша потягивал кофе в углу гостиной, ведя учтивую беседу с той дамой, которая высказалась насчет моего родства с графом Стаффордом. Что ни говори, он был безукоризнен в своих манерах.
На следующее утро в фойе отеля я столкнулся с мадам Пикарде. Она была одета в изящный дорожный костюм, сшитый на заказ, и явно собиралась отправиться на вокзал.
— Как, мадам Пикарде, неужели вы покидаете нас? — воскликнул я.
Улыбнувшись, она протянула мне на прощание свою изящную ручку, облаченную в перчатку.
— Да, я уезжаю, — с хитрой улыбкой ответила она. — Не знаю, правда, куда — может быть, во Флоренцию, может быть, в Рим. Или куда-нибудь еще. Так или иначе, но я отбываю в милую моему сердцу Италию. Я взяла от Ниццы все, что хотела, выжала ее буквально до последней капли.
Но хоть мадам Пикарде и утверждала, что едет в Италию, тем не менее села в омнибус, который вез до поезда первого класса на Париж. Это показалось мне странным. Однако я не придал этому значения, так как светский человек привыкает верить женщинам, как бы неправдоподобны ни были их слова. И должен признать, что в следующие дней десять я и думать забыл и о ней, и о таинственном мексиканце.
Но десять дней спустя из банка в Лондоне пришла наша расчетная книжка. Будучи секретарем финансиста, я должен был каждые две недели просматривать ее и по квитанциям Чарльза сверять аннулированные счета. В этот раз мне бросилась в глаза серьезное расхождение — точнее, расхождение на пять тысяч фунтов стерлингов в большую меньшую сторону. Получалось, что сэру Чарльзу было записано в дебет на пять тысяч фунтов больше, чем значилось в общей сумме по квитанциям!
Я еще раз внимательно исследовал расчетную книгу. Источник ошибки был очевиден — это был чек на сумму пять тысяч фунтов на предъявителя. И чек этот был подписан рукой сэра Чарльза. За неимением каких-либо других реквизитов, было очевидно, что оплата по чеку была осуществлена через кассу в Лондоне.
Я позвал Чарльза, который в это время отдыхал в гостиной, и сказал ему:
— Взгляни сюда, Чарли. В расчетной книжке есть не зарегистрированный тобой чек. — И я молча протянул ему книжку, поскольку поначалу думал, что причиной этого недоразумения были какие-то карточные долги или ставки на ипподроме, о которых Чарльз предпочел не упоминать. Как известно, у богатых людей такое случается.
Но Чарльз только присвистнул и помрачнел. Посмотрев мне в глаза, он сказал:
— Ну что, Сей, дружище, могу точно сказать, что нас основательно одурачили.
Я посмотрел на чек и спросил его:
— Что ты имеешь в виду?
— Да этого ясновидящего, — уныло проговорил он, по-прежнему рассматривая злополучную бумажку, — черт с ними, с этими пятью тысячами, но то, как мерзавец обвел нас вокруг пальца, это… унизительно!
— Почему ты думаешь, что это именно он? — спросил я.
— А ты посмотри на эти зеленые чернила, — ответил он, — и, кроме того, я хорошо помню последний росчерк в моей подписи. Из-за волнения, охватившего меня, я расписался не так, как обычно.
— Хорошо, допустим, — признал я, — но каким образом ему удалось так ловко перевести сумму на чек? Ведь эта подпись выглядит как настоящая.
— Истинно так, — простонал мой зять, — представить только, он одурачил меня, когда я был так осторожен! И я хорош, повелся на его мошеннические уловки! Но мне бы никогда не пришло в голову, что он собирается вытащить из меня деньги таким образом! Что угодно — просьба о займе, прямое вымогательство, но воспользоваться так нагло моей подписью, чтобы потом перевести ее на чек, — это отвратительно!
— Но как ему это удалось? — перебил я его.
— Не имею ни малейшего представления. Знаю только то, что это те самые слова, которые я написал. Могу за них поручиться.
— А опротестовать этот чек можно?
— К сожалению, нет. Считай, что он подписан мною лично.
Отобедав, мы отправились в полицейское управление, где у нас состоялся долгий разговор с комиссаром. На удивление, он оказался довольно воспитанным французом — не таким формалистом и бюрократом, какими обычно бывают такие люди. Кроме того, он превосходно разговаривал на английском языке с американским акцентом. Как выяснилось позже, свою сыскную деятельность он начал в Нью-Йорке, где проработал без малого десять лет.
Выслушав внимательно нашу историю, он с расстановкой сказал:
— Ну, господа, полагаю, что вы стали жертвами человека по имени полковник Глини.
— Полковник Глини? — спросил Чарльз. — Кто это?
— А вот это и я хотел бы знать, — ответил комиссар с причудливым американо-французским акцентом. — Его называют полковником потому, что он иногда представляется офицером, а Глини его прозвали потому, что он обращается со своим лицом, словно с каучуковой маской, которой можно придать любую форму, — так, как гончар лепит глину. Настоящее имя этого человека неизвестно. Национальность — либо француз, либо англичанин. Место проживания — вся Европа. Специальность — в прошлом он был ваятелем восковых фигур для музея Гревен. Возраст — тот, который он выберет себе сам. Полученные им профессиональные навыки использует для создания фальшивых форм носа и щек, с применением восковых вставок — в зависимости от того, кем он намерен представиться. На этот раз, суда по всему, у него был орлиный нос. Взгляните-ка! На этих фотографиях есть что-нибудь похожее?
Он покопался у себя в столе и, достав две фотографии, протянул их нам.
— Ничего, — ответил сэр Чарльз, — за исключением, разве что, шеи — в остальном я не вижу сходства.
— В таком случае, это полковник Глини, — вынес окончательный вердикт комиссар, радостно потирая руки. Схватив карандаш, он быстро нарисовал на листе схематичный портрет одного из двух лиц — молодого человека с заурядной внешностью. — Вот так наш подозреваемый выглядит в самом простом своем обличии. Очень хорошо. А теперь представьте себе, что он прилепил небольшую порцию воска на нос вот в этом месте — и тот получил характерную горбинку. То же самое на подбородок. На голову он надел парик — и перед вами совсем другой человек. Цвет лица — это вообще нетрудно. Ну что, разве это не ваш обидчик?
— Невероятно! — прошептали мы в один голос. Всего нескольких росчерков карандаша и фальшивых волос хватило, чтобы лицо преобразилось.
— Однако у него были очень большие глаза с сильно расширенными зрачками, — возразил я, внимательно присмотревшись к изображению, — а у человека на фотографии они маленькие и бесцветные, как у вареной рыбы.
— Совершенно верно, — ответил комиссар, — но капли настойки белладонны достаточно, чтобы получить ясновидца, а пять граммов опия придадут вялое и глуповато-невинное выражение любому лицу. Оставьте эту проблему мне, господа. Хоть я и не гарантирую, что поймаю его, — этого не удавалось еще никому — но постараюсь хотя бы объяснить вам, как у него получилось это мошенничество. В качестве утешения могу только сказать, что пять тысяч фунтов для такого человека, как вы, — это пустяк.
Тут у меня вырвалось:
— А вы необычный человек для французского чиновника, месье комиссар!
— А то! — ответил он и как заправский гвардеец выпрямился во весь рост. С чувством собственного достоинства он продолжил, перейдя на французский: — Господа! Я брошу все ресурсы моего ведомства на раскрытие этого преступления и, если это будет возможно, виновные понесут наказание.
После беседы с комиссаром мы связались по телеграфу с Лондоном и отправили в банк подробное описание внешности подозреваемого. Но вряд ли стоит говорить, что из этого ничего не вышло.
Три дня спустя комиссар заглянул к нам в гостиницу.
— Ну, что, господа, — начал он, — у меня для вас хорошие новости! Я раскрыл тайну преступления.
— Что? — закричал Чарльз. — Вы арестовали шарлатана?
Комиссар отшатнулся, словно его напугали эти слова.
— Арестовать полковника Глини? — воскликнул он. — Помилуйте, господа! Мы все-таки простые смертные! Арестовал, ха! Нет, конечно. Но мне удалось выяснить, как он провернул это дело — а в данном случае этого уже немало.
— И что вам это даст? — спросил враз сникший Чарльз.
Комиссар удобно расположился в кресле и с сияющим видом поведал нам о своих изысканиях. Похоже, что это хорошо спланированное преступление его позабавило.
— Месье, прежде чем начать, я хотел, чтобы вы не питали иллюзий относительно того, что наш ясновидящий в тот вечер не знал, кто его приглашает. На самом деле — и я в этом ничуть не сомневаюсь, — сеньор Эррера, он же полковник Глини, прибыл этой зимой в Ниццу с вполне определенной целью — ограбить вас.
— Но я же сам послал за ним! — возразил Чарльз.
— Да, и он знал, что вы пошлете за ним. Он, так сказать, подбросил вам карту. Если бы он этого не сделал, то, осмелюсь утверждать, он был бы плохим фокусником. У него была сообщница — некая женщина, которая приходится ему или женой, или сестрой. Она заранее остановилась в этом отеле. Вам она известна под именем мадам Пикарде. Через нее он внушил некоторым дамам из вашего окружения мысль посетить его сеансы. Они постоянно рассказывали вам о нем и тем самым разбудили ваше любопытство. Держу пари, что когда он вошел в эту комнату, то знал все подробности ваших биографий.
— Знаешь, Сэй, — воскликнул Чарльз, — я только сейчас понял, какими же глупцами мы были! Эта интриганка перед обедом попросту известила «ясновидца» о том, что я захотел увидеть его лично. А к тому времени, когда ты отправился к нему, он был полностью готов к предстоящему спектаклю.
— Совершенно верно, — ответил комиссар, — в частности, он заранее написал ваше имя у себя на руках и подготовил еще более важный реквизит для представления.
— Вы имеете в виду чек? И как же ему удался этот трюк?
Тут комиссар открыл дверь и кого-то позвал:
— Войдите, пожалуйста!
В комнату вошел молодой человек, в котором мы тут же узнали главного служащего зарубежного отдела «Марсельского кредита» — крупнейшего банка на всем побережье Ривьеры. Показав ему чек, комиссар сказал:
— Расскажите, что вам известно об этом документе.
— Примерно четыре недели назад… — начал юноша.
— То есть за десять дней до сеанса, — пояснил комиссар.
— …ко мне в отдел явился один весьма импозантный джентльмен: длинноволосый, смуглолицый, с римским носом. Он осведомился, не могу ли я сообщить ему имя банкира, обслуживающего сэра Чарльза Вандрифта в Лондоне. Как он объяснил, ему необходимо было перевести некую сумму на его счет. Также он спросил, можем ли мы переслать эти деньги. Я объяснил ему, что мы не занимаемся приемом платежей, так как у вас не открыт счет в нашем банке, но сказал, что ваш лондонский банк — это «Дерби, Драммонд и Ротенберг Лтд».
— Да-да, вы правы, — пробормотал Чарльз.
— А спустя два дня к нам пришла мадам Пикарде, одна из наших клиенток, и предоставила нам надежный чек на сумму триста фунтов, подписанный известным нам именем. Она попросила перевести эту сумму от ее имени в банк «Дерби, Драммонд и Роттенбург Лтд» и открыть для нее личный счет в их лондонском отделении. Мы сделали все в точности и получили в ответ чековую книжку…
— …из которой и был потом взят этот чек, как я узнал, получив ответ на мой запрос из Лондона, — вставил комиссар. — Мадам Пикарде, приехав в столицу, пришла в банк и, как только ваш чек был обналичен, сняла все деньги со своего счета.
— Но каким образом моя подпись оказалась на проклятом чеке?! — взорвался Чарльз. — И как этот фокусник ухитрился провести трюк с карточкой?
Комиссар извлек из кармана карточку, один в один похожую на виденную нами.
— Вы говорите об этом? — спросил он.
— Совершенно такая же! Факсимиле.
— Думаю, что дело обстояло так. Как мне удалось выяснить, полковник купил целую пачку таких карточек, которые выпускаются как пригласительные, в магазине на набережной Массена. Он вырезал в них середину. А теперь посмотрите сюда.
Тут комиссар повернул карточку и показал нам аккуратно приклеенный с обратной стороны кусочек бумаги. Эту бумажку он оторвал, и под ней обнаружился бланк чека, сложенный так, что напротив прорези приходилось как раз место для подписи. В таком виде «ясновидец» и поднес ее нам.
С удовлетворением профессионала, раскрывшего ловкий обман, комиссар констатировал:
— Я назвал бы это тонко сработанным фокусом.
— Да ведь конверт был предан огню у меня на глазах! — изумленно проговорил Чарльз.
— Как бы ни так! — ответил комиссар. — Плохой бы из него был фокусник, если бы он не сумел незаметно для вас поменять конверты, когда отошел от стола к камину. А полковник Глини, как вы должны были уже понять, король всех фокусников!
— Хорошо, нам удалось выяснить личность нашего преступника и его компаньонки, — сказал Чарльз, облегченно вздохнув. — А теперь, как я понимаю, вы отправитесь за ними в Англию и арестуете их?
Но комиссар лишь пожал плечами. Было видно, что слова Чарльза его позабавили.
— Арестовать? Кого? Их?! — воскликнул он. — Месье, да вы шутник! До сих пор ни один из стражей правопорядка не преуспел в деле ареста le Colonel Caoutchouc, как его называем мы, французы. Это скользкая змея, и он постоянно уходит от нас. Даже если мы его схватим, нам нечего предъявить ему в качестве обвинения. Те, кому посчастливилось его однажды видеть, не узнают при следующей встрече. Наш друг полковник Глини постоянно выходит сухим из воды. Уверяю вас, господа, что в тот день, когда я арестую его, я назову себя первым сыщиком Европы.
— Тогда это сделаю вместо вас я! — заявил Чарльз.
Но тут же осекся и замолчал…
СЛУЧАЙ С БРИЛЛИАНТОВЫМИ ЗАПОНКАМИ
— Давайте-ка отправимся в Швейцарию, — предложила однажды леди Вандрифт. И все, кто знаком с Амалией, не удивятся, когда узнают, что мы, как по команде, поехали именно в Швейцарию. Потому как только она имела власть над сэром Чарльзом, ее мужем, а над ней власти не имел никто.
Поначалу мы столкнулись с некоторыми трудностями, так как предварительно не забронировали номера в отеле (а сезон был в самом разгаре). Но с помощью проверенного «золотого ключика» все неурядицы быстро разрешились, и спустя некоторое время мы удобно расположились в Люцерне, избрав самый комфортабельный из европейских отелей — «Швайцерхоф».
Нас было четверо — сэр Чарльз с Амалией и я со своей Изабеллой. Проживали мы в просторных комнатах на втором этаже, из окон которых открывался вид на озеро. Поскольку ни у кого из нас не обнаружились симптомы той навязчивой идеи, которая проявляет себя в безрассудном стремлении восходить на чрезмерно крутые и излишне заснеженные горы, то мы все — я осмелюсь настаивать на этом — вовсю наслаждались жизнью. Львиную долю времени мы проводили благоразумно, совершая экскурсии по озеру на уютных пароходиках. Если же нам и доводилось совершать вылазки в горы (мы отдавали предпочтение Риги или Пилату[140]), то всю физическую работу за нас выполнял двигатель.
В гостинице, как это часто бывает, большое множество разных людей из кожи вон лезло, пытаясь нам понравиться. Если вы хотите представить себе, насколько дружелюбными и чудесными бывают люди, то вам стоит побывать в шкуре известного миллионера недельку-другую. Где бы ни появлялся Чарльз, его сразу же окружали толпы этих самых чудесных и бескорыстных людей, все как один страстно желающих завести знакомство с выдающейся личностью. При этом все они отчего-то не понаслышке знают, где можно превосходно вложить капитал или проявить христианское милосердие. Моей обязанностью как родственника и секретаря было отвечать вежливым отказом на многообещающие проекты и остужать пыл служителей милосердия. Даже я, как приближенный к великому человеку, пользовался большой популярностью. Люди как бы невзначай начинали рассказывать мне безыскусные истории о бедных пасторах из Камберленда или вдовах из Корнуэлла, об одаренных, но бедных поэтах, авторах великих эпических поэм, или молодых художниках, которым нужен покровитель, по мановению руки которого перед ними распахнулись бы двери вожделенной Академии. Я только улыбался и с умным видом поливал их холодной водичкой в умеренных количествах. Разумеется, я никогда не рассказывал Чарльзу об этих случаях, за исключением тех, которые, по моему мнению, были наиболее примечательными.
Чарльз, который и без того был осторожным человеком, со времен нашего инцидента в Ницце стал еще более внимательно относиться к мошенникам. И вот однажды нам представился случай проверить его бдительность. Дело в том, что у Амалии была причуда обедать за табльдотом в гостинице. Она утверждала, что не может целыми днями просиживать в частном номере и видеть только «свое семейство». Как-то за обедом напротив нас сел мрачного вида субъект, темноволосый и кареглазый, с кустистыми, нахмуренными бровями. На эти брови мое внимание обратил сперва благообразный пастор, сидевший рядом со мной. Он заметил, что они состоят из ряда крупных, щетинистого вида волосков, которые, по его словам, служат подтверждением теории Дарвина о нашем родстве с обезьянами. Этот пышущий здоровьем, среднего роста священник оказался приятным собеседником. Его звали Ричард Брабазон. Он и его очаровательная женушка Джесси, которая разговаривала с милым шотландским акцентом, находились в свадебном путешествии.
Когда я присмотрелся к бровям незнакомца, меня поразила неожиданная догадка.
— А почему вы думаете, что они его собственные, а не поддельные? — спросил я у пастора. — Выглядят как-то неестественно.
— Неужели ты думаешь… — начал было Чарльз, но осекся.
— …что это ясновидящий, — закончил я его мысль. И тут же, осознав свою ошибку, стыдливо потупил взор. Дело в том, что Чарльз строго-настрого запретил мне упоминать в присутствии Эмилии о неприятном случае в Ницце. Он боялся, что если жена услышит об этом хоть раз, он будет потом слышать об этом многократно.
— Что еще за ясновидящий? — спросил священник со свойственной клирикам любознательностью.
Я заметил, что обладатель кустистых бровей как-то странно вздрогнул. Чарльз впился в меня взглядом, и я замялся, не зная, что ответить.
— О, это… это один человек, с которым нам довелось повстречаться в Ницце в прошлом году… Довольно известный в тех краях, но не более того, — ответил я, запинаясь и силясь придать себе беспечный вид. Потом попытался сменить тему разговора.
Но упрямый священник не позволил мне сделать это.
— У него что, были вот такие брови? — понизив голос, продолжал допытываться он.
Я почувствовал сильное раздражение. Если за столом действительно сидел полковник Глини, то пастор запросто мог спугнуть этого мошенника. А сейчас, когда забрезжила надежда схватить его, не хотелось бы упустить шанс.
— Нет, у него не было таких бровей, — раздраженно ответил я. — Это было ошибочное впечатление, и это не тот человек. Я, несомненно, ошибся.
И я легонько подтолкнул его локтем.
Священник оказался совсем простаком.
— Да, я понял вас, — кивнул он с важным видом. Затем повернулся к своей жене с таким выражением лица, что обладатель кустистых бровей ну ни как не мог не обратить внимания.
К моему счастью, политический спор, разгоревшийся недавно на другом конце стола, дошел в этот момент до нас и позволил переменить разговор. Нас спасло имя Уильяма Гладстона,[141] которое оказывало магическое воздействие на окружающих. Сэр Чарльз загорелся новой темой, чему я был искренне благодарен, так как было видно, что Амалия к этому моменту прямо-таки сгорала от любопытства.
Когда же мы после обеда перешли в бильярдную, то незнакомец, привлекший наше внимание, робко подошел и заговорил со мной. Если это действительно был полковник Глини, то он не имел к нам никаких претензий из-за тех злосчастных пяти тысяч фунтов. Напротив, он, видимо, был готов при первом удобном случае выудить у нас еще пять тысяч. На этот раз он представился как доктор Гектор Макферсон, обладатель исключительных прав на неограниченные концессии в районе Верхней Амазонии, предоставленные ему бразильским правительством. Не прибегая к намекам и иносказаниям, он сразу же перешел к теме природных богатств своих владений в Бразилии — серебру, платине, рубинам, которые там уже добывают, и алмазам, которые там, возможно, есть. Я слушал его с улыбкой, так как прекрасно знал, что будет дальше. Значительные капиталовложения — вот что ему было нужно для подъема своей чудо-концессии. Жалко все-таки смотреть, как тысячи фунтов ценной платины и рубинов, которые можно было бы вывозить грузовиками, исчезают в земле или уносятся прочь бурными водами реки. И все это из-за того, что для должного устройства их добычи не хватает всего лишь несколько сотен фунтов. А вот будь у него знакомый инвестор при деньгах, то он бы мог порекомендовать ему, вернее, предложить, единственную в своем роде возможность заработать, скажем, 40 процентов от дохода с гарантированным успехом.
— Я бы не стал делать подобного предложения первому встречному, — подчеркнул доктор Макферсон, выпрямившись в полный рост, — но повстречайся мне человек с наличными, мог бы указать ему путь к истинному процветанию с беспримерной быстротой!
— Весьма благородно с вашей стороны, — сухо ответил я, по-прежнему рассматривая его обезьяньи брови.
Тем временем мистер Брабазон играл в бильярд с моим шурином. Пастор тоже поглядывал на брови моего собеседника. «Ложь, очевидная ложь», — проговорил он одними губами. Должен признать, мне никогда прежде не встречался человек, способный так хорошо выразить свои мысли только движением губ. И вы на моем месте тоже смогли бы понять все до последнего слова, не услышав при этом ни звука.
Остаток вечера доктор Макферсон не отходил от меня ни на шаг, присосавшись, словно пиявка. И становился все несноснее. Я от всей души возненавидел его Верхнюю Амазонию. Дело в том, что в свое время мне довелось разведывать рубиновые копи (то есть изучать техническую документацию по ним), и с тех пор даже вид рубинов вызывает у меня отвращение. Поэтому, когда Чарльз неожиданно расщедрился и подарил своей сестре Изабелле (супругом коей я имею честь состоять) рубиновое ожерелье (с камешками второго сорта), я уговорил Изабеллу заменить эти гадкие камни на сапфиры и аметисты, благоразумно заявив, что они лучше идут к цвету ее лица (и совершенно случайно угодил ей этим упоминанием о цвете лица). К тому моменту, как идти спать, я готов был утопить всю Верхнюю Амазонию в море, а этого негодяя с фальшивыми бровями и концессией избить, расстрелять, отравить или сделать с ним что-нибудь еще похуже.
Три последующих дня доктор Макферсон неоднократно возобновлял атаки на меня. Своими рубинами и платиной он поверг меня в состояние глубочайшего уныния. Ему нужен миллионер, который не лично бы эксплуатировал месторождения, а предоставил доктору средства на их разработку. Инвестору была бы предоставлена в качестве льготы долговая расписка от фальшивой компании, передающая концессию в залог. Я только слушал и улыбался, слушал и зевал, слушал и пытался вести себя грубо, и в конце концов вообще перестал его слушать. Но он продолжал безжалостно бубнить. Как-то я даже заснул на пароходе под его монотонное гудение, а когда проснулся спустя десять минут, то снова услышал: «Прибыль от тонны платины составляет столько-то и столько-то» (не помню уже, сколько фунтов, унций или драхм). Эти детали давно перестали интересовать меня. Я ощущал себя как тот человек, который «не верит в существование привидений», потому что повидал их достаточно.
Другие наши знакомые — краснощекий священник и его жена — оказались полной противоположностью этому типу. Он был из тех выпускников Оксфорда, которые играют в крикет, а она — жизнерадостной шотландкой, от которой веяло свежестью гор. Я прозвал ее про себя Белый Вереск. Миллионеры настолько привыкли иметь дело со всякого рода гарпиями, что стоит им только столкнуться с какой-нибудь молодой парой, простой и естественной, как они охотно вступают с ними в простые и естественные, подлинно человеческие отношения. Вместе с молодоженами мы устраивали пикники и многочисленные экскурсии. Они были настолько искренни в своей юной любви и так далеки от всяких мерзостей, что мы поневоле любовались ими. Но когда я случайно назвал ее Белым Вереском, она растерялась и только воскликнула: «Ой, мистер Уэнтворт!» Все же мы остались лучшими друзьями. А как-то раз ее муж предложил нам прогулку по озеру на лодке, а шотландская прелестница уверяла нас, что управляется с веслом не хуже мужа. Однако мы отклонили их предложение, поскольку подобные прогулки плохо влияли на пищеварение Амалии.
— Славный малый этот Брабазон, — сказал мне однажды Чарльз, когда мы не спеша прогуливались вдоль набережной. — Ни разу еще не говорил о патронате с последующими подарками. И мне кажется, что он совсем не заботится о своей карьере. Он утверждает, что вполне удовлетворен своим сельским приходом — там есть все, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь. К тому же у Джесси есть деньги — мало, но есть. Для проверки я задал ему сегодня вопрос о бедняках его прихода — ты же знаешь, что все попы вечно пытаются выудить из нас что-нибудь «на бедных». Люди вроде меня хорошо знают, насколько верно утверждение, что от этого класса населения нам никуда не деться. И ты не поверишь, но он ответил мне, что в его приходе нет бедняков. Все они хорошие фермеры и просто трудолюбивые люди. И он боится только того, что кто-нибудь попытается разорить их. «Если бы нашелся добряк, который дал бы мне сейчас пятьдесят фунтов на благотворительность в Эмпингхеме, то, уверяю вас, сэр, я не знал бы, что с ними делать. Наверное, купил бы моей Джесси новых платьев; но она мечтает о них ничуть не больше, чем женщины нашей деревни — а те об этом и не думают!» Вот такой он человек, дружище Сэй. Эх, был бы у нас в Селдоне был такой священник…
— Безусловно, ему ничего от тебя не надо, — ответил я.
В тот вечер за ужином разыгралась любопытная сцена.
Бровастый доктор Макферсон, сидевший напротив меня, в очередной раз завел утомительный разговор о своей бразильской концессии. Я уже хотел было оборвать его как можно вежливее, но тут мой взгляд упал на Амалию. Ее вид позабавил меня. Она отчаянно пыталась привлечь внимание Чарльза к необыкновенным запонкам на манжетах мистера Брабазона. Стоило мне на них только взглянуть, как я сразу понял, что для такого скромного человека это дорогое украшение было неприемлемой роскошью. Запонки представляли собой золотые стерженьки, к которым тоненькими, тоже золотыми цепочками были прикреплены бриллианты — как я заметил своим вполне опытным глазом, первоклассного качества. Прекрасные, крупные (я бы сказал, даже очень крупные) бриллианты замечательной чистоты и правильной огранки. Мне сразу стали понятны намерения Амалии. Дело в том, что у нее имелось бриллиантовое ожерелье, якобы привезенное из Индии. Но вот беда — для того, чтобы оно могло охватить ее достаточно полную шею, в нем не хватало двух камней. Поэтому она долго мечтала добыть два бриллианта, которые могли бы дополнить его. Но из-за того, что уже существующие камни имели необычную форму и огранку старинной работы, ей до сих пор не удавалось восстановить свое ожерелье, так как единственный доступный способ был слишком уж экстравагантным: ей советовали приобрести крупный камень кристальной чистоты и разделить его на части.
В этот момент на Амалию обратила внимание и Джесси. На ее лице расцвела добродушная улыбка. Она повернулась к мужу и со свойственной ей веселостью воскликнула:
— Смотри-ка, Дик! Похоже, леди Вандрифт приглянулись твои запонки.
— Да, очень красивые камни, — неосторожно ответила Амалия, что было крайне грубой ошибкой, если она намеревалась купить их.
Но Ричард Брабазон был слишком простодушен, чтобы воспользоваться промахом Амалии.
— Да, это действительно очень красивые камни, — ответил он. — Но, честно говоря, никакие не бриллианты. Это чрезвычайно искусная старинная подделка, восточного происхождения. Мой прапрадед купил их после штурма Серин-гапатама за несколько рупий у одного сипая, который участвовал в разграблении дворца султана Типу. Так же, как и вы, он думал, что они чего-то стоят. Но когда он отнес камни оценщику, то оказалось, что это всего лишь подделка, пусть и очень хорошая. Предполагалось, что ранее они были подсунуты самому султану, — так достоверна оказалась копия. Их стоимость шиллингов пятьдесят, не более.
Пока он рассказывал, Чарльз и Амалия смотрели друг на друга. Их взгляды были красноречивее любых слов. Ведь считалось, что ожерелье тоже происходило из сокровищницы султана Типу. Вывод был очевиден: это и были те самые недостающие камни. Вероятнее всего, их оторвали от остальных в драке при дележе трофеев.
— Могу ли я взглянуть на них поближе? — вежливо попросил Чарльз. Таким тоном он обычно говорил, когда намечалось какое-нибудь дело.
— Безусловно, — ответил с улыбкой пастор. — Я привык показывать их — они обращают на себя внимание. В нашем роду они хранятся со времен той войны как бесценная семейная реликвия, своего рода романтическое напоминание. Вы не первый, кто хочет подержать их в руках. Они даже специалистов поначалу вводят в заблуждение. Но, как я уже говорил, это всего лишь подделка, хотя и искусной восточной работы.
Сняв запонки, пастор передал их Чарльзу. Во всей Англии невозможно сыскать большего доку по части драгоценных камней, чем мой шурин. Я внимательно следил за его действиями, пока он тщательно изучал их, сначала невооруженным глазом, потом с помощью маленькой лупы, которую постоянно носил с собой.
— Поразительная копия! — пробормотал он, протягивая их Эмилии. — Неудивительно, что она вводит в заблуждение неопытных ювелиров.
Но по его тону я понял, что он удостоверился в подлинности этих камней. Уж кто-кто, а я-то хорошо знаю манеру Чарльза вести дела. В его взгляде, обращенном к Амалии, читалось: «Да, это те самые камни, которые ты так долго искала».
Джесси звонко рассмеялась.
— Он все понял, Дик! — воскликнула она. — Я уверена, что сэр Чарльз настоящий знаток бриллиантов.
Амалия вертела запонки в руках. Ее характер я тоже успел изучить, и по тому, как жена Чарльза смотрела на них, я понял, что она вознамерилась заполучить бриллианты. А если Амалия Вандрифт что-то хочет получить, то людям, которые вздумали бы стать на ее пути, стоит сразу отойти в сторонку.
Да, это были красивые камни. Как мы узнали позднее, рассказ священника был вполне достоверным. Камни действительно прежде входили в состав ожерелья, ныне принадлежащего Амалии. Это ожерелье изготовили для любимой жены султана Типу, которая, видимо, была такой же обаятельной особой, как и наша любимая невестка. Более совершенные бриллианты надо было еще поискать. Они возбуждали всеобщее восхищение — и воров, и ценителей. Согласно легенде, как рассказала мне впоследствии Амалия, при разграблении дворца правителя это ожерелье попало в руки кого-то из солдат. Потом он подрался из-за него с другим, и, видимо, в пылу потасовки от ожерелья оторвались два камня, которые подобрал и продал кто-то третий, сторонний наблюдатель, не знавший их настоящей стоимости. И вот за этими драгоценностями Амалия охотилась уже несколько лет.
— Превосходная подделка, — повторил Чарльз, вернув запонки хозяину. — Только очень опытный ювелир отличит их от настоящих. У леди Вандрифт есть ожерелье, составленное из подобных камней, только они настоящие. Но в нем не хватает двух звеньев, а ваши как раз подойдут, и разницы практически не будет видно. Поэтому я предлагаю вам десять фунтов за оба.
Миссис Брабазон засияла при этих словах:
— О да, Дик, продай их! И купишь мне за эти деньги брошь. А тебе подойдут и самые обычные запонки. О боже, десять фунтов за стекляшки! Это какие же деньги!
Эти слова, произнесенные с милым шотландским акцентом, прозвучали в ее устах так чарующе, что я и представить себе не мог, чтобы у Ричарда хватило сил отказать ей. Но вопреки моим предположениям, он сделал это.
— Джесси, дорогая, нет! — твердо ответил он. — Да, я знаю, что они ничего не стоят. Но я тебе не раз уже говорил, что они имеют для меня очень большое значение. Моя дорогая маменька носила их при жизни вместо сережек. А после ее смерти я сделал из них запонки, чтобы они всегда напоминали мне о ней. Кроме того, они имеют историческую и фамильную ценность. Это прежде всего фамильная реликвия, хоть и безделица.
Тут в разговор вмешался доктор Макферсон и затянул свою любимую песню.
— Вы знаете, — начал он, — у меня в концессии есть район, который можно назвать новым Кимберли, благодаря богатствам, которые там скоро будет открыты. Когда я добуду там алмазы, то с величайшим удовольствием предоставлю их вашему вниманию, если вы только этого пожелаете.
На этот раз Чарльз не выдержал. Гневно уставившись на попрошайку, он сказал:
— Знаете что, сэр, даже будь ваша концессия полна алмазами, как сокровищница Креза, я и взглядом ее не удостою! Я слишком хорошо знаком с методиками вымогательства!
И он так посмотрел на него, словно собрался разорвать в клочья. Бедный доктор Макферсон мгновенно утих. Позже мы узнали, что он был безобидным сумасшедшим. В свое время он стал жертвой махинаций с рубинами и платиной, из-за которых сошел с ума. Вот и колесил он по миру, выдавая себя за уполномоченного представителя соответствующих концессий то в Бразилии, то в Бирме, то в любом другом месте, где подвернется удобный случай. А такими бровями, вопреки моим подозрениям, его наградила сама матушка-природа. Нам было его очень жаль, но, как я уже говорил, любой человек наподобие сэра Чарльза постоянно находится на мушке у прощелыг. И если бы он не принимал меры предосторожности, то его постоянно обдирали бы как липку.
Когда мы вернулись в свою гостиную, Амалия тут же бросилась на софу.
— О Чарльз! — запричитала она, заламывая руки, как царица из какой-нибудь трагедии. — Это же настоящие бриллианты! И не знать мне счастья впредь, пока я не получу их!
— Да, они настоящие, — подтвердил Чарльз. — И они будут твоими, дорогая. Их стоимость никак не меньше трехсот фунтов. Но я буду поднимать цену постепенно.
И вот на следующий день мы с Чарльзом отправились к священнику. Но Брабазон не хотел расставаться с ними.
— Я не какой-нибудь там сребролюбец, — заявил он нам. — Подарок матери и семейные традиции важнее для меня даже сотни фунтов.
При этих словах глаза Чарльза засверкали.
— Но я дам вам двести фунтов! — вкрадчивым голосом предложил он. — Подумайте, какие это дает возможности! Вы сможете достроить новое крыло к вашей сельской школе…
— Нам хватает того помещения, что у нас есть, — возразил священник. — Нет, я не продам их…
Но в этот момент его голос чуть дрогнул, и он как-то неуверенно посмотрел на запонки.
Отказ еще более распалил Чарльза.
— Сотней больше, сотней меньше — для меня неважно, — сказал он, — а моя жена получит дорогую своему сердцу вещь. Разве угождать жене — не долг мужа, а, мистер Брабазон? Я предлагаю вам триста фунтов.
Малютка Джесси прямо захлопала в ладоши от радости.
— Триста фунтов! О Дик, ты только представь себе, какие удовольствия мы сможем себе позволить и сколько всего хорошего мы сделаем за эти деньги! Ну же, уступи ему их!
Казалось, что ее голос мог растопить и лед, но Ричард не желал уступать.
— Это невозможно, — ответил он. — Это сережки моей дорогой мамы. Если бы дядюшка Обри узнал, что я продал их, он бы сильно рассердился. И как я в глаза посмотрю ему после этого?
— Ваш муж является наследником дядюшки Обри? — обратился Чарльз к Джесси.
Но миссис Брабазон лишь рассмеялась.
— Наследник дядюшки Обри? О нет, сэр! Бедный старый дядюшка гол как сокол, если не считать его пенсии. Он капитан в отставке.
— В таком случае, я бы позволил себе пренебречь мнением дядюшки, — решительно заявил Чарльз.
— Нет, нет, — запротестовал Ричард, — никакие сокровища в мире не заставят меня расстроить моего дядю. Вдруг он узнает об этом?
Назад мы вернулись ни с чем. Увидев нас, Амалия спросила:
— Ну что, вы принесли камни?
— Нет, — ответил Чарльз, — пока нет. Но я думаю, что он поменяет свое мнение. Он уже колеблется и продал бы их сам, да боится, что некоему «дяде Обри» это не понравится. Ничего, миссис Брабазон разубедит его, и завтра мы совершим сделку.
На следующее утро мы надолго задержались в гостиной, где обычно завтракали. Причиной тому была задержанная корреспонденция, которую мы с Чарльзом закончили просматривать лишь незадолго до второго завтрака. Когда же мы наконец спустились вниз, к нам подошел консьерж и передал сложенный втрое листок — записку для Амалии, написанную мелким женским почерком. Когда леди прочитала послание, лицо ее вытянулось.
— Чарльз, посмотри! — закричала она, протягивая ему листок. — Ты упустил шанс! Мне не быть больше счастливой, никогда! Они уехали и увезли с собой бриллианты.
Чарльз выхватил у жены записку, прочитал и передал мне. Короткое прощальное письмо гласило:
«Вторник, 6 часов утра
Уважаемая леди Вандрифт! Надеюсь, вы милостиво простите, что мы так поспешно уезжаем, даже не попрощавшись. Только что мы получили тревожную телеграмму, в которой сообщается, что любимая сестра Дика больна лихорадкой и находится при смерти в Париже. Я очень хотела пожать вам руку на прощание — вы ведь все так были добры к нам! Но мы уезжаем утренним поездом так рано, что я не осмелюсь беспокоить вас. Возможно, когда-нибудь наши пути пересекутся. Но это маловероятно, учитывая, что мы живем в сельской глубинке. В любом случае мы сохраним о вас самые теплые воспоминания.
Искренне ваша, Джесси Брабазон.
P. S. Передайте также привет сэру Чарльзу и милым Уэнтвортам. А вам я адресую воздушный поцелуй».
— Она даже не указала, куда они едут! — воскликнула сильно расстроенная Эмилия.
— Возможно, консьерж знает, — предположила Изабелла, выглядывая у меня из-за плеча.
Мы обратились к консьержу. Он сообщил нам, что преподобный Ричард Пеплоу Брабазон проживает в доме Холм Буш в Эмпингхеме, Нортумберленд. Тогда мы спросили, не сообщал ли он какие-нибудь адреса в Париже, на которые можно отправить письмо. Да, ответили нам, следующие десять дней, или до следующего уведомления, чета Брабазонов будет проживать в «Отель де Де Монд», на Опер-авеню.
Амалия быстро нашла выход из ситуации.
— Надо ковать железо, пока оно горячо! — заявила она. — Эта неожиданная болезнь, вынудившая их уехать в конце медового месяца, да проживание в дорогом отеле сильно ударят по карману бедного пастора. Вот теперь-то он точно не откажется от трехсот фунтов. Со стороны Чарльза было глупостью предлагать такие деньги в самом начале. Но теперь нам, конечно же, придется придерживаться обещанного.
— И что ты предлагаешь делать? — спросил Чарльз. — Отправить им телеграмму или связаться по телеграфу?
— О боже! — простонала Амалия. — Почему мужчины так глупы? Разве можно доверять такое деликатное дело бумаге, а тем более телеграфу? Конечно же, нет! Пусть Сеймур немедленно едет в Париж на вечернем поезде. Далее, когда он прибудет на место, ему необходимо связаться с мистером Брабазоном, а еще лучше с его женой. Она не страдает сентиментальной чепухой насчет всяких дядюшек.
Быть посредником в покупке бриллиантов уж точно не входило в мои прямые обязанности. Но если Амалия твердо решила что-то получить, то она получит это непременно; этот постулат она излишне часто любит подтверждать на практике и не допускает никаких отклонений. Поэтому ночь я встретил в поезде, а уже на следующее утро мой комфортабельный спальный вагон въехал на Страсбургский вокзал.[142] Мне выдали четкие инструкции — получить эти бриллианты любой ценой. На их покупку была выделена солидная сумма в 2500 фунтов.
Когда я прибыл в гостиницу, то обнаружил, что бедные Брабазоны совершенно разбиты. Они рассказали мне, что всю ночь провели подле больной сестры. Бессонница, тревога и долгая поездка отразились на них: они были бледны и утомлены, особенно миссис Брабазон. Бедняжка выглядела больной и взволнованной, и как никогда оправдывала данное мною прозвище. Я был более чем обескуражен из-за того, что в такой момент вынужден беспокоить их этими бриллиантами. Но тут мне в голову пришла мысль, что Амалия все-таки права и после медового месяца их бюджет заметно истощился. Так что некоторая сумма денег им бы сейчас не помешала.
Я начал издалека и объяснил, что это все это прихоть леди Вандрифт. Ей очень понравились эти безделушки, и она не может уехать без них. Они должны и будут принадлежать ей. Но священник оказался упрям. Он снова вспомнил своего дядюшку. Нет, никогда, даже за триста фунтов. Это же подарок матери! Джесси принялась умолять его. Джесси, дорогая, это невозможно! Тут она заявила, что очень привязалась к леди Вандрифт. Но Ричард даже не хотел слушать ее. Я осторожно поднял сумму до четырехсот фунтов. Тот лишь хмуро покачал головой.
— Вопрос не в деньгах, — пояснил он, — а в принципах.
Я понял, что пытаться давить на него дальше бесполезно. Тогда я подошел к нему с другой стороны.
— Я должен сообщить вам, — начал я, — что эти камни являются настоящими бриллиантами. Сэр Чарльз уверен в этом. А теперь подумайте, пристало ли человеку вашей профессии носить в качестве обычных запонок камни, которые стоят несколько сотен фунтов стерлингов. Уверяю вас, что женщине они более к лицу, чем мужчине. Тем более что вы игрок в крикет.
Он посмотрел на меня и засмеялся:
— Разве я вас до сих пор не переубедил? Шесть специалистов подвергли их осмотру, и мы знаем, что это стекляшки. С моей стороны было бы неправильно обманом, пускай даже невольным, продать вам их. Я не могу сделать этого.
— Хорошо, пусть будет по-вашему, — немного отступил я, — пусть эти камни будут стекляшками. Но леди Вандрифт страстно желает получить их. Деньги для нее не преграда. Кроме того, она друг вашей жены. Я прошу вас продать их за тысячу фунтов в знак уважения к ней.
В ответ лишь отрицательное покачивание головой.
— Это будет неправильно, — заявил он. — Я бы сказал, даже преступно!
— Но мы берем всю ответственность на себя! — закричал я.
Но этот человек был непоколебим как скала.
— Как духовное лицо, — сказал он, — я не стану этого делать.
Тут я обратился к его жене:
— Может быть, вы попытаетесь, миссис Брабазон?
Джесси наклонилась и что-то зашептала ему на ухо, пытаясь убедить его. Ее манеры были по-детски непосредственны. Я не слышал, что она ему говорила, но по всему было видно, что дело близится к концу.
— Мне было бы очень приятно, если бы леди Вандрифт получила их, — промурлыкала она, повернувшись ко мне. — Она такая душка!
С этими словами она сняла запонки с манжет мужа и передала их мне.
— Сколько? — спросил я.
— Две тысячи? — неуверенно предложила она.
Такой резкий подъем цены был неожиданным — однако уж таковы женщины!
— По рукам! — ответил я и обратился к Ричарду: — Вы согласны?
Ричард опустил глаза, словно ему было стыдно за себя.
— Я согласен, — тихо проговорил он, — если Джесси хочет этого. Но, чтобы избежать каких-либо недоразумений в будущем, я как священнослужитель хочу, чтобы вы дали мне письменное подтверждение того, что покупаете их, приняв во внимание мое заявление, что они сделаны из стекла — древневосточного стекла. Поэтому они не являются настоящими бриллиантами, а я не претендую на иное для них качество.
Я положил камни в кошелек с чувством глубокого удовлетворения.
— Конечно же, — сказал я и достал из кармана бумагу. Чарльз, верный своему безошибочному деловому чутью, предвидел подобный поворот дела и дал мне заранее составленную расписку.
— Вам выписать чек? — осведомился я.
Он немного заколебался и сказал:
— Я бы предпочел банкноты Французского банка.
— Хорошо, — ответил я, — сейчас я выйду в город, чтобы обменять деньги.
Как же все-таки доверчивы бывают некоторые люди! Он отпустил меня с камнями в кармане!
Чарльз выдал мне бланк чека на сумму не более 2500 фунтов. Я отдал его нашим агентам и обменял на купюры Французского банка. Ричард с радостью выхватил у меня из рук деньги. В Люцерн я вернулся поздним вечером в хорошем расположении духа, чувствуя, что получил эти камешки на целую тысячу дешевле от их реальной стоимости.
На вокзале меня встретила крайне взволнованная Амалия.
— Ты купил их, Сеймур? — спросила она.
— Да, — ответил я, торжествующе извлекая свои трофеи.
— Ужасно, — воскликнула она. — А они хоть настоящие? Ты уверен, что тебя не обманули?
— Более чем, — ответил я, осмотрев их. Никто не сможет обмануть меня в том, что касается бриллиантов. — С какой стати ты так переживаешь?
— Потому что я беседовала с миссис О'Хаган в гостинице, и она рассказала мне о существовании известного трюка наподобие этого. Она узнала о нем из книги. У мошенника есть два набора — один настоящий, другой фальшивый. Он продает тебе фальшивый, предварительно показав настоящий, и подчеркивает, что продает их с величайшим удовольствием.
— Тебе не стоит так волноваться, я хорошо разбираюсь в бриллиантах, — возразил я.
— Все равно я не успокоюсь, пока Чарльз не увидит их! — пробормотала Амалия.
И вот мы вернулись в «Швайцерхоф». Никогда прежде я не видел свою невестку такой взвинченной, как в тот раз, когда Чарльз изучал бриллианты. Ее переживание передалось и мне. С легким беспокойством я ожидал, когда он, потеряв самообладание, разразится бранью, как это часто бывает, если дела идут плохо. Но, глядя на них, он лишь улыбнулся, когда я назвал ему цену.
— На восемьсот фунтов дешевле их реальной стоимости — заметил он с довольным видом.
— Тебя разве не беспокоит их подлинность? — спросил я.
— Ничуть, — ответил он, рассматривая камни. — Это настоящие бриллианты, не уступающие по качеству тем, что в ожерелье моей жены.
Леди Вандрифт облегченно вздохнула.
— Тогда я пойду к нам в комнату, — сказала она, — и принесу свое ожерелье, чтобы вы оба сравнили камни.
А уже через минуту она, задыхаясь, сбежала вниз. Амалия не могла похвастаться тонким станом и прежде никогда себя так не вела.
— Чарльз, Чарльз, — кричала она, чуть не плача, — случилось нечто ужасное! Пропали два моих камня! Он похитил два бриллианта из моего ожерелья и их же продал мне обратно!
С этими словами, она показала нам ожерелье. Да, это была правда — не хватало как раз двух камней, а те, что были у нас, идеально подходили к пустым местам.
Тут меня как громом поразило. Я хлопнул себя по лбу и воскликнул:
— Отче небесный, да этот священник — никакой не священник, а полковник Глини!
Теперь пришел черед Чарльза схватиться за голову.
— А Джесси Белый Вереск, эта невинная шотландка! — простонал он. — То-то я неоднократно улавливал знакомые нотки в ее голосе, даже несмотря на хайлендский акцент. Она в таком случае — мадам Пикарде!
Конечно, у нас не было никаких доказательств, но, как комиссар полиции в Ницце, мы интуитивно чувствовали нашу правоту.
На этот раз Чарльз был полон решимости изловить подлеца. Второй обман просто вывел его из себя.
— Этот худший из худших людей, — процедил он, — настоящий мастер своего дела. Он заставляет нас играть по своим правилам, нашими же руками расставляет ловушки, в которые мы с головой попадаемся. Сэй, завтра, мы уезжаем в Париж.
Амалия рассказала ему историю, поведанную ей миссис О'Хаган. Со свойственной ему прозорливостью шурин быстро сообразил, что к чему.
— Это объясняет, — сказал он, — почему этот плут использовал столь необычный трюк, чтобы обмануть нас. Если бы мы что-то заподозрили, он показал бы нам настоящие бриллианты для отвода глаз. А чтобы отвлечь нас от факта ограбления, он отправился в Париж, чтобы быть вне подозрения, когда все обнаружится. Настоящий виртуоз! Дважды обводит меня вокруг пальца!
— Как же к нему попала моя шкатулка с драгоценностями? — спросила Амалия.
— А вот это уже вопрос, — ответил Чарльз. — Ты бы чаще оставляла ее где попало!
— Но почему он тогда не похитил само ожерелье, а лишь продал камни? — спросил я.
— Потому что слишком хитер, — ответил Чарльз. — Это было верное решение с его стороны. Избавиться от такой крупной вещи, как ожерелье, не такое уж легкое дело. Во-первых, камни большие и дорогостоящие. Во-вторых, любой скупщик слышал об ожерелье Вандрифтов и видел его изображения. Так что камни, можно сказать, меченые. А он сделал лучше — вынул два бриллианта и предложил их единственному человеку в мире, который готов был купить их, ничего не заподозрив. Когда он пришел сюда с намерением осуществить свой трюк, у него были заранее заготовлены запонки. Потом он похищает камни и возвращает их на законное место. Насколько же хитрая уловка! Клянусь всеми святыми, еще чуть-чуть — и я буду восхищаться этим человеком!
Как бизнесмен Чарльз легко мог разглядеть деловую жилку в других.
Каким образом полковник Глини разузнал об этом ожерелье и присвоил себе два камня, мы узнали много позже. Пока что я воздержусь от пояснений на этот счет. Как говорится, всему свое время. На этот раз ему опять удалось обвести нас вокруг пальца.
Как бы то ни было, мы отправились в Париж, предварительно связавшись с Французским банком, чтобы заморозить счет. Но наши попытки оказались тщетны. Деньги были обналичены спустя полчаса после того, как я их перечислил. Брабазоны, как нам сообщили, покинули «Отель де Де Монд» в неизвестном направлении в тот же день. И, как это бывает в случае с полковником Глини, они буквально растворились в воздухе, не оставив ни намека о своем существовании. Говоря иными словами, они просто изменили свою внешность, чтобы вновь появиться в другом месте в качестве новых персонажей. Естественно, ни о каком человеке по имени преподобный Ричард Пеплоу Брабазон ничего впоследствии не было слышно, как не существовало никакой деревни под названием Эмпингхем в Нортумберленде.
Мы сообщили о случившемся парижской полиции. Но тамошние блюстители порядка оказались очень черствыми людьми.
— Да, спору нет, это действительно полковник Глини, — сказал инспектор, с которым мы встретились, — но ваших показаний недостаточно, чтобы выдвинуть против него обвинение. Насколько я могу судить, господа, между вами невелика разница: вы, месье, желали купить бриллианты по цене стекляшек, вы, мадам, боялись, что приобрели безделицу по цене бриллиантов, а вы, месье секретарь, пытались получить настоящие камни за половину стоимости у неопытного человека. Алмаз режется только алмазом! Славный colonel Caoutchouc ловко надул вас всех с этими бриллиантами.
Увы, это была горькая и неутешительная правда.
Мы вернулись в «Гранд-Отель». Чарльз был вне себя от ярости.
— Ну все, с меня хватит! — восклицал он. — Вот же дерзкий мерзавец! Но, мой дорогой Сэй, я больше не позволю ему провести меня. Вот если бы он еще раз попытался сделать это! С каким бы удовольствием я поймал его! Теперь уж я точно узнаю его в следующий раз, будь уверен. И не помогут ему его штучки. Уму непостижимо, как же ему удалось обвести меня вокруг пальца второй раз! Пока я жив, этого больше не повторится, никогда! Никогда, клянусь вам!
— Jamais de la vie![143] — эхом отозвался посыльный, слонявшийся в холле. В этот момент мы стояли под верандой «Гранд-Отеля», в большом остекленном внутреннем дворе. И мне почему-то показалось, что посыльный на самом деле был полковником Глини в одном из своих обличий.
Но, скорее всего, он мерещится нам уже везде.
Саймон Брентли ИСКУШЕНИЕ БРАУНА ЛЫСОГО
Замок Тенкердон стоял прямо над рекой. Сейчас поверхность ее была залита лунным светом реки, а сам замок чернильной громадой вырисовался на ночном небе, высоко поднимая свои средневековые башни и множество дымовых труб гораздо более современной постройки.
Из деревни к замку ехал нарядный автомобиль, яркие фонари которого освещали дорогу. Вот он остановился перед главными воротами. Из машины вышла сперва леди Тенкердон, молодая, ослепительно прекрасная жена владельца имения, сэра Генри, а уже следом за ней показался и сам лорд, высокий, полный, с добродушным лицом. Он коснулся выключателя — и множество электрических лампочек осветило арку ворот. На шее леди Тенкердон вспыхнули и заискрились лучи бриллиантового колье.
А совсем невдалеке от ярко освещенного входа, в саду, под сенью рододендронов, притаился Браун по прозвищу Лысый — и действительно не отличавшийся густой шевелюрой.
Это был невысокий человек, почти карлик, худенький, с плотно обтянутым кожей бледным лицом, похожий на воробья-альбиноса. При всей своей скромной внешности он, между тем, считался довольно известной фигурой: по крайней мере, в определенных кругах. А именно — в воровских притонах и полицейских участках. Но, несмотря на свою преступную (и вполне заслуженную в этом конкретном смысле) репутацию, Лысый обладал добрым сердцем и мягким нравом. За ним не числилось ни одного преступления, связанного с каким-либо насилием; он даже не оказывал сопротивления, когда его заставали с поличным, и, случалось, Брауна даже не арестовывали полицейские, заставшие его на месте преступления, но приводил в полицию бдительный хозяин дома.
Теперь, прячась в чаще садовых растений, он пристально и жадно смотрел на сверкание знаменитых камней леди Тенкердон.
Именно это драгоценное ожерелье, свадебный подарок сэра Генри, заставило Лысого явиться к замку. Перед приездом лорда и леди он провел вокруг дома разведку — и с удовольствием заметил, что высокая деревянная лестница, которой днем пользовались работавшие в усадьбе маляры, так до сих пор и стоит возле задней стены дома, причем только широкая доска, прибитая с ее наружной стороны, должна преграждать путь незваным гостям вроде него самого.
Сэр Генри с женой вошли в дом. Автомобиль двинулся вперед и исчез в гараже. Лысый выждал. Минут через пятнадцать в окне верхнего этажа вспыхнул свет. Наружу снова выглянула леди Тенкердон, постояла у окна несколько секунд, потом скрылась. Вор улыбнулся. Судьба и пристрастие леди к свежему воздуху показали ему, где ее будуар.
Целый час он не двигался. Потом осторожно подошел к приставной лестнице — и с удивительной, прямо-таки обезьяньей ловкостью бесшумно вскарабкался по ее внутренней стороне. Прибитая снаружи доска, разумеется, не стала ему преградой.
Открытое окно теперь находилось внизу, почти прямо под ним, на расстоянии пятнадцати футов от конца лестницы. Лысый бесшумно спрыгнул на подоконник — и через секунду очутился на внутренней площадке замковой лестницы, мраморной, покрытой персидским ковром.
Через несколько минут вор скользнул вниз, на второй площадке остановился, чтобы оглядеться, прислушаться и оценить, как обстоят дела в будуаре. Он привык без ошибки угадывать расположение комнат в таких вот загородных домах — уж в чем-чем, но в этом у него был достаточный опыт. Браун сначала прижался к замочной скважине глазом, потом припал к ней ухом — лишь после этого он осторожно повернул дверную ручку и на цыпочках вошел в будуар.
Лунный свет слабо освещал комнату. Лысый увидел висящее на ширме платье леди Тенкердон, вышитое блестками, а на туалетном столике овальный кожаный футляр. Он открыл его — и тут же торопливо опустил крышку, потому что лежавшие внутри на бархатной подушечке бриллианты, казалось, наполнили своим сверканием весь будуар.
Больше Лысый ничего не взял. Даже футляр показался ему слишком громоздким, так что он опустил сверкающий каскад бриллиантов в карман и, вновь закрыв кожаную шкатулку, поставил ее обратно на столик.
Бесшумно закрыв за собой дверь, вор направился прочь из замка. Он уже спустился на один пролет лестницы, как вдруг звуки голосов, доносящиеся снизу, заставили его замереть на месте. Лысый быстро оглянулся по сторонам — и, заметив на высоком пьедестале-шкафчике старинные часы, скользнул за них. Позади пьедестала оказалась ниша: неглубокая, но маленький рост выручил Брауна, как выручал его уже не раз прежде.
Вдруг его сердце замерло. Шаги приближались!
Где-то неподалеку распахнулась дверь. Вор, невидимый в своем тесном тайнике, затаил дыхание.
А потом резкий, неприятным голос прошептал где-то совсем рядом:
— Да решайтесь же вы, глупец. Мистер Дент не станет ждать уплаты. Вас объявят несостоятельным должником. Это будет страшный позор, позор не только для вас, но для всех ваших родных. Что выбрала бы леди Тенкердон? Что выбрала бы любая сестра на ее месте? Неужели выдумаете, что ожерелье для нее значит больше, чем семейная честь? Мы разделим его, а камни по одному продадим в Амстердаме. Вы очиститесь от долгов — и, право же, никто никогда не узнает…
Лысый не мог видеть того, кто произносил эти слова, Барри Берта. Да они и не встречались друг с другом когда-либо прежде. Барри вращался совсем в иных кругах… хотя как сказать, в иных ли: эти круги были столь же темными и порочными, как общество знакомцев Брауна. А вот теперь Барри Берт получил власть над братом леди Тенкердон, Диком Кью, молодым человеком, не обладающим ни богатством, ни должной твердостью рассудка. Берт искусно запутал юношу — и с некоторых пор прочно держал его в своих когтях.
Перед Диком вырисовывалась тягостная дилемма: с одной стороны — банкротство, не уплаченный долг чести, позорное изгнание из клуба, скандал, который неизбежно отразился бы и на его сестре; а с другой — возможность не только спастись, но и сохранить все в тайне. Ведь они с сестрой всегда, всю их жизнь были очень дружны. Ведь она сама часто говорила ему: «Разве я не сделаю для тебя все, что угодно, Дикки?»
Он заколебался — и искуситель, Барри Берт, немедленно почувствовал это.
Лысый Браун, хотя его собственное положение продолжало оставаться опасным, весь сотрясся от подавленного смеха. Ну надо же, какое совпадение!
Он сунул руку в карман, бережно погладил бриллианты.
Снаружи донесся глубокий вздох. А потом прозвучал новый голос, голос Дика — которого Браун, разумеется, тоже не знал:
— Хорошо. Я зашел слишком далеко, я уже и так натворил столько непростительного… Что ж, значит, нужно идти до конца!
Что-то стукнуло о пол. Лысый понял, что это Дик снял лакированные туфли. Выглянув одним глазком из своего тайника, профессиональный вор смотрел, как вор-дилетант крадется вверх по лестнице. Сам же вор-профессионал охотнее всего бы покинул в это время замок, но не мог этого сделать: Берт, стоя внизу, невольно отрезал ему путь к отступлению.
Вдруг Браун мысленно произнес проклятие: наверху послышался короткий лязг, отчетливо слышный в ночной тиши. Он понял, что под рукой молодого человека лязгнула дверная ручка, которая только что так беззвучно повернулась под его собственными искусными пальцами.
Тишина. Тяжелое дыхание Берта. Наконец Дик появляется снова.
— Вот, я взял его… — задыхаясь, произнес молодой Кью, вытирая лоб.
Берт протянул пальцы к футляру — и вдруг побледнел. Даже сам Лысый невольно вздрогнул. Снизу встревоженно зазвучали громкие голоса; голос сэра Генри покрывал все остальные. А затем на лестнице появился и сам хозяин замка, держа в одной руке кочергу, в другой горящую свечу.
— Боже мой, — шепнул Дик, отступая в тень, ближе к стене, — он… он сейчас прикажет обыскать нас. Река!
Он вырвал футляр из рук Берта и швырнул его в открытое окно. В ночном воздухе послышался легкий плеск.
— Рыба плеснула, — спокойно заметил Берт. — Боже мой, сэр Генри, это вы? Что случилось?
— Воры, — так же спокойно ответил лорд. — Дик, беги в спальню сестры, посмотри, цело ли ожерелье.
Лысого больше всего удивил голос сэра Генри: при всем спокойствии он звучал так твердо, что спорить с этим человеком никому бы не захотелось. Дик исчез, не сказав ни слова. Сэр Генри поставил свечу на перила.
— Что вы тут делали вдвоем? Вышли покурить перед сном? — спросил он. — Я полагаю, вы ничего не видели и не слыхали?
— Ровным счетом ничего, — ответил Берт. — Почему вам вдруг почудилось, будто воры…
— Дик! — вскрикнул сэр Генри, увидев возвращающегося брата своей жены. — Надеюсь, ожерелье на месте?
— Оно… оно пропало, — запинаясь, произнес Дик.
Наступила долгая тишина. Сэр Генри переводил глаза с одного на другого. Лысый, украдкой глянув сквозь щелку, заметил, что лицо лорда словно бы окаменело.
— Мне. Казалось. Что. Его. — Слова сэра Генри падали размеренно, веские, словно удары бича. — Его… могли положить на место. Имели такую возможность.
Он замолчал; его пристальный взгляд не отрывался от лица Дика.
— Я давал тебе шанс спастись, — сказал лорд Тенкердон, — но неужели ты думаешь, что я буду покрывать воровство, настоящее воровство, совершенное под моим кровом? Я слышал, как звякнула ручка, и тихонько выглянул через потайную дверь. Я видел тебя, Дик. Я разбудил Эниду, она тоже все видела. Мы оба хотели дать тебе возможность положить ожерелье на место. Ты этого не сделал.
В воздухе вновь повисла напряженная тишина. Дик упал в кресло, закрыв лицо руками, и застонал.
— Берт! Вон из моего дома, — сказал сэр Генри: его голос по-прежнему звучал спокойно, в нем даже почти не чувствовалось угрозы. — Если вы когда-нибудь увидитесь с Диком, я проследую за вами хоть до Тимбукту, но на сей раз уж точно отделаю хлыстом так, как вы этого, безусловно, заслуживаете. Это же случится, если кто-нибудь узнает хоть слово из того, что произошло сегодня ночью! Ваше единственное спасение — полное молчание. Вам все ясно?
— Ей-богу, сэр Генри, — начал было Берт, — я ничего не знал о…
— Довольно! — воскликнул Тенкердон, и его кулак с грохотом обрушился на перила. По этому звуку на лестнице тут же появились дворецкий и один из лакеев.
— Возвращайтесь на место, отбой тревоги, — резко произнес Генри, но тотчас же прибавил: — Постойте, Дженкинс.
— Что прикажете, сэр? — спросил дворецкий.
— Если вы когда-нибудь встретите мистера Берта в пределах моих владений, предупредите меня и спустите на него собак. Причем собак можете спустить сразу, а предупредить меня уже потом. Вы поняли?
— Да, сэр, — ответил Дженкинс лишь слегка дрогнувшим голосом.
— Тогда идите.
Звук шагов дворецкого замер вдали. Берт, пробормотав что-то невнятное, тоже устремился прочь — и исчез из поля зрения Лысого.
— Дик, — сказал сэр Генри, выждав несколько секунд. — Дай мне ожерелье.
Молодой человек поднял голову. Его широко открытые, налившиеся кровью глаза смотрели кругом полным отчаяния взглядом. С дрожащих губ Дика вырвалось рыдание.
— Когда ты сказал, что в замок пробрались воры… Я… я бросил его в реку… Тут место глубиной в тридцать футов, течение быстрое, подводные травы, ил… я знал, что его никогда не найдут.
Сэр Генри был точно каменное изваяние, лишь его пальцы от волнения выбили на перилах барабанную дробь. Он, как и Дик, понимал, что вернуть драгоценность со дна реки будет почти невозможно.
— Глупец, — сказал он резко, — это был мой свадебный подарок твоей сестре. Мы оба любили его не столько за ценность камней, сколько за связанные с ними воспоминания, за…
— Не надо, ради бога, не надо!..
Молодой человек выпрямился, высоко, со странным достоинством подняв голову. Стыд, ужас, безумие светились в его глазах. Он содрогнулся всем телом и проговорил:
— Я был вне себя… — Дик прижал одну руку к горлу, другою нащупывал что-то в кармане. — Я часто думал, что если не это, то остается только один выход… Жаль, что я не сделал этого прежде, чем… Ничего! Еще не поздно. Отойди, иначе я буду стрелять!
Сэр Генри бросился к нему. Молодой человек отшатнулся — и направил револьвер не на лорда, а на себя. Тенкердон не решился сделать еще шаг: такое отчаяние было написано на лице юноши.
— Я нашел выход, — сказал Дик, и его дикое волнение, казалось, отступило. — Да, это выход. Меня нельзя остановить… меня никто не остановит!
Лысый слушал все это со странной смесью жалости и презрения, но к ней примешивалось еще одно странное чувство: чувство чести, подталкивающее вмешаться, даже если ради этого придется выдать себя. Пока молодой человек произносил свою трагическую тираду, вор пальцами ласкал в кармане великолепные бриллианты и думал — точнее, знал, что должен думать! — об одном знакомом торговце драгоценностями во Фландрии, который не будет задавать лишних вопросов… Глаза Брауна сверкнули при мысли о той сумме, которую этот скупщик вывесит за сегодняшнюю добычу. Как же все удачно сложилось: его не будут разыскивать, ожерелье тоже не будет подано в розыск. Он спокойно доберется до Фландрии, а то, что произойдет в этом замке, его совершенно не касается… ведь так?
— Я остановлю! — вырвалось у Лысого.
Лорд и его шурин отшатнулись, пораженные. Браун выскользнул из своего тайника и теперь стоял между сэром Генри и Диком.
— Что бы вы там про себя ни думали, — сказал он, обращаясь к юноше, — вы не совершили преступления, мистер как-вас-там. По крайней мере, я не слыхал, чтобы кого-нибудь когда-нибудь арестовали за кражу пустого футляра. Кое-кто побывал в той комнате раньше вас, и этот кое-кто недаром ест свой хлеб! Я вас опередил!
В черных глазах Брауна блеснула профессиональная гордость. Он запустил руку в карман, вынул ожерелье и помахал им в воздухе так, что на миг показалось — в его пальцах струится поток жидкого огня.
— Ах, славненькие камешки, — сказал он, встряхнув головой, словно желая избавиться от наваждения. — Так я ради вас старался… и выходит, все зря. Или нет? А вы, мистер, — прибавил он, глядя на Дика, — были в этом деле просто овцой. Винить нужно не вас, а того, другого. Тот, второй, толкал его на кражу, сэр, угрожал ему, ну и всякое такое прочее. Ей-богу, я все слышал.
И он кивнул головой в том направлении, в котором удалился Берт.
Дик опустил револьвер. Сэр Генри принял ожерелье из узловатых пальцев Лысого и с удивлением окинул взглядом странную фигурку коротышки.
— Присядем где-нибудь, — сказал он, — и расскажите мне, что случилось. А то в этой истории для меня еще остается сколько-то белых пятен. Никогда не сталкивался с чем-то более необыкновенным… Ну, объясните же нам все!
…Через несколько минут Браун сидел в кабинете сэра Генри, прихлебывал виски с содовой, курил сигару такого сорта, какие прежде никогда не пробовал, — и рассказывал лорду Тенкердону и Дику различные эпизоды своей воровской жизни.
— Признаюсь, что после сегодняшнего случая я готов бросить ремесло, — в заключение заметил он, — если, конечно, представится искушение сделать это…
Сэр Генри посмотрел на Дика — и подумал о том, что лишь благодаря вмешательству вора под кровом замка Тенкердон сегодня ночью не произошла трагедия. Подумал он и о чувствах любимой жены, столь привязанной к своему глупому брату.
Потом он еще раз окинул взглядом маленькую фигурку Лысого, уже не загадочную, а скорее просто забавную — и улыбнулся.
— Заключим с вами договор, — сказал он. — Все подробности обсудим завтра… точнее, уже сегодня. Ручаюсь, что такое искушение представится.
И они пожали друг другу руки.
Уильям Хоуп Ходжсон
ОХОТНИК ЗА БРИЛЛИАНТАМИ
Из цикла «Приключения капитана Голта»
Пароход «Монтроз», 18 июня
На этот раз я пожалел, что бросил работу на грузовом катере: пока мы совершали рейс, парочка пассажиров основательно залила мне сала за шкуру.
Когда утром я поднялся на капитанский мостик, оказалось, что старший помощник мистер Уилмет разрешил одному из пассажиров, мистеру Брауну, подняться туда и выпустить своих породистых голубей. Мало того — третий помощник отмечал ему время нашим хронометром!
Боюсь, я в тот момент выглядел так, будто потерял самообладание.
— Мистер Уилмет, — сказал я, — поясните, будьте добры, мистеру Брауну, что мостик обойдется без его присутствия, что я буду до смерти рад, если мистер Браун уберется отсюда, и очень прошу его помнить об этом и дальше. Если мистер Браун хочет побаловать себя зрелищем голубиного полета, у меня нет никаких возражений, но, пожалуйста, подальше от мостика!
Конечно, я даже не пытался щадить чувства мистера Брауна, тем более что мне уже не впервые приходилось возвращать его с небес на землю. Вот, например, вчера он принес в столовую пару своих голубей — показать друзьям, а в итоге они летали по всему залу, — и вы же знаете, сколько грязи разносят эти отвратительные птицы! Я сказал ему пару ласковых прямо при всех этих идиотах в салоне, и, кажется, они даже согласились со мной. Этот парень помешался на своих голубях!
Еще был полковник, которому надоело путешествие, и он все пытался ворваться на мостик, чтобы покурить со мной и почесать языком. Мне пришлось прямо сказать ему, чтобы он держался от мостика подальше, как и мистеру Брауну, разве что немного другим тоном. А еще две женщины — молодая и постарше, — которые вечно вертелись поблизости, готовые в любую секунду пойти в атаку и, так сказать, взять мой капитанский мостик на абордаж. Сегодня я наконец улучил момент и заговорил с пожилой о моем восьмом парне. Думал, ее это утихомирит, но увы — она начала болтать со мной о любимых детках, а я ведь даже не женат! Так глупо обдурил сам себя, да и ее тоже! А старая, конечно, все рассказала молодой, и та покинула меня на милость победительнице! Бог ты мой!
Но пассажир, который меня действительно беспокоил, был мистер Эгла, толстый темноволосый коротышка с землистым лицом, и при этом до смерти любознательный. Казалось, он все время ошивается вокруг, и я больше чем подозревал, что он пытается завести близкую дружбу с моим слугой.
Конечно, я еще тогда догадался, что он охотник за бриллиантами, и не сомневаюсь в этом до сих пор, но так уж повелось на этих кораблях; из камней и жемчуга, которые провозили на них через таможню, можно было пирамиду Хеопса сложить.
Я едва не сорвался на него сегодня, сказал мистеру Эгле: закрой дверь, я знаю, кто ты, и держи свой длинный нос подальше от моей каюты и моих дел, займись лучше теми, кто достаточно богат, чтобы разбираться в твоем ассортименте!
На самом деле он действительно сунул нос в мою каюту, а я подошел к нему со спины, но отбрехался он вполне правдоподобно. Сказал, что постучал, а потом ему послышалось, что я ответил: «Войдите». Мистер Эгла пришел попросить меня об одном одолжении: позаботиться об очень ценном алмазе, который он принес с собой. Он вытащил из жилетного кармана камень, спрятанный в замшевом кошельке, и сказал, что будет гораздо лучше и безопаснее где-нибудь запереть его. Конечно, я заверил его, что о бриллианте позаботятся как следует, а когда мистер Эгла спросил моего мнения о нем, то я стал мягче шелка — ведь было ясно, как сильно он хочет со мной об этом поговорить.
— Великолепный камень! — сказал я. — Думаю, он должен стоить тысячи. Наверное, в нем карат двадцать-тридцать.
На самом деле я прекрасно знал, что это всего лишь хорошо ограненная стекляшка — потому что схитрил и проверил его на твердость своим кольцом, — да и по размеру я нарочно промазал. Будь это настоящий бриллиант, он весил бы под шестьдесят карат.
Толстый коротышка нахмурился. Хотелось бы знать, вышло у меня или нет дать ему намек, что он идет по ложному следу, но потом я вдруг понял по его глазам: мистер Эгла по своему обыкновению не доверяет мне и к тому же презирает за то, что я абсолютный, конченный невежда в том, что касается алмазов. Когда он ушел, я немного поразмыслил о нем и решил, что хорошо было бы преподать урок этой толстой жабе!
19 июня
Ночью мне пришла в голову отличная идея. Вечером мы должны были пришвартоваться и пустить на борт таможенников, и я как раз смог бы заняться тем, что придумал. Накануне за ужином завязался разговор об алмазах — как всегда на этих кораблях, — и пассажиры начали рассказывать истории. Некоторые старые, некоторые посвежее, и многие были о разных хитрых уловках, как обмануть таможню.
Парень за моим столом рассказал историю с длинной бородой — про утку, которую накормили алмазами, спрятанными в кусочках хлеба, и таким образом незаконный владелец смог спрятать их от бдительного ока таможенников в самый критический для себя момент.
Это подало мне идею; охотник к тому времени порядочно потрепал мне нервы, и если бы я не сделал что-то, чтобы он в конце концов почувствовал себя полным идиотом, то начал бы грубить ему. А хамить пассажирам — последняя вещь, которую может себе позволить владелец судна.
На нижней палубе я вез брату несколько южноафриканских черных фазанов: он разводил их; к слову, вполне успешно и даже вывел несколько новых пород.
Я послал слугу за хлебом, а сам выудил из кармана сюртука коробочку с тем, что у нас на островах называют «фальшивочками» — отлично ограненными стекляшками, начищенными до почти натурального алмазного блеска. Они остались у меня после одного забавного путешествия, и я годы таскал их с собой — до сегодняшнего дня.
Я уселся за стол и начал крутить хлебные шарики, а потом стал прятать «камни» в них. И пока я это делал, то почувствовал затылком чей-то внимательный взгляд: кто-то пялился на меня через окно, которое выходило в кают-компанию. Я посмотрел в зеркало на противоположной стене и успел заметить лицо: это был мой слуга.
Именно этого я и ждал. «Ха, мой мальчик! — подумал я. — Думаю, это будет наше последнее совместное плавание, хотя, наверное, сейчас ты ничуть не угрожаешь мне, а ведь мог бы».
Когда все «бриллианты» перекочевали в хлебные шарики, я спустился в птичник и начал скармливать их фазанам. Когда я бросил птицам последний шарик и повернулся, то буквально столкнулся с мистером Эглой, который как по волшебству возник на другом конце птичника. Он наверняка успел пошушукаться с моим слугой и теперь проследил, как я скормил нелегальные бриллианты фазанам — пока таможенники были на борту!
Я изрядно позабавился тем, как охотник пытался изобразить беззаботность; он долго извинялся за неуклюжесть, обвиняя во всем сильную качку. Честно говоря, ему нечего было делать в этой части судна, и я вежливо намекнул ему на это: хорошо бы Эгла решил, что я раздражен и обеспокоен этим его вторжением в самый ответственный (судя по всему) момент!
Позже, когда я поднялся в радиорубку, я застал там мистера Эглу: он отправлял телеграмму. Я же устроился на диване и, пока Мелсон (радист) отправлял сообщение, решил записать свое.
На самом деле вместо своей телеграммы я стал записывать точки и тире, ориентируясь по писку и стуку телеграфного аппарата, и переводить их в буквы. Это был шифр, и у меня вышло: «lyaybozwr eyaajgooavooiowtpq2232imvn67amnt8ts. 17. Эгла. г.в.н.»
Я усмехнулся: это был последний служебный шифр, и в моем блокноте хранился ключ к нему. Хорошо, когда у тебя есть, как говорят в народе, «друг в высоких кругах». Правда, должность моего друга была не такой уж высокой, по крайней мере, не слишком высокооплачиваемой, но зато она давала ему доступ к некоторым очень важным государственным документам, вполне позволяя сводить концы с концами.
Когда мистер Эгла отчалил, я вытащил ключ и расшифровал его сообщение, пока Мелсон отправлял мое. Расшифрованное, оно гласило: «Фазаны накормлены сотнями бриллиантов, спрятанных в хлебных шариках. На ведущем буксире. Отметил клетку. Меня нельзя упоминать ни в коем случае. Самая важная поимка года! 17 Эгла, г.в.н.».
Телеграмма была отослана на адрес частного лица — просто для отвода глаз, конечно, ведь мистер Эгла вряд ли смог успешно охотиться за бриллиантами, если бы отправлял отчеты прямо в главную контору! Число «17» перед его именем означало официальный номер, если я ничего не путал, и это было не просто интересно, но и впечатляюще — я был наслышан о неизвестном Семнадцатом номере. Он сумел раскрыть и поймать некоторых весьма известных алмазных контрабандистов. Интересно, как Эгла выглядел по-настоящему — мне показалось, что и живот у него накладной, и волосы крашеные, не говоря уж об этих его слишком иностранных манерах.
Буквы «г.в.н.», которыми оканчивалось сообщение, были внутренними ключами к шифру. Он был сложным, и длинные сообщения надо было зашифровать небольшим количеством символов, просто каждый символ следовало читать трижды, используя разные комбинации — и именно их расшифровывал ключ в конце сообщения. Он давал возможность понять, какие именно комбинации нужно использовать для расшифровки.
Вторая великолепная мысль пришла мне в голову, когда я покинул рубку. Захватив сухарики, якобы для того, чтобы покормить птиц, я снова спустился на кокпит навестить моих драгоценных фазанов — и тут же застукал Семнадцатого (так я решил называть его), ошивавшегося там.
Теперь я ясно дал понять, что ему нечего делать здесь, внизу, и потребовал ответить, что он здесь снова забыл, особенно после того, как я попросил его не лезть сюда утром.
Надо сказать, что Семнадцатый даже бровью не повел.
— Прошу прощения, капитан, — сказал он, — но я, кажется, потерял свой мундштук. Он был у меня в руках, когда я столкнулся с вами утром, и, по-моему, я обронил его здесь.
Семнадцатый поднял руку и показал его мне.
— Я нашел его тут, на палубе, — пояснил он. — Счастье, что его никто не подобрал. Я быть много благодарен, потому что он ценный для меня.
— Все хорошо, мистер Эгла, — ответил я, подавив улыбку: от меня не ускользнул этот его хитрый, но поддельный иностранный акцент. На самом деле, если я правильно расслышал манеру, в которой он произносил слова, этот человек был настоящим, урожденным шотландцем. Получается, даже шотландец мог дойти до такого!
После того как он ушел, отвешивая мне эти свои мелкие поклончики, я еще раз тщательно осмотрел и проверил клетку с фазанами — но так, чтобы даже очень внимательный наблюдатель решил, что я кормлю, как обычно, дважды в день своих цыпочек сухарями.
Если бы я не прочел зашифрованное послание, я бы наверняка не заметил отметки, которые Семнадцатый оставил в птичнике. Это были три маленькие точки, выстроенные треугольником, вот так:.·.с цифрой «17» в центре. Знак, такой крохотный, что монетка в полпенни могла его полностью скрыть, был нарисован остро заточенным мелом на одной из опор клетки.
Я усмехнулся про себя и отправился в столярную мастерскую за мелом. Заточив его долотом до нужной остроты, я спрятал мел в карман и отправился на обычную послеобеденную прогулку по палубам.
Для начала я хотел найти мистера Эглу: получится весьма некстати, если он как раз будет следить за мной, пока я разыгрываю эту шутку. Я нашел его наверху, в курительной комнате — он читал Ле Пти Жорналь и выглядел абсолютно иностранно и совершенно невинно.
«Ах ты чертенок!» — подумал я и вернулся на кокпит. Там я незаметно нарисовал знак мистера Эглы на клетке, которая стояла прямо над моими черными фазанами, которых я вез брату. В ней обитала куча бестолковых голубей мистера Брауна: именно тех, которых я запретил выпускать в кают-компании.
Скопировав знак, я достал из клетки четырех фазанов и посадил их к голубям. Я сделал это, потому что тогда следователи, которые наверняка приплывут на корабль вместе с лоцманом, найдут две отмеченные клетки, и в обеих будут фазаны. Им придется открыть верхнюю клетку, чтобы вытащить фазанов, и тогда состоится торжественный выход голубей мистера Брауна, которые удвоят суматоху, — и именно в этом и заключалась главная дьявольская прелесть моего маленького заговора.
Мистер Браун до чертиков разозлится и раскричится. Я представлял себе, как он грохочет: «Я никогда о таком не слышал! Идите к чертям, сэр! Я напишу об этом в "Таймс"!»
И тогда, как мне казалось, Семнадцатому надо будет выйти и объясниться — отчасти на публике, — и после этого его репутация охотника за бриллиантами померкнет эдак примерно на четверть; потому что многие на борту (в том числе и те, кто занимается добычей и перевозкой алмазов) смогут вживую увидеть знаменитого Семнадцатого, и после этого, как бы он ни пытался замаскировать свою очаровательную личину, оставался немалый шанс, что его опознают в самый ответственный момент — по крайней мере, он сам будет так думать!
Но, конечно, мистер Эгла (Семнадцатый) будет только отчасти вовлечен в мою маленькую забавную паутину проблем. Он всегда будет помнить, что все эти прелюбопытные сложности были всего лишь розыгрышем, что он не раскрыл самую большую контрабанду года. Можно будет извиниться перед мистером Брауном и даже выплатить компенсацию, если так будет нужно. А еще лучше, если Семнадцатый превратит моих фазанов в дичь, чтобы извлечь предмет своего триумфа у них из желудков!
Я с преизрядным удовольствием предвкушал эти события — буквально видел, как они произойдут. А потом государственный оценщик отправится к начальнику с докладом, а после начальник вызовет к себе Семнадцатого — о этот пряно-соленый привкус начальственного выговора! — и скажет, что нет ничего противозаконного в том, что капитан кормит своих фазанов кусочками стекла, ограненного или нет для того, чтобы улучшить им пищеварение!
А потом мне или вернут пять дюжин фазанов, или возместят их стоимость в хороших честных долларах, полагаю, даже в казначейских. Я быстро подсчитал: репутация Семнадцатого быстро покатится вниз, зато стоимость моих фазанов безошибочно пойдет вверх!
Я проверил, хорошо ли заперта дверца верхней клетки, и заодно глянул, как там мои фазаны среди голубей мистера Брауна. Фазаны клохтали и прохаживались в той достойной, но слегка неуверенной манере, которая свойственна всем курам. Голуби испуганно вспорхнули, но затем снова продолжили мирно ворковать; все было спокойно в этом ковчеге. Фазаны обнаружили, что голубиный корм так же хорош, как и фазаний, и стали усердно работать над тем, чтобы заполнить незаполнимое.
* * *
Следователи, как я и предполагал, поднялись на борт вместе с лоцманом, и после обычных приготовлений меня попросили присутствовать при проверке птичника. Когда я проходил мимо курительной комнаты, то отметил, что мистер Эгла все еще там — и, вероятно, намеревался там и оставаться. Что ж, восхищен его решением.
Чиновники собрались на кокпите, и их начальник объявил: к ним поступила информация, которую необходимо проверить. Они задали мне чисто формальный вопрос: не собираюсь ли я задекларировать провоз алмазов?
— Мне очень жаль, но на этот раз я оставил все алмазные капиталы дома, мистер, — ответил я. — И мне нечего декларировать, кроме той фигни на постном масле, которую вы себе навоображали!
— Мы уверены в обратном, кэп, — сказал начальник. — Что ж, мы дали вам шанс, а вы им не воспользовались. Теперь расхлебывайте последствия!
Он повернулся к одному из своих.
— Открой нижнюю клетку, Эллис, — приказал он ему. — Вытащи этих птиц и отнеси мяснику.
И тогда всех фазанов вытащили, отнесли к мяснику, а тот свернул им шеи. Мой маленький план обернулся для фазанов брата крупными неприятностями, но мне-то самому, если честно, жаловаться было не на что.
И, в противовес приятному самоощущению, я довольно энергично и по всей форме воспротивился всему этому: заявил, что кто-нибудь обязательно заплатит за это и будет расплачиваться и дальше за такое, как я выразился, надругательство.
Начальник только пожал плечами и приказал достать четырех фазанов из верхней клетки. Его подчиненный сунул руку в клетку, но фазаны только с глубоким достоинством взглянули на него и отошли подальше. Парень немного вышел из себя и сунулся за ними в клетку, заодно снеся всю ее переднюю стенку.
И в тот момент мой план свершился. Раздался сухой и рассерженный шорох сотен пар многочисленных крыльев, и — ха! — воздух мгновенно побелел от голубей! Таможенник попятился из клетки, сжимая в руках моих фазанов, и тут же грудью встретил взрыв начальственного гнева.
— Ты, неуклюжий козел! — прорычал начальник.
— Что?..
И тут свершилась вторая часть моего плана.
— Какого черта, сэр?! — завопил мистер Браун, хватая ртом воздух, и бросился к нам. — Какого черта?! Какого черта?!! Вы выпустили всех моих голубей! Какого хрена все это значит?! Что за?..
— О, вы еще спрашиваете, сэр, что это значит! — ответил я. — Это значит, что чиновники совсем сдурели!
Но мистер Браун, судя по всему, уже забыл обо всем на свете, кроме своих обожаемых голубей.
Он вытащил здоровенные золотые часы и блокнот и начал размахивать ими, пытаясь бликами привлечь внимание голубей, — задрав до хруста голову, он все пытался рассмотреть, куда же они полетели.
Конечно, ему пришлось оставить свои попытки, потому что птицы, сделав напоследок парочку прощальных кругов над кораблем, направились в сторону побережья.
И тогда мистер Браун по-настоящему повел себя как мужчина — по крайней мере, для того, кто разводит голубей. Он выдал настолько красноречивую и обличительную тираду, что почти все пассажиры первого класса вышли посмотреть, что случилось, а некоторые замужние женщины очень поспешно покинули палубу.
Начальник сделал несколько безуспешных попыток утихомирить мистера Брауна, а потом подал знак мяснику — вскрыть все пять дюжин фазанов, что он и проделал с завидным мастерством, пока кокпит не стал похож на бойню. А мистер Браун все продолжал самовыражаться!
В конце концов начальник отправил посыльного, и (видимо, против своей воли) мистер Эгла спустился, чтобы дать объяснения.
Пока мистер Эгла рассказывал, мистер Браун на секунду прекратил расточать угрозы, а пассажиры сгрудились вокруг, и начальник в конце концов попросил меня объявить об отставке. Но я только плечами пожал. Пока что все происходящее шло по намеченному мной плану: чтобы выдать охотника — нужно было как можно больше свидетелей.
— Я никогда не помечал вашу клетку, сэр, — мягко возразил тот. — Я поставил метку на клетке капитана, которая с фазанами…
— Чушь! — рявкнул начальник. — Метки стоят на обеих клетках!
И в этот момент до меня дошло, что начальник ни разу не собирается щадить чувства Семнадцатого — потому что тот слишком уж быстро вскарабкался, по мнению начальника, по карьерной лестнице, — хотя я знал: если контрабанда действительно окажется такой серьезной, как говорил Семнадцатый, то начальник моментально закроет рот. Я никогда еще не встречал настолько сбитого с толку человека, каким был сейчас этот охотник, когда он увидел отметки на обеих клетках. Семнадцатый обернулся и посмотрел на меня, но я ответил ему спокойным, уверенным в себе взглядом.
— Так это вы, — сказал я громко, так, чтобы меня услышал каждый, — тот самый чертов охотник за бриллиантами? Не удивлюсь! У меня озноб шел по спине каждый раз, когда вы проходили мимо.
Коротышка бросил на меня тяжелый взгляд, и я думал, что он сейчас сорвется и бросится на меня, но в этот момент мистер Браун после короткой передышки снова завел волынку.
Вскоре мясник, который работал быстро и без напряжения, выудил из птичьих желудков несколько моих стеклянных «бриллиантов».
Они привезли с собой государственного оценщика — вот как высоко они оценили информацию, которую дал им Семнадцатый! — и этот человек вырвался из молчаливого круга фанатов мистера Брауна и подошел к мяснику, чтобы посмотреть «алмазы».
Я следил за ним, не говоря ни слова, пока оценщик тщательно проверял самый первый из них. Потом он нахмурился и взял следующий. Через пять минут он и мясник закончили работу; оценщик при этом презрительно отшвырнул в сторону последний из «бриллиантов».
— Мистер Фрэнкс! — громко обратился он к начальнику. — В этой груде… м-м-м… дичи нет ни одного алмаза! Здесь всего лишь кучка ограненных стекляшек, которые продаются по десять центов за дюжину, но алмазов нет. Кажется, на этот раз наш дорогой мистер Эгла попал впросак.
Я усмехнулся: кажется, никто здесь не любил Семнадцатого, даже оценщик. Но когда я сначала посмотрел на начальника, а потом на охотника и обратно, то не выдержал и рассмеялся.
Мистер Браун судорожно прервал свою пятидесятую попытку пересказать удивительно экспрессивное, возмущенное и совершенно непечатное письмо, которое он обязательно отправит в «Таймс». Потом он снова начал голосить, но все предусмотрительно отошли от него подальше — так, чтобы хотя бы слышать свой голос, — и тогда начальник выдал несколько коротких и емких слов по поводу замечательного «захвата», которое произвел Семнадцатый.
Тот не говорил ни слова, только растерянно смотрел перед собой. Вдруг глаза его блеснули, и он поднял руку, перебивая начальника.
— О боже, сэр! — выкрикнул он высоким, срывающимся голосом, будто бы до него наконец что-то дошло. — Голуби! Голуби! Нас совершенно одурачили! Фазаны — это только для отвода глаз, и из-за них я не учуял голубиного пирога! Почтовые голуби, сэр! Ах, какой же я идиот!
Я тут же заявил, что он не имеет никакого права делать подобные огульные и лживые заявления, а письмо мистера Брауна тут же стало еще длиннее и неистовее. В итоге мистеру Эгле пришлось публично извиниться за то, что он оклеветал и меня, и мистера Брауна, но это не помешало нам выставить таможне счет за нанесенный ущерб. Мало того, нам обоим выплатили компенсацию, потому что ни казначейство, ни таможенные чиновники не хотели, чтобы вся эта история всплыла — как это случилось бы, например, в суде.
Неделю спустя мы с мистером Брауном ужинали в одном довольно известном ресторане.
— Голуби, — задумчиво произнес мистер Браун. — Больше всего они мне нравятся, когда под их перышками спрятаны маленькие пакетики с алмазами.
— И мне, — подхватил я, улыбаясь своим воспоминаниям.
Я наполнил бокал.
— За голубей! — сказал я.
— За голубей! — сказал мистер Браун, поднимая бокал.
И мы выпили.
БРИЛЛИАНТЫ ЛЕДИ
Из цикла «Приключения капитана Голта»
Пароход «Лондон Сити»
4 марта
У женщин есть отличный способ уговорить меня помочь им провезти украшения через таможню.
Пару раз я соглашался и даже не всегда имел возможность об этом пожалеть. Видите ли, есть гораздо более честные женщины, чем можно подумать, зная, что они из себя представляют.
Мое основное правило — говорить «нет» на подобные просьбы; смешивать дела с удовольствием — плохая стратегия. И я становлюсь бесполезен для женщины, когда дело доходит до обмена секретами. Женщина — такое противоречивое существо, когда речь идет о принципе честной игры.
То, что она не способна хранить тайну, — сущий вздор! Еще как может! Она будет хранить тайну, пока дьявол не поседеет, умоляя ее поделиться с ним, — но только если это ее устраивает. В этом и вся проблема! Никогда не знаешь, когда ей взбредет в голову, что молчать уже невыгодно. Если женщина вообразит, что болтовня принесет ей больше бонусов, чем молчание, она тут же положит ему конец и тайна выплывет наружу — без разницы, в какие неприятности ты можешь попасть в итоге.
Во всяком случае, я не могу не заводить друзей во время плавания. Так появилась миссис Эрнли, молодая вдова, американка с кучей долларов, которая была дружелюбна со мной с самого отплытия.
Я положил на нее глаз, едва она поднялась на борт, и дал слово старшему стюарду, что эта женщина будет обедать за моим столом. Небольшое вознаграждение, которое возместит мне и длинные часы плавания, и низкую зарплату, и большую ответственность капитанской службы!
Мы прекрасно поладили, и я заботился о ней, как только мог — ведь сделать это было больше некому.
Сегодня миссис Эрнли была рядом со мной на нижнем мостике — помогала «стоять на часах», как она это называла (хотя какие уж тут часы, когда на меня так смотрят!), и болтала о всякой ерунде — с неимоверной американскостью и с таким простодушием, которое должно казаться неприличным, но не казалось.
— Я накупила уйму вещей в Лондоне и Париже, — пожаловалась она, — и боюсь теперь, капитан Го, что нью-йоркская таможня спустит на меня всех собак.
— Боюсь, да, — ответил я.
Я и правда боялся: именно так обычно и начинались разговоры с просьбами помочь спрятать вещи где-нибудь на корабле, чтобы провести их мимо таможни.
— О этот непреодолимый, ужасный налог! — сказала она. — Жаль, что мы, женщины, не можем голосовать, иначе мы бы изменили это. Думаю, вы вряд ли считаете женщин способными голосовать, капитан. Но мы куда круче в этом смысле, чем половина мужчин!
— Я не против права голоса, — отозвался я, — но только на условиях, которые будут справедливыми и для мужчин.
— Что хорошо для одного, то хорошо и для другого! — сказала миссис Эрнли.
— Не совсем так, — ответил я. — Избирательное право — это современная версия физической силы. У женщин по их природе ее меньше, чем у мужчин, и потому есть какой-то наигрыш в том, когда женщина голосует с мужчиной на равных — ведь тогда получается, что она физически равна ему.[144]
— Сила — это не право! — тепло возразила она. — У умной женщины больше винтиков в голове, чем у чернорабочего. Но ведь он может голосовать!
— Точно! — сказал я, улыбаясь ее милому женскому способу опровергнуть мои аргументы. — Рабочие могут голосовать, а вы нет, потому что право голоса — современный эквивалент физической силы. Сейчас, если мужчина чего-нибудь хочет, он голосует за это, вместо того чтобы за это сражаться, как в старые времена. Тогда он боролся за свои решения, и будет бороться сейчас, если окажется в меньшинстве среди тех, кто физически — карлики рядом с ним.[145] Голос — сила, так же, как и право. С моральной точки зрения это то же самое, как если бы каждая корова в поле имела право голоса. Интересно, как бы они голосовали по поводу сливочного масла или о разделке телячьих туш?
— Мне ни капельки не интересно, как бы голосовали коровы, — сказала миссис Эрнли. — Но я заявляю вам, капитан: когда мы, женщины, получим право голоса, то уничтожим этот мерзкий налог на женские украшения и прочие милые мелочи, сотрем его с доски! Если все будет продолжаться так же, только самые богатые женщины смогут одеваться!
— Я не рассматривал это с такой точки зрения, — ответил я. — Какой ужас! Тем не менее всегда есть более дешевая одежда — хлопок с узором тоже может хорошо выглядеть. Видите ли, нет никакой необходимости приводить этот созданный мужчинами налог к столь отвратительному концу.
— Капитан, — внезапно прервала она меня, — вы можете кое-что сделать для меня?
Я знал, что больше не могу откладывать неизбежное. Она собралась просить меня рискнуть свободой и моим делом ради ее кошелька. И, если быть честным, что я мог сделать?
— Да, — с некоторой долей безнадежности отозвался я и уточнил: — Это колье или диадема?
— Взгляните, — сказала она и открыла сумочку.
— Сколько вы за него заплатили? — спросил я. — Вам надо бы запереть его в сейф. Ради всего святого, не говорите никому на борту, что у вас с собой такая вещь! Капитанские обязанности и без того тяжелы, не добавляйте к ним еще и это! Закройте сумочку, пожалуйста, и отнесите ее в сейф. Так будет гораздо безопаснее.
— Оно стоило почти миллион долларов, — ответила она, глядя на меня. — И мне кажется, что я буду должна заплатить еще столько же. Я хочу провезти его контрабандой. Не хочу ни цента платить из этого ужасного, мерзкого налога.
— Миссис Эрнли, — сказал я, — вы, очевидно, недостаточно хорошо знаете таможенников США. Позвольте сообщить вам, сударыня, что они довольно умны и, скорее всего, уже знают не только то, что вы купили ожерелье, но и то, сколько вы за него заплатили.
— Нет, — ответила миссис Эрнли, — они наверняка ничегошеньки об этом не знают, капитан. Я уже решила, что не стану платить налог. Представляете, целых шестьсот тысяч долларов за одно это ожерелье! Сущий грабеж! И потому я втайне договорилась со своим другом, мсье Жерво, ювелиром, и мы встретились у него дома, и я купила эту прелесть там же, за наличные. Вы видите, они не могут об этом знать!
— Моя дорогая миссис Эрнли, — возразил я, — когда речь идет о чем-то, что может касаться таможни США, не стоит быть ни в чем уверенной — разве только в том, что она все время работает. Американцы — они такие, если вы не знали. Если у них есть какой-то план, они следуют ему со всем тщанием, а если они исполняют гражданский долг, то делают это так же тщательно и при этом сорока разными способами. Так уж они устроены. Стараются нарастить свою продуктивность на фунт живого веса, получается это у них или нет. Держу пари, когда таможенники поднимутся к нам на борт, то будут знать и то, что ожерелье у вас, и имя того человека, у которого вы купили его. Так что они наверняка сделают попытку заставить вас заплатить за него!
Миссис Эрнли упрямо покачала головой. У нее была чертовски хорошенькая маленькая головка, и мне было все равно, качает ли она ею или кивает. В обоих случаях это выглядело премило.
— Уверена, что они не знают! — заявила она. — Я была крайне, чрезвычайно осторожна! Я и сейчас осторожна, капитан, и готова поставить свой последний доллар, что они и не помышляют о том, будто я что-то купила. Ни их секретные агенты, ни кто-либо еще! О, я знаю о них гораздо больше, чем вы предполагаете, капитан Го! Я слышала рассказы моих родичей, их приглашали в Казначейство… и я знаю, что придется столкнуться с трудностями, но думаю, что все будет в порядке, если вы поможете мне. Я все продумала заранее, умнее плана не бывает! Да, у меня все просчитано. Вы поможете мне, капитан? О, я не имею в виду, что вам надо рисковать бесплатно. Я так не поступлю! Заплачу вам долю, если вы мне поможете… Долю из того, что я бы заплатила за него, так подойдет?
— Хорошо, — ответил я, минутку подумав. — Я помогу, но не люблю смешивать дела и дружбу. Я не настроен брать с вас долю.
— Только один способ договориться с вами, капитан Го, — сказала мне миссис Эрнли. — Как насчет пяти или десяти процентов, вам подходит?
— О, — сказал я, едва заметно улыбаясь такому ее легкомыслию, — два с половиной процента, на самом деле, будет вполне достаточно.
— Тогда договорились, — ответила она. — Ух ты! Вот мой план. Когда я заказывала ожерелье, то поставила условие: они должны сделать мне еще одно — точную копию этого, из давленого стекла… Ну, вы знаете, эта новинка — выглядит совсем как настоящие камни!
— Прессованного стекла, вы хотели сказать? — предположил я.
Миссис Эрнли кивнула.
— Да, именно, — согласилась она. — В любом случае, они оба у меня в сумочке, и я не могу отличить настоящее — и не смогла бы, мне пришлось обвязать настоящее шелком. А теперь о плане: вам нужно будет взять и спрятать настоящее — о, я знаю, как чудесно вы умеете обводить вокруг пальца таможенников! — а я оставлю у себя фальшивое. И потом, если они учуют что-нибудь по поводу того, что я купила ожерелье и обыщут меня, то найдут подделку и посчитают, что их дезинформировали. А вы мне вернете настоящее после того, как меня обыщут — как можно скорее, и я выпишу вам чек на пять процентов.
— На два с половиной, — поправил ее я.
— Отведите меня туда, где я смогу отдать вам его, — продолжила она, не слушая моих возражений, и я повел ее в штурманскую. Там она вытащила из сумочки оба ожерелья. Они оба замечательно выглядели, и хотя после осмотра я смог бы отличить одно от другого, они бы легко обманули многих людей, убежденных, что могут узнать бриллианты «на глаз». Но, конечно, изучая их по отдельности, мне бы пришлось потрудиться, чтобы сказать, где какое, — если не проверять специально.
— Что ж, хорошо, — сказал я. — Спрячу его для вас в надежном месте.
И после этого миссис Эрнли протянула мне настоящее ожерелье, отлично сделанную цепочку огоньков — великолепная была вещь. И я спрятал его, но отказался сказать ей где.
6 марта, вечер
Когда речь заходит об украшениях, женщины становятся очень похожи на маленьких девочек, а мужчины — на мальчиков. Миссис Эрнли все-таки удается уломать меня разрешить ей по крайней мере дважды в день немного поиграть с ее великолепным ожерельем. И пока она играет им, сидя на диванчике в штурманской, я сижу и смотрю на нее. Удивительно хорошенькая женщина!
— Почему вы так смотрите на меня, капитан Го? — спросила она сегодня днем, бросая на меня взгляд с крупинкой чистого озорства.
— Думаю, дорогая леди, вы и сами прекрасно понимаете почему, — ответил я, слегка улыбаясь ее притворству. — Вы прекрасно выглядите, да и в целом вы достойный изучения предмет для мужчины с моим характером. Любопытно, какую следующую черту вы мне покажете — слабость или силу? Честно говоря, я подозреваю первое.
— Не совершайте ошибок, капитан, во мне ни капли слабости! — заявила миссис Эрнли в своей эксцентричной манере. — Уверена, вы не найдете и следов ее!
— Доказательства, милая леди, должны выдвигаться на судебной тяжбе — Разум против Опыта! И сейчас мой опыт знакомства с вами подсказывает: вы достаточно средний человек, неплохая смесь силы со слабостью. До сегодняшнего дня вы демонстрировали мне свою сильную сторону. И сейчас Разум, выступая против Опыта, приказывает ожидать, что вы покажете обратную сторону медали.
— Капитан Го! — сказала она. — Вы слишком глубоко копаете. Будьте благоразумны, полюбуйтесь моей неземной красотой. Видели ли вы что-нибудь подобное? Я просто обязана была купить его. Не смогла отказаться. Хотелось бы мне посмотреть на ту, которая смогла бы! Надеюсь, вы это и назовете слабостью!
— Слабость в том, что я не буду ругаться с тем, кто собирается положить мне в карман двадцать пять тысяч долларов, — ответил я.
Миссис Эрнли оцепенела от ужаса, и мне пришлось объяснить ей:
— Это моя доля, между прочим. Два с половиной процента от миллиона долларов — это двадцать пять тысяч.
— О! — сказала она довольно странным тоном. — Да, конечно. Я не подумала посчитать.
Я промолчал, но не мог не размышлять, была ли это маленькая слабость, которую миссис Эрнли показала мне. Она очевидно была шокирована тем, что я просто разъяснил ей размер моей комиссии — хотя, видят боги, это до смешного дешево по сравнению с тем, что собирались содрать с нее таможенники. Но вы никогда не сможете предсказать, с какой стороны на это взглянет женщина.
Женщины — это удивительная смесь большой расточительности и мелкой экономии. В оставшееся время, которое миссис Эрнли провела в штурманской, она была очень тихой, и я немного подшутил над ее внезапно возникшим здравым смыслом.
— Дражайшая леди! — сказал я. — Если размер моего гонорара расстраивает вашу милость, почему бы не околпачить нашего общего врага всего лишь за удовольствие от игры и приятной дружбы?
Она так горячо запротестовала, как будто и не думала о чем-либо таком, и так рьяно зарделась, что у меня не осталось сомнений, что я попал в яблочко. Тем не менее она ясно дала понять, что ее слово крепче всяких векселей, будь они даже подписаны, скреплены печатью и банковскими гарантиями. И все это время она теребила великолепную, стоящую миллион цепь бриллиантовых огоньков.
Потом она отдала ожерелье обратно и ушла переодеваться к ужину. И какова же природа женщин?! Миссис Эрнли подменила ожерелья! Она оставила мне подделку, я выяснил это через минуту, проверив его. И не случайно, это легко можно было доказать — она перевязала шелковую ленту с настоящего ожерелья на поддельное. Поистине — нужно порядочно извернуться, чтобы успеть за женщиной! Но есть еще кое-какие способы для мужчины понять истинный мотив женщины, если не считать денег. Например, вызван ли ее поступок безумным великодушием или даже более безумной подлостью. И понять, чем же вызван поступок миссис Эрнли, было совсем нетрудно. Тот факт, что она дала обещание заплатить двадцать пять тысяч сверх миллиона, ужаснул миссис Эрнли, и она подсунула мне фальшивку пытаясь самостоятельно провезти настоящее, — чтобы не платить мне комиссию. Ей не хватило мужества самой честно признаться мне в этом, но, думаю, как только она успешно пройдет таможню, то напишет мне вежливую записку что решила не втравливать меня в это и провезти ожерелье сама. Думаю, миссис Эрнли оставит мне стекляшку на память, и, будучи настоящей женщиной, даже не сочтет это чем-то неприличным. Она будет думать, что я с радостью оставлю подделку себе в память о ней! Неудивительно: то же самое чувствует обычный, прямолинейный и рассудительный мужчина, когда выходит в море. Оно, как и женщины, подчиняется импульсам, тогда как он ожидает от него способности к разумным действиям, которые, в целом, полностью отсутствуют.
И мне теперь стало интересно проследить за ее дальнейшими маневрами!
9 марта
— Последние пару дней вы не просили меня показать вам ожерелье, — сказал я миссис Эрнли этим утром, когда пригласил ее на нижний мостик. — И вас утомила компания старого морского волка. Признайтесь, что это так!
— Я просто не разрешаю себе, — ответила она. — Показываю, что могу быть сильнее, чем вы считаете.
— Все женщины лгуньи, — торжественно пробормотал я себе под нос. — Думаю, они не могут ничего с этим поделать, так же, как и мужчины не могут не пытаться блеснуть умом за чужой счет.
Но вслух я ничего не сказал, и несколько минут мы прогуливались по мостику, не говоря ни слова.
— Быть сильным — это не означает, что вы будете сильно стараться не делать чего-то, от чего вам не сильно трудно отказаться, — в конце концов сказал я.
— Звучит сложно, — ответила миссис Эрнли. — Попробуйте что-нибудь поинтереснее, капитан Го, или я не смогу понять, что вы хотите мне сказать.
— Я имею в виду, — сказал я, — что, скажем, если я буду заставлять себя не лгать только для того, чтобы доказать, каким морально сильным я могу быть, то ничего не докажу; просто потому, что вранье — это не мой смертный грех. Конечно, если мне придется соврать, то я это сделаю в полной мере, но у меня нет тех особенных наклонностей, что были свойственны Анании.[146] Из двух способов доставить себе трудности я наверняка не выберу ложь. Понятно?
— Разумеется, — сказала она, — но не понимаю, как это связано с тем, что я не даю себе посмотреть на то, что дорого мне, — на мое ожерелье и на вас, конечно. Мне ужасно хочется увидеть и его, и вас. О, не обольщайтесь! Но я сдерживаюсь. Разве то, что я запрещаю себе делать то, что мне больше всего хочется, — это не признак силы?
— Милая леди, — отозвался я. — Бог создал Адама, а потом они оба сообща создали Еву — и именно поэтому результат вышел таким неопределенным.
— Что вы хотите этим сказать? — спросила миссис Эрнли.
— Не нужно было привлекать к этому Адама, — сообщил я ей. — Человек — это, конечно, высококлассный инструмент. Но, думаю, в этом случае он оказался всего лишь любителем и упустил из виду, что нужно установить стабилизатор.
— Как грубо! — выкрикнула она.
— С правдой всегда так, — сказал я. — Я не из тех, кто будет отводить глаза, когда смотрит на чужие грехи. Чувствую себя братом по крови со старым сэром Альмотом. Думаю, он свое имя заслужил. Меткий стрелок.
— О чем вы вообще? О словах или о смысле? — спросила миссис Эрнли, искренне недоумевая.
— И о том и о другом, — ответил я. — Если бы этот аматор-недоучка Адам добавил стабилизатор! Немного логики — и вы могли бы самостоятельно разобраться в этом. Давайте поспорим? И ставкой будет та сумма, которую вы должны будете заплатить мне за провоз ожерелья мимо таможни, — двадцать пять тысяч долларов.
— Что… что вы имеете в виду? — спросила она, слегка заикаясь, и ее лицо заметно побледнело. — На что вы хотите спорить?
Миссис Эрнли уставилась прямо мне в глаза — очень пристально и со все нарастающим вниманием.
— Что вам не удастся самой провести таможенников и спрятать ожерелье, — медленно произнес я, уверенно глядя на нее. — Я не прошу платить мне комиссию, я оба раза отказывался, когда вы предлагали мне это; но если бы я согласился сделать это за полные пять процентов, то для вас эта сделка стала бы весьма успешным капиталовложением.
Она побелела как бумага и вынуждена была схватиться за перила мостика, чтобы удержаться на ногах, но мне было ни капельки не жаль ее; если бы я мог сокрушить в ней подлость Молотом стыда, я бы не колеблясь сделал это!
— Почему у вас не хватило душевных сил сказать мне правду, когда ситуация могла разрешиться в вашу пользу — сколько там составляют два с половиной процента от миллиона? — сказал я. — Почему вы просто не сказали мне, что не можете себе позволить заплатить так много? Я бы освободил вас от обещания в тот же миг! Более того, я бы зауважал вас за то, что у вас хватило смелости сказать мне правду, хотя мне и было очень жаль, что я открыл в вас такую черту, как подлость; ведь вы очень богаты и могли бы заплатить мне вдвое больше того, что я запросил. И я не требовал, повторяю, чтобы вы платили мне комиссию! Я бы сделал это бесплатно — просто ради нашей дружбы, но раз уж вы превратили это в сделку, то я и стал относиться к этому, как к сделке! Вы предложили мне сохранить для вашего кошелька шестьсот тысяч долларов с риском потерять и свободу, и должность капитана на этом корабле — и я согласился принять за это от вас двадцать пять тысяч долларов!
А сейчас вы продемонстрировали не только подлость, но в тысячу раз хуже; вы лгали мне — ложь после лжи, — и с каждым лживым словом вы делали мне больно, ведь вы не просто очернили себя в моих глазах, но и очернили весь ваш пол; мужчины судят о женщинах именно по тем представительницам, которых они знают! Честно скажу вам, миссис Эрнли, жаль, что ваше ожерелье не будет лежать на дне морском, прежде чем вы сделаете еще что-нибудь, что еще больше уронит в моих глазах то, что вы из себя представляете!
— Прекратите! Хватит! — довольно хрипло выговорила миссис Эрнли. Пока я выдавал свое обвинительное заключение, она пару раз покраснела, но теперь стояла передо мной бледная, едва заметно дрожа. — Помогите мне спуститься.
И я помог ей спуститься по лестнице на палубу.
— Теперь оставьте меня, — почти прошептала она. — Я справлюсь. Но без вас! Я поступила неправильно. Но вынести вас рядом я не могу. Вы… как вы пристыдили меня!
Я смотрел ей вслед — она прошла по палубе и спустилась по одной из лестниц, — а потом поднялся на мостик. Я не жалел о том, что сделал. Меня до ужаса пугает, что каждая женщина, с которой я знакомлюсь, может оказаться подлой, коварной, или лживой, или того хуже. Хорошо, если я помог исправиться хоть одной!
19 марта, вечер
Тем утром мы пришвартовались, и миссис Эрнли ни разу не подошла ко мне — разве что случайно. И ровно тогда же произошла ситуация с таможней.
Сначала я не знал, стоит ли говорить что-нибудь об ожерелье, но в конце концов решил показать его и сказать, что его оставила на мое попечение миссис Эрнли, пассажирка первого класса. Возможно, таможенники не станут зверски обыскивать ее, если сочтут, что именно это ожерелье она купила за миллион — и что ее обманули, всучив кучку стеклянных побрякушек вместо бриллиантов. И, видят боги, я был рад оказать этой малышке хоть какую-то добрую услугу.
Когда начальник группы таможенников пришел в штурманскую рубку, то задал мне наводящий вопрос, по которому стало абсолютно ясно: они в курсе всех покупок миссис Эрнли.
— Капитан, — сказал он, — от одного нашего человека на борту я знаю, что вы и миссис Эрнли стали за время плавания добрыми друзьями; прошу вас, будьте ей настоящим другом — уговорите ее поступить мудро и показать нам ожерелье! Мы хорошо наслышаны о нем, капитан, поэтому, ради всего святого, не стоит ни самому пытаться обмануть нас, ни поощрять к этому миссис Эрнли. В смысле, что у вас будут серьезные неприятности, если вы попытаетесь. Мы знаем, что ожерелье на борту судна, и мы настроены отыскать его. Миссис Эрнли должна заплатить за него шестьсот тысяч долларов, и она заплатит их. Но она клянется, что у нее нет ожерелья, и женщины-следователи пока что не смогли обнаружить его. И, капитан, не будете ли вы так любезны надоумить ее, что мимо нас ей не удастся ничего провезти; а если она согласится, мы, так и быть, не будем слишком строги к тому, что она не сразу заполнила декларацию?
— Мистер, — ответил я, — может быть, именно это вы ищете?
Я подошел и достал из ящика поддельное ожерелье.
— Она попросила позаботиться о нем для нее.
Начальник с облегчением вскрикнул и схватил украшение. Он подбежал к северному иллюминатору и поднес ожерелье к свету, а потом вытащил из кармана вправленный в конец небольшого стального стержня великолепный бриллиант и начал сравнивать «камни» из ожерелья с ним.
Внезапно начальник издал неопределенный возглас и достал из другого кармана окуляр. Он вставил его в глазницу а на другом конце стержня с бриллиантом оказался пробник. Начальник осторожно потер им один из «камней», а потом с криком отвращения обернулся и швырнул ожерелье на мой штурманский стол.
— Поосторожнее с этим, парень! — сказал я. — Кто-нибудь может решить, что вы пресыщенный сукин сын, разбрасывающийся деньгами направо и налево!
— Осторожнее! — ответил он. — Мать честная, капитан, бросьте! Не знаю, может, миссис Эрнли и на вас шоры натянула. О, она бы могла, хотя я сомневаюсь. Но эта штука стоит ровно столько же, сколько та платина, в которую она оправлена, не больше. А само ожерелье — из тех самых прессованных стекляшек. Хотя лично я еще ни разу не видел настолько хорошей подделки. А сейчас, капитан, нам нужно найти настоящее, и не наживайте себе врага! Помогите, и мы сделаем все в лучшем виде, но если будете мешать, мы вас в порошок сотрем, а леди сядет в тюрьму. На прошлой неделе судья заявил: этих богачек стоит поучить, что у них не выйдет, как многие из них уверены, побаловаться с законами США и потом выйти сухими из воды!
— Сделаю все возможное, — сказал я, — чтобы все было правильно. Дама однозначно поручила мне это ожерелье, думая, что оно настоящее.
Я подобрал его и понес к своему ящику, и в этот момент в дверь рубки постучали, и заглянул таможенник.
— Мы нашли его, сэр! — восторженно воскликнул он. — Мисс Синкс нашла его в вентиляции в каюте леди. Зайдете, сэр? Она устроила там скандал. Может, капитану тоже лучше подойти? Некоторые пассажиры, похоже, тоже пытаются доставить нам неприятности.
Начальник уже почти вышел из каюты, но обернулся и сделал знак следовать за ним.
Когда мы спустились в главную кают-компанию, из которой можно было попасть в каюту миссис Эрнли, я обнаружил, что там, похоже, начался настоящий бунт!
Ее каюту окружила толпа пассажиров первого класса. Дверь была открыта, и поверх голов пассажиров я разглядел миссис Эрнли и молодую, аккуратно одетую женщину. Миссис Эрнли была одета так, будто собирается сойти на берег. Она стояла посредине каюты и, кажется, отчаянно прижимала что-то к груди, а вторая женщина безуспешно пыталась это что-то у нее отнять.
В эту минуту в каюту зашел еще один таможенный офицер и стал помогать женщине отбирать у миссис Эрнли то, что она так отчаянно пыталась защитить. Миссис Эрнли вскрикнула, и ответом ей стало угрожающее ворчание пассажиров, которые стояли около каюты.
— Как этот мужчина обращается с леди! — услышал я возмущенный голос среди чужого бормотания.
Я быстро подошел и схватил следователя за локоть.
— Ради бога, отзовите своего человека, пусть он прекратит заламывать леди руки! — сказал я. — Иначе у вас появится много ненужных проблем!
— Сренсен! — выкрикнул следователю начальник. — Выйдите оттуда!
После этого окрика пассажиры, стоявшие полукругом у каюты, оглянулись, и я принял огонь на себя.
— Ну, леди и джентльмены, — сказал я, — это касается миссис Эрнли и таможни Соединенных Штатов. Я убежден, что вы не желаете смущать ее больше необходимого, поэтому позвольте им самим уладить дело. Вы можете не сомневаться: пока эта леди на борту моего судна, я прослежу, чтобы с ней обращались учтиво.
— Так держать, капитан! — выкрикнул один из пассажиров. — Если так нужно для дела, пусть уж оно будет выполнено надлежащим образом, скажу я вам!
— Можете быть уверены: и главный офицер, и я будем максимально внимательны к леди, — ответил я. — Он обязан исполнить свой долг, но вряд ли хочет сделать его более неприятным, чем необходимо. А сейчас, будьте так любезны, отойдите от двери. Не нужно здесь толпиться.
Когда пассажиры поняли, что их глубокое желание справедливого и учтивого обращения с женщиной, попавшей в беду, будет удовлетворено, то растаяли, как снег на солнце, и я наконец спокойно прошел в дверь и тронул женщину-следователя за плечо.
— Разрешите мне, на минутку, — сказал я. — Может, я смогу уговорить миссис Эрнли послушать меня, чтобы не продолжать эту болезненную ситуацию.
Следователь взглянула через плечо на своего начальника, а тот, видимо, кивнул, соглашаясь с моим предложением, и она моментально разжала руки.
— Миссис Эрнли! — проговорил я. — Миссис Эрнли! Послушайте меня. Вы должны отдать ожерелье. Вы должны заплатить пошлину. Но главный следователь заверил меня: если вы согласитесь помочь им сейчас, то против вас не выдвинут никаких обвинений. — Я посмотрел через плечо на начальника.
— Прав ли я, давая даме такое обещание? — спросил я негромко. — Можете вы подтвердить его?
Он кивнул. Было заметно, что ему по-настоящему жаль миссис Эрнли, но и долг должен быть исполнен — и он состоял в том, чтобы дядюшка Сэм в полной мере получал свой фунт мяса на ужин.
— А сейчас, миссис Эрнли, отдайте мне ожерелье, и давайте закончим эту болезненную сцену. Все это очень неприятно. Нам всем вас очень жаль, но вы должны знать: за роскошь нужно платить, и таможня никому не сделает поблажки. Давайте.
И тогда, очень нежно я разжал ей пальцы и вынул крепко свернутую сияющую нить камней. Потом миссис Эрнли ни разу на меня не взглянула — только на камни, когда я передавал их главному следователю. Ее с ног до головы била дрожь, и мне пришлось подать знак женщине-следователю, чтобы та поддержала миссис Эрнли: я боялся, что она может упасть в обморок.
Главный следователь не отказал себе в удовольствии пару раз качнуть ожерелье, рассыпая по каюте отблески, как будто и его они заворожили. Потом он обернулся и выглянул из каюты.
— Джим, — позвал он, — ноги в руки, и сходи за мистером Малчем.
— Государственный оценщик, — объяснил начальник, обернувшись ко мне. — Он работает с нами, теперь уж точно не будет никаких ошибок!
Через пару минут Джим вернулся с мистером Малчем — длинным, тощим парнем, настоящей занозой в заднице.
— Дай его сюда, Соутер, — сказал он. — Скоро я раскрою вам глаза на то, хорош ли этот товар!
Он подошел ближе к иллюминатору и положил ожерелье на койку — собственную койку миссис Эрнли. Тогда он вытащил из кармана футляр и склонился над ожерельем.
Я стоял рядом с миссис Эрнли и негромко говорил с ней, пытаясь разрядить обстановку. Женщина-следователь (которая, видимо, и была той самой мисс Синкс, что нашла ожерелье) стояла у миссис Эрнли за спиной, готовая поддержать ее, если будет надо. Нужно сказать, что в общем и целом таможенники были очень внимательны к ней. Неожиданно оценщик разразился презрительным хохотом.
— Ради всего святого, Соутер, ты что, не отличишь настоящий камень от стекляшки? — спросил он, обернувшись. Он поднял ожерелье и показал его нам. — Здесь ни одного бриллианта! — продолжал он. — Это подделка из прессованного стекла. Если леди заплатила за него как за настоящее, то ее надули, как воздушный шарик на детском празднике!
Миссис Эрнли пронзительно вскрикнула.
— Оно настоящее! Настоящее!!! Я знаю, что оно настоящее! Оно стоило миллион долларов! — Она подскочила к оценщику и грубо вырвала ожерелье у того из рук.
— Настоящее стекло, мадам! — жестоко сообщил он. — Думаю, такую ерунду вы можете ввезти без всякой пошлины. Возражать не будем! С оправой все в порядке, настоящая платина. Но мы, кажется, и не занимаемся оправами!
Миссис Эрнли разжала пальцы, и ожерелье с легким звоном упало на пол. И мисс Синкс вовремя подхватила ее саму, когда та потеряла сознание, а потом подобрала обесценившееся ожерелье и швырнула его на стол.
— Бедняжка! — сказал главный следователь. — Ее словно молнией поразили все эти моментально навалившиеся неприятности. Думаю, ей стоит заявить в полицию на этого парижского ювелира! Это если они возьмутся за это дело, что вряд ли, учитывая, как ловко и чисто он заполучил этот миллион.
Вдруг ему в голову пришла идея: я увидел, как в его глазах вспыхнуло подозрение.
— Я хотел бы еще раз взглянуть, капитан Го, на то ожерелье, которое поручила вам эта леди! — сказал он с металлической ноткой в голосе. — Может быть, я в чем-нибудь ошибся. У нас есть мистер Малч, он разберется, что к чему.
— Конечно, — ответил я. — Пройдемте в штурманскую. Он подал знак оценищику, и мы все отправились в штурманскую рубку. Я подошел к шкафчику и вытащил оттуда первое ожерелье. Не говоря ни слова, я отдал его оценщику. Если честно, я порядочно устал от всего этого.
— Та же прессованная ерунда! — презрительно пожал плечами мистер Малч, проведя проверку. — Думаю, тот парень из Парижа солидно поднял деньгу на этой поездочке. Пошли, Соутер. Просим прощения, кэп, что побеспокоили, но, думаю, это в порядке вещей.
— Именно, — отозвался я настолько холодно, насколько мог.
Когда они ушли, я спустился, чтобы посмотреть, как дела у миссис Эрнли. Она уже пришла в себя и помогала служанке собирать вещи, когда я позвал ее. Миссис Эрнли подняла голову и посмотрела на меня: какой бледной она была, какими красными были ее глаза!
— Пожалуйста, уходите, капитан Го, — попросила она. — Спасибо вам за все, что вы сделали. Я хочу просто уйти и никого не видеть. Я всего лишь глупая, слабая женщина. Прошу вас, уходите.
И, конечно, я ее послушал.
Но тем вечером, закончив с делами, я оделся и вызвал к кораблю такси. Я собирался навестить миссис Эрнли в ее большом особняке на Мэдисон-сквер. В смысле, я хотел извиниться и отдать ей фальшивое ожерелье — любопытно, откажется ли она меня видеть и на этот раз? Тем не менее, когда я отправил ей со слугой карточку, ее приняли и я вошел, задаваясь вопросом, где и как я буду ее искать. Нашел я миссис Эрнли в довольно милом и уютном будуаре, где она сидела, вяло и безрадостно теребя второе ожерелье. Но едва я вошел, она бросила его на кресло и подошла ко мне.
— Миллион долларов — это слишком много для неприятностей, — сказал я, когда миссис Эрнли снова села. — Даже для такой богатой женщины, как вы.
— Да, — ответила она негромко. — Но не это меня беспокоит больше всего, я слегка оправилась от потери. Хуже то, что я вела себя, как последняя дрянь, не так ли, капитан Го? Кажется, мне никогда еще не было так стыдно, как сейчас.
Я кивнул.
— Рад это слышать. Кажется, вы заработали больше, чем потеряли, если чувствуете именно это.
— Может быть и так, — отозвалась она, и в голосе ее слышалось сомнение. Она тут же потянулась за ожерельем, которое теребила до этого. — Полиция телеграфировала мне, и, кажется, они сделают все, чтобы схватить этого мошенника, мсье Жерво, который продал мне этот мусор, хотя неудивительно, что я попалась на эту удочку. Ведь даже оценщик таможни не смог с первого раза определить, что оно не настоящее, не правда ли?
Я снова кивнул.
— Миссис Эрнли, — сказал я, — вы достойно проявили себя в этих перипетиях — во многом отношении, — и, думаю, приняли многое к сведению, так?
— Да, — медленно произнесла она. — Не думаю, что мне стоит забыть все то, что я пережила в этот день… и все путешествие, если уж на то пошло. Мне кажется, капитан, что вы попросту презираете меня. Я сама доказала, что слаба. Вы говорили, что так и получится.
Миссис Эрнли вытерла глаза платочком.
— Думаю, богатство делает людей духовно слабыми, — пробормотала она.
— Я думаю, жизнь — это либо рост, либо упадок, — сказал я ей. — Но провозить алмазы контрабандой — не обязательно второе. В основном это такая игра, заключающаяся в том, чтобы поумнее использовать обстоятельства. Но это точно мужское дело. Женщины чаще всего склонны гадать: орел значит выигрыш, решка — проигрыш. Уклоняются от обстоятельств. А уж уклоняться от обстоятельств — самый настоящий упадок.
Миссис Эрнли кивнула.
— Думаю, вы правы, капитан Го, — тихо ответила она. — Женщины до ужаса склонны думать, что могут и рыбку съесть, и в воду не залезть. А это, мне кажется, абсолютно невозможно!
Я стоял и улыбался — как же мне нравился ее милый, искренний способ соединять слова!
— В этом случае, милая леди, — сказал я, — «абсолютно невозможное» произошло, или что-то в этом роде. Я сейчас исчезну, но вы бы наверняка хотели знать, что как раз то ожерелье, которое вы держите в руках, и стоит более миллиона долларов наличными, поэтому лучше бы спрятать его в сейф, прежде чем лечь спать.
Пока я говорил, миссис Эрнли встала, держа в правой руке ожерелье, и теперь переводила взгляд с него на меня и обратно, будто ее до крайности изумило то, что я ей сказал.
— Что?! — спросила она таким низким и глубоким, почти мужским, голосом, словно нервное потрясение наполовину парализовало ее и расслабило голосовые связки. — Что?!
— Прошу вас, сядьте, — попросил я и осторожно усадил ее обратно в кресло. — Теперь вы в порядке? Точно?
Миссис Эрнли молча кивнула, глядя на меня.
— Тогда слушайте меня, — сказал я. — Это ваше ожерелье за миллион долларов. Настоящее, которое вы купили в Париже. Оно подлинное, все в порядке. Я сберег его для вас. Да, и сейчас расскажу, как.
Когда ко мне в штурманскую пришел таможенник, я дал ему посмотреть на поддельное ожерелье, он проверил его и выяснил, что это фальшивка. Потом один из его подчиненных пришел и сказал, что они нашли настоящее ожерелье в вашей каюте, в вентиляции. Я сделал вид, что кладу ожерелье в один из шкафчиков, но на самом деле плотно свернул его и сжал в кулаке.
Я спустился за следователем к вам в каюту и уговорил отдать настоящее ожерелье, которое вы держали в руках, — после того, как, вероятно, отобрали его у женщины-следователя.
Тогда я передал таможеннику фальшивое ожерелье, которое было припрятано у меня в руке, а настоящее спрятал. И они, конечно же, снова выяснили, что поддельное ожерелье — фальшивка! Вполне очевидный вывод, если задуматься. После, как вы помните, вы вырвали его из рук оценщика, а когда он сказал вам, что это стекло, упали в обморок и уронили ожерелье. Я помог устроить вас на кушетке, а потом снова поднял фальшивое ожерелье, свернул и бросил его на стол. Но на самом деле я бросил на стол настоящее, а фальшивое держал в руке!
Разве моя выдержка не стоит аплодисментов? Спокойно швырять на стол прямо перед толпой экспертов ожерелье, которое стоит миллион, как будто это дешевенькая как-у-меня-ее-много бижутерия? Разве это не гениальный блеф, дорогая моя леди?
— Конечно, конечно, конечно! — выдохнула она, ее глаза блестели. — А потом?
— Потом я думал, что шалость наконец удалась, но таможеннику пришла внезапная идея, что надо бы посмотреть еще раз на то ожерелье, что лежало в штурманской. Что ж, я повел его в штурманскую, прихватив оценщика, подошел к шкафчику, сунул в него руку, в которой было спрятано фальшивое ожерелье, а потом вроде как вытащил его оттуда и отдал проверять третий раз — получилось что-то вроде импровизации. Что-то много внимания они уделили этой кучке прессованных блестяшек! Кстати, я привез его вам.
Я вытащил ожерелье из кармана и положил на стол.
Миссис Эрнли встала и подошла к небольшому письменному столу. Через мгновение я заметил, что она выписывает чек: вероятно, это была моя доля.
Я подошел к ней и накрыл чековую книжку ладонью.
— Милая леди, — сказал я ей, — не нужно никакой оплаты за то, что я сделал. Наша деловая договоренность кончилась тогда, когда вы подменили ожерелья… Но чисто из любопытства — какая там сумма?
— Взгляните! — сказала миссис Эрнли, и я убрал руку и посмотрел. Сто тысяч долларов.
— Очень рад! — отозвался я. — Думаю, вы преотлично заклеймили все дурное, что было в вас. Уверен, вы будете одной из немногих женщин, о которых я хорошего мнения. Но я не могу принять этот чек, милая леди. Если хотите сделать мне приятное, отдайте его матросскому ночлежному дому. Они очень нуждаются в деньгах, я знаю.
Потом я попрощался и ушел, хотя миссис Эрнли уговаривала меня остаться и показывала лучшую из возможных сторон, которые можно найти в женщине.
— Какой вы странный, капитан Го, — сказала она, когда я улыбнулся ей, стоя в дверях.
— Может быть! — ответил я. — Все люди кажутся странными, когда поглубже заглядываешь к ним в душу.
Но когда я вышел на улицу, то не мог перестать думать о том, насколько верными обычно оказываются мои представления о женщине. Ее поступки подчиняются или безумной подлости, или столь же безумной щедрости.
И я думаю, что старик Адам не зря забыл поставить стабилизатор!
Авторы и переводчики:
Вступительные статьи к разделам: Григорий Панченко
Артур Конан Дойл
Встать на четвереньки (пер. Олега Бутаева, Григория Панченко)
Случай в полку (пер. Григория Панченко)
Последний довод (пер. Алины Немировой)
Оскар Уайльд
Сфинкс без загадки (пер. Марии Великановой, Валерии Малаховой)
Бертрам Флетчер Робинсон
Пропавший миллионер (пер. Темира Коева)
Тайна нефритового копья (пер. Алины Немировой)
Марк Твен
Том Сойер — заговорщик (пер. Марины Извековой)
Гилберт Кит Честертон
Омут Езуса (пер. Валерии Малаховой)
Загадка поезда (пер. Ольги Образцовой)
Хескеч Хескеч-Причард
Убийство в Утином клубе (пер. Алины Немировой)
Эрнст Брама
Трагедия в коттедже Брукбенд (пер. Марии Таировой)
Последний подвиг Гарри-Артиста (пер. Марии Таировой)
Эдгар Джепсон и Роберт Эсташ
Чайный лист (пер. Алины Немировой)
Жак Фатрелл
Тиара миссис Розвелл (пер. Темира Коева)
Брэм Стокер
Криминальный талант (пер. Григория Панченко)
Эдгар Уоллес
Домушник (пер. Темира Коева)
Незнакомец из гольф-клуба (пер. Темира Коева)
Белые чулки (пер. Дмитрия Глухова)
Эдгар Алан По
Ты еси муж сотворивый сие! (пер. Софьи Климовицкой)
Натаниэль Готорн
Черная вуаль священника (пер. Алины Немировой)
Роберт Говард
Оскал золота (пер. Петра Дюбова)
Роберт Эсташ
Так говорил Шива (пер. Темира Коева)
Эдит Несбит
Автомобиль из ниоткуда (пер. Григория Панченко)
Амброз Бирс
Вдовец Термор (пер. Ольги Образцовой)
Мое любимое убийство (пер. Григория Панченко)
Из цикла «Возможно ли такое?»
Следы Чарлза Ашмора (пер. Михаила Герштейна)
Не добежавший до финиша (пер. Михаила Герштейна)
Редьярд Киплинг
Окопная Мадонна (пер. Григория Панченко)
Уильям Дж. Уинтл
Зов тьмы (пер. Марины Маковецкой, Григория Панченко)
Малькольм Кларк Дэй
Призрак Джозефа Харпендена (пер. Григория Панченко)
Джером К. Джером
За и перед кулисами (пер. Григория Панченко)
Роберт Барр
Великая загадка Пеграма (пер. Темира Коева)
Говард Четт
Тайна гробовой доски (пер. Софьи Климовицкой)
Саки (Гектор Хью Манро)
Корм для перепелок (пер. Марии Великановой, Валерии Малаховой)
Белый призрак (пер. Марии Великановой, Валерии Малаховой)
Путь в Каноссу (пер. Марии Великановой, Валерии Малаховой)
Бродячая редакция (пер. Марии Великановой, Валерии Малаховой)
О. Генри
Методика Шенрока Джольнса (пер. Софьи Климовицкой)
Эрнст Хорнунг
Мартовские иды (пер. Елены Чаусовой)
Подарок императора (пер. Ольги Образцовой)
Джек Лондон
Золото краеугольных камней (пер. Григория Панченко)
Грант Аллен
Случай с мексиканским ясновидцем (пер. Владимира Черного)
Случай с бриллиантовыми запонками (пер. Владимира Черного)
Саймон Брентли
Искушение Брауна Лысого (пер. Софьи Климовицкой)
Уильям Хоуп Ходжсон
Охотник за бриллиантами (пер. Марии Коваленко)
Бриллианты леди (пер. Марии Коваленко)
Примечания
1
Для современников Конан Дойла был очевиден чуть ироничный обыгрыш созвучия фамилии этого пражского ученого с именем другого знаменитого пражанина, рабби Лева Бен Бецалеля, согласно легенде, создавшего Голема. Под теми или иными обличьями Лев Бен Бецалель часто фигурирует в фантастике: от Густава Майринка до… А. и Б. Стругацких. Впрочем, современному читателю не менее интересно будет сравнить эксперименты Левенштейна — и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» М. Булгакова. Дело в том, что и Конан Дойл, и Булгаков (оба — медики по образованию) по-разному отталкивались от одних и тех же массовых публикаций, посвященных вопросам омоложения и продления жизни. В дальнейшем большая часть этих исследований, восходящих к работам профессора С. Воронова, оказалась фикцией, немногие подлинные факты получили иное научное объяснение — но в 20-е годы XX в. тема «омоложения» была одной из самых модных. А этот рассказ — один из последних, принадлежащих к циклу о Шерлоке Холмсе, он был написан в 1926–1927 гг., даже позже, чем «Собачье сердце». — Примеч. пер.
(обратно)2
Небольшая египетская деревушка, где в августе 1882 г. состоялось одно из решающих сражений Второй Англо-египетской войны (результатом которой стало превращение Египта в британский протекторат). Английские войска весь день выдерживали атаки превосходящих сил египетского главнокомандующего Араби-паши, а к вечеру перешли в контрнаступление и одержали внушительную победу. Подробнее см. в Послесловии от переводчика. — Здесь и далее примеч. составителя, если не указано иное.
(обратно)3
В британской армии — традиционный символ трусости.
(обратно)4
Фуззи — принятое в то время название для кочевых негритянских племен северо-восточного Судана (на солдатском жаргоне это значило нечто вроде «башка копной»: намек на пышные боевые прически этих кочевников). Их самоназвание — хадендоуа, ветвь народа беджа; во время махдистского движения именно они заслуженно считались самыми отважными и опасными бойцами, победа над которыми англичанам давалась очень нелегко. Патаны — та племенная общность, которая в современном Пакистане и Афганистане называется «пуштуны»: тоже чрезвычайно воинственный и стойкий в бою народ. То есть на фоне большой европейской политики подвиги Карабинеров смотрятся, может быть, недостаточно презентабельно, но в чисто военном смысле им абсолютно нечего смущаться.
(обратно)5
Знаменитая марка шампанского, производимая с 1838 г. по сей день, хотя сейчас она официально именуется просто «Дойц» (потому что семьи основателей фирмы, прусских эмигрантов Пьера-Юбера Гельдерманна и Вильяма Дойца, в конце концов породнились «под знаком» Дойцев).
(обратно)6
Карты, полученные игроком после раздачи.
(обратно)7
Тут возникает непереводимая смысловая игра, потому что характерные для виста (в который, видимо, сейчас играют майор с полковником, хотя это и не указано однозначно) термины «карточная партия», «карточная взятка» и «полный розыгрыш круга» обозначаются тем же словом «trick», что и шулерство.
(обратно)8
Пистолет-пулемет системы Томсона был разработан в годы Первой мировой войны для преодоления линии окопов, но так и не был применен на войне, поскольку его производство было начато только в 1918 г. Зато он был взят на вооружение гангстерскими бандами в Америке. Это было весьма дорогое, но надежное оружие. — Примеч. пер.
(обратно)9
Мадлен — площадь в Париже, где расположена церковь Марии Магдалины, также известная как «церковь Мадлен». — Примеч. пер.
(обратно)10
Первоначально так назывались тайники для католических священников, которые сооружались во многих старинных усадьбах примерно с середины 1530-х гг., когда в результате религиозных реформ Генриха VIII католицизм был объявлен вне закона. Семьи, продолжавшие тайно придерживаться прежней веры, в любой момент могли подвергнуться обыску — и если в их доме находился католический священник, возникала необходимость укрыть его в потайном помещении, как правило, устроенном прямо в толще каменной стены. Но эпоха гражданских неурядиц в той или иной форме продлилась еще двести лет — и, как верно заметил инспектор Пис, подобные тайники вскоре перестали быть монополией католиков.
(обратно)11
Жорж Кадудаль (1771–1804), один из руководителей мятежа против Великой французской революции, организовывал покушения на Наполеона Бонапарта, был казнен. — Примеч. пер.
(обратно)12
Гай Фокс (1570–1606), английский заговорщик, глава «Порохового заговора» католиков с целью убийства короля Якова I. Заговор был раскрыт, Гай Фокс казнен. Титус Оутс (1649–1705), английский священник. В царствование Карла II изобличил им же спровоцированный заговор, по его ложному доносу были казнены многие представители знати. — Примеч. пер.
(обратно)13
По-английски пирог (Pie) и смешанный шрифт (Pi) звучат одинаково.
(обратно)14
Иоганн Фуст — партнер Иоганна Гутенберга, в 1450 году на его деньги была оборудована первая в Европе типография. — Примеч. пер.
(обратно)15
В повести М. Твена «Том Сойер — сыщик» Том Сойер разоблачил мошенников братьев Данлепов и нашел украденные бриллианты. — Примеч. пер.
(обратно)16
Гек путает названия библейских городов с именами библейских патриархов. — Примеч. пер.
(обратно)17
Гек путает два эпизода из Библии: спасение младенца Моисея из тростников (Исход, гл. 2) и исход из Египта, когда Бог шел перед евреями в облачном столпе, показывая путь (Исход, гл. 13).
(обратно)18
В повести М. Твена «Том Сойер — сыщик», в которой Том расследует убийство, действие происходит на ферме у дяди Сайласа. — Примеч. пер.
(обратно)19
Аббат, т. е. настоятель католического монастыря, совершенно точно не может быть чьим-либо предком (во всяком случае, официально числящимся в родословной), поскольку католические клирики не имеют права вступать в брак.
(обратно)20
Поскольку Наполеон все же имел основания считать результат Бородинской битвы не ничейным, а победным, он, как было тогда принято, ввел ее в титулование кое-кого из своих военачальников. А если учесть, что некоторые из них имели итальянские корни и земельные их владения тоже располагались в Италии, то фигура «князя Бородино» отнюдь не выглядит фантастической.
(обратно)21
Цитата из «Венецианского купца», где ростовщик Шейлок требует в уплату просроченного долга фунт мяса из груди купца Антонио, а на требование объяснить свою жестокосердность отвечает:
«Вы спросите, зачем предпочитаю Фунт падали трем тысячам дукатов? На это не отвечу. Или, скажем, Таков мой вкус! Что, это не ответ? Что, если дом мой беспокоит крыса И, чтоб ее стравить, хоть десять тысяч Готов я дать? Что, это не ответ?»Лорд Балмер издевается над Леонардом Крейном, явным выходцем из простонародья, пытаясь доказать окружающим, что последний не смыслит ничего ни в фехтовании (скорее всего, выпад был сделан в так называемом «венецианском стиле»), ни в искусстве.
(обратно)22
Джордж Маколей Тревельян (1876–1962) — знаменитый британский историк и публицист, вся научная и общественная деятельность которого была связана с Кембриджем. По своим взглядам был ярым оппонентом Честертона — что, впрочем, не мешало их знакомству и вполне корректному общению.
(обратно)23
24 сентября 1905 г. в железнодорожном туннеле возле городка Мертхэм было обнаружено страшно изуродованное тело 22-летней Мэри Мани. Как установила экспертиза, девушке заткнули рот шелковым платком и после отчаянной борьбы выбросили из поезда на полном ходу. Этот случай вызвал большой общественный резонанс как первое в истории Великобритании «железнодорожное убийство» женщины (надо отметить, что в викторианскую эпоху получил большое распространение жанр «железнодорожного детектива», предназначенный для чтения в поезде и чаще всего описывавший именно преступления на железной дороге — но от реальной действительности он был, мягко говоря, весьма далек). Удалось выяснить, что в поезд Мэри, видимо, села со спутником, «выглядящим как джентльмен», но этого описания оказалось недостаточно, чтобы предъявить обвинение кому-либо из фигурировавших в деле мужчин (двум ее сослуживцам и железнодорожному клерку). Правда, возникли предположения, что ее брат Роберт Мани мог что-то знать о ее знакомых, не попавших в поле зрения следствия, — но молодой человек никого не назвал и вообще выглядел настолько убитым горем, что его почти не допрашивали, хотя именно он последним достоверно видел девушку живой. Убийство так и не было раскрыто, но имело неожиданное «послесловие». В 1912 г. Роберт Мани, которого никогда ни в чем по-настоящему не подозревали и которому, тем более, не предъявляли каких бы то ни было обвинений, расстрелял из пистолета трех детей и двух женщин (одна из них, тяжелораненная, сумела незаметно выползти из-под груды трупов и спастись), облил их тела бензином, поджег — и покончил с собой. Этот чудовищный поступок, совершенно лишенный видимых мотивов, заставил задуматься о том, не играл ли Роберт в Мертхэмском деле более значимую роль, чем то казалось в 1905 г.
(обратно)24
Римуски (Rimouski) — река в Канаде, в устье которой расположен одноименный город. Находится на территории региона Квебек, в низовьях реки Св. Лаврентия.
(обратно)25
Тут рассказчик «забывает», что, судя по другим произведениям этого цикла, Джо не раз предлагали фантастически высокую плату, если он согласится работать в городском детективном агентстве, однако Новембер, всю жизнь проведший в лесах, всегда отказывался.
(обратно)26
В гладкоствольном огнестрельном оружии — дульное сужение, необходимое для уменьшения рассеивания дроби при выстреле. В зависимости от степени выраженности характеризуется как «чок»,»получок» и т. д. Надо отметить, что «на взгляд», по одной только степени дульного сужения, определить кучность выстрела в действительности невозможно: она заметно отличается у разных ружей, так что достоверный вывод можно сделать только после пристрелки. Пожалуй, на этом этапе у Джо могло быть скорее подозрение, чем неоспоримая улика, — но он об этом умолчал. — Примеч. пер.
(обратно)27
«Панч» (англ. Punch) — британский еженедельный журнал юмора и сатиры, издававшийся с 1841 по 1992 г. — Примеч. пер.
(обратно)28
В первом десятилетии XX столетия появились автомобили с закрытыми кузовами — лимузины, купе и ландо, которые были значительно дороже открытых моделей. Самым престижным считался лимузин, у которого место шофера находилось за пределами салона, отделанного дорогой тканью и ценными породами дерева. Пассажиры общались с шофером через переговорное устройство или через специальное окошко в стеклянной перегородке.
(обратно)29
«Земной шар» — сокращенное название английской ежедневной газеты «Земной шар и путешественник» (The Globe and Traveller), выходившей в Лондоне с 1803 г. — Примеч. пер.
(обратно)30
Уэстон-сьюпер-Мэр (англ. Weston-super-Mare) — приморский курортный город в Северном Сомерсете, в Англии. — Примеч. пер.
(обратно)31
Тюрьма Синг-Синг (англ. Sing Sing Correctional Facility) — тюрьма с максимально строгим режимом в городе Оссининг, штат Нью-Йорк, США.
(обратно)32
Литературный персонаж ранневикторианской эпохи: брадобрей-мясник, оборудовавший в своей цирюльне ряд тщательно замаскированных хитроумных устройств, которые позволяли убить клиента, сбросить его тело в подвальный тайник, а потом разделать на начинку для пирожков с мясом — таким образом человек пропадал бесследно. Этот страшный сюжет тут же стал чрезвычайно популярен и начал обыгрываться во множестве пьес, а во времена Каррадоса и фильмов. Собственно, история Суинни Тодда не вышла из моды до наших дней: достаточно вспомнить мюзикл Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли (2007).
(обратно)33
Не так ли? (нем.)
(обратно)34
Да? (нем.)
(обратно)35
Нет, нет! (нем.)
(обратно)36
Сент-Джеймс (St. James's) — один из центральных районов Лондона. В старину здесь селились самые родовитые аристократы, позже район стал средоточием клубов «для джентльменов». Дьюк-стрит — улица, соединяющая две знаменитые точки на карте английской столицы — Пикадилли и Пэл-Мэл. Все эти детали указывают на высокий социальный статус действующих лиц. — Примеч. пер.
(обратно)37
Около 18 мм.
(обратно)38
Авторы указывают в качестве места действия здание суда Нью-Бейли (New Bailey). Это либо случайная, либо, что гораздо более вероятно, намеренная ошибка. Нью-Бейли — это городская тюрьма, выстроенная в конце XVIII в. на тогдашней окраине Лондона; она была «новой» по сравнению с другими, еще средневековыми, узилищами, а своим названием обязана инициатору ее постройки. В Нью-Бейли содержали сотни заключенных, но судебные заседания никогда не проводились. К тому же в 1868 г. это здание было признано непригодным и снесено. Ареной судейских баталий служило совсем другое здание, которое называли (и до сих пор называют) Олд-Бейли, поскольку оно располагается на улице того же названия в центре старого Лондона, на месте древней тюрьмы Ньюгейт, также снесенной в 1868 г. Суд Олд-Бейли функционирует в новом здании с 1907 г. Зачем потребовалось менять «старое» на «новое», трудно судить.
(обратно)39
Британское судопроизводство отличается своеобразными чертами, в его системе есть функции, отсутствующие в других странах. Солиситор — это юрист на стороне обвиняемого, который собирает и подготавливает материалы дела для адвоката, находится в зале во время слушания, но сам не выступает. Королевский адвокат (Counsel for the Crown) — юрист, которого назначает правительство с целью контроля над ходом процесса. Чаще всего он выступает на стороне обвинения, и в этом случае его позиция, по сути, соответствует функциям прокурора в нашем понимании.
(обратно)40
Около 2,8 кг.
(обратно)41
Вообще-то это сокращение от Delirium tremens, то есть «белая горячка». Ситуация по меньшей мере двусмысленная: Импресарио фактически сетует на то, что стресс и усталость он был «вынужден» компенсировать обильной выпивкой.
(обратно)42
На редкость пестрый набор имен, который мог «прокатить» только в американской глубинке. Буффало Билл (Уильям Коди, 1846–1917) — знаменитый американский охотник на бизонов, впоследствии создатель «ковбойского аттракциона», на котором, помимо прочего, демонстрировалось искусство меткой стрельбы. Эразм Роттердамский (1469–1536) — прославленный европейский ученый и гуманист. Де Рецке (собственно, «Рецкий», но такого англоязычной публике не выговорить) — фамилия двух чрезвычайно популярных по всему миру польских певцов, один из которых, Эдуард де Рецке (1853–1917), был басом, а другой, Ян-Жан Мечислав де Рецке (1850–1925) — тенором; невозможно понять, о ком из них идет речь в данном случае. Милон Кротонский — полулегендарный греческий атлет VI в. до н. э. Юджин Сэндоу (1867–1925) — английский вариант псевдонима «Евгения Сандова, знаменитого русского борца», который на самом деле носил гораздо более прозаическое немецкое имя Фридрих Вильгельм Мюллер, но в любом случае был выдающимся атлетом и создателем культуризма; его звезда как «сильнейшего человека в мире» взошла во время гастрольного тура по Америке 1894–1895 гг.
(обратно)43
Чрезвычайно претенциозное название для небольшого провинциального городка — что, впрочем, характерно для американской глубинки: достаточно вспомнить, что родной городок Тома Сойера назывался Санкт-Петербург.
(обратно)44
Атрибуты «внесудебной» расправы, чуть менее безжалостной, чем собственно суд Линча (недвусмысленным намеком на который является упоминание веревочной петли): преступника, раздев догола, обмазывали смолой или дегтем, потом вываливали в перьях — и в таком виде с позором вывозили за пределы города.
(обратно)45
На самом деле правильно — Verbum sapienti sat est, «умному достаточно одного слова» (лат.). Похоже, в Хастонвиле нет настоящих знатоков латыни. Впрочем, Импресарио и сам ранее иногда ошибался (например, фамилию знаменитого певца он воспроизвел как De Reske вместо de Reszke, причем не уточнив, что таких певцов двое, то есть «голос де Рецке» является или басом, или тенором) — хотя, может быть, он небрежен намеренно, снисходя к уровню слушателей. Так или иначе, этот «информационный сбой» происходит на уровне американских горожан, импресарио или провинциальных актеров — но никак не блестяще образованного британца Брэма Стокера, который вдобавок около тридцати лет проработал театральным менеджером!
(обратно)46
В данном случае — председатель верховного суда Великобритании.
(обратно)47
Общепринятый эвфемизм, означающий повешенного по суду Линча.
(обратно)48
Блюда французской кухни; в порядке перечисления — карамельное пирожное, филе из камбалы под молочно-винным соусом с добавлением шампиньонов и пулярка, запеченная под острым соусом. Последние два блюда принято было подавать маленькими порциями. В целом трапеза получается очень «дамской», что создает забавный контраст с профессиональной деятельностью ее участников.
(обратно)49
Изысканный и легкий сорт фруктового мороженого: блюдо не только «дамское», но и во времена Уоллеса модное, прежде всего, в артистической среде со слегка декадентским уклоном. Контраст с криминальной профессией делается еще забавней: воры, стремясь держаться в ресторане «как приличные джентльмены», на самом деле держатся «как институтки».
(обратно)50
По всей видимости, имеется в виду не одноименная местность в Шотландии (ко временам Уоллеса Галловей уже потерял административный статус графства, но традиционное название еще сохранялось), а какая-то из находившихся там тюрем. Лучше всего по смыслу подходит Инверари-Джэйл, «образцовая» тюрьма, в которой как раз поэтому могли содержаться женщины с небольшим сроком заключения: в описываемое время она уже не функционировала — но Уоллес, возможно, этот момент упустил из виду.
(обратно)51
Надо полагать, это шутка. Во «времена Брюса и Уоллеса» (нашим современникам в основном известные по фильму «Храброе сердце», правда, весьма вольно обращающемуся с действительностью), т. е. обобщенно, последние годы XIII — первая треть XIV в., история клана Маккензи еще не зафиксирована: по документам она начинает прослеживаться лишь с самого конца XV в. Правда, «клановая легенда» (обращающаяся с действительностью не менее вольно, чем голливудский фильм) утверждает, что Маккензи действительно существовали еще при короле Брюсе, однако даже в этой легенде о каком-либо мезальянсе нет ни слова.
(обратно)52
Известный мифологический сюжет: древнегреческий герой Эдип разгадывает загадку сфинкса, чего до него не мог сделать никто из мудрецов.
(обратно)53
В этом рассказе практически все фамилии и названия «говорящие», причем это подается в ироническом ключе, позволяющем принять самые разные толкования. Название городка в оригинале — Rattleborough, иногда По использует обе его части, Rattle и borough, по отдельности. Если вторая действительно означает «населенный пункт», то значение первой колеблется от «шутовская погремушка» до «пустая болтовня».
(обратно)54
В большинстве своем (фр.).
(обратно)55
Чтобы получить представление, какова была эта сумма для Америки 1840-х гг., достаточно сказать, что самому По крайне редко удавалось зарабатывать свыше 10 долларов в неделю.
(обратно)56
Одно из наиболее выдающихся красных французских вин бордосской серии: традиционно входит в четверку лучших, а в годы особенно удачных урожаев возглавляет ее. И во времена По, и сейчас, стоимость Шато Марго делает его доступным только для самых состоятельных ценителей.
(обратно)57
Получившие международную известность французские (хотя в данном случае — слегка «американизированные») юридические термины, означающие соответственно «неувязки» и «неуместные оговорки».
(обратно)58
Кэтрин Грейс-Фрэнсис Гор — тогдашний аналог Марининой: модная британская писательница, творившая в жанре, иронически называвшемся «романы столового серебра», потому что это направление специализировалось на картинах из быта и нравов (включая преступления) высшего общества. «Сесил: приключения фата» (1841) — самый популярный из ее более чем 70 романов.
(обратно)59
Уильям Бекфорд — старший современник По и Гор, оставивший довольно заметный след в истории литературы (в частности, он является одним из основателей неоготического направления, к которому восходит современный жанр хоррора); не менее известен как составитель музейных коллекций и научных каталогов. При этом Бекфорд, будучи одним из богатейших людей своего времени, с высшим обществом соприкасался гораздо более напрямую, чем авторы типа Гор, которые многие подробности черпали не из жизни, а из его книг.
(обратно)60
Пара «достойных примеров» (великий писатель Чарльз Диккенс и Джордж Бульвер Литтон — писатель и общественный деятель, скорее весьма известный, чем по-настоящему выдающийся: он тоже примыкал к направлению «столового серебра») противопоставлена двум «недостойным»: Уильяму Гаррисону Эйнсворту и собирательной фигуре некого плодовитого халтурщика, чью «говорящую» фамилию (в оригинале Turnapenny) мы перевели как «Радиденегчтоугодно». Позиция не вполне справедливая относительно Эйнсворта, который был писателем примерно того же масштаба, что и Бульвер Литтон.
(обратно)61
Посмертное (лат.).
(обратно)62
Согласно тогдашнему американскому законодательству — «злостное умышленное убийство, совершенное по заранее обдуманному плану и/или при других отягчающих обстоятельствах (из засады, при совершении ограбления и т. п.)».
(обратно)63
Дружеские пирушки (фр.).
(обратно)64
Скромный ужин; очередной из синонимов дружеской вечеринки (фр.).
(обратно)65
Nem. con. — сокращение от «nemine contradicente»: «нет возражающих», т. е. единогласно (лат.).
(обратно)66
Ветхий Завет, Вторая книга Царств, гл. XII, стих 7: слова, с которыми пророк Нафан обратился к царю Давиду, раскрывая ему глаза на гнусность его собственного поступка (царь незадолго до этого обрек на смерть невинного человека, польстившись на его жену). Цитата приведена в старорусском переводе, так как у По тоже использован очень архаичный для его времени язык первого перевода Библии на английский (XVI в.).
(обратно)67
Эвкалипты — австралийские деревья, но в XIX в. плантаторы из южных штатов США массово завозили в свои владения саженцы эвкалиптов и высаживали их именно на болотах, для осушения местности. Первоначально такие заросли были характерны для крупных хозяйств (преимущественно — рабовладельческих), но к 1920–1930 гг., времени действия этого рассказа, частично распространились уже и на «дикие» болота.
(обратно)68
Так называемый «испанский мох» — цветковое растение: мхом, а тем более лишайником, он на самом деле не является, хотя своей сине-зеленой окраской действительно похож на лишайник. Образует длинные свисающие «бороды», из-за этого и получил свое название, так как индейцам, у которых борода растет плохо, он напоминал густые бороды испанских конкистадоров. Именно испанский мох придает американскому сельскому пейзажу необычный, почти мистический вид, особенно в лунную туманную ночь.
(обратно)69
Строго говоря, Санто-Доминго тоже находится на Гаити, но в восточной части острова, так называемой Доминиканской республике (сейчас это независимое государство, но в описываемый период она находилась под протекторатом США). И для самих островитян, и для эмигрантов «настоящий» Гаити — только западная часть острова.
(обратно)70
На самом деле для этого все-таки требовалось компетентное заключение не одного, а двух независимых и квалифицированных психиатров, по меньшей мере один из которых имел возможность наблюдать пациента долгое время, — что, собственно, и предполагалось, судя по дальнейшему описанию. Но бурная реакция рассказчика тоже не лишена оснований: признание безумным и насильственное помещение в психиатрическую лечебницу — очень «узкое место» на стыке викторианской (да и более поздней) медицины и юриспруденции, там действительно был высок процент и ошибок, и злоупотреблений.
(обратно)71
Трезубец действительно является одним из атрибутов Шивы, но вот пятиголовым его никогда не изображают (хотя многоруким — бывает). В индуистском пантеоне есть и многоголовые божества, однако, судя по всему, автор перепутал Шиву даже не с кем-то из них, а с одним из демонов-ракшасов. Так или иначе, все дальнейшее описание самой статуи и обрядов, связанных с поклонением ей, не оставляет сомнений: Роберт Эсташ весьма слабо представлял себе религиозную практику индуизма.
(обратно)72
Читатели, конечно, и без подсказки понимают, что законы судопроизводства здесь намеренно выдержаны в том же духе, как у Джерома К. Джерома в новелле «Главный Герой». Но в данном случае градус абсурда дополнительно увеличивается, т. к. судья предписывает прокурору действия, отдаленно (конечно, не в такой гротескно-пародийной форме) подобные тем, которые на самом деле должен предпринимать адвокат, — причем не в начале процесса, а по его завершении.
(обратно)73
Это описание соответствует масонским обрядам. Конечно, общая обстановка масонской ложи передана здесь не менее гротескно, чем ранее — обстановка судебного заседания.
(обратно)74
Coup de grace — удар милосердия, «смертельная благодать»: в переносном смысле — избавление от мук (фр.). Термин пришел из средневекового рыцарского быта: так назывался удар (для него использовался особый кинжал-мизерикорд, «кинжал милосердия»), которым добивали поверженного противника.
(обратно)75
Пер. Алины Немировой.
(обратно)76
Речь идет о так называемом «земляческом батальоне»: довольно характерная для Первой мировой (особенно начального периода) ситуация, когда жители городского района, большой улицы или небольшого поселка записывались в одно военное подразделение. После войны те из них, кто выжил, обычно продолжали поддерживать друг с другом тесные отношения.
(обратно)77
Один из наиболее кровопролитных эпизодов Первой мировой войны, продолжавшийся с июня по октябрь 1916 г.
(обратно)78
В отличие от Соммы, Сампуа (Sampoux) — вымышленное место: никаких «боев при Сампуа» история Первой мировой не знает. Видимо, Киплинг намеренно не захотел связывать действие своего рассказа с каким-либо реальным пунктом.
(обратно)79
В масонской среде действительно популярны легенды о происхождении первых лож то от организаций средневековых зодчих, а то даже и непосредственно от «профсоюзов» строителей Храма Соломона, упомянутого в Библии. Но в данном случае эта история изложена как-то уж слишком несерьезно, словно бы «в пересказе для маленьких», что подчеркивается описанием типично английской церемонии чаепития; а уж о курении сигар и вообще табака до открытия Америки речь тем более идти не могла.
(обратно)80
«Джерри» (от «German») — прозвище, которым англичане именовали немецких солдат: нечто вроде привычного нам (правда, больше по Великой Отечественной войне) прозвища «фрицы».
(обратно)81
Это фрагмент евангелистского гимна. «Обычный» англичанин той поры, если он не слишком увлекался религией, действительно сохранял в памяти все строки этих гимнов лишь до тех пор, пока в детстве и отрочестве посещал воскресную школу — а к юности они уже понемногу начинали забываться.
(обратно)82
Если так, то, получается, о битве на Сомме Киплинг ранее упомянул по ошибке: Стрэнджвик не мог в ней участвовать, так как боевые действия там завершились по меньшей мере за три с половиной месяца до того, как он вообще попал в армию.
(обратно)83
Арминий — германский вождь и полководец, в 9 г. н. э. сумевший нанести римлянам сокрушительное поражение в так называемой «битве в Тевтобургском лесу». С этого сражения принято отсчитывать если не историю, то предысторию появления «новой», послеримской Европы. Поэтому романтизированный образ Арминия был очень популярен во многих европейских странах: и в кайзеровской Германии, и в викторианской Британии, даже когда они воевали друг с другом. В английском языке это имя вдобавок созвучно вооружению, доспехам — что делает его особенно подходящим для подростковой шутки.
(обратно)84
Гелиограф — разновидность оптического телеграфа: сигнальный аппарат, передающий информацию при помощи световых вспышек. Продолжал играть значительную роль во время Первой мировой войны, когда полевые радиостанции были тяжелы, малонадежны и не очень широко распространены.
(обратно)85
Хэлнакер — деревушка в Чичестере, графство Западный Сассекс; сейчас — почти что дальний пригород Лондона, но во времена Киплинга это было глухое малонаселенное захолустье. Почему в честь нее назван какой-то участок обороны, понять столь же трудно, как догадаться, по какой причине овраг, где располагалась отрезанная батарея, именовался Малый Попугайный, а одна из траншей называется Аллея Старых Грабель. Может быть, оттуда был родом кто-нибудь из офицеров, а возможно, тут обыгрывается ситуация «маленький населенный пункт на некогда славной, но обветшавшей трассе» (через Хэлнакер проходила старинная римская дорога к Лондону). Вообще же окопные названия причудливы — и это создает особый колорит. Иногда, как в случае с «Зоопарком скелетов», мы получаем подсказку, в других же случаях все так и остается загадкой.
(обратно)86
Цитата из «1-го послания к коринфянам» апостола Павла.
(обратно)87
Речь, видимо, идет о масонских плащах — том самом парадном, редко использующемся облачении, которое хранится в этой комнате.
(обратно)88
«Французское окно» представляет собой оконный пролет до самого пола, оборудованный распахивающейся рамой. Фактически это окно-дверь. В Викторианскую эпоху такие дополнительные выходы, как и обычные окна, обычно закрывались прочными наружными ставнями.
(обратно)89
Архитектурный стиль, охватывающий время царствования первых четырех Георгов (в общей сложности 1714–1830 гг.). В более обобщающем смысле — синоним английской архитектуры XVIII в.
(обратно)90
Паб в Британии — не просто питейное заведение, но и важный центр культурной жизни (особенно в сельской местности), своего рода клуб. Существуют разные типы пабов и, конечно, даже наиболее респектабельный из них вряд ли будет расположен прямо напротив помещичьей усадьбы — но уж так называемый «общественный паб», рассчитанный на самую невзыскательную публику, там особенно неуместен.
(обратно)91
Один из самых знаменитых лондонских театров на полторы тысячи зрительских мест; основан в 1809 г. и активно функционирует до сих пор.
(обратно)92
Сумма эта даже по меркам 1880-х гг. невелика, но все же два человека могли бы на нее прокормиться, пусть и скудно, около недели.
(обратно)93
ИМКА (YMCA: сокращение от Young Men's Christian Association — Юношеская христианская ассоциация) — молодежная волонтерская организация, основанная в Лондоне в 1844 г., но вскоре получившая международное признание. Существует по сей день. Первоначально стала известна благодаря устройству детских лагерей отдыха, поощрению любительского спорта и здорового образа жизни, однако впоследствии ее деятельность расширилась, включив широкий спектр гуманитарно-культурных аспектов. Такие виды спорта, как баскетбол, волейбол и водное поло, зародились именно в молодежных лагерях ИМКА. Ее же детище — международное общество Красный Крест. В дореволюционной России оздоровительные, культурные и научные программы ИМКА пользовались огромной популярностью (их энтузиастами были композиторы Скрябин, Рахманинов, Стравинский, балерина Анна Павлова, писатель Бунин и многие другие), потом ситуация изменилась: во многом потому, что издательство «ИМКА-Пресс» в рамках своих гуманитарных программ начало печатать запрещенные в СССР произведения — от Бердяева и Булгакова до Набокова и Солженицына. В постсоветском культурном пространстве к ИМКА продолжает сохраняться несколько настороженное отношение, т. к. православная церковь внесла ее в список «вредных и недушеспасительных» организаций, опирающихся на неохристианские ценности и экуменизм.
(обратно)94
«Tit-Bits» («Лакомые кусочки») — популярный британский еженедельник, выходивший свыше ста лет, с 1881 по 1984 гг. Представлял собой «дайджест» наиболее интересных материалов, опубликованных за неделю в других изданиях. В каком контексте он упомянут здесь — в общем, не совсем понятно. Возможно, дело в том, что «Тит-Битс» был классическим журналом для «убийства дорожной скуки», поэтому его брали с собой в тех случаях, когда поездка грозила затянуться надолго сверх ожидаемого, — чего этот персонаж Джерома мог не слишком опасаться.
(обратно)95
Британские государственные деятели, в политическом смысле — полные антиподы. Если Колмс ничего о них не слышал — значит, он, так сказать, «ни за либералов, ни за консерваторов».
(обратно)96
Невероятно, до карикатурности щедрая оплата: в полусоверене десять шиллингов, а по ценам 1890-х гг. за такую услугу могли заплатить один, максимум два шиллинга.
(обратно)97
«Говорящая» (особенно в свете дальнейших событий) фамилия: «гроб».
(обратно)98
Судя по всему, пасторша предполагает, что доктору приходилось пользоваться услугами body-snatchers, «похитителей трупов». Медики остро нуждались в возможности анатомировать мертвые тела для обучения, изучения, отработки техники операций и т. п., однако законы этого не позволяли: в Великобритании — до 1830-х, а в Соединенных Штатах Америки — даже до 1870-х. В результате нелегальное похищение тел недавно умерших людей и продажа их врачам сделались довольно распространенным бизнесом: достаточно вспомнить хотя бы широко известный эпизод из «Приключения Тома Сойера».
(обратно)99
Этот аналог «профессионального цехового герба» в XVIII–XIX вв. довольно широко использовался в среде фокусников и артистов.
(обратно)100
Примечательная фраза в устах человека, чья фамилия однозначно указывает на то, что он потомок голландских переселенцев: такие люди сплошь и рядом стремились стать даже более «правильными» американцами, чем все остальные.
(обратно)101
«Библейское» имя Джедадия в тогдашней Америке не являлось редким, но оно характерно в основном для выходцев из пуританских религиозных кругов — многочисленных, влиятельных и на дух не выносящих какого бы то ни было «лицедейства», будь то актерская игра или демонстрация восковых фигур.
(обратно)102
Савонарола, помимо прочего, был мастером шпионажа и великим знатоком интриг. — Примеч. пер.
(обратно)103
В 1910 г. португальская монархия была упразднена в результате революции. — Примеч. пер.
(обратно)104
Под «бывшим шахом» явно подразумевается Мухаммед Али из династии Каджаров, свергнутой в результате конституционной революции 1905–1911 гг. в Иране. — Примеч. пер.
(обратно)105
Гилас — древнегреческий персонаж. Согласно легенде, был похищен нимфами и превращен в лесное эхо. — Примеч. пер.
(обратно)106
Основано в 1875 г. А. Коксом. После его смерти распущено, в 1882 г. воссоздано. Занималось научным исследованием паранормальных явлений и их документированием: опросом свидетелей, детальным описанием загадочных случаев и т. д. Существует по сей день. — Примеч. пер.
(обратно)107
Под этим выражением часто понимают акт покаяния или покорности. Происходит выражение от путешествия отлученного от церкви императора Священной Римской Империи Генриха IV в крепость Каносса, где пребывал папа Григорий VII. Согласно легенде, Генрих проделал этот путь босым и во власянице. — Примеч. пер.
(обратно)108
«Трелони», или «Песня западных людей» — популярная в графстве Корнуолл песня о походе (по сути, несостоявшемся) на Лондон с целью освобождения епископа Трелони, одного из семи епископов, заключенных в Тауэр королем Яковом II в 1687 г. Через некоторое время епископ Трелони был признан невиновным и освобожден из-под стражи. — Примеч. пер.
(обратно)109
В 1913 г. Гильермо Маркони, считающийся изобретателем радио, обвинил в коррупции министра финансов Великобритании Ллойда Джорджа и ряд других министров. В Палате общин Великобритании по этому поводу прошло несколько слушаний. — Примеч. пер.
(обратно)110
В 1913 г. в Рединге прошли дополнительные выборы в парламент. Победил кандидат от оппозиционной партии с перевесом всего 0,8 % голосов. — Примеч. пер.
(обратно)111
Протестантские церкви осуждают азартные игры, а в Трувиле-сюр-Мер во Франции и Монте-Карло располагались самые популярные на момент написания рассказа казино Европы. — Примеч. пер.
(обратно)112
Ричард Кобден, влиятельный британский политик, ратовал за свободную международную торговлю, видя в ней способ предотвращения войн. — Примеч. пер.
(обратно)113
Во времена О. Генри — крупнейший гостиничный комплекс в мире, со своей мифологией, табелью о рангах и индустрией развлечений, включая и литературные вечера. Впоследствии некоторые из них стали значимыми событиями в истории американской литературы, но на момент написания данного рассказа это в основном был дорогостоящий китч для нуворишей.
(обратно)114
Здание мэрии Нью-Йорка.
(обратно)115
Штат, по американской классификации относящийся к «старому Югу», которому не свойственны (во всяком случае, согласно официальному канону) ни меркантильная суетность северян, ни плантаторская алчность «новых» южан из более молодых штатов — ни ковбойская дикость западного фронтира.
(обратно)116
Упоминаемая в Библии (1 Цар. 28) пророчица, способная вызывать духов и узнавать от них о потаенных событиях.
(обратно)117
Мята (наряду с виски) входит в популярнейший на американском Юге коктейль «джулеп», но… его родиной является не Вирджиния, а Кентукки. Так что для американцев это пример сперва верного, а потом нарочито абсурдного рассуждения: в нашей системе координат оно звучало бы примерно как: «Этот человек прибыл из Закавказья, а точнее — из Армении, потому что от него пахнет грузинским вином «Ркацители».
(обратно)118
Знаменитый дом на Пикадилли, включающий в себя 69 квартир. Один из самых элитных в Лондоне многоквартирных особняков. Первоначально был задуман как своего рода «холостяцкий клуб»; сейчас эта традиция уже нарушена, но в описываемое время (1890-е гг.) она еще сохранялась. Так или иначе проживание в Олбани — знак принадлежности к касте избранных.
(обратно)119
Сейчас эта улица считается вполне респектабельной, но в викторианском Лондоне она была аналогом современного «спального района».
(обратно)120
«Банни» — не имя, а школьное прозвище. Сейчас, после того мультипликационного персонажа по имени Багз Банни, это слово однозначно ассоциируется с кроликом, но прежде так называли молодняк (не детенышей, но «подростков») в равной степени зайцев и кроликов. Т. е. значение прозвища — нечто вроде «зайчишка-несмышленыш». То наставничество, о котором говорилось выше — характерная для викторианских закрытых школ система «фаггинга», при которой младший ученик, «фаг», поступает под покровительство старшего, «префекта» или «мастера». В плохих учебных заведениях это обретало характер дедовщины, в хороших — именно дружеского покровительства. В данном случае, безусловно, имел место второй вариант. При этом после окончания школы бывший фаг и его префект вполне могли считать друг друга малознакомыми людьми — особенно если разрыв в возрасте между ними был значителен, так что это покровительство длилось всего год-два, пока старший не заканчивал школу.
(обратно)121
Парафраз крылатой фразы из пьесы Шекспира «Юлий Цезарь». Иды в римском календаре — день в середине месяца. В мартовские иды (15 марта) 44 г. до н. э. заговорщиками был убит Юлий Цезарь. Согласно Плутарху, предсказатель предупредил Цезаря за несколько дней, что в этот день ему надо опасаться смерти. Встретив предсказателя на ступенях Сената, Цезарь сказал ему с насмешкой: «Мартовские иды наступили». — «Наступили, но еще не прошли», — ответил предсказатель. Через несколько минут Цезарь был убит.
(обратно)122
Примитивное топливо на основе нефти. Применялось для ранних двигателей внутреннего сгорания, для светильников — а иногда как смазочный материал.
(обратно)123
Сейчас это описание выглядит насмешкой над детективным жанром — но в ту пору даже дактилоскопия, не говоря уж о более современных методах, еще не вошла в арсенал криминалистов.
(обратно)124
Отсылка к одной из строк сонета «Ода Меланхолии» великого поэта-романтика Джона Китса (1795–1821), знание которого входило в культурный багаж любого англичанина, получившего классическое образование.
(обратно)125
На самом деле австралийский акцент очень силен и своеобразен, причем после нескольких лет пребывания в германоязычной среде только усиливается — и не заметить его совершенно невозможно. Английские читатели, менее наивные, чем Банни, тут же понимали, что если уж Раффлз отрицает столь очевидный факт, то это неспроста…
(обратно)126
У немецких студентов был в моде так называемый «мензур»: нечто промежуточное между дуэлями и университетским обычаем. Поединки проходили по строгим правилам и на специальных клинках-шлегерах, позволяющих наносить только неглубокие рубленые раны, так что опасности для жизни мензур не представлял, зато физиономии участников неизбежно украшались множеством шрамов. Эти очень характерные рубцы становились предметом гордости, корпоративным знаком, «визитной карточкой» выпускников престижных университетов (в том числе и Гейдельбержского), многие из которых потом выбирали военную карьеру.
(обратно)127
Британское название той части Ла-Манша, которая в остальном мире именуется на французский манер: Па-де-Кале.
(обратно)128
Следователь Скотленд-Ярда, давний и безуспешный противник Раффлза, начавший охоту за ним еще до того, как последний вовлек в свои дела Банни. Фигурирует в нескольких рассказах первого цикла про Раффлза и Мандерса, «Джентльмен-взломщик», а также эпизодически появляется в последующих циклах. Судя по всему, его связывают с Раффлзом более сложные отношения, чем то представляется Банни, но об этом — см. следующее примечание.
(обратно)129
Банни так никогда не узнает (а вместе с ним не получит однозначного ответа и «рядовой» читатель, хотя самые проницательные могут сделать соответствующие выводы), что, видимо, в этот момент или даже ранее жемчужина была подменена. Так что «королю людоедов» будет вручена фальшивка, это вскоре раскроется — и поставит в неловкое положение германского императора, тогда как Англия избежит международного унижения. Дело в том, что, судя по некоторым намекам, частично раскрывающимся в более поздних циклах, Раффлз в данном случае негласно работал на британское правительство — и они с инспектором Маккензи разыграли эту сцену на пару, как союзники. Довериться при этом Мандерсу было нельзя: он мог по наивности испортить всю игру.
(обратно)130
Нет, Раффлз не погибнет (правда, остается только догадываться, сам ли он доплыл до берега или где-то на полпути его ожидала лодка, о чем следователь Маккензи сумел сообщить ему втайне от Мандерса). А Банни, хотя здесь он говорит о «долгом заключении», получит на удивление мягкий срок — и вскоре они снова встретятся с Раффлзом. Но эти истории описаны уже в других циклах Хорнунга…
(обратно)131
Вообще говоря, будуар — «дамская», и при этом интимная, часть богатого жилища: если с ним сравнивается комната-кабинет в мужской квартире, то это значит, что обитатель такой квартиры тяготеет к утонченной роскоши, а сама эта комната заставлена богатыми ширмами и кроватями с шелковым балахоном, завешена гардинами и т. п. Словом, в ней легко «потеряться», остаться незамеченным.
(обратно)132
«Ведь зло переживет людей, добро же погребают вместе с ними» (Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III): цитата действительно «слегка переиначена» — с заменой смысла на диаметрально противоположный.
(обратно)133
Суть иронии заключается в том, что это — первые строки (цитируемые нами в переводе на русский К. Градова) из эпитафии, составленной Байроном на смерть… его любимой собаки, ньюфаунленда по кличке Ботсвана. Причем поэтический текст на надгробье предваряется следующими словами: «Здесь погребены останки того, кто обладал Красотой без Тщеславия, Силой без Дерзости, Храбростью без Свирепости — и всеми достоинствами человека без его недостатков».
(обратно)134
Для Джека Лондона 1897 г. (время написания этого рассказа) тысяча долларов оставалась как бы «непроизносимой величиной»: в его кругах на тысячи не считали, самое большее — на сотни, причем это тоже была весьма значительная сумма. Сколько он получил именно за этот рассказ — неизвестно, но за заметно более крупные тексты, публиковавшиеся в ведущих журналах, молодому и еще не знаменитому Джеку тогда платили по 30–50 долларов. А бостонский журнал «The Owl», где увидело свет данное произведение, в эти годы несколько раз учреждал для наиболее ценных своих авторов особые 100-долларовые премии, но… Джек Лондон ни разу в число таких авторов не вошел (а те, кто вошел, совершенно не оставили следа в истории литературы).
(обратно)135
Упоминание его отдельно от помощника Эдисона вызывает определенное недоумение: фонограф (первый из практически пригодных звукозаписывающих аппаратов) совсем недавно был сконструирован знаменитым изобретателем Эдисоном — и в те годы просто не существовало видных специалистов по фонографам, работающих где-либо еще, кроме фирмы Эдисона. Вероятно, для Джека Лондона эти «новые технологии» на тот момент были чем-то слишком дорогим и недоступным, чтобы вникать во все подробности.
(обратно)136
Вакуумная трубка, изобретенная сэром Уильямом Круксом для исследования электрических разрядов при низких давлениях. В конце XIX в. использовалась в экспериментах для демонстрации существования электронов, а также в практических целях: как источник рентгеновских лучей. Но в данном случае возникает еще одна ассоциация: Крукс, действительно выдающийся ученый, одновременно был человеком благородной доверчивости — поэтому он на каком-то этапе попался в ловушку сторонников спиритизма, безоговорочно поверил им и начал пропагандировать реальность «голосов с того света».
(обратно)137
Оптический прибор для показа движущихся картинок, изобретенный все тем же Эдисоном. В сочетании с фонографом представлял собой «персональный кинозал на одного зрителя» (смотреть надо было не на экран, а в стеклянный глазок, слушать — через наушники). Одна из ранних и, как оказалось, тупиковых попыток создать нечто вроде кинематографа.
(обратно)138
Трудно сказать, это Олли обманывает своих собеседников (все-таки очень поверхностно разбирающихся в вопросах тогдашней звукозаписи) или автор заблуждается вместе со всеми ними. На самом деле запись «с валика на валик» была невозможна: в какой-то степени она сделалась осуществимой лишь после того, как на смену восковому валику фонографа пришел эбонитовый диск граммофонной пластинки. Но это уже следующий этап развития техники.
(обратно)139
Игнаций Ян Падеревский (1860–1941) — всемирно знаменитый пианист и композитор. Обладал романтической внешностью, которую подчеркивала буйно развевающаяся грива кудрявых волос. После каждого его концертного турне в Европе возобновлялась мода на прическу «под Падеревского».
(обратно)140
Пилат (Pilatus) — название и горного массива в швейцарских Альпах, и его главной вершины (2128,5 м над уровнем моря). Риги (Rigi) — другой горный массив там же, известный еще под прозванием «Королева гор» — три его главные вершины имеют высоту 1797,5, 1698 и 1685 м. В наше время к вершине Пилата ведет канатная дорога, здесь также проходит самая крутая железная дорога в мире: чтобы колеса поезда не проскальзывали, путь оборудован зубчатым рельсом, а состав — зубчатыми колесами, которые и тянут его вверх. Вершина Риги также легко достижима для общественного транспорта. Но какой именно «двигатель» имел в виду автор — не ясно. — Примеч. пер.
(обратно)141
Уильям Гладстон (1809–1898) — крупный политический деятель, многолетний лидер Либеральной партии, четырежды занимавший пост премьер-министра Великобритании. — Примеч. пер.
(обратно)142
К началу XX в. в Париже было шесть вокзалов, но ни тогда, ни ранее, ни позднее Страсбургского вокзала среди них не имелось. — Примеч. пер.
(обратно)143
«Никогда в жизни!» или «Ни за что на свете!» (фр.). Трудно понять, по какому поводу посыльный произносит эту фразу, фактически повторяющую слова Вандрифта. Возможно, он выкрикивает название какого-нибудь журнала или торговой марки: во Франции «Jamais de la vie» — крылатый оборот. — Примеч. пер.
(обратно)144
Это мнение не Ходжсона, а капитана Голта, который, несмотря на ряд своих достоинств, далеко не положительный персонаж (вдобавок разделяющий характерное для его времен морское суеверие, согласно которому от женщин на корабле одни несчастья). Что касается автора, то он, опытный моряк, проведший во флоте девять лет, к такого типа «морским волкам» испытывал достаточно двойственные чувства: полностью доверяя их надежности в экстремальных обстоятельствах, в «спокойное» время Ходжсон считал людей, подобных капитану Голту, носителями воинствующего ретроградства и криминального духа. Все эти стороны, сильные и слабые, капитан Голт в данном рассказе как раз и демонстрирует.
(обратно)145
Тут опять-таки присутствует личное отношение автора, но, определенном смысле, «с точностью до наоборот». Ходжсон, человек невысокого роста и с обманчиво хрупкой внешностью (да еще и выходец из интеллигентной среды, так что среди матросов он постоянно оказывался «в меньшинстве»), вскоре убедился, что на кораблях под руководством капитанов вроде Голта «право сильного» до сих пор остается слишком значимым фактором. В результате он разработал собственную систему рукопашного боя — и за короткий срок стал, по мнению многих современников, несравненным мастером боевых искусств. В 1899 г. Ходжсон основал свою школу, одну из первых в Европе, где кроме боевых приемов и физической тренированности особое внимание уделялось психологической подготовке и «специфике местности» (с учетом различной тактики схватки в матросском кубрике, на людной улице, в лестничном пролете и т. п.). В определенном смысле сегодняшним ее наследником является знаменитая боевая система крав мага, часть основателей которой была «внучатыми» учениками Ходжсона.
(обратно)146
Это явно ссылка на одного из библейских персонажей, но трудно сказать, на кого именно, — поэтому фраза звучит нарочито двусмысленно. Речь может идти либо провидце Анании, брошенном в темницу за то, что тот посмел развеять необоснованные надежды царя (2 Пар. 16:7), либо о лжепророке Анании, противостоявшем пророку Иеремии (Иер. 28), который, наоборот, был склонен без должных на то оснований поощрять необоснованные надежды, за что Иеремия предсказал ему смерть в течение года, либо уже о новозаветном Анании, члене первохристианской общины, который со своей женой Сапфирой предпринял попытку утаить часть средств, вырученных от продажи земельной собственности, но был разоблачен и вместе с супругой «пал бездыханен» (Деян. 4:34–35). В любом случае ссылка, похоже, дана не совсем к месту. Вероятнее всего, капитан (или даже его автор), с увлечением бичуя женские пороки, сам впал в только что описанный им грех сильного пола: «мужчины не могут не пытаться блеснуть умом за чужой счет».
(обратно)



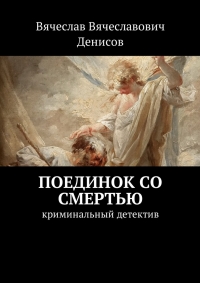




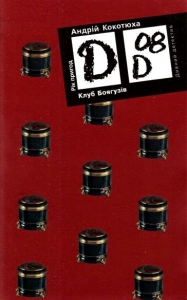
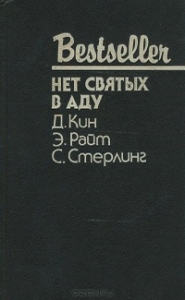

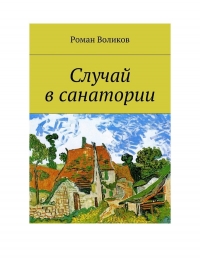
Комментарии к книге «Мое любимое убийство. Лучший мировой детектив», Грант Аллен
Всего 0 комментариев