Светлана Гончаренко БОЛЬШЕ НЕ ПРИХОДИ
Хмурое утро
Шел тихий дождь, и было у него три голоса: один голос булькал в кадушку, другой сыпал по крыше, третий шумел в траве. Самоваров любил просыпаться под шум дождя, особенно здесь, в Афонине. То утро помнилось особенно мокрым, душистым и сумрачным. Казалось, еще очень рано, но у изголовья на гвоздике висели часы, и на них было полдевятого. А часы эти не врали.
Самоваров выглянул в низенькое, какие бывают в деревенских банях, окно своей избушки. Он увидел дождевые потемки, и Дом напротив. Заросли во дворе все сплошь в нетронутом сизом бисере капель. «Погибель дачникам! — порадовался Самоваров. — Разбежится теперь вся компания, и заживем по-людски». Он снова завернулся в сладостное тепло пыльного лоскутного одеяла и стал наблюдать, как в банном окошке дергается и отряхивается ветка, попадая под струю с крыши.
Он вспоминал потом и эту ветку, и тишину, и утреннюю промозглость, и воспоминания были на редкость отчетливы и картинны — последние из афонинских благополучных. За ними следовали какие-то несуразные, перетасованные кусочки с рваными краями, потому что начиналось нелепое и неприятное. Неприятности бывают у всех, они когда-нибудь начинаются, и то, что было за минуту до этого начала, видится потом и идиллическим, и вещим.
Самоваров вдруг услышал женский крик — или показалось? Не показалось: Валерик тоже зашевелился на своем ложе под точно таким же ватным одеялом, (только на Валериковом красовался румяный отпечаток утюга). Они переглянулись и оба одинаково поморщились, потому что подумали одно и то же: опять эта фотомодель!
Крик повторился, и он не был похож на вчерашние визги. Скорее, это сдавленный стон. Так кричат во сне. Самоваров стал прислушиваться, но больше не кричали, зато кто-то быстро бежал по двору. Дверь задергали.
— Николаша, ради Бога!
Самоваров узнал голос Инны. Он торопливо оделся. Валерик с головой ушел под одеяло. Инна ворвалась к ним в одном своем полосатом халатике, промокшем на плечах пока она бежала под дождем. Она смотрела мимо, навылет, в стену, и зачем-то обеими руками стискивала собственное горло.
— Там Игорь… — только и смогла выдавить она.
Самоваров тут же, без всяких расспросов, тяжело похромал к Дому. Он помнил еще, что значат такие пустые глаза, как теперь у Инны, отчего бывает таким чужим и непослушным голос и как хочется что-то сделать, когда сделать ничего нельзя. Это беда. Он не знал еще, что случилось, но десятилетней давности натаска сказалась. Значит, он так же мгновенно, как тогда, чует беду и так же привычно бросается на нее. Должно быть, этому разучиться нельзя, как нельзя разучиться плавать. Он успел, к тому же, так глянуть на замаскированного одеялом Валерика, что тот тоже вскочил и потрусил следом. Инна во дворе их обогнала, но когда надо было взбираться по лестнице, вцепилась в перила и остановилась — ноги не слушались. Самоварову неловко было просить ее посторониться, и они с Валериком долго стояли, ждали, слушали, как она со свистом дышит и собирается с силами. Наконец, они двинулись наверх.
Дверь в мастерскую была распахнута. Они вошли, и голова закружилась от запаха скипидара и разбавителей, почти нестерпимого после душистой свежести дождя.
Кузнецов ничком лежал на полу, неловко подогнув ногу. Правая рука вывернулась ладонью вверх, щека прижалась к половице. Были в прошлом Самоварова времена, когда он чуть ли не ежедневно видел покойников, зато Валерик ошарашенно уставился на непривычно бледное лицо Кузнецова, на странно приоткрытые глаза и рот и все еще не мог испугаться. Только удивительно было, почему брови стали такими черными, и отчего он такой длинный, когда лежит.
Самоваров недовольно озирался. До чего все-таки здесь тяжело дышать! А ведь прежде такого не было, прежде стоял здесь неистребимый, но благородный запах мастерской, который так чарует профанов. Конечно, вот оно! Вязаная лиловая скатерть сползла со столика, где стояла всегда пропасть флаконов и бутылочек. Теперь все почти попадало, раскатилось, разбилось и пролилось. Кто-то даже пытался прибраться: осколки собраны в совок, лужицы небрежно смазаны тряпкой. Но сделано это кое-как, повсюду блестят незамеченные стекляшки и липкие озерца лака. На мольберте незаконченный натюрморт: свеча, отражающаяся в трех зеркалах. Начало натюрморта великолепное. Валерик оторвался от белого, как сырая картошка, лица покойника и столь же изумленно уставился на картину.
Самоваров склонился над трупом, тронул негнущуюся холодную руку.
— Плохо дело, — вздохнул он. — Похоже. это случилось еще вечером.
— Сердечный приступ? — робко предположил Валерик.
— Какое там! — Самоваров вглядывался в грязную черную рубашку Кузнецова. Валерик ничего там разглядеть не сумел, зато вдруг понял, что тоненькая темная струйка, вьющаяся из уголка рта — кровь. Он вздрогнул.
— Какое там! — повторил Самоваров. — Чем-то ударили в спину… Ножом, наверное. Здесь, брат, не приступ. Здесь убийство получается…
Тут только Инна перестала давить свое горло и крик в нем, громко всхлипнула и бросилась Самоварову на шею. Плача все равно не было, ее только затрясло. Самоваров машинально гладил ее дрожащую, влажную от дождя спину. Мутило от скипидарной вони. Свет дождливого утра скучно лежал на знакомых, будто позирующих предметах. Самоваров пытался заметить что-то особенное, что-то сдвинутое с насиженного привычного места, но все было, как всегда, только этот столик и разбитые флаконы бросались в глаза. А столик-то в дальнем углу… Если там дрались, стекляшки били, почему же все прочее в полном порядке? Лежит Кузнецов у мольберта, на палитре даже мастихин и краски какие-то рядочком выложены, флакон с маслом стоит целехонек. И пол тут достаточно нечист, чтоб видно было: не волокли тело, здесь он и упал. И какая странная, дурацкая штука лежит рядом, кажется, серебряная…
Инна, еще дрожа и вцепившись в куртку Самоварова, не удержалась, оглянулась на мертвого Кузнецова и вдруг рванулась к нему. Неужели только сейчас штуку заметила? Самоваров ее удержал:
— Ничего нельзя трогать!
Она удивленно подняла брови и пожала плечами, но снова обниматься с Самоваровым не стала. Она все оглядывалась на тот блестящий предмет, что лежал недалеко от вывернутой руки мертвеца. Это был широкий серебряный браслет с какими-то подвесками. Кузнецов никогда не носил ни браслетов, ни колец, ни серег, но эта побрякушка демонстративно мерцала рядом с его ладонью, будто он, падая, выронил ее. Самоваров не сводил глаз с Инны. Ее лицо выражало не испуг, а лишь тупое удивление.
— Валерик, — наконец решился Самоваров, — будь добр, спустись вниз и глянь, все ли там на месте и что поделывают. Ничего не говори пока. Дверь эту мы запрем на ключ. Хорошенькие же дела!
Он еще раз окинул взглядом мастерскую, но не заметил ничего нового и странного, кроме фигуры Валерика, послушно шаркающего к выходу.
— Дружок, — окликнул его Самоваров. — Ты бы хоть брюки надел, что ли.
Валерик удивленно посмотрел на свои худые голые ноги в расшнурованных кроссовках. А, черт с ними, с ногами! Тут такие дела. И ведь он знал, что вляпается! С самого начала знал.
Часть первая. СУББОТА.
1. Исторический аспект. Валерик
Валерик Елпидин не любил подарков судьбы и даже побаивался их. Это редко бывает в двадцать лет, но он был такой. Хотя страх его был скорее теоретическим. Нельзя сказать, что фортуна постоянно преподносила ему сюрпризы и искушала. Скорее наоборот, она и знать не хотела никакого Валерика. Единственным ее фокусом до сих пор оставалось то, что он, совершенно случайно забредя в зал городской выставочной галереи, увидел там знаменитого Игоря Кузнецова. Знал Валерик, конечно, что мэтр завтра открывает персональную выставку, но и мысли не было попадаться на глаза, заглядывать в рот — ни-ни!.. Случайность, и ничего более.
Валерик не представлял, каким бывал Кузнецов в подобных обстоятельствах в Центре Помпиду, в Монпелье, Осаке, Ингольштадте или Денвере, штат Колорадо. Может быть, сдержанно давал указания, прохаживался в смокинге, с мелькающей в дебрях бороды галстучной бабочкой — именно такая фотография вечно перепечатывалась в статьях о нем. Но здесь! Здесь он истошно кричал, гонял с места на место целую толпу помощников, сам бросался что-то двигать, беспричинно хохотал и требовал поминутно все переделать. Иногда он даже подбегал к какой-нибудь картине с кистью, невесть откуда взявшейся, тыкал, подмазывал, морщился, бросал, в конце концов, иссякшую краской кисточку и ловко правил коротким грязным пальцем. После этого он отбегал в угол, глядел, жмурил правый глаз и выкатывая левый, шипел, дышал тяжело и вдруг принимался орать, чтобы картину перевесили на другую стену. Короче, был великолепен.
В одну из таких пробежек взгляд Мастера упал на Валерика, замершего в благоговении (кажется, даже с открытым ртом). Мастер мгновенно оценил градус восторга ротозея и впихнул его в свою суетящуюся свиту. Валерик таскал картины, подметал опилки, бегал за сигаретами, клеил этикетки и совершенно ошалел от суматохи, стука и бешеных красок кузнецовских картин. Искусствоведы (бедные, косноязычные, немеющие вблизи чуда писаки!) именовали их то языческими, то космическими. Те самые кобальты и кадмии, которые Валерик ежедневно выдавливал из тюбиков и замешивал в робкие, немые грязи, у Кузнецова цвели, зияли бездонными глубинами и обдавали блаженством. Когда Валерик вытирал пролитый кем-то клей и не видел ничего, кроме грязного паркета, он все-таки — щекой! — чувствовал мощное сияние висящей рядом картины. Так чувствуют, не видя, жар печи. Даже ухо горело. Перед глазами плыли лупоглазые девы-купальницы, коровы в венках, ведьмы, пучины первобытных небес, какой-то корягообразный старец с фосфорными рогами и весь облепленный лягушками — Кузнецовские сюжеты. “Он гений, гений, — думал Валерик, восторженно размазывая клей. — Трусы, не говорят этого при жизни! Надо, чтобы он сначала умер, потом только посмеют, а ведь он — гений!”
Вечером безумного дня Валерик вдруг обнаружил себя — усталого, с дрожащими от голода и счастья коленками — в мастерской Кузнецова, среди ближайших приятелей гения: двух художников, пожилого столяра и кандидата исторических наук. Валерик со всеми вместе пил водку, хохотал, беспрестанно курил, и пьяный бес понудил его сбегать за своими работами и показать. Работы несвязно хвалили и столяр, и кандидат исторических наук, но главное, у Кузнецова сквозь хмельную муть невозможно красных глаз вдруг проступили пронзительные точки зрачков.
— Вот ты какой паренек! Вот какой! Третий курс, говоришь? Ка-акой паренек! — Кузнецов поглядывал на вкривь и вкось расставленные у стен Валериковы творения и хлопал автора по спине. Рука была горячая и тяжелая. От каждого хлопка в груди Валерика что-то тупо ухало (что-то небольшое, как бы на веревочке — сердце?) Он всегда знал, что талантлив, и никогда этому не верил. Теперь его хвалил полубог.
С этого и началось. Содрогаясь от сознания собственного нахальства, он все, что писал (а писал в горячке счастья много и отлично), таскал в мастерскую к гению, получал похвалы, а чаще едкие советы. Кузнецов слыл уже его покровителем. Сам Валерик трусливо не верил случившемуся. “За что? Со мной? Быть не может. Это кончится какой-нибудь дрянью, плюханьем в лужу, — обескураженно соображал он, но невозможное продолжалось, и скоро он ехал уже к Кузнецову в Афонино, а напротив на желтой скамье электрички сидела, провожая глазами столбы и облака, Настя Порублева.
Приглашение на афонинскую дачу было из ряда вон лестно. Местечко для избранных, этакий снобистски-богемный заповедник, славный с тех еще времен, когда для провинциальных мастеров искусств слово “дача” означало лишь курятник посреди огуречных грядок. Уже тогда молодой Кузнецов — то ли полухиппи, то ли полукомсомольский Пикассо — срубил себе какой-то небывалый дом прямо посреди леса. Слухи об усадьбе ходили странноватые, но ходили-то они среди тех, кого туда не звали.
Валерику все равно было, что говорят о Кузнецове и его даче, чем там занимаются — главное, это дом Мастера! Конечно, следовало по возможности сдержанно поблагодарить за приглашение, но Валерик и сам не понял, что у него выговорилось. Кузнецову даже пришлось ободряюще похлопать его по лопаткам:
— Да не конфузься так! А если стесняешься, то с дружком приезжай или…
Или! Валерик прекрасно понимал, что не взять с собой лучшего друга и тоже кузнецовского поклонника Романа Коробова сущее свинство, но ничего не мог с собой поделать. Он слишком давно и люто был влюблен в Настю Порублеву. Настя это, конечно, знала, как знала, что в нее влюблены все, и иначе не бывает. Красавица. Умница. Талант. Звезда курса. В других тоже влюблялись, но даже влюбленные в других были немного влюблены и в Настю. Рождаются же некоторые королевами! “Порода”, — сказала про Настю Валерикова квартирная хозяйка, когда в прошлом году он вывихнул ногу, садясь в трамвай, и вся группа (и Настя!) явилась его проведать.
Съездить к Кузнецову в Афонино Настя, конечно, согласилась и посмотрела при этом на Валерика так, словно впервые за три года увидела. Так оно, наверное, и было. Но у Валерика даже дыханье сперло. День путешествия обещал быть самым счастливым, и Валерик очень его боялся.
2. Как добраться до Афонина
Ехать пришлось больше двух часов, и Настя спокойно смотрела в окно. Там неслись мимо пестрые июньские облака, весело приплясывали березняки, свежие листья сверкали, как зеркальца.
— Красиво, но писать трудно. Сплошная зеленка! — изрекла наконец Настя. Валерик бурно и многословно согласился и тут же нечаянно лягнул под скамейкой этюдник. Тот упал, загромыхал металлическими ножками и всеми тюбиками, запертыми в его брюхе. Парень в шортах ехидно ухмыльнулся в дальнем углу полупустого вагона. Валерик-то его не видел, зато отлично видела Настя, сидевшая напротив.
— Ведь это его сын? Погляди. Тоже, наверное, на дачу едет, — зашептала она и показала глазами туда, куда и прежде часто посматривала. Валерик посматривание заметил, но оглянуться не решался.
Теперь решился. Да, он. Привалясь к окошку, там, в углу, в самом деле сидит Егор Кузнецов. Водрузил длинные загорелые ноги на противоположную скамью. Блестят мосластые коленки. Валерик встречал Егора и в мастерской Кузнецова, и в институте, и в выставочном зале — всюду он мелькал, все его знали, хотя живописью он, кажется, не занимался.
“Вот и оно. Все! — решил Валерик. — Теперь придется от станции битых три часа тащиться вместе с этим олухом”. Валерик хотел быть только с Настей, и вдруг влез этот Егор. Какая у него улыбка противная! И откуда в июне такой густейший неправдоподобный загар? Не иначе, от крема. (Валерик видел рекламу: намажешься, а наутро уже коричневый). Мускулы, конечно, надуты на тренажерах. И сам весь ни дать ни взять симпатяга из рекламного ролика какой-нибудь водички от прыщей. До чего противный.
Настя, убедившись, что незнакомец с голыми ногами действительно Егор Кузнецов, снова равнодушно уставилась в окно.
— Если и в хваленом Афонине такая же нудная зеленая местность, не знаю, удастся ли что-нибудь написать, — вздохнула она. — Ладно, посмотрим, что и как там Кузнецов пишет.
— Может, и не посмотрим. Я, конечно, надеюсь… — робко заметил Валерик.
— Как же так? Если он тебя пригласил?
— Он просто пригласил бывать. Предупредил, какие у него порядки. Ты слышала, наверное? Нижний этаж там для гостей, и практически не запирается. Входи, устраивайся, делай что хочешь, только ничего не требуй. И наверх соваться нельзя. Он там работает. Бывало, друзья неделями у него гостят, он у себя запрется, пишет, и они так ни разу и не увидятся.
— Ты хочешь сказать, нас там никто не ждет? И мы тоже можем Кузнецова не увидеть?
— Конечно. Ну и что?
Настя была явно разочарована и начала хмуриться. Валерик никак не мог понять, почему она не чувствует себя счастливой просто оттого, что они едут в Его дом, где все кузнецовские чудеса и создаются. У Кузнецова шикарная мастерская в городе, но больше и лучше работалось ему в Афонине. Мог бы он, конечно, своих русалок и леших гнать с закрытыми глазами, но воспитан-то был в старой школе, где без натуры не полагалось. Натура его заводила, распаляла, и отправляться в свои космические чащи он мог, только взявшись писать что-то немудрящее, но существующее. В Афонине он писал все подряд — кучи грибов, банки с водой, белье на веревке, собаку Альму, старую и больную (ее усыпили весной), и обязательно — обнаженных натурщиц. Он честно начинал этюд, и вдруг воздух шел цветными пятнами; просыпался, воспламенялся мозг, и выходило, что натурщицы уже с рыбьими хвостами, сидят уже на ветках, а то еще примутся воровать белье у баб из тазиков, а Альма серым псоглавцем глядит из колючих кустов. Тогда он и начинал картину.
Валерик видел в городской мастерской очень немногое. Кузнецов не любил, когда сделанное пылилось у него по углам. Раньше много раздавал и раздаривал, теперь — только за доллары. Не то чтобы скуп стал, а понял: он дорого стóит. Зато деньги тратил легко. И многолюдно было на зеленых афонинских лужайках. Как объяснить Насте, что счастье и честь просто на них побывать?
— Мне кажется, — начал Валерик, — что Кузнецов сейчас в Афонине, все-таки мы увидимся.
— А если нет?
— Тогда попишем этюды, и домой.
— И каким же образом? Я смотрела расписание: туда за день всего две электрички. Не ночевать же в лесу!
— Зачем в лесу? В нижнем этом этаже живут гости, там все устроено. Продукты у нас с собой — кормить нас, конечно, никто не будет, про это я узнавал. Но в доме расположиться можно. Там бывает иногда довольно людно.
— Да, я слышала. И про оргии слышала, и про завтраки на траве… Это правда?
Валерик покраснел.
— Не думаю. Игорь Сергеевич не такой совсем. Он в живописи весь.
— А оргии как раз живописны. Он ведь был хиппи?
— Вот уж ерунда. Хиппи не такие.
— Ты этого знать не можешь, ты тогда под стол пешком ходил, если вообще родился.
— Все равно ерунда. Хиппи все одинаковые, а он ни на кого не похож. И никогда не мог быть похож. Он — гений.
Станция Афонино оказалась крошечной, с красивым деревянным вокзальчиком времен если не инженера Гарина-Михайловского, то наркома Кагановича. Было тихо и пусто. Окошечко кассы заслонено фанеркой. Далеко на горке две женщины копались в огороде, по платформе же расхаживали рыжие куры.
Валерик достал из кармана криво оторванный кусок ватмана, на котором Кузнецов начертал дорогу к своей даче. Предупредил при этом, что идти долго, зато заблудиться нельзя, дорога без развилок. Где вот только она начинается? Валерик поискал глазами Егора. Тот, похоже, и не собирался составлять им компанию. Его шорты, полосатая майка, загорелые коленки и большая, подпрыгивающая пустотой дорожная сумка помелькали в кустах и исчезли. Явно пошел по короткой тропинке. Кузнецов говорил, что есть и такие. Можно вдвое путь сократить, надо только знать места.
Дорога в конце концов отыскалась. Валерик взвалил на плечи оба этюдника, в одну руку взял сумку с продуктами, в другую — Настин брезентовый мешок с холстами (она набрала их больше десятка. Много, значит, собралась наработать. Всегда-то она писала быстро и много).
Как они с Настей будут в лесу одни, Валерик накануне уже сотни раз воображал: пахнет хвоей, птицы поют, а они целуются. Должна же Настя наконец обнаружить, что он далеко не глуп, неназойлив и ради нее готов на все. Почему бы ей не влюбиться в него? Они будут идти по лесной дороге, без конца останавливаться и целоваться, целоваться…
Но ничего похожего не выходило. Ремни этюдников впились Валерику в плечи, особенно Настин, тяжеленный — для своей густой, пастозной живописи она вечно набирала уйму красок. Было жарко. Пот вымочил рубашку, ноги заплетались, собственная кассетница для грунтованных картонок, которую некуда было пристроить, кроме как повесить на шею, жгла, будто горчичник. Валерик все хотел и никак не мог придумать, как в этой сбруе приступить к поцелуям. Настя шла легко, забегала вперед и после поджидала его, недовольно жуя травинку. Когда за очередным поворотом что-то блеснуло, Валерик решил было, что это искры у него в глазах, и он сейчас грохнется в обморок. Но Настя, к которой перешел ватман с планом, радостно объявила:
— Река! Смотри, вот тут написано: “р. Удейка”. Это она! А сразу на берегу дача.
Обрадованный Валерик засеменил вперед, не разгибая колен и спотыкаясь о корни. Он думал только о том, чтобы сбросить свои вериги; даже собственный его небольшой этюдник, такой привычный и давно прирученный, стал вдруг вертеться на ремешке и норовил угодить ребром по какой-нибудь жиле.
У моста Настя разахалась — нет, афонинская дача не была перехвалена. Даже “р. Удейка” оказалась рекой вполне широкой, с тугой волной и муаровыми разводами ряби, говорившими о глубине и хорошем течении. Весело зеленела трава, волнились лесистые горки. Усадьба обнесена была простыми деревенскими пряслами, зато за мостом громоздились странные ворота: из жердей сложена какая-то личина. Валерик слышал, что это Ярила. Большой деревянный дом (Кузнецов писал всегда с заглавной буквы — Дом), старый уже, красиво посерел и посеребрился. Он совсем не походил на хоромы “новых русских” с их вечными горбатыми коробами-мансардами и скучно расчерченными евроокнами. В этом доме архитектурных потуг было не больше, чем в грибе или пне. Трудно было даже сказать, красив он или безобразен. Вырос таким, и все — с наполовину застекленной крышей, косоватыми крылечками, выползающей из-за угла лестницей и окошками, прорубленными без всякой системы, так что не разберешь, сколько всего этажей — два? один? три? Очень подходящий дом для Кузнецова, странный и по-своему ладный.
Валерик хоть и знал про вольные афонинские порядки, однако в ворота с жердевым Ярилой сунулся довольно робко. Никаких толп хиппи видно не было. Тишина да птичьи крики, как в лесу. Во дворе трава стояла в пояс, вся уже в зеленых колосьях. Протоптаны тропинки, в стороне две аккуратные грядки. Кроме Дома, виднелась еще пара каких-то сарайчиков и баня. Всюду по усадьбе торчали то ли отросшие после вырубки, то ли выведшиеся из занесенных птицами зернышек молодые кудрявые кусты боярышника, рябины, черемухи. За Домом росло несколько громадных лиственниц.
— Никого, — смущенно пробормотал Валерик.
— А вот и нет. Туда глянь-ка!
Настя смотрела на реку. Они взобрались уже на горку, к Дому, и отсюда хорошо виден был мост и дорога, по которой они пришли. У поворота реки белел пляжик. Там распростерлась загорелая, сверкающая от какого-то масла фигура Егора.
3. Дом и русалка
Дверь в Дом, как и ожидалось, не была заперта. На ней белела эмалевая, с отбитым уголком, табличка “Прiемная” — буквы старинные, изящные, длинные-длинные, какие сейчас признаны негигиеничными, портящими глаза.
Валерик и Настя друг за другом ступили в полутьму. Когда глаза пообвыкли, стало ясно, что “прiемная” и есть одна огромная комната почти без перегородок, однако, со множеством закоулков. Закоулки получались, потому что вся “прiемная” была буквально забита всевозможнейшей мебелью, стоявшей как попало. Старинный буфет под невообразимым углом примыкал к платяному шкафу, из-за которого высовывались увечная конторка и ширма, затянутая гофрированным шелком, страшно грязным и рваным. Особенно много было кустарных столов и столиков — от рукодельного, на единственной, непомерно пузатой точеной ноге, до обеденного семейного, который стоял, кротко опустив к полу полукруглые, на шарнирах, крылья. Казенный дерматиновый диван блистал твердыми валиками, похожими на пушечные стволы. Были здесь и полосатая оттоманка, и железные кровати с бомбошками и без бомбошек.
— Вот это да! Чудесно! — закричала Настя. С Валериком она скучала, но среди мебельной дребедени развеселилась, забегала, обнаруживая все новые сокровища. Вот у стены громадный тусклый рояль “Шредер”; струны оголены, многие порваны и торчат спиралями. К роялю прислонилась древняя водосточная труба, вся в железных розочках и с жестяной бахромой вокруг раструба. И все это завалено горами мелочей: шкатулками из ракушек, базарными аквариумами — пузырями с парафиновыми рыбками, дурацкими стеклянными и пластмассовыми вазами, с цветами, бумажными и когда-то живыми, а ныне усохшими.
— Ну, что же ты молчишь? — не унималась Настя. — Разве не прелесть?
— Да, Кузнецов любит кич, — угрюмо ответил Валерик. Ему уже было ясно, что ничего не сбудется из того, что он напридумывал про себя и Настю. Даже ужаснуло, что они здесь вдвоем и совсем одни (про Егора он почему-то забыл). Он стал смущенно разглядывать черные иконы на стене, но ничего не смог на них разобрать. Зато пониже были прибиты и превосходно читались эмалевые указатели: “Касса”, “Дамская уборная”, “Выходъ”. С афонинского вокзала, что ли? А вот и картины на клеенке: сад с цветами, какие цветут на подносах, русалки, девица в беседке, смешной толстый лев с коленками, загнутыми не в ту сторону. Источник вдохновения!
— Причем тут кич? — возмущалась Настя. — Ну да, допустим, кич. Но подобрано с большим вкусом. Смешные вещи, хлам, а совсем не похоже на свалку или чулан у Плюшкина. Невероятно стильно. Расставлено, словно в какой-нибудь пьесе. Пусть все ободранное, но стиль! Есть стиль! Кино!
Она покружилась, завальсировала, расставив руки, хотя в джинсах совсем непохоже вышло на вальс, крутанулась и с размаху упала на оттоманку. Даже под ее легким телом громко выстрелили пружины — не в лад, одна за другой. Настя блаженно вытянулась и закрыла глаза. Как в кино!
Валерик не знал, что ему теперь делать: перед ним лежала распростертая Настя, волосы легли пепельным веером, на носке повисла босоножка, и все это так красиво. Но явно не для него. Сделай он шаг, поцелуй эту босоножку — ведь взовьется, возненавидит. Она это умеет.
Да, он из другого фильма…
Он смущенно глотнул слюну, немного потоптался и тихо, согнувшись, как от постели тяжело заснувшего больного, двинулся к двери. Во дворе он с удивившим его облегчением подставил лицо солнцу и сел на траву. “Фу, весь мокрый. Что теперь делать? Никого вокруг. Не бежать же?” — думал он и твердо уже был уверен, что все испорчено. Но когда? Кем?
Он посидел, отдышался. В Доме слышались Настины шаги. Глупость, комплексы, надо встать и весело, как ни в чем ни бывало, к ней вернуться. Но никуда он не пошел, потому что заскрипели ступени лестницы, той самой, выглядывающей из-за угла. В щелях и скрипе мелькнуло что-то яркое, и на обращенном к Валерику последнем лестничном марше возникли крупные и стройные ноги, при них крошечная зеленая юбка и через бело-телесную полоску живота яркая фиолетовая майка с какой-то надписью, так растянутой и искаженной двумя крутыми волнами большой груди, что прочесть ее стало невозможно. Последним показалось круглое нежное лицо, глаза, голубые яркой цветочной (а не водяной, прозрачной) голубизной. Губы были щедро накрашены серой перламутровой помадой. Ничего этого Валерик прежде не видел, но красавицу моментально узнал. Именно она — преображенная, нагая, размноженная в толпы — плескалась в кобальтовых омутах, завивала венки, глядела сонной луной с кузнецовских небес. “Он гений, — привычно повторил Валерик, — что он из нее сделал!” Он вскочил так почтительно и изумленно, будто по скрипучей лестнице спускалась сама Джоконда.
— Здравствуйте!
Русалка равнодушно ответила, но Валерик нашел необходимым поддержать светский разговор:
— Игорь Сергеевич дома?
— У себя. А вы что, по делу?
— Да нет, — смутился Валерик. — Он меня приглашал…
— Пятница, — вздохнула русалка, уселась на нижней ступеньке и деликатно свела колени. — Два только дня отдохнули. В пятницу завсегда наезжают. Запомни, — внезапно и уже навсегда она перешла на “ты”,— дом у нас деревянный, внутри не кури, на то двор есть. На кухню дверь сзади, а если шашлыки, костер — не тут, вонúт. Лес большой. И наверх не суйся. А эта с тобой?
Она заметила Настино мельканье за приоткрытой дверью. Валерик покраснел:
— Да. Сокурсница.
— И сколько вас?
— Кого? — удивился Валерик.
— А я знаю? Может, вас там уже полна горница, — неприязненно предположила красавица. Похоже, она не любила гостей.
— Нет, мы только вдвоем. Кажется, и Егор здесь.
— Я видала. Вон и Николай Алексеевич в стайке.
Она кивнула на сарайчик во дворе. Там тоже была открыта дверь, и в самом деле, будто кто-то шевелился и начал даже постукивать.
Русалка с любопытством переводила взгляд с Настиного силуэта в дверях на сконфуженную и унылую мину Валерика.
— Поссорились? — наконец спросила она с девчачьим знанием дела.
— Нет. Ничего такого. Мы просто на этюды приехали, — оправдывался Валерик, окончательно взмокнув и стараясь не моргать. Ему казалось, что в своем конфузе он виден насквозь. Однако его смятение неожиданно смягчило неприветливую красавицу.
— Есть спички? — сочувственно спросила она и достала откуда-то из-под ступеньки початую, придавленную пачку “Мальборо”.
Они вполне дружески закурили.
— Как зовут? — заговорила русалка.
— Валерий.
— У! Да мы ведь тезки! А я Валерия.
— Редкое имя.
— И мне идет, да? Если б такой певицы не было, я б могла даже без фамилии зваться. Я ведь только лето тут живу, так… — она пренебрежительно махнула рукой. — С осени буду в модели устраиваться. Игорь Сергеевич мне помочь обещал, у него ведь связи, все может. Сейчас в рекламу требуются. Худеть только надо.
Она жалостно посмотрела на свои розовые, далеко протянувшиеся в траве ноги. Валерик тоже посмотрел. “Да, рост у нее модельный, — оценил он. — Но уж и весу…”
— Работа серьезная, — наставительно начала Валерия. Видно было, что расположилась она к нему совсем уж дружески, даже не считая его достойным кокетства мужчиной, что было немного обидно. — Главное себя строго держать. Я читала в “Космополитене”. Диета страшная. Я уж хлеба совсем не ем. Давно. Неделю. Без сладкого не могу пока. Пробовала — не могу. Надо овощи, огурцы, да я это не больно люблю. Папка у меня вон зеленого ничего не ест; что я, говорит, корова — траву хрумкать. Картошка ведь тоже овощ, да? И я как раз люблю, особенно жареную, а потом сметаной залить.
Голубые глаза Валерии засияли и погасли. — Картошку почему-то тоже нельзя. Что тут делать? Есть таблетки сжигающие, но мне их Игорь (“Ага, вот и проговорилась!” — позлорадствовал Валерик) не разрешает. Говорит, для здоровья вредно. А что мне на это смотреть? Здоровья у меня на троих хватит.
4. Исторический аспект. Валерия
Свое здоровье на троих Валерия привезла из села Пыхтеева Нижнетумского района. Там звалась она Валентиной Кошкиной, чаще даже Валькой. Там кончила школу и с двумя подружками отправилась в город, в продавщицы. Хотелось, конечно, не столько в продавщицы, сколько в артистки, но Валентина честно признавала, что для этого способностей у нее нет никаких — даже слуха, даже памяти.
У тетки одной из подружек оставила она вещи и харч на первое время (сумку картошки, сало, две банки огурчиков, две — кроличьей тушенки). Были у нее специально перерисованные школьной черствой, как кирпич, акварелью, картинки: Микки Маус, кукла Барби, бутоны роз. С ними и пошла она в художественный институт. Это чуть похуже, чем в артистки, зато способности определенно были. В школе Валька писала объявления печатными буквами и даже изобразила рельеф местности в разрезе для кабинета географии. Удивительно, но и здесь ее способностей оказалось недостаточно. Приемная комиссия (так было написано на двери, а в комнате сидели облезлая, чуть не с плешью, тетка и крошечный старичок) даже документы не взяла — “вы, мол, деточка, к нашему уровню не готовы, не пройдете предварительного просмотра”.
Как жаль! Девчонки и парни здесь были такие веселые и нарядные, и Вальке хотелось быть такой же. Она грустно напяливала резинку на своих трубкой скрученных Микки Маусов, когда кто-то сзади тронул ее за плечо. Глянула — стоят два мужика. Немолодые уже, наверное, лет за тридцать (самой-то Валентине недавно сравнялось семнадцать). У обоих бородки, одеколон пахучий, густой. Тот, что поплотнее и почернявее, закачал головой: “Что, повернули? Ай-яй-яй! Не беда, подготовиться надо. Знаете, пойдемте в мою мастерскую, я вам поставлю натюрморт…” Второй прыснул: “Так это сейчас называется “поставлю натюрморт”?” Валька не все слова поняла, но в чем дело, сообразила. И пошла. Мужчины приличные, не алкаши с улицы. Тут, в институте, наперебой все с ними здоровались, значит, какие-то шишки. К тому же, вспомнилась кривоватая, злющая физиономия подружкиной тетки — к ней что-то не хотелось.
Чернявого звали просто Игорем. Вальке неудобно было называть такого дядечку без отчества, но другой был еще старше, а сказался и вовсе Павликом. Они пришли в мастерскую, полную картин, которые совсем не понравились Вальке. Правда, она умненько этого не сказала. Сама же мастерская поразила — громадное помещение, даже лесенка есть и что-то вроде балкона. Ей объяснили, что оттуда на большие рисунки можно глядеть, если их разложить на полу. Было тут пыльновато и не слишком уютно, зато пахло хорошо, хотя и не жильем. Валька тогда не знала, какая это шикарная мастерская, одна из трех специально построенных мэрией для местных гениев. На Западе такие хоромы называются студиями. Имелась тут даже ванная, кухонька и комнатка-ночлежка, где помещался громадный раскладной диван.
Павлик сбегал за едой в шуршащих и хрустящих пакетах и ярких баночках. Дома Валька такие баночки собирала под мелочи, под рассаду — жалко ведь красоту выбрасывать. Когда Павлик накушался, напился до икоты и ушел, на знаменитом раскладном диване с давно промятой ложбиной для двух тел случилось то, что должно было случиться и что не было для Вальки ни новостью, ни потрясением. Девичьей чести помину не было еще с прошлого лета, когда в Пыхтеево приезжал в отпуск Сашка Зуев, который работает в Нетске на автобазе. И потом всякое бывало. Сама Валька это дело не очень любила, но теперь без секса никак нельзя, иначе не станет видный парень с тобой гулять, будь хоть раскрасавица.
На другой день Валька и вещи, и харч перетащила в студию. Зажилось ей спокойно и сытно. Скучновато только: на дискотеку Игорь два раза отпустил и перестал — там, мол, наркотики и всякие безобразия. Денег у нее хватало, да не за что-то срамное давались деньги, а за работу. Когда в журнал девушку на фото снимают — это модель. У художников то же самое называется натурщица. Игорь уверял, что работа не хуже прочих. Валька не слишком верила и долго не хотела раздеваться для рисования. Но куда денешься, раз уж стала с художником жить. Она не подозревала, что Кузнецов и спал-то с ней, главным образом чтобы ее можно было писать. Предложи он ей тогда, в институтском коридоре, сесть перед ним голой, она бы плюнула и убежала. А не писать ее он просто не мог — такую большую, бело-розовую, сказочную, что ему порой казалось, он сам ее придумал. Валька позировала хорошо, терпеливо, но все-таки ей было немного стыдно. Утешалась тем, что на картинах ее не узнать. Сама себя она, во всяком случае, не узнавала. Подружки, что с нею приехали, даже и в продавщицы не попали — безработица в городе. Мыли они где-то полы и завидовали ей. Было чему: работает в Доме художника, ходит нарядная, на сладостях отъелась — цветок!
В Игоря Валька ничуть влюблена не была. Не уважать нельзя — солидный, с деньгами, даже разведенный (и тут не соврал!). Но нравились ей молодые и красивые, такие, как Егор Кузнецов, который обращал на нее внимания не больше, чем на табуретку.
В общем, ничего жилось.
К зиме появилась Гадюка.
Она, должно быть, и раньше была, но замечать ее Валька стала к зиме. Давняя такая Игорева подружка. Торчит в мастерской, чаи распивает. Сядет на диван, ноги сплетет, на картину глядит долго-долго и начинает плачущим голосом: “Когда ты перестанешь меня удивлять?” Игорь в мастерской ночевал редко, у него в городе квартира, где Валька никогда не бывала и только раз звонила туда по телефону, когда в студии прорвало батарею. Голос отвечал женский, похоже, Гадюкин. Но Валька не обижалась: у нее же с Игорем не любовь. Она тут натурщица, на работе. Чаю тоже ни для кого не жалко. Но ведь оказалось — гадюка!
Наружу все вышло однажды вечером, в феврале. У Вальки тогда горло разболелось, она прилегла в своей теперь комнатке, на том же раскладном диване. Даже задремала. Игорь с “этой” куда-то идти собирался, но вечер был вьюжный, они пригрелись и остались.
Валька с температурой, спится ей и не спится. То снится что-то, то слышится, как “эта” ходит-цокает (в мастерской она надевала какие-то восточные туфельки с деревянными каблучками — бугорками). Попыхтел, пошумел чайник и затих. Чашки звякают, разговор тихий. Валька сквозь жар глядит на угол окна. Там, за рамой, синий сугробик виден, холодный-холодный, и его еще холодной крупой обдувает. Дремлется, а сквозь дрему слышится:
— Да, эта у тебя надолго задержалась…
— Пусть. Смешная девица, — это Игорь отвечает.
— Она ведь насовсем расположилась. Ты что, вечно ее тут держать будешь?
Вот гадюка! У Вальки весь сон пропал. А та свое:
— Потом трудно будет выставить. Это как собачонка приблудится, бежит за тобой до самого дома, до двери, и в глаза заглядывает. Жалко, а пнуть надо. Сам виноват: нечего приманывать. То, что ты делаешь, глупо и негуманно. Пока она совсем не обвыкла, устрой ты ее куда-нибудь, ради Бога! Натурщицей той же самой, лаборанткой на кафедру. Кем угодно, но здесь не держи.
Валька даже глаза выпучила. Вот дрянь! Нашла собачонку! Кому же это она в глаза заглядывала?! А не наоборот ли, не ей ли заглядывали, да и не в глаза?! И Игорь хорош, хрюкает себе что-то под нос, а Гадюка разливается:
— Влипнешь, влипнешь, Кузнецов! А если она забеременеет?
— Не забеременеет. Фирма гарантирует.
— Ты, Игорек, не фирма, а балда. Гульнет с кем попало, а ты хлебай! Я тут уже какого-то Витька видела.
Витек в самом деле был, пыхтеевский сосед. Ночевал на топчанчике за полками всего-то три ночи. Человек женится, за мебелью приехал — не на вокзал же гнать! Валька все объяснила, как есть, а Гадюка вон как теперь поворачивает!
— И не отмахивайся, было!
— Какая ерунда, — наконец фыркнул Игорь.
— Не ерунда. Она же бесстыжая по-детски. И не забывай — несовершеннолетняя, хоть и бабища в сто пудов. Обязательно влипнешь.
— Да ну!
— Увидишь. Забаловал ее, вот она и обнаглела. Бесконечные и чудовищные тряпки. Ты бы хоть вкус ей развивал! А имечко это чего стоит — Валерия! Нет, я все понимаю. Понимаю, как ты одурел, когда вот это все увидел. Этот коровий взгляд. Эту розовость. Эти огромные наивные груди. Но заметно, и очень — тебе уже надоели пасторали. И в них особенно твоя роль резвого пастушка. Пиши ее на здоровье, но к чему все прочее, ненужное, мешающее? Освободись!
Они помолчали, слышно стало какое-то шуршанье и всхлипывание. Целуются? Валька боялась пошевелиться, хотя любопытно было бы глянуть.
— Ты у меня одна, — сказал Игорь другим, севшим голосом. Так и есть, целовались.
— А Лиза?
Это кто еще? Валька удивленно заморгала, цепляя ресницами колючее одеяло художественной работы. Шорохи и вздохи слышались снова. Грубо скрипнул подиум, на котором Валька днем позировала. Теперь они на нем чай пили. Скрипнул и заскреб, заскреб…
«Завалились, срамники, — злобно шептала Валька. — Думают, такая дурища, как я, должна спать бревном». Ей очень хотелось встать, выйти вроде в туалет и застукать голубков. Какая будет физиономия у этой копченой селедки? Встать она все-таки не решилась: вдруг не удержится и вцепится Гадюке в черные ведьмацкие патлы! Не из ревности, а за собачку. Хорошо бы еще мордой в тарелку с печеньем…
Это была первая злая мечта.
Разозлилась Валька так, что и болезнь прошла: лоб стал холодный, а горло драла не ангина, а обида. Она ведь и в самом деле, дурочка, думала, добрый человек попался, а он просто — попользовался (пусть она и не девочка была, на это теперь не смотрят), и со двора долой. То-то пошли всякие подначки: “Дева, каковы ваши творческие планы?.. Учиться надо, ученье — свет”.
Вот и просветили.
И чем Гадюка берет? Ведь за тридцать уже — старуха! Вся в дурацких железных цепках и колечках (“Валентина, это авторское серебро!”). Платья вечно черные или мелко-пестро-серенькие, будто сороки загадили. А вот она, Валька, богиня — как Игорь говорит. Тот Игорь, что теперь собрался ее выпроваживать.
На другой день он так и сказал: иди в институт натурщицей. Щас! Голой перед толпой обалдуев сидеть! Зато место в общежитии… Уж лучше в продавщицы. Нет, она стребует с него: пусть устраивает в модельное агентство, иначе… Она еще не придумала, что иначе, но спать с ней он уже перестал.
На дачу она все-таки приехала — к деньгам привыкла, да и Афонино понравилось. Вольно, зелено, почти как дома в Пыхтееве. Она и грядки завела, хотя Гадюка злилась, что стиль портят. Редиску между тем трескает!
Осенью — куда? Пусть Игорь как следует ее устраивает. Она позировала: лежала в траве на маленькой дерюжке (Игорь писал богиню в цветах), сидела на скамейке, стояла, держась за осинку. Натурщица — работа тяжелая, но голова-то совсем не занята, и в ней злые жили теперь мечты. Как бы уйти — не собачкой, отброшенной каблуком. Чтоб им обоим тошно стало. Смотри-ка, решили проблему. “Освободились”!
5. Звук лопнувшей струны
По деревенской привычке приглядываться к новому лицу и тут же влепить неотвязное прозвище Валерия-Валька понаблюдала мелькание Насти за приоткрытой дверью Дома и решила: “Шныряет, как ласка!..”
Настя действительно походила на небольшого зверька, серебристого и красивого. Но сама она с таким уподоблением не согласилась бы, хотя в зеркало смотрелась часто. И даже в “прiемной” устроилась на оттоманке, где напротив висело огромное зеркало в облезлой раме. Еще отсюда была видна дверь и Валерик, обиженно сгорбившийся на травке. Он все время посматривал в ее сторону, но разобрать со света ничего не мог.
— А я тебя вижу! — мысленно поддразнила Настя. — Дуется Елпидин, и пусть. Главное, привез меня сюда, впустил. Теперь ключик можно и выбросить.
И она вернулась к зеркалу, вернее, к тому, что всегда разглядывала с радостью — к собственному отражению. Зеркало мерцало подпорченной старинной амальгамой, которая отслаивалась чешуйками, а кое-где глядело и вовсе простое голое стекло. Зеркало умирало, но Настино лицо было в нем невыразимо прекрасно. Какой Елпидин? Зачем Елпидин? Здесь, в этом странном доме, должна, наконец, начаться ее настоящая жизнь среди настоящих людей. Только так и должно быть. Она, конечно, скоро станет знаменитой. И как повезло, что она в придачу еще и красавица. Здесь и узнают, и рассмотрят, и все начнется… Насте привычно привиделась какая-то будущая выставка, вернисаж с тяжелыми букетами и телевидением. Сквозь неясный предполагаемый блеск неясно послышались голоса. Приблизилось шарканье шагов, писк старого дощатого пола. Оказалось, пока она тут сидела сонной Нарцисской, кто-то вошел. Как же она прозевала?
Голоса были уже совсем рядом, за соседним массивным шкафом. Говорили мужчина и женщина. Настя опомнилась от своих фантазий, и стало невыносимо неловко, потому что разговор шел нервный, и не для посторонних ушей.
— Сколько можно об этом, — басил мужчина, — ты знаешь, у меня есть вещи, которые навсегда, и ты первая…
— Одни слова, — перебил женский голос, тихий и недовольный, — слова, как всегда. Ты то, что не нужно, то, что будет тебе мешать, просовываешь теперь во всегда.
— Да, просовываю, и все эти абстрактные материи тут ни при чем, не прячься. Ты ведь, Инна, обставляешь все так, чтобы я чувствовал себя перед тобой сволочью. Но, кажется, я выдержу, и таки сволочью останусь, потому что я ей обещал.
— Разумеется, там нельзя быть сволочью, — злым шепотом перебила женщина. — Там же деньги!
— Да у меня своих до черта! — рявкнул бас. — Вот уж не ожидал от тебя этих жлобских подковырок. Ты же мой божественный дар чтишь! У, чертовы бабы, допекли!
— А ты никого не допек? Бедненький, он и не ведает, что творит! Не знает, что так легко убить! — раздалось прямо над ухом у Насти. Это было уже чересчур!
Настя вскочила. Громко и уныло пропела пружина, распрямившаяся в глубинах оттоманки.
— О, звук лопнувшей струны! — почему-то очень весело вскричал мужчина. Должно быть, обрадовался избавлению от неприятного разговора.
Он уже вышел из-за шкафа — заурядного роста, с клочковатыми волосами и такой бородой, будто ее он сам стриг, причем не глядя в зеркало. Зато пристальные зеленые глаза замечательные. Хоть что-то замечательное должно же в нем быть! Ведь это был не кто иной, как сам знаменитый Кузнецов. Увы, и с брюшком! Настя видела его со стороны тысячу раз, но сейчас, когда судьба ее должна была решиться и звезда засиять, ей хотелось, чтоб он был хоть чуточку попрезентабельнее. И одет-то он был во что-то неопределенно-темноватое, только на огорчившем Настю животе поблескивало большое многоцветное пятно. Масляные краски. Руки вытирал!
Показалась и женщина в полосатом легком халатике. Темноволосая, глаза широко расставлены.
Настя попыталась поздороваться, и Кузнецов улыбнулся. По этой улыбке Настя сразу определила, что зацепила его. Так она про себя называла неизбежное впечатление, сейчас особенно нужное. Да, Кузнецов рассматривал ее именно так, как она хотела, только дама в полосатом все молчала, и от этого было неловко. И где Елпидин? Когда нужно, вечно его нет.
Валерик услышал голос Кузнецова и уже бежал к ним с дворняжьей, противной Насте радостью в лице.
— Игорь Сергеевич! Это Настя! Учимся вместе! У нас пленэр, все в городе, а мы вот к вам! На немножко!
Кузнецов, как всегда, похлопал его по спине:
— Привет, Максим!
Валерик вздрогнул. Почему-то подумал: как нас много, наверное, вокруг него…
— Я Валерий…
— Черт, ну конечно. Имен вечно не помню. Зато твои “Яблоки и чашки” не перепутаю.
Это была последняя Валерикова удача.
— Валера — конечно, конечно! — Кузнецов еще мощнее похлопал по Валерику, но смотрел неотрывно на одну Настю. — Пишите, сколь влезет. Есть что?
Настя решилась вставить слово:
— Может, на речке поработаем, там, где дом виден и мост. А в лесу ведь теперь сплошная зелёнка. Скучно.
— Да? — весело удивился Кузнецов. — Так ведь за это надо взяться умеючи!
Теперь смутилась Настя. Кузнецов деликатно отвернулся, приобнял полосатую даму.
— Вот это Инна, она хозяйка здесь. Устраивайтесь.
Инна кисло улыбнулась ему, а не гостям. В который раз она уже это видела! Он всегда веселел, когда встречалось незнакомое красивое лицо. И теперь оживился, сочно выдавливал скрип из половиц своим немалым весом и прохаживался гоголем перед новенькой сероглазой девочкой.
— Зелёнка, говорите?.. Настя? Я не ошибся? (“Вот теперь не ошибся”,— грустно отметил Валерик.) Знаете, как мы сделаем? Я сейчас постановку пишу. Неожиданно красивая получилась. Золото на серебре. Давайте после завтрака ко мне наверх. Тоже попробуете, только быстренько. Сегодня бы кончить, а то вянет.
— Спасибо, — отозвался Валерик, хотя и не понял, что, собственно, вянет. Зато слишком понял: Кузнецов оценил Настю. И ее ответную старательную улыбку Валерик тоже понял. Вот как, значит. Вернее, совсем ничего это не значит! Настя всем нравится, ну и что? Зато он и мечтать не мог, чтобы работать рядом, в Его мастерской, писать то же, что и Он!
Через час они, гремя этюдниками, двинулись по лестнице наверх, в святилище. Егор как раз появился во дворе и сразу сообразил, что это за процессия. У него явно были свои планы. Он прибавил шагу, почти толкнул Валерика и ринулся наверх так резво, что лестница качнулась. Хлопнула дверь мастерской.
Валерик и Настя недоуменно переглянулись. Егор нахально опередил их, но если б они видели, как он переменился там, за дверью! Егор давно мечтал входить в мастерскую отца небрежно и запросто, но это никак не получалось. С детства было вдолблено: не лезть без разрешения, ничего не брать в руки, не шуршать, не сопеть, не стучать ногами. Когда Егор впервые попал в церковь, то удивился, испытав то же чувство пришибленности, почтения и неясного страха, что и в отцовской мастерской. Даже запах был такой же, горьковатый, угрожающе обольстительный. То ли дело “прiемная”! Там много веселых вещей, там делай что хочешь, там балуют.
В мастерской Кузнецов не терпел ничего лишнего, только инструментарий, как он выражался, и картины. Начатые — лицом к стене, готовые — на стеллажах. Теперь стеллажи чаще пустые. Егор вошел, сразу стал считать — похоже, всего восемь готовых. Бывает, что и вовсе шаром покати, все разошлись. Хорошо покупается Игорь Кузнецов!
Сейчас посреди мастерской была постановка: на двух мольбертах распялен кусок не слишком чистого белого атласа, а вокруг пучки белых цветов в банках. Егор посмотрел на мольберт. На холсте среди цветов и жемчужных разводов сидела обнаженная Инна. Егор старался не смотреть в угол, где она, живая, настоящая, уже ждала в своем полосатом халатике — он знал, надетом на голое тело, и от этого мороз по коже — ждала и читала книжку.
Отец давил краски на палитру, его глаза быстро перебегали с лоснящихся атласных складок на холст. Чувствовалось в нем пополам недовольство и нетерпение. Теперь к нему не подходи! Но Егор решил не отступать, очень уж хотелось успеть на обратный пятичасовой поезд.
— Папа, есть разговор, — начал он, приготовился к трудному и внутренне сжался в твердый неживой комок.
— Ну? — Кузнецов даже не обернулся, скреб мастихином по палитре.
— Пап, это серьезно. Очень. Надо бы один на один.
Инна, не отрывая глаз от книги, встала, но Кузнецов тихо и зло ее остановил:
— Инна, сядь. Сейчас начнем.
— Это очень важно, папа, — прогудел Егор, нажимая на “очень”.
— Для кого?
— Для меня.
Кузнецов медленно повернулся. Глаза у него были чужие, глядели уже издалека, из неоконченной этой картины.
— Я ра-бо-та-ю. Ты что, забыл? Не мешать! Знаю твои важности. Чего детке хочется? Новых штанов? Самолет? Вояж в Монте-Карло?
И тихо закончил:
— Вон пошел.
Егор побледнел, даже вперед было дернулся, но потом круто развернулся к двери. Хотелось уйти твердо и презрительно, но получилось мимо. Он больно стукнулся плечом о косяк, и почувствовал спокойный провожающий взгляд Инны. Все как всегда.
Он уже низвергался по ступенькам, когда из глубины мастерской отец громко позвал:
— Егор!
— Да, — он с надеждой замер.
— Позови там ребят, пусть поднимаются. Сейчас начнем.
Ребята и сами слышали зов, торопились наверх. Пока они ставили этюдники, Кузнецов уже что-то трогал на своем холсте, соскребал негодное, разонравившееся. Двери и окна были раскрыты, вздувались и опадали штопаные тюлевые занавески, очень уютные и домашние. Утро Кузнецова снова начиналось радостно, работой.
По реке близился ровный, смирный гул хорошего мотора. Инна встала и высунулась в окошко. Внизу Валька, нежно-розовая в дико-розовом купальнике, полола свои грядки, но распрямилась, когда из-за поворота реки выскочила щегольская моторка, сделала широкий лихой круг и причалила к мосткам.
— Инна, — властно потребовал Кузнецов. Валерик и Настя были готовы. Инна вернулась, стала укладывать на венском стуле белую тряпочку, чтоб не кусали щели, и прислушивалась к голосам на берегу. Потом все-таки не выдержала и снова выглянула.
— Игорь, там Семенов приехал.
— Ну и что, — пробурчал Кузнецов, уже меся на палитре голубую в белилах.
— Надо бы выйти.
— Ну его к черту.
— Нельзя. Он же столько покупает. Дал денег на каталог. Это не первый встречный, не забывай. Не проситель. Это, как ни глупо звучит, меценат. Твой, — тихо увещевала Инна.
Кузнецов кривился и скалился, но не сводил глаз с атласа и белых букетов.
— Игорь, ты собираешься на Биеннале?
Этот вопрос произвел должное впечатление. Кузнецов набрал в легкие воздуху, набычился, швырнул наконец кисть и вытер руки грязной тряпкой.
— Черт бы его побрал! Принесла нелегкая! Не дают работать!
— Только на минутку, — утешила Инна.
6. Золото на серебре
На последнем марше лестницы Кузнецов заставил себя осклабиться и дополнительно вытер о живот правую руку:
— Наконец-то, Владимир Олегович!
Во дворе на лужайке все ожило: сновали какие-то крепкие молодые люди, таскали в дом из моторки пакеты. Валька в розовом и с тяпкой в руках откровенно глазела на происходящее, Егор топтался тут же. И все это потому, что прибыл важный гость — банкир и меценат Семенов. Важный гость был скромным молодым человеком в серенькой легкой рубашке (судя по невзрачности, от дорогого дизайнера) и сереньких же коротких штанах. Он тихо улыбался:
— Да, Игорь Сергеевич, вот выбрался посмотреть на ваши чудеса. Столько слышал, но, признаться, не ожидал, что такая красота!
Крепкие молодые люди как раз проносили мимо спиннинг и еще что-то рыболовное.
— Вот, порыбачить еще хочу, — объяснил Семенов.
— Пожалуйста, пожалуйста, вам Егор места покажет.
Егор, улыбаясь, подступил сбоку к Семенову. Тот и ему потряс руку.:
— Как, мой проворный партнер по теннису еще и рыболов? Славно, славно.
Общее оживление было деланное, но приятное.
— Добро пожаловать в мои владения. У меня все просто. А этот крепостной балет с вами будет? — Кузнецов провожал глазами трудолюбивых молодых людей.
Семенов расхохотался:
— Да нет, я их домой отправлю, хотя сознáюсь, Слепцов возражает, это мой начальник охраны. Что тут может произойти? Да и не знает никто, что я здесь. Вот пусть провизию выгрузят и едут. Я ваши порядки знаю!
— Ради Бога, ради Бога. Порядки простые! У меня всегда гости, сегодня вот приехали Максим и Настя, студенты-художники. А вот Валерия, — Кузнецов взял за руку розовую Вальку. — И Инна!
Инна кивнула сверху. Она стояла в дверях, обдуваемая ветром. Тюлевая занавеска то надувалась вокруг нее парусом, то вдруг приникала, будто желала, но не могла ее обнять. Кузнецову адски захотелось работать, и одна его нога без спросу, повинуясь только глубинным желаниям хозяина, поднялась на одну ступеньку вверх. Сколько можно тут расшаркиваться!
— Вам ничего не нужно в город передать? Мои ребята сейчас едут, — любезно предложил Семенов.
— Нет-нет, — отказался Кузнецов. — Я тут зарылся основательно. Работа! Хорошо бы до осени.
— Вот счастливец! А я к вам только на уик-энд. В понедельник заберут меня, лечу в Нижний.
— Как жаль, — соврал Кузнецов. Он был уже на третьей ступеньке и маялся под ласковым взглядом банкира, который то ли не знал, как закончить беседу, то ли чего-то хотел. Наконец Семенов решился:
— Даже не знаю, как и просить. Игорь Сергеич… Ценя ваш дар… Не хотелось бы мешать…
Кузнецов похолодел. Он догадался, что Семенов будет просить (были уже намеки) написать портрет своей жены — надменной, стильной и Кузнецову чрезвычайно антипатичной. Он ужаснулся, вспомнив умелый макияж, наряды от покойного Версаче и заученные позы. Это гроб!
— Я всегда мечтал, — продолжал Семенов, — вы ведь в мастерской сейчас?.. не будет ли бестактно… мне присутствовать… тайна творчества… но я ни звука…
Кузнецов понял и облегченно закивал:
— Какой разговор! Сколько угодно! Только сидите тихо!
Он игриво поднес к губам палец с грязным ногтем и чуть ли не скачками двинулся наверх. За ним следовали Семенов и Егор, которого никто не звал.
В мастерской Кузнецов сразу бросился к мольберту.
— Инна, — позвал он.
Инна, в углу склонившаяся над книжкой, отложила ее с явной неохотой, привычно быстро скинула халатик и прошла нагая к венскому стулу. Она села, обвив рукой грубый черный завиток спинки. Когда ее матовое желтовато-сливочное тело застыло в центре жемчужного и разнообразно-белого, стало ясно, что это и есть “золото на серебре”. Бессмысленное соединение куска грязного атласа и белых букетов (персидская сирень, вчерашняя, действительно уже привяла) засияло тысячей оттенков. Среди языческих буйств у Кузнецова попадались светлые, тонкие вещи. Такую он теперь и писал, придумав постановку, где среди нежного и светлого только волосы, брови и широко расставленные глаза Инны бархатно зияли. “Он гений”,— наверное, думал Валерик. Они с Настей усердно взялись за работу. Особенно Настя. Она рисовала небрежно и всегда торопилась начать красками. Скорее, скорее! Быстрый, нетерпеливо брызжущий подмалевок — мимо, мимо! — и наконец-то ее стихия: толстая щетинная кисть-лопатка, мастихин. Слой громоздится на слой, сменяются густые, ребристые мазки, лоснятся цветные точки и лихо срезанные мастихином ароматные ломти краски, — как она это все любит!
Она всегда увлекалась, и теперь увлеклась так, что даже забыла замечать, как на нее поглядывает Кузнецов. Он только заканчивал вчерашнее, у него уже все получилось, подтянулось, стало на свои места, и он больше глядел на понравившуюся ему девочку. Мелькала Настина быстрая тонкая рука с мастихином, проступил на щеках слабый румянец, какой бывает у бледных от природы. Одна светлая прядь выбилась и падала на лоб и щеку. Настя смешно от нее отдувалась, отбрасывала назад испачканной рукой, так что скоро на лбу появилась длинная, косая зеленая черта, а на скуле другая, белилами. Эта раскраска придавала ее лицу страстное выражение.
“Славная девочка”, — решил Кузнецов. Он любил неожиданные встречи, разнообразно прелестных женщин и быстрые, без надрыва, романы. Тогда он чувствовал себя молодым, сильным, прекрасным, всемогущим, и все было хорошо. Вот как теперь: постановка удалась, занавеска от ветерка мирно дышит, надуваясь — и он тоже так дышит, полный сил.
— Хватит, — сказал он, ткнув кисть в тряпку, — Инна, детка, все пока. Что там за шум, а? Не моторка? Наверное, Покатаев приехал, как же без него!
Инна накинула халатик, ушла, хлопая тапочками. Егор прыгал по лестнице встречать нового гостя. Кузнецов этого никогда не делал, так что Семенов оказался исключением, и то сделанным из-под палки. Семенов, сидевший, тихо, как мышка, на табуретке, тоже осторожно встал. Выходя, он почему-то взял книжку, которую оставила Инна, и прочитал заглавие: Монтень. “Опыты”.
— Кисти поболтайте в солярке — и на речку, с мыльцем, — проинструктировал Кузнецов. Настя сунула свои кисти Валерику, и тот нехотя побрел к Удейке. Она осталась вдвоем с Кузнецовым… “Ну вот теперь, — решила Настя, — теперь нечего зевать”. Она взяла свой этюд и быстро начала:
— Игорь Сергеевич, посмотрите, что у меня получилось. Пожалуйста. Я и не мечтала, что удастся с вами поговорить.
Кузнецов прислонил ее холст к ножке мольберта, глянул. Что же, по цвету красиво, довольно точно, гармонично. Скомпоновано неважно, рисунок бездумный. Способная, горячая, амбициозная девица.
— Девочка, это недурно. Недурно. Я и не ожидал. Вполне. Красиво, красиво! Только, детка, рисовать все-таки надо. Голень бессмысленно длинная. А голова как посажена? Зачем ты торопилась? Компоновать не мешает. Впрочем, для учебной работы сойдет. Но такую красоту-то превращать в стандартный этюдик не жалко, а?
Настя застыла. Ей самой еще минуту назад так нравилось то, что она сделала, а оказывается, совсем не то! И главное, он прав, сейчас и она ясно видит все эти огрехи. Так стыдно.
Кузнецов, заметив ее конфуз, даже начал успокаивать:
— Ну что ты, что ты! Сразу увяла. Я же говорю, что красиво. Рисовать и зайца можно выучить, а глаз на цвет — это все. Да и можно в конце концов чем-нибудь без рисунка заняться. Теперь вы без многого ловко обходитесь… Ну вот, опять обиделась. Ведь это я хвалю!
Он подошел совсем близко, так что Настя чувствовала, как от его горячего дыхания чуть шевелятся волоски у нее на макушке. Потом взял за руку. Ее рука дрогнула, но осталась. Он сжал тонкие, детские косточки. «Она вся такая», — подумалось ему, и он снова ощутил себя молодым и всемогущим.
— Ты выставлялась?
— Нет еще. Только на студенческих.
— По-моему, тебе пора.
— Где? — она презрительно сморщилась. — Меня приглашала Мысковская в свою “Новую эру”, но там полно самодеятельности, вы же знаете ее уровень.
Она уже смело тряхнула головой, хлестнув его по губам светлыми прядями.
— Вот если бы в “А.Н. коллекцию”! Единственная приличная галерея. Вы ведь там самый любимый. Просто представьте меня, порекомендуйте. Хотя бы Элле…
“Знает все”, — оценил Кузнецов, придвинулся еще ближе и положил руку на жесткое джинсовое бедро. Снова она дернулась и замерла. “Ну, ну”, — мысленно подбодрил ее Кузнецов, а вслух сказал:
— Я подумаю, как это получше сделать. Ты думаешь, там блат один проходит? Ладно, покажешься, может, возьмут. Впрочем, если я попрошу — куда они денутся!
Настино плечико благодарно ткнулось ему в грудь. “Устраивается девочка, ой, устраивается”, — подумал Кузнецов, уже прижимая ее к себе, держась уже не за бесчувственные джинсы, а повыше — там, где рубашка, где нежные, скользкие под тонкой кожей ребра. Она натянулась стрункой, но терпела и быстро говорила:
— Спасибо, Игорь Сергеевич. Я все свое вам принесу. Чтобы выбрать… И потом, кажется, вы в Германию выставку собираете? Мне Елпидин говорил. Что-то вроде “Кузнецов и друзья”? Я, конечно, в друзья не набиваюсь, но хотя б одну работку взять можно? Хотя б одну только?
— Отчего нет? Напиши только что-нибудь позабористее. У меня сейчас натюрморт стоит ночной, со свечой и зеркалами, очень забавный. Цвета почти нет, все тонкости в тоне, в огне. Часов в одиннадцать — лады?
— Я приду, — она поерзала в его руках, но освободиться не решилась. — Мне, собственно, институтские постановки давно надоели. Задачи убогие. А вы так ставите! Вот это, с сиренью, я никогда ничего подобного не видела.
После комплимента она нашла возможным вернуться-таки к заветной теме
— Вы только точно назначьте, когда для Германии приносить. Надо ведь в каталог успеть!
Его большая рука, двинувшись выше ребер, спокойно обхватила и сжала ее грудь. Настя замерла на минуту, потом одним, ближним локтем пихнула его в большой твердый живот, а другой рукой оторвала толстые горячие пальцы от своей груди. Даже не сразу вспомнила, где дверь, пометалась и выскочила на лестницу.
— Свечу писать приходи, — крикнул ей вслед Кузнецов.
— Нет!
— Нет да! — сказал он уже себе. — Устраивается, устраивается! Не без способностей. Фанаберии и самомнения не по чину. В Германию вот хочется впереться. А очень хорошенькая!
Ему казалось, что он видит всю ее, с претензиями и планами, до дна, как знает анатомически — где какая — все косточки ее тонкого тела. “Быстрая какая птичка. Груди, считай, нет. Вот какую птичку я словил. Придет, придет, и именно в одиннадцать ноль-ноль”.
7. Исторический аспект. Настя
Настя была некрасивым ребенком. Малокровная, болезненная, неулыбчивая — квёлый воробышек. “Бледная поганочка”, — вздыхала мать и с завистью заглядывалась на чужих румяных бутузов. Как все много болевшие дети, Настя была избалованна и упряма, но не взбалмошно, а тихим упрямством умного ребенка. Она рано поняла, что умна, и уже в шесть лет знала, что умнее родителей.
Отец ее был военным. Она смутно помнила военные городки, по которым они кочевали, и больницы, в которых она непременно оказывалась (“снова воспаление легких!”). Впрочем, были какие-то туманы где-то на Дальнем Востоке, там же полутемная кухня, где мать разделывала громадных рыбин, и трехлитровые банки с красной икрой, которой ее пичкали, и которую она еще с тех пор терпеть не могла. К конце концов Порублевы осели в Нетске. Отец преподавал в военно-пожарном училище. Он был тих и спокоен, зато мать, обретя постоянное пристанище, сделалась деятельной и неугомонной. Она постоянно хотела что-нибудь изменить, вокруг нее вечно несся суматошный вихрь. Мелькали новые шторы, сдирался и клеился кафель, сдвигалась, продавалась и откуда-то появлялась мебель. В квартире всегда топтались, стучали, скрежетали, повизгивали дрелями какие-то «бригады». И сама мать то и дело преображалась, крася и кроя прически. Настя помнила ее и брюнеткой воронова крыла, и абрикосово-рыжей, и платиновой блондинкой, и все это с разной степенью мелкости беса химической завивки. Нарядов также менялась пропасть, но преобладали любимые цвета — пронзительно-розовый и жгуче-голубой.
Умненькая, бледная, тихая Настя слишком рано разглядела и ограниченность отца, и безвкусную суету матери, и их вечную боязнь ее, Настиных, болезней, и их рабское обожание. Раз именно ее желания были законом, она посчитала себя в семье старшей; как тут было не сделаться королевой!
Училась Настя всегда хорошо, что внушало родителям дополнительный недоуменный трепет перед нею. Как все девчонки, она рисовала куколок. Тогда модно было дарить на именины альбомы репродукций, у Порублевых появились и “Эрмитаж”, и “Рембрандт”, и “Глазунов”. Настина голова пошла кругом. Она пыталась даже читать пресные искусствоведческие предисловия. И без конца листала картинки. Вот ведь что бывает на свете кроме уроков, квартир, автомобилей, диванов, обедов! Эти дымящиеся небеса; эти странные голые люди; этот невесть откуда бьющий свет, золотящий лица, плечи и узорную неповоротливую парчу; эти ангелы, эти мадонны всегда в малиновом и синем; эти давно угасшие закаты! Она тут же решила, что станет художницей и пожелала в художественную школу вместо английского и бальных танцев, уготовленных и вымечтанных матерью. Она изводила массу бумаги и акварели, сама уже скупала альбомы репродукций, научилась все в них прочитывать и понимать, а главное, знала, что будет не просто художницей, а художницей знаменитой. Почему бы и нет? Способности у нее были, была еще и настырность, расчетливое упорство.
Но прежде чем стать знаменитостью, она стала красавицей. Была невзрачной худышкой и вдруг даже не расцвела, а как-то прояснилась. Тонко вырезался профиль, худоба маленькой фигурки сделалась точеной, а ходила она всегда так прямо и легко, что на нее оборачивались на улице. Ее бледность не отдавала больше детской больничной синевой, а залилась ровным, лунным светом, среди которого выгнулись тонкие смолистые брови. Смолистыми были и ресницы вокруг серых глаз, совершенно особенных, с будто просыпанной в них хрустальной зернью. В общем, она сделалась необычно и тонко красива, в нее стали жестоко влюбляться, и это как раз совпало с решением стать знаменитостью. Влюбленные своим числом и раболепием совсем убедили ее, что она необыкновенна. Она и ждала необыкновенной судьбы.
Пока все шло гладко, но без малейшего знака избранности. Она просто поступила в художественный институт, но была все же так талантлива, так серьезна, так красива, так любима, что и помыслить не могла, что существует что-то для нее невозможное. Будущий успех, выставки, славу она видела очень живо, только вот выдающиеся свои картины никак не могла пока вообразить.
У нее было уже несколько романов. Она влюблялась не в мальчиков, а в их восхищение ею, и потому всегда выходило бледно и ненадолго. При всей ее безудержной фантазии и погруженности в живопись само собой как-то получалось, что влюбленные ею были аккуратно рассортированы, и талантливые, умненькие и “из хороших семей” больше приближены, тогда как прочие толкались неумелой массовкой почти за пределами ее внимания. Ей было девятнадцать, и она была девственницей, причем не из патриархальных комплексов. Она просто не находила никого достаточно совершенного, достойного такого неслыханного подарка. Этого достойнейшего она еще менее могла представить, чем свои будущие великие полотна. И Кузнецов совсем не годился на эту роль! Она многого ждала от своей поездки в Афонино. Ей хотелось попасть в престижную галерею, на зарубежную выставку, войти в настоящий избранный круг — так хотелось! Но неужели туда нет иного пути? Разумеется, она знала, что масса женщин идет к цели через постель, но почему-то была уверена, что ей не придется… А Кузнецов такой грубый!
Настя едва нашла в себе силы не бежать очертя голову по лестнице. Это ужас какой-то! Ей даже показалось, что кто-то стоял за дверью, когда она выскочила из мастерской. Наверное, Инна. Настя теперь никак не могла вспомнить ее настоящего лица, а видела только написанное на собственном этюде — непохожее, плоское. Кузнецов спит, конечно, с этой Инной. И с девушкой в розовом купальнике (Настя, как и Валерик, узнала ее по картинам). И вообще со всеми! Это все говорят. И что же, ей теперь затесаться в толпу никчемных натурщиц и всяких заурядных дур? Ни за что! Но как же, как же тогда “А.Н. коллекция” и вообще “круг”? Она уже так привыкла к мысли, что с сегодняшнего дня все как раз и начнется!
Злая и смущенная, Настя достала в “прiемной” из сумки акварель и большой альбом и уселась посреди двора писать заросли одуванчиков. Надо хоть что-то делать, чтобы забыть, заесть обидное воспоминание о большой противной руке. И как спокойно, привычно он все это проделал! Елпидин долдонит: “Гений, гений!” Гений не сообразил, что она вовсе не из его наложниц!
Настя ожесточенно начала этюд, но все валилось у нее из рук. Волосы лезли в глаза, муравьи щекотали, из травы поднимались крупные белесые комары и кусались так, что она бросила кисточку, которая с издевательским подскоком кувыркнулась в лопухи.
Кисточку поднял Валерик. Оказывается, он стоял здесь и смотрел, как она мучается. А она даже забыла, что он существует на свете. Валерик положил на траву рядом с ее бумажкой-палитрой и найденную кисточку, и пучок кистей, помытых в Удейке.
— Спасибо, — буркнула Настя.
Валерик не уходил.
— Чего стоишь над душой? Работать невозможно.
Она обернулась, и Валерик увидел, что лицо у нее злое, губы дрожат, а голос такой фальшивый, какой бывает, когда хотят скрыть слезы.
— Я вовсе не хотел мешать, наоборот — может, тебе чем помочь?
— Ничего не хочу, не нужно.
Конечно, она вот-вот заплачет. Глаза сощурила, чтобы слезы не пролились.
— Настя, тебя кто-нибудь обидел? — спросил Валерик. Этот вопрос любую женщину приводит в бешенство — что уж говорить о надменной Насте!
— Нет, — зло отрезала она.
— Но ведь я вижу… я видел, какая ты оттуда вышла.
— Ах, отстань, не твое дело!
— Нет, мое. Это я тебя сюда привез, и если он…
— Нет, нет, нет! Уйди наконец! Что ты за мной ходишь? Ах, как мило — кисточки подбирает, сумки носит!.. Зря. Неужели не понятно: я терпеть таких, как ты, не могу!
— Настя! Я не буду. Не буду сумки носить. Буду делать, что ты захочешь. Я для тебя все сделаю!
Он даже удивился, что у него получилось выговорить это вслух.
— Уйди, Елпидин, уйди. Все у меня хорошо, — уже спокойнее сказала Настя. Обидев Валерика, она свою обиду немного утолила. — А если и плохо будет — к тебе не обращусь.
Она поболтала возвращенной из лопухов кистью в банке с водой, чтобы сошли прилипшие соринки, и принялась смывать нервно и грязно написанный этюд. Нет, если все сейчас убрать и потом широко тронуть по сырому, то эти одуванчики могут неплохо получиться.
8. Разговорчики на травке
Самоваров не видел Александра Ивановича Слепцова лет восемь, с той самой поры, когда молодым ретивым идиотом пришел работать в уголовный розыск. Александр Иванович тогда руководил отделом, и хотя Самоварову слишком недолго пришлось ходить в сыщиках, свекольное лицо Слепцова, тесноватый мундир и расторопные манеры были незабываемы. Слепцов приехал с Семеновым и командовал молодцами, таскавшими пакеты. Его лицо спустя десять лет было столь же бодрым, багровым и белобровым. Даже штаны и рубашка модного глинистого цвета были тесноваты. Сам Слепцов не то чтобы узнал Николая, но стал приглядываться — лицо знакомое. Самоваров поздоровался.
— Здравствуйте, — ответил Слепцов и стал откровенно вспоминать. — Так-так-так.
— Тыща девятьсот пятьдесят девятый год, хищение трех отрезов коверкота из ларька потребсоюза, — театрально прохрипел Николай.
— Самоваров! Ну тебя с твоими шуточками, — облегченно вздохнул Слепцов. — А я уж забеспокоился. Шеф нас отсылает, а тут вдруг возникает твоя подозрительная рожа. Я сначала подумал, клиент бывший, не приведи, Господи… Ты как здесь? Тоже в охране?
— Да что вы, Александр Иванович! Я теперь другой человек; то все забыто, то было в кино, на дневном сеансе. Я теперь реставратор мебели, в музее работаю.
— Здесь-то вроде не музей…
— Халтура. В отпуске я, деньги нужны. Поновляю господину Кузнецову уже четвертый буфет. У него коллекция буфетов. И всего другого. А вы, стало быть, теперь боди гард?
— Да, в услужении. На пенсии. Выперли — ну, я сюда и пошел. Платят ничего. Хотя, будь моя воля… Ну, не будем углубляться. Или как-нибудь потом, при встрече. Не вспоминаешь, значит, нашу контору? Ну и ладно, и не стоит.
Говорить было не о чем. Слепцов оглянулся на Дом, на окруживших Семенова незнакомых людей.
— Слушай, Николай, как здесь, в самом деле тихо?
— Пока было тихо. Но гости бывают. Случается, и шумят.
— Драки?
— Зачем же драки? Песни поют. Недели две назад заехал какой-то районный самодеятельный кружок нудистов. Весело было.
— Тьфу, гадость! Сброд, значит. Остаться бы мне, да шеф не велит. Это, конечно, под его ответственность, хозяин — барин, но мне не по себе… Случись что…
— … и надо приискивать новое место? Не бойтесь, Александр Иванович, здесь публика безобидная. И довольно людно. Ничего.
— Новое место! Злой ты стал, Самоваров, хотя я тебя и не виню. Досталось тебе. По старой-то дружбе — присмотри за моим, ладно? Парень он смирный, но на всякий случай? Я уж тебе потом…
Он не договорил, что он потом хорошего сделает Самоварову, да и трудно было придумать, что. Деньгами, что ли? Это еще как подъехать, Коля-то всегда был слегка с приветом. Но теперь такие времена, что на деньги никто не обижается. Пока же Слепцов достал из кармана визитную карточку.
— На, держи. Если что… Ну, не будем о плохом. Если тебе что надо будет, звони, не робей.
— Александр Иванович, я ходить за ним и в затылок дышать не смогу и не буду.
— Не надо никуда дышать. Так, поглядывай. Эх, ехать надо, а то бы посидели, поговорили. В городе заходи, координаты мои у тебя есть. Ну, пока!
Слепцов пожал Николаю руку, даже приятельски тиснул, и пошел к мосткам. И фигура-то его была все такая же бравая, только в бедрах шире стал. Не постарел совсем, гриб-боровик! Николай рассеянно следил за уменьшавшимся пятнышком катерка, за издали видным малиновым затылком Слепцова, пытался вспомнить баснословное сыщицкое былое. Былого этого было так мало, и раньше он так часто его вспоминал, что теперь получались воспоминания воспоминаний, кисельно-мутные и абсолютно недостоверные. Он разочарованно плюнул и пошел работать.
Работа всегда утешала и безотказно пожирала время. Здесь особенно… Сладкий и вечный запах леса он любил. Где-то в сердцевине этого запаха скрывался тоже очень любимый древесный аромат, а вокруг нежными сквозистыми сферами слоились дыхания трав, воды, земли, цветочные облачка, прозрачные, терпкие сквозняки. Нет, словами высказать у него бы не получилось, но в Афонино к Кузнецову ездил он третье лето с охотой, и знал и любил здесь все виды и сорта и солнечных, и пасмурных дней. Иначе, чем Кузнецову, но ему здесь тоже хорошо работалось. И жилось счастливо, до того счастливо, что он начинал забывать, кто он и откуда, оставались лишь два окошка — глаза, чтобы видеть все вокруг и радоваться. И теперь он тоже все забыл, кроме розовых стружек, ловко возникавших и скручивавшихся под его рукой. Только Валькин шепот возвратил его к действительности:
— Николай Алексеич, это с кем Покатаюшка приехал? Со своей, что ли, с какой живет? Которая, говорят, в журнале была?
Самоваров неохотно оторвался от дела и поглядел на лужайку. В самом деле, это Покатаев, друг детства Кузнецова, со своей пассией-манекенщицей. Николай слышал о ней местные, усадебные сплетни, но никогда еще не видел. Да, в самом деле, безупречная красавица, то есть очень длинные ноги и очень большой рот. Большего и требовать нельзя. Вся в белом, на голове белая широкополая шляпа с белой лентой и целым пучком искусственных васильков. Выглядела она так картинно, что Валька смотрела не мигая, пока модель не пересекла двор профессиональной походкой дромадера (небольшие ягодицы мерно — вверх-вниз — перекатывались в тугих брючках) и не скрылась в дверях “прiёмной”. Только тогда Валька осела на березовую чурочку в тени. Она всегда здесь сиживала, когда заходила поболтать. С гостями знакомиться она не любила, с Инной не разговаривала, на Кузнецова дулась, а здесь отводила душу.
— Вон чего! Привез-таки, — начала Валентина. — Гусь бесстыжий.
— Ну, ты уж слишком строга, — заметил Самоваров; его забавляли беседы с Валькой, и он всегда полушутя их поддерживал. — Анатолий Павлович не гусь, а замечательный, хороший, интеллигентный человек.
— Ну уж нет, — серьезно возразила Валька. — Не верьте вы этой интеллигентности. Это вы человек хороший и по простоте своей всех за хороших считаете. Этот — гусь.
— С чего ты взяла?
— А смеется нехорошо, как по железу дерет. И глаз у него злой. Глаз, как гвоздь. Смеется и думает, что всех умней, даже Игорь Сергеевича. Вот новый, на что важный, из банка, а не задирает, вежливый. А на этого посмотрите — вон девку свою привез!
— Это его подруга.
— Стыдобушка! Прошлого раза ведь с женой приезжал.
— Жалко жену?
— Да не жалко. Тоже хороша. Чистотка какая — все ей не мыто, все грязно. Ягоду кипятком обваривала. На дерьмо испекла, а с микробами есть не стала. На базаре, конечно, всякое купишь — и из сортира брызжут заместо удобрения. Но лесное-то добро чего портить? Эта, видно, тоже кипятиться прибыла. Ничего, тут белые штаны быстро измарает!
— Ты бы, Валерия, лучше не злословила, а подружилась бы с ней.
— С каких щей?
— Ты же в фотомодели метишь. А эта особа, говорят, какое-то там место заняла в конкурсе красоты, теперь уже в рекламе снимается, скоро в Москву уедет…
— То-то я гляжу, рыло мне знакомое! Так это она каждый вечер на диване расшиперивается?
Самоваров беззвучно рассмеялся. Покатаевская подружка в самом деле часто мелькала на местном телевидении в рекламном ролике мебельного салона “Сиена”. Под музыку Глюка в нижнем белье она бросалась на какие-то желтые цветастые диваны и старательно то сгибала, то разгибала ноги. Должно быть, режиссер решил, что это стильно. Зато бедный оператор никак не мог сосредоточиться на мебельных статях и фурнитуре и даже просто снять их в фокусе; камера завороженно следила за кружевным треугольничком трусов красавицы и неудержимо на него наезжала, как только раздвигались длиннющие ноги.
— Ах, не ходи в фотомодели, прекрасная Валерия, — отсмеявшись, изрек Самоваров. — Неужели хочется так же вот расши… ну, вот как ты говоришь?
— А вы слыхали, сколь за это платят? Да мне уж и терять теперь особо нечего. Вы же знаете, — доверительно заявила Валька.
— Это ничего. Мало ли что бывает. Это другое. Лучше замуж выходи.
— Вы мне, что ли предлагаете?
— Нет, не предлагаю.
— То-то же. Хотя вы ничего. Хворый, а в хозяйстве руки золотые, вон как буфет отделали. А правда, что вы раньше милиционером были, а бандиты вас изувечили?
— Почти правда. Не так уж и изувечили, — поскромничал Самоваров.
— У нас тоже было: Михеев из тюрьмы пришел и запил. За женой с топором погнался, тут милиционер дядя Скоробогатов случись. За Михеевым бегает, пистолетом грозит (он незаряженный был, все знали). Михеев на трактор — и за дядей Скоробогатовым. К забору его придавил и переломал все; еле, бедный, живой остался. Печенки повырезали, пошел на инвалидность, каждый год в городе в больнице лежит. А какой мужичище был! И человек хороший. Как вы.
— Вот видишь, Валерия, как нам, хорошим, достается. У меня так все примерно и было, как ты рассказываешь. А Михеев?
— Сел. Я бы гадов этих! А на телевидение Покатаюшка устроил или еще кто?
— Кого? — удивился Николай, не уследив за ходом ее мысли.
— Эту, в шляпе.
— Не знаю. Сама у нее спроси. Вон Покатаев выходит. На пляж, конечно. Жарища сегодня Сходи с ними.
— Да, жарко. Пойду, и вправду, обкупнусь.
Валерия поднялась и важно проследовала через двор. На минутку она остановилась возле Насти и презрительно заглянула в ее картинку — мазня мазней. На речке, выше по течению, в ивняке, она увидела Семенова с какими-то тоненькими удочками и в синей полотняной кепке. Вот чудак, сел рыбку ловить в обед! Она постояла еще немного возле Насти, беспричинно порадовалась, что действует той на нервы, и двинулась дальше к пляжу.
Настя уже переписала свой этюд, вытянула, поправила все, что можно, и с горечью сравнивала веселую одуванчиковую полянку с тем, что получилось на разбухшей, разлохмаченной бумаге. Все не так, как надо! Она заметила, что со стороны Дома идет Инна, уже не в халате, а в развевающемся темном сарафане. Ожидая, пока она пройдет мимо, Настя опустила голову и болтала кисточкой в банке. Но Инна почему-то остановилась.
— Еще один этюд! Как вы много работаете, — сказала она и присела рядом. Заколыхались и красиво легли на траву складки сарафана, как будто черная бабочка порхнула. Красивый сарафан и, Настя поняла, сама Инна тоже красивая. Когда ее писала, даже не рассмотрела толком, а вот теперь увидела. И поза красивая, и какие глаза бархатные, и ни капли косметики! Инна так пристально разглядывала ее этюд, что Настя смутилась.
— Хороший этюд, — одобрила Инна. — И мотив простой, не избитый. Так, снизу, одни одуванчики — белые шары — по-моему, еще никто и не видел. В самом деле, красиво и необычно. Вы эти одуванчики еще раз напишите — вы их уже изучили, теперь выйдет свежо и чисто.
Да она еще и в живописи разбирается! Конечно, красивая, умная, взрослая. Настя никак не находила, что ей ответить.
— Поживите здесь и увидите, как распишетесь, — продолжала Инна. — Место это просто колдовское.
— Очень красиво, я вижу, — согласилась Настя, — но я всегда писала архитектурные мотивы, а лес мне кажется однообразно зеленым; скорее, здесь надо слайды снимать. Или быть каким-нибудь Куинджи.
— О! Стоит только сосредоточиться и понять, и никакого Куинджи не нужно. Игорь Сергеевич может от всего, кроме зеленого, отказаться, писать одну траву. Вы ведь видели его “Волхвицу”?
Настя “Волхвицу” видела и выразила по ее поводу соответствующий восторг. Лицо Инны осветилось, и она заговорила так, как говорят, наконец напав на любимую и привычную тему.
— У него масса была этюдов — лес, травы, лопухи, и вдруг это одухотворилось, как зажило! Он удивительный человек и до сих пор непонятый! Да, да! Все, что о нем искусствоведы пишут… Да он смеется над этим! Он не выносит в живописи всех этих концепций, систем, философий. Он — это стихия. Если что-то не получается, не идет — обязательно бросит. Если идет — пишет запоем. Выставки, деньги, успех — а ему все равно. Главное, надо встать в семь часов и примчаться в мастерскую. Там только он и живет. Как хочет. Наверное, так и надо — жить порывом, себя не стреноживая и не укрощая.
Настя вспомнила, как неукрощенный Кузнецов хватал ее за грудь, и удивилась, до чего восторженно говорит о нем такая умная, красивая женщина. Хорошо говорит — голос глухой, хрипловатый, волшебный. И чудесные у нее карие глаза, не накрашенные, но вокруг них природная нежная темнота. И веки, как атласные. Удивительная! Насте захотелось стать именно такой когда-нибудь, лет через десять. Так же красиво садиться, наклонять голову, чтоб волосы лежали занавесом. Настя уже не казалась себе самой удивительной и единственной, как прежде.
— Вы мне очень симпатичны, — вдруг улыбнулась Инна. — Мы с вами столкнулись у мастерской, когда вы уходили.
Это была все-таки она! Настя попыталась вымучить улыбку и отвернулась. Инна продолжала своим глубоким голосом, тоном старшей умной подруги:
— А! Вот и мне показалось, что вы огорчены чем-то, взволнованы. На вас просто лица не было.
Настя и сейчас сидела бледная и несчастная. Инна полулегла, опершись на локоть, выставила изящную босую, будто восковую, ногу и тихо заговорила:
— Я очень давно и хорошо знаю Игоря. Слишком хорошо. Он чересчур явно проявил к вам свое внимание?
Настя дернулась. В Инне, в ее разговоре, ее красоте было что-то обволакивающее, незаметно связывающее, не дающее от нее оторваться — гордой Насте давно следовало убежать, презрительно дернув плечом, но она почему-то сидела и была готова жаловаться на Кузнецова его любовнице.
— Он был груб, детка? — участливо спросила Инна, и Настя снова дернулась, — теперь от кузнецовского словца.
— Немного, — решилась ответить Настя. — Но я ушла. Думаю, это не повторится, потому что я уезжаю.
— Да?.. Почему? Боитесь? Вас влечет к нему? Он вам нравится?
Настя искренне удивилась:
— Нет. Нет, нет! И он ведь к тому же немолодой.
Инна рассмеялась:
— Ах, ну да, это ведь так и должно быть в восемнадцать лет! Вам ведь восемнадцать?
— Уже скоро двадцать.
— Так значит, вы моложе выглядите. Но все равно — немолодой. Конечно. Вот и хорошо, вы и не уезжайте — чего вам бояться-то? Вы тут просто поработаете, народ бывает у нас прелюбопытный. Вы ведь не слишком хотите ехать?
Настя вдруг вспомнила про “А.Н. коллекцию”, про Германию — а это как же?
— Ну и не уезжайте, — угадала ее сомнения Инна. — Если вы поработаете у Игоря в мастерской, это даст вам больше, чем все институтские занятия. Он ничему учить не будет, но вы увидите, как он пишет. Это не многим удается. И потом, его энергетика… Что говорить, он Мастер!..
— Да, да, — выдохнула Настя. — Художник он изумительный. И так у него все легко, просто диву даешься…
— Вот-вот! Вам надо видеть, как это делается. И потом, — ее голос растаял до самых сладких глубин, — я много вас старше, многое пережила, и вы мне нравитесь. Ведь вам нужна удача. И дай вам Бог! Я этого так хочу. Поймите его. Вы думаете, его отношение к вам — банальное приставание? Ничего подобного! Он видит сотни лиц, и только одно из них ему одному понятным соотношением линий и красок завораживает. Он не успокоится, пока это что-то — не красота даже, а что-то им узнанное и понятое — не выльется в его живописи. Только это. Он необычайный, невероятный человек. Он кажется грубым, но на самом деле так тонок, так умен. Только надо его лучше узнать. Не отталкивайте его! Вы станете старше и поймете, что в вашей жизни было чудо: вы встретили редкого, выдающегося человека. Это может никогда больше не повториться, и вам будет жаль, что обыденное, женское, себялюбивое (если не просто нелепые условности) помешало вам получить нечто небывалое, недоступное другим.
Ничего, ничего не могла возразить на это Настя. Вот сирена-то! И ведь права. Елпидин вечно твердит: гений, гений. Гений не будет тебе кисточки из лопухов таскать, скорее наоборот. А гадко все-таки: такой необыкновенный, а тискал вполне вульгарно. Нет, все перепуталось, и что же делать? Инна ласково улыбалась.
— Поверьте, мне вовсе не хочется толкать вас на что-то, о чем вы после будете жалеть. Но прислушайтесь к себе и разберитесь, что вам надо. Для этого следует прежде всего никуда не уезжать. И знайте: вещи, сегодня важные, завтра покажутся сущей ерундой, но есть и нечто навсегда ценное. Не уезжайте, у вас вот и работа пошла. По-моему, хороший этюд. Правда?
Она обратилась к Семенову, который медленно шел мимо и явно хотел быть замеченным. Он охотно посмотрел Настину акварель.
— Да, хороший, — изрек он.
— Я вот уговариваю Настю остаться, а она что-то засобиралась, — продолжала Инна. — Художнику-то здесь простор. Вот той девушке в белой шляпе, я понимаю, будет скучно у нас. А вам тоже скучно?
— Что вы, что вы, — замахал руками Семенов и поспешно присел рядышком на траву. — Я давно не чувствовал себя так славно. Простота и свобода!
— Это оттого, что Он здесь, — в голосе Инны слышалась именно заглавная буква в слове “Он”. — Да и место колдовское; просто чувствуется, что здесь проходят силовые линии красоты. В таких местах закладывали раньше города, храмы. Знаете, Он шел по лесу, шел и вдруг почувствовал как бы толчок в грудь — Он мне сам рассказывал — и построил потом здесь, именно здесь, Дом.
— Дом тоже удивительный, — подпел Семенов.
— Он будто живой, правда? — Инна закинула голову. — “Прiемная” — сумятица, немного тревоги; мастерская — небеса; эта лестница — прямой путь, внутренняя — лабиринт. У нас как-то один философ здесь жил, — Фуртаев, может, знаете? — и все это так хорошо рассказывал. Я только позабыла.
— Удивительно, — непонятно о чем сказал Семенов. Но Настя его все-таки поняла. Во все глаза он смотрел на Инну из-за дымчатых стекол дорогих очков. Ах, как Настя знала, что такие взгляды означают! Она обычно злилась, когда так смотрели не на нее, а на других, но сейчас решила, что все справедливо. Удивительная эта Инна! Одни глаза чего стоят — внутрь, в темноту свою так и затягивают. Черный мед!
Настя закрыла коробочку с красками, собрала кисти, отошла выплеснуть воду из банки. Семенов завороженно сидел рядом с Инной, и у них был уже свой тихий разговор. Но Инна окликнула-таки уходившую Настю:
— Пообещайте мне остаться!
— Хорошо. Я остаюсь, — Настя помахала ей рукой совсем весело.
9. Исторический аспект. Инна.
“Кажется, тут получится”, — облегченно вздохнула Инна и посмотрела вслед Насте. Кто знает, вдруг эта девчонка сможет еще все исправить? Если бы! Похоже, надменная дурочка.
Инна давно уже стала делать то, что считала противным и недостойным. Например, подглядывать и подслушивать. В стене кладовки рядом с мастерской были щели и даже кстати вывалившийся сучок. Инна видела все, что произошло между Кузнецовым и Настей, и о ней подумала то же, что и Кузнецов, даже теми же словами: устраивается. И устраивается довольно грубо. Как это некстати. Кузнецов не любит ни пронырливых, ни корыстных; таких у него перебывало — легион, он их не жалел, ими не дорожил. Зато с влюбленными долго нянчился, утешал, помогал. Любил ли он сам кого-нибудь? Инна не знала. Может быть, в юности? Но тогда они не были знакомы. Она знала только, что он легко загорался, жадно приникал к каждому встречному пестрому цветку и тут же отлетал с грузом некоего нектара: женщины его вдохновляли и были как бы разновидностью, оттенком радости бытия (сортом много ниже живописи). И всё. Она, Инна, была иное, и с другими у него ничего подобного не было. Неужели все-таки кончилось? Ах, если бы он увлекся этой девчонкой! Инна видела его взгляд, когда он нынче писал — сразивший ее некогда взгляд-выстрел. А эта дура не влюблена. Конечно, дешевый молодой вкус. Если бы хоть чуть-чуть! Тогда бы можно было что-то спасти.
Когда они с Кузнецовым встретились, Инна была замужем за местным поэтом Чадыгиным, и это был счастливый брак. Сам Чадыгин, в ту пору цветущих средних лет, хотя и много тертый и повидавший, в предисловиях к своим сборникам любил перечислять свои 17 допоэтических профессий: от монтажника-высотника до парикмахера (через такелажника, повара, актера ТЮЗа, матроса на речном буксире и т. п.). На самом деле он провел этот романтический период своей жизни в многочисленных многотиражных газетах самых разных ведомств. Но поскольку был он по тогдашней моде “подснежником”, трудовая книжка его была полна наименованиями фиктивных рабочих профессий, так что юридически баснословный послужной список был безупречен. Парень он был бойкий, компанейский и писал сразу набело многометровые стихи на любую тему.
Однажды он проснулся знаменитым. В какой-то поездке, в какой-то Богом забытой кишащей тараканами гостинице Чадыгин повстречался с подающим надежды московским композитором Гицко, “и родилась песня”, как любили тогда выражаться журналисты. Гицко ехал на слет молодых корабелов, уже налялякал набивающуюся в шлягеры мелодию, но слов не было. Чадыгин же мог написать о чем угодно каким угодно размером, хоть гекзаметром о томагавках для слета юных ирокезов. За время, в которое соавторами была опустошена 0,7-литровая бутыль отвратительного вермута, он создал для Гицко свои знаменитые “Синие корабли”. По пьянке стих вышел даже хуже обычных чадыгинских, даже с синтаксисом не все было ладно, не говоря уж о совершенном незнании предмета, покоробившем корабелов. Но песню спела группа “Искатели”. Хорошо, бодро спела модными тогда ванильными тенорами. И страна запела «Синие корабли». Так Чадыгина нашла слава. Он моментально получил отменную квартиру, обильно печатался, ездил в престижные творческие поездки (в Прибалтику и в страны народной демократии) и бросил наконец сварливую жену-бухгалтершу. Он был прекрасен и счастлив. Однажды его пригласили выступить в молодежном литкружке. Там он, статный, громкоголосый, в лиловом замшевом костюме читал свои безразмерные стихи и подписывал направо и налево свои собственные книжки, специально для этой цели принесенные кружковцами. Одна начинающая поэтесса на прошлом заседании кружка не присутствовала, чадыгинскими сборниками не запаслась и автографа ей не досталось. Это и была Инна.
Инна трепетала перед людьми искусства. Она сама пробовала писать стихи, все, даже косвенные следы которых впоследствии уничтожила (рукописи, конечно, не горят, зато мусоропровод пожирает их прозаично и безвозвратно). Разумеется, училась она на филфаке, ну и посещала тот самый кружок.
Знаменитый, талантливый, великолепный, весь в лиловом, Чадыгин ее ослепил и оглушил. Она была как в чаду, накупила по букинистическим отделам его книжек разных лет и крупно нервно дрожа, переступила порог Дома писателей. Ей сразу попалась на глаза неопрятная доска объявлений с резанувшим своей вульгарностью сообщении об отоваривании писателей луком (в тот год лук почему-то не уродил, но страна позаботилась о том, чтобы деятели искусств ели лук). Чадыгина, сказали ей, видели в биллиардной. Оттуда, из-за приоткрытой двери слышалось клоканье шаров друг о дружку, шарканье ног, тянуло табачным дымом и неслись громкие непоэтические голоса писателей. Мощный баритон Чадыгина покрывал прочие звуки и шумы. Инна открыла дверь и замерла у притолоки. Чадыгин тоже заметил ее. Вчера в толпе кружковцев он ее толком и не рассмотрел, но теперь заглянул в широко расставленные, полыхающие восторгом глаза и пропал, потому что все-таки был поэтом. Скоро она стала его женой.
Инна школьницей еще мечтала быть Музой, Беатриче, чуть-чуть Лилей Брик, Маргаритой. Маргаритой особенно! Так и получилось. Она всепоглощающе любила талант Чадыгина и его самого. Она влюбленно варила ему обеды и наряжала в поэтические одежды — пиджаки букле, свитера крупной мужественной вязки, кудлатые лисьи шапки и шубу из какого-то седовласого горного козла. Она перепечатывала его нескончаемые сочинения и разносила по редакциям, что проще стало делать, когда она наконец закончила свой филфак и стала нештатной корректоршей. Рукописи она брала домой и не представляла, как можно весь день чахнуть в конторе, когда надо лелеять Чадыгина, вдохновлять, поддерживать его дух. Последнее стало необходимым, поскольку Чадыгин вышел из моды вместе с группой “Искатели”. «Синие корабли» всем надоели и даже стали пищей пародистов. О Чадыгине приходилось уже напоминать. Инна устраивала встречи читателей с ним. Для этого она неутомимо и бесстыдно ходила по завкомам, общежитиям, ПТУ и просила, требовала, срамила, умоляла. Она составляла сборники, пропихивала его стихи в альманахи и газеты, организовывала интервью. Это подвижническое служение длилось до тех пор, пока один из чадыгинских почитателей, директор завода “Автомат” Пугайчук не заказал для заводской галереи портрет поэта самому знаменитому художнику Нетска Игорю Кузнецову.
Чадыгин с Инной явились в мастерскую, и тут случилось непоправимое: Инна жестоко влюбилась в Кузнецова. Он тогда уже был излишне круглолиц, носил уже брюшко, но совершенно потряс Инну своим беззастенчивым великолепием. И талантом, конечно. Инна влюблялась только в таланты, а дар Кузнецова был не чета чадыгинскому.
Она быстро оказалась в его постели. Кузнецов давно разошелся с первой женой, матерью Егора, и как раз разводился со второй. Восторженная, слепо им любующаяся Инна была кстати и сделалась нужна, как воздух. Он вообще-то легко сходился и расставался с женщинами, но Маргариты у него еще не бывало, и Инна не исчезла, как другие.
Пока Кузнецов писал портрет Чадыгина, она была Маргаритой обоих. Кузнецов подруживал с Чадыгиным, случалось, иногда вместе с ним выпивал, но ни в грош его не ставил и за глаза звал то Колчедыгиным, то Чекалдыгиным. Портрет же (большущий, в рост, под огромным деревом, с книжкой в руках, на зеленой траве, из которой выглядывали и рваные газеты, и пустая бутылка “Столичной”, и даже какие-то обглоданные куриные косточки) почему-то вышел замечательный. С шумом он прошел по выставкам, под названием “Полдень” был репродуцирован в “Огоньке” и “Юности” и одарил Чадыгина последними, как оказалось, лучами славы. Потрясая репродукциями “Полдня”, поэт смог продвинуть еще два своих сборничка и тихо угас. Инна ушла от него. И Чадыгин сгинул, пропал. Говорили, что уехал он то ли в Барнаул, то ли в Петрозаводск, но больше никто о нем ничего не слышал.
Однако ушла Инна не к Кузнецову. Тот объявил, что после двух бедственных браков разуверился в семейной жизни., для которой он, видимо, не рожден. Он — одинокий волк. Инна так любила Кузнецова и еще больше его талант, что ей и в голову не приходило, что она может чего-нибудь требовать. Она мило хозяйничала и в мастерской, и на даче (Дом уже тогда имел теперешний вид), вклеивала в альбом рецензии на его выставки, готовила каталоги. Корректорства своего она не бросила, но много позировала Кузнецову. В ее изящной интеллигентности появился богемный шик. Когда его слава стала очень громкой, она умно оставалась в тени и только два раза ездила с ним за границу, хотя тайно учила и английский, и немецкий. Как и положено Маргарите, его она повсюду превозносила, врагов же его ненавидела.
Когда появились первые “девочки” (Кузнецов именовал девочками всех абсолютно женщин, включая обрюзгших матрон), Инна очень мучилась, но обожание удержало ее от упреков. Как выяснилось, счастливо удержало: сцен он не выносил. Девочки менялись, она оставалась и тихо гордилась своей незаменимостью. Быть подругой (так он представлял ее за границей) казалось ей и поэтичней, и современней, чем женой.
За десять лет они привыкли друг к другу, и к их соединению все привыкли, и даже звали их некоторые мастером и Маргаритой, хотя, строго говоря, Инна первая пустила в оборот это прозвище и усердно повторяла, чтобы запомнилось, затвердилось. Временами Инна чувствовала зыбкость своего положения, но было в нем столько сладости и ей одной понятного высшего смысла, что она не хотела ничего иного. Ничего иного и быть не могло, раз так давно все сладилось и устроилось.
О предстоящей женитьбе Кузнецова она узнала, как это бывает, случайно и последней. Для всех это уже было явным, публичным фактом. Она, как и на все приключения с «девочками», равнодушно взирала на роман Кузнецова с дочкой нефтепромышленника Дедошина, одного из теперешних его меценатов. Они и познакомились прямо на ее глазах на каком-то вернисаже, и Инна не нашла ничего угрожающего в крупной медлительной особе (безвкусная, слишком отдающая парикмахерской прическа, нелепый зеленый пиджак с зелеными кантами, впору швейцару). Скорее холеная, чем красивая. Или все-таки красивая — той тяжеловесной красотой, которая Кузнецова теперь занимала. Недаром весь год он писал Вальку.
Теперь Инна уже знала, что Лиза Дедошина делает вид, что работает как-то с языками в папиной фирме, что она разведена, что она начала с покупки кузнецовских картин и кончила желанием выйти за него замуж. Лиза обморочила его невозмутимой уверенностью, что все бывает, как она хочет. Не требует, не дергается, не капризничает, а просто берет. Берет его самого в свой спокойный дом, обвешанный его картинами, и он вообразил, что ему это нужно. Господи, что за напасть! Инна всегда боялась даже заикнуться, что чем-то недовольна, что чего-то ей недостает. Она панически боялась его брезгливой мины, его холодного взгляда в сторону, а эта тумба так легко все сделала по-своему. И что же теперь остается? Кузнецов уверял и, что самое смешное, был в самом деле уверен, что у них-то с Инной ничего не изменится, что можно исхитриться и соединить спокойный Лизин дом и внештатную Маргариту. Но Инна все чаще всюду наталкивалась на Лизу, которая занимала ее позиции поддерживающей и необходимой, и в бесстрастной фаянсовой синеве Лизиного взгляда читала себе безрадостный приговор.
И дальше жить, оставшись только с дурацкими рукописями в прокисших редакциях? И сделаться из Маргариты тусклейшей Инной Ивановной? Это невозможно. Этого — любой ценой — нельзя было допускать! Она еще не знала, что сделает, но готовилась ко всему.
Когда Кузнецов с подзабытым пылом накинулся на хорошенькую Настю, Инна впервые за все годы треволнений из-за “девочек” не почувствовала ничего, кроме радости. Повеяло избавлением. Она лихорадочно соображала: Кузнецов может самозабвенно увлечься (это в его духе) и потерять охоту немедленно жениться. Уже выигрыш во времени дорогого стоит. Кузнецов умеет быть вдохновенно упрямым с женщинами, токует, как тетерев, и не суйся к нему в этот блажной час. Лизе же “девочки” могут очень не понравиться; кто, кроме нее, Инны, мог бы так мудро и безропотно терпеть и делать вид, что ничего не происходит! Можно нарочно подсунуть Лизе под нос этот романчик — нефтяная красотка-то с гонором! Только бы Игорь распалился как следует, только бы девчонка не подкачала. Девчонка жидковата, мечется, локотком отбивается — “немолодой”. До чего же дура! Ничего теперь не стыдно; надо вбить ей в мозги, что нельзя ни отбиваться, ни просить чего-то взамен (этого он не любит, это вмиг его расхолодит). Девчонки не убудет. А Игорь! Все же вспыхнул. Он все тот же, значит, только казалось, что он непреодолимо, непроницаемо влюблен в Лизу. Нет, не слепой! И как кстати, что девчонка маленькая, щупленькая, прозрачная, не похожая ни на роскошную Вальку, ни на громоздкую Лизу. Неужто период гигантомании закончился? И приелись скульптурные формы? Вот и славно, вот и увидит, какие у его драгоценной Лизы икры-балясины, какой бесконечно широкий зад. Только не подведи, девочка! Потерпи. Фу, до чего все-таки ужасно, унизительно, неприлично быть сводницей. Но что же делать, когда это единственное спасение? Что же делать? “Вот я уже и подсовываю Игорю девочек сама. Как Ливия Августу”, — подумала начитанная Инна. Это сравнение ее несколько успокоило.
10. Шляпа девушки Оксаны Мельниковой
К полудню пляж раскалился. Только металлически-синие стрекозы метались над водой, все остальное было неподвижно. Неподвижно лежали и загорающие — Егор, Валька и вновь прибывший друг детства Кузнецова Анатолий Павлович Покатаев.
— Жарища, — простонал Покатаев из-под брезентовой кепки мальчукового стиля, которой он прикрыл лицо.
— Гроза будет, — откликнулась Валька. Она была ярко-розовая на голубом полотенце. Загар к ней не приставал, она только нагревалась, краснела и страдала от духоты.
— Валерия, ступай в тень, сгоришь! — посоветовал Покатаев.
— Еще пять минут. Самой уже тошно.
— Дядь Толя, — заканючил Егор имевшимся у него специально для друзей отца детски-капризным голоском, — дайте лодку покататься…
— Лежи уж. Опять что-нибудь сломаешь.
Покатаев перевернулся на живот; спина его радужно лоснилась нездешним загаром.
— Ага! Егорка, умри! Инна твоя, кажется, банкира подцепила! — сообщил он.
Егор открыл глаза и скосил их в сторону Дома. В высокой траве там темнела макушка Инны рядом с синей кепкой Семенова.
— Я еще на крыльце заметила, как он только приехал, — охотно подключилась к теме Валька. — Так на нее и выпучился.
— А она? — деланным голосом спросил Егор.
— Чего ей? Все про Игорь Сергеевича бубнит, как глухарь.
— Нет, Егор, тебе пока не светит. Вот стань великим и средних лет, тогда поглядим! — поддел Покатаев.
Егор снова закрыл глаза, но не мог удержаться, чтобы не посматривать время от времени на видневшуюся в траве темноволосую головку.
— Егорка, не тужи, не будь такой лапшой! Бери штурмом, она отнюдь не монашка. У тебя ж юность, белые штаны, одеколон “Жилетт”! — веселился Покатаев.
Валька возмутилась насмешками, потому что любила справедливость:
— Чего вы к парню пристали? А вот эта в белой шляпе кто?
— Моя девушка Оксана Мельникова.
— Если ваша, почему ж она возле банкировых удочек сидит? Поскакала к нему вприпрыжку. Гляжу — вот и парочка под ивками. Только он недолго ворковал, побежал на горку. Думаю, естественное дело, в туалет, а он к Инне нашей преподобной. Вам не обидно, Анатолий Павлович, что ваша девушка не с вами тут, а чьи-то удочки караулит?
— Не обидно, Валерия, потому что Семенов — уважаемый человек и много богаче меня. Вы ведь, бабы, все такие. Что, ты сама-то на банкира роток не разинула?
— Не разинула. Такие мне не нравятся. Сильно нежный. Ручки маленькие, гладкие, как у дитёнка, а сам уже с плешкой.
— Игорь-то разве молодой?
— Игорь Сергеич меня пишет. Картины видали? Тут моя работа — и всё.
Валька давно не спала с Кузнецовым и уже начинала верить, что изначально только так и было.
— Будто бы?
— Да вот! Ему не надо девок в шляпах нанимать, его и не такие за так любят. Теперь вот женится он. Скоро.
Покатаев присвистнул.
— Сплетники вы. — Егор лениво плюнул в песок. — Противно слушать.
— А не слушай, Егорушка, в водичке охолонь. На Инне женится? — Покатаев явно заинтересовался.
— Еще чего, — Валька надутыми губами выразила презрение и к Инне, и к Покатаеву; она терпеть не могла обоих.
— Так на ком? На ком?
Бодрое загорелое лицо Покатаева вдруг нарезалось немолодыми складками. Валька торжествующе улыбнулась и повернулась к нему розовой спиной, сверкавшей налипшими на ней песчинками.
— Егор верно говорит, чего сплетничать! Загорайте себе.
— Сама не сгори.
Валька сама чувствовала, что сгорает, но лень было шевелиться. Солнце сияло в неимоверной, какой-то ядовитой тишине. Громадные, взбитые кверху облака быстро росли, пучились, закрывали небо.
Девушка Покатаева Оксана Мельникова сидела под ивами, глядела на воду и начинала злиться. Знакомство с известным Семеновым завязалось было, они посидели рядышком на коряге, мило поболтали о погоде, и он отлучился “на минуточку”, попросив Оксану приглядеть за удочками. Правда, на поплавки она даже не смотрела, может быть, и клевало. Но сам-то он куда запропастился? Она уже целую вечность торчит на этом бревне! Оксана огляделась и на холме, среди травы, отыскала голубое пятнышко банкирской кепки. А рядом… Ну точно, любовница этого самодовольного Кузнецова! Уж Покатаев о ней порассказал! Урод к тому же: невзрачная, желтая, в самодельных тряпках! Хотя считается, что она смахивает на Жаклин Кеннеди. И по кепке Семенова. и по его спине было очень ясно: клюнул! Есть же мегеры — ни кожи, ни рожи, а мужчины так и липнут. А ты майся с этими дурацкими удочками.
Оксана готова была расплакаться. Опять не повезло! А так все начиналось, что она готова была простить Покатаеву этот ужасный дом без удобств, набитый противными физиономиями. Сам Семенов здесь! И с ним удалось познакомиться! Карьера могла бы двинуться.
В свою карьеру Оксана верила свято. Кое-что у нее уже получалось, но не так гладко, как должно, при таких-то данных. Здесь, на коряге, над удочками, вспомнилось, полезло все недавнее грустное и неприятное. Как дурацки зализали ей волосы в серии о сантехнике, и теперь которую неделю в каждой газете она видит себя обезображенной и жалкой. И Покатаев снова денег не достал. Выбор она сделала, конечно, неверный. Семенова бы теперь!.. Наконец, всплыла Аида из агентства, якобы визажистка (уродина, и вообще из бабья визажисты никакие) с вечным ее: “Что-то, чего-то тебе недостает. Изюминки. Шарма. Чего-то такого…” Мерзавка, но, может, она и права? Для мебельной “Сиены” сняли только ноги и кое-что около. Деревенщина, маньяки, не видавшие женских трусов. Впрочем, понять их можно — ноги действительно редкие, глаз не оторвешь. Оксана сама теперь ими залюбовалась — дивными своими ногами, упершимися в проклятую корягу. Все как и должно быть: бесконечные голени, на щиколотках косточки ничуть не торчат, а ступни узенькие-узенькие. В Нетске ни у кого ничего подобного нет. И это бросить, чтобы прицепиться к потертой кривляке в черных лохмотьях! Эх, Семенов…
Оксана любила себя так, как редко любят, как саму ее никто еще не любил, и не понимала, как банкир мог предпочесть ей другую. Или почему в прошлогоднем конкурсе она стала лишь вице-мисс. А влюбилась она в себя внезапно, распахнув как-то зеркальную дверцу большого семейного шифоньера. Много она перед этим зеркалом торчала, а тут просто обмерла. В журналах (у матери были кипы журналов) жизнь всегда такая невероятно прекрасная, женщины такие небывалые, но Оксана вдруг осознала, что она ничуть их не хуже. Она и принялась лихорадочно переодеваться, заворачиваться в какие-то мамины тряпки и долго стояла, прижимая к груди охапку споротых с пальто, старых облезлых мехов. Все было чудно. Она взяла маленькое зеркальце и попыталась поймать отражение со спины. И там все было так же чудно! Наконец, осталась в одних трусиках (такие фото тоже были в журналах) — так похуже. Ничего, успокоила себя Оксана, нарастет. Время еще было. Четырнадцать лет не возраст.
В пятнадцать она решилась выбрить на лобке полосочку — и это было высмотрено в журналах. Она не могла уже ни дня прожить без рокового отражения в роковом шифоньере. Те же тряпки, те же воротники с проплешинами, но будущее сделалось уже ясно и неотвратимо.
В шестнадцать она участвовала в первом своем конкурсе. Ее заметили, хотя не было еще ни походки, ни манер, ни прически. Все это она быстренько получила, причем почти бесплатно — всего-навсего нужно было переспать с режиссером и с хореографом (парикмахер оказался голубым, ему пришлось-таки заплатить). Ее веселая, моложавая, современная мама еще в шестом классе положила в портфель дочери презервативы и периодически меняла пакетики — по истечении срока годности, вероятно. Понадобились они только в седьмом, хотя смешно теперь вспоминать, до чего глупо возиться с мальчишками. После первого конкурса мальчишек у нее больше не было, только нужные люди. Она вовремя, то есть ребенком прочитала нужные книжки, потом просмотрела нужные фильмы и знала о сексе все, к тому же была по-детски старательна. Все случалось цивилизованно. Ни разу в жизни она не занималась любовью без презерватива, а СПИДа и беременности боялась одинаково суеверно и безотчетно. Так раньше в деревнях боялись сглаза.
Покатаев был третьим ее спонсором. Оксана побаивалась криминала, а Покатаев был чистый, потому она выбрала его. Зато его прижимистость и финансовые затруднения начинали понемногу тормозить карьеру. Ей надо в Москву, в Москву! Показаться в хороших агентствах, попасть к хорошим фотографам. Но все это — деньги, деньги.
У нее изначально необыкновенные ноги. И лицо (врёт Аида про “изюминку”). Слава Богу, Покатаев сделал ей и зубы (свои у Оксаны были хорошие, крепкие, но не сомкнулись “смирно”, а стояли “вольно”). Теперь оставалась ее драма, ее тайна, ее мýка… Ей было уже девятнадцать, а грудь оставалась все такой же невыразительной, как тогда, когда она впервые разделась перед зеркальным шкафом и прилаживала к плоской детской фигурке потертую мамину лису. Две незаметные лепешечки! Одежда сидит неплохо, но уже в купальнике видно, что многого недостает. Практически пусто, даже со знаком минус, как шутила Аида. Куда с этим сунешься в Москве? Надо делать грудь. У хорошего хирурга. Покатаев и это обещал, но денег от него не дождешься, сама она столько еще не зарабатывает. Тупик. Покатаева надо менять. Слабоват, хотя жена его — уродина в бриллиантах, а дочек собирается учить в Англии. Он и сам чует, что не потянул. Мужчина умный, найдет себе что-нибудь попроще. Она хотела было познакомиться с Кузнецовым, у него денег, говорят, море, но с первого же взгляда поняла: типичное не то. Другое дело Семенов… Чего прилип к этой тетке! Тетка, правда, не свободна, но кто ж в Семенова не вцепится? Разве сравнишь его и этого нечесаного мужлана с масляным брюхом? Хотя с удочками — это просто хамство. Оксана дернула плечами. Похолодало? Когда эти кудрявые облака успели сделаться огромной тучей? Где-то там, в глубине, в высоте, в черноте уже рокочет. Не сидеть же здесь до вечера!
Оксана встала, решительно двинулась вдоль берега и стала взбираться в горку, к Дому. На пляже торопливо собирали полотенца. Только Семенов ворковал с брюнеткой как ни в чем ни бывало. Смеются… Отпали последние сомнения. Вот зараза!.. Разъяренная Оксана была уже почти у ворот, когда ее шляпа вздохнула полями под дуновением невесть откуда взявшегося ветра и колесом покатилась, подпрыгивая по траве. Дорогая! Купленная после показа у знаменитого Лыткина! Так ей идёт! Оксана издала панический вопль. Не только все на пляже, но и Инна с Семеновым вскочили, ошарашенно оглядываясь. Даже из своего сарайчика высунулся Николаша Самоваров, даже в высоком окошке мастерской показалось бородатое лицо Кузнецова и изрекло: “Господи, орет-то как!”
Шляпа летела по косогору вниз к реке. Оксана бежала за ней, путаясь в высокой траве. Иногда шляпа замирала у какого-нибудь куста, и, казалось, сейчас будет схвачена, но тут же, словно специально дразня погоню, срывалась с места и неторопливо катилась, поворачивалась то васильками, то кастрюльным дном тульи. Оксана кричала не переставая, и Покатаев, несшийся наперерез шляпе, хотел не столько спасти ценную вещь, сколько выключить сирену. Он уже было настиг шляпу, несколько секунд качавшуюся на зыбких ивовых ветвях, но очередной порыв ветра сбросил ее в воду. Крик Оксаны усилился до воя.
— Егорка, лови! — завопил и Покатаев, громадными прыжками валясь с косогора. Егор зашлепал по мелководью, поднял ногами веера брызг. Шляпа крутнулась в водовороте и черпанула воду. Почти все обитатели Дома напряженно следили за событиями.
— У, черт! — Покатаев схватил какую-то палку и безуспешно шарил по воде. Шляпа ловко увертывалась, медленно, но неудержимо смещаясь вправо и вглубь, и уже смутно белела под слоем воды. — Егор! Ныряй, ты же в трусах!
Сам он стоял в воде по щиколотки, левой рукой судорожно подтягивая штанины к коленям. Егор нехотя и расчетливо сделал несколько шагов, рухнул в воду, повозился под ивами, и вернулся с размокшим и обвисшим трофеем.
— Ах, какой ужас! Какой ужас! — плакала Оксана. Она неуклюже взбиралась на пригорок, неся в руке на отлёте шляпу, с которой тихо текло.
— Ничего, — пожал плечами Покатаев. — Это же синтетика. Что ей сделается! Высохнет — будет как новая.
Оксана отвернулась и пошла быстрей. В тучах уже близко грохотало, срывались мелкие дождинки. Все заторопились к Дому, прибавили шагу, наконец, побежали гурьбой. Но и дождь припустил, западали часто крупные, как плевки, теплые капли. С дурацким уханьем, огромными скачками бегущих обогнал мокрый Егор. От него пахло рекой.
— Дурной, гроза же! Не бегай так — убьет! — крикнула ему вслед сердобольная Валька, но он уже ловко перемахнул через прясла и скрылся из виду. Вся прочая компания торопливо семенила, но, напуганная Валькой, старалась сдерживать шаг. Покатаев хотел приобнять Оксану. Та увернулась, потому что видела, как Семенов вел Инну в Дом, угодливо держа над ее головой свою синюю кепку. Наконец Покатаев поймал холодную мокрую руку Оксаны. Ее белая кофточка промокла и стала совершенно прозрачной, неожиданно выказав скрывавшийся под ней дорогой и бессмысленный лифчик — два кружевных цветочка на каких-то тесемочках.
Ливень уже бил и шумел. На крылечке стояли Инна и Семенов. Оксана раздраженно потрясла шляпу, стараясь брызгами попасть в Инну.
— Не понимаю, как дамы раньше носили такие широкополые шляпы, и с ними ничего не случалось, — ворчала она.
— Наверное, резинками привязывали к бороде… то есть, я хотел сказать, к подбородку, — предположил Покатаев.
— Вовсе нет, — снисходительно улыбнулась образованная Инна. — Прикалывали к прическе во-о-от такими длинными шпильками. У меня есть две старинные, с опалами. Хотите, покажу вечером?
Оксана не ответила, побежала в “прiемную”, на ходу, под канонаду грома, сдирая холодную, прилипшую к телу одежду.
11. Исторический аспект. Покатаев
Нет ничего тоскливее, чем долгий ненастный день в чужом доме среди незнакомых и полузнакомых людей. “Прiемная” померкла в скучной полутьме, старые вещи глядели хмуро. Валька и Егор бесцеремонно скрылись в каких-то своих отдельных апартаментах. Кузнецов снова взялся писать Инну с сиренью.
Часы тянулись еле-еле. Каждая минута была заметна и долго не кончалась. Оксана дулась на Покатаева, Покатаев устал от Оксаны, Валерику и Насте было неловко друг с другом, и они, отвернувшись в разные стороны, рисовали что-то в своих картонных папках. Один Семенов, казалось, не чувствовал себя несчастным и с интересом рассматривал коллекцию кича.
— Удивительный все-таки дом, — изрек он и вспомнил рассказы Инны о здешнем колдовстве.
— Единственный в своем роде, — отозвался Покатаев. — Во всяком случае, девятнадцать лет назад был единственным.
— Мне как раз девятнадцать, — сказала Настя. — А почему он тогда был единственным?
Покатаев раздвинул улыбкой, как ширму, свои смуглые щеки, показал ряд белых правильных зубов.
— Потому, девочка, что в те баснословные времена, каковых вы, конечно, не помните, простым смертным такие усадьбы не полагались. Что же сооружалось за номенклатурными заборами, никого не касалось.
— А ему почему разрешили? — спросила Настя.
— О! — Покатаев поерзал в кресле, устраиваясь в позе рассказчика, завладевшего общим вниманием. — После своих бамовских успехов наш юный и великолепный Кузя искал тему. Он всех уверял, что хочет чего-то красного на зеленом. Или наоборот. Мучиться со всякими красными конями он не стал, а взял и прямиком изобразил… что? Ну конечно, Первое мая! Называлось сие творение “Первый Первомай в селе Горшки”. Всякие там елочки-палочки, березки-осинки убраны кумачом, девки водят хороводы, а с трибуны какой-то хрен в красной рубашке выступает. И все это, прошу заметить, волшебной кистью и на огромном полотне! Даже теперь, кроме как стихами, и не скажешь, так угодил. Успех бешеный. Выставки, пресса, восторг всеобщий! Подоспела какая-то Всесоюзная выставка в Манеже. Повесили там эти “Горшки” на довольно видном месте. Вообразите теперь вернисаж. Стадо черных лимузинов у подъезда, оцепление. Плывет Генсек. Плывет себе, кивает, никуда не вглядывается, даже Налбандяна прокивал, того, говорят, чуть кондратий не хватил от обиды… И тут — “Горшки”. Красное на зеленом такое, что глаза слезятся. Даже Генсека проняло. Остановился: “Кто? Что?” Прочитали ему этикетку. “Большой, — говорит, — талант, с мощной, говорит, силой отстаивает наши гуманс-с-сические идеалы”. Все кругом в переполохе: Генсек в других местах останавливаться был должен! Его ж и вели, куда надо, и авторы нужных полотен в нужных местах уже стоят, переминаются, речи с ответной благодарностью, прозубренные всю ночь, повторяют. А тут какой-то Кузнецов из какого-то, прости, Господи, заштатного Мухосранска! Кузя, кстати, в этот исторический момент сидел себе в Сибири, даже, кажется, здесь, в Афонине, писал своих голых баб и даже по телевизору не удостоился посмотреть немую сцену у “Горшков” и отвисшие вокруг оных челюсти. Что же, постоял, постоял Генсек и дальше поплыл, никуда больше не заглянул и даже бесед заготовленных не провел. Только часто моргал. Должно быть, в глазах мальчики зеленые после кузиной красноты скакали. Потом премии, конечно, звания кому надо дали, такие дела заранее делаются, но и Кузе перепало. Шутка ли, Генсека сразил! “Горшки” — мигом в Третьяковку, за какие-то небывалые деньги. А уж у нас вызывают Кузю в обком и прямо, как в сказке: “Проси, говорят, Кузнецов, чего пожелаешь!” Он: “Дачу хочу!” — «Дачу? У нас в Замурине?» (Номенклатурное было гнездо, да и сейчас губернатор там, говорят, живет). “Нет, говорит, другое местечко присмотрел” Он давно вокруг этой горы ходил. “Валяй”, — говорят. И построил Кузя теремок. Место, конечно, красивое, хотя, на мой вкус, непростительная глушь. Кузя — бирюк, ему нужно логово. Ему и триумфы-то нужны, чтоб только в покое оставили, чтоб только наработаться.
Покатаев все улыбался своей не веселой, а физиологической улыбкой. “Да друг ли он Кузнецову в самом деле?”— изумлялся Валерик.
Сомневаться, однако, не приходилось — конечно, друг. Звание у него было именно “друг Кузнецова”. Так бы и печатать на визитках маленьким курсивчиком под фамилией, где у Покатаева значилась всякая недолговечная ерунда: то “генеральный директор”, то “президент”, то “член правления”. Кузнецов и Покатаев дружили с третьего класса, сидели за одной партой и прибыли из напрочь забытого Богом райцентра Загонска поступать: один в художественный институт, другой — на физфак. Студентами тоже дружили, а потом рядом с молодым и удачливым живописцем был всегда интеллигентный, ироничный, красивый (модные тогда романтические кудри до плеч) друг-физик. В своем НИИ Покатаев ничем не выделялся, зато был очень хорош в компаниях, хрипловато пел под гитару, читал все новинки в толстых журналах, мило шутил и часто намекал, что мешает ему развернуться как следует (он даже как-то не защитился) то ли тупость начальства, то ли равнодушная сытость эпохи. Дружба с Кузнецовым Покатаеву шла на пользу, он попадал на престижные богемные вечеринки, на какие-то приемы местного хай лайфа, даже в некоторые весьма малодоступные дома проник, где очень быстро становился более своим, чем бирюк-Кузнецов, вечно торчавший в мастерской.
И женились они одновременно и как бы вместе. После прогремевшей бамовской серии Кузнецову выделили дармовую турпутевку в Венгрию (по тем временам вполне шикарная заграница) на две персоны; в таких случаях предполагается жена. Жены у Кузнецова не было, и хотя в планируемой группе мастеров искусств с супругами на эту лишнюю женину путевку уже находились подходящие зятья и тёщи, Кузнецов сумел всех простодушно уверить, как он один умел уверять, что ехать должен именно с другом.
Группа “мастеров искусств” друзей очень разочаровала. К искусству в ней имели отношение, кроме Кузнецова, только два тусклых местных писателя с ведьмообразными женами, имелась еще пожилая высокая журналистка, и издали, и вблизи необыкновенно похожая на пожилого мужчину, и (видимо, для равновесия) миниатюрный, не старый, но морщинистый солист балета. Солист был явно с голубоватым отливом и жестоко завидовал Кузнецову, умудрившемуся протащить в поездку друга. Прочие мастера оказались чиновниками управления культуры и членами их семей. Вся эта смесь была, разумеется, густо приправлена работниками прилавка. Особенно запомнилась зав. производством гремевшего тогда ресторана “Поплавок” — дама с макияжем в лиловых тонах и удивительной белокурой прической. Кузнецов уверял, что она просто надергала из матраца слежавшейся ваты и кое-как укрепила ее на голове. Во всяком случае прическа эта более напоминала головной убор, чем волосы.
Друзья приуныли: слишком уж неэстетичная компания готовилась обступить их в стране гуляша и чардаша. Но в последний момент в группе появились еще две туристки, и тоже подружки. Они были всего-навсего студентками иняза, но не иначе как дочками знатных родителей, раз попали в такой довольно престижный тур. Действительно, папа красивой спортивной Тамары был начальником областной “Сельхозтехники”, а папа некрасивой Лены (у нее было очень длинное лицо и подбородок, прижимающийся к шее) заведовал плодоовощеторгом. Подружки и друзья сдружились еще как бы и перекрестно. В Венгрии так всюду и ходили неразливанной четверкой. Было необыкновенно весело. Они осматривали живописные города, они купались в Балатоне, они пили коктейли в варьете “Максим”, где перед ними плясал кордебалет в одних трусиках (в программу пребывания “мастеров искусств” официально входило и столь экзотическое шоу, вероятно, чтобы доказать мадьярам широту взглядов, присущую советским деятелям культуры); Кузнецов ехидно толкал в бок последовательно бледневшего, серевшего и синевшего от небывалого зрелища нетского писателя Сидорова и кричал ему в ухо, что не стоит так уж переживать из-за каких-то сисек. Еще бы: в своей недолгой жизни он видал голых грудей больше, чем этот писатель тараканов. Но кроме веселья произошли и важные вещи: красивая Тамара решила выйти замуж за Кузнецова, а романтически кудрявый Покатаев решил жениться на некрасивой Лене.
Сразу по приезде домой он отправился с визитом к родителям Лены.
Этот визит и решил всё. Каждый шаг Покатаева в тот день приближал его к неизбежному и дивил чудесами. Например, звонить надо было не в дверь, а у подъезда, что в те годы было новостью. Он ошибся звонком, и открыл ему, ворча, какой-то сосед, лысый краснолицый старец в длинном атласном халате глубокого гранатового цвета со шнурами на груди. Покатаев никогда не видел таких старцев живьем, они водились только в кинофильмах из усадебной жизни, но даже и там не были столь холеными и самодовольными. Потом Покатаев попал куда надо и долго сидел в просторной комнате с крупной дорогой мебелью, на необыкновенно мягком диване, полуутонув в нем и с удивлением глядя на собственные колени, всплывшие из диванной мякоти почти к подбородку.
Наконец, вошла Лена. Она тихо катила столик с бутербродами и привезенной из Венгрии бутылкой вина. Звякнули, столкнувшись плавными женственными, боками два бокала, и по рубиновому хрусталю пробежали кровавые и огненные искры. “Баккара”, — улыбаясь, пояснила Лена. Это добило Покатаева. Ни в Загонске, ни позже он никакой баккары не видал, только про это читал. Странно: Покатаев понимал некрасивость Лены, а ему некрасивые девушки не нравились. Лена ему тоже не нравилась, но чувствовал он себя сильно влюбленным. Если там, в Венгрии, он решил жениться по расчету, то теперь было и большое чувство, но, кажется, не к Лене.
Обе свадьбы сыграли почти одновременно. Семейная жизнь Кузнецова не ладилась: красивая Тамара все хотела подправить, подчистить, улучшить Кузнецова, а он не давался. Зато у его друга все вышло как нельзя лучше. Он все сидел в своем НИИ, пел, читал толстые журналы и жаловался на косность начальства, но жил уже в великолепной квартире неказистого снаружи, мышино-серого номенклатурного дома, ездил на “девятке” гранатового цвета, и у него было двое дочек, похожих на Лену, но не таких некрасивых. Когда повеяло перестройкой, овощеторговский отец Лены заделался образцовым новатором, и как-то незаметно плодоовощеторг перешел в его сугубо частные руки, причем всем при этом было ясно, что он не присвоил богатую и доходную контору, а осчастливил Отечество, избавив его от мелочных забот о вечно гниющих и приносящих исключительно убытки продуктах земледелия. По городу запестрели канареечно-желтые плодоовощные киоски с живописными вавилонами тропических фруктов на прилавках. Покатаев наконец бросил свою физику (чем порадовал тестя, считавшего науку пустым занятием вроде дрессировки блох) и стал трудиться в канареечной фирме. Объездил по фруктовым делам весь мир и всё мечтал отделаться от зависимости: тесть, человек тяжелый и скорый на расправу, считал его, невзирая на последние успехи, недоумком и никогда по большому счету ему не доверял.
Дружба Покатаева с Кузнецовым все это время не прерывалась, потому что слава Кузнецова не меркла, а вес и значение вопреки всему росли. Очень скоро Покатаев понял, что и теперь самое надежное из его званий — “друг художника Кузнецова”. Кузей (так он звал его еще со школьных времен) давно заинтересовались иностранцы, хорошо покупали; галерейщики охотно брались устраивать выставки; Кузнецов даже первым из жителей Нетска попал в “Интернет”, причем сам он долго об этом не подозревал. Покатаев начал устраивать Кузнецову, не вполне даром, разумеется, кое-какие контакты. Забирал партию картин, а возвращал валюту или чековую книжку с цифрой открытого им где-нибудь во Франкфурте-на-Майне кузнецовского именного счета и нарядные проспекты галерей с репродукциями его картин.
Зато дружбы домами не вышло. Лена была по-прежнему подружкой Тамары и безалаберного Кузнецова терпеть не могла. Кузнецов отвечал ей полнейшей взаимностью, тем более что вообще не любил некрасивых и неинтересных женщин и от души жалел Покатаева, осужденного жить с такой мымрой. Покатаев ответно жалел Кузнецова, которого вечно одолевали бабы. Эта жалость особенно сгустилась, когда Кузнецов женился вторично на молоденькой дочке одного спившегося художника. Дочка эта сильно напоминала прелестно-взбалмошных героинь Ремарка, мода на которого еще доцветала в провинции во времена, когда друзья были молоды. Звали красавицу Женей. Болезненное ремарковское очарование Жени скоро стало совершенно невыносимым. Она изводила Кузнецова дикими сценами и обладала гибельной, на взгляд Покатаева, способностью по-дурацки тратить любые деньги. Так, новое дорогое платье в первый же вечер оказывалось прожженым сигаретой или облитым вином и навсегда бросалось в угол засохшим неопрятным комом. Наутро покупалось новое платье, столь же дорогое и стильное, и ждала его столь же незавидная судьба. Еще хуже было то, что Женя беспрестанно влюблялась. Едва ли не еженедельно она заявляла трагическим прокуренным голосом, что встретила другого и с Кузнецовым она вынуждена расстаться, после чего куда-то уходила. Она очень быстро возвращалась с разочарованием, а пару раз и с синяками. Время от времени и Кузнецову случалось бивать предметы ее увлечений, и всякий раз приходилось удивляться экстравагантности жениного выбора (один из побитых оказался и вовсе их участковым сантехником — замасленным алкашом лет сорока пяти). Самое же плохое было то, что Женя спивалась, дурнела, и потихоньку ехала у нее крыша, как тогда модно стало выражаться. Она спала днем, а вечером бежала на какие-то междусобойчики, вечеринки, попойки и банкеты, куда ее уже старались не звать. Скоро Кузнецов начал ежевечерне прочесывать городские рестораны и вытаскивать из какого-нибудь из них жену — пьяную, без колготок, со зверски размазанной помадой. Вытаскивание сопровождалось скандалами, пьяными поцелуями, задиранием юбки для показа всему человечеству “моих бесподобных бедрышек” (“Пьяный мужчина лезет драться, пьяная женщина — раздеваться” — такой закон вывел тогда Кузнецов). Покатаев помогал другу вызволять жену — именно на покатаевской гранатовой девятке они объезжали рестораны — и уговаривал бросить негодницу. Между тем, ее уже не просто не звали на вечеринки, а начали бесцеремонно выставлять. Захмелевшая, она бродила по знакомым домам, скандалила, рассказывала про Кузнецова и себя невероятные и гнусные вещи, показывала бедрышки, просила денег, могла даже стянуть что-нибудь по мелочи, словом, стала совершенно непотребна. У Кузнецова в тот период уже была Инна и масса мимолетных милых девочек, но он внял уговорам Покатаева и развелся с Женей только тогда, когда ее удалось довольно успешно подлечить. Женя перестала мучить Кузнецова, опять он стал лучезарно-благополучен, как всегда. Правда, Женя долгой трезвости не вынесла, вновь взялась за прежнее, но Кузнецов, так жалевший, так мучившийся ею прежде, перестал вдруг ее, постаревшую, худую, совсем не ремарковскую, жалеть и даже не узнавал на улице. Изжил.
Покатаев радовался за друга, но чувствовал и странную досаду. Несчастный, опозоренный Кузнецов, рыщущий по злачным местам, был ему как-то милее, чем обычный, победительный. Странно, что в своих заношенных рубашках, с нечесаной башкой Кузнецов всем нравился больше, чем красивый, стильно одетый, улыбчивый, крепко и дорого надушенный Покатаев. Более того, многие из любивших Кузю друга его просто терпели. Как неизбежное зло.
Вот и сегодня, когда так весело и добродушно рассказывалось про “Первомай в Горшках”, он поймал на себе неприязненный взгляд долговязого тщедушного студента. Конечно, и этот боготворит Кузю. Узнать бы только — за что?
12. Под музыку Вивальди
“А злой субъект”, — подумал о Покатаеве не Валерик, а банкир Семенов, который, слушая его рассказ, постепенно углублялся в лабиринты “прiемной”. Так он добрался до дальнего угла, где громоздились совсем уж обломки: какие-то разрозненные кроватные спинки и диванные ножки. Сюда спускалась внутренняя лестница и выходили целых три двери. Покатаевский голос невнятно бубнил в стороне, невнятно же шелестел дождь, из немытого окошка несло прохладой.
Семенов поднял голову и прислушался. Наверху, в мастерской, тоже говорили и, кажется, далеко не мирно. Семенов узнал голос Инны, он знал, что она там, что Кузнецов ее пишет, и перед глазами сразу встало бесстыдное и спокойное тело на белом атласе. Семенов еще не понимал, что сам он неотступно ходит за ней целый день в надежде увидеть это тело снова. Там, наверху, похоже, ссорились, но он даже не соображал, что подслушивает, просто стоял, как во сне.
Вдруг входная дверь распахнулась так, что ручка стукнула в стену, и жалобно звякнули висевшие рядом старинные аптечки. По лестнице мчалась нагая Инна. Босые пятки часто и глухо стучали по ступенькам. Глаза банкира Семенова изумленно уставились на нее из-за дымчатых стекол очков. Мечта как бы сбылась, но видеть Инну вот так — голой, скачущей по лестнице — было уж слишком. Он испуганно таращился на взмахи рук, беспорядочно прыгающую грудь, темные волосы на лобке. Все это неслось прямо на него, приближалось, и у него вдруг закружилась голова, как перед обмороком. Инна почти сбила его с ног, оттолкнула (он даже зажмурился) и, пинком распахнув одну из дверей, выскочила прямо под дождь. Семенов, ощущавший себя странно, как бы завернутым в вату, тем не менее с большим проворством высунулся в дверь следом за Инной и получил по лбу крупной дождевой каплей. Однако он успел увидеть на небывало яркой, фосфорической зелени (молния блеснула, что ли?) узкую спину и длинный белый зад, тоже мокрый, в дьявольских зеленых бликах. Длилось это одно мгновенье. Инна по траве перебежала на наружную лестницу, взлетела по ней и скрылась где-то наверху, хлопнув еще несколькими дверями. Тут до Семенова вдруг дошло, что это где-то решилась его судьба, и все старое, что было до этого сумасшедшего мгновения, распалось в клочья. Он даже фамилию свою забыл и только в одном был уверен — теперь он знает, что значит заболеть.
В это время Кузнецов, несмотря на трагические пробежки Инны довольно веселый и оживленный, ввалился на кухню:
— Валерия, там, вроде, зеленых щец немного оставалось?
Валька неопределенно махнула рукой, но Кузнецов все понял, повозился, погремел крышкой и поставил на стол кастрюлю. У окна Николай Самоваров точил кухонные ножи. Валька смотрела на дождь, подперев щеку крупной рукой.
Кузнецов хлебал прямо из кастрюли.
— М — м — м — м! — наслаждался он. Какие щи! М — м — м! Валерия, не дурила б ты с моделями да диетами. Вот твое призвание!
Валька вопросительно повела синими белками.
— Запросто найдешь себе доходное место! Я знаю пару семейств, очень нуждающихся.
— Какое еще место?
— Ну, в состоятельных семьях теперь ведь снова домработниц стали держать. Платят прилично, кормят. Бывает и с жильем.
— Это в прислуги, что ли?
— М — м — м… Ах, в общем, да! Что у тебя за заскорузлые марксистские предрассудки? Человек красит место! Занятие очень почтенное. Могу рекомендовать.
— Спасибо. Я уж как-нибудь без этого.
— Нет, ты подумай.
— Да — а — а, завелись теперь хозяева, только подтирай за ними.
— Валерия, кроме шуток! Ну, брось ты это фотомодельство, брось выдрючиваться. Ведь она, Николаша, не Валерия никакая, она просто Валька из Пыхтеева, прелестнейшего места в мире. Плетет же Бог знает что. Что у нее папа менеджер! Зачем так себя не уважать? Зачем врать?
Валька покраснела.
— Вам легко, Игорь Сергеевич, говорить! Вы вон кто! А как ваши гости смотрят на меня? Как на пустое место. Хотя бы сыночек ваш. Да и на Николашу Алексеевича тоже. Он ведь тоже прислуга. Он тоже в господа не вышел!
— Мне плевать, — улыбнулся Николай.
— Молодец! — крикнул Кузнецов. — Верно! Чего тушеваться — парень талантливый, с руками. Чего комплексовать? Только локтями работай шибче, лезь, лезь!
— А у меня талантов нету, — заявила Валентина, — я буфетов пилить не умею. Но лезть собираюсь. Потому что знаю, что уж покатаевских дочек-образин я не хуже.
— Вот-вот! — поддержал Кузнецов.
— Чего вот? Вы не из-под них ли дерьмо носить меня приставляете? Состоятельные семейства! — передразнила Валька. — Мамочка ихняя так и поняла, что я ваша кухарка — то тарелки свои грязные мыть ткнет, то за водой пошлет.
— А ты? — поинтересовался Самоваров.
— И я ее посылаю… подальше. Так что, спасибо вам душевное, Игорь Сергеевич, за рекомендацию.
— Валя, это же для начала, — примирительно заметил Кузнецов.
— А где начало, там и конец. Да, отец у меня не менеджер. И мамка всю жизнь в конторе полы мыла. Только я полы мыть не хочу! И образин ваших ублажать не желаю!
— Ну, Валька! Да ты, подруга, просто Теруань де Мерикур!
— Ругайтесь, ругайтесь… Господин! — Валька отвернулась, вся красная и злая. Кузнецов так расхохотался, что стукнулся затылком о дощатую стену. Отсмеявшись, он обратился к Николаю:
— Вот вам и горючее для социального взрыва. Зависть, зависть…
— При чем тут зависть? — тихо возразил Самоваров.
— А что это по-вашему? — вскричал Кузнецов.
— Вы ж ей предложили вступить в касту шудр, да еще благодарности ждете.
— Николаша, она не так тонка, как вы полагаете. Просто забита голова телевизором, рекламными мордами помидорными, всем этим наемным реквизитом, который дураки принимают за красивую жизнь. Нет такой жизни. Туфта. Дурилка.
Валька повернулась с глазами, зеркальными от слез.
— И все-то у вас дураки! Принесла же меня к вам нелегкая! Только жизнь испоганили. Теперь еще в кухарки сдаете. Николай Алексеич! Все они такие! И дружок его Покатаев загрызет своими зубищами покупными. И сынок Егорка — он-то и папу всю жизнь заедать будет! А Инна ваша! Как мы попали сюда, Николай Алексеич? Вы один настоящий человек. Как родной почти. Даже глаза ваши как будто давно знакомые, будто в детстве видала я такую прищурочку.
— Видела, Валя, видела! Как раз на портретах вождя всемирного пролетариата товарища В.И. Ленина! — хохотнул Кузнецов и вразвалку вышел из кухни.
Дождь все лил. Стемнело. Пропали краски. Кузнецов вглядывался в шуршащие и булькающие сумерки. Он так не любил сложностей, что даже пустяковые стычки приводили его в замешательство. Вечером еще работать. С этой девочкой. Надо как-то встряхнуться. Он ворвался в “прiемную”, где при свете керосиновой лампы неподвижно и все врозь сидели какие-то скучные фигуры.
— Господа! Дамы! Товарищи! Пойдемте-ка ко мне в мастерскую, посумеречничаем. Мне что-то вечерок этот начинает не нравиться.
Изумленные гости встали почти разом, а Кузнецов уже привычно взбирался наверх — зажигать керосиновые лампы. Электричества в Доме не было.
И вечер начал выправляться. Кузнецов заварил смородиновый лист и еще своего “жеребчика”. Так он называл крепчайший чай, почти чифир, от которого у неискушенных долго почему-то отзывался во рту привкус металлической банки. Появились какие-то бутылочки и обильная банкирская снедь. Кузнецов, когда работал (а он почти всегда работал), не пил, но гости пригубили и повеселели. Покатаев под облезлую гитару из кузнецовской коллекции утиля стал петь резким, но верным голосом “Под музыку Вивальди”. В общем, получились вполне интеллигентные посиделки. Вытащили несколько картин, поахали. Даже Оксана, которой Кузнецов активно не понравился, поскольку она сама не произвела на него ни малейшего впечатления, нашла необходимым похвалить один из пейзажей:
— Красивое небо! Особенно вот то облако цвета лосося.
Это словечко попадалось ей в модных журналах, а тут ловко ввернулось. Вообще все это напоминало сцену из фильма, и Оксана, скрестив ноги, решила поиграть в аристократку. Покатаев снова запел.
— Только не это! — запротестовал вдруг Кузнецов. — Хватит, Покатаюшка. Божественный шум дождя — и твоя жестяная глотка…
— Так уж и жестяная, — Покатаев недовольно отложил гитару и с молодой небрежностью обнял Оксану. — Сколько я раньше тут пел, ни разу ты не жаловался. Не с той ноги встал? Оксаночка, ты представить себе не можешь, сколько и как тут пели! Бывало, человек по тридцать горланили: “Милая моя, солнышко лесное”. И этот бирюк, как миленький, горланил. Местечко-то глухое, и дышалось тут легче. Какие разговоры всю ночь! Солженицын, КГБ, несвобода наша проклятая… Хозяин, правда, чаще помалкивал.
Кузнецов недовольно отозвался:
— А чего бы я про свободу трепался? Раз я свободный? Это больной все талдычит о здоровье и о болезнях, здоровый здоровья не замечает. Зато несвободный вечно у кого-то в найме, причем добровольном, прошу заметить; и уж ему-то век свободы не видать.
— Это не про меня ли? Самому-то прислуживать не приходилось, что ли? Вспомни БАМы да Первомаи!
— А чего же, были и БАМы и Первомаи, как не быть… — легко согласился Кузнецов. (Семенов, который как раз, пригнувшись, пробирался поближе к Инне, шумно споткнулся о вытянутые ноги Оксаны и, присев тут же, сконфуженно замер). — Писаны с натуры. Хорошо писаны, представьте себе, да. Красивая штука была 1 Мая, сейчас бы праздновали — и сейчас бы писал!
Инна сидела в уголке, тихая и грустная, но стерпеть хотя бы намек на критику Кузнецова не могла и привычно ринулась в бой:
— Толик, пожалуйста, не корчи из себя идиота! Есть конъюнктура, а есть искусство, если ты об этом. Политизированные кретины куда-то попрятали Игорев “БАМ”. Глупо и преступно! Так прятали иконы, потом авангард. Но и “БАМ” вернется, потому что это — живопись!
Инна была в причудливо-небрежном темном платье (у нее все платья были такими), в свете керосиновых ламп замерцал какой-то черный бисер, заблестели шнуры, какие-то кисти и бахрома, когда она вскочила и взмахнула руками.
— Ну, вот, опять слово о таланте Игореве! — развел руками Покатаев. — Я-то в живописи не разбираюсь.
— Почему же? — отозвалась обнимаемая Покатаев Оксана. — У каждого свое мнение. Еще картины покажите, Игорь Сергеевич! Толик мне все-все обещал показать. Такой дождь, мы, наверное, утром уедем, а я глянуть хочу!
— Вот Толик пусть и показывает, что имеет, раз обещал, — буркнул Кузнецов.
— Грубо, Кузя, — спокойно сказал Покатаев. — Успокойся, никто не спорит о твоей величине. Отспорили. Гений, как шепчет этот замечательный мальчик-студент. Я вас верно расслышал? Ну, валяй.
— Ночью живопись смотреть не рекомендуется.
— Но мои-то можно?
Кузнецов только хмыкнул на эту загадочную фразу и снял со стеллажа несколько готовых холстов. Краски в тусклом освещении спрятались, но мощное письмо все-таки поражало. Валерик ринулся рассмотреть поближе, и тоже ткнулся в вытянутые ноги Оксаны. Инна торжествующе сверкнула глазами и бисером. Даже Семенов впился в холсты и наконец-то вспомнил, зачем он сюда приехал: отдохнуть, конечно, но надо бы в дружеской обстановке сторговать подешевле холстик-другой для одного чрезвычайно нужного японца. Японец увидел творение Кузнецова в галерее банка, восхитился, долго восторженно и беспомощно лепетал. Выхода не было, деловой этикет предписывал подарок. Но свою коллекцию разбазаривать Семенов не хотел. Подешевле бы купить. Дерет гений-то! (Семенов был, как все финансисты, прижимист, но перспективу видел, на нужное дело денег не жалел). Через неделю японец на обратном пути из Москвы заедет снова, очень нужный японец. Впрочем, если улучить минутку для разговора, столковаться, видимо, можно…
— Это что! Я новую серию начал, — настроение Кузнецова неожиданно изменилось, ему захотелось показать все и окончательно всех покорить. Он ушел в темный угол, отбросил какие-то тряпки, прикрывавшие прислоненные к стене холсты, взял два и выставил на обозрение. — Русские святые. Арина зажги снега. Царь Давид — земляничник. Прелесть, да, эти имена? Вот!
Эффект был тот, что требовался. Все онемели.
— Скажите, а что вы хотели сказать вот этой картиной? — спросила вдруг Оксана. Она разглядывала живопись, приоткрыв большие губы и сделав сонные глаза — такую мину она как-то видела у известной модели в “Воге” и отрепетировала для себя. Ей это шло — и взгляд загадочный, и два передних зуба очень сексуально виднеются.
— Я, если бы что хотел сказать, просто открыл бы рот и сказал. — ответил Кузнецов. Инна грустно им любовалась. Настя за весь вечер не произнесла ни слова, сидела угрюмо, но увидев “Святых”, заулыбалась, даже рот рукой зажала и подбородок вздернула. “Решилась, что ли, пигалица?” — цинично подумала Инна, от которой эта метаморфоза не укрылась.
— Подарите мне картину, — снова заявила Оксана, переложив с одной на другую вытянутые ноги и еще мягче распластав губы.
Кузнецов прищурился:
— Это, девочка, денег стоит, и немалых. Дарю я редко, и друзьям. Вряд ли вы входите в их число.
— Тогда напишите мой портрет. Толик, закажи! Напишете?
— Не хочу.
— Почему? Я недостаточно красива? — Оксана презрительно покосилась на румяных святых и русалок с глазами-блюдцами. — Вы бы хотели рисовать только саму Клаудиу Шиффер?
— Не видел. Но не думаю. Для живописи бесконечные тонкие ноги — предмет скучный.
Оксана соболезнующе улыбнулась:
— Да… Кстати, о ногах. Вам не кажется, что вот эти пальцы слишком большие?
Ей хотелось съязвить, и она наугад ткнула в босую ступню Земляничника.
— Что вы, что вы! — дернулся вдруг Валерик к Оксане, зацепившись-таки опять за ее ногу. — Это так хорошо, так гармонично…
И смутился. Но Настя улыбнулась ему ободряюще. Покатаев, не вглядываясь в картины, несколько раз их пересчитал.
— Маловато что-то. Пять? И это все?
— Нет, не все.
— А сколько еще? Где?
— Нисколько. Нигде.
Покатаев пожал плечами, а Кузнецову стало очень скучно. Или он вид такой сделал. И все вдруг почувствовали себя гостями, немилосердно засидевшимися после чая. Инна пришла на помощь.
— Господи, стемнело совсем! Вы хоть устроились внизу? Может, одеяла дать? Боюсь, будет сыровато. А Игорь последнее время вечерами что-то мудрит, все пишет…
— Да, я поработаю, — подтвердил Кузнецов. Он переглянулся с Настей. Та посмотрела на часы. Валерик, размякший было от увиденного, заметил это и покраснел. Гости уже спускались по внутренней лестнице, Инна светила им лампой, Покатаев смеялся и пугал Оксану громадными тенями. Егор, который не принимал участия в беседе и картин не рассматривал, остался сидеть в мастерской.
— Иди, иди, — поторопил его Кузнецов.
— Когда нам можно будет поговорить? Только серьезно!
— Не надо сегодня!
— Надо. Вот когда узнаешь, сам поймешь.
— Хорошо. Попозже. Потом.
13. Веселый вечерок
Дождь не кончался. После грозы ливень сначала стоял непроницаемой белой стеной, потом ослаб, но стал холодным и настырным. Неужели надолго? Как ни пытался Кузнецов спасти надвигавшийся отвратительный вечер, ничего не вышло — он-таки наступил. Такие вечера редко бывали в причудливом и нескучном Доме, но этот вышел неприятным. Все, кто провел его в Доме, вспоминали позже, что было в этом вечере нечто изначально нехорошее, словно больное, и плохие предчувствия были у многих из них. Предчувствия возникают, как правило, задним числом. Вряд ли люди, собравшиеся в тот злополучный вечер под крышей Дома, могли что-то особенное ощущать. Разве что была удрученность неожиданным, ненужным ненастьем и долгим вечером при плохом освещении и раздражение от неуютного и не очень чистого ночлега да еще скука, порожденная случайностью так и не сложившейся компании. Они все не были нужны друг другу.
Все-таки их придуманные позже зловещие предчувствия сбылись.
* * *
Настя копалась в своем мешке, выбирая холст. Еще долго надо было ждать, но она решилась и хотела, чтобы все произошло побыстрее. Сразу. Сейчас. Будь что будет, но она втиснется на эту треклятую выставку в Германию. И в “А.Н. коллекцию” тоже. Гадко, мерзко, красавица Инна зачем-то подсовывает ее своему кумиру, но плевать. Она взяла свой самый большой подрамник и уселась на сундук недалеко от двери — ждать. Тут ее и нашел Валерик.
— Настя, ты что здесь?
Она не ответила. Он не унимался:
— Почему с холстом?
— Я буду писать свечу.
— С ним? У него?
— Да. Чего остолбенел? Обидно, что тебя не позвали? Бедненький, убогонький…
— Настя, — заговорил Валерик, пытаясь сдержать отчаяние, — я не хочу лезть в твою жизнь. Да, мне обидно. Только и ты что-то тоже не очень веселая. Ты ведь тоже знаешь, что о нем говорят?
— Что он гений? Ты на этом застрял.
— Он гений. И у него бывают девочки. Настя, кто угодно, только не ты!
— Почему? Какой ты, оказывается, моралист! Хочу и иду.
— Я не пущу!
— Он тебя с лестницы спустит. И поделом! Ты мне за сегодняшний день осточертел.
— Настя, ты волшебная, ты красивая… И я тебя люблю. Не говори так…
— Вот дурацкая сцена! Не тряси ты эту полку, здесь ведь все трухлявое, все на соплях. Друг детства вон выглядывает, скалится. Не кричи. И уйди ради Бога, уйди, уйди…
— Ты этого хочешь?
— Хочу.
— Ладно, я уйду!
Валерик побежал к двери, натыкаясь в темноте на мебель и загремев коллекционной водосточной трубой. Труба ткнулась в рояль, и тот застонал надтреснутой пустотой. Дверь хлопнула. Настя зло фыркнула: “Топиться? Вот дурак!”
* * *
Крик Оксаны все уже вроде бы слышали, но когда он вдруг раздался среди темноты и причудливых теней “прiемной”, не могли не вздрогнуть и не испугаться.
— А — а! Здесь, здесь!.. — взвизгнула модель. Все разом бросились к ней. Оксана стояла на широкой деревянной кровати, куда собиралась возлечь с Покатаевым, и орала. На ней была белая пижама с красными клубничками (по типажу — большой рот, худые щеки, делано хищный взгляд — она была “вамп”, но сказывалось, очевидно, недопрожитое детство, и она обожала платьица с бантиками, кофты со зверушками, куколок, плюшевых мишек и зайчиков).
— Ну что ты орешь? — тихо увещевал ее Покатаев. Он тоже был готов ко сну (в трусах и в кулоне — фляжке на золотой цепочке). — Что такое ты там увидела?
— Мышь! Мышь! Нет, большая! А — а! Крыса!
Покатаев не стал заглядывать под кровать и уверенно заявил:
— Здесь нет мышей. У Кузи бездна мышеловок. Тебе показалось.
— Нет! А — а — а! Она здесь! Я не могу спать на этой дурацкой кровати!
— Хорошо. Давай перейдем на другую.
— Другие еще хуже. А — а — а! Вот она!
— Это просто тени. Не ори. Ляг.
— Я не могу лечь! Я не могу ночевать в этом ужасном доме. Поедем в город! А — а — а!
— Ты сдурела?! Ночь, дождь!..
— У тебя же фонарь. Давай собираться. Вон еще! А — а — а! Я этой ночи не переживу! Хочу домой!
— Хотеть мало, надо мочь, — пришел на помощь Покатаеву Семенов. Он высунулся из-за шкафа. — Надо подождать. Успокойтесь. Дышите пока этим чудным воздухом.
— Я не могу, здесь мыши! Владимир Олегович, вы настоящий мужчина, поедемте в город!
Семенов тут же скрылся и затих за шкафом.
— Анатолий! — снова вскрикнула Оксана. — Не молчи! Ты меня в эту дыру заволок, ты и вывози! Мне домой надо! Пленкой накроемся — не замочит!
— Что за ерунда! Никуда я не поеду, — сухо отозвался Покатаев.
— Не хочешь? — визгливый крик отозвался и в надтреснутых зеркалах, и в утробе рояля, и в буфетных расшатанных стеклах. — Так значит, все дело в твоем хотении?!
— И не могу тоже. У меня дела, мне надо остаться.
— А мне не надо. Мне дела нет до твоих дел, мне в город нужно, туда, где горячая вода, где электричество, унитаз, где моя работа и приличные люди!
— Оксана, угомонись, не показывай всем, какая ты дура.
— Я? Дура? — в ее крике послышался угрожающие всхлипы. — Затащил меня к каким-то недоумкам, и я же еще и дура?!
— Ду-ра, — повторил Покатаев тихо и, насколько мог, нежно. — И ты меня достала.
— Импотент! — взвизгнула Оксана, и что-то глухо упало. “Швырнула подушкой”, — догадался за шкафом Семенов. Загремел какой-то табурет, звякнула и покатилась ваза. Наверху отворилась дверь, по лестнице быстро сбежала Инна.
— Что у вас тут происходит?
— Забыли отчитаться, — с вызовом пропела Оксана.
— Мне не интересны ваши отношения, но я слышала, как падала мебель. Здесь много редких вещей, Самоваров третий год трудится, доводит до ума, и я бы просила…
— Все здесь переколочу, если вот он, — Оксана уперла палец в ворсистую грудь Покатаева, — не увезет меня сию минуту! Сию минуту! Из этого вашего крысятника!
— Толя! — слабо вскрикнула Инна, потому что Оксана схватила гипсовую статуэтку оленя и подняла над головой. Покатаев бросился к ней, но Оксана прижала оленя к груди и отчаянно пыталась пнуть Покатаева в пах. Наконец, он вырвал статуэтку и швырнул визжащую Оксану на оттоманку. Взметнулись длинные ноги, заныли пружины.
— Подонок! Импотент! Мудак! — выкрикивала Оксана сквозь злые слезы.
— Толя, валерьянки принести? — заботливо поинтересовалась Инна.
— Не надо, в случае чего, обойдемся холодным душем, — Покатаев кивнул на окно. По стеклу ползли дождевые струи.
* * *
Самоваров сидел в своем сарайчике и блаженствовал: за дверью дышал и шумел дождь, вокруг благоухали стружки, на столе горела керосиновая лампа и лежал начатый детективный роман. В Доме мелькали огни, передвигались в окнах тени. Потом послышался приглушенный расстоянием и дождем крик Оксаны. “И чего она так орет?” — подумал Николай, представил, каково слушать этот вопль тем, кто в Доме, и поежился. Мысль была мимолетной, но он уже отвлекся от книжки, и ему сразу показалось темно и зябко. Чего-то явно не хватало. Впрочем, чего ему не хватало, он тоже понял сразу: чаю с хлебом, маслом и вареньем. У него было только варенье, полузасохшее от зноя, но зато почти полбанки. Николай выглянул из двери: на кухне горел свет. Он решил сходить запастись всем остальным, пока народ еще не улегся, и ежась под дождем, зашагал к Дому.
В кухне керосиновая лампа была подвешена к потолку, и к ней был пристроен вместо абажура жестяной блин. Вокруг лампы мельтешили крыльями тяжелые, словно осыпанные серой пылью ночные бабочки. Николай отрезал хлеба, колбасы, выловил в стеклянной банке кусок масла и сразу размазал по горбушке. Все это он укладывал в пакет, когда услышал странные шаркающие шаги. Он обернулся и увидел Вальку. Она была вдрызг пьяна. Русалочий румянец отдавал свеклой, глаза потускнели, отвисла мокрая губа.
— Никола — а — ша! — протянула она неверным, чужим, громким голосом и покачнулась.
Самоваров отвернулся, будто ненароком увидел что-то неприличное.
— Иди спать, — только и сказал он.
— Не хочу, — заявила Валька и плюхнулась на недавно отреставрированный венский стул. Попала она не вполне удачно, тяжело накренилась, но удержалась все же, вцепившись в стол.
— Зачем напилась? — поморщился Самоваров.
— Надо, — она шумно сопела носом. — Надо! Я и петь сейчас буду.
— Не вздумай. Поздно уже.
— Плевать! Дамочек ваших побужу? Да? И как вы тут живете — смотреть тошно!
— Тебе от другого тошно.
— Не — е — ет, от вас! Не от вас, Николаша, вас я люблю, а от этих, — она неопределенно повела глазами. — Все тут дрянь. Покатаюшка вот редкая сволочь, вокруг Игоря трется, юлит. А Егорка только и знает, папины деньги тянуть. А Инка все зудит: “У тебя, Игорь, враги — и..” И сам-то — похабник! Жениться взялся, а к этой девке-студентке лезет…
— Он ведь художник. Он ищет красоту.
— Да какая в ней красота? Один хребет куриный, а туда же… Видала я, когда в чуланчик шла, в мастерской они с ней картинки вроде глядели, а он ей титьку мнет. Он на это мастак! И Инку ведь тут же пользует, только треск стоит. Нехороший он мужик.
— Брось ты болтать, совсем наоборот.
— Нет, нехороший. Ему на всех плевать. Полапал, выкинул, и дела ему нет. Меня гонит. Ведь спал со мной, рисовал сколько, а теперь, мол, иди господам сортиры мыть. И профессия у тебя, говорит, есть — натурщица. Это значит, голой сидеть перед такими сопляками, как Валерик этот недоделанный. Не-ет, не хочу!
Ее голова склонилась, и на ресницах висели мутные слезы. Она уже не говорила, бормотала неясно:
— Нет, запомнит он меня, гад! Запомнит! Домишко этот поганый подпалю…
— Не болтай зря, — терпеливо сказал Николай. — Иди-ка спать, подруга.
Валька, мгновение назад понурая и бессильная, резко встала, швырнула подвернувшийся стакан. Он не разбился, покатился по полу с грубым звоном.
— Запомнит он меня. Все выскажу!
— Не дури, не дури, Валя. Спать надо.
— Не лезьте, Николаша, не в свое дело! — истерически выкрикнула Валька. — Отойдите от меня со своим сном! Я к нему пойду. Не имеет он права с человеком так обращаться!
Она скрылась за дверью, нетвердо ступая то вправо, то влево, оглушительно загремела каким-то ведром и стала взбираться по лестнице. Тяжело скрипели под ней ступеньки и перила. В глубине “прiемной” снова завизжала Оксана.
— Ничего не скажешь, веселый вечерок, — вздохнул Самоваров.
* * *
Она, конечно, плакала. Причем только что: веки покраснели, дыхание неровное, вздрагивающее. И голос совсем тихий. Тот, кто недавно был расчетливым банкиром Семеновым, пошел за этой женщиной, потому что заболел ею. Он не мог назвать случившееся любовью; кажется, это еще сильнее. Даже непонятно, радостно ли?
Он нагнал ее на лестнице. Она медленно поднималась. Под темным, со стеклярусом, платьем колыхалось ее тело, которое он уже так хорошо знал. Безо всяких усилий перед глазами вставали освещенная молнией зелень и худая белая спина. Это было легко, как будто он смотрел фотографию или видео; он даже мог фиксировать внимание на отдельных деталях, выводя их на крупный план: оттопыренные тонкие локти, мокрые лопатки с длинной прилипшей прядью, движущиеся в беге ягодицы.
— Мне не спится. Не могли бы вы дать мне что-нибудь почитать? Я был бы признателен…
Она остановилась, удивленная.
— Хорошо, я что-нибудь принесу.
Он остался на лестнице. Конечно, хотелось бы увидеть ее комнату. Но он не огорчился, стоял и ждал. Было все-таки радостно; ясно, что все можно. Она, которая так равнодушно перед всеми разделась, может именно всё. Он не раз в своей жизни видел стриптиз с разными неприличными заигрываниями и заманиваниями, и понимал: ее спокойствие куда бесстыднее. Ей все можно. И ему — теперь тоже, всего прежнего уже не существовало.
Она вынесла красивый томик.
— Рéмбо, — прочитал он.
— Рембó, — улыбнулась она.
Он полистал книгу. Стихи! Он не любил стихов. Зато это явно то, что читает она сама. Любопытно. Была еще такая, он запомнил — Монтень, «Опыты». Это он тоже потом, при случае, прочтет.
Она поднялась на одну ступеньку. Он сделал шаг за ней. Она полуобернулась. Грустное лицо. Заплаканные глаза отливают тусклым перламутром. Ненакрашенные губы. Есть морщинки. Он умрет сегодня — легко, без сожалений. Или никогда не вернется к прежнему, туда, где теперь только клочья. Другая жизнь, неведомая, дикая! В разбойники, в Тарзаны, в Робинзоны. Она решит, куда. Она уже видит, какое у него по-собачьи преданное лицо. Еще слаще, что плакала она из-за другого, а сегодня сомнет и его жизнь. Он и не знал, что так бывает. Оказывается, он ничего не знал.
* * *
“Что за ерунда! Столько всего нагорожено, а получается пшик. Престарелая старая дева перебила мешочком с песком кучу здоровенных мужиков, включая этого атлетического лорда. Не то что вранье, это пусть, а и не забавно совсем!”
Самоваров попытался закрыть детектив, но он, растрепанный, не закрывался, торчал пухлым веером, несчастный pocket-book. Теперь уж точно пора спать. Должно быть, не меньше двенадцати. Самоваров, прежде чем задвинуть засов, привычно оглядел большой Дом. Тот всегда ночью был черным, глухим, невидимым, сегодня же весь светился тусклыми окошками. В “прiемной” не гасили ламп, в мастерской и вовсе иллюминация. Правда, Кузнецов в последние дни что-то писал ночное, но все равно так поздно обычно не засиживался — слишком ценил и любил дневной свет, который один рождает настоящий цвет.
“Гости сегодня беспокойные, — с неудовольствием подумал Николай. — Хоть бы завтра убрались, хоть бы дождь их распугал”
Ему послышались в темноте шаги — здешнюю тишину он знал, посторонний шум вычленял легко, хотя шаги были тихие, осторожные. Он почему-то вспомнил просьбу Слепцова, схватил фонарик, потыкал лучом темноту.
— Кто здесь?
Где были шаги, он тоже угадал и попал верно: среди двора стоял, морщась от фонарного слепящего кружка, один из беспокойных гостей — высокий худой студент-художник, совершенно вымокший. Кажется, его зовут Валериком, он приехал с хорошенькой девчонкой, которая вьет из него веревки… Валерик дрожал от холода, на носу висела капля.
— Ты что, с ума сошел? Иди сейчас же в дом, простынешь! — зашумел на него Николай.
— Я туда не пойду. Не могу, — студент говорил тихим сырым голосом и пытался сдвинуть мокрые брови.
“Что за страсти-мордасти! Рехнулись они все, что ли? — с досадой думал Николай, глядя на мокрого Валерика. — Еще воспаление схватит, хлипкий уж чересчур… В Дом он, такой отчаянный, точно не пойдет.“
— Послушай, ты можешь заболеть, — начал толковать Самоваров студенту, как ребенку или слабоумному. — Дождь холодный. Ну, что ты тут делаешь? Глупо это. Стоп, а ко мне пойдешь?
Студент утвердительно мотнул головой.
Они вошли в сарайчик. Самоваров заставил Валерика раздеться, закутал в лоскутное одеяло и почти силой влил в него рюмку коньяку из запыленной бутылки. Валерик крупно трясся под одеялом, его глаза бессильно слезились.
— Что, худо? — спросил Николай.
— Нет, мне сейчас лучше. Я хотел идти на станцию и заблудился. А может, и верно шел, но только ночью ничего не узнать. Такой дождь. Решил вернуться. Хорошо, что в доме окна светятся до сих пор, а то не нашел бы дорогу. Завтра уеду.
— А этюды? Ты ж на этюды приехал? Когда дождь, тут как раз такая красота! Расхотелось?
— Расхотелось.
— Надо же. А я гляжу: Кузнецов вас в мастерскую позвал поработать. Он редко это делает. И после этого — расхотелось?
— Меня он больше не зовет.
— Ее, значит, зовет? Ну, и ничего. Завтра позовет тебя. Он мужик простой. Раз сюда, в Афонино, пригласил, значит, что-то в тебе увидел. Так что не робей.
Валерик высморкался, и уже спокойнее спросил:
— А вы давно его знаете?
— Дай подумать. Четвертый год. По мебельной части, конечно. Кое-что в городе для него делал, и здесь уже третий раз. Не могу сказать, что подружились мы с ним, но ладим неплохо. И работа мне нравится. Весь этот кич — здорово придумано. Такой коллекции, кажется, в стране нет больше ни у кого.
— С ним легко ладить?
— Кому как. Не будешь выделываться, корчить из себя невесть что — поладишь. Он настоящий. Конечно, грешник, конечно, забалован малость, но талант, и за это многое ему простится.
— Он — гений! — привычно взвизгнул Валерик.
— Ну, вот, тем более! Он большой, он динозавр, и сколько вокруг него всякой мелюзги кружится-кормится. Крупноват он. Крупноват. Динозавры-то плохо кончили, помнишь?
— Помню… А скажите… — Валерик замялся, не решаясь спросить. Самоваров догадался сам:
— Девчонки? Девчонок он любит. Но не обижает. Не бойся. Не обижает — или они сами не обижаются, что, наверное, одно и то же. И ты не обижайся, раз сам говоришь — гений, гений. Ну, что, полегчало, может, еще коньяку налить?
— Нет, спасибо. Я спать буду.
Валерик так стиснул веки, что даже не заметил, как Самоваров загасил лампу. Валерику нужно было во что бы то ни стало заспать, забыть, изгнать из памяти то, что он видел, когда перепуганный выбрался из мокрых кустов после своего неудачного побега и тупо бродил вокруг Дома. А видел он, как по внешней лестнице из мастерской спускалась Настя. Один огонек освещал ее сверху, из двери, другой — сбоку, из маленького, невесть зачем прорубленного здесь окошечка. Настя не бежала, как утром, а как-то деревянно ступала, держась одной рукой за перила, а другой за стену. Лица не было видно из-под растрепанных волос. Ее коленки тряслись, а “молния” на джинсах расстегнута. Она наощупь нашла дверь в “прiемную” и скользнула в приоткрывшуюся щель. Валерик остался под дождем. Зачем это произошло именно с ним? Зачем он это видел — главное, эти жалкие трясущиеся коленки и расстегнутые брюки? Зачем?
Часть вторая. ВОСКРЕСЕНИЕ
1. Неприятности начались
Валерик Елпидин сходил в самоваровский сарай за штанами и вернулся в Дом. Его теперь снова била вчерашняя дрожь, побежденная было коньяком и теплым одеялом. Он видел мертвого, пугающе белого Кузнецова, но никак не мог уложить в уме все вчерашнее и то, что гения больше нет. Какие-то картинки вдруг вспоминались, и все неприятные, и Валерик мычал, как от неотвязной зубной боли. Дождь все моросил, лес заволокло мокрой дымкой. В самом деле было очень красиво, хоть садись пиши. А Кузнецова убили. Раз Самоваров просит, надо посмотреть, что там, в Доме.
В Доме было тихо. Семенов не спал. Он разлегся на плюшевом диване в каком-то необыкновенно стильном небесно-голубом трико, которое очень напомнило Валерику виденное в раннем детстве лечебное белье деда; та вещица была комичная, донельзя дрянная, кажется, трофейная. Мода, как всегда, сделала полный круг и уткнулась в собственный хвост. Банкир держал в руке томик Рембо и сосредоточенно читал. Вдруг Валерик вспыхнул и отвернулся. Он увидел спящую на оттоманке Настю, уютно завернувшуюся в зеленый плед. Оксана, уверявшая вчера, что не заснет, безмятежно спала. Из-под вороха одежды торчала только ее розовая пятка. Место рядом пустовало, Покатаев куда-то делся. Валерик было заволновался, но Покатаев уже шел со стороны сортира, недвусмысленно подтягивая брюки. Все были на месте.
Николай проводил Инну в ее комнату. За три года он ни разу не заходил сюда. Ничего особенного, дощатые стены, кровать с таким же лоскутным одеялом, как у него самого (эти одеяла Кузнецов заказывал какой-то старухе-рукодельнице). На стенах рисунки углем, конечно, Кузнецов. Большой букет пожелтевшей персидской сирени. Но пахло в комнате не цветами, а уже валерьянкой.
— Вы полежите пока, придите в себя, я разбужу Егора и Валерию, — говорил Николай и пытался укутать ее мокрые плечи подвернувшейся под руку шалью с кистями. В дверях появилась бледная физиономия Валерика.
— Там все на месте, — заговорщическим шепотом сообщил он.
Николай заглянул в комнату Егора. Тот спал, детски приоткрыв розовый рот. Самоваров легонько потряс его за плечо. Егор раскрыл сонные бессмысленные глаза.
— Егор, вставай, оденься. Надо быстренько спуститься вниз.
— Зачем еще?
— Узнаешь. Это очень важно.
Самоваров говорил так серьезно и внушительно, что Егор не стал спорить, приподнялся и послушно спустил на холодный пол большие ступни.
— Давай, ждем.
С Валькой было сложнее. Николай постучал в ее комнату, но никакого ответа не получил. Он приоткрыл дверь. Конечно, спит. Спит одетая, разметав поперек кровати длинные сильные руки. Юбку, похоже все-таки пыталась снять, расстегнула, но заснула в столь непосильных трудах. Трясти ее пришлось долго. Она то садилась, то тяжело падала на подушку, недовольно дергала ногой. Перегаром от нее разило непереносимо.
— Валя! Валя! Надо вниз спуститься!
Она ничего не понимала, медленно моргала и снова валилась на кровать.
Когда вся компания была наконец разбужена и расселась в “прiемной”, недоумевающе воззрившись на него, Николаю стало не по себе. Он откашлялся и тихо начал:
— Нам тут всем пришлось собраться, потому что случилась беда: этой ночью не стало Игоря Сергеевича. Его кто-то убил… ножом.
Валька громко ахнула и завыла, так что растерявшейся Оксане пришлось промолчать. Она лишь выкатила ненакрашенные глаза и скривила большой, тоже ненакрашенный и некрасивый рот. Семенов застыл, как статуя. Егор шумно задышал ртом, и только Покатаев деловито осведомился:
— А где же Инна?
— Я здесь.
Инна показалась в дверях. Самоваров боялся почему-то ее истерик, слез и даже обмороков, но она шла прямая, спокойная, только нос порозовел и разбух, и вообще лицо подурнело.
Николай продолжал:
— Это случилось в мастерской. Мастерскую я запер. Сейчас никому лучше не покидать усадьбу. Надо сообщить в милицию. Давайте решим, каким образом мы это сделаем.
— У меня есть рация, — сказал Семенов.
— Замечательно. Давайте ее сюда.
Семенов поспешно бросился к своим вещам, зашуршал, зашелестел пакетами.
— А, собственно, почему вы так здесь распоряжаетесь, господин реставратор? — недовольно осведомился Покатаев.
— Толик, не лезь в бутылку, — устало сказала Инна. — Что тебя не устраивает? Что он делает не так? Николай, к твоему сведению, прежде был… ну, работал в милиции, что-то такое… и знает, как надо поступать.
— В милиции? Кем же это, позвольте полюбопытствовать? Письмоводителем?
— Нет, не письмоводителем. Инспектором уголовного розыска. Правда, всего лишь одиннадцать месяцев. Ну, и что рация? — поторопил Семенова Николай.
Семенов вышел из-за своего шкафа с растерянным лицом:
— Ее там нет.
— Как нет? Получше поищите, у вас ведь масса вещей, где-то завалилась.
Семенов обиделся:
— Я всегда кладу вещи в определенное место и прекрасно ориентируюсь, что где. Но на всякий случай я все обшарил. Нет ее нигде. Это же не иголка, в конце концов. Но если хотите, пожалуйста, смотрите сами…
Николай и Валерик, не чинясь, вместе с Семеновым еще раз перерыли все банкирские баулы и пакеты, но рации нигде не нашли.
— Это хуже, — покачал головой Самоваров. — Надо кому-то идти на станцию.
Егор, все это время зачарованно смотревший в окно, нервно потер колени:
— Не может быть. Дядя Коля, а может, это несчастный случай?
— Или самоубийство? — подсказала Настя.
— Вряд ли. Маловероятно, что Игорь Сергеевич сам себе всадил в спину нож. Да и случайно напороться трудно… Так что, самоубийство отпадает.
Егор удивленно прошептал:
— Тогда — кто?
— Наконец-то сообразили спросить о главном, — скривился Покатаев. — Наверное, какие-нибудь бичи. Помнишь, Инна, как сюда нагрянули беглые зеки?
— Нет, совсем не то, — не согласилась Инна. — Те наделали шуму, требовали денег, чаю, водки, одежду. Весь дом стоял на ушах. После этого Игорь купил ружье. Стали на ночь запираться. Видел запоры теперешние? А тут… В мастерской все разбросано, но ничего, ничегошеньки не взято.
— Как же вы там наверху ничего не слышали?
— Может, и слышали, — отозвался Егор. — Весь вечер в Доме все толклись, ходили туда-сюда, говорили, кричали. Проходной двор.
— Неужели вы считаете, — вдруг заявила, уставившись на Николая круглыми глазами, Оксана, которая держала в руках зеркальце и губную помаду, — неужели вы считаете, что это, как в детективах… кто-то из…
И тишина вдруг повисла в “прiемной” совсем как в романе. Только слышно было, как шушукаются в облезлых, неверно идущих часах какие-то пружины и шумит дождь.
— К чему гадать, — вздохнул Николай. — Надо скорее вызвать милицию. Кто пойдет на станцию?
— Давайте, я, — предложил Егор.
— Нет, лучше я, — вдруг засуетился Семенов. — Во-первых, у меня есть и куртка, и обувь, я прекрасно экипирован для такой скверной погоды. Во-вторых, у меня срочные дела в городе. А в-третьих, у меня все-таки… гм… связи. Нельзя допустить, чтобы этим делом занялся какой-нибудь местный Анискин! Нужны лучшие силы… Ну, а если… пойдет следствие, меня найти легко.
— Ага, как же! — вдруг сипло вставила Валька. — Фить — и за границей!
Семенов только брезгливо пожал плечами.
— Все это не то. Я поеду на своей лодке, — решительно заявил Покатаев.
— Да, это будет лучше всего, — согласился Самоваров. — Давайте мы вас проводим, а заодно посмотрим, нет ли в самом деле посторонних следов.
Они вышли на крыльцо.
— Какие следы? Такой дождь… — ворчал Покатаев.
— Не скажите. Анатолий Павлович, — возразил Самоваров. — Темно ведь было. Да, дождь, но кругом дорожки, плешинки — сплошная глина. Вот ведь это ваши кроссовки по крыльцу прошлись? И на доске у туалета…
Покатаев окунул подошву в лужу и отпечатал на крыльце узорчатый след.
— Прекрасно. В результате героических поисков и сложных экспериментов установлено, что я был в сортире. Это же и козе понятно! Что за дурацкие игры в Шерлока Холмса! И Ватсон ваш худосочный подглядывал, как я шел назад. Тоже мне, судьбоносный след! — Покатаев фыркнул.
Он быстро зашагал к реке, накинув на голову капюшон плаща. Самоваров вытянул шею, изучая дощатый настил под навесом вокруг Дома. Сюда дождь не достал, но следов никаких не видно. Дневная еще пыль, травинки сухие. Нет, в Дом через “прiемную” никто не входил; такая тьма народу, незамеченным никак не проскользнешь. Кто-нибудь да увидел бы. Спали все наверняка плохо на новом месте. Лампы всю ночь горели. Какие там бичи!
А наружная лестница? Тут они сами с Валериком, конечно, уже понатоптали, но Самоваров знал, что Инна трусиха, и после того случая с беглыми зеками не только запирается на громадные кованые запоры, но и ночью встает их проверять. Со следами вообще вряд ли что выйдет: в мастерской вонища, пролит скипидар, лаки, любая собака свихнется. Красотка-Оксана, похоже, права: кто-то из своих. Но это невероятно!
Покатаев возился у моторки, привязанной к опоре моста.
— Черт! — заорал вдруг он. — Кто-то испортил мотор! Теперь двигаться можно только на веслах. Против течения — это нереально.
Самоваров снова удивился. Ни дать ни взять — какой-то роман: рация пропала, мотор испорчен… “Мы отрезаны от мира, месье Пуаро”. Работая в угрозыске, он быстро понял, что настоящие преступления нисколько не похожи на книжные. В жизни все грубее, проще и непонятнее. А тут все, как по писаному.
— Да, придется все-таки идти пешком, — согласился наконец Покатаев.
— Я пойду, — твердо объявил Семенов. Глаза его под дымчатыми стеклами уклончиво смотрели куда-то в сторону. — Я уже изложил причины. Я лучше экипирован, и все такое… И потом… Мне кажется…
Его плоское лицо побелело.
— Вы что-то видели? — строго спросил Николай.
— Я? Нет, не думаю… Я не уверен… Можно ведь зря брякнуть. Мне надо подумать…
— Думать как раз не надо. Лучше расскажите, — начал было Николай.
— Шерлок, отстаньте от человека, — вступился за банкира Покатаев. — Время дорого. К тому же исповедоваться надо все же не вам, а настоящим сыщикам. Владимир Олегович, может, пойдете коротким путем? По горам, правда, крутенько, но зато час, а то и полтора сэкономите.
— Тропинка в этом году приличная, — подтвердил Егор. — Я вчера по ней шел.
— Вот-вот, Егор, расскажи, куда и как.
Самоваров захромал в сарайчик, долго рылся в своих вещах, и вышел, когда Семенов уже вполне собрался в путь.
— Владимир Олегович, — тихо заговорил Николай. — Вы правы, Анискину это дело не по зубам. Но пока дело передадут в область, пока там почешутся. К тому же выходной. Вот вам телефон хорошего человека. Капитан Стас Новиков. Звоните ему. Вы сможете сделать, чтобы делом занялся именно он. Он работает вдумчиво и без нервотрепки, а главное, у него исключительный такт, а в нашем случае это не помешает.
— Вы полагаете, милицейские позволят себе обходиться со мной бестактно? — искренне удивился банкир.
— Нет, конечно. Не думаю. Но остальные-то? Например, Инна Ивановна — каково будет ей?
— Да-да-да! — затряс головой Семенов, и на его лице появилось недовольное выражение. — Я позвоню.
— Ну, тогда с Богом!
Семенов быстро пошел было к мостику, но все же остановился, оглянулся. На крыльце стояла Инна, завернувшаяся в шаль с кистями. Смотрел Семенов именно на нее. Самоварову показалось, что на лице его, кроме ужаса, ничего не было. Потом банкир отвернулся и быстро-быстро пошел от Дома, будто спасался бегством.
Вся компания вернулась в Дом.
— До приезда милиции, — сказал Николай, — нам всем стоит вспомнить, где кто был и чем занимался вчера поздно вечером и ночью. Это-то точно будут спрашивать. И лучше не разбредаться, держаться всем вместе.
— Учитель жизни, ей-Богу! — не удержался Покатаев. — Вы нож-то нашли, которым убили?
— Я ничего не искал. Только мастерскую запер. Искать будут профессионалы.
— Так будут искать человека с ножом?
— Зачем? Конечно, убийца мог принести свой нож, но и в мастерской этого добра предостаточно. В кувшине целый сноп ножей и мастихинов, только выбирай. Инструментарий! — вспомнил Николай кузнецовское словечко.
— Наверное, убийца был очень сильный? — предположила Настя.
— Не обязательно, если нож достаточно острый. Удар всего один, но в нужное место. Мгновенная смерть. И почти нет крови.
— Значит, знали куда бить? — удивилась Настя.
— Наверное. Хотя, могли и случайно попасть, так тоже бывает, и довольно часто.
— Но за что?
— Я сам ума не приложу. Какая-то бессмыслица. А мотив должен быть.
— Мотив! Это ясно, как день! — воскликнул Покатаев. — Ведь Кузя — богатый человек. Был… Я как-то уговаривал его составить завещание — сейчас это, слава Богу, входит в обычай. Куда там! Не захотел возиться. Теперь все Егорке. Тебе, балбесу, — Покатаев подмигнул Егору, и оглянувшись по сторонам, заговорил тише. — А Инне — что? Да шиш. А ведь сколько лет она с ним…
— Может, как гражданский брак… — предположил Самоваров.
— Ой, да какой там брак, — махнул рукой Покатаев. — У новопреставленного браков этих…
— Как вы можете! — возмутился Валерик. — В такую минуту…
— Да, минута скверная. Хорош уик-энд. Девочка моя, я дурак был, что не уехал вчера с тобой. Под дождем, накрывшись пленкой. Ах, какой дурак!
Он обнял Оксану, та ничего не ответила, только чуть отстранила уже сделанное, уже с макияжем лицо. Сейчас она была тихая и серьезная. Другая.
Скрипнула дверь над лестницей. Все невольно вздрогнули. Наверху стояла Инна в шали. Она напоминала сегодня привидение — внезапно появлялась, внезапно исчезала, молчала и смотрела укоризненно и чуждо.
— Николаша, — тихо, одними губами, позвала она. — Поднимитесь ко мне, пожалуйста.
Она не плакала.
2. Репетиция допроса
— Николаша, что же теперь будет?
Инна уселась на кровати с ногами, обняв пеструю подушку. Видно было, что это привычная и любимая поза. Достала сигареты, и Николай невольно отодвинулся к окну — он не любил табачного дыма. И не очень ловко было, что Инна, кажется, выбрала его в наперсники, хочет излить чувства. Излияния женщин слушать неловко. Инна наверняка об этом не задумывалась Она глубоко затянулась, откинула волосы и выпустила дым к потолку, изящно сложив губы трубочкой. Она снова, после недолгого утреннего замешательства, стала изящной.
— Что же будет?.. Здесь какие-то чужие люди, Игорь там, наверху, взаперти — ужасно! И еще предстоит… процедура. Кто-то будет копаться, во все полезет. Нельзя ли мне как-нибудь устроиться без этого всего?
— Нельзя, — покачал головой Самоваров.
— Но что, что говорить? Помогите, Николаша!
— Все надо говорить. Все, что знаете.
— Как все? — ахнула Инна.
— Правду, всю правду, ничего, кроме правды.
— Но как же? Николаша, вы многое знаете и понимаете… насколько это глубоко личное! Только мое! Ну, моя жизнь и Игорь…
— Знаете что, попробуйте рассказать сначала мне. Потом легче будет найти слова. И посмотрим, возможно, некоторые детали сообщать будет не обязательно…
— Да! Да! Да! Так лучше! Ужасно главное: я буду всюду у них фигурировать как любовница Игоря. Но вы свидетель — у нас другие отношения… были. С чего же начать?
— А с самого простого. Когда вы в последний раз видели Игоря Сергеевича живым? Спросят обязательно.
Это был грубый вопрос. Лицо Инны помертвело, и дым пошел ноздрями. Но она быстро справилась с собой:
— Часу в двенадцатом. Да, мы были не то что в ссоре, но в тот вечер не разговаривали… это, впрочем, не имеет отношения…
— Как знать…
— А, все одно! Вот что: Игорь собрался жениться. На одной случайной особе, дочке нефтяника. Не буровика, конечно, — из хозяев. Я была против. Нет, нет, не бабья ревность. Но выбор был чудовищный! Губительный! Для его искусства, разумеется.
— Вам было это неприятно?
— Нет, не то… Конечно, жестоко, конечно, несправедливо по отношению ко мне, хотя я никогда не лезла на особые роли. Никогда! Но вы бы видели это самодовольное лакированное ничтожество, бесконечно далекое от его жизни! Вы бы видели ее вульгарные бриллианты! Называйте, если хотите, это ревностью. Я его любила. Но еще больше любила его дар. У него уже был подобный нелепый брак. Вернее, оба его брака были нелепы. И вот — третья нелепость, третий раз те же самые грабли! Я говорила ему об этом, а он дулся, как ребенок. Я жалею теперь…
Ее брови сошлись страдальческим углом, нижние веки набрякли влагой, и Самоваров поспешил пресечь слезы возгласом:
— Вас спросят: что именно он делал в половине двенадцатого? Что собирался делать? Чем вы сами занимались в тот момент?
Слезы остались у Инны только в голосе:
— Он собирался писать… Да! Именно! Он думал о творчестве до последней минуты! А ему мешали! Все мы! Смысл его жизни…
Самоваров снова прервал ее:
— Не отвлекайтесь!
— Вы видели натюрморт со свечой? Он его собирался писать. Кажется, вместе с этой студенткой, Настей… Егор еще тут вертелся.
— Зачем?
— У него вечно проблемы, — денежные, конечно, какие же еще. Игорь ворчал, что ребенку нужен “мерседес”, или еще что-то такое, не углублялась. Не знаю, что случилось, но мальчик был вне себя.
— Он остался в мастерской?
— Не знаю. Я ушла.
— А Настя приходила рисовать?
— Тоже не знаю.
— Скажите, Инна… — осторожно спросил Самоваров. — Игорь Сергеевич за ней ухаживал?
— А как же! Конечно! Он не мог по-другому — как только увидит оригинальное личико, сразу хвост распустит. Вот эту Настю вместе работать пригласил, хотя сам говорил: парень, что с ней приехал, очень способный, а она так себе… А ведь на натюрморт позвал ее.
— И далеко у них зашло?
— Понятия не имею. Николаша, учтите, я ненавижу сплетни и сама не сплетничаю никогда.
— Хорошо. А где были вы?
— На кухне.
— Вас видели там?
— Вряд ли. Я спускалась за чаем, скоро ушла. Потом встретился Владимир Олегович. Ну, что из банка. Он взял у меня Рембо (сначала подумал, что это Рэмбо, представляете?). Мы разговорились, и чтоб никому не мешать, заглянули в чулан, тот, налево, ну, вы знаете.
Еще бы Самоваров не знал этого чулана! Там хранились подрамники и всяческий совсем уж безнадежный хлам, а еще стояла в разложенном виде старая скрипучая раскладушка. Самоварову доводилось на ней спать — приехал как-то зимой, дом полон гостей, сарайчик не отапливался, пришлось ночь помаяться. Инна с Семеновым, должно быть, на этой раскладушке и сидели. Больше там не на чем.
— Как долго вы разговаривали?
— Довольно долго. Не знаю, почему так получилось. Вышли уже во втором часу… Владимир Олегович, конечно, все подтвердит… Это алиби?
— Не знаю, — пожал плечами Николай. — А ловко у вас про алиби сказалось…
— Что ж тут удивительного? Книжки читаем, фильмы смотрим. Куда же без криминала… — она осеклась, почувствовав вдруг двойной зловещий смысл сказанного. — Знать бы, кто это сделал…
— И?
— Я его убью. Своими руками.
Сказано было серьезно, Самоваров даже поежился. Инна давила окурок в фаянсовой пепельнице. Окурок скрипел. Она тут же закурила снова.
— Инна, держитесь, — сказал Николай. — Впереди у вас много тяжелых дней, и силы вам будут нужны. Теперь еще один вопрос: было у Игоря Сергеевича завещание, или Покатаев сказал правду?
Инна пожала плечами:
— Я не совала нос в такие вещи. Но на Игоря не похоже. Писать какие-то бумаги?.. Он был далек от всего этого.
— Стало быть, все останется…
— Егору, наверное.
— Тут вас спросят: а вам не обидно?
Самоваров ждал ее слез когда угодно, только не сейчас, но они вдруг закапали, закапали. Инна даже закашлялась, замахала руками:
— Как вы можете, Николаша! Вы! Вы! Вы разве когда-нибудь замечали за мной какие-то меркантильные происки? Никогда, никогда ничего мне не было нужно! Я работаю! Сама!
Она схватила со столика и затрясла у него перед носом шершавую дешевую папку, должно быть, с рукописью. На папке была небрежная надпись: Мих. Сидоров “Бывшее и раздумья”.
— Мне ничего не было нужно, а сейчас и подавно. Моя жизнь кончилась. Ничего, кроме него, у меня не было. Его нет — значит, ничего нет. А вы о чем? Эх, вы…
Она вытащила из ящика стола флакончик с валерьянкой, налила воды в стакан, но руки ее так тряслись, что она сунула флакончик Самоварову:
— Накапайте тридцать!
Николай послушно накапал, и пока она пила, трудно и громко глотая, он говорил:
— Ну что вы так, Инна! Мы же договорились, что будем репетировать, и только. Обо всем этом — и сверх того! — у вас другие будут спрашивать, и вам надо учиться отвечать. Не очень пока выходит, но вы успокойтесь, подумать время еще есть. Лучше скажите, видели вы там, в мастерской, браслет, который…
Самоваров замялся, потому что надо было говорить про мертвую руку, про то невероятное и страшное, что случилось, а Инна еще держала в руках стакан с валерьянкой и отмазанные к вискам слезы еще не просохли. Тем не менее, ответила она спокойно:
— Это мой браслет. Как он там оказался? Я удивилась. Я уж и забыла про него, сто лет на глаза не попадался.
— Где же вы его хранили?
— Хранила — это слишком громко сказано. Тоже мне драгоценность! Валялся здесь, в столе, в шкатулке с безделушками: у него замок сломался… Года уж полтора назад. Игорь отдал чинить Боровских, ювелиру из бывшего Худфонда, приятелю своему. И что, вы думаете, этот алкаш-Фаберже придумал? Просто запаял намертво, и всё. Надеть браслет стало невозможно, разве что два пальца просунуть. Попробуйте при случае. Переделывать не было смысла, вещь все равно уже испорчена, а выбросить жалко. Так и валялся…
— А когда вы его последний раз видели в шкатулке?
— Не помню. Такие вещи не замечаешь; украли бы — не обратила бы внимания. Так ведь и украли! Но как он оказался в мастерской? Чушь какая-то.
— Не чушь, — вздохнул Николай. — Видимо, убийца хотел, чтобы подозрение пало на вас. Он, конечно, не знал, что браслет нельзя носить. Но меня другое занимает: помните все это битое стекло в мастерской? Не знаете, когда стол опрокинули? И кто?
— Вечером, когда мы… то есть, я… выходила из мастерской, все было на месте. Шума и грохота я не слышала, но ведь мы с Владимиром Олеговичем довольно долго беседовали в чулане… Боже мой, зачем меня понесло в этот проклятый чулан?! Я бы могла…
Губы у нее снова задергались, и Самоваров нарочито громко и бодро запротестовал:
— Вот этого не надо! Ничего мы наперед не знаем. И мой совет: вы, когда показания давать будете, о чувствах поменьше старайтесь… или о том, чего не сделали, а могли бы. Никакого сослагательного наклонения! А вот все что видели и слышали — поподробнее. Больше толку будет.
Она согласно покивала, помяла возле себя подушку, прилегла и вдруг сказала:
— А вы ведь, Николаша, знаете, кто убил.
Тот удивился:
— Ничего я не знаю.
— Так узнайте! Сделайте это для меня.
Самоваров, не считавший себя одним из ее рыцарей, попробовал отшутиться:
— Нет, никогда! Еще одно убийство? И вы, мстительница, гордо шествуете в зону? Этого я не допущу.
Слезы у Инны стояли наготове, то лились, то прятались. Сейчас они снова показались.
— Как вы можете сейчас шутить, Николаша! Допустим, я сказала лишнее, ну, что убью… Или не лишнее… Это все равно. Но кто-то же это сделал! Семенов прав: придет сиволапый Анискин или даже наедут спецы из области — чужие, из другой жизни — начнут нас мучить: кто с кем спал, кто кому наследует. Ведь ничегошеньки не поймут! Здесь явно другое. Вы знаете, Николаша, каков процент нераскрытых преступлений? — вдруг со смешной серьезностью спросила она. Самоваров попытался не улыбнуться. В душе он полагал, что процент этот довольно высок, потому что жизнь — такие потемки, а сцепление обстоятельств бывает так дико и случайно, что до конца разобраться можно только в наиболее примитивных случаях. Да и то не всегда.
— Николаша! Он не должен вот так уйти в этот процент! — воскликнула Инна.
— Кто — он?
— Он. Убийца.
— Или она.
— Она? — вдруг изумилась Инна и нахмурилась чему-то своему. — Или она! Боже мой…
— О чем, о ком вы подумали?
— Нет, ничего. Не должно. Пустяки. Ах, Боже мой…
После разговора с Инной Самоваров был в некотором смятении. Конечно, бред, что он может найти убийцу. Он не клюнет на грубую лесть Инны (он-де умный, проницательный, знает людей и жизнь, а самое главное, знает Афонино, Кузнецова и в курсе всех отношений окружавших Кузнецова людей). Стас? Конечно, Стас приедет, Семенов все-таки фигура. Стас прекрасный профессионал. Если кто-то и найдет убийцу, то именно он. Но в чем-то Инна права. Самоваров тут же представил себе суровую Стасову физиономию с глубокими рытвинами на щеках, называемыми в народе собачьими ямками, и вспомнил его последнее дело. В газетной колонке происшествий (Николай прочел ее уже здесь, в Афонине, и искренне позабавился) оно излагалось так: «Нигде не работающий Х., 1960 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку со случайными собутыльниками, нигде не работающим В., 1946 г.р. и З., 1978 г.р. Х. нанес В. восемнадцать ножевых ранений, из которых девять оказались смертельными. З. скончался от черепно-мозговой травмы, которую Х. нанес ему утюгом. Труп В. преступник выбросил в окно, а затем спустил в открытый канализационный колодец. Вернувшись в квартиру, Х. спрятал труп З. в буфет, похитил б/у носильные вещи, видеомагнитофон и телевизор, принадлежавшие, как и квартира, родственнице В., находившейся в отпуске. Похищенные вещи Х. продал на мини-рынке «Мечта», купил водки и отправился на квартиру нигде не работающего Щ., 1961 г.р., куда пригласил и трех встреченных им по пути девушек 1983, 1982 и 1985 г.р., с которыми сразу же вступил в половую связь. Преступник был оперативно задержан группой капитана милиции Новикова С.В. при попытке нанесения тяжких телесных повреждений одной из девушек, также находившейся в состоянии алкогольного опьянения». Умный суровый Стас раскрывал массу подобных преступлений, старался по возможности отравить существование действующим в районе преступным группировкам, вдоль и поперек знал местный криминалитет и стал с годами безнадежным мизантропом. Он был уверен, что мир груб, примитивен и жаден, а правят им деньги, водка и собачий секс. Стас ловко нажимал на эти три безотказные рычага, и тут же всегда, как черт из машинки, выскакивала некрасивая голая истина. Самоваров чувствовал, что здесь, в Афонино, что-то не такое, не вполне привычное Стасово. Хотя бы потому, что никто не напился. Хотя нет, Валька была-таки пьяной! Секса здесь тоже хоть отбавляй, семь пудов любви, как в какой-то пьесе у Чехова. Деньги? Покатаев сразу вспомнил про наследство. Егор ребенок, но кто знает? Голова шла кругом. «Я дурак, начитавшийся детективов; надо сидеть и молчать в тряпку», — отбивался Самоваров от забрезжившей соблазнительной идеи.
«А неплохо было бы помочь Стасику, — вдруг сдался он соблазну, малодушно уступил. — Мало того, что я их всех тут знаю, и преступление, собственно, случилось у меня на глазах. Посмотрю, чем они займутся сейчас. Не может быть, чтобы преступник не проявился каким-нибудь образом. Не профессионал же орудовал, в самом-то деле… Первые часы самые плодотворные, потом пройдет смятение, придумается спасительное вранье, которому и сам виновник поверит в результате. Это тебе не в дымину пьяный Х., — тот матерится, несет все что ни попадя, ему в конце концов «нельзя, но можно» дать по пачке для освежения памяти. Здесь же собрались штучки тонкие, брезгливые. Стас таких тоже перевидал — «ничего не помню», «к сожалению, я отвернулся», «прискорбно, но ничем вам помочь не могу». Публика респектабельная, но пока пребывает в мандраже, может, что-то и всплывет. Пусть Стас потом сам разбирается, что важно для следствия, что нет, а и мне грош цена, если буду тут сидеть и хлопать ушами, ожидая Анискина. Не дай Бог еще какие улики уничтожат…»
3. Призвание Николая Самоварова
Читать детективы Самоваров любил всегда, и стать мечтал, когда вырастет, только сыщиком. А со Стасом подружился в школе милиции. Вообще-то у них получилась мушкетерская компания — третьим был Влад Рыщук, веселый лживый бабник; он теперь в Челябинске, тоже в уголовке. Учился Самоваров с жаром, который ничуть не ослабел, когда при ближайшем рассмотрении упоительная и опасная работа ловца злодеев оказалось сильно перегруженной бумагописанием и канцелярской волокитой. Учение — точно, свет, и к выпуску иллюзий стало значительно меньше, но все же, все же остатки романтических туманов все еще клубились в буйной голове Николая. Следовательно, не было недостатка в энтузиазме. К тому же все это происходило в живописное время всеобщей эйфории, кооперативных палаток, «Амаретто» и ламбады. Проституток звали, например, не иначе как путанами, которых-де довел до панели изолгавшийся Ленинский комсомол, а по природе своей они, конечно же, бесконечно милые, чистые душою феи. Самым модным словом сделалось слово «мафия». Она мерещилась всюду, манила леденящей душу тайной; в мозгах путались Марлон Брандо, Брюс Ли, раздающий ногами пощечины, и дочка Брежнева (или Георгадзе?) в ванне с шампанским. Пошли тогда и первые находки отрезанных голов в полиэтиленовых пакетах, и первые разборки в низкорослых пригородных рощах (только очевидцы знали, насколько отвратительно то и другое, обыватель блеял от идиотского любопытства). Самоваров со Стасом были на хорошем счету у Слепцова. Им и везло. Они успешно раскрутили хищение карбида кальция из химкабинета средней школы № 8; ограбление гражданина Козлова малолетним племянником; вымогательство, сопряженное с избиением председателя кооператива «Восточные сладости» Сулейменова Е.К. Вершинным их достижением стало раскрытие по горячим следам убийства (колуном по лбу, прямо в стиле Раскольникова) Зуевой И.К. сожительницы пенсионера Харлампиева М.М., ее бывшим сожителем Кимом О.Е. Все это была грубая, банальная бытовщина, пьянь, дурь, рвань, способствовавшая закладке сегодняшнего мировоззрения железного Стаса. Было бы странно, если бы оно в итоге оказалось иным. Самоваров же тосковал, когда слышал привычную тогда ночную перестрелку: где-то рвалось с цепи и впивалось в жизнь большое Зло, а ему приходилось возиться со всякой ерундой.
Тот последний перед его первым отпуском вечер выдался сырым, прохладным, пах мертвой листвой. Но Самоваров был молод, удачлив, его любила красивая девушка Наташа. Такому ничто не могло испортить настроения.
На Нижнем рынке засветло началась какая-то большая драка. Туда выехало практически все отделение. Самоваров, уже получивший отпускные и сдавший пистолет, с крыльца увидел, как в машину садится Генка Самойлов, задолжавший ему четвертак. Будто не мог он уйти в отпуск без этих дурацких двадцати пяти рублей! Самоваров влез в ту роковую машину, рассудив, что от рынка как раз недалеко до его дома. Дрались, как оказалось, быки ныне покойных Рытого и Коти (да и те, что тогда дрались, сегодня через одного, должно быть, жарятся на адских сковородках). Сцепились из-за сущей ерунды, чуть ли не из-за палатки минеральных вод. Но бандитский принцип дороже денег. Котины стреляли. Они всегда стреляли, причем расчет был, как правило, не уложить противника, а пугнуть. Когда прямо в гущу дерущихся въехал желто-синий «уазик», они бросились врассыпную. И Самоваров вместо того, чтобы пойти домой или ждать Генку с проклятущим четвертным в машине, тоже глупо погнался за каким-то низкорослым и рыжеголовым идиотом. Это рыжее, недочеловечье, будто гномье лицо он и сегодня видел перед собой, стоило вспомнить тот вечер. Лицо и растопыренные широкие плечи под желтой кожаной курткой.
Зачем он бежал за рыжим мерзавцем так упорно по пустым дворам, по разбитым скользким тротуарам, по засыпанному листвой скверу? Затем, что чувствовал: рыжий не петляет, рыжий перепуган и бежит к норе. Тут героический мент Самоваров и настигнет врага в его логове! Героический мент легко (сколько перебегано в детстве!) мчался по крыше сарая безбоязненно — раз по крыше рыжий пробежал, значит, сарай и его выдержит! Двухэтажные кривенькие дома, трансформаторная будка, жидкие клёники. Кажется, улица Серафимовича. Здесь, что ли, логово?
Стреляли снизу. Он был на крыше, уже один среди увядших небес (куда девался рыжий? и как долго стреляют!) Очередь «калашникова» прострочила его наискосок — от левого бедра до правого плеча. Врачи говорили потом, что если бы очередь двигалась не слева направо, а наоборот, справа налево, четвертая пуля пришлась бы прямо в сердце. Повезло.
Он лежал в больнице сначала семь месяцев, потом еще четыре в госпитале, потом… Те три больничных года он вспоминать не любил: бесконечные операции, реабилитации, чуть ли не ежедневные прощания с жизнью, унижение немощью и толпы таких же, как он, несчастных. Исчезали сначала знакомые, потом друзья. Красивая девушка Наташа исчезла в том же сентябре. Она даже в больницу ни разу не пришла, передала через сослуживцев длинное письмо. Прочел его он много позже, к весне. Тогда он только смог самостоятельно читать. Наташа писала, какой это удар для нее, как она не хочет обижать его жалостью, как ему лучше сразу забыть ее, слабую, недостойную, но, увы, такую обычную и земную. Она уверяла, что любит, что плачет (письмо было сухое, бумага гладкая, почерк ровный, хотя и не слишком разборчивый), что она одна будет изживать свое горе, что судьба, возможно… — и т. д. и т. п. Стало быть, исчезло все сразу. Может, терять так сразу всё и легче, но если учесть, что его родители еще шесть лет назад погибли, разбились, возвращаясь с дачи на своем стареньком «москвиче», то к моменту бумажного плача красивой девушки Наташи у Самоварова не осталось никого.
Нет, остался Стас. И Генка Самойлов. И вообще ребята. Слепцов хлопотал, чтобы Самоварова, заслуженного инвалида, устроили в милицейском архиве. Место, в принципе, было, надо только выгнать наконец на пенсию без малого столетнего старика Гиндина. Старик был знающий, старательный и привычный. Заходя в отдел, Самоваров всегда чувствовал на себе его тоскливый взгляд. Библейские глаза старика и смолоду, как утверждали редкие сохранившиеся очевидцы, выражали неизбывную тоску и укоризну. Но Самоваров принимал природный гиндинский укор на свой счет и перестал хотеть этого места. Заодно перестал и ходить к ребятам.
Он целыми днями сидел один в пустой квартире и строгал деревянные кораблики. Не заводил часов. Часто даже не знал, какое нынче число. Перестал читать детективы. Не любил включать яркий свет, чтобы не видеть свою неуклюже ковыляющую тень. Пробовал пить, но тошно и больно становилось; больно пить, если у тебя уйма швов, не хватает скольких-то метров кишок и селезенки, зато есть протез, как у капитана Сильвера, и какая-то железка в суставе.
Избавление пришло неожиданно в лице соседки Веры Герасимовны. Она дружила еще с матерью Николая, а теперь, жалеючи его, часто забегала, давала какие-то ненужные советы, спрашивала что-то такое же ненужное, чтобы хоть как-то отвлечь его, заставить разговаривать. Ничего ужаснее молчания она не представляла. Сама она обычно не нуждалась в собеседнике, только в слушателе. В свое время Вера Герасимовна работала машинисткой в облисполкоме, выйдя же на пенсию, устроилась на непыльное место гардеробщицей в музей. По большому, говорила, блату.
Как-то — снова была осень, снова мокло, снова падали листья — Самоваров шел из булочной, и еще издали завидев переминающуюся у подъезда Веру Герасимовну, понял, что она дожидается его. Действительно, когда он приблизился, Вера Герасимовна схватила его за рукав и подтащила к скамейке. Они осторожно, соизмеряя движения, сели (доски скамейки оторвались, и севший первым с краю полетел бы кверху ногами; садиться и вставать нужно было одновременно и с соблюдением законов равновесия; все местные это знали).
Вера Герасимовна начала, как всегда, с самой сути:
— Коля, ты нам нужен!
Глаза ее искрились, а седина казалась не грустным отмиранием красок, а какой-то специально сделанной веселенькой подцветкой (раньше она красилась хной, тоже очень весело). Плащ ее был тертым, но вокруг морщинистой шеи увивался немолодой, но очень легкомысленный газовый шарфик. Из-под шарфика пытались выбиться еще и рюши, в которых косо сидела старомодная брошка с потускневшими стекляшками. Розовая помада, блеск в глазах — все это было свежим и молодым.
— Я нужен стране или человечеству? — уныло спросил Самоваров.
— Коля, какой ты кислый! — возмутилась Вера Герасимовна. — Ты нужен нам, музею!
— В отдел чучел и мумий? Взамен экспоната, пострадавшего от недовложения нафталина?
— Фу, как ты глупо и не смешно шутишь. У нас уволился реставратор мебели, и я рассказала о тебе.
— Что можно обо мне в смысле мебели рассказать?
— Что ты прекрасно столярничал еще с отцом, вон в том сарайчике. Что ты запросто чинишь любую мебель. Что у тебя высшее образование. Что у тебя, наконец, золотые руки и золотая голова!
Самоваров поморщился: Вера Герасимовна любила трескучие газетные фразы. Он почему-то вспомнил себя маленьким, а ее такой же бодрой и восторженной. Вот она врывается в их квартиру, тычет матери какую-то газету и хохочет: «Нина! Нина! Ты еще не видела? Как? Нет, ты обязательно должна прочитать! Очерк Татьяны Тэсс!» Его очень тогда заинтересовала эта Татьяна Тэсс. Воображение живо рисовало нечто дивное.
— Это редкая возможность, Коля, — тараторила Вера Герасимовна. — Все уже настроились. Я сказала, что ты завтра придешь. Коллектив у нас небольшой, хотя в основном женский, и…
— Постойте! Ведь я ничего не смыслю в реставрации! Это же не табуретки сколачивать!
— Да то же самое! И ты умница, подучишься. Работы пока не так много. Решено: завтра ты идешь со мной…
— Не пойду.
Он все же пошел, рассчитывая как можно вежливее отказаться. В музее было блаженно тихо. Старинный особняк, негромкие шаги, сладкий, чуть затхлый запах старой спокойной жизни. Николай стоял на чугунных ступенях-вафлях служебной лестницы и слушал, как где-то мирно и невнятно переговариваются женские голоса. Вдруг над его головой с гудением и хрипом забили большие, очень врущие часы, бывшие губернаторские. Ему казалось, что все это он раньше уже видел во сне. Есть сны, в которых так хорошо, что жалко просыпаться. На этот раз проснуться или остаться во сне было в его власти, и Самоваров остался. Ему стало очевидно, что жизнь все-таки умеет улыбаться. Со стен, из золоченых рам, сквозь стеклянную желтизну лака, сквозь вуаль трещин ему улыбнулись давно жившие дамы. И мраморный Морфей в венке из мраморных маков, похожих на оладьи, тоже улыбнулся ему отбитой и приклеенной губой. Зато мебельная мастерская не улыбалась и была явно чужой. Всякая вещь здесь была прокурена до сердцевины, оконные стекла пегие, над столом громадный плакат с глянцевитой девицей в купальнике. У девицы была на редкость гадкая улыбка, а устройняющие и удлиняющие ноги вырезы купальника доходили до подмышек, так что казалось, лобок у красавицы полуметровый. Самоваров вымыл, вычистил, выдраил все, что мог, и в окна мастерской наконец смог глянуть веселый музейный дворик. Инструменты засверкали, а место девицы, корчившейся теперь в мусорной корзине, заняла кранаховская Сибилла Клевская со старого немецкого календаря. Новая жизнь началась.
Это все было семь лет назад. Самоваров с тех пор сделался недурным реставратором. Привык к музею и своей в нем незаменимости. Снова стал читать детективы. И даже начал коллекционировать самовары (первый был подарен музейщиками на именины в шутку, под стать его фамилии), и даже преуспел в этом, потому что стали исчезать в центре Нетска старозаветные особнячки, а на их месте с шулерской быстротой являлись причудливо-неуклюжие жилища новых русских. Руины особнячков сулили добычу. Самоваров бродил по развалинам, рылся на свалках, и коллекция составлялась. Постепенно он сблизился с другими коллекционерами, вполне разделил их нравы и страсти и стал замечать, что превращается из самонадеянного мальчика, каким он еще долго внутренне оставался даже после катастрофы близ Нижнего рынка, в безобидного провинциального чудака неопределенного возраста. Вера Герасимовна считала, что ему не хватает только утешительной женитьбы, и взялась изо всех сил подыскивать ему невесту. Самоваров, как большинство чудаковатых холостяков, не вполне отвергал самую идею брака, но представления о том, как это может быть, у него и Веры Георгиевны существенно разнились.
Вера Герасимовна подстраивала знакомства или с пресными старыми девами, или с подчеркнуто хозяйственными разведенками. Большинство представленных ею дам оказывались к тому же жертвами разного рода ухарей-подлецов, и задача Николая состояла еще и в смывании позора со всего мужского племени. А Самоваров как-то сроднился с Сибиллой Клевской, и все, что было не она (а она — это детское стервозное личико, веночек набекрень и капризно отставленные мизинцы), было не то. Поэтому он довольствовался ни к чему не обязывающими романами с кое-какими особами без предрассудков. Вера Герасимовна удивлялась: бедный увечный Коля оказался разборчивей ухарей-подлецов, которые, прежде чем бросить, все-таки клевали на забракованных Самоваровым кандидаток.
С Кузнецовым Самоваров познакомился тоже через коллекционеров. Они в самом деле ладили, в Афонино было тихо, спокойно, хорошо, и вот только теперь началось нечто другое. У Самоварова снова возникло чувство, что и это было видено во сне. На сей раз, правда, сон был плохой, не кошмар, а так, предутренняя мучительная тягомотина. Наутро от таких снов обязательно болит голова.
4. Голубые тапки и «мерседес»
Валька сидела на кухне и мазала большой, во весь срез буханки, кусок хлеба джемом, который банкир принес вчера в мастерскую. В кружке дымился чай. Собственно, Самоваров и пришел напиться чаю, но раз Валька здесь, то еще лучше. Заодно они и поговорят. Конечно, Вальку-то Стас раскрутит и без него, девица она простая, но вдруг она прямо сейчас что-нибудь любопытное брякнет. Она всегда всё видит и всё знает.
— Присоединяйтесь, — вздохнув, пригласила Валька. Физиономия у нее была еще одутловатой, глаза пока окончательно не прояснились, но выражение лица было уже приличным, скорбно-кислым. Деревенская воспитанная девушка, она знала, какое должное быть лицо, когда в доме покойник.
— Опохмелилась? — заботливо осведомился Самоваров. Он налил себе чаю и тоже взялся за семеновский ослепительно-красный джем. Повертев в руках банку, он прочел на этикетке, что высококачественный продукт изготовлен из наилучших сортов смородины в Бельгии. Полный бред — тащить в Афонино, где пол-леса заросло смородиной, смородиновый джем из Бельгии!
— Вчерашнего, поди, ничего не помнишь? — небрежно спросил Самоваров.
— Почему? — с достоинством сказала Валька. — Я голову сохраняю.
— А зачем тогда дом спалить обещалась? Бегала тут, орала, стаканами кидалась?..
— Ну зачем вы вспоминаете? Дурь, конечно. Но ведь ходишь, ходишь, скрываешь, скрываешь, а выпьешь — как-то все выплеснется. И легче. Хотя я даже пьяная лишнего не больно-то скажу.
— Так говоришь, все помнишь?
— Помню.
— Угу. Тогда объясни мне, куда ты отсюда направилась?
— А вам зачем?
— Валя, соображай: Игоря-то Сергеевича убили, причем явно кто-то свой, из тех, кто ночевал в доме. Тут очень важно знать, кто где вчера был и что делал. Ясно?
— Ясно. Вы как бы из милиции, вам все-все расскажу.
— Так куда ты отсюда пошла? В мастерскую?
— Не… Сначала по лестнице… Вы же видели. Потом вернулась.
— Зачем?
— Ну… Неудобно… вы из милиции, конечно… всю правду надо… Все надо говорить?
— Конечно, Валя, это в твоих интересах, — прибавил Самоваров расхожую милицейскую фразу.
— Ой, да неудобно… По-маленькому захотелось. И тошнило к тому ж, — Валька все-таки покраснела.
— Ну и…
— Вернулась я. К тому вон кусту сбегала. Темно, дождь, к туалету далеко, а в ведро неловко как-то, Егор тут терся все время. Потом вернулась водички попить…
— Егор все еще здесь был?
— Нет, ушел уже. Или здесь?.. Ушел… Да…
— Не тяни!
— Сами сбиваете! Я тут посидела. Моторошно было. Тошнило. Водичку пила. Чувствую, поздно уже, а я то сюда, то под навес на холодок выйду. Когда тошнит, разве заснешь? Маялась, маялась, а потом два пальца в глотку и — в ведро. Чего морщитесь? Меня папка так учил — сразу хмель выходит.
— У тебя до сих пор вон не вышел!
— Так значит, набралась сильно. Не путайте меня! Значит, полегчало мне. Ведро выплеснула, умылась — и к себе.
— Никто тебя не видел, не слышал?
— Кто ж услышит? Кто б мог, тот не слушал…
— Не понял?
— А-а! — Валька злорадно осклабилась. — Я-то еще под кустом сидела… Уже сходила… Или нет? Не сходила еще, но сидела… Да не дергайтесь вы, дайте вспомнить! Нет, не сходила еще… Спина уж вся мокрая была… Мокрый куст-то, и дождь лупит.
— Да брось ты эту ерунду!
— Как брось? В милиции все точно надо.
— Какая же это точность: успела ты помочиться или не успела. Ты дело говори!
— Не скажите! Так вспоминать легче. Ну вот, я сходила… Нет, под кустом еще сижу…
— Валентина!
— Ну вас! Не мешайте! Сижу… Вижу в двери (дверь-то я открытую оставила, а то бы боялась) — парочка шмыгнула. Кто, вы думаете? Инна наша и дяденька из банка, который очкастый, в исподнем.
— Ты как разглядела? Темновато там.
— Не так уж и темно, чтобы балахон с кистями не узнать: блестит, весь в бусах. Да и он вырядился — не спутаешь. А голоса? Что я вам, дурочка? — обиделась Валька.
— Ладно, ладно, — успокоил ее Самоваров. — И куда они пошли?
— А в чуланчик. Знаете?
— Знаю.
— Я спать хотела. А тут думаю, нет, постою на сквознячке, вдруг опять затошнит. Стою тихонько, а они в чуланчике заперлись и фонарик там зажгли.
— И долго они разговаривали?
— Разговаривали они, как же! Вы ведь, Николай Алексеевич, знаете, какую она тут из себя персону ломает! Какую любовь изображает к Игорь Сергеичу! А как увидела того козла в ползунках, так сразу его в чулан потянула. Что интересно, все на этого животатого падают. И покатаевская в шляпе — тоже. Что значит — богатый. Но той-то, в шляпе, не обломилось, а Инка сразу в койку.
— Ты что, видела?
— Тут и видеть не надо. Вы сами на той раскладушке спали. Скрипит, как черт немазаный, утиль ведь ржавый! А эти скрипели — я думала, побудят всех в доме.
— И долго они там были? — Валькина информация Самоварова ошарашила, и он с трудом сохранял на лице служебную непроницаемую мину.
— А я знаю? Мне так спать захотелось…
— И ты пошла к себе?
— Нет, я еще на двор наведалась, по-маленькому снова… Воду-то пила! Сижу… Ага! Вот тут меня как раз видели.
— Кто?
— Девка покатаевская, у которой губы, как говядина.
— Каким же образом?
— Тоже под куст ходила, не знаю уж, по-маленькому или по-большому. Она уж сидела, тут я выхожу.
— Потом?
— Потом я к себе пошла. Спала, пока вы не зашумели. Чего чай-то не пьете, остыл, поди.
— Не остыл. Кружка еще горячая.
Кружка в самом деле жгла пальцы, но и без того было не до чаю. Самоваров то прикидывал, могла ли изящная любящая Инна прирезать гениального Кузнецова, то чудилась ему Валька — вчерашняя, пьяная, злая. Шла ведь добиваться справедливости! А по пьяной лавочке да под горячую руку… Конечно, рассказывает складно, да и вся эта физиология — ведро, два пальца, мокрый куст — очень даже убедительна. К тому же Валька видела, как Инна уединялась с Семеновым (но зачем? вернее, ясно зачем, но что в банкире могло ее прельстить? не деньги же, в самом-то деле?) Ничего пока не было ясно. А уединение в чулане — не алиби, увы, не алиби. Можно восстать с ложа любви и пойти пырнуть ножиком. Не до утра ведь они раскладушкой скрипели. С тем же успехом можно зарезать кого угодно и между двумя походами по-маленькому…
Самоваров снова вспомнил удушливую скипидарную вонь в мастерской. Кто же там все это переколотил? И когда? И кто пытался убрать осколки? Ясно, что произошло это незадолго, если не в самый момент убийства, иначе Кузнецов открыл бы все окна, ушел бы из мастерской, там ведь до сих пор дышать нечем. А если позже? Но зачем? Поднимать шум, бить стекло, подметать, затирать — судорожно, второпях, поскольку дом полон народа, войти могут в любой момент, и хозяин лежит посреди мастерской с дыркой в боку?.. Нет, разгром был учинен раньше. Самоваров снова представил размазанное пятно у мольберта, мелкие лужицы, клейкий ручеек, сочащийся прямо к двери… Собака, конечно, надежней, но и ему попробовать стоит. Самоваров наклонился и взял валькины шлепанцы, ярко-голубые с оранжевыми цветочками. Безвкусная китайская дрянь. Валька была в них вчера весь день и вечером тоже. Самоваров добросовестно обнюхал пыльные подошвы, пахшие чем угодно, но только не лаком и не скипидаром. Валька выпучила на него глаза, даже жевать начала медленнее.
— Николай Алексеевич, что это вы?
Самоваров не ответил, швырнул шлепанцы под стол и не поленился, нагнулся и стащил свой башмак. Внюхался — есть скипидар! А он ведь и по мокрой траве успел походить. Так что, не была Валька вчера в мастерской, что ли? Потому что обязательно спьяну влезла бы в пахучие лужи. У нее, правда, еще кроссовки имеются, но ее, вчерашнюю, с ее заседаниями в кустах и ведром, представить предусмотрительно и хладнокровно переобувавшейся он решительно не мог. Да и то, что она, выкрикивая угрозы, полезла наверх именно в этих идиотских шлепанцах он и сам прекрасно запомнил. Да, но что же его мимолетно удивило, когда он сейчас вошел в кухню? А! Вот! Джем! Николай заходил сюда вчера вечером, и никакого джема не было!
— Валерия, скажи-ка, откуда здесь у тебя этот джем? Он вроде бы в мастерской оставался?
— Егор принес. Ел тут, накрошил, как свиненок.
— Когда это было?
— Что вы ерунду какую-то спрашиваете? Вчера еще, наверное.
Ладно, ладно, ладно! Дождь идет, время идет. Скоро местные анискины тут будут. Что делать? Пойти, что ли, еще и кроссовки Валькины понюхать? Или перенюхать всю обувь у всех? Вот это уж точно бред. Нехудожественная самодеятельность. Курам на смех. Все равно вся обувь, вероятно, пойдет на экспертизу, там ясно станет, кто по скипидару топтался. Даже если успеют помыть, микрочастицы все равно сохранятся. Хотя ботинки и выбросить можно, в Удейке, например, утопить. Лучше не вынюхивать, не наводить убийцу на эту мысль.
— Дядя Коля, а я вас ищу, — вывел его из задумчивости Егор.
— Что такое?
— Пойдемте на верандочку.
Верандочкой Егор называл нечто вроде балкона, выходившего на зады Дома, прямо на мохнатые старые лиственницы. Место это чем-то Егору нравилось, он любил там сидеть, глядя в одну точку. «Медитирует», — язвил Покатаев, но Самоваров не мог не признать, что в лиственничной густой зелени, в том, как беззвучно покачиваются большие тяжелые ветви (это напоминало дыхание), действительно есть что-то завораживающее.
Сейчас на верандочке было сыро, ветром нанесло дождя и под навес.
— Дядя Коля, — начал Егор, устраиваясь на потемневшей мокрой лавочке, — я все понять не могу, что это дядя Толя говорил… ну, что мне полагается…
— А почему его самого не спросишь?
Егор неопределенно дернул щекой и плечом. Он сидел, широко расставив загорелые ноги в больших новых кроссовках. Такой молодой, очень молодой… Самоваров не мог представить, каким будет Егор лет, скажем, в сорок, настолько его черты не определились, оставались мальчишескими, очень милыми, впрочем. Самоваров постарался ответить всерьез, весомо:
— Я думаю, Анатолий Павлович имел в виду, что по закону после смерти человека его имущество достается, если нет завещания, поровну ближайшим родственникам — родителям, супругу, детям. Супруги у Игоря Сергеевича не было, родителей, кажется, тоже…
— Да, его тетка воспитывала, но она умерла давно.
— Ну вот, стало быть, ты и есть единственный наследник. Богатый наследник. Прямо как в мексиканском сериале.
— И я могу тут все брать?
— Ой, не знаю. Всякие еще формальности будут. Я, знаешь ли, гражданское право подзабыл как-то… Ты хоть совершеннолетний?.. А по большому счету, конечно, все твое.
— Вот это да! Сроду не думал. Прямо сразу можно будет взять все себе?
— Как раз не сразу. — рассудительно отвечал Самоваров. — Вот если бы Игорь Сергеевич умер, скажем, от диабета, то тогда все проще. Но он убит. Кем? Помнишь первый вопрос всех сыщиков: кому выгодно? Куи продест? — это по-латыни. Кто желает скорейшей смерти близким? Правильно, наследники!
По лицу Егора было видно, как не сразу, постепенно, до него доходит сказанное.
— Но это не я! — взревел он и даже вскочил со скамейки.
— А я разве сказал, что ты? — невозмутимо продолжал Самоваров. — Но прежде чем тебе дадут распоряжаться имуществом, будет расследование. Вот и все. А посему — садись и вспоминай, что ты делал вчера вечером после того, как все разошлись из мастерской.
— Сейчас. Сразу не могу. Я как чумной хожу. Я папу вон даже не видел, а все равно мороз по коже. Не могу поверить… Сейчас.
Он неподвижно воззрился на лапы лиственниц и выпятил нижнюю губу, что выражало усилие мысли.
— Ты когда с отцом последний раз виделся? — помог ему Самоваров.
— Вечером. Темно уже было, наверное, часов одиннадцать. Я поговорить хотел, а он меня прогнал. Кричал, что работать мешаю, даже матом…
— Так вы ссорились?
— Вроде того. И он меня вытолкал.
«Не отсюда ли стекляшки битые? — предположил Самоваров. — Что же он про это не говорит?»
— Что ты делал дальше?
— На кухню пошел. Поел. А вы знаете, что Валька вчера одна целую бутылку «Лимонной» вылакала? Как зюзя была.
— Знаю. Ты-то потом что делал?
— Сидел там.
— Просто сидел?
— Да.
— Ну, а потом?
— В «прiемную» пошел. Мне там Владимир Олегович свои снасти показывал. Но он все куда-то собирался и в конце концов ушел.
«К Инне», — догадался Самоваров.
— Ну, а ты? Что ты потом делал?
— Я сидел. Ждал, хотел к отцу еще раз сходить. Вдруг перебесится.
— Кто еще был в «прiемной»?
— Не помню. Я снасти смотрел. Кажется, девушки там были… Не помню.
— Так. Ты сидел. Долго?
— Нет. В смысле, я там заснул. На диване, где Владимир Олегович спать разложился.
— Ну, а потом? — Самоварова уже утомили эти односложные ответы.
— К себе пошел. Спать. Меня как Владимир Олегович разбудил, так я к себе и пошел.
— Когда разбудил? Когда пошел?
— Да два часа уже было. И как я там, на диване, заснул? К себе потом пришел. Лег. Спал. Все.
Егор устало отвернулся. Самоваров вспомнил рассказ Инны и небрежно заметил:
— А вопрос с «мерседесом» как, решился?
Егор округлил глаза и рот:
— А откуда вы…
— Какая разница? Важно, что знаю. Ну?
На Егора стало жалко смотреть. Он мучительно нахмурился и с ожесточением тёр стриженый лоб. Самоваров потрепал его по плечу.
— Ну, ну! Егор!
— Дядя Коля, что же мне теперь делать?
5. Исторический аспект. Егор
Как все мужчины, в жизни которых много значат женщины, Кузнецов вовсе не был чадолюбив. Однако его первая жена Тамара считала, что Егора он любит без памяти. Во всяком случае, всем и всегда она твердила: «Обожает! Он малыша просто обожает!» И Кузнецов, охотно ограничившийся бы алиментами, делал под ее руководством все, что делал бы, если бы действительно Егора обожал.
Тамара вообще была женщина с твердым характером. В свое время она бестрепетно развелась с Кузнецовым, который оправдал уже самые радужные надежды и даже почему-то стал любимцем ее вельможного отца. Но Кузнецов был не таков, каким должен был, по ее разумению, быть. Более того, не желал быть таким, каким должен. Его беспорядочная жизнь, глупая щедрость, бесконечные друзья, недельные запойные уединения в мастерской, когда он только писал, писал, писал — все это выводило ее из себя. Разумеется, и «девочки» тоже. Она поняла, что по-другому не будет, и развелась. Неприлично радостный энтузиазм, с каким Кузнецов согласился на развод, окончательно ее сразил. «Ужасный человек», — так стали они с Леной Покатаевой звать меж собой Кузнецова. «Но ребенок не должен страдать. У ребенка должен быть отец. Все-таки этот ужасный человек обожает Егора», — повторяла Тамара со вздохом. Она не собиралась устраивать мещанских штучек с прятаньем ребенка и рассказами, каким папа оказался плохим. Кузнецову предоставлялась полная воля проявлять обожание. Сама Тамара не желала коротать век в одиночестве. В ее квартире, просторной и нарядной, как выставка мебели, время от времени заводились какие-то мужчины. Они начинали готовить завтраки, выносить мусор, водить Егора в зоопарк, словом, походили на кандидатов в мужья. Но то ли все оказывались малоудачными, то ли не могли или не хотели дотянуть до нужных Тамаре идеальных кондиций, но они исчезали так же бесшумно и интеллигентно, как и появлялись, и Тамара вновь оставалась одна. Причем оставалась не побежденной, а наоборот, победительницей. Она и сейчас была одна. Свободная, бодрая и подтянутая, с великолепной стрижкой, энергично вздыбленной надо лбом и ушами, в превосходных пиджаках, в независимо полураспахнутых на спортивной загорелой груди блузках, она успешно в какой-то фирме торговала алюминием.
Между тем обожание Кузнецовым сына старательно культивировалось. Выражаться оно, по разумению Тамары, должно было (и выражалось) в серьезных подарках к праздникам и именинам, в финансировании дорогих спортивных секций и репетиторов, и даже парикмахера. Отдельным родом обожания считались Егоровы каникулы. Тут мало было афонинского рая, требовалась еще и оплата каникулярных вояжей. Егор уже объездил полмира, посетил Диснейленд (настоящий, американский), нежился в Адриатическом море, осматривал красоты Италии и колол орехи фальшивым обломком Парфенона.
Впрочем, Тамара заботилась и о душевном контакте отца и сына. Принаряженный Егор посылался матерью на все многочисленные кузнецовские вернисажи и умел занять рядом с отцом подобающее место, чаруя гостей галстуком в полосочку и наивными вопросами. Когда Тамаре нужно было, чтобы Егор не болтался неизвестно где, пока она занята своими делами (а такое бывало довольно часто), она подбрасывала его к отцу в мастерскую. Ей казалось, что постоянно мозоля глаза Кузнецову, Егор сделается для него привычным и необходимым. Мальчик в эту пору должен был начинать сам просить у отца деньги и помощь. Именно в мастерской Егор выучился сидеть долго, глядя остановившимися глазами на какой-нибудь случайный предмет. Чаще всего он смотрел на крышу дома на противоположной стороне улицы, видную через громадное, сизоватое от пыли окно. Там в определенный час ослепительно загоралось закатом чердачное окошечко. Иногда Егору позволялось порыться в ящиках стола, порисовать углем или сангиной на громадных листах оберточной бумаги. Рисовал Егор плохо, но очень любил эту бумагу и долго рассматривал какие-то черные пятнышки и древесные занозы, которыми она пестрела. Рождалась ли от всего того предполагаемая Тамарой душевная близость? Если б в один прекрасный день Егор перестал появляться в мастерской, Кузнецов заметил бы это так же мало, как мало замечал его присутствие (последнее обнаруживалось, как правило, когда Егор что-нибудь портил или разбивал). Например, он совсем не заметил тринадцатилетнего сына, когда писал Инну на сером фоне с фаянсовой синей вазой у ног, а тот испытал род жгучего потрясения, потому что впервые видел живую обнаженную женщину (альбомов-то с репродукциями старых мастеров он в своем углу пересмотрел бессчетно). Теперешнему Егору тот полуобморочный восторг представлялся даже забавным, но вовсе отделаться от Инны, от сладкого ужаса перед нею он так и не смог.
В последние годы Егор для Кузнецова несколько выдвинулся из привычного фона мастерской, потому что научился в самом деле довольно беззастенчиво и часто требовать деньги. Кузнецов всегда давал, потому что считал это порядочным и необременительным. Наконец-то ему попался на глаза этот вечно что-то просящий парень, прянувший в рост, как весенняя крапива. Но он так и не испытал к сыну ни любви, ни интереса, только удивление. А прошлой осенью начались и размолвки.
Ко дню рождения Егор получил от родителей японский мотоцикл, который через неделю был украден у клуба «Холлидей». Мотоцикл, разумеется, так и не нашли, а Кузнецов был поражен упорством, с каким Егор требовал еще один такой же. Когда Егор закончил школу, мать настояла, чтобы он годик отдохнул (мальчика перед тем полгода терзали пятеро репетиторов, все кандидаты наук, и аттестат зрелости был обретен в основном их трудами). Отдыхающий Егор зачастил в мастерскую и в Афонино, стал таскать с собой приятелей, хвастаться, раздаривать каталоги (и — тайком — отцовские этюды) каким-то девицам; деньги ему нужны были ежедневно. Кузнецов внезапно понял, что Егор ему страшно надоел. Инна своим слабым, трепетным голосом твердила, что Егор испорчен дармовщиной; что он — паразит, бездушный и алчный, как клещ; что ездит он только за деньгами, и была, разумеется, права.
Егор нынче приехал в Афонино непривычно мрачный и настойчивый. Кузнецов решил было вообще не слушать его, гнать к чертовой матери, но вечером тот явился совсем потерянным и оттого казавшимся еще моложе своих восемнадцати. Когда Кузнецов вдруг увидел в глазах у него блестящие быстрые слезы обиженного ребенка, то устыдился и решил сунуть-таки денег, только поскорее, без затяжных семейных сцен.
— Папа, — все мялся Егор, хватал карандаши, катал в ладонях и вздыхал.
— Да говори же, — буркнул Кузнецов. — Уже в сон клонит от твоих выходов из-за печки.
— Это правда серьезно. Я сейчас, — Егор уселся на низенькой скамеечке, скрестил большие мальчишеские руки и оперся на них до бархатности коротко стриженой головой. — Папа, только не перебивай! Так все ужасно…
— Сколько? — безмятежно спросил Кузнецов.
— Зачем ты сразу? — обиделся Егор, потому что настроился на длительную душевную беседу.
— А что, другое что-то? Тогда извини…
Егор промолчал.
— Так сколько? — Кузнецов уже начинал терять терпение.
— Очень много. Двадцать тысяч. Долларов. И сразу…
Кузнецов, который до этого возился со стеллажом, сначала замер. Потом выпрямился, медленно подошел к стулу, поставил его напротив Егора, уселся и удивленно воззрился на сына.
— Знаешь, пап, ты не перебивай только… Так вот вышло… Будто не со мной все, будто во сне… Но только никуда не денешься… Такой ужас…
Кузнецов не собирался перебивать, и Егор забормотал:
— Когда у меня мотоцикл украли, а ты денег больше не дал… Ты не можешь этого понять! Я должен быть на колесах! Все у нас… Нет, ты не поймешь… В общем, деньги были нужны. А ты не дал. Да мне и самому просить надоело! Конечно, надо зарабатывать. И ты говорил. Я же не против. Я хотел, как ты сказал…
Кузнецов язвительно сощурился. Егор продолжал:
— Короче, есть такой Вадя. Ты, кажется, знаешь его, он тут бывал… Даже два раза. И вот… Он сказал, что можно быстро заработать. Тем более, у меня права есть. Что одни просили что-то там перевезти. Машина их. Ерунда ведь? Почему нет? Я согласился. Двести рублей. Ведь ничего особенного, да?
Кузнецов поддакивать не стал, молчал непроницаемо, но Егору стало легче уже оттого, что его наконец слушают.
— Так вот… С Вадей пришли в одну квартиру. Там эти… Ну, лица кавказской национальности. Дали ящик. Нетяжелый, вроде как от пылесоса. Адрес в Сосновке. Машина «мерседес». Старенький, правда, восьмидесятого года, сильно бэ-у. Но бегает. Поехал… Один… лицо… рядом сел. Там дом деревянный частный… Зашли мы, ящик отдали, посадили нас чай пить. Вдруг за окнами грохот, крики. Выбегаю — «мерседес» мой… ну, не мой — в общем, всмятку… Ну… Чего там… Начался кошмар…
Егор вопросительно глянул на отца и продолжал:
— Они… Лица… «Ты машину разбил — плати». Двадцать тысяч… Или отработаешь… Неделю дали… До среды.
Егор понимал, что плохо рассказал, нестрашно, но самое главное еще оставалось в запасе:
— Они меня убьют… Или хуже…
— Что ж хуже-то?
— К себе увезут… Вроде как в рабство… Ужас… да?
Венский стул снова страдальчески заскрипел.
— Черт знает, что такое! — проскрежетал наконец Кузнецов. — Какой Вадя? Какой «мерседес»? Какое рабство? Какого рожна?.. Мать знает?
— Да.
— И?
— У нее денег нет. У фирмы дела не очень…
— Значит, на меня решили повесить эту твою милую шалость?
— Пап, страшная случайность, что все так вышло… К кому же я пойду?
— К черту лысому! И к его лысой матери! — выкрикнул Кузнецов и вскочил со стула. — Мне надоело твое мелькание, и мне противно, что мой сын пошляк и попрошайка. Италия! Мотоцикл! Вадя! «Лица»! Все, иди вон…
— Но ты мой отец. В конце концов, ты обязан…
— Да, да, да! Поговорим о правах и обязанностях человека!!! Нет уж, душка, это ты обязан думать, обязан иметь человеческий облик, а не торчать тут дубиной стоеросовой в трусиках и слюнявить: «Дай миллиончик!» Ты же полный нуль, по-о-олный!
— Допустим, — слабым голосом согласился Егор. — Но дело-то не в этом!
— В этом, именно в этом!
— Ты, папа, уже рассуждаешь, как дядя Степа-ветеран. Ты же не такой! В конце концов, ты ведь тоже был молодым!
Кузнецов презрительно крякнул:
— Ну, настолько молодым я не был никогда.
— Я не хочу, пап, ссориться. Я тоже мог бы многое сказать. Не буду. Но! Мне идти больше некуда. Без твоего ответа я отсюда не уеду. Скажи только «да».
Кузнецов снова уселся на стул, скрестил руки. Его широкое лицо ничего не выражало, кроме брезгливости.
— И тебе не жалко совсем, что так со мной вышло? — робко спросил Егор.
— Вот это хороший вопрос. Ты ведь давно это спросить хотел, да спесь немного мешала. Маловато у тебя спеси-то! Гордости маловато! Чего тебя жалеть? Будь ты калека, слабоумный — жалел бы. А на тебя — молодого, здорового, неглупого, красивого — смотреть просто противно. И все. Пришел тут про Вадю свою рассказывать!
— Дался тебе этот Вадя…
— Ну скажи, ради Бога, зачем тебе колеса эти? Зачем деньги, деньги, деньги? Девок пленять? Ты что, покупаешь их, как старый подагрик с почечуем? Они так должны тебя любить! Сходить с ума! Уксусом травиться! Я до сих пор никого не покупаю — ни женщин, ни друзей. Не клюй на дешевку! А все, что покупается, — знай! — дешевка.
— Ты — это другое дело…
— Какое другое? Я в восемнадцать лет прибыл в этот город из паршивого райцентра. В школьном пиджаке приехал, из которого настолько вырос, что чуть ли не локти из рукавов торчали. И в трехрублевом трико! В художники подался. Денег ни шиша, а живопись — занятие дорогое. Отец черт знает где по тюрьмам, тетка двадцатку пришлет когда — состояние! Все на краски шло и на квартиру, общежития-то не было. Снимал угол на самой горе — помнишь, я тебе показывал? — у старой одной карги. Голодно, стыло. Дрова воровал. Бабка на печке в тряпки завернется, а я в тулупчике сплю. Так и тулупчик этот за ночь к стенке примерзал! Уж позже я настропалился в детсадиках сторожевать Ночь в тепле — знаешь ты, что это такое? Что за блаженство? Чего-чего не было! Заметь, это не ревущие сороковые были, а мило застойный семидесятый год! Но рисовал я, как бешеный. Писал днем и ночью. Вроде запоев было. А как любили меня! Какие красивые! И даром! Даром! И на трехрублевое трико не смотрели!
— Что, и уксусом травились?
— И уксусом. Любили! И друзья в рот заглядывали! Преподаватели завидовали! В Академию шутя-смеясь поступил.
— Я же и говорю — то ты! Время было другое, а у тебя к тому же талант, характер…
— А ты знаешь, есть ли у тебя талант? Или характер? Чего ты попробовал? Ящики лицам возить? «Мерседесы» бить?
— Вот все язвишь! А разве не без твоей вины все плохо у меня вышло? Ты ведь нас бросил!
— Чего? — изумился Кузнецов.
— Ты и подумать не мог, каково мне? Ты у нас талант, знаменитость, а мы — тебе не нужные. Посредственные. Мешаем. Сколько я в мастерской у тебя за шкафом просидел и пикнуть боялся! Все мои комплексы оттуда. Пытался рисовать — ты даже не глядел. Готовлюсь вот в художественный институт, а чем ты мне помог? Зато корчишь из себя друга молодых, притащил сюда этого задохлика с его нудной Настей. А я что от тебя видел?
— Да, кажется, как раз немало, — усмехнулся Кузнецов.
— Я не о деньгах! — запальчиво вскрикнул Егор.
— А мне показалось, напротив, что ты прибыл как раз за деньгами. За кучей денег.
Егор вдруг снова вспомнил о том ужасном и неприятном, что с ним стряслось, и сник.
— Прости, пап, я, кажется, что-то не то…
— То! То! Я, оказывается, у всех в долгу! Все обижены! Все требуют! Каждый своего!
Кузнецов тяжело уставился в испуганную физиономию Егора и отрезал:
— Нет. Ты не младенец в люльке. Иди себе. Работай. Бей «мерседесы» сколько влезет. Но сам. Без меня! Фигушки!
6. Черный блокнот Самоварова
Самоваров достал его из кармана куртки — большой затрепанный блокнот. На его страницах с загнутыми замусоленными уголками помещались обмеры кузнецовских коллекционных буфетов и диванов, зарисовки резных деталей, чертежики, расчеты. Самоваров отыскал чистые странички, разлегся на своем топчане и вывел тоненько очиненным карандашиком:
«Кузнецов убит между 23.00 15 июня и 3.00 16-го — сужу по окоченению».
Он собрался привести в порядок свои мысли. Мыслей, собственно. никаких не было. Но следует учесть все версии, а их у Самоварова было столько же, сколько постояльцев в этом проклятом Доме. Есть ли алиби хоть у кого-нибудь? Самоваров вздохнул. На другом топчане, напротив, сидел Валерик, завернутый в лоскутное одеяло. Парень вроде бодро бегал все утро, а теперь снова впал во вчерашнюю прострацию. Сизая бледность, одеяло до ушей. Самоваров знал, что все здешние одеяла для гостей пахнут пылью и почему-то немного псиной. Валерик вряд ли сейчас этот запах или что-то другое замечает. Николай разглядел даже на его лбу сутулый силуэтик комара. Комар кормился, а этот обалдуй хоть бы бровью дернул! Неприятно смотреть. Самоваров дождался, пока тяжело насосавшийся комар слетит, и снова принялся за свой блокнотик. С новой строчки он написал:
«1. Инна + Семенов — в чулане. Их видела Валька.
2. Егор — в «прiемной»; то сидел, то спал. Спросить Семенова и прочих.
3. Валька — на кухне и во дворе. Видели: я, Егор и Оксана (?). Оксану спросить.
4. Оксана —?»
Самоваров задумался. Со слов Вальки он знал только, что Оксана сидела под кустом. «То ли по-большому, то ли по-маленькому», — вспомнил он Вальку. Господи, какая дурь! Нет, похоже, надежного алиби не будет ни у кого. Все всех видели, но все куда-то таскались, входили, выходили… Хоть бы один спокойно на месте посидел! Может, все-таки Покатаев с Оксаной не участвовали в этих передвижениях? Оксана орала и визжала, даже здесь слышно было. А во дворе стоял мокрый Валерик.
Самоваров посмотрел на него. Валерик все еще сидел неподвижно, только иногда одеяло оживлялось волной ознобной дрожи. Неужели захворал? Глаза ввалились, а нос наоборот, высунулся вперед. Пропадает парень.
— Ты хоть ел? — поинтересовался Самоваров.
— Да… Нет… — бессмысленно ответил Валерик и посмотрел чуть левее Самоварова тем слепым взглядом, какой бывает у больных, превозмогающих боль и ничего больше не способных заметить. Темнеет от боли в глазах, правильно говорят. Насмотрелся Самоваров в свое время таких глаз. Хотя бы семь лет назад, в зеркале.
Николай потянулся за коньяком, налил во вчерашний, еще липкий стаканчик. Валерик высунул из-под одеяла худую руку с синими ногтями, взял стаканчик и послушно выпил.
— Погоди, братец, — ободрил его Самоваров. — Вот милиция приедет, и отправитесь себе по домам. Потерпи.
— Милиция. Еще и это! — Валерик вдруг плаксиво сморщился. — Допрашивать будут… Им я не могу, значит, и не надо… Это неправда. Какая-то ерунда, какое-то совпадение, бред! Могу ведь я бредить? Или… не знаю! Она не могла!.. Вы видели ее?.. И только ни слова, что я…
«Фу ты, достоевщина какая, — подумал Самоваров. — Что если у него в самом деле жар? Острая пневмония? И где эти менты чертовы? Хоть довезли бы его до афонинского фельдшера».
Он положил руку на бледный Валериков лоб и с изумлением обнаружил, что рука намного горячее.
— Так, дружок, — мягко, но решительно начал Самоваров. — Жара-то нет. Давай возьмем себя в руки. Ну-ка, ну-ка! Хватит трястись. Лучше поговорим. Не заводи себя, наверняка всё пустяки. Тут рядом вон какое страшное дело! А ты — ты ведь о Насте?
— О Насте… Если б вы знали! Но это — никому, — Валерик пьяно качнулся. — Игорь Сергеевич — я бы умер за него. Или нет: лучше бы я умер, а не он. Он ведь гений. Умер, значит, можно говорить: ге-ний. А я кто? Настя… это — так, неуспехи в личной жизни. А он умер!
Валерик вдруг скинул одеяло и жарко задышал коньком на Самоварова:
— Я вам одному скажу! Не про меня, это мое, неинтересное… Другое! Кажется, Игорю Сергеевичу понравилась Настя. Чего удивляться? В нее ведь все влюбляются, все! Вы ведь тоже, признайтесь, влюбились?
— Да, — поспешно соврал Самоваров.
— Вот. И он тоже. И я. Я ее давно люблю, уже три года. И он… Я чуть с ума не сошел. Нет, я ему поклоняюсь! Он гений! Он ее писать ночью свечку пригласил. Понимаете, что это значит? Она мне сама сказала. Меня не позвал, хоть я б умер от счастья. Она понравилась… Пусть! Но она… Она ведь еще после той постановки, с сиренью, какая вышла! Одуванчики пишет, а кисточка дрожмя дрожит, и такой она этюд поганый написала, как никогда! Чуть не плакала. А вечером все-таки к нему собралась. Вы что-нибудь тут можете понять? Я тогда решил уйти. Пусть ревность. Наверное. Сейчас мне все равно! Только я заблудился, вымок в каких-то кустах, что-то живое упало с дерева, я испугался и побежал на свет. Глупо, конечно. Только я видел — она к нему пошла. По внешней лесенке, чтоб не видел никто.
— Ты-то видел.
— Видел. И стоял потом, и ждал. Скажете, следил? Да, следил! Я ее люблю. А она никого не любит. Даже его, великого! А ведь таки пошла!
— И долго она там пробыла?
— Не знаю. Я такой дурной был… стоял и плакал.
— Больше никто не входил, не выходил?
— Нет вроде. Кажется, на кухне дверь хлопала, но это с другой стороны, не видно. Да я и не смотрел бы, я ее ждал. Вижу — спускается… Это вот главное! Как вспомню, так выть хочется…
— Зачем же выть?
— Я не верю… Не может она… Только я ее такой никогда не видел. Она же королева! А тут растрепанная вся, еле идет. Даже неловко вам рассказывать, какая она была… Такой я ее никогда не видел!
— Который примерно был час?
— 11.43. Смешно, да, такая точность? Не знаю, зачем я на часы посмотрел. У меня вот, командирские — цифры светятся.
— Что потом?
— Она в Дом вошла, а я… так и стоял. Это ведь не может быть она? Скажите? Нет, я знаю, что не она… Может, она увидела? Почему же тогда она была такая растрепанная?.. Глупо, но я все равно ее люблю, и если это… она все-таки… Найдите ее, скажите, что я согласен… ну, что будто я…
— Эк куда загнул! Погоди, не дури. Все выяснится, тогда уж будешь геройствовать.
— Нет, это сейчас нужно, пока милиции нет. Вдруг она во всем признается. Она такая гордая. Скажите ей, что согласен… будто я… поскорее! Я не могу с ней говорить, язык не слушается. Пожалуйста!
— Хорошо. Прямо сейчас и пойду, — Самоваров поднялся и направился к двери, хотя вовсе не собирался предлагать Насте Валерикову жертву и не считал даже, что она такой жертвы стоит. Хорошенькая, конечно, штучка молоденькая, и себе на уме, но в общем, не стоит. Зато выговорившийся Валерик благодарно посмотрел ему вслед. Значит, полегчало, вон и глаза ожили…
Когда перестанет дождь? То совсем еле сеял, то вдруг припустил такой крупный, что по луже у крыльца пошли не круги, а беспорядочная густая рябь. В Доме было мертвенно тихо. Самоваров нарочно громко шаркал ногами, надеясь привлечь чье-нибудь внимание, но Оксана, разлегшаяся на кровати прямо в кроссовках, даже не повернула к нему головы. Больше никого не было видно.
— Вы здесь одна? — спросил Самоваров.
— Похоже.
— А Анатолий Павлович где?
— Не знаю. В туалет вышел! Он желудком слабоват.
— И давно вышел?
— Не знаю. Мне кажется, утро это тянется уже лет сто. Уехали бы вчера, не влипли бы в такой кошмар.
— Оксана, — начал Самоваров с задушевного елея, — вы правы, конечно. Скверная случилась штука. Вот вы вчера уехать хотели, спали, должно быть, плохо, и наверняка что-то видели…
— Ничего я не видела, — отрезала Оксана. — И видеть не хотела. Все это не в моем вкусе.
— А сами вы где были?
— Не ваше дело. Что вы тут из себя сыщика изображаете? Кто вы такой? Табуреточник.
Самоваров вздохнул:
— Ладно. Последняя попытка. Вы вчера поздно вечером видели возле дома натурщицу Валентину?
Оксана криво усмехнулась:
— А, так называемую Валерию? Видела. Водкой от нее несло.
— А в котором часу?
— Ночью уже, чуть ли не в два. А что?
— Да ничего. Она вас тоже видела.
— Ну и что?
Самоваров загадочно помолчал и еще спросил:
— А Настя где?
— Вот уж не знаю.
И вдруг по ее лицу поползло некое подобие оживления.
— А Настю я как раз ночью и видела! Довольно поздно. Протиснулась вот в эту дверь в очень пикантном виде. К ней вот и ступайте, узнайте, с кем она провела время. Уверяю вас, не без удовольствия.
«Вот бабы! — подумал Самоваров. — Как же легко топят друг дружку! И из чего? Из соперничества? Но в чем? О, женщины, ничтожество вам имя!» Женоненавистнические мысли Самоварова потекли дальше по привычному нехитрому руслу и уперлись тоже привычно в бывшую девушку Наташу. Он стал в последнее время часто ее встречать. Она развелась со вторым мужем и жила у своей матери неподалеку от музея. Он поэтому и видел теперь часто, как она идет по тротуару в неудобных дорогих туфлях, тащит какие-то пакеты и — за руку — некрасивую крупную девочку, очень похожую на ее первого мужа. Пожалуй, Наташа и сейчас могла бы считаться красивой, хотя щеки несколько повисли и потянули за собою сварливые складки у рта. Но теперь Самоваров уже удивлялся, неужели он действительно хотел выброситься из окна после того, как прочел то письмо от нее? Значит, он все-таки постарел… Вон как несчастный Валерик рвется умереть за гениального Кузнецова и за Настю! Куда же подевалась эта самая Настя?
Настя сидела на кухне в уголочке, и Самоваров даже не сразу ее узнал. Волосы она причесала гладко-гладко, зато густо и неаккуратно накрасила губы. Оранжевая помада очень не шла к ее бледному лицу. Надо же, почти дурнушкой стала.
— Настя… — Самоваров запнулся, потому что не знал, как с ней говорить. Не выдавать же, в самом деле, Валериковы глупости. Она глядела стеклянно-холодно. — Настя! Давайте поговорим о вчерашнем вечере, вернее, о вчерашней ночи…
— Я не знаю ничего… — оборвала она с досадой.
— Зато я знаю. Постарайтесь не раздражаться и выслушайте, это в ваших интересах. Дело в том, что вас видели выходящей ночью из мастерской.
— Ну, конечно, Елпидин шпионил, — брезгливо сморщилась она.
— Нет, не то. Вас видели другие люди, и они при случае не будут вас щадить, как это наверняка сделает Валера. Припомните вчерашнее…
— Не хочу!..
Настя опустила голову. Вот и все. Значит, не зря она боялась. Весь этот ужас всплыл, и уже не спрячешься. Надо будет врать, потому что правда, которую теперь знает только она, слишком унизительна и гадка. Странно, что этот мебельщик, кажется, сочувствует ей. Лицо у него доброе, желтое. И старомодные усы. Сейчас усов не заводят. Ему, наверное, все сорок лет. И… тому тоже было что-то за сорок. Больше уже не будет. Он умер. Там, в мастерской, где этот мертвый, остался ее чистый холст, где она уже не напишет никогда свечку.
— Настя! — позвал ее Самоваров; так окликают заснувшего. — Настя, этот разговор только между нами; каждое сказанное здесь слово здесь же и умрет и нигде не повторится. Это не только для вас важно. Еще один человек, вы понимаете, кто… Не отмахивайтесь! Нам бы всем надо поддержать друг друга. Страшно, но все-таки спрошу прямо: это вы сделали?
— Нет, — просто ответила она.
— Но когда же вы в таком случае были в мастерской? Ведь поздно? И Игорь Сергеевич был тогда еще жив?
— Жив, жив! Не мучайте меня. Я ушла около двенадцати. Потом здесь, в Доме, часы били — все не в лад, но именно двенадцать раз. Вы мне не верите? Я рассказала бы… Но сейчас не могу… Лучше потом…
Она закуталась в курточку и постаралась заслонить воротником безобразно накрашенный рот. Вид у нее был жалкий. Самоваров осторожно вышел и почти столкнулся с Покатаевым. Тот стоял, подставив под струю, бившую из водосточной трубы, ногу в резиновом сапоге.
— Прошелся немного вокруг дома. Тошно здесь, — сказал Покатаев. — И небезопасно. Не-без-опасно! Ага, вот и Егорка! Слушай, старая лодка у тебя на берегу, смотрю, совсем сгнила. Забросил рыбалку?
— Некогда.
Егор взялся за ручку кухонной двери.
— Что, милиция уже здесь? — поинтересовался Покатаев. — Ворота что-то закрыты…
— Нету еще.
— А пора!
— Может, Владимир Олегович заблудился? — предположил Самоваров.
— Там тропа, — ответил Егор, — и я говорил, чтобы ни вправо, ни влево.
— Ну, мало ли! Погода вон какая! Надо было, чтобы из нас кто-то пошел, кто места знает, — сказал Покатаев.
— Он же сам хотел. Ему было срочно надо куда-то…
Самоваров молчал, но понимал уже: что-то случилось. Все сроки прошли, а милиции все нет.
— Давайте поедим, что ли? — предложил Покатаев. — Дело к обеду уже. Надо всех позвать.
Самоваров нашел, что это разумно. Что-то они разбрелись, а надо бы поостеречься.
7. Дура на исповеди
Они сидели за столом, пили чай и поглощали семеновские припасы. Покатаев недовольно хрустел чипсами, запивая их какой-то псевдо-грибной бурдой из красивого стаканчика, и морщился:
— Валерия, ты хоть бы супец нам какой-нибудь спроворила.
Валька привычно огрызнулась:
— А я не прислуга! Да и вы не хозяин тут, чтобы приказывать.
— Так я не для себя же! Смотри, сколько народу мается.
— Раз маются, пускай сами и варят.
— Не злись так! Ну, не хозяин я, правильно. Теперь хозяин — вон он, Егор.
— Дядя Толя! — взмолился Егор.
— Как ни грустно, это правда… Что, Егорка, делать будешь с такими хоромами? Продашь?
— Кто же купит такую трущобу? — презрительно фыркнула Оксана.
— Не скажи, домок красивый.
— Зато ни дороги приличной, ни удобств. Даже электричества нет.
— Ничего, — заступилась за Дом Валька. — Жить можно.
— Ну, разве что каким-нибудь примитивам…
— Игорь Сергеевич, разумеется, был примитивом? — не удержался Валерик.
— Эх, друзья, — Покатаев откинулся на спинку стула, поиграл складками щек, — вот было дивное место, шумела тут жизнь, народ лез, как на мед, а умер хозяин, душа ушла, и все это превратилось в гору хлама. Что, Егорка, ударишь топором по своему вишневому саду?
— Вы, наверное, в самодеятельности занимались? — неприязненно осведомилась Настя.
— Нет. Серьезно и организованно — нет. Зато Инна пописывала самодеятельные стихи. Кстати, что это ее не видно?
— Она собиралась принять таблетку и отдохнуть. Ей очень плохо, — пояснил Самоваров.
— Конечно, конечно… Вот Инна с ее пиететом к таланту, с ее благородной пронырливостью устроила бы тут дом-музей. Или дом творчества художников имени Кузнецова И Эс. Она бы пробила! Облачилась бы в какие-нибудь черные кружева и ходила бы вдовой гения. Она как раз для этого рождена. Да, не повезло!
— Зачем вы так, дядя Толя! — вскрикнул Егор и густо порозовел.
— А затем! То, что сделала бы здесь Инна, было бы красиво и, возможно, доходно. Вы же с мамой Тамарой все растащите, так ведь? По ветру пустите…
Розовость Егора разошлась бурыми пятнами.
— Не обижайся, — сказал Покатаев. — Ты, Егорка, просто неприкаянный мальчик. Шутка ли — сын и наследник самого Кузнецова! Это, брат, такое состояние…
Валерик больше не мог выносить подобных бесед и выскочил из-за стола, зацепившись за табурет. Вздрогнул чай в стаканах. Выглядело все это довольно нелепо.
— Спасибо, я сыт.
Покатаев печально улыбнулся. Самоваров смотрел на него и думал: вот бы с кем поговорить! Знает ведь всю подноготную. Злой, конечно, значит, несправедливый, но это скорее свойство ума, а не злоба как таковая. Интересно, а он — мог бы? Но зачем? Друзья ведь. Самоваров знал — Кузнецов Покатаюшку любил, считал единственным другом. Покатаев часто приезжал в Афонино, иногда увозил картины на продажу. Они даже не ссорились никогда. Так, а где он был ночью? Здесь, конечно, со своей вздорной красавицей. Она визжала вчера, как сумасшедшая. Говорят, мышей боялась. Куда от такой денешься? Всё туман, туман… Загадки сплошные. Врет Настя или не врет? И куда все-таки подевался Семенов?
Самоваров откашлялся и сказал:
— Вот что… Все сроки вышли давно, а милиции нет. Должно быть, что-то случилось.
— Пустяки. Скорее всего, местный детектив отправился к теще на блины, — предположил Покатаев.
— Когда убит такой человек, как Кузнецов, а сообщил об этом такой человек, как Семенов?
— Может, бензина у них нет? Это ведь первобытная глушь. Я в прошлый раз проезжал Афонино и видел у копов ихних во дворе даже лошадку мохноногую. Под седлом. Готовую к подвигу, — вспомнил Покатаев. — Да и Владимир Олегович, увидя такую дичь, мог прямиком в город уехать.
— Что бы ни было, а негоже сидеть тут и гадать. Надо еще кого-нибудь послать на станцию, — твердо заявил Самоваров.
Покатаев вздохнул:
— Ладно, я отдышусь после этого неэкологичного обеда и пойду.
— Нет, в одиночку больше ходить не стоит, — возразил Самоваров. — Не нравится мне то, что здесь у нас делается. Может, правда — беглые бродят? Давайте так: Егор места знает, берет ружье, а с ним отрядим Валеру.
— Хорошо, — согласился Егор.
Проводив ребят, Самоваров присел на крыльце, там, где навес защищал от дождя. У него кошки на душе скребли. Если что-то случилось, что-то не так, то возможно, он сам в чем-то виноват. Тоже мне, гений сыска, взялся помогать угрозыску. Энтузиаст. Юный друг милиции. Ни черта ведь не соображает и до сих пор заподозрить-то толком никого не сумел. Все такие милые люди, если и вздорили с Кузнецовым, то по мелочам, из-за каких не убивают. Во всяком случае, не убивают такие приличные, в своем уме господа. Вот если бы здесь собралась шпана уголовная! Те за пятак прирежут; а эти — нет. Тут какая-то другая пружина. Или что-то стороннее. Не верится… Где же Семенов?
Сейчас вот и за ребятишек боязно. Но Егор стреляет неплохо, да и пошли они оба такие решительные. Теперь опять ждать. Самоваров решил вернуться в сарайчик, к своему блокноту — поразмышлять.
Дождь лил и лил. Удейка уже вздулась. «Реки мутно текут», — мрачно процитировал Самоваров. Входя в свою избушку, он обо что-то споткнулся и едва не въехал задумчивой физиономией прямо в верстак. Глянул под ноги и увидел этюдник, рядом стояла сумка из бортовки, в ней натянутые холсты. Дальше виднелся еще и клетчатый баул. На его собственной постели восседала Настя Порублева, такая же прилизанная, с противным оранжевым ртом, зато с непривычной просительностью в лице. Самоваров постарался изобразить радушие.
— Ну что ж, располагайтесь. Валера, я думаю, скоро вернется, и…
— Я не к Елпидину, я к вам. Можно?
— Ради Бога!
— Я там больше не могу. Мне страшно. Вот вы сказали, что случилось что-то с банкиром… Случилось. Я знаю. Не могу объяснить почему, но знаю. Там страшно: эти углы, вещи… И ведь кто-то из тех… кто там… умеет убивать! Я лучше у вас побуду.
— А меня, выходит, не боитесь?
— Нет, вас не боюсь. И с вами — не боюсь. Вы, наверное, и приемы знаете?
Боже мой! Детский сад. Перепуганная, а держится неплохо, не то, что Валерик. Жертвовать ради такой, парень, не стоит, но и ты ее не стоишь. Не по зубам.
Настя посмотрела Самоварову прямо в лицо и вдруг сказала:
— Я знаю, вы мне не поверили. Думаете, это я. Думаете, думаете, я же вижу! Только всё не так. Я не хочу, чтобы вы продолжали меня считать вруньей и еще… того хуже. Мне только с вами не страшно. Я здесь с вами побуду, и… вам, конечно, надо все знать, чтобы вы верили, что мне страшно. Если бы это я была — разве бы боялась так? Значит, вот вам вся правда: одна самонадеянная дура…
Она понимала, что надо все кому-нибудь рассказать, только говорить нужно быстро и бесцветно. Слов восемь-десять, чтобы было понятно, и — всё. Не размазывать этот позор! Как одна самонадеянная дура, набитая дикими фантазиями, терзалась целый день, идти или не идти писать свечку к гению, который перед тем ее недвусмысленно лапал. Скучный тот день угас, и сомнения тоже растаяли. Идти! А что такого? Она дала понять, что его поползновения ей безразличны, и она хочет, чтобы он отнесся к ней так же, как, скажем, к Валерику. Разглядел же он в ней талант, сам утром говорил! Что же, если она девчонка, значит, сразу в постель? Она просто человек, которого надо уважать. Она будет держаться серьезно. Если потребуется — скажет ему все начистоту, а там видно будет. Что-то говорило ей, что должно получиться. Он очень неглуп и сообразит, что она не такая… Короче, в назначенное время дура постучалась к гению.
— Войдите.
Он уже писал. И то, что он писал, было великолепно. Она, стараясь не глазеть по сторонам, устроила на этюднике свой холст, уставилась на свечку, троящуюся в зеркалах, взяла уголек. Гений спокойно писал. Ее уголь зашоркал по шершавому холсту. Постановка страшно красивая. То-то в институте ахнут. А он работает себе, на нее даже не глядит. Все хорошо! Все хорошо!
И тут он подошел сзади. Она вся напряглась. Господи, неужели снова плохо закомпоновала? Вроде, нет. И в пропорциях не наврала. Он ровно, шумно дышал сзади, большой и горячий. Она дернулась, хотела вопросительно оглянуться, но вышло только, что он ткнулся ей в шею жесткой бородой и схватил за локти. Опять! Все-таки!..
— Какая гадость, — прошептала наконец дура.
— Гадость? — зашептал в ответ и гений. — Ты что же, дразнить меня вздумала?
Она снова задергалась, высвободила руки, схватила уголь и принялась поспешно и плохо рисовать свечку. Он все еще стоял сзади. Она не выдержала, снова оглянулась и увидела, что он спокойно улыбается.
— Давайте работать, — примирительно пролепетала она. Ну что за дурища!
— Работать? А в «А.Н. коллекции» выставляться? А в Германии? Ты не про это разве утром говорила?
— Про это. Что, не подхожу?
— Отчего же? Туда всякий почти подходит, только берут не всех.
— Чтобы взяли, это необходимо?
— Ага. А ты как думала? Вот парень закомплексованный, который притащил тебя сюда… Ты ведь и в подметки со своей живописью ему не годишься. Ему-то Богом дадено. Но ведь бедолаге еще сколько придется головой в стенку биться! А ты просто так хочешь, за улыбочку?
Она стояла, как громом пораженная. Так она — недоталантлива? Недодал Бог? Неужели?
Он будто мысли ее прочитал:
— Да не переживай так. Я же говорил, что ты не без данных. А при такой-то милоте все будет чудно. Иди сюда!
Он все тянул к себе остолбеневшую дуру, а она все лепетала:
— Я так не могу… Может, сначала в «А.Н. коллекцию»?.. потом, может, мы с вами подружимся… я привыкну…
Гений расхохотался:
— Вот это подход! Стулья утром, вечером деньги? А я ведь сам дорогого стою!
Хохотал, потому что видел — не может дура вдруг распрощаться с намечтанными успехами, даже кокетливо улыбнуться пытается. Сделка так сделка.
Гений тоже улыбался:
— Нет, стулья сегодня. Прямо сейчас!
Он притиснул ее к себе, она уже обреченно закрыла глаза, но вдруг метнулась в сторону.
— Что, опять? — удивился он.
— А когда пойдем в «А.Н. коллекцию»? — и на гения уставились отчаянные хрустальные глаза.
— Так будет же тебе «А.Н. коллекция»!
Он был сильный и опытный, он тотчас же залепил дуре рот мокрым поцелуем и стиснул железно. Ей показалось, что она закричала, но из-за поцелуя не услышала своего голоса. Зато вдруг услышала чужой, Оксанин, снизу, и грохот мебели в «прiемной». Вот стыд какой! Кричать, как эта заполошная красотка? Гадко, гадко, гадко! Как больно вцепилась в грудь его пятерня — каждый палец впивается своей болью. Нет, это только боль осталась, а грудь он уже выпустил…
Он швырнул ее на диван так, что она даже подпрыгнула, как на батуте, и рухнул сверху всей своей тяжестью, своими губами, своей бородой, от которой уже горело все ее лицо. Боже, Боже! И не пошевелиться, а уже туго свистнула «молния» на ее джинсах, и дура так явственно почувствовала нежность своей кожи рядом с его жесткой, как наждак, рукой. Нет! Нет! Нет! Кричать? Кто услышит? Дура закинула голову назад и в странном, опрокинутом ракурсе увидела совсем рядом с диваном низкий столик. На нем Кузнецов держал бутылочки и пузырьки с разбавителем, маслом, лаками, даже с какой-то наливкой, все вперемешку. Столик покрыт вязаной крючком скатертью — старой, кое-где порванной и аккуратно зашитой. Жидкости разноцветно просвечивали, в каждой бутылке болталось желтое пятнышко свечного пламени. Дура, задыхаясь, выбросила руку вверх, дотянулась до края скатерти, всунула пальцы в дырки вязания и дернула изо всех сил. Бутылки не враз качнулись, звякнули друг о друга и с грохотом обрушились на пол.
Гений мигом вскочил — должно быть, от изумления. Вскочила и дура. Бросилась к двери, обеими руками задергала ручку. Закрыто! Закрыто! Она гневно обернулась и тут же снова уткнулась в дверь: гений невозмутимо застегивал ширинку и улыбался:
— Ну, как урок? Больше в такие игры не играй. И не продавайся, не продавайся! Хотя бы до тех пор, пока есть что продавать. А дверь толкай от себя, и посильнее. Не заперто.
…Вот все это Настя и рассказала Самоварову. Нет, не все, конечно, — так, общими, безопасными словами: гений к ней приставал, она перевернула столик и убежала; он, кажется, и хотел-то ее только проучить. Никакого криминала. Остальное останется лишь в памяти. Не рассказывать же, в самом деле, что утром при известии о смерти Кузнецова утихшая было боль от пяти железных пальцев вдруг жарко прихлынула, как будто мертвец снова схватил ее за грудь. Она едва не потеряла тогда сознание. Страшно, гадко, срамно. Но она сама во всем виновата.
Самоваров слушал внимательно. Врет, конечно, девица в деталях — женщины всегда выставляют себя в лучшем свете. Даже кается сейчас с позой: вот, мол, какая я, себя не щажу. Хотя жалкая очень. Самоваров попытался ее утешить:
— Да, да, я тоже думаю, что Игорь Сергеевич хотел вас только припугнуть. Знаете, он очень не любил корыстных людей. Жаль, никто вас не предупредил. Но он не способен грубо обидеть женщину. Не было такого никогда. Так что, уверен, до самого худшего не дошло бы.
— Конечно, я тоже теперь понимаю. Господи, какая я дура!
Дура-то дура, согласился Самоваров, а что если Кузнецов в самом деле ее изнасиловал? Живой же человек, а девчонка сама нарывалась. Смогла бы она с досады ножиком его ткнуть? Вполне. Холодная, головы не теряет, самолюбие бешеное. Она?.. Все бы хорошо, да одно мешает: этот совок, эти тряпкой растертые лужи. Рядом убитый лежит, а она чистоту наводит? Зачем? Сделать так, чтобы было совсем чисто, будто никакого столика с тремя десятками вонючих бутылочек не существовало в природе? Хладнокровие… Но не до такой же степени! Это при реальном риске быть застигнутым кем-то из поздношатающихся гостей за странной суетой подле свеженького трупа. Кто же подмел? Валерик? Что-то уж слишком дрожит и рвется на подвиги. Может, он — ножичком? Сходит с ума по этой спесивой особе, а тут предмет воздыханий волокут в постель без малейшего намека на серьезные намерения. Нет, жидковат, да и Кузнецова прямо боготворил. Но кто-то же убрал эти проклятые склянки! Самоваров поймал себя на том. что уже второй раз утыкается в битые стекляшки, и вновь ничего путного в голову не приходит.
Задумавшись, он даже забыл про сидевшую рядом Настю. И вдруг она вцепилась ему в плечо.
— Вы слышали?
От неожиданности он вздрогнул.
— Что такое?
— Разве вы не слышали?
— Да что, что?
— Выстрел.
8. К обрыву и обратно
Валерику Егор не нравился, не нравилась и перспектива идти с ним вдвоем. Но сидеть под одеялом и дрожать от черных мыслей было еще хуже. Нужно хоть что-то делать, хоть ногами двигать. Только бы не пришлось по дороге вести светские беседы.
Егор, к счастью, был молчалив и быстро шел по узкой тропинке. Валерик еле за ним поспевал. Высокая, серая от дождевых капель трава била по ногам, брюки мгновенно вымокли. Чужие резиновые сапоги запаздывали при каждом шаге, так были велики и тяжелы. Валерик боялся потерять их и ступить босой ногой в воду. Он быстро выбился из сил, отстал и не решался окликнуть Егора. Наконец тот сам почувствовал, что никто за ним не идет, и оглянулся:
— Что, устал?
— Да. И сапоги не мои.
— Отцовы.
Лицо Егора под нахлобученным на глаза капюшоном казалось незнакомым, грубым, неприятно губастым.
— Ну, давай отдохнем.
Валерик задышал старательно и часто.
— Посмотри, — обратился к нему Егор. — Тропинка-то всюду ясная. Разве можно заблудиться?
— Нет, конечно, — согласился Валерик, придыхая. — Не пойму, чего я так запыхался?
— В гору идем. Не заметил? Это потому что лес. Сейчас спуск будет. Потом еще гора. Вон там похуже — круче, скользковато. Зато на станцию скоро дойдем. Ну, что, отдышался?
Здесь, в лесу, в видавшей виды штормовке и негнущихся резиновых сапогах, Егор напоминал не рекламного зубоскала, а, скорее, деревенского парня, крепкого, косноязычного, зато знающего все грибные и рыбные места. Конечно, он ведь почти вырос здесь, он, наверное, такой и есть.
Они снова двинулись по тропинке.
— Ты на каком курсе? — спросил Егор.
— Третий кончил.
— У Саакишвили?
— Нет, у Пронько.
— А! У дяди Миши! Он ничего. Я ведь тоже заявление подал, а вот не знаю, буду ли поступать.
— Что так?
— Не знаю. Я и в художественной школе учился. Бросил. Нудно. Хочу теперь на дизайн. Только аккуратности мне не хватает.
— Научат.
— Угу. А ты из ряда вон. Способный. Отец говорил.
— Да ну… — смутился Валерик.
— Говорил. Девчонка эта, Настя, не очень. Смазливая, вот все от нее и тащатся, а она нос задирает. Зато ты — это что-то…
Неужели Кузнецов так говорил? Валерику даже легче идти стало от неожиданного счастья. Дождь почти перестал, сеялся холодной пылью, но небо было глухое и темное. Начался крутой подъем.
— Тут можно было бы горой еще короче пройти, — заметил Егор, — только круто, по траве ты на своих мокроступах поедешь. Или рискнем? Срежем угол?
— Нет уж, давай по тропинке, как обещали.
Раскисшая земля елозила под ногами. Валерику пришлось хвататься руками за траву, за шершавые стерженьки подорожника, чтобы не съехать вниз. Он сильно наклонился, почти полз на четвереньках и не видел перед собой ничего, кроме зыбкой шоколадной полоски тропы.
Они шли теперь по краю обрыва. Распадок курился туманом; там, кажется, шумела невидимая река. Крутой срез горы порос мелковатыми деревьями, вцепившимися в почву с заметным усилием. Валерик старался не смотреть на этих скрюченных страдальцев и на торчавшие кое-где большие острые камни. Поэтому он почти наткнулся на Егора, который вдруг встал, как вкопанный.
— Глянь-ка!
Валерик выпрямился, посмотрел вниз, куда показывал Егор. Как раз под ними, на склоне тускло серебрилось пятно щегольской куртки Семенова. Совершенно неподвижное пятно.
— Погоди, я гляну!
Егор стал осторожно спускаться, придерживая ружье, но скоро снова остановился. Валерик двинулся вперед по тропинке, которая шла тоже немного вниз. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. Банкир Семенов, свесив руки, парил над распадком, и голый ствол жилистой сосны, пробив насквозь его тело, торчал в спине из поясницы. Лица не было видно под козырьком синей шапочки, белые ручки кукольно-недвижно торчали из рукавов.
— Не подходи! — крикнул сверху Валерик. Егор подумал и вернулся, но Валерик уже успел пожалеть, что позвал его:
— А вдруг он еще живой?
— Как же, живой… Насквозь прошло. Знаю я это дерево. Еще в прошлом году какой-то турист-идиот его ломал да рубил. Не смог ни черта, расщепил только. Такая получилась рогатина!.. Да вон — из спины торчит!
Егор говорил, едва шевеля нижней губой. Розовость сбежала с его лица.
— Что делать-то будем? Может, снять его?
— Нет, натопчем, следы уничтожим, — Валерик возразил убежденно, хотя его подташнивало, — Глянь, вон ты шел!
Действительно, Егор пробил заметный след и на траве, и на зыбком склоне.
— Он что, поскользнулся? Разве тут можно поскользнуться? — продолжал Валерик.
— Вряд ли… Смотри, какая здесь тропа удобная. А над обрывом так и вовсе площадка, как, знаешь, в парках бывают для обзора. Да и поскользнулся бы — покатился да и все. Ну, сломал бы что-нибудь, ну, синяков набил… Большое дело! — Он помолчал и задумчиво добавил: — Ловко его спихнули. Аккуратно. И место с умом выбрали…
У Валерика от ужаса киселем поплыли ноги, и он осел в траву.
— Не сиди на мокром, — покровительственно бросил Егор и взвел курок. От выстрела волной качнулся воздух, загудело в распадке эхо.
— Ты что? — удивился Валерик.
— Пусть. Кто-то же его скинул. Вот пусть знает, что мы с оружием, и не лезет.
— Ты думаешь?..
— Чего думать? Кто-то ведь и отца убил. Теперь этого вот…
— Но почему?
— А я знаю, да? Пошли назад!
— Почему не вперед?
— Нет, надо, чтобы дядя Коля знал. Он ведь на меня думает, что мне выгодно… Даже по-латыни выразился, что выгодно. Давай так: ты вперед иди, на станцию, а я вернусь. Можно и наоборот.
— Не пойду я один.
— Тогда вернемся, а потом на станцию вместе сбегаем.
Они еще немного потоптались на площадке и, двое перепуганных мальчишек, бросились бегом назад по тропе. Дорога шла легче, грязь и усталость уже не замечались. Валерику все казалось, что вслед им злорадно поскрипывает под тяжестью банкирского тела загубленная сосна.
Самоваров не знал, что делать. Он отвел Настю к Вальке пить чай, а сам отправился на Егорову верандочку. Отсюда видна была тропинка, по которой ушли ребята, и здесь можно было без помех открыть блокнот и карандашиком разгрести на правильные кучки всю груду несуразностей, которая заполнила его мозги. Итак, Настя… И Валерик…
Что-то ему мешало. Сквозь сырую свежесть полз, ширился и обволакивал ноздри аромат дорогих крепких духов. До чего сильно и ненужно пахнут духи в дождь! Самоваров оглянулся и увидел в дверях Оксану. Значит, угадал. Он-то сразу понял, кто гонит эту удушливую волну. Оксана стояла неподвижно, ее накрашенный рот пылала громадной ягодой.
— Скажите, что это в лесу было? Стреляли?
Голос у нее оказался тихий и тусклый. Ничего, лишь бы не орала.
— Похоже на то, — отозвался Самоваров.
Она покачала головой:
— Как здесь страшно. Наверное, орудует маньяк. А если это сексуальный маньяк?
— Почему обязательно сексуальный?
— Я видела в фильмах. Они убивают красивых девушек…
— Игорь Сергеевич никакая не девушка.
— Вы хоть и милиционер, а ни черта не смыслите. Сейчас всюду маньяки. Я как вспомню вечер вчерашний: дождь, убийство…
— Ну, положим, про убийство вы вечером не знали.
— Все равно! Все не клеилось. В мастерской цапались, здесь, в доме, мыши; Анатолий хотел меня успокоить, предложил карты, но никто играть не захотел. Разбрелись. — Скука. Пришлось спать лечь.
— Бедняжка! Вы что же, рано легли?
— Ну да. Как только ушла эта девушка, Настя, и Владимир Олегович. Парень на его диване дрых. Тоска смертная.
— Сразу, поди, и заснули после стольких-то волнений…
Она покосилась на него презрительно:
— Сразу! Мы же здесь за весь день впервые с Анатолием вдвоем остались. Естественно, он возбудился. Он рядом со мной шалеет.
Заметив смущение Самоварова, она решила его подразнить:
— Представьте, мы занялись любовью. Для своего возраста Анатолий очень сексуален. Ну, и опыт. У него бывают, правда, и срывы, но вчера он был великолепен. Я кончала пять раз. Не верите? Как хотите. Это было нечто. А хотите, я вам сейчас минет сделаю? Вы знаете, что это такое? Пробовали уже? Нет? Бедненький… Это делается так…
Чтобы прервать поток ее издевательской болтовни, Самоваров участливо спросил:
— Потрудившись, вы наконец-то уснули?
— Да уж, воспитывали в ваше время! В СССР сексу нет! Даю совет: после секса хорошо восстановить силы. Мы коньячку хлопнули. Потом только заснули.
— Да ну? А как же Настя в пикантном виде? Вы же ее видели? А Валерия под кустом?
— Настя явилась, когда коньячок пили. А эта толстозадая… Это потом. Позднее. Это я ночью уже просыпалась.
— Так вас сморило после прихода Насти?
— Не сморило, что за словечко! Это профессиональное. Я рано засыпаю, потому что утром надо выглядеть. Утром работа. Модели должны много спать.
— Ясно. С двенадцати до двух вы спали.
— Да уж. Ничего не могла с собой поделать.
— А Анатолий Павлович? И его сморило?
— Наверное, — пожала плечами Оксана. — После секса-то! Но я чего пришла: где ваша милиция? Когда нас отсюда вывезут? Чего вы тянете? — в ее голосе прорезались давешние визгливые нотки.
— Вы вообразили, что вас вывозить отсюда будут? — удивился Самоваров. — На белом вертолете? А не угодно ли три часа пешком до станции? Это хоть сейчас. Вас ведь никто не держит.
— Вы такой же хам, как и ваш Кузнецов. Ныне покойный.
Она скрылась за дверью, и постепенно утянулся за нею шлейф дорогой вони. Самоваров облегченно развернул блокнот, и снова зря: по тропе, неловко волоча ноги, быстро шагали Егор с Валериком. «Слава Богу, хоть живы», — обрадовался Самоваров и стал спускаться вниз. Дуралеи резво мчались к воротам, к Дому, к «прiемной», так что Николаю долго пришлось размахивать руками, прежде чем они его, наконец, заметили и подошли вдоль прясел к лиственницам. На задах Дома была глухая стена, никаких окошек, только дверь на верандочку. Их никто не видел.
— Ну, что случилось?
— Владимир Олеговича убили, — неровным от бега голосом доложил Егор.
Самоваров так и повис на пряслах.
— Как? Давайте толком.
Начал Валерик:
— Мы шли по тропе, и там, где обрыв, внизу…
Дальше шли слишком страшные для него картинки, и инициативу взял Егор:
— Дерево там расщепленное… Там он, на нем.
— Как это — на нем?
— Проткнутый. С обрыва его столкнули или сбросили прямо на это дерево.
— А сам он не мог упасть? Поскользнуться?..
— Ну да! Там как раз над этим местом площадка широкая такая. Трава. Сидеть даже можно. Тут разве что прыгнуть надо было, как с вышки в бассейне.
— Ограбили его? Может, бичи?
— Не похоже… Сумка на плече так и висит, и курточка эта классная на нем, и остальное все…
— Чего же вы назад притащились? Это вы стреляли? Зачем?
— Мы вам сказать. И страшно. И не догадались.
Две пары испуганных глаз смотрели на Самоварова. Ребятня! Пропадешь с такими сыщиками!
— Вы хоть посмотрели, может, там натоптано — боролись, дрались? — допытывался Самоваров. — Называется «следы борьбы»… Ветки поломанные и все такое…
— Ничего там нету, — уверенно заявил Егор. — Спихнули его с обрыва. Только зачем?
— Это как раз понятно, — сказал Валерик. — Помните, он, когда уходил, сказал, что видел или слышал что-то, но не уверен… Что-то такое… Вот и не дошел.
— Похоже, — согласился Самоваров. — Давайте, ребята, бегите ко мне в мастерскую, посидите там, отдышитесь. Кажется, никто еще вас не видел. Учтите: на станцию вам все-таки придется идти. Только без выкрутасов, по большой дороге.
Да, дела! Самоваров смутно стыдился: зачем Семенова отпустил? Ведь слышал, как тот бормотал какую-то ерунду про свои сомнения. И видел, как бедный банкир убегал от Дома с выпученными глазами, до смерти перепуганный. И вот пожалуйста… Действительно, до смерти. Буквально.
Даже пацану понятно, что здесь не несчастный случай. Бичи? Почему тогда не ограбили? Нет, это тянется один сюжетик с Кузнецовым.
По наружной лестнице спускалась Инна. Она выглядела отдохнувшей, но какой-то потускневшей. Уже вся в черном. Впрочем, у нее полно черных одежд.
— Николаша! Что, милиция уже была?
— Нет еще.
— Как же так? Третий час, — удивилась она.
— Инна Ивановна, вы приготовьтесь… Дела идут пока неважно. Вернее, новости неважные… Дело в том, что погиб… вероятно, убит Владимир Олегович Семенов. В лесу. Он не дошел до милиции.
— Но это… это…
— Да. Ужасно. Ради Бога, постарайтесь успокоиться!
Она закрыла лицо руками в серебряных кольцах.
— Я не могу, я к себе пойду. Туда — не хочу… — она мотнула головой в сторону «прiемной». Оттуда доносилась неясная сварливая тирада Оксаны. — Господи, как я одинока…
Она медленно побрела наверх.
Самоваров без особого сочувствия проводил ее взглядом. Он рвался к своему блокноту: копошились в голове, сумбурно сцеплялись и разлетались вдребезги обрывки слов, тускнели и снова проявлялись в памяти лица — странными рядами, чуть ли не в рамочках… Что-то брезжило, но бессловесно, бесплотно. Расчертить бы, разложить, выстроить все… Но и на обитателей Дома взглянуть любопытно.
Здесь, в Доме, все, как быть должно: надутая Оксана, унылая Валька и философически мужественный Покатаев. С Оксаной он явно только что препирался: она снова с ногами на постели, обиженно уставилась на дощатый тыл какого-то шифоньера. Покатаев развалился в плетеном кресле; а чтобы не вонзались в спину выщербленные прутья, подстелил плед. Ловко устроился. Смотрится превосходно.
9. Версии А.П. Покатаева
— А, Порфирий Петрович! — иронически ухмыльнулся Покатаев, когда Самоваров подсел к нему, подвинув табурет. — Ко всему приглядываетесь, всех душевно расспрашиваете? Девчонки вам исповедуются, как они какают под кустиками. Да вы виртуоз! Вы могли бы большие деньги на этом зарабатывать! Ну и как, огорошите нас разгадкой страшной тайны?
— Что, если огорошу?
— Ого! Вы серьезно? Вот, значит, как у вас: ходите-ходите, а потом — раз, и в каталажку злодея!
— Нет. Даже если б хотел — не могу в каталажку. Я ведь даже вещественными доказательствами заниматься не стал. На это специалисты есть.
— Разочаровываете. Я думал, вы и вправду шерлок-холмсничаете. Ну, там — сигаретный пепел, газета за девятое число, дырка в ботинке и прочее…
— Я думаю, без пепла можно обойтись.
— И убийцу укажете?
— Скорее всего, укажу. Не знаю, загрузится ли он в каталажку. Истина и правосудие — суть вещи разные. Доказательства, материальные свидетельства — этого может и не быть. Но что к чему, разобраться можно.
— Так-так. Значит, психология в ход пойдет? Папа Фрейд? Так, Порфирий Петрович?
— Все пойдет в ход. Я знаю, правда всегда видна. Кончики торчат непременно. Кто-то что-то видел, кто-то что-то думал, кто-то на кого-то обиделся, кто-то что-то потерял. Жизнь очень махровая. Человек только примитивную штуку придумать может, а уж думает — Творца перехитрил. По-моему, таракан сложнее компьютера. Жизнь не обманешь, она покрутит-покрутит, посмеется и выдаст все равно. Это ведь только в детективных романах старая дева тюкнет здоровяка лорда мешочком с песком, да еще рассчитает при этом до секунды, чтоб все случилось непременно под базальтовой колонной, перед кустиком, допустим, жасмина. Живьем так не бывает.
— А если злодей умный очень? Поумнее э-э… ну, скажем, вас? Перехитрит, зараза!
— Вряд ли. Тут ведь как? Злодей придумал что-то и под свою злодейскую колодку всю жизнь мысленно подогнал. Кажется ему, гордецу, что комар носа не подточит. Ан нет! Как раз комар пролетит и все дело ему испортит. Мы-то его колодку не знаем и видим все куда путанее и сложнее. Вот пусть он свою колодку пристраивает, а я и колодку увижу, и то, что из-под нее торчит.
— Значит, вы не влезаете в шкуру злодея, не пытаетесь глядеть на мир его глазами, как настоящие сыщики-психологи, а наоборот, хватаете все, чему в понятиях его места нет? Неглупо. И много злодеяний раскрыли вы подобным образом?
— Мало.
Покатаев удивился:
— Ну хоть бы тут похвастались! Соврали! Ну что вам стоило?!
— Пусть злодей красуется, — усмехнулся Самоваров. — Пока на свободе.
— Похвальная скромность. Вы скромный романтик кустарного сыска. Снимаю перед вами… Ничего не снимаю, поскольку не ношу шляп. Что же предложить вам вместо шляпы, а? Рассказать разве, по примеру слабого пола, как я в кусты бегал, сколько раз и по какой нужде?
Самоваров терпеливо глотал издевки, потому что Покатаев разговорился. Соскучился он, наверное, сегодня. Сплошная нервотрепка. Переживает ли серьезно смерть друга? Осунулся, конечно. Мужественные складки лица стали походить более на морщины. Но нет, не убивается. Да и что заставило бы его убиваться? Глаз — гвоздь, верно Валька сказала. Весь он железный — тренированный, затверделый, желчный. Как они с Кузнецовым дружили столько лет?.. Странная штука школьная дружба: неотвязно лепит друг к другу случайных и далеких людей. Самоварову казалось, что встреться ныне незнакомые Кузнецов и Покатаев на каком-нибудь банкете, вряд ли бы захотели и парой фраз переброситься. Хотя, кто знает…
Что же теперь скажет единственный друг? Самоваров постарался улыбнуться поглупее и попросил:
— Вместо шляпы, Анатолий Павлович, расскажите мне, пожалуйста, то, что все рассказывают — как вы провели ночь.
— А! Все-таки про кусты? — улыбнулся Покатаев. Он так охотно улыбался, что Самоваров окончательно уверился — зубы вставные. Почему-то обладатели дорогих зубных протезов поминутно и с гордостью их выставляют. Это всегда удивляло Самоварова — ему не приходило в голову, скажем, так же гордиться и демонстрировать встречным-поперечным свою прекрасно выполненную искусственную ногу.
Покатаев меж тем деланно нахмурился, изображая раздумье.
— Ну, если уж вам так хочется… Скучный был вечер. С Оксаной все возился. Вы у себя в сарае, поди, слышали, как она вопила? Ужас. Хотя, как бросить в бедную девочку камень? Она в звезды готовится, а звезд без скандалов не бывает. Пусть репетирует. Она долгонько верещала, пока все не разбежались от ее визга, и мы не остались одни вон на том роскошном ложе с отколупанными розами. Что может успокоить бабу — любую? Только секс. Оксана далеко не Мессалина, но никогда не откажется, поскольку не быть сексуальной неприлично. Честно становится в стойку и делает ротик кошельком. И я не против. Согласитесь, она ведь просто куколка. Вы, как мужчина, меня поймете. А что потом?.. Какое-то время спустя я задремал. Я бы задремал и сразу после… но опять же, приличия требуют бормотать что-то вроде: «Как мне хорошо с тобой», и все такое. Она выучила и вовсе чепуху — «Ты такой эротичный!» Фальшиво и скучно, как рукопожатие после футбольного матча. Но, исполнив ритуал, можно спокойно отрубиться, что я и сделал.
— А Оксана? Тоже заснула?
— Наверное. Но вы же раздобыли драгоценные сведения о том, что она ходила-таки до ветру.
— Ее видели.
— Вы правы! Ничего от вас не скроешь! Только вот кто Кузю угробил?
— А вы сами как думаете?
Покатаев сощурился:
— О! Тут, как в детективном романе — у каждого из собравшихся в уединенном замке (заснеженном поместье, на необитаемом острове) имеется причина (да и возможность, чего там!) прикончить главного героя. Такой уж был Кузя титан Возрождения, что всем успел стать поперек горла. Или почти всем.
— А все-таки?
— Что ж, давайте по порядку. Номер первый. Наследник всего этого дощатого и клеенчатого великолепия Егорушка. Пустой, примитивный малый, таскал у папы деньги и изображал золотую молодежь. Дискотеки, тряпки. Зеленые кушает мешками. Сытый, тренированный, в мозгу полторы извилины. Все теперь его. И здесь, и в городе. А там, знаете ли, не бабушкины комоды, а куча папиных картин. Вы ведь в курсе, как они продаются? Великолепная квартира в центре, где помимо Кузиной мазни есть и иконы, и кое-какой приличный антиквариат, не то что здешний хлам. Ну, как, стоит игра свеч?
Самоваров ждал продолжения.
— Теперь номер второй, — Покатаев даже загнул коричневый загорелый палец. — Маргарита, то есть Чадыгина Инна. Муза и вдохновительница. Вы знаете, что Кузя готовился ее бросить ради невесты из нефтяного «ёбщества»? Вы видите, как она бесится? Неглупая, цепкая бабенка, привыкла греться при его славе, а тут — под зад коленом. Она годами вымуштровывала себя в какую-то мадонну. Особа, конечно, в своем роде темпераментная, до Кузи по мужикам потаскалась, но перебесилась, нашла гавань, уверена была, что в конце концов женится он на ней. Ан хрен вам! Что? Чем не мотивчик?
Самоваров согласно кивал головой. Покатаев потерся, поустраивался в своем кресле и продолжил:
— Какой у нас теперь там номер? Третий? Дурища Валька. Случилось Кузе сорвать эту захолустную розу — я бы сказал, репу, потому что грешен, не люблю толстопятых. Попользовался — и надоела, пошла вон, в домработницы. А девка-то тупая, нравная и сильная, как трактор. Вчера, говорят, «Лимонной» насосалась и стала совершенно невменяема. Видывал я ее в таких обстоятельствах. Да и вы тоже видали. Вспомните: не далее как три недели тому назад била тут банки с квашеной капустой и кидалась со сковородником на профессора Моршанского. Как ее сбросить со счетов? Кузя был слаб, увы, на баб. Вашей милиции еще придется попотеть с гаремом, который он себе тут собрал. Если уж зашла речь о гареме, так сразу займемся номером… — Покатаев сверился с загнутыми пальцами, среди которых масляно поблескивал золотой перстень, — номером четвертым. Студенточка. Вся неземная. Поминутно этюдики пишет акварелькой. Прибыла выбиваться в люди, то есть лечь под Кузю. Может, таких именно планов поначалу и не было, но дело пошло резво. Кузя взялся за нее беспощадной рукой профессионала, тоже чего-то вдруг раскочегарился. Мордашка, правда, у нее неплохая, глазки эти, как толченый лед. Но ноги непростительно коротки. Кузя был, правда, недостаточно цивилизован, чтобы обращать внимание на такие важные вещи. Пошла девочка в ход. Сама морщится, а в мастерскую-то бегает. И что же? Этой ночью является в виде картинки Грёза «Разбитый кувшин» — помните такую? Волосья всклочены, на губе засос, и штанишки застегнуть забыла. Зато на мордочке праведный гнев. Значит, не получила, чего хотела за небесную красоту. Она, поди, планы строила насчет своих акварелек, а Кузя нормальный мужик — отделал ее в койке и уверен, что ей хватит полученного удовольствия. Нет, я не исключаю и самообороны: детка отбрыкивалась, ножик случайно попался под руку… Почему нет?..
Покатаев заметно упивался своей ролью.
— Ну, что осталось? Номер пятый. Квартирант ваш малохольный. В грезовскую девку влюблен, как тетерев. Забавно было смотреть, как он зеленел при приближении своей феи к Кузе. За два дня похудел вдвое, скоро останутся только нос да еще зубы, для скрежета. Когда же красавица демонстративно пала… Ну, дальше додумать нетрудно. Что скажете, а?
Самоваров развел руками:
— Что тут скажешь? Умри, Денис… Только отчего же, Анатолий Павлович, вы себя сюда не занумеровали? Если не ошибаюсь, шестым номером?
— А это уж вы сами пофантазируйте. Впрочем, я предмет неблагодарный — спокойный, состоятельный, удачливый господин. Все у меня, как надо.
И Покатаев снова выказал безжизненную белизну своих зубов.
— А что за дело вас тут задерживало? — въедливо осведомился Самоваров.
— Какое дело?
— Вы сказали вчера Оксане, что уехать не можете из-за какого-то дела. Мне верно передали?
— А, вы об этом! Чего не наболтаешь, чтобы угомонить расходившуюся бабу! А дела у меня здесь одни и те же. Рутина страшная. Я Кузины картины за границей продаю. Надо же помогать чудаку, который глаз не хочет казать из этой берлоги! Вот через две недели еду в Ганновер, там у меня галерейщик знакомый. Ждет. Да и Кузя не зевал — смотрите, сколько навалял. Готовился. Не знаю, как теперь с поездкой и быть. Как все некстати.
— А выгодное дело картины продавать?
— Да что вы! Так, пустяки, гроши, комиссионные. По дружбе ведь! Я ведь между делом холсты сбываю. У меня больше дела фруктовые: ананасы, папайя, маракуйя…
— Теперь-то для вас галерейный бизнес закончился? Жалко, небось?
— О чем вы? — пожал плечами Покатаев. — Какой это бизнес! Кузи нет — вот это беда…
Он горестно сжал послушные мужественные щеки, опустил глаза. Да, умеет заканчивать разговор. Но Самоваров не утерпел:
— А знаете, Анатолий Павлович, главную-то новость? Семенов убит.
Покатаев вскинулся:
— Как? Когда? Где?
— В лесу его распяли, на дереве. Не дошел до милиции.
Покатаев скорбно потер лоб загорелой рукой:
— Ужас какой!
— Ну, что скажете? Чья работа? Девочки с акварелькой?
— Да ну вас, — поморщился Покатаев. — Это совсем другое. Почему убивают банкиров? Деньги. Политика. Короче, заказ. По-моему, с Кузей никак не связано. А я еще удивлялся, чего это Владимир Олегович так расслабился? Открылся, охрану отпустил. Бери голенького! Слушайте, а может, и Кузю убрали для того, чтобы отвлечь, следы замести?
— Ну, это вы хватили! — не согласился Самоваров. — Вы что, не знаете, как профессионалы работают? Станут они с Кузей да с деревом возиться! И потом, ведь совершенная случайность, что именно он на станцию пошел. Киллер бы сделал дело и сразу скрылся. А Кузнецова убил кто-то из находившихся ночью в Доме.
— Вот-вот! — зубы Покатаева снова сверкнули посудным блеском. — Хитро ведь сделано! И знаете, если уж и был сюда заслан киллер, то им может быть только одно лицо.
— Кто же?
— Да вы. Вы, Николаша!
10. Черная аура
Эффект всей сцены испортил Егор. Он просунул в дверь одну только смятенную физиономию с выпученными глазами, а фигура пряталась из соображений конспирации: дядя Коля велел не высовываться.
— Дядя Коля! Дядя Коля!
Самоваров нехотя устремился на этот заговорщический шепот.
— Ну, что еще?
Егор ухватил его за руку и поволок прямо под зябкую дождевую морось.
— Тут такое!..
— Куда ты меня тащишь?
— В комнату мою. Там… там…
Комнатка Егора, как и Валькина, была внизу, у кухни (Инна жила наверху). Здесь сидели на Егоровой кровати совершенно потерянные и деревянные Валерик с Настей. Посреди комнаты на тусклом неметеном полу красовалась большая дорожная сумка, похабно раскрывшая ярко-зеленую пасть. Егор боязливо ткнул в нее пальцем.
— Вот.
Самоваров смотрел на него недоумевающе, и Егор вынужден был пояснить:
— Я озяб что-то. Хотел майку поддеть. Вы нам разбегаться не разрешили, мы вот вместе сюда и пошли. Открываю сумку, а там… Вон она, майка… А вон он…
Самоваров заглянул в сумку. Она была почти пуста. На дне комом свалялись какие-то тряпки. Посверкивали целлофаном валики печенья с кремом, пакетики чипсов. Поверх всего демонстративно лежал большой нож. Из кузнецовских — вроде сапожного с гладкой липовой рукояткой. Кузнецов такие любил, и их много было в мастерской. Вероятно, и убит он был таким, может быть, именно этим.
— Я его сюда не клал! Его здесь не было, — заныл Егор.
— Ты когда последний раз в сумку заглядывал?
— Вроде вечером вчера. Или утром. Не помню! Но его там не было!
— В руки вы нож не брали? — спросил Самоваров.
— Нет, — ответил за всех Валерик. — Мы же понимаем, что тут могут быть отпечатки пальцев.
— Думаю, никаких отпечатков на нем нет, — вздохнул Самоваров. — Разве что где-нибудь на закраинах. Ладно. Сумку эту я запру в верхнем чулане — там замок получше. А вы марш ко мне. Чипсы хоть возьмите, погрызите. Я сейчас к вам приду.
Час от часу не легче. Это уж совсем ни на что не похоже! Вернее, очень даже похоже на средней руки детективный романчик. Орудие убийства подбрасывается лицу, вроде бы подозрительному, но на деле невинному, аки голубь. Егор? Сам? Слишком хитро и рискованно. Прямолинейный Егорка утопил бы ножик в сортире. Кто-то либо простодушно спасается по романным рецептам, либо решил поиздеваться. Нет, хватит бегать. Сядь и подумай!
Самоваров устроился на лестнице, прямо под крошечным окошком, струившим мутный невеселый свет. Поставил рядом с собой Егорову сумку и достал черный блокнот. Мудрит Покатаев: и Кузнецова, и Семенова убил один и тот же человек. Бывают в жизни совпадения экстравагантнейшие, но тут пространства для совпадений нет. Вот все и нижется одно к одному. И если Кузнецова мог (за скобки, за скобки любови и ненависти всяческие, только голая техническая возможность!) убить чуть ли не каждый в Доме, то с Семеновым сложнее. Самоваров записал в блокноте:
«Семенова убил тот, кто:
1) испугался утром его догадок (слышали их почти все, или все?);
2) мог украсть рацию и испортить моторку;
3) хорошо знает здешние места, чтобы подгадать встречу с банкиром в нужном месте».
Из числа гипотетических убийц Самоваров со вздохом облегчения решил исключить Настю, Валерика и фотомодель Оксану. Эти трое здесь впервые и вряд ли знают подробности кратчайшего пути к станции. Прибыли они сюда другой дорогой.
Немного поразмышляв, Самоваров решил отнести к стану невинных и Вальку. Во-первых, он не замечал, чтобы ленивая Валерия совершала длительные прогулки, во время которых могла бы изучить тропу и приметить расщепленное дерево. А во-вторых, вчера ночью она была пьяна и неловка. Еще сдуру нож всадить — куда ни шло, но незаметно спуститься в «прiемную», стащить семеновскую рацию и никем не быть замеченной! Да знала ли она, что такие рации вообще в природе существуют? И Самоваров крупно, даже с нажимчиком, вывел на отдельной страничке:
«Инна
Егор
Покатаев»
Вот. Всего трое осталось. Кто-то из этих троих. Но как ни подступись — невероятно. Самоваров закрыл блокнот, опустил его в карман и двинулся к чулану. Надо взять у Инны ключ и спрятать сумку с ножом. В Доме запирались всерьез только мастерская и этот чулан. Кое-где были, правда изнутри шпингалетики для личного уюта, но неприступных твердынь — только две.
Самоваров деликатно постучал. В комнате было безжизненно тихо. Когда он постучал сильнее, дверь от напора поддалась с ржавым стоном. Он заглянул в образовавшуюся щелку — пусто. Зато из-за поворота узенького коридорчика, со стороны мастерской, доносились странные звуки.
Самоваров переоценил выдержку Инны. Но она так хорошо держалась! Она почти не плакала! Зато сейчас она сидела на полу у порога запертой мастерской, терлась нежной щекой о шершавую дверь и плакала по-настоящему — с низким утробным подвывом, с громкой икотой. Она была все в том же черном платье, безжалостно трепавшемся теперь по пыльному полу. Длинными бледными ногтями она скребла дверной косяк.
— Инна, голубушка! — бросился к ней Самоваров. — Ну что же вы так! Не надо, не надо…
Она подняла на него мутные невидящие глаза. Ее губы что-то шептали, но голос не слушался, его недоставало ни на что, кроме икоты.
— Пойдемте отсюда, — уговаривал Самоваров. — Не надо бы так, не надо…
Он подал руку, она послушно вцепилась, встала. Теперь только бы дотащить ее до кровати.
На кровать Инна не легла, а села, снова привычным жестом примяв и обхватив подушку. С привычным изяществом скрестила ноги. Но разбухшее, некрасивое лицо не выражало ничего, кроме муки.
— Валерьяночки? — заботливо спросил Самоваров и потянулся к пузырьку на столе.
— Нет уж. Я столько всего напилась, что не действует… только противно… Николаша, мне плохо! Если б вы знали… Это и должно было случиться! Я такая дрянь.
— Что вы говорите такое! Побойтесь Бога!
— Вы не знаете!.. Я приношу несчастья; я давно это заметила… Это сакральное; у меня черная аура. Я ношу черное — предупреждаю, но никто не понимает, никто.
«Что она плетет!» — изумился про себя Самоваров, но потом припомнил, что краем глаза видел в этой комнате утром что-то про Блаватскую, труды семейства Рерихов. Он огляделся — ну конечно, вот они, в зеленых самодельных переплетах, отрада времен застоя. Нет, надо беднягу вытаскивать из зеленых мистических дебрей, иначе несдобровать ей, тронется умом-то…
— Я все понимаю, — храбро вызвался он.
— Что вы можете понимать?.. Эти двое убиты, а вчера эти двое любили меня… во всех смыслах, понимаете? Это же не случайно! Я такая дрянь, я изменила Игорю с Семеновым…
— Не надо, я понимаю, — вскричал скромный Самоваров.
— Да не понимаете вы! Значит, я чувствовала смерть! Что же еще?.. Если б я знала! Не знала, но духовное предчувствие… Я только Игоря любила, а сделалась дрянь, пошла в чулан с Семеновым…
— Пожалуйста, не надо! Это мелкие детали. Припомните-ка лучше, когда вы возвратились сюда, Игорь Сергеевич был в мастерской?
— Там горел свет. Я дошла до поворота в коридоре, посмотрела — там свет. Он вообще-то рано ложился, а тут вздумал писать натюрморт со свечой. И я не удивилась! Если бы я…
— Вот про это не надо, — властно пресек новую истерику Самоваров. — Как вам показалось, там был с ним кто-то еще? Егор? Настя?
— Не знаю. Было тихо, а я, дрянь…
— Стоп! Об этом больше не будем! Семенов к себе пошел?
— Да… Но он потом все возвращался, стучал в мою дверь, умолял впустить, нес какой-то вздор… Вы ведь знаете, как это бывает…
Самоваров притворно покачал головой, мол, знаю.
— Он хотел ко мне, но я не открыла… Я такая дрянь…
— Нет, вы заблуждаетесь. А скажите, возвращаясь к вам, Семенов мог что-нибудь заметить около мастерской? Или кого-нибудь? Или услышать что-то? Там ведь на одну лестницу два хода. Мог?
— Наверное. Так вот о чем он говорил во дворе…
Она перестала плакать, взгляд прояснился и ее осенило:
— Ну да! Тогда он не обратил особого внимания, а потом понял… Но кто же? Егор? Никак не могу поверить. Глупый мальчишка, паразит, я его не люблю, но чтобы так…
— А если Егор, скажем, пристрастился к наркотикам?
— Да вы что, Николаша, Господь с вами! Взгляните на цвет его лица! Херувим!
— Инна, вот видите, как хорошо вы стали рассуждать! Не будем больше плакать и поминать ауру. А Покатаев?
— Что Покатаев? Я, честно признаюсь, не люблю Покатаюшку, и дружбы их не понимаю. Картинами Игоревыми торгует, будто одолжение делает. Якобы только из уважения к другу от дела отрывается; Игорю, недоумку, якобы, кусок хлеба из милости добывает. Вы только сравните — Игорь и какой-то пошлый торговец бананами! А уж спеси! Мне Семенов пытался что-то говорить, что, мол, все наоборот. Покатаюшка грабит Игоря, комиссионные у него чудовищные. Именно выходит работа даром, за кусок хлеба. Я ничего не понимаю в коммерции и не хочу вникать, я Семенову так и сказала… а он… в чулане мне…
— Может, не надо про чулан? — снова забеспокоился Самоваров.
— Нет, я не про то. Семенов… он сказал, что мы будем видеться теперь часто, что был какой-то разговор с Игорем… ну, не знаю… какая я дрянь! Там, в чулане… потом за дверью он скребся…
«Горячая была ночка, — подумал Самоваров, — прямо бразильский карнавал, сексуальный бум. С ума они все посходили, что ли? Наверное, это взрывы на солнце подействовали; кажется, по радио передавали…»
— Давайте, Инна, все же вернемся в чулан. Я имею в виду разговор. Он, знаете ли, занятным оказался, даже очень.
— Какое это теперь имеет значение! Вы, Николаша, лучше скажите: помните наш уговор? Вы ищете его?
— Вот вместе и отыщем. Инна, вспоминайте эту ночь… Может, от того, что вы вспомните, все и зависит. Вы ближе всех были к ним обоим и что-то должны были знать, видеть… И с Семеновым говорили, пусть в чулане, пусть через дверь. Все до словечка вспомните, все! Забудьте про эту проклятущую ауру, про то, что случилось в чулане, это все шелуха… Вспоминайте! Я вам приказываю!
11. Преждевременная развязка
Теперь на страничке блокнота ясность. Только одно имя. Так не бывает! Это же не роман, не находил Самоваров мешочка с песком в корзинке для старушечьего рукоделия и прочих неопровержимых улик! Или то, что он Покатаеву наболтал, чтобы пыль в глаза пустить, и есть правда? Истина всегда ушки покажет, только заметь их и тяни?
Самоваров стоял у Дома под навесом, смотрел, как по краю крыши перебегают и срываются капли, и собирался с духом. Уже четыре часа, скоро темнеть начнет. Итак, третья попытка вырваться в мир…
Он вызвал из своей избушки Валерика и сказал строго:
— Поручение тебе очень важное. Быстренько пойдешь по большой дороге на станцию. Позвонишь в Афонино, в милицию, и в город. Вот тебе телефоны. Эти — моего друга из угрозыска, рабочий и домашний, а этот — Слепцова, охранника Семенова. Расскажешь потолковее, что тут у нас произошло. Пойдешь один.
— А Егор? Вы же говорили, мы вместе пойдем… Чтобы не так боязно…
— Егор мне тут нужен.
— Вы его подозреваете?
— Нет, не подозреваю.
— Значит, вы знаете, кто… это сделал?
— Знаю.
— Это… это не?..
— Она здесь ни при чем. Иди и не бойся. Больше неожиданностей не будет.
Валерик чуть не вприпрыжку побежал с горки к Ярилиным воротам, к мостику. Из сарайчика выскочил обескураженный Егор.
— Дядя Коля! Куда он? Без меня?
Самоваров затолкал его обратно, усадил на кровать.
— Чего орешь? Говорил же — не высовываться. Все! Финита этой комедии. Настя сейчас пойдет в Дом, а ты по наружной лестнице взберись наверх. Да, и ружье возьми.
У Егора округлились глаза и удивленной трубочкой сложился пухлый рот.
— Рот закрой, — скомандовал Самоваров. — Соберись. Дело серьезное, страшное. Сядь с ружьем наверху, у двери на внутреннюю лестницу, и слушай. Смотри, не засни! Если я тебя позову, выбегай, делай вид, что целишься. Только, ради Бога, не стрельни сдуру. Запомнил? Довольно будет и твоего мужественного вида.
Изумление Егора сменилось пылким интересом. Он согласно мотал головой, получая указания, и от нетерпения ерзал на лоскутном одеяле.
— Вы его нашли? — тихо спросила Настя. — Кто?
— Скоро все узнаешь. Шагай в «прiемную», устройся где-нибудь в уголке не слишком заметно и сиди. А ты, — Самоваров повернулся к Егору, — мухой наверх!
Егор сорвался с места и помчался к Дому такой хорошей, легкой, пригибистой рысью, что Самоваров невольно им залюбовался.
В Доме было темновато. Валька протопила печку, но уютнее не стало. Старые вещи уже не казались затейливыми и веселыми, они даже стали вроде крупнее — недовольная угрюмая толпа, мебельная богадельня. Настя ушла за шифоньер и заскрипела стулом, Самоваров уселся на полосатую оттоманку. Покатаев дремал в своем кресле. Оксана все так же покоилась на кровати, в ее руках сновала маникюрная пилочка. Даже Валька, всегда предпочитавшая кухню, уселась за рояль, поближе к печке. Самоваров знал: она торчала тут, чтобы никто ничего не стащил. И не из верности Кузнецову, точнее, его памяти, а из презрения к его гостям.
Тишина стояла препротивная, говорить было не о чем. Можно было слушать шлепки капель, сиплое дыхание недужных жестяных часов да раздающиеся иногда вдруг то скрип, то суставный хруст, то шорох — неизбежные звуки большого деревянного дома, невесть откуда берущиеся. Самоваров, радуясь сонному спокойствию, все же посматривал на свои часы, ужасно хотелось, чтобы все побыстрее кончилось. Но стрелки заленились, и казались такими же безжизненными, как циферблат дурацких эмалевых часов. Часы эти висели на стенке напротив и напоминали глупое круглое лицо. Стрелок на них не было вовсе, дырка посередине глядела носом, а декоративная гирляндочка чуть пониже — залихватской улыбкой. Все равно, надо высидеть, пока не вернется Валерик с милицией. Лишь бы припадочной модели не вздумалось снова поорать. В самом деле, что, если она вдруг примется рваться прочь? Как удерживать? Стрелять по ногам?
Однако время шло, все было спокойно, и по расчетам, через часок можно было ждать гостей в фуражках.
И тут случилось то, чего Самоваров никак не ожидал. На верхней площадке лестнице, за дверью, послышались глухие звуки, голоса, наконец, дверь распахнулась, и на ступеньках появилась Инна. Была она вся в черном, прямая, бледная и решительная. С ее плеч драматически свисала черная шаль, причем не простая, а с какими-то художественными прорехами, сетками и неизбежной бахромой. Голос Инны вибрировал:
— Толик! Что за дела были у тебя вчера с Игорем Сергеевичем?
Покатаев сморщился:
— К чему эти сцены, Инна? Здесь, сейчас? Когда вообще все уже не важно?
— Нет, важно, — холодно возразила Инна. — Ты знаешь, я не люблю сплетен, шушуканья по углам. При всех, вслух скажи: ты был у Игоря заполночь?
Тут уж всполошился Самоваров. До чего эта выходка некстати! Обещала ведь тихо сидеть у себя. Как тут не понять Кузнецова и вечный его припев «чертовы бабы»! Какая муха ее укусила?
— Успокойтесь, прошу вас, — попытался отвратить худшее Самоваров. — В самом деле, Инна… Не надо!
— И вы, Николаша! — укоризненно воскликнула она. — Ведь сами мне обещали, сами всех выспрашивали, а теперь не надо?.. Он был, был ночью у Игоря! Я вспомнила!
— Ты что же, меня видела? — усмехнулся Покатаев.
— Не видела! Но знаю — ты там был!
— Телепатия? Второе зрение?
— Нет. Сигары твои! «Давидофф» пижонский! Там, на лестнице! Я даже засыпала, а все чуяла это амбре.
— Конечно, я единственный в мире курю «Давидофф»!
— Здесь — один. У меня сигареты с ментолом, у Вальки всякая дрянь. Ни Игорь, ни Семенов не курили. Может, Настя?
— Не курю. Тем более сигары, — помедлив, отозвалась та.
— Вот видишь! Ты там был, был, был!
— Так вот кто у нас Шерлоком-то Холмсом оказался, знатоком окурков! — засмеялся Покатаев. — Кто там только не был, на лестнице этой. Ты, Инна, несешь ахинею. Это Николаша всех подвигнул на сыщицкую стезю. Но мне надоело. Убили моего лучшего друга, а вокруг творится какая-то чертовщина, балаган. Сначала всех допекал этот мебельный самородок, теперь является пифия в ложноклассической шали. Всему есть предел! Вы как хотите, а я удаляюсь. Оксаночка, пошли, детка, пешком. Хоть милицию этим недоразвитым вызовем.
— Останьтесь, — тихо попросил Самоваров, — милиция скоро будет.
— Я не могу больше ждать. Да и что сделают ваши поселковые мегрэ? Запишут мою фамилию в школьную тетрадку? Вот вы и продиктуйте.
— Останьтесь, — повторил Николай. — Все-таки убит человек, считавшийся вашим лучшим другом…
— Вот я и еду сообщить вдове, — Покатаев бросил презрительный взгляд на Инну, — Тамаре Афанасьевне, о случившемся. И, кстати, вдовствующей невесте, Елизавете Дедошиной. Им-то надо знать.
— Им все сообщат в свое время. Останьтесь.
— А подите вы к черту! Корчит из себя важную персону! Сидеть, слушать идиотские бредни и дамские истерики? Да ни за что! Суетесь со своими вопросами, баб довели до идиотизма — ну, и чего добились? Что все трясутся и волком друг на друга смотрят? Вы, может, знаете, кто убил?
— Знаю.
— Ну и кто же?
— Вы меня все Порфирием Петровичем дразнили. Так вот — «Вы и убили-с».
Стало тихо. Немного погодя в каких-то часах внятно и туго повернулся то ли валик, то ли колесо, и после гулкого металлического глотка пробило семь раз.
— Так, — тихо сказал Покатаев. — Передаем последние известия.
Он равнодушно повернулся и пошел к двери.
— Куда вы? — окликнул Самоваров.
Покатаев пошел быстрее, почти побежал. Самоваров отчаянно, глухо крикнул:
— Егор!
Егор, прямо как в боевике, с грохотом распахнул дверь на лестницу и вскинул ружье, расставив ноги. Он все слышал, а потому целился правильно, в кого надо.
Покатаев остановился, оглянулся, громко расхохотался и лениво похлопал в ладоши:
— Ба, ба, ба! Егорка, браво! Долго ты репетировал этот дешевый вестерн? Дружок, ты, сдается мне, нашел свое призвание? Поди, и стрелять будешь?
— Буду, дядя Толя, — Егор не шутил, продолжая целиться.
Зубы Покатаева сверкали, а на улыбку совсем было не похоже. Лицо же Егора сделалось неподвижно, губа закушена, и в гримасе в самом деле проглядывало что-то дикое.
— Ну что мне с вами, дураками, делать? — пробормотал Покатаев. Он вдруг повернулся к Самоварову: — За что же я, по-вашему Кузю угробил?
— Деньги. Я думаю, деньги, — серьезно ответил Самоваров. — Чем вас еще проймешь?
— А кроме меня некому? Вы же тут всех ходили-подозревали?
— Все сошлось, когда убили Семенова. И рация, и моторка, и короткая тропа. Сделать все это мог: а — мужчина, бэ — современный мужчина, разбирающийся как в простой, так и в сложной современной технике, и вэ — современный мужчина, хорошо знающий окрестности.
— Ишь ты! — усмехнулся Покатаев. — Егорка тоже разбирается в моторах и все тропки здесь знает, как себя.
— В то время, как Семенов двинулся по этой злосчастной тропе, мы с Егором на верандочке вели малоприятный, но долгий разговор. А потом они с Валентиной дрова рубили, так?
— Угу, — отозвалась Валька. — Печки-то надо топить, холодрыга же. У Егора же растопочка получается. Здесь он был.
Покатаев поднял брови, задумался.
— Позвольте, зато кое-кто на виду не был. Кое-кто якобы заперся якобы в растроенных чувствах, — он в упор глядел на Инну. — Кое-кто с обоими… Слушайте, не завелась ли у нас своя царица Тамара? Или царица Клеопатра? «Ценою жизни ночь мою…»
Но Инна могла бы сейчас выдержать и не такое.
— Не кривляйся, Толик, — спокойно сказала она. — Это ты сделал.
— Э нет! Будет и другая версийка! Будешь, как миленькая, в лицах изображать, как ты Владимира Олеговича по чуланам таскала! Будешь объяснять, зачем это тебя Кузя здесь держал, для какой такой нужды!
Инна презрительно фыркнула.
— И не печалься, не ты одна, — продолжал Покатаев, поворачиваясь к Насте. — И Валька об этом же расскажет. И вот эта девочка-Дюймовочка. Она, представьте, в той же постельке побывала, и отчего-то шибко разозлилась. Что, заплатили мало?
— Мерзавец! — Настя вскочила; блеклый румянец мгновенно проступил на ее щеках. — Вы мерзавец и других мараете! Вы и представить себе не можете, что бывают другие люди, не такие мерзкие, как вы. Тут Николай Алексеевич про деньги говорил. А я вот знаю — не из-за денег даже вы его убили. Из зависти!
Улыбка Покатаева стала неимоверно широка, зато глаза застыли.
— Из зависти, из зависти! — повторила Настя. — Потому что он талант и свободный человек, а вы бездарность и завистник!
— Подслушивала? — только и вышепталось у Покатаева.
— Ага! Ага! — вскричал Самоваров, — Был-таки разговор! Был!
— Я знала, — торжествовала Инна.
— Разговоры сами по себе уголовно ненаказуемы. Все вы лезли к Кузе с разговорами, и что-то никто не бежит каяться, — парировал Покатаев. Он, похоже, оправился от потрясения.
Инна покачала головой:
— Нет, Покатаюшка, этот разговор был особенный. Потому что Игорь послал тебя подальше с твоими благодеяниями. Ах, какой преданный лучший друг! Под водочку, под задушевную беседу обирал, никак не иначе! Ты ведь еще каждую десятую картину бесплатно брал, «за услуги»!
— Что бы ты понимала! Это — законные комиссионные!
— Очень уж жирные получались комиссионные, — рассудительно сказал Самоваров. — Вчера Семенов купил у Игоря Сергеевича три работы, так мы с Инной прикинули разницу между тем, что он заплатил, и тем, сколько вы привозили. Это, скажу я вам… что-то! С учетом прибыли галерейщиков все равно получается, что именно вы были самой заинтересованной стороной. Все получали деньги, один вы — много денег.
— Так, — сказал Покатаев, возвращаясь к креслу и усаживаясь. — Начался серьезный разбор полетов. Ну что ж, валяйте.
— Видите ли, — Самоваров чувствовал, что больше не надо бы говорить, нельзя выкладывать сразу все, но с трудом обретенное знание распирало его, требовало выхода, — видите ли, вас погубило то, что Владимир Олегович Семенов любил живопись. Разбирался, судя по всему, неважно, но любил. И решил собирать коллекцию в своем банке, рассчитывая потом даже подарить ее городу. Согласитесь, они с Кузнецовым не могли не встретиться. А поскольку Владимира Олеговича как финансиста занимала и материальная, скажем так, сторона творчества, он открыл Игорю Сергеевичу глаза на то, что представляла собой ваша с ним сделка. Юридически это называется злоупотребление доверием, мошенничество, обман, а по-дружески — просто свинство. Он и предложил Кузнецову продавать картины через галерею своего «Приватбизнесбанка», на вполне цивилизованных условиях. Игорь Сергеевич согласился. Семенов вчера рассказал об этом Инне.
— В койке, — ехидно вставил Покатаев. Однако сквозь ехидство просквозило беспокойство; он как бы к чему-то далекому прислушивался.
— А вот это как раз детали, которыми можно пренебречь. Так что ваш разговор был куда как серьезным, вы ведь своих доходов лишались.
— Что за чепуха, — лениво вздохнул Покатаев. — Кузя отказался сбывать мне свою мазню, а я в ответ схватился за нож? Как вы не поймете, картины — мелочь, у меня свой большой бизнес.
— Нету у тебя никакого бизнеса, — вдруг лениво подала с кровати голос Оксана. Все обернулись к ней, но она даже не подняла глаз от своих ногтей, которыми уже долго, сосредоточенно и искренне любовалась.
— Как это? — удивился Самоваров.
— А так. Что ни затея — все в трубу. Тесть денег даст — профукает. Великий комбинатор! Когда недавно с какой-то пленкой прогорел, тесть со свету сжить обещал. И сживет. Видели бы вы этого тестя! Идолище.
— Откуда у тебя такие сведения? — возмутился Покатаев.
— От верблюда. Не в лесу живу. Да и сам говорил: одними картинками пробиваюсь.
— То-то ты стала такая норовистая, то-то визжишь и на стенку лезешь: «Денег давай». Вот, полюбуйтесь, какую змею пригрел на груди и прочих местах. Гадина!
— Зато не убивала никого. Сядешь теперь. Не я одна, а вон и художница видела, как ты после нее наверх прошмыгнул. Ся-ядешь. А я не пропаду.
— Да, — покачал головой Покатаев, — идиотов хватает. Кстати, об идиотах. Ну что вы за драмкружок тут организовали? «Смерть шпиона Гадюкина»! У Егорки вон пальцы посинели, ружьишко сжимаючи. Эким шерифом смотрит! Вы что, не понимаете, что все это — периферийная кустарщина. Не докажете ничего, лопухи!
Самоваров обиделся.
— По-моему, как раз вы кустарь, Анатолий Павлович, — возразил он. — Поначитались от безделья детективов в своем НИИ и пошли куролесить, изображать из себя профессора Мориарти. Зачем вы столько всего понаподбрасывали? Браслет Иннин? Нож Егорке? Вы же не Агата Кристи, вы натуральный российский душегуб. Тут даже самый корявый Мегрэ из Афонина поймет, что кто-то шибко намудрил. А мудрецов среди нас немного. Вы один и есть.
Покатаев поднялся.
— Ладно, — решительно сказал он. — Все, что вы сейчас говорили — наплевать и забыть. Это все, ребятушки, эмоции и умственные выкрутасы. Никто ничего не докажет. Допустим, откопают даже по какой-нибудь сопле на травке, что я вышел прогуляться вслед за Владимиром Олеговичем. Ну и что? Это лишь доказательство прогулки, не более. Никто ведь не видел, как я… И с Кузей то же самое. Свидетели… Ну, помилуйте, какие в таких делах могут быть свидетели. Птичка эта? — он кивнул на Настю. — Так она может и не прочирикать… По той или иной причине… Да. Оксана, я полагаю, тоже молчать будет, ей карьеру делать. Я прав, а, детка?
— Я с такими делами связываться не хочу, — равнодушно отозвалась Оксана.
— Ну, вот. А засим… — он умолк на мгновение, прислушался, и Самоварову тоже показалось, что издали доносится какой-то посторонний неясный, звук. — Засим позвольте откланяться, недосуг.
И он снова пошел через комнату.
— Дядя Толя! — отчаянно крикнул Егор, сжимая ружье.
Покатаев не остановился.
— Я тоже видел!
— Что-что? — Покатаев на миг обернулся.
— Я тоже видел, дядя Толя, как вы к папе ночью ходили.
— Что ты врешь! Ты в «прiемной» дрых!
— Я видел. Я всем скажу.
«Вот не ожидал от Егорки, — подумал Самоваров. — Тоже ведь нашел свою амбразуру. Хорошо быть молодым. Неуклюжее, ненужное, вредное даже — но геройство.»
— Нет, это паноптикум какой-то, — пожал плечами Покатаев. — Куда ты лезешь? Кто тебе поверит? Впрочем, мне все равно. Вы уж без меня как-нибудь…
Он быстро выскочил в дверь. Егор щелкнул предохранителем, и Самоваров успел только комом броситься ему в ноги. Выстрел грохнул так, что все разом заложило уши. Заряд дроби кучно ударил в косяк, вырвав кусок древесины и выказав бледное ее нутро. «Прiемная» заполнилась пороховым дымом. С запозданием истошно завизжала Оксана.
Самоваров поднялся и осторожно вынул из ходивших ходуном рук Егора ружье. Егор, бледный, как бумага, только тупо глядел в пустой дверной проем и бормотал:
— Зачем вы? Зачем вы?
— Дурачок, слава Богу, не попал, — сказал Самоваров и устало сел рядом с Егором на ступеньки. — Я тебе не для того ружье дал. Ну, ничего, обошлось.
Вдруг у реки взревел мотор.
— Лодка! — изумилась Валька.
— Она же поломанная, — не меньше изумилась Оксана.
«Ну и шляпа, — мысленно обругал себя Самоваров. — Что бы стоило самому мотор проверить. Нет, положился на авторитет «дяди Толи», олух несчастный».
— Далеко он не уйдет, — нерешительно предположила Валька.
Самоваров с сомнением покачал головой и повернулся к Насте:
— Смотрите, как его ваши слова напугали! Важный вы разговор услышали.
— Вы будете смеяться, но я ничего не слышала, — ответила Настя.
12. То, чего не слышала Настя
— Что, упорхнула птичка? — улыбаясь, спросил Покатаев и закрыл за собой дверь.
Кузнецов, гремевший стекляшками от битых бутылок в совке, выпрямился:
— Ты тоже заметил?
— Что заметил?
— Что на птичку похожа. Заметалась, вон чего понаделала. Ко мне тут как-то воробей влетел, так тоже бился, верещал, лампочки качались во все стороны. И эта такая же. Убирай теперь!
— Да, вонизм еще тот, стоит ли так с ней возиться? Из-за чего, собственно?
— Что, не понравилась?
— Не в моем вкусе. Я вульгарен. Где уж нам уж… Мы больше моделями пробавляемся.
Кажется, Покатаев в самом деле гордился Оксаной.
Кузнецов смел осколки в кучку, взял тряпку, стал, кряхтя, размазывать скипидарно-масляную лужу.
— Кузя, я хоть окно открою, дышать нечем, — не выдержал Покатаев. Он встал на стул, приподнял раму (мастерская была застеклена с крыши). В лицо ударил холодный мокрый воздух, стало явно слышно, как стучат дождевые капли, бархатно шумят лиственницы, посвистывает ветер. Черным черно в оконном квадрате — ни звезды, ни огня. Забрался Кузя к черту на кулички. Афонино эти самые кулички и есть, гиблое место.
Покатаев слез со стула, глянул на мольберт. Натюрморт со свечой почти кончен. Очень хорошо. Необычно. Да еще в уголке дьявольски тонко написанного зеркала появилась фигурка ведьмы на метле — днем ее еще не было. Ведьма — это то, что нужно. Мистика всегда привлекает, не то что кондовый реализм.
— Слушай, Кузя, я от твоих святых просто онемел. Это нечто! Давай, разворачивайся. И эта, со свечкой, тоже ничего. Моя?
Кузнецов бросил тряпку. Наверное от того, что он тер разлитый скипидар, да еще внаклон, его круглое лицо лоснилось и было необычайно красным.
— Нет, Покатаюшка, не твоя.
— Не дури, — недовольно бросил Покатаев. — Я скоро в Ганновер еду, так что завтра-послезавтра заберу твои шедевры. Ты уж поднажми.
Кузнецов покраснел еще сильнее и громко засопел.
— Ничего ты больше не возьмешь, — глухо сказал он. — Ни завтра, ни послезавтра. Никогда.
— Это что за фокусы? — удивился Покатаев.
— Такие фокусы, что больше слушать твое вранье и отдавать работы даром я не намерен.
— Ты что, белены объелся? Инна опять насвистела? Что за несчастье вечно поддаваться бабам! Это я обманывал? Брал даром? Не согласен. Я дал тебе несколько лет спокойной жизни, о какой ты всегда мечтал. Ты только писал. И как писал! Тебя благодаря мне узнала Европа. По-твоему, это ничего не стоит?
— Не стоит пахать на дядю, который тебя обирает, а каждую десятую вещь велит дарить ему же в знак вечной благодарности.
— Какой дядя? Существует такое понятие, как комиссионные… Я тоже не могу трудиться даром, альтруизм не для нашего века…
— Молчи уж: альтруизм! Я говорил с Семеновым. Просветил банкирчик, сколько обычно берут комиссионных, открыл, так сказать, глаза. Ты именно обираешь.
Покатаев несколько обмяк, но постарался сохранить то рассудительно-жесткое выражение лица, которое обычно неплохо действовало на Кузнецова. Однако выражение сохранялось с трудом: губы сохли, подрагивала тиком вдруг вышедшая из повиновения щека.
— Что ты заладил «обираешь» да «обираешь». Искал бы других агентов, кто мешал? — наконец заявил Покатаев.
— Ты же не агент был! Друг. Лучший. Я тебе верил, потому и не искал других. Даже не думал, что ты дурачить меня возьмешься, как первый встречный. За одной партой с тобой сидели, отцы наши дружили — вот и верил. А ты верил, что я тебе буду до конца дней верить, и надувать меня будет легче легкого. Вернее, не надувать — предавать…
— Кузя, мы же взрослые люди, а ты — «отцы, парты», — усмехнулся Покатаев. — Ты ведь никогда не был глупо-сентиментален. И жаден, кстати, тоже не был. Денег тебе не хватает? У тебя все есть! Куда тебе еще? Штаны золотые носить будешь, что ли?
— Не твое дело. Хотя бы и штаны. Но это мои штаны! Семенов просветил: у тебя, оказывается, уже два года нет никакого бизнеса, кроме моих картин, моей мазни, как ты выражаешься. Так вот, я не желаю больше содержать ни тебя, ни твою носатую Лену-мегеру, ни твоих дочек, ни эти вице-ляжки, которые ты купил и притащил сюда, чтобы я об них спотыкался. Иди к черту со своими присными! На эти деньги я бы выучил уже пару способных мальчишек. Видел этого студента? От Бога художник, а он нищий! У него даже пиджака нету!
— Ну, конечно, это я его пиджак ношу. И девку у него отбиваю тоже я.
Кузнецов снова свирепо смял липкую вонючую тряпку, глянул исподлобья.
— Уходи. Уходи отсюда. И не приходи больше. Я тебя больше не знаю.
Но Покатаев не ушел. Он вместо этого опустился на стул, и его кадык мерно двигался. Он громко, драматически глотал слюну, закрыв глаза загорелой рукой.
— Погоди, погоди, Кузя! — тихо начал он. — Не гони лошадей. Нельзя так, не должно так! Ты ведь тридцать лет меня знаешь. Погоди!
Он выпрямился, подтянулся, даже откашлялся:
— Да, каюсь. Прости. Вышло не очень. Но я ведь и не думал, что так воспримешь. Сколько раз ты говорил: давали бы мне, мол, еду и одежду, ничего мне больше и не надо, я б тогда из мастерской не выходил. Разве не так было все последние годы? Разве не было тебе хорошо? И тут вдруг какой-то Семенов. Слова-то какие бросаешь: «предавать». Да легко как бросаешь! И гонишь легко. Все тебе трын-трава. Ты же у нас свободный человек!
— А ты какой? Условно-освобожденный? — угрюмо осведомился Кузнецов.
— Не ёрничай, сам знаешь. Ты-то вольный. У меня жена, дочери. Тесть. Знакома тебе эта семейка! За красоту я в нее был взят, как царская невеста. Вынужден поэтому соответствовать. Ты же знаешь, я там паршивая овца. А хочется ведь жить, для себя чего-то хочется, человеком себя чувствовать, а не бедным родственником. «Имидж — ничто!» Как бы не так! Модель себе завел — все должны видеть, что я кое-что могу. Тесть меня в свою овощную торговлю погнал с подначками, что, мол, руки-ноги, а главное, голова у меня не из того места растут. Пять лет я на посылках бегал. Взбеситься можно! Конечно, пытался свое дело завести. И не раз. Ну, не рожден я купцом Калашниковым! Не рожден! И черт его знает, кем я рожден. Все прахом идет, за что ни возьмусь. А вот с картинками твоими протоптал вроде какую-то дорожку свою, сносно выходило. Даже тестю пасть заткнул.
— За мой счет, заметь.
— Не цепляйся к словам. Ты же знаешь меня, всю жизнь мою знаешь — сладко ли было? И ты не такой, как все те, что за копейку удавятся. Великодушный, прямой, щедрый. И друг мне. Ладно, ладно — был. Но был! Кузя! Сейчас мои дела совсем плохи, совсем. Так подгадалось. Есть несколько скверных людей, которые подстроили мне невероятную пакость. Деньги для меня сейчас — вопрос жизни.
— Что, и тебе «мерседес» подсунули? — удивился Кузнецов.
— Какой «мерседес»? Нет, это мой злосчастный финт с пленкой. Прогорел я подчистую. Прошу тебя, Кузя, в последний раз. Последнюю партию. Захочешь — никогда больше обо мне не услышишь. Исчезну, испарюсь. Я для тебя умер. Но не сегодня! Сегодня — последний раз по-старому.
— И на тех же условиях?
— Ну конечно! Я же все рассчитал. Если хочешь, я потом могу тебе кое-что накинуть. Немного, правда, мои копейки все считанные… Но зато последний раз. Идет?
Кузнецов вытер липкие руки о живот.
— Не идет, — отрезал он. — Идешь ты. Сейчас и насовсем.
— Во-о-от! — пропел Покатаев. — Все твое бескорыстие здесь. И вся свобода! Тебе же своих картинок, синеньких да зелененьких, лишнюю дюжину намазать легче, чем высморкаться. Из всего денежку жмешь, на конъюнктуру сел: то Первомаи были у него, то теперь, пожалуйста, нечистая сила, эротика банная пополам с мистикой. Мазня, дрянь. У всякого свой маленький бизнес. И твой тоже маленький. Друга топишь, за копейку топишь!
Покатаев почувствовал, что попал. Кузнецов довольно спокойно относился к выпадам против себя, но буквально зверел, когда дело касалось его живописи. Его дело было больше, чем он сам, это был его собственный, привычный, но грозный идол, и чужие не могли к нему лезть, лапать руками… Он грубо обрывал самые невинные шутки по поводу его работы, навсегда рвал с человеком, считавшим искусство забавой или способом добывания денег, и года три назад едва не убил Егора, который от скуки пририсовал к какому-то отцовскому рисунку углем — рядовому, подготовительному — усы и рожки. Кузнецов и теперь побагровел, надулся какими-то невиданными прежде жилами, зловеще сгорбился. «На быка он похож», — подумал Покатаев с тревогой.
— Значит, картинки мои дрянь, конъюнктура, — тихо заговорил Кузнецов, — годная лишь на то, чтобы кормить тебя и твой выводок? Значит, я алчный подлец, раз не позволяю себя грабить и наживаться на моей «мазне»?
— Кузя, Кузя, тише, — смиренно залепетал Покатаев, — ты не понял…
— Нет, я как раз понял! Ты мою работу считаешь дрянью, сморканьем, вроде твоей тухлой торговлишки ананасами. Конъюнктура! И это говоришь… ты? Ты ведь за всю свою жизнь не произвел ничего, кроме дерьма в унитазе! Продался вздорной уродине за сервизы и мебеля! Чтобы в сорок лет подавать тапочки тестю и покорно подставлять задницу для очередной порки! Друга обокрал! И ты надеешься, что тебя будут и впредь терпеть, жалеть, сопли твои утирать? Была у Инны кошка, которая гадила под диваном и которую жалко было выбросить, слишком долго жила в доме, притерпелись. Но это до меня было. Я не терплю гадливых кошек. Ты уйдешь, но не завтра, а прямо сейчас. Как хочешь — хоть пешком. Всё!
Кузнецов тяжело дышал, но глаза уже непоправимо остыли, и Покатаев видел, как все вдруг обрушилось, рухнуло в одну минуту, и ничего уже поправить нельзя. Да он и не собирался что-либо делать, чтобы поправить, он тоже свистел ноздрями, гордо корчась под руинами своего благополучия.
— Ах, Кузя, вот она, изнаночка! — выдохнул он. — Вот и вылезло нутро! Дружбы-то и не было никакой. Я тебя, как и ты меня — ненавидел. Всю жизнь. Никого так сильно не ненавидел, даже тестя. Свыкся. Жить, при всем том, без тебя не мог — вот как бывает. Тебе слишком уж много дадено… За что? Почему? Ты неумен, неуклюж, невоспитан, я даже жалел тебя в школе. За что же тебя судьба так балует?! Талант! Талант? Глупость, мазня! Но все носятся с тобой, как с писаной торбой. Да, мне досталась уродина, тебе красавица. Как дураку в сказке! И еще сотня красавиц, которые липли к твоей косматой роже, как мухи к меду. За что?! Все, что ты делаешь, вечно идет на ура, а у меня вечно труха, обман, чертовы черепки. Да, я был никем и стал ничем. Почему? А за тобой все бежал! В твои компании лез. На подружке твоей жены женился. Только твоими картинами и мог прожить. Ты мою жизнь сломал. Ты! Я и сейчас тебя ненавижу и рад, что столько лет тебя дурачил. Только тебе все, как с гуся вода.
Кузнецов холодно улыбнулся.
— Ну вот, и у меня свой Сальери завелся. Не музыкант, правда, не живописец, зато отменно подбирает галстуки к ботинкам. Это вся его алгебра и гармония. Только, Покатаюшка, пить с тобой я не стану.
Он стоял у мольберта. С незаконченного натюрморта тихо мигала, троилась в ночных зеркалах свечка — пламя, которое он сделал своими руками — а живое пламя лампы освещало резко и желто его круглое спокойное лицо. Из всех углов с его картин смутно глядели святые вперемешку с нечистой силой. Утратив в темноте цветное буйство, но оставшись по-прежнему лукавыми, властными и обольстительными, они обступили своего создателя и господина, смеялись беззаботными ртами.
— Я тебя, Покатаюшка, никогда не ненавидел. Тут ты ошибся. Ненавидеть мне некогда и незачем. Потому как недотепа ты.
Кузнецов отвернулся, стал перекладывать что-то у мольберта, собирать краски.
Большая, темная, чуть сутулая спина. Какой он самоуверенный! Как всегда. Отряхивает прах с ног, которыми прошелся по чужой жизни, бессмысленно бежавшей вслед за его жизнью, такой везучей и настоящей. Странно, что Покатаев тоже никогда не подозревал, что ненавидит друга Кузю. Но слово вылетело, и истина открылась. А истина в том, что этот тяжелый, косматый, упрямый человек, лучший друг его, и есть то, что мешало ему всегда, мучило, давило, как давит опухоль на мозг. И теперь все кончилось, кроме противной боли в затылке. Все равно.
Ножи блистающим веером торчали из большого обливного кувшина. Большие, маленькие, длинные, изогнутые. Кузя всегда был знатоком и любителем хорошей стали.
Когда Кузнецов упал — сразу, без криков, без борьбы, был только странный тихий звук «кря» — Покатаев удивился. Он, собственно, хотел только сделать Кузе больно, потому что был бессилен перед ним, как ребенок. Как тридцать лет назад на школьном дворе. Что он мог еще сделать? Но как вышло! Неужели это сделал? Что теперь будет? Тюрьма?
Покатаев вышел на лестницу, остановился, закурил. Курил он редко, только от большого удовольствия или в большом волнении. Было тихо. Он неплохо знал здешнюю тишину. Та, которая стояла сейчас вокруг него, была безопасной. Но делать что-нибудь все равно надо, причем делать быстро.
Он подошел к двери Инны. Из щели глядела темнота. Инна так рано не засыпала, обычно читала при свете лампы, забравшись под одеяло и красиво раскинув волосы по подушке. Где она сейчас? Уединилась-таки с банкиром? Покатаев вошел, зажег фонарик, который у него всегда был в кармане в Афонине, обходившемся без электричества. Вот шкатулка. Конечно, все сегодняшнее еще на ней, но кто станет присматриваться к таким деталям? Он выбрал серебряный браслет с какими-то висюльками. Такую ерунду может надеть только Инна — и сомнений не будет ни у кого.
Он вернулся в мастерскую, посветил особо на порог, чтобы не втоптаться в лужу (он в нее не наступил, подумалось не без гордости, и тогда, когда… в общем, тогда), протер о куртку и швырнул на пол браслет. Тот покатился, тихо звеня и поблескивая, сделал небольшой круг и, несколько раз еще звякнув, будто устраиваясь поудобнее, угомонился где-то поблизости от Кузиной вывернутой руки; грубой и грязной. Нарочно так не положишь!
Теперь надо додумать все остальное. Удивительно, что волнения больше нет. Напротив, он, как никогда, ловкий и легкий. И умный. Голова работает на редкость четко. Все у него получается, все получится! Ну, что, Кузя, кто из нас бездарь?
— Да-а, — протянул Слепцов, когда Самоваров закончил свой рассказ. — Хорошие тут у вас делишки. А ты говорил: место тихое…
Он со своей неразговорчивой командой примчался в Афонино чуть позже местной бригады. Этих, видимо, взбодрили звонком из областного УВД, потому как Анискины снялись с места без обычных проволочек и оттяжек. Битый жизнью милицейский уазик, подпрыгивая и вихляясь на нецивилизованной лесной дороге, бойко вырулил к мосткам, когда зуд мотора покатаевского катерка, казалось, еще висел в воздухе. Через полтора часа добрались и областники, только Стас, жаль, не приехал. Он только через три дня должен был вернуться из отпуска.
Слепцовские ребята первым делом бросились было снимать банкирово тело с сосны, но афонинский майор грудью стал на их пути: из города ехали уже эксперты, и до их приезда высоким начальством приказано было обеспечить полную неприкосновенность рокового обрыва. Все ночевавшие накануне в Доме уже подвергались в это время в «прiемной» официальным допросам.
Самоваров одним из первых предстал перед деланно грозным майором, разложившим свои бумажки на дамском рукодельном столике. Через майорское плечо он видел приоткрытую дверь, а за дверью нетерпеливо переминавшегося Александра Ивановича Слепцова с лицом вдвое багровее обычного. Едва Николай был отпущен майором и переступил порог, как Слепцов так схватил его за грудки, что не ожидавший столь бурных действий Самоваров даже клацнул зубами. Еще он увидел близко перед собой бешеные слепцовские глаза с ветвящимися красными жилками и услышал сипло-свирепое: «Как же так? Ты ж обещал! Куда же ты смотрел?!»
Впрочем, через некоторое время оба они уже сидели в Николашином сарайчике за бутылкой «Лимонной» (директор водочного завода «Родная сторона», рассчитываясь за приобретенное для загородного дома полотно, упросил Кузнецова часть оплаты принять бартером, в виде двух ящиков своего премированного — и справедливо! — изделия. Все это время «Лимонная» была фирменным напитком Дома).
— Значит, говоришь, доказать ничего нельзя? — задумчиво говорил Слепцов.
— Нет. Разве эксперты что-нибудь высмотрят, тогда, возможно… А пока — вряд ли. Видите ли, здесь все очень тонко, на полутонах…
— Ничего себе — полутона: два жмурика! — не согласился Слепцов. — Ну, а ты-то как на этого козла вышел?
— Основное я вам рассказал. Формальные мотивы убить Кузнецова были почти у всех, но мотивы больно жидковатые. Так, морду набить или закатить скандал, но не нож в спину всадить. И только у Покатаева этого всерьез жизнь решалась. Я поздно про то узнал, но тут сразу все и сошлось. Хотя и прежде меня одно смущало. Все шло вроде, как по-писаному: рация пропала, мотор сломан, браслет и нож явно подброшенные. Слишком уж мудрено. Это в детективных романах на каждом шагу такие штуки, в жизни-то все проще. Понимаете, этот торговец фруктами — образцовый семидесятник, философ с кухни. Всю жизнь бесславно в НИИ сидел, трепался в курилках, под гитару гундел. Естественно, и детективчики в рабочее время… Так я на него и набрел.
Самоваров не стал уточнять, что сам он прочел гору детективов и за версту поэтому почуял книжный дух.
— Ну, а шеф, Владимир-то Олегович — его работа?
— Его. Хотя я не уверен, что он собственноручно банкира на ту осину бросил — может, подтолкнул, а может, просто напугал, и Семенов сам с обрыва сорвался. Он ведь не профессионал, наш приятель Покатаев, чтоб так точно в десятку попасть. Но шальная пуля бьет метко, могло и повезти начинающему потрошителю. Он собой упивался: так ловко все устроил, все проблемы решил, всех в дураках оставил. Ведь ваш банкир сболтнул зачем-то, что видел вечером нечто необычное… Думаю, видел, как Покатаев выходил из мастерской. Или наоборот, туда входил. Когда Семенов отправился на станцию, Покатаев и увязался за ним. Не знаю, чего он хотел — то ли разжалобить, то ли припугнуть, только встретились они над обрывом, и…
— Так. Ладно, — набычился Слепцов. — А куда этот сучонок мог податься, не в курсе?
— Не знаю, — пожал плечами Самоваров. — Вы у Инны поспрашивайте про его заветные места, все-таки они сто лет в одной компании.
— Спросим, — несколько зловеще пообещал Слепцов, — все у всех спросим. Я ведь, Коля, не суд присяжных, самый гуманный в мире. Мне ведь не нужны мешок улик и полсотни свидетелей. Мне просто знать надо. Знаю теперь. Эх, ты, кого проворонил! Обещал же приглядывать. Еще меня успокаивал: тихо, все свои, нудисты. Да и я, старый осел, купился. Теперь плакаться нечего, надо мразь эту достать.
13. То, что было после
Прошло полгода. Летние страсти присыпало свежим снежком.
В конце февраля Самоваров трясся вместе с Тамарой Кузнецовой в чьем-то джипе. Они уже несколько раз ездили таким образом в Дом, где Тамара хотела отобрать все мало-мальски ценное для продажи. Но ценного почти и не было. Все вместе содержимое «прiемной» было любопытно и стильно, а по отдельности рухлядь, да и только. Тамара сокрушалось: покупателя на Дом тоже пока не находилось. Место глухое, архитектура странная, удобств никаких, скверная дорога. Практичная Оксана как в воду глядела. Решено было продать его на слом. Самоваров согласился сегодня ехать только потому, что полагал: Дом доживал последние дни. Ничего скоро от него не останется, только пустая поляна да воспоминания, скверные вперемешку с идиллическими.
Дорога в самом деле кошмарная. Правда, прежде она была накатана кузнецовскими приятелями и поклонниками. Один меценат — директор ближнего совхоза — время от времени даже бульдозер присылал «торить путь», как выражалась Инна. Считалось, что встречать здесь Новый год (позже и Рождество) элегантно и престижно. Было весело, во дворе наряжали специально посаженную для этого елку, катались от Ярилиных ворот с горы, вылетая на другой берег Удейки. Пели, гадали, топтали сугробы, девственные, как облака. Самоваров однажды застал такое веселье, тогда-то он и ночевал в чулане, на скрипучей раскладушке.
Теперь здесь было тихо. Плохая тишина, неживая. Двери намертво притерты сугробами. Пришлось искать лопаты и отгребать снег. Окна заколочены после того, как кто-то разбил нижние стекла. Самоварову даже показалось, что Дом осел и покосился, хотя он и понимал, что так скоро это сделаться не может, скорее всего, просто снег искажал очертания.
В Доме было стыло, синё, пар валил изо рта. Точеный носик Тамары (самое красивое из того, что у нее еще оставалось красивым) мгновенно покраснел и увлажнился. Она стала торопиться и все толкала Самоварова в бок рукой в тонкой перчатке, побуждая его жарче расхваливать большие часы в солидном дубовом футляре, но без стрелок. Часы они, собственно, и приехали сбыть. Потом Тамара с покупателем поднялась наверх осмотреть бывшую мастерскую, где «дивный, дивный камин», а Самоваров остался в «прiемной». Он ее не узнавал. Все безделушки, иконы, клееночные примитивы Тамара давно вывезла. Даже таблички типа «Дамская уборная» отвинтили. Кое-что удалось продать и из мебели. Голые стены зияли дощатой нищетой, какие-то столики и кресла, которые Самоваров в свое время собирался реставрировать, развалились сами или были изувечены поспешными осенними вывозами. Окна не замерзли: и внутри, и снаружи было одинаково морозно.
Странное дело, летняя история начала уже потихоньку забываться, и только здесь, в никому не нужном, разоренном, огаженном Доме становилось очень грустно, и лезли в голову всякие безотрадные мысли, вроде того, что все проходит, где стол был яств… и прочее в том же роде. Эти чувства испытывали, конечно, не все летние гости. Большинство из них здесь больше и не бывали. Тамара тоже не грустит — наверху перекатывался ее преувеличенно звонкий смех (очевидно, покупатель сострил)
Тамара твердо взяла кузнецовское наследие в свои руки, уже продала квартиру, и взялась было за картины, но знающие люди отсоветовали — лучше спускать потихоньку, чем сбивать цену большой распродажей. Пришлось начать с икон, хотя Тамара мечтала украсить ими собственное жилище.
Зато Егора удалось избавить от поползновений лиц кавказской национальности. Во всяком случае, он не был увезен в рабство, а, напротив, чудесным образом поступил в художественный институт. Казалось кощунственным не зачислить мальчика после загадочной гибели его знаменитого отца. Однако Егор не взял ни одного урока живописи, бестолково куролесил по-прежнему, и тогда Тамара прибегла к крайнему средству — устроила его к себе, в алюминиевую фирму. Что там делал и с каким успехом Егор, неизвестно. Самоваров встречал его уже не в гигантских кроссовках и экстравагантно оттопыренных спортивных куртках, какими он щеголял прежде, а в отменной пиджачной паре, в дорогом, с умом подобранном галстуке, с какой-то даже папочкой явно делового вида. Лицо его огрубело, розовость немного слиняла, корректная прическа ловко сглаживала мальчишескую лопоухость. О себе Егор говорил кратко, как он один умел, и довольно невразумительно, но всякий раз давал понять Самоварову, что летняя драма, сыщицкие приключения и финальная стрельба есть и останутся самым замечательным из того, что он успел пережить. И вряд ли дальше будет интереснее.
Настя Порублева и Валерик Елпидин учились себе в своем институте, и даже их отношения, несмотря на летние потрясения, никак не изменились. Конечно, они слишком еще молоды, чтобы какие-то два дня могли переиначить их жизнь…
Инна совершенно отошла от живописи. Какое-то время она жила так скрытно и носила такой явный, поблескивающий бисером траур, что поползли слухи, что, мол, уходит, если уже не ушла, в монастырь. Слухам было уже поверили, когда в Нетский драматический театр откочевал из Саратова режиссер Виталий Зобов. Он уже прославился несколькими авангардными постановками. «Живой труп», например, он умудрился вообще сделать волнующей пантомимой, без единого слова и даже без цыганского пения, замененного перкашн. Слово «перкашн» в Нетске мало кто знал, пришлось специально объяснять по телевидению, что это просто ударные инструменты. Спектакль имел громадный успех, возился по международным фестивалям; Вацлав Гавел, говорят, на нем плакал. В театральных кругах было известно, что Зобов, измученный очередной шалой женой, перенес свои эксперименты в Нетск. Других предложений на ту минуту у него почему-то не оказалось, и он очертя голову ринулся в глухомань. Очень еще не старый, ярко одаренный, Зобов имел блеклое нервное лицо и запоминающуюся бородку в форме подковы. Если еще можно понять, как в самый день своего приезда он очутился в Доме актера на каком-то очередном юбилейном капустнике (с чьим-то чествованием и с нестройным актерским пением), то совершенно необъяснимо появление там же Инны. Но она, вся в черном, матово бледная, сидела в ресторане в уголке, одна, над малюсенькой нетронутой рюмочкой. Опять же, естественно, что Зобов, на своем веку уже наслушавшийся поздравительного пения, сбежал в ресторан, оставив на своем месте в зале крепко пахнувший полынью букет хризантем и текст поздравления незнакомому юбиляру, написанный якобы от его, Зобова, имени и в отвратительных стихах. Он не хотел читать стихи, а хотел выпить. Но как он познакомился с Инной, не уследил никто. С этого вечера они стали неразлучны. В театре говорили, что Зобов собирался вызвать в Нетск шалую жену на главные роли. Это было якобы самым важным условием его приезда в город. Однако жены он не вызвал. Она сама приехала — эффектная блондинка с ужасающе хриплым голосом. Но Инна теперь весь день проводила в театре, читала только пьесы, собрала уже альбом рецензий на «Живой труп», не брезгуя даже тайной порчей библиотечных подшивок, сидела на всех репетициях, изумлялась, восторгалась, давала дельные советы и была Зобову совершенно необходима. Шалая жена пыталась скандалить и даже привлечь к себе внимание Зобова демонстративными связями с парой журналистов и с кем-то пожилым из департамента культуры, но ничего у нее не вышло. Пришлось с позором возвращаться в Саратов. Завистницы осуждали Инну, даже те актрисы, что остались, благодаря ее демаршу на главных ролях. Близких подруг у Инны по-прежнему не было, так что никто не мог сказать определенно, что ею двигало на сей раз — любовь или расчет.
Следствие по делу об убийстве Кузнецова пошло было резво. Даже были найдены некие «фрагменты синтетического волокна» на какой-то чапыжине в ельнике близ афонинского обрыва. Дотошный Стас перерыл весь покатаевский гардероб в поисках подходящей одежды, но не нашел. Очевидно, именно в ней Покатаев и ударился в бега. Он сразу был объявлен в розыск, но словно сквозь землю провалился. Стас начал уже подумывать о приостановке, а то и прекращении дела, но тут произошел взрыв.
В центре города, на платной парковке у фешенебельного ресторана «Парадиз» (именуемого местными остряками «Паразитом») взорвалась розовая «Ауди». В одном из троих взорвавшихся милиция с трудом, но еще больше с удивлением опознала Покатаева А.П.
Для Нетска, города хоть и областного, но приличного и тихого, это было чересчур грандиозно, и происшествие это развлекало обывателя не менее месяца. Пресса обрадованно встрепенулась: гибель Семенова к тому времени была заезжена до дыр. Лена, заплаканная, еще больше подурневшая, убежденно шептала Тамаре, что это месть — Семенов, такой гладенький, такой цивилизованный, был, конечно, связан с криминалом, с мафией, с Чечней, а о том, что в гибели банкира подозревают Анатолия, «знали все». Тамара кивала, но больше доверяла предположениям своего алюминиевого босса, кивавшего на тестя Покатаева. Он-де был связан с еще более темными, чем Семенов, силами, и зятя не любил откровенно. Поговаривали о неких таинственных, но очень влиятельных людях, интересы которых пострадали в результате злополучного финта Покатаева с пресловутой пленкой. Самоваров почему-то вспоминал и угрозы Слепцова. Словом, пересудов было достаточно. О том, что происшествие у «Паразита» как-то связано в гибелью Кузнецова, никто даже и не упоминал. Если делом Семенова еще занимались, отцы города по поводу и без повода клялись найти и покарать, а «Приватбизнесбанк» установил неправдоподобно большую награду за любые сведения по делу (тотчас посыпались многочисленные заявления от алчных дураков и умалишенных; никто из бывших в июне в Афонине на награду не клюнул), то дело Кузнецова заглохло.
Оксана, девушка Покатаева, к зиме уже уехала в Москву делать карьеру. Стало быть, кто-то все же сделал ей грудь, но кто именно, осталось тайной.
Погребение Семенова прошло с неслыханной помпой. Были ганнибаловы клятвы губернского руководства и местных финансистов над свежей могилой, заваленной безуханными гвоздиками из городских оранжерей, голландскими розами, фрезиями из Ниццы и цветами банана неизвестно откуда. Местная пресса так расстаралась, что результаты вылились за пределы ожидаемого и разумного. Оказалось вдруг, что Семенов был чуть ли не единственной надеждой новой России, ее спасителем и благодетелем. Неизбежно всплыла благотворительная деятельность покойного, а его меценатство по мощи и значению приравнено было к деяниям всех известных Савв и еще П.М. Третьякова, вместе взятых. Над гробом и на экранах телевизоров рыдали толпы никому не ведомых экзальтированных пенсионерок. Один отряд траурного почетного караула был составлен из членов Союза художников, явивших тут миру невиданный парад бород всех возможных фасонов и окрасов. Вдова покойного мгновенно издала фотоальбом о его жизни. Владимир Олегович был там представлен во всех видах — от одутловатого голенького грудничка, лежащего на каком-то полотенце, до сладко улыбающегося дельца на форуме в Давосе. Хотелось вдове снабдить фотографии выразительными цитатами из наследия покойного, которые отразили бы его незаурядный внутренний мир. Но Семенов никогда не писал ни стихов, ни прозы, ни даже, как истинно цивилизованный человек, частных писем. Вдова нашла остроумный выход, накрошив и разбросав по всему изданию кусочки из сочинения на тему «Делать жизнь с кого», которое Семенов списал у соседки по парте в восьмом классе. Сочинение потом дважды целиком читалось по радио в передаче «Люди земли Нетской». Созданная Семеновым в банке коллекция живописи была дополнена кое-чем не нравившемся вдове по расцветке из его личного собрания. В новеньком здании «Приватбтзнесбанка», напоминающем наружно мясохладобойню времен первых пятилеток (таков был моднейший на момент постройки архитектурный стиль), выделили большое помещение для экспозиции. Презентация прошла шумно. На мраморном столбе у входа появилась элегантная медная табличка, на которой было насыпано красивыми мелкими буквами «Семеновская галерея». Неизвестно, кому пришла в голову идея таким образом увековечить память усопшего мецената (поговаривали, что для подобных целей банк держит эксклюзивного имиджмейкера, выписанного из Москвы; некоторые даже его видели и характеризовали как элегантного брюнета с длинной, в пояс, косой). Эта табличка возбудила благородную ревность в преемнике Семенова, и он взялся коллекционировать фарфор и бронзу.
Посмертная выставка Кузнецова прошла куда менее пышно, хотя и она впечатляла. Вдове удалось многое с нее выгодно рассовать, в том числе в Семеновскую галерею. И альбомчик тоже вышел, но тощенький и бледный. Вообще же и скорбь и горечь от потери гения улеглись поразительно скоро. Люди искусства чрезвычайно ревнивы, и если нет у них какой-либо нарочитой выгоды или уговора, забывают они друг друга, как прошлогодний снег. Так вот моментально, со вкусом, был забыт и Игорь Кузнецов.
Валька, последняя муза гения, исчезла еще в роковом июне. Самоваров решил, что она вернулась к себе в Пыхтеево, и искренне за нее порадовался. Но недели две тому назад случилось ему быть на Дзержинском рынке (название, конечно, неофициальное, оно осталось от старого режима, как некогда изустно выживали названия, оставшиеся от режима царского). Там он и увидел Вальку. Вокруг нее трепетала бело-голубая полосатая палатка. На прилавке топорщились кульки с макаронами, крупой, карамельками. Валька была в громадных валенках, пуховой шали и дорогой дубленке, лоснившейся спереди от соприкосновений с прилавком. Ее лицо, бывшее таким нежным в кузнецовской мастерской, на морозе и ветру горело тяжелым лиловым огнем, но голубые глаза блестели. Она переговаривалась и пересмеивалась с подружкой, торговавшей рядом селедкой. Наконец, подружка нырнула под бело-голубую сень. Обе они присели под прилавок, сдвинулись пуховыми головами, долго со смехом отвинчивали какую-то крышечку, хлебнули и захохотали, прикрывшись рукавицами. Самоваров незаметно отошел в другой базарный ряд, хотя ничуть не был удивлен.
Что прошло, то прошло. Сугробы фарфоровой белизны волнисто громоздились за Ярилиными воротами. В пустом промерзшем Доме смех Тамары из деланного постепенно стал живым, счастливым и очень участился. Значит, покупатель клюнул на часы, и возможно, на что-то еще.
По ее просьбе Самоваров начертал на грязной фанерке «Продается дом на слом», и ему в голову не пришло уже писать «дом» с заглавной буквы. Объявление на всякий случай прибили к воротам, вынесли и погрузили в джип часы без стрелок и какую-то корзину и тронулись в обратный путь. После нежилого промозглого холода в машине показалось тепло и уютно. Тамара указующе постучала пальчиком в перчатке в стекло, за которым, подпрыгивая вслед ухабам, исчезал дом:
— Как вы думаете, Николаша, объявление хорошо читается с реки? Может, кто из местных…
— Вряд ли до весны кто-нибудь сюда забредет, — отстраненно сказал он.
Сам он решил сюда больше не возвращаться.
FIN


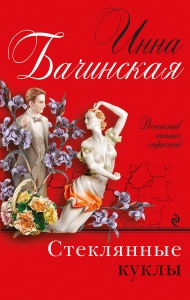


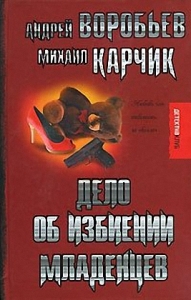

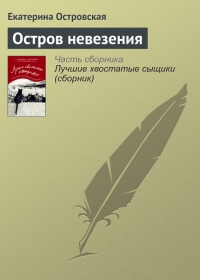




Комментарии к книге «Больше не приходи», Светлана Георгиевна Гончаренко
Всего 0 комментариев