Елена Арсеньева Магический перстень Веры Холодной
© Арсеньева Е., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Я вам не скажу за всю Одессу…
Из песни…Никто не знал, откуда он взялся. Никто не знал, чья рука его смастерила и кто первым надел его. О, конечно, каждый, кто становился его владельцем, мог бы припомнить, откуда у него появилась эта странная вещица, но беда в том, что владельцы его не заживались на свете, а если и заживались, у них непременно находились гораздо более важные дела, чем затруднять свою память воспоминаниями о такой безделице…
* * *
«Кажется, всё, – подумала Алёна. – Хватит играть. Пора начинать. Ох, ужас… Ну, на счет раз!»
Она не без усилия открыла глаза, которые жмурила с таким старанием, что мокрые, соленые ресницы слиплись, и тотчас же встретила растерянный взгляд Ромки. Поэтому прежде, чем парень успел открыть рот и заорать, что спасать больше никого не надо, Алёна сквозь зубы прошептала:
– Молчи! Мне нужно оказаться на яхте. Как только они начнут со мной возиться, садись на свой байк и мотай отсюда! И сразу позвони Арнольду!
Она снова зажмурилась, и тут же раздался звук чего-то тяжело упавшего в воду. Она сейчас совсем не казалась ледяной, а, наоборот, обжигала напряженное от страха тело! И в это время голос, показавшийся знакомым, с насмешливой вальяжностью произнес откуда-то сверху, наверное, с борта яхты:
– Ну, давайте сюда вашу утопленницу. Хоть я и придерживаюсь принципа, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но на красивых женщин этот принцип не распространяется. Помогите-ка мне, молодой человек, загрузить ее в этот гамак. Давайте подведем снизу… вот так! Ишь ты, кто бы мог подумать, что мы будем использовать эту сугубо развлекательную принадлежность в качестве сетки для ловли русалок!
Раздался женский смешок, тоже показавшийся Алёне знакомым, а потом она почувствовала прикосновение каких-то грубых веревок к телу, и тот же вальяжный голос скомандовал:
– Подсекай! И вира помалу!
Алёну потянуло наверх, веревки врезались в тело, она вдруг ощутила, что повисла над водой и поднимается все выше и выше, потом качнулась в сторону, начала опускаться – и не выдержала: открыла глаза, чтобы увидеть сияющее под солнцем, самое синее в мире Черное море вокруг, пляж Лонжерон – уже очень далеко, палубу яхты – очень близко, а еще – себя, скомканную и мотающуюся в какой-то большой мокрой сетке, подобно скумбрии, которую небрежная хозяйка тащит с Привоза и помахивает ею на ходу. И вдруг раздался внезапный рев аквабайка и изумленный крик:
– Куда же ты, парень? Куда помчался? А что нам делать с этой русалкой?
А потом она услышала голос, который уже не был вальяжным – в нем звучало опасное напряжение:
– Стоп машина! А теперь я хочу понять, что все это значит. Русалка она или подсадная ри‑и‑иба…
Алёна почувствовала, что сетка, которая уже начала было опускаться, зависла между небом и землей, вернее, между небом и палубой. Она снова вспомнила о скумбрии, которую хозяйка тащит с Привоза, небрежно раскачивая сетку. Ри‑и‑иба…
Тут у Алёны свело челюсти от приступа тошноты, нестерпимо, до бешеного звона в ушах, закружилась голова, а в следующее мгновение она лишилась сознания – на сей раз отнюдь не притворно.
* * *
– Кто его наслало на нашу голову, этого шмока? – с отвращением спросил плотный, коротконогий человек с узкими глазами, сидящий на стуле с розовым шелковым сиденьем и неудобной гнутой спинкой. – Скажи, Шмулик, откуда взялась эта белопогонная саранча на наши тучные одесские нивы?
– А я знаю? – развел руками высокий, тощий Шмулик Цимбал, сын башмачника Цимбала с Малой Арнаутской улицы. – Говорят, с самого адмирала Колчака. А может, с Деникина.
– Да мне что Колчак, что Деникин – оба два поца, порядок у себя в стране не могут навести да еще в чужое государство лезут, где есть свой король! – рявкнул его собеседник. – И они мне шлют еще этот чирей по имени Лёдя Гришин-Алмазов?! И шё я должен за это делать? Сидеть тихо и ждать, пока он ко мне придет и выпалит в лоб? Ну, вам говорит Миша Япончик, король Молдаванки: этого не будет! Таки нет!
Шмулик только кивнул и промолчал, потому что молчание, а это всем известно, и даже не только в Одессе, – знак согласия. И этот знак лучше подавать почаще, когда ты стоишь перед Мишей Япончиком, королем Молдаванки, а значит, всей Одессы-мамы, и он изливает тебе свою больную душу.
Миша фыркнул сердито, поудобнее устроил на шелковом сиденье свой величественный зад и щелкнул пальцами:
– Картинку нашел? Покажь.
Шмулик сунул пальцы в пришитый под жилеткой глубокий карман и вынул оттуда три открытки, которые по приказу Миши купил нынче в писчебумажной лавочке. Много чего исчезло из тех лавочек, да и не только из них. Даже из магазина «Образование», где раньше было все и даже больше! Теперь днем с огнем там нельзя, к примеру, найти разноцветную, гофрированную, коленкоровую бумагу, из которой тетя Песя, мамаша Шмулика, делала необычайно красивые бумажные розочки и хризантемочки для гойских могильных веночков. Исчезла она, исчезли перышки «коссодо», «рондо», «номер восемьдесят шесть», «Пушкин» и все прочие, и чернила исчезли, как будто после революции добрые люди должны были писать пальцем. Исчезли лакированные скрипучие пеналы, исчезли карандаши и ластики, исчезла дорогая александрийская бумага, исчезли промокашки и тетрадки! А открытки с изображением темноволосой и темноглазой женщины остались. Но нет, они не стояли, покрываясь пылью! Их покупали, да еще как! Можно было подумать, это были не картинки, а последний чирус[1] в Черном море! Шмулик еле успел схватить эти три картинки. Они ему не сильно понравились, но других уже не было. Приказчица клялась, что «завтра привезут еще», но, во‑первых, Миша велел – сегодня, а во‑вторых, кто может сказать, наступит ли оно когда-нибудь вообще, это «завтра», при таком клятом «сегодня», какое мы все имеем с того главного большевистского адиёта, вечно бы его папаша чистил на том свете ватерклозеты для покойного государя-императора с семейством!
Так рассудил Шмулик Цимбал – и купил те открытки, что были.
– Кака прэлесть… – с отвращением пробормотал Миша, принимаясь их разглядывать. Но постепенно губы его растянулись в улыбке: – Тощая, четверть курицы, а на мордочку – ингеле![2] Скажешь, нет?
На первой открытке женщина была в котиковой шубке и большой темной бархатной шляпе. И взгляд ее темных, тоже бархатных глаз ласкал и томил душу.
На второй открытке она была в костюме цыганки. Глаза – безумные, мятежные…
На третьей она танцевала, обнимаясь с мужчиной во фраке так, что сразу можно было понять: этот танец добром для ее супруга, который сидит себе где-то дома и кушает свою малосольную овечью брынзу, не кончится.
Миша покачал головой, а потом вдруг – ну, видать, сильно его пробрало! – запел:
Под небом знойной Аргентины, Где женщины опасней тины, Под звуки нежной мандолины Танцуют там тангó… Там знают огненные страсти, Там все покорны этой власти, Там часто по дороге к счастью Любовь и смерть идут!Это была песенка из модной фильмы «Последнее танго», и пела ее той зимой вся Одесса.
Миша пел и мрачно смотрел в окно подвальной комнатенки, сквозь которое был виден только маленький краешек этого мира: обрезок тротуара с выщербленными камнями и – редко-редко! – чья-нибудь нога, шагающая мимо. Окошко было такое малехонькое, что вторая нога прохожего мелькнуть просто не успевала, а оттого казалось, будто все одесситы вдруг обзавелись дурной привычкой ходить на одной ноге.
Виноват в том, что Миша Япончик сидел в подвале и смотрел на одноногих одесситов, был не кто иной, как чирей и белопогонная саранча Гришин-Алмазов, диктатор Одессы. И ему предстояло за это ответить…
В далекой южной Аргентине, Где небо южное так сине, Где женщины, как на картине, – Там Джо влюбился в Кло… Чуть зажигался свет вечерний, Она плясала с ним в таверне Для пьяной и разгульной черни Манящее тангó!– Слушай здесь, Джо, то есть Кло, то есть – тьфу! Шмулик, – сказал Миша, переставая петь. – Смаклеруй мне это дело, и ты не будешь знать беды и нужды никогда в жизни.
Шмулик тяжко вздохнул. Что здесь можно было сказать, кроме ничего?!
– Миша, ты знаешь, шё я готов сделать твое дело так же охотно, как матрос с «Синопа», который месяц жрал одну только тухлую солонину, готов пойти покушать орехового мороженого в заведении Кочубея в Городском саду, – сказал печально Шмулик. – И все-таки, Миша, прости меня за эти слова, ты уверен, что хочешь прищемить мошонку Лёде Гришину-Алмазову? Шё тебе этих мучений?! Сделай ему лох ин коп, дырку в голове, и пускай спит себе спокойно. А то ведь он как пить дать найдет, кто ему насажал этих вошей. Ты хочешь, чтобы потом он снова прошелся турецким маршем по нашей Молдаванке, похлеще, чем в прошлый раз? Ты этого хочешь?
– Я хочу этого так же, как молодая жена хочет прыщей на спине в свою первую брачную ночь, – сказал Япончик. – Но душа Гришина-Алмазова черней, чем пиковая масть. Прищемим мы ему стыдное место или нет, он все равно не отстанет от нашей Молдаванки, пока не насосется крови, будто трефная[3] свинья. А сделать ему лох ин коп не так просто, как хочется. Но мне надоело сидеть в этом подвале и смотреть божий мир с овчинку. Мы не будем с ним панькаться, не дадим ему все время ходить с козырей. Хоть раз, да сорвем банк! Мы бросим ему нашего шута[4]. И ему придется зажать очко, таки да. А шутом будешь ты, Шмулик.
Миша поднялся со стула и вперил в Шмулика свои узкие глаза, за которые его и прозвали Япончиком. Шмулику почудилось, что в него вонзилось два узких ножичка: один в правое подреберье, другой – в левое.
– Шмулик, иди! Миша говорит мало, и он уже все сказал. Вопросов быть не надо!
– Я иду, – обреченно сказал Шмулик. – Я иду, Миша, но помяни мое слово – ты ошибаешься.
– Ошибаются все, даже бог, что бы там ни говорил себе, – безмятежно ответил Миша, двумя толстыми пальцами (на каждом сидело по два бриллиантовых перстня, рассыпающих снопы искр) берясь за борт своего пиджака. Шмулик знал, что под мышкой Миша Япончик, король Молдаванки, носит «Велодог». Револьвер был маленький, чтобы не портить покроя оранжевого пиджака в обтяжку, однако из него Миша стрелял так же ловко и стремительно, как авиатор Уточкин делал вираж над Лонжероном на своем лупоглазом, курносом самолетике, похожем на стрекозу.
Поэтому Шмулик вышел как мог быстро. При этом он успел прихватить из прихожей огромный, шуршащий, окутанный шелковой бумагой сверток. От свертка пахло нежно-нежно, сладко-сладко, однако Шмулик старательно воротил от него свой горбатый нос.
Прикрывая дверь, он услышал, как скрипнул стул с розовым сиденьем и гнутой спинкой под грузным телом короля Молдаванки, а потом раздался безмятежный, фальшивый голос:
Но вот однажды с крошечной эстрады Ее в Париж увез английский сэр… В ночных шикарных ресторанах, На низких бархатных диванах, С шампанским в узеньких бокалах Проводит ночи Кло. Поют о страсти нежно скрипки, И Кло, сгибая стан свой гибкий, И рассыпая всем улыбки, Танцует вновь тангó…И Шмулик понял, что Миша опять смотрит на открытки.
* * *
Вся эта совершенно безумная, практически бешеная история началась в четверг вечером, когда Алёна Дмитриева прибыла в Одессу. Самолет из Москвы прилетал в двадцать три часа по местному времени, а пока пассажиры вышли из самолета и миновали пограничный контроль, время приблизилось к полуночи.
Пряча под обложку паспорта хиленький листочек газетной бумаги под гордым названием «Імміграціiна карта», Алёна чуть ли не последней вышла в пустой и маленький зал ожидания Одесского аэропорта, и тут же он наполнился невесть откуда взявшимися людьми, преимущественно мужчинами, и все они бежали к Алёне с одинаково жадным выражением на разнообразных лицах. Это было похоже на сон невостребованной эротоманки… однако наша героиня была весьма разборчивой особой, поэтому ничуть не обрадовалась, а, напротив, насторожилась и приняла самый равнодушный вид. Толпа мужчин чуть сбилась с ноги (вернее, с ног), и они вновь рассредоточились по углам аэропорта, слившись с окружающей обстановкой: стойкой маленького бара, будочками билетных касс, стендом продавщицы газет, вертушкой упаковщика багажа, банкоматом и прочими реалиями зала ожидания.
Но один мужчина перед ней остался-таки. Он был низенький, кругленький и лысеющий, однако держал себя так, словно был могучим и сильным мужем. Первым делом он попытался вырвать ручку чемодана-тележки из рук нашей героини, а когда ему это не удалось (все-таки в Алёне Дмитриевой было 172 сантиметра роста и 65 кэгэ живого веса, поди-ка отними что-нибудь у столь фактурной женщины, да еще писательницы-детективщицы!), попытался обольстительно улыбнуться и вопросил:
– Машинку, мадам? Эх, прокачу?
Итак, племя неизвестных мимикрийцев оказалось всего лишь племенем одесских водил-шабашников.
Что такое вокзальные и аэропортовские водилы, Алёна очень хорошо знала – как и то, что поблизости непременно будут кучковаться чайники с более милосердной таксой.
Она сделала непроницаемую физиономию и буркнула:
– Спасибо, меня встречают.
Однако ее ожидало разочарование. На площади стояли, конечно, автомобили, но все водительские места пустовали, из чего можно было заключить, что их хозяева ловят фортуну в зале ожидания. Лишь около одной машины – светло-серого «Мерседеса» со светящимся трафаретом «Taxi» на крыше – стоял, сложив руки на груди, высокий мужчина в такой пронзительно-белой рубашке, что она словно бы освещала в густой тьме южной ночи его смуглое худое лицо с четкими чертами (в которых было, как показалось Алёне, нечто ассирийское), обрамленное длинными, чуть вьющимися, черными, слегка тронутыми сединой волосами. В его молчаливой несуетливости было что-то очень внушительное и надежное.
Алёна направилась было к нему, однако первый претендент на ее кошелек, оказывается, никуда не делся, не отступил разочарованно, не признал свое поражение, а следил за каждым ее шагом, и теперь кинулся следом, почему-то расставив руки, словно наша героиня была беглой курицей, а он – хозяйкой, решившей во что бы то ни стало загнать строптивицу в курятник.
Алёна взглянула поверх его головы на молчаливого «ассирийца», но тот невозмутимо смотрел в сторону.
– Такси! – крикнула она.
Он чуть качнул головой и мягким, по-южному протяжным голосом, но довольно отстраненно проговорил:
– Такси заказано.
Алёна вздохнула и отвернулась от него.
– Сколько до гостиницы «Дерибас»? – обреченно спросила она своего «опекуна».
– Двести пятьдесят гривен, – ляпнул он не задумываясь, ловя глазами ее глаза.
От такси послышался странный звук, как если бы «ассириец» подавился. Впрочем, Алёна и без посторонней помощи понимала, что ее попросту хотят ограбить.
– Надеюсь, хотя бы некоторые детали вашей машины позолочены? – высокомерно спросила она.
– Шё? – растерялся «опекун». – А вам оно надо?
– За такие деньги на не позолоченной машине не поеду, – категорично сказала Алёна.
«Ассириец» подавился вторично.
– А за сколько поедете? – с надеждой спросил «опекун».
Вот когда Алёна жестоко изругала себя за то, что не заказала такси по телефону, когда бронировала номер в «Дерибасе»! Или хотя бы не спросила, сколько стоит проезд от аэропорта! Придется отвечать наобум Лазаря.
– За двести, а? – жалобно проныл «опекун».
– За сто пятьдесят! – решительно ответила Алёна.
«Ассириец» опять сделал что-то странное своим горлом.
Много она готова заплатить? Или, наоборот, мало?
– Эх, – разочарованно сказал «опекун». – Ладно, поехали… только для вас соглашусь. Эксклюзивно!
Собственно, в голосе его сквозь разочарование пробивались-таки ликующие нотки, из чего Алёна сделала вывод, что ее эксклюзивно обдурили. Да ладно, выбора-то нет.
– Поехали, – покорно вздохнула она.
«Опекун» немедленно вцепился в ее чемодан, и больше Алёна не сопротивлялась.
«Не позолоченной машиной» оказался очень симпатичный желтенький «Ситроен». Погрузились, поехали.
– Вы не на кинофестиваль приехали? – заискивающим тоном спросил водила. – На какую-то артистку похожи…
Наверное, он все же чувствовал некую неловкость и пытался такой нехитрой лестью смягчить пассажирку.
– А что, тут будет фестиваль? – оживилась Алёна. – А когда?
– В конце июля.
– Это через месяц, что ли?! – расхохоталась Алёна. – Сейчас еще даже не конец июня!!! И что бы мне делать целый месяц?!
– Да мало ли шё? – философски рассудил водитель. – В Одессе всегда есть шё делать!
Алёна поглядывала по сторонам, хотя пока смотреть было особенно не на что. Извилистая дорога, по темным обочинам какие-то, с позволения сказать, сараи с традиционными вывесками «Автомастерская», «Автомойка», «Автосервис», «Авторемонт»… Как-то все очень обыкновенно. А где ж местный колорит? Мы в иностранном государстве или шё?!
Алёна с удовольствием вспомнила, сколько чистой лингвистической радости доставило ей сидение в самолетном кресле. Там были такие очаровательные объявления… «Застебнути ремни безпеки», «Рятувальный жилет пiд вашим сидiнням», «Инструкцiя з безпеки»… Ну о‑очень, о‑чень задушевно!
Местный колорит по-прежнему не спешил себя проявлять, но вот как-то вдруг, помотавшись по плохо освещенным улицам, «Ситроен» остановился на перекрестке, и на указателе мелькнули волшебные названия: «Гаванная» и «Дерибасовская». Алёна восторженно вздохнула: да ведь это и в самом деле Одесса!
– Вон ваша гостиница, – показал водитель. – Ближе подъехать не могу: Дерибасовская – пешеходная улица. Но, если угодно, чемоданчик ваш до крылечка донесу.
– Спасибо, давайте, – согласилась Алёна, расплачиваясь купленными еще в Москве гривнами.
Она выбралась из машины и замерла, оглушенная. Было такое ощущение, что на нее обрушилась лавина ароматного шума – или шумного аромата, кому как больше нравится. Одуряюще пахло чем-то цветочно-сладким, южным, жарким. И в то же время раздавался жуткий, оглушительный грохот.
– Что это пахнет? – крикнула Алёна, хватая за рукав водителя, который уже вытащил из багажника ее чемоданчик и напористо поволок его через дорогу. Колесики бойко подскакивали на мостовой, но ни звука не доносилось до Алёны. Поскольку водитель не обернулся, можно было догадаться, что вопроса он не слышал. Значит, не услышит и второго: «Что это за шум?!»
Ей хотелось остановиться и поглядеть на Дерибасовскую, ей хотелось осмыслить сам этот факт: она стоит посреди Дерибасовской! – но разрывающий мозг, нервы и уши шум не давал сосредоточиться.
И тут же Алёна поняла, откуда этот шум исходит. Напротив гостиничного крыльца находилась стройплощадка. Там ремонтировали и обновляли какой-то старинный дом, и работа воистину кипела, несмотря на то, что было уже около часу ночи.
Тем временем водитель рысью добежал до двери, около которой висела скромненькая, но весьма интеллигентная золотая с черным табличка, извещавшая, что для входа в отель «Дерибас» нужно нажать на кнопку автоматического открывания двери или воспользоваться «ключом постояльца». Пока Алёна читала табличку, водитель прислонил к двери ее чемодан и, беззвучно пошевелив губами, – видимо, попрощавшись, – зажал уши и бросился к своей машине во всю прыть.
Алёна поспешно нажала на кнопку. Дверь открылась, она проворно проскочила в коридор – и сначала вздохнула с облегчением, потому что шум сразу стал тише, но тотчас с ужасом покачала головой, потому что прочла очередную интеллигентную табличку: «Отель «Дерибас», 3‑й этаж».
Эх, зря она водилу отпустила! Если уж не смог обеспечить ей позолоченную машину, должен был чемодан не до крылечка, а до номера дотащить!
Но после драки кулаками не машут. И Алёна поволокла наверх свой совсем даже не легкий чемодан, в котором, кроме всего прочего, необходимого для трехдневного пребывания красивой женщины в чужом, вдобавок – южном, курортном и жарком городе, лежало несколько пар танцевальных – точнее, танговских – туфель.
Боже мой… неужели вы еще не знаете, что Алёна Дмитриева страстно, самозабвенно увлекалась самым чувственным и в то же время самым интеллектуальным танцем на свете – аргентинским танго?! Ну, так это истинная правда. И в Одессу она приехала хоть и не на кино-, но все же на фестиваль – фестиваль аргентинского танго. Мастер-классы с аргентинскими преподавателями, милонги, то есть вечеринки, на которых танцуют только аргентинское танго… ах, как же любила Алёна весь этот праздничный, музыкальный, волнующий мир прекрасных движений лучшего в мире танца! А чтобы хорошо танцевать, нужны хорошие туфли. Желательно подходящие к каждому платью. А для каждой милонги – платье свое! Именно поэтому в чемодане Алёны, кроме всего прочего, лежали не только три нарядных платья, но и четыре пары туфель. Три для милонг, а одна для тренировок. А это какой-никакой, а все же вес…
Наконец она вскарабкалась на третий этаж. Прямо на площадке стоял маленький столик дежурной.
– Добрый вечер, вернее, ночь. Я бронировала номер. Елена Ярушкина меня зовут, – сказала Алёна.
– Добрый, – так уныло ответила дежурная, что Алёна насторожилась:
– А что такое? Какие-то проблемы? Номера нет, что ли?
– Номер-то есть, – вздохнула девушка. – Да там шумно.
– Шумно?! – встревожилась Алёна, вспоминая сущий ад, царивший снаружи. – Только не говорите мне, что мое окно выходит на эту ужасную стройку!
Дежурная кивнула:
– Не скажу. Но ведь вы сами увидите!
Она не без труда выбралась из-за столика (столик был маленький, а дежурная – больша-ая такая деваха с бейджиком «Татьяна Мазур» на необъятном бюсте), взяла ключ и проводила Алёну до двери с номером десять. Открыла ее…
– Спасибо, – сказала Алёна, пятясь. – Большое человеческое спасибо. Я лучше пойду в другую гостиницу или останусь жить прямо вот тут, на площадке. Около вашего столика. Здесь потише. А обстановка в номере – не для моих слабых нервов. Каждую ночь спать в таком ужасе… Да меня первым же утром в психушку надо будет увезти!
– Да не каждую ночь! – воскликнула дежурная. – Они в девять вечера уже уходят все. Но им сегодня по графику надо что-то срочно закончить, как раз на этой стороне здания. Они специально предупредили, что до трех ночи будет очень шумно. А вообще-то такого кошмара даже днем не бывает. Я сказала постояльцам, что работа до трех, так некоторые нарочно в ресторан пошли, чтобы пересидеть и заодно повеселиться. Может, и вы… А? – Она с намеком улыбнулась Алёне. – Осталось-то всего два часа! Там, внизу, отличный ресторан!
– Я стараюсь не наедаться на ночь, – высокомерно ответила наша героиня, и Татьяна со вздохом окинула взглядом ее стройную фигуру… но это был вздох не зависти, а сочувствия.
Алёне стало смешно, и она миролюбиво предложила:
– Давайте решим вопрос проще: вы меня поселите в другой номер, окна которого выходят на противоположную сторону. Вот и все.
Татьяна задумалась.
– Понимаете, все номера-то заняты, – сказала она виновато. – На той стороне жить желающих много… Те, кто у нас часто останавливаются, знают, что к чему…
– А я не знала, – мрачно констатировала Алёна. – Вот и попалась, как тот кур в тот ощип.
– Таки да… – кивнула Татьяна. – Вообще-то один свободный номер есть…
– Ну?! – оживилась Алёна. – Так в чем же дело?
– Дело в том, что женщина, которая забронировала этот номер, приедет в девять утра с вокзала. То есть номер был заказан с сегодняшнего вечера, но она вот буквально перед вашим приездом позвонила и предупредила, что задерживается.
– Слушайте, – сказала Алёна, – но ведь до девяти утра масса времени! Я успею выспаться и смыться.
– Ага, а мне там потом убирать… – проворчала Татьяна и бросила на Алёну выразительный взгляд.
Так… Понятненько!
– И во что вы оцениваете эту уборку? – спросила Алёна покорно.
– Ну, гривен в пятьдесят… – задумчиво сказала Татьяна.
Алёна кивнула. Сто пятьдесят рублей (а таков нынче курс хохлобаксов к рублю, один к трем) за то, чтобы перестелить постель, это круто, но ее они не разорят.
– Договорились.
– Тогда так, – заговорщически шепнула Татьяна, – вы вещички в своем номере оставьте, в десятом, двери закройте на ключик, переоденьтесь на ночь, а потом идите до пятнадцатого номера. Ну, сумочку свою с деньгами и документами прихватите, чтоб не думалось. Поспите спокойненько, а утречком, уж не позднее, чем в полвосьмого, я вас разбужу. Утром и оформите свое проживание. А то сейчас позднотища, глаза закрываются.
Алёна была с ней полностью согласна. Она получила ключ с номером десять на блямбе, потом переоделась в своем очень симпатичном, но дико шумном номере и, в ночнушке, халате и тапочках, с сумочкой через плечо, пронеслась в номер пятнадцать. Сюда, конечно, тоже долетал шум, но гораздо более мирного, даже как бы убаюкивающего свойства. Алёна поставила будильник на двадцать минут восьмого, упала в постель и, с блаженным стоном вытянув усталые ножки, закрыла глаза.
Морфей, который уже давно нетерпеливо переминался с ноги на ногу, немедленно бухнулся рядом и заключил нашу героиню в свои объятия…
Она уже почти спала, когда вспомнила, что надо отключить звук у телефона, чтобы какая-нибудь сила нечистая не вздумала прислать среди ночи эсэмэску кретинско-рекламного свойства. Потыкала в сенсорный экран своей «Нокии» пальцем, выбрала команду «Без звука» и наконец-то уснула крепко и сладко.
Но, к сожалению, спустя какое-то время Алёна проснулась от громкой, протяжной мелодии – сигнала о поступившем сообщении. Неужели все-таки не отключила звук?!
Алёна вскинулась, ненавидя саму себя за рассеянность, а сенсорные экраны – за нечувствительность, однако ее телефон лежал темен и нем. Опция «Без звука» была задействована.
Приснилось, что ли?
Алёна снова откинулась на подушку и только закрыла глаза, как вдруг сигнал раздался снова.
Алёна включила бра у изголовья и выдвинула верхний ящичек тумбочки, но там, кроме «Пам’ятки для пожильца», не оказалось ничего. А во втором ящичке обнаружился источник беспокойства: «Нокиа», такая же, как у Алёны, только в обычном черном, а не в белом с красными драконами, корпусе. Наша героиня, видите ли, была по году Драконом, да и вообще не любила ничего черного, хоть это и культовый танговский цвет.
Алёна машинально нащупала кнопку блокиратора, машинально сдвинула ее, прочла надпись на дисплее: «Вам 2 новых сообщения» – и так же машинально открыла их.
Первое сообщение гласило: «Летящее сердце». При нем имелся смайлик-улыбочка:
Второе: «Извини, если разбудил».
– А вот возьму и не извиню, – проворчала Алёна, размышляя, что здесь делает этот телефон.
Его, конечно, кто-то оставил. Вряд ли прежний постоялец – непременно сообщил бы в гостиницу и потребовал свое имущество назад. Скорей всего, это телефон горничной, которая здесь убирала. Случайно сунула телефон в ящик – да и забыла. Надо утром сказать об этом дежурной. Хотя нет… лучше не говорить, ведь тогда она увидит, что сообщения открыты и прочитаны. И у нее будут все основания посчитать Алёну бесцеремонной особой, которая сует нос в чужие дела.
Она машинально поглядела на номер: +380 и сколько-то там, и еще две пятерки… судя по первым цифрам, сообщение отправлено из Одессы, и подумала, что этот бесцеремонный посылатель вполне может написать что-то еще, а потому отключила звук и в этой «Нокии». Ничего, утром включит, когда проснется. И Алёна снова улеглась, и закрыла глаза, и уснула, ох, счастье…
Она спала очень крепко и еле заставила себя проснуться от размеренного дриньканья будильника и вскочить, и, схватив сумку, накинув халат, перебежать по пустому, сонному коридору в десятый номер, где уже было тихо, невероятно, восхитительно, блаженно тихо, и бухнуться в постель (теперь уже законную свою!), чтобы снова уснуть, уснуть, уснуть…
* * *
– Добрая госпожа… добрая госпожа, спаси мою дочь, а я спасу тебя!
Мария Васильевна изумленно оглянулась: откуда доносится этот странный, гортанный голос? Показалось, что заговорила куча мусора, на которую чуть не наехала ее карета. Да это женщина в лохмотьях, ужасная, грязная нищенка!
– Пошла прочь, пошла! – зашумел лакей, пытаясь пнуть говорящую охапку лохмотьев.
– Спаси ее… и я спасу тебя! – снова выкрикнула нищенка.
– От чего же ты хочешь меня спасти? – спросила Мария Васильевна, и лакей оторопел, с изумлением на нее уставился, да и она сама ушам не поверила, услышав свой голос.
Да мыслимо ли это?! До кого она снизошла – она, Мария Васильевна Столыпина, урожденная Трубецкая, одна из первых красавиц Петербурга, бывшая фаворитка наследника-цесаревича Александра Николаевича?![5]
– Ты несчастлива в любви, – прохрипела нищенка. – Ты теряла то, что находила, а сейчас не можешь обрести то, о чем мечтаешь. Я дам тебе заветный талисман… и происки старухи будут напрасны, ее сын поведет тебя под венец! И ты вернешь себе того, кто давно был тобою потерян!
– Госпожа, ваша милость, да вы только велите… – пробормотал потрясенный лакей. – Эта грязная тварь совсем забылась…
– Погоди, – остановила его Мария Васильевна. – Ты говоришь – происки старухи будут напрасны?..
Из лохмотьев послышался стон, потом шепот – уже чуть слышный:
– Возьми перстень, который висит на шее моей дочери… но если не спасешь моего ребенка, он потеряет силу…
Она пробормотала еще несколько слов на непонятном языке – и стихла.
– Ишь ты, – озадаченно сказал лакей, наклоняясь, – неужто померла гречанка?
– Откуда ты знаешь, что это гречанка? – обернулась Мария Васильевна.
– Слышал, как они в лампадной лавке промеж собой калякают, – пожал плечами малый. – В греческой. На таком же наречии.
Надо было уйти. Не обращать внимания на слова. Это был просто предсмертный бред! Но откуда нищенка знала про старуху и ее происки? Откуда знала про ее сына? И откуда знала, что денно и нощно Марию Столыпину, первую красавицу Петербурга, терзают мысли о том, кто был ею так давно потерян?
– Померла, так и есть. – Лакей выпрямился и перекрестился. – А рядом с ней – младенчик в пеленках. Спит, да как крепко!
Мария Васильевна воровато оглянулась, но улица, на счастье, была пуста.
– Пусти меня, я погляжу, – шепнула она и, зажав нос платочком, стараясь не глядеть на потрясенную физиономию лакея, наклонилась над мертвой.
Женщина, чудилось, спала, однако сразу чувствовалось, что это покой смерти. Среди ее лохмотьев лежал сверток. Марья Васильевна брезгливо поворошила его одним пальцем. Тряпье развернулось, и она увидела крошечную спящую девочку. И против воли улыбнулась: ребеночек был на диво прелестен. Мигом вспомнилось, как хорош и чуден был ее новорожденный сын, которого она назвала Николаем в честь покойного государя-императора, коему была премногим в своей жизни обязана, и дурным, и благим, но звала она сына Булькой, веселя знакомых, которые не понимали причины такого выбора. Где им было знать, что хотя бы первой буквой этого прозвища она напоминала себе об истинном отце Бульки? Да, не от мужа, царство ему небесное, зачала сына Мария Васильевна, прожив в браке пять бесплодных лет. Она всегда знала, что создана лишь для одного мужчины на свете, для него, единственного… Его звали князем Александром Барятинским, и он был прославленным героем кавказских войн. Мари любила его всю жизнь, с тех пор, как ее, тринадцатилетнюю девочку, пятнадцатилетний князь Александр не то в шутку, не то дружески поцеловал на балконе… а он всю жизнь пытался скрыться от этой любви, брезгливо презирая ее за связь с наследником престола[6].
Мари казалось, что нужно удачно выйти замуж и забыть Барятинского, завертевшись в вихре семейных забот. Она думала, что брак сделает ее настолько значительней князя, что она сможет презрительно взирать на него с высоты своего положения, но слишком много сплетен ходило о красавице Мари Трубецкой, дурная слава вилась за ней по пятам, как запачканный шлейф платья, а потому пришлось смиренно принять то, что предложила судьба: не князя, не графа, а просто очень богатого отпрыска хорошего рода – Алексея Григорьевича Столыпина. Он влюбился в Марию Трубецкую во время одной мазурки, во время другой сделал предложение, во время кадрили получил улыбку, кивок, пожатие руки и ответ: «Я согласна!»
Ну что ж, это оказался взаимовыгодный брак, ведь Мари была близкой подругой Мэри, великой княжны Марии Николаевны, а потому Столыпин значительно поднялся по светской лестнице и сделался адъютантом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, за которого вышла Мэри. Ну, а Мари получила возможность распоряжаться огромным состоянием Столыпина (весьма своевременно, поскольку даже дом Трубецких на Гагаринской набережной был в это время продан за долги!).
Прекрасная госпожа Столыпина изменяла мужу направо и налево, и никто не мог понять, почему она хладнокровно и как бы даже мстительно наставляет ему рога. Для нее-то все было ясно: потому что он – не Барятинский!
Наверняка сплетни доходили до Столыпина, однако он предпочитал ничего не знать, ничего не слышать и не видеть. Это был подарок судьбы, а не супруг!
Но Мари часто задумывалась: а что у нее есть, кроме этого «подарка судьбы»? У нее нет даже намека на счастье! И нет детей.
Сначала Мария Васильевна думала, что беда в ней, ведь она не беременела не только от Столыпина, но и ни от одного из своих любовников. Что характерно, она нарочно их подбирала среди самых красивых мужчин, чтобы ребенок, если он будет зачат во чреве ее, родился красавцем.
Напрасно.
«Вот если бы Барятинский…» – упорно думала она, хотя совершенно непонятно, конечно, откуда бралась эта слепая вера, и почему Барятинскому удалось бы засеять то поле, которое упорно оставалось неплодородным несмотря на усилия столь многих сеятелей.
Но Барятинского в Петербурге не было, и одни только слухи долетали о нем с Кавказа. И вдруг было получено известие о том, что он возвращается! Опять раненый, опять покрытый славой…
Мари думала о нем так много и так упорно, что даже не сразу поверила своим глазам, когда увидела в доме графа Льва Сайн-Витгенштейна, за которого вышла замуж сестра Барятинского, подруга детских лет Мари – Леонилла. Он склонился перед Мари, приглашая на вальс.
Что случилось с ним, почему его вдруг повлекло к Мари, которую прежде он считал только достойной презрения, Барятинский и сам не знал. Он совсем не желал быть предметом светских сплетен, а пришлось им стать!
Такое ощущение, все всё знали уже на другое утро после той ночи, когда Мари ему отдалась. Знали в подробностях, в деталях, во всех тонкостях.
В довершение всего Мари вскоре сообщила любовнику, что она беременна.
Нет, не обманули ее предчувствия: Барятинский и впрямь совершил чудо! Она была счастлива и теперь строила планы, как разведется с мужем… конечно, государь, который к ней всегда благоволил, конечно, государыня, которая всегда была к ней милостива, конечно, Великий князь Александр Николаевич, который, быть может (наверняка!) не забыл ее, конечно, они посодействуют… впереди брак с Барятинским…
Мари строила далеко идущие планы, совершенно не подозревая, что в жизненных планах Барятинского нет места ни для нее, ни для этого ребенка, который, как втихомолку думал он, мог быть прижит неизвестно от кого. Скажем, от родного мужа!
Барятинский немедленно вспомнил, что вообще-то он не совсем отставлен от воинской службы, а находится в отпуске для поправки здоровья. И доктора предписали ему посещение курортов в Европе. Он немедленно почувствовал, как рана его обострилась, – и уехал из Петербурга почти с неприличной поспешностью, словно речь шла о спасении жизни. В Польше до него дошел слух, что в Петербурге появилась еще одна молодая и красивая вдова: бывший полковник лейб-гвардии гусарского полка Алексей Григорьевич Столыпин умер в Саратове от холеры.
Барятинский понял, что за этим последует требование жениться на вдовушке, и решил отступить от Мари с наименьшим уроном и сохранив достоинство. Князь Воронцов, наместник Кавказа, очень кстати назначил его командующим кабардинскими войсками. Он решил окончательно переехать на Кавказ.
Там он получил известие, что Мария Васильевна Столыпина родила сына.
Барятинский только плечами пожал, убежденный, что он тут совершенно ни при чем.
И накануне Рождества при дворе явился Барятинский… совершенно новый, неузнаваемый Барятинский!
Загорелое, обветренное, огрубевшее лицо, вид бравого служаки, новая походка и стать – он ходил теперь немного сгорбившись, опираясь на палку, – все это уничтожало прежнее представление об изящном царедворце. Более того, он передал все свое состояние брату, князю Владимиру Ивановичу Барятинскому, и теперь из богатейшего человека превратился в обычного военного служаку на государственном жалованье, которому, конечно, не по карману было содержать столь блистательную особу, как Мари Столыпина, урожденная Трубецкая. В свете являться он совершенно перестал, и теперь сватам, а также несостоявшейся невесте оставалось только развести руками и затаить обиду.
Озлобленность, которая охватила Мари Столыпину, не поддавалась описанию.
Теперь она знала одно: ей нужно, необходимо снова выйти замуж… причем за человека, принадлежащего к лучшим фамилиям России, к тому же такого, от которого Барятинский находился бы в зависимости. Этим браком Мари должна была возвыситься над ним. И был на свете только один человек, который мог дать ей желаемое возвышение и утешение уязвленному самолюбию.
Звали этого человека князь Семен Михайлович Воронцов, и он был… он был сыном наместника Кавказа. То есть сыном прямого начальника строптивого Барятинского!
Но тут, конечно, возникли препятствия… да еще какие! Воистину неодолимые!
Но откуда могла знать обо всем этом умершая гречанка? Откуда она могла знать о старухе?!
* * *
Вот уже несколько часов Алёна бродила по Одессе, сама толком не зная, куда идет, бесцельно переходя с улицы на улицу, упиваясь этим городом и его ароматом: кругом яростно, неуемно, навязчиво, сладостно и сладострастно цвели липы. Все фестивальные мастер-классы должны были начаться завтра, сегодня вечером предстояла только милонга, поэтому день у Алёны был свободен, и, оформив документы в гостинице, она решила использовать свободное время на полную катушку: обойти если не всю Одессу, то хотя бы центр ее. Дерибасовская, потом Ришельевская, она же – Потемкинская, лестница, и Приморский бульвар, и Екатерининская площадь, и Оперный театр (хотя бы вокруг походить!), Большая и Малая Арнаутские улицы, само собой, Привоз… И непременно заглянуть в Художественный музей! Как это можно: приехать в какой-то в город – и не побывать в Художественном музее?! Оставалось спросить себя, как все это успеть.
Но Одесса, чудилось, услужливо перемещалась мимо, охотно представляя желаемые достопримечательности. Стоило подумать об Оперном театре, как он тут же явился внизу Ришельевской улицы, а за ним открылся Приморский бульвар, и море блеснуло меж зарослей акаций и нелепым забором, который, невесть зачем, был выстроен вдоль всего берега, закрывая чудесный вид. Но когда Алёна дошла до знаменитой лестницы, море снова открылось, и она с восхищением ощутила то странное содрогание души, которое ощущают все сухопутные люди при виде моря вообще, а Черного – в особенности. Она прошлась по лестнице вверх и вниз и, неизвестно зачем, посчитала ступеньки, хотя где-то читала, что сначала их было двести, а потом семь засыпали при постройке набережной, так что теперь осталось сто девяносто три. И все же Алёна пересчитала ступеньки. Их получилось двести три. Наверное, у каждого своя Ришельевская лестница.
Тротуары чернели от шелковичных ягод, а одесские платаны, называемые также «бесстыдницами», раздевались особенно откровенно и то и дело с шумом и даже грохотом роняли обломки своей жесткой коры на тротуары, на головы прохожих и на автомобили, вызывая у их владельцев привычно-усталые и довольно философские восклицания. Алёна шла, куда-то сворачивая, по каким-то улицам поднимаясь, по каким-то – спускаясь, читая вывески, восхищаясь красотой названий (Военный спуск! Польский спуск! Лонжероновская улица! Греческая улица!), очень надолго зависла перед афишами Оперного театра (Опери та балету). Ей хотелось сходить на какой-нибудь спектакль, осталось только выбрать, будет это «Спляча красуня», «Лискунчик», «Князь Iгор» или «Бiлоснiжка та сiмь гномiв». Ну что ж… наверное, хохлы тоже валяются под какими-нибудь москальскими вывесками в судорогах смеха!
Наконец захотелось есть. Великолепное одесское мороженое не насыщало, а только вызывало желание съесть его как можно больше. Пора было направить стопы к Привозу. Алёна недолюбливала общепит, а потому решила купить домашней брынзы, помидоров, фруктов и поесть в гостинице. Она пошла по Пушкинской… здесь как-то особенно сильно свистели шины автомобилей по старой, изношенной мостовой. Можно представить, какой грохот стоял здесь в «ранешние времена», когда цокали копытами лошади и грохотали колесами извозчичьи пролетки! И где теперь те извозчики, те лошади и те пролетки? А мостовая – вот она.
Алёна шла и шла, пересекая улицы Греческую, Бунина, Жуковского, Еврейскую, Троицкую, Успенскую, Базарную, Большую Арнаутскую и Малую Арнаутскую, порой принимаясь озираться с восторженным выражением лица… но вот перед ней открылся Привоз, и она почти ошалела от этого феерического зрелища.
Создавалось впечатление, что Одесса решила накормить голодных всего мира, причем за никакие деньги. Сколько тут было всего! Глаза разбегались – это выражение на Привозе не казалось метафорическим, Алёна уже устала вертеть головой и пытаться их поймать и вернуть на место. А как тут говорили! Не то что на улицах, где звучала вполне обычная речь, по большей части русская, местами украинская. Сейчас Алёне казалось, что она попала в фильм «Ликвидация» – не в смысле гремящего выстрелами сюжета, а в смысле языкового антуража. Или в анекдот про одесситов!
Поскольку непременная принадлежность каждого уважающего себя писателя – записная книжка, где он должен фиксировать свои житейские наблюдения и всякие там мудрые мысли, если они, к примеру, вдруг вздумают прийти в голову, Алёна немедленно достала свой изрядно потрепанный блокнот, который уже обогатился нынче многочисленными одесскими перлами, ручку и, взяв ее на изготовку, приготовилась пополнить одесско-лингвистический запас.
Первый же подслушанный диалог мог бы удовлетворить самый придирчивый вкус.
– Сколько денег? – спрашивала дородная покупательница, с брезгливым выражением лица стоя над лотком с мелкой, темно-красной, пыльной клубникой. Сезон этой ягоды уже заканчивался, и при такой невзрачности годилась она только на варенье.
– Двадцать пять, – пробурчал продавец, огромный, атлетического сложения мужик с бычьим лбом, бритой головой и маленькими цепкими черными глазками.
Женщина иронически хмыкнула:
– Двадцать пять?! А чтоб купить?
– По двадцать, – неохотно пробурчал продавец.
– Это больно! – покачала головой покупательница.
– Шёб вы себе знали, дама, здесь не собес, а Привоз, – огрызнулся продавец. – Или идите к врачу, если вам больно!
– Спасибо, и вам таке ж, – обиделась «дама» и принялась протискиваться к другому продавцу.
Алёна, еле сдерживая смех, только собралась записать этот расчудесный диалог, как продавец вдруг радостно воскликнул:
– Алик! Лех к ебенемать! Или это ты?! А я уже горько плакал: кто-то говорил, что тебе последний туш сыграли…
– Назови еще раз меня Аликом, и последний туш сыграют тебе, – раздался в ответ насмешливый голос, и высокий человек в элегантном льняном костюме соломенно-желтого цвета приподнял элегантную, в тон костюму, шляпу. – Привет, Жёра. А все здесь коммерцуешь?
– Да шё, – отмахнулся человек, которого, как не без труда догадалась Алёна, звали все-таки Жора. – А тебе колокола еще не звонят?
– Ты какие именно колокола имеешь в виду? – насторожился человек в шляпе.
– Свадебные, чудак, а ты шё подумал?
– Пока еще нет, не звонят, хотя вчера я думал, что уже скоро… – вздохнул Алик. – Сорвалась такая сделка! Бред какой-то. Просто, можно сказать, бутерброд с икрой изо рта вынули. Но ладно, скажи лучше, как дела?
– Как видишь, – печально показал Жора на почти полный лоток. – Никак. И кто скажет, что я торчу здесь с утра неотлучно, как тот шкиля в витрине магазина «Учебные пособия» на Успенской, угол Канатной?
– Не идет торговля?
– Торговля гавкнулась, – вздохнул Жора. – Вчера девятьсот кило бичок ушел просто так, из самых рук. Вот встал на эту клубнику… а чем тут жить? Между нами, своими, – сущий дрэк! И самое обидное, ты знаешь, шё?
– Шё? – спросил Алик, и Алёне показалось, что он еле сдерживает смех.
– Самое обидное, что на мозоль с этим бичком мне наступил гнусавый Додя.
– Додя? – резко повторил Алик. – А он каким левым боком к рибе прижался?
– Ты сам сказал, что левым, – хмыкнул Жора. – У него же десять рук, как у того паука, и все гребут к себе.
– У паука нет рук, у него лапы, да и тех восемь, – поправил Алик.
– Ничего, он не обидится, – отмахнулся Жора.
– Додя ж вроде никогда торговлей не пачкался, – озадаченно проговорил Алик. – Лучше украдет, чем заработает.
– Так он у меня и украл, скажешь, нет? – пожал плечами Жора. – А ты на свиданку, что ли, идешь? Чего это вырядился, как матка боска?
Алёна просто не верила своему счастью. Это же словесный остров сокровищ, лингвистический Клондайк! Она пришла в такой восторг, что слушала и млела, ничего не записывая, только перекладывала орудия писательского труда из руки в руку.
– Девушка, вы тут в засаде или шё? – раздался возмущенный женский голос, и Алёна растерянно оглянулась. Оказывается, она стояла около прилавка, заваленного горами помидоров, огурцов, зелени, причем перекрывала подход к прилавку всем покупателям. Неудивительно, что рыжеволосая продавщица возмутилась. – Я думала, она выбирает помидорку, а у нее уши на ширине плеч!
Бритая голова на бычьей шее повернулась, маленькие темные глазки кольнули Алёну, а потом Жора что-то сказал своему собеседнику, и обладатель соломенно-желтого костюма исчез с такой же скоростью, как если бы он был песчинкой, которую сдуло ветром.
– Какую ерунду вы говорите! – пробормотала Алёна, думая, что надо ничего не забыть из услышанного, а еще записать про уши на ширине плеч. – Я просто ждала, когда этот… э‑э… господин, – она подбородком указала на Жору, – освободится. Я… хотела купить клубнику.
– Сколько надо? – спросил Жора, поглядывая подозрительно. – Килý? Две? Пять?
«Килý», – мысленно повторила Алёна, шёбы… то есть, извините, чтобы не забыть, и покачала головой:
– Нет-нет, полкилограмма вполне достаточно.
– Полки́ло! – с презрением воскликнул Жора, забирая ягоду «сахарным» совком. – Только рукавами трясти. Ну ладно, с вас десять гривен.
Тридцать рублей за полкилограмма клубники? Неплохо, в Нижнем Горьком это стоило бы от семидесяти пяти до ста. Ну, за такую мелочь, может, спросили бы шестьдесят, но все равно – выгодная покупка. И еще словарный запас пополнен! Теперь поскорей все записать, чтобы не забыть.
– Эй, а моя помидорка? – возмутилась рыжая продавщица. – Бери «микадо», самая вкусная. Купишь к ней еще брынзы или скумбрийки копченой – ум отъешь.
– А почем они? – спросила Алёна, разглядывая тугие ярко-розовые помидоры, напоминающие формой всем известное «бычье сердце», но маленькие, аккуратненькие. В них и впрямь было что-то неуловимо-японское.
– Тридцать! – безапелляционно заявила продавщица, но Алёна училась быстро:
– А купить?
Продавщица усмехнулась:
– Ну, двадцать пять…
Алёна заплатила и пошла поскорей куда-нибудь в укромное место, чтобы поставить пакеты и записать одесские перлы, пока те не вылетели из ее довольно-таки дырявой памяти.
Укромное место не попадалось, зато в его поисках Алёна забрела в молочный павильон, где сначала долго собирала в кучку опять разбежавшиеся глаза, а потом, напробовавшись до умопомрачения, купила малосольной козьей брынзы… выражение «ум отъешь» подходило к ней как нельзя лучше!
Еще ужасно хотелось пойти купить копченой скумбрии и кровяной колбасы, но, ребята, от таких блюд скоро ни в одно танговское платье не влезешь, а они и так сидели на нашей героине в самую облипочку.
«Может быть, завтра, – сказала себе Алёна твердо. – Или послезавтра. Зачем запасаться впрок, когда в Одессе все всегда свежее?»
Наконец в самом конце огромного павильона она нашла пустой прилавок, сгрузила на него покупки и поспешно выхватила блокнот.
Так… «сколько денег», «а купить», «и вам таке ж», «лех к ебенемать» – о смысле легко догадаться, «шкиля» – пожалуй, это означает скелет, «бичок», «риба», «каким левым боком к рибе прижался», «вырядился, как матка боска»… Все? Нет, было еще какое-то слово… «дрэк»! Жора говорил о клубнике, что она – сущий дрэк. Сахар? Мед?
– Извините, – обратилась она к побитому временем дядькý, который тосковал над горой непроданной брынзы, жмуря свои заплывшие «после вчерашнего» карие очи. – Вы здешний, из Одессы?
– А шё? – лениво повел дядькó некогда соболиной, а теперь изрядно облезлой бровью.
– Понимаете, я писательница, записываю местные слова и выражения… Меня интересует слово «дрэк». Что оно значит?
Дядькó раскрыл глаза, посмотрел на Алёну, потом вдруг покраснел.
– А вы с мене не смеетесь? – спросил недоверчиво.
– Честное благородное слово! – торжественно отчеканила Алёна, вспомнив любимые книжки детства. – Святой истинный крест!
– Эге ж… – снова прижмурился дядькó. – Тады вон шё, дамочка… ви сейчас, как стояли, идите отсюда во‑он туда. – Он указал тощей десницей направление. – Тама будет обчественный сортир. Зайдите в кабинку, заприте дверку, посидите хорошенько, подумайте… и скоро будет вам дрэк, если у вас запору нету.
– Что? – пролепетала Алёна, не веря ушам.
– А вот то! – взревел дядько. – Ходит тут, измывается над добрыми людями! Дрэк ей покажи! Посмотри на дюка с люка, ясно?
Вокруг захохотали. Алёна схватила сумки, блокнот и кинулась в ближайшую дверь на улицу.
Ее трясло не то от возмущения, не то от смеха. С другой стороны, Жёра был весьма самокритичен, подумала она, заглянув в пакет с клубникой. Сущее… в смысле, сущий этот самый дрэк. И место ему именно там, куда Алёне советовал пойти волоокий дядькó. Впрочем, сойдет и ближайшая урна. И очень кстати рядом продают отличную черешню по смешной и веселой цене. Но теперь, прежде чем покупать, Алёна попробовала ягоду и осталась вполне довольна.
Однако лингвистический задор все еще не оставлял ее, к тому же она ведь была Дева по знаку зодиака, а значит, во что бы то ни стало должна была докопаться до сути дела. Посмотри на дюка с люка? Дюк – это герцог Ришелье, основатель Одессы, наверное, имеется в виду его памятник, а с какого люка на него надо смотреть и зачем?.. И, расплачиваясь за черешню, Алёна осторожно спросила:
– Вы меня извините, я писательница, собираю всякие интересные одесские выражения… Я тут слышала одну фразу, но не понимаю ее значения. «Посмотри на дюка с люка» – и что?
Продавщица черешни и бровью не повела.
– И увидишь. й у дюка, – любезно сообщила она.
* * *
Шмулик Цимбал шел по улицам Одессы-мамы, держа благоухающий сверток с цветами на отлете, упрятав нос в воротник хилого пальтеца, уткнув глаза в землю. Впрочем, у Шмулика, наверное, было четыре глаза, потому что он умудрялся вовремя порскать на другую сторону улицы, если впереди показывались французские легионеры, греческие солдаты или сенегальские стрелки, похожие своим обмундированием-оперением на ярких тропических птиц. Вот только «птицы» эти были чернокожие.
Пробегая по Гаванной, мимо синематографа «Киноуточкино», Шмулик вынул нос из воротника и посмотрел на огромную афишу. Он нарочно сделал огромный крюк от Молдаванки, чтобы пройти здесь и эту афишу увидать. На ней был нарисован коленопреклоненный молодой красавец во фраке и белом жилете. Молодой человек дико таращил глаза на узкий тонкий кинжал, лезвие кинжала было окровавлено, и капли крови капали на тело женщины, лежащей у ног молодца.
Лицо ее было отчетливо видно. То самое лицо с открыток, которые Шмулик недавно отдал Мише Япончику. Это была обворожительная женщина с огромными, трагическими глазами и черными вьющимися волосами. Это была красавица! При взгляде на нее хотелось зарыдать оттого, что таких женщин увидишь лишь на афишах синематографа, но не встретишь ни на Молдаванке, ни на Большом, а также Малом Фонтане, ни на Дерибасовской улице, ни на Французском бульваре, ни в Александровском саду и даже на Ришельевской лестнице. Однако Шмулик доподлинно знал, что такая женщина есть на свете! Знали это и те многочисленные одесситы, которые стояли в длинной очереди перед синематографом «Киноуточкино», с вожделением взирая на афишу, объявлявшую о показе модной фильмы «Последнее танго» с участием королевы экрана Веры Холодной.
О, как же она была прекрасна, королева экрана Вера Холодная! Ее темно-серые, почти черные глаза с поволокой, ее взгляд чуть исподлобья, ее капризный детский рот, ее надменные брови, ее нежный подбородок, ее томные веки, длинные загнутые ресницы, ее изысканные руки в перстнях и браслетах и стройные ножки, которые зритель фильмы «Позабудь про камин, в нем погасли огни» мог видеть обнаженными до самого колена… О, как же это было прекрасно!
В нее были влюблены все: мужчины и женщины. В нее были влюблены и Шмулик Цимбал, и Миша Япончик (какой бы фасон ни держал!), и Лёдя Гришин-Алмазов… В нее были влюблены красные, белые, зеленые… Вся Россия была в нее влюблена! Вся Россия смотрела ее фильмы и пела романсы из них.
Шмулик прислушался. Да, ему не померещилось: несколько человек, притопывая, чтобы согреться, напевали песенку, которая была написана популярной певицей Изой Кремер. Именно по этой песенке была снята кинокартина «Последнее танго» с Верой Холодной в главной роли, и Моня недавно слышал ее от короля Молдаванки:
Но вот навстречу вышел кто-то стройный… Он Кло спокойно руку подает. Партнера Джо из Аргентины знойной Она в танцоре этом узнает! Трепещет Кло и плачет вместе с скрипкой. В тревоге замер шумный зал… И вот конец! Джо с дьявольской улыбкой Вонзает в Кло кинжал…Шмулик посмотрел на нарисованный кинжал, потом перевел взгляд на безжизненное тело нарисованной красавицы и вздохнул: «Эта дама достойна того, чтобы ей поставить памятник из розового мрамора еще при жизни…»
Он снова вздохнул и закашлялся, когда приторно-сладкий аромат букета коснулся его ноздрей. Повернул букет, сунул его под мышку цветами назад, а стеблями вперед, как бабы носят банные веники. И пошел дальше.
Шмулик искал «красную шапку». «Красными шапками» в Одессе назывались рассыльные, которые в прежние времена разносили по заказу конфеты, цветы, подарки, любовные послания, поздравления… Раньше их биржа находилась у входа в Пассаж. Теперь-то, в феврале девятнадцатого, после кратковременного господства красных, «красные шапки» были почти все ликвидированы как класс, даром что носили красные шапки! Однако поговаривали, некоторые особи еще водились. Шмулик слышал, что такую «шапку» вполне можно найти в кафе «Фанкони» на углу Екатерининской улицы.
Там же неподалеку, на Дерибасовской, испокон веков находились цветочные ряды. Однако сейчас, зимой, ряды были пусты, только какая-то унылая старуха чахла над горшком с подмороженной розовой геранью.
Шмулик миновал опустевшие цветочные прилавки и вошел в кафе. При «ранешном режиме» это было роскошное место с великолепными зеркальными витринами и стеклянными столиками, с бархатными портьерами и разноцветными попугаями в золоченых клетках, однако после того, как красные похозяйничали в городе, от сверкающего великолепия «Фанкони» мало что осталось. Витрины до сих пор были забраны листами фанеры, а вместо стеклянных столиков стояли самые обыкновенные деревянные. Впрочем, и за ними не было ни единого посетителя, за исключением тощего сутулого старика со следами былого благообразия на лице. На старике было потертое пальто с башлыком, откинутым на плечи, на груди бляха, как у железнодорожного носильщика, а на фуражке – табличка с облупленной надписью: «Рассыльный». Фуражка с галунами была красная, и Шмулик Цимбал понял: он нашел то, что искал.
Он сделал знак:
– Я имею вам сказать пару слов!
Старик подошел к нему с недоверчивым, даже опасливым выражением, однако по мере того, как он слушал торопливый Шмуликов шепот, его лицо приобретало восторженное выражение. Он несколько раз приложился носом к свертку, закатил глаза, изображая неземное блаженство, и спросил:
– Лилии? Неужели это лилии?!
Шмулик не удостоил его ответом. Он расплатился с «красной шапкой», хотя, судя по блаженной физиономии, тот был готов исполнить поручение и на шармака, то есть задаром, и повернулся, чтобы уйти.
– А письмо для дамы? А карточка? – не унимался рассыльный, игриво подмигивая Шмулику.
– Все внутри, – буркнул тот и вышел, придержав дверь для «красной шапки».
Судя по всему, посыльный давненько не носил цветов, потому что бросился исполнять поручение со всех ног.
Шмулик не без печали посмотрел ему вслед и вновь спрятал нос в воротник. Он знал, что ему надо возвращаться на Молдаванку, к ее королю, однако, словно против воли, ноги вновь понесли его к синематографу «Киноуточкино».
Очередь желающих посмотреть «Последнее танго» не уменьшилась.
Шмулик Цимбал смотрел на неправдоподобно красивое лицо умирающей Кло, а сам словно бы видел чудака-рассыльного, как он бежит со всех ног на Пушкинскую улицу, к гостинице «Бристоль», как по-свойски подмигивает швейцару, как подходит к портье и, сорвав со своей ноши некрасивую оберточную бумагу, открывает роскошный букет белых лилий… сладко, даже приторно благоухающих… невероятно-прекрасный, сказочный букет… и говорит:
– Мадам Вере Холодной от мсье Эмиля Энно!
Шмулик махнул головой, отгоняя видение, от которого ему стало так тяжело на сердце, словно пуля из «Велодога» Миши Япончика, короля Молдаванки, все же пронзила его.
– Ну что вы скажете на это несчастье? – шепнул он беспомощно, чувствуя, что у него начинает щипать глаза. – Это же сущий кошмар! Ай‑я‑яй!..
Потом он покачал головой и побрел своим путем, бормоча под нос невнятно и не в лад:
В далекой знойной Аргентине, Где небо южное так сине, Где женщины как на картине, Про Джо и Кло поют… Там знают огненные страсти, Там все покорны этой власти, Там часто по дороге к счастью Любовь и смерть идут!..* * *
Алёна глянула в путеводитель по Одессе, который купила сегодня. Художественный музей работает до шести. Сейчас начало шестого. Она успела и поесть, и отдохнуть. Судя по карте, ходу от гостиницы до Софийской улицы – минут десять. Запросто можно успеть если не приобщиться сегодня к искусству, то хотя бы отметиться.
Через десять минут она вылетела из гостиницы и целенаправленно ринулась в нужном направлении, стараясь уже не отвлекаться на окружающую красоту. Она даже не позволила себе свернуть на Ришельевскую и добежать до памятника дюку, чтобы найти нужный люк и посмотреть с него. Ни дюк, ни люк, ни вся прочая атрибутика никуда не денутся, а музей вот-вот закроется! Скорей! По Дерибасовской мимо Горсада на Преображенскую, по ней вперед, вперед, вперед… где-то должен быть поворот на Софиевскую…
Вообще какие-то довольно обшарпанные места, очень далекие от парадности центра… И спросить не у кого, улица пуста. Впрочем, нет, вот неряшливый и небритый оборванец в мятой шляпе – очень в стиле этой улицы! – задумчиво застыл над урной, вокруг которой валялись окурки, словно выбирая один из них, самый презентабельный.
– Извините, – робко спросила Алёна, – Художественный музей… где-то здесь, не подскажете?
Оборванец сильно застеснялся, надвинул шляпу на глаза и пошел прочь, сунув руки в карманы. В прорезях лоснящегося пиджачишки открылись джинсы такой степени потертости, что приличной женщине следовало застенчиво отвести взгляд, что Алёна немедленно и сделала.
– Еще пять шагов – и вы там, – донесся неприветливый ответ, и оборванец скрылся в подворотне.
– Спасибо, – сказала вслед Алёна, подумав, что она явно уже видела сегодня где-то этого типа. На Привозе, может быть? Где-то на улице? Приметная внешность, высокий такой, темноволосый…
Да мало ли народу видела она сегодня на улицах? Запросто и этот элегантный оборванец мог мелькнуть перед глазами.
Да господь с ним, главное, что он оказался прав: вот перед Алёной «Одесський художнiй музей», как гласит вывеска. Прекрасное темно-красное двухэтажное здание в глубине парка, видимо, начала девятнадцатого века, ну просто восхитительное! Перед чугунной оградой притулилась довольно уродливенькая стекляшка проходной с объявлением: «Музей працуе изоденна, крим вiвторка, з 11 до 18».
Алёна подошла к двери, толкнула ее раз и другой, постучала…
Что такое?
Глянула на часы. Працуе изоденна? З 11 до 18? Как бы не так! Сегодня, выражаясь на государственном языке, п’ятниця, а никакой не вівторок, и времени всего лишь начало шестого, но музей совершенно даже не працуе!
Алёна стукнула в огромное окно проходной, но в это время сзади раздался автомобильный сигнал. Она оглянулась и увидела, что подъехала милицейская машина. Камуфлированная фигура двинулась к двери и открыла ее.
– Сюда, ребята! – махнул охранник, и Алёна почувствовала, что ее бесцеремонно сдвинули в сторону. Мимо прошли два милиционера и человек в штатском. Но дверь осталась открыта. И Алёна немедленно предприняла попытку в нее проникнуть. Охранник тотчас преградил путь:
– Что вы тут топчетесь, девушка?!
– Хочу попасть в музей, – вежливо ответила Алёна.
– Музей закрыт.
– А почему? Сегодня не вторник, и времени до шести еще полно!
– Профилактические работы, – проговорил охранник, несколько запнувшись. Потом взгляд его уплыл поверх головы Алёны: – Отойдите, отойдите, не мешайте!
Сзади скрипнули тормоза. Алёна оглянулась.
Ого! Еще одна машина подъехала! Еще одна группа серьезно настроенных товарищей появилась! И Алёну снова бесцеремонно, а точнее сказать, довольно хамски сдвинули в сторону!
– Профилактические работы? – не сдержала ехидства Алёна. – Ремонт замков и шпингалетов? Или проверяете подлинность экспонатов?
Нет, она иногда могла-таки сказануть… гюрза нервно шипит в сторонке!
Цап! Алёна вдруг ощутила два крепких захвата под руки слева и справа, а потом ее, чуть приподняв над землей, буквально протащили в проходную и повлекли дальше, очень безапелляционно, подобно тому, как приспешники Сатаны влекут в ад грешную душу по прекрасному парку, в какую-то боковую дверь… жаркий аромат свежескошенной травы и цветов вмиг сменился запахом непроветренного помещения, паркетного лака, старой краски… Алёна то пыталась вырваться, то поглядывала по сторонам… итак, она все же попала в музей, правда, таким нетрадиционным способом… успеть хоть что-то посмотреть… нет, бесполезно, картины защищены стеклом, в котором бликует свет, попадающий из окон. Ничего не видно…
– Да куда вы меня тащите? – наконец догадалась она крикнуть. – В чем дело?!
Ей не отвечали. У Алёны уже заболели руки, как вдруг ее боком пропихнули в какую-то узкую дверь – и отпустили.
– Да что это за безобразие! – крикнула она гневно, потирая плечи и озираясь. – В чем вообще дело?
Она находилась в крохотном кабинетике, куда был втиснут старый письменный стол, два стула – и больше ничего. Окна без штор забраны эмалированными решетками. Хм… сущий застенок!
Один из доставивших ее милиционеров отвел глаза. Второй в это время что-то быстро нашептывал – Алёне удалось расслышать только слово «майор» – сидевшему за столом плотному, широкоплечему и бритоголовому человеку в сиренево‑голубой форменной рубахе с черным узким галстуком и черно-желто-белым шевроном на рукаве. На столе лежали какие-то бумаги, фотографии и, – на самом краешке, – черная фуражка с серебряно-голубым гербом. В ней было что-то невыносимо зловещее.
А сам майор был рыжий… то есть настолько рыжий и веснушчатый, что белые участки кожи на его лице и руках казались редкими вкраплениями.
– Нічого собі, – сказал он, выслушав торопливый шепоток своего подчиненного и переведя взгляд рыжеватых глаз (даже они были в масть!) на Алёну. – Мене цікавить, громадянка, як вам на ім’я та нащо ви сюди прийшли. Та що ви робили минулой нічью.
Минулой нічью?!
– Do you speak Russian? – спросила Алёна. – Or, may be, English? Or French?
– Ви чужоземка? – растерянно спросил рыжий майор.
– Да, – ответила Алёна. – Чужоземка. Я русская. Украинский понимаю с трудом, а говорить на нем вообще не умею. Поэтому или вы говорите по-русски, или перейдите на английский или французский, или вызовите переводчика, пожалуйста.
– Переводчика позвать? – ухмыльнулся рыжий, обнажая в улыбке зубы, которые были мелкими и острыми, как у хорька. – Вы, я вижу, любите шутить шутки и играть с огнем?
– И в мыслях не было, – пожала плечами Алёна.
Да, если этот рыжий хорек в майорском звании в нее всерьез вцепится…
– Меня зовут Алёна Дмитриева, – сказала она смиренно, – я пришла в музей и никак не могла добиться ответа на вопрос, почему он закрыт, и когда я говорила об этом с дежурным, меня вдруг схватили и притащили сюда вот эти двое э‑э… – Она по укоренившейся привычке хотела сказать «господ», но жизненный опыт показывал, что иные люди воспринимают это слово как оскорбление. Назвать одесских ментов товарищами как-то язык не поворачивался. – Эти двое сотрудников милиции. При этом они не потрудились поставить меня в известность о причине задержания. Могу ли я осведомиться, чем вызвала такую бурную реакцию правоохранительных органов?
Вообще наша героиня в совершенстве владела всеми пластами великого и могучего, в том числе – и занудными канцелярскими оборотами.
– Алёна Дмитриева… – задумчиво повторил майор, игнорируя ее вопрос. – Вы из откуда к нам в Одессу прибыли?
– Из… Нижнего Горького, – ответила Алёна после некоторой заминки, во время которой она проглотила попавшую в рот смешинку.
– Понятно… А в Одессе где проживаете?
– В гостинице «Дерибас».
– Понятно. Хорошая гостиница! – кивнул майор. – Станете утверждать, будто ночь там провели?
– Стану, тем более что это правда.
– И в каком номере?
– В пятнадцатом.
– А если я позвоню в гостиницу и уточню? – спросил майор с откровенной ухмылкой.
– Да ради бога, – позволила себе ухмыльнуться и Алёна.
Майор сказал что-то по-украински. Дословно переводить Алёна не взялась бы, но поняла, что майор посылал своего подчиненного сходить к директору музея и поискать у нее телефонный справочник.
Она усмехнулась и достала гостиничную визитку:
– Прошу вас.
– Дякую, – рассеянно отозвался майор, но тотчас спохватился: – Спасибо.
И достал из кармана мобильник.
Последовал короткий, быстрый разговор, после которого майор с ледяной улыбкой посмотрел на Алёну и с расстановкой сказал:
– Так вот что, гражданочка. Никакая Алёна Дмитриева в этом отеле не проживает. Так что уточните все же, где вы проводили ночь, а главное, откуда вам известно про совершенное преступление?
* * *
Воронцовы были не слишком-то заметной семьей в истории России до ночи 25 ноября 1741 года, когда цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, вдруг спохватилась, что и лучшие годы ее уходят попусту, и жизнь в любую минуту может оборваться произволом немцев, захвативших престол. В ту ночь сама Елизавета, друг ее граф Михаил Воронцов да лекарь Арман Лесток отправились в казармы Преображенского полка, откуда вышли окруженные гвардейцами и отправились брать Зимний. С тех пор как потомки Романовых вновь укрепились на российском престоле, Воронцовы бывали, как правило, обласканы властью и занимали самые высокие государственные должности. Один из них, тоже Михаил Семенович, при Николае Первом стал наместником Кавказа, а женат он был… о, женат он был на женщине совершенно легендарной – на Елизавете Ксаверьевне Браницкой, внучатой племяннице Георгия Потемкина-Таврического, ставшей в замужестве, естественно, Воронцовой и прославленной своей красотой, умом, но главное – пылкой любовью, которую некогда питал к ней сам Пушкин.
Воронцовы пришли в ужас, когда единственный их сын Семен, надежда и отрада родителей, вдруг сообщил о намерении жениться… на ком?! На бывшей фаворитке Великого князя Александра, на вдове с ребенком, прижитым невесть от кого, на женщине, отвергнутой подчиненным князя Воронцова, Барятинским! На даме, за которой, подобно испачканному шлейфу платья, влачились слухи и сплетни, сплетни и слухи…
Воронцовы сказали решительное «нет».
Мария Васильевна узнала об их отказе перед тем, как ее карета остановилась около умирающей гречанки.
Госпожа Столыпина находилась в самом безнадежном настроении. Она знала, насколько предан Семен Михайлович отцу и как обожает мать. При том, что этот двадцатишестилетний молодой человек служил на Кавказе, принимал участие в операциях против горцев и в 1846 году за отличие в Даргинском походе был произведен в титулярные советники с пожалованием звания камер-юнкера, он был удивительно послушным сыном. И Мария знала: несмотря на всю возвышенную любовь к ней князя Семена, воля Елизаветы Ксаверьевны все перевесит. Но ведь умирающая пообещала, что происки старухи будут бессильны…
Но что еще говорила гречанка? О каком-то перстне?
Мария Васильевна раздвинула тряпье, прикрывавшее детское тельце, и увидела, что на шею спящей девочки надет шнурок, к которому привязан массивный перстень.
Хм… а ведь это золото! Продав его, гречанка, быть может, спасла бы себе жизнь. Топорная работа, такой на бал не наденешь. Да он и великоват будет для тонких, изящных пальцев Марии Васильевны. А какой странный камень вставлен в оправу! Нет, он не драгоценный. Какой-то тусклый, серый, непрозрачный, с желтыми пятнами… Да еще исчерчен черными полосами, которые образуют что-то вроде креста.
Воистину странный камень! Невзрачный, конечно, но есть в нем какое-то очарование. Чем дольше на него смотришь, тем сильнее он привлекает.
Мария Васильевна осторожно сняла с шеи девочки шнурок и распутала узел. Потом надела перстень на средний палец правой руки. Ну, здесь он кое-как держится. А все же это очень красивая и необычная вещь! В нем есть что-то загадочное… он подобен тайной страсти, когда все самое яркое скрыто от посторонних глаз и известно только двоим…
Тайная страсть!
Мария Васильевна вздрогнула и в изумлении посмотрела на камень. Сейчас ей казалось это настолько очевидным, что можно было только диву даваться, как она сама не додумалась… она, опытная женщина, которая, кажется, знала о страсти все…
Вот что она может противопоставить деспотизму материнской любви княгини Воронцовой! Страсть, которую молодой князь Семен будет испытывать к своей обожаемой Мари!
О господи, да у нее разум помутился, что ли? Что это она вдруг взялась строить из себя недотрогу?! Да молодого Воронцова дрожь бьет, даже если он просто касается руки Мари, а уж когда обнимает ее в танце, – похож на безумного… что же будет с ним, если…
– Что прикажете с девчоночкой делать, ваше сиятельство? – вторгся в мысли голос лакея.
– Снеси в людскую. Скажи, что я велела найти ей кормилицу. Потом отдам в какую-нибудь семью. Может быть, к грекам… ты говоришь, знаешь кого-то из них?
– Господи Иисусе! – возбужденно воскликнул малый. – Не далее как третьего дня слышал, мол, очень горюет один из них – грек откуда-то из Малороссии, а может, из Новороссии, – что не дал Бог ему детей. Уж не предложить ли ему девчонку? Небось счастлив будет!
– А как этот грек в Петербурге оказался?
– У него брат тут жил, болел, да помер. Этот грек и приехал последний долг отдать… Дать знать ему о девчоночке, а, ваша милость?!
Мария Васильевна посмотрела на мертвое лицо гречанки. Умиротворение и довольство отражалось в чертах. Все волнения жизни покинули несчастную. Теперь она воистину упокоилась… А может быть, она слышала этот разговор?
– Вот и придумали, – сказала ей Мария Васильевна. – Я не отступлюсь от своего слова. – Она повернулась к лакею: – Найди этого грека и приведи ко мне. Но сначала нужно отыскать кормилицу для малышки.
И она почти побежала к дому.
Скорее написать князю Семену Михайловичу и пригласить его к ужину. К очень позднему ужину… Скорее! Немедленно!
* * *
– Произошла ужасная путаница, – смущенно пробормотала Алёна. – Я назвала вам свой псевдоним, я под этим именем пишу. Понимаете, я писательница, и я так к этому псевдониму привыкла, что он сам у меня с языка соскакивает. А на самом-то деле меня зовут Елена Дмитриевна Ярушкина. Именно под этим именем я и остановилась в «Дерибасе».
По ряду милиционеров, застывших у стены, пробежало некое шевеление, которое было немедленно пресечено властным жестом майора. А в его рыжих глазах, обращенных к Алёне, промелькнуло странное выражение:
– Псевдоним, значит? Писательница? Ну-ну… А под псевдонимом «Лариса Владимировна Зорбала» вы, случайно, не пишете?
– Нет, – слегка растерявшись, покачала она головой. – А кто это такая?
– Это та громадянка, которая остановилась в «Дерибасе» в пятнадцатом номере, – сказал майор.
Мгновение Алёна смотрела на него, бессмысленно моргая, потом прижала пальцы к вискам.
– О боже мой…
– Так… – с удовлетворением сказал рыжий. – Кажется, вы начинаете понимать, что лучше было бы сразу во всем сознаться, а не врать?!
– Да я и не врала! – воскликнула Алёна. – Я в самом деле провела ночь в пятнадцатом номере! Эта Лариса Владимировна или как ее там, приехала в гостиницу только утром! Номер у нее был забронирован с вечера, но приехала она утром! Поездом! А я прилетела ночью, московским рейсом, у меня был заказан десятый номер, но спать там оказалось совершенно невозможно, потому что под окнами стройка, работы шли всю ночь. Поэтому дежурная сжалилась и на одну ночь поселила меня в пятнадцатый номер, свободный, окна которого выходят на противоположную сторону! Там я и ночевала. Понимаете? А рано утром перебежала к себе, чтобы, когда появится Лариса Владимировна, номер был свободен! Да вы легко можете проверить это, позвонив в «Дерибас»! А если не верите, вот, смотрите, в руках у вас «Карточка гостя» из «Дерибаса», на которой значится мой номер и фамилия!
Майор перевернул визитку гостиницы и прочел вслух:
– «Ярушкина Елена Дмитриевна, номер 10». – Пренебрежительно пожал плечами: – Ну знаете, написать можно что угодно и где угодно, а вы мне паспорт покажите.
Алёна сунулась было в сумку, однако стоящий сзади милиционер схватил ее за руку.
Алёна сердито оглянулась… Вид у этого высокого сероглазого и горбоносого парня был, мягко говоря, настороженный.
Что же тут случилось, в музее?! Неужели и правда какое-то преступление?
– Отставить, Африканов. Разрешите заглянуть в вашу сумочку? – протянул руку майор.
Алёна не стала спорить, хотя могла бы сказать, что слово «сумочка» к ней не имеет никакого отношения. Сумища – звучит точнее. Впрочем, это детали.
Короткие веснушчатые пальцы проворно проверили все многочисленное и многообразное содержимое Алёниной сумки, с особым тщанием исследовали помаду, тушь для ресниц, коробочку ароматических леденцов, флакончик любимых духов «Burberry Weekend», маленькую баночку с увлажняющим кремом для лица, тюбик с кремом «Кетонал» и упаковку аналогичных таблеток (от танцевальных перегрузок у Алёны иногда невыносимо болело колено, жестоко пострадавшее в одной русско-французской танцевально-детективной авантюре несколько лет назад)[7], не без интереса переворошили пачечку гривен, которые Алёна сегодня взяла в банкомате, и, наконец, открыли паспорт.
Процесс изучения его страниц длился как-то очень долго. Вслед за тем майор опять взялся за телефон. Алёна поняла только первую фразу: «Готель «Дерибас»?» – все остальное было вновь покрыто мраком украинской мовы. Разговор шел с такой скоростью, словно майор вел словесную перестрелку с дежурной.
Наконец он положил трубку и, удовлетворенно улыбаясь чему-то, убрал паспорт Алёны в ящик стола.
– Что это значит? – возмущенно спросила наша героиня. – Верните мои документы!
– Авжеж, – покладисто кивнул майор. – Конечно! Но не раньше, чем узнаю, где конкретно вы провели ночь. Оформили вы документы сегодня утром. Значит, ночью вас в «Дерибасе» не было.
– Что за бред? Это кто вам сказал?!
– Дежурная, которая сейчас работает.
– А вы спросите дежурную, которая работала ночью. Она такая высокая и очень полная, ну очень! Ее зовут Татьяна. Она подтвердит.
– Придумайте еще что-нибудь, – хмыкнул рыжий. – Что-нибудь, что может подтвердить ваше алиби.
Мгновение Алёна смотрела на него с изумлением, потом расхохоталась:
– Сначала вы расскажите мне что-нибудь, что может подтвердить законность ваших приставаний ко мне. Что вы мне шьете? По какой причине? Ночевала я в гостинице, не ночевала… а если бы я даже провела ночь под забором, вам-то что?
– А вот я вас сейчас как отправлю в обезьянник на трое суток до выяснения обстоятельств, так узнаете, что́ мне! – прошипел майор.
– Да? – с издевкой протянула наша героиня, которой уже конкретно попала вожжа под хвост от всей этой ну просто нереальной нелепости.
Сходила, называется, в музей! Приобщилась к искусству!
– А как насчет незаконного задержания гражданки иностранного государства? – надменно вопросила Алёна. – Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы по моей просьбе должны немедленно вызвать русского консула и произвести предъявление обвинений, а также задержание в его присутствии!
На самом деле черт его знает, должен майор вызывать консула или нет, Алёна об этом не имела ни малейшего представления. Но блефовать она умела, хотя в карты отродясь не играла. А потому с бесстрашным высокомерием уставилась своими позеленевшими от злости глазами в рыжие глаза майора.
И он… растерялся. И с явным облегчением схватился за мобильный телефон, который вдруг разразился звонками.
– Слухаю, – буркнул он в трубку. – А, це ты, Арик… Привет. Шё? А ты откуда знаешь? Алиби ж у нее никакого!
Разговор шел более или менее на русском, вернее, на одесском языке, поэтому Алёна все понимала, и естественно, что она навострила уши, тем паче, что при последних словах рыжие глаза майора вильнули в ее направлении, как бы подтверждая: никакого алиби именно у нее! А при слове «Арик» за спиной Алёны блюстители порядка, переминавшиеся доселе с ноги на ногу, замерли и как бы даже перестали дышать.
Интересно… Это какой-то высокий начальник звонит, что ли?
– Там с номерами какая-то путаница… – пробормотал майор довольно робко. – Нет, ну если ты сам привез… Нет, ну если с тобой… Да ты шё, Арик, ну как я могу об этом забыть, да плюнь мне в глаза, если…
При этих словах рыжий даже на миг зажмурился, как если в самом деле опасался, что неведомый Арик плюнет ему в глаза и этот плевок долетит по мобильной связи.
– Ну ша, Арик, ну не кипишись, считай, что она уже стоит на тротуаре рядом с тобой! А, ты уже на Лонжероновской, понятно… Сказать, чтобы шла к тебе? Ничего не говорить? Ладно, молчу, как риба об лед! А почему, если она была с то… Ладно, я понял. А шё мне делать с ограб… – Майор подавился и с опаской зыркнул на Алёну. – Шё?! Уже имеешь подозреваемого?! Почти уверен?! А кто он, а? Кто-о?! Да ты шё?! Не, ну не, это слишком даже для него! На девяносто процентов? А улики? Соберешь? Ну, Арик, ну, тогда… без разговоров, считай, он уже в обезьяннике, если так… никаких проблем с твоей лицензией не будет! А цацку найдем? Не, ну ты же ж понимаешь, если у него не окажется цацки, он сухим из воды выйдет, это как пить дать! Не, я верю тебе, как я могу?! Ладно, Арик, все, считай, шё ее уже тут нет. Ну, бывай здоров, не кашляй!
И майор отключился с явным облегчением и даже отер пот со лба. Потом сунул телефон в карман, открыл ящик стола и вытащил оттуда Алёнин паспорт.
– Что ж вы, Олёна Димитриевна, сразу не сказали, где были ночью? Зачем понадобилось про какой-то пятнадцатый номер выдумывать?
– Я ничего не выдумывала… – начала было растерянно Алёна, однако рыжий майор панически махнул рукой:
– Ой, только не начинайте снова, ладушки? Берите ваш паспорт, моя ластивка, и идите, идите… в любом доступном направлении. Я вас больше не задерживаю.
Алёна секунду помедлила… тысяча вопросов вертелись у нее на языке, но задавать их сейчас и пытать судьбу было бы, по меньшей мере, глупо. Поэтому она только молча кивнула, взяла паспорт, опустила его в сумку и, не удостоив представителей одесской милиции даже взглядом, вышла, стараясь держаться очень прямо, и прикрыла за собой дверь.
И тут гордыня – верная спутница жизни – ей вдруг изменила. Ноги задрожали так, что пришлось прислониться к косяку. И голова закружилась, ладони стали влажными и похолодели. И она услышала, как рыжий майор сердито говорит за дверью:
– Арик сказал, шё он ее из аэропорта привез, шё она с ним ночь провела. Пришлось ее отпустить, тем паче, шё у него уже подозреваемый в кармане!
– А кто, товарищ майор? – раздался голос одного из милиционеров. – Он сказал, кто?
– Сказал, – довольно усмехнулся майор. – И если все получится, мы гуляем на премиальные!
– А вы ему верите? – с сомнением спросил другой. – Этот Арик… Я бы ни одному его слову не поверил!
– Отставить, Африканов! – скомандовал майор. – Засунь свое мнение знаешь куда?
– Так точно, – буркнул Африканов.
Больше ничего Алёна не услышала, потому что за поворотом коридора раздались быстрые приближающиеся шаги, и она кинулась в первую же открытую дверь, слетела по лестнице, потом вихрем пронеслась через холл первого этажа, через парк, через проходную и, оказавшись на Софиевской, огляделась. Улица была практически пуста. Редкие прохожие спокойно шли мимо Художественного музея, не подозревая о том, что здесь свершилось неведомое злодеяние, по причине коего едва не угодила в КПЗ русская писательница Дмитриева, а вырваться из лап недоброжелательного правосудия ей удалось совершенно загадочным образом. Но столь ли уж загадочным?..
Заходящее солнце вдруг отразилось в дрогнувшей створке окна серого облезлого дома, стоявшего напротив музея; стекло блеснуло, ослепило, задрожало… Алёна зажмурилась и отвернулась.
Этот удар света по глазам был подобен озарению.
Алёна снова окинула взглядом улицу. Подумала, попытавшись сориентироваться… и, дойдя до угла Преображенской, пошла в сторону Горсада, где Преображенская соединялась с Лонжероновской.
* * *
– О прекраснейшая, – улыбнулся Вере почтенный и исключительно любезный господин, только что отрекомендованный ей как Василий Витальевич Шульгин, представитель командования Добровольческой деникинской армии в Одессе, – а ведь я видел вас раньше!
– Хм! Покажите мне человека, который бы ее не видел, – усмехнулся Петр Чардынин, актер и режиссер, партнер актрисы Веры Холодной по многим фильмам и постановщик лучших картин, в которых она снималась, а также устроитель приватной вечеринки в номере отеля «Бристоль» в Одессе. Ведь Вера Холодная появилась в Одессе не сама по себе, а с экспедицией кинофирмы Харитонова, на которую работала. В Одессе должны были происходить натурные съемки картины «Княжна Тараканова», а также сниматься фильмы «Цыганка Аза», «Песнь Персии», «Мисс Кетти», «В тисках любви»… Главных героинь всех этих фильмов играла Вера Холодная, и когда она появлялась на улицах, одесситы забывали все свои дела и шли за ней, как загипнотизированные. Поэтому Чардынин был совершенно прав, когда удивлялся: – Да есть ли такой человек в России бывшей и России нынешней, если слава о ней дошла и до Европы, и до Америки, и даже до Японии?
– Нет, – подчеркнуто покачал головой Шульгин, – конечно, такого человека нет. Но я встречал Веру Васильевну в стародавние времена, так сказать, живьем: в Москве, в клубе «Алатр» в доме Перцова. Там что-то бормотали какие-то футуристы, однако я ничего не видел и не слышал, потому что был до столбняка очарован вашей красотой.
– Хм, – снова усмехнулся ехидный Чардынин, – покажите мне человека, который не был бы очарован ее красотой. Да есть ли такой человек в России бывшей и России нынешней?
И Шульгин снова сказал «нет» с самым сокрушенным видом.
И он говорил правду! Вся Россия была очарована этой женщиной. Вера Холодная была невозможно, неотразимо очаровательна и загадочна. Каждое ее движение было тайной, каждый взгляд из-под низко надвинутой на лоб шляпки заставлял мужское сердце загораться безумной, невероятной надеждой на неземное блаженство, а женское – холодеть от безнадежной зависти и к самой красавице, и к ее славе, и к ее шляпке.
Этих шляпок у Веры Холодной было великое множество (была даже выпущена отдельная серия открыток – киноактриса в своих чудных шляпках!), и все прелестные, необыкновенные, и женщины мучились, не спали ночами от того, что ни одной из них, даже самой богатой, не дано иметь таких шляпок. И в какой только лавке их продают, какие только модистки их делают?! А между тем Вера Холодная мастерила свои шляпки сама.
Ни на одной женщине платья не сидели так великолепно, как на ней: там, где нужно, плотно прилегая к стройному, но отнюдь не худому телу, а там, где нужно, ниспадая причудливыми складками. Платья Веры Холодной могли бы послужить иллюстрациями для журнала мод. И где только берут такие выкройки?! А между тем Вера Холодная не признавала никаких выкроек: портниха накалывала, натягивала, драпировала ткань прямо на ней, а потом только обрезала и сшивала там, где нужно.
Да что платья! Что шляпки! Что ажурные чулочки-паутинки, которые порой можно было увидеть на восхитительных ножках Веры Холодной! Что туфельки последней парижской модели!..
Ни одна женщина не благоухала так, как она. Лишь только актриса входила в комнату, как ноздри у всех присутствующих начинали алчно трепетать, и головы невольно поворачивались на этот сладковато-нежно-горьковатый аромат. В каких только лабораториях алхимиков‑парфюмеров изготовляли для нее эти духи?! А между тем, Вера Холодная просто брала духи двух марок – «Роз Жасмино» и «Кеши» – и смешивала их на коже. Вот именно – на коже! Все дело в том, что она была очень чувствительна к запахам, особенно к грубым запахам быта. Ей были глубоко антипатичны также некоторые цветы, например гиацинты, гелиотропы, темно-бордовые розы и даже крупные, тугие осенние хризантемы с их влажным, полынным запахом вызывали у нее легкое удушье и кашель. Но ни от цветов, ни от грубых запахов жизни некуда было деться, именно поэтому она старалась создать между собой и миром ароматическую преграду, опустить эфемерный эфирный занавес, который не заслонял ее красоты, а еще и прибавлял к ней очарования.
Хотя, казалось бы, куда больше?!
Ни у одной женщины не было таких глаз, как у нее! С тех пор как с экрана взглянула на мир Вера Холодная, светлоглазые женщины чувствовали себя ущербными, обделенными судьбой. Глаза красавицы должны быть черными и только черными, и на какие невероятные ухищрения шли обезумевшие барышни и дамы ради этого! Они чернили верхние веки, а на нижние наводили устрашающие тени театральным гримом, в результате чего казались призраками, вот только что, несколько минут тому назад восставшими из могилы. Они мазали ресницы черной тушью так щедро, что на щеки и на беленькие блузочки осыпались хлопья, и нежные особы, чудилось, только что выбрались из кочегарки, где либо занимались любовью с истопником, либо подрабатывали, собственноручно швыряя уголь в топку. Они капали в глаза белладонну, чтобы зрачки расширялись и зачерняли радужку, и от этого окружающие считали бедных дам кокаинистками и сторонились их.
А между тем глаза Веры Холодной вовсе не были черными. Они были дымчато-серыми, порой казались темно-серыми. Дело, впрочем, было не в цвете глаз. Дело было в их выражении, в умении поглядеть чуточку исподлобья, враз и равнодушно, и пламенно, отчего казалось, будто их заволакивает черный туман… смотреть в эти колдовские глаза было невыносимо, но при этом хотелось только одного: смотреть в них снова и снова.
Вот и сейчас – Шульгина отчетливо затягивало в этот омут. Вера, впрочем, улыбнулась дружески, чуть насмешливо, и колдовские чары пропали, осталось только восхищение – платоническое и скорее дружеское, чем любовное. Она очень хорошо умела и уронить мужчину к своим ногам, и ненавязчиво, необидно дать ему понять, что – «ни-ни».
Шульгин вздохнул с откровенным разочарованием, и Вера с любопытством поглядела на третьего визитера: сухощавого, молодцеватого генерала-артиллериста (в полевой, а не в парадной шинели). Он был среднего роста, с крошечными усиками, узким лицом и напряженными серыми глазами.
Чардынин, который встречал гостей, успел шепнуть Вере, что при этом господине явилась целая свита, которую он оставил в коридоре, а сразу за дверью номера встали два татарина-телохранителя с винтовками. Успел Чардынин также сообщить фамилию генерала, однако эта фамилия влетела у актрисы в одно ухо, а в другое вылетела (во всем, что не касалось ее работы, Вера Холодная была исключительно рассеянна), оставив почему-то ассоциацию с ювелирной лавкой.
Вспомнив об этом, Вера не смогла сдержать усмешку, которая, впрочем, тут же исчезла, как только она встретилась с генералом глазами. «Ему нет еще и сорока!» – удивилась Вера, подумав почему-то с досадой про своего мужа Владимира, который так и не успел получить мало-мальского повышения по службе. Разве это справедливо?
– Сегодня очень холодно, – внезапно выдавил из себя генерал сакраментальную фразу и добавил: – Подчеркиваю: «очень».
Вера удивленно вскинула брови, а генерал продолжал:
– Удобно ли вам в этой комнате? Подчеркиваю: «вам».
Вера улыбнулась: совершенно так же выражался какой-то персонаж из модного в то время романа Юшкевича «Леон Дрей». А генерал со странной настойчивостью продолжал спрашивать – или допрашивать:
– Есть у вас книги для чтения? Подчеркиваю: «для».
И вдруг она разгадала это странное выражение, с которым смотрели его напряженные серые глаза. Да ведь он до смерти ее боялся!
Вера не успела удивиться, как Шульгин заговорил:
– Позвольте рекомендовать вам моего друга и сослуживца генерала Гришина-Алмазова, – сказал он, а французский консул Эмиль Энно, который, вместе со своей русской невестой, вывезенной им из Киева (с первой минуты встречи Вера старалась держаться от этой девушки подальше), тоже был в числе приглашенных, прибавил:
– Notre ami brave! Ma cherie, traduisez![8]
Галина, хорошенькая черноглазая невеста консула, перевела его слова, однако все их и так поняли. И уставились на Гришина-Алмазова во все глаза, потому что видели его впервые, а слухи о нем ходили самые что ни на есть щекочущие нервы. И название должности его звучало весьма впечатляюще: одесский диктатор.
* * *
Алёна шла по Лонжероновской, доедая третью порцию мороженого (сладкое – лучший транквилизатор), понемногу успокаиваясь и разглядывая вывески. Впрочем, она сама вполне понимала, что, собственно, ищет.
Дома на Лонжероновской были вытянуты на целый квартал, совсем как в Париже, и, совершенно как и там, в каждом находилось великое множество фирм, фирмочек и контор. Лидировал в этом списке дом двадцать шесть. В нем помещалось поистине бессчетное количество учреждений, однако лишь одна вывеска приковала внимание Алёны: ООО «Частный детектив», а строкой ниже – «Приватний детектив», что, видимо, являлось обязательной данью государственному языку.
Алёна достала из сумки карту, развернула и, приняв вид заблудившейся туристки, принялась рассматривать названия улиц, не забывая стрелять глазами поверх карты и вглядываться в идущих мимо одесситов.
Не зря же Одессу называют маленьким Марселем, а порой и маленьким Парижем! А шёб-таки видеть, как красивая женщина стоит растерянная, не зная, куда податься в нашей, прямо скажем, жемчужине у моря… нет, это оказалось невыносимым для мужской части одесского народонаселения! То и дело около Алёны останавливался какой-нибудь старик, юноша, мальчик или, не побоимся этого слова, мужчина в расцвете лет и предпринимал попытки сделаться ее провожатым как по улице, так и, при благоприятном расположении звезд, в жизни, и помочь найти то, что она потеряла.
– Спасибо, я уже все нашла, – отвечала Алёна, посылая направо и налево благожелательные улыбки, а сама не переставала сверлить глазами дверь под вывеской «Частный детектив».
– Спасибо, большое спасибо, – улыбнулась она очередному Сусанину-добровольцу, сложила карту – да так и замерла, глядя на высокого, очень элегантного даже в джинсах и простой синей рубашке человека с длинными, аккуратно собранными в хвост полуседыми волосами, очень темными глазами и смуглым лицом. В его внешности было нечто ассирийское… Он как раз в это время подошел к двери с вывеской «Частный детектив» и осмотрелся. Их с Алёной глаза встретились, и человек шагнул к Алёне.
– Слушайте, неужели Рудько проболтался-таки? – спросил он мягким, по-южному протяжным голосом. – Я ж просил его…
– Он молчал, как риба об лед, – с великим трудом удерживаясь от смеха, сказала Алёна. – Вы же слышали, он обещал? Но неужели его фамилия в самом деле Рудько?[9] – спросила она недоверчиво.
– Вообразите, – кивнул ее собеседник. – Но все же – как вы меня нашли? Как догадались, куда именно идти?
– Это было довольно рискованное предположение, – скромно (на самом деле ужасно собой гордясь), сказала Алёна. – Самое простое было догадаться про место. Про Лонжероновскую. Рудько спросил вас: «Ты уже на Лонжероновской?» Значит, вы здесь или живете, или здесь ваш офис. Потом он обмолвился о том, что лицензия у вас, считай, в кармане, если он кого-то найдет, пробубнил про какие-то улики, которые вы ему добудете, и про цацку, и про подозреваемого… Я сразу вспомнила, как в каком-то романе Чейза частный детектив все время опасался, что у него лицензию отберут, ну и помогал местной полиции чем мог, а все лавры ей доставались.
– Да, у нас почти как у них, это точно, – кивнул мужчина. – Те же проблемы. А в логическом мышлении вам не откажешь! Но как вы меня вообще узнали? Вы на меня сейчас посмотрели без всякого удивления.
– Да я вас еще вчера в аэропорту приметила, – простодушно призналась Алёна. – Вы сказали: «Такси заказано», помните? А вы кто? Таксист? Или все же вот это, – она кивком указала на вывеску, – а таксист по совместительству?
– По совместительству, – улыбнулся он, – а вы внимательны. Я ведь вас тоже именно там заприметил. В аэропорту я был по одному дельцу…
– А по другому дельцу созерцали сегодня какую-то урну на Софиевской, – с невинным видом пробормотала Алёна. – Я у вас спрашивала, как пройти к картинной галерее… а потом вы увидели, как меня под белы рученьки втащили в проходную, да?
– Точно! И сразу понял, что Рудько готов натворить глупостей. Я хотел сразу вас отбить, но меня бы не пустили в музей в том моем прикиде, еще и самого упекли бы в каталажку, там на редкость дурковатый дежурный сегодня на проходной, а свой мобильный я забыл, пришлось срочно возвращаться и звонить отсюда. – Он кивнул на вывеску. – Поэтому вам успели нервишки помотать. Кстати, извините, что я вас не приглашаю, у меня в офисе ремонт. Может быть, в кафе заглянем? Хоть познакомимся…
– Зато я знаю, что вас зовут Арик, – сказала Алёна. – Рудько все время твердил: Арик то, Арик се… Это что же значит – Артур? Э‑э… Арчибальд? Или, извините, Архип?
– Господи помилуй! – вскричал он. – Всего-навсего Арнольд.
– Всего-навсего! Это называется – ничего себе! А меня зовут всего-навсего Елена. Или чаще Алёна, кому как больше нравится.
– Алёна… Алёна Дмитриева? Так?
Наша героиня не без изумления хлопнула ресницами и сказала насмешливо:
– Только не говорите мне, что вы читаете дамские детективы!
– Не скажу, – как бы даже испуганно выставил ладонь вперед Арнольд. – Просто я вчера встречал в аэропорту одну знакомую, которая сообщила, что летела в одном самолете с писательницей Алёной Дмитриевой. Сказала, что вы очень быстро пишете, что ваша главная героиня – это как бы ваше второе «я» со всеми вашими приключениями, как любовными, так и прочими. И она вашу внешность так подробно описала, что я сразу узнал особу, которую отказался подвезти… Кстати, извините за это. В аэропорту очень строгие порядки: таксисты не отбивают клиентуру у извозчиков, ну а те не лезут к людям, у которых заказано такси. Если паритет нарушается, вполне может случиться немалый мордобой. А мне было очень важно эту даму встретить и доставить вовремя, а также в целости и сохранности.
– Это ваша жена? – спросила Алёна, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе не прозвучало даже самое малое подобие интереса.
– Нет, – равнодушно сказал Арнольд. – Я просто ее встретил и отвез, куда ей было нужно. Иногда я исполняю такие приватные поручения. И машина с шашечками для этого весьма удобна. Мне дает ее один знакомый. А теперь все же заглянем в кафе?
– Берегись! – вдруг раздался крик.
* * *
Светлейшая княгиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, супруга наместника Кавказа, пребывала в истинной ярости. Ее единственный, любимый сын совершенно потерял голову, и из-за кого?! Добро бы из-за юной красавицы, а то ведь от весьма немолодой особы. Она старше князя Семена на пять лет, про ее репутацию и сказать страшно… и при этом она сумела совершенно поработить его! Он вознамерился жениться на вдове! На женщине с прошлым! На Марии Столыпиной! Он, о котором мечтали лучшие невесты России! И стоило матери заикнуться о том, что родители запрещают ему видеться с «этой особой», как он воспротивился, и не просто решительно – воинственно! Он пригрозил порвать всякую связь с родителями, если они посмеют третировать его обожаемую Мари. И Елизавета Ксаверьевна обнаружила, что может вообще потерять сына.
Он всегда был «ее мальчиком»… даже когда рисковал жизнью в стычках с горцами на Кавказе, когда рос в чинах и получал награды. Он в глубине души оставался робким ребенком, для которого главная женщина на всем свете – мать.
И теперь… теперь он пал жертвой страсти к другой!
А мать-то думала, что сын ее равнодушен к искушениям плоти!
Она ошибалась, как ошибается всякая мать, когда речь идет о ее ребенке, которого ей хочется всегда считать ребенком.
Ну в кого, в кого Семену было уродиться равнодушным к этим самым плотским радостям? Ведь Елизавета Ксаверьевна наделила сына той же глубокой чувственностью, которой обладала и сама, только она этой чувственностью блистала, а Семен стыдился ее, таил, чтобы матушка не бранила, чтобы отец не пенял… но Мари стала именно тем волшебным ключиком, который открыл для него ларец неисчислимых, незнакомых прежде наслаждений.
Он никак не мог забыть того вечера, когда Мари пригласила его на ужин. Сейчас казалось даже странным, неправдоподобным вспоминать, что он приехал с настроением убедить ее на время расстаться, чтобы успокоить матушку, выждать время… Но стоило ему увидеть Мари, одетую в алое платье, стоило ее тонким пальцам оказаться в его руке, как ужин был забыт. Он так сжал ее руки, что она вскрикнула от боли: тяжелый перстень с невзрачным серым камнем вдавился в кожу. Семен покрыл пальцы поцелуями – и уже не смог оторваться от благоухающей кожи, от нежных рук, от обнаженных плеч и от груди, которая ослепительно сияла белизной над алым шелком платья. Какой там ужин!.. Она стала его пьянящим вином, его ненасыщающей пищей!
Князь Семен вошел в столыпинский дом другом – а вышел любовником, вышел счастливейшим человеком на свете, и теперь никакая сила не могла бы его остановить в стремлении сделать Мари своей не только на тайном ложе страсти, но перед Богом и людьми.
Дожив до двадцати шести лет девственником-неудачником, князь Семен рухнул в бездну такого счастья, о котором не мог прежде даже подозревать. Он чувствовал себя любимым, он сам любил, он верил каждому слову Мари и обожал ее сына – ну, Булька и в самом деле был чудным ребенком. Он искренне полюбил Семена Михайловича, а Мари… Мари была бесконечно благодарна князю за те возможности возрождения, которые он перед ней открывал. И она совершенно не собиралась сдаваться, отступать в сторону, уходить с арены и утрачивать хоть гран того влияния, которое имела на Семена. От этого человека зависело будущее ее сына и ее самой, поэтому Мари знала, что будет сражаться всеми доступными ей средствами.
Конечно, Елизавета Ксаверьевна тоже не собиралась сдаваться. У нее были свои, далеко идущие планы относительно будущего сына. Она решила запугать Мари, явившись к ней во всем блеске своего богатства и титула светлейшей княгини, пригрозить, если надо… она была готова даже кинуться в ноги императору и устроить публичный скандал! Именно этим она и собиралась припугнуть Мари, не сомневаясь: государева семья не простит Столыпиной, если по ее милости выплывут на свет божий и станут предметом сплетен некоторые давно минувшие события вроде начатков любовного образования цесаревича Александра Николаевича.
Словом, неведомо каких безумств наворотила бы Елизавета Ксаверьевна в порыве святой материнской любви, однако нашла коса на камень, нашла – да и сломалась!
Не то чтобы Мари была так уж сильно начитанна и прекрасно знала современную литературу, все же она слышала имя Пушкина, читала его стихи, кое-что знала о его проказах и шалостях, о его любовницах и незаконных детях… знала и о тех слухах, которые ходили относительно рождения Софьи, сестры Семена Воронцова… не то отцом ее был Александр Раевский, не то, вполне возможно, и сам Александр Сергеевич Пушкин, но только не князь Михаил Семенович!
То есть у строгой светской дамы, в которую теперь превратилась Елизавета Ксаверьевна, рыльце на самом деле было очень сильно в пушку! И поэтому, когда светлейшая княгиня явилась обличать неугодную невестку, Мари совершенно спокойно выслушала обвинения – и вернула их ей…
Та бледная, угрюмая, кусающая губы дама, которая уходила из дома Мари Столыпиной, была совершенно не похожа на ту, которая в этот дом входила.
Спустя час Мари получила с нарочным письмо от своего поклонника, любовника и жениха Семена Воронцова. «Они согласны! Венчание завтра!» – вот все, что написал лаконичный Семен.
Впрочем, Мари ждала-таки какой-то пакости от Елизаветы Ксаверьевны – и не зря.
Князь и княгиня Воронцовы на венчание единственного сына не явились.
«Ну, – рассудила Мари, – Бог им судья!»
И незаметно коснулась среднего пальца правой руки, на котором горбился обтянутый белой атласной перчаткой грубый массивный перстень. Конечно, он выглядел чужеродным на фоне свадебного наряда и прочих изысканных драгоценностей невесты, но Мари это было совершенно безразлично!
* * *
– Берегись!
Алёна в изумлении вскинула глаза, но Арнольд вдруг схватил ее и рванул в сторону с такой силой, что она не упала только чудом. Алёна вцепилась в него обеими руками, уткнулась носом в щеку, на миг приятно поразившись ее мягкости и благоуханию… где-то рядом оказались его губы, слегка коснулись ее губ и прошептали:
– Все в порядке, не бойся.
– Я не боюсь… – прошептала Алёна в его губы, едва ли соображая, что говорит. Это был не поцелуй, это была мимолетная ласка, но сердце дрогнуло… Она в смущении попыталась отстраниться.
Показалось или Арнольд не слишком охотно разжал руки?
Алёна выпрямилась, огляделась. Арнольд хищно рыскал глазами по улице. Кругом раздавались возмущенные крики:
– Да он шмурдяка́[10] прокислого опился, шё ли?!
– Байкер шизанутый!
– А шёб тот мотоцикель ему в тухес, да с не выключенным мотором!
– Вот уже эти писюки-недоростки получили в руки технику! Я бы им все поотрывал, что промеж ног, да вместе с теми же ж ногами!
Оказывается, рядом уже собралась небольшая толпишка сочувствующих. Лица плыли перед Алёной из стороны в сторону, размазывались, то выступали, то скрывались в каком-то полумраке. Эй, она что, снова на грани обморока?!
Алёна тряхнула головой, пытаясь прийти в себя, и вдруг одно лицо выступило из расплывчатой мглы – чем-то знакомое, толстощекое… да это же Жора-Жёра с Привоза, тот продавец, у которого она купила клубнику – то есть не клубнику, а сущий дрэк!
Алёна моргнула… лицо исчезло. Показалось, что ли?
– А вы, мужчина, молодцы, как проворно отскокнули! Не то и вас, и даму вашу он бы в картину Малевича превратил, и это как пить дать! – пронзительно выкрикнул кто-то.
– Ну, у Малевича все же «Черный квадрат», – сказал Арнольд очень серьезно. – Строгая геометрическая фигура. А от нас могла бы остаться весьма бесформенная красная мазня.
Алёна покачнулась – и тотчас снова оказалась в объятиях Арнольда.
– Извините! – покаянно шепнул он. – Язык мой – враг мой. Но я в самом деле перепугался этого придурка.
– А что это было? – спросила Алёна. – Я ведь ничего не успела увидеть.
– Вот ведь как бывает! – запричитала какая-то женщина. – Попала бы прямиком на тот свет, даже не поняв, что ее убило!
И чувствительная одесситка зашлась в рыданиях, словно уже провожала писательницу Алёну Дмитриеву в последний путь.
– Да все в порядке, – крикнул Арнольд. – Ну, не справился парень с управлением, ну, бывает… Не пугайте даму, пожалуйста. Давайте мы с ней лучше уже пойдем потихонечку.
– Не справился с управлением? – раздался рядом скептический голос. – А мне показалось, он просто виртуоз, этот байкер. Он точно метил в вас! И если не врезался, то лишь потому, что у вас какая-то неправдоподобно быстрая реакция. Вы так лихо отскочили, словно заранее знали, что он на вас наедет!
– Ага, – буркнул Арнольд. – Получил за неделю уведомление в письменном виде. На самом деле я когда-то закончил цирковое училище. Очень полезное образование, как не единожды выяснялось! Пойдемте, Алёна, вы ужасно бледная. Давайте все же зайдем куда-нибудь, вам чай или кофе совсем не повредят, а может быть, и хороший коньячок.
– Нет-нет, – пробормотала Алёна, – я просто хочу полежать, я в гостиницу хочу…
– Я вас провожу, – понимающе сказал Арнольд. – Пойдемте. Или такси взять?
– Да ну, я лучше подышу свежим воздухом, – сказала Алёна, чуть стыдясь своей слабости. – Какой-то день сегодня… приключенческий. То приняли меня за преступницу, хотя я думала всего-навсего в музей попасть, то байкер взбесился и решил превратить меня в граффити на стене…
– Ну, насчет байкера можете быть спокойны, – перебил Арнольд. – Это не ваше приключение, а скорее мое.
– Ваше?
– Ну да.
– То есть он на вас покушался, что ли?! Значит, правильно тот человек сказал: «Он точно метил в вас! И если не врезался, то лишь потому, что у вас какая-то неправдоподобно быстрая реакция».
– А почему нет? Вы думаете, на детективов покушаются только в романах Чейза? В реальной жизни такое тоже бывает. И даже не так редко, как хотелось бы.
– Конечно, я знаю, но этот байкер… если вы так уверены… вы хотите сказать, что он уже пытался раньше?
– Именно это я и хочу сказать, – усмехнулся Арнольд.
– Но вы… а почему вы не заявили в милицию?!
– Заявил, – вздохнул Арнольд. – Первый раз заявил. Но у меня не было свидетелей, это раз, а во‑вторых, этот тип сумел состряпать алиби.
– А в общем-то, это не очень трудно, – сказала Алёна самым невинным голосом. – Видимо, нашлась добрая женщина, которая подтвердила, что он провел с ней ночь? Или день? Или именно этот час?
– Э‑э… – озадаченно промямлил Арнольд, – а вы откуда знаете?!
– Я догадливая, – ласково пояснила Алёна. – Это ведь очень расхожее алиби, верно?
– Слушайте, вы что, на меня сердитесь?! – вдруг вскричал Арнольд. – А вас… о черт, я и не подумал… я вас подставил, что ли?! Может быть, вы, не дай бог, замужем, и если это дойдет до вашего мужа…
Он сокрушенно умолк и даже зажмурился от ужаса.
«Вы, не дай бог, замужем…» Хм… интересная обмолвка…
И очень приятная, да?
– Я ничуточки даже не замужем, – сказала Алёна небрежно. – Так что с моим реноме все в порядке. Но погодите. Я не сразу сообразила: если вы узнали байкера, если заявили на него в милицию, получается, вы с ним знакомы? В смысле, знаете, кто это? Имя его и все такое?
– Конечно, знаю!
– И вам известно, почему он на вас пытался наехать?
– Разумеется, известно! Потому что я наехал на него. В переносном смысле, конечно. Он по моей вине однажды очень много потерял, поэтому и пытался меня сбить в прошлый раз. Это была попытка отомстить. Сегодня он решил предупредить события.
– То есть вы для него опасны, я так понимаю?
– Совершенно правильно.
– А скажите… – Алёна на мгновение задумалась, потом выпалила: – Это, часом, не имеет отношения к сегодняшнему происшествию в Художественном музее? И не против ли этого человека вы должны представить какие-то улики Рудько в обмен на лицензию?
– Вы просто потрясающе догадливы, – лукаво покосился на нее Арнольд. – И ужасно прямолинейны. Любите называть вещи своими именами, да?
– Ну, – Алёна пожала плечами, – надеюсь, вы не обиделись? А что вообще украли из музея? Какую «цацку», как говорил Рудько? Имелся в виду какой-то музейный экспонат?
– Да не вполне музейный. – Арнольд осторожно придержал Алёну за локоть, внимательно оглядел Гаванную улицу, до которой они как раз дошли, и лишь потом начал переходить ее.
– Так вот насчет «цацки», – продолжил он. – Это экспонат не столько музейный, сколько выставочный. В музее готовилась выставка экспонатов одесских коллекционеров. Ничего особенно ценного, так, сокровища местного значения, зачастую имеющие ценность лишь для их владельцев, но все равно – интересные. «Золотой мусор Одессы» – так решили ее назвать. Каждый хозяин, естественно, преувеличивал ценность своей коллекции. У многих экспонатов есть своя история, и один Бог знает, что там правда, а что – выдумка. Вчера вещи приняли, а сегодня утром выяснилось, что один из экспонатов – по преданию, перстень одесского диктатора Гришина-Алмазова, – оказался подмененным. Вчера был золотой перстень с андалузитом, вернее, с его разновидностью – хиастолитом, – а сегодня – примитивная подделка. Вчера его принимала сама директриса, сегодня она вообще ничего понять не может и рвет на себе парик.
Ничего себе, цацка… Историческая ценность!
– И вы знаете, кто это сделал? – возбужденно спросила Алёна. – Кто подменил? Этот самый байкер?
– Похоже на то. У него была такая возможность. Он оказался в музее как раз во время приема и описи экспонатов некоего Юлия Матвеевича Батмана. Это мой добрый приятель, мелкий коллекционер, который цену этому перстню и знать не знал, думал, это просто симпатичная вещица без роду без племени. Я проследил историю перстня, я рассказал Батману, какой ценностью он владеет, я уговорил его выставить украшение в музее, и вот…
– Получается, этот байкер тоже знал истинную историю перстня, – перебила Алёна. – Откуда? Он тоже коллекционер?
– Он коллекционер денег, – буркнул Арнольд.
– Привет, Арик! – вдруг раздался веселый голос, и дорогу пересек очень складный парень среднего роста в белой майке и джинсах, таких узких, что, чудилось, они приросли к его сильным, чуть кривоватым ногам. – Как оно ничего?
– И вам таке ж, – ответил Арнольд с улыбкой. – Знакомьтесь, Алёна, это Роман, спасатель с Лонжероновского пляжа. А это Алёна Дмитриева, писательница из Москвы.
– Из Нижнего Горького, – поправила Алёна несколько строптиво: столицу нашей Родины она терпеть не могла.
– Вау! – восхищенно сказал Роман, устремляя на Алёну взгляд своих темных, почти черных, как спелые сливы, итальянских, а может, греческих или еврейских, но не исключено, что турецких, словом, черноморских, одесских очей. – Да уж, кому мама – Одесса, а кому – Волга… Но до чего же красивые у Волги-мамы дочки-писательницы!
– Ну, – не осталась Алёна в долгу, посылая Ромке один из тех взглядов, на которые была большая мастерица: обещающих много и не обещающих ничего, зовущих и отвергающих, исполненных искренних чувств и в то же время сверкающих фальшью… надо иметь в виду, что наша героиня была величайшей кокеткой! – Ну, одесские спасатели тоже ничего себе! А также частные детективы.
– Ого! – насторожился Роман. – Ты ей сказал?!
– Пришлось, – развел руками Арнольд. – Деваться было просто некуда.
– Он тоже оказался спасателем, – улыбнулась Алёна. – Вернее, спасителем. Моим. Причем два раза подряд. О, да мы пришли!
Они пересекли Дерибасовскую и стояли у забора стройки напротив крыльца гостиницы. Отбойные молотки уже не грохотали так устрашающе, как вчера, но что-то железное все же ковали.
– Интересно, что это они так старательно реставрируют? – спросила Алёна. – Вы одесситы, вы знаете?
Арнольд кивнул:
– Гостиница «Новая Московская», декоративный модерн начала XIX века. Судя по всему, конца-краю этой реставрации не видать.
– На ночь-то они прекращают этот кошмар? – с ужасом спросил Роман.
– Да как вам сказать, бывает, – усмехнулась Алёна. – Но иногда приходится куда-нибудь сбегать на ночь. Вчера, к примеру, мне удалось переночевать в другом номере, окнами на противоположную сторону.
– А куда вы намерены сбежать сегодня? – спросил Роман. – А то, если вам некуда, мы с Ариком… правда, Арик?..
Арнольд кивнул, но как-то нерешительно и ничего не сказал. Это на миг укололо Алёну. Она собиралась сказать, что пойдет танцевать аргентинское танго в ресторане «Папа Коста», но вместо этого задрала нос и проговорила довольно прохладно:
– Вечер у меня занят, спасибо.
Она ждала, что Арнольд попросит ее телефон… Но не дождалась. В самом деле, с чего ему было просить ее номер?!
А может быть, он просто постеснялся сделать это при Романе?
Например, Роман знаком с его женой и знает, что она не одобряет, когда муж берет телефоны у всяких встречных-поперечных спасенных им женщин!
На самом деле причин могло быть много. Но самой правдоподобной – и самой неприятной – было то, что Арнольду просто не хочется больше встречаться с Алёной.
Ну, вырвал ее из лап милиции. Ну и что?
«Да и в самом деле! Подумаешь! – подумала Алёна, холодно кивая на прощание обоим мужчинам и открывая своим ключом дверь в гостиницу. – Не очень-то и хотелось! Что такое мимолетное знакомство по сравнению с милонгой?!»
* * *
Старожилы говорили: «Если вы думаете, что Вавилонское столпотворение произошло в каком-то Вавилоне, вы таки ошиблись. Оно происходит сейчас – в Одессе!»
В восемнадцатом-девятнадцатом годах власть в городе менялась быстрей, чем некто Казанова менял свои перчатки и своих женщин. Советы, белогвардейская Добровольческая армия, петлюровцы, интервенты кромсали город, как именинный пирог, – чтобы всем досталось хоть по кусочку. Иной раз жители одной и той же улицы не знали, при какой власти живут: «Чи флажки красные казать, чи белые, чи жовто-блакитные, чи якись зеленые…»
Киногруппа Харитонова приехала в Одессу еще при красных, жилось в это время более чем страшновато, и все, и актеры, и режиссеры, не скрывали радости, когда красных наконец-то вышибли вон.
В городе худо-бедно закрепились части Добрармии Деникина. Скоро в одесский порт вошли корабли Антанты с солдатами Иностранного легиона, сенегальскими стрелками и морской пехотой.
Однако до спокойствия было еще далеко, потому что совершенно распоясались уголовники. Поставил Одессу вверх ногами (а многие выражались проще и точней – раком) знаменитый вор и убийца, бывший каторжник Миша Япончик. Собственно, по метрикам он звался Моисеем Вольфовичем Винницким. В Япончика его перекрестили за узкие глаза, ну а Мишей он сам себя назвал.
Более жестокого и дерзкого типа свет не видывал. Вот, например, как его банда взяла румынский игорный клуб, где за вечер проворачивались огромные деньги.
Бандиты надели матросскую форму – ее Япончику дал знакомый анархист, который имел доступ на вещевой склад Черноморского флота. На бандитах были бескозырки с тщательно сработанными надписями «Ростислав» и «Алмаз» на ленточках. При виде этих слов и добропорядочные граждане, и самые отпетые «элементы», и всякая «контрреволюционная сволочь» – все дружно поднимали руки вверх. Так назывались самые что ни на есть «идейные», преданные революции корабли!
И вот Мишины «матросы» ворвались в клуб в самый разгар игры и – «Именем революции!» – забрали сто тысяч рублей, которые стояли на кону, а после этого отняли у посетителей драгоценностей и денег еще на двести тысяч. С женщин срывали бриллиантовые украшения и прятали их в голенища сапог. Не обошлось и без кровопролития: не для всех имя революции было свято, а скорее, наоборот. Ну и с трудом выигранными денежками расставаться не хотелось, что вполне понятно. Да вот только Миша Япончик понимать этого совершенно не хотел. Оттого и выволакивали потом из клуба за ноги проигравших свои жизни покойничков. После этого в Одессе даже песенка появилась:
«Ростислав» и «Алмаз» – за республику, Наш девиз боевой – резать публику!Правда, публику по большей части не резали, а расстреливали из маузеров, но что в лоб, как говорится, что по лбу – все едино.
После этого случая Мишу стали называть не только королем Молдаванки, но и вообще королем налетчиков. Но он хотел большего. Он хотел зваться королем всей Одессы-мамы, и не просто зваться, но быть им. Он хотел, чтобы любая официальная власть – красная, белая, зеленая, да хоть серо-буро-малиновая! – боялась его и считалась с ним.
С красными это удавалось. Даже самые преданные революционной дисциплине комиссары не могли отмахнуться от двух бесспорных фактов: Миша, даже если и не мог похвастаться истинно пролетарским происхождением, но все же родился в семье еврейского мещанина на улице Запорожской, что на Молдаванке, а не на какой-нибудь там буржуйской Ришельевской. Это раз. А во‑вторых, он происходил из угнетенного национального меньшинства. Меньшинство в революционные годы весьма активно брало реванш, ну а Миша хуже, что ли?! Кроме того, Миша мог похвастаться «боевым революционным прошлым», и это было отнюдь не вранье! Еще в юности он водился с эсерами, которым вечно не хватало денег на террористические акты, а потому они весьма приветствовали эксы – то есть экспроприацию экспроприаторов, а проще говоря – грабеж. Грабить предпочитали по-крупному, например денежные экспедиции, но не брезговали и мелочами. Тут особенно полезен оказался Миша, на след которого в это время встала одесская полиция. Революционеры заключили с ним полюбовное соглашение: они избавляют его от слежки, прикончив полицмейстера Молдаванки Кожухаря, молодого, красивого и ретивого служаку, который уже замышлял Мишин арест. А Миша в обмен сдает им две трети того, что награбил, «взяв на гоп-стоп» мучную лавку Ланцберга на Балтской дороге и квартиру богатого ювелира Ландера.
Миша счел сделку выгодной, но поставил одно условие: Кожухарь будет убит им самим.
Полицмейстер был не только красив, но и щеголеват. Он не терпел ни пылинки на мундире и нечищеных сапог. Ходили слухи, что его любовницей была ну очень, ну очень знатная дама… настолько знатная, что в эту связь почти никто не верил, тем паче, что она была уже весьма немолодой, хоть и оставалась красавицей… а между тем это была истинная правда, и ради своей прекрасной и высокопоставленной возлюбленной молодой полицмейстер был на все готов, а не только ходить франтом. Чистил сапоги Кожухарь у одного и того же мальчишки-чистильщика на углу Степовой и Дальницкой улиц. И вот однажды мальчишка исчез, а вместо него уселся переодетый Миша. Как только Кожухарь поставил ногу на ящик, Миша включил взрывное устройство и кинулся наутек. А вот полицмейстера разорвало в клочья.
Когда Мишка улепетывал во всю прыть, его ударила по плечу оторванная рука Кожухаря… на скрюченном в последней судороге пальце мерцал тяжелый золотой перстень со странным серым камнем, на котором черные узоры образовали что-то вроде креста.
Другой тут же упал бы с сердечным приступом, но Мишка был хладнокровней змеи.
– Не поймаешь! – крикнул он насмешливо, сдернул перстень с мертвого пальца и сунул его в карман, потом с усмешкой отшвырнул окровавленную руку, а сам бросился наутек.
Впрочем, следствие недолго ходило вокруг да около. В декабре того же года Мишу арестовали в доме терпимости на Болгарской улице. Ходили слухи, что он туда явился на встречу с человеком, который хотел выкупить перстень Кожухаря. Все прошло чин чином, Миша получил свои деньги, посредник ушел с перстнем… но через несколько минут в притоне появилась полиция. Поймала, поймала-таки Мишу мертвая рука Кожухаря!
Сначала его приговорили к повешению, но в ту пору этот грабитель, убийца и пособник эсеров был еще несовершеннолетним. А потому получил взамен двенадцать лет каторги в Сибири.
– Вернусь – посчитаемся! – загадочно пригрозил Миша неведомо кому перед тем, как его запихнули в арестантский вагон и отправили куда Макар телят не гонял.
Он вернулся через двенадцать лет, осенью семнадцатого года. Вот это настало время! Тут уж было не до старых, полузабытых счетов. Предстояло завоевывать Одессу, становиться там королем! А это оказалось очень непросто…
Итак, красные признавали его «боевое прошлое». А вот с прогнавшими их белыми никак не удавалось поладить. Они считали Мишу самым обыкновенным бандитом. Того же мнения были и французские оккупационные войска.
Консул Франции Эмиль Энно ну прямо в одну дуду дудел с представителем штаба Деникина в Одессе Шульгиным: не будет Япончика – в Одессе установится порядок.
И оба они, посоветовавшись, поручили справиться с бандитом человеку, который по дерзости мог бы поспорить со знаменитым уголовником. К тому же, Миша Япончик был нагл, но изрядно трусоват, а этот человек – храбр до безрассудства. Имя его было Алексей Николаевич Гришин-Алмазов – тридцативосьмилетний генерал-майор артиллерии, прошедший две войны – японскую и мировую. Он был военным министром Сибирского эсеровского правительства (и за несколько дней произвел себя в полковники, а потом надел генеральские погоны), сражался рядом с Колчаком (и был среди тех, кто привел адмирала к верховной власти в Сибири!) и Пепеляевым.
Сам черт был ему не брат. Назначенный военным губернатором Одессы (ему нравилось, когда его называли «одесским диктатором»), Гришин-Алмазов за несколько недель объединил разрозненные части деникинской Добрармии и начал медленно, но верно наводить порядок в городе. Теперь круглые сутки по Одессе ходили офицерские патрули. Уголовников расстреливали на месте, устраивали облавы.
На Пересыпи и Молдаванке сначала забеспокоились, потом не на шутку перепугались. И вот однажды «одесский диктатор» получил письмо от «короля Молдаванки»: «Мы не большевики и не гайдамаки. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем». Мишка Япончик предлагал военному губернатору сделку.
Это письмо Гришин-Алмазов посчитал оскорблением для своей офицерской чести:
– Не может диктатор Одессы договариваться с королем бандитов! – И объявил Япончика своим личным врагом. Он вызвал к себе начальника одесской контрразведки подполковника Бразуля и приказал положить на стол адреса всех бандитских притонов.
Через неделю Бразуль задание выполнил. Тогда по приказу военного губернатора были сформированы офицерские отряды. Переодетые в штатское добровольцы окружали притоны и забрасывали их гранатами.
Бандиты покинули центр Одессы и затаились на Молдаванке, Пересыпи, Дальних Мельницах.
Конечно, выражаясь модной одесской фразой, «ауспиции[11] были тревожны», то есть от бандитов по-прежнему следовало ожидать много пакостей, однако хотя бы днем стало возможно ходить по городу без опасения, что тебя разденут и пристрелят в мало-мальски укромном закутке.
Япончик дал слово, что прикончит Гришина-Алмазова.
– Где вы есть, Лёдя Гришин-Алмазов, – покатывались со смеху в молдаванских и пересыпских кабаках, – где вы есть, когда на вас пошел сам Миша Япончик?!
«Одесский диктатор» мог ездить на своем автомобиле по городу только во весь дух, так как ему обещана была «пуля на повороте улицы». Однако несколько покушений сорвались. Между тем бандитам настолько крепко прищемили хвост, что Миша с нетерпением ждал возвращения красных в Одессу. Он предвкушал, как изобразит офицерские рейды против бандитов карательными экспедициями белых в рабочие кварталы!..
Но этого ему было мало. Он тщательно следил за Гришиным-Алмазовым, собирал все сведения о нем, желая «достать» его во что бы то ни стало. Каким угодно образом!
Пока ему это не удавалось: Гришин-Алмазов казался неуязвимым. Как говорят в Одессе, ему было «кисло в борщ», то есть все равно, что там замышляет Япончик.
Хладнокровие «одесского диктатора» жалило Мишу, как оса, слава изнуряла завистью. Кроме того, была еще одна причина, которая заставляла его страстно желать гибели этого человека. Но все было напрасно.
Гришин-Алмазов стал легендой Одессы.
И вот эта «легенда», этот беспощадный и неуловимый, отважный и неумолимый диктатор стоит в номере гостиницы «Бристоль» и смотрит на какую-то актрису со страхом?!.
* * *
Ну что скрывать, настроение у нашей героини было неважнецкое… Видимо, не только у нее: дежурная за стойкой с ключами посмотрела натурально волком и швырнула ключ с такой яростью, что он упал на пол. Дежурная подобрала, бросила его на стойку – но ключ снова упал на пол.
– В чем дело? – спросила Алёна вполне миролюбиво. – У вас новые правила обхождения с постояльцами?
– Авжеж! – так и обернулась к ней всей своей весьма объемной фигурой (похоже, персонал «Дерибаса» подбирался по принципу «чем больше хорошего человека, тем лучше») девушка, которую, судя по бейджику, звали Оксана Таранта. – Авжеж, если из-за этих постояльцев добрых людей увольняют!
– Это из-за меня, что ли, кого-то уволили? – изумилась Алёна.
– Авжеж! – подбоченилась Оксана. – Танютку из-за кого уволили?
Алёна пожала плечами:
– Не знаю.
– Не знаете? – Оксана люто прищурила свои голубые глаза и для усиления впечатления аж топнула каблуком шлепки. На миг Алёна задержала на обуви взгляд: огромные стразы, позолота и прочий гламурчик. – Она вам доброе дело сделала, в свободный номер ночью пустила, а вы на нее администратору нажаловались, что она там у вас какие-то эсэмэски прочитала! Можно подумать, она вас обокрала! А сами-то вы кто?! Даже из милиции насчет вас звонили, вашу личность проверяли! А Танютку уволили!
Загадочно… а ведь Алёна думала, что это горничная оставила «Нокию» в номере. А выходит, другая женщина. И именно она обвинила Танютку в избыточном любопытстве.
Конечно, Алёна могла просто взять ключ со стойки и пойти к себе, но ей совершенно не хотелось, чтобы весь персонал «Дерибаса» отныне стал ее врагами. Причем незаслуженно!
– Слушайте, Оксана, – начала она терпеливо, – вы все в кучу смешали. Ночевала-то я в пятнадцатом номере, это верно, однако свой телефон я там не оставляла, вот он, – она вытащила из сумки свою «Нокию», – а значит, Танютка никак не могла мои эсэмэски прочитать. А что касается…
– Да я и не говорю, – перебила Оксана, – никто и не говорит, что она ваши прочитала! Это вы чужие прочитали. А потом нажаловались на Танютку и…
И тут Оксана осеклась и уставилась на Алёну с таким растерянным видом, что та невольно прыснула.
– Ага, вижу, до вас начинает доходить некая парадоксальность ситуации. Или я прочитала чужие эсэмэски, или я нажаловалась, что Танютка прочитала мои. Одновременно не получается. Кстати, эти послания я прочла совершенно случайно, спросонок, потому что у той «Нокии» такой же сигнал, как у моей. А телефон лежал в тумбочке около кровати, я сквозь сон подумала, что это мне пришли сообщения. Уверяю вас, что то, о чем шла речь, – это тайна, которую я унесу в могилу, – ухмыльнулась Алёна, – но, поверьте, вообще не из-за чего было хозяйке телефона шум поднимать. Я очень извиняюсь, конечно, но странно, что при уборке никто из вашего персонала забытый телефон не нашел и не забрал, чтобы владелице отправить.
И тут до нее дошла еще одна несообразность ситуации:
– Интересно, а как владелица телефона, забывшая его, узнала, что эсэмэски кто-то прочел? Ну, понятно, она из другого города позвонила насчет пропажи, но как выяснила, что кто-то ее почту читал?!
– Почему из другого города? – раздраженно дернула плечами Оксана. – Она утром приехала, вошла в номер, взяла телефон, посмотрела – и все поняла.
– Так, – кивнула Алёна. – Появилась некая она. То есть, видимо, та дама, которая бронировала пятнадцатый номер и утром появилась, чтобы поселиться в нем. Так?
– Ну, – неохотно согласилась Оксана.
– Тогда в чем вы меня обвиняете? В какой жалобе начальству?!
Голубые глаза Оксаны стали совсем прозрачными от бесплодных попыток понять, что вообще произошло.
– Ну да, – кивнула она наконец. – Значит, не вы жаловались.
– Само собой, – усмехнулась Алёна. – Зачем мне жаловаться на человека, который мне позволил поспать в тишине и покое? Теперь давайте дальше разбираться. Танютку вашу уволили когда?
– Да прямо в девять утра, как та дама приехала. Зинаида, администратор наша, пришла на работу, она ей нажаловалась, как из пушки.
Поскольку Алёна писала детективы, она обладала вполне развитым логическим мышлением, а значит, сразу зацепилась за самую явную несуразность во всем этом происшествии.
– Стоп, – сказала она. – А как эта женщина – которая из пятнадцатого номера – могла забыть телефон еще раньше, чем поселилась?
– Да с чего вы взяли, что она только сегодня поселилась? – с непередаваемым, неповторимым, чисто одесским выражением – чуть презрительным и чуть жалостливым к исключительной тупости собеседника – вопросила Оксана. – Она у нас довольно часто останавливается. В прошлый раз недели две назад была, тогда и забыла телефон, он у нее с одесской симкой, понимаете? То есть она у себя там, в Москве, по одному телефону звонит, а здесь – по другому. Да все так делают!
– Почти, – кивнула Алёна, но не стала уточнять, кто именно является исключением. С другой стороны, если бы она часто появлялась в Одессе, наверное, и она таковым не являлась бы.
Везет же людям! Чуть не каждые две недели приезжать в этот прекрасный, волшебный город, который называют маленьким Парижем!..
«Спокойно! – немедленно задавила Алёна в зародыше смертный грех зависти. – Ты раз в год – и это как минимум! – ездишь в самый натуральный Париж. Большой, а не маленький. Так что нечего, нечего!»
И тут она почувствовала какой-то странный запах… Ощутимо пахло паленым.
– Где-то что-то горит, – растерянно сказала она.
Оксана громко потянула носом – и кинулась на запах, стуча своими гламурными шлепанцами. Алёна бросилась за ней. Они свернули в левое крыло и остановились сразу за углом, около гладильной доски. Пахло от раскаленного утюга, оставленного включенным.
– Это ж надо! – в сердцах крикнула Оксана, выдергивая вилку из розетки. – Вот народ! Хорошо еще не плашмя на доску бросила! Кто это так гладил, интересно?!
– Я видела, это блондинка с длинными волосами в черном кимоно, – наябедничала Алёна. – Она гладила что-то очень красивое, золотистое… ой, смотрите, кажется, даже прожгла свое платье! – показала она черный комочек, прилипший к подошве утюга.
– В кимоно?! – Оксана даже поперхнулась. – Да это ж та самая… из пятнадцатого номера! И она слышала, как мы ей тут кости мыли! Всё! Теперь нажалуется! Теперь и меня уволят! И опять из-за вас. Как и Танютку! – И она протяжно всхлипнула.
– Но ведь вас еще не уволили, – виновато пробормотала Алёна. – Так что не стоит раньше времени плакать. Может, она вообще ничего не слышала.
А сама подумала, что дама наверняка очень внимательно слушала – вернее, подслушивала, и так этим увлеклась, что даже платье свое очаровательное прожгла. И это тоже повод для злости, причем гораздо более весомый, чем какие-то эсэмэски!
– Будем надеяться, она не нажалуется, – неуверенно сказала Алёна. – Неужели у нее такой склочный характер?
– Да нет, она очень милая, веселая, не занудная, это только сегодня как с цепи сорвалась. Конечно, кому приятно, когда на его постели кто-то спит да еще эсэмэски читает!
Ну да, ну да, кто спал в моей постели и смял ее, кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места, сказка Льва Николаевича Толстого «Три медведя»!
Алёна начала злиться.
– Чтоб вы знали, – сказала она холодно, – Танютка получила столько, сколько запросила за то, чтобы перестелить после меня постель, так что тут ко мне не может быть претензий. Другое дело, если она этого не сделала. Но и в этом случае вопросы целиком и полностью к ней!
– А эсэмэски? – вскричала Оксана, явно готовая начать все снова-здорово.
– Да я же говорю: это произошло нечаянно! – рявкнула Алёна. – И не было ничего в этих эсэмэсках, из-за чего стоило шум подымать! Я даже не помню, о чем там шла речь! И я не понимаю, почему оставленный телефон валялся в номере, а не ждал хозяйку у администратора или в камере хранения, как забытая вещь!
– А потому, что она попросила его в тумбочку положить, чтобы сразу начать звонить, как приедет! – завопила Оксана. – Вдруг администратора не было бы, а телефон срочно нужен. А тут вы!!!
– Я слышала, будто бы в Одессе знаменита песня «Как-то раз по Лонжерону я гулял»? – ледяным голосом спросила Алёна. – Помните, там есть бессмертная строка: «Алеша, ша, возьми на полутона ниже»? Придется вам, хоть вы и не Алеша, последовать этому совету, если не хотите, чтобы я нажаловалась, в свою очередь. Видите ли, у меня есть привычка не позволять гостиничным горничным повышать на меня голос. Если у дамы из пятнадцатого номера будут ко мне претензии, я охотно извинюсь. Она ведь слышала наш разговор и могла вмешаться, потребовать от меня каких-то объяснений. Но она предпочла уйти. И это ее дело, но уж точно не ваше!
И наша героиня, схватив, наконец, ключ, двинулась к своей комнате так стремительно, что Оксана отшатнулась и даже отскочила, словно испугавшись, что разгневанная постоялица пройдет сквозь нее.
Да запросто могла бы!
Алёна Дмитриева сейчас на многое была способна! Вы скажете, что нехорошо унижать человеческое достоинство? Ничего подобного – просто каждый должен знать свое рабочее место. Хрен с ним, с местом на социальной лестнице, но рабочее место надо знать. И если вы работаете горничной в гостинице, будьте ею, а не прокурором, даже если это ваше призвание, которое вы упустили!
* * *
Конечно, все петербургское общество было весьма фраппировано тем, что Елизавета Ксаверьевна не явилась на свадьбу к единственному и обожаемому сыну. Однако Мари держалась невозмутимо и во время венчания, и после него. Она ведь прекрасно понимала, что если отсутствие на свадьбе можно объяснить болезнью (пусть в это никто не верил, но причина была вполне уважительной!), то не пустить молодых в родительский дом – по какой бы то ни было выдуманной или действительной причине! – чревато скандалом, в который не замедлит вмешаться и сам государь. Так как позорить бывшую любовницу его сына – это значит, позорить и сына, и его самого: ведь именно он некогда остановил свой благосклонный взор на Мари Трубецкой как на той женщине, с которой наследник должен был лишиться невинности…[12]
Конечно, Елизавета Ксаверьевна и сама это понимала, а может быть, князь Михаил Семенович сумел ее убедить, что не стоит посмешище из себя изображать и потешать всю Россию от столицы до Кавказа. Так или иначе, Мари с достоинством и не без отваги переехала в далекие и опасные горные края. И тут-то она взяла реванш – во дворце наместника в Тифлисе, где они поселились с Семеном, не утихали «битвы амазонок», как это называли при дворе: всем было известно, что невестка превратила в ад жизнь свекра и свекрови.
Вскоре для молодых Воронцовых был куплен и обустроен новый богатый дом, Семен Михайлович получил выхлопотанный у императора титул светлейшего князя. Мари стала светлейшей княгиней и на время угомонилась.
Все это время она не расставалась с заветным перстнем. Нет, она не носила его на пальце, опасаясь потерять, а повесила на шею, рядом с крестиком и ладанкой. Может быть, это и было кощунство, кое осудил бы всякий батюшка, но Мария Васильевна не собиралась каяться в грехах на каждом углу. Она не знала, в самом ли деле перстень имел некий дар творить чудеса, но она верила в это – а это было главное. И еще пуще поверила со временем…
Она если и не любила мужа, то была очень благодарна ему за любовь, которая вознесла ее на высоты богатства и дала самое высокое положение, о котором можно было только мечтать. Однако Семен Михайлович состоял на военной службе, а Тифлис был всего лишь городом-крепостью, окруженной враждебными племенами горцев. Наверное, если бы Мари попросила отправить ее в Петербург, муж сделал бы это. Но она совершенно не хотела возвращаться к той жизни, в которой была снисходительно презираема высшим светом, где еще жива была память о ее дурной славе. Поэтому она оставалась на Кавказе и царила там полновластно (старшие Воронцовы в конце концов, после отставки Михаила Семеновича, уехали из Тифлиса, так что войны двух светлейших княгинь прекратились сами собой, хотя и не утихла их ненависть друг к другу), царила в сердце мужа, в сердцах многочисленных поклонников, боевых офицеров и штабистов, и при этом одним мановением бровей пресекала шепоток, который вспыхивал-таки, когда в доме князя появлялся Барятинский. Бывший командир Кабардинского полка, теперь он был назначен новым начальником левого фланга для экспедиции в Большую Чечню.
Мария Васильевна часто сопровождала мужа в его поездках в передовые отряды. Она приезжала в лагерь, останавливалась в палатке мужа, ночевала там. И почти каждую ночь украдкой бегала в другую палатку – к Барятинскому.
Это ни для кого не было секретом. Солдаты и офицеры втихомолку судачили между собой… и только Семен Михайлович, казалось, ничего не видел, не замечал. То ли не знал, то ли не хотел знать. И никто не решался открыть ему глаза: прекрасно понимали, что он не потерпел бы дурного слова о своей обожаемой жене – убил бы доброхота на месте. Да и Барятинский не стерпел бы доноса на себя. Барятинского боялись еще больше.
С Марией Васильевной публично он общался как с посторонним человеком, сына удостаивал беглой улыбкой, не более того. Он не собирался ни в чем каяться и жил только минутой. Той минутой, на которую его выбирала для себя эта женщина и на которую он допускал ее до себя.
Шло время, которое меняет все и примиряет нас со многим, и Мари, которая раньше отнюдь не была склонна не только философствовать, но и вообще – задумываться, теперь размышляла иногда, что Барятинский был, пожалуй, в ее жизни не более чем средством, а не целью. Так же, впрочем, как и Семен Михайлович. Один дал ей сына, другой – счастливую жизнь. Конечно, она не любила мужа так самозабвенно, как Барятинского, не сходила из-за него с ума, но не могла не оценить его преданность. Она всегда жалела, что у них не было своих детей. Тем более, что Елизавета Ксаверьевна не уставала ее этим попрекать. А Семен Михайлович, привыкший всегда и во всем винить прежде всего себя, и сейчас виновато улыбался ей, думая, что женщине нужно много детей, чтобы быть счастливой.
– Я и так счастлива, – отвечала Мари, ничуть не кривя душой.
Наверное, правы умные люди, которые говорят: неисповедимы, мол, пути Господни, Провидение ведет нас к счастью непрямыми путями. Чем дольше она жила, тем сильнее благодарила Бога за то, что у нее есть. Ведь рядом с ней теперь всегда были двое мужчин, которые любили ее самозабвенно, для которых она была царицей мира, в сердцах которых царствовала полновластно. И им было наплевать на всю дурную славу на свете!
И она не уставала украдкой поглаживать свой странный, грубый перстень, который получила воистину как подарок от смилостивившейся судьбы, мечтая лишь об одном – никогда с ним больше не расставаться.
А между тем этот день уже приближался.
* * *
Оказавшись в номере, Алёна первым делом бросилась под душ, удивившись при этом, что вода не кипит на ее плечах. Она вся так и пылала гневом! Но постепенно, вымыв голову, высушив волосы, причесавшись, намазавшись кремиками, накрасившись, пришла в себя. Потом долго примеряла платья и туфли… наконец, остановилась на сине-белой итальянской тунике с кружевными вставками, которые умопомрачительно сочетались с белыми кружевными лосинами. Туфли выбрала знаменитой аргентинской фирмы «Comme il faut» – модель называлась «Giraffe», и синие пятна на них были точно такого же оттенка, как причудливые узоры на тунике. Каблук был самый для Алёны удобный – восемь с половиной сантиметров, ремешок идеально обхватывал подъем, причем туфли были не кожаные, а из чудесного атласа (или сатина, как его называют иностранцы), они облегали стопу как перчатка. Тот, кто знает, что такое туфли для аргентинского танго, поймет ее восторг. Туфли важны почти так же, как партнер или хорошая музыка на милонге. Ну, а тем, кто ни о танго-туфлях, ни вообще о танго еще и слыхом не слыхал, ну что ж… им можно только посочувствовать и пожелать как можно скорее броситься в волны этой красоты и утонуть в них, преобразив всю свою жизнь.
При мысли о том, что она через несколько минут окажется среди любимой музыки и начнет танцевать лучший в мире танец, Алёна почувствовала себя радикально лучше и буквально бегом бросилась из номера. Но тут показалось, что она о чем-то забыла. Закрыла дверь и мысленно оглядела себя всю: одета так, как надо, расческа, помада, телефон, одноразовые платочки, шелковый платок – накинуть на плечи, если станет зябко, – и туфли в сумке, серьги в ушах, браслет на правой руке, часы – на левой (наша героиня, при всем блеске ума и интеллекта, была подобна библейским жителям Ниневии, которые не отличали правую руку от левой, но пользовалась для этого не сеном-соломой из солдатского анекдота, а часами и браслетом), все на месте…
Она быстро прошла по коридору, заранее сделав каменную физиономию – изготовившись для встречи с Оксаной, – однако столик дежурной был пуст. Звать ее не хотелось. Можно было просто положить ключ и уйти, но мало ли когда вернется Оксана и мало ли какой плохой-нехороший человек может в это время пройти мимо стойки и приметить бесхозный ключ?! Нет уж, лучше пренебречь гостиничными правилами и забрать ключ с собой. В конце концов, дежурная тоже ими пренебрегла.
Алёна спустилась по лестнице, вышла и оглянулась на окно своего номера. Вот что она забыла! Погасить свет!
Вернуться? А вдруг Оксана уже сидит на боевом посту? Нет, неохота ее видеть. Горит свет – ну и пусть горит, в конце концов, не Алёне Дмитриевой платить за электричество, надо надеяться, мировые запасы энергии за три-четыре часа ее отсутствия не слишком истощатся.
Она повернула за угол и оказалась на шумной, радостной Дерибасовской. Прямо на мостовой оказались расставлены столики многочисленных летних кафе, народа кругом бродило и сидело огромное количество, отовсюду пахло какой-то вкусной, соблазнительной едой, но Алёна стоически покачала головой: достаточно наелась сегодня, можно и не поужинать, зато к завтрашнему дню, глядишь, полкилограмма уйдет… впрочем, это смотря какая милонга выпадет, иной раз даже больше килограмма можно за вечер потерять.
Она еще днем приметила, где находится на Греческой улице ресторан «Папа Коста», и сейчас дошла до него за каких-то десять минут. Музыка, чудесная музыка аргентинского танго вырывалась на улицу из-под арки, и Алёна ринулась туда со всех ног, но была остановлена хорошенькой девушкой, которая сидела у входа, закутанная в плед. Девушку звали Оля, она продавала билеты на милонгу (вход стоил триста гривен – девятьсот рублей, то есть цены не московские и даже не парижские, а просто заоблачные!), а еще знакомила прибывших с расписанием семинаров. Алёна выяснила, что уроки с аргентинским маэстро у нее послезавтра с утра, то есть завтра целый выходной день – до вечера, до новой милонги.
– Вы на пляже были? – спросила Оля.
– Нет еще. Да я и не знаю толком, где лучше купаться.
– На Лонжероне, говорят, сейчас хорошо и чисто. Сходите завтра обязательно, потому что в воскресенье обещают циклон. Обидно побывать в Одессе и не искупаться в Черном море!
– Вы так верите синоптикам? – усмехнулась Алёна. – Наши, по-моему, даже вчерашний прогноз не могут толком повторить, не то что предсказать что-то.
– У нас очень хорошие синоптики, – патриотично сказала Оля. – Так что советую… а сейчас идите, идите уже в зал, а то вы так и пляшете на месте! – засмеялась она.
И это сущая правда. Звучала танда[13] из мелодий оркестра Альфредо Де Ангелиса, которого Алёна обожала, поэтому она и не могла стоять спокойно. Она промчалась через небольшую галерею и оказалась в том, что Оля называла залом: во внутреннем дворике ресторана. Первым делом оценила пол – нормальная, не слишком скользкая плитка – и только потом осмотрелась. Фонтанчик, много зелени, столики под лампами, скамейки по углам – и ветер, ветер! Сколько тут было ветра! Совершенно непонятно, откуда он брался, учитывая, что на улице стояла великолепная, теплая, очень тихая погода. Видимо, двор «Папы Косты» приходился на какую-нибудь розу ветров, так что все углы интенсивно продувало, а столики в более или менее защищенных от сквозняка местах были заняты более опытными людьми.
«Ничего, – подумала Алёна, занимая уголок и немедленно начиная дрожать, – я сидеть н‑не собираюсь, я собираюсь тан-нцевать!»
Однако время шло, а Алёна продолжала сидеть и дрожать в углу, подумывая о том, что надо бы достать платок, хотя на таком сквозняке он вряд ли поможет. Но тут официант, которому она от нечего делать заказала белого греческого вина, принес заодно и плед – такой же большой и уютный, как у Оли, – и Алёна с удовольствием в него завернулась.
В этом же углу обустроились еще две одинокие дамы – тоже высокие, как и наша героиня, и тоже весьма привлекательные, обе из Ялты, которые тоже завернулись в пледы, – и все вместе они так и сидели, будто три курицы на насестах. Нет, подумала Алёна, скорее, они напоминали грифов, которые высовывают голые шеи из пышного оперенья. И точно так же сварливо, как грифы над чьими-нибудь останками, они клекотали насчет того, что милонга получается довольно тухлая. Тем паче, что она – фестивальная! Даже по меркам Нижнего Горького милонга в тридцать человек – это пустая милонга, а здесь едва набиралось двадцать. И даже не все танцевали!
Только четыре пары отдавали должное божественному Де Ангелису: русоволосый парень с отрешенным взором и чуть полуоткрытым ртом и прижавшаяся к нему очень красивая брюнетка с хорошенькими ножками; долговязая, как жирафа – giraffe! – рыжая особа с маленьким и сурово сжатым ртом, а при ней – добродушный низенький партнер, который иногда рулил руками и неконтролируемо сваливал даму в волькаду, откуда ее потом не без усилий выцарапывал; тощий и долговязый молодой человек с напряженно косящими глазами и прижавшаяся к его животу маленькая пухленькая женщина. Танцевал также какой-то смуглый, широкоплечий, бритоголовый и усатый, похожий на турка или на запорожца за Дунаем, мужчина в белом стильном костюме, а с ним – прилизанная, с волосами, забранными в тугой узел, блондинка в чем-то черно-серебристом, с широкой юбкой и с глубоким вырезом на спине. Точно таким же глубоким было и декольте, в котором свободно колыхалась роскошная грудь, а сзади тонкий шелк платья облегал великолепную, не менее роскошную попу, для которой это слово было слишком маленьким, слишком скромным… это была задница, увесистая и впечатляющая, которая так и подпрыгивала при каждом движении. Несмотря на то что блондинка танцевала очень хорошо, просто профессионально, смотрели все сидящие по большей части не на рисунок танца и не на ее прекрасные adornos, то есть украшения, сделанные точеными ногами в золотых туфлях, а на ее выдающиеся формы и на правую руку ее партнера, которая то сползала на поясницу дамы, впиваясь в дивную попу, то, наоборот, поднималась и так плотно обхватывала ее узкую спину, что пальцы мужчины начинали шарить по груди, откровенно тиская ее. Но кто мог осудить мужчину, у которого в объятиях оказалась такая привлекательная, нет, чертовски привлекательная и великолепно танцующая дама?!
– Туфли к этому платью совершенно не идут, – скрипучим от зависти голосом буркнула одна из ялтинских неприглашенок. – Здесь нужны серебряные или черные! А так какой-то восточный базар получается.
– И платье, такое ощущение, с нее сейчас свалится, – поддакнула ее землячка. – В таком только на панель.
– Кажется, девушки, вы забыли, с чего начиналось аргентинское танго, – усмехнулась Алёна. – С танцев бродяг и проституток! Так что с платьем все как надо! Но и партнер великолепен.
– Он турок, а турки отлично танцуют, – мечтательно вздохнули ялтинки. – Мы были в прошлом году в Стамбуле на фесте. Практически через танду танцевали, вот лафа!
Алёна немедленно поделилась воспоминаниями о том, что в Париже, где она бывает раз или два в год, она тоже практически не сидит – причем вообще не пропускает ни одной танды! И она вспомнила, какое это чудо – милонги в Париже, где партнеры просто рвут ее друг у друга, а те, которым она не досталась, не сводят с нее восхищенных глаз. А тут… да на нее никто даже не смотрит! Ее даже никто не замечает!
Ха! А ведь довольно трудно ее заметить, закутанную в огромный плед! Надо немедленно показать себя публике, благо танда кончилась, играет кортина, означающая небольшой перерыв, и все разошлись по своим столикам.
Алёна выпросталась из пледа, мгновенно задрожала на ветру, но все же прошлась по площадке, делая вид, что страшно заинтересовалась фонтанчиком в виде львиной головы с разинутой пастью, из которой струйка воды сбегала в небольшой бассейн. В бассейне плавали красные рыбки, и было похоже, что у льва аж слюнки текут от страстного желания отведать рыбку, но он обречен испытывать танталовы муки.
Конечно, не факт, что львы хоть единожды в жизни съели хоть одну рыбку…
Впрочем, бог с ними, со львами, главное, что стратегический маневр Алёны принес несомненный успех. Практически все мужские головы повернулись к ней, и долговязый парень немедленно кинулся ее приглашать. Оказалось, его звали Михаилом. Теперь уже она с видом превосходства косилась на блондинку в золотых туфлях, которая на сей раз осталась не приглашена. Турок куда-то подевался, а мужчина, сидевший за одним столиком с ней, был поглощен едой и питьем.
Блондинка тоже не сводила с нее оценивающих глаз, а потом вдруг ткнула своего соседа в бок и что-то ему сказала.
«Ну что ж, – самодовольно подумала Алёна, – и в самом деле, здесь есть на что посмотреть, а adornos мои не слабее твоих!»
Мужчина нехотя оторвался от бокала, мельком глянул на Алёну, отвернулся – и тут же посмотрел снова, уже внимательней.
В это время Михаил очень удачно повернулся, повернул Алёну – и она лично разглядела лицо того мужчины.
Вообразите! Мир оказался даже тесней, чем можно было предполагать! Это был не кто иной, как Жора – тот самый, которого Алёна видела сначала на Привозе, а потом приметила на Лонжероновской, в момент жуткого байкерского фокуса.
Неужели Жора танцует аргентинское танго?! А почему нет? У него хороший рост, хорошая фактура – наверняка с ним будет удобно в близком объятии. Может, сделать ему кабесео, то есть пригласить взглядом, на следующую танду? Хотя… если он так долго сидит, то наверняка не танцует. Как бы глупо не вышло с приглашением… возьмет – да откажет. Вроде бы ерунда, но это так портит настроение! О, вот что надо сделать! Надо спросить у его спутницы, у блондинки, танцует ли ее сосед. Дама как раз направилась в помещение ресторана, возможно, в туалет – неплохо и Алёне Дмитриевой его посетить и навести нужные справки.
Танда кончилась. Алёна от души расцеловалась с Михаилом (тангерос вообще обожают делать чмок-чмок и при встрече, и при прощании, и благодаря друг друга за удачный танец), поклялась, что еще не раз с ним потанцует, – и покинула танцпол.
* * *
Вера не могла поверить своим глазам. В растерянности и трепете Гришина-Алмазова этом было что-то странное. А может быть, это не страх, а презрение?.. Что ж, она успела узнать, что, несмотря на всеобщее обожание, были люди, которые считали ее отъявленной распутницей и всячески муссировали слухи, которые ходили о ее образе жизни.
Жизнь Веры Холодной рассказал всем влюбленный в нее певец Александр Вертинский – и это была не жизнь, а «вечерняя жуткая сказочка», выражаясь словами из песни!
…Она многих любила и многих бросила. Они целовали ей пальцы… именно не руки, а пальцы! Среди ее любовников были самые экзотические личности: какой-то загадочный негр с лиловой от страсти кожей, и маленький распутный китайчонок Ли, и какой-то португалец с роковым взором, а еще – малаец, сведущий в самых экзотических способах любви. С ними и с маленьким похотливым креольчиком она шлялась по притонам Сан-Франциско, вернее, приезжала туда на авто, закутавшись в манто, которое подавал ей все тот же лиловый негр, при одной мысли о котором дамы и девицы начинали учащенно дышать…
Одни свято верили в «притоны Сан-Франциско».
«Ну, может быть, Вертинский тут что-то напутал или немножечко присочинил – они ведь, поэты, и соврут – недорого возьмут!» – сомневались другие. Однако все равно – актриса отнюдь не может быть оплотом нравственности. Уж конечно, Вера Холодная не раз побывала замужем! Среди ее супругов – все знаменитые артисты кино: Витольд Полонский – высокий, утонченный, с капризным лицом любимца женщин; Осип Рунич – записной соблазнитель, перед которым не устоит ни одна, даже самая добродетельная особа, где уж там актрисе; Иван Мозжухин – с тех пор, как он сыграл отца Сергия в экранизации рассказа Толстого, все дамы и барышни были в него смертельно влюблены и нежно называли душкой; актер и режиссер Петр Чардынин – демон, ах, это был сущий демон!.. Ну и, конечно, Вера Холодная перебывала и в объятиях Владимира Максимова, и «огненного дьявола», красавца кавказца Амо Бек-Назарова, и режиссера Евгения Бауэра, который сделал из нее кинозвезду, и самого владельца киноателье «Ханжонков и К°», Ивана Ханжонкова, что вызвало неистовую ревность его жены Антонины, и кинодельца Дмитрия Харитонова… И когда неожиданно застрелился светский ловелас, сын одесского «чайного короля» Высоцкий, всем было понятно, что он покончил с собой, отвергнутый красавицей актрисой! А тот же Вертинский?! Уж наверняка и он был одним средь многих! Ведь он называл Веру Холодную своей сероглазочкой, своей золотой ошибкой, цветком из картины Гойя́!..
Поневоле вспомнишь цыганский романс «Вот что наделали песни твои!»
Ох уж этот Вертинский… Вера отлично помнила, как он появился в ее доме и в ее жизни.
Это было во время мировой войны. Молоденький солдатик – санитар из передвижного военного госпиталя – как-то привез ей с фронта привет от ее мужа, Владимира Холодного, – да так и погиб на месте, навеки приговоренный к мучительному, тайному обожанию этой роковой женщины.
Он передал Вере письмо от Владимира – и стал приходить в дом на Басманную улицу каждый день. Садился (ноги в обмотках, гимнастерка вся в пятнах от дезинфекции, шея тонкая, длинная), смотрел на красавицу – и молчал. Потом начал читать ей свои стихи, для которых подбирал музыку здесь же.
Песенки были очаровательны!
Больше всего Вере нравились «Лиловый негр» (да-да, тот самый, который в притонах Сан-Франциско ей подавал манто!) и «Маленький креольчик», а песенка «Ваши пальцы пахнут ладаном» возмутила: «Я еще не умерла!» На самом деле эти ресницы, в которых спит печаль, были вызваны, конечно, воспоминанием о каком-то экранном образе Веры Холодной, ибо все фильмы кончались одинаково трагично: героиня погибала, и ничего теперь не нужно ей, ничего теперь не жаль, она уходит в рай весенней вестницей…
Когда газеты и афиши объявили, что на экраны скоро выйдет фильма «Тернистой славы путь», в которой будет рассказано о жизни обожаемой актрисы, ее поклонники и поклонницы спать не могли от нетерпения. Вот теперь-то они всё узнают доподлинно: и про лилового негра, и про экзотические португальско-малайские ласки, и про роковую страсть «огненного дьявола», и про то, кто же, в конце концов, ей теперь целует пальцы?!.
Увы! Фильма Петра Чардынина, снятая в киноателье Харитонова, хотя и собрала огромные деньги, однако многих разочаровала. Ну невозможно, никак невозможно, чтобы она была всего лишь любящей и любимой женой какого-то там бывшего юриста, ныне фронтового поручика, матерью двух дочек, скромницей, свято хранящей супружескую верность, труженицей, которая самоотверженно работала артисткой в синематографе, как другие дамочки работают приказчицами в магазинах, учительницами в школах, библиотекаршами в библиотеках, фельдшерицами в больницах. Нет!
Фильме никто не поверил. А между тем, в ней все было правдой. И в то же время картина лгала, как всегда лгал своим зрителям синематограф.
А «одесский диктатор»? Чему о ней поверил он?
Впрочем, он ведь и сам не без греха. Артистический мир питается слухами, что в Москве, что в Петрограде, что в Одессе, здесь все про всех знают… знают и то, что Гришин-Алмазов – большой поклонник прекрасного пола, что он не слишком-то старается хранить верность своей супруге, которая ждет его где-то в Сибири, а может, в Москве, словом, далеко… что одесская опереточная дива Лидия Липская его любовница, и если он старается не афишировать эту связь, то Лидия болтает об этом на всех углах. А еще говорили, что он связался с уже совсем старой, хотя и по-прежнему невероятно, неправдоподобно красивой мадам Марией Кич-Маразли, вдовой бывшего градоначальника Одессы Григория Маразли, и получал от нее подарки из числа тех ценностей, которые несчастной даме удалось спасти из некогда баснословного состояния. Кто-то, правда, уверял, будто Гришин-Алмазов вызвал для мадам Маразли из Греции крейсер… ведь эта дама была двоюродной сестрой то ли греческой королевы, то ли какой-то там герцогини… Ну, словом, Гришин-Алмазов спас эту особу, а в благодарность получил перстень.
Вере казалось, что все это очень похоже на сюжет какой-то фильмы, а впрочем, жизнь научила ее, что в ней, в этой жизни, случаются всякие чудеса.
Словом, что она, что Гришин-Алмазов – они оба были овеяны не только реальной, заслуженной славой, но и были героями скандальных сплетен. И могли смотреть друг на друга как равные.
Ее размышления перебил Василий Шульгин, который сказал:
– Вообразите, господа, что учудил наш герой нынче ночью! Вместе с французскими и греческими солдатами из союзнических войск забросал гранатами сорок четыре притона бандитов, которые именовались буфетами, паштетными, трактирами. За одну ночь!
Чардынин и Рунич зааплодировали, а Вера всплеснула руками и чуточку отодвинулась от «одесского диктатора».
Шульгин понимающе усмехнулся:
– Вера Васильевна, советую вам уж лучше одобрить действия этого ужасного человека! Иначе он тут такое устроит! Помнится, при нашем первом знакомстве я изъявил некоторое сомнение в его способностях взять Одессу под контроль. Он схватил кресло, швырнул его об пол и сказал: «Вот то же я сделаю с бандитами!»
– А вы что? – сдавленным голосом спросила Вера.
– Я засмеялся. – Шульгин и теперь засмеялся, – а потом ответил по Гоголю, совсем как в «Ревизоре»: «Александр Македонский, конечно, был великий полководец, но зачем же стулья ломать?»
Все захохотали – кроме Веры, которая вдруг схватилась за горло и закашлялась, оглядываясь на Галочку, невесту Энно, которая в это время прошла мимо нее к камину.
Рунич и Чардынин встревоженно переглянулись.
– В чем дело? – остро посмотрел на них Гришин-Алмазов.
Рунич что-то быстро сказал ему.
Гришин-Алмазов с досадой покосился на Галочку и сделал было к ней решительный шаг, однако приостановился и что-то шепнул на ухо Энно. Консул с изумлением поглядел на губернатора, потом на Веру Холодную, потом на свою невесту и, подойдя к ней, любезно подхватил под ручку и вывел вон из номера. Спустя мгновение он вернулся и виновато улыбнулся Вере Васильевне:
– Je vous prie de m’excuser, madame, mais ce n’est que mon ignorance qui pourrait me faire pardonner. J’espѐre, que votre santé n’a pas souffert?[14]
Вера покачала головой. Она чувствовала себя крайне неловко.
Взглянула на Гришина-Алмазова. Зачем он это сделал?! Мог бы промолчать о том, что ему сказал Рунич о ее нездоровье… Тоже болтушка этот Осип!
И вдруг Вера вспомнила, что ей рассказывали о Гришине-Алмазове: этот человек стреляет еще прежде, чем спрашивает «Стой, кто идет?», потому что пули ему менее жалко, чем слов. Он признает одно средство устрашения врага – убийство. И этот человек… он позаботился о ней?!
Снова посмотрела ему в глаза – и наконец-то поняла, почему он смотрит на нее со страхом…
И с этой минуты она перестала его бояться. В этом не было ничего удивительного: разве можно бояться человека, который влюбился в тебя с первого взгляда?
Ну наконец-то все встало на свои места! Эта ситуация была ей знакома, привычна. И Вера улыбнулась «одесскому диктатору» своей медлительной, чарующей улыбкой, глядя чуть исподлобья, так что ему почудилось, будто его окутывает дурманящий черный туман.
* * *
Алёна взяла сумку и вошла в ресторан. На стенке была начертана некая стрелочка, направленная вниз, а около нее – две сакраментальные фигурки, мужская и женская. Явно там находился туалет, и блондинка, конечно, отправилась туда.
Алёна с сомнением посмотрела на лестницу. Она была довольно крутая. Однажды в Париже она та-ак навернулась вот с такой же лестницы… И это неприятное событие повлекло за собой целый ряд всяческих приключений, порой даже смертельно опасных[15]. А спускаться по такой лестнице в танго-туфлях на шпильках – это верная гибель! Поэтому Алёна присела на ступеньку, скинула туфли и убрала в сумку, а взамен надела свои легкие шлепанцы. И уже спокойно спустилась, ступая на цыпочках и стараясь не топать по ступенькам.
И почти сразу увидела ту, которую искала. Блондинка стояла к ней спиной, подняв от напряжения плечи и прижимая к уху руку с зажатой в ней трубкой мобильного телефона.
– Ну! – бормотала она. – Ну ответь же! Ну где ты ходишь!
В голосе ее было такое неистовое нетерпение, что Алёна смутилась и отпрянула за поворот лестницы.
– Чччерт! – простонала блондинка. – Да что же делать, а?
И, судя по писку клавиш, она снова начала набирать номер.
Послышались шаги – кто-то еще спускался по лестнице в туалет. Каблуки блондинки застучали, потом хлопнула дверца – видимо, девушка скрылась в кабинке. Алёна решила воспользоваться минутой и последовать ее примеру.
Только она закрыла за собой дверцу, как за стенкой зазвенел телефон, а потом раздался удивленный голос блондинки:
– Кирилл?! Ты где? Ты уже вернулся?! Удалось вырваться?! Но как?! Да ты что, я страшно рада!
Однако голос ее был не столько радостным, сколько озабоченным, и Алёна невольно хихикнула: вот те на, пошла, понимаешь, девушка с Жорой на милонгу, а тут внезапно нарисовался какой-то Кирилл, который, судя по всему, имеет на нее некие права и ждет исполнения неких обязанностей… причем объявил о своем прибытии в самый что ни на есть интимный – туалетный – момент. Забавно, нет, правда, забавно!
Но, похоже, разговор с блондинкой о Жоре придется отложить – кажется, сейчас парочка будет срочно смываться.
Однако когда Алёна вышла к умывальнику, девушка в черно-серебристом платье никуда не смывалась и даже руки не мыла: она снова стояла, ожесточенно набирая какой-то номер. И снова безуспешно…
Алёна прошла мимо и поднялась наверх. Во дворе по-прежнему гулял ветер, Жора по-прежнему пил вино, интересного турка по-прежнему не было, Михаил по-прежнему танцевал с маленькой женщиной, ялтинки по-прежнему выглядывали из своих пледов, и вдруг Алёну охватила такая тоска от такого никчемного времяпрепровождения!
Ей остро захотелось уйти с этой неудачной милонги – чем скорее, тем лучше. Даже ради трехсот гривен она не собиралась сидеть и ждать у моря погоды, ощущая, как даром пропадают ее красота и талант.
«Да и в пень, – пожала она плечами. – Пойду немножко понаблюдаю ночную жизнь Одессы – ведь это портовый город, и в нем должна быть бурная ночная жизнь! – потом пораньше лягу спать, а завтра с самого утра – на Лонжерон! В самом деле, побывать в Одессе и не искупаться в Черном море – это просто глупо!»
И, помахав унылым ялтинкам, она пошла к выходу из галереи. Вдруг уличная дверь распахнулась, шарахнув о стену с треском, похожим на выстрел, и в галерее появился высокий мужчина в яркой белой рубашке и джинсах. Его длинные волосы разметались по плечам, а в лице его было, как показалось Алёне, нечто ассирийское…
– Арнольд? – так и ахнула наша героиня.
Арнольд запнулся при виде ее.
– Так вот вы где? – сказал он почти сердито. – А я‑то думал…
Он осекся.
– Вы что, танцуете аргентинское танго? – изумленно спросила Алёна.
– Бог миловал, – отмахнулся Арнольд, быстро окидывая взглядом танцпол и откровенно передергивая плечами.
Алёна обернулась.
Ну да, три пары, которые топтались посреди внутреннего дворика, выглядели весьма посредственно. С другой стороны, не всякий хорошо станцует под электронное танго, а сейчас звучало именно оно. Блондинка, появившаяся на пороге ресторана, тоже смотрела на эти телодвижения со странной гримасой. О Жоре и говорить нечего: он был просто в ярости!
Одни ялтинки ничуть не изменили выражений своих полусонных лиц.
– Но что тогда вы тут делаете? – спросила Алёна, поворачиваясь к Арнольду.
– Ну, – сказал он не то смущенно, не то развязно, – вообще-то я вас искал.
Алёна растерялась. Она была дама смелая, но при этом недоверчивая. Довольно часто случалось, что мужчине, который нравился ей, нравилась и она, то есть все прекрасно совпадало, но Арнольд так холодно ушел от нее около гостиницы…
– Меня? – переспросила она нерешительно. – А… зачем?
Арнольд смотрел со странным, словно бы раздраженным выражением. Потом мученически завел глаза:
– Ну вам как, вот так прямо сказать обо всех моих планах и надеждах, которые с вами связаны? Или прикрыть это… как бы выразиться помягче… флером приличия?
Алёне стало смешно.
– Давайте, прикройте, – прислонилась она к стенке, готовая слушать.
Дверь сзади снова хлопнула, точно выстрелила. Арнольд мельком оглянулся с досадливым, озлобленным выражением, а потом вдруг прижал Алёну к стене всем телом и поцеловал в губы.
Это был яростный, почти мстительный поцелуй, такой, что у нее мгновенно заболели губы. А может, она просто отвыкла от такого стиля поцелуев? Ее молодые возлюбленные, оставленные в Нижнем Горьком, оба были на удивление нежны и ласковы, при этом весьма мужественны, но отнюдь не брутальны. Арнольд же целовался с ней, как с врагом.
С другой стороны, всякая непобежденная женщина – в какой-то степени враг, ну, скажем так – противник.
Конечно, возможно, стоило ответить чем-то подобным, но Алёна была слишком растеряна, а потому она просто подчинилась поцелую, как подчинялась неизвестному партнеру в танго, растворяясь в мужчине, танце, музыке…
Это всегда приносило свои плоды, принесло и сейчас. Жесткие руки, обхватившие ее плечи, суровые губы, пленившие ее губы, смягчились. Теперь в этом поцелуе было только желание – откровенное, но не агрессивное, пылкое и в то же время исполненное нежности.
– Ну и ну, – прошептал Арнольд. – Ну и ну…
– Да, – прошептала Алёна, не вполне понимая, о чем, собственно, речь.
Наконец Арнольд отстранился, резко повернул Алёну к двери и схватил за руку:
– Пошли отсюда!
И двинулся вперед такими большими шагами, что Алёна почти бежала за ним.
Как только они оказались на улице, Арнольд разжал руку и отпустил Алёну.
– Что происходит? – спросил он со странным выражением.
Она только покачала головой:
– Тебя надо спросить.
– Спроси, – ухмыльнулся он.
– Спрашиваю… ты как здесь оказался?
– Тебя искал, неужели непонятно? Пока Романа спровадил, потом Рудько позвонил… это час прошел, не меньше, ну, вернулся к гостинице. Я примерно знаю расположение номеров в «Дерибасе», смотрю, во всех окнах третьего этажа, которые обращены на стройку, горит свет. Значит, ты дома! Но телефона-то твоего я не знаю. Позвонил дежурной – она говорит, что дама из десятого номера у себя. Я поднялся, постучал в твою дверь – никакого ответа. Думаю, может, душ принимаешь. Подождал. Опять постучал. Тебя нет. Дежурная клянется, что ты ключ не сдала. Я начал беспокоиться. Свет горит, ключ не сдан… ты не отвечаешь… ну, понимаешь… у меня такая дурацкая работа, которая вынуждает быть подозрительным и очень осторожным. Я сразу вспомнил, как на нас сегодня чуть не наехал тот сукин сын – на нас с тобой. Мы вместе были! Воображение разыгралось! Решил предъявить горничной свое удостоверение и уговорить заглянуть в твой номер. Она понесла какую-то пургу, мол, из-за тебя какую-то Танютку уволили, поэтому она ни за что к тебе не зайдет. Что это за история, кстати?
– Ты правильно определил – сущая пурга, – пожала плечами Алёна. – Ну-ну, и что было дальше?
– Дальше… Дальше я ее уже практически уговорил, как вдруг Ромка позвонил. Ты представляешь, говорит, кого я сейчас увидел, когда мимо «Папы Косты» проходил? Эту красивую писательницу, которая от тебя так элегантно сегодня улизнула. Я просто взбеленился!
– Почему? – изумилась Алёна.
– Почему! – фыркнул Арнольд. – Я как дурак размечтался о тебе, а ты в ресторан пошла. Неужели одна? Не поверил. А с кем? Я должен был это узнать! Решил: пусть обо мне что хочет подумает, а я узнаю, где она и с кем. Ну что так смотришь?! Неужели не понимаешь, как это бывает, когда видишь: женщина, тебе предназначенная, ускользает из рук?!
И они снова начали целоваться. Хлопала, точно стреляла, дверь галерейки «Папы Косты», мимо проходили какие-то люди, кто-то хихикнул, кто-то матюгнулся, кто-то с удовольствием чмокнул:
– Ах, какая женссчина! Мне б такую!
И даже:
– Смотри не захлебнись, Арик! – Из чего Алёна могла сделать вывод, что целуется с весьма известной в Одессе персоной, но если персона настолько напоказ выставляет свои чувства, то, стало быть, некому устраивать ей – в смысле, персоне, в смысле, ему, Арику, – сцен ревности, то есть он не женат.
Ну что ж… это снимало много лишних недоумений и многое облегчало. И хоть Алёна ничуть не была влюблена – как-то с этим чувством в ее жизни настала известная напряженка после одной безумной любви, которая окончилась, слава богу, но сердце ей порядочно потрепала[16], – однако сердце и тело ее всегда были готовы к новым приятным приключениям. Весной она вообще чуть замуж не вышла за одного лихого интерполовца[17], но, к счастью, оба вовремя спохватились, что свобода все-таки дороже. Свобода встретиться, свобода расстаться… свобода целоваться на улице, свобода вместе лечь в постель и встать из нее в любое желаемое время, ничего друг другу не обещая, не разрывая друг другу душу и сердце. Свобода мимолетной улыбки, которой иногда обменяешься с неизвестным человеком – и пойдешь дальше, храня о ней память, как о солнечном луче, который заглянул в твою жизнь.
– Ну и ну, – пробормотала Алёна, когда они с Арнольдом наконец оторвались друг от друга. – Кто бы мог подумать… И мы сразу перешли на «ты»…
Как будто это было самым главным!
Ну, впрочем, где-то так, потому что перечислить людей, с которыми наша героиня была на «ты», можно было по пальцам обеих рук. А теперь пришлось бы переходить на пальцы ног.
Они стояли на Греческой, словно бы не знали, что теперь делать. Дверь ресторанной галереи приоткрылась, томно-трагическая мелодия оркестра Карлоса Ди Сарли донеслась оттуда, и Алёна, на мгновение оглянувшись, увидела блондинку в ее черно-серебристом платье и золотых туфлях, которая медленно скользила в объятиях высокого мужчины в светло-желтом костюме.
– Это называется, как балконом по темени… – пробормотал вдруг Арнольд. – Он – среди здесь?! А кто ж пушку пустил, что ему уже определили нары возле параши?!
Алёна поглядела с изумлением.
– Извини. – Арнольд медленно прикрыл дверь. Заметно было, что он ошеломлен. – Неприятная и неожиданная встреча. Видимо, Рудько оказался еще тупее, чем я думал. Ты не поверишь… Ты знаешь, кто там танцует манящее танго, как тот чокнутый Джо из Аргентины знойной?
Алёна пожала плечами:
– Да разные люди. Там есть один Михаил…
– Какой Михаил?! – всплеснул руками Арнольд. – Там пляшет тот самый тип, который сегодня наехал на нас на Лонжероновской.
– Правда? – хохотнула Алёна. – Танцует танго?! Это фантастика… Раньше отрицательные герои непременно играли на саксофонах, а теперь, получается, танцуют танго?!
– Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст? – усмехнулся и Арнольд. – Как же, как же… Ну бог с ними, с отрицательными героями, пусть положительные героини танцуют танго.
– Придется стать героиней, – покладисто сказала Алёна. – Погоди, мне ужасно хочется на него посмотреть. Какой он из себя?
– Да там смотреть не на что, один желтый костюм, – с досадой буркнул Арнольд. – Ох уж мне этот костюм… добегается он в нем!
– Неужели и на Лонжероновской он был в желтом костюме?!
– Нет, – покачал головой Арнольд. – Но он был в нем вчера, когда пришел в Художественный музей.
– В Художественный музей? Вчера? – Алёна нахмурилась, соображая. – Погоди, ты же не хочешь сказать, что… Ты говорил, что тот байкер имел отношение к ограблению музея. И что… это он? В желтом костюме? Танцует танго?!
– Ну конечно, – кивнул Арнольд. – Он самый. Я был уверен, что Рудько его зацепил, используя то, что я ему дал. Получилось, нет, выскользнул…
– Значит, эти улики были неубедительны, получается?
– Конечно, – вздохнул Арнольд. – Присутствие на месте преступления в момент совершения преступления – не самое убедительное доказательство, я очень хорошо это понимаю.
– Видимо, милиция просто не нашла у него краденое, – сказала Алёна. – Нет решающего доказательства – вот его и выпустили.
– Он, конечно, не дурак, как раз наоборот, – вздохнул Арнольд. – На антона кидаться не станет, то есть, извини, Алёна, это все равно как по-русски сказать – на рожон не полезет, с перстнем по улицам бродить не будет. Наверняка заховал его где-нибудь, возможно, что уже и на яхте.
– На яхте?! Ого! У него яхта есть?!
– Да нет, откуда? – пренебрежительно пожал плечами Арнольд. – Яхта его дружка, который сейчас сидит в Стамбуле и разводит всякие нудности, чтобы таможенные сборы за свои макли не платить. У нас же такие правила, что даже честный человек вынужден иногда становиться контрабандистом, а уж нечестному сам бог велел. В любом случае ситуация такая, что яхта принадлежит турецкоподданному – нет, серьезно, совсем даже не папе Остапа Бендера! – к которому у наших внутренних и внешних органов пока нет никаких претензий. И даже если я буду точно знать, что Москвитин… это Кирюха, ты понимаешь? – уже держит на ней перстень, ни Рудько, ни кто-то чином выше не смогут к яхте даже причалить на своем милицейском катере. Не говоря уже о том, чтобы устраивать на ней обыск! Тем паче, что этот перстень – просто цацка с совершенно невероятной, фантастической историей, но отнюдь не предмет государственной важности, чтобы из-за него начать потрошить имущество иностранного гражданина. У меня-то мыслишка какая была? Рудько держит Кирюху хотя бы трое суток, я за это время нахожу способ попасть на яхту и сунуть шнобель в самые укромные места. Особенно во встроенный шкаф с музыкой. Я примерно представляю себе, где он может что-то прятать…
– Как ты это можешь представлять? – недоверчиво спросила Алёна.
– Ну… понимаешь, – продолжал Арнольд, – когда враждуешь с человеком всю жизнь, со студенческих лет, постепенно узнаешь его так же хорошо, как себя.
– А почему ты враждуешь с ним всю жизнь, со студенческих лет? – спросила Алёна.
– Спроси у Шерлока Холмса, почему он враждовал с профессором Мориарти!
– А они учились в одном институте? – усмехнулась Алёна. – А кстати, ты заканчивал что? Ах да, цирковое училище, я помню!
– Не только, я еще и универ закончил, радиофак, и этот типус тоже, но он вечно хвосты подчищал, а я учился на «отлично», защитился с блеском, даже собирался в аспирантуру поступать, но попал в одну темную историю, выбрался из нее только благодаря своей смекалке и понял, что так жить интересней.
– Как – так?
– Ну, так… смекалисто. Я работал в охранном агентстве, потом стал частным детективом.
– Я понимаю, что это интересно и опасно, – задумчиво проговорила Алёна. – А чего больше? Интересного или опасного?
Они медленно шли по Греческой. Витрины были освещены, но улица казалась Алёне удивительно тихой. Слышно было, как листья платанов шелестят под ветром. Оказывается, Одесса вовсе не была типичным портовым городом, где на каждом углу кипела бы ожидаемая ночная жизнь. Впрочем, Алёна отнюдь не страдала от ее отсутствия.
– Да как тебе сказать… – медленно проговорил Арнольд, подхватывая ее под руку и придерживая, потому что откуда ни возьмись вдруг вылетел мотоцикл, на миг замер рядом с ними, словно встал на дыбы, и с ревом понесся по Екатерининской.
– Ох! – Алёна так и вцепилась в его руку. – Я подумала… вдруг… ты понимаешь?
– Да нет, Кирюха сейчас в «Папе Косте», ты ж видела.
– Кирюха – это значит, Кирилл? – медленно проговорила Алёна. – Красивое имя.
– Да он и сам красавец, – передернулся Арнольд. – Вернее, красавчик.
Кирилл… когда-то у нее был скоропалительный роман с одним Кириллом, приехавшим из-за границы, чтобы найти фамильные драгоценности[18]. Но вовсе не вспомнив о минувших днях она сейчас зацепилась за это имя. Та блондинка в черно-серебристом платье и золотых туфлях… ей позвонил какой-то Кирилл. Скорее всего, именно его имел в виду Арнольд. Девушка была очень удивлена, что этот Кирилл приезжает – наверное, знала, что он задержан, не ждала, что сможет так быстро выбраться на свободу.
«Хм, странные какие-то отношения», – подумала Алёна. Твой мужчина попадает в тюрьму, а ты идешь на милонгу… С другой стороны, может быть, он не ее мужчина, учитывая, что она явно пыталась дозвониться еще кому-то другому. Не ее мужчина, а просто партнер по танго в желтом костюме.
Ну и прикид… вызывающий, мягко говоря. В таком виде идти что-то грабить, тем паче музей – это просто глупо. Незамеченным трудно остаться!
Но было еще что-то, связанное с этим желтым костюмом. Только Алёна не могла вспомнить, что.
Ну и ладно. Если важно, вспомнится само собой в нужное время. А если не вспомнится – значит, не важно. И вообще, какое значение может иметь цвет чьего-то там костюма?
О! Вспомнила! Когда она сегодня впервые увидела на Привозе Жору, рядом с ним был какой-то высокий мужчина в светло-желтом костюме. Правда, его звали не Кирилл, а Алик, и ему почему-то очень не нравилось, что его так называют. Значит, не он. Однако не странно ли, что у Жоры двое знакомых в желтых костюмах?
Наверное, нет. Желтый цвет летом всегда моден, особенно в Одессе.
К тому же, с Аликом Жора только сегодня встретился после долгой разлуки, а с этим Кириллом, видимо, отношения теплые и доверительные. Жора пришел на Лонжероновскую посмотреть, размажет Кирилл по стенке докучливого частного детектива или нет. А вечером, зная, что приятель в милиции, вывел на милонгу даму его сердца. Какой преданный кавалер-сервент, ну прямо Венеция восемнадцатого века!
А впрочем, – Алёна ехидно усмехнулась, – не исключено, что Жора не столь уж верный сервент. Может, он просто воспользовался отлучкой приятеля и начал клеиться к его даме? И теперь, когда танда прекрасного Ди Сарли закончилась, на танцполе происходит сцена, воспетая в известной песенке «На Дерибасовской открылася пивная»…
А вот, кстати, о Дерибасовской!
Они уже приближались к этой улице, и мысли Алёны перешли от досужих домыслов на более волнующую стезю. Проще говоря, она задумалась о том, куда они с Арнольдом, собственно, направляются. После таких-то поцелуев… после того, как он искал ее в гостинице, а потом увел с милонги… после всего такого девушка (ну, не слишком-то девушка, но не в том суть!) вправе ожидать если не предложения руки и сердца, то, во всяком случае, приглашения отправиться в постель с этим мужчиной. Алёна против этого ничего не имела, потому что находила известную романтику в случайных связях, но две вещи, бесспорно, охлаждали ее пыл. Во‑первых, предложения предаться страсти, переспать или хотя бы потрахаться сделано не было. Конечно, оно могло последовать с минуты на минуту, однако где этому чаемому мероприятию предстояло произойти? Путь-то их лежит прямиком к отелю «Дерибас»… Неужели Арнольд рассчитывает на то, что Алёна позовет его к себе в номер? О нет… Никакой плотский голод не заставит ее рискнуть попасться на глаза Оксане с мужчиной, который явно идет к ней ночевать! Такой компромат!
– Слушай, – вдруг проговорил Арнольд, – Алёна, я хотел сказать, что… может быть… как ты думаешь…
Алёна встрепенулась было, но напрасно: в кармане джинсов Арнольда зазвенел мобильник.
– А, застрелитесь вы все! – смешно разозлился Арнольд, доставая телефон. – Ну кому я нужен?! Ночь на дворе! Может, я сплю! И, может, я сплю не один!
Алёна невольно прыснула. Ага, кажется, намерения этого мужчины все же вырисовываются…
– Алло, – сказал он раздраженно, – кто это? Жена?
Алёна вскинула брови. Очень интересно…
– Чья жена?! – удивленно спросил Арнольд. – Ах, Боры Мазура… Ну конечно, я отлично помню, что Бора Мазур – племянник Юлия Матвеевича, но только я не понимаю, почему вам в одиннадцатом часу ночи захотелось мне сообщить, что у него есть-таки племянник Бора Мазур?
Поскольку имя Боря, Бори Арнольд произносил совершенно по-одесски: Бора и Боры, – Алёна откровенно хихикнула, но тут же осеклась, потому что Арнольд встревоженно воскликнул:
– Где Юлий Матвеевич? В больнице? С сердечным приступом?! Состояние тяжелое? Где? В частной клинике Борисоглебского? Да, я буду.
Он выключил телефон и порывисто обнял Алёну:
– Ты слышала?
Алёна кивнула, уткнувшись ему в плечо и удивляясь своему острому разочарованию. Вот никогда не надо ни о чем мечтать! А она, как всегда, себе уже намечтала всякого-разного! Ну и зря!
– Юлий Матвеевич – это Батман. Тот самый владелец украденного перстня. Я не могу не пойти к нему, потому что отчасти я виноват во всей этой истории. Ведь это я убедил его выставить коллекцию! Ох, как все нелепо… Пока шли, я все время мечтал… – Он не договорил и только провел губами по Алёниному виску. – Понимаешь?
– Я тоже мечтала, – тихо призналась она. – Слушай, а эта клиника Борисоглебского далеко отсюда?
– Не очень, на улице Пастера, возле Украинского драматического театра, а что?
– Да мне спать еще не очень хочется. Может быть, я тебя туда пока провожу? И ты мне расскажешь, что там случилось вообще, в музее. Хорошо?
Арнольд посмотрел задумчиво, потом улыбнулся:
– Хорошо. Мне так не хочется с тобой расставаться, если бы ты знала! И если там с Батманом не столь уж все страшно, может быть… может быть еще… – Он не договорил, улыбнулся и снова быстро поцеловал Алёну: – Пошли скорей. Ну, слушай.
* * *
Очень не хотелось Марии Васильевне возвращаться в Петербург, однако пришлось. Семен Михайлович был произведен в генерал-майоры свиты Его Величества. Впрочем, вскоре Мари смогла убедиться, что ее высокое положение и титул заставили самых ярых сплетников прикусить языки. Пожалуй, только ее воображение было повинно в том, что иногда ей слышался насмешливый шепоток или чудилось, будто поспешно поднятый веер прикрывает коварную ухмылку. И она изо всех сил старалась держаться так, чтобы ни у кого не возникало желания попрекнуть ее прошлым даже за глаза. А о том, чтобы пуститься во все тяжкие, даже и речи быть не могло! Более того – она даже стыдила себя за то, что совершала рискованные вылазки в палатку Барятинского! Это безумие – так рисковать! Просто безумие! Не иначе, в этом виноват перстень, который неведомым образом внушил ей уверенность в безнаказанности и вседозволенности, а также успехе любых ее проказ, даже самых опасных.
Мария Васильевна перешагнула за тридцать, но продолжала поражать окружающих своей несколько тяжеловесной, чрезмерно яркой, но все же безусловной красотой. Вокруг нее вечно увивались какие-нибудь влюбленные мужчины, но если в прежние времена она вовсю кокетничала и откровенно давала понять кавалерам, что эта крепость отнюдь не окружена неприступными оборонительными сооружениями, то теперь нетрудно было угадать, что даже и приступать к штурму не стоит. И хоть каждый кавалер, если он не был слепым, глухим или вовсе уж глупым, понимал, что напрасно потратит силы и надсадит чувства, желающих делать это не убавлялось. Непрекращающиеся ухаживания мужчин весьма улучшали настроение Марии Васильевны! Ну, а у какой женщины, скажите, настроение не улучшится, когда она непрестанно чувствует себя королевой балов?
Прошло три года, грянула Крымская война. Множество блестящих офицеров, составляющих украшение балов и светских гостиных, отбыло в действующую армию. Самые очаровательные девицы, дебютантки сезонов, проливали ночами слезы в свои подушки, оплакивая грядущую долю старых дев, которая, как им чудилось, им неминуемо грозила. Что и говорить, количество соискателей вокруг каждой поуменьшилось, и их carnetes de bal[19] все чаще оставались заполненными лишь наполовину, а то и на четверть. Тем более изумляло всех то, что светлейшая княгиня Воронцова исписывала свой карне от корки до корки!
Тем временем Семен Михайлович Воронцов тоже находился в войсках, более того – принимал участие в боях и даже был ранен под Севастополем. Государь удостоил его орденов и назначил генерал-адъютантом.
Даже в Крым доносились слухи о том, что жена Воронцова была в те годы истинной царицей светского общества, однако все соискатели ее милостей, как сговорившись, превозносили ее красоту, обаяние, ум, очарование, но и пеняли на ее неприступность. Словом, Семен Михайлович уверился, что он был женат на новой Пенелопе!
Счастливый и довольный семейной жизнью, он, впрочем, вскоре заскучал в Петербурге. Этот отважный человек, проведший почти всю жизнь в боях, жаждал если не войны, то бурной деятельности… однако после поражения в Крымской войне, после смерти императора Николая Павловича ввязываться в очередную военную кампанию новый император полагал бессмысленным, безрассудным и опасным.
Но как-то раз Александр Николаевич запросто спросил одного из самых заметных своих служак, отчего тот вечно уныл и молчалив. Пораженный тем, что сам государь столь сердечно и душевно говорит с ним, Воронцов выложил императору все как на духу, поведал о своей тоске по большому, настоящему делу, а заодно обмолвился, что здоровье его в северном дождливом, ветреном Петербурге сильно пошатнулось, одолели и ревматизм, и радикулит, и подагра: ведь он вырос на юге, в Новороссии, и молодость свою провел там и на Кавказе.
Александр Николаевич поглядел на светлейшего князя задумчиво и сказал:
– Ведь вы, если я не ошибаюсь, родом из Одессы, там и лицей заканчивали?
– Так точно, Ваше Величество, – с той улыбкой, с которой люди обычно вспоминают самые золотые, чудесные, но невозвратные годы, ответил Воронцов. – Из Одесского Ришельевского лицея в 1842 году был выпущен с правом на чин двенадцатого класса. Батюшка в ту пору был губернатором Новороссии.
– А не хотели бы вы воротиться в те места? – спросил Александр Николаевич.
Лицо Воронцова просияло такой радостью, что император невольно заулыбался.
– Это моя заветная мечта, – сказал Семен Михайлович. – Верите ли, Ваше Величество, готов был иной раз в отставку проситься, настолько здоровьем стал плох… уехал бы на юг, да знаю, что Машенька воспротивится. Ей Петербург – дом родной.
Император нахмурился. «Машеньке» этой сорокапятилетней лишь бы на балах танцевать, а не об очаге думать и здоровье мужа лелеять. Ведь и правда – реши Семен Михайлович уйти в отставку и уехать в Новороссию, она его с дорогой душой оставит одного!
Император отлично знал цену своей бывшей «королеве с левой руки», как называют фавориток французы.
Вот что такое есть в этой женщине? Все давно прошло, быльем поросло, с тех пор у него были другие любовницы, но жена, которая обо всех его грехах осведомлена и снисходительно прощает их, отчего-то никак не может простить эту первую ошибку его молодости… Да и самому не слишком-то приятно видеть Марию Васильевну в ее неувядающей, словно бы вечно юной красоте.
Как бы это все уладить? Чтобы и Воронцову дело дать достойное, и «Машеньку»… того, с глаз подальше…
И он всерьез задумался об Одессе.
* * *
– Я уже говорил тебе, что Юлий Матвеевич – не из тех людей, кто хвастается своими сокровищами, – начал рассказывать Арнольд, ведя Алёну по ярко освещенной, звенящей музыкой Дерибасовской. – Наоборот – Батман их не слишком-то считает за сокровища. Слов нет, для него они представляют огромную ценность, но – для души, так сказать. Он не мыслит жизни без них. Многие частные коллекционеры даже каталоги своих собраний выпускают, а он сидит в своей захламленной квартирке и любуется ими потихоньку. Я с ним знаком довольно давно, однако вник в его дела примерно полгода назад. Его конек в основном – миниатюрные скульптуры. Украшений мало: кроме пресловутого перстня в коллекции еще несколько вещей с амазонитом или собственно хиастолитом, но они или в серебре, или в металле, Юлий Матвеевич покупал их просто, что называется, «в компанию» к перстню. Каждого коллекционера всегда волнует история, стоящая за вещью, которую он купил. Юлий Матвеевич знает об экспонатах своего собрания все, абсолютно все. И только этот перстень был для него загадкой.
– А тот человек, у которого он его купил, ничего не рассказал? – спросила Алёна.
– Да он не купил этот перстень, а просто-напросто получил в подарок. А тому человеку он тоже достался случайно. Он его нашел, вернее, это была она. Так что спрашивать было не у кого. Но перстень – вещь и в самом деле оригинальная. Жил некогда в Одессе такой человек – Гришин-Алмазов. Слышала когда-нибудь такую фамилию?..
– Ну, – сказала Алёна, – я ведь читала Тэффи. И смотрела такой старый-престарый советский фильм «Эскадра уходит на запад». Про то, как пришли в Одессу войска Антанты – да и ушли оттуда, потому что всех их распропагандировали большевики, несмотря на то, что красавец и тонняга[20] белогвардейский генерал Гришин-Алмазов, губернатор Одессы, всех ведущих большевиков к стенке поставил или в море утопил.
– Ну, тогда ты представляешь, что это была за персона, – согласился Арнольд. – Он держал Одессу железной рукой, но сам по себе мало что мог сделать. Большевики и бандиты его ненавидели, но при этом ему страшно завидовали свои. Против него слишком многие интриговали при штабе Деникина, были провокаторы и в его ближайшем окружении. В конце концов Деникин отправил его с поручением в Сибирь из Екатеринодара, но по пути он погиб. Рядом с его трупом нашли важные штабные бумаги, которые он пытался сжечь, но не успел, а с пальца сняли перстень. Потом он пропал, но был случайно найден на каком-то заброшенном чердаке и оказался в коллекции Батмана. Ходили слухи, что этот перстень в 18‑м году Гришину-Алмазову подарила вдова Георгия Маразли – бывшего городского головы Одессы.
– Погоди… Маразлиевская улица – в честь него названа? – вспомнила Алёна.
– Совершенно верно. Необыкновенный был человек этот Григорий Григорьевич… отбил жену у одного своего чиновника, немыслимую красавицу Марию Кич… Среди ее многочисленных драгоценностей был перстень, который она никогда не снимала. Проследить первоначальную историю перстня совершенно невозможно. Точно так же невозможно узнать, как этот перстень оказался на чердаке старого дома на Французском бульваре, где и был найден. Но все равно: перстень диктатора, подарок вдовы Маразли – для одесситов это красивая история, это будоражит воображение, верно?
– Конечно, – от души согласилась Алёна.
– Кирюха за этим перстнем давно гонялся, – продолжал Арнольд. – Не ради себя – ради своей женщины, ради Лоры. Ее прабабка была племянницей господина Кича, у которого увел жену Маразли, и эта Лора вбила себе в голову, что перстень Гришина-Алмазова – это ее фамильное сокровище. И сказала, что выйдет замуж за Кирюху, только если он добудет ей этот перстень.
– Достань, кузнец, царицыны черевички – выйду за тебя замуж? – хихикнула Алёна.
– Типа того.
– А Кирюха прямо сильно хочет на этой Лоре жениться? Прямо такая любовь?
– Может, и любовь, – задумчиво ответил Арнольд. – Это ведь штука весьма… непредсказуемая. Но, ты понимаешь, дело тут не в одной любви. У Лоры богатая родня. Очень богатая, нам и не снилось. Американские греки. Они хотят свои дела делать в Одессе, деньги сюда вкладывать. Им тут нужен свой человек, и если бы Кирюха стал таким человеком, он бы как сыр в масле катался, получая деньги на разных тендерах, которые проводил бы от их имени. У Лоры жилки деловой нет, она сама это не потянет, ей нужен крепкий мужчина, не только с большим, извини, антоном, но и с большой головой. Кирюха пожелание достать перстень диктатора воспринял очень серьезно. А перстень-то был у Батмана!
– А как Кирюха узнал, что перстень у него? – спросила Алёна.
– Я не знаю, – с досадой сказал Арнольд. – Я многого в этой истории не знаю. Но кое-что мне все же известно. У Батмана есть племянники…
– И среди них Бора? – не сдержала усмешки Алёна.
– Бора и разные прочие, – кивнул Арнольд. – И все они алчно ждут дядюшкиного наследства. А Юлий Матвеевич славится своим здоровьем, хотя ему уже очень далеко за восемьдесят и он войну прошел. Я даже удивился, когда узнал про его сердечный приступ. Конечно, он был в шоке после звонка из музея насчет подмены, но чтобы приступ… Люди того поколения, несмотря на все лишения, которые им довелось перенести, необычайно крепки. Наверное, потому, что они умели верить и ждать, жизнь научила их терпению. А их наследники хотят получить все сразу и много. Кстати, между нами, размеры будущего наследства они явно преувеличивают. Еще кто-то один там мог бы обогатиться, а трое… Это вряд ли. Но они уже начали заранее прикидывать, что кому после дядюшки останется. Кинулись шнырять по скупщикам антиквариата. Я почти уверен, что именно так до Кирюхи дошел слух о том, что у Батмана тот самый перстень, который нужен ему, чтобы заполучить Лорочку. Он явился к старику с просьбой продать эту цацку. Но не тут-то было! И каких только денег он не предлагал! Однако Батман так и не согласился продать перстень. Кирюха был настойчив, как незалеченный сифилис… извини за мой французский.
– Извиняю, – кивнула Алёна, – тем паче, что это латинский и греческий.
– Что? – изумленно повернулся к ней Арнольд.
– Считается, что это название болезнь, которая раньше называлась просто люэс, то есть зараза в переводе с латинского, получила после того, как профессор Падуанского университета Джироламо Фракасторо написал мифологическую поэму «Сифилис, или о Галльской болезни». Имя главного героя – Сифил. Сис – по-латыни свинья, филос – по-древнегречески любитель…
– Ух ты! – восхитился Арнольд. – Ты какая-то очень уж образованная, даже страшно рядом с тобой.
– Неужели прямо так уж страшно? – обиделась Алёна.
– Не так уж… – обнял ее Арнольд. – Это шутка. Ты что, шуток не понимаешь?
– Начинаю понимать.
Они на минуточку остановились, чтобы поцеловаться, а потом пошли еще быстрее.
– Почти добрались, – сказал Арнольд. – Больница вон там. Ну, о дальнейшем в двух словах… Батман привез коллекцию в музей. Это звучит громко, а на самом деле там было несколько небольших коробок, которые уместились в обычной сумке-тележке, с которой Юлий Матвеевич иногда хаживал на Привоз. Эти скульптуры и в самом деле миниатюрны, а футляры с перстнем и еще несколькими подобными украшениями вообще можно в кармане унести. И тут началась сущая глупость. Привезший свое имущество коллекционер входил в кабинет директрисы, и она производила опись. То, что уже было принято, стояло на одном конце стола, то, до чего еще дело не дошло, – на другом. Потом все это предполагалось отправить в сейф, где вещи должны были храниться до открытия экспозиции. Никакой охраны. Никакого независимого эксперта, ну хоть кого-то еще, кроме директрисы и коллекционера! Я бы не поверил, если бы мне кто-то другой рассказал, но Батману я верю! И вот в то время, когда директриса забивала в компьютер опись коллекции Батмана, которая была разложена на столе, в музей явился Кирюха. Он вошел в кабинет, извинился, начал что-то говорить – и тут произошел взрыв. Потом оказалось, что в открытое окно (в кабинете директрисы уже который день не работал кондиционер, поэтому решили устроить приятный сквознячок) влетела шутиха. Она дымилась и рассыпала вокруг искры. Немедленно сработало противопожарное устройство, а заодно – противоворовское, так сказать. На самом деле оборонные сооружения в музее на высоте. Окно автоматически захлопнулось. Кабинет наполнился слезоточивым газом. Все кинулись вон, в том числе и Кирюха. Причем он кинулся бежать не просто из кабинета, но и из музея. А тем временем директриса дико кричала, чтобы отключили газ. К счастью, это удалось сделать быстро. Но пришлось подождать, пока он выветрился. Наконец вошли… Все экспонаты лежали на столе. Футляры с украшениями, коробочки со статуэтками… Глотнув корвалола, прием коллекции Батмана завершили. А утром выяснилось, что перстень подменен.
– А как это выяснилось? – спросила Алёна, но Арнольд приостановился:
– Потом расскажу. Смотри, мы уже пришли.
* * *
Галочка спустилась в вестибюль и упала в кресло, едва не плача от досады. Эмиль велел ей дождаться его здесь, но больше всего на свете ей хотелось убежать домой. Однако… однако она опасалась ссориться с женихом. Энно – ее единственная надежда не просто уехать из взбесившейся России, но устроить там, в далекой и чужой Франции, жизнь, достойную красавицы Галочки Погребинской. Да, у нее нет ни денег, ни образования – только красота, которая очаровала Энно. Он уверял, что не видел в жизни более красивой женщины, чем Галочка… а впрочем, кажется, сегодня он встретил такую женщину, черт ее подери!
Это Вера Холодная… бр‑р‑р, какая ужасная фамилия! Как раз под стать жуткой стуже, которая царила в «Бристоле». Поскольку даже в номерах температура не поднималась выше нуля, дамы не снимали мехов. Впрочем, это на Вере Холодной были меха в полном смысле этого слова. Она была укутана в палантин из чернобурок, из которого то и дело выскальзывало обнаженное плечико, на которое, как идиоты, немедленно начинали пялиться мужчины. Галочка чувствовала себя какой-то горничной рядом с ней. А ведь она так нравилась себе, казалась себе такой элегантной, когда собиралась на вечеринку! Она была одета в модную серую юбочку, непомерно зауженную ниже колена, и премилую беличью шубку, потертую всего лишь самую малость. На воротничке шубки был приколот букетик оранжерейных гиацинтов – совершенно такого цвета, как хорошенькие голубенькие глазки Галочки.
Актриса протянула Энно руку для поцелуя – и тут же, к неудовольствию Галочки, выяснилось, что они с Эмилем уже знакомы и даже танцевали танго на каком-то приеме в консульстве. Галочка знала, что танцевал ее жених божественно, и не стоило сомневаться, что он был несусветно-галантен и наболтал во время танца великое множество приятнейшей чепухи. Очень может быть, что Вера восприняла это всерьез и имела на него какие-то виды, так что появление Энно с невестой стало для нее пренеприятнейшим сюрпризом. Иначе почему бы она не подала Галочке руку, а лишь коротко кивнула – и отошла от нее подальше с каким-то брезгливым видом? Энно в это время раскланивался с Чардыниным и ничего не заметил, но Галочка на миг надула свои свеженькие губки.
Да и потом Вера старалась держаться подальше от невесты консула, всячески отворачивалась от нее, словно ей даже дышать с Галочкой одним воздухом было противно. А в конце концов выяснилось… нет, этого просто быть не может! В это просто невозможно поверить! Глупости какие-то! Галочка никогда о таком даже не слышала! И как это оскорбительно… ее выставили, словно чумную!
Галочка с досадой стукнула себя по коленке и громко всхлипнула.
– Puis-je vous aider, chѐre mademoiselle?[21]
Галочка не сразу сообразила, что с ней говорят по-французски. Подняла голову: перед ней стоял высокий светловолосый мужчина. Это был Жорж Делафар. Он служил переводчиком в штабе Французского командования. Галочка его мало знала, но он был всегда галантный, улыбчивый, а сейчас его голубые глаза светились сочувствием.
– Кто вас обидел, мадемуазель Погребинская? Покажите мне этого человека, и я вызову его на дуэль, будь это сам Эмиль Энно!
– Не вызовете, – буркнула Галочка, – ведь это женщина!
Наконец она сквозь слезы рассказала: Энно подарил ей сегодня вот этот чудный букетик гиацинтов (гиацинты в феврале – это ведь истинное чудо!), однако оказалось, что у Веры Холодной, с визитом к которой они отправились вместе с Шульгиным и военным губернатором, кашель (она, видите ли, простудилась!), который усугубляется запахом лилейных цветов. Она вообще антипатична к этому аромату, и невинные Галочкины гиацинты едва не довели ее до удушья. Говорят, от такого аромата она вполне может умереть!
– Вы слышали когда-нибудь такую чепуху? – негодующе воскликнула Галочка. – От этого же просто уши вянут!
Пожив почти год в Одессе, она привыкла к некоторым своеобразным одесским выражениям точно так же, как к копченой скумбрии и острым «синеньким».
– Полная чепуха, – согласился Жорж Делафар.
Но Галочка продолжала всхлипывать.
В это время спустился Энно, встревоженный, что невольно вынужден был обидеть невесту, и утешил ее гораздо лучше Делафара. Они уехали домой, а Делафар остался в вестибюле, устроившись под прикрытием «Одесского листка» в кресле недалеко от стойки портье и поглядывая на часы.
Он ждал, но…
Она опаздывала. Она опаздывала!
У него руки были холодны от волнения, как у мальчика, переживающего первую любовь. Он уговаривал себя быть спокойным, но волновался все сильней.
Она опаздывает! С ней что-то случилось!
Неужели все сорвется?! А они так долго ждали этого вечера, так долго мечтали о нем!
И вдруг швейцар, подремывавший на стуле у входа, вскочил и схватился за ручку двери.
Сердце Делафара сделало скачок и забилось где-то в горле.
Раздался торопливый стук женских каблучков. Делафар вмиг оживился, привстал из кресла. И тут же разочарованно упал в него снова. Ну да, он ждал женщину, но… не эту – похожую на черную птицу в своих мехах, шелках и перьях, с бледными платиновыми кудрями и огромными голубыми глазами.
Она огляделась, скользнула взглядом по вестибюлю и кинулась к стойке портье.
– Я бы желала знать, – раздался заносчивый, несколько истеричный голос, – здесь ли еще мсье Гришин-Алмазов!
* * *
Частная клиника представляла из себя небольшой двухэтажный дом, отнюдь не новый и даже местами обшарпанный, но очень аккуратный. Перед домом был разбит палисадник, к которому приткнулся автомобиль «Скорой помощи». Тут же стоял серый «Мерседес».
– Ага, – с досадой сказал Арнольд, – Павлуша уже прибыл! Ну, сейчас начнется…
Он не договорил.
«Павлуша – это, наверное, один из племянников Батмана, – подумала Алёна. – А начнется, наверное, ссора из-за будущего наследства…»
Они пересекли палисадник и вошли в клинику.
Снаружи дом казался довольно маленьким, однако внутри впечатление тесноты исчезало – наоборот, создавалось ощущение, что это очень просторное помещение. Коридоры уходили куда-то в полумрак, эхо гулко отдавалось под высоченными потолками…
В приемном покое, где за столиком подремывал охранник, а за стойкой постукивала по клавишам компьютера медсестра, было тихо. Арнольд куда-то ушел, усадив Алёну в кресло и условившись, что, если его через полчаса не будет, она уйдет в гостиницу.
«Спать одна», – хмыкнула Алёна, с досадой подумав о том, что вот опять Арнольд исчез и не взял у нее номер телефона, поэтому, если она все же в самом деле уйдет, неизвестно, как они найдут друг друга завтра. Не будет же она сидеть и ждать его весь день в номере, как Ассоль ждала на берегу алые паруса! Ведь паруса могут и не появиться, Арнольд может и не прийти. Уже давно прошли те времена, когда Алёна с трепетом ждала знаков судьбы.
Она размышляла о природе случайных встреч и их последствиях. Вот с какого перепугу она сидит в тихом, сонном приемном покое и ждет практически незнакомого мужчину? Неужели уж так прямо вспыхнула страсть, такое развилось неодолимое влечение к Арнольду?
Ну, не то чтобы страсть, но влечение имело место быть. С годами – а наша героиня была уже довольно-таки, как принято говорить, взрослой женщиной, хотя ее истинного возраста ей никто и никогда не давал, поправка составляла десять-пятнадцать лет, – так вот, с годами привыкаешь воспринимать новые встречи не столько романтично, сколько прагматично. То есть не впадаешь в трепетное ожидание неизвестно чего, а оцениваешь возможные последствия встречи с точки зрения извлечения из них как можно большего количества удовольствия и получения взамен как можно меньшего количества неприятностей и разочарований. Впрочем, есть люди, в которых эта счетная машинка, называемая разумом чувств, заложена от рождения. Однако наша героиня, которая была скорее чувственна, чем разумна, всегда очертя голову бросалась в любовные приключения, и только несколько лет назад, пережив уже упоминавшееся разочарование, которое едва не разорвало ей сердце, начала относиться к мужчинам потребительски. С другой стороны, множество мужчин именно так относятся к женщинам, поэтому не стоит корить Алёну Дмитриеву за воинствующий цинизм.
В общем-то, Арнольд ей нравился. У него имелся на данный момент единственный известный Алёне недостаток: он не танцевал аргентинское танго. Зато, как ни странно, танцевал его предполагаемый грабитель по имени Кирюха… хотя в этом нет ничего странного, если вспомнить историю происхождения аргентинского танго. Судя по некоторым апокрифам, поначалу в Буэнос-Айресе его танцевали – в компании с проститутками! – почти исключительно воры, разбойники и пьяницы.
Пьяницы… пьяницы…
Алёна сама не могла понять, почему вдруг зацепилась за это слово. Пьяницы… алкоголики… алкаши…
Чепуха какая-то в голову лезет. Кстати, полчаса уже прошло, хватит тут сидеть, ждать в самом-то деле у моря погоды.
Она встала и, зябко передернув плечами, достала из сумки большой белый шелковый платок и накинула на плечи.
Ну что? Пора уходить?
Наверное, да. Или еще несколько минут подождать – на всякий случай?
Алёна прошлась по холлу туда-сюда. Медсестра вдруг вышла из-за стойки и торопливо удалилась. Охранник за своим столиком подремывал, положив голову на руки. Откуда-то доносились голоса.
Любопытство было двигателем очень многих поступков нашей героини. Ни по какой другой причине, только повинуясь ему, она свернула в боковой коридор и немного прошла по нему. Но стоило ей поравняться с дверью, за которой спорили, как голоса стихли. Алёна испугалась, что сейчас кто-нибудь выглянет и решит, что она подслушивает, хотя она этого вовсе не делала, а только собиралась.
Впереди слабо светилась табличка над дверью – «Туалет», и Алёна поспешно пошла туда, делая вид, что испытывает неотложную надобность в посещении этого заведения. На самом деле надобности никакой не было, поэтому она сделала всего лишь несколько шагов и приготовилась повернуть назад, потому что спор за той дверью возобновился, и снова на повышенных тонах, – как вдруг услышала тихий голос, раздающийся из палаты, мимо которой Алёна проходила:
– Пить… водички дайте… сестра…
Никто не отозвался.
– Водички мне дайте… пожалуйста…
Алёна осторожно приотворила дверь и заглянула внутрь. Это была маленькая полутемная комната, освещенная только крошечным ночником, при свете которого можно было разглядеть две кровати. Одна была пуста и застелена, на второй лежал крупный, полный человек. Он слабо шевелил рукой, чтобы достать стоящий на тумбочке поильник, но не мог не то что дотянуться до него, но даже поднять руку.
– Сестрица, – пробормотал человек, – воды, ради бога.
Алёна подошла и напоила его, осторожно поддерживая голову. Больной выпил все, что было в поильнике, попросил еще, Алёна налила из большой бутылки с надписью «Аквабаланс», стоявшей на полу около кровати, снова поднесла к губам больного поильник, и наконец старое, морщинистое, с резкими чертами, заросшее щетиной лицо расслабилось, улыбка появилась на бледных губах.
– Хорошо, – шепнул он, улыбаясь Алёне опухшими темными глазами. – Как хорошо! Когда Таня сидела тут, я пить не хотел, а сейчас чуть не умер от жажды. Звал-звал – не идут. И тут вы пришли. Вас как зовут?
– Алёна.
– Леночка, – пробормотал больной. – Леночка…
Алёна хотела со своей всегдашней строптивостью поправить: не Леночка, а Алёна, ведь она терпеть не могла своего, так сказать, мирского имени, – но старик закрыл глаза. Алёна решила, что он засыпает, а потому не стала спорить.
Но старик не спал, а что-то бормотал. Решив, что он снова просит пить, Алёна склонилась к нему и услышала:
– Леночка, моя дорогая… я теперь все знаю, все вижу… ты правду сказала, что я тебя всю жизнь буду любить, что всех ради тебя забуду. Всю жизнь… И тебя уже нет, а я старик, а все вижу, как там, на чердаке… Леночка… я скоро приду к тебе, ты меня жди, я уже скоро…
Леночка… хм, подумала Алёна, на самом деле это такое красивое, такое хорошее имя, почему оно ей всю жизнь не нравилось? Может быть, потому, что его никто не произносил с такой щемящей нежностью?
Бормотание стихло, Алёна встревоженно нагнулась еще ниже, но старик дремал, и она выпрямилась, повернулась, чтобы уйти, как вдруг он снова забормотал:
– Холодно! Мне холодно!
В комнате и в самом деле было прохладно из-за кондиционера, а укрыт старик оказался только легким покрывалом. Алёна нашла пульт и выключила кондиционер, а потом, увидев, как вздрагивает и зябко ежится больной, сняла с себя белый платок и принакрыла им плечи старика.
И, словно по волшебству, тот успокоился, начал дышать ровно и спокойно.
Алёна решила немножко подождать, пока он уснет покрепче, а потом забрать платок. Но сначала нужно было найти медсестру и попросить, чтобы старику принесли одеяло.
Она на цыпочках вышла из палаты и чуть ли не подпрыгнула, услышав позади громкое всхлипывание.
Повернулась. Из той двери, откуда недавно доносился спор, выскочила высокая полная женщина в белом халате и, закрыв лицо руками, кинулась прямо на Алёну.
– Выпей воды и успокойся! – посоветовал кто-то за дверью, и она захлопнулась.
Силясь удержаться на ногах, Алёна подхватила женщину:
– Осторожней!
Та отстранилась, отвела руки от лица и взглянула на Алёну слепыми от слез глазами:
– Ой, это вы… что вы здесь делаете?
Алёна с изумлением обнаружила, что стоит чуть ли не в обнимку с Татьяной… с той самой горничной из «Дерибаса», Танюткой, уволенной по ее вине.
– Я… – растерянно пробормотала она, – я жду одного знакомого. А вы? Таня, вы на меня, наверное, сердитесь, но честное слово, я на вас никому не жаловалась, это недоразумение…
Танютка снова закрыла лицо руками:
– Да о чем вы?! Вот так живем-живем, злимся, что-то строим из себя, а потом раз – и нет человека! Умирает такой хороший человек, такой добрый… а я ничего не могу поделать…
Алёна вдруг вспомнила, что на пышной Татьяниной груди в ночь заселения в гостиницу был бейджик с надписью: «Татьяна Мазур». Арнольду некоторое время назад звонила Татьяна, жена Бори Мазура, племянника Юлия Матвеевича Батмана. Так вот оно что, Танютка о старом коллекционере горюет. Он дядя ее мужа, а она оплакивает его, будто родного человека! Видимо, он был… да почему был? Он ведь еще жив! – и в самом деле добрый и хороший человек.
А Танютка между тем никак не могла уняться, все плакала да плакала. Алёна встревожилась, что эти рыдания разбудят спящего старика, и повела Танютку в холл, мимо двери, где мужские голоса все еще шипели друг на друга, изредка прерываемые чьим-то успокаивающим рокотом.
Они сели рядом на стул, Танютка почему-то крепко держала Алёну за руку, словно это ее успокаивало:
– Вы знаете, я когда замуж вышла, как в клоповник попала. Борик, мой муж, он хороший такой, а его двоюродные братья – это ужас! Дядю все время уговаривали коллекцию продать. А для него вся жизнь в этой коллекции. Вот теперь кольцо украли, они на него напустились, как коршуны, Борик в командировке в Киеве, только завтра вернется, а они тут лаются… дядин знакомый юрист приехал, чтобы их успокоить, а Додя, как змей, всех жалит, подзуживает, чтобы юрист дал им доверенность на продажу коллекции, пока дядя не оклемался!
«Так, – смекнула Алёна, – юрист – это она так Арнольда называет, а другие – это Павлуша, который на сером «мерсе» приехал, и какой-то Додя. Додя… что за дурацкое имя… а ведь я уже слышала его где-то…»
И тут же она вспомнила, где. Об этом Доде говорили Жора и Алик на базаре! Жора жаловался, что Додя помешал ему купить большую партию бичка и уверял, что у него десять ног, как у паука, и он всеми гребет к себе. Ну что ж, насчет количества ног, вернее, лап у паука Жора и впрямь ошибся, но насчет Додиной сути – похоже, ни чуточки!
Татьяна постепенно перестала всхлипывать:
– Спасибо… мне рядом с вами как-то спокойнее стало. И вы не думайте, я на вас ничуть не в обиде, я все равно хотела из гостиницы уйти, надоело. Иной раз думаешь, не в гостинице работаешь, а в борделе, вот честное слово! Взять хоть эту Зорбалу…
Танютка сокрушенно махнула рукой и встала:
– А, ну их. Даже говорить неохота. Пойду домой, там малые одни. Только еще раз на дядю Юлика посмотрю, как он там спит. А вы остаетесь?
– Да нет, я тоже ухожу, – махнула рукой Алёна, вдруг ощутив, что ее начала одолевать зевота. – Мой знакомый задерживается, а я спать хочу. До свиданья, Татьяна. Пусть все уладится.
– Спасибо, – улыбнулась Танютка и на цыпочках пошла по коридору. Алёна поглядела ей вслед и сама пошла к выходу. Уже на пороге она оглянулась: не появился ли Арнольд, – но коридор был пуст. Тогда она подошла к столику дежурной медсестры – та уже вернулась на свое место – и сказала, что старику во‑он в той палате нужно одеяло. И наконец ушла.
Она не сделала и пяти шагов по улице Пастера, как ее обогнало медленно ползущее такси, и Алёна махнула рукой, останавливая машину. Ехать тут было всего ничего, но ужасно тоскливо идти в одиночестве той дорогой, которой ходили вдвоем, да и неохота было опять думать о несбывшемся.
Выйдя из такси, как и вчера, на углу Гаванной, Алёна перебежала Дерибасовскую, взглянула на окна третьего этажа гостиницы. Все они были темны: видимо, Оксана выключила свет. На секунду мелькнула зловредная мысль взять да нажаловаться на скандальную дежурную за то, что сунулась в номер, пусть даже в компании с озабоченным кавалером постоялицы, но это было глупо, а поэтому Алёна только устыдила себя за скандальность и тихонько поднялась на третий этаж. Отель продолжал являть собой совершенно бесхозную картину… столик дежурной пуст, охраны никакой, ужас… а впрочем, открыть дверь в подъезд мог только постоялец, у которого был особый ключ, так что на самом деле все обстояло не так уж страшно.
Алёна постояла под душем и, надев ночную рубашку, пошла задергивать шторы на окне.
Вдруг что-то ударилось в стекло.
Отдернула тюль, приотворила створку…
Внизу стоял Арнольд. При виде ее он высыпал из горсти камешки и отряхнул ладонь о джинсы.
– Это не твой платок? – спросил он, поднимая другую руку и помахивая чем-то белым.
– Ох… – беспомощно сказала Алёна. – Я совершенно забыла. Как ты его нашел?
– Легко, – улыбнулся Арнольд. – Мне его отдал Юлий Матвеевич.
Значит, вот кто был тот старик в больнице… сам Юлий Матвеевич Батман. Ну надо же!
– Ты очень добрая? – со странной интонацией спросил Арнольд.
– Я? – удивилась Алёна. – Нет, пожалуй. Скорее, довольно жестокая. Просто жалко его стало… старый, больной… несчастный… может, умирающий… да еще и замерз.
– Это просто удивительно, как иногда меняет человека жалость к близкой смерти другого человека… – задумчиво проговорил Арнольд. Потом словно спохватился и улыбнулся Алёне: – Что мне будет за то, что я твой платок принес?
– Ну, не знаю… – усмехнулась Алёна. – Подумаешь – принес! А как ты его передашь?
– Посторонись, – велел Арнольд, повязал платок вокруг шеи – и вдруг, легко подпрыгнув, ухватился за козырек над входной гостиничной дверью. Подтянулся, потом очутился на карнизе второго этажа, легко оперся ногой о лепнину над окном – и Алёне пришлось отшатнуться, потому что он уже повис, ухватившись за ее подоконник.
Он обладал какой-то сверхъестественной ловкостью, Алёна просто не верила своим глазам, она никогда не видела ничего подобного. Разве что в цирке. А, ну да, ведь Арнольд в цирковом училище учился, теперь она в это верила! Не прошло и минуты, как он стоял в комнате и протягивал Алёне платок:
– Ну, так что мне будет за это?
Она смущенно улыбнулась и пожала плечами. Тонкая бретелька ночной сорочки упала с плеча, и Алёна быстро набросила на себя платок, прикрыв почти обнаженную грудь.
Арнольд чуть нахмурился, лицо у него стало отчужденным.
– Значит, ты познакомилась с Юлием Матвеевичем? – спросил равнодушно. – И что он тебе рассказал?
– Ничего, – пробормотала Алёна. – Он… он просто называл меня Леночкой.
Арнольд вскинул брови, потом чуть кивнул:
– А, понимаю…
– Что? – удивилась Алёна.
– Так звали его покойную жену, – пояснил Арнольд. – Он любил ее всю жизнь, с пятнадцати или шестнадцати лет. Это она подарила ему этот перстень. Если мы не сможем его найти, старик этого не переживет. Он похоронил жену пять лет назад… его еле вытащили врачи. Потерять перстень – это все равно, что опять пережить ее похороны. А Кирюха его украл. Понимаешь? Украл, скотина такая…
– Да, – сказала Алёна.
– Да, – повторил Арнольд. – Ну ладно, я пошел тогда? – И попятился к окну, не сводя глаз с Алёны, которая все плотнее кутала плечи в белый платок.
Он уже коснулся рукой створки окна, когда она сказала:
– По-моему, ты не туда идешь.
– А куда я должен идти? – спросил Арнольд тихо. – Ты имеешь в виду, что я должен выйти через дверь?
Алёна ничего не ответила, только опустила руки, и от этого легкого движения платок соскользнул с ее обнаженных плеч.
* * *
Одесса встретила светлейшего князя Воронцова хлебом-солью, депутацией почетных и именитых граждан, музыкой военных оркестров и бурными изъявлениями восторга по поводу того, что сын бывшего новороссийского губернатора Михаила Семеновича Воронцова стал теперь городским головой.
Многие лица были ему знакомы по прежним временам, хотя многих он и не видел. «Годы уходят, людей с собой уносят», – философски подумал Семен Михайлович, который, в сорок два-то года хоть и не считал себя окончательным стариком, но изрядно подустал от множества привязавшихся к нему хворей.
А впрочем, он помолодел уже только от воздуха этого города, от его солнца, от синего неба, от запаха черноморской волны. Ведь он родился в Одессе и любил ее так, как только можно любить место, где прошло твое детство.
Он рос – и Одесса росла вместе с ним, ведь отец, Михаил Семенович, был тогда губернатором Новороссии. Конечно, этот пост был более почетным, чем просто звание городского головы, которое получил теперь сын бывшего губернатора, но тогдашняя должность отца была уже упразднена, это раз, а во‑вторых, Семен Михайлович с детских лет помнил, как он удивлялся: батюшка его – первый человек в губернии, он назначен самим императором, однако для жителей Одессы куда как важнее губернатора какие-нибудь Филипп Лукьянович Лучич, Павел Иванович Нейдгардт, Иван Иванович Авчинников, Илья Новиков, Павел Ростовцев, бывшие в разные годы городскими головами. Губернатор огромного края находился слишком высоко и был недосягаем, а городские головы жили жизнью именно Одессы, трудились во благо ее, совершали конкретные дела на благо и процветание города. Они были отцами города, воистину, и город был для них частью не только жизни, но и семьи.
Семен Михайлович с детства запомнил слова одного знаменитого в Одессе грека, мол, здесь воздух особенный, он заставляет этот город так полюбить, что видишь свой родной дом в Одессе, и хочется трудиться во благо ее и процветание, ее обустраивать и лелеять, как будто обустраиваешь и лелеешь собственный дом.
Теперь он ощущал это чувство, этот душевный подъем с особенной силой, и такая радость поднималась в сердце, словно он помолодел на двадцать лет и все самые главные свершения его жизни были еще впереди, и они были непременным образом связаны с Одессой. Огорчало лишь одно – унылое, даже ожесточенное настроение жены. Она как замкнулась в молчании, узнав, что они покидают Петербург по приказу государя, так и пребывала в этом состоянии почти постоянно. Он живого слова, произнесенного ее особенным, звонким, словно бы поющим голосом, с тех пор от нее не слышал, только да-нет. Впрочем, хотя Семен Михайлович по-прежнему пылко любил жену, за годы супружества уже обвыкся с ее капризами, а потому старался не обращать на них внимания. Как-нибудь помирятся, так бывало всегда. Другое дело, что прошли те времена, когда он жить не мог без благосклонного взгляда Мари. Если мужчина знает, что женщина любит не столько его, сколько те блага, кои он ей дает, это неминуемо влияет на его самые сокровенные чувства. Кому-то это льстит, ну а Семена Михайловича это открытие сделало несчастным, а потом заставило замкнуться. Но постепенно он привык к своему душевному одиночеству, и сейчас старался черпать бодрость не в одобрении жены, которого ему было не дождаться, а в восторженных взглядах, устремленных на него со всех сторон, в приветственных кликах собравшихся, среди которых он продолжал искать взглядом знакомые лица.
Как много людей вокруг! Воистину, здесь собралась вся Одесса! Все что-то кричат… Иногда крики заглушают даже музыку оркестра, что же говорить о какой-то красивой мелодии, которая мимолетно достигла слуха?
Что это за мелодия?
Семен Михайлович оглянулся и увидел горбатого старика с шарманкой. Около него стояла девочка лет восьми – бедно одетая, но красивая, как нежный цветок, с прекрасными черными глазами на смугло-бледном личике. Она пела под шарманку, но уже ни звука не было слышно из-за рокота и криков толпы.
– О чем она поет? Какая хорошенькая девочка! – услышал он голос жены и, обрадованный тем, что она наконец заговорила с ним, властно вскинул руку.
Вмиг весь кортеж остановился, а рядом оказался адъютант.
– Подведите шарманщика, – приказал князь. – Моя жена хочет услышать песню его девочки.
Приказание было исполнено.
– Фердинанд Наркевич к вашим услугам, ваше высокоблагородие! – попытался вытянуться во фрунт шарманщик, да горб не дал. У него был явный греческий акцент, хорошо знакомый Воронцову, который знал многих одесских греков.
– Старый солдат? – спросил князь.
– Так точно! – отрапортовал Наркевич. – В деле при ауле Гергебиль абрек спину перешиб, но я выжил.
– Так ты служил с моим отцом? – удивился Семен Михайлович, ибо старший князь Воронцов был славен, среди прочего, взятием твердынь Дагестана, аулов Гергебиль и Салты.
– Имел честь! – охрипнув от волнения, рявкнул бывший вояка.
– А это твоя дочь?
– Так точно, дочь! Мать ее давно умерла.
– Как тебя зовут? – спросил князь, глядя на очаровательное дитя.
Девочка молчала.
– Ее зовут Мария, – сказал Наркевич.
– Мою жену тоже зовут Мария, – улыбнулся Семен Михайлович. – Твоя девочка может спеть для нее?
– Так точно!
Наркевич что-то сказал девочке по-гречески. В первую минуту она дичилась, но вдруг быстро забормотала. Отец кивнул… шарманка заиграла, чудный голосок полился. Девочка смотрела своими прекрасными глазами то на Семена Михайловича, то на княгиню, и им казалось, что она поет только для них, что непонятные слова имеют к ним какое-то отношение…
– Я ничего не поняла, – проговорила Мария Васильевна недовольно, когда девочка умолкла и князь зааплодировал, делая знак адъютанту, чтобы дал шарманщику денег.
– Позвольте перевести вам, ваше сиятельство, – раздался голос.
Воронцовы обернулись.
Высокий горбоносый человек лет тридцати со свободно разметавшимися черными волосами улыбался из толпы, сняв модную шляпу «борсалино» и прижимая ее к груди. Он был одет очень просто, в поношенные пиджак и серые брюки, напоминая итальянского или французского фланера, может быть, свободного художника, однако все вещи были явно дорогие, да и от всего его облика так и веяло элегантностью и богатством.
– Извольте, – пробормотал Семен Михайлович, недоумевая, почему это лицо кажется ему таким знакомым.
– Это старинная греческая песня о любви, – сказал человек. – Вот ее слова:
Мне кольцо любимый подарил И носить велел, ни разу не снимая. Но давно прошли те нежные дни мая… Знаю, он меня не разлюбил, Только я к нему уже остыла, Для другого я его забыла – И теперь его колечко мне тесно, Уж не радует, а палец жмет оно.Он умолк. И Семен Михайлович, продолжавший пристально вглядываться в его лицо, вдруг понял, откуда его знает. Григорий Маразли, грек, бывший городской голова… Но как это может быть? Ведь Маразли давно умер!
– Григорий Маразли? – нерешительно спросил князь, чувствуя себя смешным и нелепым с этим вопросом.
– Это я, ваше высокопревосходительство, – чуть склонил голову молодой человек.
И тут Семен Михайлович понял то, что должен был понять сразу. Перед ним Григорий Маразли… сын.
– Рад и счастлив встрече с вами, Григорий Григорьевич, – сказал он с улыбкой.
– И я тоже рада и счастлива, – услышал он вдруг женский голос, показавшийся незнакомым, так нежно и задушевно он звучал.
Семен Михайлович не тотчас смог сообразить, что слышит голос своей жены.
* * *
– А вот кукуруза! Горячая, сахарная кукуруза, десять гривен!
Алёна усмехнулась: продавец учился на лету. Час назад, только появившись на пляже, он кричал: «А вот пшонка!» Ни одна голова не повернулась ему вслед, и он безуспешно бродил между полуголыми загорелыми людьми до тех пор, пока какая-то пышнотелая усатая бабуля, окруженная выводком внучат, не крикнула гулким басом:
– Ви шё кричите им, чудак-человек? Тута же все сплошь фронцы с России разлеглись. Они же не понимают. Ви скажите им по-русски: горячая кукуруза, так ви потом все сразу распродадите и скажете спасибо тете Вале!
Продавец, высокий мужик с висящим из-под майки животом и в смешной бандане над обгоревшим лбом, виновато улыбнулся:
– Спасибо, тетенька. Жинка обычно сама коммерцует, а сегодня у ней радикулит, а я без опыта… – И заорал во все горло: – Горячая кукуруза, десять гривен!
Торговля пошла живее – настолько, что мужик в бандане уже дважды бегал за новой порцией товара – наверное, жил где-то неподалеку.
Вообще если кто пришел на Лонжерон голодный, он вполне мог подхарчиться в одной из многочисленных забегаловок или шашлычных, интенсивно отравлявших воздух запахом пережаренного мяса. На счастье, ветер дул с моря. С мора, как сказали бы истинные одесситы. Бора, выйди с мора!
– Креветка свежая, а вот свежая креветка! Пиво, пиво, пиво!
Этим товаром торговал голый по пояс (по пояс для денег, который оборачивал его тощую талию) дядько́ в красных штанцах по колено, простоволосый и загорелый до черных пятен. Еще семипудовая молодайка в линялом сарафанчике бродила туда-сюда между топчанами, выкликая певуче:
– Семачка! Семачка кому?
Особенно надолго она застряла над Алёной:
– Семачка, а, девушка? Женщина?..
Алёна перевернулась на живот и уткнулась лицом в руки. Не хотела она семачку ни в качестве девушки, ни как женщина. Голос торговки немедленно начал таять, сон наплывал, наплывал…
Ну да, ночь была коротка. Арнольд ушел – через окно, сверкнув улыбкой напоследок, – часов в пять. Было уже совсем светло, однако Одесса еще спала в бледном солнечном, росистом мареве, обещавшем жаркий, знойный день.
После этого Алёна снова бухнулась в постель и не уснула, так хоть подремала, улыбаясь воспоминаниям и просыпаясь от того, что улыбается.
Это была чудесная ночь – не самая страстная из выпавших в ее жизни, но ласковая и веселая, а еще – очень разговорчивая. Они с Арнольдом то предавались любви, то вдруг, даже не разомкнув объятий, начинали говорить, говорить… и, собственно, этим разговорам было отдано чуть ли не больше времени, чем любви.
– Ты замужем? – спросил он первым делом.
– Нет. Была замужем, но это давно позади. Я свободна.
– Хорошо… – вздохнул Арнольд. – Вот так взяла, села, поехала в Одессу, в другую, можно сказать, страну, танго танцевать… И никто не терроризирует звонками, не нудит, когда вернешься… Верно?
– Конечно. Поэтому я и ценю свою свободу!
– А дети?
– Нет детей.
– А родители?
– Мама с папой? Ну да. Но мы довольно редко видимся. Им не очень нравится мой образ жизни, я их ожидания обманула. И семьи нет, и писательница не очень известная, и денег особых не нажила, и танго зачем-то танцую, и вечно лезу во всякие авантюры.
– Что, нравится играть с огнем? Рисковать?
– Ну да, – усмехнулась Алёна. – Ужасно трушу, но удержать себя не могу. Правда, кривая обычно вывозит.
– И что, эти приключения опасными были? В самом деле? Опасными для жизни?
– Да как тебе сказать…
– Ну скажи, скажи!
– Смешно, верно, что женщина должна рассказывать о своих опасных приключениях? Добро бы о любовных…
– Не хочу знать о твоих любовных приключениях! Ничего не хочу знать о твоем прошлом!
– Ну, об одном-то приключении ты точно знаешь. О настоящем…
После этого им надолго стало не до разговоров.
– А ты женат? – спросила наконец Алёна.
– Не-а, – легко сказал Арнольд.
– Хм… А был?
– Нет.
– А почему ты не женился?!
– Ну, наверное, потому, что предчувствовал, что…
У нее вдруг так дрогнуло сердце, что даже дыхание на миг пресеклось. Что он скажет сейчас?
– …что для меня это добром не кончится, – сказал Арнольд с драматическими интонациями. – Что когда-нибудь я встречу женщину, которая так вскружит мне голову, что я буду мечтать только о ней, только о том, чтобы провести с ней ночь… одну, другую… много… все…
Он повернулся на бок и заглянул Алёне в лицо, слабо озаренное фонарем, который освещал стройку за окном.
– С тобой так бывало? – спросил Арнольд тихо. – Бывало, чтобы случайная встреча стала вдруг смыслом жизни?
Что она могла сказать? С ней такое бывало, да. Когда она встретила своего мужа, Михаила Ярушкина, которого очень любила… до тех пор, пока он не бросил ее. Когда она встретила Игоря, которого любила без памяти… до тех пор, пока он не бросил ее. Две эти встречи сделались воистину судьбоносными вехами… но все это осталось позади, и больше она не верила в любовь до гроба с первого взгляда. Вернее, боялась ее. Алёна была безмерно благодарна Арнольду за щедрое признание, но заигрываться в такие игры считала опасным для обоих. Ну да, прекрасная ночь, которая еще не кончилась, за ней могут последовать еще несколько прекрасных дней и ночей, но нет на свете мужчины, ради которого она изменит свою жизнь и захочет разбить сердце, ведь всякая любовь обречена. Две верных подруги, любовь и разлука… и все такое.
Наверное, это трусость. А может быть, просто сердечная лень?
Может быть. Ну, если так, ей было очень приятно трусить и лениться.
Алёна не собиралась признаваться в этом Арнольду… но и в любви признаваться не собиралась, а потому только поцеловала его и не очень ловко перевела разговор на другое:
– А что там было, в больнице? Удалось утихомирить племянников?
На поцелуй он ответил, но лицо стало отчужденным:
– Да разве их утихомиришь? Но меня мало волнует, кто из них что хочет получить. Я знаю, что должен вернуть перстень, должен забрать его у Кирюхи.
– Погоди, – сказала Алёна, – но я так и не поняла, как обнаружилось, что перстень подменен?
– В Москве издается один журнальчик, – лениво заговорил Арнольд, поворачиваясь на спину и задумчиво разглядывая мерцающий в полумраке плафон большой люстры на потолке. Плафон был красивый, вот только одна беда – люстра не светила. Алёна вспомнила, что хотела сказать об этом дежурной, да забыла. А впрочем, она вполне обходилась достаточно яркими бра, висевшими там и сям. – Этот журнальчик называется «Музейные тайны». Его мало кто знает, кроме профессионалов, хотя он довольно интересен. В нем рассказываются истории, связанные с музейными экспонатами, как знаменитыми, так и такими простенькими, как наш перстень. Статьи о скульпторах, художниках, коллекционерах, информация о выставках… Отличная печать, прекрасная бумага. Дорогое, красивое издание. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя: страница «Сплетни вокруг музейных тайн». Это – правда и слухи обо всех кражах, подделках и прочих темных делах, которые в музеях случаются довольно часто. До широкой публики доходит только то, чего нельзя скрыть, ну, например, вроде хищений в Эрмитаже, – но читатели «Музейных тайн» знают гораздо больше о том, что старательно заметается под ковры. Ведет раздел «Музейные тайны» некий Моисей Квачаров. Его боятся все директора всех музеев – как в России, так и в Украине. Он родился в Киеве, живет в Москве. Неведомо, откуда он узнает обо всем, что происходит в музеях. Это просто фантастика какая-то! И вот он сегодня утром позвонил Кире Федоровне – так зовут директрису нашего Художественного. Позвонил и сказал, ему, мол, сообщил некий доброжелатель, что она, Кира Федоровна, готовит выставку не подлинных экспонатов, а подделок. Мол, ему сообщили вполне авторитетно, что некоторые коллекционеры сдали в экспозицию не золотые вещи, а копии. А это считается, чтоб ты знала, весьма некорректным среди профессионалов. Даже Эрмитаж за рубеж, на выставки, вывозит подлинники. А тут… какая-то ерунда, коллекции местного значения… Но даже не в этом было дело. Кира Федоровна возмутилась именно потому, что она принимала вещи как подлинники, изготовленные из драгоценных металлов. И застрахованы они были как оригинальные вещи, а не копии. Но Квачарова все музейщики побаиваются. Если он поднимет шум, репутация музея сильно пострадает, даже если он наврал. И директриса решила все перепроверить и вызвала с утра пораньше эксперта. Начала – по чисто случайному совпадению – проверку с коллекции Батмана. И спец мгновенно обнаружил, что перстень – это копия. Отлично, безукоризненно сделанная, но – копия. Вызвали Батмана. Он сначала поднял всех на смех. Но когда посмотрел на перстень… Ты знаешь, чем это кончилось.
– А ты ему совершенно веришь? – спросила Алёна. – Абсолютно? Он не мог подстраховаться и в самом деле положить копию? Ну, на всякий случай?
– Я ему совершенно верю, – спокойно ответил Арнольд. – А главное, я совершенно верю самому себе. Я ведь помогал ему упаковывать эти вещи. Я держал в руках подлинный перстень, уложил его в футляр, обернул футляр особенной такой синей бумагой, в чемоданчик спрятал, в котором его Юлий Матвеевич потом принес в музей… А утром из сейфа достали подделку.
– И ты думаешь, этот твой Кирюха пришел в музей с копией в кармане? – изумленно спросила Алёна. – И, пользуясь суматохой, мгновенно подменил его?
– Я думаю, что все было именно так, – согласился Арнольд.
– Но это совершенно неправдоподобно! – засмеялась Алёна. – Это же надо было заранее знать, что появится такая возможность! Что окно будет открыто, что шутиха влетит в кабинет…
– Тут есть, как говорят в Одессе, одно не большое, но и не маленькое «но», – сказал задумчиво Арнольд. – Шутиха была не простая, а с радиоуправляемым устройством. То есть это была очень тщательно осуществленная отвлекуха, запланированная на конкретный момент времени. И Кирюхе все удалось.
– Слушай… Да этот твой Кирюха просто семи пядей во лбу! – недоверчиво повернулась к нему Алёна. – Такое устроить…
– Я предупреждал, что он не дурак. К тому же, он учился на радиофаке. И писал дипломную работу по радиоуправляемым устройствам и их использованию в пиротехнике. У него явно был сообщник, который в нужное время пустил шутиху в окно. Когда ты меня около музея встретила в виде непотребного оборванца, я не просто так в урнах ковырялся. Я искал… сам не знаю, что, но оно должно было меня навести на место, откуда шутиху пустили. К сожалению, ничего не нашел… Совершенно невозможно представить, чтобы это было сделано с улицы. Значит, ее пустили из окна какого-нибудь дома. В принципе, можно рассчитать и спроектировать траекторию ее полета. Если бы украден был перстень – ну, не знаю, Нострадамуса там или Цезаря Борджиа, – возле музея уже топталась бы целая толпа баллистов, которая совершенно точно выяснила бы, откуда прилетело. Но это такая работенка… это такой геморрой… и украден вовсе не перстень Борджиа. Нашей милиции гораздо проще выдвинуть версию, что Батман сам принес в музей подделку, надеясь, что этого никто не заметит. И ведь не заметили, никаких проверок проб драгоценных металлов не делали до утра. А теперь… поди ищи, кто виноват! Я уверен, что это сделал Кирюха, потому что я знаю все его побудительные причины. Но попробуй докажи это!
– Но я так поняла, что Рудько очень обрадовался, когда ты ему пообещал подозреваемого и улики.
– На самом деле никаких улик у меня пока нет, – уныло сказал Арнольд. – Есть подозреваемый… но видишь, он выбрался-таки из каталажки. На самом деле с таким же успехом можно и директрису музея обвинить в подлоге, и самого Батмана. Да, улик у меня нет… я только предполагаю, где их искать.
– Где? – оживилась Алёна.
– На этой подделке клеймо ювелира, который копию делал. На оригинале не было клейма, вещь очень старая – и копиист поставил свое. Вообще очень странно, что Кирюха не заставил его уничтожить это клеймо, сгладить. Странно и глупо. Все предусмотрел, а такую мелочь не заметил. По этому клейму ювелира можно найти. Он обязательно вспомнит человека, который эту копию заказывал. Но это не просто. Это не клеймо одесских мастеров. Они здесь все наперечет. Конечно, потребуется время, чтобы его разыскать. Возможно, он даже в России. Кирюха в последнее время часто ездил в Москву, в Питер. Мог там подделку заказать. А мог и в Киеве, и во Львове, и вообще за границей…
– А что там изображено? – полюбопытствовала Алёна.
– Там написано «МИГ». Очень причудливая вязь, но разобрать можно. Наверное, это первые буквы его имени, отчества и фамилии. Или наоборот. Если он не подпольщик какой-нибудь, найти его реально. Но захочет ли милиция, будет ли возиться… это же международные связи надо задействовать!
– А ты сам таких связей не имеешь, например в Москве? Ты же частный детектив! – настойчиво сказала Алёна.
– Кое-какие связи у меня есть, но они сейчас, как назло, в отъезде. Лето – время отпусков. Хоть самому садись да езжай в Москву… может быть, так и придется сделать в конце концов!
– А эти связи среди ювелиров или в среде твоих коллег? – допытывалась Алёна.
– Нет, среди ювелиров я никого не знаю. Но есть человек в детективном агентстве, я ему очень помог когда-то, думаю, он мне не откажет этого МИГа найти, когда вернется.
– А когда он вернется?
– Да не знает никто! – с досадой стукнул по подушке кулаком Арнольд. – Завтра, послезавтра, самое позднее – в понедельник… Главное, он уехал внезапно для всех, как назло, по горящей путевке. А тем временем Кирюха от нас смоется, это как пить дать, за границу с Лорочкой – и никто дергаться из-за этого старого перстня не будет.
– Погоди-ка, – сказала Алёна, – дай-ка я встану.
– Ты куда? – испуганно схватил ее за талию Арнольд.
– Попудрить носик, – усмехнулась она.
– Что?!
– Ты разве не знаешь? Когда даме нужно в туалет, она говорит, что ей нужно попудрить нос. Это откуда-то из Голсуорси, кажется.
– А‑а, понятно, – не слишком уверенно проговорил Арнольд. – А зачем тебе понадобилось так срочно пудрить нос, я ведь его практически не вижу!
Алёна так и закатилась от смеха:
– О мужское самомнение! Да не собираюсь я пудрить нос, успокойся. Я просто хочу взять телефон из сумки.
– Ради Господа Бога! – испуганно пробормотал Арнольд. – Зачем тебе сейчас телефон? Хочешь милицию вызвать, чтобы меня отсюда выкинули?
– Какие жуткие прогнозы! Успокойся, ты мне еще понадобишься, погоди, погоди, я потом скажу, для чего! А сейчас я хочу позвонить одному человеку. Видишь ли, не только у тебя есть в Москве знакомые частные детективы. У меня тоже.
У нее и в самом деле был знакомый частный детектив именно в Москве. Они встретились около двух лет назад в самолете Париж – Москва. Самолет вынужден был сесть в Нижнем Горьком, потому что в Шереметьеве нашли взрывное устройство… и эта странная история потом вышла Алёне Дмитриевой очень крутыми боками[22].
От ударов судьбы ей отчасти и помог спастись этот случайный знакомый по имени Егор Рыжов, красавчик и приятнейший джентльмен, а по роду занятий – частный детектив. Танго он, впрочем, не танцевал. С тех пор Алёна к нему за помощью не обращалась, не было такой нужды. Может, у него номер изменился, или вообще он ее не вспомнит, но за спрос же денег не берут, верно?
Поэтому Алёна стала поспешно просматривать список своих контактов.
– Серьезно? – расхохотался Арнольд. – Знакомый детектив?! И ты собираешься ему звонить?! В такую пору?! У нас с Москвой всего час времени разницы. И если здесь сейчас три, то там всего четыре.
– Да, точно, я и забыла. – Алёна отложила телефон и вернулась в постель. – Погоди, но получается, что Кирюха должен был еще раньше украсть перстень, чтобы его ювелиру отдать! Неужели этого никто не замечал? Или он умудрился сделать фотографии?
– Ничего он не умудрялся, – буркнул Арнольд. – Но примерно в апреле у Батмана пропала пачка снимков и подробная опись некоторых его экспонатов. Мы уже тогда готовились к выставке. И я теперь припоминаю, что именно в это время в его доме начал мелькать Кирюха с настойчивыми просьбами продать перстень. Возможно, убедившись, что этого никогда не будет, он и задумал подменить перстень.
– Ну, слабо верится, чтобы такие выкрутасы удались, если бы у Кирюхи не было в доме Батмана сообщника, – задумчиво проговорила Алёна.
– Ты поразительно умная женщина. – Арнольд быстро повернулся и навис над ней. – Поразительно! Вот только слишком разговорчивая. Может, займемся чем-нибудь получше?
Она не ответила, а просто обняла его.
* * *
– Я раньше не слишком-то любил синема́. Подчеркиваю – раньше…
И Гришин-Алмазов посмотрел на Веру такими глазами, что Чардынину с Руничем стало неуютно, а Шульгин откровенно похохатывал: он знал, что диктатор – человек более чем решительный, а муж Веры Васильевны где-то там, в Москве… А впрочем, если Гришин-Алмазов всерьез даст волю своему сердцу, его не остановит и муж, сидящий на соседнем стуле!
– Конечно, интересно смотреть на движущиеся фигурки, ну и что же больше? В театре живая жизнь, в театре живые голоса, а здесь…
– Вот именно! – поддакнул Шульгин. – Случайная музыка случайного тапера, незамысловатый сюжет, угар чувств, а в результате – сумасшедший ажиотаж, чуть ли не массовый психоз… Как будто все зрители разом заболели какой-то сентиментальной горячкой! Как это получается?! Уму непостижимо… Только, ради бога, вы, Вера Васильевна, не обижайтесь!
Вера чуть улыбнулась. Она и в самом деле не обижалась. Наоборот, она очень любила такие разговоры. Она думала: если бы Голиаф остался жив, он мог бы сказать Давиду что-то подобное. Например: «Ты же мальчишка, ты ростом не вышел, а я богатырь, однако ты меня победил. Как это получилось? Уму непостижимо!» Голиаф – это все эти зрители, которые поначалу презирали синематограф, а потом склонились перед ним. Пустенькое развлечение полонило миллионы людей куда быстрее, чем, наверное, даже мечтать могли его создатели – братья Люмьер. Да и не ставили они перед собой такой задачи: снимать игровое кино. Они были документалистами… однако их последователи пошли далеко – дальше некуда, когда предложили человечеству великолепный заменитель театра, музыки и литературы – на одном белом экране. И еще Вера помнила, как ее познакомили на каком-то приеме с Александром Блоком, и великий поэт гениально просто, хотя и не без тоски сказал:
– Синематограф – это забвение.
И это было самое точное определение из всех, которые Вера когда-то слышала. Ведь и сама она забыла с его помощью себя прежнюю – толстенькую девочку из Полтавы, которую мама с любовной насмешливостью называла «Полтавской галушкой», забыла себя – верную жену своего мужа, любящую мать двух дочек… нет, не насовсем, а на то время, пока снималась в той или иной фильме. Точно так же и зрители забывали свои беды и заботы – не навсегда, а лишь на то время, пока смотрели ту или иную фильму.
Гришин-Алмазов, который не сводил с Веры глаз, сразу почувствовал, что мысли ее улетели куда-то далеко, что теперь он над нею не властен. А ведь он был диктатор в полном смысле этого слова! И он вернул Веру из мира ее грез самым действенным вопросом:
– А как так случилось, Вера Васильевна, что вы стали сниматься в кино? Вы же не играли до этого в театре?
– Нет, конечно, нет, – расхохоталась она. – Я только мечтала о балетной сцене, но меня бабушка в балет не пустила, говорила, что это неприлично – появляться перед мужчинами с голыми ногами, позволять им обнимать себя, хотя бы на сцене, и задирать ноги.
Повисла минутная пауза, и Вера могла бы поручиться, что все они вчетвером – Гришин-Алмазов, Шульгин, Чардынин и она сама – подумали об одном и том же. О том, сколько раз на экране ее обнимали и целовали разные мужчины, спускали платье с ее плеч или задирали его так, что ее изумительные ноги были всем видны. А открытки с рискованными сюжетами?! Согласитесь, узреть такую красоту в нижнем белье или в мужском костюме – это будоражило воображение! О нет, конечно, никакой порнографии: в них присутствовал именно тот налет фривольности, который необходим, чтобы возбудить интерес к актрисе, а значит, и к фильмам, в которых она будет играть. Само собой, открытки были рассчитаны не только на мужчин, но прежде всего на женщин-покупательниц: ведь именно женщины – приказчицы, курсистки, конторщицы, гимназистки, пишбарышни[23], телефонистки, горничные – составляли большинство в зрительных залах. Сказки о красивой любви с налетом некоей неприличности украшали их будни и поэтизировали прозу жизни… и заставляли мечтать о тайном грехе, об адюльтере…
Момент неловкости весьма ловко рассеял Чардынин.
– Вы не поверите, господа, – воскликнул он, – но когда Вера Васильевна решила попробовать себя в кино и пришла в киноателье Тимана и Рейнгарда, ей дали от ворот поворот!
– Не может быть! – воскликнул Шульгин.
– Мне кажется, они ослепли, – тихо промолвил Гришин-Алмазов. – Вы шутите, господин Чардынин?
А между тем Чардынин вовсе не шутил!
Как-то раз помощник Владимира Гардина, ведущего режиссера «Тимана и Рейнгарда», посмотрел в окно и, поправив пенсне, сказал:
– Мать честная… какая потрясающая красавица переходит дорогу! Держу пари, она идет к нам и хочет, чтобы мы ей дали роль.
Гардин хмыкнул. Держать пари в этой ситуации мог только полный дурак. Все красавицы, с некоторых пор появлявшиеся на Тверской-Ямской близ Александровского вокзала[24], держали путь именно в киноателье и мечтали получить роль, чтобы сняться в очередной фильме. Беда только, что практически все уходили обратно не солоно хлебавши.
– Блондинка или брюнетка? – спросил Гардин от нечего делать.
– Брюнетка, – ответил помощник. – Да какая!..
Женщина вошла в кабинет, и Гардин даже присвистнул – это и в самом деле оказалась редкостная красавица. И имя у нее было весьма подходящее для звезды экрана – Вера Холодная. Даже псевдонима придумывать не надо! Но…
– Боже, какая красавица! – сказал Тиман (один из двух китов, на которых держалось киноателье), посмотрев первую кинопробу Веры. – Но она никакая не актриса. Только и умеет, что глазами водить из стороны в сторону. Не спорю, она делает это хорошо. Однако нам нужны не красавицы, а актрисы! Пусть убирается.
– Милая деточка, – передал добродушный Гардин неудачливой дебютантке смягченный вариант мнения дирекции, – с этими глазками вы станете кем угодно, только не киноактрисой. А впрочем, можете попытать счастья у Ханжонкова. Видите ли, Тиману нужны актрисы, а Бауэру нужны красавицы… Так что желаю удачи!
И обворожительная молодая дама со звучной и вполне синематографической фамилией отправилась в поисках удачи к Евгению Францевичу Бауэру, ведущему режиссеру киноателье «Ханжонков и К°», самой преуспевающей русской кинофабрики.
Гардин очень точно определил сущность этого режиссера: Бауэр был поклонник красоты и сущий эстет. Он воспринимал актера прежде всего как великолепно одетый манекен, движущийся в созданных им несусветно-красивых декорациях, среди тщательно отмеренных полутеней и до микрона выверенных лучей света. Именно такой режиссер и нужен был Вере Холодной, которая, увы, и в самом деле ничего не умела, кроме как «водить глазами из стороны в сторону».
После первой же пробы к фильму «Песнь торжествующей любви» (по мотивам рассказа Тургенева) с Верой Холодной был подписан договор. Она не вполне осознавала, что появилась в киноателье как раз в то время, когда Бауэр уже отчаялся найти приму для новой фильмы. И вот она сама пришла к нему, точно с неба упала. Бауэр был не меньше поражен удачей, чем новая актриса!
Вера в полуобморочном состоянии побрела домой. Как же так?! Как же это могло произойти? После двух неудачных попыток (еще до того, как побывать у Гардина, она пробовалась на кинофабрике «В. Г. Талдыкин и К°», но и там дело закончилось ничем)… Да и пошла-то она в киноателье только потому, что ей было нечем заняться, было отчаянно тоскливо без мужа, который добровольцем ушел на фронт, да и денег не хватало, а в кино, как говорят, недурно платят… Она даже не слишком удивилась, когда ее отшили у Талдыкина и Тимана, и вдруг…
Да неужели она, «Полтавская галушка», верная жена бывшего юриста, ныне вольноопределяющегося[25] поручика Володи Холодного, милая мамочка двух малышек, сделается синематографической актрисой?! Такой же, как обожаемая ею Аста Нильсен? Фильм «Бездна» с ее участием свел Веру с ума и заставил желать невозможного. Неужели она будет сниматься в одной фильме с Витольдом Полонским и Осипом Руничем, этими роковыми мужчинами?!
Бауэр влюбился в новую актрису с первого взгляда и не намерен был расставаться с ней. Он хотел теперь только одного: как можно дольше наслаждаться ее красотой и владеть ею… нет, не физически, – владеть не обладательницей этой красоты, а ее духом, ее синематографическим образом. Бауэр стал для Веры идеальным режиссером, а она для него – идеальной актрисой, которая слушалась его рабски. Именно поэтому он смог не только максимально раскрыть красоту Веры Холодной, но и научить ее использовать эту красоту для наилучшей передачи своих эмоций.
– И это ему удалось, – согласился Шульгин, внимательно слушавший Чардынина и Веру, которые рассказывали все это наперебой.
– Да… – прошептал Гришин-Алмазов. – Это правда. Ох, какой я идиот… – пробормотал он вдруг.
– Хм, – понимающе сказал Шульгин.
– Почему? – спросил интриган Чардынин.
– Я осмелился прийти сюда без цветов, а должен был засыпать вас цветами! – пылко воскликнул губернатор. – Мне хочется выразить свой восторг, свое восхищение, но я не знаю, как…
– О нет, цветов на сегодня довольно, – поежилась Вера. – Так что вы, наоборот, поступили очень умно.
– Нет! – воскликнул Гришин-Алмазов. – Я хочу чем-то отблагодарить вас! Вот, позвольте преподнести вам…
Он сорвал с пальца перстень и протянул его на ладони Вере.
– Какой странный, – шепнула она боязливо.
Перстень и впрямь был странный: тяжелая, грубая золотая оправа и серый слоистый камень с черным дробящимся рисунком.
– Какой красивый, – добавила Вера через мгновение, чувствуя ужасную неловкость: принимать такие подарки от мужчины, известного своей неразборчивостью в связях, – это рискованно, однако перстень очаровал ее с первого взгляда. И было ужасно жаль отказаться от него только ради того, чтобы отдать дань приличиям.
– Это подарок, – сказал Гришин-Алмазов. – Подарок от человека, которому я спас… – Он запнулся и тут же поправился: – Которого я выручил из беды.
Все поняли, что оговорка сделана была только из скромности, потому что слова «спас жизнь» прозвучали бы слишком громко для того, кто чурался всякой позы.
– Этот человек сказал, что я могу, в свою очередь, подарить перстень тому, кто мне… кого я… кем я…
Он снова запутался в словах, и снова все поняли, что имелось в виду.
Вера покраснела, но не столько от смущения, сколько от удовольствия.
– Вера Васильевна, вы – величайшая драгоценность нашего времени, – продолжал Гришин-Алмазов. – Вы сами должны быть оправлены в драгоценный металл всеобщего обожания.
– Черт возьми, – ухмыльнулся Шульгин. – Уж эти мне поэты…
– Жизнь наша так невероятно неустойчива, – говорил губернатор. – Она так хрупка… в это безумное время мы все ходим по острию ножа… и в любое мгновение ветер судьбы сдует кого-то из нас и унесет в мир иной. Я бы хотел, чтобы этот перстень напоминал вам обо мне, Вера Васильевна, когда этот ураган сметет меня с вашего пути.
– А если он сметет меня раньше? – спросила Вера с улыбкой. – Что тогда станется с перстнем?
Гришин-Алмазов растерянно пожал плечами:
– Ну… если, не дай бог, такое случится, вы оставите его… кому-нибудь, кому захотите.
– Я хочу, чтобы он вернулся к вам, – со странной серьезностью сказала Вера. – Вы возьмете его обратно? Клянетесь?
– Клянусь, – так же серьезно ответил одесский диктатор, осторожно беря ее руку и надевая перстень на средний палец – здесь он еще более или менее пришелся впору, для безымянного был бы слишком велик.
– Что это вы начали за здравие, а кончили за упокой? – проворчал Шульгин.
– А какой фильм Веры Васильевны вам больше всего нравится? – несколько некстати проговорил Чардынин, желая разрядить обстановку.
Гришин-Алмазов не успел ответить.
Дверь в номер открылась, на пороге появился человек в черкеске, поклонился, сделал какой-то знак…
– Минуту, – сказал одесский диктатор. – Я вернусь.
И торопливо вышел в коридор.
* * *
– Смотрите, сердце летит! – вдруг раздался крик.
Алёна встрепенулась. О, да она ведь задремала, оказывается. А спинку-то чуть припекло, самое время повернуться.
Села на топчане, огляделась, поправив съехавшие очки. Море было по-прежнему необычайно красивым, сине-зеленым, оно кипело белопенной – а как же ж иначе! – волной, но даже на взгляд было понятно, какое оно нынче студеное, это южное море. Народу на берегу лежало и сидело великое множество, но купаться почти никто не рисковал: за один день температура воды упала чуть не до пятнадцати градусов.
Пока Алёна тут загорала, она много каких разговоров наслушалась, и насчет воды, конечно, тоже. Оказывается, ветер «сдул» верхний, уже прогретый до двадцати градусов слой воды, а взамен пришел глубинный – холодный. Кто-то из загоравших даже обозвал данное явление по-научному – апвеллинг. Да хоть горшком назови! С ума сойти, приехать в Одессу – и даже не искупаться в Черном море! А вдруг и в самом деле завтра погода испортится, как сулят здешние синоптики?
Алёна поправила полотенце на топчане и легла на спину, глядя в прозрачное и высокое небо, с одной стороны накрывающее море голубым куполом, а с другой – окаймленное грядой парковых деревьев, растущих на высоком берегу, под которым располагался пляж. По небу и в самом деле летело серебристое сердце – воздушный шарик.
– Его вон с той яхты пустили, – сказал один из многочисленных внуков бабы Вали, заметив, куда смотрит Алёна. – И раньше еще пускали. Целый день оттуда разноцветные сердечки лётают.
Алёна приподнялась и посмотрела на море. На небольшом расстоянии от берега покачивалась на волнах легкая белая яхта. Можно представить, как она прекрасна под парусом! Впрочем, и сейчас она была хороша, как игрушка. Солнце играло в металлических частях оснастки, загораясь иной раз мгновенным слепящим блеском, как будто на яхте кто-то стрелял и беззвучные вспышки огня достигали берега. Вдали довольно ходко шли под парусами еще два суденышка такого же изысканно-круизного стиля, и Алёна проводила их взглядом. Красивые все же существа – яхты. Не то чтобы Алёна принадлежала к большим любительницам морских путешествий, ей удавалось это раз или два в жизни, да особо больше и не тянуло, но сейчас вдруг желание близости с морем пришло, как тоска по давней любви. Однако она помнила, как обожгло стужей ноги, когда она только сунулась в воду. Окунаться резко расхотелось – море леденило и тело, и душу.
«Пойду попробую, может, море хоть чуть-чуть прогрелось, – решила Алена. – В крайнем случае просто поплещу на себя водички соленой».
Счастливый смех донесся до нее. Стайка долговязых бледнотелых девиц пронеслась мимо, визжа что-то неразборчивое. Одна вдруг остановилась, обернулась и помахала кому-то рукой. Алёна проследила направление ее взгляда и увидела близ воды строение, напоминающее этажерку. Собственно, она уже обращала внимание на это сооружение – прежде всего из-за надписи дивной силы и красоты, которая гласила: «Рятувально-водолазная служба. Запобегти, допомогти, взятувати!» Тут же имели место быть два телефонных номера: (048)772 18 47 и (048)700 98 18. К примеру, вы заплыли далеко от берега, начали тонуть, достали мобильник, набрали один из этих номеров – и тутошние добры молодцы немедля до вас добежали, помогли, вытащили.
При виде этих номеров Алёна усмехнулась. Второй был ей знаком – не то чтобы знаком, просто он почти в точности совпадал с тем, по которому она собиралась позвонить ночью, но позвонила только утром, перед тем, как пошла на пляж. У московского частного детектива Егора Рыжова мобильный телефон был +7 926 700 18 98. И, кстати, она дозвонилась до него.
– Привет, писательница! – закричал Егор радостно, поняв, кто говорит. – Слушай, я так и не поблагодарил тебя. После романа, в котором ты меня так живо изобразила, у меня прибавилось клиентов. И личная жизнь радикальным образом изменилась. Моя любовница – помнишь, жена начальника охраны? – меня бросила! Ведь ты засветила ее адюльтер, и она возмутилась моей болтливостью!
В голосе его звучали откровенно ликующие нотки, и Алёна слегка озадачилась:
– Слушай, а почему это ты совершенно не опечален?
– Потому что я с горя нашел другую! Счастье свое нашел! Я даже женился уже! И это благодаря тебе!
– Ага, – немедленно смекнула прагматичная Алёна, – значит, ты мой должник? И если я тебя кое о чем попрошу, ты мне поможешь?
– Конечно! – пылко заверил Егор.
– Отлично… ты что-нибудь слышал о клеймах ювелиров?
– Само собой, – сказал Егор. – У каждого ювелира свое клеймо, так же, как подпись у художников. Постоянно выходят обновленные каталоги клейм. В Интернете они тоже есть, но печатные более полные. А что тебя интересует?
– Меня интересует клеймо «МИГ». Я точно не знаю, как оно выглядит, но в нем именно эти три буквы.
– Вообще-то таких «мигов» может быть знаешь, сколько? – огорченно сказал Егор. – Тут все дело именно во внешнем виде печати. Ну ладно, я поищу.
– А когда?
– А когда тебе надо?
– Чем скорее, тем лучше.
– Вообще-то мы сегодня вечером едем на дачу, – сказал Егор. – У тестя юбилей, пропустить никак нельзя, да и не хочется – у меня невероятный тесть! Жена придет с работы – и поедем. Но пока я свободен. Давай так: я поищу до вечера, если найду – позвоню. Если нет – тоже позвоню. Договорились?
– Конечно! – обрадовалась Алёна. – Огромное тебе спасибо! Тогда до связи?
Но Егор трубку не положил.
– Вот странно, – сказал он задумчиво. – Мне эта аббревиатура – МИГ – что-то напоминает.
– А она тебе не напоминает, случайно, известную марку самолетов? – хихикнула Алёна.
– И это тоже, – согласился Егор. – Но что-то еще… с чем-то это еще связано, причем довольно близко… Ладно, слушай, а что тебе от этого МИГа нужно? Просто информация о самом факте его существования или что-то конкретное? Потому что если «чем скорее, тем лучше», то проще мне самому будет задать ему этот вопрос, если я найду его, конечно!
– Понимаешь, он делал копию перстня, – пояснила Алёна. – Золотого, старинного, с серым амазонитом или хиастолитом, точно не знаю, хотя, кажется, это одно и то же. Копию он сделал, конечно, не золотую, но, видимо, очень качественно. Меня интересует, кто был заказчиком, что ювелир о нем помнит. Может быть, остались какие-то координаты. В общем, хотелось бы узнать вообще все детали этой встречи.
– Ага, всего-навсего, – сладким голосом сказал Егор. – Ну ладно, до связи.
На том они и расстались. Егор до сих пор не звонил, но Алёна и не ждала быстрого ответа.
Она снова посмотрела на спасательную этажерку и заметила некоторые перемены.
Прежде у ее подножия сидели в шезлонгах два парня в гидрокостюмах и лениво перекидывались в картишки. Однако сейчас они снимали с себя мокрые сине-желтые спасательные жилеты. Алёна заметила, что у самого берега покачиваются аквабайки. Видно, на них и катались возбужденные девицы.
«А может, покататься? – подумала Алёна. – Я ведь в жизни не ездила на этих штуках. Заодно и к воде приобщусь…»
Ее иногда пробирало жаждой таких вот необыкновенных приключений. То пускалась в полеты на воздушном шаре, то прыгала с парашютом, то скакала верхом… Случалось это постоянно на фоне куда менее экстремальных, однако не менее опасных эпизодов ее жизни. Скажем, по сравнению с тем, как ее чуть не прикончили весной этого года в развалинах нижнегорьковской водокачки[26], прогулка на аквабайке обещала стать всего лишь приятным пустячком.
Алёна взяла сумку, свернула полотенце, сунула под лежак легкий матрасик, чтобы не унесло ветром, и пошла к рятувальной станции. Ладный и складный невысокий парень обернулся к ней, сверкнул улыбкой – и вдруг воскликнул:
– Кого я вижу! Красивая писательница! Всегда красивая!
И одобрительным взором окинул ее фигуру, затянутую в голубой купальник.
Алёна не без удивления всмотрелась в его лицо. Да ведь это Роман! Тот самый, с которым ее вчера познакомил на Дерибасовской Арнольд! Ну да, он же говорил, что Ромка – спасатель с Лонжерона.
Симпатичный все же парень. Какие глазищи, какая улыбка! И вчера классно смотрелся в майке и джинсах, а сегодня в этом черно-желтом гидрокостюме – ну просто Ихтиандр.
– Покататься решили? – весело спросил Ромка. – И правильно. Сто пятьдесят гривен. Удовольствия гарантирую на сто пятьдесят процентов.
– Только сумку я у вас оставлю, можно? – спросила Алёна. – Пусть полежит, пока я буду рисковать жизнью.
– Без проблем, покараулим, у нас все оставляют, – сказал напарник. – А риска никакого, что вы, дама. Во‑первы́х, жилетка на вас будет спасительная. Во‑вто́рых, Ромка хоть и виражит по-страшному, а ниякому ще человику чи жинке не дал в море упасть.
Алёна так заслушалась его своеобразным говором, что с трудом одолела желание немедленно достать блокнот и занести эту красотищу на скрижали.
– Ничего, ничего. Сам уроню, сам и спасу! – сказал Ромка, очень ловко надел на Алёну «спасительную жилетку» и застегнул, исподтишка заглядывая в весьма глубокое декольте ее купальника. Когда Алёна перехватила его взгляд, глаза у Ромки были шкодливые до невозможности.
Алёна усмехнулась. На ее жизненном пути частенько встречался такой вот молодняк, который трэндал, как говорят в Одессе, в принципе все, что шевелится, но при этом испытывал неодолимую тягу к красивым взрослым и даже весьма взрослым дамам. Строго говоря, именно такой молодняк скрашивал одинокую и порой избыточно сублимированную в литературное творчество жизнь писательницы Дмитриевой, но сейчас тело ее слишком живо помнило ночь, проведенную с другим мужчиной, к тому же Ромке, при всей его молодой, сильной, броской и даже разухабистой привлекательности, было до загадочного, сдержанно-пылкого Арнольда как до Луны.
Ну да, ну да, именно этой сдержанностью, скрытностью и загадочностью он и манил ее… Много чего произошло между ними всего лишь за сутки знакомства, но Алёна понимала, что знает Арнольда ничуть не лучше, чем в первую минуту встречи в аэропорту, когда он стоял, сложив руки на груди, прислонившись к машине и светя во тьме южной ночи своей белокипенной рубашкой. Она-то открылась перед ним гораздо больше… странно, почему-то эта мысль вдруг страшно уязвила, унизила, даже испугала, и ослепительный день на мгновение померк…
Почему? Ах да, ведь Арнольд снова исчез, не взяв у нее телефон и не оставив свой номер. Конечно, он сто тысяч раз сказал, что они увидятся снова, но не сообщил, когда и где. С другой стороны, мужчина, который поднимается по гостиничным стенам легче, чем иные поднимаются по ступенькам, может появиться в любом месте и в любое время, так что, видимо, Алёне надо быть готовой к новым неожиданным свиданиям.
От этой мысли настроение сразу улучшилось, и она снова улыбнулась Ромке:
– Имей в виду, я практически не умею плавать. Эта штука в случае чего удержит на плаву мой немалый вес?
– Это мой любимый вес, – лихо улыбнулся Ромка. – Я дико завидую жилетке.
«Как бы я желал быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку!» – вспомнила Алёна бессмертную фразу и засмеялась.
– Пошли грузиться, – сказал Ромка, беря ее за руку. – Только ноги придется чуток намочить.
Он вбежал в волны, расталкивая их, и подтащил к самому берегу аквабайк. Протянул руку:
– Ну, вперед.
Алёна подала ему руку, вошла в воду по щиколотку – и чуть не закричала, такая она была студеная и жгучая.
«Но там же брызги будут! – сообразила она. – В море же еще холоднее! Куда я лезу?!»
Но было поздно. Ромка уже втащил ее на байк, велел надеть очки и спросил:
– Сами поведете?
Алёна судорожно покачала головой:
– Н‑нет уж, ты веди. А я б‑буду д‑держаться. Только п‑предупреждаю, мне ужасно ст-трашно и я б‑буду орать.
– Мне не привыкать! – хохотнул Ромка, вскочил на переднее сиденье, крутанул рукоятки – и Алёна в миг единый переместилась в некий иной мир, где ничего не было, кроме скорости, ветра, соленых брызг и проблесков слепящего солнца. Единственным напоминанием о покинутой реальности служила черно-желтая Ромкина спина, к которой Алёна отчаянно прижималась и обнимала так крепко, как не обнимала ни одного, самого любимого любовника, аж пальцы судорогой сводило. Себя она не чувствовала, вокруг была вода, везде, под ней было мокро, вся она уже была мокрая, иногда сине-зеленая тугая волна оказывалась прямо у глаз, иногда в глаза насмешливо таращилось огромное солнце, на виражах ее чуть не вышибало из седла, один раз почти вышибло, и Алёна заорала так, что Ромка, видимо, испугался и чуть снизил скорость: мир перестал плясать, прыгать, искажаться и слегка поуспокоился. Стало возможно разглядеть по отдельности солнце и небо, крутобокие волны рядом, море, море, море… дальние очертания берега, такие дальние, что Алёна снова чуть не заорала от страха, но все же гордыня на сей раз одолела, поэтому удалось спросить относительно спокойно:
– А мы не слишком далеко заехали?
– Да? – изумился Ромка. – Ну ничего, сейчас двинем обратно. Только еще чуток покатаемся.
И это все началось снова…
Тем временем всеподавляющий ужас исчез, и Алёна почувствовала, что ей нравится, отчаянно нравится это издевательство над собой, этот тренинг по изгонке бесов страха из души и тела. Вверх-вниз! И почти лечь на воду! И этот вираж, от которого перехватывает дыхание, – о, какое счастье! Это почти как танго, только круче виражи…
Но один бесенок страха все еще пищал панически где-то в желудке, и это жутко раздражало Алёну, это унижало ее в собственных глазах, а потому она прокричала в Ромкино ухо:
– Я хочу поменяться. Хочу за руль.
– Ага! – заорал он радостно. – Я же говорил, вам понравится!
И он легко соскользнул в воду, освободив Алёне место:
– Перебирайтесь вперед, только пока ничего не трогайте, никаких рукояток, лады?
– Не буду, – усмехнулась Алёна, сдвигая на лоб очки, чтобы не мешали, и только приподнялась, как Ромка восхищенно сказал:
– Ух ты, какая красивая яхта!
Алёна повернула голову.
О да… Белая яхта была прекрасна! Изящная, как акварель, и в то же время сильная, как дельфин. У самого борта на палубе стояли люди: двое мужчин в шортах и больших солнечных очках и девушка с длинными белыми развевающимися волосами, в белом парео, сползшем на бедра, и крошечном лифчике на пышной груди. Лицо ее тоже было наполовину прикрыто очками.
– Какие классные титьки… – восхищенно пробормотал Ромка, глазея на нее, но тут же спохватился и обернулся к Алёне с самой невинной улыбкой: – Я говорю, классная яхта, и название красивое, да?
– А как она называется? – без особого интереса спросила Алёна, елозя по сиденью, чтобы продвинуться вперед и с вернувшимся страхом ощущая, как качается байк.
Она бросила неосторожный взгляд на яхту, на борту которой было написано что-то неразборчиво, вроде «Uchan kalp», покачнулась – и байк накренился.
«Что я делаю, куда черт меня понес?! Надо вернуться на заднее сиденье. Пусть Ромка сам ведет!»
– «Учан калп», – ответил тем временем он. – Это по-турецки значит «Летящее сердце».
– Что? «Летящее сердце»?! – Алёна повернулась, чтобы еще раз взглянуть на яхту, вдруг нога ее скользнула, неловкое движение – и она сорвалась с байка.
Вода накрыла ее с головой, но спасательный жилет не дал глубоко погрузиться. И мигом пришло леденящее душу спокойствие, мысли прояснились. С ней однажды было такое. Давно-давно, еще в юности, когда ее звали Леной Володиной. В те времена она довольно часто бывала на Дальнем Востоке, в Хабаровске, где жили ее родственники. Однажды летом – ей тогда было лет шестнадцать или семнадцать – она поехала навестить подругу, которая работала вожатой в пионерском лагере в Переяславке. Рядом с лагерем протекала речка Кия. В тихий час, пока пионеры спали или делали вид, что спят, вожатые катались по Кие на водных велосипедах и устраивали настоящие гонки. Лена и ее подруга Лиза Слезкина со страшной скоростью крутили ногами педали и лидировали, как вдруг… Лена даже не заметила, как это произошло, кто куда излишне накренился… но вдруг велосипед перевернулся и накрыл ее. Погружаясь, она видела над собой его очертания, казавшиеся невероятно громадными. Они поднимались все выше и выше…
«Какая ерунда, – подумала Лена спокойно, – велосипед не может подниматься. Это я погружаюсь. И могу утонуть. Пора выплывать, вон туда, чуть в сторону, чтобы не удариться головой». И она спокойно вынырнула, взобралась на перевернутый велосипед и села поудобнее, отжимая волосы. Лиза и все прочие вожатые, уже изготовившиеся нырять и спасать утопленницу, смотрели на нее, разинув рты.
– Ну, русалка, у тебя нервов нет! – крикнула Лиза и заплакала от пережитого страха.
У Лены были нервы, у Алёны Дмитриевой их за жизнь набралось еще больше, целый комок, она была довольно-таки труслива и легко поддавалась панике, но точно так же легко ее опьянял риск, а в минуту последней опасности ею всегда овладевало именно это леденящее спокойствие, ее способность мыслить логически, цеплять причину за следствие обострялись так, что она потом сама диву давалась, откуда что бралось… и своим поступкам, совершенным под влиянием этого странного, почти биологически-исследовательского спокойствия, тоже дивилась. Но уже не могла остановить себя.
«Летящее сердце!» Эсэмэски, которые она случайно прочла в пятнадцатом номере. Турецкая яхта, арендованная Кирюхой. Перстень… Старик, которого она накрыла своим платком, как будто взяла его под защиту…
«Леночка, моя дорогая… я теперь все знаю, все вижу… ты правду сказала, что я тебя всю жизнь буду любить, что всех ради тебя забуду. Всю жизнь… И тебя уже нет, а я старик, а все вижу, как там, на чердаке… Леночка… я скоро приду к тебе, ты меня жди, я уже скоро…»
Сердце застучало в горле и в висках одновременно, и что-то резко выдернуло Алёну из-под воды. Она повисла в Ромкиных руках, удерживаясь от того, чтобы глубоко вздохнуть, осторожно, по капельке переводя дыхание.
– Алёна! – закричал перепуганный Ромка. – Алёна, что с вами?!
– Что там, парень? – послышался голос сверху, и Алёна подумала, что уже слышала раньше этот голос… – Какие проблемы?
– Ей плохо, – орал Ромка. – Помогите! Помогите мне посадить ее на байк!
– Как же ты ее повезешь? – спросил голос. – Соскользнет снова в воду.
– А может, у нее сердечный приступ? – спросила женщина. И этот голос Алёна тоже слышала раньше!
– Давай мы ее поднимем к себе, – сказал мужчина. – Попытаемся привести в чувство. А ты подожди. Она очухается – и отвезешь ее на берег, идет?
– Спасибо! – радостно закричал Ромка. – А как вы ее поднимете?
– Да гамак вместо сети опустим и вытащим.
– Давайте! – воскликнул Ромка.
«Кажется, всё, – подумала Алёна. – Хватит играть. Пора начинать. Ох, ужас… Ну, на счет раз!»
Она не без усилия открыла глаза, которые жмурила с таким старанием, что мокрые, соленые ресницы слиплись.
И тотчас же встретила растерянный взгляд Ромки. Он был изумлен! Он поверил! А как же… Но сейчас было не до аплодисментов и, тем паче, не до криков «браво!» или «бис!». А потому прежде, чем Ромка успел открыть рот и заорать, что все уже отлично, хорошо, спасать никого больше не надо, Алёна сквозь зубы прошептала:
– Молчи! Мне нужно оказаться на яхте. А ты не вздумай за мной лезть! Как только они начнут со мной возиться, садись на байк и тикай отсюда! Тикай! И сразу позвони Арнольду, слышишь? Сразу!
И все, времени на разговоры уже не осталось. Она снова зажмурилась, успев увидеть, как Ромка еще больше вытаращил глаза, но все же послушался и не произнес ни слова, вероятно, от ошеломления онемел, и Алёна очень сильно надеялась, что он послушается.
Тут же раздался звук чего-то тяжело упавшего в воду, и голос, казавшийся знакомым, с насмешливой вальяжностью произнес откуда-то сверху, наверное, с борта яхты:
– Ну, давайте сюда вашу утопленницу. Хотя я и придерживаюсь принципа, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но на красивых женщин этот принцип не распространяется. Помогите-ка мне, молодой человек, затолкать ее в этот гамак. Давайте подведем снизу… вот так! Ишь ты, кто бы мог подумать, что мы будем использовать эту сугубо развлекательную принадлежность в качестве сетки для ловли русалок!
Раздался женский смешок, а потом она почувствовала прикосновение каких-то грубых веревок к телу, и тот же вальяжный голос скомандовал:
– Подсекай! И вира помалу!
Алёну потянуло наверх, веревки врезались в тело, она вдруг ощутила, что повисла над водой и поднимается все выше и выше, потом качнулась в сторону и начала опускаться, – и не выдержала: открыла глаза, чтобы увидеть сияющее солнцем, самое синее в мире Черное море вокруг, пляж Лонжерон – уже очень далеко, палубу яхты – очень близко, а еще – себя, скомканную и мотающуюся в какой-то большой мокрой сетке, подобно скумбрии, которую небрежная хозяйка тащит с Привоза и помахивает ею на ходу. Солнце сверкало в металлических скобках сетки, и, когда Алёна чуть повернула голову, пытаясь разглядеть Ромку, вдруг зажглось так ослепительно, что она снова зажмурилась – и тотчас раздался внезапный рев аквабайка и изумленный крик:
– Куда же ты, парень? Куда помчался? А что нам делать с этой русалкой?
Алёна поняла, что Ромка послушался.
Итак, сюжет она выстроила, как могла, а теперь настало время главной героине вступить в игру.
Но тут она услышала голос, который уже не был вальяжным, совсем наоборот – в нем звучало опасное напряжение:
– Стоп машина! А теперь я хочу понять, что все это значит. Русалка она или подсадная ри‑и‑иба…
Алёна успела удивиться, что в его подчеркнуто-рафинированный говор вдруг ворвалось это типичное одесское «риба» (вчера совершенно так кричали торговки на Привозе: «А вот риба, а вот рибы свежей, малосольной кому?»), а потом почувствовала, что сетка, которая уже начала было опускаться, зависла между небом и землей, вернее, между небом и палубой. И она снова вспомнила о скумбрии, которую хозяйка тащит с Привоза, небрежно раскачивая ношу. Ри‑и‑иба…
Тут у Алёны свело челюсти от приступа тошноты, а потом нестерпимо, до бешеного звона в ушах, закружилась голова, а в следующее мгновение она лишилась сознания – на сей раз отнюдь не притворно.
* * *
Говорят, что обманутый муж все узнает последним. Однако князь Воронцов стал исключением. Едва услышав мягкий, ласковый голос жены, едва перехватив ее пылкий взгляд, устремленный на молодого Маразли – как сразу понял: быть беде, быть ему обманутым. Он первым узнал о том, что еще не произошло, но должно было произойти с неизбежностью смены времени суток. Ведь и в глазах Маразли он увидел огонь, который был способен ослепить любую женщину. Поэтому Семен Михайлович обрадовался, что ему пора было ехать дальше, дабы не задерживать движение кортежа. И он лишь кивнул на прощание Маразли, но не пригласил его на прием в честь вступления в должность нового городского головы. Это была инстинктивная попытка приостановить развитие событий. Он надеялся, что неприглашенным этот гордый грек, небось, надеявшийся, что то же расположение, кое питал Воронцов‑старший к старшему Маразли, унаследуют и сыновья, и убедившийся в обратном, вряд ли явится. Конечно, приглашение могло последовать от жены, однако Мария Васильевна промолчала. И у Семена Михайловича на миг отлегло от сердца.
Может быть, ему все это почудилось? Может быть, это была просто вспышка того чувственного интереса, который княгиня неизбежно возбуждала во всех мужчинах? Как он глуп со своими подозрениями, основанными на одном только мимолетном обмене взглядами!
Так убеждал себя Семен Михайлович, но вещее сердце ныло, ныло, и ясный день померк, и ветер сделался неприятен, и от моря, почудилось, веет не просто приятной свежестью, а близким штормом.
Настроение князя было замечено окружающими, однако – супруга Цезаря выше подозрений! – никому и в голову не пришло увязать его внезапное уныние с внезапной любезностью княгини или с внезапной встречей с сыном почетного гражданина Одессы. Все понял только Маразли. Ему тоже вполне достало одного взгляда между ним и княгиней Марией Васильевной, чтобы заглянуть в яркую, прекрасно-постыдную картину их будущих отношений. Он знал себя, он знал женщин… он мог искать тайные пути для того, чтобы проникнуть в альков, но к сердцу женщины он всегда шел прямиком – не встречая никаких преград.
О да, его натура была клубком противоречий. Но разве не столь же противоречивым был его отец, которого князь Михаил Семенович Воронцов в свое время называл негоциантом Божьей милостью? А иные в те же поры называли пиратом и разбойником… Что же делать, коль тяжела в конце прошлого, восемнадцатого, века была обстановка на морях, да так тяжела, что тогдашний одесский губернатор герцог Ришелье позволил вооружать экипажи русских судов для защиты от бандитов и пиратов?! И каждый раз, когда Россия вступала в очередную войну, выдавал одесским купцам каперские грамоты, разрешавшие «с выгодой атаковать торговые суда противника». «С выгодой» – читай, с грабежом. А уж решать, кого считать противником, должны были сами моряки – по обстоятельствам, так сказать. Но ведь обстоятельства не с неба падают, а людьми создаются… Так были заложены основы немалого состояния Маразли, а потом, когда после Наполеоновских войн Европа нуждалась в хлебе насущном и начала получать его через одесский порт, это состояние стало воистину баснословным. И отныне Маразли начал заботиться не только о богатстве, но и о респектабельности. Теперь Григорий Иванович все меньше кичился своим буйным прошлым, а постарев, взял да и сжег все документы и судовые журналы былых времен, которые могли бросить тень на имя, честь коего он отныне намеревался беречь.
Сын его посещал самые знаменитые и дорогие учебные заведения Новороссии – пансион Кнерри и Ришельевский лицей. Потом продолжил образование в Париже, в некоем закрытом полувоенном пансионе, где обучился метко стрелять и бесстрашно фехтовать, а также недурно рисовать и великолепно танцевать.
С первых дней своей самостоятельной жизни Григорий Маразли-младший славился щедростью, которая ослепляла Париж. Его девизом стали слова:
Раздавать – так миллион, Любить – так королеву.Женщины делились для него на два сорта: для постели и для любви. В постели могла очутиться любая, самая незначительная шлюшка с пляс Пигаль, которая попалась на глаза Маразли в то мгновение, когда его внезапно одолела похоть. Для любви у него была Эжени-Мари де Монтихо. Впрочем, она предпочитала скрывать свою принадлежность к древнему роду Порто-Карреро, происходящему из Венецианской республики и перебравшемуся в Испанию еще в XIV столетии. Ее отцом был Фернан де Монтихо, испанский граф Мануэль. Он обеспечил обожаемой дочери блестящее образование во Франции и Британии, а потом Эжени пустилась по Европе в поисках приключений. Ее сопровождала мать, которая никогда не могла ничего запретить дочери, Эжени вертела ею как хотела и делала что хотела, ничуть не рискуя скомпрометировать свое имя и титул, поскольку представляясь графиней Теба. Выбор имен у нее был поистине огромен, потому что по-настоящему юную авантюристку звали Эжени-Мари Игнасия Августина Палафокс де Гусман Порто-Карреро и Киркпатрик де Платанаса де Монтихо де Теба. А потом она вдруг исчезла… и однажды Маразли с изумлением увидел ее портрет в газетах и узнал, что девушка, в которую он был влюблен, – теперь жена другого. Этого другого звали Шарль Луи Наполеон Бонапарт. Впрочем, гораздо чаще его называли император Наполеон III. Ну, а ее отныне звали императрицей Евгенией.
Он захотел найти себе новую королеву. Или создать ее.
Он познакомился со студенткой консерватории Сарой Бернар. За свой высокий рост и худобу она носила прозвище Швабра.
Но Маразли казалось, что он видит одуванчик. Высокая, тонкая, с пушистыми золотыми волосами, с широко расставленными светлыми глазами, нежная, как цветок, порочная, как опытная куртизанка, наивная, как ребенок…
Сара хотела стать актрисой, и очарованный Григорий Маразли оплатил для нее в «Комеди Франсез» постановку трагедии Расина «Ифигения в Авлиде». Директор при виде дебютантки сморщил нос: «Она слишком тощая, чтобы стать актрисой!» Но премьера все же состоялась… и это был полный провал! Директор «Комеди Франсез» немедленно прервал ангажемент и поклялся, что раньше Сена потечет вспять, чем «эта бездарная швабра» снова выйдет на сцену «Комеди Франсез».
Маразли это очень развеселило. Он утешал свою рыдающую подругу и предлагал купить для нее собственный театр, где она всегда будет играть первые роли.
Однако это было самым верным способом потерять любовь Сары. Театр значил для нее в ту пору ее жизни куда больше, чем мужчины.
– Мой девиз: «Во что бы то ни стало», – сказала она с дьявольским огнем в глазах. – И я достаточно нагляделась на свою мать, которая живет за счет щедрот одного мужчины, своего любовника, и всячески заискивает перед ним. Я хочу жить за счет всех мужчин и женщин Парижа, которые будут каждый вечер приходить ко мне и любоваться мной. И не я буду заискивать перед ними – они передо мной!
Из этой напыщенной речи Маразли понял одно: «Швабра» не собирается бросать сцену. Но он любил Сару и решил потерпеть ее причуды. Кстати, одной из них была страсть предаваться страсти… в гробу. Когда Сара была еще девочкой, врачи обнаружили у нее туберкулез. Она уговорила мать купить ей гроб красного дерева, чтобы ее после смерти не положили в какой-нибудь «уродец». Гроб был куплен «на вырост», что в длину, что в ширину. Конечно, Сара была высокой, но в этом гробу ей было очень просторно. И порой ей приходило в голову «оживить» свое будущее пристанище любовными играми.
Не то чтобы Маразли был трусом, однако он, который славился любовной неутомимостью, неизменно оказывался недееспособен, когда вокруг оказывалась черная муаровая обивка этой жутковатой «постели».
Шло время. Сара играла все роли, которые могла получить, и название театра не имело значения. «Жимназ», «Порт-Сен‑Мартен», «Одеон» – ей годилось все, где она могла пройти школу актерского мастерства, чтобы вернуться в «Комеди Франсез» во всем блеске своего расцветающего таланта. От спектакля к спектаклю она все лучше играла классические роли: Федру, Андромаху, Дездемону, Заиру, – а потом рискнула выступить в роли Маргариты Готье в современной пьесе – в «Даме с камелиями» Александра Дюма-сына.
На премьере ее засыпали цветами. А знаменитый Виктор Гюго воскликнул:
– Мадемуазель! Вы были очаровательны в своем величии. Вы взволновали меня, старого бойца. Я заплакал. Дарю вам слезу, которую вы исторгли из моей груди, и преклоняюсь перед вами.
И он преподнес Саре браслет с бриллиантом, ограненным в форме слезинки.
Сара обожала бриллианты! Благодаря Маразли у нее уже собралась целая коллекция.
Мадемуазель Бернар прославилась. Ее называли юной королевой парижской сцены! Маразли вспоминал свой девиз и украдкой улыбался.
Неумолимость директора «Комеди Франсез» дала трещину. Молодая актриса получила в этом театре роль – одну, вторую, третью…
Теперь Маразли мог видеть подругу только на сцене. Он возмутился:
– Ты достигла, чего хотела. Не пора ли подумать и о любви?! Обо мне… о ребенке, который у нас может родиться… о том, чтобы…
Он хотел сказать: «О том, чтобы ты стала моей женой!» – но не успел.
– Не родился на свет мужчина, – высокомерно изрекла бывшая «Швабра», – ради которого я изменила бы сцене.
А спустя месяц Маразли заметил: что-то идет не так… Сара отменяла свидания, а когда Маразли появлялся, устраивала скандалы. Его объятия вызывали у нее отвращение. Он сразу понял, что причина не в нем, а в другом мужчине. А поскольку все изменилось после того, как она побывала в Бельгии, очевидно, этот мужчина был бельгиец.
И вскоре Маразли доподлинно узнал, кто это. Молодой герцог Анри де Линь влюбился в актрису с первого взгляда и отправился за ней в Париж. Ходили слухи, что Анри готов отказаться от наследства, чтобы быть рядом с Сарой, а Сара готова отказаться от сцены, чтобы быть рядом с Анри.
Услышав это, Маразли только присвистнул иронически. Он знал свою подругу… она скорее бросит этого мальчика, чем уйдет со сцены. Даже если он не потерпит фиаско в гробу красного дерева!
Но пока брошенным оказался он. Второй раз Григорий Маразли испытал горе потери в Париже, и этот великий город, в который он некогда был влюблен, сделался ему невыносим.
Он немедленно уехал в Россию – и оказался в Одессе как раз в тот день, когда она встречала нового городского голову. Перехватив взгляд Марии Васильевны Воронцовой, Григорий Маразли понял, что у него появилась новая королева.
* * *
Алёна открыла глаза и некоторое время смотрела прямо перед собой, пытаясь понять, где она и что с ней. Такие провалы в памяти иногда случались у нее среди ночи, которую приходилось провести в незнакомом месте. Как правило, ощущение реальности возвращалось быстро. Но сейчас она тупо водила глазами по какой-то странной комнатке овальной формы, с круглыми окошками, очень тесной, с привинченными к полу столиком, креслами и плотно закрытыми встроенными шкафами, из одного из которых лилась тихая музыка… видимо, там находился проигрыватель.
К изумлению Алёны, музыка оказалась знакома ей. Еще бы! Это ведь была танговская музыка, но не классика, а современное электронное танго или танго-нуэво: «Zitarossa» группы «Bajofondo Tango Club». Впрочем, «Zitarossa» появилось уже лет пять назад, так что его вполне можно было тоже называть классикой – классикой нуэво. Вот такой оксюморон!
Как только мысли Алёны повернули в сторону танго и лингвистики, память мгновенно прояснилась, и она поняла, где находится. На яхте с поэтическим названием «Летящее сердце»! Турецкий вариант названия она не вспомнила бы ни за какие коврижки, да и надобности в этом не было.
События, которые предшествовали ее феерическому проникновению на эту яхту, тоже вспомнились.
Алёна покосилась на свое тело и обнаружила, что оно по-прежнему облачено в голубой купальник. Судя по тому, что он был еще сырым, в беспамятстве она провела не так уж много времени. Алёна также обнаружила, что лежит она на махровой простыне, которая постелена на полукруглый диван, занимавший всю длину стены этой довольно странной комнаты.
– Отлично, – раздался голос… знакомый Алёне голос… а потом в поле ее зрения появился высокий мужчина лет сорока, одетый только в шорты.
Это был тот самый мужчина, который вчера на Привозе беседовал с Жорой о бичке, о фронцах, о каком-то гнусавом Доде, о каких-то свадебных колоколах, которые уже почти было зазвенели для него… Этого человека Жора называл Аликом, что ему ужасно не нравилось.
И его же Алёна заметила вчера вечером на милонге. На сей раз он звался Кириллом.
Черт, если бы Алёна не знала совершенно точно, что видит перед собой довольно гнусного типа, вора без чести и совести, Кирилл мог бы ей понравиться. А сейчас о нем можно сказать одно: слишком привлекателен, отлично знает об этом и, по всему видно, привык расточать эту привлекательность направо и налево, совершенно ничего не чувствуя при этом и пользуясь этим, как разменной монетой.
Вон как уставился своими темно-серыми, настороженными глазами, окруженными каймой чрезмерно густых и длинных ресниц, которые куда более уместно смотрелись бы на женском лице, чем на мужском. Конечно, он упивается своей неотразимостью и относится ко всем женщинам с легким – а может, и не очень легким – презрением.
А шуточки насчет его имени вполне понятны. Можно было и вчера догадаться. Кирилл, Кирюха… кирюхами шутливо называют пьяниц, алкоголиков. А иногда их называют аликами. Жора просто-напросто шутил со свойственной ему дубоватостью. И, хоть Алик, в смысле, Кирилл как бы злился, все же, видимо, отношения их с Жорой были весьма дружескими, если в тот же вечер, попав в милицию, он доверил Жоре сопровождать свою даму на милонгу… И сейчас Жора где-то на яхте, Алёна видела его, слышала его голос, когда колыхалась в сетке над палубой. Что же касается дамы…
Насчет дамы тоже все ясно. Вообще Алёне теперь очень многое стало ясно, но главное по-прежнему покрыто тайной, и пока Кирилл сидит напротив и таращится на нее, она ничего не узнает. Как бы спровадить его отсюда? Хотя бы на минуточку? Почти наверняка этот встроенный шкаф, откуда продолжает звучать Bajofondo Tango Club, – тот самый «шкаф с музыкой», о котором говорил Арнольд. И если бы остаться тут одной хоть на минуточку…
– Да вы, я вижу, совсем очнулись, – вдруг сказал Кирилл. – Если женщина начинает уделять такое пристальное внимание окружающей обстановке, значит, пациент скорее жив, чем мертв.
Черт, а он внимателен, оказывается!
– И это хорошо, – продолжал Кирилл. – С живыми незнакомками иметь дело куда приятней, чем с мертвыми. Поскольку вы довольно бесцеремонно оказались на моей яхте, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Самых простых. Например, как вас зовут?
У Алёны чуть не сорвалось с языка, мол, мужчина должен представиться первым, как вдруг она сообразила, что это слишком уж смелая реплика для ее роли. Она рискует погубить свой замысел. Ведь она кто? Она женщина, которая отправилась кататься на аквабайке. А очнулась невесть где! Лежащей на диванчике! В обществе незнакомого и не слишком-то одетого мужчины! Правда, мужчина сидел, и совсем даже не рядом с ней, но все-таки… И первым ощущением приличной женщины должно быть не любопытство, а ужас!
Ну, предположим, Алёна не могла бы, положа руку на сердце, назвать себя вполне приличной женщиной, но Кирилл-то об этом не знает!
Поэтому она еще раз обвела взором каюту – на сей раз взор получился максимально испуганным – и ответила, что зовут ее Алёна, но она вообще ничего не понимает: где она находится и как сюда попала?!
– Вы что, ничего не помните? – недоверчиво спросил Кирилл.
– Почему же… я помню, что мне захотелось покататься, что Роман – это аквабайкер, – сочла нужным пояснить Алёна, потому что в ее восприятии слово «роман» всегда имело три значения: мужское имя, любовные отношения и – это во‑первых! – тот литературный жанр, который она не без успеха разрабатывала, – вез меня очень лихо и наконец мне самой захотелось порулить байком, я стала перебираться на переднее сиденье, но неловко повернулась и сорвалась в воду. Я отчетливо помню, как падала… а потом – ничего. Где я? И где Ромка?
– Он сбежал, когда мы начали поднимать на борт ваше бесчувственное тело, – сообщил Кирилл.
– Как – сбежал?!
– Да так, ударил по газам и смылся.
– Но где я? На какой борт вы меня поднимали?!
– На борт яхты. Вы на яхте. И я совершенно не знаю, что с вами теперь делать.
Алёна уставилась на него с хорошо разыгранным недоумением:
– Как что делать? Наверное, отправить меня на берег.
– Каким образом?
– Не знаю… на какой-нибудь лодке, шлюпке… не знаю!
– У меня на это нет времени. Я уже собирался сняться с якоря, когда был вынужден заняться вашим спасением. Сейчас с вами все отлично. А потому давайте придумаем план, как вас отсюда отправить.
Настороженность Кирилла и стремление как можно скорее избавиться от незваной гостьи были очевидны.
План, главное дело! Да у Алёны даже не было никакого плана, когда она приняла скоропалительное решение попасть на яхту! А уж как отсюда выбраться – тем паче!
«Сняться с якоря он намеревался», – подумала Алёна неприязненно. И увезти перстень диктатора, вернее, перстень Юлия Матвеевича, туда, где его никто и никогда не найдет! Возможно, он вообще намеревался покинуть украинские и российские территориальные воды. Яхта ведь турецкая, принадлежит какому-то турку. И, судя по тому, что Арнольд говорил о Кирилле, он вполне может принадлежать к тому племени les citoyenes du monde, граждан мира, у которых карманы набиты паспортами разных стран, словно карманы сладкоежки – фантиками.
Алёна даже скользнула взглядом по бедрам Кирилла, словно пыталась высмотреть оные пачки паспортов в карманах его шортов. Предполагаемый le citoyen du monde при этом конвульсивно дернулся и весьма агрессивно спросил:
– Ну так что?
– Ах да, извините, – забормотала Алёна слабым голосом, – вы знаете, я так переволновалась, я вообще ничего не соображаю… какой-то кошмар… понимаете, если бы я умела плавать, я бы легко освободила вас от своего присутствия. Но вся беда в том, что плавать я совершенно не умею и просто-напросто утону, оказавшись за бортом.
– На палубе лежит ваш спасательный жилет, – спокойно сказал Кирилл. – Так что авось не утонете. А до берега тут сущие пустяки, меньше километра. И ветер в ту сторону. Как-нибудь додрейфуете потихоньку.
– Нет! – заорала Алёна с искренним ужасом. – Давайте что-нибудь другое придумаем. Пожалуйста!
– Пожалуйста, – весьма любезным эхом отозвался Кирилл. – Придумывайте. Но поскорей, а то…
И он умолк, пересел в кресло, стоящее довольно далеко от Алёны, и принялся постукивать пальцами по подлокотнику.
– Извините, – простонала Алёна, думая только об одном: как остаться в каюте одной. – А нельзя ли мне чего-нибудь выпить… попить…
– Попить или выпить? – уточнил Кирилл, поднимаясь с ленивой мужской грацией… а какая у него еще может быть грация, женская, что ли? «И вообще, что это за затасканные метафоры?» – осудила себя Алёна. Однако движения его были действительно необычайно мягки, ленивы и в то же время исполнены силы, словно у дикого животного…
«Ага, ага, – ехидно сказала Алёна сама себе, – вот если бы речь шла сейчас о романе (имеется в виду, конечно, роман как жанр литературы, ничего более!), то твоя авантюрная и порой не в меру чувственная героиня немедленно втюрилась бы в отрицательного героя и изменила бы герою положительному… во всех смыслах положительному, поскольку она уже лежала с ним в постели. А потом Кир… а потом отрицательный герой, с ее помощью избежавший правосудия, уплыл бы на турецкой яхте с очаровательной блондинкой, ради которой он и пошел, собственно, на преступление… да-да, уплыл бы, а героине, которая рыдала на берегу, осталось бы только летящее в небесах сердце – воздушный шарик… и он вдруг р‑раз! – и лопнул бы, как лопнули все ее надежды…»
Ах, как бы это было красиво, красиво, красиво! Алёна так залюбовалась собственной выдумкой, что на миг выпала из реальности и была возвращена к ней голосом «отрицательного героя»:
– Ну так как? Попить или выпить?
– Ах да, – спохватилась она. – Если можно, попить. Если можно, апельсиновый сок. И если можно… свежевыжатый, конечно.
Алёна мгновенно рассудила, что любой напиток и любая вода, вплоть до «Перье», могут оказаться в этих вместительных шкафах, а вот апельсины и соковыжималка, скорее всего, окажутся в кухне, то есть, пардон, на камбузе, куда Кириллу придется за ними пойти.
– Ну что ж, если уж быть гостеприимным, то во всем, – сказал покорно Кирилл и двинулся к выходу.
Алёна уже приподнялась было, чтобы, не теряя ни мгновения, сразу после его исчезновения ринуться обыскивать «шкаф с музыкой», как вдруг Кирилл повернулся и, глядя куда-то в угол, сказал:
– Жёра, я выйду на чуток, а ты присмотри за нашей гостьей… чтоб ей опять не стало дурно.
– Авжеж, – раздался басовитый голос, и Алёна с ненавистью подумала, что это слово слишком часто употребляется в Одессе, и ей безумно надоело слышать его снова и снова.
Быкоподобный Жора вылез из глубокого кресла, которого Алёне не было видно с дивана, и перебрался туда, где до этого сидел Кирилл, то есть сел напротив нее.
В этой ситуации шансов осмотреть шкаф у нашей героини имелось примерно столько же, сколько прямо сейчас оказаться в Нижнем Горьком, в собственной квартире на улице Ижорской. Жора не просто «присматривал» за Алёной – он смотрел на нее, не сводя глаз. Фигурально выражаясь, он воткнул свои маленькие глазки в нее – да так и не вынимал их, словно гвоздями приколотил.
– Что вы так на меня уставились? – наконец спросила неприязненно Алёна. – Боитесь, что-нибудь сопру и выскочу в иллюминатор, что ли?
– Чтоб ты выскочила в иллюминатор – ничего не имею против, – хмыкнул Жора. – А вот насчет спереть… Даже если и захочешь, ничего не выйдет. Придушу раньше, чем ты рыпнешься.
Алёна даже отпрянула. Нет, не столько Жорина грубость откровенная поразила ее, сколько еще более откровенные злоба, ненависть и презрение, звучавшие в каждом звуке, издаваемом Жорой.
– Слушайте, – пробормотала она растерянно, – вы почему так со мной разговариваете? Вы меня первый раз видите, вы меня совершенно не знаете…
– Ну, нашёт того, шё я тебя в первый раз вижу, так это ты зря, – с той же отвратительной интонацией сказал Жора. – И ничего знать про тебя не знаю? Ха! Да с меня достаточно, шё ты с тем гнусавым козлитоном таскаешься.
– Что?! – задохнулась Алёна.
– Шё, шё! – передразнил Жора. – Скажешь, нет? Ты у него постельная принадлежность, у этого кошкодава, или в шпиёнках состоишь за бабки?
– Что?! – снова пробормотала совершенно потрясенная Алёна.
– Да шё ты, как овца, блеешь, будто не понимаешь, шё тебе говорится? – рявкнул Жора. – Я тебя еще на Привозе вчера засек, когда ты за нами с Аликом шпиёнила! Ну и шё ты там наслушалась? Уже донесла гнуснюку, шё я о нем говорил? Авжеж! Я даже знаю, когда ты это сделала! Там, на Лонжероновской, когда на вас какой-то чокнутый бабайкер наехал.
– Чокнутый бабайкер?! – расхохоталась Алёна. – Прелесть какая! Какой-то, главное! Можно подумать, вы его не знаете!
– А с каких щей я должен его знать? – настороженно уставился на нее Жора. – Это тебе твой гнусавый Арнольдик так сказал?
– Слушайте, почему вы постоянно называете Арнольда гнусавым? – не выдержала Алёна. – Впрочем, возможно, у нас разные понятия о том, что вообще такое гнусавость? По-моему, это как раз вы ужасно гнусавите.
– Ну, это по-твоему, – небрежно отмахнулся Жора. – А по правде, твой хахаль с детства гунявым был. Только два года назад раскошелился на операцию своего шнобеля и завякал более-менее членораздельно.
– Ну, вы так говорите, будто улучшить свой речевой аппарат – это уголовное преступление или что-то постыдное, – зло сказала Алёна.
– Не, не постыдное, – покладисто кивнул Жора. – Постыдно так лизаться и тискаться со всякой чмой, как ты с Арнольдиком лизалась и тискалась.
– Что? – прошипела Алёна, приподнимаясь. – Ах ты…
Дверь распахнулась и вошел Кирилл, держа поднос. На подносе стояли пузатый графин, почти полный апельсинового сока с плавающими в нем кубиками льда, и три стакана.
– Извольте, – с холодноватой вежливостью изрек Кирилл. – Жора, мы тоже выпьем. Вернее, попьем.
Он разлил сок по стаканам и спросил с явной надеждой в голосе:
– Ну что? Придумали, как вернуться в цивилизованный мир?
И, хотя Алёна до сей минуты об этом даже не думала, она вдруг поняла, как это сделать: надо позвонить на рятувальную станцию. Ведь один из ее номеров почти с точностью схож с телефоном Егора Рыжова, который она отлично помнит. Конечно, мобильник остался в сумке на берегу, но можно не сомневаться: для того чтобы избавиться от внезапной гостьи, Кирилл позволит позвонить со своего телефона.
Да, все прекрасно, но это означает, что обыск здешних тайников откладывается на неопределенное время. Вернее, навсегда. А пока она находится на яхте, есть еще хотя бы призрачный шанс. И поэтому Алёна, с тщательно скрываемым злорадством, напялила маску отчаяния и простонала между двумя глотками восхитительного, живительного сока:
– Нет! Ничего не приходит в голову!
– Конечно, – усмехнулся Кирилл и как-то очень по-свойски похлопал ее по голому плечу. – Но не волнуйтесь так. Выход найден. Я уже узнал в справочной телефон спасательной службы Лонжероновского пляжа, сейчас туда позвоню – и попрошу их прибыть за вами. Хорошая идея?
Он обернулся к Жоре с выражением неприкрытого триумфа на лице, явно ожидая горячего одобрения, но Жорина физиономия кисло сморщилась:
– Зря ты это делаешь, Алик. Я ж тебе говорил, что это Арнольдова шлюшка и она тут…
Алёна вообще была натурой импульсивной, а при прямых и незаслуженных оскорблениях ей вообще удержу не было. А потому недопитый сок оказался немедленно выплеснут в Жорину багровую физиономию.
– Ах ты ж! – вызверился Жора, срываясь с места, но Кирилл, сидевший между ним и Алёной, проворно вытянул сильную загорелую ногу и этим шлагбаумом преградил Жоре путь, да так эффектно, что его колено врезалось Жоре в живот и заставило резко покачнуться.
– Ты шё, Алик?! – возопил Жора возмущенно. – Ты шё ногами машешь?! Да это ж Арнольдикова баба! Да он же со своими блатняками тебя в каталажку почти затолкал! Да он же готов запросто…
– На что способен Арнольдик, я и сам знаю, – сказал Кирилл. – Еще с тех пор, как он свой диплом защищал. Но поскольку перед нами какая-никакая, а все-таки дама…
Он произнес это с таким презрением, что стакан снова качнулся в руке Алёны, на сей раз в сторону Кирилла, но, поскольку он был уже пуст, ничего более не произошло.
– Бить ей морду будет как-то не по-одесски, не по-джентльменски, – продолжал Кирилл. – Поэтому мы отправим ее восвояси невредимой, независимо от того, нечаянно она к нам проникла или нарочно.
– Нарочно?! – фыркнула Алёна с нескрываемой яростью.
Ярость была вызвана просто кошмарной догадливостью Кирилла.
– Нарочно, нарочно! – азартно завопил Жора. – Ну, шё? Мож, все ж кинем ее за борт? В набежавшую волну? Без жилетки?
И он злорадно заржал.
– Ага, и камень к ногам, – с ненавистью добавила Алёна.
– На моей совести и так грехов довольно, – отмахнулся Кирилл. – Поэтому я просто позвоню сейчас на станцию – и, думаю, племянничек немедленно примчится за дядюшкиной зазнобой.
– Какой племянничек? – хором спросили Алёна и Жора, с ненавистью переглянулись – и снова спросили хором:
– Чей племянничек?
– Долго репетировали? – захохотал Кирилл. И тут же посерьезнел: – Я парня не сразу узнал, только недавно вспомнил, когда мы с Лорой сок делали. Она его видела с Арнольдом, говорит – знакомое лицо, и я вспомнил. Ромка его зовут, верно?
Алёна молча смотрела на него, не в силах справиться с удивлением.
Ромка – племянник Арнольда? А почему ей не сказали? Ромка был представлен просто как спасатель с Лонжерона.
А впрочем, там, на Дерибасовской, когда они знакомились, она была всего лишь случайной спутницей Арнольда. Стоило ли посвящать ее в подробности семейных отношений? Это ведь не имело никакого значения! А Ромка молчал об этом потому, что не знал, как далеко зашли ее отношения с Арнольдом.
Да и ладно, зашли и зашли, подумаешь! Не так уж и далеко, если посмотреть на ситуацию беспристрастно.
Лора, значит, вспомнила Ромку… А не вспомнила ли она, случайно, что Алёна живет в одном отеле с ней, что позапрошлую ночь провела в ее номере и прочла эсэмэски в ее забытом телефоне?
Если Алёна узнала ее, то и она, конечно, узнала Алёну, эта блондинка. Та самая знаменитая Лора, которая пожелала царицыны черевички, в смысле, перстень диктатора, – и толкнула своего возлюбленного на преступление. На милонге она была совершенно иначе причесана, сильно накрашена, вот Алёна ее и не признала в полутьме танцевального дворика. На яхте-то, с распущенными волосами, без маякияжа, едва одетая, она выглядит так же, как там, в отеле, когда гладила свое золотистое платье, но начала подслушивать ссору Алёны и Оксаны – и нечаянно прожгла его. То-то на подошве утюга оставался обгорелый комочек! Вот и секрет того, что черно-серебристое платье, в котором она танцевала на милонге, не подходило к золотым туфлям.
Все очень просто. А мир чертовски тесен, однако!
Эсэмэски на ту «Нокию» отправлял, разумеется, Кирилл. Видимо, ждал ее утреннего приезда, ну и в нетерпении…
Странно только, что отправлял он эсэмэски на одесский номер, на забытый телефон, а не на тот, который был у Лоры с собой. Трудно поверить, что у него не было другого номера! Может быть, конечно, Кирилл решил, что Лора уже в Одессе? Ну нет, он бы не мог ее не встретить, он провел бы с ней ночь, а не эсэмэски присылал.
А ведь фамилия Лоры – Зорбала. И что там говорила Танютка: не отель, а бордель, Зорбала такое вытворяет…
А не приехала ли она все же вечером и не проводила ли время с кем-то другим, а? Это многое объясняет…
Может, сказать сейчас об этом Кириллу?
Хотя нет, это может быть ошибкой. И вообще – ябедничать нехорошо. Да и стоит ли об этой ерунде думать?! Сейчас Кирилл позвонит на станцию, и примчится Ромка… и станет ясно, что вся затея напрасна, Алёна только зря засветилась перед этой опасной публикой.
Нет, у Алёны еще есть время, она пока еще на яхте! Что бы такое придумать, как бы хоть на пять минут остаться в каюте одной?!
Между тем Кирилл вынул из кармана айфон – и вдруг раздался звонок. Внушительно-модный айфон сигналил очень обыкновенно – как старинный телефон, даже с дребезгом.
– Что, Лорик? – спросил Кирилл. – Что?! Да что ты говоришь?! Ха! Ну, это очень упрощает дело. Да, мы сейчас поднимемся.
Он спрятал айфон, смеясь:
– Нет, вы можете вообразить такой финт? За вами приехал этот мальчишка, байкер.
Алёна растерянно моргнула. Какой еще байкер за ней приехал?
И только теперь поняла, что речь идет о Ромке. Об аквабайкере! Чокнутый бабайкер, как назвал его Жора…
Алёна подавила разочарованный вздох. Ну не черт ли его принес, а? Может быть, если бы у нее было еще несколько минут, она смогла бы…
Да нет, она прекрасно понимала, что чудес не бывает, это все-таки жизнь, а не детективный роман, где все всегда удается каким-то немыслимым образом. В «шкаф с музыкой» ей «шнобель не сунуть» ни под каким предлогом.
Они вышли в узенький коридорчик. Впереди, буквально через два шага, виднелась неудобная лесенка, ведущая в люк наверху. Наверное, ее следовало называть трапом, но Алёне сейчас было не до пуризма в морской терминологии. Один вопрос вдруг заинтересовал ее столь же сильно, как местонахождение перстня… и, хоть он был совершенно некорректным и несвоевременным, она не могла удержаться, чтобы не задать его – вернее, он сам с языка соскочил:
– Кто меня сюда принес?
– Черт, – буркнул Жора.
– Я имею в виду, сюда, в каюту, – холодно пояснила Алёна, показав на дверь, из которой они только что вышли.
Наступило молчание. Алёна покосилась на Жору. Его физиономия просто-таки кричала: «Да мне до тебя и дотронуться-то противно!» Тогда, получается…
– Ну, я, – настороженно сказал Кирилл. – А что?
– Да ничего, – пожала плечами Алёна. – Просто я вас не поблагодарила. Вы вполне могли меня на палубе оставить, а не надрываться.
– И правильно бы сделал, – буркнул Жора и, обойдя их, проворно заработал босыми ногами по ступенькам, поднимаясь и исчезая из виду.
– Да я не так уж и надрывался, – хмыкнул Кирилл, берясь за перила, но не поднимаясь по лестнице. – Вы совсем не тяжелая.
– Ну, шестьдесят пять кэгэ – это не так уж мало! – возразила Алёна, сама не зная, зачем это сказала.
Выражение лица у Кирилла было замкнутое, ему явно не доставляло удовольствия ее слушать и совершенно непохоже было, что ему вдруг взбредет в голову вернуться в каюту, а главное – предоставить Алёне возможность осмотреть ее, но наша героиня не унималась и говорила, и говорила:
– И вообще, я была мокрая-мокрая, противная такая…
– Да ничего, мне случалось делать и более противные вещи, – резко оборвал Кирилл. – А вы к чему эту тюльку гоните? Что хотите из меня вытянуть? Где спрятан перстень Батмана? Но я его не крал. Ясно? Поэтому не знаю, где он находится. Так что пытаться обыскать мою яхту – это была глупая во всех отношениях затея. Во‑первых, неосуществимая, во‑вторых, зряшная.
Алёна даже отпрянула, подавляя искушение немедленно броситься искать какое-нибудь зеркало. Неужели у нее что-то написано на лбу насчет ее замыслов? Иначе как Кирилл мог угадать их так безошибочно?! Или он просто догадался потому, что ее видели рядом с Арнольдом, который идет по его следу?
– Что, в точку попал? – хвастливо спросил Кирилл, явно наслаждаясь ее растерянностью. – Не только же детективщицам такими хитренькими быть, мы тоже кое на что способны.
– Каким детективщицам? – с запинкой спросила Алёна, чувствуя, что ужасно краснеет.
– Да таким, – кивком указал на нее Кирилл. – Вы ведь Алёна Дмитриева, писательница, верно?
В голосе его звучало такое презрение, словно Алёна Дмитриева работорговлей занималась, по меньшей мере!
– Откуда вы знаете? – спросила она с вызовом. – Только не говорите мне, что вы читаете дамские детективы!
– Да боже сохрани! – отмахнулся Кирилл. – Просто одна знакомая вас признала. Говорит, кропаете свои детективчики со страшной скоростью, а в виде главной героини сама себя описываете со всеми любовниками, приключениями, причудами своими дурацкими…
Отчетливое ощущение дежавю пронзило – ну просто пронзило, другого слова не подберешь! – Алёну.
– Знакомая? – тупо переспросила она, ощутив вдруг слабость в коленях. И руки почему-то начали дрожать, а в голове какой-то звон пошел…
– Эй, вы что так побледнели? – встревоженно спросил Кирилл, не сводя с нее глаз. – Неужели намерены снова в обморок брякнуться? Нет, хватит, это у нас уже было! Не стоит повторяться!
И, подхватив Алёну, он буквально вытолкал ее из люка на палубу, крикнув:
– Жёра, прими груз!
– Шё? – наклонился сверху Жора, но сделал это не вовремя: голова поднимавшейся Алёны пришлась ему точнехонько под дых, и он, согнувшись, захрипел:
– Да шё ж вы робите?
Алёне на свежем воздухе мигом стало легче, в ушах перестало звенеть, и она расслышала женский смех. Обернулась, но увидела только край белого парео, исчезающий за рубкой. И больше ничего.
– Знако-омая, – протянула Алёна сквозь зубы. – Интересно…
– Алёна! – раздался крик. – Я здесь!
Она подошла к борту. Ромка качался на аквабайке внизу, махал рукой.
– Что ж ты, парень, девушку бросил и удрал? – язвительно спросил Кирилл. – А вдруг бы мы тут ею попользовались, как морской бесхозной добычей? Твое счастье, что мы сплошь жильтльмены и частично леди!
– Да у меня горючее кончилось, – развел руками Ромка. – Я решил быстренько сгонять заправиться.
– Ничего себе быстренько, – прокомментировал очухавшийся Жора.
– Да ладно, всяко финита ля комедия, – нетерпеливо отмахнулся Кирилл. – Забирай товар, контрабандист.
– Как же вы спуститесь, Алёна? – спросил Ромка озабоченно.
– По такому случаю готов проявить очередную порцию галантности и спустить ее в воду в сетке, – предложил Кирилл, не глядя на Алёну, словно она была каким-то неодушевленным предметом. – Как и поднимал.
– Как рибу, – ехидно добавил Жора.
Всякое терпение имеет предел, всякая выдержка – тоже.
– Спасибо, не стоит беспокоиться, – бросила, не оборачиваясь, Алёна, перенесла ногу через ограждение палубы, потом вторую, побалансировала секунду – и столбиком прыгнула вниз.
Она была в таком шоке, что даже не успела испугаться. Ледяное море схватило ее, стиснуло, вышибло дыхание – но тут же само начало выталкивать…
Что-то вцепилось в Алёнины вскинутые вверх руки, потащило, вытянуло. Ромкины черные глаза словно выцвели от испуга и стали просто карими, выцвел и загар, теперь парень был ужасно бледен. Он соскользнул в воду и помог Алёне взобраться на байк. Влез сам, сел сзади, держась за рукояти управления и придерживая Алёну. Она, если честно, мало что соображала.
– Эй! – заорал сверху Жора. – Жилетку заберите! Нам чужого не надо!
И рядом с байком закачался на волнах сине-желтый спасательный жилет.
Алёна подняла голову. Кирилл перегнулся через борт и смотрел на нее. Поймал ее взгляд – и резко выпрямился, отвернулся, отошел от борта.
– Поехали, – сквозь зубы сказала Алёна.
Ромка наклонился, выловил жилет. Алёна кое-как нахлобучила его. Руки у нее тряслись.
Ромка дал газ. Аквабайк неспешно затрюхал по волнам.
Алёна пожалела, что не сидит сзади Ромки. Можно было бы уткнуться в его спину и дать волю слезам. А впрочем, из-за брызг ее слез и так не было видно. Да и кому до них было дело?
* * *
Вдруг Делафар узнал эту женщину. И вжался в спинку кресла поглубже, заслонился газетой, стараясь сделаться незаметным.
Ничего глупее этой ситуации и придумать было нельзя!
– Э‑э, – растерянно промямлил портье, – э‑э, мадам… мадемуазель… да, господин губернатор в отеле, но он… у него совещание с…
– С девками! – взвизгнула блондинка. – Я знаю! И я не намерена это терпеть! Я положу этому конец! В каком он номере?
– Я не уполномочен, – словно глуповатый амбассадор из водевиля «Провал любовной миссии», который с большим успехом шел в это время в Одессе, провозгласил портье, тщась обрести достоинство, – не уполномочен сообщать приватные сведения о господине губернаторе первым встречным дамам.
– Что?! – не то взвизгнула, не то прорычала дама. – Это кто тут тебе, негодяй, первая встречная?! Это я – первая встречная?!
Делафар усмехнулся за «Одесским листком».
Лидия Липковская, актриса театра оперетты, была почти официальной любовницей Гришина-Алмазова. Об этой связи знали все – не потому, что ее афишировал губернатор, а потому, что ею страшно кичилась Лидия.
И тут же Делафар с досадой покачал головой. Смешно-то оно смешно… Однако если эту дамочку сейчас не выставят вон, она может очень сильно помешать своей скандальностью и чисто-театральной страстью к истерикам.
В это время какой-то человек в черной черкеске с газырями вышел из-за огромных фикусов, которыми был уставлен дальний угол вестибюля, и преградил Липковской путь к лестнице, а второй, похожий на первого, словно близнец, стремительно взлетел вверх по ступенькам. Делафар озадаченно нахмурился: странно… ведь он был убежден, что в холле никого, кроме портье и швейцара, ну и его самого, он нарочно осмотрел все, заглянул и за фикусы… откуда же взялись эти двое?! И сколько там их еще прячется?!
Его вдруг бросило в холодный пот. Что, если бы она уже появилась и… А тут, оказывается…
По лестнице раздались быстрые шаги, и в холле появился Гришин-Алмазов в сопровождении нескольких смуглых людей в черкесках. Это была знаменитая охрана губернатора – татары. Никто не знал, откуда они взялись, но все они принесли на Коране присягу защищать Гришина-Алмазова. И все время, пока он был у власти, за ним неотступно, прямо за спиной, шел татарин с винтовкой, который убил бы всякого, кто покушался на Гришина-Алмазова. Иногда татар было двое. Сейчас их спустилось пятеро. И все вооружены. И неизвестно, сколько их за фикусами. А возможно, и на улице…
Делафара бросало то в жар, то в холод. Какое счастье, что она опаздывает. Если бы она сейчас пришла и увидела всех этих людей… увидела, что Делафар неправильно сообщил ей о том, кто сегодня сопровождает Гришина-Алмазова в «Бристоль»… не двое охранников, а целый кортеж, оказывается… Ему не помогли бы никакие оправдания.
Она была жестока. Непреклонна и очень жестока.
«Если она сейчас придет, скажу, что диктатор внезапно вызвал охрану, – поспешно обдумывал Делафар, как будет оправдываться. – Пришел только с двумя татарами, а остальных вызвал потом. По телефону. Скажу, что если бы она пришла вовремя, нам бы, может быть, удалось… Поверит она? Нет? Неизвестно… Ее обмануть трудно… Ну что ж, что не поверит, а проверить-то никак нельзя! И не убьют же они меня, я им нужен, я им нужен, у них никого, кроме меня, нет в штабе французского командования…»
Тем временем в вестибюле «Бристоля» разгорелся нешуточный скандал.
Спустившись и увидев Лидию Липковскую, Гришин-Алмазов приостановился. Его резкое, неприветливое лицо стало вообще ледяным.
– Что вы здесь делаете, сударыня? – спросил он угрюмо.
Лидия ожесточенно прищурилась, вмиг потеряв свою фарфоровую, кукольную красоту:
– Это я должна спросить, что вы здесь делаете! Я ждала вас у себя… я была уверена, что вы сочтете нужным прийти и извиниться за те обиды, которые я терплю от вас, за ваше пренебрежение! И вдруг я узнала, что вы отправились в «Бристоль»! Здесь остановилась… эта…
– Молчите! – процедил Гришин-Алмазов.
Но унять Липковскую было очень непросто, она тараторила с такой скоростью, что губернатор просто не успевал слово вставить:
– Этот аппарат, который вы установили в отдельной комнате и который непрестанно показывал вам фильмы с ее участием… я зашла в эту комнату случайно и сразу все поняла! Вы поклоняетесь ей, как идолу! Вы голову из-за нее потеряли! И…
Ее безумно расширенные глаза вдруг соскользнули с лица Гришина-Алмазова на его руку, и Лидия с визгом воскликнула:
– А где ваш перстень? Неужели вы… ей…
Она, казалось, потеряла дар речи от ярости, и Гришин-Амазов не замедлил этим воспользоваться.
Охранники уже давно ждали его знака, и теперь, стоило ему только мигнуть, как они бросились вперед, схватили Липковскую под руки и выволокли за дверь «Бристоля» – швейцар едва успел отскочить, не то, конечно, был бы сбит наземь широкоплечими татарами.
– Отвезите даму на ее квартиру, и пусть автомобиль вернется за мной, – сказал Гришин-Алмазов словно бы в никуда, но как минимум пять рук взлетело к папахам в знак того, что его приказ услышан и будет исполнен.
Через минуту настала тишина.
Делафар решился наконец выглянуть из-за газеты – и чуть не упал со стула, увидев, что одесский диктатор смотрит на него в упор. На лице его играл яростный румянец… Делафар отчетливо представил себе, как эта рука с длинными пальцами – у Гришина-Алмазова были пальцы удивительной красоты, которым мог позавидовать любой пианист! – выхватывает из кобуры револьвер.
«О каком перстне она говорила?» – мелькнула мысль, которая в это мгновение показалась ужасно глупой.
– А, это вы… – процедил диктатор, видимо, узнав Делафара. – Что вы тут делали за этой газетой?
И глаза его сузились, внезапно став похожими на прорези прицела.
– Я, – панически вздохнул Делафар, – я спал… я уснул… сидел и уснул…
Брови Гришина-Алмазова чуть приподнялись, но безумие ушло из глаз.
– Понятно, – сказал он, кивнув. – Вы спали… подчеркиваю, спали. И ничего не слышали. Подчеркиваю – ничего.
«Подчеркиваю – не слышали», – чуть не брякнул Делафар, но благоразумно прикусил язык.
Губернатор ушел.
Вестибюль опустел. Однако Делафару теперь казалось, что глаза невидимых наблюдателей так и сверлят его.
Он больше не мог здесь оставаться и поспешно вышел на Пушкинскую.
Немного постоял, утихомиривая бешено бьющееся сердце. Страх уходил. Трезво работал его холодный мозг, оценивая то, что стало известно сегодня.
Два слова вспыхивали в мозгу: цветы… перстень… перстень… цветы…
Вроде бы мелочи, но…
Делафар в глубокой задумчивости побрел по Пушкинской. Оглянулся… Бесподобно-прекрасный, помпезно-роскошный «Бристоль», который всегда напоминал ему красивейшие здания Парижа, уже скрылся в густой, сырой тьме, пахнущей морем.
– Bon soir, – вдруг шепнул кто-то над самым его ухом.
* * *
Постепенно Алёна пришла в себя, а когда они причалили, слезы уже высохли вместе с брызгами морской воды. Она даже смогла улыбнуться Ромке, когда он подал ей руку, чтобы сойти с аквабайка.
– Что это было? – спросил он в полном недоумении. – Что вы затеяли? Зачем? Я когда Арнольду позвонил, он меня чуть не сожрал по телефону. И велел немедленно возвращаться и вас забрать.
– А что же он сам не приехал? – спросила Алёна. – Если уж так забеспокоился?
– Он просил сказать, чтоб вы его обязательно подождали здесь, на Лонжероне. Он приедет, конечно, приедет. Просто сейчас какие-то срочные дела… насчет каких-то копий какой-то ювелирки, я не понял. Да еще у него какой-то родственник умирает или знакомый, я точно не знаю. Хлопот полон рот.
– Но его родственник – это и твой родственник, правда? – невесело посмотрела на него Алёна. – Ты же племянник Арнольда? Или нет?
– Да как сказать, – безразлично пожал плечами Ромка. – Я племянник не столько Арнольда, сколько его бывшей жены. Она сейчас в Америке живет. На фотках та-акая… ну просто супермодель, с ума сойти. С белыми волосами и бюстом умопомрачительным, вроде как у той блондинки с яхты. Они только поженились – лет пятнадцать назад, я еще вообще пешком под стол ходил, – а у Арнольда как-то дела не ладились, ну, а ей внезапно подвернулся какой-то богатый америкос, она Арнольда бросила, за этого пиндоса выскочила и укатила с ним в Штаты. С тех пор о ней никто ничего не знает, ни моя мама, ни бабушка. Она даже им не писала, вы это представляете?! Главное, мы как раз вчера только с мамой про нее вспоминали. Я вечером был у своих, в Аккермане, хотел в ночь вернуться, мне ж с утра на работу, а мама говорит: «Сегодня у Лельки день рождения, давай хоть за нее выпьем, если ее с нами нет». Ну, мы и посидели с родителями, я только сегодня примчался, еле успел к открытию пляжа.
– Да? – проговорила Алёна задумчиво. – А мне Арнольд не говорил, что был женат…
Она изо всех сил старалась, чтобы голос звучал равнодушно, но не была уверена, что ей это удалось.
– Да не берите в голову! – всполошился Ромка. – Это давняя история, я ж говорю. Там все давно окончено, Арнольд о ней и не думает… Я точно знаю, мы ж постоянно общаемся. Он заботливый, помог мне с Аккермана уехать, в Одессе устроиться, в строительный поступить, комнату на Софиевской мне снял, сам за нее платит… Он классный! Не, даже не думайте про Лельку, это такая хня! Не о чем беспокоиться!
– Совершенно верно, – кивнула Алёна. И не покривила душой. Она искренне считала, что бывшая жена Арнольда совершенно не стоит ее беспокойства. Для беспокойства имелись более серьезные основания. И куда более современные.
– Ну ладно, я пойду, – сказала Алёна. – У меня тоже дела есть.
– Но Арнольд же велел, чтобы вы его подождали! – схватил ее за руку Ромка.
– Ах да, – кивнула Алёна. – Конечно, подожду. Я еще позагораю. Только сумку заберу.
Они направились к спасательной станции, около которой нетерпеливо щебетала стайка весьма условно одетых хорошеньких девчат.
Сашко, поигрывая бицепсами, сурово прикрикнул:
– Ромка, кончай волынить! Клиентура сохнет!
Алёна взяла свою сумку, понаблюдала, как Ромка и Сашко рассаживают красоток на два байка и отчаливают, убедилась, что обоим ихтиандрам совершенно не до нее, и поспешно пошла с пляжа.
Ноги все еще дрожали, надо было поесть. Отовсюду дразняще пахло шашлыками, но Алёне не хотелось задерживаться на пляже, а потому она нашла в себе силы взобраться по довольно крутой лестнице, усыпанной соцветьями желтой акации и раздавленной шелковицей, на обрыв, потом прошла по-над морем вдоль чего-то вроде каменной крепостной стены – на табличке было написано, что это Карантинная стена, ограждавшая в былые времена Карантинную гавань, где отстаивались суда, пришедшие в Одессу, чтобы не завезти в город какую-нибудь иностранную заразу, – все ноги перемазала в шелковице, надышалась неудержимо желтеющей, пожухлой, одуряюще пахнущей травой, а потом вдруг оказалась на углу неширокой улицы, одну сторону которой являл из себя парк Шевченко, а вторая была застроена зданиями, хоть и изрядно обветшавшими, но настолько красивыми и гармоничными, что Алёна снова вспомнила о Париже. Она подошла к одному из домов – серому, великолепному, в стиле модерн конца XIX – начала XX века, с фасадом, украшенным полукруглыми балконами и – на самом верху – барельефом женской головы с петлей на шее, – и прочитала название улицы. Вернее, улиц, поскольку дом стоял на углу.
С одной стороны было написано: «Переулок Нахимова (Барятинского)». С другой стороны – «Улица Маразлиевская».
Маразли… великая персона Одессы!
Как ни странно, Алёнино взбудораженное настроение от быстрой ходьбы начало возвращаться в обычное свое состояние: философско-изыскательское.
В ту минуту, когда она уже почти успокоилась, вдруг зазвонил телефон.
Алёна достала его из сумки и увидела извещения о четырех неотвеченных вызовах. На дисплее высвечивался номер Егора Рыжова.
Боже ты мой… Она совершенно забыла про Егора, про Москву, про МИГа, про все на свете!
– Алло?
– Слушай, я тебе иззвонился весь! – сердито сказал Егор. – Куда ты подевалась? Моя вот-вот вернется, и мы уедем. Тебе нужно знать про этого МИГа или нет?
– Извини, я… чуть не утонула, – вскользь пояснила Алёна. – Но это ничего. Ты нашел МИГа? Правда?
– А то, – небрежно отозвался Егор. – Причем легко и просто. Его зовут Михаил Игоревич Грибов. Я не зря думал, что где-то эту аббревиатуру слышал. Просто двадцать лет назад было очень известное дело с хищением музейных драгоценностей, копии которых делал этот Грибов. О нем даже упоминается в учебнике по истории громких преступлений в России. Это практически настольная книга детективов! Но тогда у Грибова еще не было своего клейма, он копировал государственные. Он отбыл срок и вернулся, завязал с прошлым и продолжает работу, но теперь на всех его изделиях стоит крупное, откровенное клеймо – «МИГ». И еще маленькая «к». Он как будто всем теперь заявляет: я делаю копии, только копии.
– Очень интересно, – тихо сказала Алёна. – Про букву к я не знала. Наверное, он мне про нее просто не сказал…
– Кто? – удивился Егор.
– Это не важно, – быстро проговорила Алёна. – А ты спросил насчет перстня с хиастолитом?
– Спросил, конечно, – чуть ли не возмущенно ответил Егор. – Как я мог не спросить? Грибов отлично помнит этого человека. Он появился в конце апреля с целой папкой фотографий и очень тщательных обмеров этой вещи. Заказал копию, оплатил сразу всю работу, которую просил выполнить срочно. Грибову перстень очень понравился, он нашел два хиастолита, на выбор, и предлагал сделать копию в золоте, но заказчик отказался: он хотел именно в анодированном металле. Правда, очень тщательно выбирал оттенок, который вещь примет после анодирования, а также металл. Копия должна была быть неотличима на вид и весить ровно столько, сколько оригинал.
– Как заказчик выглядел? – прошелестела Алёна, вдруг охрипнув.
– Ну, Грибов говорит, это был очень привлекательный высокий мужчина в соломенной шляпе и соломенно-желтом костюме. Да фиг ли тебе в его внешности, если он оставил свою визитку?
– Ну! – выдохнула Алёна. – И как его зовут?
– Его зовут Кирилл Андреевич Москвитин… Что ты говоришь?
– Ни… ничего, – слабо пискнула Алёна.
– А то мне показалось… Телефон нужен? Тогда записывай.
– Записываю, – хрипло выдавила Алёна и, достав ручку, нацарапала в блокноте: +3 048 550 10 10.
– А ты что хрипишь? – спросил Егор. – Перекупалась, что ли? Погоди, ты говорила, что чуть не утонула?! Или мне послышалось?
– Да нет, не послышалось, но это ничего. Спасибо тебе, дорогой коллега.
– Алёна… – мягко проговорил Егор, – у меня такое ощущение, что мои сведения тебя ужасно расстроили. Это так?
– Да почему? – вздохнула она. – Ты подтвердил то, что я и так знала. Чудес не бывает. Спасибо тебе. Буду рада помочь ответно. Так что обращайся, если что. Слушай… а тот ювелир, он не описывал внешность подробней… да нет, это ерунда! Спасибо, Егор! До связи!
И она решительно отключилась.
Затем набрала записанный номер… и только покачала головой, когда на дисплее показалась надпись: «Номер занят. Повторный набор». Она ждала минут пять, но так и не дождалась ответа, абонент с кем-то упорно разговаривал и разговаривал.
А впрочем, о чем ей с ним говорить? В самом деле – чудес не бывает.
Алёна нажала на сброс и присела на скамейку, грустно глядя на табличку с названием улицы Маразлиевской.
Вообще нужно было, конечно, позвонить Арнольду и сообщить о том, что выяснил Егор. Но позвонить Арнольду Алёна не могла, потому что по-прежнему не знала его телефона. Какой-то заколдованный круг!
Конечно, вполне возможно, Арнольд уже на Лонжероне, ищет ее. И если она позвонит на спасательную станцию Ромке, то сможет связаться с его дядюшкой.
Но пока не хотелось. Она так странно себя чувствовала…
Но почему? Из-за чего это ощущение потери, ну из-за чего?! Только из-за сходства двух фраз, не более. Нет, еще из-за того, что брякнул, сам того не зная, Ромка.
Чепуха, случайность? Совпадение? Двойная игра? Рассчитанный обман? Да? Нет?
Неведомо. Одно ясно: то, что произошло вчера, не может повториться до тех пор, пока Алёна этого ответа не найдет. Пусть у нее паранойя, пусть она ревнивая дура, но…
Но понятно: ей пока лучше держаться подальше от Арнольда.
Пусть подумает, что она испугалась авантюры, в которую вмешалась. Да пусть подумает все, что угодно! Главное, пока не встречаться с ним.
А может, совсем уехать из Одессы? Правда что! Плюнуть на все – и уехать. Если она так испереживалась из-за какой-то ерунды, то что будет, если начнут открываться совсем уж душераздирающие тайны? И что, если эти тайны окажутся опасными?
Ну, значит, окажутся. Не привыкать стать. Из Одессы она никуда не уедет. Сегодня очередная милонга – где-то на Пироговской, в Доме офицеров. Завтра с утра у Алёны индивид с аргентинским преподом. Вечером опять милонга. Неохота уезжать-то! А охота… охота все поставить на места.
Все же Дева есть Дева.
Мимо медленно, выжидающе проехало такси. Водила сигналил из окошка и глазами, и улыбкой, и всеми фибрами души. Однако Алёне хотелось прогуляться. Какой-то добродушный старикан, у которого она спросила дорогу, рассказал, придерживая на поводке веселую, очень ухоженную дворняжку, что, если свернуть за угол, можно в два счета выйти на Греческую, а уж оттуда до Дерибасовской она знала, как добраться.
И Алёна пошла… дорога заняла, однако, не два счета, а около часу, потому что она не торопилась, ей хотелось обо всем хорошенько и спокойно подумать, и к тому времени, когда она своим ключом открыла дверь гостиничного подъезда, весь перечень вопросов, которые нужно будет задать разным людям, выстроился в голове, и ей уже не терпелось начать их задавать.
* * *
Человек, которому Алена звонила, и в самом деле не мог ответить: он был занят другим разговором. Разговор этот длился чуть не полчаса и носил самый невероятный характер – настолько невероятный, что этот человек, даже согласившись вступить в предложенную ему игру, еще не вполне верил тому, что слышал, и все искал в этом какой-то подвох.
Он мельком взглянул на сообщение о неотвеченных вызовах, поступавших, пока телефон был занят, однако номер был незнакомый, а потому он не стал перезванивать. Мало ли кто там, может, опять менты активизировались, ну и пусть названивают, раз больше делать нечего. Если то, что он только что узнал, правда, значит, от него скоро отстанут. В полном смысле. Потому что сегодня вечером он получит то, что так хотел получить, а совсем скоро, уладив все неприятности, сможет сняться с якоря. Получив наконец Лору!
Неужели это правда – то, что он сейчас услышал?! Неужели близость смерти способна так изменить людей?!
Да уж, никогда не знаешь, что придется испытать и как себя в этом случае поведешь. Сейчас-то он здоров, как бык, а случись с ним то, что случилось с тем, кто ему позвонил… Неизвестно, конечно, как бы он себя повел. Тоже, наверное, начал бы искать везде, где только можно, бабки на лечение. Хотя… хотя все равно помирать!
Но хоть потом, не так сразу, когда-нибудь, не сейчас…
Он задумчиво поднялся на палубу.
Тот, кто ему звонил, пообещал страховку. Кое-что на тот случай, если на берегу его все же сцапают. Мало ли, в самом деле, что стукнет в голову ментам! Вдруг решат изменить меру пресечения?! Пока у него всего лишь подписка о невыезде, которая его никак не ограничивает.
Он недоверчиво покачал головой. Нет, рано мечтать. Надо сначала получить доказательства… эту самую страховку… Тогда можно будет если не поверить, то хотя бы начать верить.
* * *
Мария Васильевна стояла у балюстрады и смотрела в темное море. Вниз уступами уходил прекрасный сад. Оттуда при каждом порыве ветра доносилось благоухание акаций и лип, которое сейчас заглушало все остальные садовые ароматы и запах моря. Когда вечерами было неспокойно на душе, не было для нее ничего лучше, чем пройти через оранжерею, которая лежала между дворцом Воронцовых и колоннадой на берегу, и ощутить биение свежего ветра в лицо.
Она смотрела в звездное небо, нависшее над неровно вздыхающим внизу, под обрывом, морем, и украдкой даже от самой себя смахивала слезы. Хотелось бы думать, что глаза слезятся от ветра, но она-то знала, что просто плачет.
Плачет о том, что за каждой встречей неизбежно следует разлука, как за рождением – смерть. Не сразу – после нескольких блаженных мгновений (а это именно мгновения в сравнении с вечностью!), во время которых человек успеет поверить, что поймал счастье, как чудную птицу, что оно будет всегда сидеть в клетке его чувств. Но…
О, это проклятое «но», которое неотступно следует за нами и порой высовывается из-за левого плеча, подобно лукавому!
…Вот так же она стояла здесь в ту первую ночь, когда новый городской голова прибыл наконец в свою резиденцию, побывав на торжественном обеде в свою честь и почтив своим присутствием бал. Мария Васильевна обожала танцевать и готова была оставаться на балу до полуночи, несмотря на усталость, однако при первом же взгляде, которым она окинула танцующих, настроение ее резко упало, а усиливающаяся мигрень сделала пребывание светлейшей княгини на балу, конечно же, невозможным.
Того, кого она мечтала увидеть, не было.
Семен Михайлович сочувствовал жене, но был искренне рад уехать. Ему не терпелось оказаться в доме, где прошло его детство. Он первым делом бросился в детскую. Она была очень скромно, но мило обустроена, на стенах висели портреты графа Михаила Семеновича в молодости и князя Семена Михайловича ребенком. На этом небольшом портретике была надпись: «Хочу жить, чтобы вас любить!» В полу были вделаны инкрустированные камнем солнечные часы, напоминающие молодым, как быстро летит время…
Но на все эти милые мужу детали, которые навевали ему прекрасные воспоминания, Мария Васильевна смотрела равнодушно, как и на окружающую ее роскошь.
На стенах кругом висели итальянские картины. Двери столовой – с янтарными ручками и филенками под ляпис-лазурь и бронзу – доставили из Михайловского дворца в Петербурге.
Семен Михайлович восторженно рассказывал, что камин из очень дорогой мозаики en pierres fines, то есть украшенный драгоценными камнями, тоже был доставлен из Михайловского дворца и куплен старшим Воронцовым за непомерно высокую цену. Император Александр распродал все имущество рокового дворца, где был убит его отец, а саму комнату, где совершилось убийство, замуровали, чтобы ее никто и никогда не нашел.
Марии Васильевне было страшно смотреть на вещи из Михайловского дворца, воспоминания детства мужа ее ничуть не умиляли, а итальянскую живопись она никогда не любила, в отличие, скажем, от французской.
Ее снедало странное нетерпение. Это было не то страх, не то предчувствие счастья.
Наконец муж уснул, а Мария Васильевна в одном пеньюаре, накинув только большую кашемировую шаль, выбралась из дворца. Она примерно запомнила путь, который вел к колоннаде, и прошла туда по слабо освещенной галерее, которая вилась вокруг оранжереи и была украшена испанской мебелью.
Она встала над морем в безотчетной надежде на чудо, которого ждала с того мгновения, как ее глаза встретились с глазами Григория Маразли.
Что-то должно было случиться! Он придет! Он не может не прийти! Каждый, самый легкий шорох чудился ей его шагами! Конечно, вокруг дворца есть охрана, но разве это остановит мужчину, который хочет… хочет…
Неужели она неправильно прочла выражение его глаз, ту жажду немедленного обладания, ту страсть, то обещание, которые увидела в них… или ей показалось?
Придет? Не придет?
Что-то зашуршало в кустах. Это мог быть какой-нибудь зверек…
– Кто здесь? – спросила она без тени страха, опьяненная своей странной, непоколебимой уверенностью.
Мужчина в черном плаще легко перемахнул через балюстраду.
На миг Мария Васильевна увидела его силуэт на фоне белых колонн – и тотчас он канул во тьму.
– Кто здесь? – спросила она, стараясь, чтобы голос звучал строго, но он дрожал от предчувствия счастья.
Из темноты протянулась рука, стиснула пальцы Марии Васильевны, потянула ее к себе…
Она вдруг забыла все, забыла всю свою жизнь, и имя, и титул, и годы, и мужа, и сына, и все минувшие любови – она почувствовала себя юной девушкой, которая впервые оказалась в объятиях возлюбленного мужчины.
Так это началось. Их тайные встречи длились не один год.
Но все начала обречены идти к концу…
Почему? Что произошло? Как он мог разлюбить? Когда это случилось?!
Мария Васильевна думала об этом непрестанно, силясь понять, что же, почему произошло?
Вот и сейчас она искала ответ в шелесте листьев, в аромате цветов, в шуме моря…
Ответа не было.
Вдруг издалека донесся чуть скрипучий звук музыки. Еще один… Звуки складывались в мелодию. Это шарманка, поняла Мария Васильевна. Может быть, та самая, которая играла, когда они увиделись впервые!
Ох, как живо вспомнилось то мгновение, и нежный голос маленькой певицы, и его полные страсти глаза, когда он переводил немудреную песенку:
Мне кольцо любимый подарил И носить велел, ни разу не снимая. Но давно прошли те нежные дни мая… Знаю, он меня не разлюбил, Только я к нему уже остыла, Для другого я его забыла – И теперь его колечко мне тесно, Уж не радует, а палец жмет оно.И вдруг пришел ответ: «Он разлюбил меня после того, как я подарила ему перстень гречанки! Значит, надо вернуть этот перстень. И тогда он вернется ко мне!»
* * *
На площадке, за столиком дежурной, сидела, вытянув ноги в своих невероятных шлепанцах, Оксана.
Алёна чуть улыбнулась. Оксана была в списке тех, кому следовало задать парочку вопросов. Очень удачно: она ведь работала вчера, то есть сегодня могла вообще не появиться в гостинице. Повезло!
– Оксана, я могу с вами поговорить? – спросила Алёна тихо, беря со стойки ключ. – Только не здесь – мне бы не хотелось, чтобы нас слышали.
– А шё? – с вызовом глянула на нее девушка своими голубыми глазами. – Вы чего-то забоялись?
– Забоялась, ага, – покладисто кивнула Алёна. – Забоялась того, что, если наш разговор кто-то услышит, из «Дерибаса» еще одну дежурную уволят.
– Шё?! – вскинула брови Оксана. – Это с какого перепугу?
Однако тон она все же сбавила и голос понизила, и Алёна про себя усмехнулась.
– Меня кто-нибудь спрашивал? – поинтересовалась она.
– Когда? – насторожилась Оксана, и наша героиня мысленно кивнула: ага!
– Сегодня.
– Нет, никто! – с прежней вызывающей интонацией ответила девушка. – А кто-то должен был? Ну так вот: никто!
В голосе ее прозвучало злорадство.
– А тот мужчина, которого вы водили осматривать мой номер вчера вечером? – равнодушным голосом сказала Алёна.
Опа… голубые Оксанины глаза вмиг обесцветились. Но она еще не сдавалась и даже помнила, что нападение – лучший способ обороны:
– Шё?! Шё вы такого стрекочете?!
– Выбирайте выражения! – рявкнула Алёна. – Он мне сам говорил, что вы водили его в номер. У меня кое-что пропало из вещей. Осталось только выяснить, кто из вас это взял.
Оксана выскочила из-за барьера, схватила за руку Алёну и потащила в боковой коридор, ведущий к десятому номеру.
– Тише, тишеньки, – бормотала она. – Ой, да шё ж вы так кричите? Давайте дверь скорей откроем и войдем.
Оксана выхватила у Алёны ключ, мгновенно открыла дверь, впихнула туда Алёну и вскочила следом.
– Шё вы такое говорите? – спросила она без следа былой агрессии, всего лишь с легким, можно сказать, нежным укором. – Вещь пропала? Какая? Я ничего не брала, ей-богу. Зачем мне? У нас с этим строго! Сразу вон с работы! И он тоже не мог ничего взять… он только прошелся по номеру, ну, в чемодан ваш заглянул, да он пустой был, вы ж вещи в шкафы положили, вот и все, Богом клянусь.
– Не поминайте Господа всуе, – посоветовала Алёна холодно. – Почему вы его вообще впустили? По каким таким причинам? Он вам удостоверение показал, что ли?
– Какое удостоверение, да вы шё? – изумилась Оксана. – Да я ж его знаю. Он пришел и спросил Танютку. Я говорю, так, мол, и так… И он сказал… – Она всхлипнула. – Он сказал, шё хочет поглядеть, шё за фря такая зловредная тут живет… Это он так сказал! – торопливо уточнила девушка, заметив, как изменилось лицо Алёны.
– Ну вообще ведь это все и придумать сейчас можно, чтобы гадостей мне наговорить, – пожала плечами Алёна. – Я ведь точно знаю, что кто-то в моих вещах рылся.
– Да не могло такого быть! – возопила Оксана, но тут же испуганно прихлопнула рот рукой и зашептала из-под ладони: – Быть такого не могло! Я с него глаз не сводила ни на минуточку.
Но вдруг она испуганно заморгала, и Алёна поняла: что-то тут не так.
– Ни на минуточку? – повторила она саркастически.
Оксана вздохнула:
– Ну знаете, там телефон вдруг зазвонил, на стойке, я выглянула, но это вот правда была буквально минуточка, не больше, я когда вернулась, он так и стоял, сложив руки на груди, посреди номера, и осматривался. Ничего он не брал и я не брала! А что у вас пропало?
– Об этом, – высокомерно ответила Алёна, – я расскажу в милиции.
Оксана побелела и бухнулась на стул.
– Не надо в милицию… не надо… если уволят по статье, я ж работы не найду, а у меня ребенок, а мужа нету… Не надо в милицию… шё хотите для вас сделаю!
– Тогда говорите правду, – прошипела Алёна и села на кровать, чтобы оказаться вровень с Оксаной и лучше видеть ее глаза. – Этот мужчина раньше приходил в «Дерибас»?
Оксана жалобно сморщилась:
– Ой, да я не знаю, как про то сказать… мы с Танюткой смеялись… він такий немолодой вже, а чудачит…
– Ну, продолжайте! – понукнула Алёна. – А то…
– Да я раз видела и Танютка тоже… он по стенкам в окна гостиницы влезал. Ночью.
«Хорошо, что я сижу», – подумала Алёна.
– А за этими окнами что было? – спросила она, прибавив недоверия в голос. – Банковские сейфы?
– Да какие там сейфы! – фыркнула Оксана. – Бабы! Я ж говорю: он в гостиничные номера влезал. За потрэндать! Циркач! Наверное, не хотел светиться и баб своих светить, ну и как бы незаметно… конечно, ночью площадь пустая, там нет никого, можно и незаметно влезть.
– Какая площадь? – нахмурилась Алёна, не понимая.
– Да у нас же с другой стороны Греческая площадь, – пояснила Оксана. – Вы разве не были там? Вы ж ночевали в номере, который туда окошком выходит. Ой, – вдруг сказала она радостно, – да он же как раз в то окошко и лазил… в пятнадцатый номер.
– А кто в то время там останавливался? – спросила Алёна.
– Да сейчас разве вспомнишь? – развела руками Оксана. – Может, Танютка вспомнит? Хотите, дам ее телефон?
Алёна сделала самую равнодушную мину, хотя, честно говоря, всю эту сцену она разыграла только для того, чтобы выманить у Оксаны именно Танюткин телефон. Но узнала куда больше, чем могла, а главное – чем хотела. Так сказать, метила в волка, а попала в медведя.
– Давайте, – кивнула она, достав мобильник. – Записываю.
Оксана продиктовала номер.
– Ну шё? – спросила умоляюще. – Я таки вже пойду, а? А то директриса увидит, что меня нету, такой хай поднимет!
– Ладно, идите, – милостиво кивнула Алёна. – Нет, еще минуточку: теперь правду скажите, спрашивал меня кто-нибудь или нет?
Оксана вздохнула:
– Да я ж говорю, никто… ну ей-боженьки!
– Хорошо, – сказала Алёна, сама толком не зная, хорошо это или плохо. – Тогда вот что: вы до завтрашнего утра дежурите?
– Ну да, – с досадой сказала Оксана. – Вторые сутки, офигеть можно. Вместо Танютки-то не взяли еще никого. А если вы думаете, что нам платят за переработку, вы сильно-таки ошибаетесь.
– Если меня кто-то спросит, скажете, что я съехала, понятно? Собрала вещи, заказала такси и уехала в аэропорт. Слышите? И скажете, что вы мой десятый номер уже забронировали для другого человека.
– Да вы шё? – испуганно уставилась на нее Оксана. – А вдруг кто-то узнает, меня же директриса с потрохами…
– Никому ваши потроха не нужны, – резко перебила Алёна. – В случае чего, соврете, что перепутали меня с какой-то другой постоялицей. Например, эта дама из пятнадцатого номера… она не съехала, случайно?
– Да нет, она просто ночевать не ночевала, а так не выписывалась.
– Понятно. Ну, словом, вы меня поняли, Оксана? – властно сказала она. – Кто бы меня ни спрашивал – я уехала, в моем номере живет другой человек.
– Ой, погодите, там телефон! – вскричала Оксана, сорвалась со стула и кинулась из номера, как обычно, сопровождая свой бег топотом.
Алёна устало откинулась на подушку, тупо разглядывая плафон на потолке. «Надо сказать Оксане, что люстра не работает», – мелькнула мысль – да тут же и забылась.
Как-то все… нелепо. Нелепо до невозможности, а почему? И зачем, зачем все это нагорожено?!
Торопливо простучали Оксанины шлёпки по кафельному полу коридора. Голубые глаза ее были круглыми:
– Вы как в воду глядели! Это вас спрашивали! Это был он! Я по голосу узнала! И я ему сказала, что вы только что уехали в аэропорт.
– А он?
– Он выматерился, – сказала Оксана с плохо скрываемым злорадством. – Очень рассердился. Даже не думала, что Нодик может так выражаться!
– Кто?!
– Ну тот, кто звонил. Я ж говорю: он приходил в прошлый раз.
– Так вы его знаете, что ли?!
– А тогда с какой печки я упала, что так запросто номер ему показала? Конечно, знаю.
– Погодите… – спохватилась Алёна. – Вы говорили, этот мужчина пришел и Танютку спросил. Он что, ее знакомый?
– Дак он же ж ее мужа, Борика, двоюродный брат! – пояснила Оксана. – Нодя его зовут, Нодик. А то с откуда ж я его знаю?!
«Хорошо, что я сижу», – второй раз подумала Алёна.
А впрочем, не так уж она была и удивлена, если вспомнить, что говорил о своем враге Жора.
* * *
В это самое время Ромка катал на своем аквабайке очередных девиц. Обе девицы сидели сзади, не осмелившись управлять байком сами. Одна держалась за Ромку, вторая за подругу. Он вдоволь помотал их по волнам, наслушался их криков.
– Вы обещали яхту поближе показать! – прокричала одна в самое ухо.
– Конечно!
Ромка повернул к яхте.
На борту стояли двое мужчин. Ромка немного огорчился. Он с гораздо большим удовольствием посмотрел бы на красивую блондинку с потрясающими титьками.
Ромка заглушил мотор.
– Что, новых русалок привез? – крикнули с борта. – Да какие красотульки! Сетку спускать?
Девчонки воодушевились. Теперь, когда байк не бросало так, страх прошел, да еще и комплименты подогрели…
– А можно я сама попробую сесть за руль? – осмелилась одна.
– Ты что, с ума сошла, мы ж потонем! – завопила другая, ужасно злясь, что эта мысль не пришла в голову ей.
– Не потонем, я сяду сзади и буду контролировать управление, – сказал Ромка и соскользнул в воду. – Давайте, перебирайтесь на мое место.
– Не, ну ты только глянь! – удивлялся один из мужчин. – Опять тот же спектакль разыгрывают! Сейчас она свалится!
Но девушка не свалилась, а ловко перебралась на сиденье водителя.
– Погодите! – приказал Ромка, который в это время бултыхался около яхты, придерживаясь за якорную цепь. – Пока я не сяду, управления не касайтесь, договорились?
Девушка, уже напуганная собственной смелостью, молча кивнула.
Ромка оттолкнулся от цепи, ловко влез на байк и сел между девчонками.
– Покедова! – махнул он рукой мужчинам, стоявшим на борту яхты.
– Да пошел ты! – сказал один.
Второй только усмехнулся и промолчал.
* * *
– Вы спрашивали, какие фильмы Веры Васильевны мне больше всего нравятся? – сказал Гришин-Алмазов, возвращаясь в номер.
Лицо его было совершенно невозмутимо, и никто не мог бы догадаться, что только что произошло. Только Шульгин, который очень хорошо знал губернатора, понял, что он разгневан. Но точно так же хорошо он понимал, что ни о чем узнавать не стоит.
Мигом поняла это и Вера. Она очень странно чувствовала себя… Казалось, с той минуты, как Гришин-Алмазов надел ей на палец этот несуразный, но такой очаровательный перстень, между ней и одесским диктатором возникла странная связь. И дело было не в обычной признательности за оригинальный и, конечно, очень дорогой подарок. Возможно, она что-то преувеличивала со свойственной женщинам вообще, а ей – в особенности мнительностью, возможно, она сыграла слишком много романтических ролей, возможно, она была просто взволнована… однако сейчас ей казалось невозможным назвать этого человека «господин Гришин-Алмазов» или «господин губернатор». Очень хотелось обратиться к нему по имени-отчеству, Алексей Николаевич, а лучше – назвать просто Алексеем…
Нет, это невозможно, ненужно, это неприлично, в конце концов!
Да что с ней такое?!
Она крутила перстень на пальце, делая вид, что полностью поглощена новой игрушкой, а сама с особым вниманием слушала, что говорит Але… Гришин-Алмазов. Какой фильм ему по душе?
– В общем-то, я все видел, – сказал он в это время. – Некоторые даже по нескольку раз.
Чардынин покровительственно кивнул, сразу представив себе диктатора в зале роскошного синематографа, где его признают завсегдатаем и дают билеты на лучшие места.
Шульгин, который был посвящен в некоторые личные тайны диктатора, в том числе – о некоей комнате, превращенной в домашний синематограф, где помещались два-три зрителя, лукаво прижмурился.
Вера не поднимала глаз от перстня, но почему-то Гришин-Алмазов чувствовал себя так, словно она с него глаз не сводит. Вульгарная сцена в вестибюле «Бристоля» уже не тревожила его, он чувствовал себя совершенно счастливым. Если это поможет ему избавиться от Лидии, которая стала чрезмерно навязчивой в последнее время, – что же, прекрасно! И очень вовремя, потому что он не помнил, когда желал чего-то так страстно, как желал эту женщину с не то серыми, не то черными глазами, женщину, которой тайно поклонялся уже много лет – и вот надел ей на палец кольцо…
В этом было нечто столь же значимое, как в венчании, и хоть Гришин-Алмазов был человеком женатым, обвенчанным, сейчас это для него не имело значения.
Более опытный и более хладнокровный Шульгин смотрел на него и понимал, что в этом опьянении влюбленностью в живую Веру Холодную нет никакого отличия от влюбленности в ее экранный образ. Но, разумеется, эти мысли он оставил при себе, потому что, во‑первых, не хотел – и опасался, чего греха таить! – обидеть друга, а во‑вторых, он видел, как засияла Вера.
«Они необычайно подходят друг другу, эти двое, – вдруг обнаружил Шульгин. – Между ними может случиться многое… если они оба дадут себе волю. Или не случится ничего, и они оба будут жалеть об этом всю жизнь!»
И тут же, со свойственной ему насмешливой философичностью, он подумал, что жалеть, может быть, придется не столь уж долго, ибо в это безумное время жизнь каждого может оборваться в самый неожиданный момент.
А Вера между тем ждала, какой фильм назовет Гришин-Алмазов. Она была не глупее Шульгина… В кого из многочисленных красавиц, образ которых она принимала, влюбился одесский губернатор?
Может быть, в Марианну из картины «Миражи»? Может быть, в Нату Хромову из фильмы «Жизнь за жизнь»? Или Гришина-Алмазова пленила Аня Поспелова из кинокартины «Лунная красавица» с ее роковой страстью к автогонкам? Или актриса-колдунья Лия Ванда, героиня фильмы «В мире должна царить красота»? Или светская красавица Галина из «Огненного дьявола»?
– Это… «У камина», – наконец сказал Гришин-Алмазов. – Ну и «Позабудь про камин», конечно.
Чардынин довольно улыбнулся:
– Я очень рад, что вы назвали эти две фильмы! Ведь именно после «У камина» Вера Васильевна превратилась в истинного кумира публики и стала с полным правом именоваться королевой экрана!
Вдруг Вера безотчетным движением поднесла перстень к губам.
Гришин-Алмазов издал вздох, похожий на негромкий нетерпеливый стон.
«Определенно пора уходить, – нахмурился Шульгин. – Вопрос только в том, должен ли я уйти один или все же увести с собой этого потерявшего голову человека?»
Чардынин думал о том же: не пора ли ему под благовидным предлогом удалиться и увести с собой Шульгина? Наверное, губернатор будет ему весьма благодарен… но как бы не разгневалась Вера! Она по-прежнему блюдет свою репутацию безупречной супруги. И если сейчас кажется, что она готова наконец расстаться с этой репутацией, как с заношенным платьем, то, может быть, это только кажется? А что надо делать, когда кажется? Вот именно!
Да… совершенно неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг в дверь не постучали. Оказывается, в гостиницу телефонировали из штаба французского командования с просьбой от генерала Д’Ансельма: тот просил господина губернатора немедленно прибыть к нему.
Гришин-Алмазов вскинул брови. Шульгин тоже. Обоим этот внезапный вызов показался странным.
– Послушайте, капитан, – сказал Гришин-Алмазов адъютанту, – перезвоните к Д’Ансельму и спросите, что за срочность. Ночь на дворе.
– Мне это тоже показалось странным, – ответил адъютант. – Я уже пытался телефонировать им ответно. Но барышня на коммутаторе не может соединить.
– Провокация, – сказал Шульгин. – Предлагаю ни в какой штаб не ехать.
– А если не провокация? – остро глянул на него Гришин-Алмазов. – Неужели вы думаете, что я позволю Д’Ансельму хотя бы просто предположить, что я испугался? Да и даже если так? Если провокация? Я не поеду, и тот, кто это затеял, подумает, что меня можно запугать? Я должен быть ко всему готов, но – еду немедленно! Вы можете остаться, господин Шульгин. Я сообщу оттуда, как дела.
И он большими шагами направился к двери. Шульгин, пожав плечами и поцеловав Вере Васильевне руку, направился за ним.
Вера смотрела Гришину-Алмазову вслед, слегка приоткрыв рот от изумления.
На ее глазах один человек – пылкий, хотя и застенчивый поклонник, – вдруг превратился в совершенно другого: в служаку до мозга костей, настолько преданного своему делу, что все другое для него мгновенно перестало существовать при первом сигнале от этого дела. У него была одна возлюбленная – его служба.
И сердце Веры дрогнуло – но не от обиды, а от того, что она почувствовала в одесском диктаторе родственную душу. Не так ли и для нее все переставало существовать при первом же знаке режиссера, объявившего начало съемки? Не так ли и у нее был единственный возлюбленный – синематограф?
И она печально взглянула на свой новый перстень, потому что вещее предчувствие охладило ее: они с Гришиным-Алмазовым пройдут мимо друг друга в этой жизни именно потому, что сила, которая влечет их друг к другу, ничто перед силой, которая влечет друг от друга.
А одесский диктатор уже не думал о туманных, дурманных, не то серых, не то черных глазах!
Он послал вперед адъютанта с приказом подать «Бенц» к подъезду «Бристоля».
Автомобиль подъехал к самым дверям. И лишь только Гришин-Алмазов с Шульгиным показались в освещенных дверях, как раздались выстрелы. Одна пуля засела в притолоке, несколько влетели в вестибюль. Гришин-Алмазов оттолкнул Шульгина в сторону и выкрикнул:
– Машина, потушить фары!
Фары погасли. Татары из охраны Гришина-Алмазова бросились прочесывать окрестности «Бристоля», а Шульгин и губернатор сели в автомобиль и помчались прочь. Они без приключений добрались до дома Шульгина, который находился недалеко от Молдаванки. Это были опасные для диктатора места, однако Гришин-Алмазов славился как страшный бретёр.
Высадив Шульгина и оставив его под присмотром охраны, губернатор поехал к себе. Однако через несколько минут Шульгин, уже поднявшийся во второй этаж своего дома, услышал перестрелку невдалеке. Он сбежал вниз и скомандовал:
– В ружье! Гришина-Алмазова обстреляли!
Охранники с оружием в руках бросились в ту сторону, куда умчался «Бенц», но вскоре вернулись: в руках у них была автомобильная шина, пробитая пулями.
– Мы нашли это недалеко.
Шульгин не находил себе места от беспокойства, однако через некоторое время зазвонил телефон:
– Да, это я, Гришин-Алмазов, меня обстреляли недалеко от вас, но, в общем, все благополучно.
Оказалось, после залпа шофер круто свернул в проулок: так круто, что с колеса соскочила шина, а Гришин-Алмазов вылетел из машины. Но он тут же успел запрыгнуть обратно и уже без приключений доехал домой.
* * *
Ну, теперь все стало ясно… Если не все, то очень многое. Сложился пазл, сошлись буквы в кроссворде, разгадалась головоломка. Осталось выяснить, что искал Арнольд в ее номере, ради чего он приходил туда дважды. Почему не ограничился одним визитом? Потому что Оксана слишком быстро ответила на звонок и вернулась, так что он не успел обшарить шкафы, в которые Алёна переложила вещи из чемодана? А успел он найти то, что хотел, пока Алёна прошлой ночью пару раз отлучалась э‑э… попудрить-таки носик?
Она взглянула на часы. Судя по тому, что Арнольд разозлился, узнав об Алёнином отъезде, он хочет увидеться с ней еще раз. Очень может быть, что нынешней ночью предполагался очередной обыск ее номера. В промежутках между сексом. Очень приличным, конечно, но не бог весть каким обалденным… Впрочем, не исключено, Алёне это только сейчас кажется? Потому что она до крайности зла? А ночью-то все было весьма… Ну да, ночью она не чувствовала себя одураченной, не воспринимала себя как глупую заводную куклу, которую опытный кукловод – циркач, а? – поимел, как хотел… Правда, этот циркач явно не ожидал, что механизм, который он умело завел, будет продолжать тикать и после его ухода, что кукла окажется способна на некоторые непредсказуемые поступки. Ромка рассказал, что Арнольд его «чуть не съел по телефону», когда узнал, что Алёна оказалась на яхте Кирилла. Конечно, может быть, Арнольд за нее элементарно беспокоился, но сейчас Алёне очень слабо верилось в это. Скорее, Арнольд опасался, что Алёна может узнать на яхте что-то лишнее (и она узнала) или увидеть некую нежелательную персону (и она ее увидела-таки)… Да и встреча с Ромкой явно не планировалась! Управлять случайностями довольно трудно, Арнольду это иногда отлично удается, иногда – нет. Вот сегодня он пролетел…
Но насчет «нежелательной персоны» нужно еще кое-что уточнить. Для этого Алёне и понадобился Танюткин телефон. Для этого – и еще для пары-тройки вопросов. Но пока что звонить она не будет – есть более важные дела. Если она правильно понимает, то Арнольд сейчас мчится в аэропорт. Там он будет ждать отправления рейса на Москву. Потом сообразит: здесь что-то не то. Ну, может быть, решит, что Алёна уехала на поезде? И успокоится? Подумает, перепугалась детективщица и решила слинять? Это в лучшем случае. А в худшем – вернется в гостиницу и устроит Оксане допрос с пристрастием. Или попытается нелегально проникнуть в номер Алёны, чтобы выяснить, здесь она или нет. Но это вряд ли – Оксана его больше не пустит. А Алёна просто должна уйти на милонгу, чтобы Арнольд, вернувшись, увидел темное окно и поверил в ее отсутствие.
Конечно, они могут где-нибудь случайно столкнуться завтра, но это маловероятно. Алёна потерпела ужасное крушение с этим мужчиной – и у нее нет ни малейшего желания выяснять с ним отношения. Все, что она сейчас делает, она делает только для себя.
Ага, ага, для себя – чтобы поглубже расковырять нанесенную рану! Нормальная женщина и в самом деле уехала бы сегодня из Одессы, потому что – ну будь честна хоть сама с собой! – потерпела крушение не с одним, а с двумя мужчинами! Первый побывал с ней в постели, при этом тайно вожделея другую женщину, которой ужас как добивался и даже умудрился соблазнить… Это ведь о ней он говорил: «Я предчувствовал, что когда-нибудь встречу женщину, которая так вскружит мне голову, что я буду мечтать только о ней, только о том, чтобы провести с ней ночь… одну, другую… много… все…» Это ее он имел в виду, когда спрашивал Алёну: «С тобой так бывало? Бывало, чтобы случайная встреча стала вдруг смыслом жизни?»
А Алёна доверчиво думала, что речь идет о ней! О встрече с ней! И еще испытывала неловкость от того, что не может ответить Арнольду ответным признанием, потому что он ей, конечно, понравился, но все это было чистой физиологией.
Как и для него, кстати. Алёна Дмитриева – чистая физиология, которая понадобилась для развлечения, потому что на финишной прямой к любимой женщине его обошел счастливый соперник, и перстень укравший, и даму увезший на свою яхту. В принципе все это было бы Алёне глубоко безразлично, она бы это пережила, пожав плечами, ну, остался бы легкий неприятный осадок, не более того… Но беда в том, что именно тот, второй мужчина поразил ее, понравился ей, да так сильно, что она даже была готова поверить, что он не вор… но свидетельство московского ювелира все расставило на свои места: Кирилл украл перстень и подменил его, и теперь он получил Лору, которую Арнольд так хотел, что…
Что – что? Что дважды проникал в номер другой женщины?
Зачем?!
Чтобы получить ответ, нужно понять, что искал Арнольд среди ее вещей!
У Алёны как минимум два часа времени, потом нужно будет уйти на милонгу, чтобы не столкнуться с Арнольдом, буде он решит все же искать новой встречи.
…Но ей понадобилось гораздо меньше часа, чтобы понять, что она ничего не понимает. Не так уж много вещей она привезла в Одессу, и все они были на месте. Не исчезло ничего даже из набора довольно дорогой бижутерии. Ну да, ведь все это красивый, но новодел, безо всякой захватывающей родословной, не то что перстень Гришина-Алмазова!
Все ее трусики также были на месте, поэтому сардоническая мысль о том, что Арнольд окажется фетишистом, коллекционирующим нижнее белье совращенных им дам, тоже была отметена как несостоятельная.
Ладно, что же он тогда искал?! Для чего нужно было проникнуть в номер?
Ну, оставалось только поверить, будто Арнольд и в самом деле в первый раз беспокоился о ней, пытался найти, а во второй раз пришел ради очень недурного секса.
Алёна поверила бы в это с охотой, если бы Арнольд не нагромоздил уже вокруг своей персоны столько вранья, что хоть святых выноси, как говорили в старину.
А в принципе процесс перекладывания с места на место собственных вещей и поиски того, что не пропало, Алёну несколько успокоили. Даже в сон стало клонить. И неудивительно, учитывая, что за денек выдался нынче.
Разве что в самом деле поспать, а уже потом собираться на милонгу? Туда же совсем не обязательно приходить к началу. Зато можно потом будет подольше потанцевать, отдохнувшей-то!
Алёна быстро доела остатки своих припасов, закрыла окно, убрала звук мобильника и поставила будильник, включила кондиционер, вставила в уши затылкалочки, вытянулась на кровати и уснула. Последней мыслью было, что ей совершенно на все наплевать. И даже если сейчас откуда ни возьмись появится возмущенный ее ложью Арнольд, она не станет выяснять с ним отношения, а просто пошлет к черту. Нужно забыть обо всем, что было дурного, и провести в Одессе оставшиеся дни с мыслями исключительно о танго.
Алёну разбудил будильник. В номере было полутемно, даже фонарь на стройке почему-то не горел. Она сонно выключила будильник, спустила ноги с постели, поднялась, сделала несколько шагов и задела босой ногой стул. Зашипев от боли, в сердцах стукнула кулаком по стене – и угодила аккурат в выключатель неработающей люстры.
К ее великому изумлению, свет вспыхнул!
Алёна посмотрела на плафон, не веря глазам своим. Свет горел.
Ха, все просто – к нему нужно было всего лишь применить грубую силу!
Да, все и в самом деле просто…
Стоило ей так подумать, как люстра снова погасла.
Впрочем, свое дело он сделал: за те мгновения, пока свет горел, для Алёны очень многое буквально-таки высветилось, она успела увидеть достаточно, чтобы получить ответы на очень многие свои вопросы… А заодно озадачиться новыми.
В любом случае стало ясно, что о благом решении заниматься в оставшиеся дни только танго придется забыть.
* * *
Григорий Маразли покинул альков светлейшей княгини Воронцовой незадолго до того, как Воронцовы в 1870 году покинули Одессу: князь Семен Михайлович был отозван на армейскую службу, а жена его вернулась в Петербург.
Разумеется, «покинул альков» – это фигуральное выражение: невозможно покинуть то место, где ни разу не был. Да, этот странный и жгучий роман проходил отнюдь не в постели, а то в какой-нибудь беседке в огромном саду, то в оранжерее, то просто под деревом, к которому Маразли грубо притискивал свою любовницу, грубо овладевал ею – и точно так же грубо, не простившись, исчезал. Не то чтобы он был таким уж невежей, но он сразу понял, чего желает от него светлейшая княгиня – и старался быть таким, каким она хотела его видеть. У Маразли накопился немалый чувственный опыт, чтобы он наконец усвоил: женщине можно предложить что угодно и сколько угодно, но выберет она лишь то, что по нраву ей самой, а навязывать ей свои желания и предпочтения – пустое дело. Ей скоро надоест, она ринется к другому. Вот так же ринулись от него Эжени и Сара. Теперь он изменился. И благодаря этому знал, что княгиня влюблена в него, как кошка. Ему страшно нравилось это французское выражение – amoureuse comme une chatte.
Беда лишь в том, что, сделавшись amoureuse comme une chatte, всякая женщина сразу становится обыкновенной для мужчины, в которого она amoureuse. Больше нечего добиваться. Больше нечего желать. С ней пора расставаться.
Вот так же расстался и Маразли со своей очередной королевой… Он долго думал, какой подарок сделать ей на прощание. Хотелось, чтобы это было нечто невероятное! Что-нибудь, что тронуло бы ее так же, как тронул самого Маразли ее подарок. Ей-то удалось угодить ему! Однажды во время объятий что-то так впилось ему в спину, что Маразли невольно вскрикнул. Потом Мария Васильевна со смехом показала ему перстень. Странный, грубый, с серым невзрачным камнем… Он был невероятно оригинален! Маразли не смог скрыть своего восторга. И, тронутая восхищением любовника, Мария Васильевна сняла перстень с пальца и отдала ему.
Что же подарить ей в ответ? Украшений у нее и так было довольно. К тому же, дарить украшения замужней даме следует крайне осторожно… Точно так же осторожно следует носить и ее подарки.
У Маразли была дивной красоты – и столь же дивной стоимости! – статуэтка из белого янтаря, изображающая юношу Эроса со сломанным крылом. Это был подарок с намеком – может быть, жестоким, но бесповоротным. Маразли не сомневался, что намек будет понят. Собственно, ему казалось, что Мария Васильевна уже и сейчас многое понимает. Она не могла не чувствовать того холодка, который словно струился с его губ и рук во время поцелуев и объятий. Однако он был готов к тому, что она так просто не отпустит любовника. Маразли предчувствовал, что княгиня станет писать, умолять, требовать объяснений… И он не ошибся.
По городской почте пришло письмо без подписи. Она любила так шалить – писала измененным почерком, но в уголке листка всегда был начертан вензель МИГ, что означало – Мария и Григорий, и этот вензель давал Маразли понять, от кого это письмо, то веселое, то грустное, то страстное, то нежное… но всегда многословное настолько, что у него порой недоставало терпения дочитать сердечные излияния любовницы до конца.
На сей раз заветный вензель М и Г не был проставлен, однако Маразли все равно понял, от кого послание. Чуть ли не позевывая, он распечатал письмо – и удивился. Там была только одна строка: «Ни о чем не молю, только верните мой подарок».
Прочитав это, Маразли сделал губами этакое озадаченное пфффф! – и откинулся на спинку стула.
Ему вспомнился один случай, который произошел с ним два или три года назад, когда он очень настойчиво подкатывал к меньшой дочери графа Павла Евстафьевича Коцебу, генерал-губернатора. Иногда как-то взбредали в голову мысли о том, что надобно же наконец жениться и воспроизводить себе подобных!
Сватовство, правда, не состоялось. Подпортили дело те самые злые языки, про которые не зря говорят, что они страшнее пистолета!
Как-то на балу болтал Маразли с графом Александром Григорьевичем Строгановым, своим добрым приятелем, всеобщим любимцем, вот только на днях угощавшим друзей изобретенным им весьма утонченным мясным блюдом, кое Маразли предложил назвать беф-строганофф. И вдруг граф взглянул на его руку и сказал удивленно:
– Простите, дорогой мой, я что-то не вижу вашего прекрасного перстня с бриллиантом…
Маразли только плечами пожал:
– Не волнуйтесь, просто я ношу его теперь на пальчике одной изящной шансонетки.
Граф юмор приятеля весьма высоко оценил да так и залился смехом… который, впрочем, тут же и стих, потому что оба весельчака увидели, что совсем рядом стоит мадемуазель Коцебу, а личико у нее…
Вот так и вышел из предполагаемого маразлиевского сватовства семипудовый пшик. Но ведь сейчас получалась почти та же самая история! В том смысле, что перстень, подаренный княгиней, Маразли вернуть никак не мог, ибо носил его теперь на пальчике другой прелестной шансонетки! И он скорее откусил бы себе язык, чем попросил бы его обратно.
Во‑первых, не вернет. Во‑вторых, обидится на просьбу да еще и от ворот поворот даст. А этого Маразли боялся пуще смерти…
Вот так уж вышло!
* * *
Танютка оказалась весьма сообразительной, хотя Алёна, честно говоря, думала, что убеждать ее придется подольше. Она настолько быстро прониклась предложением Алёны и готовностью немедля действовать, что наша героиня даже не успела задать ей те вопросы, ради которых, собственно, и добывала у Оксаны ее номер телефона. Пришлось перезванивать и спрашивать снова. Что характерно, ни одному вопросу Танютка не удивилась, хотя в голосе ее немедленно зазвучало откровенное, почти сестринское сочувствие. Ну и, разумеется, дала ответы.
Ответы Алёну тоже не слишком удивили.
Появиться в гостинице Танютка намеревалась минут через пятнадцать. Алёна развила бурную деятельность. Надев джинсы, майку и кроссовки, она положила в одну сумку ветровку и зонтик – мало ли, вдруг прогнозы синоптиков сбудутся-таки! – а также платье и туфли, которые ей понадобятся нынче на милонге; в чемодан кое-как – за неимением времени было не до аккуратности – побросала прочие свои вещи. Дело осложнялось тем, что работать приходилось в полутьме. Свет горел только в ванной, едва-едва освещая комнату: уж очень легкие шторы висели на окнах, а Алёна не хотела рисковать.
Она только застегнула молнию на чемодане, как в дверь стукнули три раза, а потом еще три. Это был условный сигнал, на который Алёна открыла. За дверью стояли деловитая Танютка и совершенно ошарашенная Оксана.
– Смотрите, Оксана, запомните, что в номере вы еще не убирались и ничего не трогали, – сказала Алёна. – И если он начет скандалить, грозить милицией и требовать его сюда провести, проведите. Но сначала, конечно, поупирайтесь. А потом послушайтесь и ведите себя тише воды, ниже травы. Договорились?
– Ой, а вдруг он сейчас вас за дверью на улице подкарауливает? – жарким шепотом спросила Оксана, на всякий случай озираясь.
В это время от столика дежурной раздался звонок домофона, Оксана с громким топотом ринулась к своему рабочему месту, взглянула на экран – и тотчас прилетела обратно:
– Тикайте! Он внизу!
– За мной! – скомандовала Танютка, бросаясь к лестнице. Оксана подхватила Алёнин чемодан и споро куда-то его заховала, в какой-то хозяйственный закуток.
– Куда ж мы идем? – испугалась Алёна, спускаясь вслед за Танюткой. – Там же он!
– Только на второй этаж, – успокоила Танютка. – Пошли, пошли!
Она отперла дверь, где днем работали отельные бухгалтеры и кастелянши, и помахала Оксане, которая смотрела на них сверху, перевесившись через перила:
– Ключ потом завезу. А его помурыжь как следует, подольше!
– Все будет тип-топ! – прошептала Оксана, нервно хихикая.
И Алёна вдруг обнаружила, что происходящее доставляет обеим гостиничным девицам огромное удовольствие. Строго говоря, и ей тоже. Собственные сердечные разочарования не просто отступили, но бодро откатились на второй план…
Танютка тем временем провела Алёну через какую-то дверь, из которой они вышли в длинный коридор, ведущий на другую лестницу. Спустились, оказались около тяжелой двери с глазком посередине и кнопкой звонка сбоку. Танютка позвонила. Через некоторое время в глазке что-то мелькнуло, лязгнул засов, дверь отворилась… перед женщинами оказалась маленькая сухонькая старушка в синем халате, в каком, по представлениям Алёны, могли ходить какие-нибудь технички (кто-нибудь знает, что это за профессия?!) в позабытые советские времена.
– Танютка? – воскликнула она изумленно. – Ты что, опять от Борика ноги делаешь?
Танютка всплеснула руками:
– Ну ты вспомнила, баба Фая! Это когда было?! Нет, сейчас мы к Борику идем, он нас на улице в машине ждет. Пропусти нас, а если кто-то спросит, видела ли ты меня или вот эту девушку, скажи, что знать ничего не знаешь, ведать не ведаешь.
– Да и то, – пробормотала баба Фая, скользнув по ним веселым взглядом, – где ж тут девушки? А? Хоть одну покажьте! – Она ехидненько хихикнула. – Ладно, проходите, да книги не сшибите!
К изумлению Алёны, они очутились в торговом зале книжного магазина! Здесь было необычайно тесно, книги тяжелыми стопками громоздились на узких полках, и в самом деле – двигаться приходилось осторожно. У Алёны даже не было возможности бросить взгляд в сторону полок с детективной литературой, чтобы проверить, а в курсе ли вообще одесситы, что существует на свете такая писательница – Алёна Дмитриева. Впрочем, два одессита определенно были в курсе этого – факт, а не реклама! – причем узнали они о ее существовании из одного и того же источника.
Ну что ж, теперь такой факт своих биографий, как знакомство с писательницей Алёной Дмитриевой, они не скоро забудут! Оба!
– Сюда! – Танютка уже была у двери, осторожно приоткрыла ее и выскользнула. Тщательно оглядевшись, метнулась в предупредительно распахнувшуюся переднюю дверцу серой «Шкоды», стоявшей около самого входа в магазин.
В заднюю дверцу прыгнула Алёна.
Танютка приказала:
– Борик, трогай! Алёна, пригнитесь! – И машина тронулась.
Алёна почти лежала на сиденье, пока Танютка не подала голос:
– Кажется, все тихо, можно разогнуться. Алёна, это мой муж, познакомьтесь.
– Очень приятно, – повернулся к Алёне невероятно смуглый горбоносый парень с веселыми яркими глазами. – Это правда, что Танютка рассказала?
– Ей-богу, – усмехнулась Алёна, – святой истинный крест.
– По-тря-саю-ще… – протянул Борик.
– Да что ж тут потрясающего? – пожала плечами Танютка. – Я всегда говорила, что среди твоих родственничков ты один порядочный человек. Ну, дядя Юлик, само собой. А остальные…
– Приехали, – примирительно сказал Борик, и Алёна поняла, что она только что присутствовала при разговоре, который довольно часто повторялся в этом семействе и всегда оканчивался ничем.
– Значит, так, – бодро произнесла Танютка, полностью вступившая в роль матери-командирши, – мы идем туда, – она махнула в сторону двери уже знакомой Алёне частной клиники, к которой они сейчас подъехали, – а ты, Борик, караулишь здесь. Если что – немедля звонишь мне по мобильнику. Ты понял?
– Так точно, мой генерал, вернее, моя генеральша, – ухмыльнулся ее супруг. – Но вы, девчонки, не тяните. Мало ли что кому в голову может взбрести?
– И правда, – кивнула Танютка. – Скорей, Алёна.
Они почти вбежали в приемный покой. Дежурная встревоженно приподнялась, но, узнав Танютку, кивнула:
– Проходите, только ненадолго, сами знаете…
– Знаем, знаем, – успокоила Танютка и шепнула Алёне:
– Идите, поговорите с ним. А я в коридоре буду патрулировать – на всякий случай. Потом я зайду. Надо же решить, как со всем этим быть дальше.
Алёна покрепче прижала сумку к груди и вошла в палату.
Там было тихо и полутемно, совсем как в прошлый раз. Однако сейчас ее встретил не жалобный стон, а ясный, хотя и очень тихий голос:
– Кто там? Ты, Таня?
– Нет, – шепнула Алёна. – Это не Таня. Это я, Алёна… помните меня?
– Леночка, – пробормотал старик. – Конечно, помню. Другая Леночка. Не моя. Моя Леночка меня ждет. Скоро я к ней… Только что ж я ей скажу? Она меня спросит… а я ей что скажу?..
Через несколько минут Алёна вышла из палаты с совершенно зареванным лицом и опухшими глазами. Говорить она не могла – только показала в сторону туалета и пальцем ткнула в себя: мол, ей надо умыться.
– Ну, давайте, – согласилась Танютка, входя в палату.
Алёна умылась, потом вышла и принялась слоняться по коридору, иногда опасливо прислушиваясь к изредка долетавшим шагам. Наконец дверь палаты отворилась и вышла Танютка – совершенно такая же, какой несколько минут назад была Алёна, и точно так же ринулась в туалет.
Наконец она вернулась умытая, румяная и очень веселая.
– Ну что? Обо всем договорились? – спросила Алёна.
– Да. Мы сейчас должны с Бориком ехать к этой директорше и привезти ее сюда.
– Ну ладно, а я поеду на милонгу, что ли? – сказала Алёна.
– Мы бы вас отвезли, – сказала Танютка, – но времени терять нельзя. Давай добросим вас до Александровской, а там сядете на сто сорок шестую маршрутку. У водителя спросите, где выходить. А потом… Может, после своих танцев возьмете такси и поедете ночевать к нам?
– Да ну, ерунда, – отмахнулась Алёна. – Все, если он сегодня убедится, что меня нет в номере, он больше туда не придет. Вообще окажись я на его месте и в такой же ситуации, я бы немедленно кинулась в погоню за мной. В Нижний Горький. Ну а поскольку меня и там нет, путешествие окажется бессмысленным.
– Ну, смотрите, – задумчиво проговорила Танютка. – Вам виднее. Тогда имейте в виду: чуть что – звоните! Приедем и спасем!
«Запобегти, допомогти, взятувати!» – вспомнила Алёна и с трудом сдержала смех, который вполне мог перерасти в истерику.
Честно говоря, несмотря на столь успешные действия, она чувствовала, что приключения на этом не закончились.
И, как показали будущие события, предчувствия ее не обманули.
* * *
История с почти удавшимся покушением на Гришина-Алмазова мгновенно стала известна в Одессе.
Эмиль Энно только головой качал: он искренне беспокоился о своем ami brave. Галочка Погребинская разделяла его тревогу. Впрочем, она беспокоилась бы еще больше, если бы узнала, что нынче вечером доверчиво болтала с человеком, который и устроил засаду на диктатора.
Вернее, устроили ее бандиты Мишки Япончика. Но приказ «король Молдаванки» получил от Жоржа Делафара и той женщины, которую он ждал в вестибюле «Бристоля» и которая потом незримо подошла к нему на темной Пушкинской улице, шепнув на ухо:
– Bon soir!
Нет ничего странного, что она заговорила по-французски, потому что она и была француженкой. Ее звали Жанна-Мари Лябурб.
Она родилась в департаменте Алье, в крестьянской семье. Отец был одним из тех, кто чудом спасся от расстрела у стены кладбища Пер-Лашез после разгрома Парижской коммуны и скрылся в деревне. Жанне было девятнадцать, когда она приехала искать работу в России, а точнее в Польше. Сначала была гувернанткой, потом стала учительствовать в уездном городке Томашове Люблинской губернии: преподавала французский в гимназии и репетиторствовала. Способность к языкам у нее была замечательная: совсем скоро она вовсю болтала по-русски, чему немало способствовал ее ami из числа пропагандистов, работавших в лесопильных мастерских. Как водится, для разговорной практики стала помогать любовнику, а когда очень сильно рассерчавшие на докучливого болтуна и оскорбителя царя-батюшки рабочие, сговорившись, сунули его под механическую пилу, забрала себе его книжки и брошюрки. Стала их читать – и вспомнила рассказы отца о Парижской коммуне, вспомнила, что с детства восхищалась амазонкой времен Французской революции Теруань-де‑Мерикур. Сделаться такой Теруань-де‑Мерикур для русских показалось Жанне необычайно заманчиво. Из Томашова она вскоре уехала – опасалась, что тоже угодит под пилу. Не то чтобы она так страшно боялась смерти – уже тогда Жанна взяла своим девизом вот такие слова: «Умирают ведь только один раз!» – но глупо было погибать, ничего толкового не совершив для революции.
Зимой девятнадцатого года Жанна отправилась в Одессу. Город в это время был занят французскими войсками и Добровольческой армией. Жанна вошла в число руководителей «Иностранной коллегии» при Одесском подпольном комитете КП(б)У и вела агитацию среди французских солдат и матросов за Интернационал и мировую революцию.
В то время одесские большевики придерживались лозунга: «Кто не против нас, тот с нами!» «Не против них» был «король Молдаванки». У большевиков и бандитов имелась общая цель: уничтожить диктатора Одессы. Жанна и Делафар знали, что нынче вечером Гришин-Алмазов и Шульгин званы к Вере Холодной. Решили устроить засаду в вестибюле «Бристоля». План был зыбкий, зиждился на случайностях, однако Жанна верила в свою удачу. Она вообще была склонна к авантюрам.
От себя Делафар не скрывал, что был очень рад срыву покушения. Затевая что бы то ни было, Жанна никогда не думала о последствиях. Самым предсказуемым исходом была бы смерть и ее, и Делафара. О, разумеется, умирают только раз… но Делафар не спешил испробовать это удовольствие.
– …Это вы! – прошипел Делафар, узнав ее голос и пытаясь не завопить от страха. – Вы опоздали! Он выходил и вернулся в номер! Теперь в вестибюле полно охраны! Вы все сорвали!
Он давно усвоил, что нападение – лучший способ обороны.
– Успокойтесь, – холодно сказала Жанна. – Я с трудом отделалась от шпиков. За мной шли от самой гавани. А я еще не слишком хорошо знаю этот городишко. Чуть не заблудилась, поэтому и опоздала. Да, жаль… хорошая была возможность. Впрочем, возможно, не все потеряно. Эта тварь все еще в отеле?
– Да, но…
Торопясь, сбиваясь, Делафар принялся подробно описывать охрану Гришина-Алмазова, ее вооружение, ее расторопность и готовность защищать диктатора.
– Ну, ничего нового я не узнала, – зевнула Жанна, – кроме того, что вы, кажется, струсили. А идти на риск с трусливым помощником – это заранее ступить одной ногой в могилу.
– Да что вы… да как вы можете так думать… – закудахтал Делафар, однако Жанна только рукой махнула:
– Ах, оставьте ваши бабьи причитания. С виду вы просто храбрый мушкетер, а в душе… фу! Слушать противно. Вот что, где здесь можно взять извозчика? Нам с вами нужно немедленно ехать на Молдаванку.
– Куда? – чуть не подавился от страха Делафар. – Да вы что? Вы разве не знаете, что там даже днем страшно появляться, а вы решили наведаться туда среди ночи?! Какая глупость!
– Сбавьте тон, – холодно приказала Жанна. – Нужно немедленно найти Мишеля. Он один может спасти ситуацию.
Мишелем она называла Япончика.
Делать было нечего. Пришлось покориться и искать извозчика. У Делафара забрезжила слабая надежда, когда старик отказался ехать на Молдаванку, однако Жанна посулила, что заплатит втройне. Извозчик согласился, пробормотал: «Двум смертям не бывать, одной не миновать!» Жанна даже расхохоталась от восторга!
Они еще только подъезжали к Молдаванке, а извозчик попросил расплатиться с ним.
– Почем я знаю, может, вас уже прямо сейчас пристрелят, плакали тогда мои денежки!
– Еще один трус! – зло сказала Жанна, сунув ему несколько бумажек и соскакивая с пролетки. – Ничего, мы уже близко.
– Близко-близко… – сладко пропела тьма за спиной. – Шё шастаете тута, шлемазлы? Жить надоело? А ну, выворачивайте карманы!
И правда, только сумасшедшие могут притащиться ночью на Молдаванку…
– Ах, зохан вей! – насмешливо проговорила Жанна. – Киш мир тохес!
Делафар был евреем, а потому понял, что она сказала: «Ах, Бог мой! Поцелуй меня в зад!»
«Она спятила! – мелькнула ужасная мысль. – Сейчас нас зарежут!»
– Шё? – озадачилась темнота. – Шё за лясем-трясем?!
– Деловые имеют дело до короля, – уже серьезно сказала Жанна, и тьма хмыкнула:
– Та шё ж было сразу не сказать маляву простым русским языком?! А то зохан вей, зохан вей… Пошли, провожу.
Делафар наконец-то сообразил, что Жанна знала некий пароль, который делал пребывание на Молдаванке безопасным. Изредка какие-то тени выступали из темноты, однако проводник бросал отрывистые неразборчивые фразы, а потом говорил спутникам:
– Все путем. Не дергайтесь.
Жанна, впрочем, была совершенно спокойна.
Наконец они оказались в каком-то проулке, спустились по вонючей и скользкой лесенке…
– Вы подождете здесь, – приказала Жанна Делафару, когда они оказались в каморке, очень напоминающей мастерскую бедного сапожника.
Он послушно опустился на низенький табурет, а Жанна ушла.
Спустя несколько минут через комнатку пробежал какой-то парнишка, за ним другой, третий. Вышла Жанна.
– Мишель – великий человек, – сказала она счастливым голосом. – Он соображает очень быстро. Как это он сказал… бицихер! – Она расхохоталась. – Мишель разослал гонцов к своим бравым гвардейцам. Если сегодня этот прощелыга Гришин-Алмазов останется жив, я поверю, что ему покровительствует сам сатана. А теперь пойдемте. Вам нужно вернуться в штаб, туда сразу придут новости. А я буду ждать у вас на квартире.
– Как на квартире? – испугался Делафар. – Вы… вы собираетесь у меня ночевать? Но моя квартирная хозяйка…
– Можно подумать, вы никогда не приводили проституток, – презрительно усмехнулась Жанна. – Ну, поднимайтесь! Мишель велел, чтобы нас отвезли.
Их ждала пролетка.
Сначала завезли Жанну на Успенскую, где квартировал Делафар, потом он поехал на Екатерининскую, семь, в штаб французских войск. Там же размещалась и французская контрразведка.
Делафар сделал вид, что ему нужно закончить некие дела, а сам то и дело проходил мимо приемной Д’Ансельма, где имелся телефонный аппарат и постоянно сидел дежурный в ожидании важных сообщений. Спустя два часа пришло известие о неудавшемся обстреле машины диктатора.
…Когда он вернулся домой, Жанна мирно спала в его постели. Услышав шаги, подняла голову:
– Ну?
Делафар уныло вздохнул и начал рассказывать.
Жанна молча выслушала. Потом откинула простыню, спустила с плеч рубашку:
– Иди сюда!
В первую минуту Делафар опешил. Он так боялся этой женщины, что мог сплоховать. Но не посмел ослушаться… К счастью, все обошлось, оба они остались довольны друг другом.
– А теперь, – сказала Жанна, отдыхая на его плече, – придумай что-нибудь. Мне будет жаль отдать тебя на расправу за срыв покушения на диктатора.
– Как?! – взвился было Делафар, однако ствол пистолета воткнулся ему в бок.
– Не дергайся. Сам понимаешь – я не могу, не имею права остаться виноватой. Это поставит под удар мой авторитет, а значит, – все мои планы по выдворению эскадры из Одессы. Мне нужен козел отпущения. Или – новый план расправы с Гришиным-Алмазовым.
– Понимаешь, что он теперь будет вдесятеро осторожней? – простонал Делафар.
– Понимаю, – кивнула Жанна. – Нужно сделать что-то, что выбило бы его из седла. Чем его можно уязвить? Пристрелить эту его опереточную дурочку, как ее, Липковскую? Ну, с которой он спит?
И Делафар вспомнил! Цветы… перстень… цветы!
– Липковская его не интересует, – сказал он. – Есть другая женщина. И, кажется, я знаю, что надо сделать!
Жанна выслушала его внимательно.
– Ну и вкус у него! – проворчала брезгливо. – Актрисульки! Одна другой стоит!
Она кое-что уточнила из рассказа Галочки. Подумала, помолчала…
– Трудновато будет, но, думаю, Мишель нам поможет, – сказала наконец.
– Захочет ли он? – усомнился Делафар.
– Пусть только попробует не захотеть! – уверенно сказал Жанна. – Я пригрожу лишить его прикрытия большевиков.
Она знала, что ссориться с подпольем «королю Молдаванки» очень не захочется: ведь именно из одесских катакомб, где отсиживались отряды красных подпольщиков, бандиты Япончика получали оружие!
– К тому же, если это тот самый перстень, который Мишель мечтает отнять у Гришина-Алмазова, он будет счастлив принять участие в этом деле!
– А Япончик-то откуда знает об этом перстне? – удивился Делафар.
– Темная история, – беззаботно ответила Жанна. – Я толком ничего не поняла. Вроде бы этот перстень Мишель уже снял однажды с чьей-то мертвой руки, потом его обманом у него отняли, он уже думал, перстень потерян, но узнал, что он у диктатора… А перстень у этой кинематографической дивы, оказывается! Ну что ж, я думаю, для Мишеля не будет большой разницы, с чьей мертвой руки его снимать на сей раз.
Она как в воду смотрела.
Япончик был счастлив крепко насыпать соли на хвост своему врагу, прежде чем расправиться с ним.
– Пусть подергается! – сказал он злорадно. – Мы ему такое устроим, шё он долго будет искать воши, шёб понять, кто их ему насажал!
Именно поэтому и был послан в гостиницу «Бристоль» Моня Цимбал с букетом белых лилий, к которому была приколота добытая Делафаром карточка Эмиля Энно.
Япончик не сомневался, что одесский диктатор приревнует Веру Холодную к Энно. Между друзьями пробежит черная кошка…
А еще лилии должны были сыграть поистине роковую роль – и на эту мысль натолкнул Япончика именно Делафар, который не оставил без внимания рассказ Галочки о кашле актрисы.
* * *
– И шо? – не оборачиваясь, сказал водитель маршрутки, которому Алёна протянула голубенькую бумажку в пять гривен.
– За билет, – пояснила она не без удивления.
– Где? – спросил водитель с нотками нетерпения.
– Мне до Пироговской…
– Так и ехайте себе, а когда встанем, заплатите.
Итак, в Одессе имели место быть свои правила оплаты проезда. Впрочем, когда в маршрутке всего одна дверь, избежать бдительного ока водилы невозможно.
– А это далеко? – робко спросила Алёна.
– Сперва по Канатной минут десять… Сразу после Куликова поля – ваша Пироговская, я покличу.
Канатная оказалась очень длинной и неприглядной, да и тьма кромешная уже стояла на дворе, так что Алёна притомилась вглядываться в окна. Время шло, шло… и вдруг водитель кричит:
– Кому на Пироговскую? Дамочка, ви там уже спите?
Алёна кинулась к выходу, торопливо расплатилась и выскочила.
Никаких полей вокруг не было заметно. Улицы да улицы.
Алёна спросила у случайного прохожего, где находится Дом офицеров.
– Да вон там, не доходя до Французского бульвара, по правой стороне.
Боже мой! Она едва могла выговорить «спасибо» от радостного волнения. Французский бульвар! Тот, который «весь в цвету»! Тот, где Леночка нашла перстень Гришина-Алмазова… Как же, «не доходя»! Алёна до него обязательно дойдет!
Через пять минут быстрой спортивной ходьбы, миновав имперски-помпезное здание Дома офицеров, Алёна выскочила на не слишком широкую улицу, посередине которой тянулись трамвайные рельсы. Улица была вся забрана какими-то длиннющими заборами. Фонари светили тускло, ничего особенно не цвело, вот только липы, но к их томительно-сладкому аромату Алёна уже привыкла. Нет, вот что еще – отчетливо, совсем как на Лонжероне, пахло морем. Где-то неподалеку море…
Алёна немножко прошлась по бульвару туда-сюда и, несколько разочарованная, вернулась на Пироговскую.
Ей все время хотелось набрать один телефонный номер, но она боялась и того, что ответят, и того, что не ответят. Не ответили же днем! И не перезвонили, как сделал бы всякий вежливый человек, увидев на дисплее сообщение о непринятом вызове.
Впрочем, тот, с кем Алёне так хотелось поговорить, отнюдь не был вежливым человеком, в чем она могла сама убедиться нынче. Она не могла понять, нужен ли ей этот разговор, чтобы передать важную информацию, или для чего-то другого, и злилась сама на себя, потому что чувствовала: да, для другого…
Из открытых окон Дома офицеров вовсю звучало танго. Милонга в самом разгаре, а ее там еще нет!
Алёна вошла в здание, полюбовалась его вестибюлем – просторным, тоже имперским, с колоннами и жизнерадостной потолочной росписью, – отыскала под лестницей большой и тоже весьма помпезный туалет с зеркалом до потолка, переоделась там во взятое с собой голубое шелковое платье, все расписанное золотистыми турецкими «огурцами», надела золотистые босоножки и бижутерию в таком же стиле, причесалась, накрасилась, сложила вещи в сумку – и отправилась в зал.
И сразу все, кроме танго, вылетело из головы, потому что зал был полон танцующими парами, а по стеночкам толпилось куда больше партнеров, чем партнерш. Привычный гендерный дисбаланс превратился нынче в свою противоположность, и Алёна могла этому только радоваться.
Оказывается, нынче приехали гости фестиваля из Киева, а киевляне были известны качественным мужским танго, об этом Алёна слышала раньше, но убедиться смогла только теперь. Она танцевала без передышки, практически не садясь – раньше такой кайф сверхвостребованности она испытывала только в Париже, где всегда была ну просто нарасхват на милонгах, – но все же иногда улучала минутку осмотреться, однако ни того, кого она надеялась увидеть, ни того, кого увидеть опасалась, не было.
После полуночи Алёна решила спуститься в туалет.
По пути она позвонила Татьяне, которая сонным, но счастливым голосом сообщила, что все в порядке, все отлично, все на месте, никаких неприятных случайностей больше не может быть, потому что для этого приняты все меры, – словом, все тип-топ! Затем Алёна набрала номер Оксаны. У дежурной «Дерибаса» голос тоже был сонный. Она доложила, что этот тип Нодя после долгих препирательств дал Оксане сто гривен в качестве взятки и прорвался-таки в номер, где мог наблюдать отсутствие бывшей постоялицы. И вдруг он достал мобильник и начал набирать какой-то номер. В это самое время раздались звонки на столике дежурной, и Оксана вынуждена была пойти взять трубку. Разумеется, ей никто не ответил, хотя она, как дура, долго алекала… будто не понимала, что это сам Нодя и звонит, чтобы выманить ее из номера! А когда наалекалась, Нодя уже шел ей навстречу, и физиономия у него была ну просто черная. Чернющая! Он аж пошатывался, когда по лестнице спускался. А потом вдруг обернулся и хрипло спросил:
– Кто ремонтировал люстру?
Оксана, конечно, ответила – никто, потому что ее и в самом деле никто не ремонтировал. И Нодя ушел.
– Оксана, я, наверное, все же вернусь ночевать, – сказала Алёна, – только не знаю точно, во сколько, может, уже под утро, так что вы меня не дожидайтесь и ложитесь спать, давайте только договоримся, где будет ключ от номера, хорошо?
– Да я, может, дождусь, а если уж совсем свалюсь, ключ оставлю на своем столе под газеткой. В номере же все равно вещей ваших нет, никто ничего не украдет, да и кому тут шариться ночью, верно?
– Верно, – согласилась Алёна.
Она вошла в туалет, исполнила все ритуальные дела и вымыла руки, а когда уже сделала шаг к выходу, за дверью раздался раздраженный женский голос:
– Подожди меня здесь, ты что, будешь за мной и в туалете следить?!
Голос показался Алёне знакомым. Она метнулась обратно в кабинку, убеждая себя в том, что ей почудилось, что этого не может быть…
Но тут же раздался стук каблуков – женщина вошла в туалет, поплотнее прикрыла дверь и, войдя в соседнюю с Алёниной кабинку, принялась набирать номер мобильного телефона. Алёна отчетливо слышала сигналы клавиатуры.
– Да возьми же ты трубку! – простонала женщина. – Ну где ты все время шляешься?!
Услышав это, Алёна поняла, что не ошиблась. И снова ощущение дежавю пронзило ее, как и днем на яхте.
Осталось только, чтобы и в здешнем зале, где танцуют танго, распахнулась дверь – и появился Арнольд, и начал виртуозно выкручиваться из ситуации, уверяя Алёну, что пришел за ней…
Она вздохнула, дивясь своему легковерию, нет – своему желанию поверить человеку, которого совершенно не знала…
Впрочем, тогда она не могла чувствовать к Арнольду ничего, кроме симпатии, потому что он явился перед ней в образе спасителя, который вырвал ее из лап милиции… А между прочим, с каких, простите, щей ему понадобилось вмешиваться в эту ситуацию и вырывать Алёну из вышеназванных лап?
Предположим, сей частный детектив искал какие-то следы, которые могли привести его к человеку, пустившему шутиху в окно музея в ту минуту, когда там оказался Кирилл…
Ха! Если правильны все выводы, которые сделала Алёна, Арнольд мог, скорее всего, искать эти следы, чтобы уничтожить их!
Ну ладно, так или сяк, но он вдруг бросает все свои дела и кидается выручать Алёну. Зачем? Почему? Исключительно по доброте душевной и ради ее прекрасных глаз?
Строго говоря, одно предположение так и просится на ум…
Но обдумать это Алёна не успела. Послышался стук каблуков, женские голоса, в туалете враз появилось много народу, но Алёна не спешила выходить, потому что дверь соседней кабинки тоже не открывалась, доносились только сигналы клавиатуры. Наверное, женщина, что затаилась там, сейчас лихорадочно писала эсэмэску тому, кому не могла дозвониться.
«О, я балда! – подумала Алёна. – Нужно было написать Кириллу! Наверное, он просто не отвечает, когда приходят звонки с незнакомых номеров, но эсэмэску всяко прочитал бы!»
А впрочем, о чем она?! Ведь в соседней кабинке прячется Лора. Алёна узнала ее по голосу. Наверняка Кирилл сейчас ждет ее в фойе. Вряд ли он снова отправил ее с Жорой. То есть хочется на это надеяться…
И если Кирилл здесь, Алёна просто подойдет к нему и все объяснит.
Нет… тогда придется рассказать про Лору, вернее, про Лору и про Арнольда…
А доказательств никаких.
Да и вообще – никаких доказательств! Кроме одного решающего факта, но и насчет этого Кириллу тоже пока придется поверить ей на слово.
Или не поверить…
Так или иначе, хватит тут сидеть, в туалете уже очередь выстроилась.
Алёна выскочила из кабинки и, торопливо ополоснув руки, вылетела в вестибюль.
И с размаху ударилась во что-то высокое, каменно-твердое и широкое. Причем это была не одна из колонн, которые там и сям украшали Дом офицеров. Это был человек. И не просто человек – это был Жора.
– Ага! – протянул он зловеще. – Я как чувствовал, что ты тут окажешься. А Лорка еще не верила…
С этими словами он схватил Алёну в охапку и потащил ее под лестницу. С силой толкнул к стене, сцапал ее руки одной лапищей, а другой схватил за горло и негромко, но с устрашающей интонацией спросил:
– Ты зачем Алику на яхту эту поганую цацку подкинула, а?
Алёна, может, и ответила бы хоть как-то, например, вскричав: «Вы спятили?!», или: «Ничего не понимаю!», или: «Отпустите меня немедленно!», или – и это скорее всего: «Придурок!», – но не могла исторгнуть из себя ни звука, потому что рука Жоры сжималась все крепче. Она уронила сумку и, вцепившись в жесткую лапищу, попыталась отодрать от своего горла сильные пальцы, но не могла.
– Говори! Говори, а то придушу! – рявкнул Жора.
«Уже», – с ужасом подумала Алёна, чувствуя, что в самом деле начинает задыхаться. В это самое мгновение раздался испуганный женский крик:
– Отпусти ее! Я же говорю: это не она!
– Она! – грозно провозгласил Жора и стиснул пальцы чуть сильнее. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Алёна потеряла сознание.
* * *
В этот кафешантан Григория Маразли привел его приятель – Павел Николаевич Кич. Он был моложе Григория на семнадцать лет, однако серьезностью превосходил приятеля вдвое. С другой стороны, поневоле станешь серьезным, происходя из мелкопоместной и небогатой семьи, не имея в своем распоряжении баснословного наследства! Кич закончил юридический факультет университета, год прослужил мировым судьей в деревне, а потом вернулся в Одессу и стал мировым судьей по пятому участку города. Пятым участком была Молдаванка – самое неприветливое и разбойное место.
Как-то раз Кич обмолвился, что на Молдаванке открылся кафешантан «Плезир», а на самом деле – бордель, куда зачастили – само собой, под покровом темноты, инкогнито, – очень многие именитые и даже сановные одесситы.
– Под покровом темноты? – изумился Маразли. – А не страшно? Прирежут в два счета или обдерут, как липку.
И тут Кич рассказал самое интересное. Оказывается, «Плезир» этот открыл не кто иной, как сам «король Молдаванки» Наркевич. Ну и понятное дело, что никто его клиентов и пальцем никогда не тронет, если человек назовет заветное слово, по-воровски – маляву. Малявой было название клуба – «Плезир» с прибавкой названия того дня недели, который нынче был на дворе.
– Какие секреты! – хмыкнул Маразли. – Но чего ради наши бонтонные господа повадились в этот притон? Разве девки там небывало хороши?
– Девки как девки, – пожал плечами Кич. – Вот только Мара…
И голос его вдруг так дрогнул, и сам он так многозначительно умолк и покраснел, что Маразли вмиг все понял.
– Да ты никак влюблен в эту Мару, голубчик Кич?! – спросил он изумленно. – Вот же охота припала… кого попало!
– Только потому, что ты ее никогда не видел и ничего о ней не знаешь, я прощаю тебя! – воскликнул Кич, и выражение лица у него при этом сделалось такое, что Маразли прикусил язык, ибо понял: еще слово – и не миновать дуэли с этим безумцем.
Разумеется, дуэли он не боялся – просто позавидовал Кичу, который был так безумно влюблен. Сам-то Маразли, совершенно как пушкинский герой, в красавиц уж не влюблялся, а волочился как-нибудь.
Таких, за которыми можно было волочиться, имелось достаточное количество. Но чтоб с ума от любви сходить…
– Ну и кто же она такая, твоя этуаль? – спросил Маразли, не тая любопытства, и узнал, что Мара, то есть Мария, кузина самого Наркевича, «короля Молдаванки». Отец ее был шарманщиком, она выросла на улице, но это тот полевой цветок, от которого не отказалась бы и оранжерея. Когда старый Фердинанд умирал, племянник поклялся ему, что не оставит Мару. Он дал ей немалое образование, она училась пению у профессоров консерватории… Теперь она стала звездой «Плезира», но всем известно: если другие девицы могут быть к услугам господ посетителей, то Маре даже предложения нечистого сделать нельзя, если хочешь быть жив.
– И что? – хмыкнул Маразли. – Ты ходишь туда и платонически вздыхаешь? Охота же себя мучить!
– Я сделал ей предложение! – с достоинством сказал Кич.
Маразли посмотрел на него, как на сумасшедшего. Однако зерно любопытства уже проросло в его душе. Поэтому завтра же – на всякий случай прихватив с собой револьвер – Маразли отправился на Молдаванку и первому же встречному оборванцу сказал:
– «Плезир», пятница.
После чего ему была указана дорога в скромный с виду дом.
Внутри, впрочем, как и ожидал Маразли, его встретило дешевое подражание дорогим парижским кабакам.
Он заказал вина, которое здесь называлось бургундским, хотя было самой обыкновенной «изабеллой», и стал ждать появления «этуали».
Она вышла – под вуалью, прикрывавшей верхнюю часть лица, – в отличие от остальных щедро размалеванных девиц. И не сняла ее ни на протяжении всего канкана, ни потом, когда начала петь.
Голос у нее был и впрямь чарующий. Тем более что сразу, с первой минуты, она смотрела только на Маразли и пела только для него. Пела она по-гречески, по-итальянски, старинные песни и новые романсы, и Маразли никак не мог понять, отчего же это не покидает его ощущение, будто девушку эту он уже видел прежде. У нее был удивительный голос. То капель звенела, то где-то вдали струился ручеек. Капля камень точит… этот голос подтачивал сердца слушателей.
Теперь Маразли понимал Кича. Что и говорить… из-за этой таинственной певички вполне можно потерять голову. А вот любопытно, Кичу удается заглянуть в ее глаза, или он тоже лицезрит только вуалетку?
Хотя довольно и на губы ее смотреть, чтобы по-мужски разволноваться…
Когда выступление закончилось и гости стали есть и пить, Маразли попросил лакея проводить его к Маре. Тот посмотрел с жалостью:
– Никак жить надоело, сударь? Или не знаете, кто она?
– Я с поручением от господина Кича, – сыграл наудачу Маразли – и угадал: отношение к нему враз переменилось.
Его провели по коридорчикам в каморку, где при виде его завизжали полуголые девки, которые переодевались для нового выступления. Однако Мара занимала отдельную комнатушку.
Она встретила Маразли молча, не поднимая вуали.
– Сколько ты хочешь за то, чтобы я смог посмотреть в твои глаза? – спросил Маразли, тут же почувствовал, что сморозил глупость, и ужасно разозлился. Он чувствовал себя неловко перед какой-то певичкой! Он, который был кавалером французской королевы! Который сделал из Сары Бернар мировую знаменитость! Который был любовником светлейшей княгини Воронцовой! Он… он… он…
Мара молчала, только чуть шевельнула губами.
Злость прошла, как не было.
Если она его сейчас выставит, он не обидится, смиренно подумал Маразли.
– Я хочу не деньги, – наконец сказала Мара своим переливающимся, словно весенняя капель, голосом.
– А что?
– Подарок.
Ну, она, оказывается, такая же, как все женщины! Подумаешь! Просто таинственность на себя напускает, вот и все.
– Какой подарок ты хочешь, моя красавица? – спросил он, опираясь о косяк: сесть на куцую козетку, которая, с пуфом и гримировальным столиком, составляла всю меблировку комнатки, Мара его не пригласила. Да и сама стояла.
– Вот этот перстень, – прозвенел ее голосок, а тонкий палец указал на перстень, который был подарен Маразли княгиней Воронцовой.
Он засмеялся. Потом попытался уверить ее, что перстень этот никак дать ей не может, ведь это подарок дамы!
Мара пожала плечами. Ее глаза сквозь густую вуаль, чудилось, жгли его.
– Дался же тебе этот перстень! – удивленно сказал Маразли. – С чего вдруг?
– Он мой, – был ответ.
– Что?..
– Он мой, – сказала она спокойно. – Я сколько живу, его во сне вижу. Вижу мать, которая умерла, когда меня родила… далеко отсюда, в Санкт-Петербурге. Я всегда знала, что Фердинанд – не мой родной отец. Нет, не знала – чувствовала это. А перед смертью он признался, что меня отдал ему слуга какой-то знатной дамы, которая была при кончине матери и пожалела меня. Я видела мать во сне, я видела, как лежу на ее груди, играя с перстнем, который висел на шнурке…
– Но твоя мать умерла, когда тебя родила! – вскричал запутавшийся Маразли. – Как ты могла играть с перстнем? И как можешь это помнить?
Мара пожала плечами, не ответив, и он вдруг, как удар в сердце, осознал, что их имена созвучны. Он – Маразли. Она – Мара.
Конечно, это ничего не значило. И все-таки… Вожделение, которое охватило его при этом открытии, не поддается описанию. Он едва сдержал стон.
– Я не спрашиваю, откуда у тебя мой перстень, – заговорила снова девушка. – Но если ты хочешь увидеть мои глаза – отдай его мне.
– Это слишком дорогая плата за то, чтобы лишь увидеть, – хрипло пробормотал Маразли.
– Что ты хочешь еще? – спросила она.
– Ты знаешь… – выдохнул он.
– А перстень?
– Возьми его сейчас, если хочешь. Только не обмани.
И он надел ей на палец тяжелый и громоздкий перстень с серым камнем.
Он был ей чудовищно велик! Ей пришлось согнуть палец, чтобы перстень не упал.
Маразли поцеловал согнутый палец. Потом ее кисть. Потом… потом добрался до губ.
Мара не обманула и отдалась ему на этой куцей козетке. Она не была девушкой, но Маразли это ничуть не оскорбило и не разочаровало.
Это не имело совершенно никакого значения – то, что она принадлежала кому-то раньше или то, что раньше кому-то принадлежал он. Отныне они принадлежали только друг другу, и так будет всегда, во веки веков, аминь, в этом Маразли был уверен так же непоколебимо, как Мара была уверена, что перстень княгини Воронцовой – это ее перстень.
Маразли медленно целовал ей руки, перебирая палец за пальцем, отдаляя минуту расставания.
– Ты выйдешь за меня замуж? – спросил он, счастливо улыбаясь.
– Нет, – покачала она головой, снова надевая вуаль и закрывая от него свои невозможные, любимые, прекрасные черные глаза. – Я невеста Павла Кича. Я дала ему слово. И я стану его женой.
«Ну что ж, – обреченно подумал Маразли, – значит, я убью Кича и женюсь на его вдове».
* * *
…Голоса, чудилось, реяли в густо-красной темноте:
– Ну как она могла?! Ты башкой подумай!
– А зачем тогда она к нам на яхту залезла?
– Никуда она не лезла! Кирилл сам предложил ее на борт поднять, когда она в воде бултыхалась!
Алёна постепенно приходила в себя. Первой ее мыслью было, что ей очень неудобно лежать на чем-то твердом и явно пыльном. Потом она сообразила, что лежит на полу. Потом подумала, что привычка падать в обморок у нее постепенно укореняется. Потом вспомнила, почему лишилась сознания.
– Она же ж нарочно все это устроила!
Так, узнала Алёна, это Жора. Жёра! Его басище ни с чем не перепутаешь. Пожалуй, надо не подавать виду, что она очнулась. Лежать и лежать себе тихо-мирно, пока Жора не уберется отсюда. А то еще сочтет работу недоделанной и захочет снова проверить на прочность горло писательницы Дмитриевой.
– Жора, ты совсем дурной? – вскричала женщина, и Алёна узнала голос Лоры. – Она была в одном купальнике! Чтобы все это проделать, ей нужна была, как минимум, отвертка, верно? Не ногтями же она шурупы откручивала! А главное, где была в это время коробочка?! Ну где?!
– Где-где, – сконфуженно пробурчал Жора. – Что ты заладила: не она, не она, а тогда кто?! Ни ты, ни я, ни Алик. Кто еще, кроме нее, в люстру на яхте запрятал перстень?!
– Что?! – не сдержала Алёна изумленного восклицания. – О чем вы говорите?
– О! Очухалась! – без особого восторга констатировал Жора. – Смотри, Лорка, она живая. А ты боялась!
– Да я в основном за тебя, дурня, боялась, – буркнула Лора. – Задушил бы ее, тебя б посадили, носи тебе передачи, делать мне больше нечего!
– Лорик! – воодушевился Жора. – А ты мне правда передачи носила бы? Заодно с Аликом?
– Сколько раз говорено было не называть его Аликом! – сердито сказала Лора. – И с чего ему-то передачи носить?! Он-то перстня не крал, какие проблемы?!
– Конечно, не крал, – подала голос с полу Алёна. – И вы это великолепно знаете. А также вы знаете, кто его украл.
– Что? – Лора присела на корточки. – Что вы говорите? Откуда я это знаю?
Под лестницей было, конечно, темно, но не настолько, чтобы уж прямо совсем. А может, Алёнины глаза к темноте притерпелись. Так или иначе, она довольно ясно видела выражение Лориного лица. И на этом лице был такой страх, такая тоска, такая безнадежность…
Лоре, вожделенному призу для двух великолепных, авантюрных, красивых, смелых мужчин, Лоре, той самой цели, которая оправдывает все средства, – ей было откровенно худо. Она едва сдерживала слезы…
В принципе Алёна Дмитриева не слишком долюбливала существ одного с ней пола. Однако выражение «Падающего толкни!» никогда не было ее девизом.
– Оттуда, – пояснила Алёна как можно тише, чтобы не услышал Жора, – что мы с вами прилетели в Одессу на одном самолете. А кто вас там встречал, тот и…
Тут она увидела, что Жора нагнулся, пытаясь понять, о чем речь, и бросила на Лору выразительный взгляд. Та резко повернулась к Жоре:
– Ей плохо! Понимаешь? Беги немедленно в бар, принеси коньяка. Надо ее привести в порядок, если… если ты хочешь, чтобы она нам что-нибудь объяснила насчет этой штуки в люстре!
– Ну вот еще – для всяких щпиёнок я за коньяком не бегал! – пренебрежительно бросил Жора.
– Тогда не жди, чтобы я тебе передачи носила! – крикнула Лора уже со слезами в голосе.
– Ладно, – буркнул Жора испуганно. – Я мигом. Тока ты не плачь, Лорик, а то у меня прямо душа вон! Но ты ее постереги, чтобы не сбежала!
И он исчез.
– Вы меня помните, что ли? – в отчаянии спросила Лора. – Да вы на меня даже внимания не обращали в самолете!
– Не обращала, – кивнула Алёна. – Это точно. Я вас даже не заметила. И когда увидела в гостинице – не узнала. Но вы узнали меня! И рассказали о встрече со мной обоим своим любовникам. Причем одними и теми же словами!
– Что? – слабо выдохнула Лора, и ее большие светлые глаза налились слезами. – Откуда вы знаете?
– Да от них же и знаю, – слабо пожала плечами Алёна, кое-как садясь. – Они мне оба рассказали – сначала Арнольд, потом Кирилл. Причем Арнольд сослался на какую-то знакомую, которая летела вместе со мной в самолете из Москвы и которую он встречал в аэропорту. Ну согласитесь, вряд ли у них, у наших героев, так много общих знакомых, которые, к тому же, читали книги Алёны Дмитриевой! Ладно хоть одна нашлась!
– Ну и что? – вдруг недобро прищурилась Лора. – Ну и что, что рассказала? Я и правда знаю Арнольда, он за мной даже ухаживал. И ерунда, что он меня встречал! Это была просто дружеская услуга! Совершенно невинная! Он меня в гостиницу отвез, честное слово!
– Запросто, – кивнула Алёна. – Запросто он мог вас в гостиницу отвезти. Только почему не в «Дерибас», где у вас был забронирован номер? Зачем, если все так уж невинно, вам понадобилось звонить в «Дерибас» и врать, будто вы приезжаете утром на поезде? Кирилл был занят какими-то делами, да? Поэтому не смог вас встретить? А вы воспользовались его отсутствием… и поехали с Арнольдом. А Кирилл вам эсэмэски присылал с названием яхты, которую зафрахтовал для встречи с вами…
– Если бы вы не прочитали эти эсэмэски, никаких проблем бы у нас не было, – с тоской сказала Лора. – А то столько хлопот людям создали!
– А по-моему, вы просто сделали из мухи слона, пытаясь замести следы своей авантюры, – пренебрежительно сказала Алёна. – Я на эти эсэмэски никакого внимания не обратила. И если бы вы не подняли такой шум, вообще забыла бы о них. А тут вдруг ни с того ни с сего Арнольд начал ко мне клинья подбивать… От милиции меня спас, с ума сойти! Теперь-то я понимаю, он хотел втереться ко мне в доверие, чтобы узнать, насколько я могу быть опасна для вас.
– Это все было непроходимо глупо! – чуть ли не закричала Лора и принялась утирать слезы, которые так и хлынули по лицу. – Так непроходимо глупо! Глупее не придумаешь! Какой он дурак, что так всполошился! Не все ли равно, что подумал бы Кирилл, если перстень все равно…
И тут она осеклась и прикрыла рот рукой, затравленно глядя на Алёну, которая медленно договорила:
– …если перстень все равно украл Арнольд, и вам об этом хорошо известно. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали…
– Откуда вы знаете про перстень? – сдавленно проговорила Лора.
– Да мне сам Арнольд рассказал, – усмехнулась Алёна. – Помните ту сцену в «Папе Косте», когда он пришел и начал меня вдруг целовать, как безумный? Помните?
– Еще бы! – звонким от ревности голосом сказала Лора.
– Потом-то я догадалась, что он шел на встречу с вами. Он был уверен, что Кирилла по его наводке крепко взяла милиция. Арнольд не знал, что его отпустили. А еще он не знал, что Кирилл отправил с вами на милонгу Жору. Вы пытались его предупредить, но не могли дозвониться. Помните, вы звонили из ресторанного туалета? Я случайно оказалась рядом… А потом случилось то, что случилось. Арнольд пришел – весь такой победитель жизни: и перстень украл, и соперника подставил, и приз сейчас получит. А вдруг ба-бах – красавицу охраняет чудовище в облике верного друга Жоры! И тут же топчусь я, которой Арнольд побаивался, не зная, как много мне известно и не состою ли я, часом, в секретных агентах Кирилла. Он попытался меня отвлечь какой-то болтовней, как вдруг – я отлично помню, как за его спиной хлопнула дверь! – во двор «Папы Косты» ворвался Кирилл, только что получивший свободу. Арнольд тогда мельком оглянулся, увидел его – и принялся меня целовать. Кирилл с вами начал танцевать, как ошалелый, под Ди Сарли, а Арнольд наутек бросился и меня уволок, пока Жора не сказал Кириллу, что его наиперший и наилепший вражина тут, и не последовала расправа за попытку свалить на Кирилла преступление, которое совершил сам Арнольд. И он был в таком шоке – я Арнольда имею в виду, – что сделался чрезмерно болтлив. И очень много мне наговорил, почти не контролируя с перепугу свое словоизвержение. Я узнала и про желание Кирилла во что бы то ни стало жениться на вас… и о ваших американских родственниках… и о том, что Кирилл много раз пытался перстень у Батмана купить, но тот не соглашался… Что, Арнольд заманил Кирилла в музей в нужное время каким-то поддельным письмом, так? И в это самое время запустил шутиху?
Лора безнадежно кивнула.
– Слушайте, а вам не жалко было Кирилла? – тихо спросила Алёна. – Прямо на ваших глазах человеку яму рыли, а он ведь вроде ваш мужчина…
– Арнольд тоже мой мужчина, – буркнула Лора. – Еще раньше, чем Кирилл. Он у меня первым был, а потом Кирилл меня увел. Он, конечно, интересный мужчина, с ним как за каменной стеной, но я… я не могла Арнольда забыть. Он так трахается! Это что-то!
– Да?.. – с сомнением протянула Алёна.
– Черт, вы с ним спали! Вы не только целовались с ним, но и спали! – яростно прошептала Лора и скрючила пальцы так, словно намеревалась немедленно выцарапать сопернице глаза.
– Спокойно! – выставила ладонь Алёна. – Тогда я еще не знала, что у вас вечная любовь. Он говорил, что свободен, он не то что про вас, но даже про первую жену не обмолвился ни словом…
– Какую жену? – обомлела Лора. – Арнольд был женат?!
– Похоже, он это ото всех тщательно скрывает, правда, не понимаю, почему, – пожала плечами Алёна. – Это было лет пятнадцать назад. Она предпочла ему какого-то американца и уехала в Штаты, где и живет до сих пор, не подавая вестей. Сказать по правде, когда я об этом узнала, я решила, что она – это вы, тем более, что она на вас по описаниям очень похожа, у нее тоже белые волосы. Но ее зовут Лелька, Ольга. И она, конечно, постарше вас.
– Так вот оно что… – вдруг медленно проговорила, вернее, простонала Лора. – Вот оно что! Я думала, он любит меня, а он копию искал! И белые волосы… И Лелькой меня называл… А выходит, Арнольд ее на моем месте представлял! И прицепился ко мне так потому, что со мной он бы часто в Америку ездил. Может, там со своей бывшей встретился бы и показал, что и он тоже не лабух какой-то!
– С чего вы взяли? – немедленно стала возражать Алёна – из чистого, конечно, человеколюбия, потому что сама-то она совершенно так же думала. – Вы вполне стоите того, чтобы вас за ваши собственные достоинства любили.
– Стою? – горестно повторила Лора. – Да ничего я больше не стою…
– Это в каком смысле? – удивилась Алёна.
– Да в таком! – запальчиво выкрикнула Лора, которой, видимо, нынче приспичило откровенничать. – Мои родственники, греки американские, которые хотели тут дело открывать, передумали! Говорят, лучше в Прибалтику двинут, там хоть какая-никакая, а все ж Европа, а у нас и в России как был базар, так и остался. То есть я теперь вовсе не богатая невеста, а невесть что!
– Ни фи-га себе… – протянула Алёна. – А Арнольд об этом знает?
Лора грустно кивнула.
– И что сказал?
– Да ничего, сказал, это ерунда.
– Н‑да? – не сумев скрыть сомнения в голосе, протянула Алёна, и Лора всхлипнула:
– Да! Я ему предложила: давай, мол, я все это Кириллу расскажу, потому что когда он узнает, что у меня теперь денег нет, он быстренько слиняет, и мы с тобой спокойно сможем пожениться. А он не велел Кириллу говорить, потому что он ему пока нужен, чтобы менты на нем сосредоточились.
– Довольно подлая позиция, вам не кажется? – вздохнула Алёна.
– Ой, да тут все подлые, всем гамузом и порознь! – махнула рукой Лора. – Не пойму, деньги им были нужны или я?
Алёна не отвечала – думала. Эти перстни в люстрах не давали ей покоя, особенно в связи с тем, что только что сообщила Лора о своем финансовом положении… предположения так и возникали одно за другим, но нужно было кое-что выяснить, чтобы разобраться…
– Скажите, Лора, а сегодня Кирилл с кем-нибудь по те…
Она не договорила – под лестницу протиснулась могучая фигура, сильно запахло коньяком и оживленный голос Жоры произнес:
– А вот и я, диффчонки!
В руках Жора держал длинную и тощую бутылку «Белого аиста» и три пластмассовых стаканчика, а на плече висела Алёнина сумка, в которую она в начале милонги, переодевшись, сложила свои джинсы, кроссовки, майку, зонт и ветровку.
– Я твои вещички заодно прихватил, – миролюбиво сообщил Жора, как будто не он только что придушил нашу героиню почти до смерти. – А то там, наверху, они уже повыдохлись все и собираются сматываться. Это, говорят, Алёнина сумка, а сама Алёна где? Я говорю: я за нее! – ну и взял сумочку. Да, Лорик, не повезло тебе сегодня, поплясать не удалось. Алик звонил…
– Не называй его Аликом! – с досадой перебила Лора. – Сколько можно просить? И что он сказал?
– Да ничего особенного, спрашивал: вы там как, танцуете? Я говорю: авжеж! Не стал его в подробности наших танцев под лестницей посвящать, чтоб не расстраивался. Ну, он сказал, что на яхту вернется только днем, потому что дела, а мы чтоб веселились как следует, а потом возвращались сами. Так шё, будем веселиться? Наливаю?
– Себе ты, кажется, уже наливал, и не раз, – проворчала Лора. – Бутылка наполовину пуста.
– Та ни, она наполовину полна, – ухмыльнулся Жора. – Не кипишись, Лорик, это тебе не идет! Ты же ж нежная и прекрасная, как иерихонская роза, шё ж ты с себя какую-то тетю Софу с Малой Арнаутской, угол Екатерининской улицы строишь? И не бранись на меня, я как выпил, у меня мозг просветлел. Я теперь понял, шё она, – Жора мотнул головой в сторону Алёны, – и вправду не могла ничего в люстру запрятать. Мы с нее глаз не сводили и ни на минуту одну не оставляли. Но тогда кто?! Кто это натворил, кто нам так подгадил?
– Может, вы мне уже скажете, что все-таки было спрятано в люстре и как вы это нашли? – спросила Алёна, усаживаясь поудобнее и принимая от Жоры сперва сумку со своими вещами, а потом стаканчик с коньяком.
– Ишь, чего захотела, – буркнул Жора. – Все тебе скажи! А ты потом Додику нас заложишь.
– Я этого вашего Додика терпеть не могу, – с чувством сказала Алёна. – У меня к нему счеты не меньшие, чем у вас. Спасибо, что открыли мне глаза. Именно благодаря вам, Жора, я поняла, что Додик и Арнольд – это одно и то же лицо. Его уменьшительное имя было – Нодя, но он произносил его как Додя, да? Пока не сделал операцию в носоглотке?
Жора с ухмылкой кивнул:
– В точку, мадам!
– Так что мы теперь союзники, – продолжала Алёна. – И я попытаюсь вам помочь. Но для этого мне необходимо знать, что появилось в люстре после моего отъезда? Только расскажите по порядку, как все происходило.
Лора и Жора переглянулись.
– Ну, короче, мы только пообедали, – начал Жора. – Вдруг Кириллу кто-то позвонил. Он сначала захохотал, узнав, кто звонит, а потом ушел в каюту и сто лет там лясы точил.
«После обеда, – подумала Алёна, – я сама пыталась дозвониться Кириллу, но телефон был занят. Все сходится».
– Кто звонил, знаете? – спросила она, обратив, кстати, внимание, что Жора вдруг перестал называть своего друга Аликом: видимо, учитывая серьезность текущего момента. Или чтобы Лору не огорчать.
– Нет, – дружно ответили Жора и Лора.
– А дальше что было?
– Потом Кирилл вдруг собрался и уехал на берег, – обиженно сказала Лора.
– Что, сразу после звонка? – уточнила Алёна.
– Да нет, примерно через час или чуть больше.
– А за это время что происходило?
– Да ничего особенного, – пожала плечами Лора. – Мы немного потанцевали, потом я села телевизор смотреть, а Кирилл на палубу пошел.
– В это время, – нехотя проговорил Жора, – около яхты появился тот скаженный бабайкер, Додиков племянничек.
– Ромка? Опять кого-нибудь катал? – усмехнулась Алёна.
– Ох уж мне этот катала! – скрипнул зубами Жора. – Каскадер долбанутый. Ему шё байк, шё аквабайк, шё на суше, шё на море.
– Бог ты мой! – ошеломленно воскликнула Алёна. – Что на суше, что на море? Что байк, что аквабайк?! Неужели это он был там, на Лонжероновской?!
– А ты думала, кто? Ален Делон? – захохотал Жора. – Само собой, Ромка.
– Арнольд сказал, что это был Кирилл, – вздохнула Алёна. – Зачем было врать, не понимаю?!
Жора и Лора переглянулись.
– Ну вообще-то, – наконец сказала Лора, – был один раз такой случай… давно… когда Кирилл чуть не задавил Арнольда. Это произошло нечаянно, он просто с управлением не справился. Но…
– Но Додик выставил все так, будто Кирилл на него покушался, – подхватил Жора. – Он еле-еле избежал тогда ареста, потерял права… Между прочим, с тех пор Кирилл вообще за руль ни разу не садился, даже в автомобиль, у него и колес нету, мы все на таксишках ездим. А не то шёб на байке лихачить!
– Господи, сколько вранья! – простонала Алёна. – Зачем? Неужто все просто из любви к искусству?
Лора покраснела так, что даже в подлестничной полутьме это было заметно.
«Понятно, – подумала Алёна. – Арнольд всеми силами пытался замести следы преступления, которое он совершил, и свалить его на Кирилла. И все это было сделано из любви… к Лоре? Или?..»
– Диффчонки, – ласково сказал Жора. – Шё ж вы не пьете? Ну, давайте со свиданьицем, а?
– Ой, Жора, да погоди ты! – отмахнулась Лора. – Погоди с этой отравой! Паленый «Аист», я по запаху слышу. Надо же было купить такую гадость! Говорят, там, в Тирасполе, левый коньяк мочой разбавляют!
Алёна быстро поставила стаканчик на пол – подальше от себя.
– Да ты шё?! – поперхнулся Жора. – Кошмар и сумасшедший дом! Вот разберемся с этой историей – поеду в Тирасполь, всех поубиваю, кого десять лет назад молдаване живыми оставили!
– Ладно, ближе к делу, – резко сказала Алёна. – Сколько можно тут сидеть? Милонга закончилась, нас сейчас выгонят отсюда, а мы так ничего и не поняли и не решили. Значит, к яхте приехал Ромка на аквабайке. И что?
– Да ничего, – пожал плечами Жора. – С ним были две девчонки. Одна захотела сесть за руль. Ромка спустился в воду, поплавал вокруг яхты, покачался на якорной цепи. Мы с Кириллом поржали: дескать, сетку снова спускать, новую русалку будем ловить? Но он залез на байк – и уехал со своими девицами.
– Ну и? – нетерпеливо сказала Алёна.
– Ну и все, – пожал плечами Жора. – Потом Кирилл спустил наш аквабайк – на яхте есть два для связи с берегом, – взял с собой вещи в рюкзаке и поехал, сказал, что у него какие-то срочные дела. И велел мне Лору отвезти на милонгу, если он задержится. И он, дескать, туда тоже приедет. Ну вот теперь вышло, что не приедет.
– А вы не спросили, куда он отправился?
– Ты шё? – уставился на нее Жора. – Ты шё, Кирилла не знаешь?
– Не знаю, – усмехнулась Алёна не без сожаления. – Но, судя по вашим словам, он не из тех, кому можно задавать лишние вопросы.
Лора тихонько вздохнула.
– Ладно, дальше поехали, – кивнула Алёна. – Рассказывайте.
– Мы сидели в салоне и слушали музыку. Уже смеркалось, и я зажгла верхний свет. Он загорелся – и тут же люстра погасла. Жора пошел за отверткой.
– Я ее сто лет искал, – проворчал Жора. – Так и не нашел, хотя она еще вчера на месте была, в ящике с инструментами. Я ее сам туда положил. Вчера эта чертова лампочка уже перегорала, я ее менял, а сегодня – опять! И отвертки нет. Потом принес ножик с камбуза и острием открутил шурупы. И увидел коробочку. А в ней… а в ней перстень. Тот самый, который стащил Додик!
– Не может быть! – вскрикнула Алёна.
– Я тебе говорю! – настойчиво сказала Лора. – Я его отлично знаю! Это ведь легенда нашей семьи! Я его никогда не видела, но по описаниям… Серый хиастолит с крестом, золотая оправа…
– Вы его взяли с собой? – спросила Алёна.
Жора и Лора переглянулись.
– Да, – вздохнула Лора. – Взяли. Мы боялись… вдруг в наше отсутствие каким-то образом менты на яхту попадут. Увидят перстень – и тогда Кириллу крышка. Подумают, что он украл, в люстру спрятал…
Алёна молча смотрела на нее. Да что ж они такие слепые-то, а?! Для нее ответ на вопрос, как перстень попал на яхту, был совершенно очевиден.
– Покажите мне его.
– Шё захотела! – строптиво фыркнул Жора, но Лора только плечом повела – и он, еще более недовольно фыркнув, вытащил из кармана маленькую синюю бархатную коробочку и протянул ее Алёне.
Она открыла коробочку и посмотрела на тяжелый золотой перстень с серым хиастолитом, перечеркнутым загадочным подобием креста. Достала его, покрутила так и сяк. Было темно, слишком темно, чтобы что-то толком разглядеть, но она мягко провела пальцем по закругленному металлу – и вдруг нащупала некую шероховатость. Клеймо! Нужен был не только яркий свет, но и увеличительное стекло, чтобы его разглядеть, но Алёна и без того знала, что там начертано, на этом клейме. Сначала три большие буквы – МИГ, а потом одна маленькая – к.
– Да что вы тут делаете?! – раздался возмущенный голос, и под лестницу заглянула объемистая женщина с аккуратно уложенными седыми кудряшками. Алёна узнала вахтершу. – Все уже ушли, а они тут спиртное распивают?! Да я сейчас милицию… я сейчас…
– Спокойно, тетенька, мы еще не все распили, – сказал Жора и сунул ей в руки бутылку с остатками забракованного «Белого аиста».
* * *
Вера заболела еще осенью, в ноябре: началась сильнейшая ангина, которая усугубилась тем, что номер ее был заставлен хризантемами. Тогда Вера впервые поняла, что этот запах вызывает у нее удушье так же, как аромат гиацинтов и подобных им цветов. К счастью, сезон хризантем закончился, ей сразу стало легче, но тут грянула настоящая беда: заболела Женя, дочка. Кое-как выходили ее – для этого пришлось переехать на частную квартиру, ведь у Жени была скарлатина, а в гостинице не топили, – но потом Вера вернулась в «Бристоль»: жизнь на частной квартире оказалась слишком дорогой. Мама Веры, Екатерина Сергеевна, сестра Соня и Женечка остались на квартире.
Уж на что холодна была осень, однако зима девятнадцатого года выдалась ну просто удивительно студеная! Даже лиман замерз, и на берегу, у подножия Ришельевской лестницы, громоздились горы льдин. Такого мороза даже старожилы не могли припомнить. А может быть, так безумно холодно казалось потому, что не было ни дров, ни угля… тем паче, в гостиницах!
Однако работа киногруппы продолжалась, к тому же, приходилось давать постоянные концерты, на которых зрители сидели в шубах и валенках, а актеры выходили во фраках, актрисы же – в декольтированных платьях, едва накинув кружевные шали. Ну и в легоньких туфельках, конечно, и в чулках-паутинках… Ноблесс оближ!
После одного из таких концертов Вера вернулась к себе в ознобе. Легла, закутавшись, в постель и только согрелась – тут явилась гостиничная горничная с огромным букетом лилий и карточкой консула Энно. Вера уже спала, поэтому горничная просто поставила цветы на столе в вазу.
Пришла сестра Соня, которая жила то в «Бристоле», то вместе с матерью, и сразу услышала, как задыхается от кашля Вера. Она спала горячечным, тяжелым сном, не в силах проснуться и понять, что же это разрывает ей грудь. Соня сразу вспомнила, как Вера болела в ноябре. Вспомнила про цветы… Она немедленно убрала лилии и побежала в номер Чардынина.
Тот вызвал врача. Это был доктор Усков, уже лечивший и Веру, и ее дочь. Он определил испанку – особо тяжелую форму гриппа. Правда, немного удивился: ведь в Одессе эпидемия испанки прошла еще в ноябре. С запинкой высказал он предположение о воспалении легких. Отсюда – сильный жар, удушье, боль при каждом вдохе и выдохе.
Только ли отсюда?
Но ведь доктор Усков ничего не знал про лилии…
Так или иначе, он категорически потребовал перевезти Веру туда, где тепло.
Ее увезли в дом, где жила мать, созвали консилиум из лучших врачей Одессы, но было уже поздно: после восьмидневного недомогания и двухдневного острого кризиса – с беспамятством, бредом, удушьем – Вера Холодная умерла.
Усков, которому Соня наконец-то рассказала про лилии, ужаснулся. Самым пугающим было то, что к букету оказалась приколота карточка французского консула… Получалось, что отек легких был спровоцирован не болезнью, а аллергической реакцией на этот аромат? Усков не знал, что писать в заключении.
В это время в дом, где еще лежала на постели, а не в гробу «королева экрана», приехал Гришин-Алмазов. Ее пальцы теперь и впрямь пахли ладаном, а в ресницах спала такая печаль, такая…
Гришин-Алмазов вспомнил клятву, которую дал Вере, и взглянул на ее руки, полуприкрытые легким флером. Но перстня на пальцах, окаменевших вокруг свечи, не было…
Он посмотрел на мертвое лицо и мысленно спросил Веру, что же делать. Неужели он должен ради исполнения этой почти шутливой клятвы пойти к ее рыдающей семье и потребовать у них перстень?!
Это было невозможно для его чести, для его сердца.
– Прости меня, – пробормотал он, целуя мертвые, почерневшие от лекарств уста, и пошел к двери.
Уже на крыльце его догнала Женя и молча разжала кулачок. На ладони лежал перстень. Женя что-то говорила, но из-за рыданий трудно оказалось что-то понять. А впрочем, что тут понимать? Все и так было ясно.
Вера думала о нем перед смертью…
Гришин-Алмазов поднес перстень к губам, а потом надел его.
И тут так стеснило сердце, что он едва удержался от мальчишеских, непростительных, постыдных слез.
А впрочем, в них ничего не было постыдного – вся Одесса плакала в те дни.
Его снедала жажда мести – тем более бессмысленная, что мстить-то было совершенно некому! Разве что самой Смерти!
Но все же душа так и рвалась на части в жажде крови.
И тут перед ним предстал перепуганный до смерти Усков, который бессвязно рассказал о случившемся, о подлинной причине смерти Веры.
Одесский диктатор взглянул на него со странным облегчением… даже улыбка почудилась дрожащему доктору в его нервическом оскале… но ничего он Ускову не сказал, а послал своих людей в «Бристоль». Сам же отправился к Энно.
Спустя четверть часа он доподлинно узнал, что Энно никаких лилий Вере не посылал, а доставил их в отель какой-то рассыльный. Еще спустя полчаса «красная шапка» с помощью гостиничного портье был обнаружен все в том же кафе «Фанкони». Он очень подробно описал унылого человека в потертом пальто, который вручил ему обернутый в шелковистую бумагу букет, источающий дурманящий лилейный аромат.
По этому словесному портрету полицейские опознаватели, которые знали наперечет чуть ли не всю одесскую уголовщину, назвали Шмулика Цимбала, который был в большом доверии у Мишки Япончика.
– Шмулик слабак и трус, – сообщил один из них Гришину-Алмазову. – Мигом все скажет!
Только вот какая беда вышла: Шмулика буквально минувшей ночью подстрелила в темной подворотне какая-то сволочь. «Небось каратели Гришина-Алмазова!» – судачили на Малой Арнаутской улице, где убивался от горя Шмуликов папаша, башмачник Цимбал.
Ниточка оборвалась. Гришин-Алмазов подозревал, кто истинный виновник смерти женщины, которую он уже почти любил… Подозревал, но сделать уже ничего не мог. Рейды по Молдаванке следовали один за другим, однако Япончик словно сквозь землю провалился.
Зато повезло в другом – была арестована французская агитаторша Жанна-Мари Лябурб.
Гришин-Алмазов давно слышал об этой велеречивой француженке, которая появлялась на кораблях в широкополой фетровой шляпе и очаровывала своей болтовней моряков. Генерал Д’Ансельм ее ненавидел и говорил, что проклятая баба смогла взорвать изнутри целый оккупационный корпус!
Ее выдал немец, служивший во французской армии, по фамилии Манн. Он говорил о себе как об участнике революционного германского движения «Спартак». Он же назвал адрес, по которому жила француженка: улица Пушкинская, двадцать четыре, квартира тринадцать. Ее арестовали вместе с хозяйкой квартиры Ривой Лейфман с тремя дочерьми. В подвалах французской контрразведки на Екатерининской всех сначала крепко избили, а ближе к ночи второго марта посадили в автомобиль и отвезли на расстрел.
Эх, не знал Гришин-Алмазов, что Жанна имеет отношение к смерти Веры, иначе одной ночью избиений она не отделалась бы, ибо жестоким было время, жестокими были и люди!
Вскоре был арестован и расстрелян Делафар. Собственно, тут Гришин-Алмазов действовал наудачу… все не мог забыть, как сидел Делафар в фойе «Бристоля» и какой подлый и вместе с тем перепуганный был у него вид. Вышло, что чутье диктатора не обмануло. То, что было найдено у мсье Делафара при обыске, заставило с ним не церемониться. Кое-что он успел уничтожить, но многое осталось.
– Что ж так плохо документы жег? – презрительно спросил Гришин-Алмазов. – Это же первое дело: сжечь бумаги! А второе – застрелиться.
Делафар пошевелил разбитыми в кровь губами, но зубы у него были выбиты, и никто не понял, что он там прошепелявил. Вскоре его расстреляли.
Но Веру это никоим образом уже не могло вернуть, ей вся эта суета была уже безразлична… так же, как, впрочем, и врачебное заключение доктора Ускова, удостоверяющее, что Вера Васильевна Холодная скончалась от отека легких. Усков тянул с диагнозом сколько мог, а потом выдал его очень быстро: после того, как его дочь была похищена неизвестными людьми.
Ускову было приказано немедленно выписать свидетельство о смерти Веры Холодной. Как только он заполнил все бумаги, его дочь вернули домой. Она что-то говорила о человеке с узкими глазами, которого увидела в замочную скважину: ее держали в запертой комнате. Но кто был этот человек, девочка не знала.
У доктора Ускова, коренного одессита, были на сей счет свои мысли, однако он предпочел держать их при себе.
Соня, сестра Веры, тоже помалкивала о том, как на другой день после визита в их дом Гришина-Алмазова в дом ворвались какие-то люди и один из них – узкоглазый толстяк – стал требовать отдать ему перстень с серым камнем. Соня сразу сказала, где теперь перстень.
Толстяк только выругался и исчез со своими людьми, никого и пальцем не тронув. Впрочем, возможно, его остановило то, что на столе в гробу лежала королева экрана?
* * *
– Вы Арнольду-то зачем сегодня звонили? – тихонько спросила Алёна. – Хотели сказать, что эту штуку нашли в люстре?
– Ну да, – мрачно кивнула Лора. – А у него телефон не отвечал. И у Кирилла тоже не отвечает.
Алёна кивнула. Если она все правильно поняла, Арнольд на звонок Лоры ответит еще не скоро. Насчет Кирилла вопрос пока оставался открытым. Пока его номер тоже молчал, хотя, по просьбе Алёны, и Лора, и Жора несколько раз его набрали. Что это значило, понять было довольно сложно, хотя нервировало всех. Видимо, те дела, о которых он говорил, занимали его всецело.
Он мог быть снова задержан милицией. Он мог потерять телефон. Он мог где-то элементарно сидеть и пить.
Все могло быть!
Могло быть даже то, о чем неотступно думала Алёна, и от этих мыслей у нее ужасно портилось настроение.
– Ну и льет, – пробормотал сердито Жора. – Ну и хлыщет. Вот кошмар!
Правильно говорила милая девушка Оля – одесские синоптики не врали. Циклон обрушился-таки ливнем, да каким! Те полминуты, которые понадобились Жоре, Лоре и Алёне, чтобы сесть в такси, подогнанное к самому крыльцу Дома офицеров, были самыми мокрыми в их жизни.
Лило невероятно. «Дворники» не успевали справляться с потоками воды на ветровом стекле.
– На меня капает! – возмущенно воскликнула Лора. – У вас крыша течет!
– Перестаньте сказать! – ухмыльнулся водитель. – У вас фантазия, как у писателя Сережи Лукьяненко!
– В самом деле капает, – согласилась Алёна. – На меня тоже.
– Раскройте зонтик, мадам! – весело посоветовал таксист.
– А ты рот закрой! – рассердился Жора.
– Все для вас за ваши деньги! – согласился водила.
Некоторое время ехали молча.
– Говорят, эти дожди надолго, – наконец с тоской сказала Лора. – Никто не знает, когда кончится циклон?
– Да обещали на неделю, – подал голос водила.
– Ужас, неужели каждый день такие ливни будут?!
– А шё, Китай же вон затопило! – успокоил он. – И нас затопит… ой, гляньте, «дворники» сломались!
В самом деле, «дворники» больше не елозили по стеклу.
– Погодите, – сказал водитель. – Сейчас покумекаю, шё там.
И выскочил вон.
– Я все же не пойму, – капризно сказала Лора, – почему мы не можем вернуться на яхту! Кирилл же велел возвращаться!
– В такую шальную погоду нельзя доверяться волнам, – не без приятности пропел Жора. – Я не бабайкер, я не справлюсь с управлением, потонем, как пить дать, пока будем плыть. Тут я с Алёной Дмитриевной согласен на все сто. Ничего, переночуешь в своем номере, а утром, глядишь, дозвонимся до Кирилла. И все пойдет по-старому.
Лора только вздохнула: пожалуй, понимала, что по-старому уже ничего никогда не пойдет.
– А ты где ночевать будешь?
– Ну, мож, и для меня номер найдется, – ответил Жора, явно растроганный тем, что Лора о нем побеспокоилась. – А нет, я где-нибудь в коридорчике, на полу… мож, раскладушку поставят…
«А мож, на половичке у Лориной двери, как верный пес», – подумала Алёна, но промолчала.
Дверца открылась, вернулся насквозь мокрый водитель. Встряхнулся, как собака, – и пассажиры, которые тоже стали мокрыми, дружно взвизгнули.
– Товарищи, ша! – страдальчески сморщился таксист. – Ну ведь разве ж это повод для крика? Есть печаль потоскливей. «Дворники» напрочь сломались.
– А что же делать? – наивно спросила Алёна.
– Та шё? Без них поедем. Щас только оторву, шёб не мешались.
И он снова выскочил на улицу, в самом деле не снял, а сорвал «дворники», прыгнул обратно, снова встряхнулся…
– Если бы я знала, что мы так будем ехать, я б лучше купальник надела, – уныло сказала Лора.
– Да мы уже от вашего «Дерибаса» в двух шагах! – успокоил водитель. – Подумаешь, ерунда! Никакого риска!
Однако это ерундовое расстояние преодолевалось довольно долго. Что-нибудь разглядеть за окном можно было, только когда автомобиль притормаживал на светофорах, а при движении все сливалось в сплошную водяную муть, изредка испятнанную светом фар встречных машин.
Алёна позвонила Оксане, но та не отвечала. Спит, наверное. В пятом часу утра можно и гостиничной дежурной поспать чуток. Вообще хорошее время на дворе. Все спят, в том числе и злодеи, вот и благородным героиням пора наконец передохнуть.
Наконец остановились. В струях дождя, непрерывно бегущих по стеклам, с трудом угадывались очертания перекрестка Дерибасовская – Гаванная, гостиницы, стройки…
Пока выбирались из такси и раскрывали зонты, промокли окончательно. В подъезд «Дерибаса» ворвались, фыркая, отряхиваясь и шмыгая носами.
– Наконец-то сухо! – радостно прогудел Жора, и эхо его баса вознеслось вверх по лестничной клетке.
– Тише, все же спят! – ужаснулась Лора.
– Ой, Лорик, какая ж ты нежная, деликатная! – восхитился Жора. – Всегда обо всех заботишься… Повезло Алику! Жутко повезло!
– Не называй ты его Аликом! – привычно ответила Лора, но в голосе звучало непривычно мало досады.
Алёна тихонько усмехнулась.
Поднялись по лестнице. За столиком дежурной было пусто. Алёна подняла газетку – да, ключ от ее номера на месте.
– А у меня с собой. – Лора достала ключ от пятнадцатого номера из сумки. – Я на всякий случай взяла, чтобы никто в моих вещах не шарился.
Алёна пропустила намек мимо ушей.
– Ну что, спокойной ночи? – сказала она.
– Ага, – кивнул Жора. – Вы, диффчонки, идите да лягайте в свои коечки, а я от туточки, на стульчике, переночую. – И он показал на стул дежурной.
– Вот еще глупости! – сердито сказала Лора. – Ты весь мокрый, твои вещи надо сушить повесить. И под горячий душ надо, а то простудимся. Пошли в мой номер, я тебе на полу постелю. Там в шкафу есть запасные одеяла и подушки, как-нибудь обойдемся.
– Ох, Лорик! – прочувствованно вздохнул Жора и помахал Алёне: – Спокойной ночи, приятных снов! Ух ты! А это что такое?
Он вдруг нагнулся и вытащил из-под столика дежурной… шлепанец, украшенный стразами.
– Хтось посеял? Разве что позаимствовать да самому поносить? – Он еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. – Вот жалко, шё только один! Да, Лорик?
– Фу, какая пошлость! – сказала Лора, не без отвращения разглядывая гламурную обувку. – Просто жуть!
Алёна молчала. Ее вдруг начало познабливать. Конечно, надо снять с себя мокрое, постоять под горячим душем, а иначе можно и заболеть… она вообще легко простужалась…
– Жора, а Кирилл когда звонил, случайно, не спрашивал, видели ли вы меня на милонге? – вдруг сказала она.
– Ну, – неопределенно сказал Жора. – Спрашивал. А шё?
– А интересно, почему это он спрашивал? – проговорила Лора, и голос ее снова зазвенел от ревности.
Алёна пожала плечами, а сама подумала, что Лоре хорошо бы разобраться, кого она все же ревнует из двух своих мужчин, а то останется, как Буриданов осел, у разбитого корыта. Хотя осел остался не у корыта, а у сена… Да не суть важно где, главное, что остался!
Тем временем Жора, хихикая, водрузил шлепанец на стол и пошел вслед за надувшейся Лорой в ее номер. С Алёной ревнивица даже не простилась.
Дверь закрылась, повернулся ключ в замке. Вскоре стало слышно, как зашумела в ванной вода. Горячая, манящая, успокаивающая вода…
Алёна осторожно, стараясь ступать как можно тише, спустилась по лестнице и остановилась у двери, ведущей на улицу.
Можно уйти. Поймать попутную машину или вызвать такси – и уехать к Танютке. Или куда угодно, например, в другую гостиницу! Переночевать там, ничего никому не говоря, а вернуться уже днем, когда придет другая дежурная… Она придет и найдет – кого? Или уже – что?.. Может быть, вообще будет поздно…
А сейчас?
Неизвестно. Но вдруг еще что-то можно сделать!
Если нужно – значит, можно.
Какие фразы иногда выскакивают из подсознания в тяжкие минуты жизни! «Если нужно, значит, можно!» Ну прямо афоризм. Вполне годится для девиза. И чем этот девиз хуже общеизвестного: «Цель оправдывает средства?» Да ничем. Точно так же может быть истолкован в обоих смыслах, и в положительном, и в отрицательном.
– Попытаемся в положительном, – проворчала Алёна, доставая телефон.
И снова задумалась…
Можно, конечно, элементарно вызвать милицию. Но тогда она ничего толком не узнает. А узнать не только хочется, но и нужно! И еще больше хочется и нужно все кое-кому высказать. Поэтому мы пойдем другим путем.
Алёна набрала номер Танютки, заготавливая самые извиняющиеся интонации, на которые она только была способна.
Впрочем, сильно стараться не пришлось. Танютка, даром что была разбужена в несусветный час, оказалась по-дневному сообразительной и всепонимающей. Правда, сначала она заартачилась, однако потом, выслушав доводы Алёны, согласилась поступить по ее указке.
Наконец наша героиня медленно, устало и неохотно потащилась вверх по лестнице. Вздохнула, проходя мимо стоящей на столе босоножки со стразами… потом взяла ее и дошла наконец до своего номера.
Достала ключ, поднесла к замочной скважине. Пожала плечами. Ничего не надо открывать. Если ключ лежал на столе, значит, дверь не заперта.
И она с силой толкнула ее, но войти не вошла, а только сказала, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разбудить (не одной Лоре была свойственна деликатность, мы, чай, тоже не лыком шиты!) никого из соседей:
– Кирилл, я знаю, что вы здесь. И не только я это знаю. И самое позднее через полчаса приедет милиция. Но может и не приехать… все зависит от вас. Поэтому давайте поговорим спокойно. Хорошо?
* * *
Если кому-то из людей досужих, то есть тех, у кого всегда есть время сунуть нос в чужие дела, и было любопытно, отчего это девица Наркевич, с которой венчался мировой судья Павел Кич, носит ту же фамилию, что и «король Молдаванки», то ответ всякому-каждому мог быть только такой: а они однофамильцы! Сама же девица происходит из очень добропорядочного, хотя и небогатого семейства. Почтенный батюшка ее, Фердинанд Яковлевич, служит начальником телеграфной станции Житомирского отделения в Кишиневе. Он являлся всего-навсего коллежским асессором, так что для Кича этот брак был, конечно, мезальянсом, однако невеста оказалась фантастически хороша. Такую можно и бесприданницей взять!
Впрочем, было отмечено, что женитьба Кичу явно принесла удачу. Он купил дом на Старофранковской улице, куда и привез невесту, и после медового месяца, проведенного не где-нибудь, а в Париже, где молодые останавливались в «Гранд-отеле» на бульваре Капуцинок, начал весьма преуспевать по службе. Совсем скоро Кич сделался председателем Одесского городского съезда мировых судей, а затем и членом наблюдательного совета Земского банка Херсонской губернии и председателем Одесского коммерческого суда. Эти должности были столь же почетными, сколь и хлебными.
– Хорошо приятельствовать с городским головой! – шептались пресловутые досужие люди, которым, понятно, дело есть до всего, что их не касается.
Да, дружба Кича с Григорием Маразли, который к тому времени стал городским головой, не могла остаться незамеченной. Ведь это Григорий Григорьевич помог отпраздновать свадьбу столь пышно, что о ней вспоминали годы и годы спустя. Он помог купить и обставить домик на Старофранковской. Он устроил эту поездку в Париж… молодые супруги отправились туда в составе его свиты. Он всячески способствовал карьере Кича, относясь к нему воистину как к младшему брату.
Щедрость Маразли по отношению к Кичам никого особенно не удивляла, ибо он вообще был человек щедрый, особенно к красивым женщинам.
В те времена в Одессе были три признанные красавицы, и Маразли никак не мог сделать выбор: ухаживать ли за Ариадной Папудовой, Натальей Зарифи или Розой Бродской. Как-то раз на балу в доме Папудовых, на котором присутствовали пятьсот восемьдесят гостей, танцевали мазурку в сто двадцать пар. В числе замысловатых фигур устроили «тройку». Впряглись в нее три перечисленные красавицы. Гирс, распорядитель бала и дирижер мазурки, взял шелковые ленты в руки, оглядел следовавшие за ним остальные тройки и уже хотел скомандовать: «Мазурка женераль!», когда вдруг раздался голос Маразли:
– Остановитесь!
Все замерли, недоумевая, но Григорий Григорьевич лишь простер руку к ослепительной тройке, приглашая публику полюбоваться ее красотой. Все так и ахнули от восторга. Дамы, гордые сознанием своей обворожительности, ринулись вперед, увлекли Гирса – и зал под звуки мазурки загремел аплодисментами…
После бала каждая из дам получила великолепное ожерелье от Маразли. Но его имя так и осталось не связанным ни с одной из них.
Трудно поверить, что все эти годы он хранил верность одной-единственной женщине.
О нет, он не убил Кича, хотя не раз руки чесались сделать это. Но Мара поклялась, что покончит с собой, если Маразли окажется виновен в смерти ее мужа. И Григорий Григорьевич знал, что она это непременно сделает.
У нее были странные понятия о честности. Она считала нужным непременно сдержать данное Кичу слово выйти за него замуж. Правда, возможность принять окончательное решение была предоставлена ему. После того, как Мара сделалась любовницей Маразли, она честно рассказала обо всем жениху и сообщила, что не будет в обиде, если он вернет ей слово.
– Ты думаешь, он женится на тебе? – закричал взбешенный Кич. – Как бы не так! Он и не подумает сделать тебе предложение!
– Он его уже сделал, – спокойно ответила Мара. – И если ты от меня откажешься, я выйду за него.
Кич посмотрел на нее – и поверил. И сказал:
– Я не могу жить без тебя. Я беру тебя такой, какая ты есть. А он… он скоро тебя забудет!
Мара только улыбнулась.
Маразли узнал об этом с огромной душевной болью, но решил ждать. Рано или поздно Мара бросит Кича и станет его женой! Во имя этого будущего он купил ей новых родственников, новую биографию. Никто не посмеет и слова гадкого сказать о женщине, которая была для Григория Маразли смыслом существования!
Этот роман, один из самых странных романов, которые только знала история любви, длился тридцать лет. В это почти невозможно поверить… но это так!
Сначала Мара была женой Кича и любовницей Маразли. Оба мужчины смирялись с этим, как околдованные. Каждый мечтал, чтобы Мара забеременела от него. Григорий Григорьевич надеялся, что ради ребенка она бросит мужа. Кич надеялся, что она бросит ради ребенка любовника.
Но Мара по-своему понимала клятву, которую дала мужу, когда они стояли под венцом. Эта клятва была цепью, которая приковывала ее к этому человеку.
А к Маразли приковывало неугасающее плотское и сердечное влечение.
Григорий Григорьевич скоро понял, что Мара бесплодна. Ведь у него рождались раньше внебрачные отпрыски то тут, то там. Однако Кич долгое время считал, что вся вина лежит на нем. Рождение ребенка, который отвлечет Мару от Маразли, стало его навязчивой идеей. Он ходил по врачам, потом обратился к знахаркам. Кончилось все это печально – полной импотенцией.
Теперь Мара стала как бы сестрой Кича, заботливой и любящей, и почти открыто жила с Маразли.
Она любила его так же пылко, как он ее. К Павлу Кичу осталась лишь слегка брезгливая жалость. И наконец Мара решилась на развод.
Она вышла за Маразли в 1903 году. К этому времени Григорий Григорьевич уже вышел в отставку. Ему был 71 год. А Марье Фердинандовне… Она всем говорила, будто ей сорок пять, хотя на самом деле ей уже исполнилось пятьдесят. Впрочем, ни про пятьдесят, ни про сорок пять никто не верил, настолько красивой она была и настолько молодо выглядела.
В свадебное путешествие они отправились в Грецию. Так захотела Мара.
Женой короля Георгия Первого была русская принцесса Ольга Константиновна. Она много слышала об отце и сыне Маразли и захотела увидеть своего скандального соотечественника.
Молодожены явились во дворец с частным визитом. Ольга Константиновна встречала их не в окружении пышной свиты, а всего лишь с несколькими ближайшими фрейлинами.
При виде Марьи Фердинандовны статс-дама королевы, семидесятилетняя графиня Манос, лишилась чувств.
На другой день господа Маразли получили приглашение в дом Манос, и хозяйка, ничего не объясняя, показала им изображение своей сестры. Красавица в сером платье смотрела на них с портрета. Григорий Григорьевич так и ахнул: это была вылитая Мара в те далекие времена, когда он увидел ее в «Плезире» и навеки потерял от нее голову!
В это время Марья Фердинандовна протянула руку и коснулась пальцев дамы на портрете. И только сейчас Маразли заметил, что там изображен совершенно такой же перстень…
– Это моя старшая сестра, – сказала графиня Манос. – Я давно ничего не знаю о ней… Моя внучатая племянница Аспасия, дочь моего брата, очень любит этот портрет, ведь сестру тоже звали Аспасия. Она была просватана за некоего молодого человека, однако тот погиб накануне свадьбы. Потом погиб ее второй жених. Стали поговаривать, что с ней что-то нечисто, что ей нужно уйти в монастырь. Тогда наша бабушка, которая ее очень любила, привезла с Крита какую-то знахарку. Она славилась тем, что умела исправлять судьбу, как это называли простолюдины. Старуха велела принести ей все украшения, которые есть во дворце. В числе других был старинный перстень с серым амазонитом. На нем была черная черта, напоминающая тонкую трещину.
Старуха оставила его у себя на ночь, а утром все увидели, что эту трещину перечеркнула другая.
– Я перечеркнула твою судьбу, – сказала старуха моей сестре. – Тебя преследовал рок несчастной любви – теперь ты найдешь свое счастье. Такую силу обрел этот перстень. Он всегда будет помогать любящим. Но смотри, не упусти счастья, когда встретишь своего мужчину, а то в самом деле тебе только и останется, что засыхать под черным клобуком, а перстень утратит силу.
С тех пор Аспасия не снимала его.
– Спустя месяц сестра исчезла, – продолжала госпожа Манос. – И никто не знал, куда она пропала! Служанки болтали, что она связалась с каким-то русским моряком и тот увез ее в Санкт-Петербург. Была ли она счастлива? Что вы знаете о ней?
Марья Фердинандовна поведала о шарманщике Наркевиче и о том, что рассказывал он…
Эта история скоро стала известна при греческом королевском дворе, и Ольга Константиновна заявила, что Марья Маразли всегда будет желанной гостьей в Афинах. Она взяла слово с сына, принца Константина, что он не забудет этого обещания.
– Я тоже не забуду! – сказал юный сын принца Александр.
Именно его невеста, Аспасия Манос, отправит в 1918 году греческий крейсер в Одессу, чтобы увезти оттуда свою двоюродную бабушку, Марью Маразли. А накануне отплытия Марья Фердинандовна подарит заветный перстень человеку, который спас ее от бандитов Мишки Япончика: одесскому диктатору Гришину-Алмазову.
* * *
На всякий случай Алёна держала Оксанин шлепанец с его острым, хорошо подкованным каблуком наготове, но применять оружие не потребовалось.
Послышался легкий смешок, потом увесистый удар по выключателю – и вспыхнул свет.
Алёна была к этому готова и заранее прищурилась – но тут же широко распахнула глаза от изумления!
Перед ней стоял Кирилл, но не этому она удивилась: иначе просто быть не могло. И то, что на ее кровати будет лежать связанная Оксана, тоже можно было предположить. Но вот то, что с ней рядышком окажется Арнольд… это выглядело ошеломляюще! Оба были так тщательно окручены простынями, что не могли двинуться. Рты завязаны кусками разорванной наволочки.
Алёна помахала шлепанцем:
– Оксана, все в порядке. Я как увидела его, так сразу поняла – что-то случилось.
– А, к такой-то матери… – протянул Кирилл. – Я и не заметил…
– Барышню развяжите, – приказала Алёна. – И молитесь Богу, чтобы она не кинулась вызывать милицию прямо сейчас, немедленно.
– Зачем же тогда я ее буду развязывать? – весело спросил Кирилл, играя глазами. – Пусть полежит полчасика, ничего с ней не случится.
– Напоминаю: милиция может и не прибыть, если вы… если вы будете вести себя разумно.
– Пусть и барышня себя ведет разумно. – Кирилл с явной неохотой взялся за узлы. – А то кинется сейчас на меня орать или царапаться. Посмотрите на Додика – у него вся та сторона физии в полосочку.
Алёна не поленилась обойти кровать. Да… Оксана не дешево продала свою свободу! Однако эти царапины навели на кое-какие догадки. Но Алёна этому не удивилась. Собственно, догадки только подтверждали выводы, к которым она пришла еще раньше.
Если у Оксаны был повод поцарапать Додика, то есть Арнольда, значит, первой была связана она. Видимо, руку к этому приложили оба временных союзника, каковые быть таковыми вскоре перестали.
Причина сего была ей отлично известна. Эта причина звалась Алёной Дмитриевой.
– Ну что ж, – сказала она философски, – значит, надо заткнуть ей рот, чтоб не вздумала орать. И лишить возможности царапаться. Советую вам для этого заглянуть в свое портмоне.
Для начала Кирилл заглянул в ее глаза… Вернее, попытался. Но Алёна опустила ресницы и высокомерно подняла брови. Это немедленно придало ее лицу такое ледяное выражение, что Кирилл разочарованно вздохнул и пошел к своему рюкзаку, небрежно брошенному в углу комнаты.
Алёна незаметно, но торжествующе улыбнулась: подумаешь! Красивых глаз она не видела, что ли? Были такие… черный огонь, черный туман…
Но все это – в давно забытом прошлом. Точнее, в незабываемом, но про это никто, кроме нее самой, не должен знать.
Тем временем Кирилл покопался в рюкзаке, вынул пачку гривен и три стодолларовые бумажки:
– Этого хватит?
Алёна покосилась на Оксану. У той было совершенно очумелое выражение.
Хм…
– Нет, еще парочку сотен баксов добавьте, плиз, – сказала Алёна.
– У меня только евро остались, – сердито сказал Кирилл. – Как раз двести. И если я их отдам, даже на такси не останется.
– Я думаю, что это неправда, – сказала Алёна. – Иначе вас бы здесь не было. Какой смысл был приезжать сюда с пустым карманом? А впрочем… ну, об этом мы еще поговорим. Так и быть, заберите сто пятьдесят гривен. За эти деньги вас куда угодно довезут, хоть до Лонжерона, хоть до аэропорта.
Послышалось, или Арнольд тихонько скрипнул зубами? Наверное, вспомнил тот вечер в аэропорту и пожалел, что нога писательницы Дмитриевой однажды ступила на одесскую землю?
Да… Алёна его понимала…
– Развязывайте ее!
Кирилл послушался.
Оксана с трудом сползла с кровати – видимо, тело затекло, – однако деньги у Кирилла выхватила очень проворно. Выудила из-под кровати свою шлепку и попыталась забрать у Алёны другую, но та не дала:
– Мне еще может пригодиться. А вы идите, Оксана, умойтесь, выпейте чаю… Только уговор: милиции ни слова о том, что происходило! Иначе лишитесь денег. Разумеется, – тут же оговорилась она, заметив, как резко повернул голову Арнольд и какой опасный проблеск мелькнул в глазах Кирилла, – разумеется, если вы услышите здесь какой-то подозрительный шум – к примеру, на меня вздумают напасть, – немедленно спасайтесь, звоните в милицию, кричите, будите постояльцев… Понятно?
Оксана истово закивала, надела на одну ногу шлепанец и, ковыляя и постукивая одним каблуком, вышла в коридор.
Алёну познабливало в мокрой одежде. На спинке стула висел мужской пиджак, она накинула его на плечи, и сразу стало теплее.
– Вот интересно, – задумчиво проговорил Кирилл, – а если я сейчас вас свалю прямым и точным ударом, а потом девушке Оксане предложу тысячу зеленых, она ведь запросто засвидетельствует, что меня тут никогда не было, и Додика не было, а вы просто упали и ударились головой? И насочиняли невесть что про законопослушных граждан, подчиняясь прихотливому полету своего писательского воображения?
– Повторяю, Кирилл, – сказала Алёна, на всякий случай попятившись к двери и приоткрыв ее, – здесь через полчаса… нет, уже через двадцать три минуты будет милиция. Я не вызвала ее сразу, потому что мне нужно расставить кое-какие точки над i. Или над ё, выражаясь более патриотично. А также хочется, чтобы вы их для себя тоже расставили.
Арнольд вдруг заерзал головой по подушке, замычал, задергался…
– Чего психуешь? – обернулся к нему Кирилл. – Что-то сказать хочешь? А? Ну, скажи.
И снял повязку с лица Арнольда.
Тот сделал несколько жутких движений онемевшей челюстью, пытаясь восстановить ее подвижность, и прохрипел:
– Она врет! Она блефует! Даже если милиция… Рудько нас отмажет! И цацка с клеймом у тебя, ты теперь вне подозрений! А сам перстень – у нее! Это она сядет за кражу! Хватай ее! Пока не отдаст перстень…
И он подавился кашлем.
Кирилл не без сомнения поглядел на Алёну. Похоже, не мог решить, что лучше сделать.
– Завяжите ему рот снова, – нетерпеливо сказала наша героиня. – Или пусть пообещает не болтать чепуху и не мешать. Подумаешь, Рудько его отмажет! Что он, один на свете? Да ведь в Одессе есть и другие люди, которые вами еще не куплены. Фамилия Африканов вам что-нибудь говорит? Нет? А это лейтенант из группы Рудько, который не верит ни ему, ни вам. Он только и мечтал, чтобы вы попались ему в руки. Теперь вы попались. И не с липовыми доказательствами, какими собирались опорочить Кирилла, а с очень весомыми. И Африканов об этом извещен.
Это было правдой. Одно из поручений, которое она дала Танютке по телефону, было найти лейтенанта Африканова и рассказать ему, что в деле о краже перстня появились новые материалы. Совсем новые! И новый подозреваемый.
Конечно, найти Африканова в шесть утра было нелегко, но Алёна не сомневалась, что Танютка с этим справится.
– Ну какие у тебя могут быть весомые доказательства? – с ненавистью прохрипел Арнольд. – Что ты знаешь? Ничего!
– Я многое знаю, – невесело улыбнулась Алёна, потому что, как всегда, во многом знании имела место быть многая печаль.
– А где сейчас перстень?!
– И это я тоже знаю, – ответила она и выставила вперед Оксанину босоножку в ответ на опасный прищур Кирилла: – Он не здесь, так что не делайте резких движений.
– А где? – промурлыкал Кирилл с очаровательной улыбкой.
– Потом скажу, – отмахнулась Алёна. – Это не суть важно. А сейчас о главном… Вам уже известно, Кирилл, что родственники Лоры отказались открывать дело в Одессе?
Его даже качнуло:
– Что за бред?! Откуда это взято?! С какого табурета?!
– Ну почему бред? Мне сама Лора сказала. И не только мне.
– А еще кому?!
Алёна только улыбнулась многозначительно.
Кирилл смотрел ошеломленно, потом вдруг повернулся к Арнольду:
– Ты знал… так ты поэтому?! Поэтому?! Поэтому ты… ты…
– Поэтому ли он позвонил вам на яхту вчера днем и сообщил, что решил отказаться от Лоры? И отдать вам перстень? Вернее, продать? За приличную сумму, так? Причем сразу, до вашей свадьбы! Деньги должны быть не из приданого невесты… ведь у невесты приданого не будет, – невинным голосом проговорила Алёна.
Кирилл раздул ноздри, но ничего не сказал.
– Конечно, поэтому, – кивнула Алёна уверенно. – Только он не сообщил вам правды, верно? А что-то насочинял… например, что он смертельно болен, да? Что у него, рак? Я почти уверена, что речь шла о какой-то ужасной болезни, для лечения которой срочно нужно много денег. Я помню его фразу: «Это просто удивительно, как иногда меняет человека жалость к близкой смерти другого человека…» Вы его пожалели, да?
Кирилл бросил на Арнольда уничтожающий взгляд, но снова промолчал. Это была ситуация, когда слова не нужны. Лишние они… В комнате и так все кипело.
– Так или иначе, – продолжала Алёна, – Арнольд, наверное, пообещал, что вытащит вас из ямы, в которую сам же и посадил? А в доказательство своих добрых намерений отдаст вам ту копию перстня, которую сделал лично МИГ, поставив на нее свое фирменное клеймо? – Она повернулась к Арнольду: – Ведь ту подделку, которую вы подложили, когда упаковывали коллекцию своего дяди, коллекционера Батмана, для музея, и которая была потом обнаружена милицией, вы заказали позже первой, и совсем даже не у Михаила Игоревича Грибова? Это была копия копии, верно? И на ней стояло усеченное клеймо МИГа. По этой копии найти изготовителя невозможно. По первой – да, вышли бы на МИГа. И сначала вцепились бы в Кирилла: желтый костюм, визитка… Желтый костюм – в апреле в Москве!!! В Одессе это уместно, но в Москве, где в апреле была минусовая температура… Это была просто деталь, которая сразу связывала бы дело с Кириллом. Нарочно костюмчик купили, да? Нарочно потратились? Весьма примитивная наводка! Но очень точная. Рассчитанная! И так же с расчетом вы выбрали в качестве копииста именно Грибова, одиозную фигуру, которая даже в каком-то учебнике для детективов упомянута. Чтобы сразу нашли его… и его нашли бы сразу, если бы ваш приятель московский, к которому вы намеревались обратиться, так сказать, за помощью в сборе улик против Кирилла, не свалил внезапно за границу по горящей путевке. А вот мой знакомый никуда не свалил. Он и раздобыл для меня эти сведения – слишком быстро для того, чтобы это не показалось странным. Все следы были чересчур явными. Как будто нарочно оставленными! Так оно и было, верно?
И Арнольд, и Кирилл враз пробормотали нечто, на письме обычно передаваемое сочетанием букв и многоточий. Правда, если выражение Арнольда было обращено к Алёне, то Кирилл обращался именно к Арнольду.
– Столько сил потратил, чтобы Лору заполучить, – пробормотал Кирилл потрясенно, – но выходит, тебе не она была нужна, а ее деньги? Ее американские родственнички? И как только ты узнал, что денег не будет, ты ее мне немедленно продал за триста тысяч баксов? Что ж так дешево‑то?!
– Я просил пятьсот. Помнишь? – криво усмехнулся Арнольд. – Но ты извернулся, как уж, сказал, что больше у тебя нет. Вот и сошлись на трехстах. Что ж ты так дешево любимую женщину-то оценил? Но теперь благодаря вон ей, – Арнольд каким-то невообразимым образом выставил подбородок в сторону Алёны, – ты не потратишься. И хорошо. Деньги беречь надо! Приданого-то американского не будет! Перстня, правда, тоже, но это ерунда: Лорику деваться некуда, тут уж не до выбора между двумя женихами, надо хвататься за то, что само в руки плывет. Так что поздравляю со скорой свадьбой!
– Помолчи-ка, – со странной интонацией проговорил Кирилл. – Не сыпь бертолетову соль на раны! Ладно, девушка, – он глянул на Алёну, – время уже не идет, а бежит, как тот чудак с Марафона. Что там за путаница с копиями?
– Никакой путаницы, – пожала плечами Алёна. – МИГ нашел два практически идентичных камня. Арнольд заказал копию, а второй камень то ли купил, то ли… – Она запнулась.
– То ли украл, – продолжил Кирилл, и таким образом витиеватое инвективное выражение досталось ему, а не Алёне, которая предвидела именно эту реакцию Арнольда и весьма хитроумно отвела от себя удар.
– Первую копию – так сказать, подлинную, – продолжала она после того, как Кирилл ответил Арнольду, – он весьма хитроумным способом передал вам, используя своего племянника Ромку, – точно так же, как использовал его довольно часто. Например, на Лонжероновской, напугав меня и пытаясь внушить, что он весь из себя такой благородный герой, которому угрожает смертью злобный соперник…
Она взглянула в полные ненависти глаза Арнольда:
– У вас с Ромкой этот трюк отрепетирован был, да? Он ведь вас очень любит, ваш племянник, он вам очень благодарен, вы ему и на работу помогли устроиться, и квартиру на Софиевской сняли, верно? Прямо напротив музея, да? Именно там ваша основная база, а вовсе не на Лонжероновской, там у вас вряд ли офис находится, у вас его и вовсе нет. Именно из этой квартиры вы пустили радиоуправляемую шутиху, так? Вы учились на радиофаке вместе с Кириллом… в разговоре со мной вы все валили на него, но вы и сами знали о том, как создавать радиоуправляемую пиротехнику? Причем рассчитали траекторию прихотливого полета шутихи очень тщательно, чтобы потом невозможно было вычислить, что она практически из окна напротив вылетела, а не откуда-то издалека.
– За‑ши‑бись… – простонал Кирилл. – Прямо в точку попали. У нас были схожие темы дипломов по радиоуправлемым моделям, но пиротехникой занимался именно я. Там были подобные расчеты… именно по непредсказуемым траекториям… Додик их у меня передрал, был скандал, его чуть не выставили накануне защиты из универа, но он вывернулся, как из любой ситуации выворачивался, ну не человек, а рыба-минога… Ему пришлось писать новую дипломную работу. Но вот когда все это ему пригодилось! Мои расчеты! Откуда вы об этом узнали, Алёна? Смелая догадка или подсказал кто?
– Смелая догадка, – без ложной скромности призналась Алёна, однако промолчала о том, что практически все ее обвинения зиждились именно на смелых догадках: времени собирать доказательства – кроме одного, решающего, – у нее просто-напросто не было.
– Так, – уже с другой, гораздо более заинтересованной, а отнюдь не бретерской интонацией, сказал Кирилл, – и до чего вы еще додумались? Рассказывайте, да поскорее! Здорово интересно! Сколько там у нас времени осталось?
Алёна взглянула на часы:
– Чуть-чуть. Продолжать, говорите?..
Ей меньше всего хотелось утолять любопытство Кирилла. Ей нужно было добить Арнольда. Он использовал ее с первой минуты встречи, дурачил ей голову – без особой надобности, просто из любви к искусству вранья, к мелкому мошенничеству, которое стало его второй натурой. Он врал, врал… И наслаждался ее доверчивостью, ее глупостью, ее нежностью…
У нее начинало перехватывать горло, когда она вспоминала ту ночь. Вранье в каждом его слове, в каждом признании… она-то не обманывала его, она не скрывала, что ее тянет к нему, как могут взрослую, смелую, опытную женщину тянуть к существу противоположного пола аналогичного качества… Если бы он врал только про чувства, она не оскорбилась бы так. Но проникнуть в ее комнату, уложить в постель только для того, чтобы украдкой сделать ее соучастницей своей гнусной и изощренной кражи!
Это доводило ее до бешенства. Ей хотелось перечислить все эти мелкие лжи, лжишки…
Она вспомнила, как ткнулась носом в его гладко выбритую щеку – тогда, на Лонжероновской, – и мельком удивилась, где же он мог побриться, где переоделся после того, как выступал в роли бомжа, бродившего вокруг музея, чтобы убедиться, что никаких следов его шалуньи-шутихи не осталось. В офисе у него ремонт, сказал он. Ну, офис этот никогда ему не принадлежал, это тоже вранье, это Алёна уточнила через Танютку. Значит, ему нужно было где-то переодеться и побриться. Где? Да все там же, на Софиевской же, в Ромкиной квартире, где же еще?
А как Арнольд тогда, явившись в «Папу Косту», сказал, мол, Ромка видел Алёну входящей сюда? Но Ромка в это время был в Аккермане. Арнольд пришел за Лорой… но увидел там Жору, потом появился Кирилл – и Арнольд очень ловко вывернулся. Правда что – не человек, а рыба-минога!
Все это множество мелких лживых оговорок и горы крупного вранья раньше пролетели незамеченными, а теперь всплывали в памяти. Но Алёна не стала об этом говорить, ничем не попрекнула Арнольда. Он этого не стоил. Тем паче, что не из мелкой мстительности обманутой женщины она зашла так далеко, затеяла все эти разборки. Что значит ее оскорбленное самолюбие по сравнению с гнусным грабежом, жертвой которого стал родной дядя Арнольда!
Ох, как же сочувственно, как гневно он описывал племянников Юлия Матвеевича, которые тянут лапы к его коллекции! Но ведь он сам был при этом одним из них! Алёна-то думала, что это какие-то там Додик и Павлуша, но Павлуша – это оказалась фамилия знакомого юриста Батмана, а кто такой Додик – она теперь знала. Именно его эпическое лицемерие, его вызывающий цинизм заставили ее сделать то, что она сделала.
Да, с Арнольдом она разобралась так, что писательницу Дмитриеву он не скоро забудет!
Теперь осталось разобраться с Кириллом. При всем своем обаянии он ничем не лучше Арнольда. Чтобы жениться на богатой женщине, Кирилл готовился украсть у старика перстень, который был радостью его жизни. И если самому это не удалось, готов был купить краденое.
Или Алёна ошибается? Да вряд ли… Впрочем, следует все же уточнить.
– Поправьте меня, если я ошибаюсь, Кирилл, – сказал Алёна, стараясь не улыбаться, потому что ее улыбка отнюдь не была бы приветливой улыбкой – скорее издевательской. – Предполагалось, что в моем номере Арнольд отдаст вам перстень, а вы передадите ему наличные. Так?
– Ну? – насторожился Кирилл.
– Поправьте меня, если я ошибаюсь, – повторила Алёна, – но вы не привезли деньги?
– Как не привез?! – дернулся Арнольд. – С чего ты взяла? Или это правда?! А, Кирюха?!
– Ну ты шё, Додик, кто ж с тобой по-честному будет играть? – искренне удивился Кирилл. – Откуда у меня такие деньги?! И вышло, что я правильно сделал, что тебе соврал, потому что перстня-то нету!
– Когда я тебе звонил, я еще не знал, что она его украла! Где перстень?! Говори! – взревел Арнольд.
– Скажу, – усмехнулась Алёна. – В свое время скажу, обещаю.
Она снова взглянула на Кирилла. Никогда она не хотела так ошибиться в своих выводах, как сейчас, когда смотрела на него. Но шансы, кажется, были практически равны нулю.
– Вот вы в этой истории вроде бы страдающая сторона. Вас гнусно оболгали, арестовали… Ну объясните мне, что заставило вас взять во временные союзники бывшего смертельного врага, который соблазнил вашу женщину и на все готов был, чтобы жениться на ней? Даже засадить вас в тюрьму? Пусть ненадолго, лишь бы хватило времени зарегистрироваться или обвенчаться с Лорой, но все же?!
– Соблазнил? – тихо проговорил Кирилл. – Как так? Додик, да ты куда лапы протягивал? Да ты…
Он двинулся было к распростертому на кровати Арнольду, но Алёна схватила его за руку, а Арнольд отвернулся и буркнул:
– Слей воду! Ты первый ее у меня отбил. Я всего-навсего хотел вернуть свое.
– И почти сделали это, – кивнула Алёна. – А потом передумали – потому что узнали: она больше не богатая невеста. Кирилл, да перестаньте вы дергаться! – с досадой прикрикнула она. – Время-то уходит! Я жалею, что сказала об этом, думаю, лучше, если бы вы вообще ничего не узнали или узнали от самой Лоры. Но если вы ее в самом деле любите, то простите. Арнольд мастер дурить головы женщинам, перед ним довольно трудно устоять, если…
Арнольд повернул голову и насмешливо взглянул ей в глаза:
– Если охота узнать, что такое настоящий, полноценный секс, да? Ну признайся, тебе было со мной хорошо?
– Надеюсь, и вам тоже, – высокомерно сказала Алёна. – Но насчет высокого качества своих способностей не слишком обольщайтесь, мне случалось испытывать и более незабываемые ощущения.
– Ох ты… – ошеломленно протянул Кирилл. – Ну надо же… наш пострел везде поспел! А я‑то обдумывал, как бы мне вас в постель затащить! И затащил бы, если бы удалось!
– Хм, – сказала Алёна, с трудом удерживая довольную улыбку, которая в данной ситуации выглядела бы недостойной такой поборницы справедливости, как наша героиня. – Но ведь это означало – изменить Лоре. И за это вы только что на нее жутко разгневались! Политика двойных стандартов, да?
– А! – безнадежно махнул рукой Кирилл. – Теперь все равно… какая разница, пусть спит с кем хочет!
– О‑о… – протянула Алёна. – Так, значит, и вам она была нужна только как родственница богатых греков?
Кирилл улыбнулся своими обворожительными глазами:
– Да, ведь любовь любовью, а жизнь сурова. О приданом позаботиться тоже не грех. Моих доходов пока что не хватит на двоих. Поэтому я погожу жениться. А шё такого?
Итак, она не ошиблась. Ужасно жаль…
– Абсолютно ничего, кроме того, что вы с Арнольдом ужасно похожи, – сказала Алёна печально. – Прямо как близкие родственники. И учились вместе, и темы дипломов были у вас почти одинаковые. Оба добивались одной и той же женщины, оба отказались от нее, когда выяснилось, что у нее нет денег, оба изменяли ей или не прочь были изменить при первом же удобном случае… Ничего удивительного, что вы оба устраиваете тайники в люстрах! И ничего удивительного, что вы оба…
Она хотела сказать: «Вы оба не имеете никакого понятия о жалости и о доброте!», но не успела. Дверь за ее спиной распахнулась.
– Милиция? Уже?! – со страхом простонал Арнольд.
Но это была не милиция.
* * *
А между тем «ауспиции» положения белых и союзников в Одессе делались тревожнее и тревожнее с каждым днем. Красные наступали, а в городе жалили, словно ядовитые слепни, подпольщики, объединившиеся с бандитами. Именно в это время в Одессу прибыл главнокомандующий французскими войсками на Востоке генерал Франше Д’Эспере, решивший лично ознакомиться с ситуацией. Он отстранил от должности военного губернатора генерал-майора Гришина-Алмазова, и низложенный диктатор отбыл в Екатеринодар, в распоряжение генерала Деникина. Этим была решена участь Одессы, где вскоре власть перешла к местному Совету.
Гришин-Алмазов был отправлен Деникиным со специальным заданием в Сибирь, к Колчаку. С ним, как всегда, были верные татары.
Плыть предстояло через Каспий на частном бакинском пароходике «Лейла», что означало «Чайка». Этот переход держался в строгом секрете.
Путешествие началось. Однако никто не знал, что красными был захвачен Форт-Александровский и находившаяся там радиостанция как раз в то время, когда туда поступило сообщение о скором прибытии Гришина-Алмазова…
Когда «Лейла» поравнялась с Форт-Александровским, наперехват вышли эсминцы красных. Из открытых иллюминаторов пароходика в воду полетели какие-то бумаги, несколько офицеров выпрыгнули за борт и поплыли к берегу… С мостика эсминца в рупор предупредили: «Немедленно закрыть все иллюминаторы, иначе пароход будет расстрелян в упор!» Предупреждение подействовало. С миноносца уже шла шлюпка с десятком вооруженных людей.
Едва взобравшись на палубу, они ринулись в кают-компанию. Оттуда раздались выстрелы из нескольких револьверов. Кто-то из моряков был ранен. Потом наступила тишина. Моряки снова бросились вперед, и в это время грянули еще несколько выстрелов… но не в дверь.
Когда красные ворвались в кают-компанию, они увидели, что Гришин-Алмазов, его адъютант и начальник личного конвоя, ротмистр Бекирбек Масловский, исполнивший свою клятву до конца, успели застрелиться. Кругом были разбросаны какие-то документы. Среди них нашли и запечатанный пакет с личным посланием Деникина адмиралу Колчаку, который так и не успел уничтожить Гришин-Алмазов… Оно содержало планы военной борьбы с Советами и совместного похода на Москву.
Да… наверняка вспомнил одесский диктатор свои ядовитые упреки Делафару, который не успел сжечь свои бумаги! Но застрелиться он, во всяком случае, успел.
С трупов были сняты все ценности: часы, кольца, ордена, медали и даже нательные крестики, которые были запакованы и опечатаны. Их было приказано доставить в Одессу.
А в Одессе в это время происходили удивительные события! Мишка Япончик явился в Особый отдел ЧК при 3‑й украинской армии и предложил организовать отряд из числа своих приверженцев «для защиты революции». Этот батальон набирался только из одесских бандитов, считавших своим атаманом Япончика. Их Мишка называл «боевиками». Это было время, когда Япончик воистину стал королем Одессы… Все ему было подвластно! И разве удивительно, что он узнал о трофеях, привезенных с пароходика «Лейла», и сумел заполучить перстень, снятый… да… с мертвой руки Гришина-Алмазова?
Это был миг такого же торжества, какое испытал Мишка, когда видел разорванного на части полицмейстера Кожухаря.
Впрочем, торжество Япончика длилось недолго. Уж больно ненадежным оказался он союзником! Кому такой нужен?!
Никому.
Кончилась история Мишкиной жизни тем, что его со товарищи расстреляли красные («отправили под конвоем на работу в огородную организацию», как афористично выразился какой-то «уездвоенком М. Синюков», составлявший сводку о его смерти). Может быть, сам Синюков, а может быть, кто-то другой стянул с пальца расстрелянного бандита золотой перстень со странным серым камнем…
И судьба его долгое время оставалась неизвестной.
* * *
Все воскресенье лило так, что Алёна не решалась нос на улицу высунуть. К тому же, нос этот почти беспрестанно чихал. Урок с аргентинским преподавателем пришлось отменить. Вообще много чего пришлось отменить. Весь день Алёна пролежала в постели, питаясь домашней колбасой и черешней, принесенными Танюткой. На прощальную милонгу она тоже не пошла: рано уснула, напоенная перцовкой и молоком с медом, которыми ее снабдила та же сердобольная Танютка.
Да, пришлось смириться с тем, что с танго в Одессе Алёне Дмитриевой не слишком повезло. Как, впрочем, и с погодой.
Ну и ливень разразился в воскресенье! Совершенно тропический! В местных теленовостях то и дело показывали сломанные по всей Одессе деревья. И даже выкорчеванные с корнем! Листва намокала так, что дерево начинало крениться – и тяжесть кроны выворачивала корни из земли. Печальная картина… Особенно когда такое дерево падало на автомобиль!
В понедельник солнца не было, небо оказалось покрыто тучами, но когда Алёна позвонила в аэропорт, ей сообщили, что все рейсы уходят по расписанию.
После Танюткиного лечения Алёна почувствовала себя гораздо лучше. Насморк – ну, насморк, впервой, что ли? Надоело сидеть в гостинице, хотелось прогуляться. И посетить наконец Художественный музей! По-хорошему, сделать это следовало бы вчера в полдень, но в это время Алёна была никакая.
Она оделась потеплее и пошла. Еще немножко кружилась голова, казалась какой-то слишком легкой и как бы опустевшей, а потому было очень просто не думать о том, о чем не хотелось думать, и не вспоминать то, о чем не хотелось вспоминать.
А вот и музей. Вот и транспарант на прекрасной кованой ограде: «Выставка частных коллекций «Золотой мусор Одессы» на первом этаже. Вход свободный».
Народу нет, вот и хорошо, можно будет насмотреться на экспонаты вдоволь. Особенно на некоторые.
Алёна подергала дверь проходной, но та не открывалась. Что такое? Сегодня же не вторник, а понедельник!
Опять дежавю? И сейчас подъедет милицейская машина и мелькнет элегантный оборванец, изображающий из себя частного детектива и желающий замести следы своего преступления… Хотя откуда ему взяться! Конечно, Жора оказался прав, когда выразился про Арнольда: «На шё хочете спорю, шё Додик смазал пятки свиным салом и удрал куда-нибудь в глухую Молдову из-за вашего, Алёна Дмитриевна, доброго сердца!»
Алёна вздохнула.
Ну да, она виновата, слов нет…
Но у нее с самого начала и в мыслях не было сдавать Арнольда и, тем паче, Кирилла в милицию! Она сделала что могла, она раскрыла, извините за выражение, преступление, но задержание преступников совершенно не входило в ее компетенцию. Именно поэтому она так перепугалась там, в номере, когда за спиной вдруг открылась дверь…
«Неужели Танютка нарушила уговор?!» – подумала Алёна.
Оглянулась… и оторопела. В таком же состоянии пребывали Арнольд и Кирилл – судя по тому, что они не издавали ни звука.
Общее молчание, воцарившееся в номере, нарушила стоявшая в дверях Лора.
– Мне надоело подслушивать, – сказала она. – Мне все это надоело! Вы оба мне надоели! Эта самая мерзкая мерзость, какую я только слушала в жизни. Я больше не хочу вас видеть. Никого! Никогда!
– Э‑э… – протянул Кирилл. – Лорик… Никогда – это слишком долго, но в принципе сейчас наши намерения совпадают. Я тоже считаю, что нам нужно на некоторое время расстаться. Э‑э… проверить свои чувства.
– Да, это меня не удивляет, – кивнула Лора. – Я слышала, как ты сказал, чтобы я теперь спала с кем хочу. Жениться на мне ты уже не хочешь. И ты, Арик, тоже. Или ты… передумал? Или ты любил меня за то, что я – это я, а не только как родственницу богатых греков?
– Ох, Лорик, ну что за дурацкие вопросы ты задаешь? – простонал Арнольд. – Меня ограбили, я связан, избит, надо мной издеваются все кому не лень, и ты еще подливаешь масла в этот вечный огонь!
– Ну, тем лучше, – повеселевшим голосом сказала Лора. – Потому что вы сняли с моей души огромную тяжесть. Вы и в самом деле похожи, как близкие родственники, правильно Алёна сказала. И оба вы одинаково остались с носом! Я выхожу замуж за Жору!
Кирилл снова онемел. Арнольд издал шипящий, недоверчивый смешок. А Алёна подумала, что это ее ничуть не удивляет. Почему-то ей весь вечер казалось, что на коврике Жоре спать не придется. И на запасных матрасах тоже.
– Ну, – наконец промямлил Кирилл, – совет, как говорится, да любовь. Я знаю, что Жора к тебе неровно дышал, но чтоб до такой степени…
– Алик, ты извини, – совсем не виноватым голосом пробурчал Жора. – Любовь… ты понимаешь…
– Не называй его Аликом, – нежно пропела Лора, и Жора расплылся в улыбке:
– Да, любимая! Как скажешь!
Они быстро, но пылко поцеловались.
– Утю-тю! – противным голосом буркнул Арнольд. – Красавица и чудовище!
– За чудовище ответишь, – прошипела Лора гневно. – Большего чудовища, чем ты, здесь нет и быть не может. Не забывай, что ты связан…
– Нет, – испугалась Алёна. – Только без рук.
– Лежачего не бьют, – с отвращением сказал Жора. – Хотя охота до невозможности! Аж руки чешутся!
Кирилл вздохнул:
– Повезло тебе, Жёра! Ну, ты этого заслуживаешь. И тебе, Лорик, тоже повезло.
– Конечно! – весело сказала она. – Но у меня остался еще один вопрос. Насчет перстня. Где он теперь? Можно ли до него добраться?
– Скажи спасибо этой даме, – прошипел Арнольд, показывая подбородком на Алёну. – Нельзя.
– Где перстень?! – настойчиво спросила Лора.
Алёна вздохнула и объяснила.
И снова на несколько мгновений воцарилось молчание.
– Боже мой… – простонал Кирилл. – Боже мой! Боже! Боже!
Арнольд мертво молчал. Он в самом деле был похож на мертвеца – бледно-желтый, неподвижный, бессильный…
– А шё? – робко проговорил наконец Жора, с трудом выходя из ступора. – Зато по справедливости.
– Да, – всхлипнула Лора. – По справедливости… А я хотела с этим перстнем венчаться… Мой дядя расстроится. Он так мечтал вернуть семейную реликвию… А впрочем, у нас есть копия, правда, Жора? Я ее надену на свадьбу.
– Конечно, – вздохнул он, с обожанием глядя на Лору. – Подумаешь – перстень! Не в перстне счастье!
– И не в деньгах, Жора, – поддакнул Кирилл. – Теперь ты это точно знаешь. Вот видишь, если бы родственники не отказались давать Лоре деньги, не обломилась бы тебе такая потрясающая невеста.
– Ага, – счастливо сказал Жора. – Не обломилась бы. Да мне ее деньги – тьфу. Я сам не без рук, не без ног, заработаю! А домик у меня на Французском бульваре хоть и махонький, но такой, что любой греческий дядя позавидует.
– Так, господа, – нетерпеливо перебила Алёна, посмотрев на часы. – Наше время истекло. С минуты на минуту сюда ворвется товарищ Африканов, желая подняться по служебной лестнице с помощью задержки двух аферистов и воров.
Арнольд мигом воскрес, жалобно застонал и забился на кровати.
– Я не вор! – чистоплотно выставил ладонь Кирилл.
– Но аферист? – лукаво глянула Алёна.
– А это дело неподсудное! – веско ответил он. И шагнул к двери: – Прощайте, господа.
– Жора, не выпускайте его! – приказала Алёна.
Но Жора и без того не трогался с места. Более того, он так оттолкнул Кирилла, что тот повалился рядом с Арнольдом.
– Жёра, да ты шё? – гневным тенорком пропел Кирилл. – Ты на кого?!.
– Ша! – крикнула Алёна. – Кончайте кипишить, вы, оба. Я вас отпущу.
– Шё?! – спросили все хором.
– Шё слышали. С минуты на минуту здесь будет милиция. Но я дам ей шанс самой поработать по поимке преступников. Мне эта история больше не интересна. Нужно было выяснить кое-что – и я выяснила. Сказать кое-кому то, что хотелось, – и я сказала. А теперь все свободны. Только вот что, Кирилл… прежде, чем уйти, развяжите Арнольда. Надеюсь, он забудет прошлые обиды, вспомнит цирковые навыки и поможет вам спуститься по стене. Потому что другого пути отсюда нет. Всего наилучшего.
Она схватила сумку, с силой вытолкала за дверь Лору и Жору, а потом выскочила сама и проворно повернула ключ в замке, прислушиваясь, будут ли в нее биться.
Но никто не бился, хотя слышалась какая-то деловитая возня. Потом понесло холодом с улицы. Видимо, оба жулика вняли голосу рассудка и, помогая друг другу, спасались через окно.
– Ну что? – спросила Алёна, глядя на Жору и Лору. – Будем кричать «горько»?
– «Горько» кричат на свадьбе, – улыбнулась Лора. – Приходи к нам на свадьбу, Алёна, а? Через неделю, в ресторане гостиницы «Бристоль».
– О, потрясающе! Я бы с удовольствием, но в понедельник улетаю, – с сожалением сказала Алёна. – Но желаю вам всяческого счастья. А почему именно в «Бристоле»?
– Поскольку мы в некоторой степени в родстве с Маразли, – степенно объяснила Лора, – а эта гостиница построена по его инициативе и в бытность его городским головой Одессы, греческие родственники уже давно мне говорили, чтобы свадьбу устроили только там. Ох и народу понаедет! Всем захочется познакомиться с шеф-директором одесского отделения фирмы «Зорбалас ЛТД». Зорбалас, – пояснила она, заметив изумленное выражение Алёны, – это мужской род фамилии, а Зорбала – женский.
Но Алёна удивлялась не этому.
– Так, значит… – пробормотала она. – Так, значит…
– Ну да, – озорно усмехнулась Лора. – Я все наврала. Мне хотелось найти человека, который будет любить меня всегда, всякой, а не только богатой невестой и родственницей компании «Зорбалас».
– И ты его нашла, – кивнула Алёна. – Слушай, я думала, такое только в дамских романах случается! А оказывается…
– Вот именно, – согласилась Лора. – Ну, мы поехали сейчас к Жоре, я не хочу больше здесь оставаться, так что прощай, Алёна. Счастливо тебе.
– Слушайте, Алёна Дмитриевна, – спросил Жора, – что-то ваша милиция никак не едет?
– Ой! – воскликнула Алёна. – Спасибо, что напомнили! Нужно немедленно позвонить Танютке! А то, если я вот прямо сейчас не сообщу, что все в порядке, она милицию в самом деле вызовет!
– Да… – расхохоталась Лора. – То есть ты тех мошенников на пушку взяла? А я думала, такое только в дамских детективах бывает! Ну, а теперь скажи напоследок: ты видела перстень? Он красивый? Он очень похож на копию?
– На самом деле, – улыбнулась Алёна, – я была так ошарашена, когда его нашла, что даже не разглядела толком. Он ценен своей историей больше, чем стоимостью. И я думала только об одном – поскорее вернуть его Юлию Матвеевичу. Но вот откроется завтра выставка, и я на него нагляжусь. Приходите посмотреть!
– Придем, – пообещали Лора и Жора.
…Очень может быть, что они были вчера на открытии выставки и в самом деле налюбовались перстнем Гришина-Алмазова или кому он там на самом деле принадлежал, а Алёна вот только сегодня добралась!
Она все же решилась постучать в проходную.
– Ну кто тут разоряется? – раздался наконец ленивый голос, и дверь приотворилась.
Алёна даже отпрянула, но охранник был другой, не тот, что в пятницу. Симпатичный седоватый дяденька очень интеллигентного вида.
– Шё стучитесь? Музей закрыт!
– Да почему?! – возмутилась Алёна. – Сегодня же понедельник! А выходной по вторникам!
– Сегодня число какое, знаете? – снисходительно спросил охранник.
– Двадцать седьмое июня, – не без усилий вспомнила Алёна. – А что?
– А то! Завтра День Конституции, понятно?
– И что? Это же завтра!
– Да то! Выходной совпадает с праздником! Поэтому музей закрыт сегодня! Выходной перенесли.
– О господи, – застонала Алёна. – Я сегодня уезжаю…
– Да шё ж я могу! – сочувственно сказал охранник. – Все везде закрыто. И выставка. И экскурсии по историческому дому.
– Историческому?
– Конечно! Построили этот дом для графини Потоцкой в начале XIX века, а в конце века его купил знаменитый Маразли – знаете, улица Маразлиевская его именем названа? – и подарил городу для публичного музея. И вы знаете, шё?!
– Шё? – спросила Алёна, чуть улыбаясь.
– Вчера тут выставка открылась. Частные коллекции, слыхали?
– А то! – воскликнула Алёна. – Я на нее и пришла. Хорошая выставка?
– Да вообще чудо! – с чувством сказал охранник. – Ну так я про шё? У одного коллекционера есть перстень Маразли! Нет, ви себе представляете?! Самого Маразли! И он решил его музею подарить! Вот выставка закончится – и подарит. Так шё ничего страшного. В другой раз приедете – и все же увидите перстень!
Алёна чуть не ляпнула, что уже видела его, но вовремя прикусила язык. Значит, он теперь станет музейным экспонатом… И экскурсоводы будут рассказывать о его туманной, странной истории, в которой так же много правды, как и выдумки, вот только никому не ведомо, где именно выдумка, а где – чистая правда.
– Ну что ж, – улыбнулась Алёна. – Может, я когда-нибудь и в самом деле снова приеду в Одессу. Но тогда уж точно первым делом пойду в музей!
Она обогнула прекрасную кованую ограду и вышла на обрыв. Невысокая бетонная балюстрада ограждала крутой склон, весь поросший зеленью. Впереди, куда ни глянь, лежало неспокойное серое море. Волны качали суда, стоящие на рейде. Алёна попыталась разглядеть знакомую яхту, потом укоризненно покачала головой.
Все надо забыть. Да она и забыла. Воспоминание об Арнольде оставило ее совершенно холодной. А Кирилл… они встретились, как корабли, проходящие ночью. Прошли мимо, чуть посигналив друг другу. И это тоже называется – не судьба…
Ее все еще познабливало, да и ветер пробирал. Надо возвращаться. Последний раз окинуть взглядом море… эти серые волны, эти серые облака, эти корабли…
Какое-то алое пятно реяло в небесах, приближаясь к берегу, металось, то возносясь выше, то опускаясь к самой воде.
Алёна смотрела, не веря глазам.
Это был воздушный шар, пущенный с какого-то корабля. Сердце, алое сердце летело над морем!
Алёна не могла оторвать от него глаз.
Ветер нес сердце в сторону Приморского бульвара. Колоннада Воронцовского дворца была хорошо видна. Сердце пролетело меж колонн… взмыло выше… повисло на миг неподвижно… и вдруг…
Ах! Шарик лопнул.
Алёна положила руку на грудь. Послушала.
Все в порядке.
Если даже чье-то сердце все же разорвалось, это точно было не ее сердце!
* * *
Из одного старого дневника.
Июль 1941 года
Сегодня самый счастливый и самый странный день моей жизни. Сегодня Юлий сказал, что любит меня! Я не могу поверить…
Я даже не знаю, как описать этот день, полный чудес! Я не могу найти слов!
Но надо постараться. Когда-нибудь прочту это, когда буду старой… Когда-нибудь мы вместе с Юликом прочтем это… и наши дети тоже! И они будут знать, как волшебно все это началось.
Итак, Юлик пришел к отцу показать свою курсовую. Он так похудел!
– Юлик, вы стали просто страшный, – сказала мама. – Вот и отлично. Наконец-то Леночка перестанет на вас таращиться.
– Надя, помолчи, – привычно буркнул отец. – Не конфузь девочку. А вы, Батман, не слушайте эти бабские глупости.
Юлик мельком улыбнулся. Он и так знал, что я влюблена в него, как кошка. Я никогда не говорила об этом… хотя иногда думала: а если бы я сказала? Что было бы? Что он ответил бы? Может быть, испугался – и перестал бы ходить к нам? Встречался бы с отцом только в университете, а я… а я никогда не увидела бы его больше!
Я любила его с детства. Мы до восьмого класса учились вместе. А из восьмого Юлик поступил в университет! И сейчас уже был на третьем курсе! А я еще школу не закончила.
Теперь мы совсем редко виделись. И, может быть, я и так никогда его больше не увижу: Юлик записался добровольцем, в любой день может прийти повестка…
Стемнело. Мы приготовили ужин, но поесть не удалось – завыли сирены. Воздушная тревога! Отец и Юлик выбежали из кабинета и начали взбираться на чердак. Отец всегда во время налета на крыше, потому что боится зажигательных бомб.
– Леночка, скорее в погреб! – запричитала мама.
– Идите, идите, дамы, без вас справимся! – весело сказал отец – и вдруг нога его сорвалась со ступеньки. Он упал и застонал – вывихнул ногу!
Мама кинулась вызывать «Скорую», но телефон молчал.
– Будем ждать конца налета, – сказал отец, вздрагивая от боли. – Юлик, идите наверх. И ты, Леночка! Одному там не управиться. Будешь помогать.
Мы поднялись молча. Он ничего не говорил, только похлопывал по колену брезентовыми рукавицами. Может быть, он сердился, что я тут?
Но я не успела об этом подумать. Началась бомбежка. И одна из бомб проломила нашу крышу!
У нас стояли наготове бочка с водой и ящик с песком. Юлик, отворачиваясь от искр, держа руками в рукавицах щипцы, ловко схватил ее и сунул в воду. А я быстро засыпала песком искры, которые разлетелись по чердачному полу. Потом мы еще полили его водой, чтобы уж точно все погасло.
– Как вы там? – кричал снизу отец.
– Спускайтесь! – вторила мама.
Но вниз мы не пошли. Мало ли что говорят, бомба, дескать, в одну воронку не падает! А вдруг?!
Сквозь пролом в крыше были видны звезды. Раньше мы все любили звездные ночи, а теперь их терпеть не могут! В звездные ночи чаще бомбят!
Но самолеты улетели, прозвучал отбой тревоги. Я пошла было к лестнице, как вдруг Юлик сказал:
– Леночка, ты только посмотри, какие волшебные звезды! Они смотрят прямо нам в глаза, видишь?
Он пошел к пролому и повел меня за собой. Я перестала дышать…
Мы стояли и смотрели на белый звездный свет.
– Видишь? – шепнул Юлик. – Они плывут. Земля вертится!
И я увидела, как небесный рисунок и вправду чуть движется!
У меня закружилась голова, я покачнулась, Юлик подхватил меня, но и сам покачнулся и задел доски, торчащие из пролома. Оттуда что-то выпало со стуком. Камушек?
Мы опустились на пол и зажгли фонарь.
На полу лежал золотой перстень со странным серым камнем, как будто перечеркнутым крестом.
– Что это? – изумился Юлик.
А я ничего не сказала – я просто надела перстень.
И…
У меня никогда в жизни не было никаких колец. Носить украшения – это мещанство! Но этот перстень… мне показалось, он был мой всегда, всегда! Он должен был быть холодным, а казался теплым. И серый камень как будто светился.
– Как странно… – сказал Юлик, глядя на мою руку. – Я никогда не замечал, какие у тебя необыкновенно красивые пальцы. А ведь я столько раз видел, как ты играешь на рояле!.. – Он помолчал, потом шепнул: – Я никогда не забуду эту минуту. Никогда. И даже если меня убьют на фронте…
И тут со мной что-то случилось… Я бросилась к нему, обняла, прижалась, я что-то говорила… не помню что… нет, помню – я говорила о своей любви!
– Ты меня любишь? – спросил он изумленно. – Я даже мечтать об этом не мог! Я думал, твоя мама просто смеется надо мной! А ведь я тоже… я тоже!
Он успел поцеловать меня только раз – мама требовала, чтобы мы немедленно спускались. Она решила, что кто-то из нас ранен, поэтому мы застряли на чердаке.
– Ну вот, – сказал отец, который всегда все понимал. – А мама переживала, что у дочки первая любовь безнадежная… Но ты знай, Леночка, что наша фамилия – Наркевич – мне нравится куда больше, чем фамилия Юлика!
– Боже мой! – запричитала мама. – О чем ты?! Какие тут могут быть перемены фамилий? Какие свадьбы?! Они еще дети!
– Я буду его ждать, – сказала я. – И дождусь. Можно считать, что мы уже обручились!
Юлик сжал мою руку. Я знала, о чем он подумал.
О том, что нас обручил этот перстень!
Сноски
1
Молодая, еще маленькая скумбрия.
(обратно)2
Ангелочек (иврит).
(обратно)3
Некошерная.
(обратно)4
Имеется в виду джокер.
(обратно)5
Об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Последняя любовь», издательство «ЭКСМО».
(обратно)6
Об этом можно прочитать в книге Елены Арсеньевой «Далекая звезда», издательство «ЭКСМО».
(обратно)7
Об этом можно прочесть в романе Елены Арсеньевой «На все четыре стороны», издательство «ЭКСМО».
(обратно)8
Нашего храброго друга! Дорогая, переведите! (франц.)
(обратно)9
По-украински рудий – рыжий, то есть Рудько – это Рыжко.
(обратно)10
Шмурдяк – бормотуха, дешевое крепленое вино, «коктейль» из всего, что под руку попадется, непотребное пойло.
(обратно)11
Здесь слово «ауспиции» употреблялось в значении «прогнозы», хотя в принципе в Древнем Риме так называли гадание по полету птиц. Гадание это толковали авгуры (жрецы).
(обратно)12
Подробней об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Последний дар любви», издательство «ЭКСМО».
(обратно)13
Четыре танго одного и того же оркестра или певца из разных танд и формируется музыка на милонге.
(обратно)14
Прошу простить меня, мадам, но меня может извинить только неведение. Надеюсь, ваше здоровье не пострадало? (франц.)
(обратно)15
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «На все четыре стороны», издательство «ЭКСМО».
(обратно)16
Об этом можно прочитать в романах Елены Арсеньевой «Крутой мэн и железная леди», «Час игривых бесов», «Разбитое сердце июля» и других, издательство «Эксмо».
(обратно)17
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Проклятье итальянского браслета», издательство «ЭКСМО».
(обратно)18
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Бабочки Креза», издательство «ЭКСМО».
(обратно)19
Записные книжки на балах, где записываются имена пригласивших кавалеров и названия танцев (франц.).
(обратно)20
Прозвище части русских офицеров, особенно гвардейских, кто получил хорошее воспитание и подчеркнуто соблюдал правила хорошего тона, щеголеватую выправку, носил хорошо сшитые мундиры тонкого сукна, держался с товарищами отчужденно-вежливо.
(обратно)21
Не могу ли я вам чем-нибудь помочь, дорогая мадемуазель? (франц.)
(обратно)22
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Мужчины Мадлен», издательство «ЭКСМО».
(обратно)23
Так называли в то время машинисток, которые писали на печатных машинках.
(обратно)24
Так раньше назывался Белорусский вокзал.
(обратно)25
Так называли в то время добровольцев.
(обратно)26
Об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Проклятье итальянского браслета», издательство «ЭКСМО».
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
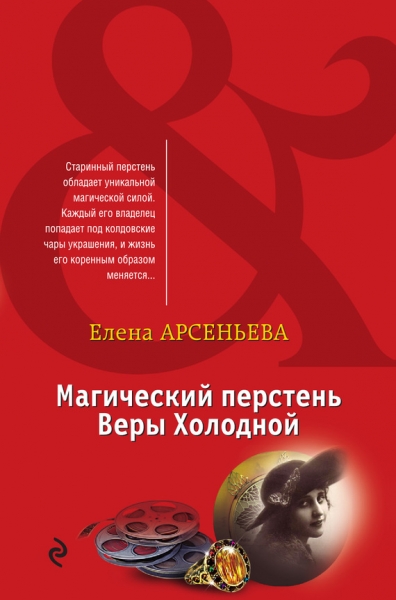




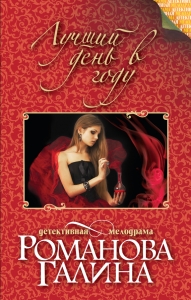
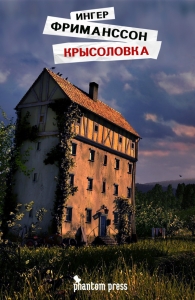

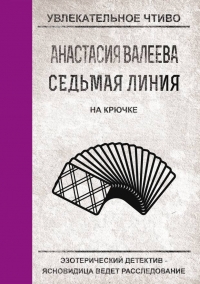
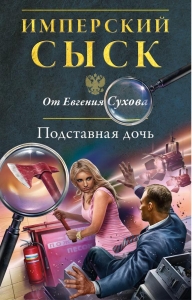

Комментарии к книге «Магический перстень Веры Холодной», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев