Мишель Ричмонд Ты его не знаешь
Моим сестрам, Монике и Мисти, посвящается
Три цели можно преследовать, изучая истину. Первая — распознать истину, когда отыщешь ее. Вторая — доказать истину, когда распознаешь. И третья — отличить ее от лжи, когда исследуешь.
Блез Паскаль. О духе геометрии и об искусстве убеждатьОдин
Я нашла его, когда уже забросила всякие поиски. Была поздняя ночь, я в одиночестве ужинала в крохотном кафе в Дириомо. Наведываясь в никарагуанский городок почти каждый год, я успела полюбить это заведение, где можно было получить тарелку бобов и чашку кофе в любое время дня и ночи.
Весь вечер я бродила по темным пустынным улочкам. Июльский дневной зной в Дириомо обжигает; спускается ночь, от домов исходит жар, и воздух пахнет спекшейся пылью. В конце концов ноги сами вынесли меня на знакомый перекресток. Если свернуть налево — вернешься в гостиницу, с жесткой койкой в номере и нерадивым вентилятором на потолке. Прямо впереди — бейсбольная площадка, где однажды местный пацан у меня на глазах до смерти забил крысу старой деревянной битой. А справа широкая дорога переходит в кривой переулок, в конце которого заманчиво маячит кафе.
В первом часу ночи я звякнула медным колокольчиком на двери. Появилась Мария — босиком, в длинной синей юбке и белой рубашке. Она словно ждала меня.
— Я тебя не разбудила, Мария?
— Нет. Милости прошу.
Это было всегдашнее наше приветствие. И всякий раз я ломала голову: неужели она и впрямь ночи напролет сидит на кухне, терпеливо поджидая клиентов, или все-таки изредка спит?
— Чем сегодня угощаешь? — спросила я, и это тоже было ритуалом, так как мы обе прекрасно знали: здешнее меню не меняется ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом.
— Nacatamal[1], — сказала она. — Está listed sola?
— Si, senora, я одна.
Мой ответ, как и меню, оставался неизменным все эти годы. И тем не менее при каждой встрече она с нескрываемой надеждой повторяла свой вопрос, словно верила, что когда-нибудь мне улыбнется удача.
В безлюдном кафе было темно и странным образом прохладно, несмотря на жарынь, плавающую снаружи. Мария указала на столик, где в плошке теплилась свеча. Я поблагодарила и села. Слышно было, как она принялась варить кофе на кухне, отделенной от обеденного зала узким проходом, завешенным куском красной ткани. Я следила за игрой света от пламени свечи на дальней стене: птица, лодка под парусом, звезда, цепочка светящихся прямоугольников… Разве такие пленительные, четкие образы могут быть всего лишь случайностью? Подобное ощущение часто охватывало меня в этом городишке, из-за него, среди прочего, я и возвращалась сюда всякий раз, как работа в кофейной компании приводила меня в Никарагуа, — ощущение, что самые немудрящие явления здесь предопределены, словно некая неведомая сила управляет и живым, и неживым миром. Дома, в Сан-Франциско, такого со мной не бывало. Неудивительно, что местные жители называют Дириомо pueblo brujo — заколдованная деревня.
Мария поставила передо мной тарелку, и тотчас на крыльце тренькнул колокольчик. Мы обе уставились на дверь, словно в ожидании чуда. Все эти годы, среди ночи ужиная у Марии в обществе фарфоровых кукол и плотоядных растений, других посетителей я не встречала.
Мария прошла к двери, приоткрыла со скрипом. Лунный луч на мгновение лег на мой столик.
— Buenas noches[2], Maria, — произнес мужской голос.
— Buenas noches.
Дверь закрылась, комната снова погрузилась в полумрак.
Незнакомец прошел мимо меня. Лицо он отвернул, но в тусклом свете, сочившемся из кухни, я заметила, что, по обыкновению очень высоких мужчин, он горбится, словно извиняясь за то, что занимает так много места. Бейсболка низко надвинута на лоб, под мышкой — книжка в твердом переплете. Он направился к угловому столику, как можно дальше от меня. Уселся спиной ко мне, стул под ним так жалобно скрипнул, что я подумала — сейчас развалится.
Мария вытащила спичку из кармана фартука, чиркнула по стене и зажгла огонек в малиновой плошке перед мужчиной. Лишь когда она удалилась на кухню за кофе для гостя, тот обернулся и глянул на меня из-под козырька кепки. В красноватом мерцающем свете был виден только слегка выдающийся подбородок, остальные черты скрывала тень.
— Привет, — сказала я.
— Добрый вечер.
— Вы американец?! — удивилась я. Иностранцев в Дириомо можно по пальцам пересчитать, а уж встретить соотечественника в этом самом кафе, глубокой ночью, — поистине чудо.
— Точно, — кивнул он и, сделав вежливый жест рукой, облокотился о стол и углубился в книгу.
Свечу он держал над страницей, и мне захотелось предостеречь: мол, читать в темноте вредно для глаз. Некоторым мужчинам вечно надо напоминать о подобных вещах. Вот и этот был явно из тех, за которыми кто-то непременно должен присматривать. Вскоре Мария принесла ему кофе. Что-то знакомое почудилось мне в том, как он подносил чашку к губам, как перелистывал страницы книги, даже в том, как благодарно кивнул Марии за салфетку и сахарницу. Я вглядывалась в его облик, гадая, не ошибаюсь ли, не вызвано ли чувство, что мы знакомы, слишком долгим моим одиноким путешествием. Однако с каждой минутой моя уверенность крепла: дело не в том, что вдали от родины все соотечественники кажутся смутно знакомыми, тут что-то личное.
Уткнувшись в свою книгу и, похоже, напрочь забыв обо мне, мужчина потягивал кофе, а я силилась вспомнить — где же мы могли встречаться, откуда я его знаю? И не просто знаю — когда-то давно нас что-то связывало. Больше всего бесило именно ощущение былой близости и полный провал в памяти. Может, я с ним спала? После смерти сестры я со многими спала. Давно это было, так давно, что уже, кажется, не со мной.
Мария принесла мне ужин. Дождавшись, когда дымящиеся банановые листья немного остынут, я сняла их и принялась за nacatamal. Я не раз пробовала воспроизвести это сочетание свинины, риса, картофеля, мяты, изюма и специй — никогда ничего не выходило. А когда пыталась выпытать рецепт у Марии, та лишь смеялась и делала вид, что не понимает.
— Вы бы попробовали nacatamal, — посоветовала я, проглотив очередной кусок.
— Что? А-а-а! Да, я поклонник здешней кухни. — Он бросил взгляд в мою сторону. — Всегда все очень вкусно, но я сыт.
Что же ему, в таком случае, здесь понадобилось среди ночи? В Дириомо мужчины, даже американцы, не рассиживают с книжками в кафе. Немного погодя, когда я вытащила кошелек, чтобы расплатиться, мужчина захлопнул книгу, несколько секунд взирал на обложку, словно собирался с духом, потом встал и подошел ко мне. Мария с порога кухни беззастенчиво наблюдала за нами. Красная занавеска была отдернута, в комнату струился мягкий свет. Мне даже пришло в голову, что Мария сама все подстроила — решила испробовать себя в роли свахи.
Мужчина стащил с головы бейсболку и держал ее в обеих руках. Спутанные волосы касались низкого потолка.
— Простите, — сказал он.
Теперь, рассмотрев его лицо вблизи — большие темные глаза и широкий рот, высокие скулы и выдающийся, заросший щетиной подбородок, — я поняла, кто это.
Я не видела его восемнадцать лет. А было время (я тогда училась в колледже), когда я думала о нем непрестанно на протяжении нескольких месяцев. Выискивала его имя в газетах, ездила взад-вперед мимо его дома на Русском холме, обедала в итальянском ресторанчике на Северном пляже[3], куда он часто захаживал, хотя от тамошних цен трещал по швам мой студенческий бюджет. Тогда мне казалось, что если следить за ним денно и нощно, можно кое-что понять — если не то, что он сотворил, то хотя бы как дошел до этого. Я не сомневалась — причина в психологической аномалии, в отсутствии некоего нравственного камертона, имеющегося у других людей.
А потом в один прекрасный августовский день 1991 года он исчез. В половине первого я вошла в ресторанчик на Северном пляже, как делала каждую неделю вот уже три месяца подряд, и тут же метнула взгляд на угловой столик, у стены с миниатюрой Миланского кафедрального собора. Именно там всегда располагался этот человек, и, похоже, столик специально оставляли для него. Он появлялся ровно в четверть первого каждый понедельник, садился за свой стол, пристраивал блокнот справа от тарелки с хлебом и, не глядя вокруг себя, что-то яростно строчил автоматическим карандашом, прерываясь только затем, чтобы заказать спагетти с креветками под соусом маринара, которые проглатывал одним духом, и кофе эспрессо, который потягивал не спеша. Так он обедал — правой рукой черкал в блокноте, а левой ел. Но в тот августовский день столик оказался свободен. Я сразу почуяла неладное. Сидела, макала хлеб в оливковое масло и ждала. К тому времени как официантка принесла мне салат, я уже знала наверняка: он не придет. В четверть второго я позвонила в университетскую библиотеку, где подрабатывала в свободное от учебы время, сказалась больной и отправилась автобусом на Русский холм. Ставни его квартиры на первом этаже были распахнуты, в глаза бросилась табличка «Сдается». Заглянув в окно, я увидела голые стены абсолютно пустой комнаты. И в голове мелькнуло: все, больше я его никогда не увижу.
Два
«У хорошей истории нет ни начала, ни конца, — говаривал мой преподаватель английского языка и литературы. — Каждый произвольно выбирает миг, с которого потом смотрит назад или вперед». Этим словам Эндрю Торп умудрялся найти применение на каждом занятии, какую книгу бы мы ни обсуждали. Можно было даже заранее угадать, когда именно мы их услышим, потому как, прежде чем выдать любимое изречение, профессор неизменно выдерживал продолжительную паузу, вскидывал брови и коротко, резко вдыхал.
Я бы выбрала одну среду в декабре 1989 года. Снова и снова взвешивая все детали, я выбираю именно этот день, который стал точкой отсчета для всех последующих событий, с него я начала делить свою жизнь на две части: годы, прожитые с Лилой, — и без нее.
В то утро я сидела на кухне, слушала по радио Джимми Клиффа[4] и поджидала, когда закипит кофе. Наши родители уже ушли на работу. Сверху спустилась Лила в черной блузке с рюшками, в зеленой вельветовой юбке и кедах. Глаза у нее были красными. Она плакала! Это меня ошарашило. Я и не помнила, когда в последний раз видела слезы Лилы.
— Что случилось?
— Ничего. Неделя тяжелая, — небрежно отмахнулась она. На пальце блеснуло кольцо, которого я раньше не видела, — такое тоненькое, золотое, с черным камушком.
— Потанцуем! — Мне хотелось ее развеселить. Я схватила сестру за руку, попробовала закружить, но Лила вырвалась.
Запищала кофеварка. Я выключила радио и налила Лиле кофе.
— Ты из-за него? — спросила я.
— Из-за кого?
— Из-за него, да? Ну скажи, скажи! Из-за него?
В кухонное окно Лила разглядывала ветку, которую еще на прошлой неделе грозой занесло к нам на крыльцо. Только позже, воспроизводя в памяти события тех дней, я подивилась — почему никто из нас не побеспокоился убрать с крыльца упавшую ветку?
— И давно она тут валяется? — поинтересовалась Лила.
— Да порядком уже.
— Надо бы убрать.
— Надо бы.
И ни одна из нас не двинулась с места.
— Как его зовут? — спросила я наконец. — А то у меня есть знакомые ребята-баскетболисты. Они живо начистят ему рожу.
От шутки здесь была ровно половина.
Лила не ответила, будто вообще меня не слышала. Но я уже давно научилась не обижаться на ее молчание. Однажды в ответ на мой укор, что она совсем не обращает на меня внимания, Лила объяснила: «Понимаешь, это как будто я брожу по дому, захожу в комнату, и дверь за мной закрывается. Я включаюсь в то, что происходит в этой комнате, а все остальное для меня как бы исчезает».
Я потянулась через стол и тронула Лилу за руку, призывая ее вернуться.
— Красивое колечко. С опалом?
Она поспешно сунула руку в карман.
— Так, побрякушка.
— Где взяла?
Она пожала плечами:
— Даже не помню…
Лила никогда не покупала себе украшений. Кольцо, надо полагать, было подарком от него. Лила и романтические отношения — это что-то новенькое! За все школьные и институтские годы у нее было не больше полудюжины свиданий. Мама любила повторять, что ребятам, дескать, ума не хватает по достоинству оценить девочку с таким исключительным интеллектом. Но тут, по-моему, мама в корне ошибалась. Пацаны-то как раз интересовались Лилой, это ей они на фиг не были нужны.
Когда я перешла в старшие классы, Лила заканчивала школу. Видела я, как парни на нее пялятся. Трепались они со мной, меня звали на вечеринки и на свидания; меня, веселую и бесшабашную сестрицу, которую всегда можно подговорить смотаться на пикничок или отколоть изощренную шутку над учителями. Но Лила не была невидимкой, отнюдь. Длинные темные волосы, извечная замкнутость, странноватое чувство юмора, страсть к математике — думаю, мальчишки попросту робели. Когда Лила в диковинных нарядах, которые сама себе шила на стареньком мамином «Зингере», в одиночестве шагала по коридору, уйдя с головой в собственные мысли, она, должно быть, казалась неприступной как крепость. Хотя мальчишки с ней и не заговаривали, было ясно как апельсин, что ее замечают. Я внушала симпатию, а в Лиле была тайна.
Даже после окончания калифорнийского университета Беркли, уже работая над кандидатской диссертацией по классической математике в Стэнфорде, Лила по-прежнему жила в своей детской спальне, почти каждый вечер ужинала дома, а по выходным смотрела с мамой и папой взятые напрокат фильмы. Тем временем я развлекалась где-нибудь с друзьями. Правда, некоторое время спустя Лила стала по вечерам уходить из дому. Возвращалась за полночь, с улыбкой на лице. Я пыталась выведать, с кем она встречается, но Лила отмахивалась: «Просто знакомый».
Мама тоже пришла в восторг от того, что наша Лила, быть может, бегает на свидания.
— Не хочу, чтобы она прожила жизнь одна-одинешенька, — не раз говорила мама.
А я вот подозревала, что Лила воспринимает одиночество не совсем так, как большинство людей. В голове у нее крутилось столько мыслей, что в приятелях не было нужды. Хотя мы с ней могли часами шептаться в темноте, я знала, что ей и одной не будет скучно: возьмет карандаш и примется за какую-нибудь зубодробительную математическую задачку. Я тогда думала, что для других девочек иметь сестру — все равно что стоять перед мутноватым зеркалом и видеть в нем свое собственное прошлое, саму себя, только с вариациями. Но мы с Лилой, несмотря на физическое сходство, были настолько разными, что не родись мы в одной семье, вряд ли подружились бы.
Лила допила кофе, взяла из вазы на столе яблоко, подхватила рюкзак.
— Передай маме, что я сегодня буду поздно.
— Во сколько?
— Поздно.
— Кто бы он ни был, — заметила я, — не очень-то с ним миндальничай. Пусть не воображает, что он главный.
Ее губы тронула улыбка:
— Это правило?
— Наиважнейшее!
Я проводила Лилу в прихожую, сняла с вешалки у лестницы ее черное короткое пальтецо, помогла его надеть, и тут вдруг она спросила, вроде только что вспомнила:
— Слушай, можно я сегодня возьму машину?
С тех пор как три года тому назад я получила права, мы с ней на пару владели синей «тойотой». Лила сама каждый месяц составляла расписание, и в этом месяце среды выпали на мою долю.
— Я бы с дорогой душой, но сама сегодня заканчиваю в библиотеке в четыре, а на полпятого записана к зубному, на другом конце города. На автобусе никак не поспеть.
— Ладно, неважно.
Лила открыла дверь, я, как было у нас заведено, откозыряла. Две, может, три секунды я вслушивалась в привычные звуки внешнего мира, ворвавшиеся в наш тихий дом: проехала машина, вниз по крутой улице скатился мальчишка на скейтборде, обрывок музыкальной фразы долетел из распахнутого окна на той стороне. Затем дверь тихо закрылась — Лила ушла. Позже я бесчисленное количество раз вызывала в памяти этот миг, и мне казалось, что не замок щелкнул тогда, а в душе у меня раздался едва различимый щелчок. Если бы я только прислушалась, если бы обратила внимание, возможно, я сумела бы что-то изменить.
Вечером я сказала родителям, что Лила будет поздно, и мы легли спать как обычно. На следующее утро, когда я спустилась в кухню, мама, стоя у рабочего стола, жевала хлопья и просматривала свои записи по судебному делу, а папа сидел за обеденным столом с газетой и тостом, намазанным маслом.
— Пойди разбуди свою сестру, Элли, — сказала мама. — Надо же, до сих пор валяется! А ей к девяти на лекцию.
Я пошла наверх, постучала. Лила не ответила, и я заглянула в комнату. Кровать заправлена, накидки на подушках и покрывало не смяты. Собраться и уйти незамеченной она не могла: наша общая крохотная ванная располагалась впритык к моей комнате, а Лила всегда принимала по утрам душ под «KLIV»[5]. Я бы непременно услышала.
Я вернулась на кухню. Мама у раковины мыла свою миску.
— Ее нет! — объявила я. — Похоже, она не ночевала дома.
Мама с мокрыми руками обернулась ко мне:
— Что?!
Папа в изумлении оторвался от газеты:
— И не звонила?
— Она тебе не говорила, куда собирается вечером? — спросила мама.
— Нет. Вообще-то утром она была расстроена, но в чем дело, не призналась.
— А этот парень, с которым она встречается, — продолжала расспрашивать мама, — кто он такой? Ты в курсе?
— Она меня не посвятила.
Я снова поднялась в комнату сестры и сняла со стены над письменным столом ее график. Мы позвонили в редакцию «Стэнфордского математического журнала», где Лила работала несколько дней в неделю. Она пропустила вчерашнюю пятичасовую летучку.
— Очень странно, — заметил редактор. — Такое с ней впервые за два года.
Потом мы позвонили некоему Стиву, который вел семинар в семь вечера; она и семинар пропустила.
Тут уж папа позвонил в полицию и заявил о пропаже дочери. К нам явился полицейский, попросил фотографию Лилы, засунул в пластиковый конверт и ушел, а мы сели в гостиной ждать телефонного звонка. Это было в четверг. Два дня о Лиле ни слуху ни духу. Словно она отправилась на станцию, купила билет в тридесятое государство и как в воду канула.
А в субботу в Хилдсбуре нашли ее рюкзак, с нетронутым кошельком, ключами от дома и учебниками. Пропала только тетрадка на пружинке, толстенькая такая, в клетчатой обложке. А тетрадка, я знала, непременно была в рюкзаке, когда Лила уходила, потому что сестра никогда с ней не расставалась. Это был ее дневник, но дневник необычный. Вместо слов он был набит цифрами; страница за страницей — сплошь формулы убористым Лилиным почерком. Для меня прочесть хоть одно из вычислений было равноценно попытке очень-очень быстро произнести какое-нибудь слово раз десять подряд; сами по себе цифры и буквы знакомы, а вместе — абракадабра какая-то, шпионский шифр, разгадать который по зубам лишь специалисту. Я бредила неформальной музыкой и восточноевропейскими романами, а Лила все свое время отдавала уравнениям и алгоритмам, длинным цепочкам знаков и цифр, сверху донизу заполнившим страницы в клетку.
— Что это тут у тебя? — поинтересовалась я однажды, сидя на ее кровати и листая ту самую тетрадь. — «Любое четное число не меньше четырех можно представить в виде суммы двух простых чисел», — громко прочла я на страничке с загнутым углом.
Лила примеряла новое платье. Мама вечно покупала ей модные тряпки, пытаясь изменить на свой вкус странноватый самодельный гардероб дочки. Та, по доброте душевной, обновки мерила, демонстрировала родителям, произносила что-нибудь вроде «какая прелесть!», после чего убирала наряды в шкаф, где они и томились, покуда я не забирала их для собственных нужд.
— Всего-навсего одна из самых известных математических задач всех времен — гипотеза Гольдбаха[6], — откликнулась Лила. — Математики пытаются ее доказать с 1742 года.
— Ну-ка, я сейчас угадаю — моя гениальная сестрица вздумала ее решить!
— Гипотезу не решают, а доказывают.
— Да? И в чем же разница?
— Математический ликбез, — хмыкнула Лила, доставая из коробки лакированные лодочки, купленные мамой к новому платью. — Гипотеза — это математическое утверждение, которое выглядит правдоподобно, но истинность которого официально не доказана. Как только появится доказательство, гипотеза превратится в теорему. Гипотезу можно использовать, чтобы попытаться построить другие математические доказательства. Но все, что доказано при помощи гипотезы, остается всего лишь гипотезой. Понятно? — Лила повернулась ко мне спиной, чтобы я застегнула молнию.
— Клево, когда в семье имеется собственный гений, — бросила я. — Спасибо, сестричка. У меня как гора с плеч.
Лила скинула туфли и плюхнулась на кровать.
— Вот когда я все-таки ее докажу, можешь назвать меня гением. Но только наполовину — у меня есть напарник. У нас с ним договор: мы вместе докажем эту гипотезу. Даже если для этого потребуется тридцать лет.
— Напарник? Кто такой?
— Так, один знакомый.
— Если на это дело потребуется тридцать лет, могла бы заодно уж и замуж за него выйти.
— Боюсь, его жена будет возражать.
— А она в курсе, что вы с ним математически обручились?
Лила поправила бретельку лифчика и потянула за ворот платья.
— Она художница. Боюсь, о гипотезе Гольдбаха слыхом не слыхивала.
Когда нам сообщили о рюкзаке, мы пошли в церковь. Даже папа согласился пойти, хотя его отношения с религией сводились к тому, что порог храма он переступал раз в год, на Пасху. Мы поставили свечку за Лилу. Мама громко молилась, я тоже, хотя не делала этого с детства. Молилась я не то чтоб с подлинной верой, но на случай, если Господь слышит, хотелось сделать все правильно.
В понедельник, через два дня после обнаружения рюкзака, какой-то бродяга, пробираясь через лес на окраине небольшого городка на Русской реке, сошел с тропы и споткнулся о тело, присыпанное опавшей листвой. В четыре часа родители отправились в Герневилль, в ста двадцати километрах севернее Сан-Франциско. Я стояла у окна и смотрела, как из гаража выруливает темно-серый родительский «вольво». В четверг, как обычно, приезжал мусоровоз, но в сумятице последних дней никому не пришло в голову убрать на место пустые баки. Машина остановилась, вышел папа, закатил баки в гараж. Снова сел за руль, я услышала, как опустилась гаражная дверь. Мне были видны они оба, но только от плеч и ниже. Темно-синяя юбка мамы чуть задралась, на коленях лежала сумочка. Они с папой держались за руки. Машина медленно выехала на улицу. Мне стало страшно.
Я сидела на кухне и ждала, не сводя глаз с часовой стрелки. В 17.43 раздался телефонный звонок. Папа звонил из морга, связь была пакостной, то и дело прорывались аккорды какой-то пошлой музычки. Я едва разбирала слова и все просила папу повторить.
— Личность установлена…
Сами слова я уже расслышала, но потребовалось невероятное усилие, чтобы уяснить их смысл.
— Цепочка пропала, — как-то неуверенно добавил папа, скорее спрашивая, чем утверждая.
Я представила себе тоненькую золотую цепочку с подвешенным к ней топазиком в изящной золотой оправе. Лила никогда ее не снимала. Цепочку сестре подарила я, на восемнадцатилетие, — три месяца подрабатывала нянькой, а деньги откладывала.
— Причина смерти установлена. Травма головы, нанесенная тупым предметом.
Тогда меня бесконечно удивила странная апатичность его голоса и тот факт, что страшное известие папа сообщил мне по телефону, а я ведь была дома совсем одна. Теперь, задним числом, понимаю: он был не в своем уме от потрясения и горя, в тот момент нельзя было ждать от него разумных действий. Вешая трубку, я думала о машине. Если бы в среду я дала ее Лиле, как та просила, изменилась бы цепь событий? Если бы я не зациклилась на треклятом визите к зубному, может статься. Лила была бы сейчас жива?
Однажды, силясь объяснить мне диковинное понятие мнимых чисел, Лила процитировала Лейбница[7], который назвал мнимое число «амфибией между бытием и небытием». После гибели сестры мне иногда казалось, что я застряла именно в таком состоянии. Всю свою жизнь я была младшей сестренкой. И вдруг в одночасье стала единственным ребенком. Родители, надо отдать им должное, изо всех сил старались поддержать мир и согласие в нашей семье, сохранить ту теплую атмосферу, которая царила в доме до смерти Лилы. В мире, где слову «семья», как правило, сопутствует определение «неблагополучная», нам здорово повезло — у нас была счастливая семья. Но как бы крепка ни была семья, какие бы усилия ни прилагали ее члены, чтобы перейти страшный рубеж и жить дальше, с горем справиться непросто. Наш дом был уже не тот, что прежде.
Почти сразу я начала делить время на «до того» и «после». В моих воспоминаниях о жизни «до того» — мир, расцвеченный яркими красками, беспечность, милый сумбур домашней жизни. «После» — нечто совсем иное. «После» — это тяжкое бремя вины и печали.
Ставни на окнах закрыли, дом затих. По ночам мама не вылезала из сада, при свете фонарей копалась в земле, полола сорняки, сажала луковицы. Я слышала, как далеко за полночь она отворяла заднюю дверь, как бросала совок и садовые ножницы в большое железное ведро в гараже. Несколько минут тишины, а затем в трубах начинала клокотать вода, с содроганиями пробуждалась стиральная машина. Потом — звук маминых шагов на лестнице из гаража в дом, и — тук-тук-тук — в дно фаянсовой ванны бил душ. А папа тем временем читал в спальне, в кресле с прямой спинкой, на столике под рукой стакан воды. Неудобное это было кресло. «До того» он всегда устраивался с книжкой в мягком кресле в гостиной — бокал вина в руке, магнитофон тихонько напевает голосами Боба Дилана или Джонни Кэша. «После» не было ни вина, ни музыки.
Несколько лет спустя на гаражной распродаже в Коллингвуде, роясь в картонной коробке, я наткнулась на старую книжку в твердом переплете — «Конец одного романа» Грэма Грина. Разодранная суперобложка склеена скотчем, страницы покоробились и набухли. На прилепленном к переплету ярлычке значилось: 25 центов. Дело было в субботу, теплым сентябрьским утром; впереди два бесконечных выходных дня. Торопиться мне было некуда, а солнышко так ласково пригревало голые руки. Я открыла первую страницу. «У хорошей истории нет ни начала, ни конца, — прочла я. — Каждый произвольно выбирает миг, с которого потом смотрит назад или вперед». Любимое изречение Эндрю Торпа, черным по белому!
Я снова перечитала строчку, потом и в третий раз — не ошиблась ли? Положила четвертак на стол, сунула книжку под мышку и отошла. Со мной такое уже бывало и, вероятно, будет еще не раз: только-только начнет казаться, что я наконец оторвалась от прошлого, выкинула его из головы, как вдруг явится что-нибудь — и прошлое снова со мной. Это могло произойти где угодно, когда угодно: мелькнет похожее лицо, в новостях доложат о значительном математическом открытии, долетит обрывок знакомой песни, появится рецензия на очередную книгу Эндрю Торпа…
Меня не слишком удивило, что Торп без зазрения совести позаимствовал и приписал себе слова писателя. Чего еще ждать от человека, сделавшего карьеру на истории Лилы. Другое огорчало — мое собственное легковерие, готовность принять сказанное за чистую монету, ни на секунду не усомнившись в его непреложности.
Любой рассказ — это вымысел, подвластный прихотям автора. Для читателя же, пребывающего по ту сторону страницы, слова следуют одно за другим с определенной неизбежностью, как будто рассказ может существовать лишь в одном-единственном виде, в том, в котором он написан. Но любую историю можно передавать сегодня так, а завтра — иначе. Для одного рассказчика важны начало и финал. Для другого — герой, героиня, злодей. Вариантов бесчисленное множество — выбирай не хочу. И кто определит, какая из версий истинная?
Три
За три года, минувшие со дня гибели Лилы, Эндрю Торп опросил десятки людей, в том числе редактора «Стэнфордского математического журнала», трех преподавателей Лилы и некоторых ее одноклассников. Он бы и до ее друзей добрался, если б таковые были, но Лилу больше интересовали цифры, а не люди. Даже мои родители пару раз беседовали с Торпом по душам — но это еще до того, как мы узнали, что он вознамерился написать книгу.
Однако первой в списке тех, с кем общался Торп, оказалась я. Он вел у нас, в университете Сан-Франциско, современную американскую литературу на втором курсе. Лила погибла в начале декабря, как раз заканчивался первый семестр. Последнюю письменную работу я сдать вовремя не успела и уже после похорон, три недели спустя, договорилась с Торпом встретиться в кафе напротив университетского городка. Осенью мы с ним уже пару раз встречались, чтобы потолковать о моем семестровом задании на тему «Ричард Йейтс и его роман „Дорога перемен“». Каждый раз наш разговор уходил далеко в сторону и продолжался много дольше условленного часа. Торп был добродушен и весел, много знал и без стеснения признавался, что обожает боевики, «Tears for Fears»[8] и баночные равиоли. Родом он был из Алабамы и еще до конца не избавился от легкого акцента, но мне это казалось ужасно милым. И хотя ему стукнуло всего тридцать и на кафедре он числился адъюнктом, а не преподавателем, лучшего учителя у меня сроду не бывало.
— Не вопрос! — заявил он, когда я попросила отсрочку. — Можешь не торопиться.
Мы сидели на двухместном диванчике, задвинутом в нишу. Торп настоял на кофе и сэндвиче, к которым я едва притронулась.
— Ты не голодна?
Я взяла сэндвич и снова положила на тарелку.
— Последние три недели нас просто завалили всякими вкусностями. Только в горло ничего не лезет. От одной мысли о еде мутит… Мы раздаем все по соседям.
— Когда умер мой отец, — начал Торп, — его друзья тоже нас подкармливали. Натащили жареных цыплят и банановых пудингов на целую футбольную команду.
Он взглянул мне в глаза и тихо спросил:
— Как ты, Элли?
Я отогнала слезы. Что тут скажешь? Слишком мало времени прошло, чтобы худо-бедно осознать случившееся. Шок еще не отпустил. Я вдруг начала рассказывать Торпу, как сегодня поутру вскочила с постели и рванула в ванную, чтоб успеть в душ вперед Лилы, которая имела обыкновение использовать практически всю горячую воду. Поворачиваю кран — и до меня доходит, что Лила не займет ванную ни сегодня, ни завтра. Никогда. Десятки раз, с тех пор как это случилось, мне приходилось говорить себе — Лилы больше нет. И каждый раз сердце саднило, как от свежей раны. Бывало, проснусь среди ночи и все вроде бы отлично, но тут вспомню — ее нет, и сна ни в одном глазу. Лежу и пялюсь в потолок, не в силах понять — как нам жить без нее?
— Самое странное чувство — что я осталась один на один с родителями. — От обогревателя веяло теплом, но меня знобило. — Раньше было равновесие: их двое, нас двое. А теперь я точно третий лишний в собственном доме, не дочка, а гостья какая-то. Раньше стрясется у меня что-нибудь, поцапаюсь с родителями — Лила как буфер между нами. А теперь мы сидим и не знаем, о чем говорить. — Я утерла глаза. — И зачем это я вам все рассказываю?..
Торп глядел на меня с участием, но не жалостливо.
— Рассказывай все, что пожелаешь, — откликнулся он. — Может, станет легче.
За этим разговором с Эндрю Торпом последовали другие. Насколько я понимаю, они не были интервью. Я потянулась к нему, потому что он оказался рядом и с сочувствием отнесся к моему горю. И ни разу не было ощущения, что Торп присматривается ко мне или к моей семье. Говорить о Лиле со сверстниками не особо хотелось — в моем присутствии они старательно сохраняли печальный вид, как будто смех мог унизить мое горе. А с родителями вообще невозможно было разговаривать — в них словно что-то выключилось. Не то чтобы они оцепенели в своей скорби, нет, каждое утро поднимались, шли на работу, по вечерам мы, как прежде, по очереди готовили ужин. Раз в две недели, по пятницам, папа играл в гольф, а мама после долгих часов в юридической фирме ночи напролет возилась в саду — полола, сажала, поливала. Не образ действий поменялся — образ чувств. Они были веселыми людьми, мама и папа, но после гибели Лилы перестали смеяться. Лишь изредка кто-нибудь из них улыбался — слабо, вымученно. Улетучилась присущая нашему дому беспечность. И романтические отношения родителей, их теплые чувства друг к другу, которые я всегда воспринимала как должное, остыли.
Если родители и вспоминали Лилу, то почти всегда так, словно она еще жива — минутный рецидив былого счастья. Например, как-то утром я вывожу машину из гаража, а папа говорит: «Не забудь заправить ее для Лилы». В другой раз накрываю на стол, расставляю тарелки, а мама заявляет: «Одной не хватает» — и хочет достать из буфета четвертую тарелку, но только тут до нее доходит, что я не обсчиталась.
Родители как будто сознательно стремились забыть. Теперь мне это представляется странным, но мы никогда не говорили о сестре, не делились дорогими воспоминаниями. А тогда мне казалось естественным, что мы всячески обходим эту тему. Точно горя убавится, если исключить Лилу из наших разговоров.
С Торпом же я ничего не таила — рассказывала ему о наших с Лилой детских выходках, описывала ее странности и чудачества: она, например, всегда сначала надевала левую туфлю, делала пару шажков по комнате, словно испытывая на прочность, и лишь затем обувала другую ногу. У нее было особое отношение к некоторым числам (так заядлые читатели по-особому относятся к некоторым буквам) — больше всего она любила число 28.
— Почему именно 28? — заинтересовался Торп.
— Потому что оно из ряда исключительных явлений, подпадающих под категорию «совершенное число»[9]. Его делители — 1, 2, 4, 7 и 14 — в сумме составляют 28. Это сумма первых пяти простых чисел. Существует ровно 28 выпуклых многогранников. От края до края нашей вселенной 28 миллиардов световых лет. Кроме того, 28 — гармонический делитель, а также девятое и последнее число в древнеиндийском магическом квадрате Кубера-Колам.
— Любопытно.
Приободренная, я выложила ему и другие секреты. Лила была очень хорошенькой и тем не менее терпеть не могла зеркал — душу, кажется, прозакладывала бы, лишь бы не иметь с ними дела. В ее комнате зеркал отродясь не водилось, и когда мама заставила-таки Лилу начать пользоваться губной помадой (на четвертом курсе!), помада эта частенько оказывалась размазанной, потому что Лила красила губы наугад.
Один вопрос часто возникал в наших с Торпом беседах: кто убил Лилу? Лично у меня на этот счет не имелось никаких догадок. Решительно никаких. Насколько я знала, врагов у Лилы не было. Трудно даже представить, чтобы кто-нибудь имел на нее зуб. Торпу я сказала то, чего не говорила родителям: кто бы это ни сотворил, мне хотелось верить, что он был чужаком. Сама мысль, что Лила его знала, доверяла ему, была невыносима.
— А тот человек, с которым она встречалась? — спросил однажды Торп. — Мог он пойти на убийство?
Меня передернуло.
— Пожалуйста, не надо так говорить…
Репортеры питали особую слабость к этому слову — «убийство», но у меня оно в горле застревало. Слишком выразительно. Меня больше устраивало официальное определение — «насильственная смерть». Не так режет слух.
— Само собой, полиция жаждет с ним пообщаться, — сказала я. — Только никто не знает, кто он такой. Очень уж осмотрительно оба вели себя.
Торп что-то черкал в блокноте, а я все говорила. С Торпом я могла свободно болтать о чем угодно. Он слушал, кивал, задавал вопросы. Теперь вспоминаю и думаю: меня должна была бы насторожить эта вечная ручка наготове, эта его манера вытаскивать блокнот и посреди разговора начинать строчить в нем. Но всякий раз, когда мы встречались, он проверял студенческие сочинения или писал конспект лекции, поэтому я и не придавала значения.
В том семестре (после гибели Лилы) я записалась к Торпу на семинар по восточноевропейской литературе, и это были единственные занятия, которые я посещала исправно. Наши с Торпом личные беседы неизменно начинались с того, что мы проходили на этой неделе, — «Книга смеха и забвения» Милана Кундеры, «Искушение» Вацлава Гавела, «Слишком шумное одиночество» Богумила Грабала — и заканчивались Лилой. Я чувствовала, что друзьям поднадоела моя мрачность, ведь я со своим горем, — не слишком веселая компания, но сестра не шла из головы. Одному Торпу не приедалась эта тема. Я даже начала подумывать — не втюрился ли он в меня, часом? Иначе чего ради он меня терпит?
Чаще всего мы с ним встречались в кафе, но иногда я просто задерживалась после занятий. В большие закругленные окна аудитории был виден залив и мост «Золотые Ворота». Очертания высившегося в тумане моста, горделивого и в то же время такого знакомого, успокаивали. Много раз мы с Лилой пересекали его из конца в конец… Сколько себя помню, в день ее рождения и в первый день осени мы шли по мосту. Что могло быть естественнее, чем говорить о Лиле в такой обстановке, с человеком, которого считаешь другом?
Весенний семестр закончился, а мы все продолжали встречаться — в парке Долорес, рядом с которым Торп жил, или в кондитерской Глен-парка. Пару раз ходили в кино.
И только в июне, когда после первой беседы прошло приблизительно полгода, Торп сообщил, что пишет книгу. Мы обедали в ресторане «Панчо Вилья». Сидели у окна, уплетали буррито[10], а Торп отпускал замечания по поводу прохожих. Для каждого у него находилась история: сердитая тетка, толкающая детскую коляску ценой в пятьсот долларов, украла ее у доверчивой мамаши; шествующая под ручку симпатичная парочка приехала в город по делам фиктивной фирмы, и вдобавок оба изменяют своим супругам. Имелась у Торпа такая привычка — придумывать жизнь совершенно незнакомым людям. Подозреваю, их собственное житье-бытье было куда менее увлекательным, чем придуманное Торпом.
И вдруг Торп отхлебнул лимонада и объявил:
— А у меня новость.
— Правда? И какая?
— Я пишу книгу.
— Это же замечательно! — откликнулась я и не покривила душой.
Торп давно мне признался, что мечтает стать писателем. Еще в аспирантуре пытался публиковать короткие рассказы, но после серии отказов у него опустились руки. Где-то в столе у него валялся недописанный роман. «Как у половины кафедры английской литературы», — сказал он мне, легко отмахнувшись от нескольких лет работы.
— Роман? — поинтересовалась я.
— Нет, это документальная вещь.
— О чем?
Он закусил губу, повертел в руках вилку и после долгого молчания сказал;
— О Лиле.
Я решила, что ослышалась.
— Что?
— Похвальное слово ее жизни и расследование ее смерти.
Фраза прозвучала заученно, словно он уже не раз произносил ее. Однако сама идея книги о Лиле была настолько несуразна, что я подумала: он смеется!
— Не смешно, — буркнула я. — К чему такие шуточки!
— Да ведь история захватывающая! Думаю, многим будет интересно почитать.
Я отодвинула тарелку.
— Вы… серьезно?
Я еще надеялась, что сейчас он скажет: «Шучу, конечно!» Но он молчал. Мимо прошел человек с целой сворой собак на поводках, и Торп, довольно глупо, попытался разрядить атмосферу:
— Парень оставил прибыльную карьеру врача, чтобы осуществить свою мечту — выгуливать чужих собак.
— Лила вам не история! — чуть не крикнула я, и семейная пара за соседним столом, удивленно вскинув головы, уставилась на меня. — Она моя сестра!
Торп бросил на соседей извиняющийся взгляд и тихо заговорил:
— Прости. Мне следовало сказать как-то иначе. Но понимаешь, все это время я слушал твои рассказы о Лиле и думал: сколько же еще неясного в этом преступлении. У полиции людей наперечет и денег негусто. Для них расследование гибели Лилы — рутина, отвлекающая от стоящей работы. А мне, быть может, удастся взглянуть на произошедшее свежим глазом.
— Надеетесь отыскать щели, в которые они еще не заглядывали?
— Послушай, кто-то должен что-то знать. Выясню хотя бы, с кем Лила встречалась.
— Хотите поиграть в частного сыщика — ради бога. Но не пишите об этом! Лиле это было бы противно.
Я еще и рта не закрыла, а у Торпа уже был готов ответ:
— Она была исключительной личностью, чрезвычайно одаренной. Книга станет данью ее памяти.
Щеки у меня горели.
— Вы ведь даже не были знакомы!
— А мне кажется, я знаю ее целую вечность. Если б не ты, она так и осталась бы не более чем заметкой в газете. Благодаря тебе Лила стала реальным и очень важным для меня человеком.
— Я вас умоляю, как друга прошу…
Я рассказывала Торпу, что сестра пуще глаза берегла свою личную жизнь. Эдакая навязчивая идея. Потому и жила дома: съемную квартиру пришлось бы с кем-нибудь делить. Потому и к телефону редко подходила и почти не имела друзей. Возможно, этим отчасти объяснялась и ее увлеченность цифрами — и цифры не фамильярничают. Общение с ними лишено сумятицы эмоций. Математике присущ внутренний порядок, которого недостает человеческим взаимоотношениям. Воображаю, в какое состояние привели бы сестру портреты, заполонившие газетные страницы, постоянное упоминание в теленовостях ее имени. А книга — и того хуже. Книги переходят из рук в руки, оседают на полках библиотек. В книге Лила навечно останется жертвой.
Торп откинулся на спинку стула.
— Я зашел слишком далеко, чтобы отступать, но с твоим согласием мне будет легче. Первый черновой вариант готов почти наполовину. Мне бы хотелось, чтобы ты взглянула. Я уже и агента нашел.
— А вам не пришло в голову спросить меня, прежде чем браться за перо?
Он промолчал.
— А я вам верила…
Какой же я была дурой! Эти бесконечные расспросы, вечное царапанье в блокноте… А я-то как идиотка откровенничала с ним, даже не задумываясь, зачем ему это нужно!
Торп положил свою ладонь поверх моей. Я отдернула руку.
— Я подозревал, что ты будешь против, и я тебя понимаю. Поэтому и решил сначала закрутить все дело, а уж потом сказать тебе.
Он полез в портфель, вытащил папку, пододвинул ко мне. Я открыла. Внутри лежала стопка листов толщиной сантиметров в пять. Я прочла заглавие, и тошнота подступила к горлу.
Эндрю Торп УБИЙСТВО В ЗАЛИВЕ Подлинная история сан-францисского злодеянияПрошло несколько недель. С Торпом мы виделись не часто. Каждый раз я умоляла его бросить книгу, и каждый раз он отказывался.
— Ты прочла? — нетерпеливо спрашивал он. — Ты только прочти — и сразу передумаешь!
Но я не желала читать. Заново пережить ужас смерти сестры, пусть даже увиденной чужими глазами? Ни за что!
Последний наш разговор состоялся на пляже туманным днем, вскоре после того как я рассказала о книге родителям. Те были совершенно выбиты из колеи, и папа, всегда такой спокойный, не скрывал своего гнева.
— Это ты привела Торпа в дом! — кричал папа. — Он сидел за нашим столом. Мы доверяли ему, потому что он твой друг!
Мы брели вдоль полосы прибоя, туман студеной сыростью окутывал лица.
— В последний раз прошу вас, — обратилась я к Торпу, — ради меня, ради моих родителей, ради Лилы. Откажитесь!
Он покачал головой:
— Не могу, Элли.
— Значит, так?
Он перевел взгляд на океан, там медленно входил в залив огромный корабль.
— Прости, — проговорил Торп.
Я повернулась и пошла прочь. Уже отойдя на приличное расстояние, услышала, как он что-то крикнул, но волны заглушили слова.
Четыре
После гибели Лилы я бродяжничала несколько лет подряд. С большим опозданием защитив диплом по литературе, устроилась официанткой и на временную работу в контору — надо же было зарабатывать на путешествия по Штатам, бесконечные разъезды на раздолбанных тачках, в обществе часто сменявших друг друга парней. В конце концов я отправилась в Европу. Одна. В то лето, когда я распрощалась со школой, а Лила закончила университет, родители раскошелились и мы с ней полтора месяца колесили по Европе. Мы так здорово повеселились, что торжественно поклялись повторить вояж через пять лет. Без Лилы пятилетний рубеж подоспел незаметно и так же незаметно миновал. Я жила в каком-то подвешенном состоянии, о будущем не задумывалась. Назначенный срок давно миновал, и вот спустя четыре года я купила билет за океан в один конец. Свое двадцать седьмое лето я провела, бродя по нашим с Лилой следам. Проехала тем же самым маршрутом: из Амстердама в Париж, из Парижа в Барселону, дальше — в Венецию и через Германию обратно в Нидерланды. Заходила в те же самые музеи, даже пыталась ночевать в тех же дешевеньких гостиницах, только далеко не всегда могла их отыскать, поскольку сроду не утруждала себя ведением дневника.
Купила книжку с краткими биографиями знаменитых математиков и побывала на могилах некоторых из них — Блеза Паскаля в парижской церкви Сент-Этьен-дю-Монт, Карла Гаусса в Геттингене, Лейбница в Ганновере, Христиана Доплера на кладбище Сан-Мишель в Венеции. Сестра их боготворила, мое турне по кладбищам было данью ее памяти. Сама не знаю почему, но после этого я словно немного приблизилась к ней.
Вернувшись домой, я снова взялась за временную работу, переходя из конторы в контору, без радости, без цели. Часто задумывалась — чем бы занималась Лила, будь она жива? Уж наверняка не такой ерундой. Жизнь ее имела бы смысл и цель и достигла бы значительных высот. Я же и через десять лет после ее смерти не могла отделаться от мысли, что влачу существование мнимого числа.
А потом, уже почти потеряв надежду отыскать себе дело по душе, я открыла свое призвание — кофе. Откровение снизошло на меня случайно, можно сказать, просто повезло. Лила, к слову, в такие вещи никогда не верила. Однажды, когда я шумно ликовала по поводу ее удачи (в школьной лотерее она выиграла плеер), Лила заметила: «То, что мы называем удачей, на самом деле результат проявления естественных законов, теория вероятностей».
Кофейный дегустатор — капер, — как сомелье или парфюмер, должен обладать безупречным нюхом. Мне мой достался по наследству от мамы, заядлой садовницы, которая устраивала свои клумбы не по цвету, а по запаху растений. Еще девчонкой я бродила по маминому саду, и меня завораживали его ароматы — пьянящая сладковатость жасмина плавилась в терпкости лимонных деревьев, а мускусный запах глицинии только крепчал от смолистого духа шалфея. Я обожала прохладную свежесть мяты по соседству с мульчей из кедровой коры, грубоватость роз в соединении с изысканностью лаванды. Однажды (я тогда еще училась в начальной школе) мама одобрительно заметила, что у меня природный нюх. Я была на седьмом небе и потом долгие годы помнила ее слова. Мама охотно нас нахваливала и была бы счастлива, если б я почаще предоставляла ей такую возможность. Лилу, необыкновенно одаренную, хвалить было легче легкого, а вот чтобы найти повод похвалить меня, маме приходилось изрядно поломать голову.
Много лет миновало, а я все помню свою первую чашку кофе, выпитую с папой втихаря одним воскресным утром, пока мама и Лила не вернулись из церкви. Мне было восемь лет, и я сидела дома, потому как обожглась соком ядовитого сумаха во время семейной вылазки на природу.
Мне всегда нравился запах кофе, по утрам наполнявший дом. Но в тот день я обнаружила на кухне нечто новенькое — маленький деревянный ящичек с приделанной к крышке металлической чашкой и ручкой сбоку. На дне чашки темнели несколько зернышек. Папа сидел за столом, уткнувшись в газету.
— Что это? — спросила я.
— Кофемолка.
— А откуда она взялась?
— Мы с мамой купили в Венеции.
— А что такое «Венеция»?
— Такой город в Италии. Мы туда ездили на наш медовый месяц.
— А почему я раньше ее не видела?
— Я ее раскопал, когда прибирался в гараже. Хочешь покрутить?
Я крутила ручку, зубчики на дне чашки потихоньку перемалывали зернышки в порошок, и от него шел густой, приятный аромат. Я крутила, пока все зерна не исчезли. Тогда я вытянула маленький ящичек, куда ссыпался молотый кофе, поднесла его к носу и понюхала. Это было чудесно!
— Хочу попробовать.
Папа усмехнулся:
— А не рановато тебе?
Много лет спустя я устроилась на временную конторскую работу в кофейную компанию «Золотые Ворота» в Южном Сан-Франциско. Когда ее хозяин, Майк Стекополус, предложил мне место своего помощника, я согласилась не задумываясь: только в этой конторе я почувствовала — здесь я на своем месте. Годом позже Майк в первый раз взял меня с собой в командировку. Мне исполнился тридцать один, я упорно пыталась обрести нечто, чему не могла подобрать точного определения. Может, ощущение покоя и благоденствия, которое не посещало меня со дня смерти Лилы. Бок о бок с представителями трех поколений одной крестьянской семьи я собирала плоды глянцевитых кофейных деревьев на крошечном клочке земли в Кезалтенанго, высокогорном районе Гватемалы. К концу дня спину ломило, руки болели, а мой мешок был полон лишь наполовину. Мне сообщили, что для одного лишь фунта кофе необходимо вручную собрать две тысячи ягодок кофе, и я лишилась дара речи. На следующий день меня провели по сараю, где происходила первичная обработка кофе. Здесь сморщенные плоды отделяли от хороших, которые затем отправляли в пульпер[11], после чего зерна, все еще укутанные в толстую кожуру, сортировали по размеру. Я видела бродильные чаны, погружала руки во влажные зерна и смывала с них клейкую слизь, обнажая гладкую, зеленоватую кожицу в тонких трещинках. А под конец я помогала раскладывать зерна на громадных брезентовых полотнищах для просушки и ворошить их граблями на жарком солнце.
Лишь после того как я прошла по всей цепочке от начала до конца, Майк допустил меня в дегустационный зал — крошечный сарайчик с белеными стенами и плотно укатанным земляным полом. Раздавив тяжелой ложкой темную оболочку кофейного зерна, я припомнила то утро, когда мы с папой пили кофе. Впервые за время моего взрослого существования я увидела, как складываются в единое целое разрозненные части моего бытия, сливаются в единую историю жизни различные сюжеты.
Пять
Документальный роман «Убийство в Заливе» появился на полках книжных магазинов в какой-то из вторников июня, через полтора года после смерти Лилы. А уже в воскресенье на первой полосе «Сан-Франциско кроникл» напечатали хвалебную статью некоего Семи Челласа, который сулил книге блестящее будущее и уверял, что в свое время она станет «классикой криминальной документалистики». Еще через несколько дней, листая журнал «Сан-Франциско», я наткнулась на статейку самого Торпа под названием «История Лилы», где он подробно живописал дружбу со мной и заявлял, что Лила, конечно, главная героиня его книги, но его муза — я. Меня чуть не вывернуло прямо на страницу. Я только молила, чтобы это не дошло до родителей. Те, во всяком случае, никак не отреагировали.
В списке бестселлеров «Кроникл» книга, к моему ужасу, с ходу заняла седьмое место. С каждой неделей она поднималась все выше и выше — с седьмого места на пятое, на второе и, наконец, вышла на первое, где и продержалась почти полгода. Она красовалась на самых видных местах в витринах всех книжных магазинов, часто по соседству с большим плакатом, на котором крупно воспроизводилась обложка — лицо Лилы на фоне моста «Золотые Ворота» — и портрет Торпа. Героиня и автор бок о бок. Сколько людей уже ознакомились с историей моей сестры? Ее трагическую судьбу смакуют любопытные… Вот мерзость!
Приблизительно на третьей неделе книжной вакханалии я томилась в автосервисе, дожидаясь, пока мне поменяют масло; женщина, сидевшая напротив, читала «Убийство в Заливе». Заметив мой взгляд, она поинтересовалась:
— Читали?
— Нет.
— Обязательно прочтите. Ужасно интересно! Немного скучновато, когда автор углубляется в математику, но все равно — рекомендую. Жутко представить, что это случилось прямо у нас в Сан-Франциско. Он упоминает знакомые улицы, и в рестораны эти я захаживала, а мой сын даже учился в той же школе, что и Лила. И прекрасно ее помнит — тихая такая, хорошенькая, с чудинкой. Я уже за середину перевалила. Автор как раз назвал убийцу.
— Неужели?
— Точно. Но я вам не скажу — не буду портить удовольствия.
Она бросила взгляд на обложку, потом снова на меня.
— А знаете, вы даже чем-то похожи…
Я заплатила за смену масла и поехала на улицу Клемент, в книжный магазин «Зеленое яблоко». До этого момента я решительно не собиралась читать произведение Торпа, но та женщина поймала меня врасплох. Неужели Торп в самом деле выполнил обещанное и обнаружил то, что осталось тайной для полиции?
Книга стояла на полке новинок, в самом центре. На золотом ярлычке на обложке, как раз над левым глазом Лилы, значилось: «С автографом автора». Небольшой плакатик извещал, что сотрудники магазина назвали книгу Торпа лучшей среди новинок. Здесь же некто по имени Пейт приписал, что книга «заставляет вспомнить „Хладнокровное убийство“ Трумана Капоте; леденящий душу рассказ о зловещем убийстве не даст вам сомкнуть глаз с первой и до последней страницы». Продавщица смотрела прямо на меня, а то бы я сорвала плакатик, сгребла всю стопку книжек и оттащила в самый дальний конец магазина, к календарям… Однако пришлось взять всего одну и заплатить за историю жизни и смерти собственной сестры. Тем же вечером, забравшись в кровать, я раскрыла книгу.
Она начиналась с подробного описания того, как именно было обнаружено тело Лилы. Торп дословно приводил рассказ бродяги, который нашел ее в лесу: «Иду, значит, а сам на ходу штаны расстегиваю, ну, чтоб отлить. И раз — цепляюсь за что-то! Чуть не брякнулся. Однако удержался. А как выпрямился, да как разглядел, что это тело, так и начал прямо тут, под деревом, харчи обратно метать».
Неделями потом не могла я отогнать от себя эту картину: чужого мужика в расстегнутых штанах тошнит подле тела моей сестры. Ах, если б ее нашла я… Пригладила бы сбившиеся волосы, утерла грязь с лица… Чтобы не в таком виде явилось взорам полицейских, налетевших с блокнотами и фотокамерами, ее бедное, беззащитное тело.
Торп беспардонно вытащил на свет все, вплоть до самых интимных и самых отталкивающих подробностей. Ничто его не смущало. Фотографии с места преступления он описывал словно музейные полотна: голубоватый цвет Лилиной кожи, раскинувшиеся веером окровавленные волосы. Даже то, как полицейские (о, мука!) зажимали носы, поскольку после ее смерти прошло несколько дней. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, руки вдоль тела, под головой подушка из опавшей листвы. Полицейских такая поза навела на мысль, что Лила и преступник были знакомы.
«Похоже, убийца испытывал своего рода сострадание к жертве, — писал Торп. — Он словно уложил ее спать, поудобнее».
Когда бродяга наткнулся на Лилу, она была полностью одета, только блузка под пальто распахнута и четыре верхние пуговицы вырваны с мясом. Торп посвятил несколько предложений описанию ее бежевого лифчика и целый абзац — маленькой татуировке над левой грудью. Лила сделала тату за пару недель до смерти и как-то перед сном с гордостью продемонстрировала мне.
— И что это у нас? — полюбопытствовала я, проведя пальцем по темно-фиолетовым чернилам.
— Двойной тор или, во всяком случае, самое близкое к нему приближение, какого мне удалось добиться на Хайт-стрит.
— А что такое «двойной тор»?
— Сфера с двумя ручками и двумя отверстиями, образованная соединением двух торов. Ну, представь себе два пончика, слепленных боками…
— Два пончика? Класс! И с чего это ты вздумала обзавестись эдакой татушкой?
— Двойной тор — элегантнейшая топологическая конструкция. Ее можно представить следующим образом… — Лила подошла к столу, набросала что-то на клочке бумаги и подала мне.
Через несколько дней после того, как нашли сестру, бумажка эта, пришпиленная над столом, попалась мне на глаза, z2 = 0,04 — х4 + 2х6 — х8 + 2х2у2 — 2х4у2 — у4. Последнее, что Лила написала специально для меня. Я сохранила ее. Многие годы она лежала у меня в кошельке, как некий тайный код.
— Я это сделала на спор. — Лила застегнула пижамную кофту, прикрыв татуировку.
— С кем?
Лила улыбнулась самой себе, будто меня в комнате и не было.
— Ты его не знаешь.
Родители впервые увидели наколку, только когда стояли, рука в руке, возле тела Лилы в морге Герневилля. Эту сцену Торп тоже обрисовал. Его самого там, разумеется, не было, но в предисловии к книге он заявил, что «привнесение элементов вымысла в изображение тех или иных событий необходимо для правдивого изложения всей истории». Кое-что, однако, он описал верно: изумление родителей при виде татуировки; запах китайской еды, доносившийся из конторы при покойницкой; монотонный голос папы, звонившего мне, — словом, то, что мог знать по моим рассказам.
Для него это была всего лишь история, простая и ясная. До того как взяться за перо, Торп несколько лет преподавал на полставки в разных университетах Области залива[12], пока не оказался в Сан-Францисском университете, где и решил задержаться. Главным образом по той причине, что здесь, как он мне признался, прекрасные виды и самые короткие семестры.
— Когда-то я верил, что учительство — лучшее из занятий, — говорил он мне в самом начале нашей дружбы. — Мне казалось, в преподаватели идут из любви к литературе. Тогда я еще не догадывался, сколько вокруг этой профессии зависти и мелочных интриг. Я люблю студентов, но ненавижу систему. Надо искать какой-то выход…
И Торп его нашел. Книга. Ему было тридцать два, когда «Убийство в Заливе» принесло ему известность. Всякий раз, просматривая в «Кроникл» колонку литературных событий, я обнаруживала там Торпа. Завтракая однажды перед телевизором, увидела его в новостях — он давал интервью Брайанту Гамбелу[13] и совсем не походил на того Эндрю Торпа, которого я знала. Этот Торп был привлекателен, элегантен, в шикарном костюме и дорогих башмаках. Уже на следующей неделе «Убийство в заливе» появилось в списке бестселлеров «Нью-Йорк таймс». Имя Торпа замелькало в глянцевых журналах (в «Харперз Базар» и «Джентльмен квотерли», например), в итоге он обзавелся собственной колонкой в «Эсквайр». Он выдал на-гора еще три книги в том же жанре криминальной документалистики, богатея от убийства к убийству. Время от времени он появлялся в новостях Си-эн-эн, где разглагольствовал об очередном нераскрытом преступлении тоном эксперта-криминалиста. Впрочем, к тому времени, может, он таковым и стал.
Меня коробило от того, как он воспользовался гибелью моей сестры в шкурных интересах, но одного я не могла отрицать: Торп действительно провел собственное расследование.
У полиции, по большому счету, улик и материалов по делу набралось с гулькин нос, и следствие продвигалось ни шатко ни валко. Сан-Францисскому управлению полиции на тот момент было не до того — оно, управление, погрязло в громком скандале, в котором оказался замешан сын начальника. А герневилльская полиция, со своей стороны, отчаянно нуждалась в деньгах и в людях. И хотя смерть Лилы была признана насильственной, обвинение так никому и не предъявили. У Торпа же имелась теория, которую он сколотил с помощью некоторых улик и вроде бы вполне обоснованных гипотез. Эту теорию он развивал на протяжении 296 страниц, скрупулезно и убедительно. Подробности дела дополнялись длинными пассажами, посвященными Лиле, нашим родителям, мне.
«Это не только история убитой девушки, — писал Торп в предисловии, — но также история ее сестры, той, что осталась жить. Я лично знаю ее. И надо признаться, знаю довольно хорошо. Существенная часть данной книги записана непосредственно со слов Элли Эндерлин, с которой я подолгу беседовал и которая неделями и месяцами после смерти своей сестры всеми силами стремилась поддержать родителей, стать, как по волшебству, хорошей дочерью».
Самое смешное, что если у меня и был шанс стать «хорошей дочерью», с выходом книги он свелся к нулю. Мама еще прилагала героические усилия, чтобы обращаться со мной по-прежнему, но папа не скрывал разочарования. Я слышала это разочарование в папином голосе, видела в устремленных на меня глазах. Честолюбивая у меня была семья — папа, с его успехами в финансовом консультировании; пользующаяся уважением мамина адвокатская практика; расцветающий гений Лилы. И лишь одна посредственность — брешь в генетическом коде, подрыв семейной установки на успех. Пока жива была Лила, папа предпочитал закрывать глаза на мою заурядность. Имея в семье такой талант, как Лила, можно было позволить второму ребенку оставаться середнячком. И после ее смерти он некоторое время еще пытался отыскать во мне что-то хорошее, словно выдал кредит доверия, впервые в жизни заинтересовался моей учебой, часто спрашивал о занятиях, о том, к чему я стремлюсь. Я, как водится, старательно подбирала подобающие ответы, всячески скрывая, что большинство уроков прогуливаю, а мои обещания пойти по маминым стопам гроша ломаного не стоят. На короткий период папа, похоже, искренне в меня поверил.
Но вышла книга — и все изменилось. Наши разговоры становились все короче и короче, а молчание — все напряженней. Думаю, он с трудом сдерживался, чтобы не высказать то, что у него на уме: книга — целиком и полностью моя вина, своей болтливостью я выставила нашу семейную трагедию на всеобщее обозрение.
Шесть
Шестая глава «Убийства в Заливе» точно лучом прожектора высветила частную жизнь нашей семьи. Озаглавленная «Повесть о двух сестрах», глава посвящалась отношениям между мной и Лилой. Той ночью я читала книгу, и меня с души воротило от вышедшего из-под пера Торпа двойного портрета. Неужели понять и оценить нас и впрямь не составляет никакого труда?
«Одна была высокой, смуглой и темноволосой, — так начиналась глава, — другая — миниатюрной и белокурой. Одна — гений в математике, другая запоем читала беллетристику».
И то и другое — по сути верно, хотя манера изложения подразумевает свойственное сказкам противопоставление, которое в жизни отсутствовало. Лила и впрямь почти на восемь сантиметров переросла меня, у нее действительно были папины темные волосы и оливковая кожа, а мне по наследству от маминых шотландско-ирландских предков достались рыжие волосы, светлая кожа и невысокий рост. И тем не менее мы были очень похожи, о чем люди часто говорили, видя нас вместе. У обеих — темно-карие глаза, ямочки, одинаковый овал лица. У обеих — мамины невысокие скулы и папин прямой, строгий нос. И обеим здорово повезло со ртом — счастливая генетическая случайность соединила изогнутость маминых и пухлость папиных губ.
Рядом с первым абзацем шестой главы была помещена фотография — мы с Лилой в день ее выпуска из университета Беркли. Она — важная и представительная, в мантии и в шапочке с кисточкой, длинные волосы собраны на затылке. А я — в сарафане и босоножках, с рассыпавшимися по плечам волосами, вполне соответствую образу беззаботной младшей сестренки. И для усиления контраста — Лила если и пользовалась косметикой, то очень умеренно: капелька туши, светлая помада: я же щедрой рукой мазалась ярко-красной помадой. Фотография изначально была цветной, и потому при черно-белом воспроизведении, да еще на дешевой, пористой бумаге моя помада выглядела совсем темной. Читатели, глядя на снимок, наверняка соглашались, что мы именно такие, какими изобразил нас Торп.
По Торпу выходило, что Лила была болезненно робка, а я — до безобразия общительна. Но любой, кто нас знал, тотчас понял бы, что Торп для вящего драматического эффекта грубо преувеличил наши различия. Все, что могло нарушить повествование, каким оно ему виделось, было безжалостно выброшено, — например, он ни словом не обмолвился о том, что до смерти Лилы я прилежно училась, особенно по предметам, которые мне нравились. И умолчал, что Лила, хотя и предпочитала одиночество, могла быть очень дружелюбной с незнакомыми людьми.
Ясно, почему он это сделал. «Главное — герой», — сказал Торп на одном из наших первых занятий по теории рассказа. И хотя курс назывался «Современная американская литература», Торп, бесцеремонно перекраивая учебный план, частенько заставлял нас самих писать короткие рассказы.
— Сюжет, антураж, стиль — все не имеет значения, коль скоро у вас нет интересных героев, предпочтительно конфликтующих друг с другом.
По мнению Торпа, противопоставление застенчивой серьезности одной сестры и сумасбродной художественной натуры другой должно было добавить книге занимательности. За этим, думаю, он и гнался. А о точности и не помышлял, общее впечатление — вот что ценно.
«Садитесь поближе, я расскажу вам страшную историю» — этим ощущением «Убийство в Заливе» пронизано с первой до последней страницы. Сколько подобных книжек я перечитала — и не сосчитать. Я люблю Чехова и Флобера, О. Генри и Павезе, но могу взяться и за хорошо написанный детектив или захватывающую историю настоящего преступления. «Хладнокровное убийство» — одно из моих любимых документальных произведений. И тот факт, что Труман Капоте, как говорят, несколько вольно обошелся с истиной, никогда меня особенно не волновал. Много лет прошло с тех пор, как я впервые прочитала эту книгу, а перед глазами так и стоит образ шестнадцатилетней Нэнси Клаттер, «любимицы города», как она в спальне наверху умоляет не убивать ее. И сейчас вижу сельский дом, описанный Капоте, и всех членов семьи Клаттеров, убитых поодиночке, один за другим. Признаться, немыслимая безнравственность преступления не помешала мне с нездоровым, но жгучим интересом переворачивать страницу за страницей.
Есть в «Хладнокровном убийстве» два персонажа, упомянутых мимоходом, так что о них легко и забыть.
«Старшая дочь, Эвианна, замужняя мать десятимесячного мальчика, жила в северном Иллинойсе, но часто наведывалась в Голкомб[14]… Не жила на ферме и Беверли, следующая по возрасту за Эвианной, она училась на медсестру в Канзас-Сити».
На Эвианне и Беверли тот удар судьбы должен был сказаться особенно тяжело. Интересно, читали ли они книгу, и если да — что думали о ней? А Капоте, когда писал прославивший его роман-репортаж, задумывался о боли, которую причинит оставшимся в живых сестрам?
Той ночью, читая у себя в комнате, я услышала в коридоре шаркающие шаги мамы. Она постучала в мою дверь, и я сунула книжку под одеяло.
— Да?
Мама вошла и присела на краешек кровати.
— У тебя свет горел, — улыбнулась она.
В последнее время она постоянно улыбалась или, по крайней мере, старалась улыбаться, но выходило не очень естественно. Я взяла ее за руку, мягкую и чуть влажную от ночного крема. Мама неизменно исповедовала теорию маленьких радостей. Сколько себя помню, она мазала руки тем же дорогим кремом, что и лицо, утверждая, что всегда можно сказать, следит ли женщина за собой, — достаточно взглянуть на ее руки. И это себя оправдывало: несмотря на бесконечное копание в саду, мамины руки оставались красивыми.
— Мам, это необязательно.
— Что необязательно?
— Улыбаться. Необязательно улыбаться ради меня.
Она потупилась и поскребла на одеяле кляксу засохшего лака для ногтей, которую я посадила давным-давно.
— Надо «виндексом» пройтись.
— Мам?
Она наконец подняла глаза и сказала:
— А я не ради тебя, дорогая. Просто читала где-то, что если заставлять себя улыбаться, то на душе и впрямь станет легче.
— Помогает?
— Пока нет.
У меня мелькнула одна мысль.
— Вам с папой надо взять отпуск!
Мама уставилась на меня так, будто я предложила ей бросить работу и вступить в коммуну.
— Зачем это?
— Вдруг отпуск поможет?
Мне показалось, что она не совсем понимает, о чем я. За прошедшие полтора года родители так отдалились друг от друга, что я всерьез опасалась за их брак. А до гибели Лилы такое мне и в голову не пришло бы — в жизни не встречала более преданной и любящей супружеской пары. И вот теперь они обходили друг друга с опасливостью соседей, не отваживающихся залезть на чужую территорию. А когда они в последний раз прикасались друг к другу на моих глазах, я и не припомнила бы.
Мама погладила меня по голове.
— Мы можем уехать хоть в Тимбукту, не имеет значения. Я все равно буду тосковать о ней так, что дышать невмоготу.
В эту минуту я готова была поменяться с Лилой местами. Ах, если бы все сложилось по-иному и мама не лишилась своей гениальной старшей дочери! Ее горе не было бы столь велико, его можно было бы вынести. Ведь ясно же — потеряй она меня, она бы так не убивалась и, значит, исцеление наступило бы скорее. И семья, возможно, сплотилась бы, а не разбрелась в разные стороны.
Мама поцеловала меня на ночь, встала и закрыла за собой дверь.
К четырем утра я дочитала книгу, затолкала подальше под кровать и выключила свет.
По отношению к Эндрю Торпу я испытывала только омерзение. Я читала длинные пассажи о Лиле, в которых моя сестра изображалась математическим талантом, затворницей, даже чудачкой в определенной степени, читала и понимала, что Торп меня использовал. Бездумно, по собственной глупости я отдала Лилу прямо ему в руки.
Меж тем во всем, что касалось самого убийства, он был весьма убедителен. К тому времени, как я добралась до конца книги, я уже волей-неволей верила в его версию событий. Хотя выводы были не без греха. Никаких криминалистических данных — это во-первых; некоторые вопросы вообще остались без ответа — это во-вторых. Никоим образом теория Торпа не выдержала бы строгой критики самой Лилы, требовавшей четкой и доказательной аргументации. Она, скорее всего, высмеяла бы эту теорию, окрестив чистой воды гипотезой, чем та, по сути, и являлась. И все же… Торп подозревал Питера Мак-Коннела, что сильно смахивало на правду.
Семь
— Мы живем, словно сочиняем историю, — заметил как-то Торп месяца через два после смерти Лилы. — Слагаем тысячи и тысячи рассказиков, чтобы осмыслить и удержать в памяти дни нашей жизни. Из этих мини-повестей складывается главная история, наше восприятие самих себя в этом мире.
Дело было на лекции, имевшей очень приблизительное отношение к «Книге смеха и забвения», Торп обращался ко всей группе, но я прекрасно поняла, что сказанное предназначено мне.
Оглядываясь назад, я вижу, что главной историей моей жизни стала смерть Лилы. И книга Эндрю Торпа самым серьезным образом повлияла на то, как я слагала эту историю. Мне было двадцать, когда я прочла «Убийство в Заливе», самый возраст, чтобы тут же поверить в истинность его слов об убийстве Лилы и обо мне самой.
«Лила нашла свое место, — писал он, — в мире математики. Элли же, когда убили Лилу, еще только предстояло найти себя. Ощущение причастности и ясности целей, облегчившее короткую жизнь Лилы, от Элли ускользало».
По временам я ломала голову: а что, если, живописуя с беспощадными подробностями мои пороки, используя меня, живую, для создания образа, пригодного для романа, Торп тем самым как-то изменил ход моей жизни? Та Элли, которую он поместил на страницы своей книги, была капризной и ветреной пустышкой, неспособной найти свой путь. Может, я приняла его слова слишком близко к сердцу?
Однако было кое-что, чего не мог предвидеть даже автор.
Почти через двадцать лет после тех событий, здесь, в Южной Америке, в полутемном кафе передо мной стоял главный злодей книги, высокий, взволнованный как школьник, и едва слышно спрашивал: «Вы меня знаете?»
Я вспомнила, какое впечатление произвел на меня Питер Мак-Коннел, когда я впервые увидела его у кабинета в Стэнфордском университете, — каждая черта его лица не представляла собой ничего особенного, но вместе они складывались в нечто незабываемое. Сейчас это впечатление вернулось.
— Знаю, — выдавила я.
— Можно мне сесть?
Нет, это не из моей истории, сюжет не из моей жизни. Убийца моей сестры не может запросто войти в кафе и попросить разрешения присесть за мой столик.
Должно быть, я кивнула или как-то иначе дала согласие, потому что Питер Мак-Коннел уселся напротив меня, положил на стол книгу, на книгу — бейсболку, а крупные ладони пристроил по бокам этой стопки, словно не знал, куда их девать.
— Как вы меня нашли? — Это прозвучало тихо и неуверенно, я даже расстроилась. Весь гнев, который я долгие годы молчаливо обращала на этого человека, вся моя ненависть оказались замкнуты у меня внутри, в таком месте, куда в этот решающий момент мне было не добраться. Наружу выплыло одно изумление, которого он не мог не заметить.
— Это вы меня нашли.
— Я тут по работе, — возразила я, а сама все пыталась осмыслить его присутствие здесь. В голове не укладывалось: как, каким ветром занесло его именно сюда? Будто мало на земле других мест. — Я уже много лет езжу в эту деревню.
Питера Мак-Коннела я перестала разыскивать давным-давно. Мои разъезды по кофейным областям мира — Хуатуско в Мексике, Йиргачеф в Эфиопии, Поас в Коста-Рике, Суматра — были, если угодно, попыткой забыть прошлое, стереть его с карты моей жизни. Я по-прежнему считала Сан-Франциско своим домом, но чаще бывала совсем в других местах, где люди не говорили на моем языке, пейзажи не имели ничего общего с пейзажами моего родного города, где ничто не напоминало о Лиле. Хорошо было бродить меж кофейных деревьев, ощущая на лице влагу чужого воздуха, вдыхая запахи незнакомой земли. Дома я чувствовала себя не в своей тарелке, вечно оглядывалась. За границей было спокойно.
— Да, знаю, — кивнул он. — Я вас уже видел раньше.
— Что?
— У нас маленький городок. Все на виду. Первый раз это было лет пять тому назад. На рынке. Я хотел подойти, заговорить, но начался дождь, и вы убежали.
Я не знала, что сказать. Мелькнула мысль: а вдруг он следил за мной, вдруг намеревается сотворить со мной то же, что и с Лилой? Бред какой-то… Я бросила взгляд на Марию — то ли убедиться в реальности происходящего, то ли в надежде на какую-то защиту, не знаю. Глупость, конечно. Мария в ответ просто улыбнулась.
— Вы сказали «первый раз». Были и другие?
— Да.
— Сколько же?
Он помедлил.
— Три.
— Вы здесь живете?
— Последние семнадцать лет.
Я заметила, что разглядываю руки Питера Мак-Коннела. Эти руки, если верить Торпу, убили мою сестру, на этих руках ее отнесли в глубь леса и бросили там.
— Я перебрался в Никарагуа из-за книги, — сказал он. — Маргарет, жена, конечно, не поверила тому, что написал Торп. Но все это оказалось выше ее сил. Неважно, что сама она точно знала — я не убийца. Другие-то думали иначе.
«Нет, убийца! Самый настоящий убийца…» — рвалось с моих губ, но Мак-Коннел продолжал говорить, размеренно, без пауз, словно принял решение и не намерен умолкать, пока не выскажет все.
— Мы с Маргарет еще какое-то время оставались вместе. Не ради нас самих, между нами уже давно все кончилось. Только ради сына, Томаса. Ему всего три года было, когда вышла книжка. Летом, как только семестр закончился, подхватили мы вещички и переехали на Средний Запад, к родителям Маргарет. Надеялись сбежать от подозрений, от свистопляски в прессе. Меня тогда полиция уже дважды допрашивала, обвинение предъявить не могли — оснований не было, только кого это волновало? Для всех вокруг я был виновен. А книга и в Огайо нас достала. В родном городе жены, похоже, ее прочитали все поголовно. Я, в общем-то, не в обиде на Маргарет за то, что вычеркнула меня из своей жизни. Она за Томаса беспокоилась — каково ему было бы жить у всех под прицелом, с таким клеймом. Ну и само собой, Лила. Маргарет знала, что я никогда не забуду Лилу.
Мак-Коннел говорил с готовностью человека, долгое время не общавшегося ни с одной живой душой. Почему-то вздумал оправдывать жену передо мной. Какое это имеет отношение к делу? Его жена, их сын — все это лишь второстепенные заметки на полях главной истории: что он сделал с моей сестрой.
— Одно время я за вами следила, — сказала я. — Когда прочла книгу, отправилась в университет и нашла ваш кабинет. На двери висело ваше расписание. Страшно было встретиться с вами наедине, но мне хотелось вас увидеть, чтобы у имени появилось лицо.
— В газетах были мои фотографии.
— Ну наверное, не просто лицо. Я хотела посмотреть на вас вблизи — какой вы в жизни. Вот и поджидала в коридоре у кабинета в какой-то понедельник. Напялила огромную шляпу и темные очки. Чувствовала себя полной дурой. Дверь у вас была закрыта, и целая очередь студентов дожидалась. То и дело кто-нибудь поминал имя Лилы. Понимаете, они все явились вовсе не затем, чтобы поговорить с вами о занятиях. Они жаждали сопричастности к трагедии. Один парень даже удумал попросить вас подписать ему книжку Торпа. Я была в бешенстве… Лила погибла, а они ведут себя так, будто вы звезда!
Я старалась унять дрожь в голосе, чтобы не выдать страха.
— Часа через два вы наконец вышли. И первой моей мыслью было, что вы совсем не такой, как я ожидала. Внешность, ваш словесный портрет — да, их Торп передал верно. Но все остальное — манера двигаться, говорить, — здесь он дал маху.
— Само собой. Он же никогда меня не видел.
— Как это?
— Да вот так, — пожал плечами Мак-Коннел. — В книге ему удалось создать впечатление, будто он часами беседовал со мной, а на деле мы с ним поговорили один раз, по телефону, пять минут. — Он потер двумя пальцами козырек кепки; ткань на этом месте потускнела и замаслилась. — А чего вы ожидали?
— Что на вид вы более… ну не знаю… опасный, что ли. Думала, в вас будет что-то такое… — Я запнулась от удивления: это я ему рассказываю?
О чем именно тогда думала, я хорошо помню, — о том, что обнаружу в нем нечто определенно нездоровое — во взгляде ли, в манере держаться, — явную отметину убийцы. Но ничего такого не было.
— Вы поехали в город поездом, — продолжала я. — Я бросила машину и последовала за вами. Кончилось тем, что вы зашли к «Энрико» на Северном пляже, а я устроилась за дальним столом и смотрела, как вы едите. Потом я уже больше не ходила к вам в университет, зато каждый понедельник являлась к «Энрико». И каждый раз там были вы — неизменные спагетти под соусом маринара, вода со льдом, под конец эспрессо. Всегда один, всегда за работой, черкаете себе в блокноте, будто вокруг никого и ничего. Я не снимала ни шляпы, ни очков, но была уверена, что рано или поздно вы меня узнаете.
Мак-Коннел поерзал на стуле. Освещенное пламенем свечи, его лицо поражало. Теперь я понимала, что Лила нашла в этом лице — привлекательную угловатость, глубину глаз с огромными зрачками, большой, твердо вылепленный благородный рот.
— Я и узнал, — проговорил он.
— Узнали?
— Конечно. Лила показывала мне фотографии — те, где вы вместе в Европе, — и вдвоем на пляже, детские фотки. И у Торпа в книге были фотографии. Но даже если б я не видел ни одной карточки, я бы догадался.
Голос его стал глуше, а взгляд переходил с моих глаз на рот, на шею. Я быстро глянула в сторону кухни — где там Мария? — но той не было ни видно ни слышно.
— Почему же вы ничего не сказали? — спросила я.
— Полагал, что однажды вы сами ко мне подойдете. Я бы с удовольствием поговорил с вами. Перед смертью Лилы я несколько месяцев подряд виделся с ней практически ежедневно. Если не считать времени, которое я проводил с сыном, она была лучшим событием каждого дня. Я любил говорить с ней. Более того, любил слушать ее. А потом ее не стало. Вы были так похожи на нее, и я все думал: а что, если вы и говорите как она? Мне хотелось услышать ваш голос. Но вы все сидели в углу и караулили.
— Я прикидывала, как бросить вам в лицо обвинение. Только вот храбрости не могла набраться. Хоть место и людное, а кто знает, как вы себя поведете… И вдруг вы исчезли.
Одно время — и довольно продолжительное, несколько лет — я искала Мак-Коннела повсюду. Искала так истово, что не раз и не два мне казалось — нашла! В толпе на улице мелькнет профиль, бросаюсь к человеку и понимаю — нет, не он. Или в музее замечу знакомый поворот головы, жест, подкрадусь бочком, тут человек обернется — и иллюзия рассеивается.
После смутного года лихорадочного секса и пьянок, последовавшего за смертью Лилы, я лет десять не заводила серьезных отношений — короткие, ни к чему не обязывающие связи, не более. Я не желала раскрывать свое сердце. Тогда я оправдывала себя тем, что слишком занята, и только позднее поняла: дело было в Питере Мак-Коннеле. Я окружила его личность неким мифом. Он нанес такой непоправимый урон нашей семье и настолько занимал все мои мысли, что никто другой не мог вызвать в моей душе столь же глубоких переживаний. То, что я испытывала по отношению к Мак-Коннелу, было ненавистью, а по силе с крепко засевшей ненавистью никакой любви не сравниться. Чтобы любовь тобой завладела, для нее должно найтись место в душе и в сердце, а в моем сердце места хватало лишь для гнева.
— Почему вы это сделали? — тихо спросила я.
Полжизни я задавала себе этот вопрос. И уже давно потеряла надежду найти ответ. В тот момент у меня и в мыслях не было поверить его словам о собственной невиновности. Слишком долго я не сомневалась в его вине, чтобы так легко дать себя разубедить.
Я ждала. Он сидел, глядя попеременно то на свои руки, то на меня. Из кухни вышла Мария с полной банкой мух. Подошла к подоконнику, где выстроились в ряд ее «венерины мухоловки», открыла банку и осторожно потрясла над растениями. И тут Мак-Коннел заговорил:
— Послушайте и постарайтесь понять. Я этого не делал.
Восемь
По слухам, странные вещи происходили в Дириомо постоянно: то в церкви снова танцевали призраки, то сами собой вспыхивали свечи, а на безлюдных улицах слышалась дивная музыка, доносившаяся неведомо откуда. Со мной, однако, до той ночи чудес не случалось.
— Не отрицаю, я больше всех подходил на роль главного подозреваемого, — сказал Мак-Коннел, прямо глядя мне в лицо. — Но это не означает, что я виновен.
Он не дрогнул, не отвел глаз.
— У вас был роман с моей сестрой.
— Да, я так и сказал полиции.
— Но только после того, как они сами докопались. После того, как вышла книга. А сначала вы им ничего не рассказывали.
— Маргарет заставила молчать. Когда узнала про нас с Лилой, она была вне себя, но еще больше ее пугало, что будет, если меня заподозрят. Теперь, конечно, понятно, что дурацкое было решение. Но в тех обстоятельствах я не имел права ей отказать.
— В тот вечер, когда Лила пропала, вы вместе ужинали. Вас опознала хозяйка гриль-бара «У Сэма», сразу после выхода книги.
— Я не отрицаю.
— И из ресторана вы ушли вместе.
— Верно.
— В десять вы проводили ее до остановки.
Он кивнул.
— Значит, вы последний, кто ее видел. Хозяйка заявила, что Лила была расстроена, когда вы уходили из ресторана. А в то утро она плакала.
Мак-Коннел снова кивнул.
— Итак? — Прежний гнев закипал во мне. — Все у нее шло прекрасно: доклад в Колумбийском университете приняли на ура, Гильбертовская премия, считай, была в кармане. Все знали, что дела у нее на подъеме. Мучиться она могла только из-за вас. Больше не из-за чего.
— Вы помните, что Торп выдвинул в качестве моего мотива? — спросил Мак-Коннел.
— Он утверждал, что тогда, в ресторане, вы решили порвать с Лилой, а она пригрозила выложить все вашей жене.
Мак-Коннел молча смотрел на меня.
— И что? — не выдержала я.
— Скажите, похоже это на Лилу?
Он был прав. Я, разумеется, и не думала признаваться Мак-Коннелу, но эта часть доказательств Торпа не давала мне покоя, саднила вечной занозой. Это было совершенно не в характере Лилы. Никогда в жизни не стала бы она угрожать открыть все жене Мак-Коннела, и уж тем более не пошла бы к ней. Долгие годы я пыталась избавиться от засевшей в душе занозы, уверяя себя, что знала Лилу не настолько хорошо, как мне казалось.
— Вы собирались порвать с ней?
— Как раз наоборот. Несколькими днями раньше я признался во всем жене.
Мария вышла из кухни и показала на часы на стене: два часа ночи.
— Cerrado[15], — объявила она.
— Еще пару минуток! — взмолилась я. Немыслимо прервать разговор прямо сейчас. Мне еще так много надо выяснить.
— Cerrado! — повторила она, показывая жестами, что пора спать.
— Por favor![16] — Я умоляюще сложила руки. Бесполезно.
Мы поднялись и направились к двери, Мария ухмыльнулась и подмигнула мне, полагая, должно быть, что облагодетельствовала меня. Ну еще бы, отправила в ночь с таким красивым американцем.
И вот мы уже стоим на тропинке перед кафе. Мак-Коннел снова натянул на лоб свою бейсболку и от этого словно помолодел. Он на семь лет старше Лилы, значит, ему около пятидесяти. Из-под мышки торчит книга, которую он читал в кафе. Когда мы уходили, я мельком глянула на обложку: Фарадей, «История свечи».
Тихо, ни души вокруг. Под луной белеют домики.
— Вам не следует разгуливать одной в такой час, — заметил он. — Я провожу вас до отеля.
Если б мне не было так страшно, я бы расхохоталась — ситуация абсурднейшая!
— Шутить изволите? — Я оглянулась на запертую дверь кафе. — И потом, мне не впервой. Я часто гуляю по ночам.
— И напрасно.
Я нащупала в сумке пробник, главный инструмент в кофейном деле, — длинный металлический прут, высверленный внутри, с острым концом с одной стороны и маленьким цилиндриком, заканчивающимся ручкой, с другой. Чтобы сделать выборочную пробу, втыкаешь острый конец в мешок с кофе, и зерна скатываются по желобку в цилиндрик. Я потихоньку извлекла пробник из кожаного чехла.
Руки дрожали, сердце колотилось. Столько лет я считала Мак-Коннела чудовищем, способным на самые жуткие преступления. Но все это время я еще и мечтала встретиться с ним лицом к лицу, чтобы выпытать правду о смерти Лилы, как бы мучительна она ни была. Я не желала бродить в тумане до конца дней своих. И в тот момент единственное, что мне было нужно, это продолжать разговор, вызвать Мак-Коннела на откровенность. Желание все выяснить пересилило страх.
Мы зашагали по узкой тропинке к главной дороге, вокруг ног заклубилась пыль. Всякий раз, как он подходил ближе, я шарахалась в сторону.
— Если вы не собирались бросить Лилу, отчего она грустила?
— Вы же знаете, какой она была. Все время, пока мы с ней были вместе, она чувствовала себя ужасно виноватой. Не хотела, чтобы я рассказал о нас Маргарет, не хотела, чтобы из-за нее мы с женой разошлись. Я пытался ей втолковать, что вина здесь не ее, а моя, что нашему браку с Маргарет давно пришел конец.
Мы подошли к перекрестку, где несла караул маленькая белая церквушка. С придорожного алтаря на нас взирала Дева Мария с разбитым стеклянным глазом. В лунном свете могильные камни выглядели большущими кусками белого мыла.
Внезапно Мак-Коннел схватил меня за локоть и дернул к себе. Я вырвалась, отпрыгнула на два шага и, выхватив пробник, выставила перед собой. Закричать? Но горло перехватило, да и кто бы меня услышал? И тут Мак-Коннел ткнул пальцем вниз — на тропинке в нескольких сантиметрах от его ноги замерла змея. Длинная, в темно-зеленых бриллиантовых искрах.
— Ямкоголовая гадюка, — шепнул он, протягивая ко мне руку. — Дайте-ка мне эту штуковину.
Мне оставалось только поверить. Я отдала пробник. Крепко взяв его за ручку, одним быстрым, мощным движением Мак-Коннел рубанул острием по змеиной шее. Несколько мгновений длинное зеленое тело извивалось, потом затихло.
Сам потрясенный случившимся, Мак-Коннел вытер пробник о штаны и вернул мне.
— Если эта тварь укусит, умрешь от потери крови.
— Простите, я…
— Ничего, все в порядке. — Он перешагнул через мертвую змею и оглянулся на меня: — Если хотите, я могу прямо сейчас повернуть назад. Здесь вам уже ничего не грозит.
— Почему именно Лила? — спросила я. — Вы же знали, она совсем еще неопытная. Ну захотелось вам завести интрижку на стороне, почему не выбрать кого-нибудь другого?
— Все было не так. Мы с Маргарет хорошо жили, в сыне я души не чаял. Но моей работы Маргарет не понимала. И не придавала ей никакого значения. Шагаю я по служебной лестнице — и слава богу. Когда мы только познакомились, мне это даже нравилось. Она была вся в искусстве, в танцах, а я в этом ничего не смыслил. В общем, одно уравновешивало другое. Вот, думал я, женщина, которая возьмет на себя дом, окружит любовью детей, а я спокойно займусь работой. Но потом я встретил вашу сестру и понял, что мне нужно кое-что еще.
— А как вы с ней познакомились?
Когда-то, давным-давно, я пыталась вытянуть ответ из самой Лилы. Я-то всегда все ей рассказывала о парнях, с которыми встречалась. Ее развлекали мои похождения, и не раз она уверяла, что благодаря мне у нее словно две жизни. Можно представить, как я разобиделась, когда и в ее жизни наконец появился кто-то, а она только отмалчивалась.
— Я был на четвертом курсе аспирантуры, — начал Мак-Коннел. — Отцовство штука хорошая, но требует жертв. Диссертация продвигалась гораздо медленнее, чем я ожидал, и какое-то время я с соавтором пытался накропать одну никчемную статейку.
В ночной тиши гулко рокотал его голос, неторопливый, успокаивающий голос. Я представила Лилу вместе с ним в кабинке «У Сэма». Последняя ночь ее жизни. Это его голос она слышала перед смертью или был еще кто-то, о ком я запрещала себе думать, — таксист, прохожий на улице?
В память врезалось одно число из книги Торпа — 23 370. Столько людей было убито в Соединенных Штатах за 1989 год, год смерти Лилы. «Только 13 процентов жертв не знали своих душегубов, — писал Торп. — Убийство редко бывает случайным». Помню, я еще тогда подумала, что слово подобрано неверно. 13 процентов — это не редко. 13 процентов из 23 370 — это очень много. Всю главку процитировать я не смогла бы, но одно запомнила дословно: Торп упрекал Лилу в том, что она «прискорбно плохо разбиралась в людях». Манера Торпа манипулировать словами взбесила меня: можно подумать, Лила сама была виновата в собственной гибели, как будто истинно невинны только жертвы «случайного» насилия!
— А потом появилась Лила, — говорил Мак-Коннел. — Помню, как она пожаловала в редакцию «Стэнфордского математического журнала»: оранжевое платье, фиолетовые кеды, а прическа — будто только что вылезла из постели.
— Я помню это платье, — откликнулась я, с удивлением обнаружив, что способна принимать участие в его рассказе и к его воспоминаниям могу добавить свои. — Она его сама сшила. Она все себе сама шила. И не пользовалась готовыми выкройками. Просто снимала мерки, набрасывала эскиз на линованной бумаге, а потом по ходу дела производила расчет.
— Предиковинный был наряд.
Я смотрела прямо перед собой, но по тому, как чуть заметно дрогнул его голос, догадалась, что он улыбается. Странно было думать, что мужчина, идущий рядом со мной, был близок с моей сестрой, что она любила его. Не стану отрицать, было в нем нечто притягательное — в тембре голоса, в прямом, спокойном взгляде. Что-то определенно чувственное, чего прежде, во время слежки у «Энрико», я не замечала.
— Как она была хороша!.. — продолжал он. — Редактор — толстый, неповоротливый старина Брюс — глянул на нее и спрашивает: чем, мол, могу помочь, барышня? Решил, что она заблудилась. А Лила сует ему в руки папку. Это была статья о вычислении специальных функций. Она хотела, чтобы ее опубликовали. Брюс вылупился на нее как на сумасшедшую. Журнал уважаемый, печатает труды признанных математиков, а тут заявляется лохматая красотка, у которой молоко на губах не обсохло, и предлагает опубликовать свою статейку. Неслыханно! Я вмиг влюбился. Взял статью домой, и у меня аж дух захватило. Тем же вечером позвонил Лиле и пригласил на обед.
Мы дошли до следующего перекрестка. Без малейшего намека с моей стороны Мак-Коннел свернул направо, в переулок, ведущий к моему pensión. «И что ты будешь делать, если он приведет тебя прямехонько к отелю? — спросила я себя. — Не пора ли одуматься?»
Еще минута — и мы уже перед небольшим желтым зданием, которое с двух сторон обступили высокие деревья с кривыми, узловатыми стволами. На ветках помаргивали белые рождественские лампочки, от них к отелю тянулся толстый оранжевый провод.
— Вот и пришли, — сказал Мак-Коннел.
И снова я попятилась.
— Откуда вы…
— У нас маленький городок.
Что же, конец разговора? Но мне еще так много надо выяснить! Я припомнила кое-что, чем в свое время поделилась с Торпом, а тот процитировал в книге. «Хочу, хочу верить, что это был не тот, кого она знала, кому доверяла!» — не раз говорила я ему. Теперь, после стольких лет, Мак-Коннел предлагал версию событий, в которой душегуб не был вдобавок еще и любовником Лилы. Я должна была выяснить всю правду!
Мне на руку упала теплая капля, потом еще одна. Мак-Коннел поднял лицо к небу.
— Не могли бы мы еще поговорить завтра? — спросила я.
Он ковырнул носком башмака землю.
— Больше вы меня не увидите. Я просто хотел встретиться с вами, чтобы высказаться. Столько лет прошло… Не знаю, что, по-вашему, тогда произошло, не знаю, что вы думаете обо мне и об этой отвратительной книге. Не знаю даже, думаете ли вообще обо всем этом. Но хочу сказать вам, Элли, — и это очень важно для меня, — я не делал этого. И никогда в жизни не смог бы сделать. Я любил вашу сестру. Любил больше, чем вы или даже она сама можете представить. Много воды с тех пор утекло, мне совершенно безразлично, что думают другие, но ваше мнение много значит для меня, потому что Лила постоянно говорила о вас. Ближе вас у нее никого на свете не было.
Здесь он ошибался. Я любила сестру, но мы никогда не были так близки, как мне хотелось бы. Не рассказала же она мне о нем. Не захотела сказать в то утро, отчего плакала. Нет, не я, а Питер Мак-Коннел — тот человек, от которого у нее не было секретов.
Дождь припустил не на шутку, зашлепал по листьям деревьев, изрешетил пыль на дороге. Неожиданно для самой себя я выпалила: «Не уходите!» — и шагнула под навес отеля. Мак-Коннел шагнул следом.
— Вы меня приглашаете?
— Да.
В полночь Хосе, хозяин отеля, обычно запирал двери, но, приученный к моим поздним прогулкам, выдал мне ключ. Дверь я нарочно отворила с грохотом и треском — пусть знает, что я вернулась. Мы пересекли пустой вестибюль. Свечи у образа Девы Марии, в нише за конторкой, догорели. Поднялись на один пролет лестницы — я первая, Мак-Коннел за мной, а впереди прыгала по ступенькам его длинная тень. Проходя мимо комнаты Хосе, я что-то громко сказала, чтобы в случае чего хоть кто-нибудь был в курсе, что я пришла не одна. За дверью заскрипели матрасные пружины, послышалось шарканье ног, приоткрылся дверной глазок.
Я отперла дверь своего номера в самом конце коридора и впустила Мак-Коннела. Верхнего света у меня не было, только маленькая лампа под ветхим абажуром с трудом разгоняла ночные тени.
Девять
Обстановка в номере была самая непритязательная: кровать, стул, шкаф да тумбочка у кровати. Узкий проход вел в крошечную ванную. Чтобы разогнать духоту, я включила вентилятор на потолке, тот защелкал, загудел.
— У меня есть ром, — сказала я. — Выпьете?
— Спасибо, чуть-чуть.
Я достала бутылку, два стакана, плеснула понемногу в оба. Сумка по-прежнему болталась у меня на плече, а в ней пробник, который я могла выдернуть одним движением.
— Садитесь, — кивнула я на стул.
Мак-Коннел сел, нелепо задрав колени: мебель в отеле была маловата даже для меня. Бейсболку и книгу он положил на пол. Я присела на кровать, прямо напротив него, сумку пристроила у себя под боком.
Он отхлебнул рома, зажмурился от удовольствия.
— Хорош…
Мама постоянно снабжала меня советами, основанными на ее адвокатской практике. И один из них был такой: «Если хочешь добиться от кого-нибудь важной информации, создай доверительную атмосферу, сама для начала расскажи какой-нибудь пустячок о себе».
— Подарок одного местного фермера, — пояснила я. — Собственно, к нему я и приехала. Завтра дегустация его кофе, а через день я возвращаюсь в Сан-Франциско. Я всегда здесь останавливаюсь, когда приезжаю, и всегда меня ждет бутылка рома. — Я сделала глоток, горло обожгло.
— «Математик — это машина для переработки кофе в теоремы», — сказал Мак-Коннел и, заметив мой удивленный взгляд, добавил: — Слова Пола Эрдёша[17]. В определенном смысле он прав. Я за день выхлебываю девять-десять чашек.
Я бросила взгляд на небольшой томик на полу возле его ног.
— «История свечи». О чем?
— Фарадей написал эту книгу на основе лекций, которые читал в Лондонском Королевском обществе в 1860 году, на Рождество. Он пишет: «Изучение физического феномена свечи — распахнутая дверь в мир физики». Эти лекции Фарадей читал школьникам, но в них так много заложено. Хорошая книга сродни математическому доказательству: доводы ее отточены, истина всеобъемлюща. — Он еще пригубил из бокала.
— Вы много читаете? — поинтересовалась я.
— Помогает скоротать время. Как вы, вероятно, заметили, здесь довольно тихий уголок вселенной.
— Вы начали рассказывать, почему живете в Дириомо.
— Когда жена выставила меня вон, я не знал, куда податься. Вернуться в Сан-Франциско не мог, там мое имя смешали с грязью, там я стал бы вечным изгоем. И в Стэнфорд вернуться не мог. Несколько месяцев скитался по Огайо, подрабатывал маляром. Думал, останусь в тех краях и, быть может, время от времени буду встречаться с Томасом. Но Маргарет убедила суд дать ей исключительное право опеки — мне даже не разрешили видеться с сыном. Все опять упиралось в книгу Торпа. Я был в отчаянии. Сначала потерял Лилу, потом сына. Работа застопорилась, на карьере можно было ставить крест. Жить дальше не было смысла.
— Но вы продолжали жить. Почему?
— Вы слыхали об Алане Тьюринге?
— Краем уха.
— В 1950-м он разработал тест, названный его именем, цель которого определить, может ли машина мыслить. Человек, называемый судьей, одновременно взаимодействует с компьютером и с другим человеком…
Должно быть, он заметил недоумение у меня на лице, потому что улыбнулся и сказал:
— Простите. Именно по этой причине из меня вышел бы ужасный учитель. Я слежу исключительно за развитием собственной мысли и напрочь забываю давать необходимые пояснения тому, кто меня слушает. С Лилой я мог не беспокоиться: когда меня заносило, она следовала за мной не теряя нити. Незачем было записывать промежуточные шаги доказательства — она сама связывала факты в единое целое, словно читала мои мысли… Ну вот, пожалуйста, я опять за старое!
Я подлила ему рому. Мак-Коннел тут же осушил бокал.
— Тьюринг покончил с собой, откусив от яблока, начиненного цианидом. Всего за несколько дней до собственного дня рождения — ему исполнилось бы сорок два. Самоубийство произошло после того, как британский суд обвинил его в гомосексуализме. Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел сказать: самоубийство, по моему глубокому убеждению, нецелесообразно, за исключением крайних случаев. Я имею в виду случаи, когда человеку грозит вражеский плен или он смертельно болен и его терзает невыносимая боль. Несмотря на то что прямых причин оставаться в живых я не находил, оборвать жизнь было бы, с научной точки зрения, неоправданным решением. Лила ушла навсегда, но оставалась возможность когда-нибудь воссоединиться с Томасом или, невзирая на оторванность от математического сообщества, совершить значительное математическое открытие.
В коридоре, прямо за дверью, раздался какой-то шум. Мак-Коннел тоже его услышал, смолк, и мы оба уставились на дверь.
— Это Хосе, — сказала я. — Наверное, проверяет, все ли у меня в порядке.
Прислушиваясь к удаляющимся шагам Хосе, я почувствовала, что напряжение мое несколько ослабло. А что, если в этом и заключается талант этого человека, его привлекательность? И Лила незадолго до смерти, быть может, чувствовала то же самое?
— Я не виделся с сыном почти семь месяцев, когда мой научный руководитель в Стэнфорде рассказал, что у него в Никарагуа есть хижина, — продолжал Мак-Коннел. — Он купил ее несколько лет назад, а пользовался считанные разы. Делать мне было нечего, терять — тоже, я и перекочевал. И сразу почувствовал себя как дома. Здесь можно было начать все заново. С тех пор тут и живу.
— А как насчет работы?
— Заключил договор с проектной фирмой в Сан-Маркосе — вычисления, расчеты грузоподъемности мостов и все такое. Считаю вручную, с карандашом и листом бумаги. Мне нравится так работать. Вы не представляете, сколько времени можно убить на одно-единственное вычисление. Бывает, днями и ночами не выхожу из дома — хотя домом его можно назвать с большой натяжкой. Со смертью Лилы моя жизнь страшно обеднела. Я думал, мне никогда не возместить того, что потерял, и так оно и есть, но с некоторых пор мой переезд в Никарагуа начал представляться мне своего рода подарком. Прежде я был как цепью привязан к компьютеру, теперь же, без него, ощущаю себя сродни Рамануджану[18], Гауссу, даже Архимеду. Разумеется, у меня и в мыслях нет равняться с ними, я только хочу сказать, что есть в этом некая чистота — когда для решения задачи в твоем распоряжении твой собственный ум, чистый лист бумаги, карандаш и ничего кроме.
Он бросил взгляд на бутылку, и я опять плеснула ему рому. На этот раз он несколько мгновений разглядывал стакан, покачивая его, так что коричневая жидкость заходила кругами. Движение руки было мерным и плавным, в тусклом желтоватом свете лампы колыхание рома завораживало. С самого начала Мак-Коннел был наиболее очевидной кандидатурой — подозреваемый номер один, но меня уже одолевали сомнения. По теории Торпа, именно он обрушил камень на голову Лилы, но верна ли эта теория? Слишком велика была рана, слишком беспорядочны последствия убийства для человека с такой твердой рукой: волосы все в крови, тело едва прикрыто листвой. А Мак-Коннел, насколько я поняла, — человек, который даже в экстремальной ситуации доведет все до логического конца. Взять для начала пуговки на Лилиной блузке — если бы это был Мак-Коннел, он ни за что не стал бы вырывать их с мясом. Теперь другое: дешевенький кулон с топазом — мой подарок — украден, а кольцо с опалом, по всей вероятности подаренное Мак-Коннелом, осталось у нее на пальце. Если это Мак-Коннел, зачем ему забирать кулон и оставлять кольцо? Эта подробность (как и предположение Торпа, что Лила угрожала открыть все жене Мак-Коннела) всегда мучила меня. Однако повествование Торпа было настолько убедительно и признано всеми, что я отметала собственные сомнения.
— Смешно, — снова заговорил Мак-Коннел. — Расскажите мне про мост, который хотите построить, — где будете строить, из чего, какой глубины река, — и я вам скажу, с точностью до грамма, какой вес он выдержит. А вот приложить ту же формулу к собственной жизни не могу. И никогда не мог. С Маргарет просчитался — терпение у нее лопнуло, и она отняла у меня сына. Я просто рассчитывал на нее — не на ее любовь, нет, на ее желание иметь определенный уровень жизни. Полагал, что ради этого она на что угодно будет смотреть сквозь пальцы.
Я вслушивалась: не зазвенит ли фальшивой ноткой его голос; вглядывалась: не дрогнет ли лицо, не сожмутся ли невольно пальцы, выдавая, что их хозяин лжет. И в то же время мне хотелось верить всему, что он говорит. Если сестра по-настоящему его любила — а я теперь понимала, что такое могло быть, мне открылась его привлекательность, — я не желала, чтобы он оказался человеком, отнявшим у нее жизнь. Было ли дело в самой природе этой деревни? Не знаю. Я никогда не была суеверной, но уже, казалось, ощущала влияние неведомых чар.
— Книжку Торпа я прочла дважды, от корки до корки.
— Неужели? — Мак-Коннел пристально (мне даже стало не по себе) смотрел на меня. — В таком случае вам известно, что Торп ничего не доказал. Его обвинения в мой адрес — чистая гипотеза. Ему не удалось обнаружить никаких вещественных доказательств, связывающих меня с преступлением. Ни единого свидетеля. Когда я читал, я был в бешенстве! Из головы не шло — каким оскорблением сочла бы это Лила: отсутствие точности, пробелы в логике, которые автор ловко обходит.
— Вы были наиболее вероятной кандидатурой.
— Вероятность — штука странная, — возразил Мак-Коннел. — В плане эволюции, инстинктивное ощущение вероятного должно быть встроено в наши мозги, чтобы помогать уходить от опасности. На деле же большинство людей решительно неспособны просчитать вероятность того или иного события. К примеру, наша с вами встреча на первый взгляд может показаться совершенно невероятной. Но вы — путешественница, я — изгнанник, а Дириомо — не в такой уж дали от наезженных путей. Вообще говоря, люди склонны верить, что мир безопасен, и случайные проявления насилия заставляют их чувствовать собственную незащищенность. Поэтому, когда совершается убийство, им инстинктивно хочется обвинить того, кто близок к жертве, невзирая на то, что вероятностью обусловлено: мы все систематически вступаем в непосредственный контакт с опасными индивидами.
— А как же та математическая проблема? — спросила я. — Гипотеза Гольдбаха. Торп предположил, что вы с Лилой вплотную подошли к ее решению, и вам не захотелось делиться славой.
— Вплотную подошли к ее доказательству, — поправил он. — Но это смехотворно. Ни о каком «вплотную» и речи не было. Торп ничего не смыслит. Я, впрочем, не поставил на ней крест. Перебравшись сюда, работал над гипотезой почти все свободное время. Это успокаивало, помогало коротать время. Более того, признаюсь, гипотеза Гольдбаха напоминала мне о Лиле. Такой у нас с ней был уговор: мы докажем эту гипотезу. Как меня мучила совесть, когда она погибла… Почему меня не было рядом! Тем вечером я должен был отвезти ее домой после ужина, а я не отвез: мы засиделись, и мне надо было бежать домой, к сыну. Он без меня не засыпал. И я только проводил ее до остановки. С той поры каждый божий день просыпаюсь с чувством, что предал ее.
За окном ливень стегал беззащитные деревья, пахло зеленью и землей. Кондиционера у меня не было, и окно я держала открытым. Жалюзи неплохо защищали от дождя, но несколько капель все же шлепнулись на пол.
Мак-Коннел подался вперед, шаркнув стулом по полу, коснулся своим коленом моего. У меня рука сама собой нырнула в сумку. Мак-Коннел заметил это непроизвольное движение. Страдальчески сморщился.
— Не надо меня бояться, — проговорил он. — У вас нет ни малейшего повода для страха. Я любил вашу сестру, Элли. Никогда и ни за что я не смог бы причинить ей боль.
Мне хотелось верить ему. Ради Лилы я хотела, чтобы это было правдой.
Он встал, собираясь уходить. В глазах читалась безнадежность. Должно быть, он чувствовал, что ему не убедить меня.
— Погодите, — сказала я. — Еще один вопрос.
— Да?
— А что ваш сын, Томас?
— Ему в этом году исполнится двадцать три. Через несколько месяцев после переезда в Никарагуа я звонил тестю. Тот сказал, что Маргарет снова вышла замуж и уехала из штата. Ни ее новой фамилии, ни адреса он дать не захотел. Я продолжал посылать поздравительные открытки на день рождения сына и на Рождество на адрес тестя, пока три года тому назад они не начали возвращаться с пометкой «неверный адрес».
— А вы не думали попытаться отыскать его?
— Каждый день думал. А теперь мне кажется, если бы он хотел — сам нашел бы меня.
Он поднял книгу, кепку.
— Поздно уже. Спасибо, что выслушали.
— Погодите, — снова сказала я, но задержать его было нечем. А мне так хотелось услышать еще что-нибудь о сестре, вспомнить прошлое вместе с этим человеком, который знал ее совершенно с другой стороны. Как быстро, всего за один день, немыслимое может стать реальным.
Он шагнул к двери, взялся за ручку и тут словно вспомнил о чем-то.
— Лила когда-нибудь рассказывала вам о Марии Агнези?
— Да, а еще про Софию Герман, Олив Хэзлитт, Шарлотту Ангас Скотт, Гипатию[19].
— Тогда вы помните, как именно Агнези решала задачи?
Я покачала головой.
— Биографы утверждают, что Агнези была лунатиком. Промучившись безрезультатно над какой-нибудь мудреной задачей, она отправлялась спать. Предание гласит, что, проснувшись поутру, она находила у себя на столе готовое решение. Но я всегда считал это не более чем милой выдумкой. Просто когда она просыпалась на следующее утро, наступал новый день, и она смотрела на все по-новому.
Он открыл дверь и растворился в темноте коридора. Какое-то время я стояла не двигаясь. Не выдумка ли эта ночь, не игра ли моего воображения? Потом подошла к окну и отодвинула жалюзи. Неясный силуэт медленно двигался вдоль улицы, и дождь усердно поливал его.
Десять
После ухода Мак-Коннела я припомнила наш с Лилой разговор в тот день, когда она примеряла синее платьице в обтяжку и рассказывала мне о своем намерении доказать гипотезу Гольдбаха. Это было за несколько недель до ее смерти.
Любое четное число, не меньше четырех, можно представить в виде суммы двух простых чисел[20].
Лила растолковала мне эту гипотезу просто и ясно. Это было частью ее непрекращающихся усилий просветить меня в области, недоступной моему уму. Она, вероятно, полагала, что если долго и терпеливо заниматься моим образованием, то мне откроется неземная красота чисел. А я не особенно и сопротивлялась, потому что каким-то чудом ей удалось вызвать у меня интерес, в чем не преуспел ни один из моих учителей. Она любила рассказывать мне о людях, стоявших за числами. Пуанкаре и Агнези, Ферма и Рамануджан, Эйлер, Лейбниц и Паскаль. Если сам по себе предмет был по большей части совершенно непостижим, то «человеческая» сторона математики и всякие истории вокруг нее меня здорово увлекали.
Уникальность гипотезы Гольдбаха в том, что, несмотря на пресловутую сложность доказательства, ее главные положения, по сути, элементарны. Простое число — это натуральное число, которое делится только на самого себя и на единицу. Результатом деления его на любое другое число будет дробь. Истинность гипотезы Гольдбаха общепризнанна, меж тем за два с половиной века, минувших с ее появления, никому не удалось ее доказать. Можно утверждать, что 4 является суммой простых чисел 2 и 2, что 6 является суммой простых чисел 3 и 3 или что 8 — сумма простых чисел 5 и 3. Можно заниматься подобными вычислениями месяцами, годами, даже десятилетиями и убедиться, что каждое четное положительное целое число, найденное вами, соответствует гипотезе. Но никто еще не предложил убедительных доказательств того, что не существует четного положительного целого числа, которое не является суммой двух простых чисел. Почему? Потому что четных чисел бесконечное множество и доказывать верность гипотезы для каждого из них по отдельности невозможно. Необходимо общее доказательство, справедливое для всех возможных четных чисел до бесконечности. Поэтому незатейливое, но изящное и с виду верное утверждение — любое четное число не меньше четырех можно представить в виде суммы двух простых чисел — по сей день всего лишь гипотеза, но никак не чистая теорема, с помощью которой можно строить другие теоремы.
В этом заключается, как пояснила Лила, высокая ответственность математики. Научные доказательства основываются на многочисленных наблюдениях, совокупность которых служит, казалось бы, неоспоримым свидетельством в пользу той или иной гипотезы, и тем не менее научные теории не абсолютны. Они подвержены изменениям. Стоит появиться новому факту, противоречащему признанной теории, как теория вылетает в трубу. Когда дело касается науки, сомнения в определенной степени неизбежны.
С математикой не так. Математическая теория обязана иметь абсолютное доказательство. Если теория доказана, она справедлива всегда, и развитие математических знаний бессильно ее изменить. Это значит, что математики в данном смысле взыскательнее кого бы то ни было. Взять, к примеру, теорему Пифагора, которая занимает львиную долю всего курса геометрии шестого класса каждой школы. Китайцы и египтяне уже тысячелетиями применяли положения этой закономерности, когда Пифагор наконец доказал ее, приблизительно за 500 лет до Рождества Христова. Сегодня, две с половиной тысячи лет спустя, она все еще верна, и будет верна всегда. Человечество может не сомневаться: в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы вечно будет равен сумме квадратов длин катетов.
Восемнадцать лет тому назад одна мысль прочно засела у меня в голове: я знала, кто убил Лилу. И за восемнадцать лет я сроднилась с этой мыслью. Встреча с Мак-Коннелом все перевернула. Он ушел и оставил меня один на один с дилеммой. Я могу поверить ему, и тогда сложившаяся история моей жизни рассыплется на части. «Что есть жизнь, как не сборник историй?» — говаривал Торп. Рассказанную им, Торпом, историю Лилиной смерти я принимала за истину; его, Торпа, глазами смотрела на белый свет всю свою сознательную жизнь. Поверить Мак-Коннелу значило также согласиться с тем, что мне никогда не узнать, кто убил Лилу, что человек, совершивший это преступление, одурачил всех и остался безнаказанным. А можно по-прежнему верить Торпу. Сестра и в этом случае оставалась неотомщенной, но по крайней мере существовал ответ — ответ более или менее разумный; история имела начало, продолжение и финал.
Одиннадцать
На следующий день я прокрутила в голове вчерашние события: встреча в кафе, дорога до отеля, ночной разговор в номере. В ярком утреннем свете прошедшая ночь приобрела расплывчатую неопределенность сна. Я заглянула на полку шкафа, где держала ром, в глубине души надеясь обнаружить непочатую бутылку и чистые стаканы, но бутылка была наполовину пуста, на донышке стаканов золотилась янтарная пленка, а на белых плитках пола можно было различить следы огромных башмаков Мак-Коннела.
Завтракала я внизу, с Хосе и его женой, — крепкий кофе, жареные бобы и мягчайшие, еще теплые маисовые лепешки. Хосе не спрашивал, кто был у меня ночью, но они с женой оба смотрели на меня как-то не так. Вместо обычной дружелюбной болтовни — молчание. Мне было неловко. Похоже, пустив к себе ночью мужчину, я их сильно разочаровала, от меня они такого не ожидали и были неприятно удивлены.
В половине десятого за мной заехала машина, чтобы отвезти на плантацию Хесуса. Двадцать пять километров тряской проселочной дороги; утреннее солнце жарит во все окна; водитель курит одну сигарету за другой и что-то мурлычет себе под нос, поглядывая на меня в зеркало заднего обзора. На сиденье, у меня под боком, — сумка с кошельком, парой сувенирчиков и моим дегустационным журналом. Это толстая, истрепанная амбарная книга в коленкоровом переплете, куда я записывала свои впечатления от разных сортов кофе. С той поры, как я стала дегустатором, журнал путешествовал со мной по всему свету, мы с ним побывали в Эфиопии, Йемене, Уганде, в Бразилии и Колумбии, в Коста-Рике, на Ямайке и Яве, в Новой Гвинее. Для меня он был своего рода дневником, только вместо людей и событий он был набит подробными описаниями запаха и консистенции, баланса кислоты и сахара. Словарь кофейного дегустатора разнообразен, как сами сорта кофе, мне по душе его бесхитростная поэтичность. Так, можно назвать вкус сладким и уточнить — пикантный, резковатый, мягкий или изысканный, а кислый кофе может быть острым, терпким или с резким привкусом. Запах бывает сдержанным, приторным или растительным, который, в свою очередь, может обладать цветочными, фруктовыми или травянистыми нотами. Во фруктовом аромате можно различить цитрусовые или ягодные оттенки, а в травянистом — чесночные или бобовые. Большинство людей, глотая утром свою чашку кофе, не замечают луковых, чесночных или огуречных тонов, характерных для травянистого кофе, или кедрового и перечного аромата пряных сортов. Для меня же главное удовольствие от чашки кофе — в этом тончайшем разнообразии оттенков.
Профессиональные заметки на страницах дневника перемежались описаниями дегустационных залов (точнее — хижин), зарисовками местных обычаев, именами и днями рождения фермерских детей, забавными случаями, свидетелем которых я была во время пребывания на фермах. Если (не дай бог, конечно) на меня наедет автобус, самое важное, что останется после меня, — этот журнал, документ, с помощью которого можно проследить всю мою биографию.
Когда машина одолела три четверти крутой горной дороги, я поблагодарила водителя и дальше отправилась пешком. Пешие прогулки всегда успокаивали меня — ощущение земли под ногами, ритмичные движения ног и рук. Совершенно согласна с Генри Дэвидом Торо[21], который учил, рассуждая о доброй прогулке: «Идти нужно так, как идет верблюд, единственное животное, жующее на ходу».
Было слышно, как за моей спиной шофер разбирается со своей машиной, — судя по лязгу, он рвал ее на части, попеременно то изрыгая проклятия, то вознося пылкие мольбы к Деве Марии. Скоро его голос пропал, зато стали долетать другие звуки: шорох звериных шагов на лесной подстилке, птичий щебет в гуще крон, перестук дятлов. В разреженном горном воздухе дыхание участилось и отяжелело. Хорошо еще, что я была в тени, защищенная от солнца густой листвой. Вот и территория фермы, до дома Хесуса оставалось всего ничего. Тяжелый аромат кофейных деревьев мешался с терпким, свежим запахом лимонных деревьев и слабым банановым духом. Раздался знакомый скрипучий крик, несколько веселых посвистов, я подняла голову и в сплетении ветвей заметила желтое брюшко балтиморской иволги.
В просвете между деревьями показалась девочка.
— Элли! — воскликнула она и бросилась ко мне, раскинув руки.
Розу, шестилетнюю дочку Хесуса, я знала совсем крошкой и, возвращаясь сюда, всякий раз поражалась переменам, произошедшим с ней за время разлуки. Прическа год от года становилась все короче, черты лица — все выразительнее, а к шестнадцати годам, надо думать, это будет само изящество, с модной стрижкой и челкой, как у юной кинозвезды. Я бросила сумку на землю и подхватила девочку на руки.
— А у меня для тебя что-то есть!
Роза просияла:
— Что? — Она уставилась на сумку. — Подарок? Можно я открою?
— Вы только послушайте! Когда ты успела так хорошо выучить английский?
— А к нам по выходным приезжает одна тетя и учит, — объяснила Роза. — Анхель тоже учится.
Я полезла в сумку и вытащила подарок, завернутый в ярко-красную бумагу. Там был дневник в кожаной обложке и красная ручка, на том и на другом золотом выведено ее имя. Роза принялась развязывать ленточку.
— Это тебе на день рождения, — сказала я. — Обещаешь подождать до следующей недели?
— Обещаю! — Она схватила меня за руку: — Пойдем! Папа ждет.
Хесус стоял на крыльце небольшого домика. Когда мы подошли, он спустился и обнял меня. С Хесусом я познакомилась пять лет тому назад; мы с Майком тогда разъезжали по Никарагуа, изучая новорожденные кооперативы, которые только-только начали появляться в стране после долгих лет гражданской войны. Хесус в то время, объединившись с тремя маленькими кофейными фермами, образовал кооператив «Роза». Нас с Майком сразу расположило к себе их стремление досконально узнать предпочтения американских закупщиков, а готовность выращивать кофе в тени внушала глубокое уважение. С тех пор они перетянули к себе еще пятерых мелких производителей, и репутация их кофе крепла день ото дня.
Хесус пригласил меня в дом, где за блюдом жареных бананов мы завели деловой разговор. По временам мой испанский начинал хромать, и тогда Роза выступала в качестве переводчика. С улицы донеслись громкие голоса, и в дверях показалась Эсперанза, жена Хесуса, а следом за ней — Анхель, младший братишка Розы. Я поболтала с Эсперанзой, поиграла с детьми.
Когда Эсперанза пошла укладывать Анхеля спать, я вслед за Хесусом вышла через заднюю дверь и по тропке направилась в деревянный сарайчик, служивший дегустационным залом. За мной мягко шлепала босыми ногами Роза. Ни разу я не видела ее обутой. Хорошо помню ножки совсем маленькой Розы, тонюсенькие, ровные пальчики. Однажды я видела, как Эсперанза подхватила ее, голенькую, в одном тряпочном подгузнике, подкинула, а потом засунула себе в рот крошечную детскую ступню. Роза хохотала и вертелась ужом в материнских руках. Именно тогда я впервые почувствовала тот укол материнства, о котором так часто толкуют женщины, и в первый раз попыталась вообразить себя с собственным ребенком на руках. Несколько дней спустя, вернувшись в Сан-Франциско, я рассказала своему парню, Генри, про детскую ножку — как идеально уместилась она во рту у матери, и про то, какой гордостью светился Хесус, демонстрируя мне деревянную колыбель, которую своими руками смастерил для первенца.
— Не успеешь оглянуться, и у нас так будет, — сказал Генри.
И я с удивлением поняла, что мысль эта нисколько не страшит. Я без труда могла представить, как мы вместе стоим у детской кроватки и смотрим на спящего малыша, в мордашке которого соединилось лучшее, что у нас есть, — нос и подбородок Генри, мои ямочки на щеках и рот.
В дегустационном сарае Хесус выставил три образчика свежеподжаренных кофейных зерен. Пока он их молол, я вскипятила воду на бунзеновской горелке. Роза тем временем расставила на столе девять стаканчиков — по три для каждого образца. Хесус отмерил и ссыпал понемногу кофе в каждый стаканчик, а я налила кипятка. Гуща всплыла, и над темной жидкостью поднялся пар.
Мы с Хесусом уселись на табуретки по обеим сторонам стола. Роза встала возле отца, и оба с напряженным вниманием следили за тем, как я массивной серебряной ложкой разбиваю плавающую корку. Обожаю эту часть дегустации! Как взмывает кверху струя кофейного аромата в момент, когда ложка проходит сквозь влажные крупинки! Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Затем сняла крупинки с поверхности, сполоснула ложку в чистой воде и начала пробовать. На следующие несколько минут я отбросила все, забыла о событиях вчерашнего дня — кофе скользил по языку, спускался по горлу. Я почти никогда не сплевывала, когда проводила дегустацию. Безмятежность и ясность мыслей дарили мне не только сам вкус и запах кофе, но и то, как он согревал меня изнутри, как потом еще часами я ощущала отрадный прилив энергии, плавно сходящий на нет.
В тот вечер, вернувшись в Дириомо и зайдя в свой номер в отеле, я обнаружила, что без меня там кто-то побывал. Поняла я это не сразу, поначалу было лишь ощущение, что чего-то не хватает. Я метнулась к стоявшему на полу сейфу — заперт. Быстро набрала код и распахнула дверцу: паспорт, деньги — все на месте. Но, подойдя к раковине, чтобы умыться, я обратила внимание, что она в каплях воды, а малюсенький кусочек мыла развернут. У меня привычка — я всегда вожу с собой собственное мыло. «Должно быть, утром, — сказала я себе, — машинально взяла гостиничное».
Я включила вентилятор, стянула футболку и юбку, легла поверх чистых белоснежных простыней. Ветерок приятно холодил кожу, и мне припомнился похожий вечер три года назад, в Гватемале, — тогда я так же лежала полуодетой на жесткой кровати в скромной комнатке и так же пощелкивал вентилятор над головой. Только тогда я была не одна, а с Генри. Мы сначала поужинали в ресторанчике на холмах, а возвратившись домой, скинули верхнюю одежду и улеглись рядышком на кровать с намерением заняться любовью. Но почему-то начали ссориться.
Теперь, лежа в одиночестве, я не могла вспомнить, с чего все началось, из-за чего мы поцапались. Помню только, что в какой-то момент Генри попытался пошутить, а я взвилась: ты ничего всерьез не воспринимаешь! И не успела оглянуться, как перепалка вышла из-под контроля. Мы оба орали друг другу в лицо что-то дикое, несуразное, как бывает, когда теряешь над собой контроль. Это уж потом сам не веришь, что был способен сказать такое человеку, которого любишь. Под конец, вся в слезах, я велела ему отвернуться, чтобы я могла одеться. После того, как мы сотни раз видели друг друга нагишом, он счел просьбу театральной, но подчинился. Я оделась и ушла. Прошлась по соседнему парку, заказала кофе в том самом ресторане, где мы совсем недавно отужинали. Слово за словом проиграла в мыслях нашу перебранку и к тому времени, как последняя капля кофе была выпита, уже сама удивлялась: пустяковая, по сути, размолвка, а привела к такой бурной стычке. Смешно, ей-богу!
Я отправилась назад — извиняться; по пути остановилась у придорожного киоска купить для Генри серебряную зажигалку ручной работы, которая накануне привела его в восхищение. Из всех парней, с которыми я встречалась, курил только Генри («Исключительно сигары, — оправдывался он, — и исключительно по выходным»), и я знала, что зажигалка в подарок будет иметь для него особое значение, как серьезная уступка с моей стороны, проявление моей любви к нему, к такому, какой он есть. Я еще доплатила, чтобы девушка-продавщица завернула зажигалку в тисненую желтую бумагу и перевязала ленточкой, что та и сделала, аккуратно и красиво.
Выбегая из номера, я второпях забыла взять ключ, и теперь пришлось стучать. Я ждала, когда услышу за дверью шаги Генри, но ответом мне была тишина. Снова постучала, позвала его по имени и еще добрых пять минут, с растущим беспокойством, стучала и звала, наконец сдалась и спустилась за ключом к консьержке. В глаза бросилась неразобранная кровать. Генри не было. Его чемодан и паспорт исчезли. Я отложила все встречи и два дня ждала в отеле, выходя, только чтобы поесть и выпить кофе.
На третий день, когда я после работы возвратилась в отель, у консьержки меня ждало сообщение: из Сан-Франциско звонил Генри. Сказал, что мы все обсудим дома. Несколько дней кряду я пыталась дозвониться до него. Безрезультатно. Мне надо было побывать еще на двух-трех фермах, вернуться в Калифорнию я смогла лишь через три дня. Но было уже поздно. Генри собирал вещи. Сказал, что «пересмотрел свое решение», что переезжает на Восточное побережье и начинает все сначала. Ни уговоры, ни даже мольбы не действовали. Я пыталась сунуть ему в руки зажигалку — а что было с ней еще делать? — но он не желал ее брать. Кончилось тем, что я спрятала ее в деревянную шкатулку, где хранилась скромная коллекция моих колечек и сережек. С тех пор, залезая в шкатулку за каким-нибудь украшением, я всякий раз натыкалась взглядом на серебряную зажигалку — напоминание об ужасной, дурацкой ссоре и о его уходе. Выкинуть ее или кому-нибудь отдать у меня почему-то рука не поднималась. Я даже не могла убрать ее подальше, найти ей другое место в квартире, где мы почти два года жили вместе с Генри. В конце концов я переложила свои украшения в фарфоровую шкатулочку, но деревянная шкатулка так и осталась стоять у меня на туалетном столике — хранилище вещицы, которую ни выбросить, ни использовать.
Вот так я и валялась на кровати в отеле Дириомо, возвращаясь мыслями к далеким, тягостным временам, размышляя над тем, как самые серьезные за всю мою взрослую жизнь отношения оборвались вдруг, без предупреждения. И произошло это в такой же точно комнате… Я огляделась, взгляд упал на тумбочку, и мне показалось, что стопка книг на ней как будто подросла. Нет, все так и было: только что изданная история туземных племен Никарагуа; роман, написанный приятелем подруги из Сан-Франциско; последний номер журнала «Чашечка кофе». А это что? В самом низу лежал сверток, размером с книгу, в обычной оберточной бумаге. Ничего похожего у меня точно не было.
Я встала, проверила, заперта ли дверь, задернула шторы. С опаской положила пакет обратно на тумбочку и некоторое время внимательно разглядывала. Наконец разорвала тесемку и развернула бумагу. Мелькнула синяя клетчатая обложка. Я не поверила своим глазам. Открыла первую страницу — сомнений не было: передо мной на колченогой казенной тумбочке лежала тетрадка Лилы. Та самая, что пропала без малого двадцать лет тому назад.
Двенадцать
Как описать эту тетрадку?
Поскольку для меня математика всегда была темным лесом, китайской грамотой, то мне тетрадка представлялась книгой, полной мистических загадок. Все эти годы я не забывала ее, эту потерянную тетрадь, которая, казалось мне, хранит сокровеннейшие тайны моей сестры. С трепетом я раскрыла ее — цифры, буквы и символы сверху донизу покрывали страницу, в точности как отпечаталось в моей памяти. У Лилы был великолепный почерк. Меня восхищало, как сгущались чернила в завершении каждой цифры, словно Лила чуть медлила, прежде чем перейти к следующей, словно каждая цифра была для нее не просто частичкой целого, не фрагментом вычисления, но имела собственный характер, заключала в себе целый мир.
На первой странице бисерным почерком Лилы было выведено:
Математическое доказательство должно напоминать простое и четкое созвездие, а не беспорядочное скопление звезд Млечного Пути.
Г. X. Харди[22]Под цитатой она набросала фломастером шесть звезд созвездия Лиры, соединила звезды зубчатой карандашной линией и подписала названия: Вега, Шелиак, Сулафат, Эпсилон, Аладфар, Аль Афар.
— Да кто про нее слыхал, про эту твою Лиру! — фыркнула я однажды, когда Лила сказала, что это ее любимое созвездие.
Растянувшись на прохладной, влажной траве за домом, мы глазели на небо. Осенью у Лилы начиналась учеба в старших классах, а сейчас было лето; у нас в районе неожиданно вырубился свет (редкое для города явление), родители отправились спать, а мы посреди ночи потихоньку выскользнули во двор, разлеглись на травке, уплетали пирожные и строили планы на будущее. Я хрустела карамельной посыпкой, слизывала тающую на губах шоколадную глазурь. Вокруг звенела, стрекотала всякая живность. Такие звуки мне доводилось слышать только в нашем летнем домике на Русской реке, а в городе — никогда. Голоса ночи, запахи травы и жасмина, недавно посаженного мамой, — все переплелось, мы словно очутились в ином мире.
— Орфей получил лиру от самого Аполлона, — начала Лила. — Когда Орфей играл на ней, даже животные замирали, завороженные красотой музыки. Однажды его жену Эвридику укусила змея и она умерла. Орфей очень горевал. Не ел, не спал, все думал о своей прекрасной погибшей жене. А потом взял да и отправился в царство мертвых и сыграл на лире Плутону и Персефоне. Король и королева подземного царства, как все, не смогли устоять перед его волшебной игрой и разрешили Орфею увести Эвридику на землю, к людям. Но с одним условием…
Я затаила дыхание. Звезды, кромешная темень не освещенной электричеством ночи; новый, неузнаваемый облик знакомого кусочка нашего мира, и мы с Лилой под звездным небом, бок о бок — как в сказке. Должно быть, она тоже это почувствовала, потому что потянулась ко мне и взяла за руку.
— С каким условием? — прошептала я.
— Он не должен был оборачиваться, пока не покинет царства мертвых, не то Эвридику заберут.
— И что было потом?
— Он долго крепился. Шаг за шагом, взяв жену за руку, вел ее на землю. Они уже почти дошли, и тут Орфей не выдержал — ему захотелось сию минуту увидеть красоту Эвридики, и он обернулся.
— И что тогда?
Не должны боги особо придираться, думала я. Все-таки парень почти всю дорогу держался. И уж очень жену любит.
— Орфей протянул к ней руки, чтобы обнять, но Эвридика выскользнула из его объятий и унеслась в мир теней. И Орфею пришлось возвращаться на землю одному. А дома, в своей родной Фракии, оттого что во второй раз потерял жену, он так затосковал, что вообще перестал замечать женщин. Те разозлились и побили Орфея камнями, потом разорвали на части, а голову и лиру зашвырнули в реку.
За забором что-то зашуршало, и я покрепче уцепилась за руку Лилы.
— Зевс достал лиру из реки и забросил на небо, — закончила рассказ Лила. — Иди-ка сюда.
Я торопливо подползла поближе, а она подняла руку, не выпуская моей, и указала на небо.
— Где кончик пальца, там Вега. Видишь?
Я изо всех сил старалась разглядеть звезду, но их было превеликое множество, и все жутко далеко — как же угадать, в какую именно она тычет пальцем?
— Верхний правый угол Летнего треугольника, вторая по яркости звезда Северного полушария. Найдешь Вегу — найдешь Лиру[23].
Мы долго лежали. Я даже задремала. Потом открыла глаза — надо мной склонилась Лила с влажными от ночной росы волосами.
— Вставай, — шепнула она, нащупывая мою руку.
Через день или два вскоре после исчезновения Лилы я вышла во двор и попыталась отыскать Вегу. Легла на траву, как тогда, в детстве, но ярко горели огни города, и различимы были всего несколько звездочек. Я вглядывалась в небесную мглу, высматривая вторую по яркости звезду Северного полушария, и когда, как мне показалось, обнаружила ее и повела мысленную линию к левой верхней точке созвездия Лиры, моя звезда вдруг тронулась с места. Это была не Вега, а всего-навсего спутник.
Прошло много времени с тех пор, как Лила поведала мне о Лире, вообще — с той поры, как мы говорили с ней о чем-либо мало-мальски стоящем. Я уже чувствовала — случилось нечто ужасное, но даже вообразить не могла, что Лилы больше нет. На следующий день раздастся звонок из Герневилля.
Для меня самое тягостное в истории Орфея не то, что он дважды потерял Эвридику, а то, что, когда она ускользала от него во второй раз, он был не в силах дотронуться до нее. Мы с Лилой, когда были маленькими, постоянно прикасались друг к другу — заплетали друг дружке косички, возились на полу, танцевали под старые мамины записи. Но мы взрослели и все реже касались друг друга. В конце концов прикосновения ограничились случайными столкновениями в коридоре, ну иногда еще я нарушала незримую границу, положив руку ей на плечо, чтобы вывести из задумчивости. В отличие от меня, Лила не была ласковой. В тех редких случаях, когда я хотела обнять ее — в день рождения, при прощании в аэропорту перед ее отправлением на очередную математическую конференцию, — я чувствовала, как она подсознательно упирается.
Той ночью, лежа в одиночестве на заднем дворе и выискивая Лиру, я вдруг подумала: как давно я не обнимала свою сестру. И решила — как только Лила вернется, как только снова увижу ее, крепко прижму к себе и долго-долго не отпущу, хочет она того или нет. Но Лила так никогда и не вернулась.
Тринадцать
«Каждый рассказ предполагает некий договор с читателем, основные положения коего излагаются на первой же странице, а лучше — в первой строке: место и время действия, герои, ритм языка и, самое главное, точка обзора: чьими глазами читатель взирает на историю, из какого далека слышит ее. Если по ходу дела эта точка обзора меняется — договор с читателем расторгается. Фундамент рушится, и читатель вспоминает, что это всего лишь вымысел».
Так говорил Торп, а я слишком долго смотрела на историю собственной жизни глазами Торпа. И слишком сильное влияние оказала она на мою душу. Если Лила погибла от рук человека, которого любила больше всех, которого сама впустила в свою жизнь, как после этого верить людям? Потеряв Лилу, я лишь однажды позволила себе абсолютное доверие — с Генри; только перед ним подняла забрало. Когда наши отношения пошли прахом, я с головой окунулась в работу. Убедила себя, что путь к счастью лежит через совершенствование собственных профессиональных навыков. Когда бывало одиноко, отправлялась на какую-нибудь кофейную ферму или бралась за дегустационные записки. Так и жила, в общем-то без печали. Конечно, не о такой жизни я мечтала и не такую жизнь избрали бы для меня родители — им хотелось зятя, внуков. Тем не менее жилось мне не плохо.
Какое бы отвращение ни вызывал у меня поступок Торпа, я отдавала себе отчет: на тот момент его книга, найденные им ответы принесли своего рода облегчение. Теперь же, подобно математическому построению, основанному на неверной теореме, все устои моей жизни с треском обрушились.
На следующее утро после возвращения домой, в Сан-Франциско, я распаковывала чемодан, вдыхая знакомую любому путешественнику смесь отдающих химией запахов аэропорта и травянистого, влажного духа отеля. В боковой карман чемодана я припрятала три фунта кофейных зерен, так что юбки, блузки, да и все остальное изрядно пропиталось еще и ароматом кофе. Засунув одежду в стиральную машину, я приняла душ, достала чистые джинсы, футболку и свитер. Город за окном купался в солнце, но на западе поднималась полоса тумана — сверкающая белизной стена; на улице, скорей всего, прохладно и сыро.
На Двадцать четвертой улице, «У Талли», я заказала маленький кофе, отыскала свободное место в уголке и раскрыла заветную тетрадку сестры. С первым же глотком хмарь в голове начала проясняться. На третьей странице Лила составила список, озаглавленный «Нерешенное. Нерешаемое?». Первой в списке значилась гипотеза Гольдбаха, ей же отводилось больше половины тетрадки; на оставшихся страницах разместились прочие задачи. Второй шла гипотеза Пуанкаре: «Всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере».
Я пялилась на фразу как баран на новые ворота. Поразительно! Моя родная сестра — одни и те же гены, одни и те же любящие родители, одинаково хорошие школы, такие же выходные на Русской реке, — но она была в состоянии проникнуть в смысл этого предложения.
Мне это было недоступно, но самого Пуанкаре я помнила по той причине, что во время нашего с Лилой вояжа по Европе мы побывали на кладбище Монпарнас в Париже, где тот похоронен. И на его могиле Лила поведала мне его историю. Пуанкаре был известен как «последний универсалист»; он добился величайших успехов во всех областях математики своего времени, как в чистой, так и в прикладной. Меня же заинтересовала история про его участие в деле Альфреда Дрейфуса, офицера-еврея, в 1895 году обвиненного сослуживцами-антисемитами в государственной измене и приговоренного к пожизненному заключению на Острове Дьявола. Пуанкаре в пух и прах разнес «научные доказательства» обвинителей Дрейфуса, чем в значительной степени способствовал оправданию последнего.
Лила приложила к могильному камню Пуанкаре листок и потерла бумагу карандашом, копируя поверхность. Потом по кладбищенской карте она помогла мне разыскать еще одну могилу, Симоны де Бовуар[24]. Ее похоронили всего год назад, в могиле Сартра. Надгробие цвета слоновой кости с незатейливой двойной надписью — имена и даты — было усыпано цветами и подношениями. Я читала «Второй пол» и «Воспоминания благовоспитанной девицы»; читала «Слова» Сартра, но единственное, что сумела в тот момент выудить из памяти, — это строчку из Ллойда Коула[25]: «Когда она Симону де Бовуар читает, то смахивает на актрису Еву Марию Сэйнт».
— Ты могла бы так сильно любить, чтоб захотеть после смерти лечь на кости возлюбленного? — спросила я.
Лила ни на секунду не задумалась:
— Нет.
Не было нужды вдаваться в подробности. Ее взгляды на романтические отношения, на замужество мне были известны: помеха занятиям, и только.
Можно, конечно, утверждать, что истинный универсализм больше невозможен. Самому Пуанкаре было бы не по силам уследить за всеми открытиями в современной математике. Но в глубине души мне хочется верить, что Лила могла, по крайней мере, приблизиться к универсализму. Было в ней это! Она могла стать если не величайшим математиком своего времени, то уж одним из них наверняка. Но что-то разладилось во вселенской арифметике, и это, должно быть, годами мучило моих родителей, хотя сами они никогда и ни за что не признались бы. Простенькое уравнение: в семье имеется две дочери. Вычесть меня — и мир лишается недурного дегустатора: вполне приличные записки по теме, натренированный вкус, две-три статьи в специальных журналах о тончайших различиях в качестве лучших сортов кофе. Невелика потеря. Но происходит иное, более жестокое вычитание. Кто знает, какие открытия сделала бы Лила, какие задачи решила бы, какие изящные доказательства выстроила бы, имей она в запасе время? В отличие от меня она была создана для серьезной, важной работы.
Сегодня мне нетрудно вспомнить, чем я занималась в тот первый после смерти Лилы год. Оглядываюсь назад и вижу себя, вдрызг пьяную, в койке с каким-нибудь пацаном из школы или с очередным новоявленным знакомцем. Снова и снова. Я не просто пыталась выкинуть из головы, что случилось с Лилой, я стремилась забыть, что я — произведение вывернутой наизнанку арифметики, которая ухитрилась погубить гения, а меня, посредственность во всех отношениях, оставила в живых.
— Я как будто брожу по дому, — оправдывалась Лила, когда я (в который раз!) вытягивала ее из молчаливой задумчивости. — Захожу случайно в другую комнату, а дверь за мной закрывается. И все прочее вроде как исчезает.
Порой мне казалось, что это я двадцать лет тому назад попала не в ту комнату и дверь за мной затворилась. По ту сторону двери осталась жизнь, которая была мне суждена. А по эту сторону двери, захлопнувшейся как ловушка, — жизнь, в которую я ввалилась ненароком. Я рвалась назад, туда, откуда шагнула за порог, но дверь заперта наглухо.
Как все осужденные, Дрейфус был признан виновным потому, что судьи уверовали в некую историю о нем. Пуанкаре предложил иную версию истории, и это изменило ход жизни Дрейфуса. Что, если существует и другая история смерти моей сестры? Такая история, что изменит ход жизни Мак-Коннела, а может, и моей собственной?
За все свои тридцать восемь лет я ни разу не совершила ничего из ряда вон выходящего. Случая не подворачивалось, уверяла я себя, нет у меня ни способностей, ни возможности принести кому-нибудь пользу. Быть может, теперь и явился как раз тот самый случай? Мак-Коннел — единственный, не считая членов нашей семьи, кого Лила впустила в свою жизнь, кому она доверяла. Подобно Дрейфусу, Мак-Коннел был обвинен судом общественного мнения на основании истории, — не исключено, что сфальсифицированной истории. Быть может, я все-таки сумею совершить кое-что; быть может, мне удастся возвратить Мак-Коннелу хоть немногое из того, что он потерял.
А заодно попробовать помочь родителям. Десять лет назад они развелись. Потеряли последнюю надежду наладить отношения. Трещина, что пролегла между ними после смерти Лилы, год от года росла. Сначала они стали порознь проводить отпуск, мама подолгу жила в одиночестве на Русской реке. И наконец оба решили, что семьи им не сохранить. В тот вечер, когда развод был окончательно оформлен, мама зашла ко мне поужинать.
— Если б было какое-никакое официальное решение, — говорила она, — арест, обвинение, тогда, думается, мы с папой как-нибудь пережили бы. По правде говоря, вся эта история с Мак-Коннелом не более чем беллетристика. Быть может, так оно и было, но где правосудие? Никто не ответил за то, что случилось с нашей девочкой.
Когда Лиле не давалось решение той или иной задачи, она переворачивала листок бумаги вверх ногами.
— Помогает освежить взгляд, — объясняла она. — Приходится сосредоточиваться на каждой цифре, на каждом символе. Будто смотришь на ту же картинку другими глазами. Иной раз достаточно одного взгляда, бац! — и все становится ясно.
За долгие годы я так привыкла к картинке, намалеванной Торпом, что ее истинность не вызывала у меня сомнений. Но настало время признать: историю Торпа я приняла по инерции. Горе застило глаза. Какая уж тут логика… Вина Торпа очевидна: создал лживое во многом произведение, но и я была виновата не меньше: поверила с ходу, не удосужившись подвергнуть его теорию мало-мальски серьезной проверке. После удивительной встречи с Мак-Коннелом все выглядело по-иному, словно страницу перевернули вверх ногами.
Четырнадцать
Возле книжного магазина «Зеленое яблоко» нес караул деревянный гном. По скрипучим ступеням я поднялась на второй этаж. Между Фрэнком Тистлетвейтом («Великий эксперимент: введение в историю американского народа») и Грантом Уденом («Легенды о героях рыцарских веков») отыскала Эндрю Торпа. Эта обложка… Лицо сестры на фоне моста «Золотые Ворота». На тыльной стороне суперобложки, над несколькими лестными отзывами, — фотография моего давнишнего учителя, серьезного, но добродушного, в темном свитере и при очках. На улице снимали — волнистые волосы отброшены назад ветерком. Стоит подбоченившись, в камеру глядит спокойно и уверенно — такому человеку можно доверять, уж он-то не станет небрежничать с фактами. Но странное дело — во времена нашего с Торпом знакомства у него уже редели волосы, а здесь такая богатая шевелюра. Фотка явно сделана задолго до выхода книги, ему тут едва за двадцать. Глядевший на меня с обложки человек был, по сути, тем же самым, но в ином воплощении. Этот, на снимке, бесспорно оптимист, а от того, которого я знала, который написал книгу, исходил легкий, но несомненный душок разочарования пополам с болезненным честолюбием.
Рядышком с «Убийством в Заливе» стояла еще одна брошюра Торпа, «По следам садиста», о том, как похитили и истязали жену известного предпринимателя из Сакраменто. И здесь на обложке красовался тот же молодцеватый Торп. Нашлось еще два экземпляра третьей книги, «Победитель, побежденный», о том, как в Дубае, на марафонских соревнованиях, средь бела дня был убит журналист. И снова та же фотография. Ну не желает человек стареть! Была и четвертая книжка с его именем и незнакомым названием — «Во второй раз — просто чудо». Уцененное первое издание за 4,95 доллара. Из аннотации на обложке следовало, что это мемуары о семейной жизни, история любви, дающая надежду одиноким мужчинам. «Думаете, вам никогда не найти любви? Так считал и Эндрю Торп. Пока не встретил Джейн, женщину, подарившую ему второй шанс на счастье».
Здесь фото Торпа посвежее: заметно округлившиеся щеки и никаких попыток скрыть растущую лысину. Снято, похоже, в домашнем кабинете. Сидит за столом, руки на старенькой электрической пишущей машинке. Машинка, надо думать, реквизит, для придания романтического флера. Когда я с ним водила дружбу, Торп буквально все писал на компьютере. На левом углу стола два деревянных книгодержателя в виде носа и кормы корабля.
— Это намек, — сказала я, вручая ему книгодержатели в конце весеннего семестра, через пять месяцев после смерти Лилы. — На «Одиссею».
Это было одно из обожаемых им произведений.
— Ну зачем ты, право слово…
— Просто в знак благодарности.
Он удивленно поднял брови:
— За что?
— За доброту. За то, что хорошо слушали.
— А я вовсе не из доброты, — покачал головой Торп. — Мне нравится с тобой общаться.
Теперь, разглядывая в книжном магазине постаревшего, поутихшего Торпа, я подивилась — надо же, сохранил мой подарок.
Устроившись в кафе «Голубой Дунай», дальше по улице, я принялась читать. Самое начало, где Торп подробно описывает, как было найдено тело Лилы, пропустила (не смогла себя заставить), перескочила сразу на четвертую главу: «Первая любовь».
«В одиннадцать лет, — писал Торп, — Лила открыла для себя лошадей».
Что правда, то правда. Я прекрасно помнила эту историю, и именно в моем изложении, только в слегка измененном виде, она появилась в книге. Случилось это, когда Лиле было десять лет. В первый раз она ночевала не дома, а за городом, в графстве Сонома, в лагере для девочек с безобидным названием «Поиск». Как она плакала, когда наша машина въезжала в ворота! А когда мы остановились перед зданием клуба, мертвой хваткой вцепилась в пристяжной ремень и заявила, что не выйдет из машины до тех пор, пока ее не отвезут обратно в город, домой.
Только Саре Бет, долговязой и тощей воспитательнице, удалось выманить Лилу наружу: она подвела старую кобылу по прозвищу Спайс к Лилиному окошку, вручила Лиле яблоко, Спайс схрупала его прямо у той из рук — и дело было в шляпе. Когда в понедельник утром мы приехали забрать Лилу, ни о чем другом кроме как о Спайс она не говорила.
С тех пор Лила стала раз в неделю ходить на уроки верховой езды. На ее тринадцатый день рождения, убедившись, что лошади для дочки не блажь, которую она со временем перерастет, родители Скрепя сердце решились подарить ей лошадку по имени Дороти — рыжую, в белых «чулочках» и с белой полосой вдоль морды. Родители сняли конюшню в маленьком городке Монтара, на машине минут тридцать пять вниз по побережью. Там карабкались на холмы крепкие деревянные домики, а внизу тянулась длинная золотая лента песчаного пляжа. За домами, в тени секвой, расстилались сотни акров необработанных земель, здесь же приютилась парочка небольших ферм. Конюшня, где Лила держала свою Дороти, разместилась на пустоши в полутора километрах от автострады № 1; в погожий день, забравшись на ворота площадки для выездки, я видела несущиеся по извилистому, тряскому шоссе автомобили, а за ними — знаменитые волны пляжа Монтара.
— Я знаешь что подумала, — объявила мне однажды Лила вскоре после того, как заполучила свою Дороти. Мы сидели на заборе, огораживающем площадку для выездки, и ждали Лилиного тренера, а Дороти недовольно фыркала и топталась поблизости, поднимая тучи пыли, от которых я беспрестанно чихала. — Пусть она будет нашей общей лошадью. — Лила болтала ногами, выстукивая сапогами барабанную дробь на заборе. — Ну, не навсегда, а только пока мама с папой не купят тебе твою собственную лошадь.
— Не нужна мне никакая лошадь, — ответила я. Глазеть на Дороти с приличного расстояния — еще куда ни шло, даже приятно, но грязь под ногтями, шершавая лошадиная шкура — брр, мурашки по коже.
Лиле я, конечно, ничего этого не сказала, но она все равно вытаращилась на меня так, словно только что узнала, что я ей не родная сестра.
Она продолжала ездить верхом и в старших классах. Когда конюшня в Монтаре закрылась, Лила подыскала Дороти местечко под Петалумой, в полутора часах езды от Сан-Франциско, на ферме с яблоневым садом и выгоном для скота. Хозяева держали с полдюжины коров, несколько страусов и свинью. Площадки для выездки на ферме не имелось, и это как нельзя лучше устраивало Лилу. Когда ей хотелось покататься верхом, она погружала седло на тележку для гольфа и отправлялась разыскивать Дороти по полям. Завидев вдалеке свою кобылку, свистом и по имени подзывала ее и седлала прямо на месте. Домой возвращалась только под вечер, почерневшая от солнца и пыли, усталая, пропахшая лошадиным потом.
Однажды вечером (дело было летом, а осенью у нее начинались занятия выпускного курса в университете) Лила объявила, что бросает верховую езду, чем совершенно ошарашила нас с родителями.
— Мне нужно серьезно заняться математикой, — пояснила она.
— А совмещать разве нельзя? — удивилась мама. — Ты же так любишь кататься верхом. В жизни всегда должно оставаться что-то, что делаешь исключительно для удовольствия.
Мама знала, о чем говорит. Даром что к тому времени адвокатская практика отнимала у нее массу сил и времени, но мама всегда умудрялась выкроить пару часиков в неделю, чтобы покопаться в саду.
— Я так решила, — твердо сказала Лила. — Мне нужно собраться. Все великие математики чем-нибудь жертвовали.
Через два-три дня она дала объявление в газеты и потом несколько раз ездила в Петалуму встречаться с потенциальными покупателями. Один раз я поехала вместе с ней. Мы переехали мост «Золотые Ворота», миновали мыс Марин. Постепенно шоссе расчистилось, дома уступили место плавно сменявшим друг друга холмам, испещренным точками скота и одиноких деревьев. Лила свернула на проселочную дорогу. По рытвинам и ухабам мы черепашьим шагом доползли до длинной, покрытой гравием подъездной аллеи, которая привела нас к большому белому фермерскому дому. Я еще подумала: вот бы пожить в таком… Широкое крыльцо, слуховое оконце, пристройка сбоку — приляпали, похоже, в последний момент, на всякий случай. Слева от дома — засаженный картофелем клочок земли: длинные, бурые и сухие грядки, точно могильные холмики, с пробивающимися кое-где зелеными ростками.
Мы с Лилой направились к огороженному выгону. Вдалеке под деревом юкки щипала траву Дороти. Лила свистнула, Дороти вздернула уши, прискакала пулей. Лила гладила лошадиную морду и что-то нашептывала Дороти на ухо, та смирно стояла, изредка помаргивая. «Небось говорит с ней, как в жизни не говорила со мной, своей родной сестрой, — подумалось мне. — От этой бессловесной твари у нее небось секретов нет…» Минут через пять подъехал на машине мужчина с десятилетней дочкой, тоже горожане. Лила подсадила девочку на спину к Дороти.
— Она с характером, — предупредила девочку Лила. — Будь с ней построже, и она станет тебя уважать. Морковку она терпеть не может, но с ума сходит по яблокам и черной смородине. А еще обожает хрустящие хлопья. И когда ей напевают на ухо. Если сердится, напой ей какую-нибудь песенку Саймона и Гарфункеля[26], и она вмиг присмиреет.
Как эта девчушка смотрела! Я узнала этот взгляд — много лет назад точно такими же глазами взирала на Спайс Лила. Папаша объявил, что завтра же зайдет к нам домой с чеком.
Они уехали, а к нам от дома направился какой-то парень. Лет тридцати, высокий, красивый и важный до невозможности. Правда, несколько утомленный и помятый, будто ночь напролет веселился.
— Привет, Вильям, — окликнула его Лила.
— А, Лила, привет!
— Это моя сестра, Элли.
Вильям схватил своей лапищей мою руку и так сжал, что кости захрустели.
— А мы уже встречались, — напомнила я. Он в недоумении уставился на меня. — У нас тогда машина сломалась, а ты помог нам завестись.
— Верно, — заметила Лила. — Я и забыла.
— Рад встрече, — кивнул Вильям, но по лицу было видно, что он меня не помнит. Покусывая веточку мяты, парень обернулся к Лиле: — Ну что, продала?
— Похоже, да. Эта девчушка влюбилась с первого взгляда.
Когда Вильям отошел на приличное расстояние, я выдохнула:
— Хорош!
— Думаешь? — Лила удивленно глянула ему в спину. Похоже, эта мысль не приходила ей в голову. — Ну, не знаю. А вот с Дороти он точно хорош. Жалко, что не он ее купил. По крайней мере, я была бы уверена, что она в добрых руках.
В тот день Лила в последний раз ездила верхом на Дороти. Потом мыла ее, плавными круговыми движениями водя по лошадиной шкуре мыльными руками. «Хорошая девочка», — тихо шепнула Лила, придвинув губы к самому уху Дороти. В конце она угостила кобылку яблоком и обняла за шею. Догадалась ли Дороти, что Лила прощается с ней?
Больше, насколько мне известно, они не встречались. Лила редко вспоминала свою лошадь. «А если бы на месте Дороти была я? — думалось мне. — Она бы так же держалась? Если б я погибла в автомобильной аварии или, ныряя в бассейне, сломала себе шею и потом всю оставшуюся жизнь валялась в коме, она бы смирилась с моим отсутствием так же легко, как с продажей Дороти?»
«С тех пор, — писал Торп, завершая главу, — она больше ни на что не отвлекалась. В сердце Лилы царила лишь одна подлинная страсть — математика».
Вечером, дома, я возвратилась к началу книги. Странно было перечитывать ее после стольких лет, странно видеть на ее страницах Лилу, живую, настоящую: верхом на лошади, за швейной машинкой или у кухонного стола, с карандашом в руках, продирающуюся сквозь дебри математических формул. Такой я ее знала, такой описала. Потому что, какие бы вольности ни позволил себе Торп, рисуя жизнь моей сестры, в одном ему не откажешь: он уловил и передал ее характер, ее привычки и неповторимые черты — как она двигалась, как, разговаривая, держала голову, обороты ее речи.
А вот с Мак-Коннелом он здорово промахнулся.
«Взглянув в глаза Мак-Коннелу, — писал Торп, — вы понимали, что перед вами человек без совести, без чести, способный на все что угодно. В глазах его таилась жестокость, в словах — дерзость».
Вранье! Меня поразила кротость глаз Мак-Коннела, смиренность голоса. Два образа — человек, которого я встретила в Дириомо, и герой книги, — какое разительное отличие! Я не могла поверить в нарисованный Торпом портрет Мак-Коннела — безжалостного, расчетливого убийцы.
И все же книга не дала мне ни ответа, ни ключа к разгадке — кто еще мог быть причастен. Как будто Торп всю свою энергию направил на доказательство вины Мак-Коннела, поспешно и категорично исключив всех остальных. Почему? Чего ради?
Пятнадцать
Сайт Эндрю Торпа оказался навороченным по полной программе: флэш-графика, фоновая музыка в исполнении местной группы под названием «Шуга де Пальма», подкасты и видеоклипы. Торп даже затеял несколько конкурсов, в том числе «Назови злодея» (счастливый победитель конкурса удостоится чести дать имя одному из героев первого романа Торпа, работа над которым шла полным ходом) и конкурс «Первый черновик», наградой за победу в каковом должен был стать собственноручный черновик одной из книг Торпа. Если учесть, что собственноручно Торп мог начертать разве что записку для памяти, он, надо думать, нанял какого-нибудь бедолагу переписать от руки вордовский текст. Наибольшей популярностью пользовался конкурс, победитель которого получал право вместе с Торпом посетить тюрьму штата «Залив Пеликанов». «Вы с глазу на глаз пообщаетесь с Джонни Граймсом, героем „Крови в долине“ — захватывающей истории о чудовищном убийстве двух служащих компании „Yahoo“», — обещал сайт. Книга вышла всего два месяца назад и, судя по вороху рецензий и комментариев на сайте, привлекла всеобщее внимание.
Я кликнула на страничке «События» и обнаружила, что в четверг Женский комитет Сан-Франциско устраивает обед с участием Торпа. В стоимость билета (85 долларов) входит легкий обед, бокал шардоне и экземпляр «Крови в долине» с автографом автора. Я позвонила и заказала билет. Женщина, ответившая на звонок, пылала энтузиазмом.
— Очень своевременно! — трещала она. — У нас всего пара свободных мест, не больше. Вы прочли книгу?
Я призналась, что нет.
— Гениальная вещь! Вам обязательно понравится.
Отмечая красной ручкой дату обеда в ежедневнике, я мысленно вернулась к одной странной ночи, которую провела с Торпом всего за два-три месяца до того, как он объявил, что пишет книгу. Я тогда уже занималась на других семинарах, но мы по-прежнему часто встречались — попить кофе или пообедать. И вот однажды он звонит и как бы между прочим спрашивает, не могу ли я прийти к нему домой на ужин. И так он это сказал, что я решила — меня приглашают на вечеринку.
Торп жил на третьем этаже небольшого, всего в двенадцать квартир, дома у парка Долорес. Когда дверь открылась, я обратила внимание, что свои излюбленные синие джинсы и кеды Торп сменил на черную рубашку, брюки в тонкую полоску и кожаные мокасины. Чудно было видеть его в таком наряде, да он и сам явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— Как пахнет! — Я потянула носом. — Прямо слюнки текут.
— Лазанья по маминому рецепту. Нужно еще полчасика подержать в духовке. А пока выпьешь чего-нибудь?
Мы вошли в маленькую квартирку, чистенькую — и без единого гостя. Значит, только мы двое, и все?
К тому времени, как лазанья была готова, мы уже приканчивали вторую бутылку вина. Я здорово психовала и опустошала одну рюмку за другой, но все же реже, чем Торп, который пил как лошадь. Столовой у него не было, мы сидели на диване, поставив тарелки на журнальный столик — стеклянная столешница, черные ножки; вещица чуть не в голос вопила о холостяцком житье-бытье. Время шло, вино брало свое. Торп то и дело брал меня за руку, похлопывал по колену, невзначай прижимался. За десертом — клубничный чизкейк, явившийся из морозилки и не успевший до конца оттаять, — я смекнула: добром этот вечер не кончится. Торп обхватил меня рукой, притянул к себе и шепнул:
— Обещай, что никогда больше не будешь у меня учиться.
— Почему это?
— Потому что если ты будешь моей студенткой, я не смогу делать вот этого.
И он поцеловал меня.
Я все еще была благодарна ему за дружеское отношение, за помощь в самое трудное для меня время. Мне бы тогда пораскинуть умом да вспомнить, что он на одиннадцать лет старше, но в том изрядном подпитии, в котором я пребывала, разница в возрасте меня ничуть не смущала. Ну в самом деле, отчего не переспать с хорошим человеком? Правда, уже раздеваясь в сумеречной спальне, я знала, что это в первый и последний раз. За вечер образ Торпа в моих глазах претерпел некую метаморфозу. Надуманный наряд, несчастный журнальный столик, курильница, которую он зажег на тумбочке у кровати… В общем, я увидела совсем другого Торпа — Торпа-горемыку. До сих пор я знала его только в определенных обстоятельствах. Когда же занавес раскрылся и я заглянула в его частную жизнь, мне стало его жаль.
Потом он еще пару раз звал меня к себе, но я отказывалась. Торп, спасибо ему, не настаивал и держался, как и я, словно ничего не было.
Это был такой крохотный сбой в наших отношениях, такое незначительное место он занял в нашей с Торпом долгой дружбе, что я и думать про него забыла. Как-никак в тот год я только и делала, что кувыркалась с парнями, которых толком не знала. По сравнению с ними Торп был добрым и надежным другом, чего же удивляться, что в конце концов мы оказались в постели, пусть и на одну ночь. Но когда я вспоминаю об этом теперь, с прожитыми годами за плечами, мне как-то не по себе. Я была девятнадцатилетней девчонкой. Торпу, как видно, моей истории показалось мало. Хоть на одну ночь, но ему понадобилась и я сама.
Шестнадцать
Я выехала из города и двигалась на юг, живописные очертания Сан-Франциско сменились однообразным промышленным пейзажем Полуострова[27]. После двух выходных, взятых по возвращении из Никарагуа, я с удовольствием катила на встречу с родной кофейной компанией «Золотые Ворота», уже за полкилометра ощутив густой, карамельный запах жареного кофе. Я обогнула здание и остановилась за ним. Денек выдался теплый, на сверкающей плоскости залива плясали солнечные зайчики.
Наша Дора, вцепившись в телефон, обсуждала с брокером фьючерсный контракт на очередную партию кофе. Скоро в Эфиопии, на родине кофе, громадные мешки с кофейным зерном погрузят на корабль, и начнется их долгое путешествие на запад. Лишь через несколько недель прибудут они в порт Окланда. И еще до того как корабль разгрузится, образцы кофе доставят сюда, а мы с Майком будем их жарить и пробовать.
— Жди, пока «иргачиф»[28] не дойдет до ста четырнадцати долларов, — наставляла Дора телефон. Прикрыв трубку рукой, закивала мне: — Привет, путешественница!
Мне всего один раз довелось побывать на бирже — летом 2001 года, когда Нью-Йоркская кофейная биржа, крупнейший аукцион кофе в Западном полушарии, еще квартировала во Всемирном торговом центре. Несколько месяцев спустя торговые кабинки были погребены под многотонными грудами камня, а кофейные брокеры перекочевали на ту сторону Ист-Ривер, в мрачноватый зальчик с низким потолком. Уже через несколько дней после 11 сентября оборудованная с грехом пополам биржа работала вовсю: что бы ни происходило в мире, людям нужен кофе.
В дегустационном зале, сразу за канцелярией, было выставлено несколько подносов с образцами, дожидавшимися обжарки и дегустации. Я погрузила пальцы в кучку кофейных зерен из Танзании и вдохнула кисловатый запах. Рядом лежали горкой зерна «Эфиопия Харар». Я тоже привезла из Никарагуа кофе. Теперь я разложила его по подносам, пометила и отставила на потом. Я уже знала, что мы закажем у Хесуса большую партию его кофе, но Майк должен каждый образец попробовать лично. Ну маниакальное у человека стремление к совершенству — ничего не поделаешь. Его прапрадедушка Милос затеял кофейный бизнес во времена Золотой лихорадки, и по сей день пачки кофе с гордым именем Стекополусов украшает его портрет.
Я засыпала округлые зерна танзанийского кофе в первый из трех барабанчиков старинной немецкой жаровни, передававшейся по наследству из поколения в поколение. Во второй барабан поместила «Эфиопию Харар». Зажгла газ, подождала. Несколько минут спустя зерна зашипели, затрещали. Зал наполнился густым цветочным духом. Сначала я выгребла танзанийский кофе и разложила остывать на специальном перфорированном противне. «Харар» мне хотелось довести до чуть более темной обжарки, для чего следовало дождаться, когда по второму кругу начнется и закончится потрескивание. Поджаренные, как мне надо, и очищенные от шелухи зерна я проверила на цвет, грубо помолола и рассыпала по стеклянным чашкам, в каждую по чуть-чуть.
Из кабинета показался Майк.
— Рад твоему возвращению.
— А уж как я-то рада!
И мы принялись дегустировать. В промежутках между глотками Майк докладывал последние новости и сплетни. Дженифер Вильсон, менеджер по продажам, объявила, что беременна; Габриель, дочка нашего конкурента, встречается с работником нашего склада; Дебби Дыбски из бухгалтерии увольняется и переезжает в Муир-Бич… Я слушала и чувствовала: я дома. Кроме мамы, ближе этих людей у меня никого не было.
Возле каждого табурета имелось по большой медной плевательнице, но мы не пользовались ими, а глотали кофе, запивая каждый образец чистой водой. Я переняла от Майка практичную манеру дегустации — это когда дело делается методично, без всяких там «Sturm und Drang»[29].
— Кое-кто устраивает из дегустации целое представление, — сказал мне Майк, когда я только-только начинала у него работать. — А для меня главное здесь — кофе. Потому ты мне и понравилась — чуешь хороший кофе за километр.
Я сразу научилась по достоинству ценить советы Майка. Вечная ему благодарность за то, что поверил в меня еще в конце девяностых, когда многие дегустаторы-мужчины считали ниже своего достоинства сидеть за одним столом с женщиной. Как кухни дорогих ресторанов, недра угольных шахт и самые престижные математические факультеты, так и индустрия кофе была миром мужчин. Что весьма странно, поскольку с тех самых пор, как этот напиток приобрел популярность в Соединенных Штатах, покупали кофе и поили им домашних главным образом женщины.
На мой тридцать четвертый день рождения Генри подарил мне редкое издание книги Вильяма Харрисона Юкерса «Все о кофе» (1922 год) — библию для всех, кто имеет дело с кофе. Восемьсот страниц мелким шрифтом с чудесными иллюстрациями. Одна мне особенно нравится — реклама кофейной компании «Арбакль Брозерс» 1872 года: над дымящейся духовкой сокрушается огорченная женщина в переднике: «Ах, у меня опять сгорел кофе!» Другая рекламка под заголовком «Ошибка, совершаемая многими женщинами» призывает хозяек покупать у «Арбакль Брозерс» готовый кофе, а не возиться самим: «Всякий раз, обжаривая четыре фунта кофе, вы теряете целый фунт!» Чересчур агрессивно и к тому же неверно. Как любое повествование, история кофе щедро усеяна полуправдами. Нужен наметанный глаз, чтобы отличить правду от вымысла.
Даже после разрыва с Генри книга «Все о кофе» продолжала занимать почетное место на полке у меня в столовой. Как и серебряная зажигалка, что я купила ему в Гватемале в тот день, когда Генри ушел, книга напоминает о нашей с ним истории. И наша кофейная компания «Золотые Ворота», к слову, тоже. Здесь все его знают. Его голубые глаза до сих пор следят за мной с громадной общей фотографии в вестибюле. Мы с ним рядышком на этой фотографии — он обнял меня за плечи, а я обхватила его за талию. Когда все уходили, а я засиживалась в конторе допоздна, я частенько оказывалась перед фотографией, пристально вглядываясь в нее, силясь уразуметь — что пошло не так?
Семнадцать
Торжественный обед сан-францисского Женского комитета проходил в ресторане одного из центральных отелей. Круглые столики сервированы белой посудой и розовыми салфетками, а в качестве украшения в центре каждого стола — стопка экземпляров книги «Кровь в долине». Я заняла место за столом в самом конце зала.
Привлекательная женщина лет около пятидесяти справа от меня повернулась и полюбопытствовала:
— И кто это у нас?
— Элли.
— Милости просим. — Она протянула руку. — Я Мэгги. А это Дуайт, Барбара, Стелла и моя дочь Клер.
— Хочу взять у него интервью для газеты, — пояснила Клер, миниатюрная синеглазая блондиночка с изумительной кожей «Девушки с обложки».
— Для какой газеты?
— Для нашей, школьной.
Я вдруг ощутила себя древней старухой. После смерти Лилы отец ушел в себя, да так глубоко, что мама взяла в подружки меня. В результате я довольно долго ходила с ней на обеды, на вечеринки юридической фирмы и винные дегустации. Я больше времени проводила в обществе людей маминого возраста, чем со своими сверстниками. Ее друзья принимали меня с дорогой душой — всегда живо интересовались моей учебой, моими парнями. Как хорошо я помню, что чувствуешь в возрасте Клер, — ты признательна взрослым за их интерес и при этом нахально гордишься собственной юностью, прекрасно сознаешь всю ее силу. У Клер явно была и эта гордость, и эта самоуверенность. Официант, подошедший разлить по бокалам воду, глаз не мог от нее отвести, и она принимала его внимание как должное.
А вот у Лилы юношеской самонадеянности не было и в помине. Быть может, оттого, что она рано повзрослела.
— Для того чтобы чего-то добиться, у меня не так много времени, — произнесла она, будучи на последнем курсе университета. — Нильсу Хенрику Абелю[30] было всего девятнадцать, когда он доказал, что для уравнений пятой степени и выше решение «в радикалах» невозможно. Гаусс написал свои «Арифметические исследования» в двадцать четыре года. Галуа[31], прежде чем погибнуть в двадцать лет на дуэли, открыл связь теории групп и теории полей. Харди был прав, когда заявил: «Математика — занятие молодых мужчин». Или, в моем случае, — молодых женщин.
Стелла вытащила из сумки два мобильных телефона и пейджер, выложила их рядком возле своей тарелки, будто некое не терпящее отлагательств дело в любую минуту могло потребовать ее вмешательства. На ней был безвкусный, но явно дорогущий зеленый костюм.
— Я прочла все до единой книги Эндрю Торпа, даже «Во второй раз — просто чудо», — сообщила она.
— А я с нее начала, — обронила Клер. — Прелесть! А уж как дочитала, взяла у мамы «Победитель, побежденный». Теперь читаю все остальные, от последней — к первой.
— Вот погоди, доберешься до «Убийства в Заливе»! — заметила Барбара. — Перл!
— А я один раз встречался с матерью, ну, с той самой, — вставил Дуайт. Центр внимания за столом мгновенно переместился: все головы повернулись к нему. — На благотворительном вечере в пользу Балета Сан-Франциско. Само очарование, а не дама. Поболтали с ней о выращивании герани.
Сильно сомневаюсь, что маму могло каким-то ветром занести на благотворительный вечер в пользу Балета Сан-Франциско. И точно знаю, что герань ее никогда не интересовала. Небось вычитал про мамино садоводческое хобби в книжке у Торпа. Тот на двух страницах расписывает затейливую планировку маминого сада, который она сама показала Торпу в тот раз, когда я позвала его к нам ужинать. «А интересно, — думала я, — Дуайт и впрямь считает, что встречал ее, или умышленно врет, для пущей важности?» С годами я обнаружила, что трагедия сродни землетрясению или теракту: никто не горит желанием испытать это на себе, но оказаться поблизости от места бедствия, стать его свидетелем многие не прочь.
Мэгги похлопала меня по руке:
— А вы читали?
— Очень давно.
— Ну и как вам?
Я глотнула воды. Кусочек лимонной мякоти застрял между зубами.
— Неплохо написано.
Не могла же я здесь и сейчас объявить, что по большому счету чертов «перл» — предательство моей семьи.
— Лично я уверена, — сказала Мэгги, — Торпу нипочем не написать другой такой же книги. — Она обернулась к Клер: — Это классика! Так в своей газете и напиши.
— Но ведь подобных романов-репортажей о настоящих преступлениях пруд пруди, — заметила я. — Чем же замечательно именно «Убийство в Заливе»?
Этого вопроса я еще никому не задавала. Когда в первый раз прочла книжку, мне тут же захотелось навсегда забыть про нее. Даже много лет спустя стоило заметить ее у кого-нибудь в руках (в автобусе, например) или наткнуться на подержанный экземпляр в книжном магазине, как самый расчудесный день можно было считать испорченным. Всякий раз, когда злосчастная книжка попадалась мне на глаза, в памяти всплывало одно и то же: серый родительский «вольво» выезжает со двора, чтобы отвезти маму и папу в Герневилль, в морг.
— Я когда читала, — заговорила Стелла, — у самой было такое чувство, будто побывала в том лесу, где бросили тело той бедняжки. У меня дочке тогда только-только десять стукнуло, так меня просто мороз по коже подирал. Я потом целую вечность места себе не находила, как отпущу ее куда из дома. Все думаю: вдруг и с ней что случится.
— Дело не только в этом, — откликнулась Мэгги. — Хотя и в этом тоже, конечно, — страшно, что такое может случиться с кем-то из близких. Но меня поразило другое — ощущение, будто я лично знала Лилу. Такая милая девушка, умница, с потрясающим будущим. Такой дочкой можно только гордиться. Отдаешь ребенку все: время, деньги, любовь, разумеется, возлагаешь на него все надежды. Я сама мать, и от одной мысли, что кто-то может поставить крест на всем этом, у меня душа холодеет.
— По крайней мере, это не было случайным нападением, — заметила Стелла. — Страшно даже подумать, что на тебя, упаси господи, может наброситься совершенно незнакомый человек.
Все дружно закивали. По-моему, Стелла, сама того не ведая, угадала главную причину успеха книги. Указав на Питера Мак-Коннела как на убийцу, автор словно успокаивал читателей: дескать, с вами ничего подобного приключиться не может. По Торпу, выходило, что насилие неумышленным не бывает, что с простыми, порядочными людьми, живущими простой, порядочной жизнью, таких вещей не случается. «В подавляющем большинстве случаев, — писал он в предисловии, — жертвы знают своих убийц».
По залу пролетел легкий шорох, я обернулась и увидела в дверях Эндрю Торпа.
Он похудел. Во времена нашего с ним знакомства Торп не страдал избытком веса, но выглядел эдаким крепышом — результат его нелюбви к пешим прогулкам и слабости к макаронам и пиву. Теперь он был подтянут, покрыт загаром и острижен под ноль. Плюс черные брюки в узенькую полоску, черная облегающая рубашка и короткие сапоги. Общее впечатление — ни дать ни взять Брюс Уиллис. Чего он, похоже, несколько стеснялся, будто наряд ему подбирал кто-то другой. Вид у нынешнего пятидесятилетнего Торпа был куда здоровее, чем у тогдашнего, тридцатилетнего.
Какая-то дама в желтом брючном костюме провела его к небольшому возвышению и представила публике.
— Встреча с вами для меня истинное удовольствие, — сияя улыбкой, начал Торп. — Когда целую вечность в полном одиночестве работаешь над книгой, а потом наконец выберешься в люди, чтобы поговорить о ней, такое чувство, словно освободился из тюрьмы!
Едва заметный прежде южный выговор Торпа теперь явственно усилился. «На публику работает, не иначе», — решила я.
— Кстати, о тюрьмах, — продолжал он. — Я только что вернулся из тюрьмы нашего штата «Залив Пеликанов», где посетил Джонни Граймса. Он, как вы помните, отбывает двадцатилетний срок за убийство второй степени Стейси Эверетта и Грэга Симмонса.
Зал закивал, приглушенно загудел. Официанты разнесли салат — горки латука, приправленного голубым сыром. Уж и не помню, когда в последний раз пробовала латук в ресторане. В каком-нибудь шикарном заведении я бы сочла это новомодным изыском, но здесь, уверена, блюдо стояло в меню десятилетиями. Ставя тарелочку с салатом перед Клер, официант стрельнул глазами за вырез ее блузки; Клер чуть наклонилась, чтоб ему было лучше видно.
Некоторое время Торп распространялся о том, как заинтересовался убийствами в Силиконовой долине. Упомянул о своей дружбе с семьями погибших. «Интересно знать, — подумалось мне, — а что они сами думают о характере их с Торпом отношений? Они впустили его в свою жизнь? Угощали его обедом, как мы, например? Показывали ему семейные альбомы, крутили домашнее кино про своих детей в прежние, счастливые времена? Сдается мне, имей они право голоса, эта книга никогда не появилась бы на свет».
Официанты убрали салатные тарелочки и принесли горячее — жареного цыпленка с рисом и брокколи. Торп закончил со вступлением и перешел к чтению. Не странно ли это — обгладывать куриные косточки, в то время как автор взахлеб читает одну из самых кровавых сцен своей книги? Это была первая глава. Как и в книге про Лилу, она начиналась с подробного описания мертвых тел, каким образом и где они были обнаружены. Его излюбленный, всеми признанный конек — по выражению одного критика, «бестрепетное изображение места преступления».
Торп читал, периодически поднимая голову, заглядывая в глаза слушателям. Я ждала, когда он заметит меня. Как он отреагирует? Смутится? Запнется на полуслове, потеряет место в книге? Но тут я поняла, что на самом деле в глаза-то он никому и не смотрит. Оглядывая зал, Торп скользил взглядом чуть выше уровня глаз собравшихся, то есть всего-навсего прикидывался, что контактирует с публикой. И я вспомнила, что он проделывал то же самое на занятиях. Он сам как-то признался мне, помешивая ложечкой мороженое: «Я жутко нервничаю, если смотрю в глаза студентам. Решил просто делать вид».
Подоспел десерт. Дамы накинулись на шоколадное суфле, и тут Торп объявил:
— Вопросы есть?
Руку подняла хрупкая женщина за соседним столом, Торп милостиво кивнул.
— Что в работе над этой книгой было самым трудным? — поинтересовалась та.
— Распутать весь клубок, — ответил Торп. — Когда пишешь роман, события, герои — все в твоей власти, можешь распоряжаться историей как тебе угодно. С документальным произведением не так. Ты целиком и полностью зависишь от фактов. Работая над книгой, я опросил десятки людей. У каждого имелась собственная версия произошедшего, и все версии были совершенно разными.
Кто-то полюбопытствовал, как его жена отнеслась к выходу «Во второй раз — просто чудо».
— Страшно обозлилась, — хмыкнул Торп. — А потом увидела гонорар.
Зал хохотал. Звенели вилки. Появились официанты с кофе.
— Как вы отыскиваете истории для своих книг?
— Не я ищу истории, — откликнулся Торп, — истории ищут меня. В данном случае, например, у меня был приятель, который работал в «Yahoo», как раз когда произошли убийства. Играем мы с ним как-то в гольф, и вдруг он начинает рассказывать о том, что вся компания буквально на ушах стоит из-за случившегося. Как все перепуганы, о воцарившейся в «Yahoo» атмосфере всеобщего недоверия. И я понимаю — вот готовое начало истории. Меня заинтересовали не столько сами убийства, сколько их последствия, не столько жертвы, сколько оставшиеся в живых, их взаимоотношения и перемены в них.
Наблюдая за тем, как Торп работает с залом, я старалась вспомнить — что именно тогда, давно, нашла в нем, отчего без утайки выложила ему такое, в чем не признавалась никому? Теперь его умение убеждать было на пике, словно последние двадцать лет он только и делал, что шлифовал его. В детстве, у себя в Тускалусе, он регулярно посещал воскресную школу при баптистской церкви и, надо признать, обладал неким проповедническим даром — эдаким наигранным, компанейским обаянием, заставлявшим всех внимавших ему чуть податься вперед.
В зале еще были поднятые руки, когда Торп с улыбкой сказал:
— Что ж, если больше вопросов нет… — И шагнул с возвышения.
Дама в желтом костюме ловко организовала очередь из желающих получить автограф.
Торп подписывал быстро, склонившись над столом, обменивался парой слов с каждым и с улыбкой пододвигал книгу. Очередь потихоньку двигалась, а у меня свело живот. Сколько раз за все эти годы я мечтала посмотреть ему в глаза, но что-то удерживало. Во-первых, я не была уверена, что не струшу в последний момент. А главное — какой смысл? Книга написана, ничего не исправишь. Что пользы — мне, родителям, Лиле — бередить рану? Теперь, однако, дело приняло другой оборот. Если книга насквозь лжива, как, например, обвинение Мак-Коннела, тогда предательство Торпа еще страшнее. Я должна была услышать от него самого, какова доля истины на этих страницах.
Подошла моя очередь. Не глядя на меня, Торп раскрыл книгу:
— Кому подписать?
Я промолчала.
— Мне надписать ваше имя или только расписаться? — с растущим нетерпением поинтересовался Торп и с застывшей над страницей ручкой поднял глаза.
Рот у него приоткрылся, но из горла не вырвалось ни звука. Торп отложил ручку и привстал было, но передумал и снова опустился на стул.
— Элли, я…
Впервые в жизни я видела, как Торп лишился дара речи.
— Привет.
— Привет, — еле слышно выдавил он с повлажневшими глазами.
Торп, которого я знала, никогда не позволил бы эмоциям настолько овладеть собой.
Он все-таки встал, распахнул руки и наклонился вперед. Сообразив, что он собирается меня обнять, я отшатнулась. Торп уронил руки, бросил взгляд на выстроившихся за мной нетерпеливых поклонниц и снова сел.
— Подумать только, это ты! Ужасно рад тебя видеть. — Он помолчал. — Надо же, ты совсем не изменилась.
Южный выговор практически испарился. На какой-то миг передо мной возник прежний Торп — тот, с которым я водила дружбу до того, как началась кошмарная история с книгой.
Дама в желтом костюме потянула Торпа за рукав:
— Мистер Торп, зал в нашем распоряжении только до часу.
— Да-да, конечно, — кивнул он, взяв себя в руки.
Он снова наклонился ко мне, словно хотел сказать что-то по секрету, хотя дама в желтом и вся очередь явно навострили уши.
— Слушай, я отсюда сразу в аэропорт — лечу в Нью-Йорк, но дня через два возвращаюсь. Позвони мне. — Он черкнул в книге номер. — Нет, лучше зайди. Нам надо столько наверстать.
Он уже строчил адрес.
— Приходи в любое время. Я серьезно…
Я подбирала слова для ответа, а дама в желтом, подхватив меня под локоток, уже тащила к выходу.
— Погодите. — Торп вышел из-за стола. — Поедем со мной в аэропорт. За обратную дорогу я заплачу.
Мне было не по себе рядом с ним в переполненном зале. А каково будет бок о бок в тесном такси?
— Мне надо на работу, — сказала я.
— Ты придешь ко мне?
— Не знаю.
— Придешь, — уверенным, окрепшим голосом заявил он. — Я возвращаюсь во вторник.
И вот я стою перед рестораном, в грохоте уличного движения, с последним шедевром Торпа в руках, а в душе — с теми же чувствами, что и много лет тому назад, когда он звал меня в тумане на берегу океана, только что объявив: он опубликует книгу, несмотря ни на что. И тогда, как и сейчас, последнее слово осталось за ним. Талант у Торпа такой — каждую свою историю, каждый разговор, в котором принимает участие, заканчивать на своих условиях.
Восемнадцать
«Каждое событие человеческой жизни, — повторял Торп, — имеет свою историю. Для каждого чувства, для каждой тайны, для каждой временной точки прошлого имеется свое повествование, цель которого — растолковать суть».
Само собой разумеется, есть своя история и у кофе. Мне поведал ее Генри, на втором свидании. Мы всего несколько дней как познакомились в конторе нашей кофейной компании, куда Генри недавно устроился на работу в отдел продаж. А начинал он складским рабочим в «Валлийском кофе» в Сан-Матео, еще школьником. В Сан-Франциско он почти все свободное время отдавал защите фермерских интересов. В те времена среди городской молодежи развелось столько до неприличия богатых парней, что встретить кого-то, кто откровенно плевал на финансовую выгоду, — по крайней мере, на свою собственную, — было сродни чуду.
Историю кофе Генри рассказывал не за чашкой кофе, а за кружкой пива в «Клубе 500». Он был знатоком и ценителем высокой кухни, раз в год раскошеливался на обед в ресторане «Chez Panisse»[32] и при этом питал слабость к дешевым пивнушкам. Потом он признался, что визит в «Клуб 500» был своего рода испытанием.
— Если б ты стала фыркать на красные виниловые кабинки и бильярдный стол, — сказал Генри, — значит, ты не для меня.
Но меня слишком занимал сам Генри, чтобы обращать внимание на декор. При росте в 178 сантиметров он держался гораздо увереннее многих более высоких мужчин. У него были рыжеватые волосы, голубые как небо и такие же прозрачные глаза и молочно-белая кожа, которая на солнце моментально обгорала. Из-за добродушной, кривоватой улыбки Генри казался застенчивее, чем был на самом деле. Он редко надевал что-нибудь кроме джинсов и темных свитеров, но обувь подчас выбирал рискованную. В день нашего знакомства на нем была пара башмаков из чего-то глянцево-черного, смахивающего на конский волос. Он так их и назвал: «мои конские бутсы», а уж потом заверил, что при их изготовлении не пострадала ни одна лошадь. На людях Генри изъяснялся приятно звучным голосом, притягивавшим к нему внимание, а наедине со мной говорил так тихо, что приходилось переспрашивать.
— История эта начинается в Абиссинии, в девятом веке, — говорил Генри. На столике между нами стояли два пива. Чтобы лучше слышать, я подалась вперед. — И начинается она с молодого козопаса по имени Кальди и его коз, которые однажды вечерком взбунтовались и отказались идти за пастухом домой. Их, видишь ли, крайне заинтересовала новая находка — дерево с темными блестящими листьями и красными ягодами. Кальди никогда еще не видал такого дерева. Битый час козы не могли оторваться от дерева — все ели, ели. Насилу Кальди уговорил их спуститься с горы.
Увлекшись, Генри принимался жестикулировать. Работа у него была чистая, бумажная, а ладони — грубые, мозолистые, как у какого-нибудь работяги. Позже я узнала, что он подрабатывал грузчиком — копил деньги на собственное дело.
— Козы не спали всю ночь, — продолжал Генри. — А на следующее утро, когда Кальди вновь привел их на горное пастбище, козы сразу бросились к тому самому дереву. Наш Кальди был любопытен как прародительница Ева, он тоже решил отведать ягод странного растения. И ощутил удивительную бодрость, почувствовал себя сильным и умным. Вернувшись домой, Кальди рассказал своим домашним и друзьям о том, что испытал. Недели через две дервиши соседнего монастыря обнаружили, что если жевать листья таинственного растения, то можно меньше спать и больше времени уделять истовому служению Богу.
Спрашивается, а сама-то я что? Столько лет проработать в «Золотых Воротах» и не удосужиться порыться в библиотеке! Со временем я поняла, что Генри обладает тем, что я утратила давным-давно, — страстью к деталям, острой памятью не только на даты и географические названия, но и на курьезы, которые, собственно, и делают историю уникальной. Он не пропускал деталей, потому что ему все было интересно, задавал вопросы и намертво запоминал занятные вещи, делясь ими с другими, повторяя до тех пор, пока история не становилась его собственной. Я брела по жизни, как по чужому дому, стараясь не потревожить пыли, не наткнуться на мебель. Генри же, наоборот, все ощупывал, брал в руки, прикидывал на вес.
— Хотела бы я быть такой, как ты, — сказала я ему однажды, примерно через полгода после нашего знакомства. — Мчаться по жизни, особо не зацикливаясь.
— А что тебе мешает? — осведомился он.
Мы лежали в постели лицом к лицу, в одежде (холодно было), он не сводил с меня выжидательного взгляда сияющих голубых глаз.
— Сама не знаю.
Казалось, он постоянно ждет от меня каких-то слов, но слова будто застревали в горле, и сил не было заставить себя сполна раскрыть свои мысли. Я искренне старалась, но на всю правду без остатка отважиться не могла.
Мы оба смолкли, просто лежали рядышком, не касаясь друг друга. Я прикрыла глаза и уже было задремала, как вдруг его голос вернул меня к действительности:
— А знаешь, ты нисколько на нее не похожа.
— Что?
— На девушку из книги. У нее твое имя, твоя история, твое лицо, но она — вымысел. Ее выдумал Эндрю Торп. Ты — не она.
Ах, как мне хотелось верить ему, но… Право же, разве Генри мог знать меня лучше Торпа? Тому ведь я все рассказала.
— А кто же я?
На ответ я не рассчитывала.
— Ты — это ты, — откликнулся он не медля ни секунды. — Ты — Элли Эндерлин, и я люблю тебя.
— Правда?
Еще ни разу Генри не говорил мне о любви. Я разделяла его чувства, но открыться, вот так сразу? Нет, рановато, пожалуй, для столь громких заявлений. Таких слов назад не возьмешь.
— Правда.
И снова замер в ожидании. Я изо всех сил пыталась набраться смелости, но слова не шли с языка. За одно я буду вечно благодарна Генри: он не отвернулся. В ту ночь я не сумела сказать, что люблю его, и все же он обнял меня, крепко-крепко. Мне стало тепло и покойно — впервые за всю свою взрослую жизнь я почувствовала себя как за каменной стеной.
Девятнадцать
Прекрасный вид — вот что в конце концов оказалось для нас решающим.
Олдос Хаксли. «Юный Архимед»Я свернула с Рыночной улицы. Извилистая дорога, обставленная домами 60–70-х годов, вела вверх, к району Алмазные Высоты. Мне всегда нравился этот вскарабкавшийся на гору квартал; было в нем что-то от предместья, затерявшегося посреди города. Ночь перевалила за середину, крутые улицы были темны и пустынны. Торп, конечно, глаза вытаращит, когда увидит меня на своем пороге, а мне это только на руку. Ночью у меня мозги лучше работают и я сама с собой в ладу. Если Алмазные Высоты — территория Торпа, то полночь — моя.
Дом Торпа — двухэтажное творение Эйчлера[33] с нависшими над серым фасадом белыми стропилами кровли — примостился на самой макушке холма Ред-Рок. Японский клен и два-три кустика лаванды, высаженные в треугольном палисаднике, несколько прикрывали дом от чужих взглядов. Я затормозила у обочины, пару минут, собираясь с духом, посидела в машине, затем подошла к двери и позвонила. Раздались шаги. Дверь распахнулась, передо мной стоял Торп — в полосатом халате, голова (за исключением обширной лысины на темени) покрыта сивой щетиной, под глазами темные мешочки. От него попахивало лекарствами.
— Элли? — Он потер глаза. — Ты что тут делаешь?
— Вы говорили, что можно зайти в любое время.
Он ухмыльнулся, сказал нетвердо:
— Верно, говорил. Заходи. Я сварю кофе.
Через необозримый холл, где в каменном фонтанчике журчала вода, мы прошли в просторную гостиную с цельным, от пола до потолка, стеклом вместо дальней стены. Перекрестья белых стропил образовали высокий потолок. Мне, выросшей в прелестном, но тесном викторианском домике в рабочем квартале Ной-Вэлли, особняк на холме представился воплощенной мечтой. Но, боже, во что превратил его Торп! На великолепном паркете — истертые турецкие половики темно-красных и грязно-коричневых тонов, стеллажи по обеим сторонам камина завалены журналами и безделушками, плоский телевизор засунут в необъятный шкаф красного дерева, из распахнутых дверей которого едва не вываливаются груды пыльных кассет. Два дивана, кожаное кресло с подставкой для ног, журнальный столик и штуки две непарных стульев тонули под кипами газет и журналов. Даже стеклянную стену загораживала огромная бамбуковая этажерка. Джозеф Эйчлер, надо думать, не раз в гробу перевернулся.
Весь дом провонял застарелым табаком, я приметила в разных местах две-три пустые пепельницы.
— Вы снова начали курить? — спросила я.
— Теперь уже нет. Держусь почти два месяца, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! А пепельницы — визуальная методика. Мне инструктор-психолог предложила, чтоб легче было завязать с куревом.
— Инструктор-психолог? Всегда хотела узнать, что у них за клиенты.
— Пришлось нанять, когда накатил жуткий писательский ступор.
— И что, помогло?
— Спроси через месячишко. Мы пока еще на девятой неделе — очищение среды обитания, — он беспомощно обвел рукой комнату, — но с этим, похоже, у нас вышла осечка. Десятая и одиннадцатая неделя — духовное пробуждение. И только следующая остановка — писательский ступор. Она говорит, мы должны потихоньку двигаться от простого к сложному. Лори Джордано у нас строга, но дело знает. Напомни мне дать тебе ее визитку.
Я осталась в гостиной, а Торп отправился на кухню варить кофе. Лишь длинный, низенький стол отделял кухню от гостиной. В раковине гора грязной посуды, дверцу холодильника сверху донизу залепили газетные вырезки, календари, рецепты, открытки и фотографии. Торп пошарил в одном ящике, в другом и в итоге объявил:
— Куда-то запропастились фильтры для кофеварки. Придется нам обойтись чаем.
— Надеюсь, ваша жена не рассердится, что я заявилась на ночь глядя, — сказала я. — Просто была тут неподалеку.
— Жена?
— Я видела в книжном «Во второй раз — просто чудо».
— Ах, это. Откровенно говоря, второй раз оказался не таким уж чудом. Джейн подала на развод через месяц после выхода книги.
— Печальное известие.
— Опру[34] оно, похоже, тоже сильно огорчило, — усмехнулся он. Я, можно сказать, вплотную подобрался. Мог стать вторым Дипаком Чопрой[35] или доктором Филом[36], кто знает? Но не все потеряно, всегда можно написать другую книгу, верно? — Он махнул рукой в сторону общего бедлама гостиной: — Присядь, а то я нервничаю.
Я расчистила себе местечко на диване. Подушки подо мной опустились чуть не до полу, колени задрались к подбородку. Пахло чем-то странным. Я принюхалась — тошнотворный ванильный запах шел от непомерно большой, телесного цвета свечи на журнальном столике.
— Извини, блюдечек не нашел. — Торп протянул мне дымящуюся кружку с эмблемой какого-то кливлендского отеля.
Он устроился напротив меня в кресле, натянул на колени полы халата. Ворот распахнулся, и открылся бледный сосок в обрамлении завитков черных волос. Над головой Торпа возвышалась искусственная пальма, на стене висели маски с жутким и страдальческим выражением на деревянных физиономиях. На память пришел полковник Курц[37] в джунглях. Вспомнилась хмельная ночь, которая почти двадцать лет назад привела меня в постель этого человека. Любовником он оказался старательным и неловким; плохо закончилась та ночь. Тогда, как и сейчас, все казалось каким-то невзаправдашним. Я давно усвоила: в жизни случаются фантастические, выбивающие из колеи встречи, они могут быть забавными или угнетающими, как посмотреть; насчет нынешней еще предстояло решить.
— Жаль, что ты меня заранее не предупредила, — заговорил Торп, поглаживая себя по седой щетине на голове. — Я бы прибрался. Как видишь, у меня не часто бывают гости.
От южного говора не осталось и следа; как я и думала, он был всего лишь частью спектакля.
Кресло Торпа было довольно высоким, а диванные подушки — слишком мягкими, в результате глаза у меня оказались вровень с его ступнями. Зря я сюда пришла. И ночь не помогла. Я прочистила горло и… промолчала, не зная, с чего начать.
— Сколько же лет прошло? — сказал он.
— Много.
— Я скучал по тебе, Элли. Очень скучал. У нас с тобой не сложилось, а жаль. Я переживал наш разрыв, ты себе и представить не можешь как.
— Вы сами этого захотели, — заметила я.
— Ничего подобного.
— Я умоляла не писать о нас.
Торп оттолкнул от себя подставку, опустил ноги на пол, подался вперед.
— Верно, но клянусь, я не хотел обидеть ни тебя, ни твою семью! Я тогда дошел до ручки, спасти меня могла только книга. Я тебе никогда не рассказывал, как решился написать ее?
Я покачала головой:
— Нет.
— Дело было вечером в субботу. Я только что три часа проторчал на собрании кафедры, слушая, как коллеги препираются по поводу рассказа, который следует выбрать для контрольного сочинения, — «Ежедневное использование» Эллис Уолкер[38] или «Холмы как белые слоны» Хемингуэя? Я не шучу — три часа кряду. Где-то на середине собрания я отвлекся, задумался о Лиле, о твоей семье. Подумать только, никого так и не арестовали! Сижу, а какой-то взвинченный малый в водолазке распинается о том, что не следует пренебрегать классикой, а новенькая с курсов женских исследований талдычит про замалчивание писательниц-феминисток… И тут до меня доходит, что если мне и через пять лет придется слушать то же самое, удавлюсь! Тогда я отключился и принялся писать. Когда объявили перерыв, у меня уже было готово шесть страниц. Дома я их перечитал и понял: здорово может получиться. Если бы я упустил тот шанс, я бы по сей день ютился в крошечной квартирке, проверял сочинения первокурсников и как курица с яйцом носился с рассказом Хемингуэя, который, если на то пошло, мне никогда не нравился.
— То есть вы снова так поступили бы?
Он не ответил. Довольно красноречивое молчание. Торп допил чай, поставил чашку на стол.
— Я думал о тебе все эти годы, Элли.
— Меня не так сложно найти.
— Ошибаешься.
— Ну, у вас наверняка имеются возможности. Не говоря о том, что до прошлого года моя мама жила здесь по-соседству.
— Что? Мне явиться на порог к твоей матери? Ну нет, я все надеялся, ты сама как-нибудь заглянешь. Знал ведь — сделай я первый шаг, ты меня пристрелишь. Ты так недвусмысленно дала понять, что ничего общего иметь со мной не желаешь.
Что верно, то верно.
— Слушай, — пробормотал он, — пойду-ка я переоденусь.
— Что?
— Да неловко мне сидеть перед тобой в этом халате. Если откровенно, нелегкая выдалась неделя. Новая книга, понимаешь. От стола не отходил. Вот и когда ты позвонила, наверху был, писал, — во всяком случае, пытался…
Он поднялся на ноги.
— Будь как дома. Походи, посмотри. Может, найдешь что-нибудь интересное, кто знает.
— Вы серьезно?
— Ешь что хочешь, пей что хочешь, читай почту, ройся в шкафах. Только не уходи!
И он не шутил. Все-таки недаром мы с ним отменно ладили в те давние времена. С ним было легко разговаривать. Он никогда не жалел своего времени. Я ему нравилась. Когда мы с ним встречались, мне было решительно наплевать, как я выгляжу; когда разговаривали — не боялась ляпнуть что-нибудь не то и всегда была уверена, что он меня слушает. Дух товарищества, подлинная свобода, которую я испытывала подле него, — вот что делало его предательство таким горьким.
Услышав, как наверху захлопнулась дверь, я направилась на кухню — изучить коллекцию фотографий на холодильнике. Это были моментальные снимки самого Торпа в компании местных знаменитостей — бейсболиста Барри Бондса и футболиста Джима Митчелла, его собрата по перу Армистеда Мопина и Билла Гейтса, а также представителей прессы общегосударственного значения. Белобрысого малого из «60 минут» я сразу узнала. Календарь с рожицами «Симпсонов» был открыт на июне месяце, от которого осталось одно воспоминание, почти все клеточки заполнены. Выступления на радио, публичные чтения, посещения книжных клубов, благотворительный обед в пользу какой-то начальной школы… Что это, интересно, за школа, которой понадобилось приглашать автора криминальной документалистики, чтобы собрать деньги на карандаши и «шведскую стенку»?
Пробковая доска над рабочим столом вкривь и вкось утыкана корешками от билетов на десятка два фильмов («Жизнь других», «Тринадцать друзей Оушена», «Шрек») и на концерты джаза и рока (группа «Шуга де Пальма» в зале «Рокит Рум», Уолти в отеле «Юта», Стив Форберт в Мюзик-холле, группа «Полифоник Спри» и Пилар Дана в клубе «Слимс»). А вот двухдневный пропуск на джазовый фестиваль в Новом Орлеане за 2003 год. Музыкальные пристрастия Торпа произвели на меня должное впечатление. Кто бы мог подумать, что на этом фронте у нас до сих пор так много общего. И тут я обнаружила корешок от билета на концерт-возвращение группы «Джорни». За 115 долларов.
И еще: годичной давности чек на 800 долларов за пальто, купленное у «Неймуса Маркуса»[39] (должно быть, хотел вернуть обновку, да так и не собрался). На открытке с Гавайских островов, адресованной «мистеру и миссис Торп», от руки было нацарапано: «Не забыть: наш медовый месяц». И подпись: «Джейн и Энди». Очевидно, они не последовали собственному совету.
Я поднялась на второй этаж, прошла мимо закрытой двери, за которой раздавались шаги Торпа. Приятно было вот так свободно разгуливать по его дому. Я пришла с намерением добиться ответов на свои вопросы, но нескольких минут, проведенных с Торпом, хватило, чтобы убедиться в том, в чем я не сомневалась с самого начала, — не так-то легко будет задать простой вопрос и получить прямой и честный ответ. За неряшливостью и неорганизованностью Торпа скрывался хитрый, изворотливый ум.
Повернув направо, я очутилась в квадратной комнате с большим металлическим письменным столом, к торцам которого приткнулись картотечные ящики. Сам стол был придвинут к широкому окну. Повсюду книги и бумаги, стул завален папками. На столе, поверх стопки бумаг, — бинокль. На паркете виднелись круги от стоявших здесь некогда горшков с цветами. Я щелкнула выключателем, но ничего не произошло.
У себя в комнате по-прежнему расхаживал Торп, выдвигал и задвигал ящики, чертыхался вполголоса. Журчал фонтан в холле.
Меня поразила тишина в доме. Я давно привыкла к постоянному шуму соседей — то загремят двери гаража, то зашумит вода в трубах, то разорется телевизор. И неважно, хорош или плох сам дом, высока или низка квартирная плата, от этих звуков никуда не деться. Если мне когда-нибудь доведется перебраться в приличный дом (чтоб ни за одной стеной ни одной живой души), у меня, наверное, мурашки по коже поползут от тишины. Люблю ощущать близость соседей, даже тех, с которыми незнакома. Случись что, всегда есть кого позвать на помощь. Образ Лилы, один на один с убийцей, вечно маячил на периферии моего сознания. Лес, тишина. Закричи она, никто бы не услышал. Город, по крайней мере, создает иллюзию безопасности. И вот вам жилище Торпа. Кто бы мог подумать, что в самом сердце Сан-Франциско существуют такие уединенные дома — хоть охрипни, ни до кого не докричишься. Несмотря на потрясающей красоты виды и удачное расположение, было что-то жутковатое в здешних, продуваемых всеми ветрами местах. По этой причине, надо полагать, Алмазные Высоты и стали застраиваться в самую последнюю очередь.
Опираясь на стол, я выглянула в окно. В гостиной окна смотрели на север, а здесь, в кабинете, выходили на запад. Дом стоял на крутом, лесистом холме. Дальше, за холмом, в мутном свете фонарей поблескивали асфальтом улицы Ной-Вэлли. Мне стало не по себе, отчего — я не могла взять в толк. Лишь смутное ощущение: что-то не так. Я сняла папки со стула и, присев к столу, уставилась в ночь за окном. На склоне холма, примерно на полпути к подножию, кто-то разбил временный лагерь. Мигал огонек сигареты. Обычное дело для безумного Сан-Франциско — бродяги живут чуть ли не под стенами домов миллионеров. За забором у подножия холма приютилась маленькая детская площадка, дальше протянулась узкая улочка, обставленная с обеих сторон викторианскими домиками, стена к стене. Подобных улиц в Ной-Вэлли более чем достаточно, но я похолодела, вдруг осознав, что это не просто одна из улочек квартала. Отсчитала от углового дома пять домов направо. В комнате на втором этаже шестого дома горел свет. В окне появилась фигура человека и замерла, как на фотографии. Схватив бинокль, я прижала его к глазам и в смятении закрутила головой — перед глазами плыли несуразно увеличенные предметы на столе Торпа. Но вот и дом, и окно. С внешней стороны к раме приколочена деревянная кормушка для птиц. Я узнала ее сразу — викторианский домик в миниатюре, зубчатая крыша, малюсенькая красная дверца. Каждое утро, ровно в десять, к ней прилетал колибри с синим переливающимся горлышком. А чистила кормушку и следила, чтоб не кончался нектар, Лила. Когда она умерла, я забывала наполнять кормушку, и птичка перестала прилетать.
Я смотрела на свою собственную комнату. Ничего не скажешь, прекрасный вид у Торпа. Перед моим бывшим окном, скрестив на груди руки, стояла женщина в салатовом халате, примерно моих лет. Вдруг она шевельнулась, приветственно взмахнула рукой. Это она мне? Нет, на улице, под окном, ей в ответ махал какой-то мужчина. Не уверена, но, кажется, это был мой прежний сосед.
Двадцать
Я почувствовала, что он рядом, прежде чем услышала шаги. Прошло несколько секунд. Я все ждала, что он подаст какой-нибудь знак. Напрасно. Не выдержав, я обернулась — Торп стоял в дверях и смотрел на меня. На нем были холщовые брюки, белый, крупной вязки свитер и кожаные сандалии. Он начисто выбрил голову и благоухал лосьоном — смесь флердоранжа, мускуса, кожи, с нотками пачули и бобов-тонка. Знакомое амбре, только никак не вспомнить — откуда.
На моих глазах Торп преобразился в третий раз за несколько последних дней. Теперь он даже отдаленно не напоминал того, кто полчаса тому назад открыл мне дверь. И его манера держаться тоже претерпела изменение — появилась некоторая развязность. Наряд, лосьон, гладкий и блестящий череп — общее впечатление, что этот человек намерен повести меня на воскресный обед в дорогой загородный ресторан.
Он пересек комнату и кинул взгляд в окно, в сторону моего дома. Мгновение мы стояли рядом в темноте. Его рука коснулась моей, я отстранилась.
— Лампочка перегорела, — сказал он. — Погоди-ка.
Через пару минут он вернулся, забрался на стул и, повозившись с патроном, вручил мне старую лампочку. Я сунула ее в переполненную мусорную корзину, обтерла грязные пальцы об джинсы.
— Сколько нужно ирландцев, чтобы вкрутить лампочку? — спросил он, когда новая лампочка, мигнув, загорелась.
— Сдаюсь.
— Двое. Один держит лампочку, а второй пьет виски, чтобы комната пошла кругом.
— Неплохо.
Он стоял передо мной, подбоченясь, чуть запыхавшись от усилий.
— Сколько вы тут уже живете? — поинтересовалась я.
— Почти десять лет. — Он был так близко, что я чувствовала запах его зубной пасты. — Прекрасное вложение капитала, как оказалось. Мне дом достался за четыреста тысяч долларов, а в прошлом месяце развалюшку на той стороне улицы продали за миллион семьсот!
— Могли бы переехать в теплые края и наслаждаться бездельем.
Я подумала о Питере Мак-Коннеле в далекой Никарагуа. Что-то он сейчас поделывает? И что бы сказал, узнай о моей вылазке на Алмазные Высоты к человеку, загубившему его жизнь?
— Угу, — хмыкнул Торп. — А как же мои поклонники?
— Писать можно везде.
— Так-то оно так, но дело ведь не только в этом, верно? Ты можешь написать самую расчудесную книгу, но если не станешь давать интервью, сниматься для журналов, появляться на книжных ярмарках, то труд будет забыт, твои читатели испарятся, а ты останешься один на один с чистым листом бумаги.
— Вы потому этим и занимаетесь? Чтобы не остаться в одиночестве?
— А разве, по большому счету, не это движет всеми людьми? — Он бросил взгляд в окно, затем снова на меня. — У тебя кто-нибудь есть?
— Постоянно — нет.
Такой оборот беседы был мне не по душе, но как повернуть его в нужную мне сторону? Я ведь пришла поговорить о Питере Мак-Коннеле, а окно сбило меня с толку. Я представляла, как Торп, устроившись за столом, следит за домом моего детства. Всего год назад он спокойно мог видеть, как по утрам из гаража выезжает моя мама, как она, закинув за спину коврик для йоги, неторопливо бредет по улице на свои субботние занятия.
И разумеется, каждый четверг он мог видеть меня, поскольку каждый четверг я приходила поужинать с мамой. Приезжала к шести, и мы с ней выпивали по бокалу вина — в гостиной или на террасе за домом, в зависимости от погоды. В половине седьмого отправлялись к «Алисе», на углу Двадцать девятой и Санчес, где заказывали китайские пельмени, цыпленка с апельсином, креветок под чесноком и китайскую капусту. Примерно через час мы взбирались по крутой улице к маминому дому и на две-три минуты задерживались на тротуаре, прощаясь. Так у нас повелось с тех пор, как папа переехал после развода, и я свято блюла традицию, если только не уезжала в командировку или не отвлекалась на неотложные дела. Нам обеим это было необходимо. Когда мама продала дом и перебралась в Санта-Круз, я по четвергам чувствовала себя щенком, брошенным на произвол судьбы. Наши ужины были неизменной частью моей жизни так долго, что я не знала, чем себя занять. В конце концов стала заполнять освободившееся время всякими уроками — бикрам-йога, разговорный русский, итальянская кухня, даже танцы хип-хоп, — но все было не то. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, — это сидеть в моем старом доме, с мамой, и, перескакивая с одного на другое, болтать о прошедшей неделе. Только на наших четверговых ужинах я могла быть сама собой, расслабиться и не держать постоянно ухо востро. А теперь оказывается, что Торп все время был рядом, следил, должно быть, за нами со своего холма. Это все меняло.
Мой дом торчал у нас перед самыми глазами, и заговорить об этом было только естественно, но Торп преспокойно промолчал. Снова его манера направлять разговор в нужное ему, Торпу, русло.
— Когда-то давно, еще до знакомства со своей бывшей женой, Джейн, я какое-то время встречался с одной женщиной, — заговорил Торп. Он сидел на краешке стола, вытянув и скрестив ноги, спокойно свесив руки вдоль тела, — эту позу я помнила еще по университету. Я присела на стул. — Ее звали Флоренс, а я называл Фло. Месяца через два после того, как мы сошлись, я повел ее на званый ужин к одному бывшему коллеге, Пио Шункеру. Помнишь его?
Я порылась в памяти.
— Да, симпатичный такой парень с неуловимым акцентом, он еще обожал боевики. Вел у меня английскую литературу двадцатого века. Что с ним сталось?
— Забросил науку и занялся рекламой, но речь не об этом. Итак, отправились мы в гости; и вот сидим после ужина в гостиной, пьем кофе, и вдруг Пио обращается к Фло: «Странное дело, как только вы вошли, мне сразу показалось знакомым ваше лицо. Весь вечер ломал голову, а сейчас сообразил». Тут он оборачивается ко мне и спрашивает, знаю ли я, кого он имеет в виду. Разумеется, я знал, — продолжал Торп, — но Фло я об этом никогда не рассказывал и прикинулся, что понятия не имею. «Вы очень похожи на одну нашу с Энди студентку, — говорит Пио, — на Элли Эндерлин».
Я слушала его, глядя в окно. В моем доме, в комнате наверху, погас свет. Торп встал и принялся ходить из угла в угол. Комната была невелика и сплошь заставлена мебелью, три-четыре шага — и приходилось поворачивать обратно.
— Я что хочу сказать. Ты была нужна мне.
Слишком откровенно, слишком поспешно.
Я инстинктивно подалась назад, откатилась на стуле.
Торп подступил ближе.
— Нет, не в этом смысле, — пробормотал он, читая мои мысли. — Хотя я не возражал бы — до сих пор не могу забыть ту ночь, что мы провели с тобой. Это было потрясающе!
Я еще отодвинулась. И снова Торп шагнул ближе. Спинка стула уперлась в книжные полки, я снизу вверх смотрела на него, на его усталое, бледное в безжалостном свете новой лампочки лицо.
— Ты была удивительной, такой открытой…
У меня остались иные воспоминания от той ночи в его квартирке в парке Долорес. Неудавшаяся лазанья, не успевший оттаять клубничный десерт, вторая бутылка вина, которую мы приканчивали, пока я ломала голову, как бы убраться подобру-поздорову.
— Но я согласился бы ни разу не притронуться к тебе, лишь бы ты осталась в моей жизни. Не в качестве любовницы, нет, гораздо больше — в качестве друга, музы. Тебя не было, и я нашел кого-то похожего на тебя. — Он перестал метаться по комнате. — Забавно, правда? Трагикомедия, да и только. А кстати, у меня есть фотографии. Пойдем-ка.
Я не успела возразить, а он уже вышел из комнаты. По коридору я прошла за ним в спальню и с удивлением обнаружила, что там прибрано. На постели недавно спали, но только на одной ее половине покрывало откинуто; другая половина застлана, с аккуратной горкой подушек. На прикроватной тумбочке лишь стопка книг, по следам на ковре заметно, что его не так давно пылесосили. В углу у окна — черное кожаное кресло на колесиках, с перекинутым через спинку шерстяным пледом. Высокий современный торшер струил мягкий свет. И это тоже отвечало моим представлениям о прежнем Торпе. Лишь только мне начинало казаться, что я окончательно поняла его, открывалась совершенно новая черта его характера и приходилось все пересматривать сызнова.
— Не надо так удивляться, — сказал он. — Хотя бы одну комнату в доме я в состоянии держать в чистоте. Мне лучше спится, когда ничто не отвлекает.
Он вытащил из комода кожаную шкатулку, положил на кровать и снял крышку. Шкатулка была битком набита фотографиями. Торп принялся перебирать их, одну за другой.
— Где-то здесь точно должен быть один снимок, — бормотал он себе под нос. — Вы как две сестры.
Он рылся в ворохе фотографий, и мне на глаза попались его детские снимки, главным образом, в кругу семьи — каникулы в Диснейленде и в «Шести флагах»[40], возле рождественской елки, поляроидный снимок юного Торпа и молодой женщины в шапочке и мантии (должно быть, на выпускном вечере в школе). Я не успевала ничего толком разглядеть, передо мной словно в режиме быстрой перемотки прокручивалась вся его жизнь. Тогда, давно, я часами изливала ему душу, поверяя самое сокровенное, а он не рассказывал о себе почти ничего. В шкатулке имелась целая серия фотографий в гондоле, и на каждой — а было их штук двадцать, не меньше — Торп восседал с новой девушкой.
— Где это? — Я взяла у него из рук один снимок.
На нем девушка была светленькой, пухленькой, хорошенькой; красно-белый полосатый сарафан и белые кеды — ни дать ни взять фермерская дочка из анекдота.
— Ах, это. Прогулка на гондолах в гавани Марина-дель-Рей. Я когда учился в аспирантуре, часто возил сюда девушек на первое свидание. Им это нравилось, а меня устраивала стабильность. Я считал, что если поставлю их в равные условия — ресторан, прогулка на гондоле, — то будет легче сравнивать.
— Ну и как, помогло?
— До второго свидания дело ни разу не дошло. Ни одна из них меня не вдохновила.
Он еще покопался в фотокарточках и наконец нашел то, что искал.
— Вот, — он сунул карточку мне в руки. — Это Фло.
Снимали на стадионе Кэндлстик-парк. Фло сидит на скамейке трибуны, с сосиской в одной руке, стаканом пива в другой, и, улыбаясь, смотрит прямо в камеру. Судя по ее пальто и шарфу, типичный для Кэндлстик денек: с залива задувает холодом и сыростью. Когда мы с Лилой были маленькими, родители иногда водили нас сюда, но я не была настолько горячей болельщицей «Гигантов»[41], чтобы мириться со здешней холодрыгой. Когда в 2000 году «Гиганты» перебрались в Чайна-Бейсин, где погодные условия более приемлемые, я стала ходить на их игры регулярно.
Но этот снимок сделали не в Чайна-Бейсин, а в Кэндлстик. Девушка на нем была миниатюрной, с рыжеватыми волосами и ямочками на щеках, но на этом сходство и кончалось. Не были мы с ней похожи. Торп все напридумывал.
Он присел на кровать и, потянув меня за руку, усадил возле себя.
— Ты, Элли, стала для меня поворотным моментом. Кто я был? Несостоявшийся писатель. Работа осточертела, впереди пустота. Но появилась ты — и все переменилось. Если бы не ты, история Лилы осталась бы для меня всего-навсего газетной заметкой — прочел и забыл. Благодаря тебе я бросил болтать о книге, а сел и написал ее. Ты стала моей музой. Без тебя я погибал как рыба на песке.
— Вы написали еще четыре книги.
— Да, но это другое. Именно поэтому все говорят, что первая книга — лучшее мое произведение. Остальные книжки вымученные. Грамотные — да, потому как я уже поднаторел в своем деле, но вымученные. Каждое предложение давалось с превеликим трудом. А «Убийство в Заливе» текло само собой. Днем я встречался с тобой или хотя бы общался по телефону, а ночью писал, окрыленный нашими беседами.
— Вы кое-что упускаете, — заметила я.
— Хм-м?
— Все то время, что я говорила с вами о Лиле, о своей семье, вы использовали меня. Я вас считала другом, а вы меня — источником информации.
— Ты не права! — Он всем телом повернулся ко мне. — Люди помнят имя Лилы. И двадцать лет спустя говорят о ней. Любят ее! А не будь книги, она так и осталась бы просто убитой девушкой, одной из многих.
— Это не любовь, а любопытство, — сказала я. — Для них Лила — всего лишь мертвое тело, кем-то найденное в лесу; катарсис. Каждый, кто читает книгу, радуется, что это не его дочь, или подружка, или сестра. Чужая трагедия. Ваши читатели наслаждаются зрелищем, ничем не рискуя.
— Ты ошибаешься, — Торп покачал головой, — все совсем не так.
Судя по всему, он верил в то, что говорил. Верил, что превратил Лилу в кумира публики. По его версии, он не сделал ничего дурного.
Двадцать один
В два часа ночи мы с Торпом сидели друг против друга у большого стеклянного стола с недоеденной пиццей и почти пустой бутылкой вина. Ему непременно нужно было накормить меня, а единственное, что сыскалось в доме из съестного, — замороженная пицца со шпинатом и артишоками. Она оказалась на удивление вкусной, а я на удивление голодной. Вино было восхитительным, пино 2003 года. Чувствовалась малина, дымок. Я налила себе второй бокал. Торп приканчивал третий.
Все было переговорено, а ответов на свои вопросы я так и не получила. Стоило попытаться свернуть разговор на Питера Мак-Коннела, как Торп уходил в сторону и заводил речь о чем-нибудь другом. Мы обсудили его недавнюю поездку в Лиссабон, разгневанное письмо от его второй и теперь уже бывшей жены (той, что увековечена в книге «Во второй раз — просто чудо»), потолковали о ранней работе венгерского фотографа Мартина Мункачи, приобретенной Торпом за изрядную цену. Года два тому назад в сан-францисском Музее современного искусства мне довелось видеть лаконичные черно-белые фотографии Мункачи. На выставке были представлены известные портреты американских знаменитостей, воздушные снимки женщин-летчиц и хрестоматийные «Три мальчика на озере Танганьика». Фотография же, купленная Торпом, относилась к началу 1920-х, когда Мункачи еще только делал первые шаги на пути к успеху.
— А ты знаешь историю Мункачи? — поинтересовался Торп, поднимая свой бокал.
— Ему, кажется, принадлежат несколько канонических снимков Фреда Астера?
— Точно. Но интересно другое, то, что произошло прежде, чем он бежал от гитлеровцев и переселился в Нью-Йорк. В те времена никто о нем еще и слыхом не слыхивал. Однажды Мункачи прогуливался с камерой по улицам и наткнулся на драку. Он тотчас принялся снимать. Потасовка закончилась смертью одного из участников, а фотографии Мункачи использовали в суде для оправдания подсудимого. С этого и началась его карьера. Мне удалось заполучить один из снимков той самой потасовки. В следующем месяце ее доставят из будапештской галереи. А повешу я ее вот здесь, над камином.
Я вообразила себе изображение кровавого уличного побоища над каминной доской. Кто захочет изо дня в день любоваться картиной убийства?
— Повезло.
— Еще как! Видела бы ты, как я уламывал владельца галереи расстаться со снимком! Тот, знаешь ли, вознамерился продать его только венгру, и никому другому. А общался я с ним через переводчика, которому пообещал кругленькую сумму в качестве комиссионных. И уж он расстарался — убедил галерейщика, что в моих жилах течет кровь не чья-нибудь, а самих Габсбургов!
— Я не вас имела в виду, — бросила я.
— То есть как?
— «Повезло» я сказала про того человека, с которого сняли обвинение в убийстве.
— Ну да… конечно…
Было уже поздно, и я боялась, что так и уйду с пустыми руками. Я — «сова», всегда чую наступление нового дня, кожей ощущаю убегающие минуты. Самые добрые наши с Генри разговоры случались глубокой ночью. С восходом солнца людская близость испаряется; ночью человек незащищен и восприимчив, но это исчезает вместе с луной и звездами.
Торп взял нож и принялся резать свою пиццу на малюсенькие кусочки. А я и забыла его отвратительную привычку препарировать еду.
— Я хотела спросить вас кое о чем.
— И как это люди обходятся без замороженной еды? — покачал головой Торп. — Я бы без нее точно с голоду помер. Я тебе никогда не рассказывал, как однажды познакомился с самим Джо Куломбом, основателем «Трейдер Джо»? На благотворительном вечере в пользу оперного театра Лос-Анджелеса. Большой, знаешь ли, почитатель оперного искусства.
— Питер Мак-Коннел, — сказала я.
Торп подцепил на вилку артишок с пиццы и медленно жевал, не отрывая глаз от тарелки. Не знай я его как облупленного, решила бы, что он не расслышал.
— Гастрономов «Трейдер Джо» было не так уж много, пока в 1979 году всю сеть не перекупил один из братьев-немцев, владеющих торговой сетью «Алди». А наши до сих пор уверены, что делом заправляет калифорнийский малый по имени Джо, в цветной рубахе и панаме.
— Это сделал Питер Мак-Коннел? — Я твердо решила не сдаваться.
Торп промокнул губы салфеткой.
— Книгу ты читала, с моей теорией знакома.
— Ваша теория меня нисколько не интересует. Я спрашиваю: он или не он?
— Строго между нами?
— Само собой, — кивнула я. — С кем мне откровенничать?
— У него была возможность. У него был мотив. Большинство косвенных улик указывали именно на него.
— Большинство?
— В делах, подобных этому, всегда остаются некоторые сомнения.
Я вылила ему остатки вина из бутылки и осторожно продолжила:
— А когда писали книгу, вы сомневались?
— У любого разумного человека в данных обстоятельствах будут какие-то сомнения. Это неизбежно.
— Но в книге вы даете понять, что это именно он.
Торп взял бокал.
— Так и есть.
— Но почему?
— Потому что, если бы преступление совершил кто-то другой, оно стало бы всего-навсего очередным убийством в полицейских сводках, годящимся разве что для заметки в газете. А вот если его совершил Мак-Коннел… О, тогда это совсем другая история. Юная, прелестная, талантливая девушка убита собственным женатым возлюбленным, который знает, что ему никогда не сравняться с ней в одаренности. — От выпитого голос слегка изменял ему. — Чтобы развеяться после тяжелого трудового дня, людям нужна какая-нибудь захватывающая история. Хочется почитать про что-нибудь такое, с чем в реальной жизни им никогда не повстречаться. Как только я наткнулся на Мак-Коннела, я сказал себе: вот герой, которого ты ищешь, который не давался тебе в прежних, безуспешных попытках написать роман.
— Но ведь ваша книга — не роман.
— И тем не менее я должен был мыслить как романист. Возьмись я за это дело как за элементарный журналистский опыт, я бы не ухватил самой сути истории.
— А что, если герой вашей книги не имеет ничего общего с реальным человеком? Что, если Мак-Коннел не делал этого?
— Такой возможности исключить нельзя.
— Вам плевать на то, что вы, быть может, сломали жизнь невинному человеку?
— Ну, назвать его невинным можно лишь с большой натяжкой. Давай на минуточку допустим, что он не убивал Лилы. Это ни в коей мере не снимает с него вины за внебрачную связь и за то, что он использовал твою сестру в своем честолюбивом желании доказать гипотезу Гольдбаха.
— Если книга претендует на документальность, люди рассчитывают на правду.
— Помнишь, что Оскар Уайльд написал в предисловии к «Портрету Дориана Грея»? «Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или плохо написанные». Моя, надеюсь, написана хорошо и занимательно. Все, чего я хотел, — это рассказать интересную историю. Чем глубже я погружался в материал, тем яснее мне становилось, что финал может быть одним-единственным. И как только это понял, писать стало до смешного легко.
Торп откинулся назад.
— Слушай, я тут подумал, давай как-нибудь на днях встретимся? В субботу я буду давать автографы в магазине на Опера-плаза. Могли бы потом где-нибудь пообедать.
Светлело небо. Время близилось к пяти, мир вот-вот продерет глаза, зашевелится. Я поняла: единственный способ добиться желаемого — это бить Торпа его же оружием. Мама как-то призналась, что успех адвоката напрямую зависит от работы со свидетелями. «Ошибка многих адвокатов в том, — говорила мама, — что перекрестный допрос они начинают с нападок. Для них главное — выиграть дело во что бы то ни стало, вот они и запугивают свидетеля». А мама, по ее словам, к любому перекрестному допросу подходила как переговорщик. Еще до суда старалась побольше разузнать о свидетелях и строила допрос с учетом характера каждого из них. Это позволяло вести разговор в нужном ей направлении.
Предложив еще раз встретиться, Торп сам распахнул передо мной двери.
— Предположим на минуточку, что это был не Мак-Коннел, — заговорила я. — Кто еще мог это сделать?
Торп поднялся и стал собирать тарелки.
— Можно заглянуть в «Мангостан». Потрясающий вьетнамский ресторанчик. Лучшая в городе говядина с чесноком!
Я пропустила приглашение мимо ушей и продолжала гнуть свое:
— Вы переговорили с десятками людей, когда собирали материал для книги. Неужели не нашлось других подозреваемых?
— Ты когда-нибудь пробовала сок из ягод мангостана? Пальчики оближешь!
Он направился с тарелками на кухню. Прихватив бокалы и остатки пиццы, я двинулась следом.
— Я не прошу, чтоб вы припомнили вот так, с ходу. Наверняка у вас где-нибудь припрятаны записи.
Торп свалил тарелки в доверху набитую раковину, сбрызнул всю горку моющим средством и включил горячую воду.
— Пусть отмокает.
— Люблю вьетнамскую еду, — после паузы обронила я. — Давненько не пробовала.
Торп повернулся, прислонился к кухонному столу. Помолчал.
— Джон Уилер, — наконец проговорил он. — Он был дворником в Стэнфорде. Один студент заявил, что в вечер ее смерти видел, как тот разговаривает с Лилой в здании математического факультета.
— Джон Уилер! Что-то не помню такого имени в книге.
Торп пожал плечами:
— Я всего раз говорил с ним. В первом варианте он был, а потом я его вычеркнул: не интересно.
— А где его найти, знаете?
— Какое там! Сто лет прошло. Но может, отыщется его прежний адрес. Пойдем-ка.
Если спальня была единственным опрятным местом в доме, то в гараже Торп даже не пытался поддерживать порядок. Помещение предназначалось для двух машин, но было так завалено и заставлено коробками, садовым инструментом, спортивным инвентарем и старой мебелью, что сюда не удалось бы впихнуть и мотоцикл. Освещался гараж люминесцентными лампами; в их неестественно ярком свете Торп выглядел совсем старым, изможденным — утренняя щетина, мятые брюки, закапанный вином свитер. Сквозь запах лосьона слабо, но явственно пахло телом. В одной главе книги он описывал Питера Мак-Коннела как современного доктора Джекила и мистера Хайда, а сейчас мне подумалось, что это сравнение скорее подходит самому Торпу. И гараж как нельзя лучше олицетворял истинного Торпа — не щеголеватого, подтянутого литератора, которого он изображал на публике, а такого, каков он наедине с самим собой, — дурно пахнущего и неуверенного, среди обломков собственного одиночества.
— Добро пожаловать в винный погреб! — пошутил он.
Я споткнулась о свернутый рулоном старый ковер, Торп ухватил меня за руку и удержал. Мимо грозящих рухнуть стеллажей, мимо тренажера со штангой, мимо нескольких переполненных мусорных баков мы пробрались к металлическому картотечному шкафу, задвинутому в самый угол.
— Может, все это и смахивает на последствия взрыва, — сказал Торп, — но хочешь верь, хочешь не верь, а у меня есть система. В этом шкафчике у меня все записи к старым книгам, начиная с первой и дальше — сверху вниз.
Он вытащил верхний ящик и принялся рыться в зеленых папках. Запахло плесенью и старой бумагой, и я вспомнила кабинет хироманта, где как-то летом на каникулах подрабатывала целых три нескончаемые недели. А буквально через несколько дней после окончания моей рабочей повинности явился недовольный клиент и открыл пальбу, убив самого хироманта и серьезно ранив секретаршу, которую я как раз и замещала, пока у той был медовый месяц. Это происшествие только укрепило меня в мысли, что мир чреват опасностью и таится она в самых, казалось бы, безобидных местах. Я усвоила этот урок после смерти Лилы и с тех пор с неумолимым постоянством убеждалась в его жестокой справедливости.
Я заглянула через плечо Торпа, пытаясь разобрать ярлычки на папках, но там вместо имен стояли лишь даты. Наконец он извлек одну папку и листал ее, пока не добрался до небольшого блокнота в зеленой обложке, с тисненой золотом надписью «Меморандум».
— Замечательный блокнот, а? — обернулся ко мне Торп. — Отчет ФБР У меня там есть знакомая, Люси Рэнахан, она мне удружила. Давно это было. Определенно отдает Гувером. Такая жалость, что они больше их не выпускают, отчетов то есть. — Он лизнул палец, переворачивая одну страничку за другой. — Ах нет! Джеймс.
— Что, простите?
— Джеймс Уилер, а не Джон. Я ошибся. Вот его прежние координаты. Ему тогда было за пятьдесят и здоровье неважное. Вполне возможно, его и в живых уж нет. Хотя, если память мне не изменяет, жена у него была много моложе. — Торп вырвал страничку из блокнота и протянул мне.
Там значились имя, адрес и номер телефона.
— А это что? — я ткнула пальцем в набросок какого-то лица под номером.
— Так, привычка. Когда разговариваю с людьми, всегда их рисую. И жертв тоже рисую, по фотографиям. Помогает проникнуть в характер. Пытался уговорить редактора включить рисунки в книгу, а та уперлась: мол, уводит читателя в сторону.
Значит, есть и портрет Лилы? И мой? Я потянулась к блокноту, но Торп отвел руку:
— Я обещал одно имя.
— А есть и другие?
Он не ответил. Мы вернулись через дом. В холле у фонтана я задержалась, оттягивая момент ухода. Мне все еще хотелось спросить насчет вида из окна. Теперь было заметно, что вода в фонтане зеленая и мутная. На поверхности плавали дохлые насекомые.
— Хочешь?
— Простите?
— Фонтан хочешь? Это была идея Фло. Все никак не избавлюсь от него. Можешь взять, если нравится.
— Спасибо. Я подумаю.
Нам обоим было ясно, что не стану я думать ни о каком фонтане. Пару минут спустя мы уже стояли у распахнутой двери и было ясно, что удобный случай спросить про окно упущен. В утреннем свете садик при доме имел жалкий вид: лаванда чахлая и невзрачная, лоскуток газона отчаянно нуждается в прополке.
— В субботу увидимся? — спросил он.
Я кивнула. Стоя в дверях, Торп наблюдал, как я роюсь в сумке в поисках ключей, как сажусь в машину. Я уже отъезжала, когда он подбежал к обочине и постучал в мое окно.
— Удобная обувь! — крикнул он.
«Удобная обувь»? Это что, ключ к разгадке, какая-то головоломка, которая приведет меня к настоящему убийце Лилы?
— В субботу, — пояснил он. — До «Мангостана» путь неблизкий.
— Ясно.
Спускаясь с Алмазных Высот по извивающейся змеей дороге, я припомнила, как однажды на пикнике в Лоун-Маунтин поведала Торпу одну историю. Про нашу немецкую овчарку, Бориса, который появился у нас в доме, когда мы с Лилой были еще маленькими. В 1986 году пес серьезно заболел. Сердце в груди переворачивалось — так мучился, бедняга. Мы всячески старались облегчить его страдания. Всю свою собачью жизнь, готовясь отойти ко сну, Борис сам решал, кого нынче почтит своим присутствием — родителей, Лилу или меня, а сделав выбор, входил в облюбованную спальню с большой помпой: приседал, шумно принюхивался и лишь потом вразвалочку подходил к кровати и плюхался на нее. Мы все его обожали и тем не менее постоянно изобретали способы выманить Бориса из своей спальни и затащить в чужую: он жутко храпел и занимал столько места, что уснуть с ним в одной постели было просто немыслимо. Но стоило псу заболеть, как все наши игры прекратились. Мы поняли, что скоро нам будет ужасно недоставать этого хлюпающего храпа и громоздкой тяжести в ногах постели.
Недели за две до смерти Бориса, когда стало ясно, что это может произойти в любую минуту, мы составили расписание, чтобы кто-то постоянно оставался с ним дома. Страшно было подумать, что Борис может умереть совсем один. Если у родителей не получалось отпроситься с работы, Лиле или мне разрешалось не ходить в школу. В тот вторник была моя очередь. Обычно мы сидели возле него в гостиной, откуда он теперь редко выползал. Я и сидела подле него на полу — гладила мохнатую спину и читала ему вслух. И тут в дверь позвонили.
Это была соседская девчонка, Роксана, они жили через два дома от нас. Несколько лет подряд я подрабатывала у них нянькой, но пару месяцев назад Роксане стукнуло десять, и родители стали оставлять их с Робби, ее младшим братом, одних. Я открыла дверь и в ту же секунду поняла: стряслась какая-то беда. В расширенных глазах девочки застыл ужас. «Робби задыхается! Дома никого!» — только и смогла выдохнуть она. Я бросила взгляд на Бориса, тот смотрел на меня со своей подстилки на полу. «Я только на минуточку!» — пообещала я. Борис тихонько фыркнул, поднял голову и попытался встать. Он хотел пойти со мной, хотя по целым дням не двигался с места. «Лежать!» — сказала я, заперла дверь и бросилась к дому Роксаны. А там шестилетний Робби, который мне никогда особенно не нравился, корчился на полу с синим лицом. Я поставила его на колени, обхватила за живот и резко нажала, у мальчишки изо рта выскочил довольно крупный кусок чего-то. «Мороженый банан! — содрогаясь от рыданий, объяснила Роксана. — Говорила же ему — не ешь!» Убедившись, что с мальчишкой все в порядке, я велела Роксане позвонить матери и пулей помчалась домой.
Борис лежал в прихожей, недвижимый, с открытыми, но пустыми глазами. И не дышал. И пульса не было. Пока я спасала маленького сорванца с нашей улицы, Борис умер, пытаясь доползти до меня. Родители, конечно, похвалили меня за то, что помогла Робби, но сама я по сей день корю себя за то, что оставила нашего бедного пса умирать в полном одиночестве.
Годы спустя, на пикнике, Торп внимательно выслушал эту историю, помолчал. Я ждала, что сейчас он скажет что-нибудь вроде: ах, какая печальная история, и была потрясена, когда он наконец выдал: «Вот это да! Отличная концовка!»
«В Стэнфордском университете, на третьем этаже математического факультета, есть кабинет, — писал Торп в заключительных строках последней главы „Убийства в заливе“. — В кабинете сидит человек — высокий, представительный; само присутствие этого человека сгущает атмосферу кабинета. Быть может, сейчас он работает над гипотезой Гольдбаха, уверенный, что в один прекрасный день найдет доказательство. Когда он найдет его, разделить славу ему будет не с кем».
Оглядываюсь назад и сама себе дивлюсь: как же было сразу не сообразить! Финал книги явился Торпу не в процессе работы. Нет, он подгонял книгу под уже готовую «отличную концовку».
Двадцать два
Домой я добралась к половине шестого. Сразу стащила с себя всю одежду, сунула в стиральную машину, а сама залезла под душ — смыть запахи его дома. Я вся провоняла табачным дымом, даром что Торп не курил два месяца.
Звонить по тому номеру, что он мне дал, было еще рано. Я чертовски устала, но знала, что все равно не усну, а потому извлекла из тайника под кроватью Лилин дневник и отправилась на Хейз-Вэлли. Машину оставила на бульваре Октавиа и зашагала вниз по узкому переулку, мимо испещренных граффити слесарных мастерских, мимо черных кожаных корсетов, выставленных в витринах «Темного сада». Перед кофейной палаткой «Василек» выстроилась очередь. Частенько приходилось наблюдать, как наивные покупатели пытались заказать здесь «полукофеиновый двойной латте» или «ореховый капучино с соевыми сливками», а в ответ получали изощренную отповедь продавщицы, которая недвусмысленно давала понять, что если кому требуется паршивое пойло вместо доброй чашки крепкого кофе, то пусть катится в «Старбакс». Я и сама невысокого мнения о подобных фокусах. Разбавить «арабику» соевым молоком, приправить каким-нибудь сиропом? Да ни за что на свете!
Присесть в «Васильке» негде, можно лишь поставить стаканчик на небольшой, примостившийся на тротуаре прилавок, но это странным образом добавляло прелести заведению. Я с наслаждением вдохнула густой аромат йеменского «санаани», ощутив нотки абрикоса, табака, вина и пряностей. Первый глоток кофе поутру — самый-самый! Кровь ударяет в голову, туман в мозгах проясняется. Я отключилась от окружающего мира и открыла Лилин дневник с твердым намерением уж теперь разобраться, что к чему.
Прошлый раз я остановилась на странице, где Лила записала континуум-гипотезу. Любое бесконечное подмножество континуума является либо счетным, либо континуальным.
Далее следовали исторические выкладки по теме. На память пришел один наш с Лилой разговор у нее в спальне глубокой ночью, родители уже спали. Когда это было? За несколько недель до ее смерти, за несколько месяцев? Забыла. Но суть разговора помню.
Примечательность континуум-гипотезы в том, что ею открывается знаменитый список двадцати трех нерешенных задач, составленный Дэвидом Гильбертом[42] в 1900 году. В начале шестидесятых кто-то доказал, что определить истинность или ложность континуум-гипотезы невозможно. Однако у знаменитого математика Пола Эрдёша на этот счет имелась собственная точка зрения. По его мысли, если существует бесконечный разум, превосходящий возможности человеческого ума, то ему и решать — истинна эта гипотеза или ложна.
— В общем, или род людской хорошенько поумнеет, — вздохнула Лила, — или мы так и вымрем, не решив этой задачи.
— А если и гипотеза Гольдбаха такая же хитрая штуковина? — допытывалась я. — Ты тридцать лет будешь искать доказательство, а потом выяснится, что доказательства вообще не существует?
— Но я, по крайней мере, буду знать, что пыталась, — отвечала Лила. — И буду уверена, что сделала все возможное, что не сдалась.
После встречи с Мак-Коннелом я каждый день чувствовала, что тычусь носом в границы собственных знаний, в бедность своего воображения. Если бы все было ровно наоборот — меня, а не сестру нашли в лесу, — уж Лила не приняла бы на веру историю из какой-то книжки. Она бы изучила все факты и не спеша, методично сложила в одно целое. И можно не сомневаться — не сдалась бы, пока не докопалась до истины. И уж само собой, не ухлопала бы двадцать лет на ожидания, прежде чем приняться за поиски.
В восемь часов я вытащила из кошелька листок бумаги и набрала номер. Уже на втором гудке ответил женский голос.
— Доброе утро, — поздоровалась я. — Это телефон мистера Джеймса Уилера?
— Я Делия Уилер. Вы по поводу счета?
— Нет.
В трубке послышался приглушенный собачий лай.
— Точно? Потому что если кто и называл его Джеймсом, так это его мать, упокой. Господи, ее душу.
— Честное слово, меня не интересуют ваши счета.
— Тогда… Да, это номер Джимми. А вы кто?
— Вы меня не знаете, но много лет назад наши пути пересекались. Я сестра Лилы Эндерлин.
— Чья сестра?
— Лилы Эндерлин.
Она помолчала. Собака теперь сопела совсем рядом.
— Мы ничего не знаем, — неожиданно буркнула Делия.
— Мне нужно задать мистеру Уилеру несколько вопросов, только и всего.
— Тридцать лет назад полиция уже задавала ему вопросы, — проворчала она. — И он на каждый ответил.
— Двадцать, — поправила я.
— Что?
— Лила умерла двадцать лет назад.
Снова пауза.
— А я бы поклялась, что это было в 1979-м. Боже правый, если и у меня крыша поехала, плохи наши дела.
— Вы по-прежнему живете на Мултри? — поинтересовалась я.
— Точно.
— Я могу заехать, когда вам будет удобно.
Я ждала, что сейчас меня пошлют куда подальше, и приготовилась слезно умолять о встрече, но, к моему удивлению, она пробормотала:
— Да чего уж, мы всегда дома. Джимми давно не выходит, а я не люблю бросать его одного.
— Спасибо большое. Я буду у вас через час.
Уилеры жили в одноэтажном домике под коричневой черепичной крышей, с желтыми оконными рамами и желтой дверью, которая выходила чуть ли не на самый тротуар. Улица была забита машинами, так что пришлось покружить, пока отыскалось свободное местечко.
Дверь распахнулась прежде, чем я успела позвонить. На пороге стояла невзрачная, маленькая и сухонькая женщина в черных штанах и футболке с логотипом «Google». Каштановые волосы стянуты канцелярской резинкой, на щеках розовые румяна и такая же розовая помада на губах. Делия оказалась еще моложе, чем я думала, — ей, вероятно, едва перевалило за пятьдесят.
— Элли Эндерлин, — произнесла она, вглядываясь в мое лицо. — Силы небесные!
Видно, она хотела еще что-то сказать, но лишь отступила в сторону, пропуская меня в дом.
— Спасибо, что согласились меня принять.
— Сомневаюсь, чтоб из этого вышел какой толк, но гостям я всегда рада.
Справа от прихожей, за неплотно задернутой синей занавеской, виднелась кровать, втиснутая в узкую нишу. На крохотном столике в ногах кровати стоял телевизор, на желтое одеяло падал свет от экрана, но звука не было. Там, на кровати, кто-то был — Джеймс Уилер, надо полагать, — но из-за занавески выглядывали только ноги, бледные и тощие. Возле ног спала маленькая черная собачка. Из прихожей мы попали в небольшую уютную гостиную. Все помещения домика следовали одно за другим, словно нанизанные на нитку бусины: за гостиной — кухня, за кухней — ванная. В кухне на плите стучал крышкой чайник.
— Вы уж простите за беспорядок, не успела прибраться.
— У вас просто замечательно. — Я принюхалась: имбирь и корица. — А чем так вкусно пахнет?
— Да так, кофейный кекс. Хотела вас покормить, если вы припозднитесь.
— Ну что вы, зачем!
— Я, знаете ли, на Миссисипи выросла. — Она заглянула в духовку, проверяя кекс. — Моя матушка в гробу перевернется, если ко мне придут гости, а я их не накормлю. В аккурат на прошлой неделе Мэтью — это наш старший — возил меня за город, коляску покупать; он ее в компьютере присмотрел. Для Джимми, то есть. Так тамошняя дамочка даже стакана воды нам не предложила!
Только когда мы уселись за стол, где на прелестном фарфоровом блюде уже красовался кекс, Делия Уилер заговорила о том, ради чего я пришла.
— Это дело рук того парня, Питера Мак-Коннела, не иначе, — убежденно сказала она, заглядывая мне в глаза. — Я читала книжку — его, как пить дать, его. Страшная история. Уж как мне жалко ваших родителей, голубушка! И вас, конечно, тоже, но ваших родителей — особенно. И подумать жутко, что кто-то мог бы сотворить такое с моими мальчиками. Как представлю, так сердце останавливается.
Я кивнула.
— Много воды с тех пор утекло, но и дня не проходит, чтобы я не думала о сестре.
— Помнится, Мак-Коннел этот дал деру и поминай как звали. Они хоть потом арестовали его?
— Нет.
— Экая жалость! Девчушку, конечно, не вернуть, но случись такое с кем из моих, мне было б легче, если б кто-то за это поплатился.
Она отхлебнула чаю, задумчиво откусила кусок кекса.
— По чести сказать, не пойму, голубушка, к нам-то вы зачем пожаловали? Какой от нас прок?
— Как я поняла, ваш муж разговаривал с моей сестрой в тот вечер, когда она погибла. Я подумала, он мог бы рассказать, как и что…
— Ах, если бы, — вздохнула миссис Уилер. — Вот уж три года, как с Джимми приключился удар. Тогда и язык отнялся. Поначалу он хоть мог писать с грехом пополам, а теперь и того не может. — Она вытянула пальцы, покрутила обручальное кольцо. — А в книге-то про Джимми ничего не сказано. Я помню. Она как вышла, так я сразу отправилась в библиотеку и прочитала всю, от корки до корки. Страсть как боялась, что Джимми там по имени назовут. Одному Богу ведомо, как бы он это пережил после всего, что было. Вот я и думаю — вы-то, голубушка, откуда про него разузнали?
— Мне сказал следователь, который вел дело, — соврала я. Правда была слишком запутанной и сложной.
Она нахмурилась.
— Тогда вы должны знать, что потом было с Джимми.
Я покачала головой.
— Его забрали на допрос. Вот ужас-то был! На ночь глядя явилась полиция — мы как раз ребят спать укладывали, — схватили его и поволокли, прямо как преступника какого. Я цельную ночь глаз не сомкнула, все молилась да плакала. Ребята до смерти напугались. А поутру он возвращается, и лица на нем нет. Они его всю ночь протомили — ни спать, ни есть не давали. Хотели, чтоб признался. Прямо с ножом к горлу пристали: ты же, говорят, дворник, а какие у дворника могут быть разговоры с молоденькой, хорошенькой студенткой? А он такой и был, понимаете? Болтал со всеми подряд. Да я сама сколько раз его корила: дескать, слишком много ты, Джимми Уилер, разговоров разговариваешь! Уж как заведется, так ввек не остановится. До белого каления, бывало, меня доводил. А теперь как замолк, так я уж и скучаю по болтовне по его. А сестрица ваша такая была добрая девочка, всегда поздоровается. Она ему и впрямь нравилась, только не так, как полицейским хотелось. У нас-то самих два парня, а Джимми всегда хотел девочку. Он мне однажды знаете что сказал? Если, говорит, будет у нас дочка, хочу, чтоб она была такой, как Лила. Лила, говорит, очень хорошая девочка, держится всегда скромно, громко не разговаривает, не куролесит никогда.
Я молча слушала. Поверить в Лилину дружбу с дворником мне было легче легкого. Она вообще лучше всего чувствовала себя с людьми не своего круга, с теми, кто не станет отнимать у нее много времени, просить «телефончик» или звать в кино.
— Больше его не допрашивали?
Миссис Уилер помотала головой:
— А нужды не было. Ведь почему они его в тот раз столько времени промариновали? Потому как он им своего алиби не давал. Уперся — и ни словечка про то, где был, когда бедняжку убили. А уж когда они по-настоящему разозлились да всерьез взялись за него (такого наговорили — страсть!), вот тут он смекнул, что они всерьез на него думают. Тогда-то он все как на духу и выложил, ну, про вторую работу то есть. Он ведь у нас тянул лямку еще и на сталелитейном заводе. Худо нам в те времена жилось — за душой ни гроша, а на подходе третий ребенок. Вот Джимми и устроился сразу в два места, чтоб хоть как-то сводить концы с концами. А в Стэнфорде насчет этого было строго — чтобы никакого совместительства, ни-ни! Но без его приработка мы бы нипочем не выдюжили, как же Джимми было лишиться его? Проболтайся он в полиции — дойдет до университетского начальства, а уж те вышибут его за милую душу.
— И что же дальше?
— Ну а дальше признался — куда было деваться? Те, конечно, к заводскому начальству. И что же оказывается? В Стэнфорде Джимми отметился в семь вечера (там у них так и записано), а в полвосьмого был уже на заводе и всю ночь работал. После этого от него и отцепились.
Делия взяла меня за руку:
— Знаю я, голубушка, зачем вы здесь, и не виню. Но не Джимми это, уж вы мне поверьте.
Я верила.
— Он так убивался, когда с Лилой это приключилось, а когда на него подумали — просто места себе не находил. — Она сокрушенно покачала головой. — У нас-то после все прахом пошло. Джимми выгнали из университета, у меня случился выкидыш, дом чуть не отобрали. Это здорово его подкосило. Прежде он у меня сильным был, трудяга. В нищете вырос, поздно встал на ноги и вбил, знаете ли, себе в голову, что будет вкалывать до седьмого пота, а мы выкарабкаемся из нужды, станем жить как люди. Смешно сказать, теперь-то наша халупа бешеных денег стоит, но я ее ни за что не продам. Джимми почти не встает, с легкими у него не в порядке, да и других болячек полно. Всю жизнь надрывался как каторжный, а ради чего, спрашивается?
Из первой комнаты донесся стук.
— Это Джимми. Два удара. Пить, значит, хочет.
Она встала, налила воды в стакан.
— Огромное спасибо, — сказала я, поднимаясь. Я чувствовала, что должна еще кое-что сказать, хотя время и ушло. — Ваша семья тоже пострадала, мне очень жаль.
— Что ж тут поделаешь, — улыбнулась миссис Уилер. — Стараемся как можем. Счастье, что мы с Джимми всегда души друг в друге не чаяли, это здорово помогает.
Через гостиную мы прошли в прихожую. Она отдернула занавеску, и моим глазам предстал Джеймс Уилер — худущий, кожа да кости, с всклокоченными седыми вихрами. Собачонка перебралась к нему на подушку.
— Вот и я, дорогой, — обратилась к нему миссис Уилер.
Он поднял на меня глаза, в них что-то промелькнуло. С усилием оторвал от простыни руку и снова уронил.
— Да, родимый, — миссис Уилер поднесла к его губам стакан с водой, — она очень похожа на свою сестру, правда?
Двадцать три
В субботу я, как обещала, встретилась с Торпом на Опера-плаза. Когда я приехала, он все еще подписывал книги, длинная очередь желающих протянулась через весь магазин. Он поднял глаза, увидел меня и беззвучно произнес: «Десять минут».
В магазин вошел симпатичный парень с золотушным младенцем в рюкзаке-кенгурушке за спиной. На парне была дорогущая кожаная куртка, коричневые замшевые башмаки и стильные джинсы с такой низкой посадкой и такой ужины, что оставалось только гадать, как он умудряется в них передвигаться. Искусно растрепанная шевелюра и короткие бачки наводили на мысль о модной парикмахерской. Явно один из наших вечно недовольных хипстеров. Меня, к слову, всегда вот что ставило в тупик: свободного времени у этих ребят навалом, денег, похоже, куры не клюют, но ни то ни другое они не тратят на еду. Обернувшись ко мне, парень криво усмехнулся:
— Что за писатель?
— Эндрю Торп.
— Стоящая книжка?
— Не знаю, не читала. Прошу прощения…
Я обошла парня и направилась в маленькую кофейню, пристроенную к магазину, купила там баночку кофейных зерен в шоколаде. Вернувшись в магазин, положила одну штуку на язык, подождала, пока растает шоколад. К тому времени, как Торп освободился, я слопала не меньше дюжины и была на подъеме.
— Готова к походу? — осведомился он.
Полчаса спустя мы сидели в «Мангостане», за маленьким столиком, зажатым со всех сторон шумно обедающей публикой. Сильно пахло лимонником.
— Рекомендую десятый номер, — сказал Торп. — Кусочки говядины с картофелем и рисом. Или номер двадцать два — то же самое, но с вермишелью.
Я выбрала с вермишелью. Ждать пришлось долго, зато еда была хороша. Торп в деталях расписал сегодняшний визит к своей инструкторше, а потом принялся расспрашивать меня о моей личной жизни. Не знаю, как так вышло, но в итоге я поведала ему и о Генри, и о нашем с ним разрыве три года тому назад в Гватемале.
— Ты его любила?
Я лишь пожала плечами, но он повторил вопрос, и мне пришлось нехотя признаться:
— Тогда мне казалось, что люблю.
— А сейчас вспоминаешь его?
— Бывает.
На самом деле я много думала о Генри в последнее время, но Торпу этого знать не полагалось.
— Стало быть, не любила, — хмыкнул Торп. — Иначе думала бы о нем утром, когда просыпаешься, и вечером, когда ложишься спать, и когда сдаешь вещи в химчистку, и когда сидишь в кино.
— Я была у Джеймса Уилера.
— Не отказалась, значит, от своей затеи? — Торп не скрывал удивления.
— Почему вы не сказали, что у него было бесспорное алиби?
— Неужели? Что-то не припоминаю. Я же говорил — неинтересный персонаж.
Он подобрал соус последним кусочком мяса и отправил в рот. Подошла со счетом официантка, и Торп, прежде чем я успела вымолвить слово, вручил ей свою кредитку.
— Уф, объелся! — Он похлопал себя по животу. — Может, прогуляемся, чтобы жирок не завязался, а?
Выглянуло солнце, раскалило асфальт на тротуаре, заиграло на выстроившихся вдоль улицы машинах. Я стянула свитер, подняла с повлажневшей шеи волосы и закрутила в пучок. Вся округа гадостно воняла смесью собачьего дерьма, бензина и застарелой мочи. Мужики, справляющие малую нужду прямо на обочине тротуара, — такое же обычное для Тендерлойна[43] явление, как накачанные наркотой проститутки при исполнении в любое время ночи и дня. Я всегда недолюбливала этот район.
Мы шагали вдоль Ларкин-стрит, отмеряя в молчании квартал за кварталом.
Когда мы добрались до Рынка, я стерла все ноги. Куда, интересно, он меня ведет? — гадала я. Мне было не по себе, но я твердо решила выведать еще какие-нибудь имена.
— Ты скачки любишь? — ни с того ни с сего спросил Торп. — Лично я время от времени захаживаю на ипподром. Это занятней, чем можно подумать. Собирался туда в следующую субботу. Пойдешь со мной?
Отвечать, по счастью, не пришлось — мы как раз поравнялись с ватагой парней в кожаных жилетах, килтах и берцах. Сложная система цепей связывала их друг с другом.
— Черт, совсем из головы вылетело — в эти выходные фестиваль Фолсом-стрит![44] — воскликнул Торп.
Ну да, забыл, как же. Наверняка так и было задумано.
Мы продолжали идти в том же направлении и через несколько кварталов влились в толпу: мужчины в кожаных штанах (ковбои надевают такие поверх джинсов, эти же — прямо на голое тело), женщины в туго-натуго затянутых корсетах, долговязые трансвеститы на высоченных каблучищах. Я в своей юбке до колена и футболке была здесь определенно не к месту — ни дать ни взять экспонат в витрине Музея общепринятой морали: «Тетка обыкновенная».
— Если б знала, куда мы направляемся, надела бы что-нибудь поэкстравагантнее, — заметила я.
— Ты отлично выглядишь. А они пусть считают, что это ты для смеха.
Перед нами выросла баррикада, перегораживавшая улицу.
— Вход три бакса! — объявил длиннющий парень в лошадиной сбруе.
Он радостно ржал, притопывал ножищами и как гривой встряхивал волосами. Очень убедительно. Я даже подумала — может, он так наряжается каждый день?
— Ну, раз так… — Торп вытащил из кошелька деньги.
За что обожаю Сан-Франциско, так это за то, что здесь к любого рода публичным выходкам неизменно относятся с философским пониманием. В каждую минуту можно очутиться среди диковинных, будто киношных персонажей. Помню, как-то давным-давно складываю полотенца в прачечной самообслуживания на Даймонд-стрит, радио запело что-то из «Бриолина» — и все пять посетительниц в один голос грянули песню. Если есть время и желание, в этом городе можно устроить себе жизнь не менее увлекательную, чем у героев плутовского романа.
Торп заинтересовался публичной поркой в балагане неподалеку от нас. Вовсю жарило солнце, нестерпимо пахло кожей и загадочными мазями. Кто-то шлепнул меня по заду деревянной лопаткой, я живо обернулась — и увидела море невинных лиц. Я ощущала себя Алисой, попавшей в причудливый, сан-францисский вариант страны чудес, где и Безумный шляпник, и все его свихнувшиеся друзья бредят садомазохизмом.
А потом взгляд наткнулся на знакомое лицо.
— Джек?
Он крепко обнял меня:
— Элли! Господи, сколько лет, сколько зим!
Черные густые волосы до плеч, коричневые кожаные штаны и футболка с Микки-Маусом.
— Потрясающе выглядишь, — сказала я. Так оно и было.
Торп сиял улыбкой, лучезарной и самоуверенной.
— Эндрю Торп, — представила я. — А это мой друг по колледжу, Джек.
— Джексон, — поправил он.
И я сразу вспомнила, как он настаивал, чтобы его называли именно Джексон, хотя родители нарекли его заурядным именем Джек.
Мы познакомились в начале последнего курса и не разлучались ни днем ни ночью несколько недель кряду, пока он не отправился в Сенегал добровольцем Корпуса мира. Приятно снова встретиться. Парней, с которыми я ненадолго сходилась, за год после смерти Лилы набралось как собак нерезаных. Я то и дело натыкалась на кого-нибудь из них. Слегка конфузилась, конечно, но всегда была рада разузнать, как они живут, что с ними сталось.
Подошла высокая блондинка в красном кожаном платье и обняла Джека за талию.
— Моя жена Стейси, — сказал он.
Меня, к моему удивлению, он представил как «давнюю подружку».
— А ребята дома, с нянькой, — прервала неловкую паузу Стейси.
— Ребята?
— Ага, двое. Первый класс и детский сад. Они думают, мы сейчас с компанией на пикнике.
Стейси оказалась бойкой и дружелюбной, и у меня почему-то сложилось впечатление, что когда она не наряжалась шлюхой, то ходила в строгих деловых костюмах и прилично зарабатывала в адвокатской или в риелторской конторе. Что до Джека/Джексона — его я помнила худым малым, развалившимся нагишом на тощем матрасе, с косячком в одной руке и книжкой в другой. А теперь — подумать только! — у него жена и двое ребятишек. Чудны дела твои, Господи.
Джек вручил мне свою визитку:
— Звякни как-нибудь, мы позовем тебя на ужин. Познакомишься с маленькими чудовищами.
— С удовольствием! — отозвалась я, зная, что никогда не позвоню.
Мы с Торпом проталкивались мимо палаток, торгующих гигантскими искусственными фаллосами и золочеными кольцами для настоящих, мимо разносчиков с пирогами пикантной формы, мимо рекламных афиш, извещавших о действах, посвященных всевозможным фетишам. Женщина в прорезиненном медицинском костюме сунула мне в руки листовку: «Найди своего раба. Первая консультация бесплатно».
Вот и конец улицы, тут жизнь входила в обычную колею. Я раздумывала, как бы получше изложить свою просьбу, и тут Торп заговорил:
— У меня для тебя еще кое-что есть.
— А?
— Еще одно имя. Кое-что из того, что не попало в книгу. В лесу была машина, примерно тогда же, когда пропала Лила. Белый «шевроле». Кому-то она показалась подозрительной, он записал номер и сообщил полиции.
Торп вынул из кармана и передал мне листок с двумя напечатанными словами — Уильям Будро.
— Какой-то музыкант, все звали его Билли. Поначалу я хотел им заняться, да замотался, не до того стало. И вообще, когда я о нем услышал, меня уже вполне устраивало, как и в каком направлении продвигается книга.
Я аккуратно сложила бумажку и спрятала в кошелек.
— Спасибо.
Пару минут мы шагали молча, потом я задала вопрос, который не давал мне покоя:
— Зачем вы это делаете?
Торп усмехнулся.
— Да есть у меня одна безумная мыслишка: окажу тебе добрую услугу — ты и вернешься ко мне.
Мы шли дальше. Толпа поредела, опустился туман. Когда мы вернулись на Опера-плаза, к моей машине, я все-таки собралась с духом:
— Слушайте, пока я не уехала, объясните мне кое-что…
— Да?
— Про ваш дом. Про вид из окна кабинета.
— Ах, это…
— Угу.
— В простое совпадение поверишь?
— Нет.
Он отвел глаза. И даже, мне кажется, покраснел. Чуть-чуть, самую малость.
— Дом выставили на продажу, когда я уже почти два года не мог выдавить из себя ни строчки. Садился за стол и часами пялился на чистый лист бумаги. Это продолжалось так долго, что я даже решил бросить писанину и вернуться в педагогику. Как-то в воскресенье гостил у друга по соседству, мы с ним поехали прокатиться и по дороге увидели табличку, что дом продается. Другу захотелось посмотреть, я пошел с ним. У меня и в мыслях не было покупать, дом вообще не в моем вкусе — слишком модерновый, неприветливый какой-то, — но когда я сообразил, что из окна второго этажа виден твой дом, сразу понял, что должен его купить, и уже тогда знал, где именно будет мой кабинет.
— Чертовщиной попахивает.
— Может, и так, но ведь сработало. Через два месяца после переезда у меня на столе уже лежали три главы новой книжки. Писал по ночам, но только в те ночи, когда горел свет в твоей комнате.
— К тому времени это уже была не моя комната. Мама устроила там кабинет.
Он опустил руку на крышу моей машины.
— Я знал, что тебя там нет. Но свет горел, и я воображал, будто ты там. Будто сидишь за своим старым столом, читаешь, слушаешь музыку. Мне было довольно иллюзии того, что ты неподалеку. А иногда ты и в самом деле была рядом. Пока в прошлом году твоя мама не переехала, я редко уходил по четвергам вечером. Единственный вечер в неделю, когда я знал почти наверняка, что увижу тебя. Пусть я не мог говорить с тобой, но мог протянуть воображаемую линию от моего стола к тебе. Я видел, как там, внизу, ты стоишь на тротуаре перед домом со своей матерью. Старался представить, о чем вы разговариваете. Бывало, должен к стыду признаться, пытался угадать, не мелькает ли в вашей беседе мое имя.
— Вы должны понимать, что все это странно, — заметила я. — Более чем странно.
Я не стала говорить ему, что даже единственный человек, который по-настоящему любил меня, Генри, и тот не был так предан мне. Генри довольно легко отказался от меня. Неужели одержимость вызывает более сильную привязанность, чем любовь?
Он потер пятнышко на машине, потупился.
— Что я могу сказать? Ты была моей Зельдой[45], моей Жорж Санд, моей Стеллой[46]. Мои книги, дом, относительная известность… Всем этим я обязан тебе.
Ясно. Он сотворил себе кумира, и этот кумир не кто иной, как я. В иных обстоятельствах — будь его книга о чем другом, не о Лиле — я была бы польщена. Приятно, наверное, быть чьей-то музой…
Я отперла водительскую дверь; опередив меня, Торп распахнул ее передо мной.
— Право слово, — сказал он, когда я уселась за руль, — отыскать Билли Будро — неплохая мысль.
Двадцать четыре
— А как насчет Торпа? — спросил однажды Генри.
8 декабря 2004 года, пятнадцатая годовщина со дня смерти Лилы, мы с Генри и с родителями только что побывали на ее могиле.
Было свежо, после ночного ливня светило солнце. В Сан-Франциско нет гражданских кладбищ, и годы назад мы были в растерянности — где хоронить Лилу? В конце концов выбрали ближайшее к Стэнфорду — мемориальное кладбище в Пало-Альто. Хотя ехать туда дольше, чем до крупных кладбищ в Колме и Дейли-Сити, нам оно показалось более подходящим. Понравились деревья, разросшиеся вокруг старых могильных камней, и ухоженная, но в меру, без фанатизма, территория.
В памяти большая часть того дня подернута туманом. Помню, на кладбище мы ехали с Генри, в его джипе, потому что моя машина была в ремонте. Помню диск, который Генри записал специально для этой поездки; начинался он с любимой песни Лилы — Элвис Костелло, «Мир, любовь и понимание», — а заканчивался Грэмом Парсоном, «Она когда-то здесь жила». Еще помню, что Генри каждую минуту старался коснуться моей руки и что в Берлингейме нам пришлось заправляться. Помню, как на кладбище мы не сразу отыскали могилу Лилы, а ведь я столько раз бывала здесь, и мне было стыдно, что я заблудилась. Окажись на моем месте Лила, уж она бы не потерялась, у нее в голове был бы точный план всего кладбища, она бы помнила не только номер участка, но и на какую именно тропинку надо свернуть.
Побродив среди могил, мы заметили вдалеке моих родителей и направились к ним. Мама была в темно-синем платье и высоких сапогах. Она сменила прическу, отпустила челку и выглядела не в пример моложе. А папа был в костюме, и я не сразу сообразила, к чему это. Когда же до меня дошло, что потом он собирается вернуться на работу, страшно обозлилась. Сегодня что, рядовой день? У нас такая важная годовщина, а он вздумал бросить маму одну! Да, они уже пять лет как разошлись и практически не общаются, но хоть в такой-то день можно, кажется, побыть вместе? Я оттащила папу в сторонку и зашипела ему на ухо: «По-моему, мама только обрадуется, если сегодня ты побудешь с ней». На что он отвечал: «Нет, зайка, как раз наоборот». Легонько сжал мне плечо и зашагал прочь. И злость моя растаяла без следа от одного простого ласкового слова из моего детства, которым папа не называл меня с тех пор, как умерла Лила.
Потом мы с Генри и мамой обедали в «Мейвен-Лейн кафе», любимом ресторане Лилы, вот тут-то он и задал свой вопрос:
— А как насчет Торпа?
Я сидела напротив них обоих и предостерегающе глянула на Генри, но тот не понял.
— А что насчет него? — насторожилась мама.
— Да я просто подумал, зачем ему это было нужно? Чего ради он лез из кожи, доказывая виновность Питера Мак-Коннела?
— Это было не так уж и сложно сделать, Генри, — отозвалась мама со знакомыми нотками в голосе.
Похожие интонации я уже слыхала в суде, на разбирательстве маминых дел, и означали они, что Генри играет с огнем. Я силилась мысленно внушить ему: уймись! Куда там! Он не отступал.
— Я вот о чем: кто-нибудь вообще пробовал присмотреться к нему?
— Присмотреться? — переспросила мама.
— Вы же постоянно имеете дело с преступлениями, — гнул свое Генри. — Тот, кто на первый взгляд кажется преступником, на деле далеко не всегда им является. Разве не так?
— Генри, — вмешалась я, — сейчас не время.
— Вообще-то, — заметила мама, — в девяти случаев из десяти кто кажется виновным, тот и виноват.
Генри вспыхнул.
— Передай, пожалуйста, соль, — попросила я.
Но было уже поздно. Мама отложила вилку, повернулась лицом к Генри:
— Продолжайте.
Генри отхлебнул воды и в надежде на спасение глянул на меня. Но я-то свою маму знаю. Раз уж он втянул ее в этот разговор, придется довести его до конца.
— Я просто не могу отделаться от мысли, что Торп в этой истории преследовал какие-то свои цели. В книге он постарался представить дело так, будто смерть Лилы выгодна Мак-Коннелу, а в действительности тот только проиграл. Карьера, семейная жизнь — все повисло на волоске. Но Мак-Коннел, судя по всему, парень с головой, у такого достанет ума просчитать последствия собственных поступков. Что-то тут определенно не сходится. Строго говоря, единственный, кто в конечном итоге остался в выигрыше, это сам Торп.
— Да что стряслось? — воскликнула я. — С чего вдруг ты заговорил об этом?
— Прочел кое-что в «Эсквайр», — отозвался Генри. — Одну интересную статейку о прошлогодних убийствах в парке «Золотые Ворота».
— Три бродяги, которых убили во сне? — спросила мама.
Я тоже помнила это дело. Месяца два в округе только о нем и говорили. Жители близлежащих районов жили в страхе.
— Именно, — кивнул Генри. — А написал статью Торп.
— Подумаешь! — Я пожала плечами. — Он этим зарабатывает на жизнь. Чужими трагедиями.
— Так-то оно так, только странный у статьи тон, — заметил Генри, — чуть ли не радостный. Мне показалось, Торпу доставляет удовольствие копаться в кровавых подробностях. Ведь полиция никогда не объединяла эти три убийства в одно дело — первое было совершено ножом, второе — огнестрел, последнее — с помощью удавки, — а Торп талдычит о «серийном убийце из парка „Золотые Ворота“», будто заведомо ясно, что все убийства связаны друг с другом. Будто он знает нечто такое, что больше никому не известно.
Как не похоже на Генри, думала я. Какая бестактность, и в такой неподходящий момент. Зря я взяла его с собой. Маме и без того сегодня тяжело.
— Ты спятил! Что ты городишь? — резко бросила я.
Мама снова взялась за вилку, помешала салат на тарелке.
— Ничего, Элли, — сказала она. — Я и сама о том же задумывалась.
— Ты?
Она ласково взглянула на меня.
— Само собой, Торп не может быть причастен. Это неправдоподобно. Но о чем только я не думала. Все в уме перебрала — любые возможности, самые фантастические. Сотни разных версий. Положа руку на сердце, я допускаю, что Питер Мак-Коннел мог это сделать. Но если бы мне самой пришлось вести это дело как юристу, я была бы вынуждена признать, что выдвинутые против него обвинения неубедительны. Одно я знаю наверняка. — Она потянулась через стол и сжала мою руку. — И дня не проходит, чтобы я не думала о твоей сестре. Пятнадцать лет — ни единого дня.
Двадцать пять
На «Google» отыскалось более сотни ссылок на «Билли Будро», но стоило добавить «Сан-Франциско» в строку поиска, как их осталось с полдюжины. Одна из них привела на полупустую страничку «Википедии», отданную группе под названием «Звуковой вал». В двух коротеньких абзацах сообщалось, что группа была создана в Сан-Франциско в 1975 году и к 1979-му уже распалась. Имелось одно-единственное упоминание человека, которого я разыскивала. «Билли Будро, бас-гитара».
На запрос о «Звуковом вале» всплыл сайт фанатов группы, обновлявшийся последний раз пять лет назад. Сам сайт был в основном посвящен солисту по прозвищу Звук, который после распада группы пустился в одиночное плавание по морям шоу-бизнеса, не преуспел и открыл автомастерскую в городе Аврора, штат Колорадо. Его настоящее имя Кевин Уолш. Первый сольный альбом «Моторные дни» вышел в 2003 году и получил благосклонный отзыв в парочке заштатных журналов. Автор рецензий сокрушался по поводу того, что альбом остался незамеченным серьезными изданиями, если не считать упоминания через запятую, среди прочих альбомов, в журнале «Paste». Другой незаурядный член группы, Дрю Летейд, согласно сайту, проживал в Гринвиче с женой — банковской служащей — и двумя детьми и с журналистами не общался. Что касается Билли Будро, сайт лаконично извещал: «местопребывание неизвестно».
Разыскать «Мастерские Уолша» в Авроре, штат Колорадо, не составило труда. В половине пятого вечера по местному времени я набрала номер.
— Уолш слушает, — раздалось в трубке. — Чем могу помочь?
— Кевин Уолш?
— Да.
— Я звоню насчет группы.
— Какой группы?
— «Звуковой вал».
Он расхохотался.
— Привет из прошлого, можно сказать. Вы что, с телевидения? Не в обиду будь сказано, но выступать в вашем шоу «Группы встречаются вновь» меня как-то не тянет. Дело прошлое, совсем другая жизнь.
— Я всего лишь старая знакомая Билли Будро.
— Знакомая? Звучит так, будто он вам денег должен. Вам придется записаться в очередь.
— Нет, дело вовсе не в этом. Просто захотелось узнать, что с ним сталось. — Уолш не вешал трубку. Хороший знак, решила я и ринулась вперед: — Вы случайно не знаете, где он?
— Извиняюсь, подружка. Понятия не имею! Мы с ним лет сто не пересекались. Люди болтали, впутался он в какие-то скверные дела.
— В какие дела?
— Кокаин, амфетамин, всякое такое.
— А когда группа распалась, он остался в Сан-Франциско или уехал?
— Какое-то время там жил, а долго ли — не знаю. Он нас всех сторонился. Таким засранцем стал — слова не скажи. А жаль, классный парень был, пока не связался с дурью. Гений бас-гитары! — Уолш помолчал. — Знаете, нас даже как-то помянули в одной статье в «Роллинг Стоун». Бен Фонг-Торрес[47] написал. В восемьдесят четвертом, что ли… Я-то к тому времени уже здесь обосновался, про группу и вспоминать не хотелось — оскомину набила. Дрю забурел. Вот Фонг-Торресу и пришлось толковать с Билли. — Он снова надолго умолк. — Больше мне и сказать нечего.
— Спасибо, вы мне очень помогли.
— А то! Если вдруг сломается машина в Колорадо, к кому обращаться — знаете.
Имя Бена Фонг-Торреса было мне знакомо. Я видела фильм «Почти знаменит», где Бен стал прототипом главного героя, читала его очерки об известных музыкантах. Он по-прежнему жил в Сан-Франциско и выпускал еженедельную передачу на радио. Четырьмя днями позже я стояла на холме в Кастро, перед трехэтажным домом Бена. Я позвонила на радио, и Бен тут же откликнулся по электронной почте.
Я надавила на кнопку звонка. Щелкнул домофон.
— Мисс Эндерлин?
Голос у Бена был глубокий и звучный, в точности как по радио. С таким голосом, надо думать, ему не составляет труда завязывать знакомства с женщинами.
— Да. Здравствуйте.
— Вы явились на час раньше. Придется вам зайти позднее.
— Простите, — пролепетала я и с опозданием сообразила, что он шутит.
— Лифт — вперед и налево. Третий этаж.
Очередная шуточка, решила я, но, войдя внутрь, обнаружила, что лифт и впрямь имеется. Маленький, с ковром «под леопарда» и стенами «под золото». Я вошла, нажала кнопку с цифрой 3 и глянула на себя в зеркальце — нет ли помады на зубах. Ненавижу лифты в нашем городе. Вечно представляются всякие ужасы — землетрясение, например: сирены воют, от подземных толчков содрогается все здание, а я застряла, одна-одинешенька, между этажами, и стены рушатся вокруг меня… Лила все подтрунивала надо мной и пыталась на свой лад успокоить — высчитывала вероятность того, что я могу оказаться в лифте точно в момент главного толчка, но перед моими страхами логика была бессильна.
Лифт, дернувшись, остановился, дверь открылась. Передо мной стоял хозяин, в черных брюках и серой рубашке, франтоватый и моложавый, больше сорока пяти не дашь. Я быстренько подсчитала. Писать для «Роллинг Стоун» он начал в 1967-м (журнал только-только выбрался из пеленок), стало быть, ему должно быть не меньше шестидесяти. Вероятно, рок-н-ролл сохранил ему молодость.
— Милости прошу, — широко улыбнулся Бен.
— А я вам кое-что принесла, — и я сунула ему в руки коробку, — из ресторана «Чау». Полцыпленка с картофельным пюре. Ваше любимое. Вы сами говорили в интервью журналу «Сан-Франциско», я читала.
— Благодарю. Не стоило.
«Вот дура! — мелькнуло у меня в голове. — Покушать ему принесла!» Но что поделаешь — терпеть не могу приходить в дом с пустыми руками, а придумать, что подарить человеку, у которого наверняка есть все что пожелаешь, ума не хватило. Вообще-то, если мне хочется сделать кому-нибудь подарок, небольшой, но от души, я собираю на диск музыкальное ассорти, но записать диск для Бена Фонг-Торреса — это все равно что приготовить говядину по-бургундски для Энтони Бурдена[48].
— Располагайтесь, — сказал он. — А я пойду выложу ваш презент на тарелку.
В гостиной, как и в лифте, пол устилал ковер в леопардовых пятнах. Первое, на что я обратила внимание, — вид за окном, точнее — за целой стеклянной стеной, выходившей на север. У подножия холма мигала неоном вывеска «Кастро»; перегоревшая «К» придавала старейшему кинотеатру Сан-Франциско вид милой заброшенности. Если не знать, нипочем не догадаешься, что за увечной вывеской скрывается великолепие барочного интерьера, что каждый вечер перед семичасовым сеансом из оркестровой ямы торжественно всплывает орган. Был ясный вечер, вдали, за мерцающими огнями города, вырисовывался мост «Золотые Ворота».
Я подошла ближе. Внизу, в путанице улиц, я различала знакомые дома, крыши многоэтажек, которые помнила с детства. Непривычно было смотреть на свой город с такой головокружительной высоты. С этими улицами я была на дружеской ноге, знала их вдоль и поперек. Тысячи раз проходила по тротуарам, засматривалась в окна, подглядывая за чужой жизнью. И к нам в дом, знаю, так же заглядывали бесчисленные прохожие. Окна в нашей гостиной никогда не зашторивались. Мама любила естественный свет и деревце каллистемона во дворе, любила разглядывать в окно прохожих. Когда умерла Лила, она поставила ставни. Несколько лет подряд ставни почти не открывались, и наш некогда светлый и радостный дом стал сумрачным и хмурым.
Должно быть, люди, что живут там, далеко внизу, смотрят на этот дом на холме и выдумывают всякие истории о его жильцах. Интересно, а когда Бен стоит перед своим окном в целую стену, оглядывая сверкающий город, не приходит ли ему в голову, что в эту самую минуту кто-то может следить и за ним? Большинство из нас живет с верой в недоступность его личной жизни для чужих глаз и ушей. Я и сама долгие годы этим грешила. А потом в кабинете у Торпа с биноклем в руках всматривалась в свое бывшее окно. И всего несколько недель назад, в кафе в Дириомо, столкнулась с человеком, который проведал о моем пребывании в городе задолго до того, как я узнала, что и он здесь. А почти двадцать лет тому назад, в ресторанчике на Северном пляже, сама была наблюдателем и следила за Питером Мак-Коннелом. Где границы этой сети всеобщего шпионства? Все мы наблюдатели и наблюдаемые. Личная жизнь — отрадная иллюзия, не более.
Стоя в задумчивости у окна, я подняла глаза и в стекле заметила отражение Бена. Он застыл неподвижно, руки в карманах. Иные мгновения совершенны в своей соразмерности. Это было одно из таких мгновений: я смотрела на Сан-Франциско, Бен смотрел на меня. В стекле наши взгляды встретились.
— Забавно, — заговорил он. — Каждый раз одна и та же история: приходит в дом новый человек и через пять секунд оказывается на этом самом месте.
— Потрясающий вид.
— Верно. Вот если б еще город раскошелился на вентилятор покрупнее — туман разгонять, совсем было бы замечательно.
Не слушая никаких возражений, Бен налил мне бокал «Мальбека» 2002 года из винодельни одного своего приятеля в Патагонии. Мы сидели возле кухни, за маленьким столиком, ели моего цыпленка, которого Бен честно разделил пополам, и запивали вином. Я знала Бена всего каких-то полчаса, но он мне уже страшно нравился. Не задумываясь пригласить совершенно незнакомого человека в свой дом и с первой секунды повести себя так, словно мы с ним давние друзья, — дорогого стоит. Сразу видно: человек в ладу с этим миром — дар, которому я всегда завидовала. Эх, мне бы уметь так жить! А то как мешает порой собственная боязнь условностей, незначительная, но досадная скованность в общении, от которой до конца никак не избавиться.
Я отпила вина.
— Ну как? — поинтересовался Бен.
— Приятное.
— Чуточку слишком «фруктовое», на мой вкус. Зато цыпленок отменный. А вы сами готовите?
— Немножко. А вы?
— Кое-каким фокусам обучен.
В гостиной зазвонил телефон, Бен пошел ответить. Уголок, где мы сидели, соседствовал с небольшой комнатой, оборудованной телевизором, удобными креслами и домашним караоке. На работавшем без звука телевизоре стояли две статуэтки «Эмми», а на экране светилось меню видеомагнитофона. Воспользовавшись отсутствием хозяина, я быстренько пробежала список. Любопытно, что он записывает? «Кулинарный поединок», «Состязание закройщиков», «Рассказчики»[49] с Элвисом Костелло, фильм «У воды» и «Последний вальс» Мартина Скорсезе про группу «The Band» (классика документального кино).
Я пялилась на экран, когда вернулся Бен.
— Шею свихнете. — Он взял с дивана пульт и выключил телевизор. — Итак, вас интересует Билли Будро?
Я рассказала о Лиле, о белом «шевроле» Будро на опушке леса. В сумке у меня лежала копия статьи из старого номера «Роллинг Стоун», который я откопала в библиотеке. Я вытащила ее и протянула Бену.
— Помню, помню, — закивал тот. — Билли тогда обретался в районе Нижний Хейт. Там мы с ним и встретились, в каком-то баре. На дворе был уже не то восемьдесят третий, не то восемьдесят четвертый год, а Билли все жил как в добрые старые времена, «одуревши от белой отравы на окраине городской». — Сильным и чистым голосом Бен пропел строку из песни — уроки караоке явно не прошли даром. — Знаете откуда? — поинтересовался он.
Он вроде экзаменовал меня. К счастью, я знала ответ.
— Уоррен Зевон[50], «Кармелита».
— Недурно! — Он положил статью на стол. — Я спросил Билли: слушай, между нами, что ты, черт подери, вытворяешь? Гитарист божьей милостью, и такой дар — псу под хвост! А Билли мне и заявляет, дескать, он и сам так думает, не сегодня-завтра возьмется за ум. Хорошо помню, что я ему на это ответил: «Хочется верить, что так оно и будет, но шансы у тебя невелики». Я уже писал для «Роллинг Стоун» и о смерти Джима Моррисона[51], и о смерти Дженис Джоплин[52], и о смерти Элвиса. Так что отлично видел, куда катится Билли.
— Под конец интервью вы сговорились встретиться ровно через год в баре «На крыше». Он обещал, что станет другим человеком. Даже посулил угостить вас выпивкой. Сбылось?
Бен покачал головой.
— Прождал его битых сорок пять минут, а он так и не объявился. Среда, четыре часа пополудни, сижу один как перст, тяну виски, а вокруг только разбуянившиеся молодчики с мальчишника. Ну, думаю, Билли или помер, или накачался наркотой в каком-нибудь мотеле в Тендерлойне.
— И все? Больше вы его не видели?
Бен на мгновение задумался. Разговаривая с ним, я подметила одну штуку: в его речи не было фальстартов, никаких «гм», «э-э» или других словесных тиков. Он говорил ясно и точно, как по написанному. Должно быть, на радио наловчился.
— Как-то натолкнулся на него в студии «Амеба Рекордс», в отделе «Ритм и блюз». Странный на нем был наряд — комбинезон и сапоги. Долго тряс мне руку, долго извинялся, что в тот раз продинамил. А потом предложил меня угостить, и мы с ним отправились в «Зам Зам», пили мартини в задней комнате. В те славные времена в барах не подавали ничего крепче мартини, а Билли, на беду, заказал бурбон с кока-колой. Слово за слово, они здорово поцапались с барменом, и нас чуть не вышибли из заведения. В итоге пришлось ему все же смириться с мартини, мы уселись за стол, и он принялся живописать свое житье-бытье. В конце восьмидесятых Билли, как он сам выразился, дошел до ручки, чуть не скопытился, и в начале девяностого решил, что пора завязывать. Вернулся в Петалуму и стал работать у брата на молочной ферме — он, похоже, и раньше живал там время от времени. На тот момент, что мы с ним встретились, так и жил. А в город приехал повидать старых друзей, но что-то у них не заладилось, и Билли в тот же день собирался возвращаться на ферму. Город он, конечно, любил, но чувствовал, что задерживаться ему здесь не стоит, — думаю, слишком много старых привычек таилось по подворотням. Я был рад, что он взялся за ум, но не оставляло ощущение какой-то его уязвимости, непрочности, что ли, будто в любую минуту он может сорваться и все полетит в тартарары. В разговоре он то и дело поминал каких-то демонов-искусителей. Честно говоря, мне с ним было не по себе.
— А каким он был музыкантом?
Бен снова задумался.
— Мог бы многого добиться, но — не преуспел. Хотя, когда мы виделись в последний раз, он еще не забросил музыку. Меня в тот раз здорово время поджимало, но Билли все-таки потащил меня к своей машине, за несколько кварталов, и вручил запись. Четыре новые песни, что он сочинил и записал в подвале у брата. Я вам передать не могу, сколько людей суют мне свои записи! В Сан-Франциско у половины молодых ребят, с которыми сталкиваешься на улице, своя группа. Но эту музыку мне действительно хотелось послушать: я знал, на что способен Будро.
— Ну и как?
— Очень неплохо. Ничего похожего на «Звуковой вал», но определенно стоящая музыка. Где-то она у меня тут.
Мы спустились в холл, стены которого были увешаны черно-белыми свадебными фотографиями: Бен с усами и космами по моде семидесятых, Диана, его жена, — воплощенная эмблема того времени: коротенькая стрижка и белое платьице в обтяжку.
— Отличные снимки, — оценила я.
— Работа Анни Лейбовиц. А вот она сама. — Бен показал на одну фотографию: они с Дианой валяются поперек кровати; у него совершенно невозмутимый вид, а Диана покатывается со смеху, словно он только что отмочил какую-то шутку. Объектив направлен на зеркало, и в уголке видна сама Лейбовиц с фотоаппаратом у лица.
Кабинет располагался дальше по коридору. Широченные окна, стол, обегавший всю комнату, и стеллажи от пола до потолка. По стенам висели фотографии Бена с Рэем Чарльзом, Джонни Кэшем, Бобом Диланом, Джимом Моррисоном, Джорджем Харрисоном, Дженис Джоплин, Грейс Слик и с Биллом Клинтоном.
— Ух ты! — вырвалось у меня. — Отменная у вас компания.
— Просто оказывался в нужном месте в нужное время. В Сан-Франциско, бывало, шагу не шагнешь, чтоб не налететь на какую-нибудь восходящую рок-звезду.
— Я только на прошлой неделе видела, как Деймон Гоф[53] покупал пластинки, — похвасталась я. — А года два назад встретила на пляже Ника Кейва. День был туманный, на пляже ни души, одни серфингисты. Я сижу на бревне, любуюсь на волну, и вдруг кто-то высоченный, худой как щепка и весь в черном шагает по песку прямо ко мне. Перепугалась до смерти, только потом сообразила, кто это. Он мне: «Привет», а я в ответ бормочу какую-то ерунду. «Хороший денек для прогулки», что-то вроде. Дома потом глянула в Интернете — он вечером выступал в зале «Филмор».
— А, да, — кивнул Бен, — я там был, за кулисами. Брал у него интервью. Хороший парень.
— Клевый!
— Клевый? — Он усмехнулся.
От стыда я готова была провалиться сквозь землю; собственное существование показалось тусклым и пресным. Еще один из нюансов жизни в Сан-Франциско: наше поколение обречено как печать нести свою неотесанность.
На стеллажах в кабинете лежали десятки журнальных подшивок, подобранных по названиям и годам. Пока я исследовала стеллажи, Бен рылся в ящике стола.
— Вы пишете для всех этих журналов?
— Угу.
— Здорово, наверное, оставить после себя след.
Бен поднял голову;
— Нет, моя дорогая, это не мой след. Я всего лишь обозреватель.
Я подошла поближе и заглянула ему через плечо. В ящике без видимой системы, вперемешку, были свалены сотни кассет. Минут через десять Бен сдался.
— Увы. Вероятно, одолжил кому-нибудь.
Бен выключил свет и снова повел меня наверх. На площадке третьего этажа он приостановился.
— Я все гадаю — зачем вам это нужно, ведь столько лет прошло?
Что на это ответишь? Человек со стороны легко может решить, что я маюсь дурью.
— Я вам кое-что покажу, можно?
— Конечно.
Я вытащила из-за дивана свою сумку и достала Лилин дневник. Рассказала Бену, что это за тетрадка и как она оказалась у меня.
— Возможно, это покажется странным, — сказала я, — но с тех пор, как дневник у меня — вот уже несколько недель, — я чувствую, что стала гораздо ближе к Лиле. Словно голос ее слышу.
— Понимаю.
— Знаете что-нибудь про гипотезу Кеплера?
— Не-а.
Пристроив дневник на столе, я быстро его пролистала.
— Первым ее изложил Иоганн Кеплер в 1611 году, — начала я. — А заинтересовался он этой задачей, переписываясь с англичанином по имени Томас Хэрриот[54], который в свою очередь пытался помочь своему другу сэру Уолтеру Рейли[55] определить, как лучше складывать на корабельной палубе пушечные ядра. Следовало отыскать самую компактную сферическую структуру, чтобы грузить на корабли как можно больше ядер.
— Ну-ну, — кивнул Бен.
В душе он, надо полагать, сильно недоумевал: куда меня несет? Но терпеливо слушал, словно к нему каждый день являются незнакомки и устраивают лекции по математике в его собственной гостиной.
— Согласно гипотезе Кеплера, наибольшая плотность укладки сферических тел может быть выражена вот такой формулой. — Я протянула Бену тетрадку с Лилиной записью:
π
¯¯ ≈ 0,74048
√18
Чтобы добиться этой плотности, сферические тела, ядра например, нужно укладывать друг на друга слоями: нижний слой в виде шестиугольника, и чтобы каждое ядро касалось соседних, а ядра каждого следующего слоя — в ямки, образованные тройками ядер предыдущего слоя. И так пока последнее ядро не окажется на самом верху пирамиды. Именно так бакалейщики укладывают апельсины.
— Понятно, — снова кивнул Бен.
— На первый взгляд гипотеза Кеплера элементарна.
— Верно, — согласился Бен.
— Вот только один маленький нюансик — гипотеза не доказана по сей день! Я проверяла. Оказывается, в 1998 году американец Томас Хейлс объявил на весь свет: он, дескать, доказал гипотезу Кеплера. В 2003 году специально созданный комитет заявил, что на девяносто девять процентов уверен в правильности доказательства Хейлса. Но в этом-то одном проценте все и дело! Математический мир все еще ждет окончательного и бесповоротного доказательства гипотезы Кеплера.
— Горькая пилюля для Томаса Хейлса.
— Согласна. Но ведь математиков можно понять, не так ли? Они должны быть уверены. Вот и я на девяносто девять процентов уверена, что Питер Мак-Коннел не убивал Лилы, но до тех пор, пока не отыщу всех до единого фактов, пока не разложу их все по полочкам и не разберусь, что к чему, это дело останется лишь гипотезой. Я должна знать наверняка. Вы меня понимаете?
— Прекрасно понимаю. — Бен положил руку мне на плечо. — И желаю вам удачи, мой друг.
Двадцать шесть
Как-то в пятницу, приблизительно через полгода после смерти Лилы, мама послала меня в ее комнату — «поглядеть, что можно сделать». Я заранее знала, что у меня рука не поднимется хоть что-то выбросить. Лила никогда не была барахольщицей, что вроде бы облегчало задачу, но каждая вещица ее небогатого хозяйства была дорога ее сердцу. И убирать в комнате не было особой нужды, потому как Лила обожала порядок. Почти все свои пожитки она держала в красных коробках на стеллаже у письменного стола, и каждая коробка была снабжена белой этикеткой с напечатанным на ней перечнем содержимого: сувениры, документы, письма. Математические тетради — на книжной полке над столом, строго по датам, слева направо. Швейная машинка примостилась на деревянном столике, плотно втиснутом в эркер; под столом — корзинка со шпульками, катушками, ножницами, подушечкой для булавок и металлической портновской линейкой. Перед исчезновением Лила как раз затеяла шить юбку из лоскутов, слева от машинки высилась аккуратная стопка шелковых квадратиков всевозможных расцветок. Я разложила лоскутки на кровати. Ни один не подходил к другому — на мой взгляд, а вот у Лилы, дошей она юбку, наверняка сложилось бы интересное полотно. Она шила с третьего класса, специально ходила на курсы кройки и шитья. А потом сама училась, осваивала новые приемы, набираясь опыта с каждой вещью. Она и меня пыталась приохотить, только у меня никогда терпения не хватало. Швы морщились, молнии были перекошены, пуговицы не лезли в петли, и платье сидело как на чучеле.
— Зачем тебе это надо? — спросила я однажды во время очередного безрезультатного урока портняжного мастерства. — Ты же знаешь, как мама относится к одежде. Купит тебе что угодно.
Лила, зажав иголку в зубах, распарывателем уничтожала выточку, которой я искалечила простую расклешенную юбку.
— Успокаивает, — прошамкала она и вынула иголку изо рта. — У шитья много общего с математикой. Ищешь самое изящное решение, тщательно подгоняешь детали друг к другу, чтоб вышло неожиданно, а главное — красиво. — Лила поднесла материал к свету и выдернула последнюю нитку. — Готово! А теперь начнем все сначала.
Я так и слышала ее голос, сидя в ту пятницу у нее в комнате, словно Лила была где-то рядом. Но долго ли так будет продолжаться? Видеокамеру родители купили только два года назад, записей Лилиного голоса у нас было всего ничего. Рано или поздно знакомые черты начинают стираться из памяти. Со страхом ждала я того дня, когда мои воспоминания о Лиле потускнеют, станут расплывчатыми.
Я завернула лоскуты в папиросную бумагу и убрала в верхний ящик своего комода. Не знаю, что я собиралась с ними делать. Точно не юбку, как хотела Лила. Сама я бы только напортачила. Разве что заказать кому-нибудь из них одеяло? Идея иметь лоскутки под рукой пришлась мне по душе — всегда можно потрогать эту вещицу, в ней будет дух Лилы. Потом я частенько извлекала сверток из ящика, разворачивала бумагу и часами раскладывала лоскуты на кровати то так, то эдак, выискивая в замысловатых рисунках некий знак ее присутствия. Когда на первом курсе колледжа я покинула родительский дом, лоскуты я забрала с собой. Пару шелковых квадратиков пришила к подкладке своего рюкзака, и они путешествовали со мной по Европе. И много позже, отправляясь в дальний путь, всякий раз брала с собой один-два лоскутка.
Вернувшись в комнату сестры, я открыла дверцы гардеробной. Вешалки — все как одна белые — висели в одном направлении. Сначала блузки, затем юбки, потом брюки и платья. «Возьми то, что тебе годится, а остальную одежду раздай Лилиным подружкам», — сказала утром мама, собираясь с папой в Напу, на свадьбу к друзьям. Сегодня, оглядываясь назад, я диву даюсь: как можно было оставить меня, совсем девчонку, один на один с призраками, витавшими в ее комнате? Тогда же я просто списала мамину просьбу на рассеянность и странности в поведении, появившиеся у родителей после гибели Лилы.
Перебирая вешалки в тесной гардеробной Лилы, я припомнила сказанное мамой поутру. Что за диковинный мир она себе сочинила, если верит в существование стайки подружек, которые ждут не дождутся, когда их осчастливят ношеными Лилиными нарядами? Слов нет, родители любили нас, старались участвовать в нашей жизни, но обоим было невдомек, какая Лила затворница. Но что, если я и сама заблуждалась на ее счет? Бездумно верила, что по выходным она сидит дома с родителями исключительно потому, что ей так нравится. А вдруг ей нужны были подружки, приятели, только она не знала, как ими обзаводятся.
Дело кончилось тем, что я отправилась в хозяйственный магазин за два квартала от дома и купила несколько больших прорезиненных мешков, в которые и запихала красные коробки, швейную корзинку, книжки, тетрадки и постельное белье. Себе оставила только потрепанную «Апологию математика». Не раз потом перечитывала я тоненькую книжицу, завороженная простотой, с которой Харди описывает красоту этой науки.
Мешки я один за другим стащила в родительский чулан и через небольшой люк пропихала в подпол. Замирая от страха, с фонариком в руках продираясь сквозь липкую паутину и клубы пыли, я спустилась в затхлую духоту и затолкала мешки в самый дальний угол, куда никто никогда не заглядывал. Меня грызла совесть — вещи Лилы останутся здесь всеми забытые. Мама, конечно, не станет спрашивать, что я с ним сделала. Утром, когда они собирались на свадьбу, прозвучал немой приказ: вещи должны исчезнуть, и отвечаю за это я.
Как я жалела потом, что тем же днем позвонила единственному человеку, которому могла довериться, — Эндрю Торпу. Еще дрожа внутри от пережитого, я впустила его в дом и выложила все как на духу.
— Можно посмотреть? — попросил он.
Ну я и повела его в родительскую комнату, потом в чулан, и открыла люк в подпол, и смотрела, как он, согнувшись, лезет вниз и светит себе фонарем. И все ломала голову: что за интерес ему ползать в пыли, разглядывая старые вещи? Только позже я поняла, что в подпол он полез за достоверностью — чтобы потом описать его тесноту, запах плесени, синий отблеск дешевых резиновых мешков.
Много лет спустя, когда мама готовилась продавать дом и переезжать в Санта-Круз, она позвонила мне и сказала дрогнувшим голосом:
— Я спускалась в подпол. Я думала, ты все раздала.
Все эти годы она и не подозревала, что Лилины пожитки хранятся чуть ли не у нее под кроватью. Я ушла с работы пораньше и поехала в дом, где прошло мое детство. Вместе с мамой мы перебрали вещи. Среди прочего нашли пластинку Кэта Стивенса[56] «Числа», выпущенную в 1975 году. Это одна из трех частей альбома, но у Лилы были только «Числа». Одно время она ставила ее каждый день после школы, несколько месяцев подряд, так что песни намертво врезались мне в память. А потом она перестала ее ставить, и я забыла про пластинку. Я обтерла пыль, взглянула на названия песен на тыльной стороне конверта, и тотчас в мозгу что-то вспыхнуло, в ушах зазвучали разом все мелодии вместе со словами. Первой мыслью было — немедленно послушать пластинку, но на чем? Родители давным-давно выбросили проигрыватель, а среди моих знакомых не осталось ни одного человека, у кого водился бы такой раритет.
— Если очень хочется послушать, поищи в Интернете, — сказала мама.
— Попробую, — ответила я, но не собралась.
Двадцать семь
— Зовут Стив, — сказал Торп, — фамилия Стрэчмен.
Мы сидели в кафе «Простые радости». Был вечер понедельника, а чуть раньше, во второй половине того же дня, я встречалась с хозяином заведения, Ахмедом, который покупал у нас кофе с восьмидесятых годов. Мы и сейчас поставляли ему зерна, но с недавнего времени он сам стал обжаривать их в магазинчике по соседству с известным кафе. Красивая бронзовая машина разместилась прямо перед витриной, и в четыре пополудни вся местная ребятня собиралась на тротуаре, чтобы полюбоваться, как она с грохотом просыпается.
Это был вечер живой музыки, и в небольшой нише рядом с кухней уже устраивался Патрик Уолф, исполнитель народных песен.
Я записала в блокнот имя Стива Стрэчмена, прочла вслух Торпу — правильно ли, и вопросительно произнесла.
— Что-то очень знакомое…
— Он был аспирантом на факультете математики в Стэнфорде, — ответил Торп. — Претендовал на Гильбертовскую премию.
— Которую должна была получить Лила.
Торп кивнул.
Гильбертовская премия присуждалась в феврале каждого четного года перспективному аспиранту за работу, имеющую отношение к одной из знаменитых нерешенных проблем Дэвида Гильберта. Шли слухи, что 1990-й станет годом Лилы. Последние месяцы премия вела ее как свет маяка на горизонте. Возможность добиться ее кружила Лиле голову.
— Лила занималась Гольдбахом, — объяснял Торп, — а Стрэчмен работал над гипотезой Ходжа — заметь, не входящей в список проблем Гильберта. Однако Стрэчмен полагал, что эта его работа в итоге прольет свет на гипотезу Римана. Как и Лила, он был одаренным парнем. Прогремел еще в школе, на международной математической олимпиаде в 1982-м. Насколько я понял из разговоров, в Стэнфорде его недолюбливали. Заносчивый, завистливый к чужим успехам, многих раздражал — прикинется, бывало, заинтересованным в работе других студентов, слушать слушает, а сам отмалчивается. Для математиков же общение имеет колоссальное значение, они постоянно обмениваются информацией. А Стрэчмен был чертовски скрытен. Всякий раз, как измыслит что-нибудь, что посчитает интересным или важным, — запишет, запечатает в конверт и сам себе по почте отправляет, чтоб иметь доказательство, когда и что именно пришло ему в голову. Так трясся над своими идеями, так боялся, что какую-нибудь из них уворуют, что совсем свихнулся — все тетрадки с расчетами, все пресловутые конверты держал дома под замком. Интересная деталька: однажды к нему из-за домашнего скандала соседи вызывали полицию. Мать, видишь ли, делала у него в комнате уборку, ну и попробовала открыть запертый ящик, а он ее за этим застукал и такое устроил!
— То есть он жил с матерью?
— Да.
— Наводит на размышления, — заметила я. — Хотя ведь Лила тоже жила дома, но меня это как-то не смущало.
— Но он-то парень, совсем другое дело. И к тому же он был старше.
Уолф запел. Очень неплохо.
— Пошли на улицу, — предложил Торп. — Шумно становится.
Пробираясь к выходу, я поздоровалась с подружкой Уолфа — детсадовской воспитательницей по имени Мэри, а еще с Пегги и Мэттом, у которых была студия пилатеса через дорогу. Что мне нравится в сан-францисских кафе: заходи в любое почаще — и начнешь узнавать людей в лицо, будешь в курсе всех их дел.
За последний час на дворе заметно похолодало. Туман, который ранним вечером, когда я приехала сюда, только собирался над океаном, теперь вполз на улицы. Когда туман вот так прижимается к земле, он напоминает мне о сумрачных лесах Коста-Рики и Перу. Я накинула куртку и присела к маленькому деревянному столику, напротив Торпа. Тот, нагнувшись, потрепал по кудлатой спине белого пса, привязанного к парковочному счетчику, и с неожиданной лаской в голосе спросил:
— Что, малыш, замерз?
И глянул на меня — вижу ли. А мне пришло в голову, что и этот душевный порыв, как всегда, когда дело касается Торпа, скорее всего, рассчитан на создание нужного образа. Иначе почему он не обзаведется собственной собакой, если так их любит?
— Значит, Стрэчмен с причудами. Ну, еще завистливый, — вернулась к разговору я. — То же самое можно сказать про дюжину моих знакомых.
— Допустим. Но слушай дальше. Через несколько дней после смерти Лилы Стрэчмен поинтересовался у одного из преподавателей насчет премии.
— Это не преступление.
Торп подался вперед:
— Как мне передали, вопрос был сформулирован так: «Кто первый в очереди на Гильбертовскую премию теперь, когда Эндерлин сошла с дистанции?»
— И вы не сочли это важным и не вставили в книгу?
— Я-то вставил. Редакторша вырезала. Она, видишь ли, решила, что впутывать еще одного университетского математика — это уже чересчур. В общем-то, я с ней был согласен: читатель в состоянии управляться лишь с определенным количеством героев, а потом они у него все смешиваются.
— Кто вам рассказал о том вопросе Стрэчмена?
— Сам преподаватель, к которому он обратился.
По словам Торпа, ни для кого не было секретом, что премия достанется либо Лиле, либо Стрэчмену. Они шли ноздря в ноздрю. Но в ноябре Лила выступила в Колумбийском университете с докладом, который имел шумный успех, и шансы ее возросли, победа была практически в руках. Она, конечно, ни за что не призналась бы, но я и так знала: она спит и видит эту премию.
— Ну и что, получил Стрэчмен премию?
— Да.
— Где же он теперь?
Я приготовилась услышать: теперь он всемирно известный математик, Гильбертовская премия отомкнула ему врата к успеху, он доказал гипотезу Ходжа и стал научным светилом. Сейчас, когда ему как следует за сорок, пожинает плоды ранних свершений. Однако я попала пальцем в небо.
— Математику давно забросил, пробовал себя в качестве инженера, а когда не выгорело, заделался подрядчиком. Года два назад его поминали в новостях: он ремонтировал въезд на Мост через залив после крупной аварии с автоцистерной.
— Быть не может! Он тот самый Стрэчмен?
— Угу.
Громкая была история. Глубокой ночью бензовоз с тонной горючего в утробе врезался в ограждение. Языки пламени взметнулись в черное небо. Водитель погиб, но внимание общественности привлекла не столько его смерть, сколько тот факт, что пострадал удобный въезд. Бензовоз одним ударом растянул двадцатиминутную поездку до трех часов как минимум. Подряд на ремонт дороги выиграла компания Стрэчмена. Предполагалось, что на это потребуется полгода, но Стрэчмен управился за один месяц. Для завершения всех работ в выходные накануне Дня труда[57] движение по Мосту через залив было полностью перекрыто; в новостях твердили, что ко вторнику Мост, разумеется, не откроют. Однако народ, возвращавшийся домой в понедельник ночью, к собственной радости, обнаружил, что Мост открыт — на одиннадцать часов раньше вновь назначенного срока. Именно этот последний штрих принес Стрэчмену славу. «Кроникл» поместила его портрет на первой полосе, с подписью: «Самый расторопный человек Сан-Франциско».
Что такого в наших местах, что люди слетаются сюда как мухи на мед? Ведь натуральный омут, вывернутый наизнанку курорт на берегах холодного океана… Безбожная дороговизна жизни, наводящие тоску туманы, дамоклов меч землетрясений, язва бездомности — и тем не менее Сан-Франциско действует на манер огромной липучки. Сколько людей — и не сосчитать! — уверяли меня, что приехали в Сан-Франциско года на два, не больше, а в результате пускали корни на десятки лет. Начинающие рок-звезды, талантливые ученые, непризнанные писатели, дряхлеющие хиппи — ни у кого не хватало духу покинуть эти места. Быть может, дело в воде из долины Хетч-Хетчи, которую мы пьем. Или в климате. А может, в еде. Или в музыке. Неважно — я их понимаю.
Тем же вечером, простившись с Торпом и вернувшись домой, я отыскала в дневнике у Лилы проблему, которой занимался Стрэчмен. В начале одной из страниц она вывела: Гипотеза Ходжа[58], а ниже:
Гипотеза описывает классы когомологий на комплексных проективных многообразиях, реализуемые алгебраическими подмногообразиями.
Вот и поди разберись, если даже смысл большинства слов до тебя не доходит. Как будто они на чужом языке.
Той ночью я прочитала все написанное Лилой о гипотезе Ходжа. Я переписала каждую страничку и заново прочла. Залезла в Интернет, отыскала задачу там и попробовала одолеть, разбирая по косточкам каждое предложение. Я обнаружила, что гипотеза все еще не доказана и что она считается настолько трудной и важной, что тому, кто ее докажет, обещана награда в миллион долларов. Я нашла несколько математических сайтов, излагавших задачу с разной степенью сложности, и штудировала каждый из них, пока в глазах не поплыло. Я не спала всю ночь, но и утром не приблизилась к пониманию ни на йоту. Так же и с тайной Лилиной гибели: можно было браться за ее разгадку с любой стороны, перебирать любые возможности, придумывать сколько угодно историй. Можно было даже перевернуть страницу вверх ногами, как делала Лила, когда ее заклинивало. А что толку?
«Воображение важнее знания», — сказал Эйнштейн. Эта цитата и еще несколько других были записаны мелкой скорописью на отвернутых полях в дневнике у Лилы. Она словно специально собрала эти крупицы мудрости и припрятала как подспорье на черный день — когда, например, задача покажется неподъемной. Думаю, талант Лилы заключался в неудержимом воображении, в ее способности представлять то, чему ее еще не учили, в умении соединять несовместимые, казалось бы, понятия и получать нечто полное смысла и значения. Мне же явно не хватало воображения, чтобы уразуметь, что произошло с Лилой. Должно быть, эта задача мне не по зубам. И все же я не отступлю. Буду искать, пока не найду ответа или не упрусь в стенку.
Я погладила страницу, поднесла дневник к лицу, вдохнула запах старой бумаги, чуть отдающий свинцом. Встреча с Мак-Коннелом перевернула мою жизнь с ног на голову. Но в некотором смысле она вернула мне Лилу. Эта вещица из ее жизни, эта хроника ее дней — она стала окном, в котором я, пусть даже мельком, могла увидеть сестру, какой она была в лучшую, счастливейшую пору. Столько лет пропажа дневника мучила меня. Не хотелось и думать, что тетрадка, которой Лила доверяла самые свои дорогие мысли, окажется на помойке или, того хуже, в руках убийцы. Теперь дневник вернулся ко мне, и на душе стало легче. Более того, благодаря дневнику я чувствовала: Лила рядом, ближе, чем все прошлые годы.
Двадцать восемь
Наутро, явившись на работу, я не увидела Доры на ее обычном месте в приемной. Пуст был и дегустационный зал. Я натянула обязательную бумажную шапочку и открыла дверь склада, где Реджи засыпал в жаровню порцию бобов. Машина ревела; чтоб он услышал меня, пришлось орать во всю глотку.
— А где все?
Реджи махнул рукой через плечо.
— Что там такое?
Он усмехнулся и пожал плечами.
В кладовой собрались в кружок Дженнифер Уилсон, начальник склада Бобби Лав, Майк и Дора. Все оживленно болтали с кем-то, кто стоял ко мне спиной.
— Элли, смотри, кто пришел! — воскликнула Дора.
Он обернулся и улыбнулся. Выглядел замечательно, как всегда. Джинсы, черный свитер, диковинные башмаки, растрепанная шевелюра.
— Сколько лет, сколько зим! — сказал Генри.
— Привет, — отозвалась я. А затем, поскольку в первый раз получилось едва слышно, повторила громко и весело, слишком громко и весело: — Привет!
Я подошла ближе. Генри по-медвежьи облапил меня, я тоже обняла его.
С тех пор как Генри исчез — тогда, в Гватемале, три года тому назад, — я часто представляла себе нашу встречу. Но вот так, на глазах у зрителей, — никогда. И никогда не думала, что предстану перед ним в джинсах, растянутом свитере и дурацкой бумажной шапчонке.
Дора поймала мой взгляд и постучала пальцем по зубам. Сие означало, что у меня самой на зубах помада. Я поспешно прошлась по ним языком.
— Маленькое дежа-вю? — ухмыльнулся Майк.
Все прекрасно знали историю нашего с Генри знакомства, которое случилось как раз здесь, на складе, семь лет назад. В тот день он пришел устраиваться на работу, Майк водил его по зданию и со всеми знакомил. На мне тогда тоже была бумажная шапка, не самый удачный наряд для первой встречи. Майк представил нас друг другу и убежал — его позвали в контору. А Генри, как только мы остались вдвоем, заметил:
— Головной убор вам к лицу. Ямочки подчеркивает.
— Если вы это в надежде, что я замолвлю за вас словечко перед боссом, то зря, — заявила я. — Должна сразу предупредить: у меня здесь никакого влияния.
— А это неважно. Хотите пойти со мной в мюзик-холл на Грэхема Паркера?[59]
У меня были другие планы, но я уже знала: все отменю! Я провела Генри по складу, Майк так и не объявился, и мы вместе вышли на солнце.
Я стянула с головы шапку.
— Так еще лучше, — сказал Генри.
Тем же вечером я заявила Майку, что дураком он будет, если не возьмет Генри.
В мюзик-холле, в антракте между отделениями, Генри рассказывал о Франциско де Малло Палхета, португальско-бразильском чиновнике, приглашенном в 1727 году в качестве посредника на очередные пограничные переговоры между Французской и Голландской Гвианой. Палхете полагалось держать нейтралитет, да только у прыткого чиновника руки чесались заполучить семена кофе, вывозить из Гвианы которые было запрещено под страхом смерти.
— И каким же образом ему это удалось? — поинтересовалась я. Мы сидели в буфете, друг напротив друга, моя рука лежала на столике.
— А он соблазнил жену французского губернатора, — отвечал Генри и тронул кончиками пальцев мои пальцы. — А когда уезжал, она преподнесла ему букет цветов, в который запрятала горсть кофейных ягод. Так они попали в Бразилию. — Его рука потихоньку накрыла мою. — Знаешь, как Руми[60] описывает кофе в стихах?
— Неужели будешь стихи читать? С ума сойти!
— «Когда темный аромат наполняет нас, — тихо заговорил Генри, и мне пришлось податься вперед, чтобы расслышать, — дух Божий и все тайны души и разума ведут нас сквозь вечную ночь».
Будь это кто другой, расхохоталась бы ему в лицо. Но Генри — рассказчик непревзойденный.
И вот он вернулся. Как мне теперь вести себя с ним? С человеком, с которым я мечтала прожить всю жизнь, которому хотела родить ребенка? Я стояла рядом, вслушивалась в его голос, вдыхала сосновый запах его кожи и сознавала, что мои чувства к нему не в прошлом.
Голова шла кругом, но все же я уловила из разговора, что Генри только-только вернулся в Сан-Франциско с Восточного побережья, собирается открыть собственное кафе и хочет покупать у нас кофе.
Майк, вспомнив, что у него встреча, приобнял Генри за плечи:
— Хорошо, что ты снова с нами. Я знал, что долго ты в Нью-Йорке не продержишься. Метели, индийские забегаловки, где нормального сандвича не сыщешь, — кому это надо?
— Поживем — увидим.
— Ладно, я пошел, — уже на ходу бросил Майк. — Мы ждем крупную партию кофе из Никарагуа. Элли тебе все расскажет.
Остальные тоже разошлись, оставив нас с Генри наедине.
— Ты совсем не изменилась, — заговорил Генри.
— Ты тоже.
Во рту пересохло. И снова прежнее желание придвинуться к нему поближе. Оно было всегда. Даже в последние месяцы перед разлукой, когда мы только и делали, что ругались, мне хотелось дотронуться до него, почувствовать на себе его руки.
— Вообще-то мне пора, — сказал он. — Надо договор на аренду помещения подписывать. Поужинаем в пятницу?
Я ушам своим не верила — позвать меня вот так запросто, мимоходом? Словно он и не уезжал, словно и не было этих трех лет?
— Я бы рада, но у меня другие планы.
Я не соврала. Звонил Бен Фонг-Торрес: он откопал пленку, которую в 1999-м ему вручил Билли Будро. Предложил зайти, послушать.
Мы вышли на улицу. Туман окутал дома, было свежо и тихо. Прямо у дверей стояла машина, серебристая «тойота приус».
— Моя, — Генри положил руку на крышу.
— Ты заделался «зеленым».
— А что? Хорошая машинка для города, — откликнулся он, — шустрая. И все равно нет сил с джипом расстаться — стоит у меня под окнами. Пару раз в неделю вывожу его покататься, чтоб не оштрафовали.
— Я его обожала, твой джип.
— С год назад мы за городом угодили в аварию, так он, джип то есть, меня спас. Недели две я тогда провалялся в больнице, а ехал бы на этой малышке, наверняка сейчас бы с тобой не разговаривал.
Первой мелькнула мысль: «Что было бы, если бы мне сказали, что Генри умер?» И вторая мысль: «А почему он говорит во множественном числе? Кто „мы“?»
Три года я ломала голову: что произошло тогда, что разладилось между нами? Десятки раз мысленно возвращалась к той последней ссоре и проклинала себя: зачем убежала? Надо было остаться в номере, вместе расхлебывать то, что заварили. Мне страшно хотелось спросить у него, почему он ушел тогда? Не потому ли, что просто разлюбил меня? И если так, то когда это случилось? Но вместо этого мы болтали о машинах.
Я краем глаза глянула на его левую руку — кольца не было — и не могла больше сдерживаться:
— Кто это «мы»?
— Не понял?
— Ну, ты сказал: мы угодили в аварию…
Господи, кто меня тянул за язык?
— Я имел в виду, — ухмыльнулся Генри, — мы с джипом.
Двадцать девять
Вечером дома я занялась Стрэчменом. Начала со статьи «Самый расторопный человек Сан-Франциско». Затем в журнале «Марин» прочла интервью, из которого выяснила, что у него двое детей, что он обожает ловить рыбу в открытом море и что он без ума от Фрэнка Синатры и кафе «Перекресток» неподалеку от работы, где каждое утро пьет кофе. Судя по интервью, нормальный мужик, добрый малый. Но ведь с тех пор, как он отхватил Гильбертовскую премию, минуло два десятка лет. Возможны ли такие перемены в людях? Может ли жестокий преступник при благоприятных обстоятельствах превратиться в полезного и даже приятного члена общества?
Утром я отправилась на Южный пляж, в «Перекресток», и без четверти семь была уже на месте. Вывеска в витрине извещала, что кафе открывается в семь. Чтобы убить время, я пошла прогуляться. Накануне играли «Гиганты», все тротуары были усыпаны флажками и пластиковыми стаканчиками с эмблемой клуба. Мужчина в банном халате и тапочках смывал из шланга блевотину перед своим многомиллионным особняком. Школьница в клетчатой юбке и черно-белых башмаках ждала автобуса, то затягиваясь сигаретой, то взирая на нее с ненавистью, как на заклятого врага.
Когда я вернулась к «Перекрестку», кафе уже открылось. Я заказала кофе «Суматра» и пробежала глазами по книжным полкам. Забавная сборная солянка из беллетристики и жизнеописаний: «Шаги в тумане: Сан-Франциско Альфреда Хичкока», «Храм Луны» Пола Остера и, между прочим, «Сон в начале тумана» Юрия Рытхэу. На нижней полке я углядела роман, который недавно прочла, своего рода литературная загадка о серии похищений в Сан-Франциско. Довольно интересно, но затянуто. Где-то в середине я уже начала пропускать длинные пассажи о глубинах памяти и комплексе вины — хотелось поскорее добраться до сути. Тогда мне пришло на ум, что подчас хорошей истории всего-то и требуется что начало, середина и финал. Быть может, потому книги Торпа и пользуются такой популярностью. Он не канителится с заумными материями, а на первых же страницах выводит героев и, не откладывая дела в долгий ящик, методично развивает сюжет. Если взглянуть на его работу объективно — что в моем случае почти невозможно, — придется признать: этот знает, как взяться за историю, как увлечь тебя и подвести дело к убедительной развязке как раз тогда, когда ты еще не готов закрыть книгу, когда тебе хочется еще.
«Некоторые писатели считают, что популярность подобна смерти, — сказал мне однажды Торп (про его планы написать о Лиле я еще ничего не знала). — Им кажется, что они продались, если слишком многим их книжки доставляют удовольствие. Но если — а точнее, когда — издадут мою книгу (постучим по дереву), пусть ее прочитает каждый. Каждый!»
Меня поразило это неприкрытое честолюбие, и я задумалась, не грозит ли и мне подобная гордыня. Впрочем, я из тех любителей литературы, которым больше нравится читать, чем писать. Колледж закончила, а что делать со степенью, понятия не имела. В отличие от Лилы, чей путь был предопределен в тот миг, когда она открыла свой первый учебник по арифметике, мое будущее оставалось тайной за семью печатями. Не амбициям, а счастливому случаю обязана я карьерой в кофейном деле. Тому самому случаю, который Лила искренне презирала.
В «Перекрестке» мало-помалу начал собираться народ. Я всматривалась в лица, выискивая Стива Стрэчмена. Если верить «Марин», он заглядывал сюда каждый будний день — выпивал чашку двойного латте, просматривал газету и направлялся в свою контору в нескольких кварталах от кафе. Я была уверена, что узнаю его по фотографии, прилагавшейся к интервью.
Без четверти восемь Стрэчмен еще не объявился. Я допила вторую чашку кофе, изучила все книжные полки, просмотрела «Нью-Йорк таймс» и потихоньку начала нервничать.
Восемь часов. Стрэчмена нет как нет. Я прикинула, не пойти ли прямиком к нему в контору? Нет, пожалуй, этак можно его спугнуть. «Невзначай» встретиться в кафе не в пример лучше. Интересно, как поступил бы частный сыщик? Или Торп? Как ему удавалось разговорить людей?
В десять минут девятого он вошел в дверь. Я не сразу его узнала — на фотографии он казался много полнее. Защитного цвета брюки, джинсовая рубашка, кожаные ботинки с металлическими набойками на носках. Наряд неброский, но от него разило деньгами: сразу можно сказать, что одежда из дорогущего магазина, где покупатели оставляют сотни долларов за рубаху, которой надлежит производить впечатление суровой простоты. Элегантно растрепанные волосы тронула седина, а ямочки на щеках обратились в складки. Он был красив, но на калифорнийский манер, то есть приятная наружность являлась следствием скорее баснословно дорогой экологически чистой еды и выходных на озере Тахо, нежели папы-маминым наследством.
Стрэчмен взял газету. Сквозь шум кофеварки я разобрала, как он сказал девушке за прилавком:
— Доброе утро, Изабель. Мне простой рогалик, без всяких добавок, пожалуйста, и двойной латте.
Уже с рогаликом, газетой и кофе в руках он обвел глазами переполненный зал, высматривая свободное местечко. Его взгляд упал на меня, я с улыбкой кивнула:
— Свободно.
— Повезло мне. Если утром симпатичная молодая женщина приглашает к себе за столик, значит, день будет удачным. — Он развернул газету. — Я это сказал? Тысяча извинений — мысли вслух.
Самое забавное, что он, похоже, не шутил. Слова и впрямь вырвались ненароком. Я ждала, когда он приглядится ко мне и увидит перед собой образ Лилы.
— Вы Стив Стрэчмен, — сказала я.
У него приподнялась бровь:
— Откуда вы знаете?
— Пользуюсь вашим въездом на Мост. Впечатляющая работа.
Он пожал плечами:
— Просто работа. А весь шум из-за того только, что у нас такие дела, как правило, делаются с черепашьей скоростью. — Стрэчмен смахнул с газеты хлебные крошки. Он не узнавал меня. — Как вас зовут? — спросил он.
— Элли, — отвечала я. — Элли Эндерлин.
Он через стол протянул мне руку. Лишь только наши руки соприкоснулись, по его лицу пробежала тень. Он поспешно отдернул руку, судорожно отхлебнул кофе.
— Что-то не так?
— У меня когда-то была знакомая по фамилии Эндерлин. Много лет назад. — Он смолк и уставился в газету, но не читал. Спустя несколько мгновений вновь поднял глаза, изучающе вперился в мое лицо. — Ее звали Лила… и у нее была сестра… — Он не сводил с меня глаз, пытаясь уразуметь, что к чему.
Помолчав, я отозвалась:
— Знаю.
— Какое совпадение, — выдохнул он. — Ведь это совпадение, верно?
Добротная одежда, обаятельная улыбка, добрые глаза. Наверняка носит с собой фотки детей, жене цветы дарит безо всякого повода. И девушку за прилавком знает по имени, поинтересовался, как у той дела. Ничего общего с нарисованным Торпом портретом высокомерного зазнайки себе на уме. Это с одной стороны. А с другой — он определенно смутился. Ему ужасно неуютно рядом со мной.
— Вы по-прежнему занимаетесь той знаменитой задачей? — полюбопытствовала я.
— Простите?
— Гипотезой Ходжа.
Он отмахнулся как от мухи:
— То было в другой жизни. С математикой давно покончено.
— Почему?
Он привстал, собираясь уйти, но остался. Только бы не ушел! — молилась я про себя. Никакого другого плана у меня в запасе не было.
— Способностей не хватило.
— Не может быть. Вы же получили Гильбертовскую премию.
Он нахмурился.
— Только за отсутствием другого претендента. Лила должна была ее получить. Об этом все знали.
— И тем не менее.
Я не представляла, что еще сказать. Просто тянула время. С Делией Уилер все было совсем по-другому. Там я худо-бедно разумела, с чего начать, как вести разговор. А со Стрэчменом как общаться? Бог его знает…
— Говоря откровенно, наверное, из-за нее я и бросил все, — заговорил Стрэчмен. — Знал, что таким, как ваша сестра, мне никогда не стать. Да и не она одна. Были и другие, с кем рядом я ощущал себя самозванцем. Приятель Лилы, Мак-Коннел, например. Мало того, что такая красавица, такая умница влюбилась в него, — у него еще и мозги были что надо.
Я чуть не поперхнулась.
— Вы знали про них? Еще до того как… все случилось?
— Да.
— Но откуда? Они же таились ото всех.
— Ото всех, да не совсем. Я их однажды застукал в редакции «Стэнфордского математического журнала». Вхожу, а они… — Он поскреб затылок, отвел глаза.
— А они — что?
— Заняты делом. — Он глотнул кофе.
— Насколько заняты?
— Вплотную.
— Не может быть. Только не там.
— Я и сам был в шоке. Она ведь такая застенчивая была. Я тогда еще подумал, что дело, вероятно, в харизме Мак-Коннела. Впечатляющая личность. Хорош собой, обаятелен. Девушкам почему-то такие нравятся.
Показалось мне или в голосе Стрэчмена прозвучали нотки зависти?
— Я повернулся да пошел прочь. И держал язык за зубами. — Он умолк, глядя на меня так, словно его только что осенило. — Вы все еще пытаетесь распутать это дело? После стольких лет. — Он помолчал, как будто что-то просчитывал, анализировал, прикидывал — а он сам взялся бы за это дело, поменяйся мы местами? — Что ж, достойно уважения. Но я хотел сказать, что талантов у нас на математическом факультете было пруд пруди. Ваша сестра — самый яркий, но имелись и другие. А я в свои двадцать шесть уже выдыхался. И догадывался, что Гильбертовская премия — мой потолок. Да и получил-то я ее только благодаря тому, что Лилу… — он запнулся, опустил глаза, — потому что с ней случилось несчастье. К тому же на факультете меня особо не жаловали. В те времена я, знаете, был довольно заносчив. А премия не доставила мне никакой радости. Совесть мучила. Я был уверен, что все меня презирают — ведь я взял то, что по праву принадлежало Лиле. Ну остался бы я — чего-нибудь, может, и достиг, но великим не стал бы, это точно. — Стрэчмен развел руками. — Вот и ушел. И нисколько не жалею.
— Вы читали книгу Торпа?
— Пролистал. — Он помедлил. — К стыду своему, должен признаться, меня интересовало только одно: есть там что-нибудь про меня или нет. Говорю вам, гнусный характер был у меня в те времена.
— А почему, собственно, что-то должно было быть? — спросила я.
— Простите?
— Ну, в книге. Про вас. Почему? И если бы, скажем, там что-то было…
— Но ничего не было.
— Да, но если бы…
— А с какой стати? — удивился Стрэчмен. — Из-за того разве, что я там учился? Так мы все на факультете несколько недель ходили в подозреваемых. Каждого полиция допрашивала. Не очень умело, я бы сказал, но каждого. В коридорах, в буфете, даже на занятиях все только об этом и говорили. Помню, у меня тогда появилось ощущение, что мы играем в «Улику», только по-настоящему. «В бальном зале был мистер Бодди с веревкой? А в зимнем саду — профессор Плюм со свечой?»
Меня передернуло.
— Простите, — спохватился он. — Не хотел вас обидеть. Но поймите, мы жили одной математикой, с утра до ночи. Напряжение страшное, постоянное соперничество; поистине — рассадник индивидуальностей, одержимых одной идеей. И вдруг это жуткое и, должен признать, захватывающее происшествие. Мы были и потрясены и заинтригованы одновременно. А женщины — их у нас, понятно, было немного — просто тряслись от страха. Каждый ведь знал, что практически вся жизнь Лилы была на факультете, а значит, ее убийца, скорее всего, один из нас.
— А что вы сами думаете? — спросила я, не сводя с него глаз: не вздрогнет ли, не покроется ли вдруг испариной, не отведет ли взгляда. Я ждала любого знака, который выдал бы его.
Но он сказал, глядя мне прямо в глаза:
— Не имею ни малейшего представления.
— А как насчет Мак-Коннела?
Стрэчмен покачал головой:
— По правде говоря, на мой взгляд, он просто оказался легкой мишенью. Решение, лежащее на поверхности, однако я не верю, что это его рук дело.
— Почему?
— Не в его характере. Мы не были ни закадычными друзьями, ни даже приятелями, но мы вместе ходили на семинары, а когда я был на первом курсе, на пару работали над одним проектом. Не очень-то он мне нравился, но тогда мне вообще мало кто нравился. Я завидовал его уверенности, его умению обращаться с женщинами. Они, знаете, любили его. Высокий, симпатичный, веселый; идет по коридору — все оборачиваются. Женщины на полуслове замолкают. Я был парнем неприметным, простое «здрасьте» какой-нибудь девчонке в горле застревало, а у него все само собой выходило.
Прежде мне не приходило в голову спросить об этом, но после такой характеристики Мак-Коннела я не могла не поинтересоваться:
— У него и другие женщины были? Кроме моей сестры?
Стрэчмен задумался на мгновение.
— Была одна, с филфака. Миниатюрная такая, стройная брюнеточка. Очень хорошенькая. Я частенько видел, как они вместе обедают. У той на лице было написано — влюблена как кошка. Но он очень скоро положил этому конец — месяца два у них роман тянулся, не дольше. Некрасиво они расстались. Мы, бывало, засиживались на факультете допоздна, так она врывалась в кабинет, требовала, чтобы их с Мак-Коннелом оставили одних. Такой крик поднимала! Ему приходилось буквально выталкивать ее за дверь. Она грозилась выложить все жене, а вот рассказала или нет, не знаю. Еще один парень, который вместе с нами занимался тем проектом, злился, а мне, если честно, ужасно хотелось, чтоб Мак-Коннел научил, как он это делает. Чтобы я у какой-нибудь женщины вызвал столь сильные чувства — такого и вообразить было невозможно.
— Вы помните, как ее звали?
— Дайте подумать. Мелисса? Мелани? — Он покачал головой. — А фамилии я никогда и не знал. И каким образом Мак-Коннелу удалось в конце концов избавиться от нее, понятия не имею. Только когда появилась ваша сестра, та брюнетка больше не показывалась.
— Любопытно, почему вы сохранили тайну Мак-Коннела? — спросила я. — Почему не сообщили полиции про него и Лилу?
Он бросил взгляд на часы:
— У меня встреча через пятнадцать минут. — И в доказательство того, что не выдумал эту встречу как предлог, чтобы улизнуть, пояснил: — Мы собираемся участвовать в конкурсе на строительство туннеля к Монтаре. Если хотите выгодно вложить деньги, покупайте недвижимость на побережье сейчас, пока мы не взялись за туннель. Все считают, что это слишком далеко от города, боятся мыса Дьявола. Но помяните мое слово: как только туннель откроется, цены на недвижимость взлетят под небеса.
Стрэчмен встал из-за стола.
— Надо полагать, вы уже беседовали с Кэрроллом?
— С Кэрроллом? — переспросила я, силясь припомнить, где слышала это имя.
— Дон Кэрролл, куратор Мак-Коннела в Стэнфорде. Он знал Мак-Коннела лучше, чем кто другой. Уверен, он до сих пор преподает.
По дороге на работу после разговора со Стрэчменом я старательно гнала от себя образы Лилы и Мак-Коннела, обнаженных, занимающихся любовью в редакции «Стэнфордского математического журнала». В Дириомо в разговоре со мной Мак-Коннелу каким-то образом удалось представить свою связь с Лилой как нечто одухотворенное, вызванное столь глубоким интеллектуальным и духовным родством, что ни он, ни она не могли ему противостоять. По его словам выходило, что это не банальная интрижка, а история трагической любви. Но я представляла их в редакции, вдвоем, ночью, — а дома его ждет жена, ребенок спит, — и что-то во мне восставало против Лилы, что-то, о чем я раньше не думала и не хотела думать. Она завела роман с человеком, заведомо зная, что тот женат, что у него ребенок. И не в одной интеллектуальной близости здесь дело, а кое в чем прозаическом и пошлом, в том, чему я сама поддавалась чаще, чем следует, — в похоти.
Все эти годы я думала о ней как о молоденькой девушке, а не как о женщине. Хотя она на три года старше меня, более искушенной всегда была как раз я. А девочкой она казалась, потому что была до смешного наивна в житейских делах и не имела ни романтического, ни тем более сексуального опыта. Я никогда не советовалась с ней по поводу мужиков и была уверена: придет день — и она прибежит за советом ко мне. Но этот день пришел, когда ей уже стукнуло двадцать два года, когда она была достаточно взрослой, чтобы понимать, что она делает, чтобы осознавать, чем может закончиться для семьи Мак-Коннела его связь на стороне. Я гнала эти мысли. Даже предположить, что Лила в чем-то виновата, было кощунством. В моей истории Лила всегда была безгрешна.
Тридцать
Вечером в пятницу я снова отправилась к Бену Фонг-Торресу.
— Красное или белое? — спросил он, встретив меня у лифта.
— Красное.
— Отлично. Имеется «Шираз», который мне давно хотелось попробовать.
С бокалами в руках мы спустились по крутой деревянной лестнице в тенистый сад с папоротниками, роскошными розовыми кустами в цвету и банановыми пальмами. Вообразив, как блаженствую в этом саду утром, с чашкой кофе и с книжкой, я поинтересовалась у Бена — а они с Дианой, его женой, сиживают тут?
— Мы не «кофейный» народ, — отвечал Бен. — Мы любим чай.
Я и сама могу иногда побаловать себя чашкой чая, но людей, которые вообще не пьют кофе, не понимаю. Допускаю, что они, вероятно, спокойнее, добрее, меньше подвержены всяким тревогам, — но как прожить целый день без кофе? А месяц? А год?!
— А вы знаете, что в пятнадцатом веке в Турции существовал закон, позволявший женщинам разводиться с мужьями, если те не обеспечивали их достаточным количеством кофе? А сто лет спустя в Оттоманской империи за содержание кофейни полагалась публичная порка. За повторное ослушание нечестивцев зашивали в кожаный мешок и сбрасывали в Босфор.
Бен вежливо кивнул. Ну вот, опять! С некоторых пор у меня вошло в привычку, как только в разговоре случалась заминка, заводить речь о кофе. Это выходило машинально, и я уже подозревала, что смахиваю на стоматолога, который потчует каждого встречного-поперечного захватывающими повествованиями об удалении зуба мудрости, или на риелтора, который во всех деталях посвящает вас в сложности сдачи дома в аренду сроком на тридцать лет.
— Спасибо, что разыскали пленку, — поспешила я сменить тему.
— Не за что. После той неудачной попытки она мне покоя не давала.
— И где же она обнаружилась?
— Сто лет назад я дал ее послушать одному приятелю. Пришлось повисеть на телефоне. Оказалось, что приятель одолжил ее кузине, та отдала сыну, а парень вознамерился продать пленку через Интернет. Только покупателей не нашлось. Вообразите изумление мальчишки, когда он по электронной почте получил мое письмо с требованием вернуть мне мою собственность.
Мы уселись рядышком на плюшевый диван в телевизионной комнате. Запись была плохая, с помехами. Не иначе сработано в каком-нибудь подвале. Первая песня очень приличная, но не более того. Медленная, в стиле Дилана, баллада о раннем утре на Хай-стрит, когда еще не открылись бары. Дальше шла инструментальная пьеса, гитарный перебор томил душу грустью и одновременно окрылял надеждой. Появилось ощущение, что третьим в комнате сидит сам Будро; я почти видела, как он потягивает виски и, склонившись над струнами, роняет слезы. Перед началом третьей песни Бен остановил магнитофон и сказал:
— Впечатляет, а?
— Еще как.
— Следующая оказалась для меня полной неожиданностью. Прежде я ни разу не слышал Будро на клавишных, но не это главное. Знаете, я почти передумал вам звонить. Не представлял, как поступить с этим ящиком Пандоры. Потом посоветовался с Дианой. Она сказала, что вы непременно должны это услышать.
Я сглотнула.
— Ладно, давайте.
Он нажал кнопку. Подавшись вперед, я слушала. Первые две-три минуты — только Будро на клавишах. Аккорды менее уверенные, чем на гитаре, и все же что-то в этой музыке, минуя разум, сразу проникало в сердце, словно Будро каждую ноту пропускал через себя. И было в ней что-то глубоко личное, как будто она не предназначалась ни для чьих ушей, кроме самого Будро. Казалось, я подслушиваю чьи-то мечты. А потом он запел. Сначала его голос чуть подрагивал, затем стал сильнее, но до конца так и не окреп. Позже, снова слушая эту песню, десятки раз слушая ее у себя дома, я поняла — именно этот нетвердый голос и обнаженные эмоции придавали ей красоту. Его голос немножко напоминал Таунза Ван Зандта[61] — тридцать лет тому назад родители водили нас с Лилой в «Филмор» на его концерт. Промозглым февральским вечером мы стояли в длинной очереди на бульваре перед залом. По соседству с «Филмором» располагался величественный трехэтажный особняк, где квартировал «Храм народов»[62]. Среди пришедших на концерт Ван Зандта шныряли члены «Храма» и нищие, поджидавшие бесплатной кормежки в церковной столовой. И вот подъезжает лимузин, из него выходит крашеный брюнет и мигом оказывается в окружении толпы, жаждущей прикоснуться к его волосам, к его одежде. Он расточает улыбки, всех обнимает, целует в губы женщин, даже девочек с виду не старше Лилы.
— Это Таунз Ван Зандт? — спрашиваю я.
Мама притягивает меня и Лилу поближе к себе.
— Нет, — говорит она, — это Джим Джонс.
Пройдет совсем немного времени, и крашеный брюнет умрет в Гвиане, а вместе с ним — сотни его последователей. Через несколько дней Дэн Уайт застрелит Харви Милка и мэра города Джорджа Москоне и будет признан невиновным на том основании, что его психика не перенесла «зловредного влияния» пирожков «Твинки», которых он покушал накануне убийства. В детстве я считала Сан-Франциско самым обычным городом, и только повзрослев, начала понимать, до чего странным казался мой город жителям других уголков страны. Для меня же он был просто домом, местом, где можно проснуться поутру и узнать, что один твой знакомый пустился вслед за своей сектой в Гвиану, другой знакомый умер от СПИДа, а кто-то застрелил твоего мэра. Странное творится здесь постоянно — то прекрасное, то ужасное. Такова жизнь в городе у Залива.
Тридцать один
Третья песня называлась «Лес». Когда Будро напевал нехитрый припев, голос его срывался от волнения:
В безлюдном лесу на коленях стою, Смотрю на тебя и не верю. Что натворил я, голубка моя, Ах, что натворил я…У меня по спине прошел озноб. Я старалась оставаться беспристрастной. За годы адвокатской практики мама вдолбила мне в голову: если хорошенько искать, то непременно найдешь. Если веришь в истинность чего-то, то, выискивая доказательства, подтверждающие уже принятое тобой решение, невольно начнешь отбрасывать все, что ему противоречит. Мама видела, как это происходило с присяжными. Она даже видела, как это происходило с папой.
Как-то вечером, примерно через год после смерти Лилы, мне понадобился мамин ремень и я постучала в дверь родительской спальни.
— Заходи! — раздался деланно бодрый голос мамы.
Папы в тот вечер дома не было. Мама сидела на кровати, утирая глаза.
Я присела рядышком:
— Что случилось?
Она грустно улыбнулась, одной рукой обняла меня за плечи.
— Просто нам с папой надо кое-что решить.
— Расскажи.
Мама вытащила бумажный платок из ящика тумбочки, высморкалась.
— Папа вбил себе в голову, что я ему изменяю.
— Что? Ты шутишь!
— Говорит, я в последнее время отдалилась от него. Может, так оно и есть. Но папа здесь совсем ни при чем. Просто мне… — она запнулась, подыскивая нужное слово, — мне грустно. Довольно давно. А папа привык к определенному уровню… — она снова умолкла, затем в упор посмотрела на меня, — уровню внимания с моей стороны, если ты меня понимаешь.
— Мам! Фу!
— Сама напросилась. Короче говоря, он внушил себе это, и хоть кол на голове теши. Стоит мне задержаться на работе, как он уже бог знает что себе воображает. Вчера я сказала, что не смогу с ним пообедать, потому что в двенадцать у меня встреча и разговор там долгий. И это правда, но в последнюю минуту встречу перенесли на полвторого. Звонить папе и ждать, пока он доберется через весь город, было уже поздно, ну я и пошла перекусить через улицу, с Лиамом.
Лиам — один из младших партнеров в маминой фирме. Я его встречала там пару раз. Писаный красавец, спортсмен — чуть было не попал в национальную олимпийскую сборную по лыжам. Но я как-то попробовала завести с ним разговор — жуткий зануда!
— И что?
— И папа, который невесть зачем околачивался под нашими окнами, увидел, как мы с Лиамом входим в ресторан. Мы спокойно сидим, жуем свою пасту, толкуем о делах — а тут врывается папа и заявляет, что ему нужно со мной поговорить!
— Это папа-то?!
— Ну я извинилась перед Лиамом, и мы пошли поговорить в папину машину, где он объявил, что давно что-то подозревал, а теперь, когда застал меня с Лиамом в ресторане в то самое время, когда мне полагалось быть с ним, у него появилось доказательство. Теперь он уверен, что у меня роман с Лиамом! Можешь ты себе это представить? — Мама и смеялась и плакала.
Выйдя от Бена, я вернулась домой и снова слушала, переслушивала ту песню, часами. «Не поехала ли и у меня крыша, как тогда у папы? — размышляла я. — Ищу там, где ничего нет и быть не может». Туманные стихотворные строчки — кто угодно мог сочинить их, и означать они могут что угодно. Но песню пронизывало чувство вины — «что натворил я». И не давало покоя упоминание о лесе. На самих стихах можно было бы и не зацикливаться — вполне невинные вирши, но как быть с машиной Будро на опушке леса?
Еще при первой нашей встрече я спросила Бена, не знает ли он, почему Будро мог там очутиться. Может, он увлекался пешими прогулками? Или у него родня на Русской реке? Про родственников Бен был не в курсе, а что касается прогулок, то у него сложилось впечатление, что Будро не слишком уважал природу.
— Куда уютнее он чувствовал себя в каком-нибудь баре или в студии звукозаписи, — заметил Бен. — В нашу с ним первую встречу он выглядел так, будто с полгода не выходил на солнце. Почему я и удивился, когда годы спустя он объявил, что работает на молочной ферме. Не вязалось это с его характером.
За окном моей спальни тускло мерцали огни города. Тонкий серп луны — Лила в детстве говорила: «Луна как обрезочек ногтя» — висел высоко в небе, и лоскут тумана свисал с его кончика гигантским плащом. В тридцатый, наверное, раз я нажала кнопку перемотки на магнитофоне, подождала, пока тот отжужжит, и снова слушала «Лес».
«В безлюдном лесу на коленях стою, — пел Будро, и на последнем слове дрожащий голос едва не обрывался вовсе. — Смотрю на тебя и не верю. — Музыка звучала все тише, и мы с Будро дуэтом заканчивали: — Что натворил я, голубка моя, ах, что натворил я…»
Утром я набрала номер «Семейной фермы Будро». После третьего звонка ответил хриплый, заспанный мужской голос.
— Мистер Будро? — спросила я.
— Он самый.
У меня екнуло сердце. Но тут же я сообразила, что от волнения забыла назвать имя. Тот ли это голос, что звучал на пленке? Или это голос брата Билли Будро?
— Мне бы хотелось, если можно, осмотреть вашу ферму, — выдала я заготовленную фразу.
— В это время года работы у нас по горло. Да и на фермах покрупнее нашей вам куда больше покажут. В «Сторнетте», к примеру, проводят экскурсии.
— А мне хотелось взглянуть, как справляются небольшие хозяйства.
— Тогда вот что. В конце месяца, 29 августа, — День фермера. В субботу все местные фермы будут пускать всех желающих. Есть ферма, где выращивают тыквы, на другой держат коз, еще пасека имеется. Всего не перечтешь. Мы тоже будем участвовать. Так что милости просим, приезжайте.
Я повесила трубку и на стенном календаре вывела красным маркером: ЭКСКУРСИЯ НА ФЕРМУ.
Тридцать два
— Я, знаете ли, по натуре сова, — сказал Дон Кэрролл, когда я по телефону попросила его о встрече. — Приходите-ка вы вечерком. Попозже.
В одиннадцатом часу я подъехала к зданию математического факультета, и воспоминания нахлынули на меня. В этом самом здании я двадцатилетней девчонкой выслеживала Мак-Коннела, торчала у дверей его кабинета, подслушивала болтовню студентов — они считали его знаменитостью. Сейчас здесь было тихо и безлюдно, в коридорах гулко отдавались мои шаги. Я дрожала от холода в тоненьком свитере и горько жалела, что не надела куртку. Пахло учреждением: средством для мытья полов, картоном и еще чем-то химическим, должно быть маркерами для досок. Запахи нашего мира меняются, я отмечаю это каждый день. В моем колледже пахло мелом, старыми книжками и краской для ротатора.
Пару раз повернув не в ту сторону, я все же разыскала нужный кабинет. Дверь была открыта. Кэрролл сидел за компьютером, спиной ко мне и лицом к окну, на столе, в опасной близости к краю, стояла чашка кофе. Кэрролл сидел совершенно неподвижно, словно спал. Я постучала, он не отозвался; я покашляла и стукнула громче. Хозяин кабинета обернулся: седые волосы, доброе лицо, светло-карие глаза за стеклами очков.
— Элли Эндерлин?
— Да. Спасибо, что нашли для меня время.
— Прошу прощения за столь необычный час. С годами спишь меньше. А известно ли вам, что Томасу Эдисону довольно было всего трех часов сна в сутки? Он изобрел электрическую лампочку, чтобы род людской не тратил время даром, валяясь в постели. Сон он считал врагом прогресса!
Кэрролл опустил глаза и с удивлением, словно увидел впервые, уставился на большой конверт у себя в руках.
— Простите великодушно, мне необходимо подсунуть это под дверь секретарю.
Поджидая его, я огляделась. Стены кабинета увешаны памятными значками, уведомлениями о всевозможных наградах в дешевеньких рамках и снимками: вот Кэрролл с молотком в руке подле Джимми Картера на фоне какой-то стройки; он же со Стивеном Хокингом; и с Полом Алленом; и с Бэроном Дэвисом[63]. А на столе менее официальные фотографии: симпатичная женщина лет шестидесяти — жена, вероятно; черный кокер-спаниель; девочка на голубом велосипеде. Меня особенно заинтересовал один снимок — Кэрролл и молодой Питер Мак-Коннел под дождем, в одинаковых белых парках. Судя по расположению моста «Золотые Ворота» на заднем фоне, снимали в парке Крисси-Филд.
На стопке бумаг лежала книга в твердом переплете. Сначала я лишь мельком глянула на обложку, но тут же снова, уже внимательней, присмотрелась к ней. Книга оказалась на немецком, прочесть название я не могла. Так, с книжкой в руках, уставившись на обложку, я и стояла, когда вернулся Кэрролл.
— Интересуетесь топологией?
— Не совсем. Но вот этот символ на обложке я узнала.
— Да, двойной тор. — Кэрролл взял у меня книгу и положил на место. — Это новинка, сегодня прислали на рецензию. Кажется, я в соавторстве с этим господином лет двадцать назад что-то такое написал, и вот с утра ломаю себе голову, а вспомнить, кто он такой, вообразите, не могу. Совсем память отшибло! Вот что бывает, когда тебе перевалит за семьдесят. А известно ли вам, что нижняя мантия Земли движется по руслу в форме двойного тора?
Я покачала головой.
— И это очень правильно, только я запамятовал — почему. Скоро собственное имя позабуду! Дженна, дочка моя, недавно посадила меня на женьшеневую диету, только пока улучшения что-то не видно. — Кэрролл усмехнулся и опустился на рабочее кресло, скрестив ноги и сложив на коленях руки. Кожа у него на руках была совсем молодой — гладкой и чистой. — Сделайте милость, садитесь. По телефону вы сказали, что хотели поговорить о Питере Мак-Коннеле. Повторюсь: вряд ли смогу быть вам чем-нибудь полезен. Я не видел его больше десяти лет.
— А меня скорее интересует, каким он был прежде.
— Каким он был?
— Вопрос нескромный, но я слышала, что у Мак-Коннела… — Запнувшись, я бросила взгляд на фотоснимок Кэрролла и Мак-Коннела: как бы поделикатней выразиться?
— Да? — Кэрролл подался вперед.
— Мне говорили, у него были… приятельницы.
Нахмурившись, Кэрролл откинулся на спинку стула.
— Кто вам такое сказал?
— Бывший ваш студент, Стив Стрэчмен.
— Стрэчмен, — с явной неприязнью повторил он.
Я ждала.
— Что ж. Питер был весьма красив. Очень обаятелен. Слов нет, женщины его жаловали. Но «приятельниц» что-то не припомню. Только ваша сестра. По чести сказать, я был рад их дружбе. Его жена всегда казалась мне слишком амбициозной, ее больше волновало, кем он может стать, чем сам Питер.
— Кем он может стать?
— Именно. По-моему, ее совершенно не интересовала сфера его деятельности — занимайся он хоть наукой, хоть литературой, ей все равно. Питер никогда слова худого не говорил о Маргарет, но однажды в доверительной беседе поведал мне, что та комплексует из-за собственной необразованности — она какое-то время проучилась в колледже, но не преуспела, — вот и решила заполучить родительское прощение, выскочив замуж за ученого. Подозреваю, это выводило его из равновесия — мысль, что он не оправдает ее ожиданий. Естественно, узнав про Лилу, Маргарет пришла в бешенство. Чем только она ему не грозила, но Питер не принимал ее всерьез. Я посоветовал ему отнестись к угрозам жены с большим вниманием, однако Питер заверил, что это пустые слова, не более.
Теперь уже я подалась вперед:
— Она ему угрожала? Чем?
— Обещала устроить скандал на факультете. Говорила, что, мол, лично потолкует с Лилой. Что уйдет от него и заберет Томаса. Но Питер знал, что все это только для вида. У Маргарет духу не хватило бы вернуться к родителям ни с чем. Несмотря на вполне простительную обиду, она твердо знала, что ей нужно в этой жизни, — престиж, главным образом. А Питер, по ее разумению, мог ей предоставить желаемое.
— Примерно так Мак-Коннел мне ее и описывал.
— Вы с ним говорили?
— Да.
Кэрролл выпрямил ноги. На правой ноге у него был синий носок, а на левой — светло-коричневый.
— Когда?
— Месяц назад. В Никарагуа.
— А мне и словом не обмолвился, — пробормотал Кэррол себе под нос.
— Вы тоже говорили с ним?
— Не то чтобы говорили… Мы переписываемся.
— Но вы же сказали…
— Сказал, да. Все верно, я действительно не видел его десять лет. Но это не значит, что мы не общаемся. Вы должны понять мое желание оберегать его. Некоторым образом, я чувствую себя в ответе за его трагедию.
— Вы? Но почему?
— Справедливости ради надо признать — я поощрял отношения Питера и Лилы. Совершенные спутники жизни так же редки, как совершенные числа. Лично мне повезло: свою половинку я встретил еще в ранней молодости, и у меня хватило ума сразу жениться. А у Маргарет и Питера не было ничего общего, да и любви настоящей не было. Другое дело — Лила. Стоило мне узнать ее поближе, как я понял: они созданы друг для друга.
— Вы знали мою сестру? — ошарашенно спросила я.
— Да, Питер нас познакомил. Хотел, чтобы она была рядом, когда он объявит мне об их решении взяться за Гольдбаха. Догадывался, что я разволнуюсь. Не знаю, что вам известно об этой гипотезе…
— Только то, что рассказывала Лила. Гипотеза была сформулирована в 1742 году и завела в тупик многие великие умы. «Любое четное число не меньше четырех можно представить в виде суммы двух простых чисел». Так?
— Совершенно верно. Любой математик может свихнуться, отдавшись одной-единственной недостижимой цели. Возьмем, к примеру, Луи де Бранжа[64] и гипотезу Римана. Как и гипотеза Гольдбаха, а до недавнего времени и теорема Ферма, гипотеза Римана считается одной из сложнейших среди нерешенных задач. Де Бранж работал над ней двадцать пять лет и в 2004 году опубликовал свое доказательство в Интернете. Но, надо отметить, мало кто обратил на него внимание, и коллегам еще предстоит оценить данную работу. И что удивительно: де Бранж не какой-нибудь выскочка, в восьмидесятых он доказал гипотезу Бибербаха — достижение немалой важности; доказательство, однако, было встречено с большой долей скепсиса — как и нынешнее доказательство гипотезы Римана. Уж очень всем хотелось, чтобы де Бранж оказался не прав. Но вообразите — он победил! В случае же с гипотезой Римана сложность в том, что де Бранж использовал математические средства, которыми в мире владеют считанные единицы, — спектральной теорией, например, — так что собрать для проверки доказательства компетентную комиссию будет весьма непросто. К тому же в 1964 году де Бранж уже заявлял, что у него, дескать, имеется доказательство существования инвариантных подпространств для непрерывных преобразований в гильбертовом пространстве. Однако сие не подтвердилось, и он дорого поплатился за свою ошибку — его репутация серьезно пострадала. У математиков, к худу ли, к добру ли, хорошая память. Сейчас де Бранжу далеко за семьдесят. Должен признать, я за него болею, хотя бы потому, что с удовольствием посмотрел бы, как он докажет целому свету, что и старикам по силам великие достижения. — Кэрролл усмехнулся. — Вы уж меня простите. Отречься от роли профессора математики не так-то просто. Это у нас в крови, знаете ли. Прав был Пуанкаре — математиками рождаются, а не становятся.
— Мак-Коннел и моя сестра, — напомнила я. — Говорите, вы поощряли их отношения?
— Именно так. Питер сразу пришел ко мне за советом. А я не видел смысла в том, чтобы сохранять несчастливый и бесполезный брак. Так ему и сказал: мол, если подвернулся реальный шанс на счастье, надо хвататься за него обеими руками. Не верю я, знаете ли, в россказни о том, что гений расцветает, преодолевая жизненные трагедии. Возьмите, к примеру, Рамануджана — блестящие достижения, поразительное предвидение: бесконечность числа «пи», гипотеза Рамануджана. И что же? В тридцать два года умирает от туберкулеза в каких-то индийских трущобах. Можете представить, в двадцать один год его оженили на девятилетней девочке! Насколько больший вклад он внес бы в математику, если бы тихо-мирно жил с женой, которую сам выбрал. Так что, как видите, мой совет Питеру был не совсем бескорыстен. Я был убежден: если они с Лилой станут работать сообща, они добьются неслыханных результатов. Разумеется, доказательства гипотезы Гольдбаха я от них не ждал, но не сомневался, что, двигаясь к этой почти недостижимой цели, они совершат другие не менее важные открытия. Возьмите, к примеру, последнюю теорему Ферма. На пути к ее решению был сделан ряд значительных прорывов. Скажем, доказательство гипотезы Тиниямы-Шимуры вплотную связано с поисками решения теоремы Ферма.
Кэрролл положил руки на подлокотники своего кресла. Я заметила массивное золотое обручальное кольцо и отменный маникюр.
— Но я отвлекся. Помимо советов, я, знаете ли, оказывал им и практическую помощь. Питер как-то признался, что им с Лилой неудобно работать в здании факультета: сестра ваша опасалась, что пойдут сплетни. Тогда я предложил им для работы свой собственный дом. Жена моя в то время занималась росписью стен, часто уезжала на заказы, а Дженна уже учились в Колумбийском университете. — Он помолчал, внимательно глядя на меня. — Чему вы удивляетесь? Если я математик, это не значит, что романтические отношения для меня тайна за семью печатями. А известно ли вам, что сказал Вольтер?
— Э-э…
— «В голове Архимеда гораздо больше воображения, чем в голове Гомера». На нас, математиков, возводят напраслину — мы, мол, бессердечные приспешники рассудка и здравого смысла, но знайте: совершить сколько-нибудь серьезное математическое открытие возможно, только включив воображение. Лила обладала неистощимым воображением. Бывало, вечером приду домой с работы, а они — за кухонным столом, голова к голове, все в работе. Закажем чего-нибудь съестного, сидим на кухне, жуем и толкуем о теории чисел. Мне только-только стукнуло пятьдесят, передать вам не могу, с каким наслаждением включался я в интеллектуальные игры этой тесной компании, куда допускали и меня, грешного. Ах, как хорошо нам троим работалось! У меня — багаж знаний, многолетний опыт, у них — особенно у Лилы — способность взглянуть на проблему по-новому, взять и выдать вдруг поразительное логическое соединение или сформулировать вопрос так, как тебе и в голову не придет! Порой так наговоримся, что голова, кажется, лопнет. Тогда идем в гостиную и принимаемся играть — Питер подсадил нас с Лилой на видеоигру «Атари». Знаете, где быстро-быстро крутятся треугольнички. — Воспоминания осветили лицо Кэрролла улыбкой. — Эта игрушка, надо полагать, по сей день валяется у меня в подвале.
— Теперь понятно, где Лила пропадала по вечерам. А мы все гадали, где они с Мак-Коннелом встречались. — Я помедлила. — Не знаю, как и сказать… но это у вас в доме они?..
На лице Кэрролла отразился ужас.
— Бог с вами, нет! В районе залива Хаф-Мун есть одна маленькая гостиничка. Я, конечно, предпочел бы ничего об этом не знать, но Питер сам однажды признался, ни с того ни с сего. Думаю, ему просто нужно было выговориться. Он очень сильно любил вашу сестру. По себе знаю, о таком чувстве нелегко молчать. Напротив, хочется раструбить на весь белый свет. К счастью, у него хватило благоразумия открыться мне одному. — Кэрролл сдвинул брови. — Естественно, я нередко думал: как все повернулось бы, посоветуй я Питеру забыть Лилу и вернуться в семью? Полагаю, теперь я уже со спокойной душой могу повиниться, что за всю жизнь сознательно пошел на обман один-единственный раз — во время следствия. Я не сказал сыщикам про Лилу и Мак-Коннела, поскольку считал своим долгом защищать его. Быть может, с моей стороны это и было ошибкой, но я не раскаиваюсь. Разумеется, потом, когда на свет явилась претенциозная книжонка Торпа, я уже ничем не мог ему помочь. Не знаю, говорил ли вам Питер, но за последние два десятка лет он добился поразительных результатов и в теории чисел, и в топологии, даром что живет в лесной хижине. Его, впрочем, такая жизнь вполне устраивает. Отсутствие компьютера будоражит мысль. Как я упоминал, он пишет мне письма, хотя назвать их письмами можно с большой натяжкой. Как правило, несколько беглых строк, скажем, о погоде, о каком-нибудь очередном ремонте в хижине, а дальше — страницы и страницы рукописных вычислений. Много лет подряд я читал их сам, а когда стало сдавать зрение, пришлось просить секретаршу перепечатывать. У Питера невозможный почерк!
Кэрролл показал на картонную коробку на полу, битком набитую папками.
— Вот они все, по годам. Поначалу я просто складывал их в ящик, думал, он вот-вот вернется. Но прошел год, другой, третий — и я понял: Питер возвращаться не собирается. Знаю, нужно бы подыскать для них местечко получше — я единственный хранитель его трудов, — но я так привык, что они всегда у меня под рукой, что я всякую минуту могу достать любой. А они гениальны! То, чем набита эта коробка, может всколыхнуть весь мир. Все пытаюсь уломать Питера опубликовать их, да он, похоже, уже привык к безвестности.
— Когда мы с ним встретились, он был очень сдержан, ни словом не обмолвился о том, что делает нечто важное.
— Редкий человек, — кивнул Кэрролл. — Еще до того как его карьера пошла под откос, было видно, что ни слава, ни признание ему не нужны. Сама работа доставляла ему наслаждение.
— Как и Лиле, — сказала я.
Кэрролл приподнял бровь и, чуть помедлив, заметил:
— Да, Лила в самом деле любила свою работу. Но не будем забывать, что ваша сестра была довольно честолюбива.
У меня из головы не шло то, что я только что услышала.
— Вы говорите, когда жена Мак-Коннела, Маргарет, все узнала, она ему угрожала. А когда именно?
Кэрролл задумался.
— Насколько помню, примерно за месяц до… — он запнулся, подыскивая слово помягче, — до кончины вашей сестры.
— А Мак-Коннел говорил, что рассказал жене про Лилу всего за несколько дней до ее исчезновения.
— Он так сказал?
— Чего ради ему лгать?
Кэрролл поерзал, поправил ремешок часов.
— Тут мне сказать нечего, но только Питер горой стоял за семью. Несмотря на все свои недостатки, Маргарет была хорошей матерью. Питер без памяти любил своего сына и пошел бы на все, лишь бы не разлучать малыша с матерью. И не задумываясь взял бы на себя ее вину.
— Я не совсем понимаю…
Кэрролл помолчал.
— Мне, право, не хотелось бы говорить, поскольку нет никаких доказательств, подтверждающих мою теорию.
— Вашу… теорию?
Кэрролл снова скрестил ноги. Пока он ворочался в своем кресле, я заметила, что у него на пиджаке, на внутренней стороне воротника, красными нитками вышито его имя.
— С моей стороны неразумно было бы далее распространяться на эту тему. Я и так слишком много сказал. Как бы то ни было, Питер находил мои подозрения необоснованными.
— А Стрэчмен? — спросила я. — Он-то почему молчал про Лилу и Мак-Коннела?
— Ах да, Стрэчмен. Интересное, знаете ли, дело. Стрэчмен свое молчание использовал как инструмент давления.
— На кого?
— Мы с Питером сообща готовили один доклад. Сам по себе Стрэчмен ни за что не сумел бы подобраться ко мне. Откровенно говоря, я его недолюбливал. Полная противоположность Питеру: себе на уме, скрытный, капризный. И завистливый — как в личном плане, так и в профессиональном. Ручаюсь, он бы дорого дал, чтобы поменяться с Питером местами — заполучить его прирожденный талант, не говоря уж о любви Лилы.
— Он сох по Лиле?
— О да. Но несмотря на то что за право встречаться с ней он пожертвовал бы собственной правой рукой, Стрэчмен завидовал ее математическим способностям не меньше, чем талантам Питера, а может, даже больше.
— Но Гильбертовскую премию он получил.
— Да, получил, получил. — Кэрролл насупился. — Если б не давнишние изыскания, которыми он занимался на пару с Питером, не видать бы ему премии как своих ушей. Именно та работа лежала в основе его реферата по гипотезе Ходжа. Автором каждой истинно оригинальной мысли, явившейся на свет в этом сотрудничестве, был Питер. Но поднимать шум по такому поводу не в характере Питера. Так или иначе, когда погибла ваша сестра и явилась полиция, Стрэчмен поклялся молчать, — при условии, что мы с Питером возьмем его в соавторы нашего доклада.
— И вы согласились?
— Поймите, Питер был очень дорог мне. Он и сейчас мне дорог. Не знаю, в чем тут дело, но он всегда вызывал у меня отцовские чувства.
Внезапно Кэрролл широко улыбнулся и встал, протягивая мне руку:
— Было очень приятно поговорить с вами, Элли, но мое время вышло. Жена будет волноваться, куда я пропал.
— Большое спасибо, — сказала я, пожимая ему руку.
— Не позвонить ли охране? Они пришлют кого-нибудь проводить вас до машины. Береженого, знаете ли…
— Не стоит.
Я повернулась к двери, и тут мне пониже поясницы очень легко опустилась его рука. Привычный для мужчин жест, одновременно галантный и снисходительный, две стороны одной медали. Мне в таких случаях всегда становится как-то неловко.
— Мне вот что хотелось узнать, — проговорил он, в то время как его рука по-прежнему покоилась на том же интимном месте.
Я развернулась к нему лицом, и его рука повисла в воздухе.
— Да?
— Лила — она когда-нибудь говорила обо мне?
— Да, говорила.
У него расслабились плечи, на лице заиграла слабая полуулыбка.
На этом мы и расстались. Я не стала уточнять, что упомянула она его лишь раз, и то мимоходом, как блестящего профессора, с которым ей хотелось бы поработать. Мак-Коннел, дружба с Кэрроллом и вечера в его доме — все это было тайной, которой Лила со мной не поделилась.
По длинному коридору летело эхо моих шагов. Я поравнялась с дверью, на которой висела небольшая табличка — «Стэнфордский математический журнал». Из-под двери выбивалась узкая полоска света. Не в этой ли комнате Стрэчмен застиг Лилу и Мак-Коннела много лет назад?
С ключами в руке я торопливо подошла к машине, которую в нарушение всех правил оставила прямо перед факультетом. Кто-то успел подсунуть под «дворник» белый конверт. Что там у нас? Штрафной талон за парковку в неположенном месте. Контролеры явно не дремлют.
Тридцать три
Несколькими днями позже, подъезжая к зданию нашей компании, я приметила серебристую «тойоту» Генри. Когда я вошла, Дора присвистнула:
— Куда это ты так вырядилась?
— Представляешь, оказалось, что все остальное в стирке, — затараторила я.
Все-таки, наверное, черная узкая юбка и сапоги до колен — это перебор. Не помню, чтобы я когда-нибудь так одевалась на работу.
Дора подмигнула:
— Генри понравится.
В дегустационном зале я принялась готовить последние образцы кофе: «Желтый бурбон» из Сальвадора, панамский «катурра» и «пиберри» из Коста-Рики. Я только успела разлить кипяток по чашкам, когда из обжарочного цеха появился красный, распаренный Генри. Что-то в его облике изменилось, я не сразу сообразила, что именно.
— Ты постригся!
Он смущенно провел рукой по волосам.
— Пошел в свою старую парикмахерскую, но Дотти там больше не работает, а новенькая чересчур увлеклась.
— Неплохо смотрится.
— Ты короткую стрижку всегда терпеть не могла.
Я улыбнулась:
— Ничего, отрастут.
Он подтащил стул, развернул его спинкой вперед и уселся верхом. Эта его привычка почему-то всегда умиляла меня.
— А помнишь, как ты тогда сама меня стригла?
— Помню. Думала, тут нам и конец придет. Ничего себе начало романа.
— Да уж, парикмахер из тебя неважнецкий, — фыркнул Генри. — Но главное в другом: ты первая, кому я доверил свою голову.
Я почувствовала, что к щекам прилила кровь. С чего бы это? Если двое взрослых людей были так близки, как мы, и так долго, как мы, — какие могут оставаться причины для смущения?
Я взяла свою увесистую ложку и разбила корку на кофе, радуясь, что есть чем заняться.
— Остыл, — заметила я. — Придется начинать все сначала.
Он что-то сказал. Мне показалось, что я ослышалась.
— Что?
— Я говорю: может, нам так и поступить? Мне и тебе. Начать все с начала.
Я отложила ложку.
— Ты серьезно?
— А что, разве это такая уж безумная мысль?
— Но ведь три года прошло, Генри!
— Я не переставал думать о тебе.
— Сколько я тогда ждала, что ты вот-вот одумаешься и вернешься. Не верила, что все может кончиться так вдруг. Но ты не вернулся, и я решила, что, должно быть, любила тебя гораздо больше, чем ты меня. Других объяснений у меня не было. А теперь ты здесь. Мне бы убить тебя надо!
— Нет, если уж на то пошло, все было как раз наоборот, — заявил Генри. — Это я любил тебя больше, чем ты меня!
Я замотала головой:
— Тогда бы ты постарался не доводить до крайности.
— Я и старался! Сколько раз я тебе говорил, что не вынесу еще одной ссоры? Сколько раз умолял: давай прекратим грызню? Ты соглашалась, обещала не заводиться по пустякам, и все было прекрасно… пару недель, месяц. А потом ты ни с того ни с сего обижалась и налетала на меня, а я понятия не имел, в чем провинился.
— Правда?! Я так ужасно себя вела?
Генри вздохнул:
— Да, ты так себя вела.
— Прости.
— Я не напрашиваюсь на извинения. Если кто и должен просить прощения, так это я. Думаешь, я не понимаю, что тогда поступил по-скотски? Да я не удивился бы, если б ты и разговаривать со мной не захотела. Но честное слово, я очень старался, чтоб у нас с тобой получилось. Только каждый раз, как мы с тобой поцапаемся, у меня появлялись мысли, что тебе, по большому счету, на меня наплевать и ты просто хочешь от меня отделаться.
— Ничего подобного! И в мыслях такого не было.
С минуту мы оба молчали. Я окунула ложку в простывший кофе, сгребла кофейную корку с первой чашки и пошла вдоль ряда, пока не сняла гущу с поверхности всех девяти чашек.
— Вот так всегда, — тихо проговорил Генри.
— Как?
— Заведем серьезный разговор, а едва он станет неприятным, ты принимаешься возиться по хозяйству. Стирать, посуду мыть, кофе варить — да мало ли что.
Я подняла на него глаза. А ведь он прав. Сколько ни стараюсь — не могу переступить определенной черты в отношениях с людьми. Даже с очень близкими. Даже с Генри.
— Ты мне как-то сказал… — заговорила я. — Еще в самом начале… Ты сказал, что зачатки гибели отношений можно разглядеть уже при их зарождении. Приглядись к началу и увидишь конец. Тогда мне это показалось нелепицей. Но позже, в последние месяцы нашего с тобой совместного житья, когда мы постоянно ругались, я задумалась. И проследила наши отношения от развязки к началу, к самому первому свиданию. Хотела отыскать эти самые зачатки, первопричину — назови как хочешь, — то, что предсказывало конец.
— Нашла? — негромко спросил он.
— Нет. Ровным счетом ничего. Ничегошеньки! Во всяком случае, для меня. И с тех пор я вот уже три года гадаю: а был ли некий знак для тебя? В смысле — может, ты заметил что-то во мне на первом свидании, или когда мы в первый раз спали вместе, или… черт! Ну, не знаю — когда мы только познакомились, что-то сказало тебе, как все закончится?
Генри покрутил ложку на столе.
— Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты обещай, что постараешься правильно меня понять.
Я еще не решила, хочу ли услышать то, что он собирается сказать, когда в зале появился Майк.
— Придется тебе в октябре снова сгонять в Никарагуа, — обратился он ко мне.
— Ладно.
Майк обернулся к Генри, которого, похоже, только что заметил.
— А ты давно последний раз наведывался в Центральную Америку?
— Давненько.
— Ну так и поезжай. Считай это подарком по случаю возвращения.
Слова повисли в воздухе. Майк у нас никогда не отличался особой деликатностью.
Когда мы с Генри разошлись, Майк ему заявил без обиняков: совершаешь ошибку, о которой будешь жалеть по гроб жизни. И ко мне несколько раз подходил и, обнимая за плечи, уверял: «Он вернется!»
— Может, и поеду, — отозвался Генри.
И хотя я сделала вид, что целиком поглощена своими чашками, я знала, что Генри не спускает с меня глаз в ожидании некоего знака.
Тридцать четыре
На вывеске в виде сельского домика красным по белому было выведено: «Семейная ферма Будро». Рядом на обрезке доски — надпись от руки:
Добро пожаловать на День фермера! Ваша тыква ждет вас на грядке. Накопайте себе картошки. Познакомьтесь с Табитой! Подоите корову! Имеются прохладительные напитки и свежий сыр.Я свернула на проселочную дорогу. С обеих сторон расстилались пастбища, ярко-зеленые на фоне бурых холмов. В траве валялся допотопный плуг. На нем сидела ворона, чистила перья и грелась на солнышке. Дряхлая лошадь у изгороди лениво проводила меня взглядом. Вспомнился летний день незадолго до того, как Лила продала Дороти. Мы тогда приехали в конюшню, и Лила оседлала для меня свою лошадку.
— Пришпорь ее хорошенько, — деловито, как всегда, посоветовала Лила. — Пусть знает, кто тут главный.
Я так и сделала. Дороти припустила бешеным галопом, а я вцепилась в гриву мертвой хваткой и только молилась, чтоб не грохнуться оземь.
Как давно это было — Лила, ее лошадь… Целая жизнь прошла. Не во сне ли привиделось? Пыльная дорога, ползущий с холмов туман, по радио поет Кэт Стивенс — и Лила в штанах для верховой езды, в черном свитере и черных сапогах мчится по полю, и завязанные в хвост волосы плещутся за спиной. Как все обернулось бы, если бы она не бросила верховой езды? Если бы не нырнула с головой в математику, а, как советовала мама, приберегла для себя это хобби, это маленькое удовольствие, не имевшее ничего общего с учеными занятиями. Но Лила — спору нет — была честолюбива. На свою беду. Не будь она так феноменально умна, так исключительно прозорлива, у нее, конечно же, сложился бы совсем другой распорядок дня. В конце концов, когда дело касается главных событий, определяющих нашу жизнь, выбор времени — это все. Кто знает, сдвинься ее расписание хоть на малую толику — и Лила не попала бы в руки убийцы. И, вместо того чтобы разъезжать по молочным фермам в поисках неведомо чего, я бы мчалась к ней в гости на другой конец страны, в Принстонский или Колумбийский университет. И везла бы подарки племяннику или племяннице, a может, обоим сразу. И чем черт не шутит, сидели бы рядом со мной мой собственный ребенок и муж — для полноты картины.
Сейчас Лиле было бы уже сорок два. Как она выглядела бы сегодня? Я попыталась представить лицо повзрослевшей сестры, но перед глазами вставал лишь обескураживающий портрет молодой Лилы с карандашными черточками морщин поперек лба и в уголках рта. Так художники по фотографии человека в молодости рисуют его же в старости. Мне всегда было любопытно, что движет ими, когда они укорачивают или удлиняют волосы, добавляют или убирают челку на портрете.
Глядя в зеркало заднего обзора, я попыталась изобразить странноватую Лилину улыбку — с ямочкой на правой щеке и прищуренным правым глазом. Только так, пожалуй, и поймешь, какой она могла бы стать. Да и то вряд ли. В детстве мы были очень похожи. А с годами? Усиливалось бы сходство или, наоборот, уменьшалось? Наверное, все-таки уменьшалось.
Нелегко вообразить, как Лила выглядела бы сейчас, но еще труднее представить, каким она стала бы человеком. Да, она четко расписала собственную жизнь и прекрасно знала, чего хочет добиться, но ведь без сюрпризов на этом свете не обойтись. Как Лила реагировала бы на эти сюрпризы и как ее реакция сказалась бы на ее жизни? Этого я никогда не узнаю. Лила — словно незаконченный роман: вы отмахали страниц двести, вошли во вкус и вдруг обнаружили, что дальше ничего нет, не написано. И вам никогда не узнать, чем все закончилось.
Проехав с полкилометра, я миновала большой навес, где несколько десятков коров, просунув морды под деревянную перекладину, ели из длинной кормушки. Дорога привела к небольшой тыквенной бахче, окруженной красными тачками и ручными тележками. На выгоне припарковались полдюжины автомашин. Я встала рядом с серебристым минивэном. Молодая светловолосая женщина силилась вытащить из сидений двух ревущих благим матом дошколят.
— Это же ферма! — уговаривала она. — Увидите, как будет весело!
Я выбралась из машины и двинулась вдоль тележек, старательно обходя коровьи лепешки. Из-за снопа кукурузы («Кукуруза! Кукуруза!» — кричала вывеска) вынырнула белая собачонка, а следом мальчишка с палкой в руке. Собака пулей пронеслась мимо; паренек притормозил и, отдуваясь, пропыхтел:
— Тетя, подсобите поймать Буяна.
— Ладно. — Скрепя сердце согласилась я, но тут, благодарение небу, вовремя подоспел невысокий коренастый мужчина и пригрозил парнишке, что не позволит ему доить корову, если тот не прекратит мучить собаку.
Я могу объехать весь свет и в любом уголке буду чувствовать себя как дома, но привезите меня на ферму с парочкой тележек и дюжиной тыкв — и я растеряюсь, будто попала в волшебную страну Оз.
Попахивало навозом; как ни странно, даже приятно. Над сарайчиком неподалеку поднимался дымок. За бахчой под шатром стоял стол, возле него скучала женщина с зеленой косынкой на шее.
— Простите, — сказала она, — моих парней еще нет. На тракторе мы катаем только после двух.
— Ничего, — откликнулась я.
С чего она взяла, что я рвусь прокатиться на тракторе?
— Хотите попробовать? — Она отрезала ломтик от большого куска белого сыра. — Наш фирменный «Сонома Джек»! Растопите, залейте печеный картофель, добавьте чесночка — и познаете нирвану!
Я купила немножко сыру, перебросилась парой фраз об этом бесподобном продукте и только после этого задала вопрос, ради которого приехала:
— А Билли Будро случайно не здесь?
— У нас таких нет. Может, вам нужен Фрэнк?
— Фрэнк?
— Ну да, хозяин. Он где-то поблизости. Вон там, — женщина махнула рукой на выгон за дорогой, где в окружении дюжины валков сена задумчиво жевала крупная бурая корова, — минут через пятнадцать он будет проводить показательную дойку.
Я поблагодарила ее и двинулась через бахчу, мимо вывески, предлагавшей «фермерские пироги». Перейдя дорогу, увидела длинные пустые грядки. На память пришло картофельное поле, которое Лила показывала мне в тот далекий-предалекий день, когда мы с ней навсегда прощались с Дороти. У меня похолодело под ложечкой, ноги сами повернули назад, и я медленно направилась к дому в конце дороги. Поначалу я не обратила на него внимания — ряд высоких, почти до самой крыши, елей скрывал дом, — но, приглядевшись, меж стволов я увидела широкое крыльцо, слуховое оконце, бестолковую пристройку с западной стороны.
Я здесь уже бывала.
Не сознание — скорее чутье потянуло меня через весь выгон к старой лошади. Мне оставалось до нее метров тридцать, когда она подняла голову и посмотрела на меня.
Я подходила сбоку, как учила Лила. «У лошадей периферическое зрение, — говорила она. — Если приближаешься к ним спереди, они пугаются. И не смотри им в глаза, во всяком случае, сразу. Так хищники делают».
— Привет, девочка, — окликнула я, пододвигаясь потихоньку, шажок за шажком.
Лошадь переступила с ноги на ногу, взмахнула хвостом. Я подошла ближе, она отступила. Я замерла и с минуту не двигалась. Потом протянула руку, жалея, что у меня нет ни морковки, ни яблочка.
Лошадь была стара: седая, спина провисла, зубы торчат, глаза слезятся. Вдоль морды бежала белая полоса. Я сделала еще шаг, и на этот раз она не попятилась. Еще чуть-чуть — и я ощутила теплое влажное дыхание у себя на руке. Я легонько погладила ее по морде. Лошадь фыркнула и моргнула.
— Ну, здравствуй, — тихо сказала я.
Она снова потопталась и взмахнула хвостом. Муха села ей на левый глаз. Лошадь моргнула, но та не улетела. Я смахнула муху и принялась поглаживать лошадиный бок. Она чуть придвинулась. Шерсть у нее была густая, блестящая, и, странное дело, я не почувствовала того отвращения, которое накатывало на меня всякий раз, когда девчонкой я притрагивалась к лошадям. От нее пахло землей, овсом и солнцем. Особый лошадиный запах.
Лошадь — это всего лишь лошадь, уговаривала я себя. Разве для чужака не все лошади на одно лицо? То есть на морду.
— Сколько же тебе лет?
Услышав шаги за спиной, я обернулась. Со стороны конюшни ко мне приближался мужчина в джинсах и клетчатой фланелевой рубашке, в руке он нес небольшое ведерко.
— Тридцать один, — сказал он. — Она хоть и стара, да крепка. — Он подошел к лошади с другой стороны, провел рукой по ее спине, обнял за шею. — Совсем как я. Верно, старушка? Люди и животные стареют одинаково: суставы скрипят, зрение подводит и прочие разные прелести. Жена говорит, скоро и меня отправит в отставку, на подножный корм.
Мужчина вынул из ведерка репку, меленько порезал перочинным ножом и на ладони протянул лошади. Та принялась вдумчиво жевать.
— Вы тоже на День фермера? — поинтересовался он. — В этом году народу понаехало — страсть. В городе небось ни души не осталось.
— Это ваша ферма? — спросила я.
— Наша с женой. С восемьдесят третьего года. Мы когда ее купили, здесь скота почти не было. Тут раньше яблоки выращивали, но мы работали, развивались и в 1998 году перешли на экологическое производство. Теперь у нас девятьсот коров. Маловато для настоящей молочной фермы, но работы хватает. — Он протянул руку: — Я Фрэнк Будро.
— Элли.
Рукопожатие у него было крепким, но в меру, а рука — шершавой и мозолистой.
— Красиво здесь у вас.
— И мы так думаем. — Фрэнк похлопал лошадь по спине, та ткнулась мордой ему в плечо. Он вытащил несколько ягод черной смородины, она осторожно взяла их у него с ладони. — Мы с женой когда покупали ферму, нам ведь чего хотелось — жить на природе, на всем своем, не зависеть ни от кого, ну и концы с концами сводить. Ни о чем таком мы и не мечтали. — За разговором он продолжал заниматься лошадью: заглянул в уши, влажной тряпочкой протер глаза. Потом высыпал перед ней на землю оставшуюся репу и сказал: — Пойду доить Табиту. Это у нас вроде как гвоздь программы, если вам интересно.
Как сказать ему, что мне на самом деле интересно? Этого я не представляла, а потому лишь улыбнулась в ответ:
— Обязательно приду. — Похлопав лошадь по боку, я отважилась задать вопрос, еще не зная, готова ли услышать ответ: — Как ее зовут?
— Дороти. Удивительно, что она от вас не убежала. Вообще-то она чужих не жалует. — Фрэнк бросил на меня взгляд: — Что с вами?
— Мы с ней не чужие, — выдавила я.
— В смысле?
— Мы с Дороти давние приятели. Я знала ее еще до того, как она появилась здесь. Еще когда она жила в Монтаре.
Он пристально посмотрел на меня.
— Как, говорите, вас зовут?
— Элли.
— Эндерлин?
Я кивнула.
Он уставился в землю. Мы оба молчали. Наконец он поднял глаза:
— Вы сюда не корову доить приехали, так ведь?
— Так.
И тогда он сказал нечто совершенно для меня неожиданное:
— А я всегда знал — рано или поздно вы объявитесь. Даже, можно сказать, поджидал вас.
— Ждали меня?
— Да. И рад, что вы здесь. Мне надо с вами потолковать. — Фрэнк неуверенно глянул на холм. — Только вот у меня там орава ребятишек дожидается представления. Послушайте, не уезжайте. Вечером, когда все разойдутся, мы сядем и спокойно поговорим.
— Хорошо, — ответила я.
У меня голова шла кругом, чересчур стремительно развивались события. Этот человек, это место… Хотелось разобраться во всем, но в глубине души было страшно.
Следующие несколько часов прошли как в тумане. Мы с детьми сидели кружком на валках сена, и Фрэнк показывал нам, как доить Табиту. Дети по очереди пробовали проделать то же самое, за ними нехотя по одному подходу к «снаряду» совершили их родители, а затем настал мой черед усесться на металлическую табуретку. Мне не доводилось доить коров, и трудно сказать, чего я ждала, но не такого уж точно. Сосок выглядел как палец или как вялый пенис. Я сжала, потянула, направляя струйку молока в пластиковую чашку, и в этот момент Табита подняла хвост и — плюх! — выдала солидную порцию пахучего дерьма. Дети пришли в восторг, кто-то из них тут же окрестил это «непотребным непотребством». Молоко пить я отказалась, хотя все остальные выпили то, что надоили.
— Пей! — раздался чей-то вопль.
Ага, тот самый пацан, что гонялся за кудлатым Буяном. К нему присоединились другие, и скоро все дети хором скандировали: «Пей! Пей! Пей!» Пришлось подчиниться. Молоко было теплым, сладковатым на вкус, я с трудом проглотила.
— Деревенская жизнь не для меня, — заявила я однажды, сидя с Лилой на крыльце белого фермерского дома, в считанных метрах от этого самого места. Мы развалились в креслах-качалках и потягивали домашний лимонад, терпкий, с мякотью и крупинками не растаявшего сахара. — Лимонад, крыльцо, качалка — еще куда ни шло, это мне нравится, — я позвенела кубиками льда в пластиковом стакане, — вроде как в сериале «Уолтоны». А все остальное — картошку копать, свиней кормить, навоз вывозить, вставать ни свет ни заря… нет уж, увольте.
— Ты бы привыкла, — сказала Лила.
— Не-а.
Она покачалась в кресле, подняла лицо к солнцу и заговорила, не открывая глаз:
— Вот ты живешь и думаешь, что только так и можешь существовать, боишься даже на шажок отойти в сторону. Но если бы деваться тебе было некуда — ну, скажем, землетрясение, город сгорел и ты оказалась в деревне, где натуральное хозяйство — единственный способ выжить, — ты бы справилась. А может, даже и полюбила бы такую жизнь. Поняла бы, что она тебе больше подходит, чем нынешняя.
— A «MTV» у меня будет? — поинтересовалась я, наливая себе вторую порцию лимонада из холодного металлического кувшина.
— Нет.
— А в город за покупками ездить и книжки в библиотеке брать смогу?
— Нет, все магазины сгорели. И библиотека тоже. Ничего не осталось. Одежду будешь шить сама, из занавесок, как Скарлетт О’Хара. А вместо телевизора — истории у камина.
— Не пойдет, — отрезала я. — Я бы ходила голая, голодная и в конце концов сдохла бы от скуки.
— А я думаю, ты бы справилась! — настаивала Лила. — Надо только морально настроиться — приспособиться к изменившейся реальности, к новым правилам.
— Ну а ты сама? Как бы жила без своей математики?
— Неудачный пример. Математика будет всегда. Математика — главный кирпичик в фундаменте мироздания. Человечество легко может обойтись без «MTV», без «банановых республик», если на то пошло, даже без литературы, но без математики — никогда!
— А все-таки, — гнула я свое, — давай представим. Если у меня нет ничего, что я люблю, то и у тебя — никакой математики!
— Ну ты сравнила, — сказала Лила. — Все твои сегодняшние увлечения — хобби, не больше. Сегодня есть, завтра нет. Математика же — мое призвание. А от призвания не отказываются. Ни при каких обстоятельствах.
Я поднялась, подошла к перилам крыльца, вылила остатки лимонада на землю. Он быстро впитался, оставив темное пятно на сухой земле.
— Подожду тебя в машине, — буркнула я.
— Больно уж ты обидчивая.
— Подумаешь — призвание. Какая тебе от него польза? Ни подружек, ни приятелей. Может, я и не знаю, как распорядиться собственной жизнью, но я хотя бы не умру девственницей!
Ничего более обидного мне на тот момент в голову не пришло. Позже, конечно, жалела, но тогда хотелось уколоть сестру побольнее. Ей-то ничто не помешало ткнуть меня носом в мои собственные недостатки. Гению, само собой, легко найти цель жизни. Для нас же, простых смертных, задача куда сложнее.
Потом я сидела в машине с открытыми дверцами, запустив магнитофон на всю катушку, и следила глазами за Лилой, скачущей на Дороти через поле. Как естественно она смотрелась на лошади, словно родилась наездницей. К машине она вернулась только часа через два. Я, наверное, задремала. Когда очнулась, пленка давно кончилась, рядом сидела Лила и пыталась завести машину.
— Похоже, ты посадила аккумулятор, — сказала она.
— Я нечаянно, прости.
— Нет, это ты меня прости. Ты в любом деле добьешься успехов, чем бы ни занималась.
— Ладно, чего уж там, — пробормотала я, еще не совсем остыв, но оценив извинение.
Самое удивительное, что Лила могла запросто ляпнуть что-нибудь этакое — например, что у меня нет призвания, — без всякой задней мысли. Она лишь констатировала факт, не догадываясь, что подобное прямодушие может быть обидным.
— Я серьезно, — сказала она. — Ты сможешь. — И легонько сжала мне руку. — Ладно, пойду, поищу Уильяма, попрошу подтолкнуть нас.
Немного погодя она вышла из дома с высоким парнем в комбинезоне и бейсболке. Я прыснула — для смеха, что ли, вырядился?
— Познакомься, Уильям, это моя сестра Элли, — представила Лила. — Элли, это Уильям.
Уильям приложил руку к козырьку, буркнул: «Очень приятно» — и отправился за грузовиком и проводами для «прикуривания». Его стараниями уже через пару минут наша машина завелась. Он просунул голову в открытое окно и сказал Лиле:
— Главное, мотор не выключай.
— От него пахнет потом и яблочным пирогом, — заметила я, когда мы выехали на шоссе.
— Послушать тебя, так это здорово, — усмехнулась Лила.
— А разве нет?
Она промолчала.
— По-моему, ты ему нравишься, — снова заговорила я.
— Уильяму? — Лила расхохоталась. — Да у нас с ним абсолютно ничего общего! Скорее уж он твой герой.
— Почему это?
— Он вообще-то музыкой увлекается, играл в какой-то чудной группе.
Ну и что? Подумаешь… Слова сестры вылетели у меня из головы почти сразу.
На ферме я бывала нечасто и в следующий раз увидела Уильяма только год или два спустя, когда мы с Лилой приехали продавать Дороти. Теперь, сидя на табурете перед коровой, я вспомнила тот давний день и симпатичного парня, который, похоже, втюрился в мою сестру. Тогда это казалось такой чепухой. Уильям, Билли… Передо мной забрезжил свет… «Что натворил я, голубка моя, ах, что натворил я…»
После дойки Фрэнк пригласил ребятню прокатиться на сене.
— А ремни безопасности? — заволновалась блондинка, что силой тащила из машины своих малышей.
— В прицепе для сена, голубушка, — усмехнулся Фрэнк, — ремни безопасности не полагаются.
— Даже не знаю… — засомневалась мамаша, но ее ребята подняли такой вой, что пришлось согласиться.
Затем Фрэнк привел всю компанию в коптильню, где, подвешенная за ноги, висела целая свинья. Горло у нее было перерезано, но выражение морды выглядело пугающе живым. Тот паренек, который орал «Пей!», когда я доила Табиту, с ревом бросился вон.
После коптильни устроили конкурс художественной резьбы по тыкве. А ровно в половине пятого Фрэнк поблагодарил всех за участие и отправил по домам, вручив каждому по куску пирога. Я стояла рядом с ним перед домом, наблюдая, как последняя машина медленно скрывается в клубах пыли на дороге.
Тридцать пять
Квадратный холл фермерского дома оказался внушительных размеров, с дощатым полом и выгоревшими обоями в цветочек. Посередине стоял кованый стол для швейной машины, на нем ваза с охапкой подсолнухов. Стоило переступить порог, как меня охватило странное чувство — я все это уже видела! Должно быть, в один из своих редких наездов я заходила в дом, а потом напрочь об этом забыла. Пахло мастикой для полов, сухими травами и немного отдавало гарью — вероятно, чистили ковер старым пылесосом. Ну точно — в комнате справа, заставленной старомодными кушетками и креслами, я заметила светло-зеленый ковер со следами недавней чистки.
Напротив входной двери — лестница на второй этаж. Вдруг скрипнули половицы, я вскинула голову и успела уловить какое-то движение, сверкнул белым пятном чей-то локоть, тенью промелькнул башмак. Человек скрылся в одной из комнат. В столбе света заплясали пылинки.
— Сюда, пожалуйста.
Через застланную ковром комнату, где обнаружился большой телевизор с плоским экраном и книжный шкаф, набитый кассетами и дисками, Фрэнк провел меня на кухню — просторную, полную света. Рядом с допотопной плитой сверкал сталью громадный холодильник. В эркере примостился обеденный стол с красным виниловым диванчиком и такими же стульями. Все выглядело ужасно мило, и все же что-то смущало. Каково, интересно, жить в таком доме? Как ладят хозяева друг с другом, со своими детьми? Вероятно, жизнь у них такая же непродуманная, безалаберная, как сама обстановка. Впрочем, в мире гораздо больше домов, похожих на этот, чем на дом моего детства, где каждый предмет мебели выбирался с учетом будущего окружения и у всего имелось строго определенное место.
— Присаживайтесь, — пригласил Фрэнк.
Диванчик подо мной пискнул винилом. От него несло лизолом. В воздухе стоял еле уловимый запах средства для мытья окон. Стекла сияли.
— Обычный или без кофеина?
— Обычный, пожалуйста.
Фрэнк достал из буфета банку молотого кофе с цикорием, отмерил порцию в видавший виды кофейник и только поставил его на плиту, как где-то зазвонил телефон. Извинившись, Фрэнк вышел. Его не было несколько минут. Закипел кофейник, я выключила газ, разлила кофе по чашкам, радуясь хоть какому-то занятию. Потом подошла к холодильнику, на дверце которого заметила целую коллекцию снимков, в надежде отыскать какие-нибудь намеки на пребывание здесь неуловимого Билли Будро. Но там были лишь снимки какой-то девочки: начальная школа, скаутский лагерь, школьный выпускной вечер, каникулы — похоже, на Гавайях. На кухонной полке выстроились в ряд банки в виде героев диснеевских мультиков, а над рабочим столом, на металлическом кронштейне, висели начищенные до блеска медные кастрюли и сковородки.
— Извините. Дочка звонила, — объяснил, вернувшись, Фрэнк.
— Та, что на фотокарточках?
— Точно. Она сейчас на островах Флорида-Кис, изучает влияние глобального потепления на коралловые рифы. У них там подводная лаборатория (называется «Водолей») на глубине больше полутора километров! И они оттуда ведут репортажи через Интернет. Я, знаете, подсел на это дело. Утром первым делом бегу к компьютеру, чтоб углядеть Талли с аквалангом на спине.
Он поставил на стол между нами тарелку с шоколадными кексами и продолжил:
— Вот уж никогда не думал, что дочка увлечется морской биологией. Мы-то с женой сухопутные создания. Стыдно сказать, я и плавать-то не умею. Но на то они и дети — вечно выкидывают всякие фокусы. А у вас детишки есть? — Он мельком глянул на мою левую руку.
— Пока нет.
Некоторое время мы продолжали болтать о разных пустяках, не в силах свернуть на волновавшую обоих тему. Поговорили о Талли, о ферме, о том, что жена Фрэнка когда-то работала смотрителем в маленькой художественной галерее. Я подивилась богатой коллекции видеокассет и дисков в первой комнате, и Фрэнк объяснил, что он обожает кино, можно сказать — киноман.
— А вообще-то они мне достались от брата, Уилла. Больше половины всех записей — его наследство.
— Наследство?
— Ну, ему-то они уже больше не пригодятся.
И все. Никаких тебе объяснений. Мы оба помолчали. Фрэнк уплетал один кекс за другим — нервничал, похоже — и успел расправиться с четырьмя, когда мы, наконец, подобрались к вопросу, вокруг да около которого ходили весь день.
Первой сдалась я.
— Вы сказали, что ждали меня. Почему?
— Жизнь научила: прошлого не спрячешь, оно всегда всплывает. Ясно же, что рано или поздно вы должны были объявиться. Вы здесь уже бывали. Все идет по кругу, верно?
— Не совсем понимаю…
Он заглянул мне в лицо. Зрачки его темно-карих глаз были такими большими, что глаза казались почти черными. Помнится, мама не раз говорила, что при допросе свидетеля даже освещение может сыграть тебе на руку.
— Вся штука в том, — пояснила как-то она, — что в темноте зрачки расширяются, а присяжные, чтобы понять, врет человек или говорит правду, всегда смотрят ему в глаза. И верят тому, у кого большие зрачки. Такова уж человеческая натура. Если обещаешь не проболтаться, я тебя научу одному фокусу. Сама пользуюсь. Перед заключительной речью я нарочно собираю глаза в кучку и пялюсь в свои записи, пока все не поплывет. Зрачки расширяются, и к присяжным я выхожу с глазами невинными как у младенца!
Любопытная возможность лучше узнать, что за человек твоя мать, понять, какой она может быть на работе. Только мне не очень хотелось видеть ее такой. После того случая я начала задумываться: а всегда ли можно ей верить? Когда она заглядывает мне в глаза и говорит, что гордится мной, — это правда? Или она лукавит, для моей же пользы?
— Вы любите истории? — спросил Фрэнк, отодвигая от себя тарелку с кексами.
— Истории все любят.
— Тогда я вам расскажу одну.
Я глубоко вздохнула.
— Начинайте.
— Дело было в декабре 1989-го. Однажды поутру к нам в дом явился мой младший брат Уилл. А только месяц назад мы выгнали его вон. До этого он довольно долго жил у нас, хотел завязать с наркотой. И у него получалось, здорово получалось! Я даже начал подумывать, что на этот раз парень справится, сумеет изменить свою жизнь. И вдруг он сорвался. Мы уже столько раз прощали его, а у нас только-только родилась дочка, и Нэнси, моя жена, понятное дело, боялась. Когда Уилл был в норме, он нам здорово помогал на ферме — работяга, животных любит, со всеми ладит. А как за Нэнси ухаживал, пока она вынашивала! Можно было подумать, это его ребенок. За день, бывало, несколько раз в дом наведается — проверить, как она. А закончит с работой и принимается за домашние дела, чтоб ее освободить. Посреди ночи вставал и шел доить какую-нибудь из наших коров: вбил себе в голову, что Нэнси надо пить только самое свежее молоко, а если постояло в холодильнике больше часа — уже не годится! «Только прямо из-под коровы, — говорил. — Малыш будет крепче». Я и по сей день думаю: что-то в этом было. Нэнси как свежего молочка попьет, так ребеночек брыкается, что твой жеребенок. Словом, все это время Уилл только о ребенке и говорил.
И вот родилась Талли. Мы не могли надивиться на Уилла. У малышки с животиком что-то было, первые полгода голосила, хоть уши затыкай, а Уилл и слова не скажет. Пока он на ферме, малышка вопит во все горло, Нэнси из сил выбивается, а унять не может. Уилл вернется, быстренько умоется, возьмет Талли на руки и тихонько мурлыкает ей в ушко — вы бы слышали его голос, я всегда считал, что ему бы солистом быть в их группе. Ну вот, помурлыкает-помурлыкает, и вопли понемножку стихают, а через минуту-другую, глядишь, она уж успокоилась и улыбается! По чести сказать, не знаю, как бы мы пережили эти первые месяцы без него.
Примерно через год Уилл поехал по делам в Петалуму и наткнулся на одного старого знакомого — тоже музыканта. Из его-то студии Уилл нам и позвонил, сказал, чтоб к ужину его не ждали. В тот день он так и не вернулся, и на следующий день тоже. А когда объявился неделю спустя, на него было страшно смотреть — небритый, немытый и этот знакомый безумный взгляд. Хотел было вытащить Талли из манежа, но Нэнси его не подпустила. А он знай твердит, что он, мол, в полном порядке, да только все и так было понятно. Нэнси требовала, чтоб он опять пошел лечиться, я был с ней согласен, но Уилл наотрез отказался. Разъярился до того, что кулаком стену пробил, вот в этом месте.
Я посмотрела, куда показал Фрэнк. На стене были заметны следы давнего ремонта.
— Вот тогда Нэнси и велела ему забирать манатки и выметаться, — продолжал Фрэнк. — Я уговаривал дать ему еще один шанс. Боялся, что без нас он совсем с катушек слетит. Да и за жизнь его опасался. Как-никак младший братик. Помню, как он родился. Помню, как мы с ним в футбол гоняли, как помогал ему выбирать первую гитару, как в первый раз вытаскивал его из тюрьмы — он туда загремел за вождение в нетрезвом виде. Только Нэнси сказала: или он — или она. Брата я безумно любил, но потерять из-за него жену и ребенка? Нет. Уилл умолял разрешить ему остаться, божился, что больше этого не повторится, но я сказал: ты мне больше не брат! По сей день кляну себя за те слова, но тогда я так чувствовал. В общем, мне пришлось самому собирать его вещи, потому как он заявил, что и не подумает ничего делать. Уж не знаю, как мне удалось, но запихал я его в машину, довез до города, в какую-то гостиницу, заплатил за пару недель и ему оставил несколько сотен долларов на первое время. Той ночью в номере мы не спали, все говорили, говорили. Он то убивался, то кипятился, то плакал, то орал. Клялся, что теперь уж с пути не свихнется, завяжет с дурью, найдет хорошую работу. Говорил: «Может, даже стану песни писать!» И такая надежда в голосе… Как же мне хотелось ему верить!
На следующий день за мной приехала Нэнси. Стыдно признаться, но у меня как гора с плеч свалилась. «Ты за него уже не в ответе, — сказал я себе. — Как хочет, так пусть и выкарабкивается». Теперь-то я понимаю — нельзя было его бросать. Оставь я его у себя на ферме, не приключилось бы того кошмара, да и сам он, кто знает, был бы поныне жив. Но тогда я был сыт по горло, страх как хотелось спихнуть этот камень с шеи. Все мы задним умом крепки.
— То есть… он умер? — потрясенно переспросила я.
— Шесть лет уже. Талли нашла его. В машине. Он засунул в выхлопную трубу шланг и вставил в окно.
— Но как же…
— А?
— Когда мы вошли, там наверху кто-то был. Я решила…
— Это Рой, жених Талли. Его выставили из квартиры — срок вышел, мы и пустили его пожить пару недель, пока новое место не подыщет.
— Вот оно что…
Фрэнк помолчал.
— А вы надеялись его увидеть?
Я кивнула.
— Вы уж простите, но как вы раскопали этот адрес? Об Уилле ведь много лет никто слыхом не слыхивал.
И я рассказала про Бена Фонг-Торреса, про его статью, про случайную встречу с Билли и про магнитофонную пленку.
— Пленка? Он не говорил, что пишет что-то новое. Я слышал, как он играет у себя в комнате на гитаре, даже по временам напевает, только думал, это из старого. Сколько раз, бывало, просил его нам поиграть, а он ни в какую. Это, говорит, из другой жизни. Для Талли-то он, случалось, играл, но только если никого поблизости не было. — Фрэнк нерешительно спросил: — А она у вас с собой, пленка-то?
— Да.
— Вот бы послушать… Очень это для меня важно.
Мы прошли в комнату с зеленым ковром, и Фрэнк вставил пленку в старенький магнитофон.
— Погодите, — попросила я, — не включайте. Мне бы хотелось услышать конец истории.
Тридцать шесть
— «Билли» — сценическое имя вашего брата? — спросила я.
Фрэнк стоял у камина. Из медного ведра у его ног торчало несколько поленьев.
— Да, ребята из его группы решили, что Билли Будро звучит круче, чем Уильям. А для меня он всегда был Уиллом. Помню, ужинали мы как-то в одном итальянском ресторанчике в Петалуме, еще до всех этих напастей, и подходит к нему какой-то пацан. «Вы, — говорит, — Билли Будро!» — и протягивает свой учебник, для автографа. Вот тогда я уразумел, что у него есть и другая жизнь. Для меня он кто был? Просто младший братишка, который паршиво учился в школе, а когда подрос, не мог накопить на счету и пятидесяти баксов. И вот поди ж ты, для кого-то он, оказывается, восходящая рок-звезда! Не каждому по силам такая двойная жизнь: то играть перед сотней орущих фанатов, то есть суп из пакетика в тесной кухне жалкой квартирки на Тендерлойн.
— Вы говорили, что он объявился у вас рано утром через месяц после того, как вы его выгнали, — напомнила я. — И что дальше?
В комнате было полно стульев, но Фрэнк присел рядом со мной на диван, всем телом повернувшись ко мне. Большой грустный человек. Там, на поле, возле Дороти, был добродушный весельчак, а теперь, когда мы сидели так близко, что колени соприкасались, стала заметна застывшая в его глазах глубокая печаль. Такая, что не дает дышать. Я подумала о его жене. Каково это — жить бок о бок с этой печалью? Просыпаться поутру и видеть эти грустные глаза, целовать губы с горькими складками, слышать, как тебя окликает этот невеселый голос.
— А я ведь так и не придумал, что скажу вам, когда вы объявитесь, — признался Фрэнк. — Десятки раз представлял себя и вас в этой самой комнате или на кухне, а то на крыльце, и все думал — как скажу вам, какими словами… да так ничего и не решил.
У меня в голове все смешалось. Я терялась в догадках. Ну бросил он своего непутевого братца в гостинице, и что? Какое это имеет отношение к истории, которую я ждала услышать, двадцать лет ждала?
— Он был сам не свой, — заговорил Фрэнк. — Рыдал в голос. Я было подумал, что он опять сорвался, по-крупному. Но сколько раз я видал его и пьяным вдрызг, и под дурью — не сосчитать, а такого — никогда. Жена с дочкой гостили в Аризоне у родителей Нэнси, так что на этот счет можно было не беспокоиться, и все же мне было не по себе. Если честно — боялся я его, a такого со мной не бывало даже в худшие его времена. Ну, включил я свет на крыльце, вышел. На дороге урчала на холостом ходу его машина. Я велел ему выключить мотор, он так и сделал. Я заметил, что машина вся исцарапана, колеса в грязи, на стеклах дохлые мошки, а ведь если он о чем и пекся, так это о своей машине. Бог его знает почему. Развалина, а не машина, допотопный белый «шевроле», но Уилл в нем души не чаял. Может, оттого, что под крышей-то он подолгу не живал — не по карману ему квартира, так машина и была для него домом. Сам мог не умыться, а машину помоет, стекла протрет. А тут такое…
Потом возвращается он на крыльцо, я спрашиваю: что, мол, стряслось, а он не говорит. Твердит, что вляпался в дурную историю и что помыться бы ему да где-нибудь поспать. «Ты, — говорит, — не думай, я в завязке. Как ты меня вытурил, так никакой дури». Сам не пойму почему — может, в глазах у него что-то такое было, может, в голосе, — а только я ему поверил. Но чувствовал — в какой бы переплет он ни угодил, в этот раз дело гораздо, гораздо гаже, чем наркотики. И так-то скверно у меня на душе стало, но ведь родная кровь — брат. Не мог я выставить его за дверь.
Ну, помылся он, я ему чистую одежду дал, пожарил нам обоим яичницу с беконом. Он на еду набросился, будто несколько дней не ел, пять не то шесть стаканов молока выпил. Я все пытался вытянуть из него, что же такое приключилось, а он как язык проглотил. Только и сказал, что совершил нечто ужасное, но не нарочно — мол, несчастный случай вышел. И теперь он не знает, что ему делать, куда деваться. Не будь он мне братом, я бы сразу в полицию позвонил. А так — рука не поднялась. Почему-то вспомнился один случай… Уиллу тогда было семь, мне — шестнадцать. Я шел домой из школы через лес и вдруг слышу, в кустах мальчишки ржут, я — туда, поглядеть, что такое. А там два пацана из четвертого класса прижали Уилла к дереву и мочатся ему на ноги, прямо на новенькие кроссовки, белые с красными полосками, которыми он так гордился. Уилл парнишка не мелкий, но ведь эти были на три класса старше. Он выглядел таким беспомощным, таким испуганным, изо всех силенок старался не разреветься. Никогда не забуду взгляд, которым он на меня посмотрел, — взгляд бесконечной веры и надежды. Тут уж я дал себе волю, всыпал пацанам по полной. Больше к Уиллу никто не приставал. Вот об этом-то я и думал в тот вечер, глядя, как Уилл расправляется с яичницей. Говорил себе: ты за него в ответе.
Через несколько дней вернулась Нэнси. Уилл — трезвый, выбритый, тише воды ниже травы. Она позволила ему остаться. И после этого у нас с ним никаких проблем не было. Он работал на ферме, возился с Талли. К тому времени девчушка, которая купила Дороти у вашей сестры, переехала и оставила лошадь у нас. Уилл ухаживал за ней как за своей собственной. Ездить на ней не ездил, а стойло убирал каждый день, кормил, чистил, водил на водопой к ее любимому ручью. В жизни не видал, чтоб кто-нибудь так заботился о лошади. Он жил у нас уже несколько недель, когда однажды за ужином Нэнси вдруг спрашивает: а что сталось с той милой девушкой, которая привела нам Дороти? Мы с ней стали вспоминать, как же ее звали? Знаете, как оно бывает — у обоих на языке вертится, а никак не припомнить. И тут Уилл тихо так говорит: «Лила». И сразу встал из-за стола и пошел к себе. Сказал, что неважно себя чувствует.
Перед сном Нэнси пошла его проведать, но он ей не открыл и еще дня два не выходил из своей комнаты. Странное дело, но мы и знать не знали, что Лилу убили. Уже много позже я нарочно просматривал газеты за то время — громкое было дело, а мы ни сном ни духом. Я так думаю, нам было не до того, что творится вокруг, потому как мы из сил выбивались, чтоб настоящими фермерами заделаться, да и родителями были еще совсем зелеными.
В общем, имя вашей сестры в следующий раз всплыло только шесть лет тому назад. Нэнси и Талли уже спали, я сидел в этой самой комнате у камина. Смотрел на огонь, слушал, как потрескивают дрова. Вдруг шаги на лестнице. Должно быть, Уилл меня не заметил, иначе нипочем не сделал бы того, что сделал…
Я глубоко вздохнула и зажмурилась. Хотелось потянуть паузу, как-то подготовиться. Сейчас история изменится раз и навсегда. Еще мгновение — и книгу Торпа, единственную известную мне версию последних дней Лилы, можно будет сдавать в утиль. И что странно — история, поведанная Торпом, так колоритна, так убедительна, каждое предположение подтверждено кучей фактов, каждое слово направлено на то, чтобы убедить читателя: все это произошло на самом деле и произошло именно так. И тем не менее я верила: подлинной была не она, а история Фрэнка, бесхитростная и простая.
Я и хотела и не хотела слушать дальше. Так бывало в детстве, когда после ужина мы с Лилой забирались к папе на колени и он рассказывал нам историю про золотую руку. «Отдайте мне мою золотую руку!» — жутким басом хрипел папа, а мы с Лилой визжали от ужаса и восторга и ждали, что вот сейчас, сейчас он вскинет руки, схватит нас обеих и вскрикнет: «Попались!» Я всегда думала, что это его любимая «страшилка», а когда подросла, он признался мне, что других просто не знал.
— Уилл подошел к тому столу, — Фрэнк показал на старинный дубовый секретер, — вынул из кармана ключи и принялся один за другим открывать маленькие ящички, пока не добрался до того, который искал. После автомобиля секретер был единственной стоящей вещью в его хозяйстве. Его оставила Уиллу наша двоюродная бабка, а когда родители продали дом, ему негде было его держать, ну я и взял секретер на сохранение. Но ключ всегда был только у него. Мне нравилось, что эта штуковина стоит у меня, — Уилла где-то носит по жизни, а я погляжу на нее, и вроде брат ближе. Что он там держал, точно не знаю. Время от времени Уилл его открывал и убирал в какой-нибудь из ящиков то газетную вырезку про свою группу, то корешок от билета или фотографию.
Я сидел и молчал, сам не знаю почему. Поначалу собирался что-то сказать, а потом увидел, как он ключ вытащил, и… не знаю, захотелось, что ли, секрет его выведать. Он что-то достал, снова запер ящик, и тут я шевельнулся. Он услыхал, вздрогнул и обернулся. А я включил свет и хотел было пошутить — мол, бродят тут всякие по ночам — и вижу у него в руке цепочку…
— Какую цепочку? — спросила я, уже зная ответ.
Фрэнк встал, подошел к камину. Достал из нефритовой шкатулочки в виде курицы маленький ключик и направился к секретеру. Он проделал то же самое, что шесть лет тому назад проделал Уилл: поднял деревянную шторку и начал один за другим открывать ящики, как в китайской головоломке. Крошечный ящичек был запрятан так глубоко в столе, что я подивилась искусству столяра, смастерившего эту вещь. Фрэнк просунул в ящичек два пальца и что-то достал, а что — мне не было видно. Я протянула руку, он разжал кулак, и мне на ладонь скользнула холодная, словно вырытая из земли, золотая цепочка Лилы с маленьким топазом. Мой подарок ей на восемнадцатилетие.
Говорить я не могла. Дышать тоже.
«И цепочка пропала», — сказал папа, когда звонил мне из морга в Герневилле.
Я поднесла цепочку к свету. Вспомнилось все: как я прижимала к уху трубку и вслушивалась в серый папин голос, как еще не могла поверить в смерть сестры, но страшно переживала из-за цепочки — горько было и обидно, что кто-то украл ее. Дешевенькая безделушка, но Лила обожала ее и никогда не снимала. И дело было не в цепочке, а в том, что она любила меня.
Двадцать лет я жила с мыслью о смерти сестры, человека, которого любила больше всех на свете. Но ведь и она тоже любила меня, всей душой, такую как есть, — теперь я могла напомнить себе об этом. И ее скрытность в последние месяцы, и нежелание рассказать про Питера Мак-Коннела ничего не меняют. Она бы рассказала, все-все рассказала рано или поздно, я знаю, что рассказала бы. Просто она еще не добралась до этой части истории.
Ошеломленная, я не могла ни говорить, ни даже плакать. Это был шок. Но и громадное облегчение — у меня в руках была ее цепочка. Частичка истории моей сестры, моей собственной истории.
Тридцать семь
А потом все те слова, что я ждала двадцать лет, хлынули потоком.
— Мне даже не пришлось допытываться, Уилл сам заговорил. Все повторял: «Это был несчастный случай!» А я никак в толк не мог взять, о чем это он. «Какой несчастный случай?» — спрашиваю, а он: «Она мне нравилась, я бы ее и пальцем не тронул!» «Кого?» — спрашиваю. И тут он назвал ее по имени, в первый и последний раз. «Лилу Эндерлин».
Вот как оно обернулось. Парень, который много лет назад помог нам с Лилой завести машину, тот самый, на кого я с интересом поглядывала, скучая на ферме, тот, который не удостоился даже краткого упоминания в книге Торпа, — в нем, оказывается, все дело.
— Помните, я пристроил Уилла в гостиницу, когда Нэнси выставила его за дверь?
Я кивнула, сжав цепочку в руке так, что кулон впился в ладонь.
— Работы он, конечно, не нашел. Искать-то искал, да только не брал его никто. Те деньги, что я ему дал, скоро вышли, из гостиницы пришлось съехать, спал в машине. На еду и на бензин зарабатывал гитарой — пел на улице. Самым прибыльным оказалось ночное время, когда люди из баров разъезжаются по домам. Уилл отправлялся на станцию, перепрыгивал через турникет на платформу, садился на землю рядом с открытым футляром от гитары и начинал играть. А вокруг подгулявший народ в ожидании поезда — послушают и расщедрятся. Уилл, вообще-то, классно играл. И к людям у него подход был. Если выдавалась хорошая ночь, по двадцать-тридцать баксов огребал. На прокорм, на горючее или там на кино хватало, а вот на гостиницу, во всяком случае на приличную, — никак. Он ведь хотел держаться подальше от притонов, знал, что там его снова затянет, а он решил вконец завязать с наркотиками. Да он еще и откладывал понемногу — думал скопить деньжат и снять студию, чтоб записать кое-какие новые песни. Говорил, что все это только ради Талли. Назначил себе срок — три месяца без наркоты. Сумеет продержаться, не сорвется — значит, выкарабкался навсегда. А через три месяца вернется на ферму и докажет мне, что переменился и может быть настоящим дядей.
И вот однажды ночью сидел он на станции, уже собирался закругляться, последнюю песню допевал, и вдруг видит — вдоль путей в его сторону идет симпатичная женщина. Подходит она ближе, и он понимает, кто это. Он голову опустил — не хотел, чтоб она его узнала, стыдно ему было. А она остановилась рядом, заглянула ему в лицо, послушала-послушала и говорит: «Это ты, Уильям?»
Фрэнк рассказывал просто, без затей — ничего не приукрашивал, не делал ни драматических пауз, ни выразительных жестов, но я видела Лилу как живую. Вот она в своей зеленой вельветовой юбке, в черном пальтишке и кедах подходит к старому знакомому, чуть наклоняет голову, вглядывается. Я слышала ее голос. «Это ты, Уильям?» — спрашивает она дружелюбно и участливо, без малейшего осуждения.
— Это была ваша сестра, — продолжал Фрэнк. — А Уилл, переборов стыд, понял, что ужасно рад ее видеть. Она собиралась ехать домой, была чем-то расстроена. Уилл не стал допытываться, отчего да почему, не хотел совать нос в чужие дела. Они чуток поболтали о том о сем, а потом она и спрашивает, как, дескать, у него дела. И по тому, как она это спросила, Уилл понял, что она догадывается — неважнецкие у него дела. Но он прикинулся, будто ничего такого — просто черная полоса. Пройдет, ничего страшного. Ну, они еще постояли, и Лила глянула на станционный павильон. В тот день на станции «Монтгомери-стрит» что-то стряслось и ее поезд должен был подойти не раньше чем через полчаса. Уилл предложил подождать вместе с ней, потому как ночью на станции небезопасно, но она отказалась: мол, неудобно его задерживать. Тогда-то он и сказал, что у него тут неподалеку машина, и предложил подвезти ее домой. Она отнекивалась, но Уилл уверял, что его это нисколько не затруднит.
Я слушала с ощущением, будто смотрю «ужастик», где героиня идет навстречу смерти. Сценарий написан, и фильм давным-давно снят, а все равно хочется крикнуть: «Стой!» «Не ходи!» — мысленно умоляла я, зная уже, что она села в ту машину. Не переписать сценарий, и пленку назад не перемотать…
— На Рыночной улице Уилл вдруг вспомнил про ваш домик на Русской реке. Лила рассказывала о нем, когда Дороти жила у нас на ферме. Уиллу чертовски хотелось помыться, отсидеться где-нибудь в тихом месте, дух перевести, он недолго думая и спросил, нельзя ли ему там пожить. Лила-то, кажись, не против была, но сказала, что не может разрешить. Дескать, домик не ее, родительский, а им такое дело точно не понравится. И тут все пошло наперекосяк.
Я вот толкую вам про то, каким славным малым был Уилл, я и сейчас верю, что душа у него была добрая, но было в нем еще какое-то… не знаю, как сказать, — упрямство, что ли. Если что вобьет себе в голову — вынь ему да положь, а станешь мешать, так упрется еще сильнее. С одной стороны, это говорит о сильном характере, ведь спору нет, своим успехом его группа по большей части обязана моему брату с его упрямством. Но с другой — внушало страх. Если втемяшится ему в башку разумная, по его понятию, мысль, а кто-нибудь встанет поперек дороги, так он терял всякое представление, что можно и чего нельзя. Той ночью, я уверен, так и произошло. У него просто вырубило мозги.
— Но почему она согласилась поехать? — воскликнула я. — Ведь столько лет не видала вашего брата! Почему мне не позвонила? Я бы за ней приехала. Среда ведь была, а по средам машину брала я. Господи, если б только я утром отдала машину Лиле…
Фрэнк хотел было коснуться моего плеча, но не стал, отвел руку.
— Мне очень жаль, — проговорил он. — Вы уверены, что хотите слушать дальше? А то я подожду.
— Нет, не надо. Все нормально.
— Короче, Уилл и слышать ничего не хотел. Ваша сестра заметила, что они не туда свернули, сказала Уиллу, а тот — ноль внимания. Когда впереди встал мост «Золотые Ворота», она сообразила, куда они направляются. Потребовала, чтоб он повернул, а он знай себе рулит дальше. Прости, говорит, ничего плохого тебе не сделаю, а только нужен мне ваш домик, и точка. Он, понимаете, взял себе в голову, что это и есть решение всех его проблем. Они-де приедут на место, и Лила впустит его в дом. Для него было очень важно, чтоб она сама его впустила, понимаете? Чтоб он вошел как положено — желанным гостем.
Я никак не мог взять в толк и напрямик спросил, как он себе это представлял, — он что, собирался держать бедную девушку пленницей? Так он даже разозлился, что мне такое могло в голову прийти. Я, говорит, не похититель! Нет, говорю, именно что похититель! Он разрыдался. Все, говорит, пошло совсем не так, как должно было, хреново пошло.
Он искренне надеялся по дороге уломать Лилу. Думал, она его пожалеет и пустит пожить на одну-две недельки. Он был уверен, что сумеет найти в Герневилле какую-никакую работу, а как получит деньги, снимет себе жилье, там-то оно гораздо дешевле, чем в городе. И в домике не будет сидеть сложа руки — отработает свое проживание. Но Лила все твердила «нет» да «нет» и только умоляла отвезти ее домой. Но Уилл не слушал.
Мне вспомнились наши поездки по мосту «Золотые Ворота». Бывало, в детстве мы с Лилой прижмемся друг к дружке на заднем сиденье, машина несется, подскакивая, по мосту, а мы таращимся на туман, такой призрачный в свете фонарей. Обычно мы выезжали на реку вечером в пятницу, и последние полчаса темной извилистой дороги наводили на меня ужас. Все представлялось — вот сейчас из чащи ка-ак выскочит кто-нибудь, олень или бука. Лила каждый раз старалась развеять мои страхи, объясняя, что олени сами боятся света фар, а бука — вообще выдумка для малышей.
— Лила не на шутку разволновалась, — продолжал Фрэнк. — Начала кричать на Уилла, требовать, чтоб тот остановил машину и выпустил ее. Сама не своя стала. Уилл все уговаривал ее: успокойся, а она вдруг возьми да и выскочи из машины! Они как раз проезжали лес, что под Корбелем. Уилл сказал, это произошло так внезапно, что он не успел ее удержать. Он тут же съехал с дороги и бросился назад, к обочине. Она лежала неподвижно. До него только тогда дошло, что за дурацкая идея его осенила, какую страшную ошибку он совершил. «Она не должна была меня бояться» — это он мне сказал. Совсем, видать, к тому времени умом пообносился. Может, от наркотиков. Он-то про себя знал, что ничего ей не сделает, значит, — так он мыслил — и она это понимала.
А я думала о Лиле, о рассудительной Лиле. Как она, наедине с похитителем, перебирала свои возможности. Как подсчитывала, сколько у нее шансов не убиться при падении и убежать, прикидывала, что будет, если она этого не сделает. Быть может, став пленницей Уильяма, она уже с тоской вспоминала обыденную драму своих непростых отношений с Питером. Или обдумывала, что сделает, если выберется из этой передряги, — может, порвет с Мак-Коннелом и начнет с чистого листа. А может, думала о своем Гольдбахе, о гипотезе, доказательство которой намеревалась найти. И вдруг выпрыгнула! В известном смысле, решение совершенно логичное. Лила была человеком действия. Сидеть сложа руки и ждать, куда вывезет, позволить кому-то другому вершить ее судьбу — это не для нее.
— Вам плохо? — участливо спросил Фрэнк.
Я согнулась, меня бил озноб. Что это за пятнышко на ковре? Белая заплатка размером с монетку в четверть доллара. Я уперлась в нее взглядом и выдохнула:
— Продолжайте.
— Она лежала головой на большом булыжнике с острым выступом. В крови. Дыхания ее Уилл не слышал, приложил ухо к груди — ничего, тогда он рывком распахнул ей блузку, чтоб сердце послушать, — и опять ничего. Попробовал делать искусственное дыхание рот в рот. Толком не знал, как это делается, просто повторял, что видел по телевизору. Взял руку, пощупал пульс. Минут десять-пятнадцать пытался привести ее в чувство, только ничем уже не мог ей помочь. Когда рассказывал, все рыдал, все сжимал цепочку. В конце концов он поднял Лилу и отнес к машине.
Как Торп описывал Лилу, когда ее нашли? Полностью одетая, но с расстегнутой блузкой, четыре верхние пуговицы отсутствуют. Пуговицы так и не были обнаружены — это указывало на то, что преступление могло быть совершено в другом месте, но Торп историю с пуговицами проигнорировал. По его версии, Лила погибла там же, где позже была найдена.
— Прежде чем положить ее в машину, он подстелил на сиденье одеяло. Вот чего я ему никогда не прощу. Никак не могу забыть того одеяла. Ведь это значит, он не хотел крови в машине. Лила лежит мертвая, а он следы заметает! И хватило же ума… Машин на шоссе не было. Уилл сам не свой, как быть, что делать — не представляет. Первой-то мыслью у него было отвезти ее в больницу, но увидел кровь у себя на руках, на одежде и призадумался: его же в убийстве обвинят. Ну и поехал в соседний лес, отнес Лилу в чащу и бережно уложил на земле, как будто она спит. Сидел рядом, смотрел, смотрел на нее. Заметил цепочку и решил забрать с собой — вроде доказательства, что все это было на самом деле. Потому как по временам ему мнилось, что это всего лишь жуткая галлюцинация. Потом поехал к реке, завернул перемазанную куртку в несколько пакетов и зашвырнул в контейнер с мусором. Хотел, чтоб его куртка и тело Лилы оказались как можно дальше друг от друга. Сам умылся в реке, отвез Лилин рюкзак в Хилдсбург, сунул в мусорный бак за каким-то рестораном и приехал сюда. Больше-то ему некуда было податься. Вот так он и очутился у нас на пороге тем утром.
Я потрясенно молчала. Насколько отличалась его история от того, что я так долго принимала за истину. Ни злого умысла, ни сознательного убийства. Нечаянная встреча с бывшим «наркошей». Лилина ошибка не имела никакого отношения к Мак-Коннелу. Ошибка была в том, что Лила доверилась не тому человеку, что вообще верила в природную человеческую доброту.
— Откуда вы знаете, что он говорил правду? — с трудом выдавила я.
— Знаю. Брат не был ангелом, но намеренно причинить Лиле вред он не мог. Не мог — и все тут.
— Почему же вы молчали? Почему не пошли в полицию?
Фрэнк потупился.
— Я хотел. Правда, хотел. Я и Уилла уговаривал покаяться. Обещал пойти вместе с ним, говорил, что, если он не сдастся, будет только хуже. Даже пригрозил: не пойдешь, так я сам пойду. Я ведь того мнения, что эдакой беды не утаишь. Много раз, говорю, я тебя выручал, а сейчас не могу. Он отказался наотрез. Сказал, что в разных дерьмовых местах живал, а тюрьмы ему не снести. А через два дня после признания Талли нашла его мертвым в машине. Как же было выдать его тайну? Я разузнал, что прошло уже четырнадцать лет, как умерла ваша сестра. Никого не посадили. Стало быть, ни одна невинная душа не расплачивается за преступление Уилла. А в его самоубийстве я винил себя. Не принуждай я его сдаться, он, может, и не покончил бы с собой.
— Откуда вам знать, — возразила я.
— Наверняка я, конечно, не знаю, но всегда буду гадать. А больше я ничем не мог ему помочь, разве что уберечь его имя от газетной шумихи.
Именно этого я и не сумела сделать для Лилы. Но Фрэнк-то — каков фрукт! Шесть лет молчал. Если бы все открылось еще тогда, мы на шесть лет раньше перестали бы мучиться неизвестностью, на целых шесть лет раньше могло бы закончиться добровольное изгнание Мак-Коннела. А с другой стороны, жаль его. И понять его мне несложно: он потерял брата, я — сестру. А ему легче, чем кому бы то ни было, представить, что произошло со мной…
И вдруг оказалось, что Фрэнк сидит совсем близко и крепко обнимает меня, приговаривая:
— Знаю, детка, знаю… Мне очень жаль.
Сюрреализм какой-то — я в объятиях этого человека, в этом месте, тайна гибели Лилы раскрыта. И почему у него рубашка мокрая?.. Только тут я сообразила, почему он меня обнимает. Я рыдала и не могла остановиться.
Мне вспомнилось последнее в Лилиной жизни утро: как она заметила сломанную ветку на крыльце и как мы оставили ее там валяться. Вспомнилась ночь, когда мы лежали в траве на заднем дворе, высматривая созвездие Лиры, а Лила рассказывала мне про Орфея, который не сумел вернуть жену из царства мертвых. Я думала о том, какой она была — моя прекрасная, гениальная, скрытная сестра — и какой могла бы стать. Думала о родителях — обоим удалось наладить жизнь с одной дочерью вместо двух. За эти годы я так мало смогла им дать. Ничего, зато теперь я могу дать им правду.
В комнате успело потемнеть, наверху включили воду, и старые трубы заурчали. Наконец Фрэнк выпустил меня. Мы отодвинулись друг от друга. После такой внезапной близости в воздухе повисло чувство неловкости. Мне хотелось что-то сказать ему, но в голову ничего не шло. Первым молчание нарушил Фрэнк:
— С тех пор как Уилл умер, я все надеялся, что однажды его музыка вернется. Какой-нибудь диджей на радио поставит старую запись, или кто-нибудь из журналистов напишет про него в журнале, и люди вспомнят и снова станут слушать его песни. Хочется, чтобы о нем помнили как о Билли Будро, который писал классную музыку.
— Вы должны это послушать, — сказала я. — Очень красивая песня.
Фрэнк подошел к магнитофону, включил его, и зазвучал хрипловатый голос Билли Будро.
В безлюдном лесу на коленях стою, Смотрю на тебя и не верю. Что натворил я, голубка моя, Ах, что натворил я…Песня кончилась. Фрэнк и не подумал отвернуться. Так и стоял у магнитофона, положив руку на камин и глядя в одну точку, а по щекам текли беззвучные слезы.
Тридцать восемь
Торп увидел мое отражение в оконном стекле и вскочил, повернулся. Комнату освещал только монитор компьютера. В его тусклом свете Торп казался бледным и нездоровым.
— Ты как сюда?..
— Я стучала, а вы не слышали. Входная дверь была не заперта, вот я и…
Изумление на его лице сменилось надеждой.
— Я закажу для тебя ключ. Можешь приходить когда вздумается. Знать, что ты можешь появиться в любой момент, — какой прекрасный стимул! Буду сидеть за столом, глубокой ночью…
— Давно хотела спросить: а почему, собственно, вы работаете глубокой ночью?
— Мысли яснее.
— Понятно.
— Так я что говорю… буду сидеть здесь, в кабинете, силясь родить очередную фразу, и вдруг услышу, как ты поворачиваешь ключ в замке. Я не встану из-за стола, а тебе даже не нужно заходить здороваться. Но я буду слышать, как ты ходишь внизу, готовишь себе какой-нибудь перекусон, снимаешь с полки книгу. Я вернусь к работе и буду воображать, что ты — мой читатель. Каждое слово, что появится на странице, будет обращено к тебе. Давным-давно один словесник говорил мне: помни о публике! А я никак не мог понять, что он имеет в виду. Как узнать, кто твоя публика?
— В любом случае — не я.
— Что?
— Ваша публика.
— Ты могла бы стать ею.
— Я предпочитаю беллетристику, помните?
— Тебе повезло! На подходе мой новый роман. Кто знает, может, тебе понравится. — Торп кивнул на стул возле стола: — Присаживайся.
Я подозрительно оглядела табуретообразное детище эргономики.
— Похоже, эта штуковина не очень-то удобна.
— Рекомендация моей инструкторши. Прежде чем настроить мысли, настрой тело — из этой оперы.
Я осталась стоять, разглядывая стол, заваленный бумагами и записками. Возле клавиатуры лежал карандашный набросок — рисунок моего прежнего дома. На окне второго этажа висела кормушка в виде викторианского домика.
— Послушай, — заговорил Торп, — что мне сделать, чтобы загладить свою вину? Какими словами вымолить прощение, чтобы мы снова стали друзьями?
От него несло как от пепельницы. Бедолага. Я знала, какие усилия он прилагал, чтобы расстаться с вредной привычкой. А если бы мне врачи велели отказаться от кофе? Да ни за что на свете!
— Вы ошиблись насчет Билли Будро, — сказала я.
Торп вздернул бровь. Сегодня он выглядел каким-то заросшим — щетина на щеках, на макушке, даже брови взъерошены. И погрузневшим с последней нашей встречи.
Его губы тронула усмешка.
— Это как?
— Он мог бы стать замечательным героем книги.
— Ты с ним встречалась? — с легким удивлением спросил Торп.
— Встречалась.
Я не стала объяснять, что с тех пор минуло больше двадцати лет. И что Билли уже давно покончил с собой. Я вообще ничего не собиралась ему объяснять. Я разглядела название его новой книги: «Музыка и безумие. Неавторизованная биография Билли Будро». К Торпу я ехала с твердым намерением обвинить его во лжи, хотя сама еще толком не знала, что скажу. Но теперь до меня дошло, что мною двигало. Я здесь для того, чтобы доказать самой себе: на этот раз — победа за мной. Он ничего от меня не узнает — ни кто убил Лилу, ни почему. Преподнести ему на блюдечке такую информацию? Не заслужил. Прочтет как все остальные. Я знаю, кто сумеет распорядиться этой историей лучше прочих.
— Непременно следовало включить его в книгу, — сказала я. — И Стива Стрэчмена тоже. И дворника, Джеймса Уилера. И Дона Кэрролла. Всех.
— Отвлекающий маневр, — отозвался Торп и снова усмехнулся, выжидающе глядя на меня. — Отвлекающий маневр, верно?
— Может, и так, но каждому из них, если приглядеться, стоило посвятить по главе. Мне сегодня пришло на память то, что вы как-то раз сказали, когда мы в институте проходили «Брайтонский леденец».
— Гм-м?
— Мы обсуждали Пинки, золотые короны на красных креслах у него в гостинице. Кто-то поднял руку и спросил: «Зачем Грэм Грин тратит столько времени на Пинки, он же второстепенный герой?» А вы ответили: чтобы написать по-настоящему хорошую книгу, мало развивать образы главных героев. Следует хорошенько прописать и второстепенные. Когда читатель закроет книгу, в его памяти должны остаться не только главный положительный герой и главный отрицательный герой. Читатель должен запомнить каждого, кто хоть раз появился на страницах.
Торп озадаченно поскреб макушку.
— Я так сказал?
— Дословно: «Такова сама жизнь. В ней важны не только главные действующие лица и крупные события, но все, всё и вся».
— Да-да, — кивнул Торп, — что-то такое припоминаю.
— Вы и сейчас в этом убеждены?
— Не думаю, чтобы я вообще когда-нибудь был в этом убежден. Вероятно, ляпнул, чтобы заполнить паузу.
— Ну а я по дороге сюда размышляла о ваших словах. Если для книг они, возможно, и справедливы, то для жизни — нет. Взять меня — скоро сорок стукнет, а я по пальцам могу сосчитать людей, которые имеют для меня значение.
— И кто же они? — осведомился Торп.
— Лила, разумеется. Родители. Питер Мак-Коннел. Генри. — Я помедлила. — Вы.
— Я?
— Мне было всего двадцать, когда я прочла вашу книгу. И поверила каждому слову. Вы написали историю моей жизни, а я ведь даже еще не начинала жить. Вы сказали, что у меня нет цели, но как вы могли судить? Я была еще так молода, а вас считала умным, всезнающим. Вы изучали меня внимательно, как никто другой, и с каким живым интересом! Вы заглянули мне в душу и поняли, лучше чем кто-либо, какая я на самом деле, — так я думала. Не слишком умно с моей стороны. Да, я виновата наравне с вами — или даже больше, — что превратилась в девушку из вашей книги.
— А еще я писал, что ты умница. — заметил Торп, — и красавица. И что ты пылкая натура.
— Не помню такого.
— Писал, писал.
— Вы называли Лилу «хорошей дочерью».
— Верно, но я же не называл тебя плохой дочерью.
— А в этом нужды не было.
Торп глянул на настенные часы и обернулся к окну. Я проследила за его взглядом. Мгновение спустя в окне моей прежней спальни промелькнула чья-то тень. Опустилась штора, погас свет.
Торп встал, щелкнул выключателем на стене, и комнату залил свет.
— Прости, — сказал он, оглянувшись на меня.
— Что?
— Она опускает штору и выключает свет всегда в одно и то же время. В двенадцать сорок пять. Хоть часы проверяй. И тогда я включаю у себя свет. Игра такая. Мне нравится думать, что она замечает, как у меня зажигается свет, — словно мы с ней исполняем некий танец, этакое беззвучное общение. А поднимается штора каждое утро в пять минут восьмого. Кроме воскресений. По воскресеньям она отодвигает штору в половине седьмого, в четверть восьмого выходит из дома и отправляется в собор Святого Павла. По будням она одевается стильно: облегающие черные платья, черные сапоги, элегантные шарфы. А по воскресеньям, к мессе, напяливает мешковатое желтое пальто. Каждое воскресенье без исключений, независимо от погоды.
— Может, в церкви холодно? — предположила я.
— Холодно.
— Вы ее туда провожали?
— Это церковь. Двери открыты для всех страждущих, верно? Просто мне было любопытно. Она живет одна, я и решил, что на службе она тоже будет одна. Как бы не так! Она там встречается с одним парнем, хромым, и они сидят рядышком в заднем ряду.
— Что еще вы про нее раскопали? День рождения? Любимый цвет? Первое разочарование?
— В том-то и дело! — воскликнул он. — Мне не нужно копать. Я вставил ее в свой роман и все придумываю сам.
— А в один прекрасный день она возьмет и прочтет вашу книгу.
— Ну, это большой вопрос. Я даже не знаю, удастся ли ее издать. Кому нужен роман от автора криминальной документалистики, да еще о любви?
— Значит, книга о любви?
— Да. Устал я от крови. Хотелось написать о чем-то красивом, что я сам испытал. Ведь в книжках про убийства я сторонний наблюдатель, не участник.
— А как же «Во второй раз — просто чудо»? Вроде бы про любовь.
— Такой же фарс, как и мой брак. Нет, эта — о настоящей любви. Не о плотской, а о той, что гораздо глубже. Такая любовь живет, даже не получая ответа. Она может длиться вечно и не требовать ничего взамен. Трагическая любовь, если угодно.
— Больше смахивает на одержимость.
У Торпа дернулся левый глаз. Самую малость, но я заметила. Значит, его задело. Значит, на этот раз жгучей болью отозвались не его, а мои слова. К моему удивлению, радости это не доставило, даже захотелось взять слова назад. Возможно, в этом главное зло книг: что написано пером, не вырубишь топором.
— А женщина, что живет в твоем бывшем доме… — снова заговорил Торп. — Я видел, как она играет на пианино, принимает гостей, ходит в церковь, но ни разу не видел ее с книгой в руках. Даже если мне удастся опубликовать роман, пусть даже он станет гвоздем сезона, шансы, что она его прочтет, я бы сказал, крайне невелики.
— А если все же прочтет? Узнает в героине себя?
Торп, засунув руки в карманы, повернулся ко мне лицом и снова опустился на свой табурет.
— Давно хотел тебе кое-что сказать, да все как-то к месту не приходилось.
Господи, что теперь? Что у него на уме? Пора с этим кончать. Уйти и никогда не возвращаться. Отныне — новые главы, иной сюжет. Моя история.
— В Лос-Анджелесе есть один человечек, — начал Торп, — Уэйд Уильямс. Мою книгу он прочел еще школьником, а теперь он у нас знаменитый голливудский продюсер. И хочет снять экранизацию истории Лилы.
Чего-то подобного я и ожидала. В художественной литературе герои имеют обыкновение кардинальным образом преображаться к финалу, однако в жизни люди редко меняются. Что угодно с ними делайте, но в самых существенных своих проявлениях они останутся теми же. Я развернулась, чтобы уйти.
— Погоди. — Торп положил руку мне на плечо. — С тех самых пор как я начал писать, моей голубой мечтой было увидеть одну из моих книг на большом экране.
Я была уже в дверях. В коридоре стоял какой-то странный душок — опять эти ванильные свечки.
— Я уже практически подписал контракт, — крикнул мне в спину Торп, — но тут появилась ты. И я сказал ему «нет».
Я замерла на месте. Медленно повернулась. Мне нужно было видеть его лицо, чтобы понять, врет он или говорит правду.
— Не знаю, насколько это для тебя важно, — добавил Торп. — Мне просто хотелось, чтоб ты знала — фильма не будет. И вообще, я больше не намерен распространяться об этой книге. Куда бы ни пришел, все только о ней и талдычат, — всегда о ней, никогда ни об одной другой. Долго эта книга тешила мое самолюбие. Но теперь я хочу, чтоб ты знала: с ней покончено.
Я прислонилась к дверному косяку. По противоположной стене, изгибаясь, бежала трещина. Она начиналась у потолка и наискосок спускалась к столу. Каждый дом в городе может ими похвастаться. Дом, где я выросла, тоже. После очередного землетрясения мама делала обход, высматривая красноречивые линии на стенах и полах. Девчонкой я была уверена, что однажды дом просто-напросто разломится пополам.
— С чего вдруг? — спросила я Торпа.
— Я не хотел оскорбить твоих чувств этой книгой. Но на мне словно шоры были. Все, что я видел, — это свой шанс, свою возможность вырваться из института и заняться тем, о чем мечтал как безумный. Я до исступления жаждал стать писателем. Ничего другого для меня не существовало… Словом, прими это как извинение. Хотя и запоздалое. Но поверь, Элли, я знаю, как виноват. Прости. Вот, собственно, и все, что я собирался тебе сказать.
— Спасибо.
Он смотрел на меня, будто хотел что-то добавить, но смолчал. Я была благодарна за это молчание.
Он проводил меня вниз. Над камином висела фотография Мункачи, та, о которой он говорил раньше, — темная улица и два человека, сцепившиеся в драке не на жизнь, а на смерть. Жестокая фотография и все же прекрасная, исполненная жизненной силы.
В холле появилось что-то новое — тишина. В тусклом свете заглядывавшего в окно уличного фонаря я увидела, что фонтан пуст, чисто выскоблен. Торп открыл дверь. Я шагнула через порог, a он вдруг взял меня за руку, притянул к себе. Я не сопротивлялась. Позволила обнять себя и на одно мгновение обняла его в ответ.
По дороге домой я снова думала о словах, много лет назад сказанных Торпом на занятиях. В жизни важны не только главные действующие лица и крупные события, но все, всё и вся.
Через тридцать лет буду ли я помнить Хесуса с фермы, Марию из никарагуанского кафе, моего босса Майка? Сейчас, в тридцать восемь, я могу выцарапать из памяти имена лишь трех-четырех из всех своих учителей, и не обязательно лучших из них. Воспитательницу детского сада миссис Смит, например, не забыла исключительно потому, что она жевала с открытым ртом; вредную миссис Джонсон, которая учила нас в третьем классе, — из-за того, что у нее вечно задиралось платье на толстых икрах; «физкультурницу» из седьмого класса — только потому, что она перед всем классом устроила мне выволочку, когда я не отбила элементарной подачи. Помню парней, с которыми спала, но только имена, прочие подробности испарились. Но Торп, Мак-Коннел, Фрэнк Будро, я знаю, в моей памяти останутся навсегда.
Вот бы вернуться в прошлое и спросить Лилу. Действующими лицами в ее короткой истории были наши родители, я и Питер Мак-Коннел. А включила бы она в свой перечень значимых людей Билли Будро? До того, как столкнулась с ним на станции? Вряд ли.
Минуя одну улицу за другой, я все не могла выкинуть из головы Торпа. На протяжении всего разговора меня не оставляло чувство, что он хочет сказать что-то еще. Тогда я отмахнулась от этих мыслей, решила, что знаю: у него на уме опять что-нибудь про меня, про нас с ним. Но сейчас, в машине, мне пришло в голову, что, возможно, это было нечто совсем другое.
«Отвлекающий маневр, — сказал он, — верно?» А перед этим, когда я в первый раз назвала имя Билли Будро, легонько усмехнулся. Неужели ему с самого начала было известно гораздо больше того, что он мне открыл?
А тот первый адрес, который Торп выдал мне у себя в гараже? Безобидный дворник, доживающий последние деньки в скромном домике на Бернал-Хейтс. Торп знал, что это имя никуда не приведет? Потом был Билли Будро, затем Стрэчмен. Это что — он благодарил меня за каждый визит? За то, что я дала ему второй шанс? Расследование проводила я, но направлял меня Торп.
Торпом был, Торпом и остался. И все же, хоть это и нелегко, а следует признать — он серьезно изменился. Как-никак двадцать лет прошло. А я-то полагала, что в жизни люди не меняются, только в книгах. Но вот вам Торп — реальный, живой человек, который оказался способен на нечто такое, чего я от него никак не ожидала. Он удивил меня.
Тридцать девять
Октябрь, конец сезона дождей. Дириомо, промокший и посвежевший, утопал в орхидеях. После ночного путешествия на тряском автобусе из Манагуа я приехала в городок утром во вторник и остановилась в своей обычной гостинице. Днем я собиралась на плантацию к Хесусу, дегустировать новые образцы. Я привезла подарки его детям: Розе — книжку про птиц с картинками, а Анхелю — краски. Но сначала мне надо было кое-кого повидать.
Переодевшись в сарафан и сандалии, я вышла на улицу. На бейсбольной площадке мальчишки гоняли палками теннисный мячик. И вот я уже стою на знакомом пороге перед знакомым медным звонком. Шаркающие шаги за дверью — и я вижу Марию с желтой ленточкой в длинной седой косе, перекинутой через плечо.
— Милости прошу, — улыбается она.
Внутри тот же запах, что и три месяца назад, когда Питер Мак-Коннел подошел к моему столу и спросил: «Вы меня знаете?» Как и в тот раз, терпко пахнет жареной свининой, крепким кофе и чуть-чуть кукурузной мукой. Только тогда в комнате, освещенной лишь свечами, царил полумрак, а теперь плещущее в окна солнце играет на удивленных фарфоровых лицах кукол Марии.
— Чем сегодня угощаешь?
— Nacatamal, — ответила Мария. — Está listed sola?
— Si, señora, я одна.
Мария горестно покачала головой и приложила руку к сердцу: ей больно видеть, что я по-прежнему одинока. Я села на свое привычное место. Немного погодя она принесла мне кофе и удалилась на кухню. Я вытащила из сумки Лилин дневник.
Я без конца перечитывала его, и всякий раз дневник открывал мне что-то новенькое. На этот раз — несколько слов бисерным почерком в самой середине тетрадки, вдоль пружинки и почти вплотную к ней, — чтобы прочесть, пришлось с силой разломить страницы. Я поднесла дневник к глазам и с трудом разобрала: «Если уравнение не выражает Божьей мысли, оно для меня лишено смысла».
Мария принесла nacatamal. Как всегда — пальчики оближешь! Когда она пришла за пустой тарелкой, я на своем корявом испанском спросила о господине, которого встретила у нее три месяца тому назад.
— Ah, si, señor Peter! — закивала Мария.
— Si. Dónde vive?[65]
Мария сходила на кухню за карандашом и бумагой и нарисовала план.
— Estamos aquí[66], — сказала она, ткнув пальцем в маленький квадратик, рядом с которым красовался человечек в юбочке (я, надо полагать). — Él está aquí[67], — она обвела карандашом другой квадратик, соединенный с первым цепочкой извилистых дорожек.
— Спасибо.
Она засмеялась и махнула на меня рукой: мол, иди уж.
— Señor McConnell, él es muy guapo![68]
— Твоя правда, — согласилась я.
Пробираясь к выходу, я приостановилась у шеренги «венериных мухоловок» на подоконнике. Распахнутые половинки бледно-зеленых листьев, отороченных шипами, напоминали разрезанные надвое диковинные фрукты. Над одним цветком нарезала круги легкомысленная муха. Вот опустилась на шипы, и лист мгновенно захлопнулся. Интересно, а Лила видала когда-нибудь такой «цветочек»? Кажется, в начальной школе у нас в классе была «венерина мухоловка». Или не было? По сей день я до конца не избавилась от привычки, увидев или испытав нечто новое, вспоминать Лилу: а ей довелось изведать это? Порой чудится, что каждое новое ощущение я переживаю дважды: один раз за себя, второй — за Лилу. Впрочем, с годами это чувство возникает все реже и реже. В мире не так уж много нового, и чем старше становишься, тем труднее его отыскать.
Улицы Дириомо — сущая паутина, сплетаются и расплетаются самым непостижимым образом, но нацарапанный Марией план оказался превосходным путеводителем. Я шла, не выпуская листок из рук, и попутно отмечала на нем ориентиры для себя — почтовый ящик, привязанный к столбу осел, сделанная из старой шины «тарзанка» на дереве, — чтобы найти дорогу обратно.
Спустя полчаса я вышла на заброшенную улочку, в конце которой белел маленький домик. Совсем крошечный, комнатки на две, не больше. По крайней мере, на первый взгляд. Лес окружал домик с трех сторон. В опрятном дворике — несколько банановых пальм и еще что-то зеленое и с виду очень колючее. От грунтовой дороги к бетонному крыльцу протянулась цепочка круглых каменных плит, с начертанными на них цифрами: 1–13–10–13–1–13–10–13. Только я собралась постучать, как за спиной раздался голос:
— Элли?
Я обернулась. Питер в насквозь пропотевшей рубахе шел по плитам дорожки с двумя большущими ведрами, доверху наполненными водой. Подошел, поставил ведра на крыльцо.
— Колодезная вода, — отдуваясь, сказал он. — Когда приехал сюда, поначалу думал, не выживу. Не представлял себя без водопровода. Но ко всему привыкаешь. Даже начинаешь испытывать некоторое удовлетворение — довольствуешься только тем, что действительно необходимо, и ничем кроме.
— А где колодец?
— В той стороне, — он махнул на лес, — отсюда чуть меньше километра. Вкусная вода. Хотите попробовать?
— С удовольствием.
Мак-Коннел открыл дверь и жестом пропустил меня вперед. Внутри было темно и жарко. Мы оказались в просторной непритязательной комнате. Питер раздвинул занавески и впустил свет. Почти всю левую стену занимала кровать и тумбочка с блокнотом, будильником и большой свечой. В сравнении со скромным окружением кровать впечатляла размерами: двуспальное ложе, застланное свежими зелеными простынями, с двумя пухлыми подушками в ослепительно белых наволочках. К стене в ногах кровати был вплотную придвинут обширный письменный стол. Желтые занавески обрамляли окно над столом. Рядом гнулись под тяжестью десятков томов полки встроенного книжного шкафа. Некоторые названия были знакомы по Лилиной библиотеке: «Основания математики» Уайтхеда и Рассела, «Элементы»[69] Эвклида, «Математическая мысль от древности до наших дней» Морриса Клайна, «Арифметические исследования» Гаусса. И там же, поверх собрания желтых томиков «Потерянных записных книжек» Рамануджана бочком лежала книга, с которой я была на ты, — «Апология математика» Харди. После смерти Лилы я взяла ее «Апологию» себе.
Обставленная непритязательно, почти спартански, комната радовала глаз веселыми красками. Даже бетонный пол был выкрашен в голубой цвет, а у кровати лежал ярко-красный с желтыми узорами тканый коврик. В дальнем правом углу, за круглым столом с одним-единственным плетеным стулом, приютилась импровизированная кухонька: пожилой холодильник, газовая горелка и на подставке медный таз для умывания.
— А когда я здесь обосновался, электричества и в помине не было, — заметил Мак-Коннел. — Несколько лет без него обходился.
Я углядела на столе сотовый телефон.
— Шагаете в ногу со временем?
— Уступил грубому насилию. Компании, с которой у меня контракт, необходимо, видите ли, иметь возможность связываться со мной. Представляете? Настаивают еще и на электронной почте, но пока я отбиваю атаки.
Он сходил на крыльцо за ведрами, достал из шкафчика два стакана и в оба налил ковшиком воды. Вода была холодной, с легким металлическим привкусом и слабым запахом травы.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал Мак-Коннел.
Я огляделась. В комнате имелся только один стул, тот самый, что стоял у стола.
— Простите. Ко мне редко кто приходит.
Он принес стул и поставил рядом с кроватью. Я села, плетеное сиденье подо мной заскрипело. Сам Мак-Коннел уселся лицом ко мне на кровать.
— По сути, за четыре года вы мой первый гость.
— А кто был последним?
Он помедлил.
— Одна местная женщина.
— Можно узнать, зачем она приходила?
— Она хотела ребенка. Я сказал, что слишком стар для этого.
— Вам же всего пятьдесят, — удивилась я.
— У меня уже есть сын.
— По-вашему, одного довольно?
— Было время, я мечтал о трех или даже четырех. Но на этом фронте я потерпел поражение. Некоторые ошибки не стоит повторять. — Он печально усмехнулся. — А единица — прекрасное, в принципе, число. Самодостаточное. Факториал единицы — единица, квадрат единицы — единица, куб единицы — единица. Она и не простое число, и не составное. Первые два числа последовательности Фибоначчи — единицы. Она — пустое произведение: любое число, возведенное в нулевую степень, равно единице. Могу поспорить, единица — самое независимое из чисел, известных человеку. Никакое другое число не способно на то, что может единица.
— Последовательность натуральных чисел всегда начинается единицей, — вставила я.
— Вы время даром не теряли.
— Вычитала в дневнике у Лилы. Гипотеза Коллатца[70]. По мнению Эрдёша, «математика еще не готова к решению таких задач».
Питер отхлебнул воды, утерся тыльной стороной руки.
— Вы навестили одного моего старого друга.
— Да. Дон Кэрролл очень хвалил вашу работу.
Мак-Коннел смутился, уставился в пол.
— Он всегда меня жаловал.
— У него в кабинете я видела книжку с двойным тором на обложке. Хотела спросить вас про Лилину татуировку. Почему она выбрала именно двойной тор?
— Она питала слабость к топологии. В этой области геометрии можно выделывать с фигурами что угодно — сгибать, растягивать, а они останутся практически теми же самыми: сфера — сферой, куб — кубом. И так же любая жесткая форма, — например, кровать, на которой я сижу, или ковер у нас под ногами. Но стоит проделать в форме отверстие, и она перестает быть топологически эквивалентной. Двойной тор эквивалентен любой фигуре, имеющей два отверстия. Скажем, призовому кубку с двумя ручками. Лиле нравилась мысль, что можно подвергнуть нечто кардинальным преобразованиям, а оно, по сути, останется неизменным. Двойной тор особенно ценен в этом отношении.
— У Лилы в дневнике есть одна цитата… «Если уравнение не выражает Божьей мысли, оно для меня лишено смысла».
Питер улыбнулся:
— Рамануджан. Он полагал, что вдохновение ему ниспосылает Намагири, его домашнее божество.
— А как по-вашему, в числах есть Бог?
— Не в числах дело. Дело в моделях. Вселенной управляют математические модели. Силу тяжести, теорию струн, теорию хаоса, квантовую механику — все можно выразить в виде уравнения. F=GMm/R2, например, — одно из основополагающих уравнений нашей Вселенной. Есть мнение, что, если нечто можно выразить уравнением, оно существует. Раз можно изобразить в виде уравнения обширное пустое трехмерное пространство, значит, такое пространство существует. Если сущность Господа — творчество, тогда, да, можно утверждать, что красивое уравнение выражает Божью мысль.
Он отвел глаза и улыбнулся собственным мыслям.
— В отличие от Лилы, у меня всегда были довольно примитивные вкусы. Я люблю историю о том, как однажды Харди пришел в больницу навестить Рамануджана и говорит: «Я сюда приехал на такси с номером 1729. Скучное число». На что Рамануджан ему отвечает: «Нет, это очень интересное число; это самое малое число, которым можно выразить сумму двух кубов двумя разными способами. — Помолчал и добавил: — Но вы сюда пришли не затем, чтобы заниматься математикой».
— А дневник Лилы, — осторожно поинтересовалась я. — Как он у вас оказался?
— Мне его дала Лила, в тот последний вечер, за ужином. У нее возникла новая идея — «озарение», как она сказала, — по поводу подходов к Гольдбаху, и ее интересовало мое мнение. Но я, как на грех, заявил, что сегодня — никакой математики. Хотелось хоть раз отложить работу и поговорить о других вещах, что касались нас двоих. Надо было решать насчет моего брака, определяться с нашими планами. И потом, я еще так мало знал о ней самой, о стольком хотел расспросить. В итоге она согласилась, но с условием, что я возьму дневник домой, просмотрю, а завтра мы все обсудим.
— И что же она рассказала о себе? — со жгучим интересом спросила я. — Что в тот вечер вы узнали о Лиле такого, чего не знали прежде?
— Я спросил о лучшем в ее жизни моменте.
— И что она?
— Рассказала, как вы вдвоем путешествовали по Европе.
— Паскаль в Париже, — улыбнулась я.
Он вопросительно взглянул на меня.
— Мечта у нее была такая, — пояснила я, — посетить могилу Паскаля. И в ту поездку эта мечта исполнилась. Ну и разволновалась же Лила! В жизни ее такой не видела.
— Нет, другое, — покачал головой Питер.
— Другое?
— Да, это было в Венеции. Вы путешествовали уже две недели, чистой одежды не осталось. Вас, по словам Лилы, грязная одежда не слишком заботила, вы к чему угодно могли приноровиться, для вас само путешествие, и даже несвежее белье, было одним большим приключением. Но у Лилы имелись свои привычки и правила, и ей было противно ходить в грязном. В тот день она долго разыскивала прачечную самообслуживания, но все без толку. А ночевали вы в общаге, человек двенадцать в одной комнате, мужчины, женщины, все вместе. Посреди ночи Лила вдруг проснулась и обнаружила, что ваша кровать пуста. Она решила, что вы пошли в туалет, но вас все не было. Тогда она забеспокоилась, вылезла из койки и пошла вас искать. Она бродила по коридорам и тихонько звала вас. Там было несколько отдельных номеров с запертыми дверями. Тревога ее росла, и Лила начала прикладывать ухо к этим дверям, прислушиваться — не там ли вы. А потом она услышала стук внизу. Не на шутку перепугавшись, она по темной лестнице спустилась в подвал. И увидела вас, а вы ее поначалу — нет. Горела только одна лампочка, вы стояли и крутили ручку допотопной ручной стиральной машины. Лила спросила, что вы такое делаете. «А на что это похоже?» — усмехнулись вы. Что ей запомнилось, так это выражение счастья на вашем лице, — посреди ночи, в холодном полутемном подвале вы, можно сказать, вручную стирали белье и радовались. А ведь Лила знала, что вы сами могли спокойно проходить в грязном и еще неделю, и две. Вы делали это для нее.
— Она так сказала?..
Венецию — да, помню. Даже смутно припоминаю ту общагу. Но полуночная стирка в подвале? Нет, полный провал в памяти. Удивительно, что Лила запомнила и что придавала этому такое значение.
— Да. Назвала лучшим моментом в своей жизни.
— Но это же такая чепуха! — воскликнула я.
— Для нее — нет.
— Спасибо, что рассказали.
На крыльце раздались шаги. Я выглянула в окно. Какой-то мальчишка кинул под дверь небольшой сверток и укатил на стареньком скрипучем велосипеде.
— Это Педро, — сказал Мак-Коннел. — Раз в месяц он привозит мне карандаши.
— Еще один вопрос, — снова заговорила я, когда скрип велосипеда стих.
— Гм-м?
Он принялся разглаживать наволочку на подушке. Я следила глазами за его рукой, за неторопливыми движениями пальцев по белой ткани. На краткий миг я словно перенеслась в другое место и в другое время, мне было дано заглянуть в самый сокровенный момент его жизни: я видела Мак-Коннела в гостиничном номере в заливе Хаф-Мун — вот он проводит рукой по наволочке, запоминая след, оставленный на подушке Лилиной головой.
Его голос вернул меня назад:
— Элли, где вы?
— Простите, задумалась…
— С вашей сестрой тоже такое бывало. Вдруг посреди разговора унесется мыслями неведомо куда. Я поначалу обижался, а потом она мне объяснила, что…
— …что она как будто зашла в другую комнату и так увлеклась, что не заметила, как дверь захлопнулась. И вывести ее из этого состояния можно было, только прикоснувшись к ней.
— Точно. Трону за плечо или возьму за руку — и она снова со мной и четко, ясно объясняет, о чем думала. А у меня всякий раз оставалось ощущение, что я исполнил диковинный фокус — одним касанием вернул Лилу из другого мира. Забавно, но я всегда считал, что такое под силу только мне. — Он помолчал. — Вы хотели о чем-то спросить?
— Почему вы вернули мне дневник?
— Я выучил наизусть каждую страницу. Зачем мне сам дневник, если каждая цифра, каждая закорючка намертво врезалась в память. А кроме того, я полагал, что он должен быть у вас.
— Я думала, дневник даст какой-нибудь ключ. Надеялась отыскать на его страницах разгадку того, что стряслось с Лилой. И ничего не нашла. Такое разочарование…
— Вы вернулись, потому что по-прежнему не уверены? Вы отправились домой, искали ответы и ничего не нашли. Но я рассказал все, что знал. Поверьте, я очень хотел бы помочь, да нечем. Уж простите.
Его взгляд застыл на моей шее. Он наклонился ко мне. На долю секунды я почувствовала скользнувшие по коже теплые пальцы. Неужели он хочет меня поцеловать? Что ж, пусть.
— Она здесь, — удивленно выдохнул Питер.
Ах, вот оно что. Он приподнял двумя пальцами кулончик с топазом, цепочка натянулась. Он разжал пальцы, камешек упал на место. Он снова прикоснулся к нему. Я заглянула ему в глаза, он был за тысячи километров отсюда.
Я вытащила из сумки журнал и протянула ему.
Питер непонимающе уставился на обложку.
— «Роллинг Стоун»?
— Страница шестьдесят три.
Он снова поднял глаза и, кажется, собрался что-то сказать, но просто принялся листать журнал.
На верхней половине разворота редакция поместила фотографии группы «Звуковой вал». Статья называлась «Последний выход Билли Будро». Ниже, более мелким шрифтом: «Бен Фонг-Торрес». Бен тряхнул старыми связями и в последнюю минуту пропихнул-таки статью.
— Что это? — спросил Питер.
— Посмотрите на бас-гитариста, — сказала я. Этот снимок я изучала так долго, что он навсегда врезался мне в память. На переднем плане — Кевин Уолш с микрофоном у самого лица, только что не во рту. Билли сзади, в тени, лица почти не разглядеть, свет падает только на сильные руки и пальцы на струнах. — Это Билли Будро.
— И что?
— Не торопитесь. А я пока выйду.
Я ждала на крыльце. Подняла сверток с карандашами, вдохнула чистый запах дерева. Двадцать минут я стояла на крыльце, глазея на спешащих по своим делам собак, высматривая птиц в листве. Затем скрипнула пружинами кровать. На крыльцо вышел Питер и встал рядом со мной.
— Откуда это взялось? — тихо спросил он.
— Долгая история.
Мы постояли, глядя на дорогу. Закрапал дождь. Крупные капли оспинами метили красную землю. Я не знала, что сказать. Только надеялась: он понимает, что я чувствую себя некоторым образом в ответе за произошедшее с ним. И это единственное, что я сумела для него сделать.
— Теперь вы можете вернуться домой, — сказала я. — История даже попала в «Новости». Думаю, кое-кто хотел бы попросить у вас прощения.
— Когда-нибудь, может быть. Сейчас мой дом здесь.
— А эти числа на камнях? Что они значат?
— 13–10–13–1, — произнес он. — Л-и-л-а. Я взял восемь камней и написал имя дважды, потому что восьмеркой изображается бесконечность.
— Ей бы понравилось, — заметила я.
Он усмехнулся:
— Вряд ли. Думаю, она сочла бы это жутко сентиментальным. Но у меня была прорва свободного времени. А когда слишком долго проживешь в конце заброшенной улицы, поневоле станешь сентиментальным.
Он приобнял меня за плечи, на какую-то секунду, не дольше.
— Когда я вас здесь увидел в первый раз, вы стояли перед лотком с фруктами, спиной ко мне. Собирался дождь. Я сразу понял, что вы иностранка, и хотел подойти, посоветовать где-нибудь переждать грозу. Иностранцев наши дожди всегда застигают врасплох. Они обрушиваются внезапно и с такой силой — ни убежать, ни спрятаться. Ударил гром. Вы вздрогнули и вскинули голову к небу. И на одну, может, две секунды я поверил в то, что люди болтают о Дириомо. Что это в самом деле pueblo brujo, заколдованная деревня. Потому что когда вы посмотрели на небо, я подумал, что вы — это она. На какую-то долю секунды перед глазами вспыхнула картинка всей моей жизни, словно последние десять лет были сном и кто-то отдернул покрывало.
Мы помолчали. Наконец я сказала:
— Мне пора. Еду на ферму.
— Погодите. Как вы пойдете под таким дождем?
Он зашел в дом и вернулся с белой паркой; точно такая же была на нем на фотографии в кабинете у Кэрролла.
— Поднимите руки, — велел Питер. Я послушно подняла руки, и он напялил на меня парку, которая спустилась к самым щиколоткам. — Ни дать ни взять — привидение, — улыбнулся он.
Мы обнялись, на этот раз по-настоящему. От него пахло карандашами и дождем. Я поблагодарила его и шагнула под ливень. Медленно прошла по камням дорожки — 13–10–13–1–13–10–13–1 — от крыльца через залитый дождем двор к дороге. И тут он снова окликнул меня:
— Постойте!
Нырнул в дом и минуты через две уже грузно шагал ко мне по мокрым камням. Рубашка и штаны тотчас промокли, прилипли к телу. Он протянул мне сверток, довольно увесистый, размером с книгу, упакованный в несколько пластиковых пакетов.
— Что это?
Дождь закончился так же внезапно, как начался. Я развернула пакеты, и в руках у меня оказался большой плотный конверт с толстой пачкой листков, испещренных цифрами и символами.
Сорок
Новое кафе приткнулось на Двадцать первой улице между лавкой букиниста и модным бутиком. В три часа, когда я туда приехала, вся округа готовилась к процессии Día de los Muertos — Дня поминовения усопших. Свернув за угол, в конце квартала я увидела Генри на стремянке перед кафе. А подъехав ближе, заметила у него в руке кисть — он подправлял вывеску.
— Отличное название, — сказала я.
— Нравится?
— «В тенечке», — прочла я. — Замечательно.
— Я бы тебя расцеловал, только я весь в краске и в пыли.
— Все готово к открытию?
— Почти. Есть время на чашечку кофе?
— Всегда!
Внутри Генри продемонстрировал сверкающую хромом кофеварку эспрессо и старинную жаровню. По стенам висели забранные в рамки фотографии фермеров-поставщиков кофейных зерен для его кафе.
— Все отреставрировано или сделано из б/у материалов, — с гордостью сообщил Генри. — Вот это настоящие светильники из кинотеатра «Корона». Барная стойка и столы — из секвойи, оставшейся от старого дома на Сансет, который снесли в прошлом году. Стулья из Монетного двора.
— Красота. — Я вытащила из сумки бумажный пакетик. — А я тебе кое-что принесла. Новый купаж Хесуса.
Генри открыл пакетик и потянул носом:
— М-м-м, шоколад и жареный фундук.
— Ты попробуй сначала. Кайенский перец и лимон. Плюс восхитительная нотка бурбонской ванили! По-моему, он должен стать визитной карточкой твоего кафе.
Генри обошел стойку и засыпал зерна в кофемолку. Пока она шумела, можно было расслабиться. После того незаконченного разговора в дегустационном зале нашей компании мы с Генри виделись считанные разы, и всегда вокруг были люди.
— Не знаю, говорил ли тебе Майк, — начал Генри, — но я попросил, чтобы моими делами занималась ты. И никто другой.
Я кивнула.
— Как съездила в Никарагуа?
— Очень хорошо. Я бы позвала тебя с собой, но…
Генри стоял засунув руки в карманы. Казался усталым. Он улыбнулся — в уголках глаз стали заметны «гусиные лапки». А когда мы познакомились, он выглядел таким молодым. Да он и был молодым, напомнила я себе, и ты, кстати, тоже.
— Смешно, — заговорил он, — когда Майк предложил поехать с тобой, я так живо представил себе, как все это будет… Снова вместе, едим в игрушечных ресторанчиках, бежим под дождем в наш отель. Как раньше. И все ждал, когда же ты дашь знак. Каждый раз, когда видел тебя в конторе, надеялся: сегодня ты передумаешь. Или хотя бы позволишь пригласить себя на примирительный ужин.
Я помолчала.
— Мне там надо было кое с кем повидаться.
— Знаю, слышал. Удивительное дело.
В дверь ворвались звуки музыки, и мимо прошествовала группа стариков с трубами.
— Мы ведь так и не поговорили о том, что произошло в Гватемале, — заметил Генри.
— Все нормально, Генри. Это было так давно.
— Ну, не так уж и давно.
Он засыпал кофе в кофейный пресс, залил кипяток.
— Совсем забыла про это твое пристрастие. По-прежнему беззаветно предан «французскому прессу»?
— Единственный цивилизованный способ.
Генри ждал, пока заварится кофе, а я смотрела на улицу. Потом он принес на стол две фарфоровые чашки — голубую и желтую.
— Миленькие.
— С распродажи. Я подумал, пусть вся посуда будет разномастной.
Мимо прогрохотал автобус, люстра над столом задребезжала. Генри разлил кофе по чашкам и сел.
— А в Гватемале я, наверное, просто струсил. Не хотелось больше ругаться. Мы с тобой вечно грызлись.
— Знаю. Прости.
Снаружи раздались громкие хлопки, затем крики и смех. Я оглянулась — несколько девчонок скакали по улице и на бегу запускали петарды. Все в одинаковых черных платьях, с ярко-красной помадой на губах и с одинаковыми конскими хвостиками. Вдруг одна из них, словно почувствовав мой взгляд, обернулась, встретилась со мной глазами и притормозила. Я махнула ей, она помахала в ответ.
Генри отхлебнул кофе.
— Ты какая-то другая.
— В чем другая?
— Раньше ты была такой нервной, суетливой, вечно озиралась.
— А теперь?
— Ну, не знаю. Угомонилась, что ли.
— Вот и об этом я совсем забыла.
— О чем?
— О том, что ты всегда видел меня насквозь. Мне от этого становилось не по себе. Слишком хорошо ты меня знал.
— А это плохо? — поинтересовался Генри.
— Тогда мне казалось, что плохо.
Мы молча наблюдали, как полицейские огораживают улицу для шествия.
— Помнишь?
— Конечно.
Он имел в виду День поминовения усопших несколько лет назад, когда мы с ним принимали участие в шествии. Его идея.
— Тебя очень шел костюмчик скелета, — заметил Генри.
— Правда? — засмеялась я.
До сих пор помню, как у меня стянуло всю кожу от белой замазки на физиономии. В кармане я несла фотокарточку Лилы, ту, что я сделала «мыльницей» в конюшне, вскоре после покупки Дороти. Я забыла выключить вспышку, и на карточке видно, как Дороти в страхе отпрянула. А Лила подалась вперед и крепко держится за сбрую, ни капельки не испугалась. Наоборот, ей ужасно весело.
— Помнишь ту карточку? — спросила я.
— Конечно. Ты еще положила ее на алтарь, а когда мы уходили, забрала назад.
— Ты видел?
Генри кивнул.
— А почему ничего не сказал?
— Подумал, что у тебя на то есть свои причины.
— Я положила карточку, а потом передумала. Не хотела расставаться с Лилой, даже с ее карточкой.
В открытую дверь потянуло свежестью. Вечерело.
— Ты права. — Генри причмокнул. — Этот кофе должен стать моим фирменным знаком. Потрясающе!
Я взяла его за руку. От неожиданности он вздрогнул. Необыкновенные у него глаза — поразительно голубые, удивительно красивые. Первое, на что я обратила внимание, когда мы познакомились. Должно быть, все первым делом замечают его глаза. А как иначе? При определенном освещении они такие светлые, почти прозрачные. Диковинное сочетание родительских хромосом и в результате — самая примечательная особенность его внешности. Всю жизнь я слепо верила мисс Вуд, нашей школьной биологичке, которая утверждала, что однажды человечество лишится голубых глаз, отдаленного напоминания об ушедшей цивилизации. Рецессивные гены, говорила мисс Вуд, ничего не поделаешь. Планету заполонят кареглазые. Все станут одноцветными. Мир близнецов.
Мне не приходило в голову усомниться в научных воззрениях мисс Вуд, я принимала их безоговорочно, как прочую ерунду, которой пичкали нас в школе. И еще долго, с грустью заглядывая в голубые глаза Генри, вздыхала: наши дети не унаследуют этих глаз. Чудесных, как бледный свет давно потухшей звезды.
И только недавно выяснилось, что мисс Вуд извратила один из важнейших, основополагающих принципов биологии. Мак-Коннел растолковал мне, что к чему, когда мы сидели в его домике в Дириомо.
— Вы так на нее похожи, — сказал он. — Если, конечно, не считать ваших рыжих волос.
А я в ответ ляпнула что-то насчет того, что лет через сто рыжих вообще не останется.
— Неверно, — покачал головой Мак-Коннел и поведал историю о генетике Реджинальде Паннетте, который полагал, что рецессивные гены будут передаваться из поколения в поколение с постоянной частотой нескончаемо долго.
Будучи не в состоянии доказать свою теорию с помощью исследований, Паннетт обратился за помощью к своему другу Г. X. Харди. Тот задумался и через несколько минут набросал простое, изящное уравнение, которое как дважды два — четыре доказывало теорию Паннетта. Паннетт пришел в восторг и немедленно предложил опубликовать эту работу. Харди было засомневался, стоит ли, — возможно, эту задачу уже кто-нибудь решил, да и не дело математику совать нос в чужой огород.
— Но в конце концов он сдался, — сказал в заключение Мак-Коннел, — и работа была опубликована. Теперь она известна как закон Харди-Вайнберга и преподается в самых уважаемых учебных заведениях мира. Голубые глаза и рыжие волосы будут встречаться до тех пор, пока существует человечество. Одно из важнейших положений в биологии, а Харди, когда писал свою знаменитую «Апологию математика», даже не упомянул об этом.
Теперь я впервые смотрела в глаза Генри без былой грусти. Лет через сто его праправнуки взглянут на дедов фотоснимок и поймут, откуда у них эти чудесные голубые глаза.
— Чему улыбаешься? — осведомился Генри.
— Так, ничему.
Мы опять на какое-то время умолкли. Мне припомнились слова Дона Кэрролла: «Совершенные спутники жизни так же редки, как совершенные числа».
— Тогда в конторе ты что-то хотел мне сказать, — заговорила я, — но вошел Майк. Помнишь? Я еще спросила: понял ли ты по первой нашей встрече, почему мы с тобой разойдемся?
Генри взял мою руку в свои и не задумываясь, словно с самого начала ждал именно этого вопроса, ответил:
— Когда я был мальчишкой, мне часто снилось, что папа наконец-то купил велосипед, по которому я помирал, — пять скоростей, высокий руль, весь темно-зеленый. Назывался «Изумрудный гонец». В том сне каждый раз, как я к нему приближался, он от меня откатывался. Я подхожу, а он откатывается. Ни разу не поймал. В Гватемале мне вдруг пришло в голову, что ты как тот велосипед. Вроде и рядом, а не достать.
— Стало быть, я «Изумрудный гонец»?
— Ну…
Снова шум и грохот на улице, которые на этот раз мы оба оставили без внимания.
— Знаешь историю про созвездие Лиры?
Генри покачал головой.
Я рассказала ему про Орфея и Эвридику так, как рассказывала мне Лила тридцать лет тому назад.
— Грустная история.
— Да, — согласилась я, — но реальные факты — вещь от сантиментов далекая. Созвездие Лиры — прямое восхождение от 18 часов 10 минут до 19 часов 24 минут; склонение от 25 до 40 градусов; включает звезды: Вегу, Шелиак, Сулафат, Аладфар, Аль Афар и двойную звезду Эпсилон. Четыре звезды созвездия Лиры обладают собственными планетами. Лучшее время для наблюдения в наших широтах — август.
Генри неуверенно улыбнулся:
— Я что-то не въезжаю…
— Эвридика, Орфей, его роковая ошибка — это всего лишь история. Хочешь — веришь, не хочешь — не веришь. Слова не каменная твердыня. Я сама только недавно до этого дошла.
Потом я помогала Генри с последними приготовлениями — повесить зеркало в туалете, расставить по столам свечи и вазочки с цветами, подмести полы. Уже стемнело, когда я уходила, по улицам валили толпы гуляющих в карнавальных костюмах. Я пробиралась в толчее по Валенсии. В одном месте меня окружили полуголые плясуны, дергавшиеся под жутковатые удары барабанов. От чада курений было не продохнуть. В другом месте пришлось отступить в сторону, чтобы пропустить группу мужчин в лохмотьях, несущих огромный жертвенник, а на нем — обнаженную женщину, с ног до головы в белой краске. Вдоль улицы медленно двигались на урчащих мотоциклах двое полицейских.
Я продиралась сквозь толпу, но мой путь лежал против течения, и скоро бурлящий водоворот закружил меня и понес вниз по Восемнадцатой улице. Музыка, крики, разгоряченные тела, запах ладана, смешивающийся с тяжким духом пота и спиртного, — словно дурной сон. Жутковатые, с гробовым оттенком костюмы и — безудержное веселье! Какое-то время я шагала бок о бок с высоким тощим мужиком в смирительной рубашке и котелке, на выбеленном лице рдели кроваво-красные губы. Он держал за руку миниатюрную женщину в белом платье до пят и пурпурной накидке из перьев, которая своей тяжестью согнула бедняжке плечи. Мимо, наигрывая на тромбоне, протолкался «скелет». Парочка свернула на другую улицу, а меня обступила орава школьников-мексиканцев в красных одеяниях, распевавших знакомую песенку под треск погремушек. Их учительница, очень красивая девушка лет двадцати с небольшим, тоже нарядилась в алое, а лицо размалевала белой и черной краской — эдакий развеселый, ухмыляющийся скелетик. Она была у них запевалой и как раз затянула новую песню, которую подхватил на гитарах перебравшийся с другой стороны улицы ансамбль мариачи[71].
Не знаю, сколько времени меня крутило и швыряло в толпе, пока не вынесло к парку Гарфилд. Всю округу заполонили алтари, воздвигнутые в честь усопших. Десятки алтарей, от скромных до самых изощренных. На них пристраивали цветы, игрушечные скелеты и кости, книжки, стопки с текилой, маленькие, сделанные из сахара черепа. И на всех алтарях, разбежавшихся по всему парку, и дальше, в темных переулках, везде были фотографии. Тысячи пар глаз взирали с освещенных свечами алтарей. Здесь толпа поутихла. Люди деликатно протискивались к алтарям, чтобы оставить фотографии. Пробираясь в толпе, я вдруг обнаружила, что угодила в очередь, медленно ползущую к самому большому алтарю. Передо мной, со слезами на глазах, обеими руками сжимая фотографию, продвигалась девочка в белом. Она то и дело бросала взгляды в сторону «Макдоналдса», где ее ждал отец. За моей спиной, держась за руки, разговаривали по-испански две пожилые женщины.
Долгое время я ни с кем не делилась воспоминаниями о Лиле, хранила их как тайное сокровище, с которым не в состоянии расстаться, день за днем перебирала их наедине с собой. Словно гибель моей сестры — нечто такое, чего никому не дано понять. Теперь, куда бы я ни глянула, всюду видела лица умерших людей.
В кармане куртки у меня лежала фотография Лилы, которую я сделала примерно за месяц до ее смерти. Лила сидит за обеденным столом, склонившись над знакомой тетрадкой, с занесенным над страницей карандашом. Кажется, я снимала с противоположного конца стола. Лила смотрит не в камеру, а в тетрадку, будто и не подозревает, что в комнате есть кто-то еще. Волосы собраны на макушке и сколоты черепаховой заколкой, на лице выражение глубокой задумчивости. Но если всмотреться в линии рта, в глаза, начинаешь различать еще кое-что — она в восторге, словно ее только что осенило.
Годами я держала эту фотографию в коробке — боялась ненароком помять или, того хуже, потерять. Теперь, стоя перед алтарем, я вытащила ее из кармана и поднесла к пламени свечи. Я думала о Питере Мак-Коннеле, который и без фотографий Лилы сумел сохранить живой огонь своей любви. Дневник и воспоминания — этого ему было достаточно.
— Что это? — спросила я несколькими днями раньше, стоя с конвертом в руках на мокрой от дождя дорожке к дому Мак-Коннела.
— Доказательство.
— Доказательство?
Он кивнул. Я в недоумении таращила на него глаза. И тут до меня дошло.
— Доказательство? — Я все еще не верила.
— Да.
— Гипотезы Гольдбаха?
— Да. — У него самого было не менее потрясенное выражение лица, чем у меня.
— Как же так? Вы ведь отказались.
— Отказался. А потом встретился с вами, поговорил — и все перевернулось с ног на голову. Захлестнули воспоминания о последнем разговоре с Лилой, тогда, в ресторане. Вспомнилось, что она успела сказать, прежде чем я сменил тему, — что-то насчет сочетания метода «решета Вруна», теоремы Виноградова и того, что Лила назвала «своеобразной, но преизящнейшей третьей частью». Я не придал ее словам особого значения. Мы уже много чего перепробовали, и еще больше предстояло испробовать. Сама сложность задачи предполагала, что ключ к ней мы сумеем подобрать лишь через годы, даже десятилетия. Так я считал. В начале девяностых, через несколько месяцев после моего переезда сюда, я наконец заставил себя открыть ее дневник и поискать эту самую «своеобразную, но преизящнейшую третью часть». Я с превеликим усердием прочесал дневник сверху донизу, пересмотрел тысячи вариантов — ни один не подошел. Я не отступал и, как вы знаете от Кэрролла, добился кое-каких довольно интересных результатов. Но к доказательству гипотезы Гольдбаха не приблизился ни на шаг. Потом появились вы. Та ночь в вашем номере была почти сном наяву. Ром, темнота, необычность самой ситуации — я был как в бреду. Стоило прищуриться, перестать прислушиваться — и я начинал верить, что она здесь, в этой комнате. Всю долгую дорогу домой я вспоминал ее голос, лицо, манеру жестикулировать при разговоре. Ощущение было более чем странным. Я несомненно испытал нечто сродни духовному откровению и впервые понял, что имел в виду Рамануджан, говоря о божественном вдохновении. Потому что, бредя темными улицами под проливным дождем, я словно на старой киноленте увидел Лилины губы, произносящие эту фразу, и услышал ее. И сообразил, что ошибся, память меня подвела! Она ведь в тот момент улыбалась; знаете, как она умела, — мягко, лукаво. И помянула она не «третью часть», нет, она выразилась куда поэтичней: «Третий элемент».
— А в чем разница?
— Разве не ясно? Это загадка. Лила, конечно, сама бы мне ее растолковала, будь у нее шанс. Той ночью я ввалился домой промокший до нитки, полупьяный и бросился к столу. Слева разложил график «решета Бруна», справа пристроил расчет теоремы Виноградова, а посредине — старенькие, потрепанные томики «Элементов» Эвклида. Тот самый «своеобразный, но преизящнейший третий элемент». Подсказка. Как я сразу не догадался? Всего тринадцать томиков. Я начал с первого, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не пропустить. Штудировал страницу за страницей, отрываясь, только чтоб наскоро перекусить, пару часов, не раздеваясь, вздремнуть или сбегать к колодцу за водой. И так сорок три дня подряд. Извел несколько пачек карандашей, кипы бумаги. Но нашел-таки — там, где мне и в голову не пришло бы искать. Нашел то, на что намекала Лила, ключ ко всей проблеме.
Сквозь мокрые ветки деревьев пробивались лучи солнца, и все, что попадалось им на пути, вспыхивало неземным светом. Крупные капли скатывались с кончиков волос на лицо Мак-Коннела, на воротник. Его глаза вдохновенно сияли. Теперь я знала точно, без всяких сомнений и оговорок, почему Лила, которая божилась, что нипочем не станет тратить время на такую чепуху, как любовь, без памяти влюбилась в него.
— Как с этим поступите? — спросила я.
— Отдам вам, а вы уж решайте. Для меня это больше не представляет интереса. Я старался только ради Лилы.
— Вы шутите.
Он взглянул на меня как на дурочку, словно я упустила самое главное.
— Нет, я серьезно. У меня будто гора с плеч свалилась. Это наиважнейшая в моей жизни работа, и проделал я ее именно так, как намеревался двадцать лет назад, — в сотрудничестве с Лилой.
Вернувшись в гостиницу, я несколько часов кряду таращилась на страницы, силясь хоть что-то разобрать на строчках, плотно заполненных непостижимым сочетанием чисел и символов. Все без толку. Это был Лилин язык, а не мой.
Я сделала для себя копию — не ко времени проснувшийся инстинкт собирательства, надо полагать, желание оставить себе документ, который мне ни в жизнь не понять, — а оригинал отвезла Дэну Кэрроллу. Тот пришел в изумление. Обещал опубликовать под двумя именами — Мак-Коннела и моей сестры. Придется покрутиться, похлопотать — все-таки математический мир двадцать лет не слышал о Мак-Коннеле, его притязания на решение одной из сложнейших задач в истории математики будут встречены с глубоким недоверием, — но дело выполнимое. Работу оценят эксперты, и, если доказательство будет признано достоверным, — а Кэрролл не сомневается, что так оно и будет, — мир об этом узнает. Моя сестра снова станет знаменитой, только на этот раз благодаря своему таланту и уму. И не о том, что с ней сделали, будут говорить люди, а о том, что сделала она сама.
Я бросила последний взгляд на фотографию Лилы, склонившейся над дневником, и положила ее на алтарь. Счастливый миг, Лила в момент озарения.
Я нырнула в толпу и через забитый народом парк вышла на темную улицу. Опять толчея. Десятки, сотни, целые потоки ряженых растекались по городу. Я пыталась выбраться, но тщетно. Одно раскрашенное лицо сменялось другим, третьим, толпа засасывала. Я нагнала четверку мужчин в черных капюшонах, несущих деревянную сень, увешанную скелетами. Навес на четырех столбах медленно плыл над самой землей — ни справа, ни слева не обойти. Вдруг он начал приподниматься, и один из мужчин, поймав мой взгляд, сделал глазами знак. Вот оно что, сообразила я, они подняли сень, чтобы дать мне проскользнуть под ней. Но стоило мне шагнуть вперед, как сень вновь опустилась, и я очутилась в ловушке. Внутри горели три электрических фонарика. Белые крашеные стенки сплошь заклеены фотографиями. Мне были видны лишь ноги носильщиков, продолжавших свое неспешное движение, а чуть погодя я уже не могла различить их ноги среди других, шагавших рядом и навстречу. Я стучала в стенки, но никто не слышал, а если и слышал, то не обращал внимания. По ту сторону моей ловушки шуршала толпа, вдали глухо рокотали барабаны. И я отдалась во власть момента. Главное — идти в ногу с носильщиками. На ходу я рассматривала фотографии. Мужчины, женщины, дети — разных возрастов, в разных местах. На одном снимке, мне показалось, я узнала дождевой лес Гватемалы, на другом — чесночные поля Гилроя[72]; на третьем — продуваемое всеми ветрами взморье на западной оконечности города. Нестерпимо воняло краской, голова гудела. Это было словно во сне, над которым не властен здравый смысл. Оставалось только ждать, когда все кончится.
Не знаю, сколько прошло — пять, десять, пятнадцать минут, — но конструкция у меня над головой начала медленно подниматься. Когда нижний край поравнялся с плечами, я нагнулась и вынырнула. С наслаждением глубоко вдохнула, наполняя легкие свежим ночным воздухом. Мужиков пьяно повело влево, на меня они даже не глянули. Да они, похоже, и не поняли, что держали меня в плену.
Я огляделась, соображая, где нахожусь. Бой барабанов сюда еле долетал. Толпа рассосалась. Я стояла одна, на незнакомой улице. Ни вывесок, ни указателей, ни ориентиров. Да и не улица это была, а кривой, обсаженный деревьями проулок, давший приют выводку ветхих викторианских домишек, каждый из которых на свой лад переживал упадок. Где-то дурным голосом орал кот. В окне второго этажа медленно прошла девушка в желтой ночной сорочке. Тонкая рука протянулась к выключателю, и комната погрузилась в темноту. Как все это знакомо! Я здесь уже бывала? Кто-то описывал мне эту самую сцену? Или я вычитала в книге? Порой книги и жизнь сплетаются в затейливое оригами, в замысловатых складках и загадочных очертаниях которого не отличить одно от другого.
В конце проулка я инстинктивно свернула направо. Викторианские домики уступили место многоквартирным домам, барам и забегаловкам. Через какое-то время (точнее не скажу) я вышла к парку Долорес, двинулась налево и вверх по холму, мимо сквера, усеянного мусором: пустые бутылки, брошенный за ненадобностью красный капюшон, цепочка бумажных скелетов, раскачивающаяся под ветром на фонаре. Ноги ныли, но я все шла. Только на Двадцать восьмой улице я догадалась, куда направляюсь. Когда начался крутой подъем, мне казалось, что я иду уже много часов. В моем старом квартале было тихо. Каких-то полтора километра до района, где грохочет праздник, а словно другой город. На полпути к вершине я остановилась у знакомого деревца каллистемона и, обернувшись, задрала голову. На втором этаже горел свет, кормушка на оконной раме отбрасывала причудливую тень на тротуар. Который час? На моих часиках — половина первого ночи. Я присела на нижнюю ступеньку крыльца и стала ждать. Поднялся ветерок и принес запахи маминого сада — мята, лаванда, шалфей.
В двенадцать сорок три я встала и уже не спускала глаз с моего окна. В двенадцать сорок пять, как и говорил Торп, штора опустилась и свет погас. Я глянула на холм, на Алмазные Высоты. Там, на скале, космическим кораблем высился дом Торпа, странным образом гармонируя современными формами и с холмом, и с деревьями. Сейчас. Не знаю, произнесла я это вслух или только подумала, но в тот же миг в кабинете Торпа вспыхнул свет.
Наверное, своя симметрия имеется во всем, и модель наших дней не менее достоверна, чем математическая модель Вселенной. Просто чтобы понять ее, нужно вернуться на несколько шагов назад, перевернуть страницу вверх ногами, взглянуть на жизнь под другим углом.
Я представила себе женщину, которая живет в моей комнате. В эту самую минуту, не подозревая об этом, она превращается в действующее лицо нового романа Торпа. Какое имя он даст ей, какие слова вложит в ее уста? Узнает ли она себя, если однажды прочтет эту книгу?
Окна, окна, в городе тысячи окон. За каждым хватит историй на целую книгу. А фотографии внутри сени: каждое лицо — начало сотни историй. Подлинных и ложных. История моей семьи… Как долго мы позволяли рассказывать ее за нас.
Я зажмурилась. Если хорошенько сосредоточиться, удастся услышать в доме голоса родителей. Нет, конечно, их там нет, но ведь можно и пофантазировать, придумать себе иную жизнь. Жизнь, в которой мама и папа по-прежнему живут вместе, в нашем старом доме. Вот сейчас сидят на кухне, папа рассказывает маме историю про то, как ездил в командировку в Швецию и случайно встретил в стокгольмском аэропорту институтского приятеля. А мама в ответ расскажет, как недавно отменили приговор ее подзащитному, осужденному на десять лет. Обе истории реальны, только рассказывали их мне родители поодиночке: мама — в своем новом саду в Санта-Круз, среди пунцовых бугенвиллей и серебристых, бархатных «овечьих ушек», а папа — по телефону из Лондона, где был в очередной командировке. В действительности они были за тысячи километров друг от друга. Только в воображении могла я соединить своих родителей, заставить их говорить друг с другом как прежде, словно не было страшного удара, расколовшего их жизнь. Наверное, я могла бы часами так стоять, прислушиваясь, мечтая…
«Финал мог быть одним-единственным, — говорил Торп о своей первой книге. — Как только я это понял, писать стало до смешного легко». Он сидел за столом в своем доме на холме и пялился на меня, будто не мог уразуметь — в самом деле здесь я или мерещусь ему.
Даже тогда я знала, что он не прав. Никакая история не может иметь одного-единственного финала. «Каждый произвольно выбирает миг, с которого потом смотрит назад или вперед». Любая история подвержена изменениям. Даже если она уже напечатана и заключена в обложку. Люди пересказывают ее по-своему, запоминают как им заблагорассудится. И каждый пересказ может поменять конец или даже начало. Порой в худшую сторону, порой — в лучшую. Ведь история принадлежит не только рассказчику. В равной мере она принадлежит слушателю.
Примечания
1
Пирог из кукурузной муки с мясом (исп.).
(обратно)2
Добрый вечер (исп.).
(обратно)3
Русский холм. Северный пляж — районы в Сан-Франциско. — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)4
Ямайский певец и композитор, оказавший огромное влияние на рок- и поп-музыку. Именно Джимми Клифф, по сути, открыл музыку реггей для всего мира.
(обратно)5
Радиостанция Силиконовой долины.
(обратно)6
Немецкий математик Кристиан Гольдбах (1690–1764) в своем письме Леонарду Эйлеру высказал предположение: «Каждое нечетное число, большее 5, можно представить в виде суммы трех простых чисел».
(обратно)7
Готфрид фон Лейбниц, немецкий философ, математик, юрист, дипломат (1646–1716).
(обратно)8
«Tears for Fears» («Слезы страха») — британская рок-группа, пик популярности которой пришелся на 1980-е гт. Название группы взято из книги психоаналитика А. Янова, который рассматривал слезы как замену страха.
(обратно)9
Совершенное число — натуральное число, равное сумме своих делителей. Первое с. ч. — 6 (1 + 2 + 3 = 6), второе — 28, третье — 496 и т. д. Четные с. ч. были описаны Евклидом.
(обратно)10
Лепешка с мясом, сыром и бобами.
(обратно)11
Машина для освобождения зерен кофе от плодовой массы.
(обратно)12
Область залива Сан-Франциско состоит из нескольких крупных городских центров.
(обратно)13
Популярный телевизионный журналист, ведет собственное шоу.
(обратно)14
Маленький город в Канзасе.
(обратно)15
Закрыто (исп.).
(обратно)16
Пожалуйста (исп.).
(обратно)17
Один из самых знаменитых математиков XX века, венгр по национальности.
(обратно)18
Сриниваса Рамануджан (1887–1920) — уникальный индийский математик. Не имея математического образования, он внес значительный вклад в теорию чисел.
(обратно)19
Женщины-математики разных времен и народов.
(обратно)20
В таком виде эту гипотезу сформулировал великий математик Леонард Эйлер. Утверждение это носит название бинарной гипотезы Гольдбаха (или гипотеза Эйлера).
(обратно)21
Генри Дэвид Торо (1817–1862) — американский писатель и мыслитель, критиковал современную цивилизацию и проповедовал возврат к природе.
(обратно)22
Годври Харолд Харди (1877–1947) — выдающийся английский математик, его «Курс чистой математики» и поныне является одним из лучших учебников.
(обратно)23
Летний треугольник — группа из трех ярких звезд (Вега, Альтаир и Денеб), в Северном полушарии он прекрасно виден летом, потому и получил такое название.
(обратно)24
Симона де Бовуар (1908–1986) — французская писательница, философ, идеолог феминистского движения.
(обратно)25
Британский гитарист и вокалист середины 1980-х.
(обратно)26
Известный в 60-х годах прошлого века дуэт.
(обратно)27
Полуостров Сан-Франциско.
(обратно)28
Сорт эфиопского кофе.
(обратно)29
«Буря и натиск» (нем.).
(обратно)30
Нильс Хенрик Абель (1802–1829) — знаменитый норвежский математик.
(обратно)31
Эварист Галуа (1811–1832) — выдающийся французский математик.
(обратно)32
«У Панисса» — один из лучших ресторанов Америки.
(обратно)33
Джозеф Эйчлер в 50–70-х годах XX в. строил в Калифорнии жилые дома в модернистском стиле.
(обратно)34
Опра Уинфри — известная американская ведущая телевизионного «Шоу Опры Уинфри».
(обратно)35
Дипак Чопра — врач и писатель, автор книг о духовности и нетрадиционной медицине.
(обратно)36
Фил МакГро — бывший психолог, американский телеведущий, впервые получил известность, появившись в «Шоу Опры Уинфри».
(обратно)37
Сошедший с ума герой фильма «Апокалипсис сегодня».
(обратно)38
Эллис Уолкер (р. 1944) — афроамериканская писательница и феминистка.
(обратно)39
Сеть очень дорогих магазинов.
(обратно)40
Крупнейший парк развлечений.
(обратно)41
«Гиганты» («Giants») — бейсбольная команда Сан-Франциско.
(обратно)42
Выдающийся немецкий математик (1862–1943), внес клад во многие разделы математики, оказав огромное влияние на науку XX в. В числе прочего именно он вывел основные уравнения общей теории относительности.
(обратно)43
Один из неблагополучных бедных районов Сан-Франциско.
(обратно)44
Крупнейший в мире фестиваль, собирающий поклонников садо-мазо и секс-нарядов из кожи и латекса.
(обратно)45
Зельда Сейр Фитцджеральд, писательница, жена Френсиса Скотта Фитцджеральда.
(обратно)46
«Стелла» — прозвище Эстер Джонсон, подруги Джонатана Свифта.
(обратно)47
Писатель, музыкальный журналист, главный редактор журнала «Роллинг Стоун» и газеты «Сан-Франциско кроникл» в 80-х гг.
(обратно)48
Известный американский шеф-повар и автор кулинарных книг.
(обратно)49
Серия музыкальных передач.
(обратно)50
Американский рок-музыкант, композитор и исполнитель (1947–2003).
(обратно)51
Американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы «The Doors» (1943–1971).
(обратно)52
Американская певица, работавшая в жанре блюз-рока и психоделического рока (1943–1970).
(обратно)53
Английский певец, автор песен и музыкант.
(обратно)54
Английский астроном, математик, этнограф и переводчик (1560–1621).
(обратно)55
Английский государственный деятель, авантюрист и поэт (1552–1618).
(обратно)56
Кэт Стивенс — английский музыкант, славу которому принесли песни под гитару с минимальным сопровождением. Стивенс всерьез увлекался нумерологией.
(обратно)57
Первый понедельник сентября.
(обратно)58
Гипотеза Ходжа входит в «семь задач тысячелетия», за решение каждой из которых назначена премия в 1 млн долларов. Сегодня таких задач осталось шесть, поскольку гипотезу Пуанкаре доказал российский математик Григорий Перельман.
(обратно)59
Английский рок-певец и автор песен.
(обратно)60
Персидский поэт XIII в.
(обратно)61
Американский певец и автор песен в стиле кантри (1944–1997).
(обратно)62
Религиозная секта, основанная в 1955 г. Джимом Джонсом и в 1979-м официально запрещенная в США.
(обратно)63
Стивен Хокинг — выдающийся физик наших дней, страдает церебральным параличом и практически не может двигаться. Пол Аллен — соучредитель «Майкрософт», однокашник Билла Гейтса. Бэрон Дэвис — американский баскетболист.
(обратно)64
Луи де Бранж де Бурсия, профессор математики американского университета Пердью, лауреат премии Эдварда Эллиотта.
(обратно)65
Да. Где он живет? (ucn.).
(обратно)66
Ты здесь (исп.).
(обратно)67
Он здесь (исп.).
(обратно)68
Сеньор Мак-Коннел писаный красавец! (исп.).
(обратно)69
Другое название «Начала».
(обратно)70
Немецкий математик Лотар Коллатц (1919–1990) сформулировал (3n + 1) — проблему, которую еще называют проблемой «чисел-градин». Гипотеза элегантна, но так и не доказана.
(обратно)71
Жанр мексиканской народной музыки.
(обратно)72
Город в Калифорнии.
(обратно)






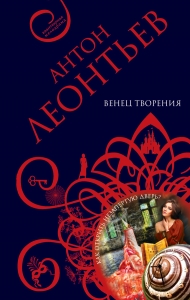




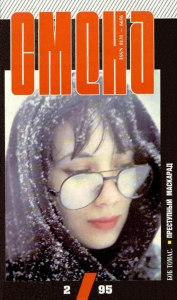
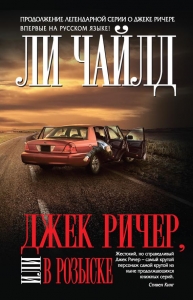
Комментарии к книге «Ты его не знаешь», Мишель Ричмонд
Всего 0 комментариев