Остановка
ОСТАНОВКА Повесть
Поезд, сбавив скорость, уже тянулся меж станционных путей, а я еще не решил — выходить или ехать дальше…
И только когда отстучали буфера и проводницы взялись привычно протирать поручни, я снял со свободной верхней полки своей небольшой чемодан и открыл дверь купе.
Перрон был почти пуст. Осень вступила в права, и поезда южного направления утратили недавнюю притягательность. Отдыхать теперь ехали лишь те, кому здоровье уже не позволяло черпать в полную силу из солнечных щедрот. Я был среди таких, однако на последние теплые дни надеялся. Не очень-то приятно, когда море темнеет и тучи валом тянутся над головой, беспрерывно роняя влагу серым дождем на пляжи и первым снежком на гребни прибрежных побуревших гор.
А время это стояло на пороге, и следовало поспешать, чтобы успеть хоть немного порадоваться теплым еще лучам низкого, быстро проходящего над землей солнца, увидеть оранжевые ветви вспыхнувшей вдруг хурмы, вдохнуть воздух, пропитанный мускатным ароматом последних виноградных кистей.
Да, следовало торопиться, а я взял чемодан и вышел из вагона в городе, на полпути между промозглой северной осенью и все еще благодатной, как я надеялся, приморской. Выше именно сейчас, хотя сделать это было бы по всем статьям разумнее на обратном пути.
Потом, позднее, мне приходило в голову, что тут сработало, подтолкнуло какое-то инстинктивное предчувствие, подсознательная необходимость, однако мысль эта меня не убедила, слишком уж модно стало с некоторых пор намекать по поводу и без него на действия неведомых сил. Сила, подтолкнувшая меня, была вполне ведома. Увидел, подъезжая, из окна город, в котором пережил и оставил молодость, близких людей, и нахлынуло то, что называют нетерпением сердца, взволновало тепло, что сильнее, чем южная благодать, потому что тепло это тех юных дней, когда сводку погоды не слушаешь и с давлением не соразмеряешь, а солнце и через тучи светит.
Разумеется, тучи, как и положено, были. Но так уж человек устроен — обратный взгляд обычно снисходителен, и охотнее вспоминается доброе, безоблачное. Потому, выходя из вагона, я и не подозревал, что прошлое коснется меня здесь не согревающим лучом, а холодным облаком, много лет скрывавшим такое, о чем я в свое время и подумать не мог. И конечно же, ни тогда, ни теперь не думал я, что прошлое и сегодняшний день окажутся тесно связаны, хотя в жизни так всегда бывает, только не всегда мы это видим и осознаем.
Сошел я в последний момент, и поезд тут же тронулся. Отражения убыстряющих движений вагонов проплыли мимо в неглубокой лужице на асфальте, и путь освободился для следующего состава, а я воспользовался этим и, нарушив правила, напрямую, через вздрагивающие еще рельсы зашагал к вокзалу, чтобы оформить остановку. Процедура оказалась непродолжительной. Оставалось поставить чемодан в ячейку автоматической камеры хранения, и с необходимыми хлопотами было покончено.
Телефон Сергея был из легко запоминающихся, четыре последние цифры шли по нисходящей: сорок три — двадцать один, а две первые соответствовали нашему с ним году рождения. И все-таки, набрав номер в кабине телефона-автомата, я подумал, что ошибся, ибо голос, ответивший: «Вас слушают», — был незнакомым, слишком молодым для Сергея, а главное, с той деловой, предупредительно служебной интонацией, с какой отвечают не по домашним телефонам, а из учреждений. К сожалению, не всегда.
— Простите, кажется, я ошибся.
Я неуверенно назвал номер.
— Да, это квартира Звенигородцева. Кто вам нужен?
«Личный секретарь, что ли?» — подумал я иронично, однако, несколько сбитый с толку, помедлил с ответом.
— Кто вам нужен? — повторила трубка.
— Сергей Ильич.
Теперь помедлил мой собеседник.
— Прошу прощения, кто его спрашивает?
«Ого! Без доклада не входить?..»
— Моя фамилия Крылов.
— Сергей Ильич к телефону подойти не может.
— Как жаль! Я, собственно, к нему приехал. Его нет дома? Или… неужели болен? Я его старый друг.
В квартире снова помедлили.
— Не хочется вас огорчать, но Сергей Ильич умер.
— Умер?!
Я оторопело смотрел через стекло на привокзальную площадь. Неяркое солнце неторопливо подсушивало следы утреннего дождя.
— Да, скончался, — подтвердил невероятное голос в трубке.
— Когда это случилось?
— Сегодня.
«Значит, я еще увижу его».
— Я сейчас приеду!
— Пожалуйста.
Через час я стоял у окна на четвертом этаже высокого дома, построенного в начале века в стиле «модерн», который так быстро превратился в образец старомодности, и смотрел вниз, во двор. Как бы по контрасту с претенциозным «модерном», дворы в таких домах было принято называть «колодцами», вкладывая в это понятие безрадостные ассоциации с сыростью, полумраком и теснотой. Однако сейчас, когда небо ярко светлело, двор выглядел совсем не уныло. «Колодец» наполнял прозрачный осенний воздух, в верхних этажах поблескивали стекла окон, заключенных в причудливые старинные рамы, серые стены были недавно обновлены и не пугали извилистыми трещинами и отошедшими от каменной кладки толстыми слоями тяжелой штукатурки, на которые я всегда опасливо косился, проходя этот двор.
Сейчас внизу на асфальте группа ребят безо всякой опаски шумно возилась с мотоциклом под самой стеной, споря о чем-то и размахивая перепачканными руками. Рядом из подъезда вышла старушка с девочкой, и девочка тут же вырвалась и побежала через двор к выходу на улицу, тоннелю-подворотне, заканчивавшемуся когда-то литыми узорчатыми воротами, запертыми обычно на массивный амбарный замок.
Я хорошо помню эти ворота и калитку в них, которая выводила на полуразрушенную во время войны улицу. Правда, развалины уже разобрали, однако пустыри еще не застроили, и оттого старый дом казался выше, чем сейчас, поднимался над улицей темной, облицованной по фасаду гранитом прочной громадой, устоявшей перед снарядами, оставившими на камне следы злых укусов, неровные выбоины.
Никогда не забуду, как в подворотне у калитки нашли Михаила.
Недавно цветущий и сильный, он лежал на подтаявшем снегу, убитый подонком-грабителем. Карманы его были вывернуты и пусты… Это произошло после большой и непродуманной амнистии, когда места отдаленные покинули и те, кому покидать не следовало. Убийце удалось уйти. Похоже, это был проезжий. Некоторые возвращались к преступному ремеслу, еще не добравшись до места жительства.
А убитый был нашим другом, моим и Сергея, который лежит сейчас, через тридцать почти лет, в соседней комнате, по всей видимости, как и Миша, погибнув от руки какого-то мерзавца.
Я обернулся.
— Невероятно, Полина Антоновна!
На маленькой низкой кушетке сидела сухая, высокая старая женщина с острым подбородком, тетка Сергея.
Ее я увидел первой, выходя из лифта.
Признаюсь честно, если и ожидал я кого недосчитаться в этом доме, так только этой женщины, которая и три десятка лет назад казалась мне старой, но вот прожила эти годы, почти не изменившись, и дожила до такого горестного дня.
Потом уже я сообразил, что и она, конечно же, изменилась, но в тете Поле (или даже тетушке Полли, как называл ее шутливо Сергей) во внешности играли роль определяющую не те черты, что подвластны времени, а нечто иное, то особенное, что всегда присуще личности сильного духом человека, независимо от прожитых лет.
— Не могу поверить…
Она подняла опущенную голову.
— Ах, Коля! Что б тебе вчера приехать. Может, и жив был бы Сережа…
Это был не упрек, понятно, боль душевная.
— Да как же случилось?
— Обухом по голове.
Полина Антоновна смотрела на меня взглядом ясным и скорбным, взглядом умудренного жизнью, многое познавшего человека, давно узнавшего, что люди в этот мир приходят, чтобы уйти. Но Сергей был последним, кто у нее оставался. Об этом она и думала.
— Зажилась я на этом свете, Коля. Последний от меня ушел.
И она перевела взгляд на стенку, где в самых разных рамках и окантовках висели фотографии.
Их было много. И накапливались они долго. В расположении соблюдалась не украшательская симметрия, а своего рода хронология. Слева, почти в углу, был запечатлен очень молодой человек в погонах вольноопределяющегося. «Вольнопер» был снят в пояс, рука лежала на эфесе шашки. Рядом висело еще несколько снимков из той же эпохи — мужчины в сюртуках и подкрученных вверх усах, дамы в широкополых шляпах. Потом с фотографий исчезли паспарту, бумага стала попроще и потоньше, вместо благородной тонированной желтизны появились желтые пятна фотобрака. Изменилась и одежда людей на снимках, теперь они были одеты в косоворотки, простые пиджаки, повязаны были косынками. Вместо крупных планов запестрела массовка — группы на фоне зданий, гор, на морских камнях, на демонстрации под полотнищами с лозунгами.
Некоторые снимки мне хорошо помнились, особенно высокая девушка в длинной юбке с санитарной сумкой через плечо вместе с людьми, перехваченными пулеметными лентами. Узнать девушку было нетрудно, даже юбку Полина Антоновна и сейчас носила похожую, будто дерзкие моды целого полувека прошли мимо, не коснувшись ее.
Помнил я и еще одну фотографию — три молодых человека, положив руки на плечи друг другу, улыбались бездумными улыбками безмятежной юности. В центре парень в гимнастерке, облегающей ладную крепкую фигуру, а по бокам двое в пиджаках со вздутыми ватой плечами, в широких расклешенных брюках Михаил, Сергей и я…
Эту фотографию я только помнил, на стене ее давно не было, Сергей снял после смерти Михаила.
«Повеселились», — сказал он тогда и убрал фото.
Мне казалось, что я его понял. В самом деле, неуместно как-то выглядели наши самодовольные физиономии в дни той ошеломившей всех беды. Но я не думал, что убрал он снимок навсегда. Все-таки момент жизни был на нем зафиксирован, а со временем каждое ушедшее мгновенье свою ценность обретает, дороже становится…
Но не теперь было об этом думать.
— Вот, — продолжала между тем Полина Антоновна, вместе со мной глядя на фотографии, — никого больше нет. А сколько было… Родители, брат, муж, сын…
Всех этих людей я никогда не видел. Даже сына и мужа, погибших в войну. Может быть, поэтому тетя Поля всегда представлялась мне старой девой, посвятившей жизнь заботам о Сергее. Но вот и им конец пришел, как и целой эпохе, отразившейся на стене. Эпоха эта изменила мир, все изменила, разве что комнаты и хозяйка ее не изменились, по крайней мере в моих глазах.
Просторная комната казалась еще больше от предельно малого количества собранных в ней вещей. Так было и в прошедшие давно годы, так осталось и сейчас. Считается, что люди пожилые склонны накапливать лишнее. Но Полина Антоновна, почти не изменившись внешне, не изменила и привычкам. Впрочем, это скорее были не привычки, а принципы. Просторная комната, как я давно знал, отражала взгляды и убеждения целого поколения, а вовсе не ограниченность средств и возможностей ее жилицы. Убеждения эти были кратко и гордо сформулированы в свое время поэтом в знаменитых словах о свежевымытой сорочке. Не знаю, вспоминала ли эти строки Полина Антоновна, но жила она именно так.
В комнате находились предметы только необходимые и самых простых образцов — койка с металлической сеткой, два шкафа — для одежды и посуды, небольшая книжная полка. Хотя Полина Антоновна и была любительницей чтения, но предпочитала пользоваться библиотекой. Стол был покрыт простой клеенкой. Вокруг него стояли три старых стула с гнутыми черными спинками. Не было в комнате ничего украшательского, декоративного, даже цветов на подоконнике, ведь и они когда-то считались признаком мещанства. Видимо, стена с фотографиями удовлетворяла не только потребности памяти, но и эстетическое чувство хозяйки.
— Ну, да что смотреть да смотреть… Ты сядь, Коля. С дороги никак. А я пока чаю заварю. Хочешь чаю?
— Да. Выпью.
— Вот и хорошо. У меня все под рукой.
Она включила электрический чайник, стоявший здесь же, на столе.
— Не люблю на кухню бегать, когда чай пью. А на кухне пить, по-нынешнему, не привыкла. Чай суеты не любит.
Мне тоже не хотелось выходить. Ведь то, что происходило за пределами этой комнаты, все еще не укладывалось в голове, шаги, негромкие голоса оттуда поражали будничностью, несоответствием случившемуся…
Я еще увидел Сергея. Он уже лежал на носилках, прикрытый простыней, а рядом на паркете был обведен мелом контур, в котором я не сразу узнал очертания человеческого тела, но догадался и понял, что в таком именно положении, лицом, а вернее головой, почти касаясь ножки журнального столика, на котором стоял телефон, находился Сергей, когда увидел его врач «Скорой помощи», увы, уже бесполезной.
Медицинская бригада давно уехала. Теперь тут были заняты другие люди. Один из них, молодой человек в форме, приподнял край простыни.
— Это он? Ваш друг?
Я смотрел на желтоватое, нездоровое, если только так можно сказать о мертвом, лицо и молчал. Конечно, это был Сергей, но разве таким я его знал? Я отвел глаза.
— Вы сомневаетесь?
Это был голос, ответивший на мой телефонный звонок.
— Нет, нет, что вы…
Я снова повернулся к Сергею и тут только заметил след удара на виске. Влажные, совсем недавно вымытые волосы были припачканы кровью. Мне стало не по себе, но тут простыня натянулась и скрыла лицо ушедшего от меня друга. Два человека приподняли носилки и вынесли Сергея из комнаты, в которой он прожил полвека. Унесли навсегда.
Потом я ответил на несколько вопросов и даже показал железнодорожный билет, хотя этого у меня и не требовали. Спрашивал человек в штатском, примерно одного со мной возраста, по-видимому старший, спрашивал больше сочувственно, чем официально. И это поощрило меня задать и свой, главный вопрос:
— Как же… это случилось?
Он, конечно, привык к таким поспешно задаваемым вопросам и ответил сдержанно.
— Это мы и выясняем.
Увидел разочарование на моем лице и добавил:
— Кое-что покажет вскрытие.
Я тогда не понял его мысли. Причина смерти казалась слишком очевидной. В глазах еще маячил окровавленный висок. Я только спросил:
— Могу я узнать позже?
— Вы задержитесь в городе?
Он посмотрел на меня внимательно, как-то заинтересованно, а мне померещилась подозрительность, и я ответил тоном человека, которому нечего опасаться.
— Да, задержусь.
— Здесь?
Он провел слегка рукой. Об этом я, признаться, не подумал.
— Когда-то я тут неделями ночевал.
«Когда-то… А теперь каково я себя буду чувствовать в этой комнате?..» Но деваться было некуда.
— Конечно, здесь.
— Это хорошо. Полине Антоновне будет легче. Так ведь зовут тетушку вашего друга?
— Да.
— Хорошо, — повторил он. — Может быть, и нам понадобитесь.
— Вряд ли. Мы редко встречались в последние годы. Да и разве это не ограбление?
— На первый взгляд в комнате ничего не тронуто.
Я огляделся.
Действительно, не было похоже, чтобы тут хозяйничали посторонние, искали, шарили. Однако комната племянника представляла полный контраст в сравнении с жильем тетки. Простоты и порядка в ней никогда не было. Одно роднило оба жилища — никаких признаков моды. Но если комната Полины Антоновны казалась почти пустой, у Сергея все было завалено массивной старой мебелью. Стены скрывались за нагромождением шкафов и полок, отчего комната выглядела меньше, чем была а самом деле.
Полки с книгами нависали и над большим кожаным, давно продавленным диваном, служившим хозяину одновременно кроватью, и над двухтумбовым письменным столом, и даже над окном до самого потолка. Книги на них теснились хаотично, потрепанные брошюры соседствовали с фолиантами в золотых корешках. Кое-где за стеклом шкафов виднелись миниатюрные бюсты — Сергей питал пристрастие к этой форме изобразительного искусства, может быть, потому, что для живописи в комнате просто не было места. Зато на минимальной площади вполне ладно соседствовали фарфоровый Наполеон, чугунный Бетховен, бронзовый Маяковский и другие великие, изваянные во всевозможных материалах, вплоть до стекла.
Журнальный столик был едва ли не единственным предметом современного изготовления, однако тоже прочным, с витой под старину окантовкой. На нем, как ни странно, стояла непочатая бутылка хорошего коньяка — я знал, что Сергей не пил, как, впрочем, и не курил — и телефонный аппарат.
— Ваше впечатление?
— Совпадает. Раз уж коньяк не взяли…
— Да, спиртное обычно хватают. И все-таки… Бывают преступники очень целенаправленные. Точно знают, что взять, где находится. Обычно что-нибудь особенно ценное и малообъемное.
— Золото? Драгоценности? Такого у него никогда не было, это уж я знаю.
— У него была коллекция редких монет.
— В самом деле! Как же я забыл…
— Нам сказала Полина Антоновна.
— Да, да, конечно.
— Но коллекция на месте.
Он подошел к одному из закрытых шкафов. В дверце, однако, торчал ключ. Разумеется, я знал, что в этом шкафу множество плоских ящичков, помеченных аккуратно написанными буквами и цифрами. Но буквы и цифры выписывал не Сергей. Он никогда не был коллекционером. Монеты собирал его дед, и они скорее принадлежали этой комнате, чем ее хозяину. Наверно, потому я и забыл о коллекции.
— Простите.
Я запамятовал имя и отчество человека, с которым говорил, хотя он и представился сразу. Он понял это и подсказал:
— Меня зовут Игорь Николаевич.
И чтобы не напоминать впредь, достал из бумажника и протянул мне визитную карточку.
Я опустил ее в карман.
— Простите, Игорь Николаевич. Это в самом деле по-своему уникальная коллекция. Почти полное собрание русских монет восемнадцатого века, а точнее, с конца семнадцатого до Константина. Помните, брата Александра, который отказался от престола? Но рубли с его изображением были выпущены.
— И такой рубль есть в коллекции?
— Есть.
— Подлинный?
Вопрос свидетельствовал о том, что мне не стоило читать популярную лекцию.
— Хорошо, что вы знакомы с нумизматикой. Сергей коллекцией никогда не интересовался всерьез. Это наследство деда… Конечно, выпускались фальшивки, практически не отличимые от подлинников. И я не берусь утверждать… Я даже думаю, что и рубль Алексея Михайловича очень сомнителен.
— Ефимок?
Да, и первый российский рубль, так называемый ефимок, от имперского иоахимсталера, послужившего образцом и материалом для перечеканки, был в коллекции, я помнил эту монету.
— Зато рубль Ивана Антоновича наверняка подлинный.
— Любопытно взглянуть. Вы не покажете?
Я повернул ключ и распахнул дверцы. Все ящички действительно оказались на месте. Я выдвинул тот, на котором было написано — «А. И. — Ив. Ан.». Дно ящичка было оклеено красным бархатом и разделено узкими планками на равные квадратные ячейки. В ячейках лежали крупные серебряные монеты с профилем некрасивой женщины с большой грудью, окаймленным текстом — «Анна, б. м. императрица».
Но монеты с изображением младенца в ящике не было.
— А как с ефимком? — спросил Игорь Николаевич.
Рубля семнадцатого века тоже не оказалось.
Не дожидаясь очередной просьбы, я стал искать рубль Константина.
— Тоже нет!
— Это логично, — заметил Игорь Николаевич.
— Взято самое ценное.
Он, однако, смотрел на факт с меньшим энтузиазмом.
— Или ваш друг хранил наиболее редкие монеты отдельно.
— Нет! Они всегда были в коллекции.
— Может быть, продал…
— Что вы!
Я хотел сказать о характере Сергея, замкнутого одинокого человека, дорожившего памятью беспощадно сметенной войной семьи, родных и близких людей, человека трудного детства, из которого вынес он привычку довольствоваться необходимым, и еще другое сказать, но Игорь Николаевич кивнул только и этим остановил меня, давая понять, что самое главное ему ясно, а для остального пока нет времени.
— Спасибо. Вот вы и помогли нам, а сомневались. Побудьте пока у Полины Антоновны, пожалуйста. Мы тут закончим сейчас, и я зайду к вам…
Крышка чайника мелко застучала под напором парующего кипятка, когда Игорь Николаевич присоединился к нам.
— Выпьете чайку? — спросила Полина Антоновна.
— Охотно.
— Присаживайтесь.
Она поставила на стол стакан в подстаканнике, достала ложку.
— Наливайте заварку по вкусу.
И только когда он налил крепкого чаю и размешал сахар в стакане, сказала:
— Неужели из-за этих побрякушек?..
Вопросы и Полины Антоновны, и мой к ней — «как случилось?» — были, конечно, больше риторическими, своего рода криком негодования, протеста против страшного, бесчеловечного. «Как могло произойти такое?!» — вот что они означали. Сама же фактическая последовательность известного и пока неизвестного вырисовывалась довольно определенно.
По утрам Полина Антоновна отправлялась по магазинам. Был у нее свой маршрут и график, с учетом того, когда привозят свежий хлеб и куда молоко. Понятно, что иногда приходилось и подзадержаться. В этот раз тоже. За это время все и произошло.
Показать официально она могла только следующее.
Когда Полина Антоновна выходила из дому, племянник мылся в ванной. Он приоткрыл дверь и крикнул:
«Тетя! Не запирайте дверь, я жду человека».
Это было неудивительно. К нему приходили довольно часто. Преподавательская работа предполагает контакты с разными людьми. Очевидно, Сергей рассчитывал, услыхав звонок, крикнуть посетителю, чтобы тот шел прямо в комнату и ждал его там.
И кто-то пришел, нанес смертельный удар хозяину, взял монеты и ушел. Ушел, скорее всего надеясь, что отсутствие немногих монет, может быть, и не заметят. Откуда ему было знать, что я как раз в это время подъезжаю к городу!
То, что первой на место прибыла «Скорая», нам с Полиной Антоновной представлялось так: Сергей на какое-то время еще смог прийти в себя и обратиться за помощью. И тут же выронил трубку, которая лежала на полу, когда приехала «Скорая».
Кто же мог пойти на такое из-за «побрякушек», как выразилась Полина Антоновна!
— Да, монеты, видимо, взяты, — сказал Игорь Николаевич, — и это могло быть целью преступника.
Формулировал свои предположения он очень осторожно.
— Все из-за них, проклятых денег. Не зря мы их так в молодости ненавидели. Все зло от денег, — произнесла тихо Полина Антоновна.
Я хотел уточнить, что монеты, взятые у Сергея, давно уже не деньги в прямом смысле этого слова, но какое это имело значение сейчас? Кровь пролилась, вот что было главное.
— Не знаю, кто преступник и для чего он взял монеты — чтобы продать, или сам фанатичный коллекционер, — продолжил между тем Игорь Николаевич, но можно думать, что с Сергеем Ильичом был он знаком. Знал о монетах, договорился о встрече… Так, во всяком случае, выглядят события внешне.
— Только внешне?
Он кивнул.
— Вы не уверены, что все так и было?
— К сожалению.
— Что же вас смущает? Или это служебный секрет?
— Да нет, пожалуй. Тем более от вас с Полиной Антоновной. Мне нужна ваша помощь. А чтобы помочь мне, вы должны знать, что мне мешает.
— Что же?
— Вы думаете, что Сергей Ильич сам вызывал «Скорую». Я тоже в первый момент так подумал…
— А как же иначе?
— Когда мы приехали, телефон был отключен, шнур выдернут из розетки. Он не мог дозвониться до «Скорой».
Не знаю, что подумала Полина Антоновна, но мои мысли как бы с ходу врезались в глухую стенку. Не мог же Сергей вызвать «Скорую», а потом отключить телефон? Да у него, судя по всему, и сил не было добираться до розетки в прихожей. А главное, зачем?!.
— Необъяснимое? — чуть улыбнулся Игорь Николаевич.
— А вы… понимаете?
— В «Скорую» звонил не он.
— Но не убийца же!
Игорь Николаевич постучал пальцами по столу.
— Не будем пока называть позвонившего человека убийцей. Этим мы сковываем себя. Лучше говорить просто о человеке, который приходил к Сергею Ильичу. Который знал его. Вам, Полина Антоновна, никто в голову не приходит?
Она нахмурилась.
— Мне Сергей не сказал, кого ждет.
— Вы уже говорили об этом.
— Ну, тогда гадать на кофейной гуще…
— Почему же на гуще? Кто, например, знал о коллекции? Интересовался монетами?
Почему-то ей было трудно отвечать.
— Давно уже об этих монетах ничего не слыхала.
Тогда Игорь Николаевич сузил рамки вопроса.
— А когда вы из дому вышли, на улице, во дворе никого из знакомых не встречали? Или видели мельком, может быть?
Полина Антоновна задумалась. Игорь Николаевич не торопил.
— Так ведь скажешь, а вы человека на цугундер…
— Не беспокойтесь.
Сказано было просто, но убедительно.
Полина Антоновна повернулась ко мне.
— Ты, Коля, Женьку Перепахина помнишь?
Фамилия, прямо скажу, прозвучала неожиданно, однако я припомнил. Но не более. Я вспомнил паренька щуплого, робкого, из тех учеников, что выше тройки оценок не признают, на которых орут учителя и с которыми не прочь недобро пошутить те, кто посильнее. Обычно они теряются куда-то после школы и довольно быстро выпадают из памяти. Но Перепахин не выпал, потому что в классе, где он учился вместе со мной и Сергеем, Сергей его опекал то помогал задачу решить, то вступался, если уж «шутки» здоровых оболтусов переходили черту. Как-то, не помню уж чем, довели Женьку до исступления, он схватил перочинный ножик и заорал, обливаясь слезами: «Убивать вас, убивать…»
За это его могли отколотить уже не в шутку, но Сергей встал между Перепахиным и обидчиками и сказал: «Хватит, ребята».
А его обычно слушались.
Помнил я, что и после школы какие-то приятельские отношения у них сохранялись, но больше не помнил ничего и, заезжая к Сергею в последние годы, о Женьке Перепахине не слышал ни слова.
— Очень смутно, Полина Антоновна.
— Я его утром у пивного бара видела. Там перед открытием вечно алкаши топчутся.
Бар, а точнее обыкновенная забегаловка, которую назвали баром, чтобы цену на пиво повысить, находился рядом, за углом. Но при чем тут Женька Перепахин?
— Разве он бывал у Сергея?
— Бывал. Отогревался у огонька.
— Кто ж он такой сейчас?
— А леший его знает. У него каждый раз то работа новая, то жена. И гонят отовсюду. И с работы, и из дому. Пропащий человек.
«Удивительно… Умный, самоуглубленный Сергей и никчемный, «пропащий» Женька. Что общего?..»
— Вы думаете, Сергей Ильич мог его ждать? С коньяком? — спросил Игорь Николаевич.
— Он без приглашения являлся. Постучит: «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — «Сережа дома?» — «Дома». — «Я на минутку». И сидит допоздна. А коньяк он не пил. Он из тех, что эту, как ее, бормотуху хлещут.
Полина Антоновна потянулась, чтобы долить чаю Игорю Николаевичу, но он перекрыл стакан ладонью.
— Спасибо. Очень хороший чай. А больше вы никого не встретили?
— Нет.
— Ну, и за это спасибо.
Игорь Николаевич встал.
— Пора мне.
— Как же мы узнаем?..
— Ваши координаты мне известны, а свои я оставил Николаю Сергеевичу. Он поживет тут немного с вашего разрешения.
— Рада буду.
— Всего пока доброго. Крепитесь.
Она проводила Игоря Николаевича, вернулась и развела руками.
— «Крепитесь!..» А что ж остается? Буду. Жить-то осталось всего ничего. Но пока жив, о живом нужно… Как думаешь, не наврала я лишнего?
— О чем вы?
— Да о Женьке этом.
— Никогда не мог понять, как у человека на человека рука поднимается.
— Да уж сам видишь. — И добавила тихо: — И не такое бывает.
— Насколько я помню Перепахина…
— Не о Женьке речь. Ну его совсем. Приспичило опохмеляться проклятому. А у меня душа не на месте.
— Из-за Перепахина?
Она посмотрела на меня прямо.
— Думаешь, совсем старуха из ума выжила? Горе такое, а она о пустом человеке печется!
Приблизительно так я и думал.
— Игорь Николаевич показался мне человеком опытным и разумным. Так что нет оснований…
— Беды ждать? У каждой беды свое основание. Разве я сегодня ждала?
И тут, впервые, опустив голову на сжатые сухие кулаки, она заплакала. Чем мог я утешить эту старую женщину? Что ей были сейчас слова, самые искренние, самые сочувственные? Ведь нет Сергея…
В мою жизнь он вошел в школьные годы. Они же послевоенные, трудные и счастливые. Трудные потому, что не зажили раны, счастливые потому, что какими же им еще быть после всего пережитого? Хотя, по справедливости, я был более счастливым, чем Сергей. Мои родители остались живы, а его погибли. Произошло все обратно здравому смыслу. Его отец и мать были значительно старше моих по возрасту, призыву не подлежали. Напротив, отец — крупный специалист — был своевременно отправлен в тыл вместе с семьей, а мои ушли на фронт. И вернулись. Отец израненный, мама, поседевшая в плену. А эшелон, в котором уехал Сергей, разбомбили.
Наверно, это был самый страшный час в его жизни. Отец и мать погибли, а сам он был ранен в ногу. Залечили ее плохо, и Сергей долго еще ходил с палкой. Палка была солидная, с тяжелым литым набалдашником, досталась она ему, как и роковая коллекция, от деда-профессора. А квартиру профессорскую по причине уменьшения жильцов уплотнили, и Сергею с теткой, которая привезла его из детского дома, куда попал он после бомбежки и госпиталя, пришлось и коммунальную жизнь пережить. К счастью, подселенный сосед оказался со влиянием и возможностями, и площадь разделили так, что у Сергея с Полиной Антоновной остались две отдельные комнаты, что по тем временам было большой удачей.
Так они и устроились на всю жизнь под одной крышей, два одиноких человека с разными вкусами — Сергей в тесном забитом сверх меры кабинете, и тетка в своем просторном жилье. Полина Антоновна осталась одинокой не по своей воле, а вот почему Сергей? Такой вопрос легче задать, чем получить ответ. Да и что за ответ? Не сложилась личная жизнь? За этими словами всегда многое кроется. Может быть, с того началось, что на танцах приходилось стоять у стены, неуверенность подавляла, какие-то черты характера сказались, обстоятельства не благоприятствовали. Вот и упустил время. А потом привык, может быть, нашел даже в своем положении определенные преимущества, да так и остался холостяком. Многие такую жизнь не одобряют. И Сергея предостерегали от холодной старости. А оказалось, что предостерегали зря, без старости обошлось…
Старость уделом Полины Антоновны осталась.
Она тем временем встала, вытерла лицо, одолела себя и снова Перепахина вспомнила.
— Принеси, пожалуйста, книжку телефонную.
Я принес справочник из прихожей.
Полина Антоновна надела очки, начала листать страницы.
— Вот его адрес.
— Женькин?
— Его, баламута. Правда, квартира не обозначена.
— Зачем вам адрес?
Она не ответила.
— Но я знаю, он в маленьком доме живет, найти квартиру нетрудно.
Я повторил вопрос.
— Будь добр, уважь старуху. Это близко. Пешком дойти можно.
— Да зачем?
На лице у нее появилось виноватое выражение. То ли перед Женькой вину чувствовала, то ли меня обременять стеснялась…
— Повидать бы его.
Я вздохнул. Предложение Полины Антоновны казалось мне старческой блажью, но разве мог я отказать ей в сложившемся положении!
— Что же я скажу ему? Предупрежу, чтобы бежал?
— Куда ему бежать! Поглядишь просто, взяли его или гуляет. Ведь заспешил-то Игорь Николаевич, сам видел.
— Ну а если взяли?
Мысль о том, что Женька мог убить Сергея, казалась мне, однако, дикой.
— Будем знать.
— А если гуляет?
— Тогда как найдешь нужным.
«Частный сыщик я, что ли!..»
Но желание пойти уже возникало понемногу. Вдруг что-то и прояснится. Все легче, чем сидеть в неизвестности, дожидаясь звонка Игоря Николаевича.
— Схожу, Полина Антоновна. Только адрес запишу. Память уже не та…
Квартал, в котором жил Перепахин, был совсем не похож на улицу, где стоял дом Сергея. Реконструкция и снос обошли его пока стороной. До революции мелкие наживалы строили здесь «доходные» домишки в один-два этажа с маленькими двориками. Сейчас люди понемногу покидали обветшалые строения, однако дом, в котором я искал Перепахина, не выглядел запущенным. Старые стены были заплетены диким виноградом, двор недавно асфальтировали.
У ворот женщина неопределенного возраста развешивала белье на веревке, протянутой от дома к забору.
— Вы мне не подскажете, как найти квартиру Перепахина?
Женщина оглядела меня с нескрываемым любопытством.
— Вон, по лестнице, — махнула она наконец рукой с прищепкой. — Он вам сам нужен?
— Сам.
— Нету его.
— Нету?
— Нету.
Пояснять свои слова она не стала, отвернулась и занялась бельем.
— А вы не родственница?
— Еще чего!
Сказано было выразительно и к дальнейшим вопросам не располагало.
По гнущимся под ногами ступенькам я поднялся на площадку, своего рода балкон, опоясывающий весь второй этаж. Отсюда двери вели в квартиры, сюда же выходили и окна.
Я постучал. Дверь была не заперта, но мне никто не ответил.
— Можно к вам? — спросил я громко.
— Кто еще? — послышался неприветливый голос.
Входить не хотелось, однако я толкнул дверь. В крошечной прихожей мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться о педаль висевшего на стене велосипеда. За прихожей шла комната. Прежде всего я увидел детей. Мальчишка лет двенадцати в истерзанных джинсах наблюдал за пыхтящей стиральной машиной. Девочка поменьше кормила манной кашей малыша, повязанного слюнявчиком.
— Здравствуйте, — сказал я.
Откуда-то изнутри квартиры появилась женщина в халате. Не отвечая на приветствие, она смотрела хмуро, выжидательно.
— Мне нужен Женя Перепахин, — произнес я неуверенно.
— Опоздали.
— Он ушел?
— Ушли… его.
«Неужели все-таки он?!»
— Как? Куда?
— Милиция забрала.
Сомневаться больше не приходилось, но я пробормотал неловко:
— Может быть, это ошибка…
— Какая ошибка! Сидел тут, побрякушками любовался. С поличным и взяли.
— С монетами?
— А то с чем же! Увидал милиционера в окно — раз их под подушку.
— Там и нашли? — спросил я без особой надобности.
— И не искали. Сам отдал, как милиционер у него спросил.
— Милиционер пожилой?
— Почему пожилой? Молодой парень.
— А пожилой среди них был? В штатском?
Не знаю даже, почему я так допытывался об участии в аресте Игоря Николаевича. Наверно, испытывал потребность убедиться, что все это не дурной сон. Однако, напротив, совсем не убедился.
— Среди кого? — не поняла меня жена Перепахина. — Один был парень. Чего тут другим еще делать? Это ж не бандита ловить…
Будничность ее слов никак не вязалась с моим представлением об аресте убийцы, опасного преступника. Рядовой милиционер среди бела дня, в форме, поднимается спокойно по лестнице… Ерунда неправдоподобная.
— Странно. Значит, Женя… — я поколебался, подбирая слово, присвоил чужие монеты? Из коллекции взял?
Женщина в ответ неожиданно закричала:
— Монеты взял! Плевать мне на эти монеты. Он кровь мою выпил, жизнь сгубил, а теперь на казенные харчи сядет, на химию устроится. Не клят, не мят… А я с этими тремя ртами как, а?!
Я взглянул на детей, почему-то ожидая увидеть три широко открытых рта, но рты были сомкнуты, даже евший кашу маленький сжал тоненькие губки и испуганно смотрел на мать.
«Что это она?.. Не знает? Какая «химия»! «Не клят, не мят!» Он же убил. «С поличным и взяли». А она, выходит, не знает. Сказать? Язык не поворачивается. Лучше пусть без меня узнают. Хоть немного позже. Бедные дети…»
Я смотрел растерянно и бессильно.
— И зачем я с таким паразитом связалась! Тунеядец, захребетник проклятый, ворюга! Пожалела на свою голову. Думала, бедный человек, невезучий…
— Пожалуйста, успокойтесь!
— Да как я могу успокоиться? Как?! Если б я его сейчас увидеть могла, топором бы изрубила, собственными руками…
Но не зря говорят, что трагедию всегда может сменить фарс.
Старший мальчик, угрюмо отвернувшийся от матери и смотревший уже не за стиральной машиной, а в окно, вдруг крикнул:
— Да вот же он, мам! Вон идет!
Как говорится, я не поверил глазам. Через двор в самом деле шел маленький, обтрепанный человечек без шапки. Клочья седых, спускавшихся до воротника волос не могли скрыть давно определившейся лысины. Навряд ли я узнал бы в нем Женьку Перепахина, встретившись на улице. Но сейчас сомнений не было. Девочка, кормившая братишку, запрыгала с ложкой по комнате.
— Ура! Папку из тюрьмы выпустили!
Под эти слова Перепахин и вошел в комнату.
— Замолчи, глупышка. За что же папку в тюрьму сажать?
Произнес он это несколько смущенно, глядя на меня, и тоже, конечно, не узнавая.
Пришлось представиться и довольно невнятно пояснить, почему я оказался в его квартире. Но Перепахина мои разъяснения полностью удовлетворили. И вообще он был в отличном расположении духа.
— Видишь, Оля, сколько лет с другом не виделись, а он сразу поспешил, как я в беду попал. Спасибо, Николай!
И он протянул мне руку не без достоинства. Оля, только что рвавшаяся к топору, примолкла. Я тоже ждал разъяснений. Перепахин повесил пальто, провел ладонью по лысине.
— Конечно, понервничать пришлось. Когда я в комнату вошел, — ахнул. Так и в милиции сказал: «Вы что, с ума посходили, я как его увидел ахнул! А у вас такие подозрения». Ну, это они меня уже на пушку брали. Вскрытие-то показало…
— Что?
— Инфаркт, брат, обширный.
— Сердце? А рана на голове?
— Это чепуха. Это он, когда падал… об угол столика.
И хотя смерть осталась смертью, и Сергей так или иначе ушел навсегда, я испытал некоторое облегчение. Ведь насильственная смерть подавляет особенно, унижает человеческое чувство… вот пришел негодяй и отнял жизнь, и никто не смог помешать, спасти, предотвратить. Бессилие перед подлостью, жестокостью унижает. А с природой приходится считаться. Милостей от нее все еще ждать не приходится, но ее суровая немилость все-таки чуть легче переживается…
Отлегло и оттого, что Женька «реабилитировался» Хотя… Он понял.
— Про монеты думаешь?
— Да ведь взял.
— Вот чудак. Дело как было? Я вхожу. Сергей на полу Откуда мне про инфаркт знать? Подумал, как и все, — убили. Почему? Коллекция? Ключ в дверце. Открываю — все на месте. А сам думаю: сейчас сюда народ нагрянет, и держи карман. Старуха-то ничего в коллекции не соображает. А знаешь, сколько уникальных экземпляров до музеев не доходит? Ого!
— Ты, значит, чтобы сохранить, взял?
— А зачем же еще?
Я предпочел принять его версию. Пусть по существу Игорь Николаевич разбирается.
— Ну и что ж дальше?
— А что? Дальше пусть, кому положено, действуют. Я на всякий случай «Скорую» вызвал. Ведь бывают и чудеса. Реанимации разные.
— Не случилось чуда.
— Знаю.
Вот и уточнилось, кто звонил. Правда, Игорь Николаевич об отключенном телефоне говорил, но разве это мое дело, Перепахина допрашивать по деталям? Главное-то, преступления не было. Хоть эта чертовщина-детективщина закончилась, и то…
— А что ж ты в милицию не позвонил?
Он снова коснулся пальцами лысины, на этот раз как-то нерешительно, виновато.
— Ну, струсил. Вдруг пришьют…
— Тебе? — охнула Оля, окончательно сменившая гнев на милость. — Да Женя мухи не обидит, а на него наклепать такое! Что вы!
— Не шуми, мать, — успокоил супругу Перепахин. — Они там разбираются. И Николай все понимает. Меня, кто знает хорошо, понимают. И уважают меня люди. Вот Николай немедля прибежал. Правильно я говорю, Николай?
Я кивнул согласно.
— Вот видишь, Оля? А он у нас в классе, знаешь, какой ученик был! Его ребята уважали. И Сергея уважали.
Кладбище, на котором хоронили Сергея, мне не понравилось. Нельзя сказать, чтобы я был поклонником старинных склепов, мраморных ангелов со склоненными долу скорбными ликами и мрачновато-пророческих эпитафий типа: «Прохожий! Я дома, ты в гостях…». Однако тихие тенистые аллеи старого кладбища, куда проводил я многих близких, говорили сердцу больше, чем этот недавно отрезанный кусок голого поля, где умерших хоронили в строгой последовательности, без традиционных семейных участков и оградок, изо дня в день неумолимо заполняя поросшее бурьяном и жесткой степной травой четырехугольное пространство рядами невысоких холмиков.
Над осенней степью прохладный ветер гнал редкие облака, и было видно далеко в разные стороны — и растущий многоэтажный город, и ровную лесополосу в противоположной стороне, и поблескивающее новое шоссе, по которому подъезжали автобусы специального назначения, которые с некоторых пор сократили грустную церемонию последнего пути и освободили городские магистрали от мешающих движению автотранспортных медлительных процессий.
На залитой бетоном площадке неподалеку от подготовленной уже могилы стояло три автобуса — проводить Сергея приехали коллеги и студенты. Преподаватели держались поближе к месту погребения, студенты чуть поодаль и не так печально и строго, как люди постарше. Но в общем происходило то, что всегда бывает в подобных случаях, от добрых печальных слов до сурового стука молотка. Правда, слез было меньше, потому что из близких родственников провожала покойного одна Полина Антоновна. Она держалась строго и мужественно, остальные лишь время от времени проводили по глазам платками.
Одна только девушка обратила на себя мое внимание. Когда провожавшие бросали на гроб положенные горсти земли, она протиснулась между преподавателями, наклонилась быстро, подхватила глинистые комья, разжала ладони и сразу же, не задерживаясь, пошла прочь. На дорожке ее догнал высокий молодой человек, попытался остановить, положив руку на плечо, но она не остановилась, и они рядом, миновав автобусы, двинулись в сторону шоссе.
Все было кончено.
Отдавшие долг, соблюдая приличия, не спеша потянулись к машинам, но голоса уже окрепли, полушепот сменился деловыми репликами.
Я шел с Полиной Антоновной, соображая, как поймать машину. Дело в том, что коллеги автобусом собирались в кафе, где сняли зал для поминок. Звали, конечно, и нас, но Полина Антоновна, поблагодарив, отказалась.
— Спасибо, спасибо за помощь, за хлопоты, но в ресторан не могу. Обременительно в мои годы. Вы уж сами…
Коллеги не настаивали. А машина нашлась.
— Разрешите подвезти вас?
Предложение было уместно, но неожиданно. Говорил Игорь Николаевич. Он стоял у приоткрытой дверцы светлой «Волги», которая примостилась на площадке позади автобусов. У могилы я его не видел. Да и вообще делать ему тут было вроде бы нечего.
Еще когда я был у Перепахина, он позвонил Полине Антоновне и сообщил, что смерть Сергея естественного характера. Из нас троих он испытал, конечно, облегчение наибольшее, ведь разрешилось темное и, может быть, трудное дело. Одним убийством меньше — это всегда хорошо, только выдуманный Шерлок Холмс печалился, что преступность на убыль пойти может.
И конечно же, выразил Полине Антоновне сочувствие, причем особое, потому что, как сказал Игорь Николаевич, он знал немного Сергея еще по университету, хотя учились мы на разных факультетах.
Я говорю «мы», потому что и сам понял теперь тот взгляд, которым окинул меня Игорь Николаевич в комнате Сергея и который показался мне почти подозрительным, а на самом деле свидетельствовал только о том, что память его мою превосходила. Он и меня вспомнил. Впрочем, что удивительного?.. Как у них говорится, — такая работа. А я был не на работе, а в полной растерянности. Даже визитную карточку его в карман сунул, фамилию не прочитав.
Теперь карточка пригодилась. Фамилия вдруг вырвала из прошлого лихое какое-то студенческое сборище и парня в узких брюках, отчаянно проколачивающего на расстроенном рояле модные буги-вуги. С узкими брюками и бугами общественность боролась. Был даже стишок:
Когда студенты на досуге сплясали лихо буги-вуги, Профком, багровый от стыда, прикрыл тот танец навсегда.Я тогда был близок к точке зрения профкома. Немудрено, что через столько лет я не опознал в представителе закона показавшегося когда-то чересчур легкомысленным парня.
Однако такого рода мимолетных знакомств в человеческой жизни сотни бывают, и неожиданных встреч тоже, и не так уж важно, помнятся они или забываются, если только… неожиданное равнозначно случайному. Но на кладбище Игорь Мазин, как я теперь его про себя называл, случайно появиться не мог.
— Как вы здесь?
— Не знаю. Сел и приехал.
Вопрос мой фактически остался без ответа, но Полина Антоновна была им довольна.
— Вот и молодец, что приехал. Забери старуху, забери. В автобусе бензином воняет. И ехать тряско. И не по пути мне с ними. Они на поминки. Я им только мешать буду. Без меня они по рюмке-другой опрокинут и забудут, зачем собрались. Анекдоты рассказывать начнут. Ну, и пусть! Зачем мне их смущать? Они свое дело сделали: и комиссию, и венки, чин чином… Спасибо им. А ресторан или кафе, зачем оно мне? Он, Сережа, в сердце, вот тут…
Она прижала руки к груди.
— Садитесь, Полина Антоновна, садитесь, — поддержал ее за локоть Мазин.
Мы вместе усадили старую тетку в машину.
Автобусы между тем уже двигались по узкой дороге, обогнать их пока было невозможно, и Мазин медленно повел «Волгу» следом. Внезапно впереди идущий включил предостерегающий красный сигнал и притормозил.
— Лена! — крикнули в окно. — Садись скорей!
Кричали той самой девушке, что ушла раньше с молодым человеком. Он и ответил за нее:
— Езжайте! Мы сами.
— С ума сошли. Это же далеко.
— Поезжайте! — повторил парень.
Сказано это было так, как говорят — проезжайте! Тоном, каким отвечают, когда хотят, чтобы оставили в покое, отстали.
И в автобусе отстали, а вернее, двинулись вперед и мы поравнялись с молодыми людьми. Вблизи девушка оказалась старше, чем со стороны, и на лице ее я увидел то, чего не замечал на лицах других — подлинно горестное выражение, глубокое, без сомнения, чувство. Вдруг она увидела Полину Антоновну и резко шагнула с обочины.
— Полина Антоновна!
Мазин остановился, а я опустил стекло.
— Что, Леночка, подвезти?
— Нет, нет… Можно мне к вам зайти?
— Конечно.
— А когда?
— Я всегда рада буду.
— Я зайду, зайду обязательно.
— Буду ждать тебя.
На этот раз спутник девушки не чинил никаких помех. Он только рассматривал меня и Мазина, людей ему незнакомых.
— До свиданья, — сказала Лена, отступая на траву, и мы снова двинулись.
— Спасибо! — донеслось вслед.
— Кто это? — спросил я.
— Аспирантка Сережина.
Полина Антоновна повернулась и взмахнула перед задним стеклом сухой ладонью с носовым платком.
— Она вас хорошо знает, — заметил Игорь Николаевич, глянув в зеркальце на две удалявшиеся от нас фигуры.
Девушка все еще держала над головой приподнятую руку.
— Лена к нам часто ходила. Она же работу писала под Сережиным руководством.
— А он?
— Кто? — не поняла Полина Антоновна.
— Этот молодой человек.
— Муж, — ответила старая женщина коротко и недоброжелательно.
— Понятно, — кивнул Мазин, но спрашивать больше ничего не стал.
Тем временем мы выбрались наконец на шоссе, и он с удовольствием прибавил скорость, плавно обойдя мешавшие нам до сих пор автобусы. Я решил, что пришло время скорректировать наши отношения.
— Игорь Николаевич! Я, кажется, при первой нашей встрече несколько оплошал. Оказывается, мы не совсем незнакомые люди.
— Оказывается, — согласился он.
— Столько лет прошло… Вот и не узнал. Простите великодушно.
Мазин засмеялся.
— Я не кинозвезда. В нашей работе «узнавание» не преимущество.
Я не удержался и съязвил немножко.
— В узких брюках вы приметнее смотрелись.
— Запомнили? Было дело. Натерпелся я тогда, между прочим. Эх, если бы плохого человека по штанам узнавать можно было. Какое бы облегчение для криминалистов!
Мне вспомнились потрепанные, с «бахромой» брюки Перепахина.
— А как с монетами, кстати? Поверили вы в перепахинскую версию?
— Это не такой простой вопрос, — не принял Мазин мою ироническую интонацию. — Но лучше поверить.
Я тогда решил, что он Женькино семейное положение во внимание принял, и согласился с таким подходом. А Игорь Николаевич больше ничего не сказал, да и не мог сказать, как я потом понял. Он добавил только:
— Монеты возвратим Полине Антоновне.
— Возвращайте, возвращайте, я всю эту коллекцию в музей передам.
Я вздохнул потихоньку. «Куда же еще!» Грустно было сознавать, что Полине Антоновне не только коллекция, но и деньги, если бы она продать ее решилась, уже не нужны. Малым она всю жизнь обходиться привыкла, а теперь тем более…
Мы постояли у светофора и свернули на проспект. Теперь до дома оставалось рукой подать.
— Быстро вы нас довезли, Игорь Николаевич, — сказала Полина Антоновна. — Торопитесь, наверное?
— Сегодня воскресенье.
— В самом деле. Вот и хорошо. Не откажите, раз взялись поухаживать, зайдите ненадолго. Вы ведь Сережу знали…
— Спасибо, Полина Антоновна.
— Это как понимать, спасибо — да, или спасибо — нет? Не обижайте, пожалуйста.
— О чем вы говорите… С удовольствием с Николаем Сергеевичем посидим с вами.
— Я долго не задержу.
Так и было.
С немудреной закуской возиться не пришлось. Полина Антоновна поставила на стол тарелочки, меня попросила:
— Коля, сайру открой.
И потом еще, достав из шкафа графинчик с домашней настойкой, сказала:
— Налей, пожалуйста. У меня рука дрожит. Пролью.
Я наполнил стопки.
— Ну, спасибо еще раз, что времени не пожалели. Сегодня-то выходной, а сейчас люди личное время берегут больше, чем рабочее. Так что благодарю покорно, как раньше говорили, и, как говорили, земля ему пухом, Сереже моему.
Она остановилась, смахнула слезу.
— И еще говорили, царствие небесное… Но мое поколение не верило, и я не верю. Ни в царствие, ни в страшный суд. Все здесь, на земле, начинается и тут кончается. И жизнь… и суд.
Потом мне вспомнилось, что последние слова произнесла она твердо очень, и как бы со значением, но в тот момент значения не уловил. Другое состояние души было.
Настойка пахла травами, степью, казалось, той самой, где мы только что оставили Сергея.
Посидели немного. Ни Полина Антоновна не задерживала, ни мы ее обременять не хотели. Обошлось и без избытка бесполезных славословий покойному. Может быть, эта велеречивость — свойство людей более молодых, которые всякий раз поражаются очередной смерти и, бессознательно протестуя против вечной ее несправедливости, восклицают: «Да как же это? Ведь какой человек был замечательный! За что?!»
Вышел я вместе с Мазиным. Хотел проводить его до машины, а потом пройтись по городу, погода была хорошая. Об этом я и сказал ему, протягивая руку на прощанье. Но прощанье наше и на этот раз не получилось.
— Да, погода установилась, — согласился он, задерживая мою руку. — А что, если нам за город проехать?
— Я с радостью. Если вам обстоятельства позволяют.
— Позволяют. Обитаю я сейчас один. Дочка в Москве учится, жена к матери поехала. Так что дома не ждут. А вот со службы позвонить в любой момент могут. Лучше удрать, а?
— Удерем.
— Садись, — сказал он, естественно переходя на «ты», и мы поехали.
Город, в котором я вырос, имеет то достоинство, что вырваться из него чрезвычайно просто. Центр примыкает к реке, тянется вдоль гранитной набережной, а напротив, через реку, сразу лес, низина. Весной ее заливает полая вода и топит все агрессивные замыслы ретивых градостроителей, жаждущих прорваться в заречье. Так что ехать на природу недалеко. Пересек реку по высокому мосту, спустился с моста, и ты уже не в городе, а он рядом, тянется по высокому противоположному берегу старыми и новыми зданиями. Там шумно, суетливо, скученно, а тут просторно, воздух другой, и тишина, и даже безлюдье.
Безлюдье это в некоторой степени удивительно. Мои земляки как-то особенно чтут календарь. Дата первое сентября для них священна. Сказано, осень, значит, лето кончилось. Пусть вода теплее двадцати градусов, нас это не касается. Приезжие северяне понять ничего не могут, по их представлениям, почти июль, а у нас пляж пустой…
— Верны себе, — сказал я, оглядываясь. — Психологическая загадка.
— Легко разгадывается, — возразил Мазин. — Лето жаркое, устаем от зноя, вот и рады сезон закрыть.
— Действительно. А я и не подумал. Я ведь уехал в том возрасте, когда от жары еще не устаешь.
Мы поставили машину и пошли по берегу, оставляя неглубокие следы на влажном песке, усеянном ракушками. Стекла высотных башен в городе светились в косых вечерних лучах солнца.
— Одно хорошо, смерть легкая…
— Быстрая, — сказал Игорь. — Легких смертей, по-моему, не бывает.
— А во сне?
— Во сне снится страшное, вот сердце и не выдерживает, я так думаю.
— Какая нелепость, случайный кошмар…
— Но Сергей умер не во сне.
— Что ты хочешь сказать?
Мазин остановился и провел носком ботинка черту по песку, как бы ограничивая себе путь.
— Не идет из головы выключенный телефон.
— Не понимаю.
Игорь улыбнулся.
— Ладно! Не будем уподобляться Моржу из «Зазеркалья». Помнишь?
И молвил Морж: «Пришла пора Подумать о делах: О башмаках и сургуче, Капусте, королях…»У меня этой «капустой» вечно голова набита. А профессия всегда влияет на психику. Иногда даже деформирует.
— Преступники мерещатся?
— Ну, нет. Однако раздражает, если что-то остается непонятным.
— Да так у каждого человека бывает. И у меня… Зудит какая-нибудь мелочь занозой.
— Спасибо, успокоил.
— Мне тут все понятно.
— Например?
— Ну, вначале я тоже удивился, — заметил я великодушно, — а потом, когда все выяснилось… Собственно, какое это вообще имеет значение?
— Это и есть объяснение? — усмехнулся Мазин.
— Да, профессия у тебя тяжелая, ничего не скажешь.
— Это я знаю.
— И я знаю. Телефон отключил Сергей или…
— Или?..
— Знаешь… я, конечно, не сыщик. Я только детективы смотрю по телевизору. Но мог выключить и Перепахин.
— Зачем?
Он спрашивал очень ровным, невыразительным каким-то тоном, так что я не мог понять, интересует ли его в самом деле мое дилетантское мнение или он просто подсмеивается надо мной.
— Ты же его видел. Представляешь, что это за человек. Наверняка перепугался до смерти. Он сам об этом говорил. Милицию боялся. Вызвал «Скорую» и решил — баста, больше времени будет унести ноги…
Мазин ответил вполне серьезно.
— Да, он перепугался. Даже паниковал. Например, телефонную трубку на пол бросил, однако…
Я перебил.
— Вот видишь! Даже трубку снял. Я-то думал, ее Сергей уронил. А это Женька.
— Зачем? — повторил Мазин.
— Чтобы связь затруднить, пока он монеты вытащит.
Мазин не выдержал, усмехнулся чуть-чуть.
— Ты, однако, у телевизора много времени проводишь.
— Не смейся, пожалуйста. Я всего лишь отвечаю на твои вопросы.
— Прости. Я тоже отвечу. На твое предположение. Трубку он бросил с досады, потому что телефон не работал.
— Но он же звонил…
Эта загадка оказалась проста.
— Из автомата.
— Это он так сказал? Не соврал?
— На трубке есть его отпечатки, а на вилке и на розетке нет.
— Ну, тогда же ясно, что это сам Сергей. Может быть, с вечера еще выключил, чтобы рано утром не беспокоили. Работал допоздна… Да мало ли что! У тебя телефон разве в печенках не сидит?
— Сидит. Но сейчас больше Сергеев.
— Оставь, Игорь. Или ты что-то знаешь, о чем мне не говоришь, или у тебя в самом деле профессиональная аберрация.
— На вилке отпечатков Сергея тоже не было.
— А чьи же были?
— Не было никаких.
Мы так и стояли у черты, проведенной им по песку. Крошечная канавка постепенно наполнялась влагой.
— И что это, по-твоему, значит?
— Все что угодно. Например, он мог выдернуть вилку прямо за шнур…
— Вот видишь!
— …но он не мог этого сделать, потому что розетка еле держится, и отскочила бы, если ее не придерживать. А розетка тоже чистая.
— Слушай, ты меня разыгрываешь! Хочешь спровоцировать на детективные домыслы и посмеяться? Пожалуйста. Он был в перчатках.
— Еще достаточно тепло, и мужчины перчатки не носят. А некоторые женщины надевают.
— Теперь таинственная незнакомка?
Мазин поднял руки.
— Все, все. Виноват. Больше не буду. И так заморочил тебе голову. Иногда возникает такое желание — послушать здравомыслящего человека. Спасибо. Ты прав, и эксперты в таких случаях не ошибаются. Мне, во всяком случае, здесь делать нечего. Аберрация. Вместо причины преступления, кое не обнаружено, ищу причину инфаркта. Может быть, потому, что с самим домом у меня связано чувство поражения, первой неудачи…
— Даже поражения?
— Именно. И тебе эта история известна. Помнишь, там, во дворе, убили вашего однокурсника?
— Еще бы! Михаила. Он был наш друг, не просто однокурсник.
— Вот как? А я принимал участие в расследовании. Еще практикантом. Конечно, ответственности большой не нес, но ведь мнил себя пинкертоном. А получил щелчок по носу. Убийцу-то не нашли.
— Амнистированный подонок убил проездом. Ищи-свищи…
— Так и сочли. Но это же не оправдание.
— Разве все преступления раскрываются?
— Нет, — сказал он жестко. — И у меня эта неудача не единственная. Но я утешаться такой мыслью не могу. Мне слова «куда смотрит милиция?» поперек горла. Вот так…
И он провел ладонью у шеи.
— Ну, это постановка вопроса обывательская, куда смотрит…
— Когда со стороны судачат. А если мать спрашивает, жена, сын?.. Того, кого потерпевшим называем…
Я не ожидал такой горячности.
— Послушай, Игорь. Но ведь человек привыкает к обстоятельствам. Да и в литературе, в кино, на телевидении, там же сплошь и рядом следователь с преступником беседует…
— По душам?
— Вроде того. И в самом деле, не можешь же ты каждого преступника ненавидеть? Да у тебя никаких нервов не хватит в личные с ним отношения вступать.
Мазин поостыл.
— Я зло не терплю, а особенно подлость, — сказал он, не повышая больше голоса. — Подлость за то, что остается часто неподсудна.
Наш разговор, взявший было детективный крен, качнулся в сторону философского отношения ко злу, но Мазин, как видно, не особенно любил распространяться на общие темы, и разговор выровнялся, пошел о предметах обычных — общих знакомых, пролетевших годах и тому подобном. Короче, в тот осенний чистый вечер ни морж, ни плотник не поймали ни одной устрицы. Неподвижные ракушки остались на берегу, а мы, подышав воздухом, вернулись в город. Я, собственно, и не придал особого значения той части разговора, что коснулась «сургуча и капусты». Тогда я думал, что это всего лишь инерция нашего отношения к смерти Сергея, вернее, к ее обстоятельствам.
Подвозя меня, Мазин, между прочим, спросил:
— Ты обратил внимание на девушку на кладбище?
— Ты, кажется, тоже.
— Интересная девушка. И переживала искренне.
Мы оба подумали об одном.
— Нет, Сергей не был способен увлекаться, — сообщил я.
Сплетничать не стали. Попрощались мы в машине.
Я поднялся по лестнице и позвонил, но открыла мне не Полина Антоновна. На пороге стояла Лена, та самая, о которой только что вспоминали. Впрочем, удивляться не приходилось, она же сама говорила, что собирается зайти. Я, правда, не думал, что так быстро. А с другой стороны, когда же, если не сегодня?
— Заходите, пожалуйста.
Я вошел и повесил плащ в прихожей.
— А мы с Леночкой сумерничаем, — сказала Полина Антоновна. — Посидишь с нами?
— Конечно.
Я присел на кушетку (Лена и тетя Поля сидели за столом) и посмотрел на гостью. Да, она была старше, чем показалось мне вначале. Хотя сейчас и нелегко определять женские годы, ей, видимо, было около тридцати. Выдавали не морщинки или другие приметы внешности, а глаза, взгляд женщины, оставившей позади юношеский рубеж.
— Лена писала под Сережиным руководством, — повторила Полина Антоновна то, что я уже знал.
— Вас тоже интересовал восемнадцатый век?
У Сергея сохранились пристрастия деда.
— Представьте.
— Время пудреных париков и мушек?
— Сергей Ильич считал, что это было время сильных характеров.
Она смотрела прямо, широко открытыми серыми глазами.
— Сильные характеры встречаются в любое время.
— К сожалению, не всем.
Я вдруг сообразил, что оговорился, сказал «интересовал», а не «интересует» и она, возможно, неправильно поняла, даже обиделась. Потому и говорит с каким-то сдержанным, но ощутимым вызовом.
— Теперь вам труднее будет работать? — спросил я по возможности доброжелательно, стремясь загладить оплошность.
— Да.
Разговор очевидно не клеился. Я сделал последнюю попытку.
— Ваш муж тоже научный работник?
Попытка провалилась. В ответ прозвучало так же коротко:
— Нет.
— Простите. Я, кажется, слишком много спрашиваю?
— Почему? Обычные анкетные данные.
Это было не так уж точно и несправедливо. Что-то во мне отталкивало ее. А она мне между тем нравилась, привлекала. Но чем? Непонятно было. Вижу человека безусловно впервые, а ощущение такое, будто знакомый, чем-то тобой обиженный. Во всяком случае, не обрадовал я ее своим приходом, и так она себя и повела.
— Я пойду, Полина Антоновна.
Она поднялась, и ясно было, что не нужно ее удерживать. И в то же время… она сама задержалась. Ненадолго, правда.
— Полина Антоновна!
— Да, деточка. Пора тебе? Что ж… иди.
— Вы обещали… Помните?
— Ах!.. Голова дырявая. Конечно, конечно.
И старушка торопливо подошла к шкафу, отворила дверцу, наклонилась и достала из нижнего ящика что-то завернутое в газету, плоское, небольшое.
— Вот, Леночка.
Она уже протянула сверток, сверху он был крест-накрест перевязан черной тесьмой, — но тут посмотрела на меня и опустила руку.
— Ты, Коля, наверно, хочешь взглянуть?
— Что это?
— На, развяжи.
Лена смотрела куда-то в пространство.
Я с некоторым трудом одолел туго стянутый узелок и развернул газету Под ней оказалась всего лишь фотография, старый снимок, застекленный в рамочке. Но зато какой! — три молодых человека, положив руки на плечи друг другу, улыбались бездумными улыбками безмятежной юности… Да, да, тот самый, на котором слева во вздутом ватой пиджаке стоял и я вместе с Сергеем и Михаилом. Тот самый, который помнил и не нашел на стене, потому что Сергей снял его.
— Вот не ожидал…
— Если вы хотите взять эту фотографию себе, возьмите.
Лена произнесла слова четко, будто прочитала, но не дочитала. Дальше ясно слышалось: «Не берите! Она нужна мне!»
И, подчиняясь этим непроизнесенным словам, я запротестовал:
— Что вы! Пожалуйста! Мне было просто любопытно взглянуть.
Хотя внутренне я был в полном недоумении. Зачем? Почему? Нашел один только аргумент. Девушка может быть полезной одинокой Полине Антоновне. Забежит, поможет. Вот и уступает она капризу, желанию Лены иметь юношеский снимок покойного учителя. И я, так подумав, уступил первородство.
— Пожалуйста.
Фотография была снова завернута, но на этот раз обошлось без тесьмы Лена уложила ее в сумку.
— Заходи, девочка.
— Обязательно, Полина Антоновна.
Они вышли в прихожую, а я снял пиджак и повесил на спинку стула. Чувствовалась усталость. Все-таки день был не из легких.
— Удивился, что я фото отдала? — спросила Полина Антоновна, возвращаясь в комнату.
— Вам виднее.
— Себе взять хотел? Понимаю. Не сообразила. Раньше ей обещала. А я привыкла слово держать.
— Зачем ей этот снимок?
— Для матери попросила.
— Для кого?
Мне показалось, что ослышался.
— Лена-то Натальина дочь.
Это распространенное имя мне ровным счетом ничего не сказало.
— Неужто забыл Наташу?
— Наташу?
— Кузьмину. Наташу. Помнишь?
— Да вы что? Неужели?
— Дочка это ее, — подтвердила Полина Антоновна.
Так вот чем привлекла меня эта девушка! Она была похожа на мать, даже очень похожа. Только прическа другая. У той коса, а у Лены волосы по-современному разбросаны по плечам. А заплети она их в косу… Впрочем, это я зря. Я уже привык к тому, что с возрастом все чаще видишь случайно, встречаешь людей, похожих на тех, кого знал в свое время молодым. Идешь по улице, вдруг — он! Сделаешь шаг навстречу и поймешь — ошибся, у того давно уже и комплекция другая, и шевелюра пореже… Так и привыкаешь постепенно, понимаешь, что природа во всем многообразии не столь уже неисчерпаема, и каждое поколение состоит из давно протиражированных типов лиц. Правда, природа всегда мудра, и это повторение тоже свой смысл имеет. Рассматриваешь, например, в музее кавалера в жабо и вдруг замечаешь, что сними он шляпу с пером и постригись по-человечески, и окажется не на виконта, а на техника из домоуправления похожим. Так и ощутишь преемственность поколений от «Ночного дозора» до нашей простой ПМГ.
Но это шутки, конечно, которыми я свой мозг от перегрузки дня начал уже предохранять, а по сути родство Лены с Наташей впечатление на меня, конечно, произвело серьезное, вновь отбросило в атмосферу прошлого, тех лет, когда вместе со мной, Сергеем и Михаилом в одной группе училась Наташа Кузьмина.
— Не ожидал.
— Разве Сергей не говорил никогда?
— Что?
— Что Наталья рядом живет.
И Полина Антоновна назвала ближний городок, куда минут за тридцать можно было добраться электричкой.
— Нет, никогда… Да ведь я и бывал-то не так часто.
— Верно. Лена у него заниматься стала уже после твоего приезда последнего.
Конечно, зачем ему было говорить о Наташе? Приезжал я ненадолго, хватало и более важных дел. А Наташа что? Она ведь даже до выпуска не доучилась вместе с нами. Исчезла как-то неожиданно. Кажется, мать тяжело заболела, переводиться пришлось. Помню только, что произошло это сразу после трагической смерти Михаила.
— Вот, понимаешь, и попросила она карточку для матери. Ты уж не обижайся.
— Ну, о чем вы…
— А у меня к тебе просьба есть.
— Охотно, все что могу…
— Можешь.
Это Полина Антоновна произнесла уверенно, а вот в самой просьбе как бы затруднилась. Во всяком случае, мысль свою первоначально выразила не очень ясно.
— Говорили тут уже со мной. Приходили. С кафедры. Короче, бумагами, архивом интересуются.
— Сергея?
— Да. Ты в этом понимаешь?
— Ну, можно сказать…
— Я так и думала. Посмотри, сделай милость.
— Бумаги? С какой целью?
— Посмотри. Труд-то вроде бесхозный остается. А народ пошел бойкий…
— Ваши права…
Она махнула рукой.
— Какие права? Зачем они мне! Не о себе пекусь.
— О ком же? О Сергее?
Я подумал, она опасается, что кто-нибудь присвоит его труд.
— Погляди в общем виде. Что к чему. Если есть что интересное, лучше я Лене отдам.
— Лене?
— Не удивляйся. Она умница. До ума доведет.
Я почувствовал, что не только практические соображения движут Полиной Антоновной.
— Вы привязаны к ней?
— Сережа был привязан… И она к нему.
Как было понимать эти слова, я не спросил, не решился.
— И все-таки вопрос щепетильный.
— А если проходимцу достанется? Думаешь, они только на базах орудуют?
По существу я не возражал. «Оставь надежды, сюда входящий» на вратах храма науки пока не написано. Для проходимцев, я имею в виду. Однако же…
Полина Антоновна видела мои колебания.
— Ты думаешь, я твою щепетильность не понимаю? Понимаю прекрасно и уважаю. Но помочь Елене хочу. Да и справедливо это. Сергей-то ее не довел… Теперь у нее дела усложнятся. Сам слышал. А ей нужно поскорее на ноги встать. Защититься. Жизнь у нее очень даже нелегкая. Муж… Ты тут спрашивал, научный работник? А он вообще не муж, а так…
— Что значит «так»?
— А ничего не значит. Пустое место.
Допытываться подробностей я не стал. Для меня вопрос не в этом заключался. Семейные дела Лены и научное наследие Сергея у меня в голове, в отличие от Полины Антоновны, были вещами разными.
— Почему вы сразу не сказали, что Лена дочь Наташи?
Этот вопрос тоже не был главным. Он сиюминутно возник и вроде бы не по существу разговора. Скорее я задал его, чтобы ослабить немного натиск Полины Антоновны, заранее предполагая ответ со ссылкой на старческую память.
Ответ, однако, оказался другим.
— Лена не захотела.
Я удивился.
— Чтобы я знал?
— Чтобы ты знал.
— Почему?
— Выходит, тоже щепетильная.
— Ну, знаете…
— Да что тут знать! Ты посмотри бумаги, а там и видно будет, стоит щепетильность соблюдать или нет.
В этом отказать я не мог. Хотя и не представлял, какой объем работы предстоит и как это скажется на моем отъезде. Впрочем, большого архива я у Сергея не ждал. Он никогда не говорил, что зарылся в бумагах. В науке он был больше преподаватель, чем исследователь.
— Договорились, Полина Антоновна. Завтра и займусь.
— Займись, займись, пожалуйста. Помоги.
«Кому? Ей или Лене?»
Но это я спрашивать не стал. Спать я лег на диване в комнате Сергея.
Окна отсюда выходили не во двор, как у Полины Антоновны, а на улицу, одну из старых городских улиц, возникших задолго до начала века. В наше время улица была покрыта камнем, гладко обработанным булыжником, почти брусчаткой, надежно державшей трамвайную колею. Теперь трамвай убрали, улицу заасфальтировали и пустили по ней троллейбус. Помню, что шумный трамвай, когда я ночевал у Сергея, не беспокоил нас нимало. А вот теперь и шуршащий транспорт оказался беспокойным, и красноватый свет рекламы гастронома напротив назойливо лез в глаза, несмотря на все попытки сомкнуть веки и заснуть. Усталость отступила, но и бодрости не было. Полежал, поворочался и встал, чтобы задернуть штору, хотя вначале полной темноты и не хотел.
И в самом деле, в темноте стало еще неприятнее. В квартире давно все затихло. Не знаю, спала ли Полина Антоновна, но из ее комнаты не доносилось ни звука.
«Что же мне предстоит?» — подумалось о предстоящей работе. На ощупь нажал я кнопку настольной лампы и зажег свет. Из-под абажура большая часть его падала вниз, и большие шкафы у стен, уходящие в темноту, показались еще больше.
«Но Сергей был аккуратен».
И я не ошибся. Открыв дверцу наугад, я вместо хаоса бумаг, которым сам грешу, увидел стопку папок. На каждой четко и разборчиво было написано содержание. Я потянул за шнурок одной из папок и еще больше порадовался. Содержимое в точности соответствовало содержанию.
«Ну, это облегчает задачу…»
Я с удовлетворением прикрыл дверцу. Потом открыл другую. Порядок был везде, и настроение мое поднялось. Захотелось продолжить поиск.
«А что в столе?»
В столе, правда, стопроцентного «орднунга» не оказалось, но разобраться можно было и здесь. Стол, как и все в комнате, был старинный, выполненный некогда по заказу. На ключ запирались не только дверцы, но и каждый ящик в отдельности. Однако прошедшее время я использую в самом прямом смысле. Запирались они когда-то, теперь все ящики выдвигались свободно, и отверстия для ключей были забиты давней пылью.
Я выдвигал ящики один за другим и просматривал бегло. В столе по первому впечатлению были собраны бумаги, так сказать, текущие, особого интереса не представляющие. Так, один был забит квитанциями по оплате за квартиру за много лет. Среди них я увидел лицевой счет с призывом: «Долг каждого съемщика жилой площади перед государством — своевременный взнос квартирной платы». Эта часть архива, разумеется, ни для Лены, ни для коллег Сергея интереса не представляла.
Остался один, нижний справа ящик. Я потянул его на себя, но ящик не подался. Он был заперт.
«Что тут? Деньги? Документы?»
Впрочем, через минуту я убедился, что предосторожность хозяина была чисто символической. В центральном ящике в углу лежала связка ключей, маленьких изящных ключиков, о назначении которых было нетрудно догадаться. Я легко нашел нужный.
Нижний ящик был почти пуст. Среди пожелтевших бумаг лежала одна такая же старая, как говорили раньше, общая тетрадка в клеенчатой обложке. Я раскрыл ее где-то посредине. Написанные неважными по качеству послевоенными чернилами строки давно вылиняли и читались с трудом.
Пришлось подвинуть поближе настольную лампу под зеленым абажуром. К счастью, почерк у Сергея был очень разборчивым. Записи шли подряд, строчка за строчкой, без выделения прямой речи, но сейчас я ее выделю.
На той странице, что я открыл наугад, было написано:
«Что я мог сказать ей?
Я сказал:
— Никто никогда не будет любить тебя так, как я.
Стыжусь этих слов. Они пошлые, напыщенные. Но это правда. Как утопающий, схватился я за соломинку и сказал их. Но разве соломинка спасет!
Она отвечала тоже какими-то чужими словами, которые, наверно, всегда говорятся в таких случаях.
— Успокойся. Ты еще встретишь много девушек лучше меня.
— Лучше не бывают.
Как глупо! Конечно, лучше ее нет, но сказано опять ужасно, беспомощно, бесполезно. Я не пробился сквозь стену, разделяющую нас, не доказал, не убедил, что я тоже нужен ей. Она утешала меня…
Невыносимо вспоминать. Зачем я это пишу?!»
Признаться, в первую минуту мне показалось, что Сергей баловался сочинительством. Но тут же ясно стало, что читаю я не роман, не рукопись, предназначенную в печать, читаю то, что ни для кого не предназначалось…
Да, это был дневник. Я посмотрел дату записи. В том году, когда писались эти строчки, нам было чуть больше двадцати. Мы были почти неразлучны. А я ничего не знал.
Я прочитал еще несколько строк.
«Она сказала:
— Ну, я пойду.
И ушла. Ушла.
Не может быть!
Как же жить?!»
Эти короткие фразы были так и написаны, каждая на отдельной строчке.
Невольно я закрыл тетрадь.
Конечно, с годами начинаешь понимать, как мало знаешь об окружающих людях. Даже о близких. Каждый человек в чем-то и для кого-то тайна. Сколько раз я сам делился с друзьями тем, чего никогда не сказал бы родителям или жене. И если даже секреты не столь велики, без них, видимо, не обойтись. В отличие от животных нас обезоруживает нагота, будь то телесная или душевная, и мы нуждаемся в самозащите, своего рода оболочке, оберегающей от нескромного или нежелательного взгляда. Наверно, это следствие той неповторимости, в которую входят не только отпечатки пальцев, но прежде всего внутренний мир, а он не витрина магазина. Впрочем, и в магазине под прилавком прячут то, чего не выставляют на витрину.
Вот получилось, что и Сергей прятал в душе и в ящике стола мне неведомое, хотя в те годы мы редкий день не виделись, причем чаще у него, в этой самой комнате. Ведь у Сергея была квартира, а моя семья жила в одной комнате в коммуналке. Где же еще было и заниматься и болтать, да и ночевать случалось нередко… А не знал ничего.
Поэтому, несмотря на все понимание жизни, я испытал известную досаду. Десятилетиями складывавшийся образ друга, образ, в котором натура убежденного холостяка, человека, свободного от увлечений, а тем более от страстей, была едва ли не краеугольным камнем, привычной «витриной», этот образ оказался неполным. За витриной скрывалось нечто. Пусть естественное юношеское чувство, которое и вспыхнуть может моментально, и погаснуть быстро…
Однако дневник он хранил всю жизнь. И в нем черным по белому. «Ушла. Не может быть. Как же жить?!» Крики. И каждый с отдельной строки.
«Не может быть» особенно задевало.
Слишком просто и в то же время для «моего» Сергея невероятно звучало. Насколько я помнил, он всегда был покладистым, сдержанным. Типичной для него была как раз фраза противоположная — «все может быть». Зашумят ребята, а он улыбнется мягко, не желая вдаваться в горячку спора, и скажет, пожав плечами:
«Все может быть, ну а пока, ребята, где нам раздобыть хоть на затяжку табака?»
Куплет этот, не знаю откуда, служил ему своеобразным щитом. Скажет его, все улыбнутся и поймут, что с Сергеем спорить нельзя, потому что он добряк и миляга. Ну и закурим, перекурим, и никакого осадка от спора на душе не останется.
В людском мнении Сергей всегда выглядел устойчиво, даже в своей противоречивости. В самом деле, с одной стороны, вдумчивый, умница, с другой, карьерных звезд, как говорится, с неба не хватал и, по видимости, не страдал от этого ничуть. Другие уже и докторские защитили, и кафедрами овладели, имущественно до машин и дач поднялись, и выездными людьми стали, а из «выездов» понавезли и новые квартиры обставили, а он не очень быстро кандидатскую защитил по своему́, мало кого интересующему восемнадцатому веку, и все… И прожил в такой неблестящей ипостаси всю незатянувшуюся жизнь в одной и той же комнате, на том же самом диване, в обществе все той же нестареющей тетушки Полины Антоновны.
И все…
Жизнь, прожитая без событий…
Впрочем, как это слово понимать — событие?.. Вот сейчас, с кем ни заговори, только и слышишь: что-то случилось, что-то произошло. С повышенным волнением извещают, что кран потек, что с автомобиля колеса сняли, что зуб рвать приходится или сослуживцы подсиживают. Но разве это события?.. Как-то привыкли мы в этот ранг обычные неурядицы возводить, и уже неприличным становится первому встречному в жилетку не поплакаться. А уж на вопрос: «как живешь?» ответить «хорошо» прямо неприлично, нескромно. Даже особый стиль выработался — все в негативном плане преподносить. Идет женщина с покупками, значит, «все руки сумками пообрывала», возвращается семья из отпуска — «три недели мокли» или «не знали, куда от жары спрятаться». Погода особенно стала сплошь «не та». Даже если идеальная, тихая, сухая, не жаркая, и тогда скажут: «А надолго ли это? Вот-вот сорвется. Жди урагана или чего похуже…» Некоторые и авансом хнычут, так привыкли к тихому повизгиванию. «Дочка в институт собирается. Представляете, что нас ждет?» И не дай бог сказать — ничего, мол, переживете. В бездушные эгоисты запишут и с год косточки перемывать будут, вину непростительную вспоминая…
Сергей этого жалкого поветрия избежал. Некоторые говорили: что ему? Какие у холостяка заботы? Но ведь и у холостяков зубы болят, и краны текут, и по службе не всегда ладится, да и одиночество недолго со свободой ассоциируется, с годами радости мало приносит. А вот не помню я за время наших пусть и не очень частых, но всегда дружеских, откровенных встреч, чтобы жаловался он, обвинял кого-то, а тем более поносил. Казалось, всем он доволен, все у него в порядке.
Конечно, в этом довольстве своя крайность есть. И признаюсь, не все в нем мне нравилось. Раздражало, например, равнодушие к работе над докторской диссертацией, затянувшейся на годы. Обидно было видеть, как обходят его люди не столь способные, но побойчее.
— Ты просто современный Обломов, — сказал я однажды Сергею.
Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой.
— Все может быть…
Да, Обломовым я его иногда видел, но вот о существовании «Ольги» не подозревал. Прозевал, можно сказать, под носом и с досадой удивился теперь своему верхоглядству. Сколько общих вопросов за жизнь обсудили, а до пережитого по-настоящему не добрались, здесь он поставил шлагбаум. «Как же жить?!» Значит, нашел ответ. Сам, без меня.
Я отложил дневник, встал из-за стола и вернулся на диван. Лег и задумался, разбираясь в том, что чувствовал. Конечно, Сергей имел полное право не делиться со мной сугубо личными обстоятельствами. Особенно тогда. Ведь ему, помимо всего, и стыдно было наверняка такой категорический отказ получить. Но потом? Никогда. Хотя и охотно говорил о человеческих проблемах. Неужели счел меня сухарем, неспособным на сопереживание? Решил, что не пойму?
Вообще-то мог. Будучи людьми одной науки, мы даже предмет свой видели часто по-разному. Меня в истории привлекают прежде всего процессы, закономерности, по которым из хаоса случайных событий и личных судеб возникает цепочка явлений, доступных объективному анализу. Сергей же в самом закономерном событии видел калейдоскоп совпадений, неожиданных характеров и происшествий. Его всерьез увлекали частности, на мой взгляд, не очень существенные, своего рода дней старинных анекдоты, в которых он умудрялся находить что-то нужное для себя. Увы, к диссертации эти находки никакого отношения не имели.
Он мог и в разгар самого обыденного, сиюминутного разговора взять вдруг с полки книгу в старинном переплете и прочитать о последних днях в бозе почившей императрицы Елизаветы Петровны.
«Вот послушай! «Восьмого сентября в день Рождества Богородицы государыня вышла из Царскосельского дворца пешком к обедне в приходскую церковь. Только что началась обедня, императрица почувствовала себя дурно, сошла по крыльцу и, дошедши до угла церкви, упала без чувств на траву. Императрица лежала без движения, толпа, окружив ее, смотрела на нее, но никто не смел к ней прикоснуться. Наконец явились придворные дамы, прибыли и два доктора. Ее прикрыли белым платком. Хирург тут же, на траве, пустил ей кровь. Ей пришлось пролежать таким образом около двух часов, по прошествии которых ее привели немного в чувство и унесли во дворец». Каково?»
Картина, пожалуй, была описана живо. Высвечивались нравы и время. Но чем заинтересовало это описание Сергея, я не совсем понял.
«Деликатная царица. Почувствовала дурно и вышла, чтобы придворных от молитвы не отвлекать».
Сергей покачал головой.
«Нет, не деликатность тут. Страх».
«Какой страх?»
«Да ведь где случилось? В церкви».
«Ничего удивительного. Душно. Тесно».
«Главное, страх перед богом. Решила — кара пришла».
Хотя личность Петровой дочери занимала меня мало, я был о ней в целом не самого худшего мнения. Все-таки любительница маскарадов на троне лучше, чем ее племянник-солдафон.
«За что же кара?»
«Ну, это не вопрос».
«Почему? Она была против смертной казни, например».
«И вообще, как сказал поэт, веселая царица, да? А что такое «изумленным быть», помнишь?»
Я не помнил. Сергей пояснил:
«Это когда человеку стягивали голову веревкой и крутили до тех пор, пока он не начинал говорить такое, чего и сам не понимал. Обычная пытка считалась, между прочим. Но я не о том. Пытку, если хочешь, на эпоху списать можно, на тайную канцелярию, на усердие заплечных дел мастеров. Я о личном, что ни на кого не спишешь».
«Что именно?»
«Иван Антонович, заживо погребенный, заточенный, ссыльный все двадцать лет, пока государыня танцевала. Он-то на совести непосредственно».
«Это тоже эпоха. Политика. Династические интересы».
«Не сомневаюсь, что у нее самой аргументов еще больше было. Но это слова. Для дипломатов, царедворцев, себя ими не убедишь».
«Да может быть, она и не убеждала себя вовсе?»
«Убеждала. Пыталась».
«Ты так уверен?»
Он почему-то нахмурился.
«Ты сам ответил… Своим заступничеством. Да, она была человеком добрым. Потому и страшилась кары. Совесть болела. Танцевала, танцевала, а внутри болело. Умерла-то она до срока… Подточило…»
Вот так он мог… Хотя с точки зрения общего процесса, какое имеет значение, мучила совесть Елизавету или не мучила! Это дело личное.
А Сергей, до личных дел охотник, свое «личное дело» хранил в ящике под запором…
Интересно, сколько лет было Елизавете, когда она?..
Кажется, пятьдесят два. И Сергею тоже…
Кто же Ольга, кстати?..
Наконец-то пришел сон.
Проснулся я рано. Едва светало.
Я обвел глазами комнату и увидел, что утренний сумрак слегка подсвечен. Все еще горела настольная лампа, которую я не погасил, засыпая. Рядом с лампой на столе лежал открытый дневник. Я все вспомнил.
— Что, зачитался с вечера? — спросила Полина Антоновна, когда я вышел из ванной, приглаживая влажные волосы.
— А? — не понял я.
— Выходила я ночью, у тебя свет горел. Под дверью видно.
— Виноват. Заснул и лампу не выключил.
— А я думала, с бумагами завозился.
— С бумагами все в порядке. Систематизировано, по папкам разложено. Все ясно.
— Хорошо. Тебе возни меньше.
— Кроме научных, есть еще личное?
— Личное? Какое личное? Откуда? Он даже поздравительные открытки выбрасывал. Документы? Или жировки какие-нибудь…
— Жировки тоже есть. Но я имею в виду дневник.
Было заметно, что я удивил тетушку.
— Неужели он дневник писал? Никогда не видела.
— Дневник старый. Еще студенческих лет.
— И об этом не знала, — сказала она как-то озабоченно.
— Да ведь дневники для себя пишут.
Полина Антоновна кивнула, соглашаясь.
— Вот ты что читал, значит. Интересно?
— Я просмотрел только отдельные страницы.
— И что?
«Неугомонная старуха. Все ей нужно!»
— В принципе интересно. Это же наше время. Но дневник все-таки вещь сугубо личная.
— Потому и не стал читать?
— Нет, заснул. Кое-что, однако, вычитал. Неожиданное.
Мы все еще стояли в прихожей. Я у дверей ванной, Полина Антоновна у входа в кухню, с чайником в руках. Чайник качнулся и струйка желтоватой вчерашней заварки пролилась на пол.
— Ой! Смотрите.
— Ничего, вытру.
— Ну, заваривайте, а я сейчас.
Я прошел в кабинет, привел себя окончательно в порядок и постучал в комнату Полины Антоновны. Дневник я захватил с собой.
— Вот, пожалуйста.
Она взяла его в руки, посмотрела, переводя глаза с тетрадки на меня и снова на тетрадку, но не открыла, положила на стол в сторонке.
— Что ж ты там такое вычитал? — спросила Полина Антоновна, разливая чай.
— Я не знал, что Сергей был влюблен.
— Вот как…
— Да, любил девушку.
— И все?
Я пожал плечами.
— Любовь — не картошка.
И она улыбнулась, хотя только что была почти сумрачной.
— Молодой был, вот и любил. Что в этом особенного?
— Мне он никогда не говорил… А вы знали?
Она будто не поняла меня.
— Кого?
— Про его любовь.
Полина Антоновна не ответила, завозилась с чем-то.
— Знали, что он любит? Кого?
— Кого? — переспросила она. — Разве там не написано?
И она прикоснулась длинным сухим пальцем к обложке дневника.
— Там, где я читал, Сергей пишет просто «она».
— И все?
Снова повторился уже прозвучавший вопрос.
— Я же говорил, смотрел мельком.
— А я вообще не видала.
— Выходит, и вы не знали?
Она сняла очки, стала их протирать.
— У вас тогда много девушек знакомых было.
— И все-таки любопытно.
— Я тоже хочу поглядеть.
— Смотрите. А я вечерком.
Полина Антоновна надела очки, посмотрела на меня.
— Что сегодня надумал?
— Ничего. Поброжу по городу.
— Походи, походи. Повспоминай.
Она протянула руку к тетрадке, но при мне так и не открыла ее.
— Спасибо за угощение.
— На здоровье. Скажешь тоже, угощение…
Я уже надел плащ, когда зазвонил телефон.
— Послушай, сделай одолжение, — крикнула из комнаты Полина Антоновна.
В квартире было два аппарата, в кабинете и в прихожей. У себя Полина Антоновна телефон не держала, воспринимая его чисто утилитарно, только в меру необходимости. «Не люблю говорить, если человека в глаза не вижу».
Я поднял трубку в прихожей.
— Алло.
Трубка не откликнулась.
— Вас не слышу.
Раздались длинные гудки.
— Кто там, Коля?
— Не знаю. Не ответил.
— Ну и бог с ним. Нужно будет, еще позвонит.
Я вышел из квартиры.
День стоял, как и предыдущие, ровный, солнечный. Я миновал двор и через подворотню выбрался на улицу. Особо четких планов у меня не было, и я приостановился, оглядевшись. Напротив, через дорогу, на месте разрушенного в войну дома был разбит небольшой скверик. Там на скамейке возле прикрытого прозрачным колпаком таксофона сидел парень. С годами я приобрел дальнозоркость и поэтому сразу узнал его, тем более что одет он был в ту же самую поблескивающую золотистым отливом куртку, что и на кладбище, где я видел его с Леной.
Мне не нравится всякого рода мишурный синтетический шик. Не понравился и хозяин куртки. Еще на кладбище, когда он, стоя рядом с женой, разглядывал нас с Мазиным. Не потому не понравился, что тяготел к породе «стиляг», бороться с которыми нас приучали в юности. Как раз вызывающе модного на нем ничего не было. Да и внешность вполне отвечала благопристойным нормам, ни усов, ни бородки, ни длинных волос. И все-таки, когда я увидел его вблизи, из машины, неприязнь возникла сразу. Решусь сказать, ответная, та, что возникает у людей немолодых, если они замечают во взгляде младших по возрасту нечто пренебрежительное, чувство легкомысленного превосходства. Это всегда раздражает — ну почему они не понимают, что и сами старости не минуют?
Да, парень мне не показался, а тут еще и Полины Антоновны нелестные слова…
А впрочем, какое мне дело до того, что сидит он на скамейке в осеннем скверике, где разросшиеся за мирные годы деревья пожелтели и осыпаются понемногу, стоит потянуть жесткому ветерку?.. Сидит и пусть себе сидит. Пусть отвернулся, потому что тоже узнал меня и не пожелал реагировать. Впрочем, тем, что отвернулся, все-таки среагировал. Отрицательно.
Короче говоря, возникновению молодого человека в сквере напротив я значения не придал.
Удивился я позже, когда вернулся с прогулки по городу. Прогулка затянулась. Захватили знакомые места, и пробродил больше, чем собирался, а потом в кафе пообедал, чтобы не обременять Полину Антоновну. А когда подходил к дому, глянул машинально по сторонам, переходя улицу, и увидел, что под таксофоном, будто и времени не прошло, сидит тот же парень. Только солнце освещает его блестящую куртку уже с другой стороны.
Правда, в первый момент я удивился умеренно, ибо никак не связал его «сидение» с собственной особой. Подумал только: «Как пенсионер, на солнышке греется целый день». Подумал и направился к подворотне, когда услыхал за спиной:
— Эй, вы! Постойте…
Нельзя сказать, чтобы это прозвучало вежливо, но я остановился.
— Вы… я не знаю, как вас зовут.
Говорил он, чуть задыхаясь, потому что заметил меня, видно, не сразу и бежал догоняя.
Я назвался, но сразу замечу — на всем протяжении нашего знакомства он меня по имени и отчеству не поименовал ни разу. Так я и остался — «вы». Однако и на том спасибо. В наше время и «тыканье» особо предосудительным не считается.
— А вас как величать?
— Вадим.
— Очень приятно. Спорщик, значит? О чем же вы хотите поспорить?
Он не понял.
— Откуда вы взяли, что я спорить собираюсь?
— Имя у вас такое.
— Имя как имя. При чем тут спор?
— От древнерусского слова «вадити», затевать споры. Правильнее Вадимир.
— Никогда не слыхал такого имени.
— Упростилось, сократилось.
— Уверен, родители и в голове не держали…
Наверно. Ведь спорить — одно из самых мягких значений глагола «вадить». У Даля еще и клеветать, обманывать значится. Но об этом я распространяться не стал.
— А вообще-то правильно назвали. Меня против шерстки не погладишь. Интуитивно дошли предки. Выбирали красивую кличку, а попали в точку, а?
— Не знаю. Я еще с вами не спорил.
— Да не собираюсь я спорить. Я же сказал.
Мы остановились тем временем, не входя во двор.
— У вас дело ко мне?
— Дело.
— Тогда поднимемся к Полине Антоновне, — предложил я, не высказывая подлинного уже удивления, ибо не мог никак предположить, что за дело может нас свести.
Вадим резко тряхнул головой.
— Туда без толку… У старухи я был. Мне с вами надо.
Я развел руками.
Он поколебался, потом спросил резко:
— В пивную пойдете?
— Куда? В какую пивную?
— Здесь рядом. Подвальчик.
Я представил набитое разным народом помещение, полупьяный гвалт, захламленные столики и кислый, тошноватый запах, и поморщился.
— Увольте.
— Я так и знал. Коньячком сосуды расширяем?
— Бывает, и нитроглицерином.
— Ну, не скромничайте. На вид…
Я прервал.
— Вид обсуждать не будем.
— Ладно. Тогда на лавочку? На свежем воздухе.
Разумеется, все варианты общения с Вадимом меня привлекали мало, но на свежем воздухе было все-таки лучше, чем в заведении, куда он меня приглашал.
— Хорошо, пойдемте.
До скамейки, той самой, что рядом с таксофоном, мы шли молча. Молча и сели. Я посмотрел вопросительно.
— Предоставляете слово?
— Слушаю.
Он почему-то наклонился ко мне, хотя посторонних вокруг и не было. Я заметил, что волосы у него, несмотря на возраст, уже поредели и давно не мыты.
— Вы, конечно, знаете, кто я?
Я кивнул.
— Бабка проинформировала?
— Да, Полина Антоновна сказала, что вы муж Лены.
Он искривил рот.
— Представляю.
Я не возражал. Представлял он полученную информацию приблизительно правильно.
— И тем не менее стою у ворот. И прошу помощи.
Видно было, как трудно далась ему последняя фраза.
— Помощи? Моей? В чем?
— Жить нам с Ленкой негде. Понимаете? С милым рай где? В шалаше. А если нет шалаша, тогда что? Тогда где?
На вопросы свои Вадим отвечал сам. Коротко и напористо. Да, я ошибся, предположив, что он целый день грелся на солнышке. Ощущался и другой источник подогрева.
— Чем я могу быть вам полезен?
— Склоните старуху.
— Вы Полину Антоновну в виду имеете?
— Кого же еще! Старуха могла бы пустить нас на квартиру, сдать комнату. Но не хочет. Уломайте ее! Вы ведь там в авторитете.
Я был обескуражен.
— Но если не хочет…
— Да почему? Мы же ей пригодимся. Осталось-то ей сколько? Не вечная же она, в конце концов. Ей помощь нужна, люди. А Лена ее любит. Сделайте доброе дело. Что вам стоит!
Я посмотрел на Вадима. Он взгляда не отвел. Напротив, бросил требовательно:
— Ну!
— Я вас понимаю, но вопрос деликатный…
— А если семья рушится?
Вопрос был поставлен ребром, но чуть с перебором. Не люблю я набившие оскомину штампы. Одно дело на профсоюзном собрании выступать, а другое совсем вот так, с глазу на глаз, в доверительном разговоре, да еще с полутеатральной аффектацией. Он почувствовал мое недоверие к броской фразе.
— Вы поймите, как живем. То вообще не живем вместе, то сарай у черта на куличках снимаем.
Это подействовало на меня сильнее.
— Жизнь по швам трещит, — добавил Вадим, уловив перемену в моем настроении.
— Понятно мне.
— Поможете?
— Вы у Полины Антоновны сегодня по этому вопросу были?
— По какому же еще!
— И она отказала…
— Ясно. Зачем бы я вас просил…
Я вспомнил, как он отвернулся утром, увидев меня. А сейчас обращается за помощью… Однако… Но могу ли я помочь?..
— Если вы только сегодня говорили и она отказала, вряд ли Полина Антоновна так быстро изменит решение. Я ведь ее много лет знаю.
— Я тоже достаточно. Ослица валаамская.
— Если вы о Полине Антоновне такого мнения, то вряд ли уживетесь под одной крышей.
— Почему? Мнение мое личное. А конфронтация мне не нужна. В кухонные дела влезать не собираюсь. Это Ленкина забота, а у нее со старухой гармония. Так что гарантирую мир и дружбу, фройндшафт.
Тут мне в голову пришла мысль.
— А Лена этот вопрос поднимала?
— Нет.
— Так может быть, ей…
— Нет.
На этот раз отрицание прозвучало даже жестче первого.
— Понадеялась на вас?
Он хмыкнул.
— Ей этот вариант не нравится.
— Не понимаю.
— Я тоже, — сказал он почти доверительно. — Сплетен боится, я думаю.
— Каких сплетен?
— Вы разве людей не знаете? Будут гадости говорить. Пролаза, охмурила старуху… А у моей супруги натура тонкая.
Мне эта аргументация показалась малоубедительной.
— Однако, если и она против…
— Ерунда. Бабы всегда так. Их нужно перед фактом ставить. Логическое мышление у них не развито. Вот и приходится собственными мозгами шевелить. А зачем? Дело-то ясное. Я ей добра хочу. И всем хорошо будет.
«А будет ли? Что, если она собирается порвать с Вадимом? То, что он не подарок, видно невооруженным глазом…» Я молчал.
— Понимаете…
Вадим вдруг встал.
— Все понимаю. Зачем лишние хлопоты? Проще чемоданчик в руку и к морю. В вагоне СВ, конечно.
— Да погодите вы, — прервал я с досадой.
— Не могу. Спорщик я.
— Сядьте, спорщик.
Он послушался.
— Новые идеи?
— Без участия вашей жены будет трудно. Полина Антоновна действительно человек своеобразный. Но сердце у нее доброе.
И тут он сказал для меня неожиданное.
— Жену унижаться не пущу. Ей клянчить нечего. Она право имеет.
— Жить в квартире Сергея?
— А ну вас! Зря затеял. Каждый умирает в одиночку.
Он снова встал. Я тоже.
— Не горячитесь. Я поговорю с Полиной Антоновной.
Во время нашего разговора он постоянно морщил лоб, но тут морщины разгладились.
— Вот это другое дело. Я знал, что вы мужик с пониманием.
— Ну, как сказать…
— Не скромничайте. Я докажу. Хотите?
— Каким образом?
— Просто. Ручаюсь, вы одолжите мне три рубля.
— Однако!
— Неужели я ошибся! Сумма-то мизерная. И отдам я. Мы же должны повидаться после разговора с бабкой. Когда вам позвонить?
— Лучше вечером. Не знаю, когда разговор сложится.
— Ладно. Но если старуха подойдет, я трубку повешу.
Я вспомнил утренний «глухой» звонок. Тогда вместо «старухи» подошел я.
— За результат не ручаюсь, но звоните.
Он сделал шутовскую гримасу.
— Слушаюсь, командир. Значит, мы поняли друг друга?
— Я не уверен…
— Как? Неужели трояк пожалели?
Об этом я уже забыл.
— Нет, нет…
И я полез в карман за кошельком.
Отдельного трояка не оказалось, был один бумажный рубль и два металлических.
— Поштучно возьмете?
— Я не гордый.
Это он врал, конечно. Если не гордости, то гордыни в нем было хоть отбавляй. Деньги перешли из рук в руки, и он ушел, не попрощавшись, пошел по улице вправо, в сторону, где находился упомянутый в начале разговора подвальчик.
— Проголодался? — спросила Полина Антоновна, едва я переступил порог. — Сейчас покормлю.
Мне стало неловко.
— Спасибо, я сыт.
— Неужели в харчевне питался? Постеснялся старуху объесть?
— Ну, что вы…
Я прошел в кухню и положил на стол небольшой сверток.
— Вот. К чаю захватил.
Поднимаясь в лифте, я подумал, что за вечерним чаем и будет уместно поговорить о квартирных делах, но сейчас почувствовал, что оттягивать разговор не могу, захотелось сразу покончить с навязанным поручением. Несмотря на гуманные обоснования, оно было мне все-таки не по душе.
— А может, поешь, а? Не верю я в эти столовки.
— Нет, нет. Напрасно вы хлопотали.
— Какие хлопоты! Сергея-то кормила…
Я решил воспользоваться зацепкой.
— Вот-вот. А теперь пришло время и облегчить хлопоты, позаботиться о себе.
Она посмотрела на меня подозрительно, будто сразу почувствовала мой нехитрый заход.
— Сама жизнь «облегчила», как видишь.
— Одной вам будет нелегко.
— Что ж делать! Замуж выходить?
Я обрадовался ее шутке.
— Где сейчас жениха стоящего найдешь! А вот если хороших людей на квартиру пустить?
Полина Антоновна провела тряпкой по кухонному столику, хотя на нем не было ни крошки.
— Ты что, знаешь таких? Хороших…
Ответить ответственно мне было трудно.
— Да как сказать…
— Просто скажи. У меня сегодня на эту тему уже второй разговор будет.
Я решил говорить прямо.
— У вас был муж Лены.
Полина Антоновна немного удивилась.
— Знаешь? Откуда?
— Он мне сам сказал.
— Когда ж успел?
— Ждал в сквере.
— Он тебя?
— Да, с намерением…
Она отложила тряпку.
— Вот как… Значит, он тебя ходатаем избрал. Как это говорят… толкачом?
— Представьте себе.
Я думал, она улыбнется, но Полина Антоновна смотрела серьезно.
— Говорит, семья рушится.
— Рушится, — согласилась она. — Еще что?
— Говорил, Лена вам помогать будет.
— Может быть. Все?
— Я знаю, он вам не нравится…
— А тебе?
Что я мог сказать!..
— Значит, из-за него не хотите?..
И вдруг короткое:
— Нет.
«Ну, вот… Выходит, из-за Лены». Тут я вспомнил, как Вадим говорил что-то о правах жены. «Черт-те что. У них тут отношения… Секреты. Разве мне в этом разбираться?» Я человек не из тех, кто в чужих сложностях лучше, чем в своих, разбирается. Напротив.
— Кажется, я не в свое дело вмешался? Вам неприятен этот разговор, Полина Антоновна?
— Кому ж приятно обсуждать, как свой век дожить? Лена поможет… Присмотрят. Докормят. Нет, не хочу.
— Ну, что вы…
— Не волнуйся. Ты человек хороший, вот и взялся всем нам хорошо сделать. Меня докормят, сами семью сохранят… Да не сохранят.
Она произнесла это очень уверенно.
— Мне тоже показалось, что люди они разные.
— Она — человек, а он…
— Чем он занимается?
— Стыдно сказать. Не поверишь. Сторож он в дачном кооперативе. Хорош гусь?
— Да… Молодой еще, здоровый человек… Что это он так? Неудачливый парень?
— Удачи добиваться нужно.
— Воли не хватает? Никакой специальности?
— Есть у него специальность. И высшее образование есть. Учитель он по профессии.
«Вот уж на учителя он похож меньше всего!»
— Никогда бы не сказал.
— Выгнали его.
— За что?
— Говорит, сам ушел. Врет. Но язык у него подвешен. У него и насчет дач теория подведена. Свободен он там, видите ли. От чего свобода-то?
Да, отношение Полины Антоновны к Вадиму было однозначным.
— Короче, разбитый горшок они не склеют. Это он тебе очки втирал. И не хлопочи.
Приходилось признать, что «толкач» с задачей не справился. Впрочем, и «толкал-то» я без особых усилий. «Но почему ее Лена не устраивает?»
— Простите. Вам виднее, конечно, как поступить.
— Я самолюбивая, Коля. Поживу, сколько смогу, без опеки, а когда час придет, в дом престарелых переберусь. Меня это заведение не пугает. И там люди. И там еще небольшую пользу принести можно.
— Вы мужественный человек, Полина Антоновна, — сказал я искренне.
— Наверно. В жизни разные решения принимать приходилось. И трудные, Коля. Очень трудные.
Она плотно сжала руки. Может быть, вспомнила что-то.
— И не жалела… Да что толковать…
Так Полина Антоновна поставила точку в этом не очень приятном и для меня разговоре, и оставалось только сообщить Вадиму, что в комнате им с Леной отказано окончательно.
«Ну, что ж… Позвонит — скажу».
Я почувствовал облегчение. Можно было о другом говорить и думать.
— Полина Антоновна! Вы дневник Сергея смотрели?
Мы тем временем перешли в ее комнату. Тетрадка с записями лежала на тумбочке у кровати.
— Смотрела, Коля.
— Ну и как? Кто же она?
Полина Антоновна взглянула издали на тетрадку.
— Имени я не нашла. «Она» да «она» пишет. А буквы мелкие… Глаза устают быстро. Возьми сам поищи.
Однако и мой поиск успехом не увенчался.
Сначала я расположился с дневником в кабинете за столом, но быстро почувствовал желание прилечь. Читать же лежа оказалось почти невозможно. Света от лампы недоставало, а верхний, от люстры, раздражал яркостью. Да и сам автор не поощрял любопытства. Буквально через страницу после сразившего Сергея объяснения он записал:
«Больше о ней ни слова».
И в самом деле, пошли записи будничные. В некоторых и я фигурировал под инициалом Н. Забавно, но ничего особенного.
Например:
«Сдал зачет».
«Целый день дождь».
«Смотрел картину «Адмирал Ушаков». Интересен Потемкин».
«Прогрипповал неделю. Читал Данилевского «Мирович».
«Н. решил ехать по назначению».
Это обо мне. Была возможность остаться в аспирантуре, но захотелось самостоятельности…
И вдруг:
«Ужасно!»
Больше ничего. Даже дата задним числом, без месяца и года: «10-е». Однако никакой тайны для меня в этой записи, увы, не содержалось. Речь шла, конечно, о смерти Михаила. Правда, я считал, что его убили двенадцатого, но и меня память подвести могла, и Сергей в потрясении мог днем ошибиться.
«Ужасно!» Именно так мы себя тогда и чувствовали… Понятно, почему Сергей не распространялся о чувствах. Они были сильнее слов…
Снова протокол. Но вот строчка:
«Она согласилась встретиться».
Строчка осталась без комментариев и продолжения. «Она» исчезла окончательно. Последней страницы в тетрадке не было. Почему-то Сергей ее вырвал. Причем неровно. Внизу остался клок бумаги. И непонятно, зачем. На предыдущей он написал:
«Перечитал. Достаточно. Финита ля…»
Ясно, что решил больше дневник не вести. Потому и чистый лист выдрал?..
В тишину врезался звонок. Благо я поставил телефон у изголовья.
Протянул руку и взял трубку. Оттуда голос Вадима сообщил:
— Это я.
— Слышу.
— Ну и как?
— Как я и предполагал.
Вадим помолчал.
— А вы старались?
— По мере сил.
Я думал, что он положит трубку в своей манере, не прощаясь, но ошибся.
— Понятно. Сил у вас не хватило. Ничего. У меня хватит.
— Неужели собираетесь продолжать?
— Раз начал…
— Поверьте, это бесполезно. Я знаю.
— Ничего вы не знаете. Я еще с козырей не ходил.
— Что это значит?
— Вундерваффе — секретное оружие.
— Не поясните?
— Зачем вам? Вас ждет солнечный юг.
Я и сам бы не прочь уже поспешить, как говорится, к месту назначения, но возникла от его слов тревога за Полину Антоновну. Что он еще задумал?
— Надеюсь, вы понимаете, что домогательства…
— Что это еще за слово? Она нас пустит — и точка.
Разговор приобретал тупиковый характер, но повесить трубку, махнуть рукой, оставить Полину Антоновну один на один с этим человеком я уже не мог.
— Я пробуду здесь еще несколько дней.
— Очень приятно.
— Я хотел бы повидать вас.
Он хохотнул.
— Должок простить не можете?
Пришлось стерпеть.
— А есть надежда получить?
— Вообще-то я не из исправных плательщиков, но вы можете рассчитывать.
— Признателен. На том же месте?
— Ну, это не по протоколу. Теперь вы принимаете мое предложение. Завтра в одиннадцать у входа в пивную. Запеленговали?
Звучало это наподобие «командовать парадом буду я».
— Хорошо, — сказал я коротко.
Проснулся я не очень довольный собой. Было ощущение, что втянулся в нелепую историю, которой придал преувеличенное значение. Ну что этот неприятный парень, сторож с высшим образованием, может сделать Полине Антоновне? Ведь она, несмотря на возраст, человек-кремень. Кроме того, все равно уеду днями. Может быть, к Мазину на всякий случай обратиться?.. Тоже чушь. С его-то перегрузками серьезными делами бытовыми мелочами заниматься… Да, глупо получается. Однако назвался груздем — полезай в кузов. Или махнуть рукой все-таки?
Сомнения развеяла сама Полина Антоновна. Выглядела она насупленно. Разумеется, после смерти Сергея было отчего насупиться. Но оказалось и другое.
— Ты, Коля, с этим охламоном еще собираешься встречаться?
— А надо? — спросил я прямо.
— Сослужи службу. Скажи ему еще раз, что отказала я. Не хочу его больше видеть.
Вот и развеялись сомнения.
В час открытия бар оказался непереполненным. Впорхнувшие жаждущие быстро рассредоточились по столикам. Нам достался один из лучших, под окном из цветных стекол. Это подобие витража скрывало от глаз ноги прохожих в заляпанных брюках — ночью прошел дождь.
Вадим вытащил из кармана зеленую бумажку.
— Теперь вы при деньгах. Вам и карты в руки.
Я взял три рубля и покорился наглости.
— Сколько пить будете?
— По кружке.
Это мне понравилось. Чем трезвее, тем лучше.
— Креветки возьмите! — крикнул он мне вслед.
Неопрятная женщина налила пиво, бросила в тарелку креветок, много и невзрачного вида.
Когда я ставил кружки на столик, Вадим потянулся и зевнул.
— А вы, однако, уже причастились, — заметил я.
— Имею право. Я со смены.
— В ночной трудитесь? — не удержался я.
Вадим сделал большой глоток, вскинул глаза, посмотрел, поставил кружку и погрозил мне пальцем.
— Не нужно. Вижу, что старуха доложила.
Вел он себя, пожалуй, развязнее, чем вчера, но особенно пьяным не выглядел.
— Да, я знаю.
— Что вы знаете! Внушают вам, внушают, что каждый труд почетен, а вы как были заскорузлыми обывателями, так и остаетесь. Дешевый интеллигентский снобизм! В конторе «рога и копыта» штаны за сто двадцать рэ протирать для вас почетно, а на полезную работу фыркаете.
Он допил кружку залпом.
— Я не фыркаю.
— И не фыркайте. Возьмите-ка лучше еще по кружечке.
— Я больше не хочу, а вам, по-моему, достаточно.
— Обиделись? Ладно, я сам возьму. Но сначала объясню. Да, сторож. Если бы не я, у людей бы замки срывали, телевизоры тащили. Да что тащили… Били бы просто так, для потехи. Стулья ломали, гадили. Представляете, приезжаете вы на дачку, а там погром, мальчики порезвились и визитные карточки по углам оставили. Как вам покажется? А я имущество ваше берегу. Трудовое… и всякое. Так что ж вы на меня через губу смотрите?
И, не дожидаясь ответа, Вадим встал, отошел и вернулся с полными кружками.
— Ну, что? Почетный мой труд?
— Разве учительский менее почетен?
— А… Тетушка по всей анкете прошлась?
— Это закрытый пункт?
— У меня секретов нет. Знаете, как я покинул ниву просвещения? Почему?
— Нет, не знаю.
— Потому что я не Кутузов и не адмирал Нельсон. И мне не понравилось, когда некий дебил среднего школьного возраста попал мне вот сюда, — он прикоснулся пальцем к щеке возле глаза, — этакой стальной гнутой проволочкой.
— И вы покинули поле боя?
— Пришлось. Я упустил из виду, что право на самооборону на учителей не распространяется.
— Зато теперь вы этим правом располагаете?
Он усмехнулся зло.
— Будьте уверены.
— Спасибо. Я поостерегусь взламывать дачи на вашей территории.
Теперь он пил пиво маленькими глотками.
— А вы мужик с юмором.
— Одобряете?
— Одобряю. Воспринимать жизнь всерьез слишком расточительно. На каждый чох не настрессуешь. Представляете, маленький мальчик убил бабушку. Ужас! Волосы дыбом. А если так?
Крошка Вилли — вот потеха! — Бабку застрелил для смеха. Мама ласково сказала: «Пуль и так у папы мало!»Положительная эмоция. Юмор — это мостик между тем, что мы называем абсурдом, и реальным абсурдом жизни.
«Вот такой словесной эквилибристикой он и морочит голову Лене. А женщины все такие же. Хотя и шумят об эмансипации и даже «презирают» мужчин. А если и презирают, то не того, кого надо…»
— Но, как я понимаю, дачная жизнь вам абсурдной не кажется?
— Ловите на слове? Ладно. Есть преимущества. Воздух. Время свободное. Слыхали поговорку: с утра выпил, день свободен? А у меня еще лучше — с утра свободен, выпить могу.
— Часто пользуетесь?
— Ну, ну! В алкаши меня не записывайте. Не надо.
«Сколько их так говорит на полпути…»
— Я не за тем пришел.
— Я тоже. Ближе к делу. Итак, я дачник. Что об этом думают, мне плевать. Лично я доволен. Что мне ваша «жизни мышья беготня»?.. Но у меня жена. Ей нужно жить «как люди». Возможность такая есть. В чем же загвоздка?
— Полина Антоновна предпочитает жить одна.
— Сколько? Кто ей хлеба купит или молока, когда свалится?
— Она собирается в дом престарелых.
— В богадельню?
— Есть люди, которые выбирают и такой путь.
— А квартирой какой-нибудь взяточник завладеет? Что, вы не знаете, как вымороченной площадью торгуют? Это справедливо, по-вашему?
Я приподнял руку.
— Вадим! Вы на меня производите двойственное впечатление. Нужду в жилье я и сам пережил. Но закон на стороне Полины Антоновны. Принудить ее никто не может.
— Вы уверены?
«Вот сейчас нужно разобраться».
— Послушайте! Вы не в первый раз намекаете на какие-то возможности оказать давление на Полину Антоновну. Это серьезно или блеф?
— Я слов на ветер не бросаю.
— Что вы в виду имеете?
— Это мое дело.
— Тогда придется ее защищать. Я не позволю… Это и мое дело.
Он вдруг приподнял кружку на уровень глаз и посмотрел на меня через стекло.
— Ха-ха-ха!.. На вид вы такой благообразный, а присмотришься… страшный.
— Это глупо.
— Не скажите. В этом что-то есть. Иногда стоит присмотреться через… магический кристалл. Ладно…
«Ладно», как я заметил, было его любимым словом.
— Но я вас предупредил.
Вадим пренебрежительно махнул рукой.
— Бросьте. Ловите лучше бархатный сезон. Не ваше это дело.
Я приподнялся невольно. Хотелось выплеснуть пиво прямо в физиономию наглецу. Он отклонился торопливо.
— Вы что? Сердце поберегите. Что вы взъерепенились?
— Я вам не позволю…
— И не надо. Не позволяйте. Я вам только сказал, не ваше это дело. И не мое, если вы уж так хотите.
«Что он? Струсил? Уступает?»
Но нет…
— Лена к ней пойдет. Их это дело! Ясно?
Совсем мне не было ясно. Но сердце колотилось под сорочкой, а я знал, что мне такого допускать нельзя.
— Вы, кажется, не хотели жену впутывать, — сказал я, немного задыхаясь.
— Не беспокойтесь. Она распутает. Они вместе распутают. Дышите глубже.
Я послушался и вздохнул. Полегчало.
«Ну что за истерия!.. Угораздило. А ведь этот негодяй в чем-то прав. У Полины Антоновны с Леной какие-то отношения особые. Какие?»
И тут меня будто стукнуло. Как говорится, искры из глаз, и осветило неожиданное.
«Бог ты мой! А что, если эту молодую женщину с Сергеем не одна диссертация связывала?!»
Я прямо-таки уставился на Вадима. А он уже вполне спокойно дохлебывал свое пиво.
«Нет. Это уж слишком. Он муж. Нельзя же до такой степени цинизма докатиться. Нельзя».
— Ну, как? Отошли? Не стоит так волноваться. Знаете, моя супруга фотографию притащила. Старушка ей на память о любимом учителе презентовала. И вы там есть.
— Я знаю.
— Помоложе выглядите, между прочим.
Снова я уловил издевку.
— Вы тоже не юноша, Вадим.
Он машинально провел рукой по лысеющей голове.
— Заметно? Глупый волос покидает умную голову.
Это была первая фраза, которую он произнес без самодовольства. Я не стал поддразнивать. Выпил пива.
— Ладно. А этот, третий ваш друг, погиб, кажется?
— Миша?
— Его Михаилом звали? — почему-то переспросил Вадим.
— Михаил.
— Уголовник, я слышал, его зарезал?
— Не зарезал. Ударил чем-то.
— И не поймали его?
— Нет. Да зачем это вам?
— Так просто. Размышляю.
— О чем?
— О судьбах людских. Жили-были три друга. Один в молодости… ушел. Другой в среднем возрасте. Значит, вам жить долго, — добавил он почти без насмешки.
«Может быть, я несправедлив к нему?.. Такое в голову пришло!..» Стало как-то неловко.
Тут он и исчез. Стремительно, как и вчера. Правда, на этот раз буркнул:
— Чао!
И я остался один со своей недопитой кружкой пива, допивать которое не хотелось. А мысли сразу же побежали снова.
«Конечно, мое предположение — чушь. Права на вселение предъявляет «невестка» с новым мужем, он же старый. Бред. Да и почему это должно связывать Полину Антоновну? Однако о каких-то правах говорилось… что же, если не это?.. А… К лешему! Сегодня же возьму билет».
Я отодвинул кружку, но встать мне не удалось.
— Вот не ожидал!
По крутым ступенькам спуска скатился Женька Перепахин и тут же приблизился.
— Не ожидал, брат, не ожидал, — повторил он и уселся напротив.
«Из огня да в полымя!»
— Я тоже.
Сказано было без энтузиазма, но Женьку это не смутило.
— И зря не ожидал! Я тут частенько бываю.
— Пивком балуешься?
Он захохотал.
— Посадочные места использую.
До меня смысл этих слов дошел не сразу. Я смотрел на Перепахина. Передо мною сидел тот же, несомненно, пожилой человек, которого я искал несколько дней назад и встретил при необычных обстоятельствах, и все-таки иначе чем Женькой я его про себя именовать не мог. Ничего взрослого этот коротышка с брюшком за жизнь не приобрел. В лице его так и играла полудетская простота, называемая теперь по-научному инфантилизмом, и она обезоруживала, пожалуй, не меньше, чем наглость Вадима.
— А ты по пиву?
— Я, собственно, случайно здесь.
Женька продолжал смеяться.
— Случайность есть осознанная необходимость.
«Неужели и этот философ? Впрочем, у нас доморощенных мудрецов хоть пруд пруди».
— Ты думаешь, что случайность, а таинственная рука вела нас закономерно и неуклонно, как в алгебре. Один вышел из точки A, другой из точки C, а встретились в пивной точке B, читай, в баре. Каков Киселев! Алгебра на все времена!
— Ну, если алгебра, — невольно и я улыбнулся.
— Признаешь? Закономерно?
— Предположим.
— И отметим.
Он запустил руку куда-то в глубины своего потрепанного пальто и извлек бутылку белой.
Я прикрылся обеими руками.
— Ради бога! Ты же видишь, я пиво пил.
— Ну и что? Как батюшка на вопрос ответил? «Вы что будете пить, отец? Вино или водку?» — «И пиво, сын мой, и пиво».
И, повернувшись к стойке, крикнул:
— Веруня! Мое почтение! Сполосни нам стаканчики, не откажи.
Неопрятная женщина ответила ленивым голосом:
— Вы же знаете, Евгений Иванович, у нас не положено.
Засиженное мухами соответствующее предписание действительно украшало стену: «Приносить и распивать… запрещено».
— Ну и что? — активно возразил оживленный предвкушением Женька. — А ты положи. На тарелочку огурчик. Или сырок.
— Не положено… — Он снова развернулся в мою сторону. — Знаешь анекдот? Встретились двое. Один говорит: «Давай выпьем». А другой: «Мне врачи запретили». А тот: «Ну и что? Мне тоже запретили. А я дал четвертак — разрешили!» Слыхал? Ха-ха-ха!
— Я не хочу пить, Женя.
— Обижаешь! Обижаешь. Я ведь из училища чудом спасен. И Веруню обижаешь. Она женщина славная. Видимо, уже стеклотару приготовила. Правила нарушает, а дело доброе делает. Ради нас. Такого человека обижать нельзя.
Через минуту стаканы были у него в руках.
— Так и быть. На донышко, каплю. Символическую.
Действовал он, однако, вполне реалистично, и я едва успел удержать его руку над стаканом.
— Я не буду пить, Женя.
— Ну, смотри. Была бы честь предложена, — уступил он ворчливо. — Дело хозяйское. Хозяин — барин… Надеюсь, мне позволишь?
— Хозяин — барин, — повторил я его слова.
— Вот-вот, — тут же снова приободрился Женька. — Я сегодня в барыше. Шедевр настенный завершил. В детском садике. Так сказать, Дионисий двадцатого века. И потому имею право.
И Перепахин с удовольствием проглотил свою отнюдь не символическую дозу.
«Имею право…» Ведь так и Вадим говорил. Да что они, с ума посходили? Один на полпути, другой явно у финиша…»
Я отчетливо видел склеротические жилки на Женькином лице, издали создающие обманчивое впечатление бодрого румянца.
— Хорошо пошла, — сказал он, закусывая плавленым сырком. Огурчика у Веруни не нашлось. — Ты не представляешь, брат, как хорошо на воле. Когда на меня оковы надели, свет в овчинку показался. Песня вспомнилась: «В тюрьме он за правду страдал». Вот так поем, а не вникаем. А на собственной шкуре другой переплет.
— Вряд ли тебе грозило что-то серьезное.
— Ха-ха! Не скажи!
— Ты же не был виноват.
— Это игра судьбы. Граф Монте-Кристо тоже не был…
— Графа враги погубили. А у тебя…
— Графа друзья погубили, — перебил он.
— Разве у тебя есть такие коварные друзья? — спросил я в шутку, но вообще-то шутить не хотелось… Хотелось распрощаться побыстрее.
— А про это никому не дано знать. Что ж с милиции спрашивать? У них служба. Улики, отпечатки всякие. Вот и доказывай, что ты не верблюд. Кто тебя услышит, разве жена, да и то если не на базаре, а близко.
— Однако услышали.
— Потому и пью.
И он быстро плеснул в стакан новую порцию.
— Да, брат, перетрусил я. Не скрою. А как не струсить? У меня дети. Сам видел.
Я вспомнил, что дома он храбрился. Ради детей, наверно. А Перепахин все продолжал свое:
— И вообще пережил. По-твоему, это пустяк, человека мертвым увидать? Да еще какого! Сергея. Вошел я к нему и обмер. Где стол был яств, там гроб стоит. Вздрогнешь, ничего не скажешь…
«Монеты это, однако, взять ему не помешало».
— Полная неожиданность! Да ты сам представь, насколько я потерялся. Коньяк на столе стоял, а я ноль внимания. Ну, да я, правда, коньяк не уважаю. Я человек простой. Мне он на желудок плохо действует. Другое дело — водочка…
— А портвейн? — спросил я, вспомнив слова тети Поли о бормотухе.
— Портвейн? Портвейн тоже вещь серьезная. Как говорится, трус не играет в портвейн.
— Значит, с коньяком он не тебя ждал?
Хохотал он поминутно, но на этот раз расхохотался особенно.
— Ну, даешь стране угля! Перепахина, Коля, с коньяком не ждут Не та фигура.
Это он произнес с некоторой грустью, моментально сменив мажор на минор. Я не возражал.
— Но ты бывал у него?
— Он, Коля, был единственный, кто меня как человека воспринимал.
— А говоришь, с коньяком не ждал.
— С коньяком не ждал. Мы с ним чай пили. Я к нему не угощаться ходил. Я вообще христарадничать не люблю. И у меня своя гордость есть. Как видишь, мой стакан граненый, но пью я из своего стакана.
— Интересно все-таки, кого он ждал.
Но Перепахин придерживался противоположного мнения.
— Да что интересного, что? Смерть-то установлена точно — инфаркт. Значит, никакого отношения… И все дела. Да и не пришел тот человек, как пить дать.
— А ты как там оказался?
— Захотелось — и пошел.
— Тебя Полина Антоновна у пивной видела.
— Ну и что? Я свободный художник. Был в пивной, а потом к другу пошел.
«Что все-таки их связывало?» — думал я с недоумением.
— О чем вы обычно беседовали?
Перепахин откликнулся охотно.
— Ну, по мелочам не толковали. Сплетни разные… Больше по вопросам бытия. Об НЛО, о хилерах филиппинских. Да мало ли о чем!
— Ну и как НЛО?
— Тоже не веришь? За облака считаешь?
— А ты?
— Это, брат, аксиома. Вопрос в другом — наблюдают или влияют?
— К чему ж пришли?
— Я считаю, влияют. И может быть, даже основатели.
— Чего?
— Да нас с тобой.
— И Сергей так думал?
— Он нет. Все-таки он в научном стойле овес жевал. А там народ зашоренный.
— А ты раскованный?
— Я человек, Коля. Мне обидно от обезьяны происходить, а тем более если она сама из мутной водички зародилась…
Тут я с опаской подумал, что тема эта для выпившего человека неисчерпаемая, и попытался притормозить Женьку.
— Неужели и Сергей зашоренный был?
— А куда денешься? Наука… Кафедра, доктора, кандидаты… С кем поведешься…
— У него аспирантка бывала.
— Видел ее?
— Пришлось.
— Заметил?
— Что?
— На Наташку, как две капли… Заметил?
— Если честно, сам бы не догадался. Я-то ее больше тридцати лет не видел или около того.
Перепахин приподнял бутылку, прикинул, сколько осталось. Потянулся было к стакану, но задержался, поставил бутылку и стал настойчиво затыкать ее пробкой, которую вытащил из кармана. Пробка от большей бутылки не поддавалась.
— Вот и молодец, — одобрил я.
Странно, но после того, как он выпил, Женька стал потише.
— Скучно с тобой. Не побеседуешь. Все ты сбиваешь. То про одно, то про другое. Зачем ты про Ленку спросил?
Он все-таки был пьян, и изрядно. Ведь я ничего не спрашивал.
— По-моему, я только упомянул, а ты откликнулся сам.
— Ну и что?
Это «ну и что?» он произносил не реже, чем Вадим «ладно».
— Ничего.
— А врешь зачем?
Я был поражен.
— Я вру?
— Конечно. Ты с Сергеем дружил?
— Еще бы.
— Вас же водой было не разлить.
— Не понимаю.
— Врешь. Не мог ты про Наташку не знать, а говоришь — тридцать лет, тридцать лет…
«Никто никогда не будет любить тебя так, как я…»
Неужели?
— Ты что-нибудь знаешь?
Перепахин вместо ответа принялся снова за бутылку Наконец он водворил пробку в горлышко и опустил бутылку туда, откуда и достал, в недра ободранного пальто.
— Не по мне эти фокусы. Ты не знаешь, что я знаю, что ты не знаешь…
— Сергей был влюблен в Наташу?
— Все может быть, все может быть, ну а пока, — ответил он Сергеевой поговоркой и добавил: — Пока!
И встал с не меньшей поспешностью, чем Вадим.
— Постой! Куда ты заспешил?
Он, не садясь, наклонился через столик.
— А ты пить со мной будешь?
— Зачем тебе это?
— Нуждаюсь. Душа требует общения.
Однако такого рода общение я позволить себе не мог.
— Ну, что поделаешь…
— Тогда пошел…
Я не понял, он пошел или я «пошел». Оказалось, что он. Женька, чуть качнувшись, шагнул в сторону ступенек.
— Вперед и выше!..
— Погоди.
Мне показалось, что он может упасть на этих неудобных ступеньках. Но Женька быстро прошагал вверх, и я догнал его уже на улице.
— Ты куда? Я провожу тебя.
— До вытрезвителя?
— Зачем он тебе?
— Потому что я алкоголик, — ответил он с исчерпывающей полнотой.
Что было мне сказать! Согласиться или возразить — одинаково бесполезно. Я чувствовал его твердое намерение пить до той точки, когда человека подбирают там, где ему окончательно отказали ноги.
— Пойди домой, поспи.
— Да я встал час назад. И при деньгах я сегодня. Дома у меня все отберут. Нет уж, только на линию огня!
Шагал он быстро и этим сохранял равновесие. Я с трудом поспевал за ним. А он как шел, так и остановился. Схватился за дерево и прекратил свое поступательное движение. Я проскочил по инерции вперед и вернулся.
— Ты зачем за мной ходишь? — спросил Женька недружелюбно.
— Думал проводить тебя домой, но если не хочешь…
— Не хочу.
— А мне бросать тебя в таком состоянии не хочется.
Женька захохотал.
— Прекрасное состояние. Прекрасное… Мне декабрь кажется маем… Отчего, как в мае, сердце замирает? Отчего? В молодости от любви. В старости от спазма кор… кр… коронарных сосудов. Ну и что?
— Пойдем домой.
Но он не слушал меня.
— Конечно, Сергей любил Наташку. Жутко. Тогда у него сердце еще замирало. А теперь замерло. А ты врешь, что не знал.
— Зачем мне знать? Не говорил он мне. Сам-то ты откуда знаешь?
— Я знаю.
Конечно, разговор с пьяным Перепахиным развивался по своим непредсказуемым законам. Скорее всего его следовало прервать, но я продолжал. Не потому, что рассчитывал узнать нечто неожиданное, а просто никак не решался оставить его одного на улице.
— Ты же не учился с нами. А потом она уехала. После смерти Михаила. Это я помню. Ты и Михаила знал?
Он оторвал руку от дерева и утвердился на ногах.
— Кого?
— Михаила.
— Такого не знал.
Это было явное вранье. Сергей не мог не познакомить его с Михаилом. Может быть, устыдившись, Женька отвернулся.
— Женя! Пойдем домой.
— Вот привязался, как пьяный к электричеству… И что тебе нужно? Зачем мне твой Михаил? А Наталью я знал очень просто. Ее родня у нас во дворе жила. А она у родни… Очень просто.
Действительно. А еще: мир тесен.
— И дочку ее, Лену, я знаю.
— А зятя?
Я спросил сам не знаю почему. Как-то автоматически.
Но Перепахин отреагировал почти трезво. Правда, чтобы ответить, ему пришлось снова опереться. На этот раз плечом.
— Кого еще?
— Вадима.
— Хлюст.
«Я или Вадим?..»
— Ты-то откуда его знаешь?
«Кажется, все-таки он хлюст, а не я».
— Обращался он ко мне…
Говорить не хотелось, я считал, что Женька в его состоянии все равно сути дела не поймет. Но я ошибался.
— Вот хлюст.
— Почему?
— Раз обращался. Он так просто не обратится, а потому что хлюст.
Слово это ему положительно нравилось.
— Он хотел, чтобы Полина Антоновна их с Леной на квартиру пустила.
— И пустит.
Уверенность эту я отнес на счет опьянения.
— Отказала она.
Женька протянул руку и повел пальцем у меня перед лицом.
— Не верю.
— Сказала она.
— Кому?
— Мне.
— Ха-ха-ха! А ему не скажет.
— Да почему?
— Потому что хлюст.
Тут мне пришлось его поддержать, вернее, снова прислонить к дереву, от которого он неосторожно отделился.
— Чем же он ее запугать может?
— За-пу-гать? — Женька так и произнес это, по слогам, и с каждым слогом лицо его менялось, становилось отчужденным и… более трезвым. — А кто сказал «запугать»? — спросил он, выпрямляясь. — Я сказал — хлюст.
Я почувствовал предел.
— Слушай… Бог с тобой. Ты пойдешь домой?
— Нет.
— Тогда держись покрепче за дерево. Я ухожу.
— Уходит от берега ястреб морской, а девушка машет рукой… Я не говорил запугать. Просто что-нибудь скажет… И все дела. Седина в бороду, а бес в ребро.
— Какое еще ребро?..
— Например, ребенок у Ленки будет.
Я ахнул.
— Сергеев?
— Она на маму похожа…
Тут я просто схватил его за края расстегнутого пальто.
— Что ты знаешь?
— Что? Все.
— Про ребенка!
— Ребенка не будет.
Я разжал руки.
— Ну, Женька…
— Коля! Поезжай на море.
«И этот меня отправляет», — подумал я с досадой, не подозревая, что слышу это пожелание сегодня не в последний раз.
Он сделал неуверенный шаг в сторону от дерева, «закрепился» в этой позиции и вдруг зашагал быстро и почти устойчиво, потому что сумел на ходу обернуться и крикнуть мне:
— А Михаила я не знал.
Глядя ему вслед, я с сожалением думал, зачем так не вовремя сошел с поезда и попал в этот перепутанный клубок трудных и ненужных мне отношений. И еще испытывал естественную жалость к пожилой женщине, чьи последние, может быть, дни будут отравлены, чем-то бездушным, корыстным и нечистоплотным…
Вспомнился и Михаил, от которого так упорно, с пьяной бессмысленностью открещивался Женька. «Его-то жена жива?»
Эту женщину я не знал совсем. Появление ее на похоронах Михаила было полной для нас неожиданностью. Правда, он был старше нас с Сергеем, и в армии служил, и даже конец войны на фронте захватил. Впрочем, в числе героев он себя никогда не заявлял. Тогда героев войны было много, и никто особенно не выносился. Считалось, что долг выполняли, и вернувшиеся даже какую-то неловкость испытывали перед вдовами и сиротами, чьи мужья и отцы полегли навеки. Само слово «ветеран» не вошло еще в употребление. Короче, Михаил был для нас просто парень постарше, который все еще ходил в гимнастерке да носил конспекты не в портфеле, а в старой полевой сумке.
И все-таки «постарше» значение имело. И в личных делах он обладал опытом, нам незнакомым, и давал понять, что опыт этот серьезный.
Впрочем, в повседневном поведении Михаила опыт этот заметно не проявлялся. С девушками он держался простого, шутливо-снисходительного тона, особенно на вечерах с танцами: куда уж мне, старику?.. Разве что на «белое танго» откликался, а сам особенно не активничал, больше с ребятами, компанейски.
И потому очень все удивились, когда после его трагической смерти на похороны неожиданно приехала симпатичная молодая женщина с мальчишкой лет шести и оказалась законной, расписанной в загсе женой Михаила. Наверно, в другой момент нас бы ее появление немного смутило. Как-никак Михаил, парень в нашем представлении прямой и мужественный, в этой истории несколько проигрывал. Выходит, стеснялся простой, хотя и милой кассирши из сельского раймага. Нет, не тот был случай, чтобы перемывать косточки. Встретили вдову с сыном заботливо и старались, понятно, виду не показать, что даже не подозревали о ее существовании. Да и какие могли быть претензии? Ведь, судя по всему, Михаил после окончания учебы собирался с семьей жить, как положено.
Собирался… Но жизнь распорядилась по-иному. А вскоре исчезла с нашего горизонта и Наташа, которая в связи с болезнью матери перевелась из университета в пединститут в родном городе и уехала. Для меня это было событие обыденное, а Сергей, как теперь я узнал, страдал. Но тогда я не знал ничего.
И вот через много лет обстоятельства свели Сергея с дочкой Наташи, и возникли какие-то последствия, которые и меня краем коснулись, пусть не впрямую задели, но коснулись.
Впрочем, главное было впереди, в самом неотдаленном будущем. Пока я выслушивал невнятные и противоречивые высказывания Перепахина, нечто уже произошло.
Когда я позвонил в дверь Полины Антоновны, она не ответила.
«Вышла», — подумал я и открыл своим ключом.
Но Полина Антоновна была дома.
— А… это ты, — сказала она, будто удивившись, и прошла мимо, на кухню.
— Вы ждали кого-нибудь?
Она остановилась, повернулась.
— Дождалась уже…
Я присмотрелся. Казалось, что за то короткое время, что минуло с утра, Полина Антоновна постарела. Да, несмотря на возраст, как я уже говорил, именно возраст был в ней чертой неопределяющей. Есть такая порода людей. И их годы, разумеется, видны, но не на них обращаешь внимание. Заслоняет годы уверенно текущая жизнь. Увы, свой час неизбежно приходит к каждому. Дрогнет что-то внутри, сдаст пружина, и откроется исподволь подбиравшаяся старость. Вот и увидел я вдруг вместо пожилой женщины старуху.
«Отыгралась-таки смерть Сергея…»
Мой взгляд меня выдал.
— Что, видно, как расквасилась?
— Вы не приболели? — откликнулся я штампованным откликом.
— Раздевайся, — кинула она.
Снимая плащ, я думал, что делать, продолжать допытываться или повременить. Решил не настаивать, сообразуясь с ее характером. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Полина Антоновна сама зашла ко мне в кабинет. Села в кресло напротив.
— Когда собираешься, Коля?
Что я мог ответить?
— Видно, пора.
Она кивнула одобрительно.
— Правильно. Погода-то уходит.
«Дался ж им всем этот солнечный юг!»
— Сегодня пойду на вокзал. А вы… как?
— Я в порядке, Коля.
Еще вчера я бы с ней согласился, хотя бы отчасти. Но не сейчас.
— Мне кажется, что сегодня…
— Похуже, Коля, похуже, — закончила она мою мысль с присущей ей прямотой. — Но ведь с ярмарки еду. Никуда не денешься.
— Можно и с ярмарки… не спешить.
— А если подгоняют?
Это уже давало право на прямой вопрос.
— Что случилось, Полина Антоновна? Произошло что-то?
Она вздохнула.
— Что произошло?.. Произошло. Вчера я тебе одно говорила, а сейчас другое скажу. Перерешила я.
— Что?
— Насчет комнаты.
«Вот тебе и Женькин пьяный бред! Вот тебе и Вадимово фанфаронство!»
— У вас был Вадим?
— Был.
Отвечено было так, что к расспросам не поощряло.
— Мне не нужно знать подробностей?
— Зачем они тебе? Я суть говорю — пусть живут.
Я чувствовал глубокую растерянность.
— Что это ты? Поник…
— А вы как же? С ними?
Она повела головой.
— Нет. Я, как решила, к старикам уйду. Пропишу и уйду. Пусть через исполком хлопочут.
Я молчал, и она добавила:
— Может, и в самом деле доброе дело сделаю, семью налажу.
Но ни уверенности, ни даже надежды в словах этих не прозвучала.
— Да… — только я и произнес.
— Вот и все, Коля. Спасибо тебе за хлопоты, за поддержку, и поезжай. А то я тебя из колеи выбила… железнодорожной.
Я в ответ улыбнулся чуть-чуть.
— Огорчен я, Полина Антоновна.
Во взгляде старой женщины промелькнула признательность, грустная признательность человека, который за сочувствие благодарит, зная, что сочувствие это ему не поможет.
— Не ломай голову, Коля. Ты свое дело сделал. Вот и пора на отдых. Там быстренько и забудешь. И я довольна буду. Огорчения жизнь сокращают. Хватит и Сергея.
«О чем это она? Ну какие у Сергея огорчения были, чтоб до могилы довести… А ведь были какие-то. Видно, с ними и связано… Что только?»
— Я, конечно, поеду, Полина Антоновна. Я и сам чувствую, как в чем-то помехой стал. Но перед отъездом… Можно один вопрос?
— Трудный?
— Трудный.
— Ну, спрашивай.
— Этот… хлюст, — сорвалось с губ перепахинское словечко, — Вадим то есть, он пригрозил вам?
Старуха взглянула на меня прямо и твердо, тем взглядом, что я еще с войны помнил, когда она, мужа и сына потеряв, явилась сюда претерпевшей, но не сломленной духом, чтобы взять заботы о племяннике.
— Угрозой, Коля, меня не возьмешь.
Сомневаться в ее словах я не имел оснований.
— Простите, Полина Антоновна, негодяи-то на все способны.
Она наклонила голову.
— Мне-то чего бояться?..
Получалась бестолковщина. Если и предположить, что прибег Вадим к грязной сплетне, марая имена Лены и Сергея, и даже о ребенке ляпнул (а вдруг и сам от ревности взбеленился и поверил!) — это не угроза все-таки. Внука Полина Антоновна, конечно, отвергнуть не могла, внук-то — радость. Ошеломление ее в таком случае совсем по-другому выглядеть должно. Откуда же подавленность, смирение, столь на нее непохожее?
Я хотел спросить, чем же он убедил ее, а спросил:
— Значит, он убедил вас?
— Убедил.
— Ну, что ж, Полина Антоновна, вам виднее, как лучше поступить, но если вы вынуждены действовать не добровольно…
— Не беспокойся.
Однако я закончил:
— На всякий случай, Игорь Николаевич вас знает. К нему можно обратиться.
До сих пор она сидела понуро, апатично, но имя Мазина будто встряхнуло ее.
— Нет. Вот уж это нет. Совсем не нужно.
— Я сказал, на крайний случай.
— А я тебе говорю, ни на какой.
Мне стало неловко своей назойливости.
— Воля ваша. Буду собирать чемодан.
Сначала я хотел уйти сразу, с чемоданом, потому что был уверен, что уеду без труда ближайшим проходящим поездом. Но Полина Антоновна отсоветовала:
— Не спеши с вещами. Осенью много поездов отменяют. Узнай сначала.
Но попытки связаться со справочным вокзала успеха не принесли. То было занято, то не отвечали.
— Ну и не беда. Сходи сам посмотри. Выбери, что поудобнее.
Теперь, когда я решился ехать, она, казалось, успокоилась немного и говорила со мной деловито, обычно.
Признаться, взять вещи и уехать немедленно было очень соблазнительно, однако я уступил, решил послушаться Полину Антоновну, то ли побоялся проявить невоспитанность, то ли еще что повлияло…
Да, повлияло, конечно. Оставив чемоданчик и выйдя на улицу, я не на вокзал напрямик отправился, а пошел в управление, чтобы повидать все-таки перед отъездом Игоря.
Собственно, умнее было сначала созвониться, хотя бы из автомата. Но я лишний раз убедился в своей неорганизованности, когда, перерыв карманы, осмотрел бумажник, пролистал паспорт и записную книжку и не нашел визитной карточки Мазина с номером его телефона. К счастью, нужное мне здание конструктивистского типа, сооруженное до войны, я знал хорошо.
Дежурный направил меня в бюро пропусков, откуда по внутренней связи меня соединили с Игорем. Он оказался на месте.
— Прости. Минутку.
Я слышал, как он говорит по другому телефону.
— Да, Николай. Где ты?
— Я хотел бы проститься.
— Сейчас?
— Ты очень занят?
— Чтобы пожать руку, времени хватит. Но, может быть, тебе нужно немножко больше?
Он все понимал.
— До вечера подождать можешь?
Это вносило поправку в мои намерения, но я сказал:
— Могу.
И хотя ехать потом, поздно вечером, на вокзал не хотелось, я это неудобство решил преодолеть.
— Буду, когда скажешь.
— Ровно в девять. Запиши адрес.
Будто он знал, что я не нашел визитку!
— Жду!
И первым повесил трубку.
До вечера времени оставалось немало. Я побывал на вокзале и выяснил, что около часу ночи проходит поезд, который меня вполне устраивал. В кассе заверили, что на ночные поезда билеты практически всегда есть, и, следовательно, я мог прямо от Мазина отправиться на вокзал и утром увидеть в окне вагона море.
«Останется только грусть по безвременно ушедшему Сергею и… беспокойство, а как там Полина Антоновна…»
На лестничной площадке Мазина я стоял чуть раньше девяти, минут за пять. Стоял, собираясь позвонить, а лифт, на котором я приехал, тем временем вызвали вниз, он опустился и вернулся, привезя Игоря.
— Гость встречает хозяина? — спросил он и посмотрел на часы, сдвинув рукав форменного кителя с подполковничьими погонами. — Давно ждешь?
— Я с опережением графика. Минимальным. Еще не звонил.
— А там нет никого. Я все еще в одиночестве. Так что нам никто не помешает.
И он достал ключи из кармана.
— Прошу.
Я вошел в квартиру.
— Есть будешь? Или кофе?
— Лучше кофе.
— Давай кофе. Снимем усталость немного, а там видно будет. Располагайся поудобнее.
Расположиться он предложил мне в комнате на диване, а сам занялся приготовлением кофе на кухне, откуда, впрочем, его голос был хорошо слышен.
Говорил он что-то полушутливое, малозначительное.
— Из всех достижений нынешнего быта с двумя никак не могу смириться с комнатными тапочками и питанием на кухне. Я вырос в галошах и в коммунальной квартире. Пять соседей, каково? И, между прочим, хорошо жили. Никто мясо из чужого борща не воровал. Но ели, как люди, за домашним столом. Хотя бы на кровати сидя. И в гости друг к другу ходили. Смешно, правда? Из комнаты в комнату. Почему бы на кухне не собраться? Она, кстати, была вместительная… То, что жили дружно, я думаю, неудивительно. Грызутся обычно там, где жильцов мало. Двоим всегда теснее, чем семерым. Недавно у нас забавный случай был — двое соседей в кухне мелом демаркационную линию провели. От середины плиты до нейтральной зоны у туалета.
— Тебе и таким заниматься приходится?
— Один границу нарушил, вот и пришлось.
— Ну и что же? — спросил я невольно, хотя кухонные дрязги меня интересовали меньше всего. Однако «квартирный вопрос» давил, видимо, на подсознание.
— Ерунда. Если тебя уголовные истории интересуют, я могу классику предложить. Подарю книжку «Сто лет криминалистики». Скоротаешь время в поезде.
Он появился с дымящейся кофеваркой.
— Я люблю горячий. А ты?
И, едва я взял чашку в руку, спросил серьезно:
— Ну, как ты оставил Полину Антоновну?
А я не знал, с чего начать!..
Вспомнил, как зашел за чемоданчиком. Говорилось «До свиданья», а подразумевалось «Прощайте», потому что когда же я теперь и зачем в город приеду? И она это понимала и даже слезу смахнула, во всяком случае, как-то неловко провела пальцами по глазу. «Счастливо тебе, Коля».
И сделала попытку улыбнуться. От этой попытки полуулыбки защемило сердце тогда и сейчас снова.
— Ты тоже о ней думаешь? — спросил я Мазина.
Он улыбнулся.
— Не будем хитрить даже из вежливости. Ты не мог прийти просто так. Я не король, а ты не посол дружественной державы, чтобы наносить обязательный прощальный визит. Щадя мою занятость, обошелся бы телефоном, верно?
— Верно. Не хотел на твое время покушаться.
— А раз уж покусился, пользуйся. Что принес? Факты? Подозрения? Опасения?
Своими вопросами он открывал передо мной все двери, а я не знал, в какую идти.
— Игорь, я понимаю, ты профессионал, а я дилетант и обыватель с соответствующим мышлением, вытекающими из него домыслами и тому подобное.
— Друг Аркадий, не говори красиво!
Мне стало неловко.
— Хорошо. Речь идет в первую очередь об опасениях. Но лучше я изложу по порядку… Сам будешь судить. Может быть, все это пустяки.
— Излагай коротко, но не упуская важного. А потом посмотрим, пустяки или не пустяки.
Я и попытался сказать коротко, но, не имея опыта, говорил длинновато. Однако Игорь меня не прерывал и не поторапливал. Он умел слушать.
— Ну, вот, — закончил я. — Пустяк?
— Нет, — откликнулся он кратко.
— Но не по твоему серьезному ведомству, надеюсь?
— О ведомстве говорить рано. Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
— Это цитата?
— Статья 108 УПК РСФСР.
— Прости невежество, а что такое преступление с точки зрения закона?
— Общественно опасное деяние, посягающее на личность и права граждан, — ответил он без насмешки.
— Посягающее на личность и права… Не расплывчато ли?
— Почему же? Суть преступления ясна.
— А последствия? Положение жертвы?
— Мы говорим о потерпевшем. Это лицо, которому причинен моральный, физический или имущественный вред.
— Спасибо за науку.
— Не иронизируй. Ты не представляешь, какой дефицит у нас юридических знаний, самых азов. Но будем считать, что ты теоретическую подготовку прошел. От меня ждешь практики?
— Судя по теории, тебе здесь делать нечего.
— Чудак. Думаешь, я ищу возможность благовидно уклониться? Я-то первый неладное почуял, еще с выключенным телефоном, понимаешь?
— Ну, здесь я связи не вижу.
Вопреки ожиданию, он согласился.
— И я. К сожалению.
— Почему?
— Потому что она может обнаружиться неожиданно, а к неожиданностям лучше быть готовым заранее. Однако к конкретной ситуации. Все, как в жизни, а не в кино. В кино важное за кадром долго не удержишь, а в жизни можно. Но пойдем шаг за шагом. Главное, что произошло с Полиной Антоновной? Я тебя понимаю. Я сам вижу, что она человек на прочном фундаменте, не из тех, кого легко с позиции сдвинуть можно. И вдруг капитуляция. Можно это слово применить?
— Такое у меня впечатление.
— А причина — загадка. И открывать она не хочет. Почему? Связано прежде всего с Еленой. Ты обратил внимание на такое противоречие: старуха не скрывает доброго к ней отношения, а с другой стороны, именно ее пустить к себе не хотела. Елену, а не малоприятного Вадима. Обратил?
— Еще бы!
— Почему? Что на поверхности? Напрашивается и подсказано? Отношения с Сергеем. «Бес в ребро»? Согласен, бывает. Полина Антоновна не знала?
— Это исключено.
— Уверен?
— Абсолютно.
— Ну, не горячись. Сам-то о Сергее и Наталье не знал. Но я с тобой согласен. Очень маловероятно, что было такое ей неизвестно. У женщин глаз совсем другой, чем у двадцатилетнего недоросля. Я тебя не обидел?
— Будем считать, что я стерпел.
— Молодец. За это я поддержу твою уверенность. Но все-таки. Предположим сначала, что не знала. Конечно, разочарование в Лене, различные эмоции, но где же правда?
— Да я ж тебе говорил…
— Говорил. Я прокручиваю известное. Неизвестное-то неизвестно.
Усмехнулись оба.
— Нет, Коля, это не вундерваффе, Полину Антоновну такой сплетней не свалить. Да и Вадим, поверь мне, не тот тип, чтобы так уж себя в грязь втаптывать.
Я допил кофе и поставил чашку на блюдце. Мазин смотрел на меня иронично.
— Испытываешь некоторое разочарование в профессионале? Что поделаешь? Планету в нашем деле на кончике пера не откроешь. Искать приходится. И есть, между прочим, простые способы поиска. Вот что я тебе предложу. Поговори с Леной.
Конечно, такая мысль мне и самому приходила в голову. Но слишком трудно даются мне подобного рода разговоры. И опыт знакомства и первого общения с Леной не воодушевлял. Так я и сказал Мазину.
Он вздохнул только.
— Понимаю тебя, а жаль… Но есть еще один вариант.
Я обрадовался тому, что он не настаивает. Между прочим, в этот момент мы оба как-то позабыли, что в прихожей у него дожидается мой собранный в путь чемодан.
— Говори. Если подойдет, я охотно.
— Наталья, — сказал он одним словом.
— Ну!.. Однако… Не ожидал.
— Да я и сам только что придумал. Но резон вижу.
— Я-то и знал ее мало.
— Но она нашего поколения человек. О чем поговорить, у вас найдется.
— Она может всего и не знать.
— Допускаю. Но что-то знает. Может быть, не сенсационное, но…
Я не дал ему договорить, поспешил с репликой:
— Какие в этой истории сенсации!
— Не торопись с оценками. — Мазин предостерегающе приподнял руку. Сенсации потом. А пока обыкновенный доверительный разговор.
— Я, Игорь, и предлога к нему не вижу.
— Смерть Сергея предлог достаточный. Плюс чувства пожилого человека, заглянувшего в родные края. Короче, для начала хватит с избытком.
Так он думал, а мне разговор с Наташей по-прежнему виделся смутно.
— И все-таки хотелось бы задачу свою представлять четче.
— Да о чем ты! Заехал на пару дней в родной город. Обычно. А события необычные. Попал на похороны друга. Неожиданно познакомился с дочкой. Дневник попал в руки. Вот и к ним в городок заехал. Может быть, и по другим делам. Но Наташу не повидать уже не смог. Это же естественно. Стопроцентная «легенда» и правда, между прочим. Дальше все пойдет само по себе. Женщины любят вспоминать молодые годы, а поклонников особенно. Сиди и слушай. Так или иначе мостик с нынешним днем возникнет. И о Лене речь пойдет, и о ее муже.
— Если в самом общем плане, что толку?
— Самый общий тоже на частности опирается. Иногда непредвиденные, но любопытные.
— Например?
— Все внимательно слушай, чтобы потом мне передать так же обстоятельно, как сегодня рассказывал.
Последняя фраза была приятной.
— Послушай, Игорь! Это для меня важно. Когда я говорил, я не намешал лишнего? У меня было ощущение, что я нагромождаю незначительные подробности…
— Нет, нет! Наоборот. Две из незначительных, как ты выразился, деталей меня весьма заинтерсовали.
— Какие? Ты можешь сказать?
— Пожалуйста. Первая. Полина Антоновна не хотела, чтобы ты обращался ко мне за помощью. — «Угораздило же меня… Подвела врожденная скрупулезность. Еще подумает о старухе бог знает что…» — Ну, это так понятно по-человечески. Ты в ее глазах фигура, а собственные заботы мелочь. Она человек очень скромный.
— Предположим, — кивнул Мазин без особой уверенности. — Однако тебе запомнился ее отказ.
— Я старался не упустить ничего.
— И правильно сделал. Давай, я налью еще кофе.
Я провел ладонью по пиджаку.
— Хватит, пожалуй. Сердце… Лучше вторую деталь.
— Ну, если ты бережешь сердце, то вторая деталь… Впрочем, это не совсем связано.
— Что?
— Вторая деталь и то, что тебя, возможно, взволнует. Деталь такая: почему Перепахин открестился, как ты выразился, от Михаила. Ведь он знал его?
— Меньше, чем меня или Сергея, но знал.
— Почему же?
— У меня одно объяснение…
— Пьяный бред.
— Да, он здорово перебрал.
— Здорово?
Мазин смотрел очень серьезно, а я не мог понять этого повышенного интереса к степени опьянения Женьки Перепахина.
— Ну, если хочешь, в стельку, в дрезину или как там еще… Да ну его… Что ты сказать-то хотел? Волнующее.
— Да о нем же. Перепахине. Как тебе показалось, он в своем состоянии мог что-нибудь волнующее совершить?
Я по-прежнему не понимал его.
— Смотря что…
Тогда Мазин достал из внутреннего кармана небольшую белую карточку и протянул мне. Я прочитал:
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Членский билет». И ниже: «Фамилия: Перепахин. Дата вступления в члены общества — 25 января 1982 года». И под этими словами: «Выбыл навеки», — и сегодняшнее число.
— Что это? — спросил я.
— Ты же видишь… Членский билет Перепахина.
— Слушай, Игорь…
— Да, да, понимаю тебя. Только ответить исчерпывающе трудно. В конце дня, перед самым моим уходом я узнал, что на набережной у одного из спусков к воде мальчишки подобрали старое пальто. Во внутреннем кармане была пустая бутылка из-под водки и этот билет. Они притащили пальто в милицию, потому что место такое, у самой воды…
— И ты думаешь…
— Ну, я пока о многом думаю… И не придумал ничего. А мальчишки сказали: «Алкаш утонул».
Я туповато смотрел на белый картон с красно-синим флажком.
Утром я вместо главного вокзала отправился на пригородный. За завтраком Мазин, у которого я и заночевал, сказал мне спокойно:
— Помнишь, я тебе УПК цитировал? Дело возбуждается только в тех случаях, когда имеются достаточные данные… Поэтому не чувствуй себя поднятым по тревоге. Данные пока скудные. Может быть, этот алкоголик уже дома отсыпается.
Сказано это было, конечно, утешительно. Мы знали, что Перепахин дома, во всяком случае, не ночевал. Впрочем, жена его по этому поводу особого беспокойства не проявила. Как сообщили Игорю, на вопрос о местопребывании супруга она ответила:
«Спросите полегче что-нибудь. Деньги у него завелись».
Это означало, Перепахин запил и неподконтролен.
«Он, когда пойдет куролесить, голову теряет, не то что одежу».
«У вас нет оснований опасаться за его жизнь?»
Тут она утратила сдержанность.
«А за меня кто опасаться будет?! А за моих детей?!»
И так далее в ключе, который был мне знаком по личным впечатлениям.
Своеобразную записку Перепахина Мазин решил домашним пока не предъявлять. Тоже жалел детей. И в мое «задание» он корректив не внес.
— Конечно, бузина в огороде и родственник в Киеве — звенья одной поговорки, но не обязательно одной цепи. Давай пока тянуть каждый за свое.
Так я с прежними — повидаться, поговорить, послушать — намерениями и занял место в электричке, которая должна была быстро доставить меня в соседний город, где жила Наташа. Рабочий час уже прошел, в вагонах было свободно, и я расположился просторно, один на скамье, по движению поезда, с той стороны, где, как я помнил, было поживописнее — река, рощи, а не голая степь.
Положив саквояж на полку, я ждал отправления, собираясь продумать в пути план предстоящего разговора.
«Выйти на тему» мне, однако, пришлось гораздо раньше, чем я предполагал.
Дверь впереди раздвинулась, и в вагон вошла девушка в плаще, туго схваченном поясом, с сумкой через плечо.
Вошла Лена, и не было никакой возможности сделать вид, что я не вижу или не узнаю ее. Конечно, стремление избежать встречи было инстинктивным и неразумным, но в первый момент я почувствовал себя неуютно и пожалел, что вагон не переполнен.
Кажется, и Лена испытала нечто подобное, но и ей деваться было некуда.
— Здравствуйте, — сказала она неуверенно, останавливаясь у моей скамьи.
Пройти мимо было неудобно, мне ограничиться формальным словом тоже. Я приподнялся.
— Здравствуйте. Вы тоже едете?
Она нашлась первая.
— Нет, это вы — тоже. А я, как всегда, каждую среду. У мамы этот день свободен.
Задача моя, очевидно, усложнялась, но что было делать?.. Мы оба сели, поглядывая друг на друга несколько натянуто. Состав вздрогнул, как положено, и двинулся, медленно набирая скорость.
— Далеко собрались? — спросила Лена. — Неужели в наш городишко?
— Почему так пренебрежительно? Когда-то я любил там бывать.
— А я и сейчас люблю.
За окном тянулись старые, прочные, красного кирпича станционные строения.
— Вы ведь знали маму?
— Знал. — «Как быть? Как сказать, куда я еду?..»
И тут она протянула мне руку. То есть рука-то осталась неподвижной, на ремне сумки. Я имею в виду руку помощи.
— А почему бы вам не зайти к маме?
Мне всегда легче не хитрить. К тому же я испытал немалое облегчение.
— Признаться, такая мысль у меня была.
— Вот и чудно.
— Вы, однако, у Полины Антоновны отнеслись ко мне… не совсем гостеприимно.
Я сказал и устыдился своего злопамятства. Но она, казалось, не придала значение моему выпаду.
— У меня бывает… такое. Настроение. Простите. Мама совсем другой человек. Она мягкая.
— А вы… в отца?
Вопрос был без всякого умысла. В тот момент я еще был страшно далек от того, что узнал вскоре. Но она резко сдвинула брови.
— Мой отец тоже добрый, очень хороший человек. Просто я другая.
— Я не хотел вас обидеть.
— Я тоже. Тогда, у Полины Антоновны.
— Но почему вы не сказали, что вы дочь Наташи?
— Я думала, вы уже знаете от Полины Антоновны.
В самом деле. Я вспомнил, как в машине на мой вопрос о Лене Полина Антоновна сказала только: «Аспирантка. Сережина». А о Наташе — ни слова. Только после истории с фотокарточкой разъяснила. Почему? «Впрочем, это уже в огороде бузина. На кладбище ей не до того было. Не погружайся в детективщину, дорогой Николай!»
— Нет, она не успела.
— Вы думаете?
В словах прозвучало что-то мне непонятное. «Не поддавайся искушению искать в простом многозначительное!» — предписал я себе строго.
— Так и было.
Станционная зона тем временем кончилась, и электропоезд уже шел местностью, знакомой мне в юности. Но как она изменилась! Цивилизация повсюду потеснила природу, дороги и линии проводов по обеим сторонам сопровождали реку, а деревьев в прибрежных рощах заметно поубавилось. Зато вместо глинобитных хат повсеместно поднялись кирпичные дома, красные и белые, под шифером и железом, увенчанные замысловатыми телевизионными антеннами. Казалось, жители-умельцы уже готовы к космической связи. Правда, садов во дворах стало меньше, они уступили место теплицам под полиэтиленовой пленкой. Я скользил взглядом по этим поблескивающим на солнце химическим покрывалам, но думал, конечно, о другом.
— Полина Антоновна дала вам наш адрес?
Адрес Наташи узнал для меня Мазин, поэтому я только кивнул неопределенно.
— Вот и хорошо. Вы освободитесь к обеду?
«Даже раньше», — подумал я.
— Вполне.
— Приходите к обеду. Мама любит гостей и успеет приготовить что-нибудь вкусное.
— Спасибо. А вы подготовьте маму.
— О чем вы?
— Прошло столько лет. Она может и не узнать меня.
— А… Нет, не думаю. У нее хорошая память.
— Она уже знает о смерти Сергея Ильича?
Лена поправила сумку, которую держала на коленях.
— Нет.
Мы оба посмотрели в окно. Поезд тормозил у платформы. Прислонившись к ограде, стояли два рыболова с рюкзаками и удочками, в высоких резиновых сапогах.
— Николай Сергеевич! — услышал я вдруг. — А у вас много дел в городе?
В первый момент я подумал, что Лена разгадала мою нехитрую хитрость и подсмеивается надо мной. Но смотрела она очень серьезно.
— Нет, не очень.
— Тогда, может быть, мы сначала зайдем к нам?
Я несколько растерялся. Ведь мы только что решили иначе.
— Вы считаете…
— Я прошу вас. Я хочу, чтобы вы сказали маме о смерти Сергея Ильича.
— Я, а не вы? Это имеет значение?
— Да. Для меня.
«Ну, вот. Собственно, дальше можно и не ехать. Сойти бы на ближайшей платформе и вернуться. Ведь она фактически признала, что с Сергеем ее связывали определенные отношения. Иначе она не сказала бы «для меня». Что же еще я могу узнать? Копаться в постельном белье? А Женька? Родственник из Киева, при чем тут он?» Но вместо того, чтобы сойти, я пообещал:
— Хорошо, я скажу.
Я подумал, что Наташу, увы, мое сообщение уже не может особенно взволновать. Слишком много лет прошло с тех пор, как Сергей любил ее. Да и он ее, а не она… Что ж, если для Лены тема эта болезненна, я помогу ей. Двое пожилых людей поговорят между собой более спокойно.
— Большое вам спасибо!
— Не стоит. Ведь такой разговор все равно предполагался.
Поезд часто останавливался на короткие промежутки. За окном возникали и уходили простейшие названия типа «Платформа 672 км», и мы ехали дальше. Двигались, как положено, по расписанию, но мне хотелось, чтобы мы ехали быстрее, без остановок. Я чувствовал себя скованно. Однако вместо убыстрения движение замедлилось. Очередная остановка превратилась в стоянку. Пришлось ждать, пока нас обгонит идущий следом пассажирский поезд. Молчать было неудобно.
— Вы часто бываете у мамы?
— Каждую среду.
— Ах, да… Вы говорили. А мама у вас?
— Мама реже.
— Она больше занята?
— Она не любит Вадима.
Сказано было откровенно, но меня покоробило немного.
«Мама не любит… А дочка?.. А что знает мама о Сергее? Попал я с ними, как кур в ощип…»
— Не сложились отношения?
— Вы видели его? — спросила она вместо ответа.
— Имел честь был посредником.
— Кем? — переспросила она в недоумении.
— Посредник. Незаинтересованное лицо. Как в старину говорили, частный маклер.
— Ничего не понимаю.
— Значит, он не сказал вам. И правильно сделал. Я ведь не справился. Он сам добился.
Лена смотрела на меня, а я не знал, что говорить.
Прогрохотал за окнами обгоняющий нас поезд.
— О чем вы?
«Или я полный осел, или она говорит искренне».
— Я о квартире. Полина Антоновна согласилась сдать вам комнату.
Она как-то дернулась, то ли от толчка двинувшейся электрички, то ли возмутившись услышанным.
— Я не обращалась. Не просила.
— Обращался Вадим. Сначала попросил меня. Потом сам.
— И она согласилась?
— Мне отказала. А ему нет.
— Почему?
— Я не знаю.
И я без хитростей рассказал, что произошло.
— Простите, пожалуйста, Вадима. Если бы я знала, я бы ни за что не позволила ему вмешивать вас.
— Вы думаете, он бы послушался?
Ответила она достаточно нелогично:
— Он ничего не понимает.
Не столько по словам, сколько по виду и интонациям Лены можно было предположить, что она вовсе не рада уступчивости Полины Антоновны.
— Разве он действовал… самостоятельно?
— Он не должен был… действовать.
— Вадим показался мне трудным человеком.
— Какой смысл вы вкладываете в это слово? — спросила она живо. — Негативный?
«Неужели она еще будет защищать его! Ну, это уж слишком по-женски».
— В основном да, — сказал я прямо. — Не подарок.
— Да какой же муж теперь подарок?
«Теперь?»
Я подумал, что не только пожилые склонны приукрашивать прошлое. Но она говорила не о прошлом вообще.
— Вот мой… Олег Филиппович, муж мамы. Он подарок. Причем в самом прямом смысле слова. Подарок судьбы. Они познакомились в поезде. И с тех пор вместе. Он семьянин по природе. Любит дочку, все умеет. Мужчина в доме. Маме остается одно — быть доброй, заботливой и ценить его. Что она, между прочим, всю жизнь и делает.
— Вы иронизируете?
— Ничуть. Какое я имею право! Мама всегда его чтила.
Я не мог понять, насколько убежденно и всерьез произносит она эти слова.
— Все-таки что-то вам не нравится.
— Ничего подобного. У мамы прекрасный муж. Он несет ответственность, как и подобает мужчине. А у меня… Вадим. Современный муж.
— И раньше не все несли ответственность.
Ее реакция никак не соответствовала моим банальным словам. Лена спросила:
— Неужели он все рассказал вам?
Не знаю, как повел бы себя профессионал. Может быть, сделал вид, что ему известно больше, чем на самом деле. Я в такие игры играть не берусь. Как говорится, честность — лучшая политика. Да и справлюсь я.
— Леночка! Я вас не совсем понимаю. С Вадимом мы не так уж тесно общались. Я по его просьбе говорил с Полиной Антоновной. Вы знаете. Потом она согласилась. Хотя, как мне кажется, не очень охотно. Но до подоплеки я не допытывался.
— Значит, догадывались.
— Я не любитель чужих секретов. Если меня в них не посвящают, я стараюсь сдерживать любопытство.
Она посмотрела на меня с сожалением, как смотрят на мелкого лгунишку. Приблизительно так же смотрел и Перепахин, когда услышал, что я не знал о любви Сергея к Наташе.
— Вы мне не верите?
Лена передернула плечами.
— Странно сдерживать любопытство и в то же время судить о людях так категорично. Вы осудили Вадима, а что вы о нем знаете?
Если бы я ответил ей словами философа, который уверял, что знает только то, что ничего не знает, я бы не погрешил против истины. Новая попытка вступиться за Вадима ставила меня в полнейший тупик.
— Конечно, вы знаете больше.
— Его плохо понимают. И много винят. Да, сейчас мужчины слабее женщин. Наверно, это историческая закономерность. Женщины добились самостоятельности. А остались сварливыми бабами. Постоянно ругают мужчин, «слабак» — самое мягкое слово. Наверно, когда заканчивался матриархат, мужчины так же говорили о женщинах: «Ну и бабы пошли! Хлюпики. Сели нам на шею. То ли дело раньше. Женщина женщиной была!..»
Лена улыбнулась.
И тут я увидел то, что видел Женька Перепахин. Я узнал в ней Наташу. До сих пор мне мешало ее выражение лица, то озабоченное, то огорченное, неприветливое. А Наташа, — теперь я хорошо вспомнил, — была ровной, спокойной.
— Вы похожи на маму.
— Да… по праздникам.
— Они… редко бывают?
— Как положено. В основном будни. А вы помните маму?
— Вспоминаю, глядя на вас. Много лет прошло. И уехала она неожиданно.
— У нее были причины.
Улыбка исчезла. Я не мог понять, действительно ли она постоянно нервничает или это мои домыслы, издержки не своего дела, в которое я втянулся.
— Да, я помню. Домашние обстоятельства.
— Не только домашние.
— Об этом я не знал.
Лена посмотрела уже знакомым мне взглядом.
— Простите. Вы же не любитель чужих секретов. Наверно, это хорошо. Своего рода защитная реакция…
«Сейчас про улитку в раковине вспомнит…» Но обошлось без расхожего сравнения.
— Вы удачно адаптировались к жизни. А вот Вадим не может. Что же ему делать?
«Да что это она? Зачем?»
— Боюсь, что это разные вещи — чужие секреты и адаптация к жизни.
— Для вас. А для меня и Вадима… — Она не закончила. — Нам трудно жить.
— Я вижу.
— Все видят. И хотят, чтобы я его бросила.
Я не стал уточнять, что значит — все.
— А вы нет?
— Нет. Хотя вы правы, конечно. Он трудный человек. Но лучше стерпеть, чем предать.
«Кто же из них терпит? И кто предает? Или предавал?»
— Может быть, он просто ревнует вас?
Лена отпустила ремень и сделала недоуменный жест.
— Ревнует? Меня? Откуда вы взяли? Какая ерунда!
«Что там сказал Лев Толстой? Кажется, кто сумасшедший — они или я?..»
— Извините.
— Но откуда вы взяли? Вы же не могли это сказать случайно.
— Мне показалось, что Вадим не очень… доброжелательно относился к Сергею Ильичу.
— Господи!
Она воскликнула и остановилась, видимо, не зная, как продолжить.
— Простите. Я думала, вы просто избегали. А вы и в самом деле… Вам никто не говорил? Ни Вадим? Ни Полина Антоновна? Ни… Сергей Ильич?
Мне оставалось в ответ только головой повести.
— Но вы же сказали: и раньше не все несли ответственность?
— Да. Это же общая фраза.
— А я думала…
— Скажите, пожалуйста, что вы думали?
Я не спросил, а попросил, готовый в случае отказа действительно сойти на ближайшей остановке.
Лена, однако, колебалась.
Но недолго.
— Ах!.. Может быть, это и к лучшему. Вы ведь к маме едете. Должна же она когда-нибудь узнать, что я знаю… А вы правда не…
— Правда, Лена, правда.
— Ну, так узнайте чужой секрет. От жизни не укроешься. Я же не укрылась. И не нужно. Они должны были сказать мне вовремя. В свое время. Когда я выросла. Неужели они думали, что я могу изменить отношение к Олегу Филипповичу? Странно. Почему люди не понимают друг друга?
Я не ответил. Я ждал ее ответа.
— Мой настоящий отец Сергей Ильич. Неужели вы не подозревали?
Подозревал я многое. Но такое?
— Вы мне ошеломили.
«Она спрашивала, не говорил ли мне сам Сергей? Да он и себе говорить такое не решался!»
Я вспомнил дневник: «Она согласилась встретиться».
Строчка без комментариев и продолжения. Так я думал. А вся прожитая жизнь Сергея была продолжением этой строчки. В одно мгновенье жизнь эта предстала передо мной в ином свете. То есть просто осветилась, потому что раньше я ее не видел, не понимал по-настоящему.
— Он сам сказал вам?
— К сожалению, нет.
— И вы осуждаете его?
— Вы сами говорили об ответственности.
Мне захотелось вступиться.
— Я говорил не о Сергее. Это не такой человек. Бывает, что и женщины поступают своенравно, неразумно. Случайная вспышка, ссора. Они расстаются. Она уезжает, ничего не открыв. Возникают новые обстоятельства, другой человек. Он становится мужем, и говорить уже поздно и не нужно…
Звучало это довольно сумбурно, и Лена остановила меня короткими словами:
— Он знал.
«Конечно, знал, конечно». Но по инерции я спросил:
— Вы уверены?
— Еще бы! Вы бы видели, как он смотрел на меня. Как старался помочь. Он готов был написать за меня диссертацию. До последней строчки. Он смотрел… виноватыми глазами.
— Но сейчас… Неужели вы и сейчас осуждаете?
— Не знаю. Вы говорите о ссоре, о вспышке. О случайных обстоятельствах. Но ребенок для женщины — это самое главное. Я знаю маму. Если мама уехала, это не блажь. Наверно, он оскорбил ее. Мама очень самолюбивая, хотя и мягкая.
— Вы сказали — наверно. Значит, и мама не объяснила, почему они расстались?
— Мама ничего мне не сказала, как и Сергей Ильич. И этого я тоже не могу понять. Я говорила, она чтит Олега Филипповича… Но ведь правда есть правда. И я не все могу понять. Я давно не девочка. Лучше отца, чем Олег Филиппович, не может быть на свете. Не понимаю, почему они смалодушничали. По-моему, это умолчание только оскорбило нас всех.
Дважды она произнесла глагол «оскорблять». Она мучилась. Может быть, потому, что кто-то вторгся в душу с такой болезненно-личной тайной. Посторонний?
— Откуда же вы узнали?
Лена рывком раскрыла сумочку и выхватила оттуда паспорт.
— Это написано черным по белому. Посмотрите на дату моего рождения.
Я посмотрел, но, признаться, прямого вывода сделать не смог.
— Такая дата у каждого в паспорте.
— Вы же должны знать, что за полгода до этой даты мама еще училась вместе с вами и не была знакома с Олегом Филипповичем. Не помните?
Я мог и не помнить, когда уехала Наташа, но я помнил. Она уехала после смерти Михаила, а это число мы с Сергеем не забывали никогда, если даже он и допустил в волнении описку в дневнике, ошибся числом.
— Да, так.
Я хорошо запомнил Наташу на похоронах. Она держала на руках ребенка Михаила, когда жена его подходила к гробу прощаться.
— Вот вам и вся тайна.
Лена взяла у меня из рук паспорт и спрятала в сумку.
— Вы сопоставили даты.
Она подняла голову, мельком глянула в окно.
— Мы уже приехали!
Да, сельская местность давно закончилась. Теперь за окном был виден большой завод с целым частоколом высоких труб, старые кирпичные цехи соседствовали с новыми, бетонными, обильно остекленными. Между ними тянулись рельсы узкоколейки. Миновав завод, электропоезд прошел под путепроводом и остановился у вокзала, построенного в пятидесятых годах на месте разрушенного при отступлении немцами. Здание было типичным для своего времени, с колоннадой и капителями. Под арками колоннады по-южному говорливый народ толпился у вынесенного на воздух буфета с мороженым.
— Девчонками мы бегали сюда покупать мороженое из города. На вокзал привозили, а в городе не было, — сказала Лена.
Разговор, который так взволновал меня, прервался. Я бы с удовольствием сел на скамейку под колоннадой и тоже съел мороженое, чтобы отдалить его продолжение. Ведь предстояла встреча с Наташей, и о чем бы мы ни заговорили, для меня главным останется то, что я только что услышал.
Лена понимала, наверное, мое состояние.
— Хотите, пойдем пешком? Это не так далеко, если по набережной.
— Да, да, конечно, — обрадовался я.
Мы молча прошли пару привокзальных кварталов и вышли к реке. Когда-то она несла воды у самой каменной стенки, и тогда набережная называлась набережной по праву, то есть находилась на берегу. Теперь положение изменилось. Река ушла, обмелела или сменила русло, оставив у стенки обширное песчаное пространство, недавно засаженное молодыми деревцами. В осенний день они смотрелись приятно, с золотым отливом. «Когда они подрастут, здесь будет обыкновенная парковая аллея, которую по привычке еще долго будут величать набережной», — думал я, отвлекаясь от мыслей о предстоящей встрече. Отвлекался, конечно, неправомерно, потому что следовало посоветоваться, как себя вести, распределить роли, ведь она просила меня сказать о смерти Сергея. Тогда просьба не показалась мне сложной, теперь дело выглядело иначе.
— Вы по-прежнему хотите, чтобы именно я сообщил о смерти Сергея Ильича?
— Я хочу больше, — сказала Лена и остановилась.
Мне тоже пришлось остановиться. Вдали между деревьями поблескивала полоска ушедшей от нас сузившейся реки.
— Да, пожалуйста, — отозвался я, вспоминаю поговорку о грузде, попавшем в кузов.
— Если можете… Я прошу вас. Зайдите один.
— А вы?
— Тут рядом автовокзал. Я уеду. Назад.
Невольно я улыбнулся. Мы, кажется, поменялись ролями. Недавно я собирался покинуть ее приблизительно таким же образом.
Однако ее решение показалось мне более разумным. Во всяком случае, меня оно устраивало. Прийти и говорить вместе было бы тяжелее для обоих.
— Я уеду, — повторила Лена, сламывая с дерева засохшую веточку. — А вас я прошу… Скажите матери, что я все знаю.
До этого она говорила только «мама».
«Ну, совсем хорошо!..»
— Сама я не набралась смелости. Поэтому и прошу вас. Пусть знает, что я знаю. Может быть, она станет терпимее к Вадиму.
Я колебался.
— Но если вам трудно…
— Ничего. Я попытаюсь.
— Спасибо.
— Я провожу вас до автовокзала.
Лена не возразила, и мы опять пошли молча. На площади, откуда отправлялись автобусы, женщины продавали цветы. Я взял несколько белых астр, половину протянул Лене.
— Спасибо. Скажите маме, что у меня все в порядке. И вот еще передайте, пожалуйста.
Это были какие-то бумаги, завернутые в газету.
— Передам.
— Вы найдете дорогу?
— Найду.
— Счастливо. Я позвоню вам.
— Хорошо, — кивнул я, позабыв, что перебрался к Мазину.
К дому Наташи я шел тихой улицей, где старые деревья выстроились рядами вдоль еще более старых, поблекших особняков, когда-то принадлежавших зажиточным владельцам, а потом превращенных в общий городской жилфонд. Фонд этот порядком обветшал и понемногу сносился. На его месте возникали панельные дома, почему-то выходившие на улицу торцом, а не фасадом. В одном из них и жила Наташа. Все было, как положено: овощной магазин в первом этаже и детская площадка во дворе. На площадке здоровые мужики забивали «козла».
В подъезде я справился со списком жильцов и поднялся на пятый этаж. Дверь отворили сразу, не спрашивая.
«Дочку ждала», — подумал я, разглядывая Наташу.
Конечно, я не узнал бы ее, встретив случайно на улице. Но я был достаточно подготовлен к встрече.
— Здравствуй, Наташа.
Полная женщина в фартуке держала, разведя в стороны, руки, покрытые мукой, и с недоумением смотрела на меня. Она-то подготовлена не была.
— Не узнаешь?
Я взглянул на себя ее глазами, увидел грузного немолодого человека с почти белой головой, и стало грустно.
— Коля?..
Сразу полегчало. Раз узнала, значит, в памяти ее я не чужой, значит, и говорить будет легче.
— Он самый.
И я протянул через порог цветы.
— Что ты! Вот чудак. Да ты войди сначала.
Я вошел.
В квартире было, как во многих современных квартирах — полированная мебель, немецкие обои, но и отличалась она чем-то, какой-то заметной добротностью и порядком. Видно было, что многое здесь сделано своими руками. «Мужчина в доме», — вспомнил я. Однако рассматривать подробно было некогда.
— Не ожидала?
— Нет. Как это ты собрался?
— Так уж получилось. Заехал родные места навестить, а тут такое разное…
— Да ты будто оправдываешься. Молодец, что тряхнул стариной. Я тебя с дочкой познакомлю.
Наташа глянула на часы с некоторым беспокойством.
— Сколько сейчас? Ты электричкой?
— Да.
— И она должна. Видно, в магазин забежала.
Вот так, без раскачки, и пришлось говорить.
— Лена не приедет, Наташа.
— Что? Откуда ты знаешь? Ты знаешь Лену?
— Да, у Полины Антоновны познакомились.
Она не обратила внимания на то, что я не назвал Сергея.
— Почему же не приедет?
Собственно, об ответе на этот естественный вопрос мы с Леной договориться не сообразили. И я сказал то, о чем, может быть, следовало сказать чуть позже.
— Там неприятности, Наташа.
— У Лены?
— Не волнуйся. Нет.
А сам волновался и выражал свои мысли не лучшим образом.
— Видишь ли, Сергей умер, Наташа.
Она еще стояла посреди комнаты с цветами. Я сказал и повернулся к окну, чтобы не наблюдать за ней в эту минуту. Но ничего необычного не произошло.
— Как это случилось?
— Сердце. Неожиданно.
— Как жаль! Так рано.
И все. Обычная, в сущности, реакция на неприятное, но не поражающее болью известие. Так она могла отозваться и на мою смерть.
«Все проходит, — подумал я, несколько обиженный за Сергея. — Прав он был в дневнике. Она его не любила. А Лена?..»
Хотелось, как говорится, закрыть тему. Не углубляться. Но Лена просила сказать… И Мазин просил слушать. И куда девался алкоголик Перепахин?
— Для меня это был удар.
— Еще бы. Вы так дружили.
— И Лена переживала.
— Понимаю. Она к нему так относилась… с трепетом.
— Да. Именно так.
Я произнес эти слова со значением, хотя и считал, что отношение Лены к Сергею более противоречиво. Но я хотел оттолкнуться от них.
— И с диссертацией, наверно, усложнится, — добавила Наташа, снова покоробив меня будничностью слов.
— С работой утрясется. После Сергея осталось много материалов. Она сможет их использовать.
— Как использовать? Разве это этично?
Это был вопрос учительницы, человека, который десятилетиями учит не только предмету, но и честности, добру.
— Он был бы рад передать ей все это.
— Ты уверен?
Наконец-то в ее тоне определилось отношение к Сергею. Сомнение в его чувстве.
— Да, я уверен. И Полина Антоновна. И Лена тоже.
— О!.. Сколько вас. Я поставлю цветы.
Наташа вышла с вазой и цветами, чтобы набрать воды. Я ждал. Она вернулась.
— Ты в последнее время редко видела Сергея?
— Очень. Жизнь заматывает. Дела, суета. Да и жили в разных городах, хоть и неподалеку. Но я его помню, хорошо помню. Эта смерть ужасна. Кто бы мог подумать, что в нашей группе он будет один из первых…
Пакет, переданный Леной, я все же держал в руке.
— Что там у тебя? Положи куда-нибудь.
— Это Лена… Передала тебе.
Я не знал, что в пакете, но, судя по форме и размерам, предположил, что там фотография, та самая, что Лена взяла у Полины Антоновны.
— Она еще просила сказать…
Я протянул пакет.
— Что?
Наташа держала пакет, но не спешила развернуть газету.
— Она все знает.
«Ну, вот. Рубикон позади».
— О чем ты?
— О Лене.
— Да погоди с Леной. Сам-то ты как? Где? Что? Кто? Я ведь о тебе не знаю.
Но Рубикон уже был позади.
— Обо мне потом. Я хочу выполнить ее просьбу. Сначала. Это деликатный вопрос, и лучше покончить с ним поскорее. Она просила. А я своим случайным приездом попал в целую историю, втесался не по своей вине в сложные отношения. Но что поделаешь? Семь бед — один ответ.
— О чем тебя просила Лена? Что она знает?
— Присядь, пожалуйста.
— У меня пирог подгорит.
— Ничего. Это важнее. Она знает, Наташа.
— Поясни, что она знает.
Сказано было внешне спокойно, но тревога уже возникла. Я видел это. Нужно было найти подходящие слова, но я не нашел и ляпнул несуразно:
— Она знает, что родилась после того, как ты вышла замуж.
Тут же я осознал, что сморозил чушь, и готов был рассмеяться, чтобы разрядить обстановку, но Наташа поняла суть.
— Ну, что ж… В жизни и так бывает. А сейчас сплошь и рядом.
— Но по-разному можно относиться…
— Она такая моралистка?
— Нет, что ты!
— Но не одобрила?
Наташа усмехнулась с горечью.
— Речь о другом. Она знает, что твой муж не отец ей.
У нее так напряглись руки, сжатые на груди, что мне показалось, сейчас костяшки пальцев прорвут побелевшую кожу.
— Вот оно что…
— Прости. Тебе плохо?
— Куда уж хуже. Если Олег узнает…
— При нем я бы не стал говорить.
— Какая разница! Раз уж стало известно. Не ждала от нее. За что? Ты представить себе не можешь, как это гадко. Плюнуть в душу человеку, который ночи не спал, носил на руках, когда она болела. Откуда это зло?..
— Погоди, Наташа, погоди! Лена совсем не злая. Для нее твой муж подлинный отец. Она говорила. Но есть и другой человек…
— Нет другого человека!
— Да, уже нет. Тем более. Почему бы не знать о нем правду?
— Потому что он подлец.
«Как же он обидел ее! А так любил…»
— Наташа! Я много лет дружил с Сергеем.
— Что из того, что ты дружил с Сергеем?
Мне вопрос показался риторическим.
— Мне трудно представить его подлецом.
Она довольно долго молча смотрела на меня.
— Что ты сказал?
— Наташа, поверь, я все понимаю. Лена не зря мне доверилась.
— Что она тебе сказала?
— Так, как есть. Как было. Ее отцом был Сергей. Зачем нам скрывать правду?
И я снова повернулся к окну. Оттуда доносились звонкие удары игроков в домино.
— Откуда же она все это… узнала?
— Я не расспрашивал. Кажется, началось с даты рождения и сопоставления…
— Чего?
— Со временем твоего отъезда.
«Козлы́!» — заорали под окном.
А в комнате зашуршала бумага. Наташа наконец развернула газету.
— Что это?
Я думал, что в пакете фотография, взятая у Полины Антоновны, и не ошибся. Но завернуты были не одна, а две фотографии. Наташа посмотрела обе и повторила вопрос.
— Что это? Откуда?
— Вот эту Лена попросила у Полины Антоновны, а другую… позволь, я посмотрю.
Второй снимок — любительский, старый, пожелтевший — я видел впервые, ему было много лет, но запечатленная картина совсем недавно восстанавливалась в моей памяти, и узнать событие было нетрудно, сфотографированы были похороны Михаила. Наташа стояла чуть в стороне с ребенком на руках.
Я перевернул снимок. На обратной стороне были две надписи. Одна едва просматривалась — дата похорон, нанесенная, видимо, в то время, когда снималось фото. Вторая вполне современная, тонким фломастером. «Похороны М. До рождения Л. — шесть с пол. месяцев».
«Вот и доказательство». Она собиралась говорить с матерью, а тут я попался».
— Взгляни, — сказал я Наташе.
Она прочитала короткие записи, на которые сначала не обратила внимания.
— Понятно. Обличительный документ. Никогда не думала, что такой снимок существует. Кто это снимал?
Я тоже не знал. До того ли тогда было! А вот нашелся кто-то, щелкнул «лейкой», не предполагая наверняка, какую роль придется сыграть этому проявленному и отпечатанному изображению скорбного момента.
— Понятия не имею. Во всяком случае, не я и не Сергей. Оба мы здесь. А какое значение это имеет?
— По делу — никакого. Но интересно все-таки…
И я вдруг понял, что действительно интересно. Случайно попал снимок к Лене или с целью? Кто написал на обороте главное? Не сама же она, раз о ней говорится в третьем лице.
— Может быть, снимок был у Сергея? — предположил я.
— И надпись его? Зачем?
«В самом деле! Зачем Сергею такие доказательства…»
— На его почерк это не похоже.
— А написано точно. И в точку. Мы не раз рассказывали Лене, как познакомились с Олегом, когда меня вызвала больная мама. Кто бы мог подумать, что ей придет в голову сравнивать все эти числа!..
— Что поделаешь. Но стоит ли драматизировать? Главное, отнеситесь спокойно. Жизнь идет. Все образуется. Неплохо, что с жильем легче станет.
— Каким жильем?
Я подумал, что сказал лишнее. Хоть этого-то можно же было избежать! Но, с другой стороны, я приехал слушать. Все. В том числе и по этому поводу. Хотя какой уж теперь повод! Почти все ясно. Если бы не этот дурень Женька, который скорее всего благополучно нашелся и страдает дома с похмелья. А если не нашелся?
— Лену и Вадима согласилась пустить на квартиру Полина Антоновна.
Из кухни аппетитно тянуло поджаривающимся пирогом. Но, боюсь, он мог и пережариться, потому что Наташа все реже оборачивалась к кухонной двери.
— Ничего не знаю.
Я рассказал, по возможности смягчая напористость Вадима. Можно сказать, мне редко случалось иметь такого внимательного слушателя.
— Вот видишь, как дела повернулись. А пирог у тебя не сгорит?
— И эта… тетка Сергея признала Лену родственницей?
Вопрос о пироге она пропустила мимо ушей. Я понимал ее, хотя испытывал уже некоторый аппетит.
— По всей вероятности. Раз согласилась.
Наташа потерла пальцами виски.
— Ты, однако, наговорил мне.
— Зато теперь ты знаешь все.
— Невероятно.
— Посмотри пирог.
— Что? А… Сейчас.
Она вернулась из кухни и задала вопрос, на который я предпочел бы не отвечать.
— Они будут жить там все втроем?
Я вынужден был сказать правду.
— Полина Антоновна собирается в дом престарелых.
— Значит, внучка ее не устраивает?
Наташа спросила спокойно, даже, я бы сказал, иронично, но я счел нужным защитить Полину Антоновну.
— Ты не знаешь этого человека. У нее своеобразный характер.
— И, судя по твоим словам, разумная голова?
— Дай бог нам с тобой.
— И она не знала, что Лена… не чужой человек Сергею?
— Получается, так. Если он не сказал.
— Он не сказал.
— Ты уверена?
— Да, я уверена.
— Не можешь простить?
— Ах, Коля… Пора пирог вынимать.
Но она не ушла, а подумав, сказала:
— Как же он ее убедил?
— Вадим?
— Да. Зять.
Слово «зять» она сказала так, как другие произносят «негодяй» или «мерзавец».
— Лена говорила, что ты не жалуешь его.
— А ты в восторге?
О своих «восторгах» я распространяться не хотел.
— Нужно считаться с ее отношением.
— Эх, Коля! Тебе этого не понять. Это мое разбитое сердце.
— Ты, прости, рассуждаешь как теща.
— Как мать я рассуждаю. Не хочу, чтобы никчемный человек Ленке всю жизнь испортил.
— Она считает, что он трудно адаптируется…
— К чему? — перебила Наташа, и было видно, что вопрос для нее больной. — К жизни? Да он совсем не адаптируется, потому что жизнь идет сама по себе, а он сам. Ты его видел раз, а я почти столько, сколько он живет на свете. Он еще мальчишкой был у нас свой, они ж выросли вместе, учились вместе. Было время, я лучшего для Ленки не желала…
— Что же случилось?
— Гниль завелась.
— Откуда?
— А откуда все зло берется? Из рюмки.
— Ну, алкоголиком я бы его не назвал. На пути, может быть.
— На пути с односторонним движением. Да, на улицах его пока не подбирали, милиция не задерживала. Язык тоже вроде не заплетается, а без рюмки дня нет. Она для него не выпивка, не праздник, она — горючее, на котором он существует, которое мозги его питает, а на таком поливе что вырасти может?
«Имею право», — вспомнилось мне.
— На таком поливе, Коля, сорняк вырастает, паразит. Современный, конечно, нового типа, с философией. Он, видишь ли, себя личностью мнит, работягу презирает и работу вообще, о свободе и независимости может часами распространяться, а сам кто? Захребетник!
— А Лена…
— Лена, видишь ли, не может допустить, чтобы он погиб по ее вине. А погибать он будет всю ее и свою жизнь.
— Да, на погибающего он пока не похож.
— Потому что погиб уже. И это не игра слов. Вот такие мертвые и кусают живых.
«Зря Лена надеялась, что Наташа смягчится к зятю», — отметил я, но и желания переубеждать ее не нашел. Сказал только:
— В таких случаях компания много значит.
— У него компания? Да он плевал на всех, кроме этого подонка старого… Ты, наверно, помнишь Перепахина?
«Вот тебе и раз! Откуда эта взаимность?»
— Я знаю, что они знакомы. А ты-то его как знаешь?
Тут я вспомнил, что Наташа жила с Женькой по соседству, но ведь это когда было…
— Имею счастье. Между прочим, не от него ли ветер дует? Не понравилась мне эта квартирная история. Очень на Вадима похожа. Нетрудовую пользу извлекать. А ну-ка взгляну я еще раз на эту фотографию. Честное слово, на его почерк смахивает. Неужели он воду замутил?
«Все-таки она очень пристрастна, — думал я. — Пусть даже мысль о Сергеевом отцовстве возникла у Вадима. Что из этого? Лена имеет право знать истину».
— О ком ты? О Вадиме или о Перепахине? Кто воду замутил?
— Не знаю. Но вижу, своим открытием мой зять уже пользуется, как говорится, на всю катушку.
Я понимал ее. Конечно, «открытие» тревожило Наташу, грозило смутой в доме. Признание Сергея отцом, косвенное вступление Лены в какие-то права, да еще вместе с мужем, от которого она не ждала для дочери ничего хорошего, — все это Наташу расстроило, и я мог только сожалеть о своей миссии вестника печалей. А «сверхзадача», с которой я, собственно, и предпринял свою поездку, представлялась в этой атмосфере чисто семейных проблем вообще надуманной.
«Детективщина…» Это слово снова раздражающе возникло у меня в голове. И надо же, чтобы опять повторился круг нелепых совпадений. Как в истории, где фарс нередко пародирует недавнюю трагедию. Так считают мыслители. Но одно дело — история, а совсем другое — запутавшиеся личные дела. Тут священного трепета не ощутишь. Мысли об истории вызвали в голове еще одну аналогию.
— Знаешь, Наташа, в древности гонцов, принесших дурные вести, нередко казнили.
— Ну, тебе это не угрожает.
— Как знать. Может быть, и я буду наказан.
— Чем?
— Не придется попробовать твоего вкусного пирога.
— Ты что?..
— Лучше мне уехать, не дожидаясь твоего супруга. Боюсь, что разговор натянутый получится.
— Но я же тебя не расспросила ни о чем.
Однако в душе она была согласна со мной. Сошлись на компромиссе — я взял кусок пирога в дорогу и оставил на всякий случай телефон Мазина. Может быть, она завтра будет в городе и мы еще повидаемся, во что я, признаться, не очень верил…
Обратный путь показался длиннее и скучнее. Я отламывал кусочки пирога и жевал понемногу, чтобы заморить червяка. Пирог был действительно вкусный, но пришелся не вовремя. Не проходил скверный осадок, состояние, которое я до конца объяснить не мог. С одной стороны, сам себе казался дураком, вообразившим таинственные джунгли на месте простых трех сосен. Но с другой — было же что-то происходившее помимо всего прояснившегося! Был отключен телефон в квартире Сергея, да так, что к нему никто не прикасался, были вырванные зачем-то страницы из дневника, были темные намеки и недомолвки, было, наконец, пальто Перепахина на набережной с дурацкой записью в членской карточке. Ну, положим, я профан, человек, склонный к избыточному воображению и так далее, а Мазин? Почему его заинтересовали все эти мелочи? Впрочем, возможное самоубийство Женьки, конечно, не мелочь. И тут я принял мудрое решение — отогнать пока все эти мысли. Ясно, что, если Перепахин жив, я осел, зря потерявший золотые дни бархатного сезона. А если нет? Тоже, наверно, осел, упершийся посреди незнакомой дороги вместо того, чтобы двигаться, куда следует. Вот приеду и узнаю, из той ли я породы ослов или из другой. Узнаю и уеду наконец.
Приняв соломоново решение, я достал из свертка остаток пирога и съел его решительно. «Сто против одного, что Женька нашелся!»
Жаль, что со мной никто не поспорил. Я бы выиграл.
Об этом я узнал поздно вечером от Мазина. Я придремал уже на тахте, дожидаясь его, когда услыхал сквозь полусон шаги в прихожей.
— Ты, Игорь?
Он вошел в комнату с целлофановым пакетом в руке.
— Спишь?
— Нет, жду тебя.
— Съездил?
— Да, конечно.
Я ожидал вопроса о результатах, но он спросил другое:
— Есть хочешь?
Я спустил ноги с тахты.
— Не пойму что-то.
— Ну, просыпайся, и будем ужинать.
Мазин повесил пиджак на спинку стула и пошел в ванную.
Признаться, я ожидал большего интереса к итогам моего «расследования». Кое-что я все-таки узнал, но, вспомнив мои предшествующие размышления, решил, что ведет он себя правильно. Да и спросить, пожалуй, стоило сначала мне.
— Игорь! — крикнул я, чтобы он услышал сквозь шум льющейся из крана воды. — Как с Перепахиным?
Шум прекратился. Он закрыл кран.
— Нашелся.
«Ну вот и все, слава богу», — подумал я, прогоняя остатки сна.
Мазин вышел с полотенцем, вытирая руки.
— У нас тут неподалеку цыплята гриль продаются. Еще теплые. Я подумал, что из гостей ты можешь голодным вернуться.
Так оно почти и было.
— Ты попал в точку. Дедуктивный метод?
— Долг хозяина. Обязан был предусмотреть любые случайности. Так почему тебя не накормили?
Он уже возился, накрывая на стол.
— Сначала о Женьке. Что с ним произошло?
— Он это назвал одним словом: начудил.
— Где же он выплыл?
— О!.. Далеко выплыл. Очень далеко. В противоположном конце города. На одной симпатичной с виду дачке, построенной, как я подозреваю, на нетрудовые доходы. Но это в данном случае прямого отношения к Перепахину не имеет.
— Идиот, — высказался я о бывшем соученике.
— Немного есть, — согласился Мазин.
— Сам объявился?
— Нет. Боюсь, это ему было не по силам. Хозяин дачи дал знать. Да ты ешь! Остывают ведь цыплята.
Но мне хотелось больше знать, чем есть.
— Хозяин вам дал знать? Или домой ему?
— Нет, он вызвал «Скорую».
— До того допился?
— Много выпил, много, — кивнул Мазин, отламывая куриную ногу.
— Намешал небось?
— Как ты сказал? Намешал?
— Ну, да. Понесло пьяным ветром, вот и набрался, что под руку попадало.
— Что под руку попадало? — опять переспросил Мазин. — Да ты, брат, дедукцию лучше моего освоил.
Мазин, очевидно, подсмеивался.
«А что остается, занялись всерьез чепухой, будем выходить с хорошей миной… Нет, слово «чепуха» неуместно, конечно. Это только с юридической точки зрения нет предмета… А по-человечески…»
— Игорь, Лена дочь Сергея.
Он опустил кость на тарелку, посмотрел серьезно.
— Рассказывай.
Ох, сколько уже раз мне приходилось рассказывать и пересказывать! Но я рассказал.
— Вот такие дела, Игорь. Неожиданно, но понять можно. Секрет, сам видишь, не криминальный. С учетом того, что Женька на месте, можно закрывать тему.
— И ехать на юг?
— Вот именно. Можешь завидовать.
— Придется.
Мазин провел по губам бумажной салфеткой.
— Закрыли тему, закрыли тему, — повторил он, постукивая пальцем по столу.
— А разве нет?
Он улыбнулся.
— Коля! Я прекрасно понимаю, что сезон заканчивается, а ты не оперуполномоченный уголовного розыска. И даже не частный детектив. Если считаешь, что тема закрыта, будь по-твоему.
— А разве нет?
— Я не понимаю поведения Полины Антоновны. Мы предполагали, что даже ожидаемый внук мог смягчить ее сердце, а тут реальная внучка! И что же? Прямое недоброжелательство, столкновение и, наконец, поражение. Помнишь, мы даже о капитуляции говорили?
«Странно, почему я не думал об этом после встречи с Леной и Наташей? Так был поражен? Но Игорь прав. Хотя и похлестче загадки разгадались смерть Сергея, пропажа Перепахина».
Что я мог сказать? Повторил общие слова о характере Полины Антоновны.
— Да с характером-то как раз и не вяжется, — возразил Мазин. Характер у нее исключительно цельный, а тут не то капризы, не то слабость, на нее непохожая.
— Все, что узнал, я тебе сообщил.
— Хорошо. Еще одно обстоятельство. Может быть, и незначительное. Ты говорил о двух фотографиях. Одна взята у Полины Антоновны. А другая? Наташа, по твоим словам, о ней ничего не знала? И ты никогда не видел?
— Не видел. Но какое это имеет значение?
— Хотелось бы знать, случайно она Елене в руки попала или предложил кто-то?
— Зачем?
— В качестве вещдока, как мы говорим.
— Снимок скорее всего был у Сергея.
— А надпись рукой Вадима?
— Он мог интересоваться.
— А где взял?
— У Сергея…
— При жизни?
— Сергей нам этого уже не скажет.
— Но Полина Антоновна может знать.
— И что же?
— А ты можешь узнать у нее.
Идти снова к Полине Антоновне и снова выспрашивать я не хотел.
— Игорь, ты сам сказал, что я не частный детектив.
— И не оперуполномоченный. Но оперуполномоченному она может и не сказать.
— Слушай, по-моему, ты мудришь. И забыл статью 108-ю.
— Чай будешь пить или кофе?
— Чай. И к Полине Антоновне не пойду.
— Сейчас поставлю. А к тетушке сходишь.
Последнюю фразу он громко сказал мне уже из кухни.
— Ну, знаешь!..
— Я знаю, а ты еще нет. Перепахин в больнице. Его хотели убить.
— Шутишь?
Он принес и поставил на стол чашки.
— Не шучу. В так называемом садовом, а по существу дачном кооперативе есть один состоятельный дачник. Имя и занятие пока роли не играют. Перепахин расписывал у него стенку. Нечто среднее между не очень оригинальным сюром и порнографией. Источник вдохновения — какая-то репродукция из испанского журнала. Но и это только присказка. А сказка такова. Перепахин имел ключ, чтобы создавать шедевр в отсутствие хозяина. Короче, хозяин, приехав на дачу вечером, застал его в неподвижном состоянии. Сначала он, естественно, подумал, что Перепахин мертвецки пьян. Такое уже случалось. Но на этот раз ему показалось, что слишком уж мертвецки. Ну, это его, понятно, не обрадовало, и он вызвал «Скорую». Говорят, что пьяным везет. Не знаю, как в глобальном масштабе, а в данном случае гипотеза подтвердилась. Задержись хозяин на считанные минуты, Женю пробудить бы уже не удалось. Вот так. Печенье хочешь?
— Сахару дай.
— Извини. Увлекся рассказом.
— Я тоже. Но при чем тут убийство?
— Вместе с алкоголем он выпил снотворное.
— Когда? Где?
— Пока эти вопросы открытые. Перепахин не в лучшем состоянии и отвечает одно: «Начудил».
— Значит, сам?
— Как ты себе это представляешь?
— Я это совсем не представляю. Когда мы расстались, Женька меньше всего походил на человека, задумавшего покончить с жизнью.
— Вот-вот.
— Но все-таки на набережной он написал об уходе из жизни? Его рука?
— Его.
— Тогда может быть так: задумал в пьяном беспамятстве, написал, разделся и струсил. Разве так не бывает?
— Сколько угодно.
— А потом в том же состоянии поехал на дачу… и осуществил.
Я говорил, а сам думал иначе. Никаких намеков на возможный уход из жизни я в связном и в бессвязном разговоре Перепахина не заметил. Скорее он был склонен жизнеутверждаться в пьянстве, приглашал меня, был весел, особенно поначалу. И наконец, он был безусловно привязан к детям, а это обстоятельство серьезное. Такие люди сгоряча в воду не бросаются. Но он и не бросился! Он только написал на карточке о своей решимости, а потом помчался бог знает куда, уединился на даче и… осуществил?
— Осуществил? — переспросил Мазин.
— Я не уверен. А какие у тебя факты?
— Никаких следов снотворного, так сказать, вне Перепахина. Ты точно сформулировал вопросы: когда? где? Бутылку он, судя по всему, выпил на набережной. В ней никаких следов. Да и быть не могло. Если бы он выпил снотворное в это время, до дачи он бы уже не добрался. Получается, выпил там. Совсем незадолго до приезда хозяина. Но ни малейших следов. Ни пакетика от таблеток, ни посуды.
— Ни в посуде, ты хочешь сказать?
— Я сказал правильно. Никакой посуды со следами выпивки на даче тоже не было.
— Это показания хозяина?
— Ему приходится верить. Дело в том, что приехал он не один, а с некой дамочкой, с которой познакомился всего два дня назад. Вряд ли она могла оказаться сообщницей, даже если бы он убил Перепахина. А убивать ему и вовсе никакого резона не было. Да и не тот это человек. Короче, оба показали, что ни бутылки, ни стакана ни возле Перепахина, ни в другом месте, на кухне, например, они не видели.
— А если спрятали?
— Зачем? — усмехнулся Мазин. — Убийце было бы выгодно создать соответствующую обстановку. Но они понятия не имели о снотворном. Они даже рвоту не убрали.
— Это еще что?
— Это то, что прежде всего и спасло Перепахина. Его вырвало, ну а остальное из него медики вымыли. Как видишь, что за смысл травить человека и, не дождавшись его смерти, вызывать врачей, да еще и следы отравы на полу оставлять!
— Это все логично, — согласился я.
— Только ответов на вопросы не дает. А вопросов масса. Вот еще одно обстоятельство: таблетки были предварительно измельчены.
— Зачем?
— Наверно, чтобы скорее подействовали, по мысли преступника. Измельчены не вручную, а скорее всего в кофемолке. Где мог это сделать Перепахин? На даче никаких признаков.
— Заранее? Дома?
— И возил с собой? Должны были остаться следы. В кармане, на пальцах, если высыпал в стакан или в бутылку. Нигде ничего.
— Так что ж это все значит?
— Для меня пока одно — это не самоубийство.
— А дальше?
— Дальше ты сходишь к тете Поле и спросишь о фотографии. Или я тебя не убедил?
— Что ты! Предлагаю закодировать операцию. «Бузина». Подходит?
— Лучше «Чертополох».
— Почему?
— Такое колючее растение. Сорняк в основном. Он мне некоторых нынешних преступников напоминает.
— Именно нынешних?
— Ну, на сравнении не настаиваю и статистикой подкреплять не буду. Только так скажу. Когда-то преступники были в основном кастой, этакими узкоспециализированными отщепенцами с высокоразвитым чувством профессионального бахвальства. Забирать какого-нибудь медвежатника приезжали на извозчике, и он отправлялся в участок, поправив платочек в кармане модного пиджачка. Он никогда не лазил по карманам, упаси бог пролить ему кровь. Этих узких специалистов мы ликвидировали и вполне законно гордились. Думали, выберем последних могикан и можно будет расслабиться. Но жизнь оказалась сложнее. Сейчас мы говорим о безмотивных… Это такой термин научный. А на практике сплошь и рядом обыкновенный подонок. И мотивы вполне определенные, корыстные и примитивные. К сожалению, не всегда такого заметишь вовремя. Сегодня он еще милый мальчик, а завтра… Завтра сидит у меня в кабинете. И не сам пришел. И не на извозчике за ним заезжали, и не отправится он с тобой, печально разведя руками. Его схватить за руку нужно. Схватить, хоть чертополох сорняк и колючий.
— Ты о конкретном человеке?
— Преступник всегда лицо конкретное. И о нем многое знать нужно. Так что не иронизируй. К розыску я тебя, понятно, не привлекаю, а вот получить кое-какую информацию хотел бы. Короче, опора на общественность. Ну, как?
Конечно, мне хотелось спросить, неужели он подозревает Вадима и какая связь существует между сургучом, башмаками и капустой, но я не спросил больше ничего. Понял, что он и так сказал все, что мог и хотел.
— Еще? — спросил Игорь, бросив взгляд на мою опустевшую чашку.
— Нет. Пора спать.
— Правильно. Перед ответственным заданием следует хорошо выспаться.
Он шутил и в то же время не шутил. Ему тоже хотелось спать, потому что за день он устал не меньше моего.
Появлением своим Полину Антоновну я удивил, и удивил изрядно.
— Откуда ты, голубчик? Что стряслось?
— Все в порядке, Полина Антоновна, — ответил я, несколько идеализируя истину.
— Неужели с поездами такая свистопляска?
— Нет, просто встретился со старым приятелем, он меня задержал.
Это тоже была полуправда, а правды так или иначе коснуться было необходимо. Хотя о Перепахине мы с Игорем решили пока умолчать.
— А у меня что забыл? — спросила она с присущей прямотой.
— Верно. Забыл.
Мы прошли через прихожую, и я не заметил в квартире признаков появления новых жильцов.
— Вы одна?
— Как видишь.
— А квартиранты?
— Пока не приходили.
— Решение свое не изменили?
— Пущу, как сказала.
— А вы?
Губы у нее сжались.
— Уйду.
— Есть ли необходимость, Полина Антоновна?
— Садись, Коля, — предложила она вместо ответа.
В который раз я оказывался в неудобном положении, но стерпеть было необходимо. Ведь дела серьезно оборачивались.
— Ну, рассказывай, почему не уехал.
— Я, Полина Антоновна, к Наташе ездил.
— К Наташе?
Она только переспросила, не высказывая удивления.
— Да. Она вам кланялась.
— Спасибо. Давно я ее не видела, не помню когда.
И не спросила ничего, зачем я ездил, почему. Приходилось продолжать самому.
— В поезде случайно оказался вместе с Леной.
— Вот как? Потому она и не приходила, значит.
— Нет, она вернулась сразу.
— Но у меня не была.
— Полина Антоновна! Вы человек пожилой, да и я немолодой уже. Скажу вам напрямую. Произошел у нас с Леной разговор, из которого я все понял. А вы знали или нет?
— Что, Коля? — спросила она как-то скучно.
— Вы знали, что Лена дочь Сергея?
Я поставил вопрос со всей возможной прямотой. Только так можно было всерьез разговаривать с Полиной Антоновной.
Она водила пальцами по какой-то невидимой складке на платье.
— Да, Вадим сказал.
— А сами вы… до Вадима?
— Да ведь о таких вещах молчать принято, Коля.
Я не понял, кто же молчал, Сергей или она сама.
— Но он сказал и этим повлиял на вас?
Полина Антоновна помедлила, а потом сказала коротко:
— Повлиял.
До сих пор мне трудно было представить, что на нее могут влиять. Да и слово «влиять» в данном случае звучало почти условно. Мазин говорил «капитуляция».
— Ну будет об этом, — подняла она опустившуюся было голову.
Я посмотрел на нее внимательно и заметил, как за пару дней сдала Полина Антоновна. Глаза потухли.
— Будет. Как Наташа? Давно я ее видела, не помню когда.
Это был не нарочитый повтор. Похоже, она уже забыла недавно произнесенную фразу.
— У Наташи все в порядке, по-моему, кроме зятя.
— А к новости как она отнеслась?
— С волнением. Они ведь скрывали от Лены.
— Вот как?..
Мне показалось, что она усмехнулась, а может быть, просто губы дрогнули.
— Ей нелегко в нашем разговоре пришлось.
— Но она… не отказывалась?
— Нет. Зачем? И как можно? Лена все документально восстановила.
— По документам? Какие же у нее документы?
Вот и подошел я с ее помощью к сути дела. Сказал про дату рождения, про фотографию, что Полина Антоновна сама отдала, и про другое фото, без нажима, но подробно описав, что на снимке было и кто.
Полина Антоновна слушала очень внимательно, даже оживившись, я бы сказал.
— Этот снимок, кстати, Лена тоже у вас взяла? — рискнул я «пойти на прием».
— Про такой первый раз слышу.
Обмануть она не могла.
— Где же она его достала?..
Ответ был резонным:
— Спроси у нее.
Но Мазин почему-то избрал другой путь, я доверял ему.
— А Сергей? Он не мог дать?
— У Сергея я никогда такого фото не видела.
— Странно.
— Да какая разница… Снимок-то есть. И подтверждает.
— Конечно. Вам, я понимаю, это не особенно интересно.
Слукавил я, она говорила заинтересованно.
— Почему? Мне очень все это любопытно.
И тут я решился на ход конем, от которого ожидал результата в любом случае.
— Полина Антоновна! Не могли же вы не знать о Лене!
Опять она поколебалась, прежде чем ответить.
— Значит, если скажу, что не знала, не поверишь?
— Вам я верил всегда. С тех пор, как мальчишкой в этом доме появился.
— И правильно делал.
— А сейчас?
— И сейчас поверь. Не ждала я того, что Вадим мне сказал.
Вот таким оказался ответный ход. Вроде бы в мою пользу, но… Не к таким ответам и суждениям Полины Антоновны я привык. Всегда она всякой уклончивости избегала, а здесь я не мог не чувствовать, что не договорено в ответе нечто. Но что? Оставалось новые вопросы задавать, а мне почти стыдно уже стало, видел, что расстраиваю я старую женщину, которая и так измоталась.
— Вы ее признать не хотите?
— Лену?
— Ну да.
— Разве она государство иностранное, которое признают или не признают. Она или дочка, или…
Полина Антоновна не закончила.
— Вы сомневаетесь?
— Да не дают мне усомниться! Вот в чем беда. Все с доказательствами. И ты тоже.
— А Сергею вы не верите?
— Сергей мне ничего не говорил.
— Но есть дневник.
— Читала я и дневник.
— Там же ясно сказано, что он любил Наташу.
— И так же ясно, что она его не любила.
Я заставил себя улыбнуться.
— А характер ваш, тетя Поля, с годами не меняется.
— Не нравится? Упряма? — спросила она, но не с вызовом, а скорее устало.
Я поднялся, прошелся по комнате, посмотрел из окна во двор, вспомнил, как спешил когда-то, перебегая пространство от подворотни до подъезда с книжками, засунутыми под ремень. Той же тропкой, вытоптанной в асфальте, ходили Михаил, Сергей, Наташа. Наверно, еще многие и после нас ходить будут, дом-то на века заложен. Свои проблемы возникнут, отношения. А пока еще наши живы, но пора им итог подводить.
— О таких вещах не всегда прямо пишут, черным по белому, даже для себя, — сказал я, возвращаясь к дневнику, и для пущей убедительности добавил: — Тем более что там страницы вырваны.
Сказал, не убежденный в прочности аргумента, и сомнение это заставило меня вернуться мысленно к общей тетрадке, которую листал дважды. Первый раз, разбирая бумаги, случайно наткнувшись на дневник, и вторично специально просматривая его, чтобы узнать о неожиданной для меня любви Сергея. Именно во второй раз обратил я внимание на вырванные страницы. Воспринял как данное и не задумался особенно. А вот теперь вдруг вошло в голову раздражающее сомнение: ведь при первом чтении страницы, кажется, были.
— Что ж, если и вырваны?
«Когда вырваны? Если мне не мерещится, и страницы в тот первый вечер были, значит, их вырвали в течение следующего дня, не позже. Дневник целый день находился в комнате Полины Антоновны. Она?.. Чушь! А больше некому. Или…»
— Полина Антоновна! Вы помните, когда к вам Вадим приходил в первый раз о квартире говорить?
— Ты вышел, а он и пришел.
«Точно, я увидел его в скверике. Он дожидался, пока я уйду, проверял по телефону, кто дома… Точно».
— Вы здесь с ним разговаривали? У себя?
— А где ж еще? Здесь.
«Ерунда. Занесло меня. При ней он не мог взять дневник, читать его, а тем более вырвать страницы. Ерунда».
— Зачем тебе это?
— Так, сам не знаю.
Она не поверила мне.
— У меня ничего не пропало. Что у меня брать?
Если человека заносит, то остановиться трудно.
— А у него была такая возможность?
Я делал неловкие усилия придать своим словам оттенок шутки, а она смотрела серьезно, и глаза ее в этот момент не выглядели потухшими.
— Соседка наша болеет, я к ней выходила.
— А он один оставался? Надолго?
— Задержалась я. Минут на сорок.
Сказано было определенно, будто и время засекалось.
«Сорок минут вполне достаточно. Но зачем?»
— А когда вы дневник смотрели? После его ухода?
— После.
Вопросы мои были настолько прямолинейны, что догадаться об их сути труда не составляло, и я ждал встречных вопросов. Но ничего такого не последовало. Полина Антоновна не проявила никакого интереса к моей версии исчезновения нескольких страниц из дневника Сергея. Можно даже сказать, пропустила мимо ушей. А между тем она всегда относилась к Вадиму отрицательно, больше того, не приняла прямых доказательств Сергеева отцовства, в квартиру пустить согласилась, а жить с внучкой не хочет…
— Вы что-то не договариваете, Полина Антоновна, — вырвалось у меня, и тут же мелькнуло: «Ну, сейчас она мне покажет!»
— А что бы ты хотел услышать? — откликнулась она спокойно.
— Почему вы не верите, что Лена ваша внучка? Почему с ней жить не хотите?
Но нет, не с той Полиной Антоновной я говорил, что знал всегда.
— Как я могу не верить, если Наташа признала?
— А жить почему не хотите?
— Жить я не хочу с Вадимом. Это ведь он родство наше установил?
— Да какое значение это имеет, если родство подлинное?
— Имеет, Коля, имеет.
«Да, берут свое годы. Убежденность, принципиальность в упрямство переросли. Но в чем корень ее отношения к Вадиму? В упрямстве? Или чутье на плохого человека? Или знает то, о чем говорить не хочет?»
— Что я тебе сказать могу? — Полина Антоновна развела руками. Но я видел, она решилась что-то пояснить. — Началось-то не с родства, а с ревности.
— Как так?
— А просто. Приревновал Вадим Лену к Сергею. Ведь так бывает нестарый еще преподаватель и молодая аспирантка. Бывает.
«Вот она, старая наша версия, как отозвалась!»
— И всерьез приревновал. Даже мне скандал устроить пытался. Ну, я его осадила.
— Откуда взялось такое?
— Сергей, конечно, к ней особенно относился.
— Вот видите.
— Видеть по-разному можно.
— А она, Лена?
— Лена сначала тоже. Полувлюбленно.
— Видите, — повторил я, на этот раз вкладывая в слово другой смысл. Вадим-то имел основания дурить. Раз не знал.
— Никто не знал.
«Кроме Сергея», — отметил я про себя.
— А потом, как я понимаю, именно он узнал. Уж откуда, ума не приложу. Я тогда ничего понять не могла. Лена вдруг с Сергеем совсем иначе себя повела. Ну, я ее, конечно, не осуждаю. Легко ли такое осмыслить? Не то отец, не то подлец. И Сергей сам не свой стал.
Она замолчала.
— Дальше-то что?
— Дальше умер он. Вот что я точно знаю. И понимаю теперь, почему.
«Так вот в чем дело! Полина Антоновна считает Вадима с Леной виновниками смерти Сергея. Довели. Не выдержал потрясения. Страдал этой бедой всю жизнь, и вдруг вскрылось все… Но это же драма без виноватых!»
Потом я уже понял, что в понимании моем было одно слабое место: Полина Антоновна говорила о неожиданности происшедшего, а вела себя, будто неожиданности и не было.
Но это потом, а сейчас мне вроде бы все открылось. Я искал подходящие слова, чтобы выразить сочувствие, но она резко сменила тему:
— А приятель, что задержал тебя, Игорь Николаевич?
Куда мне было деваться!
— Да.
— И он в курсе всех наших… сплетен?
— Частично.
— Зря. Это не ты его настраиваешь?
Я сразу вспомнил, как Мазин обратил внимание на нежелание Полины Антоновны к нему обращаться.
— Ну, что вы!
Получилось не очень искренне, но она, кажется, приняла мое восклицание за достаточное оправдание.
— И еще скажи, что это фото вас так заинтересовало?
— Ну, событие трагическое, и все мы там, а кто снимал, неизвестно.
— Женька Перепахин снимал.
— И вы… вы уверены?
— Считай, да, если это важно.
Вторую половину дня я провел в занятиях, укрепляющих душевный покой. Сходил на рынок, с удовольствием приобрел хотя и поздние, но еще достаточно привлекательные осенние овощи — помидоры, сладкий и горький красный перец, чеснок и кинзу, крупный красивый лук в золотистой кожуре и, наконец, главное, упитанного цыпленка — все, что было необходимо для блюда, которое я люблю и умею готовить. Я решил попотчевать Игоря такой заманчивой штукой, как чахохбили.
Приготовление пищи — прекрасное средство отвлечься хоть на время от обременяющих мозг житейских забот, но мне не удалось использовать его полностью. Едва по кухне распространился ароматный запах и я, любуясь делом рук своих, оставил на время мысли о Сергее, Лене, Полине Антоновне и почти позабыл о спасенном медициной Перепахине, как телефонный звонок требовательно отозвал меня от плиты.
— Я вас слушаю.
— Простите, с кем я говорю? — спросил немного взволнованный мужской голос.
— Боюсь, моя фамилия вам ничего не скажет. Кто вам нужен?
«Конечно, звонят Игорю».
Но я ошибся.
— Мне нужен Николай Сергеевич.
«Вот так!..»
— Это я.
— Говорит муж Наташи, Олег Филиппович. Она дала мне этот номер. Я могу повидаться с вами?
Так вечером за столом вместо одного ценителя моего кулинарного искусства оказались двое. Впрочем, Олег Филиппович, если говорить честно, не был поглощен вкусным блюдом. Приехал он не за тем, чтобы похвалить мое чахохбили, хотя одобрительные слова и были сказаны. Я их выслушал с удовольствием, потому что Олег Филиппович нам с Игорем сразу понравился. Есть люди, которые самим своим обликом заставляют вспомнить поговорку военных лет о человеке, с кем можно идти в разведку. Такое впечатление производил и Олег Филиппович, в котором, кстати, сразу чувствовалась военная косточка. И еще собранность, присущая человеку технических занятий. Обычный костюм плотно лежал на его широких плечах, смуглое выбритое лицо красиво сочеталось с ранней сединой, глаза привычно смотрели в лицо собеседнику, большие руки свободно лежали на скатерти. На такую сильную, уверенную руку хотелось опереться.
И тем не менее заметна была в нем озабоченность и тревога. Да он и не скрывал своего состояния.
Встретиться с Мазиным предложил ему я. На свой страх и риск. Но не ошибся. Олег Филиппович охотно согласился, а Игорь, я видел, тоже был доволен его появлением в своей квартире.
— Вы уж извините, Игорь Николаевич, — сказал Олег Филиппович, разводя тяжелыми руками, — вот решились мы вас обременить.
Он посмотрел на меня, ожидая поддержки, но Мазин, снимая еще фуражку, извинения отверг.
— Очень хорошо сделали. Я, между прочим, сам обременил Николая поездкой к вам.
— Там мы не встретились.
— Знаю. Струсил он. Сбежал.
Шутка эта сразу перевела разговор в ряд доверительный, в беседу людей, испытывающих взаимное доверие и симпатию.
— Что же вас привело к нам? — спросил Мазин.
— Хочу знать правду.
Он сказал так и смутился, наверно, слова показались ему излишне приподнятыми.
— Лучше я несколько слов о себе, — как бы поправился Олег Филиппович. — Тогда понятнее будет.
— Говорите, как вам удобнее.
— Начну с самого начала. Был в моей жизни крутой перелом. Такой крутой, что боялся совсем переломиться, сломаться. Я с детства мечтал летать. Наше время вы сами помните. Раннее детство — Чкалов, Водопьянов, война — Покрышкин, Кожедуб. Конечно, к тем легендарным временам я по возрасту не успел, но ведь жизнь продолжалась. И все шло, как мечталось. Окончил училище, взлетел… Сколько лет прошло, а этого не забыть. Великое дело, когда мечта сбывается. Я такое счастье испытал. Но ненадолго. Распространяться не буду. Не о том речь. Короче, несчастный случай — и все. Больше никогда. Только пассажир рейса номер… Небо померкло для меня в буквальном смысле.
Он замолчал, провел рукой по седым волосам.
Мы молча ждали.
— Ехал поездом из госпиталя. Вышел в тамбур. Думаю, сейчас открою дверь, скоро мост через большую реку… Вышла девушка. Потом она мне признавалась, что и сама о таком же думала. Но помешали мы друг другу и спасли друг друга. Она, во всяком случае, меня спасла. Понимаете, о ком я?
Он мог бы и не спрашивать.
— Так мы познакомились. Потом у нее мать умерла. Одна осталась. И не одна. Ждала ребенка… Можно, я закурю?
Ни я, ни Мазин не курим, но сказали сразу:
— Конечно.
— Пожалуйста.
Он прикурил от зажигалки. Выпустил дым осторожно в сторону открытой форточки.
— О ребенке был разговор. Я не расспрашивал. Она говорила. Сказала: «Отец ребенка умер. Не в переносном смысле. Не для меня. Не из моей жизни ушел, а умер». Я поверил. Не думал, что надо мной посмеются…
— Посмеются? Кто? — переспросил Мазин.
— Сейчас скажу. Чуть позже. Я длинно?..
— Нет, что вы…
— Я тогда в разговоре сразу поставил точку. Ничего больше не спрашивал. Понимал, для женщины такие признания не радость. Да и не интересовали меня подробности. Мы оба новую жизнь начинали. Старое все за чертой оставалось. У меня счастливое, у нее горькое, но и то и другое в прошлом. Нужно было жить настоящим. И будущим. И мы жили. Я учиться начал, переучиваться. Хорошую специальность получил. Лена росла. О каком тут отце вспоминать, когда я и был отцом, настоящим и единственным. Наташа к Лене даже строже относилась. А Лена к нам обоим одинаково. Так и жили, пока не пришло зло. Кто бы мог подумать!..
Олег Филиппович снова затянулся. Мазин поставил перед ним пепельницу. Но курить он больше не стал. Затушил сигарету.
— Кто бы мог подумать, что зло может войти в дом в обличье умненького большеглазого мальчика, одноклассника дочери. Помню, как он нам тогда понравился… Он хорошо учился, выглядел скромником, обо всем поговорить мог. Потом я уже понял, что именно обо всем, а своего, особенного, чтобы глаза разгорелись, чтобы зажегся, такого не было. И любимого учителя не было. И предмета. Были только оценки. Но это я теперь понимаю. Ну, да сейчас не до анализа.
— Почему же? — спросил Мазин. — Это тоже важно.
— Важно. Но я о главном хочу. Жизнь их с Леной, как вы знаете, что ни день шла хуже. Наташа переживает. Я тоже. В конце концов решился. Конечно, я прекрасно понимаю, как мало дают такие вмешательства. И промучился немало, прежде чем решиться. Короче, попытался поговорить, как мужчина с мужчиной.
— С Вадимом?
— Да. Без скандала, но со всей серьезностью. «Почему ты эксплуатируешь ее доброту? Почему тебе не стыдно считаться несчастным, жить жалостью?»
Олег Филиппович прервался, потирая пальцами подбородок, а Мазин, воспользовавшись паузой, задал вопрос:
— Когда это было?
— Месяца два…
— До смерти Сергея Ильича?
— Да.
— И что же он вам?
— Разговор двух глухих. Он стал в позу, или в позицию, если хотите. «Я живу принципиально. Я не обыватель, меня мещанские ценности не интересуют, за длинным рублем гоняться не собираюсь, Елена меня не жалеет, а любит». И точка. Да разве я о длинном рубле, разве деньгами его попрекаю? Я о жизни… А он, — «Вы из другой эпохи, я не положение ценю, а независимость». — «Что же ты, говорю, хиппи какой-нибудь?» — «Вы мне ярлыки не навешивайте». Слово за слово, появилось раздражение, чувствую, перейдет разговор с ним в бесполезную стычку. «Пойми, Вадим, я с тобой как отец Лены говорю, на мне ответственность, которой ты не испытываешь».
Он взял с пепельницы погашенный окурок, снова щелкнул зажигалкой.
— Тут мне зять и выдал. «Предприятие с ограниченной ответственностью» — так он меня назвал. «Вы, — говорит, — свой долг с лихвой выполнили». — «Что ты этим сказать хочешь?» — «Сами знаете. Отец вы не родной». У меня земля под ногами качнулась. Столько лет спокойно жили. Думалось, навсегда. И вот…
— Понимаю, — кивнул Мазин.
Я тоже понимал, но не сказал ничего.
— Земля качнулась. Как тогда, в молодости. А он нагло так: «Только в обморок не падайте. Не создавайте атмосферу. Люди мы взрослые, а факты вещь упрямая. Вы папаша примерный, кто спорит? Но есть и другой, кровный». Я вскипел. «Нет такого!» — «По паспорту нет, не спорю». — «На свете нет». — «Кто это вам сказал?» И ухмыльнулся глумливо.
— Как скверно, — сказал я.
— Куда хуже! «Не смей оскорблять мать Лены!» — я ему крикнул. Наверно, понял он, что перегнул, испугался. «Что вы! Я ничего плохого…»
Эту сцену я мог представить себе без труда. Все было очень похоже на Вадима.
— В общем, несмотря на всю остроту, — продолжал Олег Филиппович, главное в разговоре сказано не было. Я не понял его. Решил, что сам факт ему стал известен, что Лена дочь моя не родная. А о живом отце речи не было. То ли не входило это в его планы, то ли струсил просто.
— Как же вы себя повели?
Олег Филиппович махнул рукой.
— Плохо. По программе минимум, как говорится. Хотел одного: уберечь семью, близких от всего этого. Доказывал ему, что отца Лены нет в живых и гнусно играть на этом.
— Но не убедили? — спросил Мазин.
— Как я его мог убедить! У него уже свои доказательства были.
— Однако вам он их не предъявил?
— Я же говорю, побоялся обострять.
— Простите за неприятный вопрос, Олег Филиппович, вас он поколебал в уверенности?
— Честно?
— Только так.
— К сожалению, нет. Я верил Наташе.
— Почему же к сожалению?
— Я бы предпринял что-нибудь.
— Что?
— Не знаю. Я не думал. Я верил, что отец умер.
— А сейчас?
Наступила мучительная пауза.
— Сейчас, как видно, отца уже действительно нет в живых.
— Что вам сказала Наташа? — не выдержал я. — Она первая этот разговор начала?
— Да.
— После моего приезда?
— Да.
— И что же?
— А вам что она сказала?
— Да, собственно, это я ей говорил… о Сергее, а она не возразила. Учитывая ее состояние, я принял это за подтверждение. Но вам-то она должна была сказать больше. Тем более по собственной инициативе.
Слово «инициатива» прозвучало как-то неуместно.
— Мне она сказала: «Крепись, Олег, грязная рука к нам потянулась». И сказала, что нужно было сразу рассказать.
— А сейчас?
— Нужно думать, Вадим был прав. Но я не хотел… уличать ее. Как бы то ни было, она хотела как лучше.
— Значит, все-таки Сергей? — повернулся ко мне Мазин.
Я не ответил. Но Олег Филиппович тоже обратился ко мне.
— Вы должны знать больше других. Фото я видел. Это снимки, и только. Что вы еще знаете?
Я взглянул на Мазина.
— Расскажи, — кивнул он.
— Еще дневник…
Пришлось повторить для Олега Филипповича, что было написано в дневнике, и сказать о вырванных страницах.
— На этот раз мне показалось, что страницы вырвали после того, как я видел тетрадь впервые.
— Вы считаете, что это сделал Вадим? — спросил Олег Филиппович.
— Больше некому. Это для него козырный туз.
Сказано было излишне громко, потому что Мазин глянул на меня, как мне показалось, насмешливо.
— Зачем ему козырный туз, если игра выиграна?
— Выиграна? — переспросил Олег Филиппович. — Не верю.
Это было неожиданно. Ведь только что Олег Филиппович говорил, «нужно думать, Вадим прав» и соглашался, что жена могла не всю правду сказать, хоть и из добрых побуждений. Но, видно, когда говорил, уступал общему мнению, а думал иначе. Есть такие люди, они выслушивают чужие доводы до конца и перед истиной склоняются, но если доводы до сердца не дойдут, на краю остановятся и станут на своем.
Я это немножко позже осознал, а в первый момент мелькнуло: «Ну, это уже упрямство!»
А Мазин, на чью логику и здравый смысл я полагался больше, чем на себя, явно со мной разошелся.
— Говорите, это интересно, — поддержал он Олега Филипповича. — Почему не верите?
— Наташа мне соврать не могла.
Аргумент не из сильных. Так я подумал. Наверно, я подсознательно был «в пользу» Сергея настроен.
— И следовательно, настоящий отец умер? Тогда еще? — спросил Мазин. — Значит, Михаил?
Я бы такое предположение высказать не решился. Но оно было высказано, и оставалось принять и такую гипотезу, как ни возмущала она мои чувства. И все-таки…
— Погоди, Игорь! Я боюсь, мы на сплетни сбиться можем. Если уж есть такая необходимость, давай поступим прямо, как ты сам мне недавно советовал. Спросим у Наташи определенно — и точка. А так что-то не по-мужски получается. Перемывание косточек…
— Ты так думаешь?
— Сергей и Михаил мои друзья.
— Тогда продолжи фразу. Платон ведь тоже был друг… Но Олег Филиппович приехал узнать правду. Неужели ему не приходило в голову выяснить все напрямик, как ты предлагаешь? Олег Филиппович, я правильно вас понимаю?
— Совершенно верно. Допрашивать жену я не хочу.
Мазин посмотрел на него одобрительно.
— Вы мыслите юридически. Признание еще не доказательство.
— Вот уж об этом не думал.
Игорь улыбнулся.
— Уверен, что так и есть. Вы руководствовались постулатами нравственными. Но хороший закон тогда только и хорош, когда он совпадает с нравственной нормой. С этим ясно. Меня другое интересует — зачем вам истина?
Олег Филиппович несколько растерялся.
— Не удивляйтесь моему вопросу. Это не праздное любопытство. Я не думаю, что для вас так уж важны подробности давнего прошлого, через которое вы так мужественно переступили в свое время. Зачем же вам это теперь? Михаил или Сергей, какая разница?
— Большая, Игорь Николаевич. Если отец Михаил, это, как вы выразились, давнее прошлое. Для Натальи горькое. Кое-что я могу теперь себе представить. Но я бы предпочел именно это, горькое. Потому что мне глубоко противна возня вокруг наследства Сергея Ильича, будь то комната или труды его неопубликованные. Вся эта затея Вадима, в которую он мою дочь втянул, — а я говорю «мою дочь», потому что я ее воспитал и вырастил, — вся эта затея меня до глубины души возмущает и пугает, если хотите. Дорого за нее заплатить можно. Себя разменять, человека в себе разменять, понимаете? Потому я и приехал. Чтобы знать правду. Если насчет Сергея Ильича выдумка, нужно их заблуждение рассеять.
— А если нет?
— И в таком случае я против наследства буду. Но тогда уж мне труднее придется.
— Спасибо, Олег Филиппович. Теперь мне позиция ваша понятна, поблагодарил Мазин.
— Что же делать будем? Ваше-то мнение какое?
— Позвольте, я вам частично отвечу. Вы пока поступаете правильно. Жену допрашивать не нужно. Тут история такая получается, что одними семейными разговорами все равно не обойтись. Больше пока сказать ничего не могу. Прошу вас, потерпите. Недолго.
— Тем более что Лена и не хочет на квартиру Сергея переезжать, добавил я.
— Она девочка не корыстная, — согласился Олег Филиппович с удовлетворением. — Но он-то, он! Вадим. Вот ведь до чего безделье доводит… Придумал такое! Фотокарточки собрал, числа вычислил.
Тут Мазин возразил:
— Погодите, погодите. Числа и фотокарточки вещи вполне реальные. Отмахнуться от этих фактов, да и от дневниковых записей не так-то просто. Давайте не ставить точки над «и», будем считать вопрос открытым. Пока. Договорились?
— Я ехал…
— Понимаю. С надеждой выяснить. Но и мы с Николаем Сергеевичем не волшебники. Мы только глубоко сочувствующие вам люди. И сделаем то, что сможем. А вы помогите…
— Все что потребуется.
— На сегодняшний день требуется немного. Жена знает, куда вы поехали?
— Она дала мне телефон.
«А зачем, собственно?» Но он пояснил:
— Я сказал, что собираюсь встретиться с Николаем Сергеевичем, чтобы через него успокоить Полину Антоновну. Она не должна оставлять квартиру.
— Вот и хорошо. Считайте, что задачу вы выполнили. А остальное предоставьте нам.
— Если вы находите…
— Я уже сказал. Мы будем держать с вами связь.
— Спасибо.
Было видно, что он не совсем понял Мазина, но решил положиться на него.
Когда мы прощались, я еще раз с удовольствием пожал руку Олега Филипповича. У него было настоящее мужское рукопожатие. Не такое, что усвоили себе некоторые важничающие, по принципу «держите», и не залихватское, каким иногда хвастают не очень воспитанные здоровяки, демонстрируя свои физические возможности. Рукопожатие Олега Филипповича было искренним, сильным и в то же время достаточно коротким, чтобы не тащить руку из безнадежно сжавшей ее чужой ладони.
Мазин закрыл за ним дверь и вернулся в комнату.
Я ждал каких-то значительных слов, но услышал обычные, хотя и польстившие моему самолюбию.
— У тебя там немного фирменного блюда не осталось? Я не наелся. Вкусно очень.
— Сейчас подброшу. — На кухне я включил газ, чтобы подогреть чахохбили. — Минутку терпения.
— Но не больше! — засмеялся он.
— Игорь! Как тебе все это нравится?
— Я же сказал, очень вкусно.
— Да я не о курице.
— Между прочим, я тоже. Олег Филиппович — колоритная фигура.
— Согласен. Но я больше о Михаиле думаю. Тебе это имя ничего не говорит…
— Ошибаешься. Я о нем очень серьезно думаю.
— Ты согласен с Олегом Филипповичем?
— А ты нет?
— Нет.
— Почему?
— Я мог говорить о прошлом, о том, что помню. Но я приведу другой довод. Ход мыслей Олега Филипповича очень понятен. Это хороший человек, ему трудно смириться с обманом. Поэтому из двоих он предпочитает давно умершего. Он ведь сказал: я верю жене.
— Да ты, однако, обыватель, — пошутил Игорь. — Считаешь, что женам нельзя верить?
Вместо ответа я пошел и принес чахохбили. Мазин отломил хлебный мякиш и бросил в дымящийся соус.
— Все дело в том, что признание или непризнание Натальи в данном случае решающего значения не имеет.
— Мне трудно следить за ходом твоих мыслей, Игорь. В сущности, мы имеем дело с разными проблемами. Моя — житейская, прошлое моих друзей, их личные отношения, твоя — юридическая, сегодняшнего дня, Перепахин и другое, о чем полностью ты, конечно, мне рассказать не можешь. Я понимаю и не любопытствую. Хотя мне очень хотелось бы знать, каким образом они состыкуются. Из-за этого я и не уеду никак.
— Не преувеличивай секретность проблемы. Я молчу не по профессиональным соображениям. Меня сдерживает обыкновенное незнание, а предположениями делиться пока не хочу. Ты ведь их переоценить можешь. А насчет различия проблем ты не прав. Связаны они неразрывно. И твой разговор с Полиной Антоновной это подтверждает. Снимок сделал Перепахин.
— Я должен был сам об этом подумать. Я помню его с фотоаппаратом. Он тогда увлекался. Но я не совсем понимаю, что ты увидел в этом значительного?
— Так бы я не сказал. Но еще один фактик, который подтверждает мои предположения.
— Сам-то он как?
— По-прежнему. У алкоголиков бывает так называемый амнестический синдром, провалы в памяти. Причем забываются именно ближайшие события.
— И он ничего не помнит?
— Не помнит, почему и когда писал записку, как очутился на даче, был ли на набережной.
— То есть самое важное.
— Но прошлое он помнит. И это единственный путь в настоящее. Поэтому я и рад сведениям о снимке.
— А он знает, что его хотели отравить?
— Нет. Пока нет. Он должен оправиться, чтобы перенести такой шок. Поэтому и формально допросить его пока невозможно. А вот поговорить… Слушай, где ты научился так замечательно готовить?
Но я уже разгадал его ход.
— Игорь, это в самом деле превосходное чахохбили, но я думаю, что восторги твои слишком целенаправленны. Ты хочешь, чтобы я поговорил с Женькой?
Он положил вилку.
— Бывают же такие проницательные люди.
— Что я должен узнать на этот раз?
— Немного. Каким образом, при каких обстоятельствах снимок попал к Вадиму.
— А не к Лене?
— Наверняка она получила его от Вадима. В этом поверь мне на слово.
— А зачем, под каким предлогом я буду расспрашивать больного человека о таком частном случае? Он удивится.
— Скажи, что Наташа интересуется.
— Знаешь, Игорь, я, кажется, первый в мире сыщик, который не представляет себе, что он ищет и для чего.
Свидание с Перепахиным мне устроили в отдельной комнате куда его привезли в больничном кресле.
Я, разумеется, готовился увидеть тяжко пострадавшего человека, но действительность превзошла ожидания. Живой труп в данном случае выражение не самое сильное. Я стоял и не знал, что делать. Слов не находилось.
Вдруг по его мертвенно-желтому лицу поползло нечто напоминающее усмешку.
— Ну и дурацкий у тебя вид, — сказал он тихо, с трудом шевеля прилипшими к деснам губами.
— У меня? — спросил я так же тихо.
— А у кого ж! Ты что, живого алкаша никогда не видел?
«Да ведь жив-то ты по случайности…»
— Тебе плохо? — спросил я неуместно.
— А как ты думал? Согласно законам физического и нравственного разрушения.
Я держал в руке кулек с яблоками.
— Ты что принес?
— Вот…
Я положил кулек на столик рядом с креслом.
— Лучше бы пузырек принес.
— Может быть, хватит?
— Поздно.
Похоже было, что устами этого спившегося младенца глаголет печальная истина.
— А дети?
Это был больной вопрос, и он мучительно сморщился.
— Детей государство не оставит. Государство у нас доброе.
— Женя…
— Только не агитируй, ладно?
Я подавил вздох.
— Не буду.
— Вот и хорошо. Все сам понимаю. Но местами. С памятью провалы.
Он не хитрил. Видно было, что говорит правду.
— И как мы с тобой распрощались, не помнишь?
— Помню, дерево над головой качалось.
«Сам ты качался, старый дуралей».
— Верно, у дерева и расстались. А потом?
— Потом ночь. Ну и что? Сам видишь, не дали мне пропасть.
Пахло медикаментами. В шкафу за стеклом виднелись темного стекла флаконы с притертыми пробками.
— Ничего не помнишь?
— Ни фига. Удивляюсь только, почему сюда привезли, а не в вытрезвитель. Видно, совсем дуба давал.
— Да, было плохо.
— А ты как объявился? Ты разве уезжать не собирался? Путается у меня в голове. Кажется, про море говорили…
— Было и такое. Но я задержался. А с памятью у тебя тогда еще началось, под деревом.
— Заметил?
— Еще бы! Ты даже Михаила забыл.
Я сознательно не смотрел в этот момент на Перепахина и не могу сказать, как прореагировал он на мой вопрос внешне, но задел он его несомненно.
— Опять ты… Ну и что? Забыл.
Тогда он говорил «не знал».
— А Наташу помнишь?
Перепахин молчал, видно, соображал, как лучше ответить, «вспомнить» или прикинуться непомнящим. Потом повторил свое:
— Ну и что?
Это уже можно было принимать за согласие.
— Я был у нее.
— Ну и что?
— Да наплел ты тогда мне много.
— Что наплел?
Это он спросил быстро, заинтересованно.
— Насчет Сергея.
— Не помню.
— Тогда что говорить…
Женька снова погрузился в трудные размышления.
За дверью мимо простучали две пары каблучков. Послышался женский голос:
— Я сразу обратила внимание. Такой интересный больной…
Ответа я не расслышал.
Перепахин медленно произнес:
— А ты скажи. Может, я что-нибудь и вспомню. Мне же нужно память восстанавливать.
— Ерунду говорил. Про Сергея и Лену. На любовь намекал. Даже ребенка приплел.
— Ну и что?
Теперь это «ну и что?» звучало совсем не так равнодушно, как вначале.
— Бред, клевета, вот что.
— Не помню.
Меня это начало раздражать, хотя я и понимал, что человек, сидящий передо мной, болен, что он жертва злого умысла, и я пришел проведать его. Но ясно было и другое — он сам главный источник своих бед, и я пришел не только сочувствовать, но и узнать нечто важное. Важное, между прочим, для него самого. О чем, однако, говорить было невозможно.
— Женя, — решился я, взяв себя в руки. — На самом деле Сергей отец Лены?
На этот раз я смотрел прямо на Перепахина.
Он снова сморщился.
— Брехня.
Так коротко и ясно мог говорить только человек, который ничуть в словах своих не сомневается. Я несколько растерялся.
— Позволь…
— Брехня.
— Да ты сам подтвердил это!
Конечно, эту фразу он не понял. Нужно было пояснить.
— Снимок на кладбище ты делал?
— Еще что… У меня с памятью…
Но сомнений не было, на этот раз он укрывался, и укрывался сознательно.
— Ну ты же понимаешь, о каком снимке идет речь?
— Мало ли что! Я много снимал. Я был известный фотолюбитель. На выставках участвовал.
Про выставки он врал.
— Ты снимал похороны Михаила, а говоришь, что не знал его.
Все-таки пьяницы — народ живучий. У него еще сохранилось чувство юмора.
— Я всех покойников знать не обязан.
Юмор сомнительный, что и говорить, но раз у него хватает сил на такое, говорить с ним можно.
— Эта фотография и подтвердила, что Лена дочь Сергея.
И я вкратце попытался разъяснить ему цепочку Вадимовых доказательств.
Мои слова, несомненно, производили впечатление, но какого рода, разобраться было трудно.
— Значит, я это снимал?
— Ты.
Я нажал на это короткое местоимение, и он сдался.
— Ну и что?
«Сказка про белого бычка!»
— Зачем ты отдал ему фото? Сам отдал? Или он попросил у тебя?
— Конечно, попросил.
— Зачем?
— Очень просто. Теще хотел подарить. Она ж там снята.
Выходило в самом деле просто.
— Вот и подарил.
— Ну и что?
— Да прекрати ты это свое «ну и что»! — невольно повысил я голос.
— А что кричишь? Ты куда пришел? Тут больные люди. Ты зачем пришел? Что ты выспрашиваешь? Я больной, понял?
Возразить было трудно.
— Извини.
Он тут же обрадовался.
— Вот. Другое дело. Пусть я последний человек, но и меня уважать надо. Потому что, хоть и последний, но человек! А доказательства эти липа. Подумаешь, вычислитель. Хлюст он.
Не знаю, почему, но мне показалось, что в настроении Перепахина произошло изменение. Что-то приободрило его. Но что, я догадаться не мог.
— Ты Вадима все время хлюстом называешь.
— А разве не хлюст? Говорил, сюрприз для тещи, а что выдумал! Хлюст. Я знал, что он выдумает. Обязательно выдумает и запугает всех, чтобы имущество получить.
— Какое имущество?
— Сергеево.
— Да что там за имущество особенное?
Перепахин даже приподнялся в кресле.
— А ты посчитай. Считать умеешь? Арифметику проходил? Сколько одни книги стоят? А?
Честно говоря, с этой точки зрения я на происходившее не смотрел. А было многое на поверхности. Библиотека Сергея создавалась десятилетиями.
— А коллекция? Думаешь, от кого я рубли спасал?
— От Вадима?
— Точно.
— Как же ты в его замыслы проник?
— Что, Перепахин дурней других?
— Почему ты все это заподозрил?
Он вдруг ослабел, прикрыл глаза.
— Не помню. Память у меня…
И было похоже, что с памятью и сейчас что-то происходит. Вроде бы он пытался вспомнить… И вдруг вспомнил. Но не прошлое, а то, что было сказано минуту назад.
— Сергеева дочка?
— Ты не веришь в это.
Перепахин раскрыл широко глаза, оглянулся, поманил меня пальцем.
— Михаил ее отец.
— Как ты можешь знать такое?
Но он уже снова закрыл глаза.
— Перепахин сказал. Пусть не поддаются на провокации.
— Женька! Это очень важно. Даже Наташа не возражает…
— Я сказал. Больной я. Мне отдых нужен.
— Сейчас уйду.
И в самом деле, лучше было уйти. Перепахин нес уже явно избыточную нагрузку.
— Ешь яблоки, поправляйся.
— Теперь я понимаю, отчего Сергей грохнулся. Такое услыхать… Хлюст.
— Что ты сказать хочешь?
— Иди, иди.
Собственно, для такой ограниченной и непродолжительной беседы сообщил он немало. Я вышел на улицу и озадаченным, и во многом с прояснившимся пониманием одновременно.
Что для меня прояснилось? Скажу прямо, я поверил Перепахину в том, что отец Лены Михаил. Конечно, он никаких доказательств не привел, но сама его убежденность заставляла по-новому рассмотреть факты, которые вначале показались «упрямыми». Ясно, что подсчеты времени и снимки о самой личности отца говорили только косвенно. Больше всего на меня подействовало поведение Наташи. Она не отвергла «доказательства». Но и не приняла их определенно. Явно не приняла. Можно считать, что она не сказала ни да, ни нет. И, как я видел теперь, это было вполне естественно. Почему, на каком основании была обязана она открывать мне, почти случайному человеку, то, что было великой тайной и болью души много лет!
Нет, прямо и откровенно могла она говорить только с Леной и с мужем. И в свое время правду мужу сказала. И он верит ей до сих пор. А с Леной просто разговора еще не было. Вот так.
И второе, что сказал Перепахин, тоже без доказательств. Вернее, даже не сказал, а упомянул косвенно, но так, что вывод сделать можно было. Вадим пришел к Сергею с собственной версией, и потрясенный Сергей не выдержал. Но тут возникало два необходимых вопроса: знал ли Перепахин о разговоре Вадима с Сергеем наверняка, и, что, может быть, самое главное, верил ли Вадим в свои «доказательства» или подло извлекал собственные выгоды, по сути дела, шантажом?
«Вот этого мы никогда не узнаем. Такое ни при каких обстоятельствах не скажет… Хлюст», — повторил я мысленно словцо Перепахина.
Так я думал, не сомневаясь, что правду Вадим не скажет и спрашивать у него бесполезно, а одновременно испытывал сильнейшее желание спросить, прямо спросить, глядя в глаза.
И не скрою, подталкивало меня еще одно обстоятельство. Ведь именно Вадим был тем человеком, который, по видимости, подсыпал снотворное Перепахину. Но по видимости только! Зачем?! Вот вопрос, на который ответа у меня не было, а встреча с потерпевшим от возможного ответа и вовсе увела. Убивать Перепахина у Вадима не было оснований, необходимости. Пусть его предположение о Сергеевом отцовстве и зародилось под влиянием разговоров и воспоминаний Перепахина, что из этого?
Поведение Вадима было в худшем случае житейской подлостью, но не преступлением против закона. Верил он в свою версию или не верил, закона не нарушал. Он имел право предположить и высказать свои доводы. Пусть даже потрясенный Сергей умер, с позиции юридической Вадим за это отвечать не мог. Но если нет преступления, нет и сообщника. А тем более такого, от которого нужно избавляться всеми средствами.
Да и почему умирать Сергею? Разве мог Вадим его запугать, шантажировать? Наглый домысел было легко рассеять…
Все эти мысли снова создали сумбур в голове, прояснившейся было после разговора с Перепахиным. Опять что-то не вязалось, одно исключало другое. Теперь я уже просто чувствовал необходимость повидать Вадима.
И я подчинился этому чувству.
Потом оказалось, что я допустил ошибку.
Коллективный сад, который оберегал Вадим, находился довольно далеко. Сначала автобус пересек незнакомый мне, недавно появившийся микрорайон, в архитектуре которого были заметны попытки скрасить неизбежную похожесть жилых домов отдельными нестандартными зданиями вроде кинотеатра и универсама, потом я ехал промышленной зоной, тоже новой, со множеством индустриальных сооружений, и за ними только на косогоре, сбегавшем довольно круто к мелководной речке, возникло наконец зеленое детище вечного стремления человека к земле и дереву, выращенному своими руками.
В отличие от тяготеющего, несмотря на все усилия, к стандарту микрорайона, здесь разнообразия было хоть отбавляй — от времянок, которые, казалось, держатся на одном честном слове до первого порыва свежего ветра, до комфортабельных, с выдумкой поставленных особнячков, наводящих на мысль о сомнительных доходах их владельцев.
Конечно, я рисковал не застать Вадима и даже не найти его в этом рукотворном лабиринте пронумерованных квартальчиков, но народ тут неплохо знал друг друга, и я скоро подошел к дому, замаскированному так, что трудно было понять, то ли эта дача с подвалом, то ли с мезонином.
Поблизости от сооружения были сметены в кучу и подожжены опавшие листья. Возле костра в шезлонге сидел, закинув ногу на ногу, Вадим и меланхолично следил за голубоватым дымком, относимым от него легким движением воздуха.
Разумеется, он должен был удивиться, увидев меня, и удивился наверняка, но виду не подал и даже не приподнялся в кресле, нарочито удерживая ноги в прежнем положении. Больше того, он и не подумал предложить мне присесть.
— Как там на море? — спросил Вадим с издевкой.
— Хорошо, я думаю.
— Что ж вы так рано вернулись?
— Оставьте этот тон, пожалуйста. И дайте мне стул.
— Ах, виноват.
Он поднялся и пошел к дому, бросив на ходу:
— Занимайте кресло. Я себе принесу.
И он притащил стул и сел на него так, что спинка оказалась впереди. На спинку он уложил руки и, опустив на них подбородок, уставился на меня теперь уже с подчеркнутым любопытством.
— Чему обязан?
— Вадим, вы наломали дров.
Он сделал неопределенную гримасу.
— Вы так думаете?
— Я знаю. Я видел Лену, виделся с ее родителями, говорил с Полиной Антоновной.
— Разве вы уже на пенсии?
— При чем тут пенсия?
— Любимое занятие пенсионеров — чужие дела.
— Между прочим, вы пока в возрасте цветущем, а к чужим делам проявляете интереса побольше любого пенсионера.
— Один — ноль в вашу пользу.
Эта миролюбивая фраза меня приободрила.
— Неужели это вы так расстроили Сергея Ильича?..
— Чем? — спросил он резко.
— Вы были у него? Говорили с ним?
— О чем?
— О его мнимом отцовстве.
Теперь он смотрел на меня жестко.
— Кто вам сказал?
— Я могу предполагать.
— А сказал кто? Перепахин?
— Не уходите от ответа. Я спросил.
— Вот вам ответ. Я никогда не говорил с Сергеем Ильичом о том, что он отец Лены.
Вадим произнес это так подчеркнуто, почти скандируя, что я не мог не поверить ему.
— Извините.
— Прощаю. Вы были у Перепахина?
— А вы знаете, что с ним?
— Это весь участок знает. Его вон оттуда вывезли, с соседнего квартала.
То, что дача, на которой нашли полумертвого Перепахина, находится так близко от пристанища Вадима, я не ожидал.
— Да, он в больнице.
— Вы были у него?
— Был.
— Живой?
— Да, приходит в себя.
— Ничего не помнит, конечно?
— Откуда вы знаете?
— С ним всегда так. Наберется, и память отшибает.
На этот раз было, конечно, не как всегда, но об этом я не сказал. Напротив, согласился.
— Да, с памятью у него неважно.
— А вы его наслушались.
— Почему?
— Уверен, вы от него заявились.
Проницательность Вадима раздражала меня.
— Не имеет значения, от кого я пришел. Важно, зачем.
Он изобразил поклон.
— Я весь внимание.
— Я уже говорил. Вы наломали дров. И я хочу знать, неужели вы в самом деле верите в то, что Лена дочь Сергея Ильича?
Он поднялся и сделал шаг ко мне. Признаться, я не понял его движения и отодвинулся невольно. Но он всего лишь нагнулся и достал из-под шезлонга бутылку, которую я раньше не заметил. Бутылку он неторопливо поднес ко рту, сделал глоток и только после этого усмехнулся.
— Что это вы отпрянули? Испугались?
Признаваться не хотелось.
— Ответьте мне, пожалуйста.
— Ну, если это вас так заинтересовало… Да, я верю. Я даже уверен. Довольны?
И он чуть покачнулся, опускаясь на стул.
— Вы… пьяный?
— Предположим.
— Понятно.
— Что вам понятно?
— На трезвую голову такое не выдумаешь.
— О моей голове не беспокойтесь. Она в порядке. Это вы неудачливый сыщик, вынюхиваете, вынюхиваете, а все без толку. А я собрал доказательства. С математической точностью.
Мое раздражение усилилось.
— Я говорил с Наташей…
Это его рассмешило.
— Нашли кому верить.
— А зачем ей скрывать? Теперь, когда Сергей умер.
— Как зачем? Она мужу наврала. Вот и боится правды.
— Вы это серьезно?
— Я собрал факты, — повторил он упорно. — У меня доказательства.
— Я знаю, как вы их собираете.
— Чем вам мои методы не нравятся?
— Зачем вы вырвали страницы из дневника?
— Какого еще дневника?
Если он и притворялся, то очень умело.
— Из дневника Сергея, который вы видели у Полины Антоновны.
Вадим снова встал.
— Это еще что?
— Вы прекрасно знаете. Почему же вы не предъявили это доказательство? Или оно опровергает все предыдущие?
Я тоже поднялся. И тут он заорал:
— Послушайте, вы! Вы чокнутый? Да? Я в глаза никаких страниц не видел.
Конечно, ему было невыгодно признаваться, но чтобы так вскипеть…
— Значит, вы не вырывали страниц?
Не знаю, каким образом он взял себя в руки. Видимо, это было выгоднее, полезнее.
— А что там было, на этих страницах?
Сказать правду значило лишиться всех преимуществ в разговоре.
— Там говорилось о настоящем отце, — рискнул я.
— Плевать. Мало ли что написать можно…
— Он писал для себя.
Вадим не спорил. Он взял вилы, прислоненные к стене дома, и поворошил затухающие листья. Дым повалил сильнее.
— Чушь. Ладно.
— В том-то и дело, что не ладно. Прекратите лихорадить чужую жизнь. И жене голову забивать.
Я не ждал положительного ответа на эти слова, но он согласился:
— Ладно.
Это было сказано так покладисто, что я мысленно поблагодарил его. Я всегда предпочитаю худой мир доброй ссоре и готов откликнуться на каждое миролюбивое слово. Я только не придал достаточного значения быстроте происшедшей в нем перемены.
«Он вспыльчив, груб, может быть, и корыстен, но легковерен, неудачлив. Может быть, Лена оценивает его вернее, чем другие…»
«Хлюст!» — прозвучало вдруг в голове настойчивое, злое, перепахинское.
А он будто подслушал.
— Черт с вами. Сумасшедшие вы все. Ладно. Не хотите считаться с фактами, как хотите. Что мне, больше всех нужно?
Я вспомнил, что говорил Перепахин о попытках «завладеть имуществом».
— Именно так, Вадим. Зачем вам находиться в фокусе недоброжелательства? Играете в сердитого молодого человека.
С детства меня учили, что зло возникает в определенных условиях, а по природе человек добр.
— Какой еще фокус?
— Ну, вы восстановили против себя немало людей.
— Например?
— Сами знаете.
— Теща? Ей по должности положено. Тесть — карась-идеалист. Полина? Сами знаете, валаамская…
— Прекратите злословить. От вас даже ваш приятель Перепахин не в восторге.
— Ну, если быть точным, это ваш приятель. А мой… старший товарищ. Он, увы, за свои слова не отвечает.
Я хотел возразить, и вдруг в памяти возник пьяный бред Перепахина о ребенке Сергея и Лены. Тогда он приписывал эту возможную сплетню Вадиму, хотя сам натолкнул его на эту выдумку. И такому человеку верить? А чего стоит его «предсмертная записка»? Но снотворное? Несчастный случай. Кому и за что убивать этого несчастного пьяницу?..
— Он наговорить может много.
— О чем?
— Да по всей этой некрасивой истории. Он ведь не просто от запоя лечится.
Я сказал и будто холодный душ ощутил. Перед глазами возник плакат военных лет: «Болтун — находка для шпиона».
— Игорь! Ты должен принять меня немедленно.
Я сказал эту фразу, волнуясь, по телефону из приемной в управлении.
Мазин ничего не спросил.
— Спускаюсь.
Потом он молча повел меня длинными коридорами. Навстречу попадались люди в форме и штатском, деловитые и подтянутые. Прошли стенд, красное и золото, «Они сражались за Родину» и вошли в его кабинет. Тут было просто и просторно. Над столом портрет Ленина, на стенах карта области и план города, на подоконнике вьющийся почти до потолка цветок, на столе телефоны, бумаги в папке.
— Садись.
— Я, кажется, сделал непоправимую глупость.
— Не драматизируй, пожалуйста.
Как мог, я восстановил мой разговор с Вадимом.
Он постучал пальцами по столу.
— Проявил инициативу?
— Мне вдруг показалось, что мы все в чем-то ошибаемся, ну и…
Он улыбнулся. Переспросил:
— Ну и?..
— Сморозил. Так ведь?
— Мегрэ такой ошибки не допустил бы никогда.
Хорошо, что он нашел возможность пошутить. Я себя чувствовал скверно.
— Что же делать?
Ответ был для меня полностью неожиданным.
— Поедем к Полине Антоновне.
В моем положении лучше было не удивляться и не расспрашивать, а только соглашаться.
И я, как будто все понимаю, последовал за ним. В машине он задал всего один вопрос:
— Были эти страницы или ты ошибаешься?
Странно, я думал о Вадиме, а он о дневнике. Так мне казалось, а на самом деле он думал о главном, а я о частностях.
— Да, сейчас я уверен, что страницы вырваны после того, как я смотрел тетрадь.
Мазин кивнул и переехал дорогу на пределе желтого света. Я подумал, что и он волнуется.
Когда Полина Антоновна увидела нас вдвоем, она непроизвольно запахнула на груди вязаный шерстяной платок. Конечно, в квартире было довольно прохладно, на термометре ртуть поползла вниз, а отопительный сезон еще не начался, и все-таки это движение было скорее инстинктивным, чем обычной попыткой уберечься от холода перед открытой дверью. Она будто от нас береглась, защищалась. Но не сказала ничего необычного. Пригласила войти, не спрашивая, зачем пожаловали. Предложила чаю. Мы согласились. Не было каких-то общих, незначительных слов о погоде, о том о сем, даже о здоровье не говорилось. Она готовила чай, а мы ждали. Причем я и сам не представлял, чего жду. Были поставлены на стол чашки, сахар, печенье. Закипел чайник.
— Ну, говорите, — сказала Полина Антоновна.
— Я думал, вы нам скажете.
— Что?
— Полина Антоновна! Я знаю, я для вас гость нежеланный. Вы не хотели, чтобы Николай Сергеевич привлекал меня к тому, что произошло. И мне не хотелось вторгаться в вашу жизнь. Вы заслужили покой и отдых…
— Скоро отдохну.
— Но лучше поживите. А я тут не для того, чтобы жизнь вашу сокращать. Наоборот, когда скажем друг другу все, как было, вам легче станет. И поверьте, я вам не враг.
— Не враг, — согласилась она.
— Я обязан… Правда не только лучше. Когда она на виду, зло отступает. Когда скрыта, зло действует, продолжает действовать, вьет свои петли из прошлого…
— Хочешь сказать, сколько веревочке ни виться?..
— Я не враг, — повторил он.
— Спрашивай.
Может быть, Мазин ожидал, что спрашивать не придется, но он был готов и к такому варианту.
— Николай Сергеевич видел дневник дважды. В первый раз там были все страницы, а потом оказалось, что последние вырваны. Правда это?
Чашка дрогнула в ее руке.
— А если совру?
— Ну, что вы.
— Вырваны страницы.
— Вадим вырвал?
Она сказала спокойно и с достоинством:
— Виновата. Не он вырвал.
Следовало спросить: «А кто?» Но Мазин ждал.
— Я вырвала.
Это был логичный ответ. Если не Вадим, то больше некому. И все-таки я поперхнулся.
Мазин спросил, не повышая голоса:
— Вы уничтожили их?
Полина Антоновна поднялась, высокая и прямая.
— А зачем вы правду ищете?
— Я сказал, чтобы пресечь зло.
— В чем оно?
— Если бы телефон не был отключен, Сергей, возможно, был бы жив. Это первое. Второе. Хотели убить Перепахина.
— Да какое это отношение имеет?..
— Прямое.
Тогда она вышла из-за стола, наклонилась над комодом, выдвинула ящик, нащупала что-то под сложенными простынями и достала.
— Читайте. — Два свернутых пополам тетрадных листика она положила перед Мазиным. — Читайте вслух.
Но Мазин протянул их мне.
— Прочитай. Ты знаешь его почерк.
Я вытащил очки. Сразу было заметно, что запись сделана позже, чем все остальные. Чернила меньше выцвели. Первая строчка была видна очень ясно, но я никак не мог найти силы произнести ее.
— Читай, — повторил Мазин.
Я произнес с трудом:
— «Это я убил Михаила…
Никакие смягчающие причины и обстоятельства не могут оправдать меня в собственных глазах. А именно это главное. Меня не утешает формальная логика, которая гласит — после не значит поэтому. Я знаю, то, что случилось после, произошло поэтому. Но я не пошел и не рассказал. Смешно, если бы мне пришлось доказывать суду собственную вину. Но и это отговорка. Почему же я скрыл правду? Не хотел причинить ей незаслуженные страдания? А если честно, струсил? Нет, не знаю. Но я виноват».
На другой странице была одна короткая запись.
«Как случается такое? Живет человек, любит, надеется. И вдруг на него обрушивается…»
Видимо, он собирался продолжать, но раздумал или помешало что-то. Фраза оборвалась, и ничего больше написано не было. Музыка, какая-то современно-нелепая, вдруг громыхнула за окном, во дворе, и тут же, к счастью, приемник или магнитофон прикрутили.
Мы посмотрели на Полину Антоновну.
— Он не убивал его.
— Расскажите, — попросил Мазин.
Она отодвинула от себя чашку.
— Не думала, что придется, не хотела… Ведь вся жизнь его исковеркалась. Ну, да теперь что…
— Я и представлял… — начал было я, но тут же заметил, что сказал «представлял» вместо «не представлял», и умолк. Вовремя. Нельзя было ей мешать.
— Он любил Наталью. А она его нет. Что поделаешь? Сердцу не прикажешь. Но он очень любил. И вдруг узнал, что она любит Михаила. И не только любит. Ребенок будет. Произошло объяснение. Здесь. Но что и как, я не слышала. В кабинете говорили. Да я и не подозревала, о чем. Потом вышли все втроем… Третий Женька Перепахин. Он и узнал, что Михаил к Наталье ходит, и сказал Сергею.
— Сказал… Он сказал.
— Понятно. И они ушли?
— Недалеко. Только во двор спустились… Вдруг возвращается Сережа. Очень быстро. И лица на нем нет. «Что с тобой?» — «Тетя, я ударил его. Сильно ударил». — «Кого?» — «Михаила». — «Как? Почему?» — «Он подлец. Он мне такое говорил… Про Наташу. Он так назвал ее… Я ударил его палкой. Он упал, кажется…»
Полина Антоновна прервалась:
— Сейчас я…
Она покинула нас на минуту и возвратилась с палкой. Я сразу узнал эту палку. Она досталась Сергею от деда, вишневого дерева палка с тяжелой металлической ручкой. Он пользовался ею долго, а потом перестал. Говорил, что с ногой стало лучше. Теперь я вспомнил, что произошло это после смерти Михаила.
— Вот! — Полина Антоновна положила палку на стол. — Сергей ударил, тот перехватил палку, поскользнулся, упал. Так я поняла со слов Сережи. Я набросила платок, побежала во двор. Все-таки ударил, упал… Мало ли что… Но честью и совестью клянусь, Михаила я не видела. Во дворе его не было. Только эта палка валялась. Я подобрала ее…
Полина Антоновна остановилась, чтобы передохнуть.
— Не волнуйтесь, — сказал Мазин. — Мы вам верим.
— Не вру я. Какой смысл? Особенно теперь. Да разве одним ударом такого парня убьешь! Он вырвал палку у Сергея, бросил ее и пошел… Я вернулась, говорю: «Успокойся, Сережа, нет его во дворе. Ушел Михаил. Расскажи все толком». Сергей рассказал. «Если так, — я сказала, — пусть не возвращается». И он не вернулся. Через час шум во дворе, милиция приехала, мертвого нашли в подворотне. Но погиб он не от руки Сергея.
Мазин ощупал металлическую ручку.
— Да. Смертельный удар был нанесен другим предметом.
— Спасибо, — наклонила голову Полина Антоновна. — Но промучился Сергей всю жизнь. И моя вина тут есть. Я ему рассказывать запретила. «Не смей из-за подлеца жизнь губить!» Не его вина.
А он писал иначе.
— Вы думаете, он вас послушался? — уточнил Мазин.
— Ее он не хотел впутывать, вот что тут роль сыграло.
Полина Антоновна сказала все.
Но как ни потрясло меня прочитанное и услышанное, суть дела осталась прежней. Убил Михаила все-таки случайный подонок, и винить в его смерти Сергея, Полину Антоновну или самого погибшего, оказавшегося совсем не тем человеком, каким виделся нам в юные, во многом наивные годы, можно было лишь чисто житейски, отдаваясь чувствам, вины юридической ни на ком, разумеется, не было. Так я размышлял, упустив при этом нечто очевидное и существенное, чего не мог, конечно, упустить Мазин.
— Был еще Перепахин.
— Женька? Нет, его не было.
— Вы говорили, что они вышли втроем.
— Вышли вместе, это верно, но только спустились вместе. В дворе, когда ссора снова вспыхнула, Женька сказал: «Ну, разбирайтесь сами». И ушел.
Наверно, мы с Мазиным одновременно подумали об одном — Перепахин мог считать Сергея убийцей. Но Полина Антоновна будто подслушала нас.
— Потом Сергей все рассказал ему. Женька поверил, это так. Он любил Сергея. Всю жизнь от него не отставал.
Что ж, и тут был резон. Вряд ли Перепахин так тянулся всегда к убийце. Скорее бы отошел. Умолк, хотя бы из нежелания в суде фигурировать, и отошел. Забыть бы постарался.
— Вот вам и все, — заключила Полина Антоновна. — Не хотела я говорить, а теперь вроде даже полегчало. Лучше правду не таить. И что бы вы ни сказали, я Сергея не виню. Как он мог поступить иначе? Парень, мужчина. И его оскорбили, и девушку предали. Должен был ударить, я считаю. А дальше все пошло по случайности. Если и есть вина, то на мне. Вяжите старуху. Раз закон требует.
— Закон, Полина Антоновна, не мертвая машина. Он тоже кое-что понимает. Не такая уж слепая Фемида, хоть и с завязанными глазами. Если бы косила слепо, наверно, люди бы с этим не смирились.
Мазин встал, глянув на часы.
— Спасибо вам. Вам легче, и нам тоже. Мы к вам не из праздного любопытства, поверьте.
— Верю, — проронила она.
— Ужасная история! — сказал я Мазину, садясь в машину. Но он думал о своем и на мои эмоции не откликнулся. Тогда я пустил пробный шар иного рода: — Я понимаю, тебе это мало что дало. Но я потрясен.
— А мне предаваться воспоминаниям некогда. Я должен дело довести. То, которое я проиграл когда-то.
— Каким образом? В сущности, что было, то и осталось. Кто убийца по закону? Тот, кто нанес смертельный удар. А его все равно не найти. Помнишь вывороченные карманы? Что в них было? Он же бедный студент. Две-три старых десятки в лучшем случае. Ни фамильных перстней, ни именных часов, ни портсигара с монограммой, никаких обличительных предметов. Мразь, преступник наткнулся случайно и убил, воспользовавшись грошами. Если он жив, его уже никогда не уличишь. А скорее всего сгнил где-нибудь или дружки прирезали.
— Все может быть, — вздохнул Мазин. — Но все-таки нужно поговорить с Перепахиным.
— Сейчас?
— Потом можем не успеть. Он ведь ходячая развалина. Был. А сейчас лежачая. После этой встряски у него все обострилось — и печень, и сердце…
— Неужели так плохо?
— Медицине виднее. Но я одно знаю, к черте он сам вышел, а вот за черту его подтолкнули, во всяком случае, подтолкнуть пытались.
Иногда такая настойчивость не убеждает меня, а вызывает даже противодействие.
— Но почему ты категорически отвергаешь попытку самоубийства? Ведь была надпись в членском билете?
— Надпись — пьяная выходка. Ему не дали работу в реставрационных мастерских. Это мы установили. Вот он и намарал в знак протеста.
— Так просто ларчик открывался?
— Непросто. Этот ларчик один из многих, как содержимое сундука, в котором Кащеева смерть хранилась. Не ларчик, одна из матрешек.
Машина бежала по людным улицам, мимо домов, магазинов, стеклянных витрин, деревьев, по-осеннему одетых людей в плащах, с зонтами, предусмотрительно подготовившихся к непогоде, а осень, прохладная, все еще радовала ясным небом, солнцем, добродушно светившимся где-то за высокими зданиями. Было хорошо, и хотелось, чтобы никто из этих поспешающих или, наоборот, медлительных прохожих никогда не испытал боли и горечи, жил достойно и честно и не знал и не подозревал, почему мы едем мимо в машине.
Пышные, но увядающие уже цветы покрывали просторную площадку перед больницей. Мы вышли, поднялись к главврачу.
— Как? — спросил Мазин, и я понял, что он здесь уже не в первый раз.
Врач потрогал переносицу коротким пальцем.
— Боюсь обнадеживать. Если хотите, вообще удивительно, что он жив.
— Но он же еще не старый, — не выдержал я.
— У алкоголиков время течет иначе, — ответил врач.
Мы накинули халаты и вошли в палату, где я совсем недавно разговаривал с Перепахиным. Он снова был тут один, но на этот раз лежал. И заметно было, что стало ему хуже.
И тем не менее я бы не сказал, что наше появление вызвало в нем протест. Напротив, тусклые глаза чуть посвежели. И все-таки это были уже совсем не те глаза, что видел я несколько дней назад. Исчезла подвижная детскость, молодившая рано постаревшее лицо. На подушке лежала голова старика. Врач был прав, время, убыстренное пьяным угаром, сделало свое дело.
— Какие люди, — произнес он, желая говорить иронично, а сказал тихо и без всякого выражения. — Яблоки принесли?
— Мы по делу, Евгений Иванович.
— А разве со мной можно еще иметь дела?
— Только один вопрос. — Он не возразил. — Вы не можете вспомнить, что с вами было перед тем, как вы попали в больницу?
— Какая разница…
— Вам хотели повредить.
— Чем? Водкой? Нет. Это я сам. Я говорю: «Зачем ты эту гуделку завел?» А он: «Я тебе кофе смолоть хочу». — «Не надо мне кофе. Дай лучше водки». Он дал…
— Кто?
— Не помню. Мало ли кто… Я к каждому зайти мог. Там на дачах меня все знали.
— Это на даче было? — спросил я.
— На даче, — ответил он равнодушно.
— Хлюст! — вдруг неожиданно для самого себя произнес я громко. Слово будто хлестнуло, и Перепахин вздрогнул.
Я хотел было тут же спросить, уточнить, но Мазин схватил меня за руку. Я понял: важно не пережать, не вынудить, подтвердить то, что в наших головах сидело, а получить осмысленное добровольное показание.
Лицо Перепахина приобрело недоброе выражение.
— Он поил…
— Вадим?
— Хлюст, — подтвердил он тихо.
— Вы не ошибаетесь?
— Нет, все вспомнил. К нему меня занесло… пьяным ветром.
— С набережной?
— Какой набережной?
— Вы оставили на набережной пальто.
— Не помню… Нет, не оставлял. Что я, псих? И не люблю я набережную. Вода бежит темная. Мне еще с детства снится темная вода. Я этот сон не люблю…
Он говорил монотонно, будто сам с собой.
«Насколько можно ему верить?..»
И вдруг спросил:
— Мне крышка?
Мазин положил руку на одеяло, которым был укрыт Перепахин.
— Так думать не нужно.
— Дети у меня… Что вам еще сказать?
— За что он мог вас ненавидеть?
Перепахин долго молчал.
— Я сам виноват.
Ясно было, что он снова утрачивает силы. И он понимал это. И предложил решение, которого я не ждал.
— Трудно мне… говорить… Отвечать… Думать нужно… Вспоминать… А вы не можете магнитофон мне дать? Я бы по слову… понемножку рассказал. Длинно это и трудно. Но я не сплю ночью. Понемножку… Можете?..
Вот и кончилась моя затянувшаяся остановка.
Мы прогуливались с Мазиным по перрону, ожидая припоздавший поезд. Солнце упорно держалось, и надежды мои не иссякали. А настроение в целом было минорное. Все разъяснилось, жизнь поставила точки. Тайное, скрытое стало явным, а справедливость заняла достойное место. И все-таки… В ушах звучала длинная перепахинская запись. Хотя паузы и удалили — говорил он с большими промежутками, — сама речь не имела организованной последовательности, и требовалось напряжение, чтобы проследить за содержанием. Выходило приблизительно так:
«Я понял, он меня убить хотел… Хлюст. Дурак. Меня водка и без него сгубила. Детей жалко. Прошу государство детей не оставить!..
Когда я стал пить непрерывно, провалы в памяти образовались. И сейчас не помню, что я ему наплел про Михаила. Немного только помню. Когда он свое дурацкое открытие сделал, что Сергей Ленкин отец, мне смешно стало. Я так и сказал — дурак ты! А потом он вытягивал, почему дурак… Значит, я проговорился. Что у трезвого на уме… А разве такое забудешь?..
Мишка был сволочь. А мы, лопухи, его за приличного парня держали. Я его не выслеживал. Он почти открыто к Наталье ходил. И ночевать оставался. Она хорошая. Но попалась. Поверила. Любила его. Баба…
Я думал, говорить Сережке или нет? Должен же он правду узнать! Так или иначе узнал бы… А еще мне хотелось разоблачить эту сволочь. Он меня презирал всегда. Красавец удачливый… А я в художественное училище не прошел… Бездарь. Ну и что? Человека унижать никто прав не дал. А он меня однажды за ухо оттрепал, как малявку. Никогда не забуду…
Правда, я не ожидал, что Сергей так переживать будет. Он же просто с ума сошел. А тот спокойненько, свысока глумился: «Ты жизни не знаешь, женщин не знаешь…» Сережка ему: «Я такой жизни и знать не хочу». — «А другой не бывает». — «Бывает!» Шумели очень. Мне за Сережку плакать хотелось. Потому я не выдержал. «Разбирайтесь сами!» И ушел. Нет, не ушел. Любопытство пересилило. Стал в подворотне. Все видел, как Сергей ему влепил. Идет, сволочь, вытирается. Мне бы уйти, а я не ушел. «Схлопотал?» — говорю. Он озверел. И опять меня за ухо. Хрипит: «Заложил? Становись на колени, убивать тебя буду…» И гнет к земле. Тут я коленом об кирпич какой-то треснулся. От боли и от страха силы нашлись. Схватил камень…
Дальше не помню. Трагедия это. Все. Вру, помню. Я ему карманы вывернул. Правильно сделал. На бандита подумали… Потом жизнь покатилась. Пил много. Потом хлюст этот появился. Стал высчитывать, когда Ленка родилась. Я ему сдуру фото дал. Он поил меня, конечно… Не помню, когда, но, выходит, сказал что-то про Сергея. Тот хлюст к нему и подобрался…
Я тогда утром встретил его. Он к Сергею шел. Я — к телефону. Он отвечает: «У меня Вадим». Что я сделать мог?.. Когда пришел, поздно было. Телефон отключен…»
Это лишь кусочки из длинной записи, где многое повторялось, а многое было несущественным. Вольно или не вольно Перепахин, конечно, поступки свои приукрашивал, маскировал. Действительность была жестче. Не исключено, что шантаж Сергея задумали они вместе. Когда Сергею стало плохо, Вадим вместо помощи отключил телефон…
О том, как они дальше общались, можно судить по выразительному слову «хлюст». Опустившийся до предела Перепахин был опасен и не нужен больше. Вадим новую карту разыгрывал: Сергей — отец, а не убийца.
— А на что он рассчитывал, если серьезно? — спросил я.
Мазин подождал, пока прошла мимо тележка с почтой.
— Он пил бутылку в день. Правда, не сразу. Но тем более… В таком состоянии человек может рассчитывать на все, что угодно. Только хорошее в голову не приходит. Конечно, если смотреть разумно, все это были обреченные авантюры. И вел он себя глупо. Чего стоит одна выдумка принести пальто на набережную…
— Да. Зачем он это сделал?
— Наверно, хотел замести следы. Чтобы мы искали Перепахина в реке.
— Но ведь его нашли в другом месте.
— Может быть, Вадим собирался поджечь дачу или спрятать ночью труп где-нибудь в садах. Мало ли что могло крутиться в пьяной голове. Недаром мальчишки, которые видели, как он спускался к воде, сказали: «Алкаш утонул!»
Между прочим, свидетельство ребят очень пригодилось. Они твердо отвергли личность Перепахина и по фото назвали Вадима. Самого Вадима пока предъявить свидетелям не удалось. Я спугнул его. В тот же день он оставил Лене записку и исчез. В записке значилось:
«Все против меня. Считаю унизительным оправдываться. Уезжаю. Считай себя свободной».
Когда Мазин показал мне записку, я почувствовал себя скверно.
— Ничего, — сказал он, — куда ему бежать? Не тот преступник, чтобы скрыться.
— Какого же я свалял дурака!
— Бывает. Я и сам виноват. Не придержал твою инициативу.
Так он меня успокоил немного, а теперь провожал на вокзале. По радио объявили:
«Поезд номер… следующий из… прибывает на четвертый путь».
Подошло время прощаться.
— Я напишу тебе, когда… хлюст отыщется.
Странно, но именно это меня мало интересовало. Конечно, его задержат. Мазин прав, не тот преступник. Но почему именно такой? Откуда эта пустая душа, эта способность даже не убивать впрямую, а ускорять смерть, низко, подло отключить телефон, подсыпать снотворное?.. Остатки его, кстати, обнаружила экспертиза в кофемолке на даче, хотя Вадим и мыл, разумеется, кофемолку. Как этот умненький, вежливый мальчик превратился в беглого преступника? А ведь все в жизни было дано, дороги открыты… Чего же не хватило? Характера? Ответственности? Что увело с пути? Сам? А наша снисходительность? Склонность прощать без меры? Нетребовательность, которая не от доброты идет, а от равнодушия? И бутылка, рюмка с ранних лет, граммы за граммами, пока вместо ума и воли не остается слепая машина, что живет на ежедневной подкачке, «поддаче», пока мир не разделится на два — серый, не интересующий, и иллюзорно-заманчивый?.. Нет, не заманчивый, а больной, который нужно поддерживать постоянными дозами, а на дозы нужны деньги, а заработать их сил нет, и вот он, шаг за черту, достать, взять любыми средствами… Вот куда и библиотека Сергеева пошла бы, и уникальная коллекция…
Поезд подошел и остановился. Проводницы протирали поручни. Я протянул Мазину руку.
1984 г.
ОН БЫЛ ПРАВ… Повесть
Когда раздался телефонный звонок, было очень жарко. Я только что вышел из-под душа. По спине и груди еще стекали капли воды. Но звонок торопил, и я, вступив в резиновые тапки и накинув на плечи полотенце, пошел в комнату, наскоро вытирая ладони.
— Слушаю вас.
— Николай Сергеевич?
Нельзя сказать, чтобы голос был незнакомым, однако и не из тех, что слышишь часто. Требовалось время сообразить, вспомнить. Звонивший понял меня и помог.
— Это Мазин. Не забыл?
А я-то думал, что мы больше не увидимся. Однако почему?.. Только гора с горой не сходится…
— Игорь? Я рад. Где ты?
— Здесь, у вас, в командировке. Пользуюсь возможностью напомнить о себе.
Потом я не раз думал, были у него в тот момент практические соображения или нет? Впрочем, какие? Не стоит переоценивать собственную особу. Конечно, получить хоть малую информацию он всегда стремится. Это ж его хлеб. Но и повидаться захотелось наверняка. Все-таки не чужой человек в незнакомом городе…
— Молодец, что позвонил. Когда пожалуешь?
— Как пригласишь. Хозяин — ты…
— Это точно. Жена с внуком на даче. Так что я хозяин.
Пришел он вечером, позже, чем обещал. Но я понимал, что не по своей вине. Не в отпуск приехал.
Выглядел Мазин немного усталым, как часто выглядят летом не успевшие отдохнуть люди, но держался хорошо и поразил меня пиджаком и галстуком. Я, признаться, встретил его в трусах, довольно нелепых — старомодно длинных, но в кокетливых, не по моему возрасту, пестреньких цветочках.
Мы скептически оглядели друг друга.
— Прости, жара доконала, — сказал я немного смущенно и попробовал оправдаться; — Местная продукция…
Чтобы достичь некоторого равновесия, он расстался с изнурительной официальной частью одежды, а я натянул тренировочные брюки, благо к вечеру потянуло прохладой.
— Не думал, что у вас так жарко, — сказал Мазин, немного расслабившись и пробуя квас домашнего изготовления, предмет моей гордости.
— Ну, с такой зашоренностью…
Я провел ладонью по шее, там, где завязывается галстук.
— Что поделаешь! Я службист. Правда, недолго осталось. Уже пенсия на носу.
Трудно было понять, как он относится к этой неизбежной перемене.
— Чем займешься? Пойдешь в частные детективы?
— Ну, что ты! Это ты у нас частный детектив! Вернее, детектив-любитель.
— Я детектив-самоучка. Надеюсь, ты не за тем приехал, чтобы дать мне очередное задание?
Разговор складывался шутливо.
— Рад бы обратиться к проверенному человеку. Но на этот раз дела хозяйственные, хищения, левая продукция… А ты эстет.
— Разве ты и хозяйственными делами занимаешься?
— Нет, непосредственно — нет. Но большие деньги легко развязывают инстинкты. А это уже ближе к моему профилю.
— И насколько же развязали, если не секрет?
— Да вот недосчитались мы одного предпринимателя. Действовал он у нас, а сюда по личным делам приехал. И, как я понимаю, не вернется.
— Бежал? Или счеты свели?
— Вроде бы утонул.
— Вот как! Очередная «смерть на водах»?
— Перепахина вспомнил? Нет, это совсем другая история. Масштаб другой.
И Мазин прихлебнул квасу.
Не скажу, чтобы я заинтересовался судьбой пропавшего подпольного предпринимателя. Меня в отличие от некоторых сограждан подобные типы не привлекают ни во времена взлета, когда «королями» в обывательских глазах выглядят, ни в падении, тем более когда вчерашние «верноподданные» смакуют подробности судебных процессов. Однако традиции гостеприимства требовали, чтобы я проявил интерес к рассказу гостя, и я спросил:
— Ты его искать приехал?
— Здесь свои сыщики есть. Я с ними скоординировался только.
Ну, эти профессиональные дела меня еще меньше интересовали. Зато хотелось узнать другое. Почти не надеясь на добрые вести, спросил я о Полине Антоновне. Удивительно, но она еще жива. Долголетие в самом деле штука загадочная — ученым, как мне кажется, пока эта проблема не по зубам. А может быть, тут на первом плане не физиология, а какая-то психологическая загадка, особое умонастроение, своего рода философский характер, что не позволяет изъедать душу мелким, суетным огорчениям. Однако, с другой стороны, и отнюдь не суетного пережито сколько! Сколько близких потеряно, сколько ударов судьбы пережито, а вот живет человек!..
Поговорили об этом, о таких людях, которые в отличие от классических долгожителей, что обитают в горах, сыром питаются и приумножают потомство, в другой совсем жизни почти до века не сломились, теряя часто единственное, а не приумноженное.
Короче, известиями о смертях, чего я опасался, Мазин меня не огорчил. Даже Перепахин, которого и врачи-то схоронили, живой оказался и — надо же! — активист общества трезвости! Впрочем, Перепахин принадлежит к той категории людей, что вполне могли бы иначе жить, если бы строже с ними в свое время обращались. Так что новая ситуация ему прямую пользу принесла. Ну и, конечно, пережитое его встряхнуло. И так бывает — шагнул человек, постоял на краю могилы и отошел от нее надолго. Бывает…
И Вадим, оказывается, жив. Проживает, где положено. Ему, понятно, смерть и не угрожала, наоборот, он чужой жизни угрожал — и не без успеха. Теперь расплачивается.
Так я узнал, чего не знал, и разговор опять на сегодняшние дела перекинулся, причем по моей инициативе, последствий которой я, впрочем, не предполагал. Цель у меня была ограниченная, но считал я ее принципиальной. Речь шла об одном письме в защиту бывшей моей ученицы. Короче, двигало мной не праздное любопытство, и потому, преодолев некоторое внутреннее сопротивление — не люблю использовать приятельские каналы в сомнительных обстоятельствах! — я все-таки решился.
Вот в чем было дело.
Ученица эта давно уже не была ученицей. Просто в свое время она мой курс в пединституте слушала. Я тогда едва аспирантуру закончил, так что в обиходной жизни у нас могли совсем другие отношения сложиться. Но вуз обязывает, и поэтому отношения были только положенные: она — студентка, я — преподаватель. Однако не равнодушный… Что меня в ней в самом начале подкупило и привлекло? Если быть откровенным, наверно, то, что каждому начинающему педагогу льстит, — она слово в слово неотрывно записывала мои лекции. Увы, не все в группе так ценили мое мастерство. Были и эрудиты, не расстающиеся с кроссвордами, и книгочеи, увлеченные похождениями графа Монте-Кристо или Остапа Бендера больше, чем моим курсом, были и простые ребята, бесхитростные поклонники «балды». А она писала и писала, чуть наклонив симпатичную головку, и мне ее даже жалко временами становилось. Ясно, что такое прилежание я не мог не принять во внимание на экзаменах. Все, что я говорил, она знала. Ну а больше? А кто виноват, если я не донес, не заинтересовал? И я проставлял в зачетке высший балл, мысленно прибавляя минус не ей, но себе.
Вот и сложились положенные, но приятные отношения чтимого молодого преподавателя с прилежной студенткой. И так у нее не только со мной было. Она всем нравилась. «Милую Мариночку», как ее все называли, выбирали постоянно во всевозможные общества и организации, она везде успевала, а когда пришло время последнего курса, стал вопрос и об аспирантуре, но Мариночка, как мне помнится, сама не горела, предпочла общественную работу, а оттуда в школу, и там выдвинулась, доросла до директора. Школу эту хвалили, и я бывал там иногда на почетных правах и хвалил директора, нашу «милую Мариночку». И учителя приветливо улыбались и хлопали. Теперь, увы, мне хочется добавить — ушами.
Нет, я не хочу сказать «просмотрели»… Хлопали ведь и тогда, когда можно было понять, что хлопать не стоит. Но я забегаю…
Короче говоря, пока мы хлопали ушами и в ладоши, жизнь на месте не стояла, и вот недавно я встретил «милую Мариночку» на улице. И что же? Она ткнулась мне в плечо и заплакала. Правда, умеренно, точнее, обозначила слезы, не повредив скромной педагогической косметики.
Я, однако, был смущен до предела.
— Что произошло, Мариночка?
А она вдруг:
— Вы не знаете людей, Николай Сергеевич! На что они способны!
— У вас неприятности?
Она оторвала голову от моего плеча.
— Неприятности? Не то слово, Николай Сергеевич! Иезуитская интрига… Но меня не дадут в обиду. К счастью, еще не все подались в демагоги. И я так рада, что встретила вас, так рада. Я верю, вы подтвердите…
— Да что, Мариночка?
— Я прошу вас, зайдите ко мне, только домой, пожалуйста. Мои друзья составили текст письма… Ведь вы зайдете?
— Конечно, конечно. Но что?..
— Они меня в тюрьму упрятать хотят! Меня! Вы представляете? Я вам все расскажу. Вы придете?
Что ж… Ведь я уже обещал… Я посмотрел на нее. Лицо у Мариночки было уже не слезливое, и последние слова не жалобой прозвучали, а очень решительно и презрительно, пожалуй.
Вот как получилось. И, собираясь к своей ученице на следующий день, я подумал и решил спросить у Мазина, где получить мне нужную информацию, если тут уже замешаны следственные органы. Спросил, но кто может предвидеть, чем слово наше отзовется!
— Как фамилия твоей директрисы? Купченко?
— Неужели тебе что-нибудь говорит эта фамилия?
Мазин засмеялся.
— Ты поражен моим всезнайством, но я, откровенно говоря, удивлен больше. Впрочем, даже большие города, в сущности, маленькие, люди слишком скученны, и в таких совпадениях нет ничего удивительного.
— Но откуда ты ее знаешь?
— Я ее не знаю, а фамилия известна исключительно по служебной необходимости, — ответил Мазин. — Ну а если хочешь подробнее, пожалуйста. В школе у этой Купченко учится один интересующий меня мальчик: Михалев из 8-го «А» класса.
— Толя Михалев?
— Ну, вот! Ба, знакомые все лица.
— Он закончил восьмой класс в этом году?
— Да. Между прочим, и его отец там учился. Вот я и зашел к директору, а она ушла в досрочный отпуск не по собственному желанию.
«Домой меня звала», — вспомнилось.
— Значит, эта интрига… серьезное дело?
Все-таки я надеялся…
— С точки зрения закона? Как говорится, следствие покажет. Там еще работают… Я тут не в курсе. Случайно услышал.
«Милая Мариночка» и следствие? Никак пока не укладывалось!
— А при чем тут ее бывшие ученики?
— Да как тебе сказать, — пожал плечами Мазин. — Видишь ли, отец этого Толи умер недавно, судя по всему — несчастный случай, а жена сошлась с тем самым предпринимателем, который утонул, ну и так далее.
— Но тебя мальчик заинтересовал?
— Мальчик в результате всех этих событий в семье куда-то в бега подался, что в общем-то неудивительно.
— Да, мальчик этот склонен к крайностям.
Мазин снова засмеялся.
— Я вижу, ты мне не меньше расскажешь, чем учителя. Недаром нас учат опираться на общественность.
Но мне было не очень весело.
— Да, с этим мальчиком был у меня случай…
— Который тебя озаботил?
— Заметил?
— На лице написано.
— Откуда мне знать, что у мальчика отец погиб? А может быть, он тогда еще жив был?..
— Что же произошло?
— ЧП школьного масштаба, мальчику не понравился Евгений Онегин.
— И все?
— В школе решили, что этого немало.
— Не совсем понимаю.
Я посмотрел на Мазина, он и в самом деле ждал более конкретного ответа.
— Видишь ли, Онегин не просто часть учебной программы… Это своего рода…
— Оселок, — подсказал Мазин.
— Что?
— Оселок, на котором вы проверяете свои шаблоны.
— Ну, знаешь…
— Хорошо, не будем спорить. Почему же ему не понравился Онегин?
— Я тебе скажу, что он написал.
— Перескажешь?
— Нет, просто процитирую.
— Так запомнилось?
— Это нетрудно. Сам убедишься. Сочинение называется «Очень плохой человек». Вот полный текст. Помню почти наизусть:
«Человек, который, убив на поединке друга, жил без цели, без трудов, томясь в бездействии досуга, и ничем не умел заняться в двадцать шесть лет, — очень плохой человек».
Мазин смотрел, ожидая, видимо, продолжения.
— Все, Игорь. Это полный текст.
— Замечательно. Коротко и ясно.
— Ты всерьез? А по-моему, типичный мальчишеский эпатаж. Плюс верхоглядство.
Мазин пробарабанил по столу пальцами и ответил очень серьезно:
— Не согласен. Плохо вы детей учите.
— Ну, это вопрос сложный. Нельзя все так обобщать, хотя не спорю…
— Есть отдельные недостатки? — спросил он насмешливо.
— Сейчас стало модным пинать школу. А школа — это, между прочим, самоотверженный учительский труд. Учитель — подвижник, Игорь. Ты бы мог стать учителем?
— Не мог.
— Вот видишь!
— А твоя Мариночка смогла.
— С ней еще разобраться нужно, сам говорил.
— Говорил. Это ей мальчишка не понравился?
— Ее можно понять, Игорь. Она у них в классе литературу вела.
— А… Двойной подрыв авторитета? Пушкина и директрисы? Хотя почему Пушкина? Мальчик только привел его собственные слова.
— Но образ-то гораздо сложнее. За строчками многое и многое, что и в роман войти не могло.
— Десятую главу вспомнил? А Онегин там действует? И в каком качестве?
— Но Пушкин писал десятую главу!
— Писал, но не дописал! Вы скажете, по цензурным соображениям? А если нет? Вышла же Татьяна замуж для него неожиданно? Может быть, и Онегин тоже неожиданно не вышел. В декабристы. И остался для Пушкина, как и для этого мальчугана, просто плохим человеком.
Я попытался отшутиться.
— Игорь, это в тебе криминалист говорит. Ты не можешь простить того, кто убил.
— Особенно друга. Между прочим, предприниматель и отец мальчишки были друзьями.
— Ну, такого практического преломления пушкинского текста я еще не встречал.
— А зачем вы литературе учите? Кого вы хотите воспитать? Литературоведов или честных людей? Если литература рождается из жизни, то и влияет на нее. Но на каждого по-своему. По-разному и Онегина прочитать можно. Можно для заучивания к экзамену или чтобы учителю понравиться, а можно с собственной жизнью сопоставляя.
— Ты думаешь, он сопоставлял?
— Не знаю, Николай, не знаю, а знать такие вещи очень хочется, потому что в них часто ключик, клетка, в которой суть собрана. Ну и так далее… Жара, однако, лютая. Налей-ка квасу, если есть.
— Есть, есть. Сейчас достану из холодильника.
Наливая квас, я думал, что мог бы и поспорить с Мазиным. Одно дело — смелость при задержании тех, кто «вооружен и очень опасен», и совсем другое дилетантская лихость в наскоках на устоявшиеся научные взгляды. Слишком много лет отдал я преподаванию и пусть не стал ученым-первооткрывателем, но хорошо знаю, как трудно дается каждое новое слово, какими усилиями создается традиция, и потому не склонен разбазаривать то, что десятилетиями намывалось, как золотые крупинки. Но, кажется, Мазин от спора уже ушел, и я был рад этому; помимо чистой теории, мне пришлось бы защищать и свое участие в школьном конфликте, а тут, я чувствовал, теория и практика оказались в противоречии.
— Значит, мальчика нет в городе?
— К сожалению, нет.
— А он мог бы?..
— Как говорится в романах, пролить свет? Мне нужно знать, насколько причастна жена Михалева к смерти «друга», а для этого нужно представлять себе подлинные отношения в семье.
— Но у мальчика может быть очень субъективный взгляд.
— Я только посмотреть на него хотел, — сказал Мазин, не вдаваясь в подробности.
Слышать все это было грустно. В сущности, я всегда считал преступление чем-то исключительным. Никогда не бывал в судах, столько история погибшего друга столкнула меня воочию с этой печальной реальностью человеческого бытия. И вот оказывается, что какой-то мальчишка, которого я воспринимал исключительно сквозь призму школьного озорства, дерзкого поведения с учительницей, замешан в событиях, где выплеснулись темные силы людской природы, алчность, обман, даже убийство, может быть.
— Ужасно, когда в такие истории замешаны дети.
— Может быть, он ни в чем и не замешан. Судя по цитированному сочинению, это парень с обостренным чувством справедливости.
А я этого не понял, бросившись Мариночкин авторитет спасать. Может быть, потому, что тем самым как бы и свой защищал? Дедка за репку… А что в конце концов вытащили, какой плод? И плод ли извлекли или корчевали то, что растить нужно было? А теперь она меня опять в цепочку позвала, на этот раз себя из беды вытаскивать. И беда наверняка серьезная. Не такой уж я старый дурень, чтобы не понимать, что дым тут, увы, без огня не появился, и любимица моя где-то зарвалась. И тем не менее считает, что я должен ей помочь. Почему? Да убеждена в своем моральном праве на такую поддержку. С того самого дня, когда я в зачетке «отлично» вывел, а минус в голове оставил. С тех пор и живет она с убеждением, что полбалла можно, не заработав, присваивать. Сколько же они весят сегодня, сколько стоят эти «полбалла», если ими следствие заинтересовалось?..
Таким невеселым мыслям я предавался ночью, когда Мазин, наверное, уже спал давно в своей гостинице, — он ушел, хотя я и предлагал остаться, сказал, что не хочет меня утром беспокоить, а вставать ему рано. Мысли поворачивались и так и этак, но мало что приносили утешительного. Идти-то нужно было, раз обещал. А там видно будет, и вообще утро вечера мудренее. На этой расхожей истине я и остановился…
Дом, где жила «милая Мариночка», был мне известен, один раз пришлось там побывать. Не так давно был юбилей их выпуска, помню, хорошо посидели, в ресторане, в банкетном зале. Зал был модный, но уютный, заказано всего в изобилии, и остались мы всем довольны, но так уж, видно, человек устроен, что вечно ему чего-то не хватает, и когда вышли, Мариночка предложила:
— Ко мне, на чашку кофе.
Многим показалось резонным завершить встречу в домашней, так сказать, обстановке. Конечно же, кофе не ограничились, и Мариночка открыла красивую коробку с французским коньяком с вензелем императора Наполеона, золото на красном фоне очень смотрелось. Было нас человек десять. Хотя и замышлялась встреча группы, но, разумеется, всю группу через столько лет не соберешь, кто-то из далеко живущих не смог, кто-то не захотел, может быть, короче, в ресторане собралась в лучшем случае половина, а у Мариночки и того меньше, против чего я не возражал в душе, многолюдье меня уже утомляет.
Оставшиеся были, так сказать, сливками — те, что выдвинулись, достигли, был даже доктор наук, которого я называл коллегой, а он скромно, но не без удовольствия возражал: «Ну что вы, Николай Сергеевич!» Были и ответственный работник, и кандидаты. И может быть, правильно сделали те, что не приехали, потому что могли оказаться не совсем на равной ноге и вместо радости общения испытать нечто противоположное.
Но тогда я в эту мысль не углублялся, а только гордился воспитанниками, и не приходило в голову подсчитывать, в каком соотношении, скажем, бутылка этого коньяка, не говоря уже обо всем квартирном интерьере, с директорской зарплатой находится, которая, конечно, повыше учительской, но ведь зарплата все-таки… Зато одна гостья, кандидат с зорким взглядом, огляделась и в отличие от меня что-то скалькулировала и сказала с завистью — не знаю какой, черной или белой:
— А ты, милая, умеешь жить.
И это я благодушно воспринял — молодцы, мол, мои ученики! — хотя и мелькнуло: я-то, пожалуй, скромнее живу. Но тут же низменное сравнение подавил: что за ерунда, в гости пришел, а сужу! И неловко стало…
Когда я вышел из лифта на знакомой лестничной площадке, дверь Мариночкиной квартиры была открыта. В дверях стояли мужчина с чемоданом и хозяйка, Мариночка, видно, провожала его, взяв за локоть. Кажется, все мы смутились немного, но Мариночка тут же вышла вперед и сгладила неловкость.
— Николай Сергеевич! Как я рада. Это мой брат. Минутку. Я провожу его только.
Мужчина с чемоданом молча прошел к лифту, а я, напротив, в квартиру и сразу увидел, что тот комфорт, который мне запомнился, сменило нечто противоположное, что дискомфортом именуется. Замечу, в языке я пурист и консерватор, и новые слова мне трудно даются, особенно иностранные. В душе я даже осмеянные «мокроступы» предпочел бы галошам. По-моему, слово это гораздо понятнее — обувь, в которой по мокрому ступать. Ну да ладно, не в галошах дело. Дело было в другом. Квартира не то к переезду готовилась — даже ковер был снят со стены и свернутый лежал на полу, не то к переустройству.
— Ремонт затеяли, Мариночка? Говорят, лучше пожар, — начал я, но она прервала меня на полуслове.
— Какой пожар! Хуже пожара!
И сама она была одета как-то по-походному, собранно. В брюках и замшевом жилете, который напоминал на ней не то кирасу, не то какой-то панцирь.
— Ведь все описать и конфисковать могут!
Тут-то я понял, что означал чемодан в руках брата, вовсе не приезжего гостя. Видимо, в чемодане уносилось от беды нечто ценное.
— Неужели так серьезно?..
Я хотел, как обычно, закончить вопрос ласковым именем — Мариночка, но что-то помешало, не произнес.
— Они еще пожалеют. Они яму не мне роют. Неизвестно еще, кто эту кампанию затеял и кто в яму угодит.
Сказано было явно расширительно, не только о своих затруднениях, но о самом обновлений жизни, в котором она видела не назревшую всенародную необходимость, а лишь опасную кампанию, затеянную злонамеренными лицами. И она уточнила:
— Представляю, как радуются наши враги! Там…
Мариночка махнула в сторону окна.
Я проследил за жестом, но врагов не увидел, да, признаться, и не поверил, что они радуются Мариночкиным бедам. Скорее им следовало радоваться, когда она коньячок с вензелем от мамаши какого-нибудь оболтуса принимала, прибавляя в аттестат уже не полбалла, как я ей, а побольше. Но имел ли я право на такие мысли? Балл-то я первый завысил и коньяком угощался. «Вот так, Николай Сергеевич!»
— Вы меня по делу пригласили, как я помню? — спросил я то, что можно было бы и не спрашивать.
— Да. Я нуждаюсь в помощи друзей.
Я не знал, что сказать.
— Я прошу самого немногого. Несколько уважаемых людей, чьи имена известны в городе и которые хорошо меня знают, пишут письмо… опровергают клевету. Я надеюсь, вы, мой учитель, не останетесь в стороне.
Мне стало больно-пребольно.
— Где же письмо?
Она подошла к туалетному столику, вынула из ящичка лист бумаги.
— Вот черновик.
Черновик был написан ее почерком. Я хорошо помнил его еще с тех пор, когда читал лекции и видел, как быстро бегут из-под ее пера четкие круглые буквы.
Я прочитал написанное и немного успокоился, В письме, собственно, говорилось о том, что нижеподписавшиеся знают Марину Федоровну Купченко много лет, что школа, которую она возглавляет, неоднократно положительно отмечалась, выпустила столько-то медалистов, воспитала мастеров спорта, передовиков труда и так далее. Никакого «опровержения клеветы» в прямом смысле в письме не было. Видимо, каждая строчка соответствовала зафиксированным фактам. Возразить против такого текста было трудно. И все-таки…
Она заметила мои колебания.
— Что вас смущает, Николай Сергеевич?
— Да факты вроде бы бесспорные.
Мариночка воскликнула горячо:
— Я в вас не сомневалась. Вы же мой учитель.
Лучше бы она не повторяла это слово, но она повторяла, нарочито или бессознательно подчеркивая мою Ответственность. И нечего было возразить — недавно совсем на юбилейной встрече тосты поднимали, — они нас учителями называли, а мы гордились, что таких вырастили.
— Понимаете, Марина, совершенно случайно ко мне заглянул знакомый юрист…
— Случайно?
Прозвучал и сарказм и беспокойство.
— Да, случайно, — подчеркнул я. — Он из другого города, но мы учились в одном университете. Он приехал в командировку…
— И что же он вам сказал? — поторопила она меня.
— Да вот опять-таки случайно оказалось… Да, представьте себе. Оказалось, в поле его внимания тот самый мальчик — Михалев, что написал об Онегине.
— Наглец, который бросил вызов школе? Чего еще можно было ожидать? Вот и докатился. Милиция заинтересовалась…
Наверно, последние слова можно было произнести с бо́льшим пафосом, но она вовремя вспомнила, что не одним Михалевым милиция интересуется, и осеклась, а вернее, снизила тон.
— Что он там натворил?
— Девался куда-то…
— Не знала. Я же… в отпуске. Да и вообще каникулы сейчас. Но я не удивлюсь, если и это мне в строку поставят.
— Не думаю. Он сдал экзамены. Он исчез из дому, а не из школы.
— Все равно поставят. Раз уж взялись. У нас так. Все могут вытворять что угодно, кроме козлов отпущения. И прежде всего мы, несчастные шкрабы! Еще бы! Ведь мы стоим у истоков, мы за все в ответе. Мы, а не родители, что подобное чадо на свет произвели. А яблоня от яблоньки…
— Кстати, о яблоне. Его отец погиб.
— Знаю. Несчастный случай — папаша-то меня тоже учился.
«Господи! Как же время-то летит! У нее и отец и сын учились, а она у меня!..»
Но не о неизбежной старости пришел я предаваться размышлениям.
— И вы помните его?
— Еще бы!
Она вдруг усмехнулась и, достав из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой.
— Еще бы! Дня юности туманной. Дурочка, идеалистка. Мне хотелось, чтобы все любили литературу! Сколько я с ним помучилась…
— Как, и с сыном?
— Ну, папаша на Пушкина не покушался. До такого он просто не дорос.
— Недоросль?
Марина отвела дым ладонью.
— С недорослем я бы не билась. Мне хотелось привить…
— А он что предпочитал?
— Баскетбол.
— По призванию?
— Призвание? Много гонору было, а толку пшик. Погнался за жар-птицей, а талантом не вышел. Ни спортсменом не стал, ни… Короче, в аттестат получил то, что заслуживал.
Последняя фраза мне не понравилась, мстительно, недобро прозвучала. Ведь погиб человек. А с другой стороны, он, кажется, с преступником был в дружбе, вот они, нити бездуховности. Сначала не нравится литература…
— Да, большая я была идеалистка, Николай Сергеевич, — повторила Марина с заметным сожалением.
— Но к литературе вы, по-моему, отношения не изменили?
Она затянулась и выпустила дым, снова разогнав его рукой.
— Нет, пожалуй. По сути нет.
— Что вы хотите сказать?
— Я теперь многое лучше понимаю.
— Еще бы! Опыт.
Марина кивнула согласно.
— Да, опыт вносит коррективы. Простите меня, Николай Сергеевич, вы нам преподавали немного романтично, в отрыве от жизни… Я вас не обижаю?
— Нет, нет… что вы…
Я, однако, не совсем понимал, в чем ушла она вперед от моего курса. Я хотел спросить тактично, но она не стала ждать вопроса. Видно, и это как-то по-своему ложилось на ее нынешнее умонастроение.
— Вы, Николай Сергеевич, видели в литературе главным образом личное воздействие на каждого человека, в первую очередь для души… А это, хотя и так, но не для школы… Школа воспитывает принципы.
— Ну, разумеется.
— Основы фундамент. Ученик должен понимать главное.
— Например?
— Например, то, что Пушкин — это незыблемо.
— Пушкин? Безусловно.
По выражению ее лица я видел, что понимаю ее не так, хотя что уж тут непонятного — Пушкин!..
— Но ведь дурную голову и Пушкин может сбить с толку. Вот сейчас в ходу провокационный вопрос: а разве он не писал «наполним бокалы» или «выпьем, бедная старушка»?
— В самом деле, — улыбнулся я, — что же вы отвечаете?
— Отвечаем что надо. И пресекаем. Ученик не должен умствовать. Учению должен знать, как понимаем мы Пушкина, и так же понимать сам.
— Позвольте…
Но она увлеклась. В лице появилось директорское и директивное. Как она была не похожа сейчас на «милую Мариночку», склонившую головку над конспектом.
— Раз мы говорим, Онегин передовой человек, значит, так и есть. Разве иначе? Разве мог Пушкин выбрать своим героем человека не передового?
«Неужели я так говорил? Нет, это уже развитие, то, что она из «опыта» вынесла, однако на моем фундаменте возвела! Но в общем-то черт-те что! Откуда такая абсолютизация? Разве я учил не мыслить, а штамповать? Но, наверное, все-таки мыслить в рамках, которые ей, однако, слишком широкими показались…»
— Короче, Пушкина и другое начальство не трогать?
Я сказал это, вспомнив знаменитое предупреждение полицейского чина футуристам, с иронией, но не враждебно, стремясь погасить полемику. Какая тут полемика!.. Но Мариночка иронию не приняла, а прямой смысл слов поддержала.
— Да, и Пушкина и Онегина тоже. Иначе далеко можно зайти.
— Далеко?
— Уже зашли!
И Марина указала сигаретой на пачку газет на журнальном столике, видимо, имея в виду столь часто печатающиеся в последнее время разоблачительные материалы. Но ведь там жуликов обличают, бюрократов, людей, занимающих не свои места!
— Онегин-то при чем тут? Левую продукцию не сбывал, оброком легким довольствовался.
— Шутите вы, Николай Сергеевич, а мне не до шуток.
— Ну да разъяснятся ваши недоразумения, — сказал я, все еще надеясь, что об ошибках речь идет, а не о преступлении.
— Надеюсь, — подтвердила она, глядя мимо меня. — Только тут не недоразумения, тут линия, тут люди действуют, которым нельзя дать разгуляться! Все на ветер пустят, что годами, десятилетиями создавалось.
Невольно я скользнул взглядом по опустевшим стенам.
Вышел я в довольно подавленном расположении духа, виня, как и во всех своих неурядицах, в первую очередь самого себя.
«Так тебе и надо, старый, осел! За все рано или поздно платить приходится!..»
Я спустился и сел в свой старенький «Москвич», давно вышедший из моды. Но мы с ним дружны. Он не увлекает меня в опасные гонки, а я не пришпориваю его понапрасну. Мы довольны друг другом, чего не скажешь о наших коллегах на дорогах. Не раз приходилось слышать разное, наиболее мягкое:
— Боишься ездить, не садись за руль!
Это-то на положенной в городе скорости шестьдесят километров! Между прочим, первому автомобилисту Карлу Бенцу не разрешали ездить по улицам быстрее шести. Но то было сто лет назад. С тех пор народ заспешил. Правда, не все. Иногда я замечаю признательность на лицах пешеходов, когда, следуя правилам, пропускаю их на поворотах. Это единственное утешение. Интересно, как Мазин мой темп примет? Сколько выдержит?
Я собирался повезти Мазина на свою дачу и должен был заехать за ним в гостиницу. Признаться, сейчас меня эта встреча не радовала. Не хотелось говорить о Мариночке. Ведь он спросит. Но, как говорится, давши слово… А впрочем, почему обязательно о Мариночке? Может быть, о другой женщине разговор пойдет? Если удастся перехватить инициативу.
— Игорь! Расскажи, пожалуйста, еще о мальчике. Чем занимается его мать? — спросил я, едва Мазин сел рядом.
— Мать по образованию инженер-технолог, но давно уже с индустрией покончила. Перебивалась то здесь, то там на полставках. А сейчас она под следствием.
— В тюрьме?
— Нет. Взята подписка о невыезде.
— Неужели она могла?..
— Человек широк, как известно.
— Расскажи, пожалуйста, то, что можно.
— Ее первая версия: они ужинали в ресторане «Якорь», потом пошли берегом, остановились на пристани, поссорились, он оскорбил ее, ударил — побои засвидетельствовала экспертиза, она в негодовании толкнула его, Черновол — так его зовут — упал с мостков… Михалева выбежала на шоссе с криком: «Я убила!» Хватит на первый раз?
— Она кричала: «Я убила!»?
— Не только кричала, повторяла неоднократно на допросах и подписала показания в протоколе.
— Ты сказал — первая версия. Есть и другие?
— Ее же. Сейчас она категорически отрицает, что хотя бы пальцем касалась Черновола, утверждает, что он был пьян и сам свалился в воду.
— Ты видишь в этом противоречие?
— Ну, скажем, непоследовательность.
— В чем? Мне кажется, все естественно. Она была в шоке. В двойном шоке — от побоев, от того, что столкнула в воду на смерть человека, и скорее всего вначале показала правду. А когда пришла в себя, успокоилась и поняла, что отказаться от убийства можно… Кстати, свидетелей, как я понял, нет?..
— Свидетелей нет.
— Вот видишь! Что же тебе непонятно? Человека обвиняют в убийстве!..
— Ей ведь почти ничего не грозит — сильное душевное волнение, неосторожное убийство, в крайнем случае, превышение пределов необходимой обороны, весь набор для защиты. Короче, от сто четвертой по сто шестую статью, по которым можно квалифицировать ее поведение, я не вижу больше года исправительных работ. А ведет она себя так, будто речь идет о высшей мере…
— Она представляет себе юридическую сторону?
— Еще бы! Ей следователь каждую статью разжевал.
— И все-таки без статьи жить лучше. Хотя бы ради сына. Считаться убийцей, даже невольной!.. Что он о матери подумает!
— Это, конечно, резонно, — согласился Мазин, — но для меня важна правда, реальный ход событий.
— Ну а если отойти от буквы? Подумать о мальчишке? Ведь так или иначе, злого умысла не было, а побои были. Есть ли тут принципиальная разница? И стоит ли клеймить человека ярлыком убийцы, если его по закону даже посадить, по твоим же словам, нельзя?
Мазин наконец не выдержал, отозвался на мой водительский ритм.
— Слушай, ты меня так везешь, что я успел бы целую доказательную лекцию прочитать. Но я скажу коротко: буква всегда важна, но сейчас не в ней одной дело. Нам обязательно нужно знать подлинные факты, тут важные обстоятельства есть…
Правда, какие обстоятельства, он мне пока не пояснил.
— А сам-то ты, Игорь, с ней говорил?
— Говорил.
— И что?
Выглядело это в его пересказе приблизительно так: она теперь все отрицала.
«Я не убивала Черновола».
«Как же он погиб, по-вашему?»
«Пьяный был, поскользнулся. Там скользко на мостках было. Ну и свалился».
«Сам?»
«Я к нему и пальцем не притронулась».
«Однако он ударил вас…»
«Ну и что? Ударил. Я отступила. Он сильный был, спортивный. Я с ним на драку не решилась бы. Я отступила…»
«А он?»
«Я ж говорила, там скользко, мокро было. Он оступился и упал».
«Значит, несчастный случай?»
«Да».
«А крик: «Я убила!»? Вот показания водителя Онуфриева:
«Около двадцати одного часа я ехал по береговому шоссе, когда прямо перед машиной выскочила на дорогу женщина со стороны пристани с криком: «Я убила!»
«Растерялась, не знала, что кричать…»
— Игорь! — настаивал я. — Ну пусть даже она оттолкнула его. Пусть! Но не хотела же топить… Оттолкнула, и он не сам поскользнулся и свалился. Тем больше шок. В ужасе закричала, кинулась на шоссе просить помощи.
— В том-то и дело, что о помощи Михалева не просила. Об этом в протоколе нет ни слова. Не было таких слов: «Помогите! Упал человек в воду». Будто наверняка знала, что тот погиб. А ведь он мог и жив еще быть… Искусственное дыхание или что другое помочь могло. Однако она о помощи не просила. Это факт.
— А она что по этому поводу говорит? Как объясняет?
— Говорит, ударил меня, в голове закружилось, была не в себе.
— Может быть, сотрясение мозга?
— Сотрясение экспертизой установлено не было.
— А побои?
— Для жизни и здоровья не опасные. По лицу ладонью, а ладонью убить или искалечить нельзя.
— Зато оскорбить смертельно можно.
— Все это учитывается, дорогой Николай. Потому и сочли возможным ограничиться подпиской о невыезде. Ведь и самопризнание еще не доказательство, а теперь она и от признания отказалась. Стоит вопрос о том, чтобы вообще прекратить дело.
— Значит, все-таки не виновата?
— Видишь ли, в УПК есть две статьи, пятая и двести восьмая. По пятой возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления. Но это требуется доказать — отсутствие состава в данном случае. А вот двести восьмая определяет ситуацию иначе — дело прекращается при недоказанности участия обвиняемого в совершенном преступлении, если исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств. Понятно или не очень?
— В основном да.
— Как же ты понял?
— Местный следователь считает, что возможности исчерпаны, а ты для себя не исчерпал.
Мазин расхохотался.
— Ну, спасибо, что ты меня за суперсыщика держишь. Но, как и каждый льстец, ты перегнул. Во-первых, я не такой бурбон, чтобы сразу человека в Бастилию. Во-вторых, у меня нет оснований не доверять следователю. Между прочим, я с его отцом когда-то вместе начинал. И сын парень способный. Сам увидишь, когда я вас познакомлю, тебе ведь нужна информация о Мариночке?
Я вздохнул: «Добрался-таки!»
— Вижу, что нужна, раз ты о свидании помалкиваешь и любимицу не защищаешь так же горячо, как женщину, совсем тебе не известную.
Что я мог сказать?..
Мы уже выбрались за город и могли бы прибавить скорости, потому что и Бенцу по проселочным дорогам разрешалось ездить быстрее, чем по городу. Но я привычек не меняю, да и разговор был такой, что отвлекал меня, и до дачи-то рукой подать оставалось.
Дачка у меня небольшая, и на участке, которому никто не завидует, на неудобном склоне, где агрикультурой с размахом не займешься, короче, бездоходный участок, зато с хорошим видом на речку, и я люблю посидеть, посмотреть и послушать, как колышется и шуршит камыш на ветру.
Жена, правда, и на обрыве умудряется какие-то ягоды выращивать, и Мазина тут же усадила за стол, и начался ритуальный разговор о том, что малина уже прошла, а что-то другое еще не созрело. Я смотрел на него в ожидании, когда ему эта тема надоест, прийти на помощь, но, слава богу, у моей жены есть чувство меры.
— Небось заговорила я вас своими грядками? — спросила она у Мазина.
Тот искренне опроверг.
«Ну и «выдержка!» — подумал я.
Жена точно угадала мои мысли.
— Николай Сергеевич садоводческих проблем не выносит. Дочка его даже «урбанистом» прозвала.
Прозвище было, конечно, несправедливое. Ну какой же я урбанист? Просто нет у меня этого потребительского отношения к земле, что сейчас модно под «любовь к природе» маскировать. Да, она кормилица наша, но ведь потому-то и не стоит в каждый клочок вгрызаться со своей малиной или тюльпанами. Дайте и земле пожить по-человечески…
Жена заметила, что я недоволен. Обострять она, конечно, не собиралась. В общем-то она меня понимает, так только, при госте решила право на свободу суждений продемонстрировать. Им, женщинам, такое самоутверждение постоянно требуется, но не все знают меру. Некоторые очень гордятся последовательностью и твердостью, а вернее, упорством, в упрямство переходящим, и считают, что иначе с нами, мягкотелыми, обходиться нельзя. Но я не сторонник противостояния двух половин человечества. Говорят, даже соседа не выбирают, а уж другую половину рода людского чем заменишь? Короче, я за сосуществование, по возможности мирное. И жена моя тоже. И потому она тему великодушно переменила. Однако женщина есть женщина…
— Ты к Мариночке заходил?
Нужно сказать, что супруга моя никогда против моих симпатий к Мариночке вслух не высказывается, хотя внутренне, конечно, не очень… Они, дамы, как в песне, считают, что лучше гор могут быть только горы, то есть женщине можно предпочесть только другую женщину и ничего больше. Вот сижу я, на камыш любуюсь, и хотя знаю, что с точки зрения науки камыш не тростник, слова Паскаля о мыслящем тростнике вспоминаются, а ведь сила наша вовсе не в том, чтобы покорить пространство и время, даже если мы это пространство сплошь пленкой перекроем и ранние помидоры вырастим, а в умении разумно мыслить. Жена же смотрит на меня и думает, что я не о Паскале вовсе, а о Мариночке размечтался. И попробуй возрази ей словами того же великого человека:
— Постараемся мыслить достойно, в этом основа нравственности.
А она в ответ:
— Конечно, о Мариночке думать приятнее, чем на грядке спину гнуть. Но, между прочим, помидоры…
И как она это все совмещает! Ведь она у меня литературный критик, активно следит за ростом молодых (талантов, разумеется, а не помидоров). Устоявшиеся, как Паскаль, ее уже не интересуют.
Впрочем, однажды, когда я на какой-то наскок махнул рукой и перестал отвечать, супруга мне де Лабрюйера выдала:
— «Старик, если только он не очень умен, всегда высокомерен, спесив и неприступен».
Тут я и обнаружил дефицит эрудиции.
— Это какой-нибудь из твоих молодых дарований додумался?
— Нет, из старых, — говорит ехидно.
Впрочем, я уже сказал, что наши разногласия и сопутствующие им пикировки вполне в рамках добрых, годами проверенных отношений. Поэтому я сознался без сопротивления.
— Да, заходил к Марине.
— «Наполеоном» потчевала?
И дернуло же меня в прошлый раз про коньяк упомянуть!
— Нет, — сказал я, — ничем не потчевала. — И подумал: «А в самом деле! Даже кофейку не предложила. Значит, не до этого!..» — Даже кофейку не предложила. Видно, не до того, — повторил я вслух.
— В таком волнении пребывает?
— Да, потеря равновесия заметна. — И я рассказал про брата с поклажей, заметив, однако: — Это, конечно, еще ничего не значит. В панике неопытный человек чего не наделает.
— Неопытный скорее не спешил бы выносить, — заметил Мазин.
Я возразил:
— Ты, однако, совсем недавно меня убеждал, что даже признание еще не доказательство вины.
— И потому ты подпишешь бумагу?
— Между прочим, в этой бумаге написано только то, что я не могу не удостоверить.
— А именно?
Я вспомнил текст черновика.
— Ну, там говорится, что я знаю ее много лет как студентку, общественницу, как педагога, что я бывал в школе, видел успехи… Разве я имею право отказаться от этих фактов?
Жена смягчилась и поддержала меня. Все-таки ревность ее к Мариночке дальше легкой неприязни не шла.
— Конечно, факты нужно подтвердить. Чтобы компетентные лица разбирались объективно.
— Какой разговор! Разве меня просят защищать правонарушения?
Мазин сощурился, подхватив за хвостик сочную ягоду.
— Умница твоя Мариночка.
— Ну, если сам говоришь, — начал было я сгоряча, однако тут же понял, что говорит он нечто для меня вовсе не утешительное.
— Впрочем, о чем ты?
— Она умный человек. Ну как она, прекрасно тебя зная, могла просить о каком-то подлоге, просто о чем-то сомнительном! Неправды ты бы не подписал, так ведь?
— Еще бы!
— Вот она и предлагает правду.
— В чем же тут коварство, на которое ты намекаешь иронической интонацией?
— Да ведь на стол все карты нужно будет выложить. Тут и «тройка» пригодится, если в масть. Ей, видно, серьезно отмываться нужно, раз уж все возможности мобилизованы. Уверен, уже с адвокатом советовалась. Адвокаты любят безупречные репутации подзащитных. Это же смягчающий фактор.. Однажды, помню, адвокат доказывал, что убийца был хороший часовой мастер, и зачитывал благодарности клиентов…
— И что же?
— Два года с предельного срока скостили. Я уж не говорю о вышке.
— Ну, сравнил…
— Пример, конечно, крайний. Но логика одна. Защита ничем пренебрегать права не имеет.
— Я, значит, вроде фольксштурма? Последний козырь?
— Замечательные у вас ягоды, Людмила Константиновна, — повернулся Мазин к жене, оставляя мне возможность самому ответить на поставленный вопрос.
«А козырь ли? Он же меня «тройкой» обозвал!»
Юрий Сосновский, с отцом которого Мазин когда-то вместе работал, показался мне с первого взгляда симпатичным и неглупым человеком, в синем кителе, который очень шел к его цвета соломы волосам. В нем он напоминал скорее молодого морского капитана, чем следователя прокуратуры.
Однако не иллюминаторы, а большие окна выходили из его кабинета не в безбрежные просторы океана, а на законсервированную недавно стройку городского театра, которая была начата лет десять назад с присущим русскому духу размахом и фантазией, увы, без должного денежного обеспечения. Так что пока в нагромождениях бетона, кирпича и металлоконструкций было трудно разглядеть тот будущий шедевр архитектуры, проект которого в свое время широко рекламировался в местной печати.
Мазин, глядя на эти руины, пошутил:
— Может быть, археологи ошибаются, когда все свои развалины видят разрушенными временем? А что, если просто не достроили и законсервировали по приказу какого-нибудь Рамзеса, а? А мы восхищаемся — вот, мол, на века постарались!
Но мы, конечно, не гипотезы обсуждать собрались, а факты получить. Мазин представил меня и попросил проинформировать в рамках дозволенного. Я и сам понимал, что могу рассчитывать на сведения лишь в самых общих чертах, до суда еще далеко была Но Юрий сумел, и не касаясь того, что мне знать пока было не положено, пояснить, что привело «милую Мариночку» в столь безрадостное положение.
— Она, Николай Сергеевич, жила в своеобразном правовом вакууме. То есть о существовании законов понаслышке, конечно, знала, но с практической жизнью их не связывала. У нас, к сожалению, многие полагают, что законы, так сказать, для законников, а в жизни все решается на командных или личных основах. Иногда так думают по святой простоте…
— Вот именно, — вставил я, соболезнуя бывшей ученице.
— Скорее тем более, — улыбнулся Сосновский улыбкой, которую принято называть белозубой. — Помните, у Ильфа и Петрова был персонаж, который на все вопросы отвечал «вот именно» или «тем более». В данном случае я бы сказал, тем более. Тем больше ответственность. Или вы оправдываете старушку, что хворост в костер грешника подкладывала?
— По неведению…
— Нет. Удобнее так. Старушке душу спасать, а вашей знакомой карьеру делать. Так им казалось по простоте, что… хуже воровства.
— Не зря же поговорка придумана.
— Простота хуже воровства, говорили в народе.
Над старыми поговорками я часто задумываюсь, а задумавшись, неизменно поражаюсь точному смыслу вековой мудрости. Иногда он глубоко скрыт, парадоксален, даже вызывает протест поначалу, но, добравшись до сути, нельзя не склонить голову перед неопровержимой истинностью этого смысла. Конечно, значение слов с веками меняется. Сегодня простота чуть ли не предмет гордости, а раньше была однозначна глупости. И понятие воровства изменилось, сузилось, свелось к краже, а в свое время обозначало злой умысел в самом широком понимании, недаром вор и враг-ворог слова однокоренные, о чем сейчас мало кто задумывается. А стоит призадуматься о том, как тесно переплелись эти слова и почему народ глупца счел хуже злодея. Потому, видимо, что замысел злодея большей частью, как мы сказали бы, конкретен и ограничен, глупость же аморфна и беспредельна, в этой среде и рождается злодейство, и распространяется, и, может быть, не будь «простоты», негде было бы и воровству развернуться…
Но ведь то злодеи, а у нас речь о «милой Мариночке»!
— И в чем ее простота в противоречие с законом пришла?
— Личные отношения в служебных делах бескорыстными редко бывают. Ты — мне, я — тебе. А за чей счет? И командные небезопасны. Тобой командуют, а ты, в свою очередь, себя вправе чувствуешь.
— В школе?
— В школе зависимых больше, чем на другом производстве, — учителя, ученики, родители…
— Ну, учениками в наше время особенно не покомандуешь.
— Да, учениками, пожалуй, непосредственно тяжело, а родители… они детей любят. Вот и подарки, поборы, да мало ли какие возможности возникают! Короче, история эта, Николай Сергеевич, серьезная. Говорю вам ответственно, хотя сам я вашей подопечной не занимаюсь. Но Игорь Николаевич просил меня, и я узнал что можно.
— Благодарю вас.
— Юрий со мной сотрудничает, — добавил Мазин, — он, как помнишь, другой женщиной больше интересуется.
— Да, я знаю, Михалевой.
— А с ней вы, случайно, не знакомы, Николай Сергеевич? — спросил Сосновский.
— Нет, — ответил за меня Мазин. — Он только ее сына учил Онегина уважать.
— Постой, Игорь! А ведь я, кажется, ее видел.
Да, в самом деле, я только теперь вспомнил, что и мать пригласили на диспут об Онегине, что в проработку вылился, и не без моего благодушного (святая простота?) участия. Я тогда не обратил, правда, на нее особого внимания, но видел — довольно интересная, молодая…
— Всего лишь видел?
— Всего.
— Ну и как вам эта дама показалась?
— Ну уж, что и она преступница, в голову не пришло.
Невольно я обмолвился, «и она» сказал так, будто с Мариночкой уже определилось. Заметил обмолвку и признался себе — значит, для меня определилось.
— Преступница или нет, пока разбираемся, — поправил Юрий серьезно.
— А что мальчик? Я перед ним ответственность чувствую…
— Мальчика нет.
— Розыск бессилен?
Мазин отошел от окна.
— Розыск не бессилен. Мы не задействовали розыск.
— Почему? Вы же можете объявить… Ну, как там на ваших афишках пишут: «Разыскивается… ушел и не вернулся…» — вспоминал я формулы объявлений, которые как-то просматривал на специальном стенде в аэропорту в ожидании самолета.
— Мы думаем, в этом нет необходимости. Мать, мне кажется, знает, где мальчик.
— Знает?
— Иначе она проявляла бы больше настойчивости.
Возражать я не стал. Не люблю дилетантски вмешиваться в профессиональные дела. С тем распрощался и ушел, поблагодарив за все, что узнал о «милой Мариночке».
По пути к выходу я встретил в коридоре человека, которого мельком знал по городу. Недавно еще многие гордились знакомством с ним, а теперь он шел, заложив руки за спину, опустив голову, в сопровождении солдата внутренней службы…
Слова Мазина о том, что мальчика не разыскивают, оказали на меня воздействие, которого он, я уверен, не ожидал, толкнули на поступок и для меня неожиданный. Сам еще толком не представляя, зачем я это делаю, на следующий день, раздобыв нужный адрес, я остановился перед калиткой, врезанной в железные ворота, покрытые потрескавшейся и обсыпавшейся местами краской. Калитка была заперта, и мне пришлось поискать взглядом звонок, прикрытый куском резины, вырезанной из автомобильной камеры.
Позвонить пришлось дважды. Потом я услышал, как скрипнула дверь в доме. «Нужно бы смазать», — подумал я машинально. Послышался стук каблуков, неторопливый; так ходят чувствующие себе цену женщины.
Глазок в калитке приоткрылся, закрылся, и калитку отперли.
— Вам что? — спросила женщина, которую я узнал.
Она разглядывала меня с недоумением и не очень приветливо.
— Разрешите зайти, я объясню.
Женщина помедлила, но не возразила.
Я переступил порог и увидел двор, а во дворе дом и гараж. Выглядело все запущенным. С давно не крашенной крыши свисала потерявшая колено ржавая водосточная труба. Неуправляемо полз всюду, где мог закрепиться, дикий виноград, осели каменные плиты порога, даже телевизионная антенна заметно покосилась. По бетонной дорожке ветер волочил пожухшие от зноя листья.
Наверно, увиденное отразилось в моем взгляде. Она заметила это и пожала плечами.
— Хозяина нету.
Я неопределенно кивнул.
— Раньше муж следил.
Но казалось, что за домом и двором не следят уже давно. И она снова поняла.
— Я сказала, раньше следил, а в последнее время… охладел. Ну, ничего, поднимемся. Родные стены еще послужат.
— Это ваш дом? — спросил я, чтобы откликнуться и наладить первый контакт.
— Я родилась здесь. В буквальном смысле. Отец не доверял бесплатной медицине.
«О чем это она? Бабку повивальную звали, что ли? Может быть, старообрядцы какие-нибудь?»
Я вспомнил, что неподалеку находится старообрядческая церковь. Сам я, впрочем, никогда в жизни не видел ни одного старообрядца, кроме известной боярыни Морозовой, изображенной на полотне Суриковым. Не знал я и того, что отец Михалевой был директором известного в городе гастронома, унаследовавшего от дореволюционного владельца мрамор и бронзу, которые куда-то исчезли после капитального ремонта лет десять назад. Советский завмаг, понятно, ни к буржуазии, ни к старообрядцам никакого отношения не имел. В торговлю его выдвинул комсомол, и в пожилом возрасте он с усмешкой вспоминал, как противился выдвижению на этот не передовой, по мнению современников, участок. Случилось то при нэпе, когда потребовалось бросить вызов частнику, но я и догадаться о такой предыстории не мог, ибо в моем представлении работники торговли жили совсем иначе, в особняках, так уж в особняках. Откуда мне было знать, что бывший директор вырос в подвале, где в одной комнате жила семья из семи человек, а младший братишка спал в корыте, которое днем вешали на гвоздь в кухне. Для него этот обветшавший и весьма скромный по нынешним меркам дом был дороже шереметевского дворца.
И внутри дома не оказалось ничего особенного. Впрочем, я и не присматривался. Меня ведь совсем другое интересовало.
— Прошу, садитесь!
Я опустился в старое кресло.
Она смотрела вопросительно.
— Вы вряд ли меня помните, — начал я неуверенно.
— Почему же? Помню, на диспуте, — возразила женщина.
Я удивился и обрадовался.
— Да, да. Вас зовут Ирина Васильевна?
Тут она охладила меня.
— Ну и что?
— Ваш мальчик пропал?
— Кто вам сказал?
— Значит, не пропал?
— Кто вам сказал, что пропал? — повторила Ирина.
Врать я не мог, ложь всегда мне мешает, и я избегаю ее всеми силами.
Невольно я огляделся, как бы ища поддержки, но, кроме нас, в комнате никого не было. Мебель — теперь я разглядел ее — была какая-то сборная: старое трюмо, явно родительского происхождения, того же времени круглый черный столик на одной, расходящейся у основания резной ножке, и тут же недавнего выпуска полированный шкаф.
Я повторил слово в слово то, что сказал Марине.
— Понимаете, совершенно случайно ко мне заглянул знакомый юрист.
Она ответила проще, чем Марина.
— Понятно.
— Да нет, в самом деле случайно. Мы учились в одном университете…
— Хотите рюмку водки? — предложила вдруг Ирина, перебивая меня.
Я растерялся.
— Нет, что вы…
— Ну, как хотите, сейчас это дефицит. А чаю? У меня как раз чайник закипел…
— Чаю… пожалуй.
Ирина поднялась, легко неся уже начавшее немного полнеть тело. Из кухни она вернулась с заварным чайником и поставила его на круглый черный столик.
— Вам удобно?
По сравнению с креслом столик был высоковат, но я заверил:
— Да, да, конечно.
Она молча вышла и принесла чашки, печенье в вазочке.
— Покрепче? Или кипяточком разбавить? Я не разбавляю.
— Покрепче, пожалуйста.
— А кофе не хотите? Есть растворимый. Бразильский.
— Нет, лучше чай.
— Как хотите.
Сказано было, как и о водке, равнодушно, но я и не ждал большего.
«Нужно ее понять. Какое тут радушие!»
Она села напротив.
— Так что же сказал вам юрист?
— Оказалось… ну, он мне рассказал очень неприятную историю…
— Про меня?
— Да, но — я понимаю…
— Все понимают, когда не с ними случается, — сухо отметила она.
Я смутился.
— Я хотел о мальчике.
— А мальчик что? Зачем он вам?
— Я слышал, он… не дома.
— Ну и что? Он в деревне.
Вот и все. Я почувствовал себя дураком. Значит, она знала, где сын. Но почему Сосновскому не сказала? Мазин, однако, сразу понял: трагедии нет. Иначе мать вела бы себя иначе. Так и есть.
— Отдыхает?
Вопрос прозвучал излишне бодро.
— Нет, он работает.
— Работает?
— Да. Они работали в колхозе всем классом. Потом дети вернулись, а он остался.
— Один?
— Он работает на комбайне.
— Но он несовершеннолетний.
— Он умеет. Он в отца, любит технику. И его оставили.
— Вы разрешили?
— Я не хочу, чтобы он присутствовал на суде, где его мать будут обвинять в убийстве. Может быть, все-таки водки выпьете?
— Нет, спасибо.
— А я выпью. Можно?
— Да, конечно.
Ирина подошла к буфету, достала початую бутылку.
«Так вот почему она так настойчиво предлагала мне выпить. Ей неудобно пить одной. Однако решилась. Ну, тут понятнее, чем с Мариной».
Я поторопился. Время показало, что я еще ничего не понимал.
Я, собственно, и спрашивать-то толком не знал, о чем. И потому повторился:
— Значит, вы его в колхоз отправили?
Ирина задержала поднятую уже рюмку и посмотрела на меня как-то смешавшись.
— Разве я сказала — отправила? Он сам.
Она подчеркнула два последних слова, а потом, как и я, повторилась:
— Зачем ему на суде быть? Не нужно.
И выпила.
— Мальчика на суд не вызовут, я думаю.
— Он без вызова пошел бы.
Получалось противоречие: пошел бы, но уехал. Сам.
— Вы убедили его уехать?
Теперь Ирина взглянула на меня более уверенно, сработала первая доза алкоголя.
— Я вам говорила, он сам уехал.
— Тем более.
— Что тем более?
Я, как и Сосновский, вспомнил классиков. Но сейчас был не тот случай, когда можно отделаться шуткой «вот именно». А что тем более — я вдруг и сам не понял, потерял мысль и, ругая себя, сказал:
— Значит, не приедет на суд.
— Он о суде понятия не имеет.
Я уставился на нее.
Она снова поднялась. Но на этот раз не так легко, а как-то замедленно, будто устала, будто хотела показать — ну чего привязался? Однако, хоть и с видимой неохотой, Ирина дотянулась до деревянного стаканчика на письменном столе, где держат карандаши, вытащила оттуда свернутый трубочкой телеграфный бланки протянула мне молча.
«Бери, мол, читай».
Я взял телеграмму и прочитал.
«Мама я колхозе есть возможность поработать комбайне Толя».
— Видите?
— Да. Хорошо, что он ничего не знает.
Она наполнила вторую рюмку.
— Не знает. Повезло мне, представьте себе.
— Надеюсь, когда он вернется, все уже кончится.
Рюмка чуть дрогнула, но содержимое попало по назначению.
— И я в тюрьме сидеть буду…
— Почему? Вас, возможно, и судить не будут.
— Вы-то откуда знать можете?
Я испугался, что сболтнул лишнего, но Ирина сама облегчила мое положение.
— Мне адвокат тоже так говорит. Он добивается… За что меня? Я не убивала. А вы не верите?
— Это не в моей компетенции, — сморозил я крайне глупо. — Я ведь не юрист. Я насчет мальчика…
— Да зачем вам Толя? — спросила она требовательно, повысив тон.
— Мне он показался очень симпатичным… прямодушным.
— Что ж вы ему перед всем классом выговаривали?
— Учителя его позицию осуждали.
— Но вы-то для них авторитет. С каких это пор хвост собакой крутит?
Мне стало очень неловко.
— Я говорю, мальчик ваш мне понравился, но позицию он занял ошибочную.
— Так уж?
— Да, я думаю.
Ирина нахмурилась.
— А я думаю, Толька прав был. Я сама в школе училась… — Она глянула мимо меня в трюмо, что стояло у стены позади кресла, глянула, будто усомнившись в своих словах, — «да неужели? И когда ж это было!» — но, видимо, зеркало поддержало ее, — кого оно после пары рюмок не поддерживало? — и Ирина продолжила: — Сама этого Онегина проходила, пустой человек. Да его так и называли — лишний. Чего ж вы от сына хотите? Хороший лишним быть не может.
Логика в этом умозаключении, конечно, была, но ведь я не об Онегине толковать пришел. А зачем? Как объяснить, что я вину перед мальчиком чувствую и хотел бы ему полезным быть. Но, кажется, складывалось вроде бы благополучно, мальчик даже не знает о суде, занят работой, которая нравится, а мать скорее всего не виновата. Правда, доказательств не хватает, так Игорь говорил… Но разве похожа она на убийцу? А Мариночка, милая Мариночка на кого похожа? А тоже ведь вину не признает. Однако случаи разные. Впрочем, ерунда, не мне тут разбираться… Да и нечего разбираться, главное, мальчик в порядке, остается извиниться за вторжение и откланяться.
— Извините за вторжение. Нелепо получилось. Я только беспокоился о мальчике, и все.
— Не понимаю, чего вам о нем беспокоиться.
Она заметно пьянела.
— Он умный мальчик, не хотелось бы ему неприятностей.
— Каких?
Это уже пьяная настойчивость проявилась, ведь понятно было, о чем речь идет, о травме душевной в первую очередь.
— Он впечатлительный, может остро пережить, но если не знает…
— Послушайте, — перебила Ирина, — что вы меня путаете? Откуда он может знать? Почему вы все об этом? Чего допытываетесь?
Я видел, что ее раздражает не просто факт моего неуместного вторжения, но что еще, не понимал.
— Еще раз простите, пожалуйста, бестактность.
— Да при чем тут такт! Вы приходите, говорите, что от юриста… Какого юриста? Вас кто послал? Сосновский? Следователь?
— Нет, я не от юриста. Вы меня неправильно поняли, он меня не посылал.
— Но вы Сосновского знаете? Уф… фу!..
— Я вчера только познакомился с ним.
— Он Толю разыскивает?
«Господи! Она же в самом ужасном нервном состоянии, да еще пьет, в голове сумбур, мнительность, потеря реальности, все одно к одному. Она меня за какого-то сыщика принимает… подосланного. Надо же!»
— При чем тут мальчик? — настаивала Ирина.
Мы уставились друг на друга. «А есть ли мальчик-то?» — невольно перефразировал я известную фразу и тут же обозлился на себя — вот уж книжное воспитание, вечно литературные реминисценции в голове!
— При чем тут мой сын? Вы же меня обвиняете, а не его!
— Я никого не обвиняю.
— Вас Сосновский подослал! — сказала она уверенно.
— Какая чепуха!
«Однако Игорь хотел повидать мальчишку. Выходит, не совсем чепуха… Но меня-то никто не подсылал. И точка».
Я поднялся.
— Подослали, — произнесла она, понизив голос почти до шепота, но четко и уверенно.
Я невольно снова опустился в кресло.
— Почему вы так думаете?
— Так вас же и тогда подсылали, чтобы Тольку высмеять на всю школу. Вы ему опять навредить пришли.
Я был ошеломлен.
— Клянусь вам. Честное слово. Я сам…
— А тогда? На диспут тоже сам?
— Тогда меня пригласили. Директор школы…
— А… Соковыжималка.
Я не понял.
— Что вы сказали?
Ирина усмехнулась и потянулась к бутылке. Я протянул руку.
— Не нужно. Вам достаточно.
— Сама знаю. — Но наливать пока не стала. — Марина, значит, попросила?
— Да. Но при чем тут?…
— Соковыжималка? Кличка у нее такая.
«У «милой Мариночки»? Однако…»
— Свое всегда отожмет, до капли. Это ж надо, на мальчишку профессора напустила.
— Я доцент.
— Она объявляла, что профессор будет. Да какая разница! Тяжелую артиллерию выпустила, лишь бы придавить.
«Что же это я слышу такое?» — подумалось с горечью.
— Не сама, так чужими руками.
«Моими в данном случае».
— А вы не обозлены? Не преувеличиваете?
— Ну! Я у нее в классе всю литературу изучила, да еще русский язык.
«Вот! И она?..»
— И муж ваш, кажется, в этой школе учился?
— Учился. На беду свою.
Ирина снова потянулась к бутылке, на этот раз решительно. Руки у нее были красивые, с длинными пальцами и без единого колечка. Не было и обручального.
— На палец смотрите? — заметила она. — Да, не ношу. Теперь. Сняла. Слушайте, выпейте рюмку, а? Помяните покойного.
Не дожидаясь согласия, она поставила вторую рюмку.
— Не откажите, профессор. Вам же его сын симпатичен.
Сказано было с насмешкой. Я подчинился и пригубил.
— Вот и ладненько. С покойным супругом мы в одном классе учились. И с Сашей… С Саней. Который утонул.
— Черноволом?
— Как вы догадались? А… вы же от Сосновского. Стало быть, в курсе.
— Вы ошибаетесь.
— Ладно вам! Какая разница! Короче, мы все учились понемногу. Правильно? Вместе. Но Выжималка относилась к нам по-разному. Меня баловала, понятно. Как дочь… А вы моего папу не знали? Его весь город знал.
— Простите. Кто был ваш отец?
— Не знали. Гастроном № 1, — произнесла Ирина с гордостью. — Это был магазин! Не то, что сейчас. Отец умел.
«Вот оно что!..»
Невольно я вспомнил люстру, сверкавшую под потолком магазина. Мы тогда почему-то больше люстрой любовались. А то, что на прилавках — икра там, крабы, колбасы, которые по двести граммов взвешивались, — это как должное воспринималось. Да, было время, когда магазин выглядел богаче, чем дом его директора. Теперь в основном наоборот…
— Значит, вы на учительницу не жаловались? — переспросил я, отмечая, что Мариночка и тогда уже умела ценить главное, а не на люстры пялиться.
— Нет. Доставалось мальчикам. Но я переживала, конечно. Ведь у нас уже тогда был этот… то, что называют «треугольник». Сначала дружба, как водится, а, потом я вышла за Бориса. Вы спросите, почему?
Я не собирался спрашивать, ей самой хотелось говорить.
— Борис был в беде. Я не могла нанести ему удар. Понимаете? Думала, что выполняю долг. На самом деле пожалела. А жалость всегда подводит, верно?
— Не думаю.
— Во всяком случае, пользы не приносит.
— Простите. Беда была серьезной?
— Как посмотреть… Ему казалась серьезной. Его отчислили из сборной по баскетболу.
Я подумал — наверно, все-таки беда. Что мы знаем о таких, это о чемпионах только и слышно.
— Для него это была беда. Отец, правда, смотрел спокойнее. Он говорил: «Парень, всю жизнь с мячом не попрыгаешь». А я решила — это проверка на прочность. И бросилась спасать. Но это не значит, конечно, что я не любила Бориса. А потом Толя родился.
— И треугольник распался?
— Треугольник? Саня повел себя хорошо. У него-то характер был истинно спортивный, хоть он спортом и не занимался. Сказал, проигравший должен уйти.
Конечно, не моя особа вызвала этот поток воспоминаний и признаний. Это в ней копилось и требовало выхода, а я подвернулся только. И хотя я не любитель полупьяных откровенностей, кое-что не могло меня не заинтересовать.
— Черновол уехал?
— Уехал. Поступил в институт, потом стал работать в другом городе. Но он приезжал, приезжал…
— К вам?
— Они же с Борисом дружили.
Сказано было просто, но насколько искренне, я не понял, — пьяные отнюдь не всегда простодушны, и я остался в недоумении, знает ли Ирина, что друг их дома, и не только дома, преступник? Но этого вопроса я касаться был не вправе. Я же о мальчике… И о Марине.
— Чем же они с Борисом учительнице не угодили?
— А… С Борисом свела счеты, не забыла.
«Значит, не зря мне мстительность, в ее голосе послышалась!»
— Вот он в институт и не попал, с характеристикой… Ну а Сашу так просто не возьмешь.
Так странно шел наш разговор, очень странно. Ирина то охотно говорила, то останавливалась, начинала о себе, даже о чем я и не спрашивал, и вдруг снова к одному возвращалась: зачем мне Толя. Хотя что же тут удивительного? О ком ей больше думать!
— Вы все-таки скажите, Толя вам зачем?
— Да ведь пояснил я. Ну, если хотите, мне ошибку исправить хотелось. Хотелось быть полезным по возможности.
— А как же следователь?
— Я же говорил…
— Да, помню. Не посылал он вас.
— Нет, конечно, я обыкновенное частное лицо.
— И мальчик вам нравится?
На этот раз она не сказала иронично — симпатичен.
— Иначе я бы не пришел.
— Спасибо.
Это прозвучало трезво и искренне.
— Думаете, у него легкая жизнь была? А сейчас еще хуже. Он же отца любил.
Ирина подчеркнула — отца, и получилось, хуже от того, что любил отца, а не ее.
— А отец что? Он все уходил и уходил… — И пояснила свои слова неожиданным примером. — Видели наш двор? При папе тут такой порядок был… А Бориса это не интересовало. Кроме гаража. Остальное нет. Он уходил. Фигурально. Сам здесь, а ушел. Вы понимаете?
— От вас?
Ирина кивнула охотно.
— От меня. Но зачем я вам это говорю? Из-за Толи. Толя его любил. И Борис его. Но уходил. От меня, вы сказали? И от меня. Но больше от жизни. А мальчишка все чувствовал. А теперь и мать убийца, — добавила она. — Что ему делать? А вы со своим следствием.
— Я не имею отношения к следствию.
— Знаю, знаю. Как Толя его смерть пережил…
— Что значит уходил от жизни?
— Равнодушен. И все. И за собой не уследил.
— Как же это случилось?
Мы снова вернулись к прошлому, но уже на новом витке и ее доверительности, и моей заинтересованности.
— В гараже. Он не выключил мотор… и заснул за рулем. Да, у него была странная привычка. Сидеть за рулем в гараже. Включит мотор и сидит.
«Действительно, странно. Зачем сидеть за рулем неподвижной машины с включенным мотором? Да еще — привычка. То есть не один раз…»
— Он очень любил машину. Вообще машины. Так и сидел. Говорил, я слушаю машину. Положит голову на руль и сидит. Что-то воображал, наверно. Куда-то ехал… Что я могла сделать? Нельзя же запретить человеку сидеть в собственной машине?
Ирина допила рюмку и повторила:
— Что я могла сделать? Он очень грубым был, если ему мешали. И потом, ведь всегда под этим…
Она протянула палец и постучала ногтем по стеклу бутылки.
— Он пил?
— Ну, не нужно так, не нужно. Эти указы… читала, знаем. Магазины закрыли. А очереди стоят. Все алкаши?
Ирина посмотрела с вызовом.
— Осуждаете? И я осуждала. Ох как осуждала. А теперь — нет. Я только осуждала, а мальчишка мучился. А вы со своим Онегиным… Еще вина желудок просит. У кого желудок просит, а у кого душа.
— Еще бокалов жажда просит, — поправил я автоматически.
— Какая разница, пусть жажда. Все равно не душа.
«Когда я уйду, она допьет бутылку», — подумал я, а уходить уже следовало, иначе разговор мог втянуться в слишком «задушевное» русло.
— Пора мне… А это, — я, как и она, постучал пальцем по бутылке, — это не советую. Отдохните лучше.
Лицо Ирины исказилось гримасой.
— Это?.. Да что тут осталось? Говорить не о чем. А отдых… Какой мне отдых? Да и боюсь я.
— Чего?
— А если Саня придет?
— Саня?
— Ну да… «Однако напилась!»
— Но ведь он погиб. Утонул.
Ирина недоверчиво посмотрела на дверь, будто там уже стоял утонувший Черновол.
Я и сам обернулся невольно.
Разумеется, в дверях никого не было.
— Вот видите, — сказала она, — и вы посмотрели.
— Перестаньте! — разозлился я. — Вы слишком много пьете. С того света не приходят.
— Вы так думаете?
— Да, представьте себе!
— Вы… атеист?
— Ну, знаете!
— Никто ничего не знает.
Мне не по себе стало. В таком нервно-психическом состоянии ее еще в секту какую-нибудь затянут.
— Поверьте, вам нужно отдохнуть.
— А если придет?
— Зачем? Зачем?
— Должок получить, — сказала она, усмехнувшись.
«Считает себя виноватой в его гибели и боится» — так я понял слова Ирины, но об этом решил не говорить.
— Там деньги не нужны.
— Вы уверены? Это бы хорошо. Но с меня что возьмешь?.. Ха-ха.
— Послушайте! У вас нервы расстроены… и пьете. Не нужно пить. У вас же сын. Вы сами говорили, он мучился.
— А вы такой добрый? Помочь пришли?
— Я вижу, моя помощь не требуется.
— Почему же? Почему? Если вы можете… Вы можете день ему уделить?
— Кому? — спросил я, опасаясь, что мне предложат провести день с утопленником.
— Толику! Он ведь недалеко. В Кузовлеве. А у меня подписка… Вы можете?
Откровенно говоря, я такого предложения не ожидал, хотя и пришел, движимый добрыми чувствами к мальчику.
— Конечно! — обрадовался я. — Чем я могу быть полезен?
— Если бы вы съездили к нему…
— Охотно. Но с какой целью?
Просьба оказалась простой. Ирина хотела передать сыну небольшую посылку — белье, одежду и то, что раньше называлось гостинцы. Все это требовалось, однако, собрать и подготовить, и я обещал зайти в удобное время и захватить эти вещи.
Так вдруг нервный и полупьяный разговор обрел полезный и естественный смысл. У меня от души отлегло.
Проводила она меня до калитки, и когда вышли из дому, казалась совсем трезвой, озабоченной только житейскими делами.
— Вот видите, — сказал я довольно, — все-таки смог я вам пригодиться. Все доставлю в целости и сохранности лучше почты. А вы в самом деле отдыхайте. И поверьте, никто к вам не придет.
Вот это уже было лишнее.
Она вмиг переменилась, напряглась.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— Я тоже уверена.
Но лицо ее выражало что-то совсем иное. Ирину опять заносило.
— С чем придет, с тем и уйдет.
Я поспешил откланяться.
Сначала я не собирался говорить Мазину о своем визите, даже побаивался, если откровенно, а вдруг каких-нибудь дров, с его точки зрения, наломал, но, поразмыслив, пришел к выводу, что и умолчать не имею права, тем более что «дрова» вроде бы в порядке. А главное, нельзя же скрыть, что я к мальчику собрался. Ведь Мазин Анатолием особо интересовался, да и весь сыр-бор с него загорелся. По сути, Мазин-то меня на эти поступки подтолкнул, и теперь уехать, не проинформировав его обо всем, было уже невозможно.
И все-таки мне пришлось преодолеть некоторые опасения, прежде чем я решился позвонить в гостиницу. Звонить пришлось не раз и не два, в номере не отвечали, и я даже навел справку, а не уехал ли такой-то товарищ, но меня заверили, что нет, и я продолжал звонить.
Наконец Игорь откликнулся.
— Слушаю.
— Устал за день?
Это можно было и не спрашивать. Слышно было по голосу, да и на термометре, несмотря на вечерний, час, ртуть замерла у отметки тридцать.
— Прости, не хотел беспокоить, но я старый зануда и привык…
— Говори, говори, — подбодрил Мазин.
— Я, знаешь, был у Ирины Васильевны.
— У кого? — Но он тут же понял. — Ну, даешь!
— Вот и решил поставить тебя в известность.
— Спасибо и за это. Как визит? Чем угощали?
— Если не выдашь, пришлось пригубить рюмку.
— Это уже серьезно.
— Да нет. В общем, ничего особенного. Она в подавленном состоянии, как и следовало ожидать. Ты, как всегда, оказался прав, мальчик в колхозе…
Тут он прервал меня.
— Николай, телефонной скороговоркой ты не отделаешься. Приезжай.
Только что кончилась программа «Время», и дикторша, приятная во всех отношениях, обещала «Литературный альманах». Я вздохнул.
— Сейчас?
— Конечно. Или к тебе приехать?
Нет, тащить его к себе после трудного дня я не имел права. Все-таки мой день прошел легче. Пришлось пожертвовать Лихачевым и Беловым, которых пообещали в альманахе.
Мазин к моему приезду принял душ и снова обрел форму. Во всяком случае, так он выглядел.
— Здравствуй, Перри Мейсон.
— Почему именно Мейсон?
— Потому что по натуре ты адвокат. А не сыщик, — добавил он не вполне убедительно, ибо Мейсон, на мой взгляд, сыщик больше, чем адвокат. Но спорить я не стал.
— Ладно, мистер Холмс.
— Какой я Холмс? Больше, чем на Лестрейда, не тяну, — возразил Мазин без рисовки, и я почувствовал, что день выдался не только трудным, но и не очень удачным. Может быть, потому он за меня и ухватился, как говорится, на безрыбье…
— Что же тебя интересует? — спросил я, чтобы упростить и сократить процедуру. Время-то было позднее, а ему еще выспаться следовало. Но он ответил:
— Все.
— Ну все, с моей памятью, слово в слово не передашь, да и не те у меня сведения, что агенты ноль-ноль добывают…
— И все-таки я бы с удовольствием прослушал полную запись вашего разговора.
Я не понял, насколько всерьез это сказано, и на всякий случай пошутил:
— В следующий раз снабди меня соответствующей аппаратурой.
Он покачал головой.
— Нет, брат, с тобой это бесполезно. Ты записи бояться будешь.
В самом деле! Я представил, что каждое мое слово записывается, и сразу почувствовал себя неловко. Получилась бы чушь, жвачка… Как профессиональный лектор я привык к тому, что фиксируемое слово должно быть предварительно нанесено на бумагу, и произносить его следует с осторожностью, взвешивать и отделять от слова непосредственного. Да разве я один так привык? Если разобраться, не тут ли начинается та двойственность, когда на собрании говорим одно, а выйдя из зала — совсем другое? Но хоть и не раз я с сомнением себя спрашивал, стоит ли так живой речи опасаться, самому мне уж не перестроиться, слишком долго привыкал.
— Да, ты прав, пожалуй, техника пугает.
— Техника? Или что другое?
Об этом можно было бы долго говорить, но я предпочел не углубляться, поберечь его время и изложить то, что интересовало Мазина, возможно подробнее.
Он слушал, не прерывая. Я знал, вопросы будут потом. Но вопросов, может быть потому, что устал он, оказалось меньше, чем я ожидал, были они простыми и только требовали подтверждения моих же собственных слов и вещей в общем-то очевидных, — о состоянии Ирины, о ее нервических страхах перед утопленником, о сыне.
— Значит, мальчик ничего не знает?
— Конечно, и это делает ей честь.
— Ты так думаешь?
— А ты?
Он со мной согласился.
— Ну что ж отправляйся со своей секретной миссией.
Я ожидал, что Мазин предложит мне что-то узнать, но никаких «заданий» он давать не собирался, и я спросил:
— Почему секретная?
— А как же! Незнакомый адресату человек, везешь посылку неизвестного содержания.
— Ну что неизвестного? Трусы, майки.
— А ты будешь все пересматривать?
— Нет, разумеется. Разве нужно?
Он засмеялся.
— Нет, разумеется.
Теперь, после разговора, Игорь снова шутил, и я было подумал, что не так уж он устал и можно было его к себе зазвать, а в ожидании посмотреть интересующий меня «Литературный альманах».
Но Мазин быстро посерьезнел, и стало заметно, что устал все-таки, и сказал просто:
— Заданий никаких. Но поговори с мальчишкой по возможности доверительно.
— О чем?
— Обо всем. Что его интересует, и что он сказать захочет, выслушай внимательно.
— Он там на комбайне работает.
— И о комбайне послушай. Их ругают в газетах, вот на месте и разберешься.
— Попытаюсь, — ответил я в тон.
— Комбайн косит и молотит, а жатву люди убирают, — добавил Мазин не очень понятно.
— Значит, еду без микрофона?
— Без микрофона… На машине поедешь?
— Нет, автобусом. Поберегусь.
Вот с такой приблизительной инструкцией, а скорее антиинструкцией, уехал я в таинственное для меня Кузовлево. Говорю, таинственное, раз уж Мазину угодно было назвать миссию мою секретной.
В пути, однако, ничего таинственного не происходило. Было просто жарко и утомительно. Асфальт на шоссе «плыл» под колесами тяжелых машин с хлебом, которые то и дело проносились мимо. Одни выглядели аккуратно и деловито — высокие борта надежно держали зерно, брезент поверху был тщательно пригнан, другие громыхали разболтанно, с открытыми кузовами.
— Сволочи! — отозвался мой сосед по автобусу, когда мы встретили уже третью непокрытую машину, — знаете, сколько зерна может ветерок за рейс выдуть?
Я не знал, но видел, как жаркий ветер выхватывает пшеничные зерна из кузовов.
— До десяти процентов.
— Неужели? Почему же не прикрывают? Брезента, наверно, не хватает?
— Всего у них хватает. Задраивать не хотят.
— Ленятся?
— По-старому жить привыкли. Кто быстрее привезет, сдаст, тот и герой передовой. Вот и привыкли галопом на элеватор, а завязывать-развязывать время требуется.
— Но ведь теперь другие стимулы, — возразил я, вспомнив телевизионные передачи об агропроме, бригадном подряде и других полезных начинаниях.
Собеседник, человек в кепке и тельняшке, выглядывающей из-под распахнутого ворота, посмотрел на меня:
— Стимулы другие, а люди?
И, не дожидаясь ответа на вопрос, заданный, очевидно, как риторический, прикрылся газетой не то от меня, не то чтобы не смотреть в окно.
Кузовлево оказалось большим и обустроенным селом с белыми, силикатного кирпича, общественными по стройками, окруженными такими же новыми, но красными кирпичными, типа коттеджей, жилыми домами. Правда, дворы смотрелись еще голо, не обросли садами.
Человек, которого я должен был найти, чтобы «выйти на Анатолия», комбайнер дядя Гриша, взявший мальчика под опеку, жил в старой части села, в доме не столь нарядном, зато добротном, в давно обжитом дворе царили тень и прохлада, воздух был чистым, не пропитанным пылью. К сожалению, — впрочем, я этого ожидал, — хозяина дома не было, трудился в поле, и Толя с ним, естественно. Поэтому я, выпив холодной колодезной воды, по указанию хозяйки отправился дальше, в бригаду, на этот раз на попутной машине.
Машина бежала быстро, но скорость меня не радовала, дорога была ухаб на ухабе, и ощущалось это чувствительно.
Водитель заметил мои неудобства.
— Тряско? — спросил он, но не обнадежил. — Ничего не поделаешь. Недавно по телевизору выступали, что нужно говорить не жатва, а страда. Так что пострадаем за общее дело. Или возражаете?
— Пострадаем.
— А с другой стороны, вам за что? Мы-то на подряде. Вот и гоним, — все-таки посочувствовал шофер.
— И зерно брезентом не укрываете? — не выдержал я очередной выбоины.
— Ну кто вам сказал! — обиделся он. — Как младенца пеленаем и везем нежно, чтоб не расплескать. Вот поедете обратно, сами увидите. А сейчас поспешать нужно.
— Далеко еще?
— Рукой подать. А вам в бригаде кто нужен?
— Мне, собственно, приезжий один… Подросток.
— Толик?
— Знаете?
— Занятный парнишка.
— Что именно?
— Городской, а хватка наша.
— Сельская?
— Механизаторская. Ему дядя Гриша свой комбайн доверяет. А вы родня ему? Не дедушка, случайно?
— Нет. Я по поручению. Мать передать кое-что попросила.
И я показал сумку.
— Беспокоится мамаша?
Я не стал распространяться.
— Дело материнское.
На том и договорились.
Машина притормозила у вагончика-бытовки. Неподалеку от вагона в тени старой акации за врытым в землю столом сидел крепкий мужчина и ел борщ из алюминиевой миски.
— Вот он, дядя Гриша, — сказал водитель, и едва я успел соскочить, газанул по недавно наезженной колее в поле к комбайнам, грузиться.
Я подошел.
Дядя Гриша смотрел на меня, положив деревянную ложку на край миски.
Я представился. Правда, довольно невразумительно.
Дядя Гриша сдвинул не то выгоревшие, не то седые брови.
— Что посылку привезли, понял, а вот кто вы, не понял.
— Да это не так существенно.
— Садитесь, — предложил он, не возражая.
Я присел на грубо обструганную лавку.
— Если несущественно, тогда другое дело.
Теперь я не совсем его понял. Но он продолжил:
— Если вы человек посторонний, значит, отдал — уехал, и все дела. Хотя вы, выходит, специально приехали, не в командировку, значит, не совсем посторонний?
— Все-таки больше посторонний.
— Дело ваше. А я-то подумал…
— Что вы подумали?
— Да что вы вроде отчима или кандидата в отчимы.
Я и смутился и улыбнулся невольно.
— Разве я похож на кандидата… в женихи?
— А что такого? По закону не ограничено. Седина в бороду… Ну, ладно. Это я так. Все-таки он мне доверился, вот и интересно. Ответственность несу.
Ответом моим он, конечно, остался недоволен, но и не попрекал меня за скрытность.
— Вы ему ближе, чем я, — добавил я утешительно.
— Да ничего, уживаемся.
— Где же он?
Дядя Гриша показал ложкой на приближающийся комбайн.
— Вот…
— И как он работает на машине?
— Справляется, помаленьку. На рекорд еще не вышел, но на кусок хлеба заработать может.
Комбайн приближался, пригибая и, срезая густой хлеб. Дядя Гриша махнул рукой, и машина остановилась, поравнявшись с нами.
— Толя! Гость к тебе.
Мне показалось, что мальчик не хотел выходить из кабины. Во всяком случае, вышел не сразу. Но куда ему было деваться? Маленькая фигурка отделилась от пышущей жаром пыльной красной машины, мелко вздрагивавшей и гудящей невыключенным мотором.
И снова мне показалось, что идет он неохотно, будто заставляет себя переставлять ноги, совсем не так, как следовало подростку, который на глазах у взрослых выполняет настоящую мужскую работу. Одет мальчик был в узкие латаные и застиранные джинсы, но и они казались велики на его худом, черном от загара теле.
— Ну и худющий, — сказал я, пока Толя шел к столу.
— Ничего, были б кости, мясо нарастет, — ответил дядя Гриша, крепыш, в котором, казалось, никаких костей отроду не бывало.
— Он устает, наверно.
— Не замечал.
— Идет медленно.
— Гостя не ждал.
«Еще бы!»
Толя был уже рядом.
— Здравствуй! — шагнул я навстречу. — Ты меня, конечно, не узнаешь…
Он посмотрел. Конечно, ждать меня здесь Толя не мог, но узнал, и не только узнал, неожиданно для меня вдруг улыбнулся, мне даже показалось, обрадованно.
— Узнаю.
— Ну, здравствуй, — повторил я, протягивая руку.
Его сухая ладошка прикоснулась к моим пальцам.
— Здравствуйте.
— Я от мамы.
— Случилось… что-нибудь?
Улыбка пропала, появилась тревога.
— Да нет, все в порядке, она тебе переслала кое-что, — откликнулся я по возможности бодро.
И я протянул посылку.
Мальчик быстро присел на лавку и стал перебирать содержимое — новые джинсы, майки, банки с консервами.
Дядя Гриша наблюдал искоса.
— Штаны — это хорошо, — заметил он, — парень уже светит задницей, а еда ни к чему, мы сами в город посылаем.
— А письмо? — спросил Толя.
Об этом я не подумал. Выходит, писать не решилась.
— На словах передала — все в порядке.
— Мама дома?
— Конечно. А где же ей быть?
«Послушал бы мой бодрый тон Мазин! Но почему он так спрашивает? Ведь он ничего не знает?..»
Дядя Гриша поднялся.
— Ну, потолкуйте. А машина стоять не должна. Жатва не ждет.
И направился к комбайну. По походке было заметно, что он не молод. Конечно, жатва ждать не могла, но вряд ли одно это соображение подняло его с места. Есть люди грубоватые на вид, но обладающие очень развитым чувством такта. Видно, и дядя Гриша был из таких. Он почувствовал необычность нашей встречи с мальчиком и не хотел, наверно, быть нежелательным свидетелем. И я был рад, что он отошел. Так было легче объяснить, зачем взялся доставить не самую необходимую посылку не очень знакомый человек.
— Как ты тут?
— Хорошо, — ответил он, как отвечают послушные дети, хотя Толя, несмотря на почти физически ощущаемую щуплость, вблизи маленьким не выглядел. И не только потому, что на глазах у меня выполнял взрослую работу, лицо у мальчика было рано повзрослевшее.
— Хорошо, — повторил Толя, провожая взглядом удалявшийся комбайн.
— Какой же урожай? — задал я дежурный вопрос.
Он взглянул на меня, как бы проверяя, а нужно ли мне это на самом деле. Потом ответил:
— На круг тридцать шесть.
— Техника не подводит?
— В хороших руках не подведет. Дядя Гриша машину на зиму у себя во дворе держит.
— А это разрешается?
— Ему разрешают.
— Такой работник?
— Человек такой, — сказал мальчик с гордостью.
— Я вижу, вы подружились.
Толя кивнул сдержанно.
Я ждал большего в адрес дяди Гриши, но мальчик был явно не расположен к разговору.
— Тебе, кажется, мой приезд не по душе?
— Почему? Я рад.
Рад, он сказал искренне, но я не почувствовал, что радость эта имеет непосредственное отношение ко мне лично.
— И я рад, — тем не менее откликнулся я.
— Вы? Почему?
— Ты сначала спроси, почему я приехал.
Вот это было необдуманно, потому что задай он мне такой вопрос, ответить на него было бы трудно. Но, к счастью, он его не задал.
— Попутно, наверно…
Конечно, по пути я должен был наметить какой-то план нашего разговора. Но я же не Мазин, у меня в привычке полагаться на непосредственные чувства в непосредственной ситуации.
— Нет, специально.
— Я не знал, что вы с мамой знакомы.
Я пояснил:
— Видишь ли, если по большому счету, мы почти не знакомы, но так получилось. Я с вашей школой давно связан, ваша директриса у меня училась.
И тут он, наконец, проявил себя.
— Значит, это вы ее выучили, что Онегин хороший человек?
Нужно было вести себя честно.
— Я учил ее, что Онегин передовой человек.
— Разве передовой и хороший не одно и то же?
— Ну, как тебе сказать. Это не всегда совпадает. Не все наши великие писатели были людьми передовыми, с нашей точки зрения. Ты же знаешь, например, о письме Белинского к Гоголю?
— При чем тут Гоголь? Передовой он или не передовой, это Белинского волновало, в свою эпоху. А нам книги остались, мы по наследию судим. А от Онегина что осталось? Взять хоть дядю Гришу. Дядя Гриша трудяга, а Онегину труд упорный был тошен…
— Да, я знаю твою точку зрения.
— И еще передовой человек жуликом быть не может, — бросил он с вызовом.
— Разве Онегин воровал?
— Не про Онегина я, а про тех жуликов, что чужое присваивают, а о передовом распинаются. Да и Онегин оброком пользовался.
— У Пушкина, между прочим, тоже крепостные были.
— Пушкин свое отработал. Вот и получил по способностям.
Я невольно улыбнулся такому современному взгляду. Мальчик многое упрощал, однако это был честный задор. Пусть наивно, но он связывал литературных героев с окружающей жизнью, видел в них нечто живое, а не пресловутые «образы». Но по преподавательской инерции я заметил:
— Подрастешь, взглянешь на вещи шире.
— Нет, — отрубил он резко.
— Почему нет?
— Знаю эту широту. Слишком широко. Все можно, да?
Я удивился.
— Ты никак читал Достоевского?
— Нет.
— Значит, кино видел? «Братья Карамазовы»?
— И кино не смотрел.
— А говоришь, как Митя Карамазов.
— Что он говорил?
— Широк человек, нужно бы заузить.
— Здорово! А он кто был?
— Митя был запутавшийся человек, и в конце концов в каторгу был осужден.
— Воровал?
— По ложному обвинению.
Толя вдруг сжал острые кулачки.
— А почему вы все-таки приехали?
Теперь вопрос был поставлен ребром.
— Ну, как тебе объяснить… Ты мне на диспуте понравился, а тут такая петрушка, узнал я про твое несчастье…
— Какое?
Прозвучало так, будто несчастий было несколько.
«Неужели знает? А ведь могло дойти как-то, могло».
— Отец погиб у тебя.
— Да…
— Мать считает, что трудно тебе.
— И вы, посторонний человек, поехали?
Мальчишка бил в точку. Но с другой стороны, разве я обманывал его?
— Поехал, как видишь.
— Утешать?
— Ну, нет. Я понимаю, что паренек ты крепкий.
Он скривил губы, не принимая похвалу, сочтя ее, видимо, дешевой приманкой.
— Хотелось убедиться, что ты в порядке, и все.
— Убедились?
— Дядя Гриша сказал, что в порядке.
— Правильно.
На этом он, кажется, решил, что сказано между нами достаточно, и спросил не очень тактично:
— Когда ж поедете?
Я невольно взглянул на солнце, а не на часы. Ведь на часы мы в городе смотрим потому, что солнца не видим.
— Сегодня не успею. С утра пораньше.
Ужинали мы поздно, в темноте, во дворе у дяди Гриши под кряжистой грушей, через ветку которой был переброшен провод с электрической лампочкой. Дневной зной отпустил, с недалекой речки тянуло прохладой, оттуда же небольшими группами тянулись на свет и добычу комары, звонко возвещая об угрозе и накликая собственную гибель. Дядя Гриша время от времени гулко шлепал по темным обнаженным рукам.
— Надоедливая скотина, — говорил с досадой, — но здешний комар что… Вы на Севере бывали? Вот там да… Комар тучей, а за ним гнус, это да…
Хозяйка подоила корову, принесла парного молока. Я с удовольствием отведал этот полузабытый напиток. Разговор шел о том о сем. Потом дядя Гриша заметил, что Толя клюет носом, и сказал:
— Пора на боковую, сынок. Подъем ранний, сам знаешь.
Анатолий поднялся и повернулся ко мне.
— До свиданья. Мы рано уедем, я вас не увижу больше. Маме передайте, что меня видели.
— И все?
— А что еще?
— Хорошо, передам.
Признаться, я испытывал чувство неудовлетворенности. Хотелось поговорить основательнее, чувствовал, что и Мазин ждет большего, хотя не упрекнет, конечно. Но вот так получилось. Вроде все в порядке, о чем же еще говорить? Да и мальчишка не стремился. Жаль. Получилось, вроде курьера слетал…
— Писать не будешь?
— Некогда.
— Понятно. Ты сейчас человек занятой.
— Жатва, — подтвердил дядя Гриша.
— Спасибо вам.
— Не за что.
— Есть за что, — сказал мальчик негромко.
— Если так считаешь, я рад. Когда домой собираешься?
Мальчик взглянул на дядю Гришу.
— Куда спешить, — сказал тот. — Еще поработаем.
— Ну, счастливо потрудиться!
Он первым протянул мне руку.
А мы с дядей Гришей остались за столом.
Я, признаться, тоже ожидал приглашения ко сну — и сам умаялся за жаркий день, и он потрудился. Но дядя Гриша почему-то не торопился.
Помолчали. Я допил чай с медом и водил ложкой по пустой чашке. А он вроде бы ждал чего-то, изредка поглядывая на открытые окна дома, где уже потушил свет Толя.
— Покурим?
— Я не курю.
— Да, я вижу. Ну, я покурю, с вашего разрешения. Луна-то какая, видите?
Луна в самом деле была роскошная, полнолунная, щедрая на голубой свет, оттенявший черные вершины деревьев, но, честно говоря, на восторги не тянуло, тянуло ко сну, однако в голосе дяди Гриши я уловил нечто большее, чем дань красотам природы, на которые он насмотрелся с избытком. Что-то другое у него на уме было, даже курить не спешил, чему я был в душе рад, потому что табачный дым не терплю, особенно в такую чистую тихую ночь.
— Я, собственно, сказать хотел вам кое-что.
— Я так и понял. О мальчике?
Дядя Гриша бросил еще один взгляд на окно и понизил немного голос.
— О нем.
— Есть трудности? — спросил я тоже тихо.
— Как сказать… Он тут тайник сделал. Я случайно наткнулся. Конечно, чужие секреты нехорошо… но так уж получилось. Посоветоваться нужно.
— Что же в тайнике?
— Бумага одна. Вы почитайте, ладно?
«Бумага», которую принес дядя Гриша, оказалась пачкой листков, соединенных канцелярской скрепкой. На первый взгляд это были наброски, черновики письма со множеством помарок и поправок. Однако почерк был разборчивый, и это облегчало чтение.
Сначала было написано: «Дорогой Толик!»
Потом «дорогой» зачеркнуто.
Потом вычеркнуто все обращение и сверху написано просто: «Сынок!»
И еще раз исправлено.
«Сын!
Не знаю, как тебе и написать. Лучше бы не писать, чтоб ты не знал ничего, но так может быть, что я жить скоро перестану, а тебе еще предстоит, и я хочу, чтобы ты про отца все знал и моих ошибок не совершил.
Но как писать? Это трудно, Толик. Не получается даже в голове коротко и ясно. Ладно, буду писать, как придется, а потом поправлю, если что не так.
Мне, Толик, жить больше не надо, так или иначе, мне выхода нет. И ты не убивайся, пожалуйста. Все люди умирают, кто раньше, кто позже. Вот пойдешь на кладбище, там сам увидишь — и дети там, и молодые, кому сколько пришлось — кому как положено».
Последняя фраза была зачеркнута.
«Как началась моя беда? Давным-давно. С того дня, как я ростом не вышел. Ты удивишься, конечно, ведь меня высоким считают. Но это с точки зрения нормальных людей. А для баскета я оказался недомерком.
Да, Толик, я был такой же подросток, как ты, и играл в баскетбол. Мне это нравилось, сынок, просто нравилось. Весело было, когда мяч в кольце. Красиво, а у всех лица разные. Свои радуются, обнимают, болельщики хлопают, а у других морды вытянутые… Заметили меня, и сам я не заметил, как попался на удочку. Перспективный спортсмен! Так меня называли, а ведь мальчишка был, как ты, школьник. Мозги куриные. Ты не обижайся, у тебя лучше с мозгами. Ты ученый, может, будешь. И я не дурак был, физику любил, тянулся к машинам. Но они мне не дали. Я это поздно понял, что судьба моя без меня решается.
Конечно, это красиво. Форма спортивная, соревнования, поездки. В гостинице командировочные раскладушки клянчат, а мы в номере, на них свысока смотрим. Мы на соревнования приехали, честь защищать…
И девчонки, конечно, к нам тянулись. Мы ведь рослые, старше выглядели. Твоя мать тоже… Но с ней, Толик, ты должен сам разобраться. Она — мать, и это вопрос сложный. Я с ней и счастливый был и несчастный. Скоро по вас удар большой по моей вине будет, и я ее охаивать права не имею.
Как говорится, в смерти моей прошу никого не винить».
Эта фраза была подчеркнута.
«Короче, я в этот спорт погрузился и не замечал, что отметки мне уже не за знания ставят…
Я, Толик, злой на учителей, зачем они это делали! Зачем портили? Неужели им так спортивная честь дорога была, что они и меня, и себя, и всех обманывали? Я же не занимался совсем, а они ставят… Я и говорю потому, куриные мозги. Человек к благополучию легко привыкает. И к двойному счету легко, то есть себя по одному ценит, а других по другому. Я тоже ценил себя так. Что вкалывать? Да меня любой институт с руками оторвет, лишь бы руки мяч кидали. Там и буду учиться всерьез. Я в автодорожный хотел, Толик. Думал, там и буду учить то, что надо. А сейчас главное — спорт. Зачем мне мура такая, как литература, история, география? Что мне эта Татьяна Ларина или Потемкин с его деревнями фальшивыми! А то, что сам я потемкинская деревня, не думал, конечно.
А может быть, так и проскочил бы, но рост подвел. Остановился. Хороший, но не для баскетболиста. Так я и очутился в десятом классе у разбитого корыта.
А эта сволочь, Филиппыч, тренер наш, меня утешил:
— Ты, Борис, не горюй. Не всем же спортсменами быть. Спорт тебе пользу принес, физическое развитие, волю закалил, а теперь ты человек самостоятельный. У нас для всей молодежи дороги открыты.
Я его, гада, недавно под пивной видел, пиво водкой разбавлял, руки трясутся, горлышко о кружку дробь выбивает. Стал алкаш хуже меня. Так ему и надо. За всех нас. Разве он меня одного с дороги сбил?»
Тут обрывалась третья, недописанная страничка, и видно было, что следующая начата после перерыва.
«Перечитал я все это, Толик, и думаю. Хнычу я чего-то. Расплачиваться за ошибки нужно, а не хныкать. Ты пойми, я на жалость твою не бью. Я правду пишу, чтобы тебя предостеречь. Дороги, правда, открыты, но для оболтусов не все. Поэтому, сынок, семь раз отмерь — один отрежь. А я не мерил вообще. Сказали — перспективный, и обрадовался. Хоть на Олимпиаду, хоть в институт… Не тут-то было. Вышло, что в институт сунуться не с чем. Я-то рассчитывал, что меня туда по ковровой дорожке с мячом под мышкой… А оказалось, что ни ростом, ни башкой не вышел. И учителя, оказалось, не такие уж болельщики были. А Марина — мама ее знает — вообще рассчиталась. Но я ее, Толик, не виню. Я ведь ее предмет за муру держал. Ей обидно было, но, пока перспективный, обиду при себе держала. А как посыпался, она меня на прощанье припечатала.
Короче, сам знаешь, Толик, что в институт я не попал.
Но, конечно, это еще не значит, что жизнь меня тогда погубила. Наоборот, жизнь хороший шанс давала. Взяли в армию, там мотор, любимое дело. Но тут нужно понять, что ты как раз родился. Тут сложно, Толик…
Когда я распрощался со спортом или он со мной — так вернее, мы с твоей матерью дружили, учились в одном классе. Она самая красивая девчонка считалась, одевал ее твой дед как следует. Мне нужно о ней хорошее сказать. Когда меня признали неперспективным… Сначала перспективным, а потом уже неперспективным… Она меня не бросила. Короче, я ее очень любил, и она меня из армии ждала. Это я помню, Толик, и ты знать должен. Но тут ты родился. Вернулся я из армии, снова хотел в институт, а я ведь уже родитель.
Ты пойми, Толик, правильно, я никого, кроме себя, не виню ни в чем, но ведь не мог я к твоему деду на шею садиться. У меня своя гордость есть. И теперь даже есть, а тогда больше было. Особенно потому, что дед был при деньгах, хотя сам тоже в вузе не учился.
Он мне так и говорил:
«Я институт не кончал, а живу в достатке».
Конечно, он нас запросто поддержать мог. Он даже больше чем в достатке жил, хотя дед твой не жулик, в торговле можно так жить, чтобы иметь достаточно и не сесть. Не нужно зарываться только. Он и дом построил, и в достатке был, а всегда уважаемый был человек. Потому что меру знал и не переступал. И меня учил:
«Человек умный всегда прожить может. Дурак тот, кто не может, и тот, кто очень богатый хочет быть, тоже дурак».
Выходит, я дурак, Толик. Но это потом, а тогда я просто гордый был и на его деньги жить не хотел, чтобы в меня пальцем не тыкали: был спортсмен, а теперь от магазина кормится. Я работать решил. Я хотел, Толик…»
Последние слова он зачеркнул.
«Я, Толик, не хотел. Я всегда одного хотел, чтобы тебя человеком вырастить, чтоб ты дальше моего пошел, потому что голода у тебя светлая, чтоб тебя люди уважали.
А теперь получается, что тебя подвести могу. Но не подведу. Перед тобой я ошибки свои исправлю.
Ты знаешь, я после армии водителем работал. Водитель я, сам знаешь, какой. Жили нормально. Вернее, я теперь понимаю, что нормально, а тогда меня точило.
А потом вдруг пошло такое… Ну, как тебе объяснить! Конечно, были обстоятельства. Особенно, когда дед умер…»
Тут было вычеркнуто так, что прочитать я не смог.
«Не в том дело, Толик. Люди и хуже живут и не жалуются. А нам плохо показалось. Ну, мать, понятно, женщина, привыкла быть одетой, обеспеченной, дед ее баловал, а вот я…
Я чего-то недобрал, Толик, в жизни. Как говорится, не реализовался, и потому пустота вокруг меня образовалась, скука. А когда пусто, чем это заполнить? Деньги, водка, сам понимаешь. Нет! Не так пишу.
Короче, Толик, стало не хватать. Матери, главным образом, не хватало, она… Нет, Толик, ты ее не вини, понимаешь?»
По мере чтения становилось заметно, что автор все более затрудняется выразить свою мысль, в поисках нужных слов он черкал все больше, но это не помогало, мысль то ли не давалась, то ли просто не сформировалась окончательно.
«А тут дядь Сань. Он, ты знаешь, тоже с нами учился, а потом в текстильный институт поступил. У нас все удивлялись, потому что ребята в престижные, как теперь говорят, стремились, а он в текстильный, тряпье какое-то…
Но мы ж не знали, что-такое тряпье. Что из него делать можно. Я этого тебе описывать не буду. Не хочу. Но так получилось, что дядь Сань говорит:
«Ну, что ты вкалываешь за копейки…»
Короче, Толик, он мне подработать предложил. Тогда расходы у нас большие были. Дед дом-то запустил, я все своими руками поддерживал, ты ведь знаешь, Толик, мои руки золотые. Я все сам, но сам тоже все не сделаешь, а стройматериалы… Короче, Толик, я обрадовался, что заработать можно.
А дальше понесло, как с тем баскетболом. Снова за меня другие думать стали, а я только вроде бы пенки снимал. Одна проблема — как от вас с мамой лишние деньги скрыть. Про скачки выдумывал. Обманывал я вас, говорил, что с ипподрома деньги, что выиграл, хотя там, Толик, просаживают больше, чем выигрывают. Но я ходил туда, вас обманывал, а ты и не знал ничего. Ты же маленький, тебя легко обмануть, а мать… Но я про мать, Толик, плохого не хочу. Мать она мать, ты это помни, Толик».
Обращение к сыну по имени стало появляться все чаще, видно, так легче писалось, текст приобретал все большее подобие устной речи, что тоже помогало, наверно.
«Короче, я не знаю, Толик, знает она или нет… Но все равно придется. Дядь Сань нехороший человек…»
«Нехороший» он подчеркнул дважды. Чувствовалось, что когда отец писал, он видел оставляемого сына маленьким, совсем маленьким и обращался к нему, как к ребенку. Или дети для родителей всегда дети?
«Но я сам виноват. Потому и пишу тебе, чтобы от плохих людей подальше. Не виню я никого, а свои вижу ошибки и тебя хочу предостеречь. Больше ничего не хочу.
Это неважно, во что он меня втянул. Сам втянулся. Наручники он на меня не надевал. И я в наручниках быть не хочу.
А расплата будет суровой. Вот и решил я, лучше с вас пятно отмою хоть немного, чтобы тебе анкету судимостью моей не портить, хотя сын за отца, конечно, не отвечает. Но это на бумаге, а в жизни бывает по-разному.
А что мне еще делать, Толик?
Ну, сам посуди!»
Судить, однако, становилось все труднее. Временами казалось, что писавший уже не о сыне думает, а сам с собой в последний раз тупиковые варианты проигрывает.
«Конечно, я могу выйти из дела. Вернее, не могу.
Я буду для них подозрительный человек, а это…
Нет, не убьют, конечно, но и жизни не будет.
А потом, что я буду делать, кроме этого дела? Откуда брать деньги?
Прости, сын, отец твой алкоголик. Я больной человек, хотя похож на здорового и не валяюсь на улице, я ни разу не был в вытрезвителе, но я больной, и никто мне не поможет. Я уже сам стал не человек, а машина. Я не могу без заправки, а бензин дорожает. Прости меня, Толик, если можешь, но когда я понял, что никто из меня не вышел, ни спортсмен, ни инженер, ни работяга обыкновенный, я стал пить…
Говорят, если с утра пьет — пропащий, а я, если не выпил, вообще не могу. Прости, Толик, я все о тебе думаю, и когда выпивши, мне легче, потому что придумываю, как все это бросить и чтобы хорошо нам было. А если не выпью, только одно вижу — не будет.
А теперь я так и выпивши уже думаю. И нет разницы в мыслях, но выпивши решимости больше последнюю точку поставить.
Выходит, я из дела выйти не могу.
Ну а если бросить вас, разыграть скандал, чтобы меня за подлеца, бросившего семью, люди считали?
Это, конечно, можно, но толку? Куда денешься? Все равно нужно исчезать.
Лучше совсем».
Потом в письме оказался, видимо, значительный по времени пропуск. Текст с новой страницы начинался одним выразительным словом:
«Доигрался!»
Это было подчеркнуто трижды.
А следом:
«Все, сын, нужно вовремя делать, даже из жизни уходить! А я и тут дурака свалял. Струсил, ждал у моря погоды…
И дождался».
Опять жирно подчеркнуто.
«Теперь на мне кровь! А кровь под краном не смоешь. Не зря же в детективах ее, проклятую, и в щелях в полу, и на подкладке обнаруживают, потому что это кровь».
Отдельной строчкой в кавычках:
«Кровь людская не водица».
«А они мне говорят — ложись на дно.
Будто я давно не на дне?
Иначе бы у меня нервы не сдали. Когда автоинспектора позвали, и он с моими правами пошел и говорит «подожди», я и сам не знаю, как газанул. Нет, Толик, не от страха, хотя было чего бояться, просто сам не знаю, смотрю, дорога, как черная стрела, среди снега прямо, прямо и неизвестно куда, прямая-прямая черная, и никого на дороге, кроме того, что рядом с мотоциклом стоял, и белое все, и никого — одна судьба…
Она меня и толкнула вперед, и я помчался… Казалось, до горизонта, а там вверх, и с землей этой навек…
Ты пойми меня, Толик!
Хоть и нет мне прощения. Но больше всего твоего суда боюсь. Потому что перед кем я еще виноват?
На суде скажут — перед государством. Ну, это, конечно, хотя дядь Сань точно мне технологию разъяснил, ничего у государства не пропадало. Просто дураков у нас, Толик, много, и они так планируют. А дядь Сань, хоть и жулик, а умнее их в сто раз».
И этот листок не был дописан.
С нового:
«Все равно, Толик, виноват. Пусть дураки и лопухи, а все равно — чужое нельзя… Сам видишь, что вышло. Это только удавы могут. Удав, Толик, может целого барана проглотить и целый месяц его переваривает, лежит, дремит.
А дядь Сань не дремит, ему все мало.
Этим он от удава отличается.
Я злой на него, Толик. Хотя в основном я сам во всем виноват, но злой. И я ему отмочу штуку…
Они говорят, ложись на дно, а сами за деньгами.
Значит, не уверены, что на дне безопасно. И в самом деле, «Титаник» сколько на дне пролежал, а теперь добрались. Пожалуйте денежки!
Я им не «Титаник».
Ах, Толик, Толик… Как мне перед тобой стыдно. Но на тебе пятна не будет… Слово!
Бойтесь удава!
Толик! Маму ему не отдавай. Он вас обоих погубит, это точно…»
Читать при свете несильной лампочки было довольно затруднительно. Но я не прерывался, пока не дочитал до последнего слова. Дядя Гриша терпеливо ждал, молча дымил «Нашей маркой», но теперь я на дым и внимания не обращал, к тому же он отгонял назойливых комаров.
Наконец я положил листки на клеенку и снял очки, чтобы протереть уставшие глаза.
— Ну и как? — спросил дядя Гриша.
— И представить себе ничего подобного не мог.
— А я думал, вы что-нибудь знаете.
— Почему?
— Ну, совсем бы чужой не приехал. Я вас, откровенно говоря, сначала за дядь Саню заподозрил.
«Вот оно что!..»
— Дядь Сань утонул.
— А говорите, ничего не знаете!
— Это случайно мне известно стало, мать под следствием, подозревается. Важно, чтобы Толя не знал об этом.
— Ого! Неужели убила?
Я рассказал в общих чертах.
Дядя Гриша вздохнул.
— Ну, дела! Выходит, эту бумагу по правилам нужно было сразу в милицию?
— В милицию?
Об этом я пока подумать не успел, меня сама драма потрясла.
— Или прокурору. Кто там с этим жуликом разбирается? Тут же ясно, что Сань этот жулик. Эх, мальчишку жалко! Он же сюда удрал от всего этого. Отца лишился. А отец обещал — пятна не будет… Трудный вопрос получается. Он ко мне с надеждой, а я… Бумагу отдать, пятно и проявится. Тонкий вопрос. Что делать? Давайте советоваться, раз приехали.
Я подумал.
— С одной стороны, удав захлебнулся…
— Туда и дорога!
— …но с матерью еще не совсем ясно. Надежда, правда, большая…
— Оправдают? Но не факт?
— Не факт. Потому она и рада, что он здесь.
Дядя Гриша в раздумье покачал головой.
— Говорите, Толик не знает?
— В этом все дело.
— А если знает?
— Откуда?
— Я знаю? Сорока на хвосте занесла.
— Сюда?
— Может, и чуток раньше.
И хотя такое уже мелькало и в моей голове, я все-таки возразил:
— Не должен он знать.
— Это вещи разные — не должен и не знает.
— Тоже верно. Но спрашивать прямо рискованно.
— Что ж делать? Что мы ему скажем?
И тут мне пришло в голову:
— Если разрешите, я возьму эти записи с собой.
Он загасил сигаретку, прижав окурок к пепельнице.
— Без него?
— Без него.
— Вроде украдем!
— Я понимаю. Но думаю, бумаги необходимо, сначала показать моему другу, Игорю Николаевичу. Он лучше нас сообразит, как поступить правильно. Я уверен, он прочитает, и я через день-два вернусь, привезу. Мальчик не узнает. Но это необходимо. И для следствия необходимо, и для Анатолия. О его матери речь идет. Понимаете, мало с отцом беды, а еще с матерью? Нужно мне взять эти бумаги. Мы ему поможем, а не украдем.
Говорил я, кажется, излишне горячась и даже повысил голос, так что дядя Гриша вынужден был молча указать мне на открытые окна дома, и я резко перешел на полушепот.
Дядя Гриша все понял.
— Согласен я. Главное, чтобы он без вас не хватился. Но я придумал. Работы сейчас много. Он со мной в бригаде поночует. Три дня его оттуда домой не выпущу. Обернетесь за три дня?
— Обязательно. Может быть, раньше.
— Тогда берите листочки. Мы до света еще уедем, а вы сразу после нас. Сейчас попутных до автостанции много.
— Не беспокойтесь. Я на всякий случай вам свой телефон оставлю.
В город я въехал пыльный, потный, потрепанный дорожной тряской, но все-таки бодрый, с уверенностью, что делаю дело полезное. Эта уверенность побудила меня не терять времени, и я немедленно, позвонил Сосновскому, потому что искать Мазина в гостинице днем было, конечно, бесполезно.
Правда, новости свои я изложил довольно общо и в то же время длинновато, боюсь, с налетом самодовольства, но он легко выделил суть.
— Вас понял, Николай Сергеевич. Выхожу на поиск Игоря Николаевича. Будьте дома, принимайте душ, отдыхайте с дороги и ждите звонка, а может быть, и машину сразу. Короче, будьте в полной боевой готовности.
Совет был дельный, и я отправился в ванную, поставив телефон у порога, чтобы не прозевать звонок. Впрочем, эта предосторожность оказалась излишней, позвонили, когда я уже успел попить квасу после душа, однако скоро.
— Николай? — спросил Мазин.
То, что он не обозвал меня Перри Мейсоном, уже вселяло надежды. Значит, он отнесся к сообщению всерьез.
— Я, Игорь, я…
— Буду у тебя минут через пятнадцать. Квас есть?
— Для хорошего человека найду.
— Вот и хорошо.
В трубке прозвучали гудки отбоя.
Приехал он через двенадцать. Я, признаться, волновался и все время поглядывал на часы.
— Ну, Мейсон?
Все-таки не удержался! Отшучиваться я не стал.
— Садись, пожалуйста!
Я поставил на стол кувшин с холодным квасом, положил рядом странички. Он сел и начал читать, слегка относя странички от глаз. «И у тебя возраст!» — подумал я.
Мне показалось, а может быть, и в самом деле, Мазин читал медленнее, чем я вчера. Но, как и дядя Гриша, я процессу чтения не мешал. Ждал, пока он закончит и оценит мои заслуги. Он это понял.
— Оваций ждешь?
— Думаю, что тебе это пригодится, — откликнулся я скромно.
Он засмеялся.
— Все вы так! Думаете, милиция только и жаждет тайн и разоблачений. Ты же нам работы подкинул.
— Я думал, наоборот, упростил.
— Ну, упрощать тоже не нужно. — Он посмотрел на листки. — Чтобы оценить весь объем твоих заслуг, бумагу эту нужно читать и перечитывать. Давай вместе почитаем, а?
— Я ее за дорогу пять раз перечитал.
— Хорошо, тогда поговорим.
— Слушаю.
— Первое: что знает этот паренек?
— Как видишь, гораздо больше, чем я знал.
— И я. Но самое главное, о матери знает?
Я ответил то, что думал сам и что дядя Гриша думал.
— Вот видишь! И дядя Гриша предполагает, а он человек, как я понимаю, обстоятельный.
— Безусловно.
Перед чтением я коротко успел рассказать о поездке.
— Однако даже два предположения в сумме еще не факт. Зато об отце он знал много, это факт.
— Еще бы! Сколько здесь написано, — показал я на листки.
— Ну, я думаю, ему известно гораздо больше, — произнес Мазин, постукивая пальцами по столу. Это он делал довольно часто. — Ладно, гадать не будем. Лучше скажи, что ты об этой бумаге думаешь?
Я думал всю дорогу, мыслей было с избытком.
— На первый взгляд предсмертная записка.
— Для записки великовата.
— Письмо.
— Но не предсмертное. Если, конечно, не считать предсмертным каждый человеческий поступок…
— Черный юмор?
— Увы… Однако предсмертным мы обычно называем то, что делается за очень короткое время до смерти, а здесь…
— Здесь нет даты.
— Это я сразу отметил. Между прочим, одной датой тут и не обойдешься. Писалось-то не в один день.
— Но мысль о смерти присутствует постоянно.
— И ты считаешь это доказательством самоубийства?
— Разве оно под сомнением?
— Ты забыл, зафиксирован был несчастный случай.
«В самом деле! Как повлияло на меня письмо…»
— Записка проливает новый свет…
— Ради бога, Николай! Не выражай свои мысли языком старых детективов. Что значит «проливает свет»? Я всегда думал, что пролить значит потерять, молоко например. Даже слезу пролить значит остаться без слезы. Так что со светом этим бабушка надвое сказала. То ли его прибавилось, то ли убыло.
— Что же убыло?
— Ну хотя бы то, что раньше причина смерти не подлежала сомнению, а теперь под вопросом. Уверенности убыло. Вот тебе и дополнительный свет!
— Вы рассматривали вопрос в одном, узконаправленном луче, а теперь возник второй. Они пересеклись, высветили предмет шире.
— Ты, однако, софист. Но не будем спорить. Итак, перед нами предсмертная записка, а вернее, письмо, а еще точнее — целое послание, написанное за продолжительный промежуток времени. Так?
— Да, так…
— С настойчивой мыслью о желательности и даже необходимости лишить себя жизни?
— Так, — повторил я.
— А ты знаешь, что люди, которые часто помышляют о самоубийстве, сплошь и рядом доживают до глубокой старости? Мысль-то становится привычной, притупляется и постепенно перестает стимулировать решимость, становится своеобразной компенсацией поступка. Подумал, подумал, пережил в воображении собственную кончину и дальше живет, до очередного кризиса…
— Этот человек не дожил до старости.
Мазин снова дотронулся пальцами до скатерти.
— Резонно. Но все-таки. Ты, конечно, обратил внимание, что письмо как бы делится на две неравные части. До определенного события и после.
— Вот именно. Я думаю, событие и стало последней каплей.
— Каплей? Или стаканом?
— Ты имеешь в виду…
— Да. Он же алкоголик.
— Он сам пишет об этом.
— Мог бы и не писать. Тут от каждой строчки спиртным тянет. А ты помнишь: «Даю честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову!» Помнишь? Из письма карамазовского, написанного по пьянке в трактире? «Математическое доказательство». Помнишь? Исходя из него, мужички и «покончили Митеньку»! А он не убивал.
— Куда ты клонишь?
— Клонить-то некуда! Недавно ясная картина сменилась совсем неясной. Несчастный случай мы пока отклонить не можем. Самоубийство еще требуется доказать. Но мало этого, человека, связанного с преступной группой, и убить могли! Не дожидаясь, пока он собственный приговор в исполнение приведет.
— Значит, намерения его тебя не убеждают?
— Написано очень эмоционально, ничего не скажешь! Даже слишком. Но ведь это черновик?
И об этом я тоже думал.
— Не мог же Михалев оставить сыну написанное вот так сумбурно, противоречиво, где поминутно сомнения, хаос накаленных, хлестких строчек!
— Похоже на черновик, — согласился я.
— А может быть, нет? — возразил почти убедивший меня Мазин.
— Ну, знаешь…
— Да постой, я не оригинальничаю и не парадоксами тебя засыпаю. Я спорю.
— А я думал, советуешься.
Он моей мелкой обиды не принял.
— Конечно, советуюсь. Спорю с собой, а к тебе как к арбитру обращаюсь.
— Спасибо. Только арбитр я неквалифицированный.
— Не прибедняйся. Ты же не футбольный арбитр. У тебя задача не правилам соответствовать, а собственную мысль мне противопоставить. Пусть неожиданную. Мне, например, такая пришла: а что, если это вовсе и не письмо к сыну?
— Не понимаю.
— Ты должен понять. Студентов же учишь. Может быть, у нас в руках своего рода произведение? По форме письмо, а по сути…
— Тогда уж исповедь.
— Или пьяный бред.
— Не нужно так, Игорь.
— Почему?
— Мне жалко этого человека.
Мазин посмотрел очень серьезно.
— Это хорошо.
Мысль свою он не пояснил, и я мог только догадываться, что он имел в виду. Наверно, сочувствие мое казалось Мазину полезным в нашем обсуждении, дополняло его профессионализм, выводило цель за пределы служебных рамок.
— Однако элемента воображения, может быть, самообмана ты, надеюсь, отрицать не будешь? Ведь все это через пьяную призму изображено!
— Разумеется.
— Вот и попробуй отдели зерно от плевел!
Я не понял, кому он предлагает выбрать зерно, мне или себе.
— Непонятна вторая часть. Побег, кровь. Вот где действительно новеллой пахнет, однако…
— Представь себе, — не дал мне закончить Мазин, — и для меня это новелла. Ничего подобного за этим человеком не числится, ни бегства, ни наезда. Кроме алкоголизма, самого страшного, правда, когда больного человека больным не считают, потому что на улице не валяется и стекол не бьет, только одно непрерывное против самого себя преступление совершает! — ничего другого за ним не числится. А ведь он пишет, что бежал, оставив у инспектора права! Документ! Это что, «математическое доказательство» или Эрнст Теодор Амадей Гофман?
— Не числится? А если просчитались?
— Думаешь, нас связи этого Черновола не интересовали? Его близкие друзья, особенно друг, который умер при сомнительных обстоятельствах?
— Ты лично этим занимался?
— Всем лично даже Холмс не занимался.
— Холмс мальчишек нанимал.
— У нас, Коля, не мальчишки работают.
— Написано-то исключительно убедительно.
— Крик души, что и говорить. Черная стрела, судьба. Разве не отдает литературой? Новелла, сам говоришь.
— Крик души и литература не одно и то же. В его хаосе правда мечется. Нет, дорогой мой, это не литература. Литература штука организованная, как бы автор душу ни изливал.
— Ты говоришь — хаос. А как хаос этот к сыну попал?
Вот об этом я, признаться, не думал.
— Был адресован, — ответил я, как казалось, очевидное.
— Но не доведен до конца. В крайнем случае, черновик. Нет, в таком виде бумагу он ни из рук в руки, ни в конверте специально оставить не мог, — убежденно проговорил Мазин.
Да, это было маловероятно.
— А если был сильно пьян?
— Заимствуешь мои аргументы?
Мы поняли, что увлеклись, и охладились немного холодным квасом.
— Я думаю, — сказал Мазин, — что эта исповедь попала в руки сына случайно. Но зачем он возит ее с собой?
Вопрос показался мне неоправданным.
— Он любил отца.
— Он хуже относился к матери?
— Она сама мне об этом сказала.
— А как с Черноволом?
— Тут уж добрых чувств ждать не приходится. Уверен, что мальчик обрадуется, когда узнает, что этот делец, сломал себе шею.
— Утонул, ты хочешь сказать?
— Мог и в полном смысле сломать, когда упал с пристани.
— Все может быть, все может быть, ну а пока, ребята, где нам раздобыть хоть на затяжку табака!
— Недостающую информацию?
— Вот именно.
— Хочешь вызвать Анатолия?
— Ни в коем случае.
— Сам же сказал, что он может многое знать.
— Тем более.
— Смеешься?
— Отнюдь. Тот, кто много знает, может и скрыть немало. Нужно, чтобы парень сам захотел говорить. Я спросил у тебя, зачем он хранит бумаги, в которых отец фактически называет Черновола преступником и виновником своей смерти? Мальчик очень любит отца — твой ответ. Правильно. Но почему он не пошел к нам с этой бумагой? Только не спеши, пожалуйста, с ответом, который на поверхности. Мальчик не хотел пачкать доброе имя отца, ведь, отец умер неразоблаченным. Так? И мальчик заставил себя сдержать ненависть. Так?
— Да, конечно.
— Бумагу, однако, не сжег, не уничтожил. Почему? А что, если связывает с ней какие-то планы мести?
— Связывал? — подчеркнул я прошедшее время.
— Я не оговорился. Нам неизвестно, знает ли он о случившемся на пристани.
— Скоро узнает наверняка.
— В таком случае ему еще меньше захочется говорить. Если он сдержал чувство месте, когда виновник мог быть наказан, мы его тем более не разговорим, когда месть стала бесполезной.
Игорь говорил логично, но я почувствовал, что не могу уследить за его логикой. Я так и сказал.
— Извини, я что-то не соображу, какую еще информацию ты хочешь от него получить.
Мазин улыбнулся и дотронулся пальцами до лба.
— Я тоже. В такую жару мозги плавятся. Кажется, что мысль пришла, а она только поманила, Может быть, пригласим свежую голову?
— Что? Чью голову?
— Сосновского. Все равно его нужно ознакомить с письмом. Заодно попросим переснять записки. Их же нужно вернуть.
— Да.
Я вспомнил автобус и тряску на ухабах.
Мазил понял и посочувствовал.
— Тяжеловато?
— Что поделаешь? Назвался груздем…
— Если очень устал, можно использовать наши каналы.
— Нет уж. Я обещал дяде Грише.
— Слово — олово?
Я вздохнул и промолчал, а Мазин набрал телефонный номер, но не застал Сосновского на месте. Я стал снова просматривать листки.
— Конечно, непонятного тут полно.
— Например?
— Ну хотя бы: «Дядь Сань мне технологию разъяснил, ничего у государства не пропадало». Что это значит? Это же нарушение закона сохранения материи!
— Именно так, — засмеялся Мазин. — Ты просто в точку попал, материя не только сохранялась, но даже увеличивалась вопреки всем законам физики. Впрочем, материя в ограниченном понятии хлопчатобумажной ткани.
— Однако…
— Планировались отходы. Большие. Он там лопух вспомнил. Это сорняк с крупным листом. Вот Черновол его и урезал. Ввел некоторое усовершенствование при раскрое, но за патентом не поспешил. Реализовал открытие без рекламы. Видимо, не страдал тщеславием. А результат — левый цех, где из сэкономленной продукции выпускались… импортные летние гарнитуры.
— Импортные?
— Так думали покупатели. Их убеждали этикетками, рисунком, надписями, лайблами, да мало ли чем можно убедить человека, который хочет быть обманутым! Между прочим, мы опрашивали некоторых любителей: что значит «Монтана»? Девять из десяти понятия не имеют.
— Значит, план шел планом, а левая продукция налево, и все из того же количества сырья?
— Совершенно точно. Богу богово, а кесарю кесарево. Конечно, богу почтительно, план всегда на сто один процент.
— Способный человек.
— Не отнимешь.
— Наверно, авторитетом пользовался?
— И сверху, у лопухов, и особенно у подчиненных. Послушал бы ты, как работницы из цеха за него горой стояли!
— Они были в сговоре?
— В том-то и дело, что сговора как такового формально не было. Всем этим девчонкам говорилось, что они делают продукцию повышенного качества в рамках закона. И никто не удивлялся, что к зарплате получает по пятьдесят рублей, за которые не нужно расписываться. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
— Что ж они, какие-нибудь филькины ведомости завести не могли?
— Не было нужды. И это самое страшное. Вот где главный ущерб, растрата совести. Государство на бумаге ничего не теряло. Получили тысячу метров, выпустили тысячу маек. Больше того, справа ли, слева ли потребитель получал еще сто штук. Но десятки людей знали, что они воры, и жили, не думая об этом. Всего-то за полтинник. А дядь Сань такими бумажками мог сигареты раскуривать. Впрочем, это сигары раскуривали. Сигарету все-таки от спички проще.
Мазин снова сел за телефон и на этот раз нашел Сосновского.
Приехал тот быстро.
— Почитай, Юрий, — предложил Мазин.
В общем, повторилось то, что было уже со мной, с Игорем и с дядей Гришей, хотя каждый из нас реагировал, конечно, по-своему, в меру, как говорится, индивидуальности и заинтересованности. Юрий отозвался эмоциональнее других, потому что был помоложе.
— Записки с того света!
— А конкретнее? — спросил Мазин. — Прочитай, пожалуйста, фразу, которая произвела на тебя наибольшее впечатление.
— Кровь. Какая кровь?
— Вот и мы об этом. Ты ему веришь?
Оказалось, что эмоциональность не мешает Юрию мыслить практически.
— Я бы так вопрос не ставил.
— А как?
— Нужно поднять все случаи наездов со смертельным исходом, тогда и решать.
— Ну, это само собой. Но не будем забивать Николаю Сергеевичу голову нашими версиями. Он человек непрофессиональный, смотрит на вещи несколько иначе.
— И как же? — спросил Юрий.
— Меня больше волнует не вина, а беда людей.
Я сказал так и подумал, не высокопарно ли прозвучало? И не обманываю ли я сам себя? Ведь за общими формулами всегда частное таится, субъективное. И не всегда оно просто часть общего, иногда общее маскирует то, в чем и себе признаваться не хочется. Вот я полагаю для своей формулы точкой отсчета чувство вины перед мальчиком. А может быть, меня уязвленное самолюбие гложет? Обида, что одурачили, сделали орудием… Впрочем, орудием чего? Ну, говоря старыми словами, неправедной жизни. Но только ли орудием? Наверно, глубже посмотреть стоит — вольным или невольным соучастником с тех еще, студенческих лет. Конечно, на первый взгляд вина моя микроскопическая. Разве воспитывал я, в полном смысле этого слова, «милую Мариночку»? Разве учил плохому? Я только курс читал. Как в той песенке: «Не агитировал, не аннексировал, я только зернышки клевал». Всего лишь позволил себе полюбоваться на мило склоненную усердную головку над конспектом, а потом усердие засчитал вместо знаний. Маленькая такая приписка, а попал на крючок. И стал? Кем же я стал? Субъектом или объектом… Нет, каким-то атрибутом шаманства, духом, на которого ссылались… «Смотрите! Я не просто учительница или директор, за мной авторитет, а за авторитетом наука, а наука у нас, сами знаете, самая материалистическая…» Так в руках шамана великое учение в средневековую упаковку запечатывается, и шаман, этой упаковкой манипулируя, умудряется в собственных, корыстных выгодах эксплуатировать и надувать как низших, так и верхних.
Не знаю, кто я оказался — низший или верхний, скорее объявили верхним, а надули как нижнего. И отсюда обида. Но на кого? На «милую Мариночку»? А если еще глубже копнуть? Может быть, не стоит на зеркало пенять… Ведь в Мариночкиных поступках твои собственные отразились, пусть и искаженно, а кривые зеркала сфокусировали луч, и он задел мальчика, который не только был, но и есть, и мучился, и сейчас страдает вполне конкретной, а не мировой скорбью. Так что, дорогой Николай Сергеевич, давай не о несовершенстве мира, а о собственном вкладе в это несовершенство подумаем. И о том, как мальчику помочь…
— Послушайте, ведь эта бумага у мальчика могла и до смерти отца побывать?
У Мазина была хорошая манера сразу смотреть одобрительно, если ему чужая мысль нравилась. Так он и посмотрел на меня.
— Я сам об этом думаю. Но как ты это представляешь себе?
— Если у нас не письмо, а исповедь, и она писалась продолжительное время, мальчик мог наткнуться на нее случайно. Нашел же его тайник дядя Гриша!
— Мог прочитать и не сказать отцу?
— Не знаю. В семье было плохо. Многое скрывали друг от друга, это наверняка.
Мазин и Юрий обдумывали мои слова, а я почему-то не сомневался, что так и было. Один скрывал, а другой знал. Может быть, воображение у меня излишне развито, но я вспомнил строчки: «Обманывал я вас, говорил, что с ипподрома деньги… ходил туда, вас обманывал, а ты и не знал ничего».
И в голове такая картинка возникла…
Музыка зазывает на ипподром.
Поверх ограды с заманчивым призывом: «Пиво есть» — курится голубоватый дымок, и вкусно пахнет шашлыками, ведь шашлык всегда вкусно пахнет, даже если он сплошь из свиного сала. Короче, все манит взглянуть на резвый бег скакунов. Однако новые, совсем недавно воздвигнутые трибуны отнюдь не переполнены. Почему-то те, кто не играет на скачках, на ипподром ходить стесняются, то ли чувствуют неполноценность по сравнению с лихими любителями испытать судьбу, то ли не верят в честность происходящего. Так или иначе, высокие трибуны зияют брешами, заполнен зато кассовый зал, который находится в вечном движении искателей легкого счастья.
Впрочем, речь не о них. Два человека в толпе меньше всего интересуются шансами фаворитов. Это мужчина и мальчик-подросток, отец и сын. Но они не вместе, больше того, сын делает все, чтобы видеть отца, не попадаясь ему на глаза. Это не так сложно. Людская сутолока облегчает наблюдение. А главное, взрослый не подозревает, что мальчик движется по пятам.
Сначала он вошел в кассовый зал, осмотрелся, подошел к дальней кассе, где было меньше народу, и протянул деньги.
Мальчик не видел, какую бумажку тот протянул, но увидел, что сдача была значительной. Не пересчитывая денег, отец сунул их в бумажник.
Покончив с покупкой, отец вышел из зала. Широкая лестница вела на трибуну, а дорожка между трибуной и ровно подстриженными кустами-изгородью вдоль бегового поля — в сторону, откуда курился приятный дымок. Мужчина пошел по дорожке.
В шашлычной бойко орудовали шампурами смуглые люди, сбрасывая в бумажные тарелочки плохо прожаренное мясо. Мужчина взял две кружки пива и два шашлыка и присел к самому дальнему столику, у ограды. Внимание большинства было обращено к стороне противоположной, к полю.
Мальчик не пошел в шашлычную. Здесь он был бы слишком заметен. Он поднялся на трибуну и занял место повыше, сбоку, откуда были плохо видны бега, но хорошо просматривалась площадка со столиками.
И тот и другой почти не обращали внимания на то, что происходит на ипподроме.
Впрочем, отец все-таки учитывал беговую обстановку. Пока не начался очередной заезд, он медленно потягивал пиво из первой кружки и сортировал шашлыки, откладывая несъедобные куски.
Тем временем лошади помчались в очередной раз, и народ за столиками развернулся в сторону поля. Тогда мужчина достал из заднего кармана брюк фляжку с коньяком и перелил коньяк в опустевшую кружку. Делал он это не воровато и не оглядываясь, рассчитав спокойный момент. И на него действительно никто не обратил внимания.
Только мальчик сверху видел.
Мужчина сунул плоскую бутылку в ближнюю урну и занялся коньяком. Он отпил половину, сделал большой глоток из второй кружки, с пивом, и с видимым удовольствием поднес ко рту кусок розовой свинины.
По радио объявили результаты заезда.
Большинство разочарованно принялись рвать и бросать билеты. Наверно, можно было не рвать и не бросать бумажки под ноги, но огорчение упустивших шальные деньги было слишком велико. Один мужчина за столиком, как видно, не разочаровался, хотя он тоже не выиграл.
И, кажется, не ждал выигрыша.
Мальчик увидел, как отец мельком взглянул на свои билеты и протянул руку над урной. Но не бросил. В последний момент он раздумал и зачем-то снова положил билеты в карман.
Потом, теперь уже совсем неторопливо, допил коньяк и пиво и пожевал мясо. Шашлык он не доел, отодвинул тарелочку. Поднялся и, не глядя на залитое солнцем, окаймленное зеленью поле, по которому под веселую музыку мчались красивые лошади, неся маленьких, ярко одетых жокеев, покинул ипподром.
Мальчик торопливо сбежал с трибун. Теперь наблюдение затруднилось. Отец пошел немноголюдной улицей, и сыну приходилось держаться в отдалении. Но он знал, куда они идут.
На тихой улице стыдливо ютился магазинчик. Не так давно здесь был обыкновенный овощной павильон, но после известных распоряжений его переоборудовали и перенесли сюда из центра некое торговое предприятие, носившее в лучшие времена претенциозное название «Золотистая чаша». Теперь магазин назывался просто «Вино» и носил скромный номер 86. Однако и это название не соответствовало реальности. В магазине давно не продавали ни легендарной «бормотухи», ни обросших медалями марочных вин. Не продавали с некоторых пор и водку. Но торговая точка все-таки функционировала, предлагая покупателю два пыльных ряда коньяка повышенной стоимости и низкого качества.
Отец вошел в магазин. Выпитое уже подействовало, и вялое равнодушие сменилось игривым оживлением.
— Не вижу процветания торговли, — услышал мальчик, укрывшийся за горой пустых ящиков у входа.
Продавец, толстый человек с сонным взглядом, очнувшись от дремоты, произнес вопросительно:
— Чего?..
— Процветания.
— А… И не увидишь. Какой дурак это брать будет?
Продавец протянул руку в обтрепанном халате в сторону пыльного ряда.
— Я возьму.
— А… — протянул продавец все тем же тоном. — Ну, возьми.
Отец достал из кошелька полусотенную.
— А…
Продавец пощупал бумажку короткими толстыми пальцами.
— Не бойся. Не фальшивая.
— Чего бояться…
Он стал собирать сдачу в ящике под прилавком.
Через минуту отец вышел с бутылкой.
Мальчик проследил взглядом, куда он направился, и понял: идет домой. Тогда сын свернул в боковую улицу и зашагал быстро. Он устал от медленного темпа, заданного отцом, и легко опередил его.
Когда отец появился на пороге, мальчик был уже дома. Мать тоже.
— По какому случаю? — спросила она, кивнув на бутылку.
— Представь себе, на скачках выиграл.
И, подтверждая сказанное, он вытащил из кармана билетики и показал жене.
— В четвертом заезде.
Жена никак не прореагировала на «выигрыш».
— Обедать будешь?
— А что там у тебя?
— Мясо тушеное.
— Давай. Нужно же за удачу.
Отец принялся отковыривать пробку и тут же отдернул руку:
— Черт!.. Удавил бы этого изобретателя.
Он сунул в рот окровавившийся палец, провел по нему языком и снова взялся за пробку.
— Ты, кажется, уже отметил?
— Кружку пива на ипподроме выпил.
— Ну-ну…
Мать вышла в кухню, вернулась с мясом и редиской на тарелке.
— Вот-вот, — сказал он, — и хватит, больше не надо.
Налил две стопки.
— Давай.
Жена взяла стопку, но заметила:
— Ты много пьешь в последнее время.
Мальчик вышел из соседней комнаты, стал, прислонившись плечом, в дверях, смотрел на родителей молча.
— Только не пили́, ладно?
Она пожала плечами. Отец достал из кошелька еще пятьдесят рублей, протянул жене. — Возьми.
— Такой выигрыш?
— Повезло.
— Часто везет.
Мальчик шагнул к столу.
— Папа!
— И ты, за рыбу деньги?
— Я хочу поговорить с тобой, папа.
Он посмотрел на мальчика, мальчик на него.
— Не сейчас, ладно, Толя?
— Папа…
— Не сейчас…
Вот такую картину нарисовало мое воображение, но ведь это только воображение дилетанта, и я не стал делиться своими фантазиями с профессионалами. И правильно сделал, потому что жизнь, которая, как известно, легко превосходит, самое раскованное воображение, уже приготовила нам сюрприз столь же реальный, как и необъяснимый, и даже абсурдный. Во всяком случае, на первый взгляд…
Как и большинство вестей в наше время, эта весть поступила по телефону. Трубку в качестве хозяина дома поднял я.
— Простите, нет ли у вас Юрия Борисовича Сосновского? Он оставил ваш номер.
— Да, пожалуйста. Юрий, прошу.
Сосновский извинился, улыбнувшись.
— Пришлось оставить на службе ваши координаты, на всякий пожарный…
Он совсем не предполагал, что пожар реально возникнет, но предусмотрительность себя оправдала. Юрий даже растерялся, слушая сотрудника, улыбка исчезла, на лице появилось недоумение. Прикрыв ладонью трубку, Сосновский сказал негромко Мазину:
— Игорь Николаевич! Ничего не понимаю…
И повернулся ко мне:
— У вас есть параллельная трубка?
Я вышел в спальню и принес оттуда второй аппарат на длинном шнуре.
— Возьмите, пожалуйста, Игорь Николаевич, — попросил Юрий.
Тот подключился к разговору.
Собственно, говорить им обоим фактически не пришлось. Только Сосновский распорядился:
— Прочитайте заявление!
Потом оба внимательно слушали, потом переглянулись.
— Сейчас я соображу, что делать, и перезвоню, — пообещал Юрий, кладя трубку. И развел руками.
— Ну, дела!
Это уже относилось к нам.
Мазин кивнул в знак понимания, а я, естественно, недоумевал, но спрашивать не решался.
— Не возражаешь, если я проинформирую Николая Сергеевича? — предложил Мазин. — Как говорится, долг платежом красен. Он нам кое-что горячее подбросил, и мы в долгу не останемся, а?
Как обычно, он иронизировал, но на этот раз скорее по привычке, чем от уверенности в себе.
— Разумеется, — согласился Сосновский. — Какая тут тайна!.. Служебной тайны здесь нет.
— Поэтому я и хочу проинформировать.
— О чем? — спросил я, не сдержав интереса.
— Михалева написала в прокуратуру, просит немедленно взять ее под стражу, так как признает себя полностью виновной в смерти Черновола.
Теперь уже я сказал:
— Ну и дела!
А больше ничего не сказал, дожидаясь пояснений, понять что-то сам, если им было не под силу, я, конечно, не рассчитывал.
— Вы видели ее, Николай Сергеевич? Как, по-вашему, она в своем уме? — спросил Юрий.
— У вас, если не ошибаюсь, существует понятие вменяемости?
— Существует:
— С этой точки зрения, мне кажется, она нормальный человек. Но общее состояние, не сомневаюсь, требует внимания психиатра.
— В чем это выражается, по-вашему?
— Я не специалист. Но, если хотите, Ирина, на мой взгляд, подавлена происшедшим больше, чем следовало бы в ее положении. Оно, безусловно, не сладкое, но и не критическое, верно?
Юрий обрадовался.
— А я о чем говорю? Это же мое собственное впечатление! Вы слышите, Игорь Николаевич?
Мазин не возражал.
— Положимся на жизненный опыт и наблюдательность Николая Сергеевича.
Ободренный, я спросил несколько прямолинейно:
— Почему она хочет в тюрьму?
— Как ты сказал? — переспросил Мазин.
— Прости, я выразился неточно. Почему она настаивает на своей вине? Конечно, в тюрьму она вряд ли хочет. Это представить трудно.
Мазин посмотрел на меня как-то рассеянно. Я за ним такое уже замечал, когда он думал и говорил одновременно, причем думал больше, чем говорил.
— Вряд ли, говоришь? Да, трудно представить. Но, — он сделал паузу, — чего не бывает…
— Да зачем? Опять шутишь? Зачем?
— В самом деле, зачем? Я пока не знаю. Но я знаю человека, который знает.
— Кто?
Вопрос прозвучал слишком требовательно, и Мазин улыбнулся.
— Как кто? Сама Михалева, разумеется. Вот у нее и спроси. Лично.
Я растерялся.
— Как это лично?
— Ты же должен с ней повидаться?
В волнении я совсем позабыл, что должен увидеть Михалеву, чтобы рассказать о сыне. Просто из головы выскочило!
— Но если она будет под стражей…
— Сегодня еще не будет. Как, Юрий?
— Я вообще сомневаюсь в целесообразности.
— Посомневаемся вместе. А тем временем Николай Сергеевич навестит Михалеву.
— Если это нужно.
— Нужно.
— Хорошо, — согласился я, не требуя пояснений. — А это?
Я показал на бумаги, которые привез из Кузовлева.
Мазин подумал.
— Это ей лучше пока не показывать.
— А что сказать? Я знаю, что она созналась?
— Больше слушай, она сама все расскажет.
В инструкциях он не был оригинален, а я возразил:
— В таком крайнем состоянии человек может вообще отказаться говорить.
— Вряд ли, — успокоил меня Мазин.
Как и в большинстве случаев, прав оказался Игорь.
Ирина ждала меня и была почти рада моему приходу. Правда, как и в прошлый раз, открыла не сразу, рассмотрев предварительно в глазок. Зато извинилась.
— Вы не обижайтесь! Я одна, и в моем положений всякое мерещится. Заходите, заходите. Вы видели Толю?
Она казалась полностью трезвой.
— Видел.
— Рассказывайте, рассказывайте, как он! — торопила Ирина.
Я опустился в знакомое кресло, глядя на хозяйку. Мы виделись совсем недавно, а она успела измениться: темнее стали мешки под глазами, совсем исчезли следы косметики. Ирина куталась, натягивала на плечи вязаный шарф, хотя жара почти не спала. Конечно, в старом доме было не так знойно, как в моей панельной многоэтажке, однако нужды в утеплении не чувствовалось и здесь.
— Вам нездоровится?
— Да, зябко… Но это неважно.
«И в таком состоянии в тюрьму?.. В самом деле, нужно показаться врачу. И не только психиатру».
Вслух я этого, понятно, говорить не стал. Напротив, по возможности спокойно и оптимистично рассказал о встрече с Толей и дядей Гришей.
— Значит, ему там хорошо? — переспросила Ирина с недоверием.
— Убежден, — подтвердил я.
— Это хорошо. Это очень хорошо. И он не собирается домой?
— Я спрашивал. Он, конечно, был взволнован моим неожиданным появлением, но, когда узнал, что с вами все в порядке, решил еще поработать.
В глазах ее что-то промелькнуло.
— Все в порядке?
— Так я сказал ему.
— Вы сказали правильно.
«Она не собирается говорить мне о заявлений в прокуратуру, — подумал я. — И в самом деле, какое я имею отношение?..».
— Мальчику там хорошо, и к нему там хорошо относятся, — повторился я.
— Хорошо относятся?
Ирина вскинула к глазам края шарфа, которые сжимала в кулаках.
— Сирота! — выговорила она почти по слогам, закрыв шарфом лицо.
«Кажется, истерика», — испугался я.
— Круглый сирота, — прибавила она с нажимом.
— Но вы живы!
— Я? Жива? Кто вам сказал?
Она отбросила руки на колени и теперь пристально смотрела на меня.
— Кто вам сказал? Нет, вы правы, конечно. Я жива и должна сделать для него все возможное. И я сделаю. Сиротской доли у него не будет.
«Дай-то бог!»
— Спасибо за хлопоты. Вы хороший человек. Даже не верится. В наше-то время… Ведь вы в самом деле хороший человек? Хороший? — переспросила Ирина настойчиво.
— Не знаю, — ответил я честно.
— Нет, вы хороший. Вы не оставите Толика?
— Как? В каком смысле?
— Ах да, вы же ничего не знаете! Если он будет один, вы сможете уделить ему внимание? Ему потребуется помощь. Защита. Эти люди из прокуратуры ваши друзья?
— Да, — взял я на себя смелость согласиться.
Ирина посмотрела долгим, оценивающим взглядом.
— Я вам доверяю.
— Спасибо.
— Меня посадят…
Страшно не люблю лукавить, но что делать! Сказать, что я все знаю, еще хуже. Она снова заподозрит меня и замкнется. К счастью, Ирина сосредоточилась на себе и не видела моего смущения.
— Вопрос, кажется, еще рассматривается?
— Нет, теперь точка. Я созналась.
— В чем?
— Это я убила Александра. И не смотрите на меня так! — крикнула Ирина, хотя я вовсе не смотрел «так», потому что ждал ее слов, а имитировать ошеломление не умел, да и не собирался.
— Успокойтесь! Вы все время по-разному говорите.
— А вы не верите? Ладно, дело ваше, плевать! Вы же не следователь. Вам я про Толика. Я хочу, чтобы он жил, понимаете?
Откровенно говоря, я понятия не имел, какая опасность может угрожать Анатолию, но она полностью игнорировала мое непонимание.
— Я же не могу сказать… Да и говорить не о чем… бред. Но вам я скажу, потому что… Ну, не знаю, почему. Некому больше. Вы меня понимаете?
— Я понимаю только одно, вами движут материнские чувства…
В ответ Ирина взмахнула крыльями шарфа.
— Молчите! Какие материнские чувства? Мы же равные теперь, откуда у современной женщины особые чувства? Мы давно из наседок в кукушек превратились. Вы знаете, сколько младенцев бросают в роддомах?
— Это всегда было.
— Подбрасывали? Но тайно, потому что стыдились, а теперь равноправие. Если мужчины бросают своих детей…
— Перестаньте!
— … то и мы не хотим быть самками. Такой век! Детей уже зачинают в пробирках… А мы… мы имеем право жить свободно. Как вы. И хуже вас. Почему мы должны быть лучше? Почему? Толя больше любил отца. Ну и что? Я дрянь, по-вашему?
Теперь я был озадачен по-настоящему.
— Зачем вы так?
— А как иначе? Конечно, дрянь. Но не так это просто. Сначала бывает ошибка, а потом все остальное. Ну, вы спросите, а почему я вышла за Михалева? А я не знаю, почему. Может быть, потому, что меня так воспитали. Я думала, что могу все решать сама. И я хотела решать. Был выбор. За мной бегали мальчишки, я могла предпочесть или отвергнуть, вы понимаете? Но когда пришлось выбирать, оказалась дурой. Сначала дурой, а дрянью уже потом.
Ирина вдруг поднялась, я не знаю зачем, наверно, хотела достать бутылку, однако к шкафу не пошла и снова села.
— Нужно было выбрать Саньку, но Борис был в беде, и я выбрала его. А ведь когда выбираешь человека в беде, то выбираешь ответственность? Правда?
Это была правда истинная.
— А я-то думала, осчастливлю его — и все! То есть я ничего не думала… Отец вроде бы понимал, но я же была его любимица… Да и что он мог сделать, если я решила?.. Ну, свадьба и все прочее. По-современному. Я доказала свою любовь до свадьбы. Это-то самое легкое, А потом нужно жить. А как? Конечно, по-моему, раз я осчастливила. А откуда я знаю, как по-моему? Вот и получилось, по-моему значит как все. Ну, чтобы все было. Так ведь теперь живут, правда?
— Живут…
— А это мог Санька, а Борис не мог… Мне нужно было за Саньку выходить. Он бы воровал, а я жила нормально. И я бы не была дрянь. Мы были бы одинаковые. Понимаете? Вы понимаете разницу? С Санькой и С Борисом какая разница?
— Кажется, да.
— Ну вот! Я знала, вы поймете, хоть вы и не знаете жизни. Только не обижайтесь. Ну что вы знаете? Литературу? Выдумки? Читаете всю жизнь книжки и думаете, что это в самом деле? «Передо мной явилась ты»? А зачем она явилась, а? Явилась — не запылилась. А дальше что? Вон Анна Каренина всем жизнь погубила. И старику мужу, и Вронскому, а дети? Вы думали? А вы про нее — жертва, жертва… Дрянь она, а не жертва.
Ирина замолчала, может быть, ожидая моих возражений, но я ведь слушать пришел, а не спорить.
— Нечего сказать? А если и я такая? Если и меня муж не устраивает? Но я же не та Анна, я двадцатый век-фокс. Я сама кого угодно под паровоз толкнуть могу, понимаете?
Она часто повторяла этот вопрос, и я соглашался, хотя далеко не все понимал из ее рассказа, если только эту рвущуюся, скачущую речь можно было назвать рассказом. Но на этот раз я не кивнул согласно, а спросил:
— И в воду толкнуть можете?
— Что?
Ирина будто на стену наткнулась, хотя вопрос мой, как казалось, только завершал ход ее мыслей.
— Что? А… вы про это. Я же написала, созналась. Нет, я про свою жизнь. Про жизнь вообще. Вы же жизни не знаете.
— Вы уже говорили. Какая же она, по-вашему?
— Все есть, и всем не хватает — вот какая, понимаете?
— Не всем, — возразил я.
— Не всем?
Она будто удивилась, подумала и сказала:
— Ну, пусть не всем, но не они музыку заказывают.
— Если в ресторане, то не они, верно.
Мне вспомнились слова: «Ущербное вечно терзаемо голодом, и оттого всегда стремится и движется, оно одно в мире действует».
Словно подслушав их, Ирина откликнулась:
— Хочешь жить — умей крутиться.
— Белка в колесе тоже крутится.
— И правильно делает. Все про нее знают. А не умеешь… Михалев не мог и не хотел и докрутился, — заключила она непроизвольным каламбуром. — А что я могла сделать? Вы понимаете, когда человек с каждым днем все больше чужой? Понимаете? Он чужой, а ты получаешься дрянь.
Наступила пауза.
— Хочется выпить, — призналась Ирина, — но нельзя, я написала следователю, все написала, не хочу, чтобы от меня водкой несло, когда забирать приедут.
Я посочувствовал невольно.
— Сегодня вас никто не тронет.
— Откуда вы знаете?
— Поздно уже, — уклонился я.
— А ночью?
— Разве вы такая преступница?
— Значит, ночью не возьмут? Жаль.
Черт побери, но в этом абсурдном заявлении мне послышалось подлинное сожаление.
— Послушайте! Вы отдаете себе отчет?.. Что вы говорите? Скажите прямо — разве вы убили этого человека?
— Я все написала.
— Что?
— Я его ненавидела. Он испортил всю нашу жизнь.
— Мне показалось, что жизнь не сложилась по вашей вине, — возразил я, поддавшись раздражению.
— По моей? Женщина всегда виновата. И муж считал, что я виновата, а почему?
— Я только повторил, что слышал.
— У меня тяжелое состояние. Я говорила о сложных отношениях.
— Закон разберется в ваших отношениях.
— Закон этим заниматься не будет. Для закона важно, кто толкнул.
— Вы?
— Я! Я! А кто же еще? Кто? Толкнула, и он утонул.
— Это еще не убийство. Вы хотели его смерти?
— И сейчас хочу.
— А в тюрьму зачем? У вас же сын! Да что вы, в самом деле! Вы же разумно рассуждали прошлый раз. Вы хотели уберечь мальчика, а теперь что делаете?
Я разгорячился, а Ирина вроде замерла, смотрела широко открытыми глазами, не моргая.
— Вы ничего не поняли, — произнесла она как-то нараспев.
— Понял, главное понял. Вы думаете только о себе.
— Ха! Женщина должна только о других думать, да?
— Женщина, как и все люди, должна иметь чувство ответственности. А вы то радоваться хотите, то страдать, то это вам подавай, то другое. И все по собственному желанию.
— А как вы думаете? Разве человек может думать не о себе?
— Представьте.
Короткий смешок перешел в хохот. Снова запахло истерикой.
— Что с вами?
— Ха-ха-ха!..
— У вас полностью расстроены нервы.
— Вы такой смешной.
— Неужели?
— А вы сами не видите?
— Не замечал.
— Как же не замечали, если все знаете? А я могу не все? Я имею право?
— Не знать?
— Просто знать, что я ничего не знаю.
— Ну, это Сократ.
— Да прекратите вы книжные примеры! Цитаты! Классики! Вы от себя сказать что-нибудь можете? Что вы можете? Внушать, что нас ждет мир и счастье?
— Такого я не говорил, да и классики не все оптимисты, однако мир как-никак больше сорока лет…
— Читала, слышала… А толку что? На чем он держится? На страхе? На гнилой ниточке? А если кто-то дернет, оборвет? Кому жить надоело. Кому плевать на все это человечество. Если кнопка, или ключ там, или пульт, черт его знает что, в руки такого человека попадет?..
— Какого?
— Да хотя бы, как я!
— Вы это серьезно? Вы могли бы взорвать мир? Землю?
Ирина махнула рукой.
— Откуда я знаю… У меня же нет кнопки под рукой. Но иногда хочется.
— Не бросайтесь такими словами. Даже сгоряча. К тому же этот ключ не так уж просто пустить в ход.
— Теплоход огромный потопить тоже непросто, а встретились два барана, стукнулись лбами и потопили. Как я Саню. Короче, скажите вашим друзьям, пусть забирают меня.
— Вы хотите искупить вину?
«Старый дурак!»
Это не было произнесено, но я услышал слова почти ясно, прочитал их на лице и уловил презрение, которое было в них вложено. Но, выпалив мысленно свой заряд, Ирина взяла себя в руки и заговорила со мной нарочито спокойно, как говорят с несмышленым ребенком.
— Никакой вины я за собой не чувствую. Он нам столько горя принес, что я виновата только перед своими. А он заслужил, но государство-то по-своему смотрит. Ему кто толкнул нужен. Вот, пожалуйста, я толкнула. Пусть берут. Мне под замком спокойнее будет. Они же мне мстить хотят!
«Это еще что?..»
— Кто? Кто вам хочет мстить?
— Саня-то не один был. Там целое дело делалось.
— Его сообщники хотят вам мстить?
— А то кто же!
Мысль показалась дикой. Речь-то шла об обыкновенных махинаторах с излишками текстиля, а не о банде убийц. Какая тут может быть месть!
— За что? Мстить за что?
— За него.
— Да зачем?
«Невероятно! Но она говорит убежденно. Чушь! Нужно ее разубедить!»
— Ерунда. Вы что-то вообразили.
Ирина отрицательно повела головой.
— Да что они могут вам сделать?
— Не мне. Анатолию. Его могут выкрасть.
«Даже так! Какое, однако, болезненное воображение!»
— Вы преувеличиваете.
Снова то же движение головой.
— Меня уже предупредили.
— Каким образом?
— По телефону.
— Звонили? Вам? Что говорили?
— Он сказал, что Анатолий поплатится за мою вину.
— Кто он?
Ирина медленно приподняла, и опустила плечи.
— Не знаю. По телефону.
«Неужели идиотская шутка? Ну, в крайнем случае, мелкая отместка родственников… пусть даже сообщников. Но нельзя же такое принимать всерьез. Нет, не в тюрьму ей нужно, а в больницу».
— Вы напрасно мне не верите, — сказала она.
— Я верю. Но тут явное преувеличение. Да и логики не вижу. Вы говорите, что угрожают Анатолию, а сами хотите укрыться в тюрьме. Чем же ему лучше будет, если вас арестуют?
— Вы по-одному думаете, я по-другому. Они не шутят. Если меня осудят, они увидят, что я наказана, и оставят сына в покое.
«Несомненно, больная логика! Однако Мазин сказал — чего не бывает… И предложил мне спросить. И вот ответ».
— Уверен, что это злой розыгрыш каких-то подонков. Ничего не будет.
— Будет. Мне звонят каждую ночь.
— Ночью?
— Ровно в двенадцать.
— И повторяют угрозы?
— Нет. Молча вешают трубку. Я с ума сойду.
«Что за садизм. Да еще в полночь… Или ей мерещится все это?»
— Могут быть и случайные звонки, люди ошибаются номером.
— Ровно в двенадцать?
И тут наконец Ирина просто, заплакала, как плачут в горе вполне нормальные люди. Я не знал, что говорить дальше…
Зато мне было что сказать Мазину.
К этому времени он уже был в гостинице. Лежал на диване в тренировочном костюме с журналом «Огонек» и, покусывая ручку, размышлял над кроссвордом.
— Не помешаю законному отдыху?
— Наоборот. Тебя-то мне и не хватает. Ведь ты все знаешь!
Я усмехнулся, вспомнив Ирину.
— Все, кроме жизни.
— А… Под впечатлением? — понял меня Мазин. — Тем более. Гимнастика для ума. Тридцать четыре по горизонтали — дом для приезжающих. Трудный вопросик, а?
— Я вижу, ты в хорошем настроении.
— Что, не по зубам? Девять букв. Предпоследняя — ц.
— Игорь, мне не до шуток.
— А все-таки?
— Ты где живешь?
— В отеле. Не подходит… Постой, постой, неужели гостиница?
Мазин совершенно серьезно пересчитал буквы и вписал слово в клетки.
— Вот теперь другое дело. Приятно чувствовать себя эрудитом. Ну, с чем пришел? Вижу, не с пустыми руками. Вечно ты мне работы подбрасываешь. Ну, ладно, делись впечатлениями.
Он неохотно закрыл журнал, полюбовавшись напоследок на жирафа на четвертой странице обложки.
— Жираф Петя — достопримечательность зоопарка города Чимкента. Каков? Такой важный, а позволяет себя называть запросто — Петя!
— Жираф большой, ему видней.
— А тебе что открылось?
— Ее нужно лечить.
— Не преувеличиваешь?
— Нет, это серьезно.
И я рассказал, что услышал.
Пока я говорил, Мазин постукивал пальцами по журналу.
— Итак, ты ей не поверил и считаешь больной?
— Что значит — считаю? Это же, извини меня, бред. Разве у нас похищают детей? Да и зачем? Кровная месть? Вендетта? Сицилия или Корсика?
— По-твоему, мальчику ничего не угрожает?
— Наоборот! Состояние матери — вот реальная угроза. Ей нужно как-то помочь… Это сплошь запутавшийся человек.
— В чем запутавшийся?
— В жизни. Я слушал ее и чувствовал собственную вину. Факт, что между воспитанием и реальностью у нас образовался зазор — ой-е-ей! Молодежь вступает в жизнь незакаленной, если хочешь, даже дезориентированной…
Мазин приподнял руку, останавливая мою речь.
— Все правильно. Школьная реформа в центре внимания общественности. Но боюсь, мы сейчас всех проблем не решим. Давай возьмем поуже. Одного человека. Ирину. Запуталась она в жизни, безусловно. Но нужно отделить путаницу в мыслях от путаницы в поступках.
— Легко сказать. Мысли такие, что не поймешь поступков.
— Ничего. Поступки все-таки штука реальная.
— Откуда нам знать, что она говорила реального, а что больное воображение?
— Ну, начнем с малого. Она сказала, ей звонят в полночь?
— Ровно.
— Вот и проверим, позвонят ли сегодня.
Мазин протянул руку к часам, лежавшим на тумбочке у дивана.
— Сейчас я этим займусь, а ты иди домой, а то всю ночь продискутируем. Утром решим, от какой печки танцевать.
Я послушался Мазина, но спал в ту ночь неважно, мерещилось во сне нелепое: люди, которых я никогда не видел и уже не увижу, потому что оба они погибли, — Черновол и Михалев. Оба совершенно взрослые сидели за партой, Черновол в сером — почему-то запомнилось! — костюме и белой водолазке, а Михалев в японской черной куртке на «молнии». А у доски «милая Мариночка» диктует тщательно, почти скандируя, не только слова, но и слог от слога отделяя, помахивая в такт указкой.
Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкою луна Освещает снег летучий, Мутно небо, ночь мутна…Тут прозвенел звонок, и Мариночка положила указку.
— Урок окончен.
Все куда-то исчезли, а звонок продолжался, пока я не сообразил, что это не с урока звонок, а телефон мой надрывается междугородным прерывистым звоном.
В комнате было совсем темно, никакого звонка в такой час я не ждал.
«Ошибся кто-то», — подумал я с досадой.
И ошибся сам.
— Алле, алле, Николай Сергеевич, вы?
Голос показался мне незнакомым.
— Кто это?
— Слышите меня? Это Григорий Тимофеевич. Слышите?
— Да, слышу, — сказал я, стараясь прогнать сон и сообразить, кто такой Григорий Тимофеевич.
— Из Кузовлевки я. Слышите?
«Да это же дядя Гриша!» — наконец дошло до меня, и теперь уже увереннее я крикнул:
— Слышу, Григорий Тимофеевич, слышу!
— Вы спите небось, а тут у нас такая связь, что днем ни за что не дозвонишься, начальство с начальством душу изливает… Так что вы уж извините, а дело не ждет…
Я спросонья подумал, что он это о жатве, но тут тревога кольнула в сердце, и я проснулся окончательно.
— Что случилось?
— Малец пропал, Николай Сергеевич. Не то сам сбежал, не то приехал за ним кто-то…
— Что вы говорите?
— Толька сбежал.
— Куда? Как?
— Не знаю. Не сказал ничего. И вещи не взял. Ничего понять не могу.
— Как это произошло?
— Сам не знаю. Был со мной в бригаде, а потом нету, говорят, в сторону шоссе пошел, а не сказал никому и дома не был… Он что, в город подался?
— Вчера вечером его дома не было.
— А должен бы быть. Он сорвался еще с утра.
— Сорвался? Куда?
— Не знаю. Ребята из бригады говорят, на шоссе «Волга» была. Не то он сам остановил, не то позвали его. Да никто ведь не думал, что он так…
Голос в трубке прервался.
— Григорий Тимофеевич! Это важно…
За окном вдруг громыхнуло. Зной наконец разразился грозой. При свете молнии я увидел тучи, низко ползущие над крышами, тяжелые, налитые давно назревавшим дождем.
— Григорий Тимофеевич!
Но связь оборвалась.
Я подержал в руках замолкшую трубку, думая, что в общем-то главное он успел сказать.
«Вот тебе и Корсика!»
И, пожалев про себя Мазина, которого придется будить раньше времени, набрал, в свою очередь, номер гостиницы.
Мазин проснулся сразу, но удивления не скрыл.
— Николай? Ты что?
— Разбудил?
— Да. Я лег поздновато. Да в чем дело? Сейчас начало пятого только.
В отличие от меня он, видимо, посмотрел не в окно, а на часы.
— Мальчик пропал, Игорь!
— Этого еще не хватало! Говори!
Я передал все, что услышал от дяди Гриши.
— Бред какой-то, Игорь. Ты что-нибудь предполагаешь?
— Пытаюсь, — ответил он озабоченно.
— Но все-таки ж не Корсика…
— Да и не Сицилия. Но Михалевой в полночь звонили.
— Сегодня?
— Да. Потому я и не спал допоздна. Ждал, что ребята сообщат.
— Это не от нее сведения?
— Нет, я просил наших.
— Так вы знаете, откуда звонили?
— Из автомата.
— То есть?..
— Вот именно, — подтвердил он, — кто, не знаем, но степень ее умственного расстройства ты явно преувеличил.
— Вижу. Что же делать?
Я ожидал в ответ что-нибудь вроде «считай себя свободным», но он подумал и сказал:
— Будь дома. Сможешь?
— Конечно.
Появился он часов в десять. Увидел меня, огорченного и озабоченного, и улыбнулся. Но улыбка не подбодрила меня, а раздражала. «Тоже мне, Джоконда в погонах!» По его улыбке нельзя было понять, хорошо идут дела или нет. Самурайская какая-то улыбка.
— Доброе утро!
— Чем же оно доброе?
— Погода чудесная.
Это было правдой. Гроза только что кончилась, и омытый ливнем город изменился на глазах, деревья сбросили пыль и открылись влажной, еще не тронутой осенней желтизной зеленью, в которой переливались, сверкали на солнце капли недавнего дождя.
Я посмотрел сверху на эту красоту и смягчился.
— Доброе…
— Отличная погода, самое время для прогулки, — продолжал Мазин, игнорируя мое волнение.
— Скажи еще, пикник!
— Я еду в Кузовлевку. Составишь компанию?
«Вот оно что! Это другое дело!»
— Еще бы!
В служебной «Волге» мы сели сзади. Водитель в штатском вел машину молча и умело. После недавнего автобуса казалось, что мы парим над асфальтом. Куда и выбоины подевались!
— Почему мы едем в Кузовлевку? Может быть, мальчик уже дома?
Я еще держался за последнюю надежду.
— Дома его нет, — ответил Мазин. — Я сам там был. Только что, — добавил он, хотя и ясно было, когда же еще!
— А если Ирина сказала неправду?
— Она сказала правду.
Мазин помолчал немного и добавил не совсем логично:
— Я не спрашивал… Она полностью угнетена ночным звонком.
Мне, конечно, хотелось знать больше, но смущал молчаливый водитель.
— Смотри! — вдруг показал он.
Вдоль дороги по недавней пашне, давя стерню огромными колесами, двигался мощный трактор. Двигался медленно, как всегда движется работающая машина, но тащил он за собой не привычный плуг. В землю уходили лезвия, похожие на лапы культиватора.
— Это и есть безотвальная вспашка? — спросил Игорь.
— Да, наверно.
— Первый раз вижу.
— У тебя другие дела.
— Дела-то другие, но знать хочется многое… Терпеть не могу, когда чувствую себя ослом. Говорят — ротор, а я думаю, что это такое?
— Ну, я уверен, и ты можешь сказать такое, о чем другие не знают.
— Могу… Слушай, почему человеку все знать хочется?
— Вчера Ирина отстаивала право на незнание.
— Иногда это выгодно. Тебе не показалось?
— Я стараюсь взглянуть шире. Меня эта семья задела.
— Чем?
— Древние говорили — судьба, рок, фатум. Звучало таинственно и снимало вопрос. Мы ищем причины и выводим следствия. Расчленяем и упрощаем проблему. Фатума нет, но вопрос…
— Остается?
— Стушевывается мнимой простотой. В самом деле! Как просто все началось. Школа. Обыкновенный класс. Дети как дети, и треугольник, каких, наверно, в каждой школе не сосчитать. Два мальчика и девочка. Все на виду. Один спортсмен, красив, другой тоже недурен, смышленый, не из середняков. И девочка не дура, одета к тому же. Любимица отца… Кстати, ты веришь в честных торговцев?
Мазин оторвал взгляд от поля, теперь совсем другого, еще не скошенного, по которому ветер гнал пшеничные волны.
— Нечестный торговец — это не торговец, а жулик.
— Ну, предположим. Однако ее папа мог обеспечить семью, ни разу не вступив в конфликт с уголовным кодексом. Все шло хорошо. Кончат школу, будут учиться. Остается выбрать, кто больше по сердцу. И тут случается такое, что влияет на выбор. Если хочешь, деформирует, делает его несвободным.
— Почему же несвободным?
— Ее связала жалость.
— А может быть, другое? Казалось, что жалеет, сочувствует, а было легкомыслие, тщеславие; самоуверенность и просто эгоистический расчет — осчастливлю, и будет мне вечно обязан?
— Подсознательно?
— Не много ли на подсознание сваливаем? Сначала подсознание, потом несознательность… А с несознательного и спрос не тот. Воспитывать нужно. И воспитываем, а Васька слушает да ест. Нет, брат, я за ответственность. За собственную ответственность человека за свои поступки.
— В принципе, конечно, в теории. А на практике самосознание только с горьким жизненным опытом приходит. Теперь Ирина дрянью себя называет. Это ж какой путь пройти нужно. От самолюбования до такой самокритики.
— Путь из отдельных шагов складывается.
— Ясно, ясно. И каждый объясним. Но какой из них фатальный?
— Не говори красиво! Диалектика и проще и сложнее. Каждый свою роль сыграл. Каждый шаг, каждый случай вплоть до конфликта с твоей Мариночкой. Все рано или поздно плюсуется и отзывается, и чем меньше ответственности, тем резче, хотя сами по себе обстоятельства жизни этой семьи почти рядовые.
— А ты?..
— Я думаю, в итоге к житейским коллизиям катализатор добавился.
— Катализатор? Подхлестнуло? Что?
— То, что в последнее время некоторых людей мутить сверх меры стало, — деньги.
— Да, катализатор бурный, согласен, хотя деньги у нас отнюдь не такой сезам, как на Западе. Попробуй, пойди с деньгами, купи, что тебе нужно. Почти наверняка вернешься с пустыми руками.
— Ну, тут ты не прав, — возразил Мазин. — Именно потому, что ни черта не купишь, деньги и обретают у нас особую ценность: вместо рядового инструмента купли-продажи становятся отмычкой, ключиком к людям. Цепочка «деньги — товар» усложняется: деньги — нужный человек, тогда уже товар. А к нужному человеку далеко не всегда прямой рубль ведет, тут тебе и вульгарная бутылка, и ловко сказанное лестное словцо, и услуга, все переплетается, и уже не один рубль, а как бы два действуют, причем честный рубль стоит меньше воровского. С честно заработанным рублем куда пойдешь? Только в магазин, а воровской обеспечивается связями, для него базы и прочие закрома открыты. Вот в чем загвоздка… Муж с честным рублем не мог, конечно, тягаться с дядь Саней, с его рублем-отмычкой.
— Катализатором?
— Именно.
— Ускорившим развал семьи на глазах у мальчишки? Мы, между прочим, любим повторять, что дети больше видят, чем мы думаем, а они не только видят, они страдают больше. Нам это понять не всегда дано. Мы лишь констатируем: «Воспринимают острее». Сказали и от боли отстранились. Наукообразно звучит и холодно. Острее, чем кто? Это, знаешь, как в анекдоте про алкаша, которому говорят: «Пить нужно меньше», а он вполне резонно в ответ: «Меньше, чем кто?»
Я спрашивал у Мазина, но обращался, по сути, к себе самому. Очередную картинку в воображении прокручивал.
Был день, когда Черновол постучал в двери к Михалевым после того, как долго не виделись, и время притупило былое соперничество, а старая дружба помнилась. Появился как друг, давно не дававший знать о себе, и по-дружески был встречен.
«Санька! Ты? Вот не ждали!».
«Не рады?»
«Что ты!»
Может быть, они обнялись с Михалевым; наверняка даже обнялись, а к Ирине он подошел улыбчиво и тоже обнял, но скорее прикоснулся деликатно — рукой к плечу, губами к щеке.
«Как живете?»
Конечно, сначала о маленьком.
«Нас трое теперь».
«Наслышан. Захватил кое-что по случаю. Показывайте наследника, показывайте! Хвалитесь!»
Маленький Толя сидел в ползунках в кроватке с какой-нибудь погремушкой, и сердечко его вряд ли подсказало, что с этим душистым красивым дядей горе пришло, и он доверчиво улыбнулся дяде.
«Здравствуй, юный Михалев. Держи палец».
И дядя протянул малышу указательный палец.
Тому бы укусить палец, а он сжал его своей пухлой младенческой ручкой, и все засмеялись одобрительно.
«Вот и познакомились! А теперь прости, пожалуйста, я недооценил твоей юности, пожалуй, мой подарок тебе еще рановат. Однако вырастешь, я думаю. А родители сберегут. Держите, Михалевы!»
И коробка с детской железной дорогой, разумеется, малышу пока не нужная, была передана на хранение.
«Виноват, своих не завел, плохо в детских возрастах ориентируюсь, — смеялся дядь Сань, — зато этому предмету все возрасты покорны».
Он поставил на стол бутылку с коньяком, марочным, конечно.
«Ну, Сашка! Богато живешь?»
«Смех! Ничтожный текстильщик. Швейник. Трусики, майки… В космос не летаем… Где уж нам уж…»
«Садись, садись за стол, текстильщик, сейчас Ира сообразит».
«Ирочка, только не суетись. Сама-то как? Еще лучше стала!»
«Папу недавно похоронили, Саня».
«Слышал и это. Большой был человек, большой».
«Его в городе уважали».
«Помянуть нужно».
«Не чокайтесь!»
Я представил себе эту сценку, молодых людей за столом, знающих, что при поминках нельзя сдвигать рюмки, и подумал, как вдруг распространились ненужные и нелепые обычаи, приметы. С серьезнейшим видом предостерегаем — с левой не наливай! — а подлинное старое, доброе, но требующее душевных усилий забыли, потому что золотой крестик носить на шее легко и модно, а вот нести крест на Голгофу кому охота? Да зачем на Голгофу — в аптеку сбегать за лекарством больной соседке старушке и то обуза. Ну, ладно…
«А теперь за наследника! У меня для него еще маленький сувенирчик есть. Давайте, давайте бокальчик».
«Что ты выдумал, Санька?»
«Знаю, знаю, как положено. Наливайте!»
Бокальчик взяли из отцовских хрустальных и туда плеснули.
«Вот и хорошо. Вот так!»
Звякнул металл о хрусталь.
«Санька! Ты с ума сошел!»
«Что это?»
«А, ничего, червончик, монетка на зубок».
Михалев-старший, наверно, с любопытством рассматривал на дне бокала желтую монету с профилем последнего императора. Он таких никогда не видел.
«Ну, ты даешь!»
«За здоровье, за здоровье!»
И три бокала сдвинулись над четвертым, коснувшись его с глухим звоном.
Известно, что застольный звон дум глубоких не возбуждает. Да и о чем было думать в тот веселый момент!
Впрочем, Черновол думал. Наверняка он с самого первого раза явился не зря, и были цели определенные и в отношении друга, и его жены.
Но те о целях не подозревали. Шутили.
«У тебя, Саня, на фабрике и червонцы шьют?»
«Почему бы и нет? Золото ведь из жилок тянется, ниточкой. И мы с ниточками работаем».
«Золотыми?»
«А это уж от человека зависит, какой он нитью жизнь свою прострочит. Ну да ладно… Вы-то как?»
«Мы?»
Они переглянулись, и взгляды скрестились еще не враждой, наверно, но опытный человек мог заметить, что отталкивания в них больше, чем притяжения.
«Мы? Как все, Саша. Я за баранкой, Ира с дипломом».
«Сколько же твой диплом стоит?»
«Сотню с копейками, Саня».
«Ну, не хнычь, старуха, я-то баранкой кое-что накручиваю».
«Понятно. Значит, как все».
«На хлеб хватает».
Тут она, возможно, добавила:
«Без масла».
«Не хнычь», — повторил Борис жестче.
А Черновол примиряюще улыбнулся:
«Я, кажется, неудачно спросил. Виноват. Только без обострений, ладно? Масло — дело наживное».
Он, конечно, понимал, что нельзя брать сразу круто, и после того, как основные позиции прояснились, пошло все как у людей, пили и закусывали, старых приятелей вспоминали и учителей и, может быть, «милую Мариночку» даже…
Интересно, что о ней было сказано?
Но тут мне домысливать почему-то не хотелось.
Конечно, все шло хорошо, посидели и расслабились, и малышу извлеченную из бокала монетку дали подержать, и посмеялись, когда он ее неловко из ручек выронил.
Так, наверно, было в тот, первый раз.
А дальше? Не знаю, когда, но обязательно должны были два разговора состояться, с ним и с ней, и обязательно по отдельности. А до этих разговоров он не мог не заметить, что старый друг первым свою рюмку выпивает и что в жене его радости первой любви поубавилось.
Обязательно были два разговора. Может быть, сначала с ним.
Во двор вышли вдвоем. Закурили. И начал не Александр, а Борис.
«Ну что, Сань, все тебе ясно?»
«О чем ты, Боря?»
«Брось. Ты же в классе был самый смышленый».
«Я к вам не загадки разгадывать заезжаю».
«Загадок-то и нету».
«Ну, и ладно. Не распахивайся. Кое-что вижу, не слепой».
«И что видишь?»
Борис уже выпил изрядно, а Сане пьяным казаться было удобнее, потому и разговор шел, будто с кочки на кочку прыгали.
«А что? Все правильно».
«Да ну? Только честно».
«Темнить не привык, был на тебя зуб. Но время все на свои места ставит. Все правильно, старик. Ирине был нужен мужик положительный».
«Был?»
«И сейчас нужен. Она только не понимает, что все правильно. Но поймет. Будь уверен».
«Утешил…»
«Верно говорю, Боря. Поверь. Я, знаешь, многое понимать стал. Сначала думал, если голова на плечах есть, значит, и дело будет».
«А как же!»
«Не так, не так, дорогой. Ну зачем, скажем, начальнику подчиненный, который умнее его? Понятно, он твою голову с удовольствием обсосет на десерт. Но я, Боря, мозгами делиться не хочу. Игра «ты начальник — я дурак» не по мне. Я не дурак. Моя голова мне самому пригодится. И друзьям, я надеюсь… А мы — друзья, потому что старая дружба не ржавеет. Ты согласен?»
«Конечно».
А что он еще мог сказать?
«Я так и думал. Дружба — это все, Боря. Тут ни дураков, ни начальников. Правильно я говорю?»
«Точно».
«Вот видишь! Я правильно говорю. И с Ириной все правильно. Только она, конечно, не привыкла. Но это дело поправимое, слушай меня…»
«Что не привыкла, Сань?»
«Ты же сам сказал — видишь, тебе ясно? Мне ясно, Боря. Она привыкла при папе. А ты не папа».
«Я не папа, Сань. Откуда?»
«А голова зачем? А друзья? Моя голова, твоя баранка — две головы. Правильно, Боря?»
«Правильно, Сань. Только не очень я понимаю».
«И не надо, Боря, не надо сейчас. Пошли лучше в хату. За дружбу по рюмочке, а? Правильно, Боря?»
«Правильно, Сань».
Такой был, наверно, контур этого разговора, пока еще очень общего. Крючок был только заброшен, и вряд ли Михалев быстро на него клюнул, пришлось поводить. Сначала один Черновол водил, а потом и не один. Потом и она.
А с ней как?
Наверно, засиделись, и, когда Михалев, начал ронять голову на руку, Черновол предложил:
«Да ты устал, Борька, может, приляжешь?»
«Ничего, ребята, ничего, я в порядке».
«Он всегда так, Сань. Его с выпивки в сон тянет».
«А это хорошо. Дурак напьется и пошел куролесить, а умный прилег, и в порядке. Иди, Борис, не стесняйся. Мне тоже пора».
«Нет, ты сиди, ты сиди, А я, знаешь… у меня рейсы… недосыпаю…»
«Вот и приляг, приляг, я тебе говорю…»
И Михалев уходит, нетвердо ступая и схватившись по пути за притолоку. Потом скрипит диван в соседней комнате, и вслед глубокое дыхание с негромким присвистом.
«Вот уж нализался», — говорит она брезгливо.
«А что? Мужик! Вы к нам больно придирчивы».
«К тебе-то кто придирается?»
«Ко мне никто. Но, между прочим, не тебе об этом спрашивать».
Сказано грубовато, но такая грубость лучше комплимента.
«Что ж ты про нашу жизнь скажешь?»
«Не знаю, как жизнь, а ты еще лучше стала. Рада, что я заехал?»
«Рада. Скучно живем».
«Я вижу».
«А ты?»
«Мне скучать некогда. Я человек деловой».
«Ну, не одними делами живешь?»
«В основном. Первым делом самолеты, а девушки потом».
«Хоть и потом, а есть?»
«То, что есть, не в счет. Старая любовь не ржавеет».
«Не нужно, Сань».
«Что не нужно? Говорю что есть, я привык так, говорю что есть. Разве нельзя?»
«Зачем?»
«Не знаю. Но вижу, ты от жизни большего ждала».
«Ты разве Бориса не знаешь?»
«Знаю. Он спортсмен».
«Когда это было…»
«Я в другом смысле. Таким, как он, тренер нужен…»
«Из меня тренер не получился».
«А я помогу, Ира, помогу».
«По дружбе?»
«Это мы потом разберемся, ладно?..»
Машина между тем свернула на проселок, и нас впервые тряхнуло. Я увидел, что до села, осталось совсем немного, и вдруг устыдился своего воображения. Ну что это я, в самом деле, рисую в голове какие-то малохудожественные картины раннего разложения в семье Михалевых, когда жесткая реальность вычертила уже беспощадный финал: отца нет в живых, совратителя тоже, мать под следствием, а мальчик похищен… Ну что за черт! Как это похищен? Все-таки не Сицилия… Или эти сволочи «Спрута» насмотрелись и эпигонствуют? А впрочем, и до «Спрута», кажется, в «Литературной газете» нечто подобное было описано…
— Игорь!
Мазин оторвал взгляд от степных пейзажей.
— Да.
— Неужели такое может быть?
— Ты об Анатолии?
— О ком же еще!
— К сожалению, Коля, в жизни может быть все, что только мы способны вообразить, и даже больше… Хотя есть момент, который лично меня обнадеживает…
— Какой момент?
— Прости! Считай, что я суеверный. Пока не скажу.
А машина тем временем промчалась в тени пыльных акаций старой лесополосы, посаженной еще в период призыва «И засуху победим!» — и, проскочив деревянный мостик над обмелевшей речкой, въехала в село, где замедлила ход, пропуская женщину, что неторопливо несла воду на неподвижном почти коромысле.
Я подсказал, как подъехать к дому Григория Тимофеевича.
Паники в доме не было, но беспокойство чувствовалось. Достаточно упомянуть, что хозяин был во дворе, а не в поле.
— Мы к вам, Григорий Тимофеевич.
— Жду. Мне из милиции сказали, чтобы ждал.
Мазин задал несколько вопросов, но нового ничего не узнал.
Напоследок он спросил:
— Мог ли мальчик, покинув бригаду, вернуться домой за бумагами?
— Здесь его никто не видел. Ни дома, ни в селе.
Мазин достал из внутреннего кармана пачку фотографий.
— Вы бы узнали его по этому снимку?
Григорий Тимофеевич кивнул.
— Он.
«Когда же Мазин успел заполучить и размножить фотографию Анатолия?»
— У Ирины взял?
— Да.
Тут я наконец задал вопрос, который мучил меня всю дорогу.
— Значит, она знает, что мальчик исчез? Представляю ее состояние.
— Нет, пока не знает.
— А как ты объяснил, зачем тебе фото?
— Она же просила тебя позаботиться…
— Да, верно. Но я иначе представлял.
Я хотел сказать, что не верил в реальную угрозу, но подумал, что Мазин имеет свою точку зрения, и сейчас сопоставлять их не время. И в самом деле, он торопился.
— Погости пока у Григория Тимофеевича. Я за тобой заеду.
— Ты куда?
— В райотдел, ну и все такое прочее.
Он улыбнулся нам и пошел к машине. Молчаливый водитель аккуратно срезал перочинным ножом кожуру с яблока, которым угостила его хозяйка. Когда Мазин сел рядом, он сложил ножичек и посмотрел вопросительно.
Мазин сказал что-то, легкая пыль поднялась над дорогой, и мы остались с Григорием Тимофеевичем.
— Ну, дела, — покачал головой дядя Гриша.
Этими словами и соответствующим им настроением и можно, собственно, определить всю нашу дальнейшую беседу, в которой было больше чувств, чем фактов. Оба удивлялись и тревожились. После обеда Григорий Тимофеевич ушел в сарай и занялся чем-то по хозяйству, а я сел на лавку в тени старой груши и долго и нетерпеливо ждал Мазина. Вернулся он к вечеру.
— Что?
Мазин пожал плечами.
— Пока ничего. Никто мальчика не видел.
— Кушать будете? — спросил Григорий Тимофеевич.
— Спасибо, я перекусил. Вот обмоюсь немного, если не возражаете.
Оба пошли к колодцу. Мазин снял рубашку и майку, а Григорий Тимофеевич сливал ему на плечи и шею холодную воду.
— Теперь можно и в обратный путь, — сказал Мазин, возвращая дяде Грише полотенце. — И не беспокойтесь, мальчик найдется.
Дядя Гриша, молча перекинул полотенце через плечо.
С тем и уехали.
Стоит ли говорить, что на обратном пути, в основном молчали. Мазин, как я видел, был озабочен неудачей. Мне захотелось поддержать его.
— Послушай, Игорь, ты сказал, что тебя обнадеживает один момент?
— Да.
— И теперь?
— Это соображение остается.
И все. Разговор не получился.
На столбах, обозначающих километраж, уменьшались цифры.
— Нужно 125-ю статью углублять, — неожиданно заявил молчаливый водитель.
— Что за статья?
Мазин пояснил, неохотно прерывая ход своих мыслей.
— Похищение чужого ребенка с корыстной целью.
— И что она?
— До семи лет…
— Смех, — бросил водитель.
Очевидно, и его молчаливость имела предел.
Никто, понятно, не засмеялся.
«Конечно, семь лет только со стороны кажется легкой карой, однако, будь я на месте родителей… И вообще, почему до семи, а не до шести или восьми?»
Но трудно было теоретизировать, ибо мы понятия не имели, кому суд присудит этот срок и присудит ли вообще…
В городе Мазин завез меня домой.
— Кажется, я тебе не пригодился, — сказал я виновато, хотя в чем вина могла моя заключаться? Я вообще не совсем понимал, зачем он брал меня с собой. Потом уже, позже, когда вся история закончилась, Игорь сказал, что надеялся найти мальчика на месте, и тогда ему было бы легче говорить с ним вместе со мной. Но пока он ошибся, и это, конечно, задевало его профессиональное чувство.
— Еще пригодишься, — пообещал он.
— Игорь, прошу! Как понимаешь, мне не безразлично. Если что, пожалуйста, дай знать!
— Не сомневайся.
Мне и в голову не приходило, что сведения потекут в обратном направлении, и уж совсем я не предполагал, что Мазину не уезжать нужно, а подняться со мной в квартиру. Но этого мы угадать не смогли, наша оплошность. Впрочем, почему оплошность, скорее случайность, одна из тех, которые возникают вопреки логике, хотя, увы, возникают — эта непредвидимая случайность и определила не самый лучший ход дальнейших событий.
А пока Мазин махнул, мне рукой из машины, а я подошел к лифту и долго и безуспешно пытался вызвать красную вспышку в прозрачной кнопке. Лифт не работал.
«Все одно к одному», — подумал я и пошел потихоньку на свой восьмой, поминая недобрым словом лифтеров, хулиганов и даже тех теоретиков, которые считают, что подниматься по лестницам пешком — полезная тренировка для сердца. При тридцати двух по Цельсию, а именно до этой отметки доползла красная жидкость в термометре, установленном на площади, через которую мы только что проехали, человеку с валидолом в кармане о такой оптимистической концепции хочется сказать одно — теория мертва…
Зато на вечноцветущем древе жизни плоды-сюрпризы зреют в любую погоду. И приносят их, как правило, женщины. Не зря же первая из них яблоко сорвала.
Открыла мне жена.
— Вернулся? А у тебя гость.
И, ничего не поясняя, показала на дверь кабинета.
Я сунул ноги в шлепанцы и мимо душа, о котором мечтал, пошел в свою комнату.
В кресле, вытянув худые длинные ноги, сидел Толя Михалев.
— Ты?
Он встал.
— Ну, знаешь, тебя пороть нужно! — произнес я тоном, который, конечно же, не соответствовал угрожающему смыслу слов. Я шагнул к мальчику не то чтобы поздороваться, не то просто пощупать и убедиться, что это в самом деле он.
Толя встал, но решительно отстранился.
— Я вас ненавижу.
В данном случае тон и смысл полностью совпадали. Я не обиделся, я растерялся.
Он смотрел в упор злым и в то же время измученным взглядом.
— Меня?
— Вас! — И, помедлив, «позолотил пилюлю». — И вообще всех взрослых.
— Ты что… Питер Пэн?
— Кто это?
— Мальчик из английской сказки. Он никогда не старел.
— Ну и что?
— Ну, он мог, наверно, относиться к взрослым, как к особой категории, а ты-то сам завтра им будешь…
— Таким, как вы, я не буду.
— Таким, как я, или все мы… совершеннолетние?
— Таким, как все.
— Хорошо. Твое право. Сядь.
— Насиделся.
— Извини, мы как раз были заняты твоими поисками.
— Вот и нашли. Отдайте письмо! «Так вон оно что!..»
— Присядь, пожалуйста.
— Я не в гости пришел. Отдайте то, что вы украли.
Так он меня хлестнул, и я с болью подумал: а ведь прав он в чем-то, даже во многом.
— Мы не хотели тебя огорчать.
— А вы всегда все для пользы делаете. Только из этой пользы…
— Что?
— Жабы и тараканы.
— Данте сказал бы, дорога в ад вымощена благими намерениями.
— Плевать мне на Данте.
— Ну, это ты сгоряча. Он, конечно, «взрослый», но в общем-то сказал то, что и ты сейчас.
— Не вешайте мне лапшу на уши. Отдайте…
Я оказался в трудном положении.
— Пожалуйста, Толя, присядь.
— Мне некогда. Давайте письмо.
— У меня нет этих бумаг.
— А где же они?
— У моего друга, работника милиции.
Мальчик сел и… заплакал. Видно, не выдержал напряжения.
Мне было и жалко его, и стыдно. За нас, за взрослых, за самоуверенность нашу, за убежденность в праве поступать, не считаясь с младшими. Не отсюда ли начинается произвол вообще? Сначала дети, потом подопечные, подчиненные, все они выстраиваются в ряд «братьев меньших», которых с умыслом или не замечая бьем во благо их и общее, и больно бьем, да еще на неблагодарность жалуемся.
— Перестань, Толя. Слезами горю не поможешь. А бумаги твои помочь разобраться могут.
— Отец не виноват.
— Он там как раз наоборот пишет.
— Его опутали.
— Скорее всего. Потому я и хотел помочь справедливости. Сейчас расследуются преступления Черновола, следствие в твоих бумагах может найти что-то нужное. Мы так с дядей Гришей подумали.
— Он тоже меня предал!
— Как ты узнал, что я забрал бумаги?
— Я слышал ваш разговор, но не все. Слышно было плохо, и спать хотелось… Я заснул, а утром вспомнил, потом думаю — приснилось, потом — нет, не приснилось. Не верил, что меня обокрали и предали.
Смягчать его слова сейчас не было смысла.
— Ты был дома?
— Нет. Там мне нечего делать.
— Как так?
— Этого вам не понять.
— Ну, предположим. Где же ты ночевал?
— В копне. Я опоздал на автобус, поехал попутной машиной, а она сломалась по дороге.
— Значит, ты только сегодня в город добрался?
— Вы же видите.
— Тебя покормили?
— Я у вас есть не буду.
— Ну и зря.
— Когда мне отдадут письмо отца?
— Завтра, я думаю.
Он вытер глаза и щеки грязным носовым платком.
— Отца позорить будут. Эх, вы…
— Нужны свидетельства…
— Пусть их Саня и дает. Или его расколоть не могут?
«Значит, не знает!»
— Слушай, он же погиб!
Мальчишка как-то вытянулся.
— Погиб?
— Толя, сядь, пожалуйста. Это очень серьезно, ты меня выслушать должен…
На этот раз он послушался, сел, и даже не сел, а опустился как-то, будто ноги ослабели.
— Он утонул, Толя.
— Не может быть!
— К сожалению, так и есть.
— Почему к сожалению, если утонул? Такого не жалко.
— Мальчишка ты мой…
— Только без нежностей фальшивых!
— Какие нежности! Ты соберись с силами. Тебе еще предстоит узнать…
— Что?
«Правильно ли я поступаю? Нет, лучше сразу. Он иначе на вещи взглянет».
— Твою маму обвиняют.
— Маму? В чем?
— Они вместе были, когда Черновол утонул.
— Это неправда! Она не виновата!
— Я тоже так думаю.
— Это не ваше дело.
— Пусть. Но почему ты домой не пошел?
— Это не ваше дело, — повторил он. — Я пойду. Я не знал.
— И сейчас не все знаешь.
— Что еще? Все говорите.
— Послушай, Толя. Какие-то друзья Черновола звонят маме, пугают ее, говорят, что будут мстить за его смерть.
— Так она дома?
— Да.
— Значит, ее не арестовали? Вы опять меня обманываете. Если бы ее обвиняли, она бы в тюрьме была!
Я был в растерянности.
— Понимаешь, это можно истолковать как несчастный случай. Она оттолкнула его. Ее могут приговорить условно… Кроме того, самооборона…
Он слушал, но я не мог понять, что он думает по поводу того, что слышит.
— Толя! Я сейчас позвоню своему другу, он лучше тебе все разъяснит. А ты поешь все-таки, ладно?
И я вышел, чтобы сказать жене, что нужно покормить мальчика.
— Я все время ему предлагала, он отказывается.
— Сейчас, наверно, не откажется.
Тут же на кухне я взялся за телефонную трубку. Все звонки оказались впустую. Мазина не было ни в гостинице, ни в управлении, ушел уже и Сосновский. Оставалось одно — ждать.
Когда я вернулся в кабинет, Толя сидел в напряженной позе, думал, взявшись руками за голову.
— Пойдем есть, чуть позже я снова буду звонить.
— Я не хочу.
— Скоро все выяснится. Подождем немножко, а пока поешь.
— Я не хочу. Я пойду.
— Домой?
Он не сразу ответил.
— Да.
— Может быть, лучше позвонить сначала, предупредить, что ты приехал?
— Не нужно.
— Послушай моего совета. Садись, перекуси, тем временем отыщется Игорь Николаевич, кое-что прояснится, и ты пойдешь домой не с пустыми руками, может быть, сообщишь маме что-то важное.
— Ее допрашивали?
— Конечно.
— Но она же не виновата!
То же самое говорил он и об отце, но была разница в интонации. Разницу я чувствовал, но в чем она, определить затруднялся, а задумываться было некогда, мальчик совсем не желал не только слушаться, но и слушать.
— Конечна, она не виновата в умысле, но так уж получилось, она ведь подтвердила.
— Что?
— Она столкнула его в воду.
— Ее заставили?
— Почему? Она дала показания добровольно.
Все-таки до конца я не договаривал, не мог сказать, почему мать настаивает на своей вине, подлинной или мнимой. Лучше, если они сами объяснятся. Я и так уже много сказал ему. Главное, чтобы шел домой. Пусть не говорит, почему не пошел до сих пор. Пусть. Лишь бы сейчас пошел, чтобы точку на этой глупости с похищением поскорее поставить.
— Мне все понятно, я пойду.
Мы вышли в прихожую. От сентиментальных напутствий я воздержался. Закрыл за мальчиком дверь и подумал, что теперь могу принять душ и поужинать.
Было, однако, неспокойно. Разволновался, устал, что ли? А тут еще жена включила телевизор, передавали эстрадную программу, современные песни, которых я не понимаю, не могу понять, почему шум важнее смысла? Все они для меня на одно лицо, в каждой почему-то слышатся одни и те же глупые слова: «А я по шпалам, опять по шпалам…» И кажется, будто люди не со сцены выступают, а бегут по шпалам наперегонки неизвестно куда.
Раздраженно смотрел я на экран, который принято называть голубым. Ох уж эти мне штампы! Самолет — серебристый лайнер, пароход — белоснежный, а обыкновенное место в столовке — посадочное. Интересно, как в камере места называются? «То взлет, то посадка…» О чем эта песня? Об авиаторах или торговых работниках? И еще меня выводит из себя манера повторять одни и те же слова по двадцать раз, будто патефон испортился! Представляю, если бы знаменитый романс так пели!
Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты… Явилась ты… Явилась ты… Явилась ты…Да, забавно. Он ей — гений чистой красоты, а она ему — а ты айсберг…
Короче, программа, где айсберги бегают по шпалам, настроение мое не улучшила, и я пошел к себе. Даже есть расхотелось. Ну что за глупость, радоваться нужно, что нашелся мальчик, а меня какая-то беспочвенная тревога гложет…
Прилег на диване.
Интересно, Игорь уже добрался до гостиницы? Вряд ли… На всякий случай я набрал его номер, но услышал только равнодушные гудки без отклика. Я подержал в руке трубку и положил ее, помедлив, со вздохом. Но едва трубка придавила рычажки, из аппарата рванулся звук, видно, номер набрали только что, когда я сидел с трубкой в руках.
— Алло, — сказал я, ожидая услышать голос какой-нибудь жениной приятельницы.
— Николай! Не спишь?
Сразу отлегло.
— Игорь, нашелся мальчишка!
— Неужели? Где он?
— Был у меня. А ты в гостинице?
— Нет, я рядом с тобой.
— Ну, заходи скорее.
— Кофейку поставь, ладно?
— Давай, давай!
И я крикнул жене:
— Слушай, оторвись от этой чуши, свари кофе, сейчас Игорь зайдет.
Думаю, что он моим вестям был рад не меньше, чем я его звонку.
— Поздравляю, Перри Мейсон. Как в лучших романах, потерпевший у тебя раньше, чем у нас, чиновников от закона.
Я ответил великодушно:
— Оправдалась твоя убежденность, что все будет в порядке. Правда, доводы свои ты утаил от… адвоката.
— Да, это были очень простые соображения. Думал, что ты и сам к ним придешь. Мальчик уехал из Кузовлевки, вернее, исчез, как мы это называли, вчера. А ночью повторился дурацкий звонок к Михалевой. Но если бы сына похитили, звонка без слов быть уже не могло! Раз эти люди звонили по-прежнему молча, значит, они не знали, где мальчик.
— Люди! Какой-то подонок играет с человеческим горем. Да за это… Ну, ладно. Хорошо то, что хорошо кончается, и ты, как всегда, оказался прав. Однако сознайся, кошки все-таки скребли?
— Скребли, скребли.
— Найти бы мерзавца.
— Между прочим, здешние товарищи взяли сегодня ночью под наблюдение несколько автоматов.
Он посмотрел на часы.
— Немного уже осталось… А пока рассказывай подробно.
Я рассказал и добавил:
— Интересно, как они с Ириной встретились? Ведь он сначала заявил, что ему нечего дома делать, но когда узнал, что мать под следствием…
— В вину ее не поверил?
— А ты бы на его месте?
— Это аргумент ад хоминэм! Взываешь к чувствам. Но за каждым чувством, однако, и факты и соображения.
— Не нуждался он ни в каких фактах! Просто от души и наотрез.
— По-твоему, он полностью такую возможность отвергает?
— Категорически.
Я произнес это слово быстро и уверенно и, только сказав, вдруг понял, в чем была разница в интонации мальчика, когда он отрицал вину обоих родителей. Да, отец был невиновен в его глазах («впутали!»), но закон-то он нарушал, и мальчик знал это. Зато вину матери Толя отрицал начисто. Именно категорически. А между тем отца любил больше…
Я поделился этим наблюдением с Мазиным.
— Любопытно, — сказал Игорь, — не зря он меня интересует.
— Что тебя, собственно, еще интересует?
— К сожалению, многое. Я ведь работу делаю. А она, между прочим, мало продвинулась. Смерть этого друга дома по-прежнему во мраке, тем более что труп не нашли.
— Неужели? Почему ты мне об этом раньше не сказал?
— Чтобы не домысливал лишнего. А факты таковы: с поиском не поспешили, ночь была темная, течение там сильное. Со всем этим считаться приходится.
— Я не фантазер, Игорь. Вообще не понимаю, чего он вам так дался? Черновол погиб фактически случайно.
— Жертва страсти?
— Иронизируешь?
— Я его иначе вижу.
— А ты глазами Ирины посмотри, которая его в воду столкнула.
— И так пытаюсь.
— Характер ее учитываешь?
— Какой он, по-твоему?
— Скверный. Избалованный недисциплинированный человек. Единственная дочка обеспеченного папы.
— Не слишком ли обеспеченного?
— Она говорила об уважении, каким отец в городе пользовался.
— Ну уж тут не поспоришь! — усмехнулся Мазин. — У вас в городе Дом кино имеется?
— Есть.
— Бываешь на интересных просмотрах?
— Ну, я не такой уж энтузиаст, да и трудно туда попасть, особенно если ажиотаж фестивальный…
— Вот именно. Трудно. Мест нет. А кем заняты? Посмотри как-нибудь. Торговля, автосервис, всякого рода сервис и снова торговля. Это ли не проявление уважения? Приходите, уважаемый, милости просим, вас Феллини ждет! Мировое искусство за колбасу скармливают, а то и дешевле. Это, брат, уважение особого рода.
— Ну, до Феллини отец не дожил.
— Об отце я, конечно, не знаю. Меня больше Черновол занимает. А уж это делец высшей пробы.
— За что и поплатился. Или ты забыл?
— Помню, Коля, помню.
— Так можно ли считать ее преступницей, убийцей?
— По закону?
— Да просто по-человечески!
Тут Мазин возразил решительно. Пока он свои взгляды излагал, он готов был и возражения выслушать, но покушений на закон не терпел.
— Вот это, Николай, самое опасное и, к сожалению, распространенное заблуждение. Дескать, по закону — одно, а по-человечески, как ты говоришь, — другое. Да, доброму человеку Ирина и жертвой может показаться; однако закон при всей своей кажущейся упрощенности точно отражает подлинные реалии. Он, если хочешь, мудрее жалости, которая и обмануться может. А жертва далеко не всегда конечный итог зла, иногда и очередное звено. Черновол принес в семью зло? Согласен! Ирина одна из жертв? Да. Но сначала она стала жертвой того самого хлеба с маслом, которым ее не просто кормили, но создавали убежденность, что это естественно, хорошо, правильно, что ее благополучие — следствие не просто родительской щедрости, но и ума, предприимчивости; короче, бутерброд с маслом подавался как символ пресловутого «умения жить». Всего-то два слова, а сколько они душ погубили!
— Сама Ирина, между прочим, не очень похожа на «умеющую жить».
— Тем более! Значит, муж должен уметь, а если он не умеет, что тогда?
— Искать того, кто умеет?
— Конечно, и в данном варианте он тут как тут. Ситуация складывается виктимологическая. Жертва провоцирует преступника.
— А потом они меняются ролями?
— Ах, Коля, — вздохнул Мазин, — далеко наука ушла, а проблемы старые остались, что раньше — курица или яйцо? Кто жертва, Ирина или Черновол? К счастью, помимо трагедийного — жертва, есть еще служебный термин — потерпевший. Черновол сейчас прежде всего потерпевший.
— А Ирина, которую преследуют?
Мазин взглянул на часы.
— Ты вовремя вспомнил.
Мы заговорились, телевизор за стенкой давно утих, последняя электричка сбежала по шпалам, жена, видимо, спала, и на календаре можно было перевернуть очередной листок.
— Можно уже кое-что узнать, — сказал Мазин и набрал номер.
Ему докладывали кратко и громко. Я слышал почти каждое слово:
— Звонок был.
— Откуда?
— Из автомата на Второй Электротехнической.
— Задержали?
— Нет, этот район…
— Понятно.
— Товарищ подполковник! Вы знаете, сколько в городе автоматов?
— Я вас не упрекаю.
Он повесил трубку.
— Черт!
— Упустили? — переспросил я, хотя и слышал, что говорилось.
— Да, но нельзя же, в самом деле, поставить по человеку у каждого таксофона.
— Ты огорчен? Послушай, конечно, мерзавца поймать было бы поучительно, однако…
— Я не огорчен, Николай, я немного удивлен.
— Чем?
— Прошлой ночью звонили из автомата возле рынка, сейчас со Второй Электротехнической. Ты свой город знаешь?
— Еще бы! Противоположные концы.
— То-то! Если звонит шутник, идиот, кретин, пусть злой подлец, зачем такие концы проделывать, километров по пятнадцать, среди ночи, зачем?
— У него, наверно, есть машина.
Мазин кивнул.
— Предположение верное, и может даже пригодиться, но тут опять серьезным запахло. Одно дело — спуститься в тапочках на угол перед сном и звякнуть для смеха, совсем другое — ехать специально через весь город.
— Что же ты предполагаешь?
— Продуманный умысел.
— А если он там в гостях был? Выпил, закусил на Электротехнической и по пути опять пошутить захотелось?
Мазин улыбнулся.
— Заводишь меня? И зря. Такие глупые случайности сплошь и рядом бывают. Только исходить из расчета на случайность нельзя. Ну, ладно, кое-что сейчас узнаем. Я просил Ирину попытаться вступить в разговор, чтобы задержать звонаря. За это время можно было бы предпринять меры. Понимаешь?
— Его записали?
— Не так запросто записывать разговоры. Это тебе не Америка. Да и какая необходимость? Я думаю, она сама скажет.
— Ну конечно. Звони! Она же недавно говорила, наверняка еще не спит и все помнит, каждое слово.
— Сейчас. Возьми другую трубку. Ты эту женщину знаешь лучше, может быть, что-то тебе будет понятнее.
Я принес второй аппарат.
— Ирина Васильевна? Это Мазин. Простите за поздний звонок.
Я заметил, что трубка у Михалевых была поднята сразу, буквально после первого гудка, а вот с ответом Ирина помедлила.
— Я вас слушаю.
— Вам опять звонили. Я знаю. Вы говорили с ним?
Снова она помедлила.
«Напилась на ночь, что ли?»
— Вы ошиблись. Сегодня мне никто не звонил.
Сказано, как прочитано.
Я был поражен и ожидал того же от Мазина, но тот только нахмурился.
— Разумеется, и у нас накладки бывают. Но вы уверены, что звонка не было? Может быть, вы выходили?
И снова голос человека, читающего по прописи.
— Я никуда не выходила и не спала, звонка не было.
— А Толя?
— Толи нет дома.
— Нет дома?
И вдруг в ответ крик:
— Зачем вы меня спрашиваете? Я вам все вчера сказала.
Мазин ответил очень сдержанно:
— Он мог дать знать о себе за это время.
— Толи нет, нету Толи!
На том конце провода трубка упала. Мазин взглянул на меня вопросительно:
— И почему, как суп в котле. Кипит вода в морях?— Я и сам сейчас, как тот суп. Пороть нужно!
— Кого?
— Мальчишку.
Произнес я эти слова гораздо более убежденно, чем в первый раз, когда увидал Анатолия, сидящего в кабинете.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Мазин как-то вяло. Он, кажется, устал в самом деле.
— Очередная выходка.
— Как с Онегиным?
Про Онегина я, откровенно говоря, уже почти забыл. Это было далекое прошлое по сравнению с нашими нынешними хлопотами.
— Как с бегством от Григория Тимофеевича.
— Где же этот беглец сейчас?
— Спроси что-нибудь полегче. Мог я ждать его здесь?
— Он же пошел домой?
Мне стало неловко.
— Точно он не говорил. Я убеждал его идти домой. И мне показалось, он согласился.
Мазин подошел к открытому окну, за которым мерцал неживой свет неона.
— Пора, мой друг, пора…
— Что ты!
— Проморгал я Толика твоего. Чего-то недосмотрел. Какие-то шестеренки сточились.
Он провел рукой по левой половине груди.
— Беспокоит? У меня лекарство есть. Я принесу.
Он махнул рукой.
— Не нужно. Скажи лучше, что ты об этом киднапе думаешь?
— Глуповатый друг детектива не должен скрывать своих мыслей?
— Это еще что такое?
— Рональд Нокс. Одно из правил, по которым строится детективное произведение.
— Понятно. Вот и не скрывай. Впрочем, ты уже не скрыл. Думаешь, очередная мелкотравчатая истеричность мамы или сынка?
— Именно так.
— Выходит, мы поменялись позициями, Коля. Сначала ты паниковал, теперь мне кажется, что случилось нечто серьезное.
— Не пойму тебя, Игорь. Совсем недавно ты убежденно излагал мне обстоятельства, в силу которых…
— Да, да. Он не мог быть похищенным тогда.
Мазин подчеркнул — тогда.
— Что же изменилось? «Спрут» объявился?
— Надеюсь, не «Спрут». Но искать нужно.
— Этого неуправляемого мальчишку? Где? В морге?
— Нет. Он жив, я думаю.
— Я тоже. Мы, кажется, его уже немножко знаем. Будь уверен, возникнет он перед твоими светлыми очами без всесоюзного розыска.
— Ждать предлагаешь?
— Утро вечера мудренее.
Мазин подумал.
— Возможно, ты и прав. Хотя и упрощаешь.
— Надеюсь, ты у меня заночуешь. Поздно уже.
— Пожалуй. Но почему она отрицала звонок?
— А если его и не было? Ты так уверен в технике? И в сотрудниках?
Мазин покачал головой.
— Знаешь, лет десять назад я бы тебя и слушать не стал, но теперь все может быть. Разболтались мы, и техника и люди. Но где же мальчишка?
— Да у него одних одноклассников тридцать пять человек, не меньше.
— Да… Пожалуй.
— И она могла соврать.
— Назло?
— Вполне возможно. Он спит себе спокойненько, а ты звонишь. Она уже приободрилась: сын дома, хулиган заткнулся, почему бы и не подпустить тебе ежа?
— Считаешь ее настолько обозленной?
— Прости меня, Игорь, ты забываешь, что люди с вами не от хорошей жизни в контакт вступают.
— Да уж…
Наверно, мой аргумент убедил его в чем-то, потому что, пока я приспособлял тахту, искал подушки, наволочки и простыни, Мазин не проронил ни слова.
Мы улеглись напротив друг друга, и сначала оба ворочались, устраиваясь на сон, но потом почти одновременно вытянулись на своих «полежечных местах» и оба вздохнули. Этот вздох совпал как нарочно, и мы не могли не посмеяться, тихо, конечно, без шуток и подначек, но достаточно выразительно.
— Не спится, няня? — спросил я.
— Здесь так душно, — ответил он в тон.
Душно было в самом деле. Куда-то девалась вечерняя прохлада, видно, снова дождь собирался, а то и похлеще что-нибудь. После такой упорной жары всего ожидать можно было.
— Ночью и днем только о нем?
Однако цитировать и прятать за цитатами подлинное настроение было трудно. Но в то же время опять о Михалевых?.. Пожалуй, не стоило.
И все-таки я уточнил:
— Семейство спать не дает?
— Знаешь, как ни странно — нет. Я сегодня шел мимо магазина… Ну, того самого, из тех, что с некоторых пор стыдиться положено. Очередь, понятно, петлей, хотя никто не понимает, что петля эта на собственной шее, а они ее дружно затягивают. Понятно, у входа самые энергичные соискатели, что при любой погоде лезут в петлю раньше всех. Мужичонка такой, типичный, явно выстоял уже первую бутылку и за новой рвется. Его не пускают, кто прямо толкает, кто к совести обращается. А тот — у него уже и штаны зависли, алкоголизм всего сожрал — хнычет: «Надо мне, братцы, помогите!» Кто-то ему: «Всем надо!» А он вдруг: «У меня мать умерла!..» Самому за пятьдесят с гаком, но мать есть мать. Однако завопил слишком театрально, руки вскинул, штаны совсем повисли, уже не на животе, а на тазовых костях. И тут кто-то из самой очереди, так презрительно: «Допился, сволочь, мать уже за бутылку продать готов!»
Я думал, что Игорь просто впечатлением делится, ведь все-таки бессонницу убивать нужно, но Мазин продолжал, о своем размышляя.
— Сказал и грань определил, где человек себя теряет. А теряющих сейчас немало. И не обязательно алкаши. Вдруг сдвинулось по фазе или вовсе не по фазе и побежало мнимое, что посильнее истинного, и уже нельзя отличить…
Мазин помолчал. Потом добавил:
— Раньше все на женщин валили. Пигасов у Тургенева по поводу любой беды спрашивал: как ее зовут? Шерше ля фам! А теперь я бы сказал, ищите рубль. Он стал и бутылки и женщины опаснее. Особенно когда символом, панацеей представляется. Это от примитивности, конечно, но ведь коварны они, эти деньги. Мефистофель. Все обещают. И никогда не предупреждают, чем обещанное обернется.
— Мефистофель предупреждал.
— Да, черти честнее.
— Но ты это к чему?
— Ищу, что может пересилить не только совесть, но главный инстинкт человеческий, чувство самосохранения.
— Игорь! Я хоть и глуповатый друг, но не совсем уж… Неужели ты думаешь, что его всерьез похитили? Зачем? Выкуп потребуют?
— И такого не исключаю.
— Ну, знаешь! Да откуда она деньги возьмет?
— О деньгах в письме было, между прочим.
— Ты же сам сомневался.
— Я и сейчас сомневаюсь.
— А я считаю, абсурд. Настаиваю — не Сицилия. Но предположим, предположим — поверил, хотя и абсурдно, даже потому, что абсурдно. Да, имел наверняка Михалев свои левые рубли, возил, судя по всему, незаконную продукцию. Однако сколько? И проживал сколько? Что с его вдовы сейчас возьмешь?
— Узнаем, — ответил Мазин, но тоном неубежденным. — Посмотрим, что утро покажет или подскажет. Спокойной ночи! Не будем изображать знаменитых сыщиков, мыслящих в ночной тишине.
— Вряд ли я теперь засну.
— Постарайся.
— А ты?
— Я тоже.
И Мазин повернулся на бок в сторону от меня. Не знаю, спал ли он, сам я не помню, когда заснул.
Проснулся я, едва за окном посветлело. Не от волнения, просто я старый «жаворонок», если только уместно такое неудобоваримое словосочетание. Жаворонок ведь с задорностью больше, с молодостью в воображении связан. Другое дело — старая сова! Той и бог велел вроде бы изначально пожилой родиться. Так мы себя убедили, и точка, хотя и совы бывают молодые, жаворонки доживают, наверно, иногда до преклонных лет. Вот и я из таких преклонных, но просыпаюсь рано.
Мазин еще спал. Я поднялся по возможности бесшумно и подошел к окну. Меня привлекает вид утренних улиц, передохнувших в ночной прохладе и готовых наполниться шумом и движением. На нашей грузовой транспорт, к счастью, перекрыт, а начальники и частники, что ездят в легковых, появляются попозже. Поэтому утренняя пауза длится дольше. Внизу я увидел привычные картины. Дворничиху, гонявшую пыль по асфальту с фатальным безразличием; вот сделает, скажем, тысячу двести взмахов метлой, и улица считается чистой. Бегунов в скверике напротив. Эти отнюдь не фаталисты, напротив — энтузиасты, уверены, что каждый преодоленный метр продляет им быстротекущую жизнь, но результат, по-моему, тот же, что и у дворничихи. Впрочем, я знаю, по этим вопросам лучше не спорить. Поэтому я только смотрю и радуюсь за тех и других…
Обычно скамейки в скверике в это время пусты. Раньше, бывало, залеживался с вечера какой-нибудь подгулявший человек, теперь строгости, так что скамейки пусты. Но нет, сегодня исключение. Вон на одной приткнулась фигурка малого ростом человечка. Я невольно вгляделся, но глаза уж не те, чтобы рассмотреть подробно. Однако взгляд мой оказался телепатическим. Даже настолько, что мне не по себе стало. Едва начал рассматривать, как человек, будто под невидимым воздействием, встал со скамейки и двинулся в сторону моего дома. Причем по кратчайшему пути переходя улицу, так что если бы провести мысленно прямую от окна до скамейки, она бы точно соответствовала этому спрямленному маршруту.
«Что за черт! Он идет будто бы прямо ко мне, как кролик к удаву», — успел я еще подумать и тут узнал его. Это был вовсе не низкорослый мужчина, это был подросток — Толя Михалев.
Потом он сказал, что ждал, когда же можно прийти, и смотрел в окно, и, вполне естественно, увидел, как сдвинулась гардина и в открытом окне появился человек, то есть я. Увидел и пошел, так что телепатия оказалась совсем ни при чем.
Но мне уже не до телепатии было.
— Толя! — крикнул я, нарушая покой, полуспящей улицы. — Ты ко мне? Иди скорее!
Он махнул рукой в знак подтверждения.
— Поднимайся!
Это, конечно, было излишнее приглашение. Ясно, куда шел мальчик. Он больше не смотрел вверх, а огибал дом, чтобы со двора войти в подъезд. Дом наш вполне современный, и подъезды в нем на улицу не выходят.
Я повернулся, чтобы идти в прихожую открывать, и едва не наткнулся на Мазина. Не знаю, крик ли мой его разбудил или само передвижение по комнате, но он стоял у меня за спиной и тоже смотрел на мальчика.
— Все-таки не Сицилия, — сказал я не без гордости.
Мазин, не отвечая, принялся натягивать брюки.
— Решил встретить гостя по всей форме?
Когда я отпер дверь, Толя Михалев уже выходил из лифта. Он прошел мимо меня молча, прямо в мою комнату и остановился, увидев Мазина.
— Это мой друг, его зовут Игорь Николаевич, а это…
— Толя, — сказал Мазин.
— Да. Здравствуйте.
В сущности, прошло совсем немного времени с той минуты, когда он ушел, непослушный и задиристый, но сейчас это был другой подросток. И не потому, что рубаха на нем была разорвана, а на щеке отпечатались следы чьей-то крепкой руки. Другое, поразило меня. Ту дерзость, что так настойчиво в нем играла, как ветром сдуло. Я вдруг рассмотрел его глаза, они были глубокие и очень голубые, как раньше говорили — девичьи. Вчера, когда он дерзил, это было совсем не заметно.
— Вы из милиции? — обратился он к Мазину.
— Да.
— Тем лучше.
— Ты хотел меня видеть?
— Мне все равно, кого. Я хочу сообщить — я убил Черновола.
Все мы немного помолчали. Потом я сказал:
— С тобой не соскучишься.
— Я говорю правду.
Мазин предложил:
— Давайте присядем. Разговор, судя по всему, только начинается.
— Много говорить не о чем. Время зря терять? — возразил Толя.
— Присядьте, плотник отвечал. Поспеем как-нибудь, — улыбнулся Мазин.
— Мне не до шуток.
— Нам тоже.
— Толя, ты ел что-нибудь с тех пор, как ушел? — спросил я.
— Опять вы со своей едой?
Сказано было, однако, без протеста. Звучало: какая мне сейчас еда!
— Понятно, — заметил Мазин. — Сделаем так: скажи главное, что хотел сказать, а потом поешь, подкрепишься, и еще немножко поговорим.
— Здесь?
— А ты хочешь там?
— Все равно ж придется.
— Возможно. Ну а пока… Значит, ты убил Черновола? Когда? Сегодня ночью?
— Как это ночью? Он же утонул?
Странно, но мне послышался в его словах вопрос, а не утверждение.
— В самом деле. А что ты делал сегодня ночью?
— Меня… ну как бы сказать… По-дурацки получилось. Меня умыкнули.
Он с трудом выговорил это слово, то ли с непривычки, то ли сомневаясь в его достоверности.
— Похитили, что ли?
— У нас разве похищают?
— Верно, не Сицилия. — Мазин бросил взгляд на меня.
Я не знал, как откликнуться, и смолчал.
— Меня схватили и увезли.
— Ты, я вижу, сопротивлялся. Или даже удрать удалось?
Мальчик приподнял руку к щеке. Вокруг синяка пробился румянец.
— Нет! Их двое было, они сильнее меня, взрослые мужики. Втолкнули в машину, завязали глаза, руки связали.
Анатолий замолчал; было видно, как остро переживает он унижение.
— И куда же они тебя повезли?
— Не знаю. Никуда.
— Как это понять?
— Просто за город.
— А там?
— Мы не выходили из машины. Остановились. Ну… ну, и они заставили меня признаться, что я убил.
— А на самом деле?
Я еще ожидал возмущенного «Что вы!». Но паренек сказал тихо:
— Да.
— Значит, они вынудили тебя признать правду?
— Да.
— Они… били тебя?
Он сглотнул комок, подступивший к горлу.
— Один раз. По лицу. Но вы не думайте. Я не испугался. Я хотел это сделать сам. По-настоящему, они не заставили меня.
Я понимал, как трудно признаться ему в слабости.
И Мазин кивнул понимающе.
— Верю. И ты сознался? Как? На словах или тебя заставили что-нибудь подписать?
— Нет. Они заставили наговорить на магнитофон. Они даже не развязывали мне глаза.
— Не помнишь, что ты говорил?
— Они продиктовали. Я — Михалев Анатолий, признаю и подтверждаю, что двадцать шестого июня собственными руками столкнул в воду с целью утопить Черновола…
— Так оно и было?
— Да, так. Почти так.
— Почему почти?
— Я не знал, что он утонет. Он-то здоровый был. Я… Ну это ж все не имеет значения, раз он утонул. И я не жалею об этом, — добавил мальчик с вызовом.
Мазин покачал головой.
— Так не нужно.
— Чтобы суд не обозлять? — с ироническим пониманием поинтересовался Толя.
— До суда пока далеко. Чтобы себя не терять. Убийством человек гордиться не должен.
— А по-вашему, нет людей, которых убивать нужно?
— Самосудом? Нет!
— А какая разница, если гад?
— Ну, это ты широко взял, Давай-ка с узкой частью закончим. Значит, ты наговорил на магнитофон свое признание, да еще с излишком. И с завязанными глазами? А потом?
— Отвезли в город, развязали руки и вытолкнули из машины.
— Глаза не развязали?
— Глаза я сам развязал. Сорвал повязку.
— Номер машины, марку не заметил?
— Не успел.
— Ясно. Они не ждали, пока рассмотришь. Ну а теперь главное: зачем все это с тобой проделали?
— Разве не понятно?
— Мне не совсем.
— Чтобы отомстить за Черновола. Они сами сказали.
— Неуловимые мстители?
— Дружки его.
— Понятно, — снова сказал Мазин. — Дружба — дело святое. Кровь за кровь. — И, переходя на серьезный тон, добавил: — Последний вопрос, Толя: ты кого-нибудь подозреваешь?
Мальчик замялся, наклонил голову.
— Вижу, нужно подумать. Вернемся назад. Итак, ты толкнул его, он упал и… не выплыл. Но ты не думал, что он утонет.
— Я вообще ничего не думал. Я бросился, когда он мать ударил.
Сказано было именно «мать», а не «мама».
— Спасибо. Теперь иди подкрепись, потом продолжим.
На этот раз мальчик от еды не отказался. Видно, высказавшись, он сбросил немного нервное напряжение и почувствовал голод, даже большой голод. Жена это сразу заметила — она встала тем временем и слышала почти все, — и принялась кормить Анатолия как следует, начиная с борща, несмотря на ранний час.
Мы с Мазиным на кухню не выходили, понимая, что своим присутствием аппетита ему не прибавим. Сидели в кабинете и ждали.
— Приготовь, пожалуйста, бумагу и ручку, — попросил Мазин.
«Что это он, протокол вести хочет?» — подумал я с недоумением, но просьбу исполнил, положил необходимое на стол, попробовал ручку на клочке бумаги, писала мягко.
Только после этого я сказал:
— Признаться, я в ошеломлении.
— Ну что ты! Все отлично. Нет, на «четыре с плюсом», — поправился он. — Все-таки не Сицилия, а Корсика, как видишь. Вендетта, а не выкуп.
— Дичь. Вендетта руками правосудия?
— Ты тоже за самосуд? Зря. А вот насчет дичи, пожалуй, ты прав, похоже на утку. Но тем лучше.
Это и все, что он успел сказать, вернулся Толя. Мальчик умылся попутно, и щеку ему жена йодом смазала, а рубашку забрала, чтобы заштопать. Такой и появился он перед нами, острые плечи торчали из голубой майки.
«Ну, куда ему в колонию!» — подумал я со страхом.
— Подкрепился? Как самочувствие? — спросил Мазин.
Меня немножко коробил его бодрый тон.
— Нормально.
— Вот и хорошо, садись к столу, бери ручку.
— Зачем?
— Признание напишешь. Магнитофона у нас нет.
— Без бюрократизма нельзя?
— Нельзя, — коротко ответил Мазин.
— Да я не знаю, как писать.
— По ночному образцу. Готов? Я помогу.
Мальчик сел за стол, ссутулился над бумагой. Черные, полуоблезшие плечики вызывали острую жалость.
— Пиши. «В прокуратуру»…
— Какую?
— Не знаешь?
— Нет.
— Тогда пиши просто — «в прокуратуру». Написал?
— Да.
— Теперь текст. Я, Михалев… имя, отчество, год рождения, ученик… какого класса?
— В девятый перешел.
— Пиши — восьмого. Дальше: добровольно и чистосердечно сознаюсь, что такого-то числа, года, месяца… видя, как Черновол бьет мою мать… Напиши, где это было… И главное: бросился на него и столкнул с пристани в воду. С целью утопить — не надо.
Мальчик писал, а мы ждали.
— Плечо подними, не сутулься, — сказал Мазин.
Толя выпрямился.
— Готово? Подпиши и поставь число. Вчерашнее.
Мальчик повернулся резко.
— Как вчерашнее? Это же неправда?
— Разве ты мне соврал?
— Я? Вам?
— Ты. Ведь ты говорил, что по-настоящему тебя не принудили, что еще до похищения, то есть вчера, ты собирался сам все честно рассказать?
— Да… Но…
— Ты сказал неправду?
— Правду. Я ведь не знал, что он утонул, а когда узнал, что она вину взяла на себя… Как же я мог скрываться?
— Вот-вот. Значит, никакого вранья нет. Просто тебе не пришло в голову, что нужно признание зафиксировать на бумаге. О бюрократических формальностях ты не подумал, верно?
— Писать я не думал.
— А мы поправили дело. Вот и все. Подписывай.
Толя положил ручку на стол.
— Я не хочу так. Вы меня жалеете.
— Немножко есть, — согласился Мазин. — Ну и что? Это когда я учился в школе, нам вдалбливали, что жалость унижает человека. С тех пор много воды утекло, некоторые вещи иначе смотрятся. Так что униженным себя не считай. И будь уверен, на обман закона я не пойду. Я только хочу, чтобы были наказаны те, кто действительно виноват.
— Но его-то я столкнул.
— Опять гордишься?
Мальчик вскочил.
— Он заслужил. Он семью нашу разбил. Он, может, быть, даже убил папу! А если не убил, все равно убил, понимаете?
— Понимаю, Толя.
— И я рад, что он умер. Вы бы его за что судили? За какие-то тряпки, обрезки! Подумаешь? Да он и не воровал, он же из сэкономленного. Вам еще адвокаты скажут, что он полезный человек, который не нашел себя, не реализовал своих возможностей. Он бы легким испугом отделался. А мы не обрезки, не хэбэ какие-то. Мы люди, и он нас… И правильно я сделал. Это повезло всем, что такая сволочь сдохла!
Мазин смотрел непроницаемо, не споря и не поддакивая мальчику. Выслушал и повторил, будто и не слышал всех горячих слов:
— Подпиши, Толя.
— Нет, не хочу. Все ловчат, а я не хочу.
— Ловчат не все. Поверь, ты не себя выручаешь, а помогаешь следствию. Пока это запомни, потом поймешь. И точка.
Мазин голоса не повысил. Но Толя послушался наконец, присел и быстро поставил фамилию.
— Дату, пожалуйста… Вот и хорошо.
— Куда мне теперь?
— Не спеши. Еще одна бумага нужна.
— Зачем? Кому?
— Мне. Но теперь ты без подсказок, сам, собрав свою память, опишешь, что с тобой произошло сегодня ночью. Детально! Мелочей тут быть не может. Повторяю — детально. Не спеши, перечеркивай, если ошибешься, но пиши только правду. Кстати, ты мог бы узнать их по голосам?
Снова Анатолий заколебался.
— Вижу, что мог бы, верно?
— Да, одного.
— Почему одного?
— Говорил один.
— Вот как! Любопытно. И говорившего ты бы узнал?
— Да. Голос узнал бы.
— А в лицо?
— Я же не видел…
— Ты его знаешь, Толя, — сказал Мазин буднично.
Анатолий вскинул глаза, встретился взглядом с Мазиным и подтвердил глухо:
— Знаю.
— Сразу узнал?
— Нет. Я не видел его в лицо. Я потом вспомнил, а сначала не мог понять, хотя голос знакомый показался. Я потом, уже утром, тут, на скамейке, вспомнил…
— …что это голос Лукьянова, — закончил за мальчика Мазин.
Думаю, что именно в этот момент Толя убедился окончательно, что Мазин действительно «человек из милиции». Но сам я был поражен, может быть, и больше, чем мальчик.
— Вы… знаете?
— Я-то знаю. А вот он откуда узнал, что Черновола ты столкнул, а не мать?
Анатолий невольно дернул себя за вихор на затылке.
— В самом деле! Откуда? Я и не подумал.
— Ты кому-нибудь рассказывал?
— Никому!
— А как это вообще произошло? Как ты на пристани оказался?
Теперь, когда Мазин завоевал доверие паренька, вопрос прозвучал почти мимоходом и не вызвал никакого противодействия.
Мальчик только снова опустил голову, его голубые глаза исчезли, остался один ломающийся прерывистый голос.
— Ну, я думал, она за него замуж собралась. Но вы же понимаете? Отец только умер. Он его довел… Как она могла с ним встречаться! Я знал, что они встречаются, хотя они прятались от меня. Короче, я пошел туда… Я знал. Вы скажете, следил, не имел права, они взрослые люди… Ну и пусть, это же был мой отец! Я приехал туда. Уже темно было. Я подошел к пристали. Я не знал, что буду делать. Я тоже понимаю, что они взрослые и им плевать на меня. Я не знал, что сделаю. Они тихо говорили, я не слышал. Вдруг он как крикнет: «Ну, этот номер не пройдет!» И еще он обозвал ее. Я не буду говорить, как.
— Не нужно.
— И ударил. Зло, с размаху. И я тогда сам не свой стал. Я кинулся. Он не ожидал, поэтому и упал. Я даже не помню, как я его столкнул. У меня ничего не было, ни ножа, ни камня, иначе я бы убил его. А так просто налетел и столкнул. И тут на нее посмотрел, а она на меня. И я убежал. Я не испугался, я уверен был, что он выплывет. Мне за нее стыдно было. И я убежал.
Я не мог не верить мальчику и видел, что Мазин тоже согласно кивает головой. Лишь в одном месте переспросил:
— Уверен?
— Да, а что? Он же здоровый был. Он даже…
— Что?
— Ну, голова над водой появилась. Правда, там течение. Его несло, конечно. А что, я его спасать должен был?
Мазин не ответил.
— Мне не до него было. Мне противно было, и я убежал.
— Убежал домой?
— Чтобы взять вещи. Я не мог оставаться дома. С ней…
— Понятно. И рассказать об этом не мог.
— Кому? Зачем это дяде Грише?
— И тем не менее Лукьянов узнал.
— Значит, она.
Мальчик ни разу не сказал «мама».
— Да, выходит, так — больше некому, — согласился Мазин.
— Этот Лукьянов приходил наверняка, он же знал, что они встречались. И она проговорилась.
Я вмешался.
— Она вынуждена была объяснить, что фактически произошел несчастный случай.
Наконец-то все стало на места и объяснилось поведение Ирины. Разве могла она сказать следователю про сына! Ларчик-то просто открылся. Понятно стало, что двигало матерью, от кого исходили гнусные звонки, кто охотился за Толей. А кстати, кто? Где-то в памяти сидела у меня подобная фамилия…
— Игорь, а кто этот Лукьянов?
Ответил Анатолий:
— Деверь или шурин. Я не знаю, как правильно называется муж сестры.
— Бывший муж сестры Черновола, — добавил Мазин.
Нет, это родство мне ничего не говорило.
— Они разошлись?
— Разведены.
— Однако друзьями остались.
— Как видишь. Такая дружба, что Лукьянов решил Анатолия за решетку упрятать.
— Скорее всего, мстить он хотел твоей маме, Толя! Я сказал это и почувствовал, что хочу прервать тягостный разговор, отпустить Анатолия домой и посоветоваться с Мазиным. Что реально грозит подростку? Как помочь ему? Нужен ли хороший адвокат?
Пока я размышлял, Мазин спрашивал:
— Повтори, пожалуйста, фразу, которую крикнул Черновол.
— «Этот номер не пройдет!»
— Да, так ты сказал и прошлый раз. Что бы это могло означать, как думаешь?
Мальчик молчал.
— Не знаешь? Или не решаешься высказать свои соображения?
— Не хочу, — признался Анатолий.
— Это очень важно.
— Ну, стыдно это… Наверно, она хотела, чтобы он женился на ней.
Мазин кивнул сдержанно.
— Может быть, и так. Ладно, пиши. А мы пока с Николаем Сергеевичем тоже позавтракаем. Не возражаешь? Вот и хорошо. Пиши, пиши и не стесняйся пачкать бумагу. Где будешь не уверен, ставь на полях вопросительный знак. Бумага неофициальная. Рабочий документ. Разберемся. Договорились?
И мы вышли на кухню, откуда вкусно тянуло только что сваренным кофе.
— Ну что скажешь, товарищ сыщик? Пригодился старик? — спросил не без гордости.
— Пригодился.
В тоне Мазина мне почудился упрек в нескромности.
— Я шучу, Игорь. Не столь уж я важного мнения о собственной особе и ее роли в разгадке тайны. Тайна-то, между прочим, выглядела слишком таинственно. А ларчик просто открывался, как видишь.
— Вижу пока не все, — возразил Мазин, кладя на хлеб кружок колбасы.
— С профессиональной точки зрения? А я относительно.
— Относительно чего?
— Ну, если хочешь, человеческой драмы. Или, что нередко в жизни бывает, — трагикомедии. Ночь на пристани, зловещие звонки, доморощенные сицилийцы с кляпом — ведь это почти комедия на фоне подлинной трагедии бедных Михалевых.
— Комедия? — переспросил Мазин. — Чудесный кофе! — повернулся он к жене.
— На здоровье. Пейте.
— Да, комедия. Ну, правда, роковая ночь на пристани все-таки жизнь унесла, пусть и мерзавца, однако тут от мелодрамы больше, чем от трагедии.
— А что такое мелодрама?
— Ты всерьез?
— Вполне.
— Могу зачитать по словарю, — предложил я в шутку.
— Зачитай! — попросил он без улыбки.
В некотором недоумении я нашел на полке толстый том и процитировал:
— «Драматическое произведение, герои которого, отличаясь необыкновенной судьбой и преувеличенными чувствами, попадают в неправдоподобные положения…» Проэрудировался?
— Угу, — буркнул Мазин, глотая кофе. — Спасибо. Попадают в неправдоподобные положения? Отлично.
— Рад, что был полезен, — поклонился я, захлопывая энциклопедию. — Но ближе к делу. Что ты можешь сделать для мальчика?
— Именно я?
— Ты, ты! Ты же сочувствуешь ему.
— С чего ты взял?
— Коля, не увлекайся. Так можно далеко зайти.. Например, вообще порвать признание, а мальчишку запереть в твоем кабинете, пока не кончится следствие… и не будет осуждена его мать.
— Позволь! Она-то совсем не виновата!
— Вот суд все и установит. А я, между прочим, завзятый формалист, когда дело касается буквы закона, о чем тебе хорошо известно.
Спорить я не стал.
Толя писал долго. Я успел спуститься и взять из почтового ящика утренние газеты, и мы просмотрели их.
— Вот пишут — всего сорок семь процентов американцев верят в теорию эволюции Дарвина. А ты веришь? — спросил Мазин в своей манере, уходя от моей назойливости.
— Приходится, хотя и не особенно приятно представлять, что, переходя от предка к предку в глубь веков, постепенно обрастешь шерстью и станешь на четвереньки, — ответил я в тон.
— Почему-то всех смущает именно эта фраза. А ты пойди дальше и представь, как в глубине всемирного океана возникла невидимая глазом единственная клетка. Вот где подлинное чудо, ведь она твоя истинная прабабушка, а не макака из зоопарка! Представь, как эта волшебная клетка многие миллиарды лет порождала все более и более сложные создания, пока не дошла до венца творения — Николая Сергеевича Крылова, хотя некоторые его современники, между прочим, до сих пор остаются, увы, макаками, злыми и алчными. А впрочем, зачем мы зверей обижаем? Вот эталоном пьянства стал удав. Сначала говорили, пьет, как лошадь, но, видно, совесть пробудилась, реабилитировали благородное животное, зато безответного удава травим. Узнал бы он, трезвенник, какую мы на него напраслину возвели!
Мазин посмеивался, оба мы, конечно, не столько об американцах, обезьянах и удаве думали, сколько об устрицах, сургуче и капусте.
Наконец Толя вышел из комнаты и протянул Мазину исписанные листки.
— Вот.
Листки действительно пестрели помарками, но писал мальчик крупно и разборчиво, ученическим почерком. Мазин углубился в бумагу.
— Может, набело переписать? — предложил Толя.
Игорь повел головой отрицательно.
— А чем они тебе глаза завязывали?
— Сначала сзади шапку вязаную натянули, а потом, уже в машине, еще каким-то шарфом вонючим перевязали.
— Чем пахло от шарфа?
— Бензином.
— Запах отнюдь не уникальный. Тем более что ты, конечно, шапку и шарф выбросил?
— Да, гадость такая…
— Понимаю, но зря. Хорошо, Толя. Последний вопрос. Он тебе тяжеловатым покажется, наверняка даже тяжелым, но прошу, нужно ответить искренне. Раз уж сказал «а», продолжай по алфавиту. Честно. Обещаешь?
— Врать не буду.
— Я тебе верю.
Мазин взял свой чемоданчик-«дипломат». Оттуда он достал крупный снимок, видно было, что это увеличенное фото с документа, скорее всего удостоверения, по нижнему правому. углу протянулась дуга круглой печати. Снят был человек лет тридцати пяти, ничем особенно не выделявшийся, с тонкой полоской аккуратно подстриженных усов, которые, как мне показалось, не очень шли к его простоватому лицу.
— Кто это, Толя?
Мальчик сжался.
Мазин ждал.
— Вы же знаете, — наконец выговорил Анатолий.
— Я догадываюсь. А по документам это Коваленко Виктор Тарасович.
— Нет, не Коваленко.
— Узнал? Не ошибаешься?
— Усы только…
— Усы примета не вечная. Значит, он?
— Да, это папа…
— Спасибо.
Мазин положил фотоснимок на место, а из чемоданчика вынул бумаги, те самые.
— Возьми. Ты за ними вчера пришел к Николаю Сергеевичу? Извини его. Конечно, без твоего согласия брать не следовало, но бумаги пользу принесли.
— Какая польза! — махнул рукой Анатолий.
Мазин молча потянулся, взъерошил волосы на голове у мальчика. Тот не отстранился, только напрягся, вздрогнул плечами.
— Я с вами поеду?
— Я поеду, а ты иди домой.
— Вещи собирать?
— Вещи вещами, и с матерью повидаться не мешает.
— Нет. Я не хочу ее видеть.
— Это жестокость, Толя.
— Пусть.
— Она твою вину взяла на себя. А чего ей нынешняя ночь стоила?
— Я не хочу ее видеть. Я видел их вместе. Она предала отца. Я все помню. Одни разговоры, что у нас нет денег, что мы хуже других живем… Я все помню. Я не пойду домой.
— Ну, что ж…
— Верите меня с собой.
— У меня нет ордера на арест, — улыбнулся Мазин.
Анатолий воспринял его слова всерьез.
— Я же сам пойду. Куда идти?
— В комнату к Николаю Сергеевичу.
— Зачем?
— Мы посекретничаем немного.
Он послушно повернулся и вышел. Мы переглянулись. Я, понятно, смотрел вопросительно, а Мазин немного уклончиво. Видно было, что удовлетворить мое любопытство полностью он не может. Но был вопрос, который я не мог не задать.
— Что за Коваленко, Игорь?
— Михалев, а не Коваленко.
— Вот именно..
— Вернее, тем более.
Нелепая присказка разрядила обстановку.
— Все это служебные секреты? — спросил я, давая ему возможность уйти от ответа.
— Конечно, все это не для разглашения. Но раз уж ты настаиваешь…
— Я не настаиваю, Игорь.
— Тогда скажу минимум. Михалев возил левый товар на машине местной автобазы. С фальшивыми водительскими документами. Но остановили его не по подозрению. Да и машина была уже пустая. Короче, он мог выкрутиться. Подвели нервы. Видно, дошел до точки. И помчался… по черной стреле, оставив бумаги в ГАИ.
— И убил человека?
— Нет. Это показалось ему в горячке. Сбил только, легкие ранения. Короче, сначала бежал на машине, а потом машину бросил и ушел. Вернулся домой поездом.
— Но машина?..
— Машину в автохозяйстве объявили угнанной. Вот в чем трюк. И никакой Коваленко у них по документам никогда не работал. Так, во всяком случае, утверждает руководитель этого передового предприятия товарищ Лукьянов. Ну, хватит с тебя?
Мазин сказал не все. Но он был прав, на тот момент мне информации хватило с избытком. Я даже уточнять ничего не стал. Спросил только то, что лично меня тревожило.
— Как же с мальчиком?
— Хочу тебя попросить, пусть он побудет здесь. Хотя бы до завтра. Это очень важно. Важно, чтобы о его добровольном признании знали пока только мы с тобой.
— Так считаешь? Разве не все выяснилось?
— Ты сам говорил — не Сицилия. У нас иначе. С одной стороны, проще, а с другой…
— Например?
— Да вот тебе и пример, прямо на поверхности. Зачем парню так тщательно завязывали глаза?
— Как зачем?
— Ну зачем? Зачем завязывают глаза в таких случаях? Чтобы похищенный не видел похитителей, так?
— Конечно.
— Но он знал одного из них и легко и уверенно опознал по голосу. Чего ж тому было прятаться?
— По голосу доказательство сомнительное.
— Для меня в данном случае достаточное. Кроме того, могли завязать, чтобы мальчик не узнал, куда его привезли, где прячут. Но его нигде не прятали. Просто выехали за город, съехали на обочину и потолковали, а потом назад. Что же было скрывать?
— Игорь! А момент психологический? Они же давили на него, добивались зафиксированного на пленку признания. С завязанными глазами страшнее, легче добиться своего. Глупая игра, факт, но ведь действует, разве не так? Да, наконец, им, может быть, просто стыдно было знакомому мальчишке в глаза смотреть! Именно потому, что не Сицилия, а русские все-таки.
— Ну, в последнее, как говорится, верится с трудом. Совестливые похищением детей не занимаются.
— Да это и не похищение вовсе. Ты же статью цитировал! Похищение с корыстными целями. А здесь какая корысть? Ну пусть мстительность, озлобленность… Согласен, не украшают человека такие качества, но думали, что по-своему справедливость восстанавливают!
— Вот о чем они думали, мне еще предстоит подумать. Потому я тебя сейчас покидаю. А ты удержи мальчика. И второе. Сходи к матери, если можешь, предупреди, что он у тебя. Ведь мы не знаем, что они ей выдали. Они ее так запугать могли… И запугали, факт, раз она мне ничего не сказала. Справишься, великий дипломат?
— Уже и дипломат. Мало с меня адвоката?
— Льщу, льщу тебе, задабриваю, потому что нужен. Выручишь еще разок?
— Она спросит, что будет с мальчиком.
— С мальчиком будет поступлено по закону.
— Не очень утешительно.
— Напротив. Из-за того, что Ирина его от закона спасала, только вред, как видишь, получился.
С этим я не мог не согласиться. Я проводил Мазина и пошел в кабинет. Мальчик стоял обеспокоенный.
— Ваш друг уехал? Я слышал, как дверь хлопнула.
— Уехал.
— А я?
— Видишь ли, Толя, за то короткое время, что мы знакомы, многое изменилось. Мы теперь больше доверяем друг другу, правда?
Он кивнул.
— Тогда давай откровенно, в интересах дела. Ты сегодня поживешь у меня. А я схожу к матери, расскажу все как есть. Конечно, ей от твоего признания радости не прибудет, но все-таки лучше, чем звонки по ночам ждать.
— Какие еще звонки?
Я рассказал, что знал.
— Зачем они ей звонили?
— Наверно, требовали, чтобы ты сознался.
— А она не соглашалась?
— Как видишь.
— А звонки без слов?
— Психологическое давление, так я думаю.
— Зачем?
— Вот и поразмысли на досуге, зачем. Посиди, почитай, видишь, сколько книг на полках?
— Интересно, в колонии хорошая библиотека?
— Наверно, — сказал я предположительно. — А что тебя интересует?
— Астрономия.
«Говорят, чем ночь темней, тем ярче звезды, — подумал я. — Пронесет ли этот паренек свой свет через все испытания?»
— Погоди ты с колонией! Может быть, обойдется, В состоянии аффекта ты был.
— Я все равно скажу, что хотел его смерти.
— В таких случаях полагается говорить «дурак», — разразился я в сердцах.
— Умные в таких случаях врут?
— Что матери передать? — спросил я вместо ответа.
— Вы сами сказали.
— Хорошо. Не сбежишь?
— Куда теперь бежать?..
У Ирины глаза поблескивали сухо и отчаянно.
Это я заметил уже в доме, а вначале она снова изучила меня через отверстие в воротах.
— Опять вы?
— Да.
— Зачем?
— Ваш сын у меня.
— Он сбежал от них?!
Этой непроизвольно вырвавшейся фразой Ирина выдала себя, признала, что ночью звонили и сказали многое, но я не спешил осуждать.
— Сейчас расскажу.
Мы быстро пошли от ворот к дому, и когда она отворяла дверь, я и заметил этот лихорадочный блеск.
— Как ему удалось?
Я присел в знакомое кресло.
— Толю отпустили.
— Сами?
— Он признал то, чего они добивались.
Не понял, что промелькнуло у нее в лице, как-то дернулась щека.
— Неужели они посмели…
— Нет, нет, его не мучили, — про пощечину я говорить не стал, — его запугали, схватили среди ночи, завязали глаза, повезли за город. Вы же понимаете, он подросток.
— Да, да. Дальше что?
— Толя не трус. Он решил признаться, потому что не мог допустить, чтобы вы брали вину на себя.
— Пленка у них?
«Разве я упоминал о пленке?» Уточнять, однако, не стал.
— Пленка решающей роли не сыграет. Есть Толино заявление, датированное вчерашним числом.
Это, конечно, пришлось пояснить, чем я и занялся, но по мере объяснения чувствовал себя все более неуверенно — какое, в сущности, значение имеет цвет черта! Ведь произошло все-таки то, чего она всеми силами избежать хотела, сын открылся, он преступник, это главное, а я ей о тонкостях, связанных с чистосердечным признанием толкую.
Но, кажется, я ошибался.
— Это хорошо, — сказала она, когда разобралась.
Вполне логичные слова не понравились мне, старому глупцу. У меня иной образ этой женщины сложился, готовой собой пожертвовать, и вдруг почти радостное — хорошо! Что уж тут по большому счету хорошего! Но я вовремя одернул себя: утихомирься, карась-идеалист, участь мальчика смягчена намного, и это главное, а не твои сантименты, связанные с устаревшими представлениями о материнской любви.
— Это веский аргумент для суда.
— Теперь их пленка потеряла цену.
— Больше того, она работает против них. Похищение, принуждение! Они просто обезоружены.
И, позабыв совсем, что похитителям о добровольном признании ничего не известно, я увлекся.
— Да они и не посмеют сунуться со своей пленкой.
— Как вы сказали? Не сунутся?
Слова эти, сказанные вовсе не радостным голосом, несколько охладили мой порыв, и я вернулся к реальности.
— Я, конечно, только предполагаю.
— Плохо, если не сунутся.
— Почему плохо? — удивился я, но тут же подумал: она негодует на идиотский средневековый бандитизм, она хочет, чтобы насильники разоблачили себя. Однако мне показалось, что опять Ирина как-то не так отреагировала. Мне было трудно разобраться в мыслях этой женщины, хотя я и старался.
— Почему вы обманули Игоря Николаевича?
— Кого?
— Вы знаете. Он спрашивал вас о ночном звонке.
— А… Да, да, конечно.
— Почему же вы не сказали, что звонок был?
— Я боялась.
— Чего?
— Мальчик был в их руках.
— Они угрожали?
— А как же!
— Что они могли ему сделать?
— Да вы с луны свалились! Это же мой сын!
— Неужели вы подумали, что его могут убить?
— Я мать. Я могу все что угодно думать! Если бы вам так позвонили! Ночью, неизвестно кто…
«Разве неизвестно?»
— Вы не знали, кто звонит?
— Откуда?
— Толя узнал его даже с завязанными глазами.
— По телефону мог говорить не он.
«Вот опять! «Кто?» — не спросила. Сразу — «не он». Я больше не верил этой женщине. А ведь я старался понимать и сочувствовать ей. Конечно, мальчик считает, что она предала отца. Но тут юношеская непримиримость, инфантильный экстремизм, откуда в его возрасте разобраться в сложных отношениях взрослых? Да, Черновол представляется ему сейчас своего рода демоном-искусителем, скупщиком дум, а мать со своими жалобами на безденежье — пособником черта-текстильщика. Но мог ли мальчик осознать всю сложность отношений с Черноволом? Отец все больше терял в глазах матери, а искуситель приобретал. Однако измена ли это в прямом смысле слова? Сам муж пишет, что Ирина не знала о его занятиях. Иначе зачем наивные россказни о скачках? А не слишком ли наивные?.. Нет, не давай волю домыслам! Есть факты. Она взяла на себя вину. Сразу, без колебаний. Еще на пристани бросилась на дорогу и крикнула: «Я убила!» Вот факт, а остальное домыслы. И все-таки я уже не верил ей. А может, быть, просто не понимаю? И она может разъяснить». Но она не хотела. Сидела молча.
— Вы сказали про пленку. Вы уже знали?
— Откуда я могла знать? Зачем вы меня допрашиваете? Мало мне следователей?
«В самом деле!»
— Простите. Я не думал, что вам известно о пленке.
— Что значит — известно? Они говорят, я глотаю все, что им взбредет в голову. Откуда мне знать, где правда, а где выдумка?
И тут меня посетила «мазинская» мысль.
Конечно, Ирина не могла знать, правду ли говорят ей о пленке с записанным признанием. Но говорили правду, не на пушку брали, зачем же угрожать, а тем более расправой над мальчиком, который сделал все, что от него потребовали? Больше того, в двенадцать они уже вытолкнули Толю из машины и предупреждать — «не звони в милицию» — было бессмысленно, они же сами собирались доставить пленку в милицию? Нет, что-то не вяжется в ее словах.
Будто читая мои сомнения, Ирина сказала:
— Вам бы в моей шкуре побывать.
Слова эти произвели на меня тоже двойственное впечатление. Конечно, каждый может быть стратегом, видя бой со стороны. И я не имею права судить ее без снисхождения. Она — мать прежде всего. Но разве не сама она поставила мальчика под удар, проболтавшись этому Лукьянову?
— Если бы вы не рассказали Лукьянову про Анатолия, они бы не тронули мальчика, — не удержался я от упрека.
— Лукьянову? Это он вам сказал?
— Что вы! Как он мог мне сказать! Я что, в контакте с преступником, по-вашему?
— Вы его не знаете?
«Опять сдвиг… или притворяется?»
— О чем вы говорите?
— Это же брат Марины-Соковыжималки, а вы их друг!
Я потер виски пальцами.
«Нет, не сдвиг… Вот откуда эта проклятая фамилия, что не пробилась вовремя сквозь память. Ну да… Девичья-то фамилия Мариночки Лукьянова. А я уже к Купченко привык. Значит, это его я с чемоданом у лифта встретил? Ну и ну!»
— Я этому мерзавцу про Толю ни слова не говорила!
— Не говорили?
В голове стучало, и разобраться, где правда, где ложь, я был просто не в силах.
— Хорошо. Вам теперь об адвокате нужно подумать, — сказал я, сознательно меняя предмет разговора.
— Я думаю.
— Нужно убедительно показать психологию ребенка.
— И вывернуть наизнанку мое грязное белье?
— Зачем вы так? Правду говорить придется. Ведь когда вы вину на себя брали, вы уже раскрыли многое.
— Тогда я хоть пострадавшей была. А сейчас?
Не спрашивая на этот раз разрешения и мне не предлагая, Ирина пошла к своему шкафчику. Звякнуло горлышко о стопку. Потом глоток. Потом второй.
— Ничего, мы еще повоюем.
— С кем?
Она посмотрела на меня, не ответила, дождалась, пока чуть порозовели щеки, и спросила:
— А Толя, значит, не пришел?
Вопрос был в лоб. Для того она и выпила, чтобы решиться на него, но и для меня он был трудным.
— Видите ли…
Мне не хотелось бить наотмашь, я хотел смягчить, сказать, что мальчику целесообразнее побыть у меня, что так посоветовал Игорь Николаевич и еще что-нибудь в духе «святой лжи».
Но Ирина пресекла:
— Только не врите.
— Ну, знаете…
— Знаю, что в белье вы уже заглянули. С помощью сыночка. Он сам решил не приходить, сам, я знаю. Так?
— Да.
— Хм!
И снова шаги к шкафу.
— Значит, не отмолила…
— Что?
— Говорю, не отмолила тем, что на себя взяла, жестокий сынок. А отец был мягкий.
«А если он не в отца пошел?..»
— Как же он вас проинформировал?
«Проинформировал» он нас жестко — предала отца. Но этого я сказать просто не мог, я обязан был об их будущем думать, а их впереди трудное ожидало, раны не скоро заживут, кровоточить будут, и я не имел права на них соль посыпать.
— Вы сами говорили, мальчик любит отца.
— А я его со свету сжила?
— Так он не говорил.
— А что же он говорил?
В ее голосе появилась пьяная настойчивость.
— Толя считает Черновола человеком, погубившим вашу семью.
— Поэтому и убивать бросился?
Тут только я сообразил, что они с матерью с тех пор не виделись.
— Он бросился на Черновола, когда тот ударил вас.
Кажется, это прозвучало удачно.
— Толя вам так сказал?
— Да.
— Для суда это хорошо. За мать вступился. Тем более экспертиза побои подтверждает.
— А сами вы разве ему не верите?
— Почему не верю? Но не за меня он его убить хотел.
— Толя не думал убивать.
— Это он тоже написал?
— Да.
— И это умно. Я даже не ожидала, он ведь неуправляемый. Я боялась, что он на суде хвалиться будет.
Я не мог понять эту женщину. Раньше, когда взятая вина на ней лежала, Ирина к сыну относилась мягче, а теперь, когда сын попал в беду, она вопреки здравому смыслу говорила о нем отчужденно, холодно, почти враждебно. Но характер сына она представляла правильно!
— Он рад смерти Черновола, но в заявлении таких слов нет.
— Писать вы ему помогали?
Чужих заслуг я брать на себя не люблю.
— Нет, Игорь Николаевич.
— Хоть умного человека послушался, дуралей.
«Ну почему так? Неужели потому, что мальчик любовника с пристани сбросил? Да и ее столкнул своим признанием с крохотного пьедестальца гордости, самопожертвования?.. Ужасно, но, видимо, именно так. Мальчик не дал ей искупить вину».
От этой мысли мне не по себе стало. И снова Ирина поняла.
— Думаете, я собственного ребенка не люблю? Глупость какая! Да я всегда о нем только, чтобы он человеком стал.
— Он стал человеком, — сказал я убежденно.
— В вашем понимании.
— А в вашем?
— Мало стать человеком, нужно иметь возможность жить, как люди.
— Я вас не совсем понимаю.
— Понятно яснее ясного. Он о чем мечтает?
— По-моему, он любит физику, астрономию.
— Вот-вот. Он и мне уши Лапласом прожужжал. Когда французского короля вели на казнь, тот спросил, что слышно об экспедиции Лапласа, верно?
— Вы ошиблись. Людовик Шестнадцатый интересовался пропавшей экспедицией Лаперуза.
— Ну, пусть Лаперуз. Все равно физмат больше чем на полторы сотни в месяц не потянет. А за полторы сотни тебе никто не скажет, что звучишь гордо.
Что я мог ответить!
— Сейчас все его мечты под угрозой, а вы о зарплате.
Она будто опомнилась.
— Да, да. Дура я, конечно, дура. Но вы не думайте. Я для него все сделаю. Вы даже не представляете, что я для него сделаю. Он будет на своем физмате, и все эти компьютеры у него будут. Я найму адвоката. Адвокат докажет, что мальчик не хотел. Даже меня не посадили. Вы сами говорили, что меня могут совсем очистить, как несчастный случай… А мальчик за меня вступился. Какой хороший человек ваш Игорь Николаевич! А Толя не пропадет. Я все сделаю. Пусть он не беспокоится. Я его у черта с рогов сниму. Я эту сволочь, что мне грозили, в бараний рог… Плевала я на них, не на ту напали. Этот номер не пройдет.
Меня точно хлестнуло. Она повторила слова Черновола, которые слышал Анатолий.
— Какой номер?
— Что?
— Какой номер не пройдет?
— О чем это вы?
— Вы сказали, номер не пройдет.
— Ну и что? Не придирайтесь к словам. Так говорится, и все. К чему вы прицепились?
«В самом деле! Случайное совпадение…»
— Извините. Я верю, что вы все сделаете для Толи, да я уверен, к нему все с пониманием отнесутся.
— Я добьюсь.
— Не волнуйтесь и не обижайтесь на сына, вы еще поймете друг друга.
От матери я отправился к сыну.
«Челночная дипломатия» — вспомнился газетный термин, но вообще-то было не до шуток. Я опасался, что не найду мальчика на месте.
К счастью, тревога не оправдалась. Возможно, он уже чувствовал себя под арестом или дорожил данным словом, но Толя был на месте, сидел в моем кресле и читал «Мысли» Паскаля. Невольно я улыбнулся. Ситуация разительно отличалась от той нервозной атмосферы, что господствовала в доме у матери. Толя выглядел спокойно, хотя я, конечно, несколько преувеличивал.
— Как мысли?
— Мои или Паскаля?
— И те и другие.
— У Паскаля я не понимаю многое. Я не знал, что он был верующий. Ученый и верующий, разве это совместимо?
— Не он один…
— Я знаю. И про Павлова говорят, но я не понимаю, неужели они не видели? Еще древние греки считали, что мир создан плохими богами. Но то же заря человечества. Давно пора логично понять, что если мир плох, то какой же бог его мог создать?
— По-твоему, бог должен быть добрым?
— Нет! Это старухи-богомолки так думают, все выпрашивают у него чего-то…
— Так в чем же дело?
— Мир не плох. Только много нецелесообразного, случайного, а следовательно, он не мог быть сознательно создан.
— Ты, брат, философ.
— Безобразий много. Вот если бы мир Черновол создавал, я бы поверил… А в бога — нет. Очень несовершенная и ненадежная конструкция. Нет, Дарвин ближе к истине, это природа, а не бог.
— Знаешь, Толя, у Достоевского был такой персонаж, капитан Лебядкин, он говорил — игра природы, а не ума. Правда, это он о старой России…
— Как будто Америка лучше!
— Ну, кто это говорит!
— Да сколько угодно. У нас в классе, знаете, сколько на «штатском» помешаны! Даже девчонки на платьях «Ю. С. нэйви» вышивают. Знаете, что это?
— Знаю. Военный флот.
— Черновол тоже фирмовый ходил… Вы мать видели? — перешел он вдруг.
— Видел.
— Ну и что?
— Обижается, что ты не пришел.
Я думал, мальчик скажет что-нибудь резкое, но он промолчал.
— Рада, что ты от них вырвался.
— Чтобы в тюрьму загудеть?
— Подожди ты с тюрьмой! Расскажешь, как все дома было, как этот человек зло в семью принес, чем поплатиться пришлось, и поймут тебя. А на себя наговаривать не нужно. Уверен, если бы ты знал, что он утонет, ты бы сто раз подумал, прежде чем на него бросаться.
— Это вы точно, — отозвался мальчик с горечью, — мог и струсить.
— Да прекрати ты! Расправа человека не украшает.
— Ладно. Я думаю, вы правы. Суд не может не понять, что он по заслугам получил.
— А я, Толя, не могу понять, чего эти подлецы, что тебя захватили, добивались. Они же должны были соображать, что за такое похищение самим отвечать, придется.
— Они матери мстят.
— Мы говорили. Но почему? Они ж ее и не знают толком? Да и как они узнали, что именно ты столкнул, тоже вопрос. Мать говорит, она не рассказывала…
— Ей отказаться ничего не стоит.
— Лукьянов был у вас?
— Почему бы и нет?
— Сам ты его не видел.
— Я же в колхозе был.
— Да, верно.
Наверняка этот тип приходил после исчезновения Черновола. И мать проговорилась. В растерянности, конечно, стремясь себя обелить. Потом пожалела, хватилась, но поздно уже, те воспользовались оплошностью. Чтобы мстить?
Да, получалось почти логично, но не больше, все-таки не Сицилия, не горцы-кровники…
«Интересно, отдали они уже пленку в прокуратуру?»
— За что же такая месть?
— Он мне вслед крикнул. Иди, говорит, и все мамочке расскажи!
— Ты об этом Игорю Николаевичу не сказал.
— Разве это так важно?
— Видишь ли, Толя, у Игоря Николаевича свой подход, профессиональный. Я не всегда понимаю ход его мысли. А он, пока все не прояснится, держит мысли в голове. Но я знаю, что для него любая мелочь важна. Вернее, нам с тобой что-то мелочью кажется, а для него это важная деталь. Нужно ему эти слова передать. Заодно узнаем, как они пленкой распорядились.
— Узнайте!
Несмотря на весь стоицизм, мальчик, конечно, ждал развития событий отнюдь не равнодушно. Снова мне его жалко стало.
Искать Мазина, как всегда, оказалось делом нелегким. Я позвонил Сосновскому.
— Игоря мне найти не поможете, Юрий Борисович?
— В данный момент затрудняюсь.
— Донос на мальчика получили?
— Пока нет.
Я глянул на часы.
— Что-то тянут похитители. Полдня уже прошло.
— Я думаю, они нам вообще ничего не передадут.
— Вы так думаете?
— Игорь Николаевич тоже…
Со мной он таким предположением не делился.
— Толя у вас?
— Да.
— Здорово нервничает?
— Держится молодцом.
— Передайте, пусть так и держится.
— Обязательно, — ответил я.
Конечно, Сосновский сказал так не просто из желания поддержать мальчишку, наверно, они с Мазиным говорили о чем-то, чего по телефону, да еще лицу случайному, не скажешь. От надежды на лучшее мне стало легче.
— Привет тебе от следователя.
— Ого! Уже и следователь есть! Заработала машина?
— У меня впечатление, что еще мотор прогревают.
— Зачем им спешить! Куда я денусь…
Тут я себя по лбу ладонью хлопнул. Главного-то, ради чего звонил, не сказал. Отвлек меня Юрий своим оптимизмом, а я обрадовался и забыл.
Пришлось снова набирать номер.
— Юрий Борисович! Склероз! Я, собственно, хотел сказать, у мальчика сложилось впечатление, что похитители руководствовались явным озлоблением против матери.
— Игорь Николаевич из этого и исходит.
— Ах, так! Ну, простите еще раз.
«В самом деле! Разве мы не говорили об этом…»
Я еще стоял у телефона, когда раздался звонок в дверь. Было это неожиданно и в общем-то не вовремя. Между прочим, тоже одна из примет нынешней цивилизации: на дверные звонки люди стали реагировать нервно. Раньше было не так. Случалось, радовались неожиданному «вторжению». Теперь принято договариваться, оповещать заранее. Что-то полезное при нашей занятости в этом, конечно, есть. Но и потери налицо. С одной стороны, телефон позволяет визиты регулировать, целесообразнее организовывать время, с другой, вроде бы и не вперед ушли, а к тем временам, когда незваный гость считался хуже врага. Короче, гостеприимства поубавилось. Вот и я отправился в прихожую, подавляя неудовольствие.
Впрочем, если бы я знал, кто ждет меня за дверью, я бы вообще не пошел открывать, попытался бы спрятаться, подобно гоголевскому герою.
Я до сих пор не привык спрашивать, кто звонит, за что не раз подвергался внушениям со стороны жены. И вот оказалось, что зря жену не слушался. Все-таки хоть несколько мгновений было бы на подготовку, психопрофилактику, чтобы не выглядеть по-дурацки. А именно таким, беспомощно-растерянным, я не только выглядел, но и ощущал себя.
Явилась «милая Мариночка».
В руке она держала папку, схваченную с трех сторон змейкой-молнией. Но папка мне ничего не сказала. История с письмом сдвинулась в моем сознании за эти дни, особенно за последние часы в отдаленное прошлое, и я теперь увязывал Марину исключительно с негодяем братом и с Толей, который сидел сейчас в моем кабинете. Глупо, но мне в первую минуту в ее приходе померещилась непосредственная угроза мальчику. Я испугался, отсюда и вид соответствующий.
Марина между тем смотрела на меня с недоумением.
— Что с вами, Николай Сергеевич? Нездоровы? Слава богу, на жару сослаться можно было, что я и сделал.
— Погода, сами видите… Сердце пошаливает.
— Сердце нужно беречь, — сказала она назидательно, с учительской интонацией.
— Да, да, конечно, — согласился я, стараясь собраться и сообразить, как повести себя, а главное — не допустить их встречи с Толей.
— Я вам не помешаю? Я на секундочку, Николай Сергеевич.
И не проходя в квартиру, куда я, впрочем, и не удосужился ее пригласить, прямо у полуприкрытых входных дверей она быстро дернула молнию, раскрывая папку с бумагами.
«Хоть бы Толя не высунулся», — все еще думал я о главном, не понимая, что она, собственно, от меня хочет.
— Вы же обещали… Вы не переменили своего мнения?
— Что это?
— Письмо. Вы обещали подписать. Помните?
«Так вот зачем она здесь!»
— Конечно, конечно, помню.
Опасения за Толю сразу поубавилось, но другая трудность возникла. Велик был соблазн подмахнуть не глядя и избавиться от посетительницы одним росчерком пера. Однако как же не глядя? Не много ли уже не глядя сделано! Тем более что лист с текстом был другой, я по бумаге видел, не тот, что я у нее дома читал. Да и вот так, в прихожей, не пуская в квартиру, все-таки неудобно, смешно даже. Сочтет, из ума старик выжил.
Это «пожалуйста» я добавил после мимолетной паузы, колебания, но какая-то вина в нем прозвучала, уступка, и Марина ее очень чутко уловила.
— Спасибо. А то смотрите на меня, как на медузу Горгону. Я даже глазам не поверила, вы ли это?
Тут она ошиблась, перегнула. Не нужно было про Медузу, невежество всегда меня раздражает.
— Не медуза Горгона, а горгона Медуза.
— Что?
— В этом словосочетании имя собственное не горгона, а Медуза. Одну из горгон звали Медузой. Ее и должен был убить Персей. А нынешние медузы — совсем другое, не горгоны.
Вот тут она в самом деле глянула на меня как на выживающего из ума.
— Да какая разница, Николай Сергеевич!
Для меня разница была, потому что лишний раз по носу щелкнуло — плохо учил, плохо, хотя и не мифологию античную читал вовсе. В данную минуту, однако, мы не на острове горгон находились, а в моей прихожей стояли, и я не в зеркальный щит Персея посматривал, а в настоящее зеркало на стенке, в которое видел дверь в кабинет, и соображал, сумею ли провести свою горгону мимо Анатолия незаметно. Было, в общем, крайне неприятно.
Не знаю, слышал ли разговор Толя, но пока он свое присутствие обнаруживать не стал, и я провел гостью в гостиную без помех.
— Вот, — протянула она бумагу. — Вы уже читали…
Заметно было, что Марине не хочется, чтобы я перечитывал письмо, но раз уж не подмахнул его сразу, следовало прочитать.
Я надел очки.
Текст письма я прочитал дважды. Первый раз просто читая и сравнивая с черновиком, который в общих чертах помнил неплохо. Второй раз я читал, чтобы выиграть время, проклиная собственную слабохарактерность.
Нет, мне не подсунули нечто противоположное тому, что было написано прежде. В общем и целом все соответствовало. Заведомую ложь подписать не предлагали. И все-таки нынешний вариант был другим. В нюансах, в отдельных формулировках. Трудно даже сказать, в каких. Но теперь текст стал напористее, требовательнее, он уже не столько защищал, сколько настаивал. Вместо «пожалейте хорошего человека!» звучало «не сметь!». А факты те же — зафиксированные официально заслуги и достижения. Однако призваны они были перекрыть все остальное, не защитить, а оградить. Раньше те же факты как смягчающие обстоятельства выглядели, а теперь как индульгенция, на все времена отпускающая грехи.
Я положил письмо на подоконник — читал у окна, потому что комната не очень светлая, затененная, — и невольно совсем по-мазински пробарабанил пальцами по гладкой доске.
— Вот у меня ручка.
Марина предусмотрительно протягивала заранее припасенный фломастер.
«Хочет, чтобы подпись солиднее выглядела».
И почему даже в простых вещах так трудно дается принципиальность!
Я взял фломастер и этим снова уступил немного.
«Не давит ли на меня братец-мафиози? Она же о его выходках наверняка не знает. Это же из разных опер — письмо и семейство Михалевых. Нет, не разные… Разные. Все можно связать длинными нитками! Мазин бы подошел юридически. Разве, подписывая, я делаю незаконное? А совесть? Но буква закона… Какая буква? Я не юрист. Разве я ее сужу? Себя ты судишь, Николай Сергеевич! В свою защиту письмо подписываешь, вот как! Выходит, одной рукой мальчика в кабинете укрыл, а в соседней комнате другой рукой сестру его похитителя, темного дельца, выручаешь? И не ведаешь, что творишь?!»
— Извините, Марина, я не могу подписать.
Не преувеличивая, скажу, у нее во взгляде что-то гневное сверкнуло. Не учитель сейчас перед ней стоял, а нашкодивший и трусливый хулиганишка.
Но гневу волю она не дала. Напротив, процедила холодно и презрительно, будто и бунт мой предвидела.
— Кажется, я вас понимаю, Николай Сергеевич.
«Да ничего вы не понимаете!». — хотелось мне крикнуть. Протянув назад фломастер вместе с бумагой, я будто вышел из гипнотического состояния, почувствовал не только облегчение, но и прилив сил. Однако и я постарался сдержать себя. Слишком широкая пропасть между нами уже обозначилась, через нее никакой крик не долетит, ясно было.
— Я рад, если вы понимаете.
— Но я не так понимаю, как вы представить хотели бы.
Бумага и фломастер зависли в воздухе. Марина не спешила брать их, наверно, ей доставлял удовольствие этот мой жест, по правде говоря, не столько решительный, сколько просительный, — возьми, мол, и разойдемся по-хорошему. Но так я внешне выглядел, по инерции, а чувствовал уже иначе.
— Ничего я представить не хочу. Возьмите письмо.
Марина рывком дернула бумагу и начала засовывать в папку. Теперь было видно, что и она нервничает.
— Вы хотите представить себя принципиальным человеком, а на самом деле испугались. Ветер, видите ли, не с той стороны подул.
— Да чего же мне бояться?
— А чего премудрый пескарь боялся? Только не помогла ему премудрость.
«Интересно, про пескаря заранее она заготовила? Скорее всего. Все-таки мозг учительский, на подготовку рассчитан, не на экспромт. Хорошо же я в ее глазах выглядел…» Обидно было. Пусть по-глупому, но я ей искренне всегда симпатизировал, а она меня вот как видела! Даже это, сегодняшнее, учла и подготовилась напоследок, как говорится, не в бровь, а в глаз выдать. Только немного ошиблась. Не премудрый я пескарь, другая рыба — карась-идеалист. Но достаточно, однако…
— Я прошу вас в таком тоне со мной не разговаривать.
Сказал, услышал себя и снова осудил — ну что за книжная фраза, вычитанная, заученная… Марина задернула молнию.
— Поговорили уже, прощайте. Пусть ваше дезертирство на вашей совести останется. Да вряд ли вы отсидитесь.
Ну это слишком!
— Неужели вы, Марина, и в самом деле никакой вины за собой не чувствуете?
— Мне рефлексировать некогда. Мне нужно дело спасать.
— Дело?
— Да, дело. Потому что не лиц отдельных атакуют, как это газеты представить стараются, а принципы, платформу.
— Какую платформу, Марина?
— Ту самую, на которой и вы безбедно всю жизнь проехали. А теперь в кусты… Желаю успеха. А мы еще поборемся. У меня духу хватит, будьте уверены.
Тут во мне сдвинулось.
— Вы вообще крепки духом. И брат ваш?
— Какой еще брат?
Она решительно перешла на тон высокомерный.
— Тот, которому вы ценные вещи на сохранение передали. Мне, между прочим, если не отсижусь, как вы выразились, укрывать нечего будет.
— Вот вы как заговорили! Ну что ж… Теперь все одинаковые. Хорошо, что у меня брат есть. Он, правда, гуманитарные предметы не преподавал, он трудяга, вкалывал всю жизнь, но зато на него можно в трудный час положиться.
— Вы уверены? — сказал я с интеллигентским сарказмом и опять забежал вперед своей мысли. Ведь если брат так за Черновола погибшего горой стоит, то уж живую сестру в самом деле в обиду не даст. Кажется, подводят нервы, успокоиться нужно.
И, не дожидаясь ее ответа, я подошел к аптечке, где лежало нужное лекарство. Аптечку эту, подвесной ящичек ручной работы, сделал когда-то в подарок моему отцу друг, столяр-краснодеревщик. Так сделал, что она и поныне гостиную украшала, скрывая за резными нарядными дверцами, увы, не столь праздничное свое содержимое.
И еще была мысль — увидит меня с таблетками, уйдет наконец. Ну о чем нам говорить и спорить?
Но Марина, хотя и стояла с папкой в руке, готовая выйти, не вышла, видно, слова о брате задели.
— А что вы, собственно, к моему брату имеете? Чем он вам не понравился? Я ему свое передала, не думайте.
«Неужели испугалась, что донесу?»
От такой дикой мысли совсем тошно стало.
— Не беспокойтесь. Я не об имуществе вашем, а о том, что ваш брат жестоко и даже противозаконно поступил с подростком…
— Каким еще подростком?
— К сожалению, с тем самым, которому и мы кровь попортили.
— Что за выдумка?
«Опять увлекся! Зачем я о Толе? Он же слышит, наверно. А она так уверенно возмущается!»
— Извините, Марина, я лекарство принять должен.
И я на кухню за стаканом пошел и за водой в надежде прекратить тягостную сцену. Но ей как вожжа под хвост попала. Постепенно я сообразил, что тут не поединок идей или взглядов хотя бы, а примитивное чувство опасения вырвалось — что это я о брате, чем это грозит?..
А примитивные чувства, между прочим, недооценивать не стоит. Иногда они точнее высоких, они ведь на первоначальный инстинкт опираются, на главное — самосохранение, а не на категорический императив.
Проходя мимо кабинетной двери, я прислушался. Там вроде бы тихо было. С облегчением открыл кран, налил в стакан немного воды, запил лекарство и хотя знал, разумеется, что подействует не сразу, все-таки легче себя почувствовал и вернулся.
И тут же хуже стало.
Марина сидела на диване, положив папку рядом.
— Нет, я так просто не уйду. Вы мне объяснить должны.
— Что?
— Инсинуации.
Всегда меня удивляет, как легко и охотно недалекие люди пользуются заграничными словами. Наверно, потому, что в них затемнен первоначальный смысл. Не знает человек толком, что слово означает, вот ему и легче куцую мысль в форму образованности облечь. И с другим, подобным себе, легче сойтись на взаимном… Хотел сказать непонимании, но спохватился вовремя. Именно понимании. Не слова, конечно, а друг друга. Эта тарабарщина — пароль своего рода, вроде легендарного славянского шкафа. Продается? Ну, еще бы! Инсинуация? Нет, диффамация.
— А что, по-вашему, слово это означает? — спросил я.
— Хватит меня учить!
— Сволочь.
Это всем понятное слово произнес третий человек.
Оба мы обернулись, она, пораженная — в удивлении, я растерявшись, хотя ни теряться, ни удивляться мне не следовало. Готовым нужно было быть. Еще с того момента, как я Марину в гостиную пригласил. Что же делать было?
— Толя! — сказал я просительно, но он не внял.
— Сволочь ваш брат.
— Ах, вот что!
Пожалуй, это был торжествующий визг, хотя я не уверен, что любимый мной язык такое сочетание допускает. В самом деле, визг больше низменный страх характеризует, ну пусть радость глупую, а торжество, напротив, почти всегда возвышенно. Но вот совпало и то и другое и выплеснулось вполне естественно. Визг этот и паническим оказался — ведь неожиданность вышла весьма неприятная, но, с другой стороны, и для торжественных труб место нашлось. Разоблачила она меня по-своему, вот так…
— Вот оно что!
В этом повторе трубы обрели явное превосходство. Паника улеглась, торжество «возвысилось.
Но Толя этого не заметил или проигнорировал.
— Я за свои слова отвечаю.
Мне его тон детство напомнил. Тогда среди ребят чувство ответственности процветало. Ведь с реальными вещами дело имели. Если бомба — значит, бомба, а если кусок хлеба, так жизнь. За большинство слов отвечать приходилось.
Но вот и современный паренек отвечает.
— Да как ты смеешь! Ты почему не в школе?
Нет, торжество неполное получалось. Иначе откуда такая нелепость?
— Потому что каникулы, — сказал я.
— Вы это подстроили!
— Это ваш брат подстроил, — пояснил Толя. — А в школу к вам я не вернусь. Я в ПТУ иду.
— Какой наглый! Там тебе и место!
Ситуация была сумбурной, но в ней и юмор пробивался.
— Побойтесь бога, Марина! Сколько раз вы учащихся за ПТУ агитировали!
— Не пришивайте мне… Скажите лучше, как он у вас очутился?
— Довольно просто, хотя и печально. Толя здесь вынужденно. У мальчика большие трудности в семье, а ваш брат, не знаю почему, решил ими воспользоваться… Короче, спросите у него сами.
— Как я жалею, что пришла сюда.
— Я тоже не рад, но, может быть, это и к лучшему.
— Будьте уверены, всем вашим инсинуациям, — она повторила слово твердо и с нажимом, — я ни на грош не верю.
— Спросите брата.
— Спрошу. Но вы нас не потопите.
Я бросил невольный взгляд на Толю. Неужели намек? Тот пожал плечами.
— Пусть несет свою пленку.
— Какую еще пленку!
Никакого актерства в голосе Марины не было. Было озлобление. А его-то имитировать труднее всего.
«Она не знает. Да и зачем посвящать в такие дела?» Но Толе не до логики было.
— Не знаете? Все врете!
— Что? Сопляк! Да как ты смеешь… Я тебя…
— Ничего вы мне не сделаете.
— Я тебя… в милицию.
Он рассмеялся.
— Прекрати свой дурацкий смех!
Я понимал, почему он смеется. А она не понимала, следовательно, не знает. Но тем настоятельнее, была необходимость прекратить происходящее. Я слышал, как смеялся Толя, которому совсем не до смеха было, и перепугался.
— Марина! Прошу вас, уйдите. У мальчика нервный срыв быть может.
Она смерила нас презрительным взглядом.
— Да вам обоим лечиться нужно. Но с этим хулиганом я еще посчитаюсь. Это ему даром не пройдет.
— Ради бога, не нужно. Уходите. Вам брат все расскажет. Я вижу, вы не знаете правды.
— И знать ничего не хочу! Ваша правда мне не нужна. Хватит, наслушалась. Спасибо за последний урок, дорогой учитель. Всех вам благ!
Хлопнула дверь в коридоре.
— Толя, успокойся.
Мальчик стоял отвернувшись, прижавшись лбом к оконному стеклу.
— Она в самом деле ничего не знает, Толя.
— А это кто?
Он указал пальцем за окно.
Я тоже посмотрел вниз и увидел почти под окном машину. Возле машины плотный человек стоял в напряженной позе, повернувшись к углу нашего дома. Так обычно выглядят люди, с нетерпением ожидающие кого-то. Вот и он вышел из машины и смотрел нетерпеливо в сторону, откуда должна была появиться, пройдя двор, Марина.
Тут она и возникла, как теперь говорят. А человек шагнул ей навстречу. Слов не было слышно, но смысл улавливался легко, он наверняка упрекал ее за задержку.
Толя этого человека знал хорошо, даже слишком, я бы сказал, и мне он был известен, как-никак недавно видел. Это, конечно же, был Лукьянов.
— Вместе приехали, — сказал Толя.
В этом он явно умысел предполагал, но я, напротив, убедился, что оба здесь оказались, о мальчике не помышляя, она вообще ничего о похищении не знала, а брат о том, что мальчик может в моем доме находиться, не ведал.
Нет, не знали, однако очевидно было и другое, теперь знают.
Узнавали у нас на глазах. Не успел он сесть в машину, как Марина на него обрушилась с ходу, живо заговорила, размахивая папкой.
Брат сначала удивился. Какое-то время он выглядел приторможенным, будто известие его сковало, но ненадолго. Вскинул вдруг голову и теперь уже не на угол уставился, а по окнам взглядом прошелся. Но где мое, не знал, и нам с Толей прятаться за гардину не пришлось. Что, впрочем, было бы бесполезно, ибо произошло совсем непредвиденное. Лукьянов повернулся к сестре и принялся допрашивать ее с пристрастием. Не понял, охотно ли она отвечала, но он своего добился. Марина сказала нужное, и нетрудно было догадаться, что именно. Мой адрес. А что же еще, если он посадил ее в машину, а сам решительно двинулся к дому.
— Толя! В кабинет.
— Нет уж.
— Толя, я прошу.
— Я сам с ним говорить буду.
— Мальчик! У меня сердце больное.
А лифт тем временем остановился на площадке.
— Пожалуйста, Толя.
— Ладно. Но если что…
— Придешь на помощь.
Продолжать спор времени не было. Я подтолкнул его в кабинет, прикрыл дверь и пошел на требовательный длинный звонок.
Почему-то люди, хозяйничающие на транспорте, всегда наделены чувством превосходства. Ведь еще на конных станциях смотрители хамили и унижали проезжающих. А теперь, когда в одну машину столько лошадиных сил заложено, и амбиции возросли соответственно. Вот я и ехать никуда не собирался, а он на меня смотрел так, будто не он ко мне в дом врывается, а я у него грузовичок клянчить пришел.
— Хорошенькое дело затеяли!
С этого он начал, появившись в дверях.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Ну, здравствуйте, если вам это надо.
— А вам что надо?
— Не валяйте ваньку.
— А кто вы, собственно, такой?
— Знаете. Виделись. У сестренки.
— Но в гости я вас не звал.
— А я не в гости. Я у вас и порог не переступлю.
Он действительно оставался на площадке, пружиня и раскачиваясь на крепких коротких ногах.
— Что же вам нужно?
— Это вам нужно знать! Думаете, я не знаю, кто у вас прячется?
— У меня никто не прячется.
— Меня не обманете! Мне Марина сказала.
— Если вы про мальчика, то он у меня. Я не скрываю.
— Про мальчика! Не мальчик он, а малолетний преступник, вот он кто!
— А вы?
— Что?!
— Вы кто такой? Как ваши действия расценивать? Какое вы право имели человека среди ночи хватать?
Лукьянов дернул ртом, будто собирая слюну, чтобы плюнуть. Интересно, куда? На пол или на меня прямо? Говорят, есть племя в Африке, где плевок за дружелюбие почитается. Но этот человек был не из того племени. Он сдержался и слюну проглотил. Если бы Лукьянова в эту минуту увидел приветливый дикарь, он бы заключил, что проглотивший слюну человек относится ко мне крайне недоброжелательно, И не ошибся бы.
— Вот он что вам напел. А зачем его хватали, он сказал?
— Да.
— Все сказал?
— Все.
— Интересно.
— Что интересного? У вас же запись есть.
— Есть. Так что прячьте его — не прячьте, не спрячете.
Я, признаться, хотел откликнуться просто, предложить братцу катиться на все четыре стороны или даже подальше, потому что кассете его копейка цена, и мальчик во всем уже признался, но именно наглость Лукьянова сдерживала меня. С сестрицей намаялся, и в новые отношения вступать сил не было. А жаль. Потом оказалось, что некоторую ошибку я допустил, воздержавшись от грубости.
Опросил только:
— Все у вас?
— Я предупредил.
— Спасибо.
Что было еще говорить! А он стоял, покачиваясь, хотя и не пьяный; видно, манера такая была.
— До свидания.
— Погодите. Вы зачем его здесь держите?
Мимо нас неторопливо прошла молодая женщина с сумкой, пошла вверх. Видно, прочитала, что на верхние этажи ходить пешком полезно, сердце тренировать. Жаль, я всю молодость внизу прожил, наверно, сейчас не теснило бы слева.
— Я вам объяснений давать не собираюсь.
И я потянулся к дверной ручке, чтобы покончить с препирательствами.
— Погодите, — повторил Лукьянов, меняя тон. — Вы мальчишку в самом деле прячете? Жалеете? Вот этого я не ожидал.
— Почему прячу? Он сам домой не хочет.
— Не хочет? Знаю. С мамой не в ладах.
— Послушайте…
— Не нужно, не нужно. Думаете, я ему враг? Я ведь кассету куда следует не переправил.
Если бы не недавний разговор с Сосновским, я бы Лукьянову не поверил. Но он говорил правду.
А вот почему, почему сам тон его изменился и вместо злобы сочувствие прозвучало, этого я понять не мог. Подумал только — не все же люди отъявленные мерзавцы!
Мысль, конечно, тривиальная. И неоспоримая. Далеко не все. Наоборот, подавляющее большинство людей вовсе не мерзавцы. Однако «не все», увы, еще не означает «никто», что часто забывается. Есть мерзавцы, есть, никуда не денешься, хотя внешне они обычно очень похожи на всех остальных. Никакой униформы не носят, не говорю уже о клейме или рваных ноздрях. И опознать мерзавца на глаз бывает трудно, особенно если сам не такой.
Трудно, но голову все-таки на плечах иметь не мешает. Пусть интуиция дело тонкое, однако в голове-то у меня необходимая предварительная информация была, знал ведь и о похищении, и о том, что отец Анатолия с Лукьяновым был связан и погиб… Вот эту информацию и следовало прежде всего в мозгу переработать, а я, как павловская собака на звонок, на фальшивую интонацию клюнул.
Да, не все мерзавцы. Но отдельные, нетипичные, как мы говорим, существуют, и один из них стоял передо мной. Именно нетипичный, отдельный. Я, между прочим, повторяю эти слова без всякого сарказма или юмора, Потому что мерзавец мерзавцу тоже рознь и далеко не каждый из них убийца. А передо мной стоял такой именно, то есть в полном смысле «отдельный», только клейма он, конечно, на лбу не носил, и я не понял, насколько человек этот опасен, как говорится, рассиропился, поверил в его «смягчение». А что, если он выбросит свою дурацкую пленку? Это же на судьбу мальчика повлияет положительно, одно чистосердечное признание останется.
— Я верю, что вы не враг. Да и какой толк в мести подростку! Черновола вам не вернуть, а мальчишка и так настрадался.
— Настрадался? — переспросил Лукьянов.
Слово это произнес он со странной какой-то интонацией, будто не совсем понимал, что оно значит.
— Он же отца лишился.
— Ага.
— А вы с ним так…
— Не одобряете?
— Да разве можно?
— Все можно.
Тут он свое кредо высказал, но я его не впрямую понял, а отнес за счет полемического задора.
— Не горячитесь!
— Да нет. С чего вы? Значит, у вас он. Дрожит небось?
Толя не дрожал, но думаю, я не соврал, когда сказал Лукьянову:
— Нужно понимать его положение.
— И понять можно.
Я обрадовался.
— Значит, не будете отсылать пленку?
— Зачем отсылать?
— Спасибо! Это очень хорошо.
Лукьянов усмехнулся.
— Я лично завезти собирался.
— Да что ж вы за человек такой!
— А о неотвратимости наказания слыхали?
Кажется, он подсмеивался, но ради мальчика я готов был стерпеть.
— Толя уже наказан.
Лукьянов сменил насмешку на милость.
— Ну, ну… Что вы меня за изверга держите? Конечно, пацан моего друга убил. Но правильно, человека не вернешь. Я подумаю. Ладно?
— Что вы имеете в виду?
Лукьянов простодушно развел руками.
— Как лучше сделать.
«Он грубый, но в душе человек не злой». А простодушный-то был я, а не он.
— Давайте так, — предложил братец. — Я подумаю, а вы не бойтесь.
— Сколько ж вам на размышление нужно?
— Недолго. До завтра. Если надумаю, завтра вам эту пленку завезу. По рукам?
— По рукам? Значит, и я для вас что-то сделать должен?
Сознаюсь, я испугался, что он попросит подписать все-таки письмо, и, стыдясь, прикинул, не согласиться ли, все-таки о мальчишке пекусь. Но Лукьянов тут же пристыдил меня.
— Мне от вас ничего не нужно. Одно пожелание — пусть парень здесь заночует. Они с мамашей, объединившись, что-нибудь глупое придумают. Против меня. И тогда хочешь не хочешь, понимаете?
В словах его мне послышался резон. В самом деле, пусть Толя еще побудет. Вернется, когда тучи чуть разойдутся…
— Конечно. Он и собирался у меня быть.
— Вот и сладились. Очень хорошо. Я больше зла не держу.
Чего не добьешься под маской добра! Добро обезоруживает, и я проморгал, не понял, что на глазах у меня происходит метаморфоза неправдоподобная. Позвонил Лукьянов в мою дверь волком, а сейчас хоть руку ему пожимай, с благодарностью кланяясь. Но до такого он меня не согнул. Пожалел? Нет, поостерегся перегнуть палку. Чутье-то волчье…
— Значит, уговор дороже денег.
— Да, да. И я не сомневаюсь, вы приняли справедливое решение. Жду вас завтра. Хотя зачем вам возить эту пленку? Позвоните и все. А пленку выбросьте в мусоропровод.
— А если припрячу? Обману?
— Шутите? Зачем?
— Шучу. Не беспокойтесь. Но мальчишка до завтра у вас, железно?
— Я же сказал.
— До скорого!
— До завтра. А сестру вы зря обидели.
И Лукьянов пошел, не дожидаясь ответа на последнюю реплику, за что я к нему дополнительную признательность почувствовал. Он не стал вызывать лифт. Пошел пешком, гулко ступая по лестнице твердыми каблуками.
Но вот топот затих. Я прикрыл входную дверь. А другая дверь одновременно скрипнула у меня за спиной. Кабинетная. Я давно собирался смазать петли, да все руки не доходили.
«Толя слышал наш разговор. Тем лучше».
И я вошел в кабинет.
Мальчик стоял, положив руку на край письменного стола.
— Слышал?
— Да, подслушивал, — уточнил он откровенно.
Я подумал, что за последнее время мальчик превратился в ищейку. Необходимость, конечно, но привычка не очень хорошая. Однако сейчас не до морали было. Благодушие распирало.
— Неплохо получилось, как думаешь?
— Не знаю.
— Он понял, что глупость учинил. Кажется, он не такой уж злодей.
Толя, я видел, со мной был не согласен, однако и не возразил.
— Молчание — знак несогласия?
— Я ему не верю.
Можно было его мнение воспринимать как чисто возрастное упрямство, и я об этом подумал, но не мог и о другом не думать. Это же его, Толю, хватали на улице, неволили в машине, это с другом Лукьянова, с Черноволом, беда в семью пришла и ее разрушила.
— Я тебя понимаю, Толя, но что сейчас говорить… Ты и сам домой не собирался. Подождем, есть смысл. Если он откажется от своей затеи, будет лучше, я уверен.
Толя молчал.
— Отдыхай пока. Кстати, из астрономии… У меня где-то есть биография Лапласа. Найти?
— Не нужно.
— Читал?
— Да, читал. Лаплас был приспособленец.
— Ну, брат…
— Да. Со всеми ладил. И с королем, и с якобинцами, и с Наполеоном, и снова с королем.
— Интересно. Я это упустил как-то. Наверно, он считал, что так полезнее для науки. Вот Лавуазье отрубили голову, и наука наверняка кое-чего недосчиталась.
— Ему голову правильно отрубили. Он откупщик был. Жулик.
— Суров ты, однако. Ну, ладно. Отдыхай.
— Я думать буду.
— О чем, если не секрет?
— Отчего Лукьянов подобрел?
— Может быть, поумнел? Ну что этот донос ему даст? Тебя он достаточно намучил.
— Не намучил, — отозвался Толя упрямо.
— Все-таки отдыхай.
Я оставил его и вышел в гостиную, Настроение изменилось к лучшему. Нескладно получалось! Мальчик сидит и думает, а я принял условия доморощенного мафиози и жду у моря погоды. А погода между тем клонила ко сну. Снова душно стало, затянуло небо, голова отяжелела.
Я подложил под голову диванную подушку.
«Вообще-то следует позвонить Мазину или Сосновскому. Раз мальчик думает, наверно, есть и нам над чем подумать. Вот сейчас, только успокоится головная боль, и позвоню…»
Дремоту нарушил негромкий звук из прихожей.
«Что-то упало…»
Когда я проснулся, вечерело. Я, однако, сразу же вспомнил потревоживший меня звук, и тут же сообразил — это захлопнулась дверь.
— Толя!
Я понимал, конечно, что он не откликнется. Мальчик сбежал. Зато Мазин оказался у Сосновского.
— Проспал, — сообщил я.
— Проспал, — согласился он, когда выслушал.
— Это может иметь последствия?
— Любое действие влечет последствия.
Не скажу, чтобы ответ сориентировал меня.
— Что мне сейчас делать?
— Пока ничего.
Мне показалось, что прозвучало осуждающе — наломал дров, и хватит, сиди, не рыпайся.
Я послушно сел.
Но не рыпаться не мог.
Сначала я ходил по комнате. Ходил сравнительно спокойно. Потом чувство вины стало нарастать по мере того, как темнело и угнетала неизвестность. Находившись, я решил позвонить Ирине. Хоть минимальные сведения — ведь и отсутствие Анатолия дома тоже информация — я мог от нее получить.
Ирина не отвечала.
Через полчаса я набрал номер снова.
Результат оказался прежним.
Совсем стемнело, а Ирина не откликалась. Я к этому времени настолько разнервничался, что сидеть и ждать больше не мог.
Чтобы добраться до дома Михалевых, нужно было проехать минут двадцать на троллейбусе, а потом, на выбор, две остановки — трамваем или пешком. Я предпочел ходьбу и пошел, замедляя постепенно шаг. Ведь созвониться не удалось, и я не был уверен, что застану Ирину дома. Сдерживало и то, что я не представлял толком, с чем опять вторгнусь в их жизнь.
А думать-то было уже не о чем. Другие, гораздо более действенные силы вторглись тем временем в дом Михалевых в прямом и переносном смысле, и хотя мои поступки и ошибки свою роль сыграли, на этой заключительной стадии событий я оказался всего лишь наблюдателем, а точнее, и наблюдать мне ничего не пришлось, кроме… пожара.
Первая пожарная машина стремительно обогнала меня за пару кварталов до дома, но я еще не знал, куда она мчится. Однако не мог и не подумать — а вдруг? Но себя одернул — вот ведь всякие страхи мерещатся!
А они не мерещились, они отражали реальность.
За квартал до дома я уже не замедлял шаг, напротив, бежал. Бежал, потому что видел, куда спешат машины. Проехала вторая пожарная, за ней «скорая», а милицейские стояли уже на улице, освещенные красноватым пламенем охватившего дом пожара.
Дом Михалевых.
Пробившись через толпу собравшихся зевак и соседей, я увидел Сосновского.
— Юрий Борисович! Можно к вам?
— Пропустите, — сказал он милиционеру, сдерживавшему взволнованный народ.
Я подошел насколько можно было, чтобы не мешать людям, боровшимся с огнем. Пламя плясало перед глазами и обдавало жаром лицо.
Тут же стоял Мазин.
— Игорь, что произошло?
— Сам видишь. Горит.
В этот момент боковая стена дома осела, и перед нами открылось нечто вроде театральной декорации — комната в огненной рамке. Пламя плясало по уцелевшим пока стенам, и странно было видеть, когда дым под порывами ветра мгновеньями уходил в сторону, ту самую гостиную, где я сидел совсем недавно. Кресла и стол все еще стояли посреди нее. Сначала комната показалась мне сценой без актеров. Да и кто мог там быть, сидеть в кресле среди пламени? Но вот еще один порыв разыгравшегося к вечеру ветра оттеснил пелену дыма почти полностью, и тогда собравшиеся вскрикнули. На полу лежал человек.
Рискуя жизнью, двое пожарных немедленно ринулись под огненный свод, и хотя дым снова затянул комнату, подхватили человека и вытащили во двор.
К нему подбежали люди в форме, но Мазин остался на месте.
Я тоже. Я видел, что это не женщина и не мальчик, не Ирина и не Толя.
— Ты знаешь, кто это?
Мазин кивнул.
Подошел Сосновский.
— Мертвый, Игорь Николаевич.
— Причину смерти придется устанавливать?
«Что это он? Разве не ясно?»
— Явно убит.
Мазин снова кивнул.
— Берегись, — крикнул кто-то рядом.
Противоположная стена дома заметно накренилась.
Все отступили поспешно.
Крыша осела и накрыла рухнувшие стены. На несколько мгновений стало совсем темно, потом пламя вырвалось из-под листов рассыпавшегося шифера и взметнулось вверх, где высоко и бурно, где лишь отдельными неуверенными языками. Поток воды обрушился на этот костер, и он стал быстро гаснуть. Вместо огня из-под залитых водой остатков дома поползла едкая гарь.
— Пойдем, — предложил мне Мазин.
Я двинулся за ним.
Вместе с Сосновским мы подошли к машине.
— Вы меня отпускаете? — спросил Мазин.
— Да, конечно. Не знаю, как вас благодарить.
— Не за что. Поблагодарите мальчика.
— Тут благодарностью не обойдешься. Ему потребуется помощь.
— Не беспокойтесь. Все будет сделано. Вы завтра летите?
— Хотелось бы.
— Я прошу вас.
— Спасибо. Садись, Николай.
— Куда мы едем?
— В гостиницу.
— Что с Ириной?
— В больнице.
— А Толя?
— Надеюсь, что у меня в номере.
— Не сбежит?
— Теперь уже нет.
До меня вдруг дошло, что бежать ему просто некуда.
— Игорь, что же произошло?
Конечно, я спрашивал, что произошло сегодня вечером в доме Михалевых, ныне уже не существующем, но он ответил расширительно:
— Многое.
И, проведя пальцами по лбу, посмотрел на запачканную копотью руку.
— Нужно помыться и выпить крепкого чаю.
Это было сказано и себе и мне. Значило — раньше язык не повернется объяснять. Я понял, но один вопрос был необходим, не из любопытства даже, а чтобы проверить себя. Проверить, чтобы не чувствовать себя полным олухом.
— Этот мертвый не Лукьянов?
— Нет, Черновол.
Больше я ничего не спрашивал…
Пока Мазин принимал душ, я готовил чай, благо Игорь возил с собой кипятильник.
— Хорошо, что горячий, — сказал он, проводя расческой по мокрым волосам.
Разговор завязался не сразу. Мне было трудно говорить в присутствии мальчика, на которого теперь беда обрушилась в самом прямом смысле слова, вместе с рухнувшей крышей дома…
Мазин тоже о нем думал.
— Дон был застрахован, Толя?
— Мне он не нужен.
— Какие же планы на ближайшее будущее?
— Поступлю в радиотехникум, там есть общежитие.
— Думаю, ты выдюжишь.
Он сказал это не в утешение, не в качестве благого пожелания, а констатируя уверенность.
— И мать поправится. Теперь она на многое иначе посмотрит. Ты спас ее.
— Я? Это вы…
— Я тоже. Не буду ложной скромностью тебе льстить, однако хочу уточнить разницу. Я делал свою работу. У меня, Толя, всегда много работы было. Много лет. Чего не бывало… Случалось и помогать, и выручать. Но все-таки это работа, повседневная обязанность, если хочешь, успешно решенная задача, а для тебя экзамен. Выходит, твое достижение больше. Поздравляю.
Толя не ответил. Не то у него было настроение, чтобы поздравления принимать. И Мазин не нажимал с оптимизмом.
— А в уголовный розыск не хочешь?
— Нет.
Мазин чуть улыбнулся.
— Я так и думал. Не с романтической стороны наша повседневность тебе открылась. Жаль. У тебя есть способности.
— Способности и в науке не помешают.
— Наверно. Каждому свое.
— А вы сразу все знали? — задал мальчик вопрос, который я задать не решался.
— Ну что ты! Без тебя мне бы трудно было.
— Вот и льстите. А говорили… Да вы у меня и не спрашивали ничего.
— Не льщу. И не спрашивал. Не было необходимости. Я тебе, наоборот, мешал.
— Мешал? — переспросил я.
— Я ему мешал, — повторил Мазин. — Не давал свои догадки форсировать.
— Зачем?
— Чтобы не спешил, не горячился. С ним же трудно. Если бы он был человеком посторонним или, наоборот, подчиненным моим, я мог к логике, к дисциплине апеллировать. А тут как быть? Я боялся, что если он доберется до правды раньше времени, то навредить может. Поспешностью. Горячностью своей. Вот и приходилось сдерживать, чтобы успеть переработать полезную информацию.
— Какую же вы от меня полезную информацию получили? Когда?
— Да с самого начала. С самого начала встал вопрос, погиб ли Черновол в самом деле? Ну, формально погиб. Можно было и согласиться с теми, кто так считал. Ненайденный труп тоже своеобразная ловушка. Стимулирует игру воображения. Но я не воображению поддался. Не такой уж я молодой, чтобы парадоксальные версии предпочитать. Меня долг заставлял дотошным быть. Черновол преступник. Если он жив, значит, ушел от наказания, а этого допустить нельзя. Не воришка какой-нибудь мелкий. И второе. Где ценности, которые он награбил? Когда подсчитаем, что его мешочек весит, вы еще общей сумме удивитесь. Ты, Толя, громких слов не любишь, наверно, но и они иногда истину отражают. Народное достояние нужно было вернуть государству. Это, так сказать, исходная точка. Я должен был точно знать — умер Черновол или нет.
Мальчик слушал внимательно.
— Сейчас и до тебя доберемся, — пообещал Мазин. — Исходная точка была очевидной, зато от нее начиналось столько развилок… И на каждой предупреждающий знак: налево поедешь — коня потеряешь, направо — в руки разбойников попадешь… А проще, множество предположений возникало, и все уязвимые. Каждое, однако, следовало довести до логического завершения, прежде, чем отбросить. Ну вот хотя бы… Мать категорически свидетельствовала о смерти Черновола. А почему? Зачем она так настойчиво брала ее на себя?
— Меня хотела выручить.
— Вот-вот. Но откуда мне было это знать? На первом этапе я о другом думал. Я, прости, их в сговоре подозревал.
— По сговору такую вину на себя взять? — усомнился я.
— Риск был невелик, если знать Уголовный кодекс. Я же разъяснял тебе соответствующие статьи. И собственное признание еще не факт. Тем более, она быстро изменила показания. Убила — выходит, в живых его уже нет, а когда убедила, говорит, не убивала, спасать себя начала. Так я рассуждал и, как оказалось, ошибочно. Путь был тупиковый. А вывел меня из тупика Анатолий.
— Интересно, каким же образом?
— Да, интересно. Только своим поведением. Когда Николай Сергеевич поехал к тебе по поручению матери, ты расспрашивал о ней с тревогой. Чувствовалось, ты что-то знаешь, чего-то побаиваешься, но большой опасности не ощущаешь. Как это следовало понимать? Или ты знаешь, что произошло на пристани и что мать призналась в убийстве, или не знаешь. Так? Третьего не дано, в таких случаях утверждают. Но если бы знал, просто отсиживаться в селе ты бы не смог. Если же не знал, вообще бы не беспокоился. Однако что-то вызывает у тебя опасение. Значит, третья возможность все-таки существует. Какая? Прочитав тетрадку твоего отца, я никак не мог заподозрить тебя в сговоре с Черноволом. Что же тогда с тобой происходит? Скажу честно, в это время мне трудно было поддерживать репутацию проницательного сыщика в глазах Николая Сергеевича. Связать и объяснить позиции матери и твою я никак не мог.
— Но смогли же.
Мазин посмотрел на Анатолия.
— Слава богу, в нашем деле бывает, что на пользу работает случай. Ты, обнаружил пропажу тетрадки и кинулся в город. Появился, понятно, в негодовании. Что ж, основания были. Жаль только, что сразу не сказал правду. Все бы гораздо проще пошло. Но я не хочу тебя винить. Мы в твое сокровенное вторглись без разрешения, не мог ты нам доверять и не хотел. Зато узнал для себя неожиданное — Черновол погиб! И ошеломлен, конечно, открытием, что ты преступник, убийца.
— Вы при этом не присутствовали.
— Ну и упрямец! — заметил я.
— Ладно! — остановил нас Мазин. — Пока речь а фактах. Пока я только узнаю — ты примчался в гневе, Николай Сергеевич сказал тебе о смерти Черновола и о том, что обвинена мать. И ты ушел домой, верно?
— Ну да.
— А я снова возвращаюсь к отцовскому письму.
— Что вам еще письмо дало?
— Очень важное. Благодаря письму и, конечно, встречам Николая Сергеевича с твоей матерью я лучше увидел всех участников вашей беды. Это еще не факты, но, зная человека, гораздо легче предположить, что он может, а что нет, на что способен. Я, например, увидел, что Черновол способен на многое. Не только предприимчивый делец, но и актер, способный лицедействовать, добиваться своего не одним обманом в документации, в бумагах, но и в душах. Это важно знать, Толя. Второе — история с брошенной машиной. Машина-то не иголка. Случай с бегством неизвестного водителя от автоинспектора был, конечно, известен, но сам по себе, а теперь мы его увязали с конкретными людьми.
— С отцом?
— Главное, с Лукьяновым. Ясно стало, что машина не угнана.
— А отец преступник?
— К сожалению, Толя. Но не убийца, как ты думал. Немножко мы оправдались перед тобой, не так ли?
Мальчик кивнул.
— А на другой день ты собственной персоной объявился. В не лучшем, правда, виде, как помнишь.
— Помню.
— И когда я тебя увидел, я решил, что тебе нужно верить, хотя ты до сих пор и скрывал важнейшие вещи.
— Почему вы так решили?
Мазин развел руками.
— Опыт, интуиция. Называй, как предпочитаешь.
— Что же интуиция во мне обнаружила?
— Мне ясно стало, что ты врать не умеешь.
— Такой глупый?
— Ну, обижаться не стоит. Мне важно было знать, с кем имею дело. Профессиональный лжец по одним психологическим законам ведет себя, а ты — по другим. Враль по призванию — артист своего рода, он собственное вранье часто сам за правду принимает, его импровизации могут больше запутать, чем сознательная ложь. А обманщик вынужденный, тот, кто врать не любит и не хочет, много правды говорит, потому что скрывает главное, факты, а обстановку вокруг них, настроение, массу деталей скрыть не способен. Вот ты сказал, что Черновол здоровый был мужик, и я тебе поверил. Понимаешь?
Толя вполне искренне провел отрицательно головой. Мазин засмеялся.
— Я твоему ощущению, внутренней уверенности в том, что утонуть он не мог, поверил.
— Я же не знал тогда… Я думал, все-таки утонул.
— С наших слов. Так я тебя и притормаживал. Ведь я тоже не был еще уверен, утонул или нет. Значит, и тебя в сомнениях поддержать не мог. Потом ты сказал, что он вынырнул в стороне от пристани…
— На минуту только.
— Конечно, увидел тебя и снова нырнул.
— Вы так тогда решили?
— Нет, это было только предположение. Пришлось жаркой погодой воспользоваться и самому поболтаться в воде.
Я посмотрел на Мазина с удивлением.
— Следственный эксперимент поставил?
— Ну, не формальный.
— И что же?
— Получалось, что если бы Черновола захватило течение, оно бы его под пристань тянуло. А он вынырнул в стороне. То есть либо вообще не попал в течение, либо преодолел его, следовательно, был вполне, в силах спастись. Такое заключение лично для меня значило многое, потому что я уже знал, что Черновол человек не просто физически крепкий, но и сообразительный и хитрый. Именно такой человек мог не растеряться в критический момент, повернуть ситуацию в свою пользу.
— Значит, сговора не было?
— Да, тогда я и отверг эту идею окончательно. Но усомнился еще раньше, когда ты, Николай, упомянул, что мать Анатолия боится визита Черновола. Ты эту мысль плодом разгоряченного воображения счел, а я проще подошел: воображение-то тоже чем-то питается, из ничего не возникает, и стоило предположить, что питалось оно не полупьяными фантазиями — прости, Толя, — а вполне реальным сомнением в смерти Черновола. Твоя мать, Толя, как и ты, считала гибель Черновола маловероятной.
— А ее крики на дороге? Признание? — спросил я.
— Ну, после признания Анатолия все очень ясно виделось. Только что сын на глазах у матери убил человека. О чем первая мысль? Спасти сына. Это, Толя, крепко вруби в сознание, как бы в дальнейшем отношения у вас ни сложились. Я знаю, вам после всего, что произошло, трудно будет сближаться, поэтому особенно помни — первый ее непосредственный порыв был взять твою вину на себя! Это помни.
— Помню, Игорь Николаевич.
— А мы дальше пойдем. Стало ясно: сговора не было, если Черновол жив, то обязан он этим только самому себе.
— Совсем ясно?
— Сомневаешься? Думаешь, нереально? Тебя неожиданно сбивают с ног, ты летишь в воду, чуть ли не в омут и по пути целый план разрабатываешь! Натяжка? Но я уверен, он о своем исчезновении давным-давно думал. И, по существу, уже исчез. Сбежал. И хитро сбежал. Ушел вроде бы в отпуск, оформил путевку в санаторий, в Ялту, а сам приехал сюда. Расчет простой — пока его в Ялте искать будут, время выиграет. А возможно, его и не искали бы, ждали, чтобы на месте взять с поличным. А Черновол направил возможный розыск по ложному следу, а сам сюда. И тут главное, зачем?
Мазин встал, наполнил опустевший чайник и включил кипятильник.
— Разочарую тебя, Толя, я не верил в романтическую версию, в то, что Черновола привела сюда любовь к твоей матери. Как-то подобные люди без глубоких чувств обходятся. Однако он приехал и чувства почти демонстрировал. Это мне следовало понять. А сейчас вы меня поймите. С чувствами получался явный перебор. Сначала любовь заставляет скрывающегося Черновола, у которого, как теперь стало известно от Лукьянова, давным-давно несколько фальшивых паспортов заготовлено было, приехать сюда, где его многие знали просто в лицо. Затем романтический влюбленный не менее романтично гибнет в бурных волнах… Но тем дело не кончается. Друг этого романтика еще бо́льшим романтиком оказывается. Месть! Любыми средствами расквитаться с убийцей друга. Пусть убийца подросток, да и не убивал вовсе.
Нет, дорогие мои! Я тут внимательно выслушивал неоднократно повторяемые Николаем Сергеевичем слова — «не Сицилия» и с каждым разом все более с ним соглашался. Правда, с оговоркой. Он Сицилию очень уж экзотично воспринимает. А там-то за всей экзотикой реальные деньги, обыкновенные деньги, которые, увы, и некоторым из нас покоя не дают. Так что, Николай, дорогой, я вместо «не Сицилия» говорил себе — не экзотика. И не романтика. А нечто более простое.
— Отец в письме про деньги писал.
— Да, но очень неопределенно. А Черновола могла привлекать только определенная крупная сумма.
Мазин выдернул шнур, вынул кипятильник.
— Итак, по моей мысли, скрывшегося Черновола привела в город важная промежуточная цель. Осуществил ли он ее до своей гибели, подлинной или мнимой, вот вопрос. И тут телефонные звонки. Угрозы, месть, почти чертовщина… Месть за Черновола?
Мазин налил чаю, но пить пока не стал.
— Вендетта в самом деле? Если даже предположить невероятное, как мог Лукьянов, сам по уши замаранный, решиться на подсудное дело, похищать человека на улице? А кстати, где?
Вопрос Мазина был, наверно, риторическим, но для меня вполне конкретно прозвучал. В волнениях этих дней факты постоянно заслоняли в моей голове подробности. Я тоже спросил:
— Где это произошло, Толя?
— Возле дома.
— Твоего?
Мне почему-то казалось, что мальчика возле меня выслеживали.
— Нашего. Я же к матери шел.
— И что же?
— Иду, стоит машина. Я, понятно, не обратил внимания. Какое мне дело! Мало ли машин… Прошел мимо. Вдруг сзади…
— Сразу? Рядом с машиной? — перебил Мазин.
— Да нет, с полквартала уже прошел.
— Вот как! Ты, конечно, решил, что тебя выслеживали, ждали?
— Разве нет?
— Теперь можно будет уточнить, но я уверен, не ждали. Тебя давно не было в городе. Если бы ты Лукьянова так интересовал, он бы установил, где ты, а не сидел, как дурак, в машине, дожидаясь у моря погоды.
Толя посмотрел на Мазина внимательно.
— А как же магнитофон?
— Не уверен, что он был. Тебе было не до того, чтобы прислушиваться, особенно в идущей машине.
— В самом деле.
— Это первое, на что я обратил внимание. А второе — быстрота реакции. Произошло неожиданное, потому что, повторяю, мальчика не ждали, а реакция, в сущности, моментальная. И странная, если вдуматься. Помнишь, Николай, что я у тебя спрашивал?
— Да. Зачем похититель пытался скрыть свою личность?
— Вот именно. Зачем? Лукьянов фактически не мог рассчитывать остаться неузнанным, а между тем и шапку на Толю напялил, и глаза завязал. Потом повезли… Заставляли говорить, признаваться, причем знакомый тебе, Толя, Лукьянов говорил, требовал, а второй в машине молчал. Выходит, если кто по-настоящему скрывался, то именно он, а не Лукьянов.
— Черновол?
— Конечно. Только ему и следовало бояться, что Толя узнает свою «жертву». А Лукьянов выступил в обычной своей роли.
— Что за роль?
— Подручный, исполнитель, сообщник многолетний. Именно он перевозку Черноволовой продукции обеспечивал. К сожалению, вместе с Михалевым. Подстраховывались они максимально. Ездил Михалев с чужими документами, ну а что у него на душе творилось, тебе, Анатолий, известно лучше, чем мне. Конечно, отец понимал — в пропасть, его тянут, и не мог больше. Но и порвать не мог. Мы, знаешь, Толя, часто пишем о том, как человек преодолевает трудности, и редко о тех, кто преодолеть их не смог. А такие люди есть, и не нужно делать вид, что все трудности преодолеть можно. Особенно, когда сам человек свою волю ослабляет, вытравляет спиртом.
Мазин попробовал остывший чай, отставил чашку.
— Не знаю я, что было непосредственной причиной его смерти, несчастный случай или сознательный поступок. Боюсь, что это уже никто не установит, но то, что он сам подвел итог собственной жизни и вырваться из капкана не смог, да уже и не хотел, это факт. Так или иначе стремился уйти из жизни. Из жизни несложившейся. Не хватило сил. Два великих зла удушили его вместе с выхлопными газами — нажива и алкоголь. Одно последствие этой беды оставляет надежду — то, что ты против нее восстал… Ну, обо всем этом тебе еще думать и думать придется.
А пока о сегодняшних событиях. Получилось, оба мы пришли к одной мысли. У матери требовали деньги, так?
— Да.
— Ты когда это понял?
— Я все время об этом думал.
— Из отцовского письма исходил?
— Да.
— И говорил матери?
— Говорил. Я понял, что у отца были деньги. Деньги Черновола, ну, всей их компании, а она не хотела отдавать.
— Расскажи, пожалуйста, подробнее.
— Зачем?
— Сравним, что знаем, как думали. Это еще может понадобиться.
— Хорошо.
Толя сказал — хорошо, но видно было, что рассказывать, да еще спокойно и с подробностями, ему трудно. И Мазин видел это.
— О последовательности особенно не заботься. Рассказывай, как пойдет.
— Хорошо, — повторил мальчик, но начал, конечно, нескладно. — Я говорил, а она говорит — отдала. Я сначала не поверил, а потом оказалось — правда. Но я это только сегодня узнал.
Мазин повернулся ко мне.
— Я, Толя, поясню твои слова Николаю Сергеевичу.
Думаю, однако, он не столько обо мне заботился, сколько старался, чтобы Анатолий спокойнее себя почувствовал, дополнительное время ему предоставил.
— Толя считал, что дома хранятся деньги. Но денег не было. Отец в письме имел в виду выручку, привезенную из последнего рейса, и в озлоблении против Черновола собирался его проучить, не отдавать деньги. Но после смерти, Толя, мать эти деньги отдала.
— Она сказала: «Подавитесь! Вы нам жизнь сломали, на этих бумажках кровь, подавитесь!» Так она мне рассказала, когда я спрашивал.
— Так и было.
— Я ей тогда поверил, а потом нет.
— Начал сомневаться? Недавно?
— Да. Когда узнал про звонки, угрозы, когда они меня схватили. Я же понимал, что они не за Черновола мстят, а ей за что-то, чего-то добиваются, требуют. «Скажи, — говорят, — мамочке, пусть вывод сделает!»
— Ты все время говоришь — они. Давай о главном. Кто второй?
— Хорошо. Говорил со мной один Лукьянов, а второй молчал, но я же знаю, он был, я с ним рядом сидел. Но я от вас узнал, что Черновол погиб, и страшно все-таки было. Вы же понимаете, схватили, связали, везут. Требуют, чтобы я признался, что убил его… А он рядом. Но тогда я не понял.
— А когда?
— Сегодня. Когда Лукьянов добрым прикинулся. А я на их доброту особенно реагирую, понимаете? Меня этот дядь Сань столько ласкал, подарки привозил. Маленького вечно по голове гладил. Наклонится и гладит. И я его запомнил, ну, смешно сказать, по запаху…
Мазин улыбнулся.
— За ищейку себя не выдавай. Я думаю, запах был приметный, он много лет предпочитал один одеколон, да?
— Ну, да. Я не знаю, какой. Дорогой, конечно, импортный. Запах приятный, но мне противно было! Потому и запомнился.
— Ты почувствовал его в машине?
— В машине от него одеколоном вроде не пахло, да и бензин забивал. Но что-то было.
— Многолетний запах въедлив.
— Да, точно. Такой слабый, но, значит, был. И я почувствовал. А когда Лукьянов добрым прикинулся, понимаете, я и того доброго вспомнил, Как он наклонялся, как пахло. Я вспомнил и дошло — все-таки выплыл гад!
— Сегодня понял? — продолжал Мазин наводящие вопросы, помогая мальчику.
— Да. И сразу испугался. Если он живой, зачем же меня заставлять признаваться? Зачем им нужно, чтобы я дома не ночевал? Значит, затеяли что-то. Что было делать!
— Почему ты не обратился к Николаю Сергеевичу?
— Он спал.
Хотелось бы мне думать, что мальчик мой отдых нарушить не решился, проявил деликатность, но не стоит с собой лукавить — я не завоевал его доверия. Мы с Мазиным переглянулись. Однако акцентировать, как говорится, не стали.
— Кроме того, тебе по-прежнему хотелось действовать по принципу опоры на собственные силы. Не так ли?
— Да, — согласился Толя теперь уже без бравады.
— И ты пошел к матери.
— Да, но…
Тут он заколебался.
— Говори. Я ведь не знаю, что у вас произошло.
— Она мне: «Дурак! Стала бы я из-за тех денег пачкаться!»
— Прости, она была нетрезвой?
— Да.
— Ты сказал ей, что возникла угроза?
— Ну а как же! Я так и понял, что они придут за деньгами. Но я думал, что за теми, что отец из рейса привез. А она мне: «Дурак!» И показала. Там не деньги, а камни были. Я не мог это оценить, конечно, на сколько там тысяч, но я сразу понял, за такое убьют. А, она: «Пусть найдут сначала». Она их в целлофан и в канистру с бензином. И смеялась еще — «пусть найдут!» Я ей: «Убьют». А она: «Не убьют, если знать не будут, где».
— Бриллианты? — спросил я.
— Не только, — ответил Мазин.
— Тогда я понял, что ее спасать нужно. Я побежал в наше отделение милиции, рассказал про вас, попросил найти.
— Тебя нашли?
— Нашли. И очень вовремя.
— А ты не ждал?
— Как не ждать! В общем-то, я всю ситуацию представлял почти так же: Черноволу и Лукьянову нужны были, конечно, не те деньги, о которых Михалев упоминал. Ради такой суммы эти люди не рискуют. Должно было быть нечто очень большое. Но это и затрудняло наши действия. Спрашивать Михалеву не было доказательных оснований. Видно было, просто так она не скажет. Если уж она шла на такой риск и собственной жизнью, и жизнью сына, чью вину на себя была взять готова, значит, было из-за чего рисковать и скрывать правду.
— Она говорила, мне на всю жизнь хватит… Что ради меня, — прервал Толя, впервые попытавшись защитить мать в наших глазах. — Она деда попрекала. Он, говорила, нас без копейки оставил, отец тебя тоже. А я, мать, такую ошибку не допущу, не повторю.
— Это видно было, поэтому задавать ей прямые вопросы не имело смысла, пока не взят Черновол. Мы догадывались, что он скрывается на даче у Лукьянова. Но и он без наших доказательств мог от всего отречься. Короче, брать нужно было с поличным. Из этого и исходили. Рано или поздно все трое должны были сойтись для решающего объяснения. Но когда? Сначала они рассчитывали взять Михалеву шантажом, дескать, упрячем в тюрьму сына, если не отдашь. Тут, правда, пока одна загадка. Знала она или только догадывалась, что Черновол жив. Деньги, понятно, требовал Лукьянов. Но тут был и просчет. Лукьянов, вызывал у Михалевой особое озлобление. Ведь, с ее точки зрения, он отнимал то, на что и сам права не имел. Однако появившись лично, Черновол рисковал слишком, многим. Вот и придумали «Сицилию». Не прошло. Похитить по-настоящему не решились. Этот народ преступлений подобного рода пока избегает. Получилось кустарно, почти глупо. И вдруг везенье. Мальчик домой сам не пошел. Появился шанс еще раз попытаться принудить мать отдать ценности.
Казалось, вот и момент, которого мы ждали. К сожалению, жизнь внесла поправки. Во-первых, мы своевременно не узнали о том, что Лукьянов, а вернее, его сестрица обнаружила Толю…
— Упрек принимаю, — сказал я.
— Что ж, прими. Толя оценил угрозу быстрее, и он был прав. Хотя и ему следовало бы всыпать за то, что не разбудил тебя. Короче, оба хороши. Но больше подвел нас Лукьянов. Этот, конечно, действовал сознательно и в собственных интересах. В подробностях еще разбираться предстоит, но психологическая схема его поведения ясна. Сколько же можно таскать каштаны из огня для Черновола? Особенно теперь! Невыгодно и опасно. Вот и возникает вариант — ценности себе целиком, а Черноволу лучше исчезнуть навсегда. Тут опять следует оговориться, мокрое дело вроде бы не по лукьяновскому профилю. Да, наши мафиози от мирового прогресса, к счастью, приотстали, автоматами еще не вооружены, пластиковыми бомбами тоже. Но и кастет оружие, а канистра с бензином чем не взрывчатка? Короче, вышли они на грань, когда свое кровное, а они награбленное, наворованное искренне кровным считают, готовы защищать без оглядки на Уголовный кодекс, готовы, и кровь пролить. Преступная логика свои закономерности имеет, движение в основном одностороннее, от плохого к худшему.
Думаю, дело сложилось так. Лукьянов предложил Черноволу отправиться к Михалевой самому. Мол, я свои возможности исчерпал, а у тебя последний шанс — появишься прямо с того света, да еще скажешь, что сын у нас. Лукьянов же не знал, что ты успел рассказать Ирине, где мальчик! А наша оплошность в том, что наблюдение мы вели только за Лукьяновым. А он с Черноволом, видимо, по телефону поговорил, и разговор этот нам неизвестен остался. Они не встретились вечером лично, и, наблюдая за Лукьяновым, мы не знали, что Черновол тем временем решился на крайнее.
Да и сколько можно было здесь, в городе ему отсиживаться! Время-то против него работало. Риск провала увеличивался час от часу.
Что произошло между ними в доме, узнаем, Толя, когда мать придет в себя. Сейчас она и физически слаба, и психика травмирована. Но «дядь Сань» своего добился. Видимо, пошел на все, озверел, и она поняла, — живой он ее не оставит. И показала канистру…
Я понимаю, Толя, каково тебе это слушать, но худшее позади. Крепись, парень. Жить еще долго и тебе и матери. Раз она сейчас не погибла, значит, судьба над ней смилостивилась. С твоей помощью. Теперь ей отрезветь нужно.
Ну а в конце концов? Возмездие, хоть и от преступной руки. Лукьянов оставил машину у своего дома на стоянке и оторвался от наших людей. Он ждал Черновола во дворе в темноте. Ни Черновол, ни Михалева об этом не подозревали. Лукьянову казалось, что ему повезло. Черновол с камнями вышел прямо под его кастет. Оставалось втолкнуть труп через окно в комнату, залитую бензином, который вылил Черновол из канистры. Правда, вытащить камни не сумел, взял канистру с собой, чтобы разрезать. Лукьянов швырнул в комнату спичку и пошел. С канистрой мы его и взяли.
И мать, Толя, спасти успели. Так что поработали с пользой.
— А как попали бриллианты к Михалевой? — спросил я.
— Это еще предстоит уточнить. Скорее всего она обнаружила их после того, как Черновол «утонул». Сама. Или когда Лукьянов явился по поручению. Но это не суть важно.
1986 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Легкое чтение», «дешевая литература»… Каких только ярлыков не навешивают ныне на произведения, которые мы привыкли называть детективами. Признавая, что «детектив — жанр, которому чуть ли не безраздельно отданы сердца миллионов читателей», критики тут же делают многочисленные оговорки о схематизме и «накатанности», об однообразии литературных приемов, о некой «игре», которая лежит в основе детектива. Но разве схематизм и «накатанность» — то, что называется эпигонством, — не присущи всей вообще серой литературе, вне зависимости от того, как определить ее жанры? А в так называемых производственных романах разве не чувствуется заданности, игры, когда мы заранее знаем, что передовой, по-новому мыслящий рабочий (или инженер, бригадир, секретарь обкома) обязательно выйдет победителем из противоборства с рабочим (инженером, бригадиром, секретарем обкома) отсталым?
Есть литература серьезная, талантливая, и есть — серая, эпигонская. Так и детектив. И давно следовало бы судить о нем на основе общих законов литературы, а не ломать копья, выясняя в дискуссиях, относится ли детектив к литературе или нет. Как будто и не существует общепризнанного ряда писателей, работавших в этом жанре, чьи произведения пополнили золотой фонд мировой литературы. Нет нужды перечислять их имена — они постоянно «на слуху».
Быть может, я ошибаюсь, но мне представляется, что перед литератором, пишущим остросюжетную повесть или роман, стоит ряд дополнительных трудностей. Это прежде всего сложность построения острого, напряженного — без замедляющих течение мелей и перекатов — сюжета. Сюжета, который не должен заслонить всего остального — нравственных или иных проблем, которые задался разрешить автор, полнокровных, ярких образов героев произведения.
И еще один довод в защиту жанра — детектив дает возможность автору поставить самые острые, самые больные проблемы общества. Один пример. Сейчас много пишется о наркомании. А было время — молчали, и впервые в нашей литературе об этой надвигающейся беде сказал Аркадий Адамов в романе «Угол белой стены», вышедшем в 1971 году.
Выше я употребил слова: «защита жанра»… Да, детектив, конечно, следует защищать. Но самая надежная защита — хорошие книги. Среди тех, кто пишет такие книги, Павел Александрович Шестаков. Его повести «Через лабиринт», «Страх высоты», романы «Взрыв», «Омут» и многие другие хорошо известны читателям, о них немало сказано хороших слов критиками.
Героем многих повестей Шестакова является опытный сыщик, теперь уже дослужившийся до чина полковника, Игорь Николаевич Мазин. И он, и его коллеги — сыщики, следователи, оперуполномоченные — живые, интересные люди. Люди очень разные — и по темпераменту, и по опыту, и по своим симпатиям и антипатиям. Но в главном, в своем мировоззрении эти люди едины: милиция для них не просто место службы, каким могли бы быть завод, исследовательский институт или чиновничий кабинет. Милиция для них место, где они наиболее полно могут реализовать свой жизненный принцип: активное неприятие зла, преступности.
Удача в разработке образа главного героя во многом определила удачу всех повестей писателя об уголовном розыске. С интересным человеком не может быть скучно. К тому же в произведениях Шестакова присутствуют и все остальные качества, определяющие успех детектива: напряженный, умело выстроенный сюжет, злободневность, острота поставленных проблем, полнокровность жизни, хороший язык.
Романы «Взрыв» и «Омут» стоят особняком. «Омут» о схватке с контрреволюционным подпольем в 20-е годы. Здесь Шестаков показал себя еще и как серьезный, внимательный историк, хорошо изучивший не только перипетии борьбы с подпольем, но и быт того времени. Это прекрасное качество, помогающее читателю увидеть героев книг в контексте времени, лучше понять мотивы их поступков.
В новых повестях «Остановка» и «Он был прав» мы видим сыщика Мазина глазами доцента Николая Сергеевича. Человек этот чуточку простоват и наивен, иногда многословен. Он любит приводить, к случаю, расхожие истины и смотрит на окружающих глазами человека, уже собравшегося уходить на пенсию, но так и не сумевшего до конца понять молодежь, с которой всю жизнь проработал. Да он и в молодости-то чурался увлечений своих сверстников. По собственному признанию, придерживался «точки зрения профкома», осуждавшего узкие брюки и «прикрывшего навсегда» танец буги-вуги. И со своей позиции безудержной благонамеренности осуждал студента Игоря Мазина, «приколачивавшего на расстроенном рояле» эти самые буги-вуги.
Теперь-то, по прошествии стольких лет, Николай Сергеевич понимает, что Мазин только казался ему «чересчур легкомысленным парнем». Но вот беда — и сейчас невдомек ему, что причина ошибки — в отсутствии у него самостоятельной точки зрения на людей и на явления общественной жизни. Это уже посерьезнее многословия и наивности.
Взгляды состарившегося Николая Сергеевича на добро и зло сродни взглядам самого Мазина, он так же ненавидит зло, как и его приятель сыщик. Больше того, как человек деятельный, он всячески помогает Игорю Николаевичу. Вернее было бы сказать — пытается помогать, так как во многих случаях искренняя, но, увы, неумелая помощь малоплодотворна. И вот здесь, мне кажется, писатель добился серьезной удачи. В повестях «Остановка» и «Он был прав» ему удалось создать образ человека, не слишком часто, встречающийся в нашей литературе, — человека хорошего, искреннего, пользующегося известным авторитетом среди коллег-преподавателей и даже поминаемого добрым словом бывшими учениками, но заурядного. Авторитет этого человека — результат инерции мышления его окружения. И хотя мы не видим Николая Сергеевича на преподавательской кафедре, тем не менее можем сделать вывод, что слово его не может высечь искру в сердцах учеников. Есть много «косвенных улик» (да простят читатели эту терминологию — ведь мы говорим о детективах), подтверждающих это. Например, любимая его ученица, хищница и буквоедка Марина, ставшая директором школы, участие самого Николая Сергеевича в проработке школьника Анатолия Михалева за его «крамольное» сочинение о Евгении Онегине и т. п.
Как-то в разговоре с Мазиным Николай Сергеевич обронил фразу: «Но ведь человек привыкает к обстоятельствам». Сдается, не случайно обронил. Не привык ли он сам к обстоятельствам окружающей его жизни? Неглупый, неяркий, типичный представитель своего времени…
Может быть, Николаю Сергеевичу, по общепринятым стандартам хорошего человека, не хватает самой «малости» — не хватает самостоятельности, искры божьей? А может быть, он сам снизил уровень своей жизни до напряжения лампочки, горящей вполнакала. Он, как говорится, посредственность. Добрая, эрудированная, но посредственность. Ну а как бороться с посредственностью? Только одним способом — давая дорогу талантам.
Мазин — талант. Не просто талантливый сыщик. Талантливый человек. И что еще очень важно — надежный человек. Когда, читая повести Шестакова, думаешь о том, что среди тех, кто борется с преступниками, тоже есть такие надежные люди, становится спокойнее на душе. Николай Сергеевич вроде бы тоже человек надежный. Но надежность его скорее потенциальная. На практике, в жизни, на его надежность едва ли можно рассчитывать. Николай Сергеевич может и нас и себя подвести. Ведь мало одного прекраснодушного желания, нужны способности, свой взгляд на явления жизни, не скорректированный мнением профкома или коллег. Очень верно подметил этот характер Шестаков. Читаешь повести — сочувствуешь Николаю Сергеевичу, переживаешь вместе с ним, восхищаешься его желанием помочь Мазину, помочь попавшим в беду людям и ждешь… когда же появится Игорь Николаевич Мазин. С ним чувствуешь себя увереннее. И не только потому, что он сыщик-профессионал…
Мне как читателю было жаль, что Мазин появляется в этих повестях от случая к случаю. Хотелось, как и прежде, вместе с ним шаг за шагом идти по следам преступников, следить за ходом его рассуждений, ловить себя на том, что разделяешь многие его мысли о жизни. Но автор поставил себе другую задачу — показать еще один характер, характер, тоже типический для нашего времени, хотя и не такой привлекательный, как у Мазина. И в этом преуспел.
Повести «Остановка» и «Он был прав» отличает пристальный, более углубленный взгляд писателя на своего современника — на человека восьмидесятых годов. В лице Николая Сергеевича он предстает перед нами и как продукт целого ряда лет апатии и невнимания к требованиям жизни и в то же самое время как виновник такого состояния общества.
Характер своего героя Шестаков раскрыл без нажима и декларативности, по-художнически тонконравственный счет к Николаю Сергеевичу можно предъявить лишь в том случае, если судить его по самым высоким меркам. Но именно такой образ действий диктует чувство самосохранения. Потому что следует всерьез подумать над тем, как уберечь детей, подобных уже достаточно помятому учителями и родителями Толе Михалеву из повести «Он был прав», от судьбы Николая Сергеевича.
Писатель не анализирует причины, в силу которых складывался характер Николая Сергеевича, мы о них можем только догадываться, но в случае с Толей он четко определяет диагноз болезни: воспитание неправдой.
Много лет назад знаменитый русский юрист Анатолий Кони писал Льву Толстому:
«Полная правдивость в общественной и частной жизни мне всегда представлялась лучшим средством против всяких физических и нравственных недугов, но ложь так въелась в наши нравы, что едва ли многие захотят следовать этому рецепту».
Действительно, захотят ли?
С. Высоцкий
ОБ АВТОРЕ
Павел Шестаков родился в 1932 году в Ростове-на-Дону. Окончил историко-филологический факультет Ростовского университета. Работал учителем в школе, научным сотрудником в музее. Литературным трудом занимается с 1960 года. Был литературным редактором в журнале «Дон», собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Ростовской области. Известен как автор, успешно работающий в приключенческой прозе. Книги П. Шестакова — «Страх высоты», «Взрыв», «Давняя история», «Рапорт инспектора» и другие — неоднократно издавались в Москве и Ростове, переводились за рубежом.
В 1981 году П. Шестакову присуждена премия СП РСФСР — серебряная медаль имени легендарного разведчика Н. Кузнецова.
В издательстве «Молодая гвардия» печатались повести П. Шестакова «Через лабиринт» и «Три дня в Дагестане».



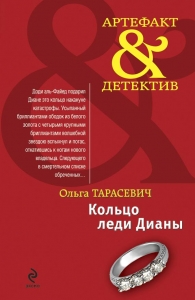



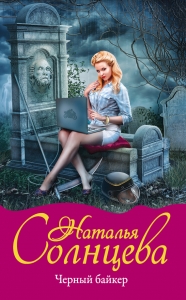


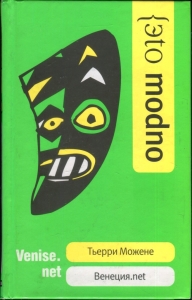


Комментарии к книге «Остановка», Павел Александрович Шестаков
Всего 0 комментариев