Елена Арсеньева Бабочки Креза. Камень богини любви (сборник)
Бабочки Креза
Бесплотнее, чем время, беззвучней ты.
И. Бродский Из тени в свет перелетая, Она сама и тень, и свет, Где родилась она такая, Почти лишенная примет? А. Тарковский— Ну и что? — холодно спросила Алёна, глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала. — Предполагается, что я запрыгаю сейчас от восторга?
— Минуточку… — сказал молодой человек, отражавшийся к зеркале рядом с этим нечтом. Он снял с нечта веселенький розовый пеньюар и предупредительно взялся за спинку кресла, готовый его отодвинуть, чтобы нечту было удобнее встать. — Теперь прыгайте, прошу!
Ни нечто в зеркале, ни Алёна в кресле не шевельнулись.
Молодой человек с бейджиком, на котором было написано «Сева», поднял безукоризненные брови, явно удивленный, что не видит ни прыжков, ни восторга. С такими бровями люди обычно не рождаются, как не рождаются солдатами. С такими бровями они становятсяпо своей доброй воле после тщательного их, бровей, выщипывания, подбривания и подкрашивания. Обычно данной экзекуции с готовностью, обусловленной многолетней привычкой, подвергают себя женщины. Молодой человек относился к редким представителям противоположного пола, которые придают своей внешности суперважное, можно сказать, основополагающее значение. Впрочем, на нем вообще пробы ставить негде было, начиная от бровей и кончая покрытыми лаком ногтями на пальцах ног, видных из умопомрачительных сандалет на платформе.
«Боже, ты все видишь, — безнадежно подумала Алёна. — Но где были моиглаза?! Поспешишь — людей насмешишь, вот уж воистину!»
Она спешила. Она всегда спешила! И жить торопится, и чувствовать спешит — это не про Евгения Онегина, это про Алёну Дмитриеву, точнее, Елену Ярушкину, одну такую писательницу-детективщицу средней степени известности. А поспешишь, как известно и как упомянуто выше, — людей насмешишь. Так вот глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала, Алёна уже и смех слышала, и разинутые от хохота рты видела.
— Вы просто не привыкли к своему новому образу, — сказал Сева. — К тому же, мадам, если вы были не готовы к резкой смене имиджа, вряд ли стоило идти стричься в экспериментальный салон.
— Да, не стоило, — согласилась Алёна. — Но в той парикмахерской, куда я обычно хожу, авария — нет воды. Мне нужно было подстричься, ну я и зашла в первую попавшуюся, а вы как раз оказались свободны…
— Вам повезло! — высокомерно сообщил молодой человек. — У меня расписан каждый час на месяц вперед. Но сегодня клиентка попала в аварию — ее «Мазду» срочно повезли в автосервис, — а потому она позвонила и сообщила, что не приедет. Вы бы слышали, как она рыдала из-за того, что вынуждена пропустить свое время!
Бровям Алёны Дмитриевой было очень далеко до бровей Севы. Во-первых, она их не красила, во-вторых, не подбривала, в-третьих, иногда даже забывала элементарно выщипывать. Однако поднимать умела не менее выразительно и даже, не побоимся сказать так, весьма красноречиво. Сейчас ее поднятые брови сообщали о сомнении, будто дама рыдала по поводу отменившейся стрижки. Даме явно машину было жалко, вот и все.
Однако же и самомнение у этого Севы!
Между прочим, само имя такое — порождающее самомнение. Алёна знала пару, так сказать, носителей данного имени, и они оба жутко задирали носы. Примеры из истории (Всеволод Большое Гнездо) и из литературы (Всеволод Вишневский) не являлись исключением из общего правила. С другой стороны, у последних двух Сев имелись все основания для высокого самомнения. У прочих — не факт…
— С другой стороны, если вам так не нравилось то, что я делаю, давно нужно было сказать, — брякнул в ту минуту Сева. И совершенно напрасно брякнул.
— Да неужели?! — так и взвилась Алёна. — Да я вам сто раз повторяла: не надо так коротко! Но вы продолжали щелкать ножницами, вас было просто не остановить! Не пойму, вы с плана сдачи остриженных волос работаете, что ли? — Алёна ткнула пальцем в кучку темно-русых прядей, которые уже сметала в совочек проворная уборщица.
Кучка собралась немалая. Алёна носила волосы средней длины, примерно до плеч. Сейчас же ее голову плотно облегала пушистая курчавая шапочка, напоминавшая прическу негритянки.
В детстве у Лены Володиной, как звали в ту пору нашу героиню, была кукла-негритяночка Салли. Теперь Алёна смотрела на себя в зеркало и вспоминала детство. Одно утешало: в порядке эксперимента Сева не покрасил ей волосы в черный цвет и — для резкой смены имиджа — заодно не вычернил ей кожу, не то сходство с Салли стало бы полным: у куклы было совершенно такое же глупо-ошарашенное выражение курносого личика, как сейчас у Алёны.
— Я с самого начала, когда села в кресло, предупредила: хочу подстричься чуть-чуть. Чуть-чуть, понимаете?! Только форму волосам придать. А вы что сделали?
— Между прочим, у вас череп удивительно красивой формы, и ваша новая стрижка ее только подчеркнула, — высокомерно сообщил Сева. — Будь моя воля, я вас просто-напросто наголо обрил бы. Такой череп, как у вас, грех скрывать от окружающих. Но я предвидел вашу ортодоксальную реакцию и не стал предлагать вам ничего подобного. На самом деле во всем виноваты ваши волосы. Я и вообразить не мог, что они так круто вьются. По моему замыслу, короткие пряди должны были мягко облегать череп, а…
— Если вы еще раз назовете мою голову черепом, я вас… я вам… — Она хотела сказать: «Дам по физиономии», но только процедила сквозь зубы: — Я вам не заплачу за работу. Честное слово! У меня и так есть большое искушение не делать этого, поскольку результат мне не нравится, а уж если еще раз услышу про череп…
— С вас три тысячи пятьсот рублей, — торопливо проговорил Сева и принялся искать на шее Алёны заклейку, фиксировавшую пеньюар.
— Что? — с трудом пошевелила она вмиг онемевшими губами. — Что вы сказали?
— Три тысячи пятьсот рублей, — повторил Сева. — Включая мытье э-э… головы…
Неужели он хотел сказать — черепа?!
Алёна не стала заостряться на том, что дважды ему повторила, мол, че… в смысле, голова у нее чистая, только утром вымытая. И это была правда, она вообще мыла голову каждое утро, поскольку лишь тогда ее легкие, пышные и кудрявые волосы красиво лежали… Эх, как уместно здесь прошедшее время, однако! Но сейчас не до деталей. Три тысячи пятьсот рублей… Сто евро за то, что тебя обстригли практически наголо, причем даже не спросив твоего на это разрешения!
Помнится, в Париже Алёна позволила себе сходить в парикмахерскую. Всего тридцать пять евро, причем после каждого щелчка ножницами у нее осведомлялись, не коротко ли, нравится ли мадам, а также не дует ли ей из окна (дело было летом) и удобно ли ей сидеть. Сплошная эстетика бытия! А здесь…
Но теперь уже не до эстетики. Теперь вопрос стоит куда серьезней: есть ли у нее с собой такие деньги? Или ей предстоит публичный позор из-за широты натуры и беспечности? Нет бы сначала взглянуть на прейскурант, а уж потом в кресло перед выщипанным Севой плюхаться!
Алёна мысленно обшарила карманы и карманчики своей очень многокарманной сумки — и вздохнула с облегчением: вроде бы позора не будет. Однако в дальнейшем ей придется поприжаться в тратах. С другой стороны, с новой прической на шампунях можно долго экономить…
Алёна скрипнула зубами (ей всегда казалось неестественным упоминание в романах о скрежете зубовном, но сейчас она поняла, что фраза как раз весьма жизненна!) и принялась выворачивать карманы сумки. Сева стоял над душой и внимательно наблюдал за ее действиями. Тут же ошивалась барышня из рецепшн, держа руку на мобильнике: наверное, чтобы вовремя вызвать милицию, если скандальная клиентка вдруг окажется неплатежеспособной. С не меньшим любопытством наблюдали за происходящим и прочие посетительницы салона: одна ради такого дела высунулась из-под фена, другая сидела в кресле и крутила головой направо и налево — от Севы к Алёне, — а поскольку ей мелировали волосы и вся голова (череп, а?) была украшена смешными рожками из фольги, казалось, будто за земными проблемами наблюдает некая инопланетянка, а рожки — вовсе не рожки, а антенны, с помощью которых на какую-нибудь там альфу Спика идет передача информации о поведении аборигенов третьей планеты от Солнца. Еще одна дама просто стояла у дверей с озабоченным видом. Когда она чуть поворачивала голову, сквозь ее локоны вспыхивали радужными огнями бриллианты в серьгах. Вроде бы там имели место быть еще какие-то камни, синие. Очень может быть, что сапфиры, да какая разница, главное — это было потрясающе. Алёна непременно разглядела бы серьги получше (она вообще была к серьгам неравнодушна, равным образом к бриллиантовым, бижутерии и даже к оригинальной пластмассе), кабы у нее имелось время. Сейчас же ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, чтобы наедине с собой оплакать свою былую красоту. Причем слово «оплакать» не метафора, высосанная из пальца: Алёна натурально с трудом сдерживала слезы.
Сунув деньги барышне из рецепш и не удостоив Севу более ни единым взглядом, она пошла к выходу. Вдруг в дверь, оттолкнув даму в серьгах, ворвалась высокая рельефная брюнетка в белых бриджах, белой норковой курточке, в белых сапогах и с белой сумкой через плечо. Окинув салон безумным взором больших черных глаз, брюнетка, грохоча каблуками, кинулась к Севе и обняла его, совершенно скрыв под массой очень длинных, очень густых и очень кудрявых черных волос.
Сева покачнулся, причем было трудно понять, то ли он не устоял под таким натиском, то ли попытался вырваться из объятий, но брюнетка, как выражаются тангерос, стояла на своей оси и фиксировала партнера.
— Севочка! — вскричала она пылко. — Ты знаешь, я отдала свою Масю уродам, пусть употребят ее как хотят, и приехала на такси. Я как позвонила тебе, что не приду, так стала натурально больная. Просто не могла пережить, что тебя не увижу! К тому же мне так надоели эти патлы! — Она тряхнула изобилием своих волос, отчего по салону распространился головокружительный аромат незнакомых Алёне духов. — У меня от них голова болит, и я ими за все цепляюсь. Хочу, чтобы ты меня постриг коротко, короче некуда. Желаю начать новую жизнь! Мася сдохла, тут уж ничего не поделаешь. Мне все равно новую тачку придется покупать, и пусть это будет какая-нибудь отвязная «Ланча», что ли. Но ты же меня знаешь: новая машина — новый имидж, новая прическа!
Первый миг оторопи миновал, и Алёна, которая была в принципе дамочка с фантазией и весьма востра умом (без названных составляющих невозможно написать даже одного-разъединого детективчика, а не такое ненормальное их количество, которое вышло из-под пера нашей героини), догадалась, что сдохшая Мася, которую отдали на употребление уродам, скорее всего, автомобиль под названием «Мазда». Писательнице как-то приходилось общаться с человеком, который называл свой «Рено» Ренатой, так почему «Мазде» не быть Масей, так же как «Форду» — Федей, «Мицубиши» — Мишаней, «Тойоте» — Тоней, «Ягуару» — Яшей, «Волге» — Вовой, а «Хонде» — Фросей? При чем тут Фрося, спросите вы? Мол, не просматривается ассоциативная связь. Ну а в других случаях она просматривается, что ли?
Умение мыслить логически подсказало нашей героине, что брюнетка в белом — та самая клиентка, вместо которой она угодила в кресло экспериментатора Севы. Ага, значит, тот не лгал, уверяя, что дама рыдала по телефону. В самом деле, очень похоже, что рыдала она не из-за покалеченной Маси, а из-за невозможности явиться к Севе. И вот, вы только поглядите! Явилась-таки! И хочет постричься налысо!
Где-то Алёна читала, что древнегреческие (а может, древнеримские или еще древнекакие-то) женщины в знак скорби по усопшему супругу состригали себе волосы и сжигали их на его погребальном костре. Может статься, если Мася окажется невосстановимой, брюнетка устроит ей пышную кремацию и бросит в костер свои тугие черные локоны, которые срежет Сева…
Фантастика, честное слово!
Экзальтированная брюнетка между тем оторвалась от Севы, сгребла с его лица и тела массу своих волос (ей-богу, об этом изобилии так и хотелось выразиться по-старинному: власов!) и плюхнулась в кресло. Откинулась на спинку, вытянула ноги и блаженно замерла, ожидая мгновения, когда ее головы (черепа?) коснутся руки парикмахерского божества.
Однако божество стояло, нерешительно пощелкивая ножницами (наверное, так Зевс поигрывал перунами, размышляя, к чему бы руку приложить, титанов в Аид низринуть или не в меру ревнивую Геру стегануть для острастки) и поглядывая то на брюнетку, то на даму в бриллиантах.
Смысл сей мизансцены внезапно сделался вполне понятен Алёне. Так ведь сейчас настала очередь стричься именно этой дамы! А брюнетка уже расселась, и не похоже, что ее возможно с места сдвинуть.
А между тем придется.
— Валечка, — робко заговорил Сева, — лапа, давай запишемся на какой-нибудь другой день, а? Ты же опоздала, твоя очередь уже прошла… Хочешь, приходи через две недели, а, зая?
Алёна снова скрипнула зубами (эдак и эмаль стереть недолго, честное слово!) — «лапа», да еще и «зая»! Нет надо поскорей уходить из этой парикмахерской!
Как назло, она уронила сначала шарф, потом перчатки, потом пачку одноразовых платков… Вообще процесс одевания как-то неоправданно затянулся.
— Через две недели?! — так и взвилась брюнетка. — Какого…?!
Услышав употребленное ею слово, Алёна уронила все, что только что собрала с полу. О зубах лучше вообще молчать.
— Ну, лапа… — виновато пробормотал Сева. — Ты же знаешь, у меня запись, а сейчас очередь вон той дамы… Если бы ее не было, тогда, конечно, зая…
Брюнетка повернула голову в сторону обладательницы бриллиантовых серег, и Алёне вдруг показалось, что ворох ее черных кудрей зашевелился — некоторые пряди будто начали приподниматься, раскачиваться и потянулись к сопернице в борьбе за парикмахерское кресло и Севу…
«Медуза Горгона! — мысленно ахнула Алёна. — Ну один в один!»
— Извините, — поспешно произнесла дама в серьгах. — Я раздумала стричься. Я… запишусь на какой-нибудь другой день, попозже. Прошу прощения. Всего доброго!
И ринулась из зала, схватив с вешалки сиренево-серую шубку. Конечно же, норковую, как же иначе. Вообще на вешалке обитали сплошь норки. А среди них был один стриженый мутончик с ламой, и принадлежал он, извините, писательнице Дмитриевой.
Черные локоны перестали шевелиться. Змеи успокоились и улеглись на прежнее место. Они ведь не знали, что Медуза Горгона решила с ними расстаться, не то уж точно закусали бы ее насмерть!
Алёна наконец оделась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, отправилась восвояси. Настроение у нее неожиданно исправилось, и это свидетельствовало, во-первых, о том, что все на свете относительно, даже потеря кудрей, а во-вторых, о том, что наша героиня была весьма непредсказуема как в настроениях своих, так и в поступках, в чем нам еще не раз предстоит убедиться.
Она вышла из салона, поежилась, ощутив, как холодно стало теперь голове, но решила больше не зацикливаться на неприятных эмоциях, а искать позитив, и, подняв воротник, спустилась с крыльца, намереваясь отправиться на поиски означенного позитива в ближайший книжный магазин. Сейчас бы очень не помешала какая-нибудь новая Гавальда… а может, старый любимый Борхес, книжка которого у Алёны когда-то была, но куда-то запропала (наверное, затырил какой-то злодей, взявший почитать и не вернувший). Вопреки расхожему мнению о том, что чукча не читатель, чукча — писатель, писательница Алёна Дмитриева читала много. Ну, может, потому, что была все же не чукчей, а вполне русской, правда, с дальней примесью капельки буйной абхазской крови, что и делало ее такой порою вспыльчивой… но отходчивой, заметим. От крыльца в обход дома к тротуару вела узенькая дорожка, и на ней стояла, загораживая путь Алёне, дама в бриллиантах. Она застегивала шубку и, услышав за спиной шаги, обернулась.
А Алёна, взглянув на нее повнимательней, даже споткнулась, с трудом сдержав восхищенное «ах!».
На самом деле ослепляли вовсе не бриллианты в розовых ушках — поражала воображение сама дама. Ей было лет шестьдесят, не более (ну да, пустячок такой!), однако она выглядела совершенно так, как, по мнению Алёны, должна была выглядеть настоящая столбовая дворянка. Великолепно одета, разумеется, не в турнюры и кринолины, а в полном соответствии с современной модой — только очень изысканно и дорого. Самая малость макияжа, а духи… ого какие духи! Явным образом не на пенсию grande-dame существовала, одевалась вот в такие легонькие норковые шубки и сапожки змеиной кожи, вдевала в ушки какие-то немыслимые серьги и причесывала свои темно-русые, с продуманной сединой волосы (зачем еще какой-то Сева ей понадобился, совершенно непонятно?), а также посещала салоны красоты. Все как надо! С нее бы портрет писать великому художнику да подпись к нему поставить примерно вот такую: «Портрет графини N. N.». Или даже — княгини… При том совершенно ясно, что родилась она году примерно в тысяча девятьсот сорок седьмом, то есть в то время, когда дворянство, тем паче столбовое и титулованное, было уже выкорчевано, или, выражаясь языком соответствующей эпохи, ликвидировано как класс. Но слово «порода» само собой приходило в голову при первом же взгляде на точеное, худое лицо, покрытое патиной морщин словно нарочно для того, чтобы подчеркнуть изысканную давность происхождения красивой, все еще очень красивой дамы со стройной фигурой. А стоит только представить, какой она была в минувшие, молодые свои лета! Именно о таких говорят: «Из-за нее города горели!»
Алёна тихонько вздохнула. Она тоже была ничего себе, и в минувшие годы, и в описываемое время, однако города из-за нее точно не горели. Чего не было, того не было. Впрочем, может, оно и к лучшему. Вот еще пожаров не хватало…
Дама улыбнулась Алёне и вдруг сказала:
— На самом деле я должна вас поблагодарить. Увидев, что юноша сделал с вашими волосами, причем не обращая внимания на протесты, я поняла, что мне этого точно не надо.
От ее жизнеутверждающих слов Алёна чувствовала, что порция позитива ей потребуется побольше, чем планировалось сначала. Придется купить и Гавальду, и Борхеса, а также прихватить какой-нибудь красивый альбом. Желательно о мифологии в искусстве — именно такие картины всегда невероятно повышали Алёне настроение.
Она с усилием улыбнулась, ощущая себя невероятной уродиной.
— А знаете, — проговорила дама задумчиво, меряя ее пристальным взором, — я вообще-то чушь спорола. Как ни странно, стрижка вам идет. И не пойму, в чем дело. То ли у вас такой тип лица, которому все идет, то ли в самом деле Сева гениален.
— Это у вас такой тип лица, которому все идет, — усмехнулась Алёна. — Так что вы вполне могли остаться и обрить голову.
Дама была красивая, слов нет. Но бестактностей Алёна терпеть не могла!
У дамы возмущенно раздулись ноздри, но тут же она усмехнулась:
— Один — один! Извините, я ляпнула не подумав.
— И вы меня извините, — прочувствованно сказала Алёна, но не став уточнять, что сама-то она ляпнула подумав.
В ту минуту позади них послышался резкий звук распахнувшейся двери, а потом всполошенный голос:
— Наталья Михайловна!
Дама обернулась.
С крыльца слетел Сева. Чуть не упал, поскользнувшись платформами на обледенелой дорожке, смешно вильнул своими худыми ногами, обтянутыми чрезмерно узкими брюками.
— Наталья Михайловна, сейчас позвонила клиентка, которая должна была прийти через час. У нее проблемы — срочно надо собаку в ветеринарную клинику везти, она просто рыдала оттого, что вынуждена пропустить свое время, но, во всяком случае, через час я вполне могу заняться вашими волосами. Может быть, вы подождете? Мы можем предложить вам кофе… чай… зеленый или черный, на выбор.
— Спасибо, нет, — мягко сказала Наталья Михайловна. — Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу, а она заболела, вот я и заглянула сюда. Тем более салон напротив моего дома, да такая вывеска у вас эффектная.
Она махнула рукой, указывая на висящую сбоку от двери огромную пеструю бабочку из какого-то блестящего материала, напоминающего шелк. Парикмахерская называлась «Мадам Баттерфляй», что говорило об эрудированности ее владельцев. Ну кто, в самом деле, кроме сугубых знатоков и любителей, помнит сейчас старую оперу Пуччини, которая куда чаще именуется по-другому — «Чио-Чио-сан». Да и про Чио нынче никто не знает, вот разве что кто-то вспомнит, что есть такая песня группы «Кар-мэн»…
— Ой, вы оценили, да? — Сева зарделся, как невинная девица, даром что был ростом под метр восемьдесят и мускулист. — Это я придумал. Красиво, верно? Моя любимая бабочка — орнитоптера крезус Валлас. Описана лепидоптерологом Валласом в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году.
— Кем Валласом? — растерялась Алёна.
— Лепидоптерологом, — повторил Сева. — Лепидоптеролог — человек, изучающий бабочек. Лепидоптерология — наука о бабочках, слово произошло от латинского lepidoptera — бабочка.
— Снимаю шляпу! — восхитилась Алёна. — То есть сняла бы, если бы она у меня была. Такие энциклопедические познания… Честно говоря, я тоже на бабочку загляделась, вот и зашла. Умеете людей приманивать, ничего не скажешь… — Она грустно вздохнула.
— Вы, наверное, в какой-нибудь энциклопедии картинку увидели, да? — спросила Наталья Михайловна.
— Да я вообще лепидоптерологией с детства увлекался, — сказал Сева. — Особенно бабочками. Когда классе в восьмом учился, даже думал на биофак поступать. Потом заболел визажем, но страсть к бабочкам осталась. Обожаю бабочек и цветы! Они, как мне представляется, бесполы — совершенные существа, андрогины, какими люди были, по античным представлениям, раньше, до того, как боги разделили их на мужчин и женщин.
Так, кое-что во внешности женственно-брутального Севы стало объяснимо. Вообразил себя андрогином? Или… не вообразил? А впрочем, его дело!
— Бесполы, значит? — хмыкнула Алёна. — А как же насчет пестиков и тычинок у цветов? А у бабочек ведь тоже, кажется, есть самцы и самки.
— Их тоже разделили боги, — горько вздохнул Сева и покачал головой, как будто осуждал проступок сей, совершенный богами без спроса у него. — Я ведь говорил только о своем восприятии. Мне кажется, что два крыла бабочек — образ их двуединой сущности…
— Минуточку! — возразила Алёна, сама не понимая, почему не может угомониться и оставить в покое несчастного андрогина вместе с его фантасмагориями. — Но вот у человека две ноги и две руки. Это тоже символ его двуединой сущности?
Сева посмотрел на нее сверху вниз:
— Вы просто ортодокс. Вы мыслите схемами. Мне вас по-человечески жаль…
— Да не ортодокс я, а просто спорщица, — покаянно призналась Алёна. — Извините. Это от растерянности. Просто мне ни разу не приходилось видеть парикмахера-лепидоптеролога.
— Да какой я лепидоптеролог? — смешно сказал Сева с интонациями некоего мельника, который уверял, что он ворон, а не мельник. — Я увлечен только бабочками. И не я один, такое впечатление. Хотите, что-то покажу?
Оскальзываясь и для поддержания равновесия взмахивая руками, словно бабочка крыльями, причем широченные в проймах и сужающиеся к запястью рукава его бледно-голубого (хм-хм…) рабочего халата усугубляли сходство, Сева заспешил за угол дома, приглашающе улыбаясь дамам. Те озадаченно переглянулись и заспешили за ним, чтобы увидеть… серую унылую стену, на которой были нарисованы две бабочки. Одна была зеленая, ярко-зеленая, как на вывеске, а вторая — сапфирово-синяя, с белыми пятнышками на крыльях.
— Боже! — обронила Наталья Михайловна.
А писательница Дмитриева только головой покачала. Рисунок был поразительно хорош! Рисовали, видимо, цветными мелками, но такими яркими, что цвет не поблек даже на сером бетонном фоне. Бабочки были совершенно огромными, живыми, вот только что не трепещущими, и если бы Алёна не убоялась трюизма, который ближайший родич банальности, она непременно подумала бы, что эти бабочки вот-вот готовы вспорхнуть со стены и пуститься в полет над подтаявшими мартовскими сугробами.
— Бабочка Зефир бриллиантовый! — произнес Сева голосом завзятого конферансье, представляющего публике новую звезду. — А также бабочка сапфировая, иначе говоря — морфида Менелай!
— Менелай — это который обманутый муж Елены Троянской? — уточнила Алёна. — Странно, мне он представлялся довольно-таки невзрачным существом. А в его честь такую красоту назвать…
— Вопрос не ко мне, — сказал Сева, — но эта бабочка в самом деле так называется и так выглядит. Удивительно точно нарисована, знаток работал.
— Зефир бриллиантовый? — недоверчиво повторила Наталья Михайловна, разглядывая зеленую бабочку. — Зефир…
— Про зефир — худо-бедно понятно, — задумчиво произнесла Алёна. — В античной мифологии Зефир — бог западного ветра… Ночной Зефир струит эфир, бежит-шумит Гвадалквивир, и всё такое. Бабочка легка, как ветерок. Аналогия налицо. Но почему зефир бриллиантовый, если он такой зеленый?
— Он не просто зеленый — он блестящий, — запальчиво возразил Сева. — Я знаете сколько времени такой материал для выставки искал, чтобы блестел даже в пасмурный день! Ведь значение слова «бриллиант» — блестящий.
— Ну да, — недоверчиво покачала остриженной головой Алёна. — Значит, зеленка, ну, бриллиантовая зелень, которой царапины мажут, по-вашему, тоже блестящая? Да нисколько! Зеленая, как зелень, и жутко пачкается.
Сева посмотрел на нее свысока:
— На самом деле бриллиантовая зелень — это порошок из кристалликов зеленовато-золотистого цвета, его разводят на пятидесятипроцентном спирту. Порошок блестит, поэтому называется не только бриллиантовая, но и блестящая зелень.
— Так это вы зефир с Менелаем нарисовали? — насмешливо осведомилась Наталья Михайловна.
— Нет, — громко вздохнул Сева. — Не наделен талантом, увы. Только в воображении рисую образы и воплощаю их в жизнь… — Он мечтательно поглядел на прическу Алёны, но тотчас воровато отвел глаза. — А вот одна моя клиентка… да вы ее видели, Валентину-то… и рисует прекрасно, и делает потрясающие броши и заколки из бисера. У нее обширная клиентура, потому что ее изделия выглядят просто потрясающе, украсят… — Внезапно Сева оборвал свою речь, в которой появился отголосок рекламного пафоса, и в его глазах мелькнуло выражение ужаса: — О боже, да ведь я и забыл, что меня Валентина ждет!
И, даже не простившись, он убежал, стуча платформами, к своей Медузе Горгоне, на голове которой уж небось вовсю зашевелились нетерпеливые черные змеи.
— Терпеть не могу бабочек! — вдруг сказала с отвращением Наталья Михайловна. — Возьмешь их за крылышки — так мерзко шелестит под пальцами, бр-р! И пыльца осыпается, аж сухо в горле становится. — Женщина передернулась. — А как они лапками судорожно сучат, вы обращали внимание?
Алёна же обратила внимание на слово «сучат», подумав, что, ежели бы саму Наталью Михайловну досужий лихоимец вдруг схватил за крылышки (ну, конечно, при условии, что они у нее откуда-то вдруг взялись бы), она небось тоже засучила бы и лапками, и ручками, и ножками. Однако наша героиня дипломатично выразилась в том смысле, что трогать бабочек необязательно, если так уж неприятно, а лучше смотреть на них издалека, ибо они и впрямь напоминают ожившие цветы, если употребить чье-то расхожее выражение. Автора выражения, впрочем, вспомнить Алёне не удалось, зато она внезапно взяла да и блеснула эрудицией, вспомнив, что Набоков, к примеру, бабочек просто обожал, не зря же написал:
Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей, вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь. Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, то припадая к коре, то обращаясь к лучам… О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь: голубоокая ночь в раме двух палевых зорь…Тут чтица-декламаторша умолкла, ибо у Натальи Михайловны вдруг возникла такая тоска в глазах, что Алёна сочла за благо затолкать набоковский дактиль в те же бездны памяти, откуда он столь внезапно и прихотливо возник. Надо было срочно принимать какие-то меры, дабы сгладить невыгодное впечатление (наша героиня была мнительна), и Алёна примирительно сказала:
— А все-таки красивая картинка. И жителям вон того дома повезло, — она махнула в сторону очень барственного четырехэтажного особнячка недавней постройки — из тех, к которым в Нижнем Новгороде прочно прилипло определение «элитка». — А то смотрели они с осени до весны на голую серую стену… Ладно еще летом — кусты, трава, цветы, сейчас же такая тоска… Зато теперь вот бабочки к ним прилетели!
Проходивший мимо невысокий мужчина несколько угрюмого вида, с бородой и в очках, при виде бабочек вдруг ахнул, остановился, достал из огромной сумки, висевшей через плечо, фотоаппарат (с длинным объективом, не мыльницу какую-то!), сфотографировал бабочек и двинулся дальше гораздо бодрее, чем прежде. Конечно, лица его Алёна уже не видела, но ей почему-то показалось, что на нем наверняка поубавилось угрюмости. А может быть, даже заиграла улыбка.
— И вообще, — продолжала фантазировать Алёна, — если бы я могла, я бы всю эту унылую стену без единого окошка изрисовала цветами, бабочками и облаками, между которыми летали бы ангелы!
— Вы случайно не учителем русского языка и литературы работаете? — снисходительно осведомилась Наталья Михайловна.
— С чего вы так решили? — изумилась Алёна.
— Да вот сказки сочиняете, стихи декламируете, — пояснила Наталья Михайловна и улыбнулась так, что Алёна немедленно вспыхнула:
— Нет, я не учительница, а частный детектив.
В принципе она не столь уж сильно соврала, поскольку в своих романах выступала в роли преступника и следователя в одном лице, изо всех сил стараясь сначала себя запутать, а затем успешно распутывая собственные коварные замыслы. Конечно, Алёна не ожидала, что Наталья Михайловна сделает такое лицо и такие глаза.
— Послушайте… — заговорила она потрясенно, — а ведь я как раз ищу человека, который мог бы расследовать преступление!
— Преступление? — зачем-то переспросила Алёна.
Наверное, затем, чтобы получить исчерпывающий ответ:
— Ну да. Преступление. Убийство.
1918 год
«Ну, кухарка, — подумала Аглая. — Ну и что такого?» И пожала плечами.
Так она думала за последние полчаса раз примерно десять. И пожимала плечами столько же раз.
«Если этот мир не может стать таким, каким ты хочешь его видеть, надо самому стать таким, каким хочет видеть тебя этот мир», — говаривал ее отец. Он уже был тогда болен, чувствовал, что скоро умрет, но старался жить, не скрипя зубами от боли, а получая от жизни удовольствие. Для него удовольствие было не в изобильной еде и питье (с его-то больным желудком!), не в разгуле и роскошестве (с его-то вечной нищетой, к которой приучила жизнь на нелегальном положении), а в работе. В школе для крестьян, которую он устроил в имении. Днем в ней учились дети, вечерами она открывалась для взрослых. Правда, взрослые, само собой, туда и не заглядывали, но отец верил, что все со временем переменится, люди просто должны привыкнуть и тогда придут.
Особенно много таких надежд отец лелеял после того, как в феврале скинули царя. «Вспомнил свою молодость», — снисходительно подумала тогда Аглая, которая знала, что двенадцать лет назад, в девятьсот пятом году, на баррикадах в Москве отец всерьез «делал революцию». Там же он получил пулю в живот, но каким-то чудом остался жив, только — на всю жизнь болен. И смирился со случившимся, постарался сделаться таким, каким хотел видеть его этот мир. Революционеру невозможно сообразовать свою жизнь с шестиразовым питанием, и протертыми супчиками, и паровыми котлетками, и жиденькой нежной рисовой кашкой. Но небогатому помещику, владельцу небольшого имения в пятнадцати верстах от Нижнего, можно вполне. Он распростился с «бурями молодости», как он это называл, и вернулся к жене, ранее покинутой за то, что, полюбив молодого социалиста, не решилась уйти за ним в «новую жизнь».
Именно тогда Аглая и увидела отца впервые. Ей было в ту пору тринадцать, и она не скоро привыкла к изможденному, тощему, желтолицему человеку, который поселился в их с матерью доме и вокруг которого отныне завертелась вся их жизнь. Потом привыкла и даже полюбила его — особенно когда в одночасье сгорела от инфлюэнцы, подхваченной во время краткой поездки в город, мама… Дочь и отец очень сошлись, жили, поддерживая друг друга и дружбой, и начавшей пробуждаться родственной любовью, и истинной страстью к делу рук отца: народной школе. И чем все кончилось?! Отец умер, увидев, как «крестьянские дети» радостно подожгли дом, в котором она размещалась. Для детей школа была всего лишь «пережитком старого мира», который в октябре семнадцатого рухнул окончательно. Господский дом, стоявший почти вплотную к школе, не сгорел только чудом: ветер внезапно переменился и понес пламя в другую сторону, к деревне, так что сгорело несколько овинов, за что поджигатели были крепко выпороты по постановлению сельского схода. Однако стену дома опалило изрядно, отчего внутри поселился неискоренимый запах холодного дыма, ставший для Аглаи самым страшным на свете запахом — знаком разрушения и смерти.
Она не любила вспоминать ужас прошедшего года, проведенного в родительском доме. Жизнь была лишенной надежд, она была обреченной, Аглая каждый день говорила себе, что надо уйти отсюда, из деревни, где она стала чужой всем и где все стали ей чужими. Даже жалости от людей, которые равнодушно смотрели, как горит школа, она не хотела. Конечно, надо было уйти раньше, но как уйти от родных могил? Вот и дождалась того, что однажды ночью выскочила на улицу, можно сказать, в чем была: после приезда очередного комиссара барский дом был тоже сожжен. Деревенские сбежались — кто поглазеть на огонь, кто поживиться. Спасти из мебели, книг и картин, маминых любимых картин, не удалось почти ничего, да и то, что осталось, растащили «спасальщики». Аглая, собрав небольшой узелок из вещей, которые смогла вернуть, устыдив баб, навалившихся было на «барские наряды», ушла по большой дороге, даже не оглянувшись на догоравшие останки прежней жизни. А что еще оставалось делать, если эта жизнь исторгла ее из себя?!
Кое-как добравшись до Нижнего (пригородные поезда не ходили, пришлось все пятнадцать верст отмахать пешком), она поселилась у прежней гимназической подруги (Аглая в свое время заканчивала городскую гимназию), вернее, в доме у ее тетки. Да и пригрелась было там, приходила в себя, проживая те небольшие деньги, которые удавалось выручить за продажу материнских украшений и нескольких золотых червонцев: они оставались в цене, даром что считались осколками проклятого прошлого. Но ни продать толком, торгуясь, ни с умом тратить вырученное она не умела, оттого деньги уходили быстро, а потом кончились вовсе. Подруга тем временем вышла замуж за приезжего агитатора и отправилась с ним в Москву. Ее тетка мигом повысила плату за комнату и прямо сказала Аглае: не можешь платить — выкатывайся. Нужно было искать работу, но где и какую?! Что она умела делать? Да ничего. Разве что учить детей тому, что знала сама. Но кому это нужно в сошедшей с ума стране?!
Но однажды разговор, который она услышала, стоя за керосином, мол, доктору Лазареву, что живет в бывшем доме купца Малофедина на Малой Покровской, на углу Ильинки, в четвертом номере, нужна кухарка, заставил Аглаю встрепенуться. Судя по разговору, одна из женщин была соседкой того самого доктора. Так вот, она говорила, что кухарка доктору нужна не простая, а умеющая готовить самые что ни на есть деликатные блюда, потому что у него больной желудок.
— Хорош же он доктор, если сам себя вылечить не может! — фыркнула собеседница. — Сапожник без сапог!
За керосином Аглая достояла, отнесла его своей квартирной хозяйке, выслушала новую порцию упреков в том, что за жилье не плачено, а потом улучила минутку — да и удрала, не прощаясь, зажав под мышкой свой узелок, сильно уменьшившийся, где была пара штопаного белья, метрики, немножечко денег — про самый черный день! — да томик Пушкина: все, что осталось от прежней жизни. Нет, еще у Аглаи имелось черное платье, когда-то служившее траурным, а теперь ставшее повседневным, а также жакетик. Если она не устроится на работу и не обживется, в жакетике придется и зиму зимовать… если она прежде с голоду не умрет. А служа кухаркой, может, и не умрешь… Главное, чтобы доктор Лазарев ее взял!
Она легко нашла трехэтажный, богато украшенный лепниной дом, стоявший чуть в глубине от дороги и отгороженный палисадом. Вошла в парадное — и покачала головой. Некогда, пожалуй, тут все и впрямь выглядело парадно: высокие окна с витражами, ковровые дорожки, широкие перила, чистота и порядок, — теперь же о существовании витражей можно было догадаться только по осколкам цветных стекол, торчащим в развороченных и разбитых оконных проемах, о некогда расстеленных дорожках — по крюкам для металлических прутьев, которые должны были их поддерживать на ступеньках, об имевших место быть перилах — по гнутым металлическим полосам, вкривь и вкось торчащим обочь лестничных пролетов, о чистоте и порядке… О существовании чистоты и порядка в заплеванном, прокуренном и забросанном окурками, изрядно загаженном парадном уже ничто не напоминало. Зато наличествовала наглядная агитация. «Бей буржуев!» — было написано на одной стене. На другой большевикам советовали отправиться на неприличные буквы. А около самой двери стена была забрызгана чем-то красным. И засохшие капли были жутко похожи на брызги крови.
Аглая поднялась на второй этаж, в котором располагался четвертый номер, и остановилась, разглядывая обитую кожей дверь с медной табличкой: «Д-ръ медицины И. Г. Лазаревъ». Сбоку висел шелковый, весьма захватанный шнурок звонка с толстой кистью внизу. Аглая слышала, что теперь у многих господ дверные звонки электрические, с кнопочкой, но, уж конечно, когда электричества нет, по-старинному звонить удобнее. Она уже набралась было храбрости дернуть за шнур, как вдруг изнутри донеслось лязганье засовов. Аглая отчего-то страшно перепугалась и отскочила подальше, даже взбежала на несколько ступенек выше и вообще изо всех сил постаралась сделать вид, будто поднимается на третий этаж, а квартира под номером четыре ее в жизни не интересовала.
Дверь распахнулась, и оттуда выскочила девушка лет семнадцати, маленькая и проворная, словно птичка, и, словно птичка, востроносенькая. На ней было скромное темное платье с белым кружевным воротничком и кружевной передничек. Девушкины волосы были гладенько причесаны и свернуты на затылке в некий кукиш, а спереди, надо лбом, имела место быть небольшая кружевная же наколка.
— Мустафа! — крикнула девушка, свесившись в лестничный пролет. — Где ты, ирод?! Неси дрова! Сколько раз тебе говорено?
Нетрудно было догадаться, что девушка зовет татарина-дворника, служившего заодно и истопником. Немного странно показалось Аглае, что дворника кличут с парадного входа, а не с черной лестницы. Неудивительно, что Мустафы не было ни слуху ни духу.
— Ах, басурманская душа! — воскликнула горничная с тихим отчаянием. — Неужто на митинг побежал?! Да что ты там понимаешь, на тех митингах?
Вот теперь стало понятно, почему Мустафу ищут на парадной лестнице. Видать, тоже возомнил себя гегемоном, и по черной лестнице ходить ему сделалось зазорно. А впрочем, ныне парадная лестница от черной ничем по виду и не отличалась. Ну совершенно ничем!
— Пойти разве на улице поглядеть? — сама себе сказала горничная задумчиво. — Вдруг где-нибудь за углом стоит, лясы точит?
И она проворно засеменила вниз по лестнице и выскочила из подъезда. Причем Аглая заметила, что, пробегая мимо красных брызг на стене, девушка перекрестилась. Знать, и в самом деле приключилось здесь ужасное душегубство!
И тут Аглаей овладело уныние. Горничная была такая чистенькая, такая гладенькая, будто перепелочка, такая щеголиха! Нет, она исхудалую, плохо одетую Аглаю и на порог не пустит. Даст ей от ворот поворот и даже слушать не станет про то, что готовит она отменно. Да и не только в том дело, что Аглая одета бедно. По ней сразу видно, что она — из хорошей семьи, из благородных. Как теперь говорят — белая кость, голубая кровь. Теперь такие всяким горничным ненавистны. И перепелочка с превеликим удовольствием отправит Аглаю восвояси. А вот господину — вернее, товарищу — доктору, очень может быть, даже понравится, что кухаркой у него будет дворянка, бывшая гимназистка. Хорошо бы сначала встретиться с ним, а уж потом предстать пред немилостивые очи горничной.
Совершенно непонятно, почему Аглая убедила себя, что очи ее будут немилостивы, но она была очень упряма. Еще матушка говорила, бывало: что в голову дочери вобьется — нипочем не выбьется. Сейчас вбилась вдруг в Аглаину голову мысль о заведомой недоброжелательности к ней докторовой горничной, та мысль и толкнула ее украдкой войти в прихожую, чтобы поискать хозяина…
Аглая очутилась в помещении, которое было бы просторным, но стало тесным из-за того, что было загромождено огромным зеркалом, которое тускло поблескивало в причудливой раме, а также вешалкой, сплошь завешанной каким-то невероятным количеством шуб. Их тесная масса загораживала очень изрядный угол.
Неужели это все докторовы шубы? Если так, богатый же он человек!
Аглая растерянно водила глазами, пытаясь понять, в которую из трех дверей, выходящих в прихожую, ей нужно заглянуть, чтобы найти доктора, как вдруг услышала торопливые шаги на площадке. Горничная возвращалась! Быстро же она управилась. Надо быть, не нашла Мустафу.
И только тут до Аглаи дошло, какую глупость она содеяла. Да ведь ее же за воровку могут принять! Схватят и слушать не станут, а вызовут чеку, а там, говорят, разговор что с контрой, что с ворами короткий: в момент к стенке поставят. К тому же помещичья дочь в чеке запросто за контру сойдет.
Испугавшись до полной потери разума, Аглая метнулась за шубы и затаилась там.
Пусть горничная уйдет из прихожей — Аглая или выберется из квартиры, или направится доктора искать. Сейчас же она ни на что не способна — ноги от волнения подкашиваются.
Позади шуб находилась стена. Аглая оперлась на нее спиной, прилагая массу усилий, чтобы не задохнуться, не чихнуть, не закашляться от пыли и нафталина, а главное — не заорать в голос от страха: что-то беспрестанно швыряло, возилось, шелестело вокруг… может быть, жадно насыщалась неистребимая моль, которая плевать хотела на весь нафталин в мире, а может быть, здесь было мышиное гнездо. О нет, только не мыши…
Аглая стиснула зубы и изо всех сил постаралась отрешиться от внутренней жизни, происходящей в шубном мире. В конце концов, мыши — не волки, не съедят! И вообще, все это суета сует. Гораздо интересней было то, что происходило в мире внешнем, доступном ее зрению через маленькую щелочку, оставленную между висящими на вешалке бобрами, медведями, лисами, белками и, очень может быть, даже и соболями.
А происходило там вот что.
Горничная закрыла дверь. Да не просто закрыла, а заложила засов, повернула ключи в двух замках и заложила задвижку.
«Ну, я попалась так попалась! — с ужасом подумала Аглая. — Как же я отсюда выберусь?! Дверь-то мне в жизни не открыть! Разве что придет кто… Господи, пусть кто-нибудь придет! Пусть горничная откроет дверь, чтобы я смогла сбежать!»
Видимо, Господь сейчас был в духе и услышал ее молитвы, потому что немедленно раздался оглушительный трезвон — кто-то изо всей мочи дергал шнурок звонка с той стороны двери. Дергал нетерпеливо, яростно…
Святые угодники, а что, если чека пришла арестовывать хозяев? Или явился наряд красных революционных матросов из недавно образованной Волжской флотилии? Матросы частью в анархисты записались, а частью верно служили большевикам, но и те, и другие славились своей лютостью и свирепостью. Вот как ворвутся они сюда… Удастся ли Аглае за шубами отсидеться? Или ее найдут и тоже арестуют?
Горничная подошла к масляной лампе, стоявшей на гнутоногом столике, и подкрутила фитиль. Прихожая озарилась довольно ярким светом.
— Сейчас, сейчас… — прочирикала горничная, глянув в глазок. — Тише, тише, барыня, звонок оборвете, я уж открываю!
«Ага, значит, не красные революционные матросы пришли, а какая-то барыня. Забавно, — подумала Аглая, — какая же может быть барыня после октября семнадцатого года?»
Тяжело громыхнул засов, потом защелкали ключи в замках и залязгали задвижки. Наконец дверь распахнулась.
— Какая я тебе барыня, ты что, Глаша, ума лишилась? — раздался насмешливый голос, и на пороге появилась женщина, при виде которой Аглая просто остолбенела.
Нет, она не была ни барыней, ни матросом, но ее вполне можно было назвать красной… потому что она была одета в красное. Пламенела кумачовая косынка, низко надвинутая на лоб, отчего как-то даже неразличимы делались черты лица. В яркую красноту отдавала кожаная куртка с алой шелковой розеткой в петлице. Конечно, юбка и сапоги на женщине были самые обычные, черные, но на них даже и внимания как-то не обращалось — взгляд так и прикипал к куртке и косынке. Даже тяжелый пояс, стягивавший ее куртку в талии, был красным, однако на нем висела еще одна вещь, выбивающаяся из красного революционного ансамбля: черная тяжелая деревянная кобура «маузера». И наверняка это была не просто пустая кобура, наверняка в ней и «маузер» был!
— Великодушно извините, ваше превосходительство, госпожа комиссарша, что заставила вас ждать! — всполошенно бормотала горничная, которую, как только что выяснилось, звали Глашей.
— Не госпожа комиссарша, а товарищ комиссар, — наставительно произнесла красная женщина. — Сколько раз тебе говорено было!
— Так точно, товарищ комиссар! — вытянулась во фрунт маленькая горничная. — Извините, стало быть, великодушно за опоздание. Я кофей варила для господина-товарища доктора, а на кухне звонок плохо слышен, да еще и керосинка гудит как оглашенная.
— Кофе варила? — изумилась яркая гостья. — С каких пор ты стала кофе варить? А кухарка у вас на что?
— Да ведь она сбежала, товарищ комиссар! — возмущенно сообщила Глаша. — Сбежала с красной революционной матросней! — И тут бедняжка спохватилась, аж за щеки схватилась: — Ой, что я ж такое сказала?! Простите, Христа ради, ваше превосходительство, обмолвилась по глупости!
— Ничего, со мной можно обмолвиться, — усмехнулась пламенеющая женщина. — Но все же лучше сказать, что кухарка ваша нашла себя в новой жизни, встала на путь революционных преобразований рука об руку с прогрессивно настроенным товарищем.
— Прогрессивно… рука об руку… — повторила горничная как зачарованная. И тут же снова схватилась за щеки, что было у нее, видимо, выражением превеликого отчаяния: — Да мне ж, темной, вовеки сего не запомнить! Надобно записать. — И она, сунувшись в карманчик своего передничка, извлекла на свет божий четвертушку синей бумаги и огрызок карандаша: — Не откажите повторить, ваше превосходительство, товарищ комиссар!
— Нашла себя в новой жизни, — великодушно повторила женщина в красном. — Встала на путь революционных преобразований…
Глаша торопливо записывала.
— Пиши, пиши, — добродушно кивнула комиссарша. — И выучи наизусть. Ты же знаешь, товарищивсе жуткие начетчики, готовы к стенке поставить, ежели кто в слове ошибется!
— Ой, господи помилуй, — перекрестилась Глаша огрызком карандаша. — Ничего, авось пронесет, у меня память хорошая, все живенько вызубрю так, что от зубов станет отскакивать.
— Ну, тогда хорошо, — кивнула гостья. — А что товарищ доктор, ждет ли меня?
— Да-с, а как же-с, извольте-с пройти-с, — закивала горничная и отворила какую-то дверь.
Дама вошла. И в прихожей определенно стало темнее после того, как исчез этот неистово-революционный цвет ее одежды.
Глаша куда-то убежала. Вполне можно было рискнуть и попытаться отпереть дверь. Однако Аглая замешкалась. Она размышляла.
Неужто такие яркие женщины тоже могут недомогать? Не похоже! У нее такой вид, словно и еда, и сон ей ненадобны, устали она не знает, хворь никакая не пристанет. Однако же вот понадобился ей зачем-то доктор медицины Лазарев…
Как бы выяснить, зачем? Разве что подслушать, о чем комиссарша станет с ним говорить там, за дверью?
Аглая начала торить себе путь меж шубами и уже почти выбралась из-за них, как в прихожей снова послышалась меленькая, торопливая поступь Глаши, а потом появилась и сама она — с подносом, на котором стояли серебряный кофейник и чашки. Потянуло таким дивным ароматом… Сто лет, кажется, не вдыхала Аглая аромата такого кофе, да и вообще никакого, кроме желудевого!
Аглая чуть не зажмурилась восхищенно. Однако в ту же минуту Глаша пнула дверь, за которой скрылась комиссарша, и Аглая увидела, что та стоит около стула и вешает на него свои вещи. Женщина раздевалась, чтобы пройти на осмотр к доктору. Итак, комната была приемной перед кабинетом.
Горничная вошла туда с подносом и через минуту появилась обратно. Только девушка прикрыла за собой дверь, как раздался пронзительный звон. Аглая чуть высунулась и увидела, что звонит телефонный аппарат, висевший на стене. Глаша сняла трубку и прокричала, надсаживаясь:
— У аппарата! Квартира доктора Лазарева! Чего-сь изволите-с? Желаете записаться, мадам? Спинку поправить? Когда? Послезавтра, пятого сентября? В какое время желательно? Как прикажете, будет исполнено. Мерси вам, мадам. Будьте здоровеньки.
Водрузив причудливую трубку на рычаг, Глаша принялась писать в большой клеенчатой тетради, лежавшей на столике у зеркала, на всякий случай приговаривая:
— Мадам Сипягина, пятого сентября осьмнадцатого года, в три часа пополудни.
Закрыв тетрадку, она направилась было на кухню, однако телефон снова зазвонил.
— А, чтоб тебя разорвало! — проворчала Глаша от души. — Вот ирод, а? Ни минуты с него спокойной нет! Так бы тебя кочережкой и навернула, чтобы заткнулся, гад, на веки на вечные!
И все же она сняла трубку и снова отчеканила, надсаживаясь, слово в слово, как в прошлый раз:
— У аппарата! Квартира доктора Лазарева! Чего-сь изволите? — Помолчала минутку. — Ах, вам товарища комиссаршу… Так оне у товарища доктора уже. Позвать никак не можно, вы уж извините, товарищ! Ну как «когда выйдут»? Откуда ж мне знать? Как налечатся, так и выйдут. Может, через полчаса, может, через час, а может, и через два. Ихнее дело такое, комиссарское, сами понимаете! До свиданьичка, сударь, то есть этот… товарищ!
«Что ж за комиссарша такая? — ломала голову Аглая. — И что за доктор? Наверное, хороший, коли к нему по телефону записываются. Нынче-то телефоны, почитай, у всех бывших отключили. А у него не отключили. Значит, он не бывший? Наверное, самый нынешний, коли комиссаров лечит!»
Глаша ушла, и в прихожей снова стало тихо. Аглая выползла из-за шуб, задыхаясь. Ох и жарища! Ох и духотища! Такое впечатление, что она и сама среди шуб вся пропахла нафталином и даже не заметила, как уронила где-то там свой узелок.
Осторожно, на цыпочках перешла Аглая прихожую и потянула дверь. В приемной было пусто, и она решилась войти.
На полу валялись короткие кавалерийские сапожки, на стуле кучкой лежали вещи комиссарши. Аглая увидела алый корсет с кружевными пажиками для чулок и сами чулки — черные шелковые чулки; лежали там и очень хорошенькие кружевные штанишки, тоже черные.
«Ну и белье! — стыдливо хихикнула Аглая. — Такое небось только блудницы носят. И почему комиссарша все с себя сняла? Получается, она голая пошла к врачу, что ли? Да что ж за врач-то он такой?!»
Девушка огляделась и только сейчас увидела кушетку, на которой небрежно лежали несколько одинаковых халатов, вроде купальных, только из легкой серой шерстяной ткани. Очень может быть, они предназначались для посетителей, и в один из них и нарядилась комиссарша, чтобы пройти в кабинет… массажиста! Да, доктор Лазарев оказался массажистом — об этом можно было судить по развешанным на стенах рисункам. На них Аглая невольно задержала взгляд. Очень симпатичный мужчина атлетического телосложения, облаченный в полосатое трико (верхняя часть — майка, нижняя — штанишки до колен), с зализанными назад волосами и лихо подкрученными усиками, массировал разные части тела столь же симпатичным господам и дамам в самых невероятных купальных костюмах, которые объединяло одно: непременные штанишки до колен, иногда прикрытые юбочками у женщин, иногда — без оных.
Аглая изумленно покачала головой. Где-то люди друг друга убивают, мир на дыбы встал, а тут какой-то массаж, какие-то кружевные чулки… А впрочем, все близко в жизни, великое и смешное, пугающее и комическое, как любил говорить отец.
Однако какими же замечательными духами пользуется товарищ комиссарша! Давно Аглая ничего подобного не нюхала, а все же помнила их аромат — духи назывались «Любимый букет императрицы». У матушки с девичьих еще времен стоял флакончик, в котором оставалась только капелька духов и только тень аромата. Вот этого самого!
Она наклонилась к вещам. Все пахнет духами! И белье, и куртка, и косынка, и даже, такое ощущение, кобура. Может, надушен и «маузер»?
Аглая нерешительно коснулась куртки, а потом вдруг неожиданно для себя самой взяла да и надела ее. И защелкнула на талии ремень, и повязалась косынкой, точно так же, как комиссарша, низко прикрыв ею лоб. Ужасаясь тому, что сделала, она огляделась в поисках зеркала — захотелось увидеть себя в столь невероятной одежде, а потом скорей сбросить ее с себя! — однако зеркала в приемной не оказалось.
Зеркало было в передней, Аглая отлично помнила. Выскочить на минуточку, посмотреться — и обратно… Переодеться и осторожно выйти из квартиры, чтобы постучать снова и смиренно попроситься в кухарки…
Девушка замерла перед зеркалом. Честное слово, ее никак не отличить от комиссарши. Очень красиво получилось. И очень страшно!
А между тем, подумала Аглая, красный цвет ей определенно к лицу. Жаль, что прежде ничего красного не носила, а теперь-то уж не скоро доведется новыми вещами разжиться. А вот так пройтись бы по улице…
Звон колокольчика заставил ее подпрыгнуть. Кто-то идет! Сейчас примчится Глаша и застанет Аглаю на месте преступления. Что ж, опять под шубами прятаться? А с чужой одеждой как быть?
Боже мой, вот попалась так попалась! А звонок просто разрывается. Даже удивительно, что Глаша не слышит. Все, погибла Аглая! Теперь ее, как воровку… Она вспомнила кроваво-красные брызги на стене подъезда и, на миг потеряв всякое соображение от страха, принялась отодвигать задвижки, щелкать ключами и убирать засовы.
Дверь распахнулась.
На пороге стояли двое мужчин. Один был в такой же кожанке, как сейчас на Аглае, только черного цвета, в кожаном кепи и в крагах. Таких «кожаных» называли самокатчиками, потому что обычно они разъезжали на мотоциклетках. Второй был в матросском бушлате и бескозырке без ленточки. По слухам, без ленточек ходили анархисты…
У Аглаи задрожали ноги.
— Товарищ Полетаева? — спросил «самокатчик». — Ваш автомобиль подан.
* * *
— Убийство?! — воскликнула Алёна. — Слушайте, я такими делами не занимаюсь. С этим лучше в милицию. Если хотите, я познакомлю вас с отличными людьми, которые…
— Послушайте, многоуважаемая… Вас как зовут? — нетерпеливо спросила Наталья Михайловна.
— Елена Дмитриевна, — нерешительно представилась наша героиня, которую и в самом деле звали так. Другое дело, что она своего имени терпеть не могла, никогда так не представлялась, предпочитая свой звучный и некоторым образом прославленный псевдоним, а сейчас вдруг… сама не могла понять, почему ляпнула.
— Послушайте, многоуважаемая Елена Дмитриевна, — сухо отчеканила Наталья Михайловна, и красивое лицо ее стало ледяным и неподвижным, словно у Снежной королевы в знаменитом мультике. И ее голубые, всего лишь самую чуточку выцветшие глаза словно бы изморозью подернулись и сделались как бы даже белыми. — Ответьте мне на один, всего лишь на один вопрос. Отчего более младшее поколение заведомо считает всех, кто старше их, кретинами? Неужели оно — поколение, стало быть, — так охотно допускает, что само немедленно обзаведется всеми признаками прогрессирующей идиотии, лишь только перевалит за определенный возрастной рубеж?
— Я не… я не… — начала заикаться Алёна, и что-то вроде снисходительной улыбки мелькнуло на прекрасном лице Снежной королевы. Глаза чуточку оттаяли и обрели подобие прежней голубизны.
— Поверьте, если бы речь шла об убийстве, совершенном в обозримом времени, я непременно пошла бы в милицию. Кстати, у меня есть там приличные связи, так что я обратилась бы не к каким-то замотанным районным инспекторам угро, а к более высокопоставленным чинам. Однако я имею в виду расследование, имеющее отношение к весьма далекому прошлому. Я хочу, чтобы вы открыли секрет убийства моего предка.
— Предка? — воскликнула Алёна. — О господи! И каким же образом я его открою? С помощью машины времени, что ли?
— Если она у вас есть, — весьма сухо кивнула Наталья Михайловна, — то почему бы и нет?
Понятно. Дама не любит шуток. Или просто их не понимает. А впрочем, шутка так себе получилась, довольно убогонькая.
— А он вам кто? — осторожно поинтересовалась Алёна.
— Предок-то? — проговорила Наталья Михайловна. — Дед.
— Господи Иисусе! — невольно помянула имя Божие всуе Алёна. — Так это в каком же году было?! Убили его когда?
— Насколько я могу судить, в тысяча девятьсот восемнадцатом.
Алёна даже головой покачала. Но не сокрушенно, а восхищенно. Дело в том, что она находилась сейчас в довольно привычном состоянии: подходил срок сдачи в издательство очередного детектива, а между тем некий творческий конь по имени Пегас там еще даже не валялся. Бывает, что сюжеты тормозят на подступах к творческим лабораториям, и автор (аффтар, выражаясь по-нынешнему, по-интернетски) может бесплодно биться головой о стенку, причем очень долго… до синяков и кровоподтеков. Поэтому Алёна, которой, в принципе, очень часто приходилось подвергать свою многодумную головушку таким испытаниям, в минуты отчаяния готова была схватиться, уцепиться за малейшую, даже самую неопределенную подсказку судьбы. Опыт жизни подсказывал ей, что никакими щедротами небес пренебрегать не следует. И знаете, готовность писательницы Дмитриевой следовать мало-мальской подсказке свыше не раз себя оправдывала. Почему бы ей не оправдаться еще раз? Конечно, издательство ждет от своего автора современного детектива, однако ведь любую стародавнюю историю вполне можно пришить к современности. Например, кто-то находит бесценную рукопись образца тысяча девятьсот восемнадцатого года, дневник, скажем, в котором вскрываются корни… корни…
Корни чего? Преступления, само собой!
«Стоп! — одернула Алёна. — О чем-то в таком роде я уже писала, причем совсем недавно. Ну ладно, не будем загадывать. Отказаться я всегда успею. Сначала надо послушать, в чем там штука. В любом случае придется, конечно, в архивы идти. И это здорово! В пыли веков всегда можно набрести на что-нибудь интересное!»
Так подумала Алёна и мысленно засучила рукава, приуготовляя себя к вскапыванию бумажных залежей. Однако холодок в голосе Натальи Михайловны быстренько остудил ее благородный порыв:
— Имейте в виду, что все мыслимые и немыслимые архивы уже пройдены. Мой покойный муж служил в КГБ, затем во всех его позднейших модификациях и, наконец, в ФСБ, был отнюдь не последним человеком в верхних эшелонах местной власти, поэтому имел доступ практически к любым документам.
У Алёны непроизвольно приоткрылся рот.
— Да-да, — кивнула Наталья Михайловна, которая, очевидно, обладала способностью читать по губам даже прежде, чем произнесено слово. — Спецхран тоже исследован. Так что время на архивы вам тратить не придется.
Алёна растерянно моргнула:
— Тогда чего же вы от меня хотите? В архивах, получается, работать бессмысленно, да и возможности мои по сравнению с гэбэшником высоких чинов, мягко говоря, скромные, чтобы не сказать — никакие… Что я-то могу сделать?
Снежная королева улыбнулась ледяной и, как показалось Алёне, довольно коварной улыбкой.
— Позвольте, Елена Дмитриевна, я сначала кое-что расскажу вам о своей семье, хорошо? Тогда, может быть, вы поймете, чего я хочу и почему. Моя мать родилась в семнадцатом. Отца своего она не знала, даже никогда его не видела. Да и немудрено! Он погиб вскоре после того, как она родилась. Чтобы не оставаться одной в те тяжелые времена, моей бабушке, которую звали Натальей, как меня — вернее, меня назвали в ее честь, — пришлось снова выйти замуж. Фамилия ее мужа была Конюхов, он был матрос, хотя Наталья происходила из дворянской семьи. Впрочем, в восемнадцатом году это уже не имело значения… Моя мать Лариса с самого начала знала, что Гаврила Конюхов — не родной ее отец. Наталья никогда не скрывала от дочери, что ее отец погиб, а за Гаврилу она вышла только для того, чтобы спастись от смерти. Сначала Лариса думала, что речь идет о голодной смерти. Но потом Наталья рассказала ей, что она боялась преследований, как вдова некоего человека… Наталья скрывала его имя так тщательно, что не назвала даже дочери! Она страшно боялась, ведь ее бывший муж совершил какое-то серьезное преступление против Советской власти. Чтобы спастись, Наталья была вынуждена совершенно порвать с прежней жизнью. То есть абсолютно! Были уничтожены все документы, в том числе и свидетельство о венчании, личные бумаги, письма — вообще все, что могло связать Наталью и Ларису с прошлым. Впрочем, Конюхов был добрым и заботливым мужем — насколько мог, насколько это вообще было в его силах, потому что по природе своей он был грубоват и буен… Читали Тренева, «Любовь Яровая»?
Алёна кивнула, потому что она училась на филфаке и Тренев входил в обязательную программу.
— Читала. Чепуха и скукотища.
— Да не скажите… — протянула Наталья Михайловна. — Тренев замечательно нарисовал ту неразбериху, которая царила во время Гражданской войны. Революцию сделали нахрапом, власть удерживали лютой жестокостью. Народу, за самым малым исключением, было вообще все равно, кто у власти, лишь бы поскорей замиренье наступило, гражданская война очень часто велась в пределах одной, отдельно взятой семьи, а матросы и в самом деле были весьма влиятельными и порою очень колоритными людьми. Помните Швандю у Тренева? Совершенно таким был и Гаврила Конюхов. No comments, как говорится! Высокий, очень сильный, грубый человек. И все же именно благодаря ему выжили мои бабушка и мать… Конечно, Наталье больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь носила фамилию отца, но, разумеется, это было невозможно. Так или иначе жила странная семья неплохо и даже в достатке, поскольку Конюхов имел немалые способности, много работал, получал какие-то пайки, и все такое. Правда, хрупкое семейное счастье продлилось недолго. Ларисе было семнадцать, когда Конюхова арестовали. Она запомнила, что донос на него написал человек по фамилии Шведов.
— Но как Лариса могла это узнать? — спросила Алёна, воспользовавшись крохотной паузой, которую сделала Наталья Михайловна, чтобы перевести дух. — Жертвам репрессий не сообщали, кто писал на них доносы. Тем более членам семей. Или вы потом видели донос в архивах КГБ, то есть как его, НКВД?
— Доноса я не видела, — качнула головой Наталья Михайловна. — Он был по какой-то причине уничтожен. О Шведове и его доносе я узнала от мамы, которая случайно услышала разговор Конюхова и Натальи. Якобы Конюхов однажды явился очень встревоженный и сказал: «Я сегодня видел Шведова. Плохи наши дела, Наташа!» И Наталья в ужасе воскликнула: «Не может быть! Он ведь погиб! Она же убила его! Мы ведь видели!» А Конюхов угрюмо ответил: «Значит, недобила. Значит, он тогда выжил, а нам теперь не жить. Эх, если бы Шнеерзон не проговорился, все было бы иначе, а теперь… Шведов узнал меня. Глаза у него горели, как у голодного волка! Помяни мое слово, нам плохо придется. Донесет он на меня!» — мрачно ответил Конюхов и оказался прав: той же ночью за ним пришли и арестовали.
— Слушайте, а кто такая «она», о которой говорили Наталья и Конюхов? — спросила Алёна, которую, конечно, не могла не заинтриговать рассказанная случайной знакомой загадочная история. — И о чем проговорился какой-то Шнеерзон?
— Вот уж чего не знаю, того не знаю, — покачала головой Наталья Михайловна. — Мама клялась и божилась, что тоже не в курсе. Она спрашивала Наталью, но та молчала, уводила разговор в сторону, а однажды просто попросила дочь данную тему не затрагивать, потому что дело слишком опасное. Смертельно опасное дело! Поэтому ни мама моя, ни я так и не узнали, о чем проговорился какой-то там Шнеерзон и кто та женщина, которая недобила подлеца и доносчика Шведова, погубившего Гаврилу Конюхова.
— Понятно… — протянула Алёна, хотя, конечно, ровно ничего понятно ей не было. — Значит, Конюхова арестовали по доносу Шведова. А что же стало с Натальей и Ларисой? Неужели их тоже схватили? Тогда ведь часто арестовывали целыми семьями…
— Нет, они спаслись, — ответила Наталья Михайловна. — Вечером того дня, когда Гавриил рассказал жене о встрече со Шведовым, он посадил семью в поезд, и Наталья с Ларисой уехали из Москвы в Нижний Новгород. Здесь жила старая-престарая тетка Натальи — больше никакой родни у нее не было. Тетка приютила их, и они стали ждать вестей от Конюхова. Однако не дождались, конечно… Окольными путями, спустя немалое время, им стало известно, что его арестовали, но не довезли до тюрьмы: когда его вывели во двор из подъезда, он пустился бежать и был застрелен при попытке к бегству.
— Господи, жуть какая! — вздрогнула Алёна. — Такое ощущение…
Она не договорила, потому что ощущение было слишком страшным.
— Да, — кивнула Наталья Михайловна, мгновенно поняв ее. — У меня тоже есть такое ощущение, что Конюхов бросился бежать нарочно, надеясь, что его застрелят конвоиры. Он боялся пыток, боялся, что не выдержит и возведет на себя напраслину, а может быть, проговорится о событиях, приключившихся с ним и Натальей в восемнадцатом году. Это его пугало больше всего, он во что бы то ни стало, по мере сил своих, хотел отвести беду от любимой жены и дочери, пусть она и не была ему родной. И он отвел-таки от них беду.
— Ну, слава богу, хоть Наталью и Ларису больше не тронули! — от души вздохнула Алёна. — Я, знаете, за них как-то ужасно волнуюсь. Вы так трогательно рассказываете! Значит, им удалось отсидеться в нижегородской глуши…
— Точнее, в горьковской, — усмехнулась Наталья Михайловна. — Ведь Нижний как раз в то время переименовали в город Горький. Однако для того, чтобы в самом деле отсидеться в тишине и покое, моя бабушка возвела очень мощные фортификационные сооружения. Судьба тому благоприятствовала. В пути Наталья и Лариса познакомились с молодым человеком по имени Михаил Желтков.
— Желтков… — задумчиво пробормотала Алёна, которой фамилия показалась знакомой.
— Совершенно верно. В то время начальником НКВД Горьковской области назначили Павла Павловича Желткова, а Михаил был его сыном.
— Михаил Павлович Желтков! — сообразила Алёна. — Герой Советского Союза! В его честь еще улица названа.
— Совершенно верно, — кивнула Наталья Михайловна. — Михаил Желтков — мой отец. В поезде он влюбился в Ларису с первого взгляда. И проходу ей не давал, пока она не согласилась выйти за него замуж. Надо сказать, что Наталья всячески поощряла его ухаживания. Ну еще бы! Вот это и называется — найти убежище: спрятать дочь в семью начальника НКВД! Под свечой всего темнее. Слышали такую поговорку?
Алёна кивнула. Ей хотелось спросить, влюбилась ли Лариса в Михаила Желткова так же сильно, как и тот в нее, но она постеснялась. Впрочем, Наталья Михайловна в своей манере немедленно на невысказанный вопрос ответила:
— Боюсь, сначала мама не слишком-то любила отца. Но она слепо повиновалась Наталье, и скоро сыграли свадьбу.
— Погодите-ка, — прервала Алёна. — Вы говорили, что Ларисе исполнилось только семнадцать. Какая могла быть свадьба?!
— Да самая простая! — усмехнулась Наталья Михайловна. — Изобретательная бабушка представила дело так, будто Ларисины метрики пропали, утеряны. По одному звонку старшего Желткова, который в сыне души не чаял и готов был ради него на все, Ларисе были выданы новые, в которых значилось, что ей не семнадцать, а восемнадцать лет и что фамилия ее Селезнева. Мама потом раньше на год вышла на пенсию, но речь сейчас не о том. Селезнева — девичья фамилия бабушки. Наталья наплела, будто муж ее, Ларисин отец, бросил их давно, что она не желает носить фамилию подлеца… Миша уговорил отца, тот еще раз поднял телефонную трубку — и Наталья Конюхова вновь стала Натальей Селезневой. Впрочем, под этой фамилией ни мать, ни дочь не задержались. Что и говорить, моя бабашка виртуозно умела заметать следы! На свадьбе Ларисы она познакомилась с дальним родственником Желткова — инженером с Автозавода, вдовцом Николаем Лапшиным, — и вскоре вышла за него замуж. Ведь Наталье в ту пору было всего лет тридцать пять — совсем девочка, если судить по нынешним меркам. К тому же она была удивительная красавица! Теперь отыскать Наталью и Ларису было совсем непросто. Года четыре они прожили относительно спокойно и даже, наверное, счастливо в своих новых семьях, в тридцать восьмом родилась я…
— Как же так? — растерянно перебила Алёна.
— А что такое? — удивилась Наталья Михайловна.
— Нет, не может быть… Вам что — семьдесят лет? Семьдесят?! — переспросила Алёна с выражением неописуемого удивления. — Извините, конечно, но… Вы выглядите… вы просто вообще…
— Спасибо, — с достоинством поблагодарила Наталья Михайловна. Видно было, что подобные комплименты она слышит часто, привыкла к ним, но все же они ей очень приятны. — Это у нас семейное. Мама и бабушка были красавицами до последних дней жизни. Жаль, мы с мамой пошли не в бабушку… у нас более спокойный тип внешности, ну а та была очень яркая красавица. Они прожили обе до глубокой старости, порадовались внукам и правнукам. Отец мой погиб под Сталинградом и не увидел ни нашего сына, ни его детей. Я его почти не помню, но хотя бы могу им гордиться. А мой дед… Повторяю: бабушка Наталья так и не сказала о нем ни единого слова ни дочери Ларисе, ни мне, своей внучке. Так и умерла, унеся с собой в могилу тайну его имени и преступления, тайну того страха, который она испытывала перед прошлым, тайну, в конце концов, той женщины, которую и сама бабушка, и Гаврила Конюхов называли «она»… Бабушка умерла в семьдесят пятом году, а те времена не слишком располагали к откровенности. Вообще о тех старых событиях я узнала не от нее, а от мамы, уже в позднейшую, более свободную пору. Тогда же мы с мужем начали искать все, что могло иметь отношение к истории моей семьи. Собственно, основываться нам приходилось только вот на этом. Взгляните…
Наталья Михайловна открыла свою сумку — простенькую такую, из серо-голубой змеиной кожи, — и вынула довольно пухлый органайзер (в обложке из аналогичной рептилии, только желто-зеленого колера). Между страницами была заложена четвертушка, вырванная из какой-то старой газеты, но «одетая» в ламинат.
— Наша семейная реликвия, — пояснила Наталья Михайловна. — Мама нашла листок среди немногочисленных бабушкиных вещей, оставшихся со старых времен… Она убеждена, что в списке значится фамилия ее отца. Посмотрите.
Алёна взяла желтоватый листок, и несмотря на то, что он был покрыт гладкой пленкой, у нее чуточку запершило в горле, как бывало всегда, когда она работала в библиотеке или архиве и касалась шершавых, пропитанных пылью лет и даже веков газетных и книжных страниц. Текст почти стерся, и на одной стороне листка можно было с трудом прочесть список фамилий без конца и без начала, причем некоторые вообще стерлись, потому что оказались на сгибах. Абрикосов, Берлянт, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фофан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин… — Алёна пробежала по списку глазами, потом прочла несусветное стихотворение какого-то Митрофана Голодаева, бывшее на той же страничке:
Революция смотрит мне в очи И сурово гласит: «Защити!» Мне не спится в осенние ночи, Громко сердце стучится в груди. Не отдам тебя на растерзанье, Не тревожься, великая новь! Пусть мы все испытаем страданье, Но попьем мы буржуйскую кровь!Ужаснувшись, Алёна перевернула листок и увидела какое-то воззвание — опять же без начала:
«…переполнили чашу терпения революционного пролетариата. Рабочие и деревенская беднота требуют принятия самых суровых мер к буржуям, эсерам и меньшевикам, чтобы отбить охоту к подлым заговорам, которые загоняют острый нож в сердце революции. Вся обстановка начавшейся борьбы не на живот, а на смерть побуждает отказаться от сантиментальничанья и твердой рукой провести диктатуру пролетариата.
В силу этого губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией расстреляла вчера 41 человека из вражеского лагеря. Список фамилий помещен на второй странице газеты.
Да здравствует революция!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует товарищ Ленин!»
— Ну и ну… — пробормотала Алёна, протягивая листок Наталье Михайловне. — Кошмар!
— Вы обратили внимание на фамилии? — спросила та, не принимая листок.
— Нет, а что?
— Да всего-навсего то, что я тоже убеждена: в списке расстрелянных находится фамилия моего деда.
— И вы до сих пор так и не знаете, кто он? — Алена снова перевернула листок и прочла вслух:
— Абрикосов, Берлянт, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фофан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин…
— Представления не имею, — вздохнула Наталья Михайловна. — Никакого представления! Но точно знаю, что он — не Абрикосов, не Москвитин, не Николаенко, не Переверзев, не Ростовский, не Столбов, не Федоров, не Феоктистов, не Харитонов, не Цверидзе и не Чекалин. И, кстати, не Фофан.
— Почему вы так уверены?
— Ну я же говорила, что мы с мужем очень серьезно работали в архивах и спецхране. И нам удалось найти данные о тех людях, фамилии которых я назвала. Ни один из них не мог быть моим дедом. Например, купцы Переверзев и Цверидзе, а также фабрикант Абрикосов оказались людьми весьма преклонных лет, они Наталье сами годились в деды, а не в мужья, Фофан — это фамилия женщины-доброволки, в смысле, добровольно пошедшей служить в так называемый Женский батальон смерти, составлявший личную охрану Керенского, потом, после Октябрьского переворота, попытавшейся, как и многие из них, укрыться в провинции, но схваченной революционными, так сказать, сознательными массами и поставленной к стенке. Николаенко — тоже женщина, эсерка. Федоров и Чекалин были крестьяне, пришедшие возмущаться порядками новой власти, Москвитин, Харитонов и Столбов, в прошлом офицеры царской армии, были женаты, и сведения о судьбе их семей нам удалось раздобыть, они тоже весьма печальны…
— Понятно, — вздохнула Алёна.
— Вот именно, — кивнула Наталья Михайловна. — Итак, остаются неизвестными судьбы и личности Берлянта, Орлова, Хмельницкого и Учкасова. И, честно говоря, до последнего времени я просто не верила, что удастся хоть что-то выяснить, тем более что муж мой умер и теперь мои возможности доступа к закрытым архивным материалам резко, ну очень резко сократились! Но вот буквально в последние дни…
Она умолкла и так многозначительно поглядела на Алёну, что той стало страшновато от сваливающейся на нее ответственности.
— Наталья Михайловна, — забормотала она панически, — но я, ей-богу, просто не вижу, чем же я в силах… Мои возможности, как я уже говорила, вообще никакие… Что я могу?!
— Вы можете очень многое, — последовал ответ. — Например, просто пойти и спросить.
1918 год
Товарищ Полетаева? Аглая слышала имя знаменитой комиссарши. В очередях говорили, что она приехала из Москвы, от Ленина, излишки золота у буржуев отбирать. А какие у кого излишки и где они вообще, буржуи-то? Давно всех, кто был, к стенке поставили!
Ну, наверное, еще не всех, если Полетаева приехала из самой Москвы.
Боже мой… Так вот чью одежду позаимствовала Аглая, поддавшись мгновенной одури! Да за такое заимствование ее…
Она была от страха на грани обморока и вряд ли соображала, когда «самокатчик» подхватил ее под руку и вывел на площадку. Матрос заботливо притворил дверь и последовал позади.
Аглая шла как во сне, иногда шевеля губами, чтобы признаться в обмане, но тут же сжимая рот покрепче и понадежней пряча язык за зубами.
Может, на улице удастся от них как-нибудь сбежать?!
Стало легче, когда свежий воздух коснулся лица. Он и в самом деле был удивительно свежий, с тонким ароматом осеннего увядания, едва уловимо прошитый дальней бензиновой струей и ближней — с отчетливым навозным оттенком. Раздалось ржание, и Аглая увидела рыжую лошадь, которая стояла посреди мостовой и таращилась вокруг недовольными глазами. Лошадь была впряжена в воз с дровами. Вид у нее был изрядно заморенный. Такое впечатление, что коняга предпочла бы быть впряженной в воз с сеном, но… Уж такая выпала ей судьбина! Под ногами у нее валялись свежие катышки.
Аглая озиралась вокруг, словно впервые видела мир. Вернее, в последний раз. Она не сомневалась, что обман сию минуту раскроется, а потому, прощаясь с жизнью, смотрела и смотрела по сторонам.
— Не беспокойтесь, товарищ Полетаева, — сказал «самокатчик», встретившись взглядом своих небольших карих глаз с ее расширенными от ужаса и потрясения серыми глазами. — Я ваш новый охранник. Прежнего пришлось сменить, так как он оказался неблагонадежным элементом, сомкнувшимся с врагами революции. То же и с шоффэром. Садитесь в авто, товарищ Хмельницкий приказал срочно доставить вас к нему.
Вдруг раздался странный треск, и словно бы несколько пчел пролетели над головой Аглаи. Она изумленно повела глазами налево-направо и увидела, что немногочисленные прохожие кинулись врассыпную.
— Скорей в автомобиль! — крикнул «самокатчик». — Подстрелят в два счета!
Только сейчас до Аглаи дошло, что треск — не просто треск, а выстрелы, и не пчелы летают вокруг, а пули свистят.
Да, в городе часто вот так, ни с того ни с сего, вспыхивали перестрелки, и даже убивали в них порою совершенно случайных людей. И никого это особо не удивляло, не возмущало. Люди привыкли. Такое уж время!
Черный запыленный автомобиль со всего хода подкатил прямо к Аглае и остановился, резко затормозив. У него был довольно широкий нос, приплюснутый спереди решеткой, и огромные фары. Может, самый настоящий «Кадиллак»? Аглая где-то слышала такое название… Никакого тента, и стекла впереди тоже нет, алый флажок трепыхается на носу автомобиля. Или нос бывает у корабля? А у авто как штука, которая выступает вперед, называется?
За рулем уже сидел матрос. Сейчас он был в огромных очках, которые, кажется, называются «консервы». Они защищали от ветра глаза шоффэра.
— Садитесь! — крикнул «самокатчик».
Аглая растерянно огляделась. Честное слово, она готова была подчиниться, но никак не могла найти дверцу, через которую предстояло сесть в кабину. И ни шоффэр, ни «самокатчик» не делали попытки эту дверцу обнаружить и как-то помочь Аглае сесть в автомобиль.
Наконец, спохватившись, они помогли, но очень своеобразно: один подхватил ее и подпихнул снизу, второй схватил за плечи, в результате чего Аглая была весьма бесцеремонно втащена в авто, которое немедленно сорвалось с места.
Некоторое время Аглая пыталась устроиться так, чтобы ноги не торчали выше головы, но тут ей почему-то никто не помогал. Ну, с водителем все понятно: он всецело был занят, все же скорость у авто («Кадиллака»?) оказалась просто головокружительная: верст тридцать в час, не меньше! — а «самокатчик» просто сидел рядом с Аглаей и смотрел на нее с откровенным презрением.
Наверное, глаза у нее были очень уж вытаращенные, потому что он сказал скучающим тоном:
— Не извольте беспокоиться, товарищ комиссар, мы в два счета доставим вас к товарищу Хмельницкому.
И тут наконец до Аглаи вполне дошло, к чему привело ее любопытство, до чего довела страсть к переодеваниям.
— Послушайте, товарищи… — начала было она, однако прикусила язык. Ну и что она скажет этим двоим? Что она вовсе не комиссарша Лариса Полетаева, а Аглая Донникова, забредшая к доктору Лазареву в кухарки наниматься?
Спасибо, если мрачный человек, которого про себя она называла самокатчиком, станет ее слушать. А то выхватит револьвер да просто пристрелит, как белогвардейскую шпиёнку. Судачили бабы в очереди: мол, красные, которые нынче у власти, особо никого не слушают, сначала пистолет выхватывают и пуляют почем зря, а потом уже думают, в того ли стреляли; да только что толку мозги трудить, человек-то уже умер.
Умирать Аглае не хотелось. Во всяком случае, пока.
Но что делать? Что можно сделать?
Продолжать молчать и отдаться на волю рока?
Похоже, больше ничего ей не оставалось…
Пока Аглая пребывала в нервической задумчивости, автомобиль мчался вперед. Вот проехали базарную площадь, которая называлась Новая… Вот мелькнул Вдовий дом, единственный каменный и внушительный среди множества деревянных купеческих, напрасно пытавшихся пыжиться рядом со строгими и благолепными очертаниями Вдовьего дома.
Не было сомнений, что автомобиль держит путь в сторону Щербинок или Дубенок. Город кончился. С обеих сторон дороги потянулись домишки и огороды.
Интересно, куда они едут? В какой-нибудь штаб красных, что ли?
— Застава впереди, — вдруг проговорил водитель, полуобернувшись и блеснув своими «консервами». — Что делать?
— Да ничего, — спокойно, словно бы даже с ленцой, ответил «самокатчик». — Сам видишь, кого везем. Отбрешемся.
Застава представляла собой две телеги, поставленные поперек дороги. Обочь горел костерок, над которым что-то варилось в подвешенном на рогульку котелке. Водитель повел носом:
— Ушицу гоношат… Как пить дать плотвишка да пескарики. Юшка небось жидковата, зато духовита, аж слюнки текут! Может, реквизнем в пользу революции, а? Как мыслишь, Костик?
— Заткнись, — сквозь зубы буркнул «самокатчик» Костик. — Все б тебе жрать! Сначала вот ее доставим, потом все остальное.
— Схимник ты, Костик, схимник и монах, — недовольно проворчал водитель. — Что ты, что Гектор, оба вы угрюмые да злые, а таких удача не любит, понял? Удача легких любит, вон как Хмельницкий!
— Заткнись! — рявкнул «самокатчик», и его темные глаза отчетливо посветлели от ненависти. — Застрелю!
— Меня-то? Бей своих, чтоб чужие боялись? — огрызнулся водитель. — Ладно, молчу, угомонись, товарищ Константин!
Он притормозил и крикнул грубо, адресуясь к двум замороченным солдатикам, сидевшим у костра:
— А ну, пропустите! Чего нагородили тут?!
Солдатики и ухом не повели, продолжая наблюдать, как варится ушица. Но из-за телеги выскочил худенький востроносенький паренек в невообразимо революционном кожане.
— Пропуск и пароль! — выкрикнул он.
— На что тебе пароль? — скучающим голосом протянул «самокатчик» Константин, игнорируя требование предъявить пропуск. — Ты ж небось отзыва не знаешь!
— Как не знаю? — обиделся парнишка. — Я начальник караула, должен знать. Отзыв — «Максим».
— Тогда пароль «пулемет», — небрежно предположил Константин. Однако начальник караула рассердился:
— Неправильно! Говори пароль, не то!..
Он сделал угрожающий знак, солдатики у костра вяло отложили ложки и потянулись к винтовкам, лежавшим подле, на земле.
— Не то что? — хамским тоном поинтересовался Константин. — Стрелять в нас станешь? Да ты что, товарищ, не видишь, кого везем?
— А кого? — насторожился парнишка, уставляя свои небольшие, покрасневшие от усталости и революционной сознательности глазки в Аглаю.
— «Кого…» — возмущенно передразнил Константин. — Да ведь это ж товарищ Полетаева! Неужто вы не получили декрет оказывать ей всяческое содействие?
Маленькие глазки парнишки стали большими-пребольшими, и он запищал восторженным дискантом:
— Неужто сама товарищ Полетаева?! Та самая?! Да я ж только и мечтал, чтоб на нее поглядеть!
— Ну вот погляди малость да убирай телеги, нам спешить надобно, — велел Константин. Однако парнишка молитвенно сложил руки на груди и пялился на пассажирку авто так, словно она была не она, а революционные попугаи-неразлучники Маркс и Энгельс.
— Товарищ Полетаева… Миленькая, родненькая… Да вы ж для нас… Вы для нашей партячейки в Дубенках все равно что красная революционная икона! — строчил что твой «максим» паренек. — У нас же организация — вашего имени, так и зовется — «Партийная ячейка красной Полетаевой»! Мы ж ваш декрет «Дорогу летучему Эросу!» проштудировали от корки до корки, законспектировали досконально и прорабатывали на практических занятиях. Жена секретаря ячейки у нас акушерка, так что она производила телесный осмотр всех сознательных присутствующих мужского пола вымериванием через тарелку. У кого конец перевесится через тарелку, тому бутылка самогонки…
— Что? — пробормотала Аглая, не веря ушам и оглядываясь на своих спутников. — Что это значит?!
Ответа не последовало: молчание, воцарившееся в автомобиле, можно было не только услышать, но и потрогать.
А парнишка из Дубенок, коему, собственно, и адресовался вопрос, ничего не слышал и продолжал самозабвенно трещать:
— Как видите, народ у нас политически грамотный, относится к проработке директив с огоньком! Я вот однажды вечером шел из Нардома, завернул в чей-то предбанник, чтобы оправиться, чтоб на улице, значит, не гадить некультурно, — смотрю, идут двое. Я притаился и вижу: женщина и мужчина, Фанька-пишбарышня [1]и инструктор райкома Мануйлов. Смотрю, в баню заходят, уселись на полок, стали друг другу объясняться в любви и так далее. Потом Фанька говорит: «Сколько я перебрала мужчин, но на тебя нарвалась по моему вкусу». Потом Мануйлов говорит: «А вы когда-нибудь пробовали раком?» Фанька говорит: «Давай по-конски. Вот я стану раком, а ты… Только тебе с разбегу не попасть». Мануйлов говорит: «Попаду». Мануйлов отошел немного и побежал на нее. Она немного отвернулась — он мимо! Я грянул хохотать. Они выскочили без ума… У нас, конечно, есть еще несознательные — прослышали об этом, стали заявления в ячейку писать, но секретарь не дал ходу, говорит: «Мы по Полетаевой живем или нет?!»
— Я не… я не…
Ничего более не могла выговорить Аглая, а Константин посмотрел искоса и сказал:
— Вы — «не»? Разве не вы пропагандируете на всех углах свободу любви? Вы же во всех своих статьях, которые активно печатает даже «Правда», утверждаете: семья при социализме будет не нужна, она — давно отмерший пережиток, закабалявший женщину и мешавший ее гармоничному развитию!
— Да-да! — подхватил полетаевский адепт из Дубенок. — Я сам читал: «В свободном обществе, которое вскоре воцарится в России, удовлетворить половую потребность будет так же просто, как выпить стакан воды!» Это вы писали. И мы твердо и неотступно идем всей нашей ячейкой намеченным вами курсом.
— Верной дорогой идете, товарищи! — с непроницаемым выражением подвел итог Константин. — А сейчас завершаем диспут, нам ехать пора. Товарищ Полетаева спешит. Убирайте телеги, не то я сейчас вам такое вымеривание через тарелку устрою, что мерить нечего будет!
Водитель выразительно хрюкнул, а сознательный полетаевец отчаянно замахал своим солдатикам:
— Пропустить машину! Честь и слава комиссару свободных половых отношений товарищу Полетаевой!
За треском мотора не слышно было, как отозвался на его призыв Константин, однако как-то все же отозвался, ибо губы его шевелились довольно долго.
Аглая сидела ни жива ни мертва. Сказать, что сгорала со стыда, значило просто ничего не сказать! Хотя, наверное, глупо было чувствовать себя оскорбленной, ведь все говоренное адресовалось комиссарше, а не ей. Последняя мысль несколько успокоила, хотя все равно — стыдо-о-о-обища…
Но это, строго говоря, мелочи жизни. Главное — другое. Ни мальчик из Дубенок, ни Константин, ни водитель не знают настоящую Полетаеву. А как насчет Хмельницкого, к которому ее, собственно, везут? А что, если он лично знаком с пресловутой Ларисой? Нет, нужно немедленно прекратить мало того что оскорбительный, так еще и опасный «фарс с переодеваниями и метаморфозами», как писали в старинных театральных афишках!
Автомобиль между тем свернул с ужасной, колдобистой дороги и заковылял — другого слова не подобрать! — между садами, огородами, пустырями и рощицами, среди которых изредка мелькали крыши уединенно стоявших домиков.
— Послушайте! — испуганно проговорила Аглая. — Я хочу вам сказать, что я…
— Заткнитесь, товарищ комиссарша! — рявкнул в ответ Константин. — Мне даже голос ваш слушать тошно, так что лучше не злите меня! Понятно?
И… и вслед за этим он выхватил из кобуры револьвер и направил его на Аглаю.
Она испуганно откинулась на сиденье и болезненно ойкнула — кобура «маузера», пристегнутого к ее поясу, немилосердно уперлась в спину.
Да ведь у нее тоже есть оружие! Как она могла забыть? Причем ее «маузер» выглядит куда как значительней револьверчика Константина. Нужно достать его из кобуры и потребовать остановиться. Мало того — заставить отвезти ее в город. Мол, иначе она будет стрелять. Надо полагать, ее поведение не слишком удивит «самокатчика» и водителя в «консервах»: они ведь убеждены, что везут подлинную Полетаеву, а от этой дамы, конечно, всего можно ждать. Даже выхватывания оружия и стрельбы в упор.
Похоже, Константин именно так и думал, поэтому вдруг толкнул Аглаю, отчего она нелепо повернулась на бок, и резко сдернул с ремня кобуру. А потом грубо, как куклу, посадил девушку в прежнюю позу. Сидеть стало удобней, спору нет. А на душе — страшней.
И в ту самую минуту, свернув за какой-то старый сад, авто остановилось.
— Выходите! — приказал Константин. — Ах да… — вспомнил он об отсутствии дверцы и повернулся к шоффэру: — Федя, прими товарища комиссара!
— Это мы в два счета! — посулил Федя и небрежно, грубо выволок Аглаю из машины.
— Вы что… — крикнула было она, потирая ушибленную коленку, однако слова «себе позволяете» пришлось проглотить, потому что пудовый кулак оказался у ее губ, и Федя рыкнул:
— Молчи, сука! Щас ты у меня своими зубами подавишься!
— Угомонись, Федор, — остановил его Константин. — Сначала пусть комиссарша скажет Гектору то, что он хочет знать. А потом делай с ее зубами и с ней все, что захочешь.
— Да нужна она мне, кляча старая! — оскорбительно хохотнул Федя.
Аглая так и обмерла от оскорбления.
Конечно, ей уже за двадцать, многовато для незамужней девушки, но еще не старость. Неужели по ней так виден возраст?
В этот момент ее сильно толкнули в бок.
— Н-но, мертвая! — прикрикнул Федя, видимо, мигом почуявший, чем сильнее всего оскорбил Аглаю, и продолжавший резвиться: — Шевели копытами!
Матрос почти втащил ее на высокое крыльцо, но руки распускать перестал, только командовал: «Сюда поверни!», или «Прямо иди!», или «По лесенке!», и Аглая, наконец-то сморгнув злые слезы, смогла обратить внимание на дом, в котором оказалась.
В нем было множество комнат и комнатушек, лестниц и лесенок, коридоров и коридорчиков. Очень чисто и тихо, сквозь окошки с разноцветными стеклами проникал разноцветный свет: там синий, там зеленый, там нежно-розовый или медово-желтый. Аглая вспомнила осколки витражей в подъезде доктора Лазарева. Наверное, там тоже было когда-то очень красиво, до того, как пережитки старого мира разнес вдребезги революционный пролетарский приклад, булыжник или просто кулак. Как хорошо, что здесь еще живы чудесные, завораживающие пережитки! Кто был человек, построивший дом, словно терем сказочный? Сколько в нем красоты и тайны! Модерн здесь чередовался с приметами русского мещанского уюта: венские стулья, кружевные занавески на окнах, белизна которых подчеркивалась многочисленными цветущими фуксиями, там ковры, а тут домотканые половики, на стенах изысканной формы зеркала, по углам небольшие кушетки, стоячие часы в мощных футлярах, а кое-где бодро тикающие ходики с тяжелыми гирями, иконы в нарядных киотах, горки с посудой, изящные этажерки с книгами и журналами. А одна комната, через которую провели Аглаю, явно служила библиотекой, потому что вся была заставлена большими книжными шкафами. Аглая мельком заметила множество выпусков «Архитектурного журнала», а еще — новехонькие, отливающие темной зеленью и сверкающие позолотой корешки энциклопедии Брокзауза и Ефрона и синие тома «Русского биографического словаря» Половцева.
Само присутствие книг всегда действовало на Аглаю умиротворяюще, а потому в просторную столовую она вошла почти спокойной.
Константин поставил на середину комнаты стул и посадил Аглаю лицом к стене. Сбоку была небольшая дверь, не та, через которую ее привели, а другая.
— Не оглядывайся, а то пулю получишь, — пригрозил Федор, и, хотя Константин промолчал, у Аглаи создалось впечатление, что он не только повторил угрозу, но и в любую минуту готов подтвердить ее выстрелом.
Она сидела и смотрела в беленую стену, на которой висели несколько застекленных рам. Под стеклом на белой ткани были пришпилены бабочки. Удивительно красивые, разноцветные, просто сказочные, каких рисуют только в самых ярких и волшебных детских книжках. Однако Аглаю их красота не восхитила. Ведь бабочки мертвые! Она и гербариев не любила именно потому, что в них собрались мертвые цветы и травы. Бабочки были такие прекрасные, такие живые, так весело трепетали крылышками, а их кто-то взял да и пришпилил к ткани, да и накрыл стеклом. Вот так и Аглаю какой-то Гектор возьмет да и пришпилит к смерти…
«Почему он Гектор? — подумала вяло. — При чем тут герой «Илиады», брат Париса? Наверное, чья-то партийная кличка, или как это у них, революционеров, называется».
Что-то забрезжило в памяти: шлемоблещущий Гектор великий… блистательный Гектор… пастырь народа, советами равный Крониду… А, ну да, Гектор же предводитель этих, как их… похитивших Ларису Полетаеву. Но в «Илиаде» он вроде был благородный, а здесь… Какое благородство в том, чтобы похитить женщину?
Аглая вздрогнула от ужаса, когда раздался звук открывшейся за спиной двери, а потом неспешные мужские шаги, остановившиеся рядом.
— Не бойтесь, — прозвучал незнакомый голос. — Вам не причинят вреда, если вы ответите на все вопросы, которые я вам задам.
Голос был молодой, холодный, бесстрастный. Вернее, он очень старался быть бесстрастным, но что-то звенело, что-то дрожало в его глубине… Человек явно волновался. А впрочем, Аглае было совершенно не до его волнения. Если она не убедит незнакомца, что попала сюда случайно, то, может статься, погибнет, ибо совершенно понятно: Аглая Донникова не сможет ответить на вопросы, адресованные Ларисе Полетаевой.
— Послушайте, послушайте, Гектор! Умоляю вас… — начала было она с жаром, однако незнакомец с досадой перебил:
— Нет, это я вас умоляю, товарищ Полетаева: ведите себя достойно. Вы ведь умная женщина, должны понимать: если уж вы начали играть в мужские игры со всеми их мужскими приемами, то неужто вы надеетесь, что ваши противники станут относиться к вам как к слабой женщине? Напрасно. Мы играем на равных.
— Да чего вы от меня хотите?! Я ведь не…
— Вы прекрасно знаете, чего я хочу.
— Даже не догадываюсь, потому что…
— Мне известно об истинной цели вашего столь внезапного визита в Нижний. Россказни о необходимости инспектировать изъятие у буржуазии культурных ценностей — именно что россказни, пустая болтовня. Вы добились назначения в комиссию, чтобы контролировать действия ее председателя — Хмельницкого. Мне ясно: вы не верите ему. Надеюсь, вы не станете отрицать?
Аглая пожала плечами. Лично ей было ясно только одно: человек, который говорит с ней, Гектор, — явно не Хмельницкий. Невозможно ошибиться относительно интонации, с какой он произносит эту фамилию. Он не Хмельницкий, а враг Хмельницкого. Константин и Федор должны были обмануть Ларису Полетаеву, чтобы привезти ее сюда, к этому Гектору.
А ведь, пожалуй, повезло комиссарше Полетаевой, что нынче в приемную доктора Лазарева ввалилась Аглая Донникова. Правда, не повезло Аглае Донниковой…
— Молчание — знак согласия, — констатировал незнакомец. — И вы совершенно правы, что не доверяете Хмельницкому. Он давно расстался с теми идеалами, за которые когда-то боролся и благодаря которым был так высоко вознесен новой властью. Он думает только о себе. Вы прекрасно понимаете, что он пытается набить прежде всего свои карманы, что как минимум десять, а то и все двадцать процентов из всего конфискованного уйдет в его тайники. Думаю, то же самое понимали и те ваши товарищи в Москве, которые помогали вам войти в состав комиссии. Тем паче что Хмельницкий — человек Троцкого, а предводитель большевиков не может не опасаться соперничества со столь сильной личностью, вот и пытается ставить ему палки в колеса где может и как может. И вы стали одной из таких палок.
«Предводитель большевиков», — сказал он. В интонации, с которой были произнесены эти слова, тоже нельзя ошибиться: она была самая что ни на есть враждебная. Получается, Гектор — не большевик. А кто? Может, анархист? Или эсер? Хотя, насколько слышала Аглая, эсеров вроде бы всех уже разгромили…
— Если Хмельницкий узнает о вашей тайной миссии, вы лишитесь его доверия и будете отправлены в Москву. Однако если Хмельницкий проведает, что вы по-прежнему связаны и с Орловым, он вас просто пристрелит. А ведь именно для Орлова вы сейчас стараетесь. Для него и для себя! Вы втираетесь в доверие к Хмельницкому, подделываете списки реквизированных ценностей, помогаете Хмельницкому замести следы его откровенного грабежа «родной Советской власти», но на самом деле вы с Орловым просто заметаете собственныеследы!
— Что вы говорите, я не понимаю! — в ужасе воскликнула Аглая. — Еще и какой-то Орлов…
— Уверяю вас, Лариса, я не собираюсь взывать к вашей совести, — перебил Гектор. — То, что у вас ее нет, мне известно давно, еще с тех пор, как вы, шестнадцатилетняя гимназистка…
Гектор на миг умолк, и Аглая всем телом ощутила, что он пытается подавить захлестнувшие его ярость и ненависть. Потом заговорил снова:
— Нет смысла напоминать вам события прошлого. Вы и сами все отлично помните. Мне известно, что у вас феноменальная память. Отчасти именно поэтому Хмельницкий радостно принял ваше назначение — вы могли стать ему отличной помощницей. Вы можете спокойно подделывать любые списки и описи, не опасаясь сбиться или запутаться. Поэтому я требую, чтобы сейчас вы призвали свою память на помощь и прямо здесь, при мне, составили полный реестр ценностей, утаенных от Советской власти: тех ценностей, которые осели в карманах Хмельницкого и в ваших лично.
Аглая, как ни была напугана, искренне озадачилась. Какой странный человек… Вроде бы с неприязнью говорит о Ленине, злую иронию его слов о «родной Советской власти» не заметил бы только глухой, а между тем так заботится об утаенных от нее ценностях. Что все это может значить? Просто вот такой благородный разбойник? Да нет, вряд ли тут можно говорить о благородстве… Ах, да ей-то какая разница!
— Послушайте, — заговорила Аглая слабым голосом, потому что у нее и в самом деле не осталось сил разгадывать тайны, с которыми она случайно, по глупости, столкнулась, — я никак в толк не возьму, что значит все происходящее и чего вы ко мне пристали. Вы меня путаете с…
— Я вас ни с кем не путаю, не надейтесь меня обмануть, — резко ответил Гектор. — Итак, я требую ответа на мои вопросы. Мне нужны списки, вы поняли?
— Нет! — заорала Аглая, у которой вдруг, в один миг, иссякли и терпение, и силы, и даже страх. — Я ничего не понимаю! Как вы мне все надоели! Вы что, с ума тут все посходили?! Наделали невесть что, увезли невесть куда, невесть кого, невесть зачем! Нет у меня никаких списков! Нет и никогда не было!
— Да и черт с ними, — с неожиданной покладистостью усмехнулся Гектор, и Аглая, которая порядком перепугалась своей внезапной вспышки, перевела дух с неким подобием облегчения. — Вы всегда были чертовски умны, Лариса. И уже догадались, конечно, что судьба ценностей, утаенных от Советской власти, так же как и судьба самой власти, меня волнует мало. За ваши с Хмельницким и Орловым делишки всех вас рано или поздно поставят к стенке, что меня тоже не волнует. А волнуют меня только бабочки Креза и их судьба.
— Бабочки Креза? — слабым голосом повторила Аглая, снова вперив взор на бабочек под стеклом.
Что за удивительная страсть к бабочкам припала вдруг этому человеку?! И при чем тут Крез, древний царь Лидии, прославленный своим баснословным богатством? Неужели он ловлей бабочек увлекался? И неужели могло статься, что его коллекция до сих пор сохранилась? Да ну, чепуха какая. И вообще, неизвестно, жил ли Крез на самом деле, может, он просто-напросто выдуман.
«А не слишком ли много мифологии, — угрюмо подумала Аглая. — Крез, Гектор… Какие-то детские игры!»
— Именно бабочки Креза, — подтвердил Гектор. — И только они. Вы сами знаете, что они — не только баснословные ценности, но прежде всего моя…
Мужчина не договорил. Послышался топот ног, потом звук распахнувшейся двери и крик Константина:
— Гектор! Приближается патруль. Они напали на наш след. Наверное, их навели те часовые, которые остановили нас на заставе.
— Чепуха, — быстро ответил Гектор. — Откуда на заставе могли узнать, куда вы едете? Ведь за вами не было слежки?
— Не было, точно! — уверенно подтвердил Константин.
— Об этом доме не знал никто, кроме своих, — задумчиво проговорил Гектор. — Кроме своих. Значит, нас кто-то предал!
— Там целый отряд всадников! — в комнату вбежал Федор. — Не патруль, а… Я не пойму кто. Но если мы не уйдем прямо сейчас, придется отстреливаться. Нас мало, не отобьемся!
— Хорошо, уходим, — спокойно сказал Гектор. — Седлайте лошадей. Нас трое и две женщины. Автомобиль придется бросить, к нему нужно горючее, а его больше нет.
Константин и Федор выбежали.
— Наташа, принеси ей что-нибудь из одежды! — крикнул Гектор. — Мы должны уходить, а ее куртка за версту видна.
Маленькая дверь, видная Аглае, открылась, и в комнату вбежала девушка. Ей было не более восемнадцати. С огромными голубыми глазами, с длинной пепельной косой, одетая в простенькую юбку и голубую ситцевую кофточку со сборками на талии и рукавчиками буф, она была невероятно красива, только очень испугана. Девушка держала очень бандитский и очень странно смотревшийся в ее руках обрез. При виде Аглаи испуг на ее лице сменился крайней степенью изумления. Она пробормотала:
— Что вы тут…
Но тут же осеклась, умолкла, мгновенно согнала с лица всякое выражение, положила на пол обрез, кинулась к шкафу и выхватила оттуда большой клетчатый черно-белый платок:
— Скорей! Снимите куртку и косынку! Ну!
— Наташа, возьми обрез и, если она начнет кричать или ослушается тебя, пристрели ее, — скомандовал Гектор, а потом звук закрывшейся двери возвестил о том, что он оставил женщин одних.
Аглая медленно расстегнула ремень, стащила куртку и косынку. Пальцы плохо слушались, она была испугана, причем даже не угрозой Гектора. В его голосе не было особой злости, к тому же для него слишком много значило то, что могла ему сказать Лариса Полетаева, чтобы он вот так, запросто, решился застрелить ее. Однако в голубых, потемневших от напряжения глазах Натальи таилось нечто, что подсказывало Аглае: девушка-то в любую минуту готова угрозу претворить в действие… причем с удовольствием, только дай ей малейший повод. Вот она взяла обрез на изготовку, держа его весьма умело… Мгновенно вскинет к плечу, и…
Наконец Аглая сняла куртку и накрылась платком. Но если она ожидала, что Наталья хотя бы кивнет одобрительно, то ошибалась. Ее голубые глаза были по-прежнему полны ненависти. Интересно, что ж такое комиссарша Лариса Полетаева сделала Наталье, чтобы заслужить с ее стороны столь неистовые чувства? Она же ненавидит, ох как ненавидит Ларису Полетаеву!
Аглая почти не удивилась, когда раздался выстрел, удивилась только, что пуля попала не в нее. И вообще стреляла не Наталья… Ах да, стрельба за окном!
Выстрелы там трещали один за другим. В комнату ворвался Константин:
— Уходите! Гектор велел вам уходить! Наташа, уведи ее!
Голос его вдруг прервался. И вообще он был почему-то очень бледный… В следующую минуту Аглая поняла почему. Константин рухнул на пол, и кровь хлынула из его рта, а ноги задергались…
Наталья дико взвизгнула, а Аглая от потрясения ни звука не смогла издать.
Да, умер! Его убили!
* * *
Сказать, что у Алёны после ответа Натальи Михайловны язык прирос к гортани, — значит сказать очень мало, а то и почти ничего.
«Пойти и спросить…» Как это следует понимать? Пойти — в смысле, переместиться в тысяча девятьсот восемнадцатый год, найти неведомого (ни имя, ни фамилия его неизвестны!) человека и спросить у него, какое такое преступление против Советской власти он намерен совершить: преступление, за которое его поставят к стенке?
То есть машина времени все же сгодилась бы?
Неслабая оперативная задачка! Неслабый такой заказец! А с другой стороны, кабы знать дорожку, по которой в прошлое можно пройти, Алёна непременно направилась бы по ней… Непременно!
Она растерянно хлопнула глазами. Наталья же Михайловна сохраняла редкостно невозмутимый вид.
— Видите ли, — проговорила она, — мы с мужем начинали поиски моего деда с областного архива, потом копались в государственном, а к спецхрану подобрались далеко не сразу. И вот когда — помнится, это произошло в тысяча девятьсот девяносто пятом году — нам удалось, так сказать, приобщиться к документам этой таинственной организации, мы наткнулись на фамилию Шведова.
— Шведова? — ахнула Алёна. — Того самого, который написал донос на Гавриила Конюхова? Вы нашли его донос?
Наталья Михайловна покачала головой:
— Я уже говорила, что доноса мы не нашли, он был кем-то изъят. А во-вторых, Шведов оказался не тем же самым. Его фамилия значилась не среди фигурантов архива, то есть людей, упомянутых в его материалах, а явно была случайно написана хранителем на этакой почеркушке, какие делаются, чтобы не забыть сделать то-то и то-то. Написал он, да и оставил нечаянно в одной из папок! На той почеркушке значилось: «Заказать В. К. Шведову матер. о Полет. + №№№№… на 21.09.94». Не стану обременять вашу память перечислением номеров единиц хранения, они не имеют значения. Но обратите внимание на год! Конечно, это другой Шведов. Но почти сто процентов — потомок предыдущего. Причем потомок, обладающий возможностями не только проникнуть в спецхран, но и изъять оттуда некоторые документы.
— Вы думаете, именно Шведов произвел зачистку архива? — спросила Алёна. — Он уничтожил всякую память о тех событиях?
— Совершенно убеждена, — кивнула Наталья Михайловна. — Убеждена прежде всего потому, что упомянутые единицы хранения исчезли.
— Да… — пробормотала Алёна. — Мощно!
— Что и говорить! — согласилась Наталья Михайловна.
— Наверное, тому, первому, Шведову так понравилось писать доносы, что он постоянно сотрудничал с НКВД, а потом и сына своего туда служить пристроил, — предположила Алёна.
— Мы с мужем тоже сначала решили именно так, — кивнула Наталья Михайловна. — И он специально проверил нашу версию. Среди сотрудников органов не было, вообразите, ни одного с фамилией Шведов, хотя сама по себе фамилия не столь уж редкая. Но — не было. Зато некоторое время назад во Франции начали публиковать материалы некоего Владимира Кирилловича Шведова. Они касались судьбы ценностей, конфискованных у нижегородцев после революции. А конфискацией занималась в тысяча девятьсот восемнадцатом году некая Лариса Полетаева, пламенная, так сказать, революционерка.
— Лариса Полетаева?! — так и ахнула Алёна. — Да ведь я о ней что-то читала… забытые героини революции и все такое. Вроде бы сначала была в окружении Ленина, работала в Гохране, а потом, году этак в восемнадцатом, то ли погибла в случайной перестрелке, то ли свои же ее и шлепнули — за избыточное революционное рвение. Словом, с тех пор история о ней умалчивала. Надо же, какое совпадение, она тезка вашей мамы. Неужели в честь Ларисы Полетаевой ее так назвали? Да нет, не может быть!
— Конечно, не может! — На лице Натальи Михайловны мелькнула обида. — Чтобы в честь какой-то кроваво-красной комиссарши маме имя дали? Как вам вообще такое в голову пришло! Просто-напросто бабушка очень любила пьесу Островского «Бесприданница», а фильм Якова Протазанова, снятый в тридцать седьмом году, с Ниной Алисовой в роли Ларисы, был ее любимым фильмом. Жаль, что она не дожила до выхода «Жестокого романса», он бы ее позабавил. Однако вернемся к нынешнему Шведову. Его зовут Владимир Кириллович. Инициалы человека, для которого заказывались материалы в спецхране, — тоже В. К. Я не имею возможности уточнить, для чего он приезжал из Франции и как вообще там оказался. Однако все меня интересующее может рассказать он сам. Рассказать вам!
«Она что, хочет отправить меня в командировку в Париж? — закружилась голова у Алёны. — Я согласна! Да! Конечно, только в том случае, если мадам оплатит поездку, ведь у меня сейчас нет на нее денег…»
И дивные картины Сакре-Кёр, Тюильри, Шампс-д… Элизе, авеню Опера, Лувра и прочих парижских красот, виденных Аленой не единожды и незабываемо пребывающих в памяти, так и поплыли, так и поплыли перед глазами, и голова пошла кругом от возможности, даже самой гипотетической, почти невероятной возможности увидеть вновь неземную красоту — увидеть вдруг, неожиданно…
— Причем вам не придется даже в Париж ехать, — развеял мечты голос Натальи Михайловны. — Потому что Владимир Кириллович Шведов находится сейчас в Нижнем.
— В самом деле? — пробормотала Алёна, падая на землю если и не с небес, то с высоты Эйфелевой башни и потирая место морального ушиба. — Откуда вы знаете?
— Я с ним виделась.
— Ого!
— Вот вам и ого, — Наталья Михайловна довольно уныло усмехнулась. — О его приезде я узнала совершенно случайно. Он прибыл в составе группы французских журналистов в наш Лингвистический университет. О гостях рассказывалось в новостях по какой-то программе телевидения. Я его увидела — высокий, элегантный, лет за шестьдесят. На француза не похож, на русского тоже. Вид у мужчины несколько англизированный. И я решила с ним встретиться. Я вообще, честно говоря, человек непредсказуемый. Мама говорила, что и бабушка была совсем такая, что мы с ней очень похожи. Я узнала, что группа французов остановилась в гостинице «Октябрьская», что на площади Нестерова, и просто пошла туда. Всю жизнь передо мной почему-то трепетали все администраторы… И в «Октябрьской» произошло то же самое — мне мгновенно сообщили, в каком номере проживает Шведов — в 534-м. Я поднялась на пятый этаж, постучалась. Он сначала решил, что я с факультета, где ему предстояло читать какую-то лекцию, но тут я развеяла его заблуждения. Мне не раз приходилось наблюдать, как прямой вопрос, заданный в лоб, выбивает почву из-под ног у людей, ну я и решила взять Шведова врасплох. Просто спросила, известно ли ему, что его отец писал доносы в НКВД и погубил мою семью.
— О господи! — не удержалась от реплики Алёна.
— Вот именно, — усмехнулась Наталья Михайловна. — Надо было видеть его лицо…
«Можно представить, — подумала Алёна. — Таким вопросиком и впрямь можно почву из-под ног выбить! Это ж все равно что в лоб человеку с порога выстрелить! А ведь крепкая дама эта Наталья Михайловна, очень крепкая… С другой стороны, не зря же ее мужем был кагэбист. Небось чему-то научилась от него!»
— А Шведов пистолет не выхватил и вас не пристрелил на месте? — невинно спросила Алёна.
— В каждой шутке есть доля шутки? — засмеялась Наталья Михайловна. — Пожалуй, выхватил бы точно, если бы у него пистолет был. А так он просто выкинул меня в коридор.
— Выкинул?!
— Ну, в моральном смысле. Весь побелел и бросил — вот натурально бросил мне в лицо: «Кирилл Владимирович Шведов был благородным человеком. Потрудитесь удалиться, мадам!»
— Красиво, — пробормотала Алёна.
— Красиво, — согласилась Наталья Михайловна. — Что значит иностранное воспитание! Но я бы сказала иначе: хорошая мина при плохой игре. Все-таки он выдал себя именно своей реакцией. Конечно, по-человечески она понятна, Шведов защищал честь семьи, честь своего отца, но теперь я ни в коем случае не могу рассчитывать получить от него хоть какую-то информацию о своемдеде. Понимаете, я ведь ни с кем не хочу сводить никакие счеты. Ничье имя не намерена порочить. Что бы ни сделал в то время тотШведов, все произошло именно в товремя. Меня интересует лишь информация, и ничего более. В чем вы и должны убедить этогоШведова. Убедить — и получить у него всю информацию о моем деде, какая у него только есть.
— Ох, — пробормотала Алёна. И если в ее голосе кому-то послышался бы страх, то он не ошибся бы, потому что ей и в самом деле стало страшно. — Неужели вы думаете, что если вам, — она так выделила голосом последнее слово, что получился как бы полужирный курсив, — не удалось, то удастся мне? Чем я от вас отличаюсь в лучшую сторону?
«Кроме того, что еще не успела оскорбить русского француза Владимира Кирилловича Шведова», — чуть не добавила она, однако, конечно, промолчала.
— Ну, вы его еще не успели оскорбить, — проговорила Наталья Михайловна, и Алёна едва сдержалась, чтобы не хихикнуть самым неуместным образом. — Кроме того, у нас с ним вообще с первого взгляда возникла жуткая антипатия. Даже если бы мы просто в трамвае рядом стояли, мы бы непременно поссорились. К тому же он как раз в таком возрасте, когда седина в голову, а бес в ребро. Такие павианы, бонвиваны, папильоны на женщин своих лет и тем более старше не могут вообще смотреть, зато молоденькие красотки все, что угодно, с ними смогут сделать.
Алёна несколько мгновений поразмышляла, сколько процентов в словах Натальи Михайловны откровенной лести, а сколько — подобия правды. Потом решила определить для себя соотношение пятьдесят на пятьдесят и не шибко занудствовать, тем паче что в глубине души была совершенно согласна с определением своей внешности: молоденькая красотка. А то, что ей несколько за сорок, можно и в секрете придержать, ведь больше тридцати пяти ей в жизни никто не давал.
— Вообще-то мужчины такого типа западают на юных девчонок, а не на женщин бальзаковского и даже постбальзаковского возраста, — сказала она. — И вообще, ситуация двусмысленная, вам не кажется?
— Да, кажется. Но что делать? — беспомощно посмотрела на нее Наталья Михайловна. — Вы поймите, я же в безвыходном положении, совершенно в безвыходном! У меня появился единственный, просто уникальный шанс разгадать тайну моей семьи, какую-то страшную тайну. Я должна получить от Шведова информацию — или признать, что все наши с мужем труды пропали даром. Мы уперлись. Знаете, есть такое сленговое выражение? Все, стенка, дальше ходу нет. И никто не откроет наглухо запертую дверь, кроме вас. Да вы не думайте, работа ваша будет вознаграждена! Поверьте, я не бедная женщина, мой сын преуспевающий бизнесмен, ни в чем мне не отказывает, кое-что осталось и от мужа… Я вам заплачу пятьсот евро за один лишь визит к Шведову. Независимо от результата! Только за то, что вы сходите к нему и поговорите об интересующем меня деле. В случае любогорезультата я приплюсую пятьсот евро. Если же результат окажется весомым и будет подтвержден документами, вы получите сверх всего еще тысячу евро. Итак, вы вполне можете заработать от тысячи до двух за какие-то полчаса. Понимаете? И вот вам, кстати, аванс.
Наталья Михайловна опустила руку в сумку и вынула конверт, в котором что-то похрустывало, причем весьма приятно.
— Здесь ровно пятьсот евро. Десять бумажек по пятьдесят. Можете не пересчитывать.
И мыслей у нашей детективщицы таких не было!
Алёна кивнула, приняла конверт и, от потрясения забыв поблагодарить, сунула его в свою сумку.
— Что, прямо сейчас ехать? — только и спросила она.
— Сейчас, сейчас! — Наталья Михайловна схватила ее за руку. — Делегация нынче вечером московским поездом уезжает, в том-то и дело! Времени всего ничего осталось! Давайте, поехали, у меня автомобиль рядом…
И не успела Алёна ахнуть, как ее словно бы вихрь понес. Она была подхвачена под руку и увлечена через дорогу, а потом засунута в стоявший там автомобиль. Автомобилем оказался не «Роллс-Ройс», как почему-то ожидала Алёна, а всего лишь фиолетовая «Мазда», которая совершенно уникально подходила к сиреневато-серой норковой шубке Натальи Михайловны. Вела grand-dame великолепно — небрежно, элегантно, стремительно. И когда через пять минут — домчали с неправдоподобной скоростью! — Алёна неуклюже выползла из приземистой «Мазды», она вдруг почувствовала себя ужасно неуклюжей, никчемной, а главное — неопрятной. И голова-то у нее теперь почти лысая, и накраситься-то она сегодня забыла, и мутоновая шубка, отороченная ламой, которая ей так нравилась и, на ее взгляд, необыкновенно ей шла, казалась сейчас тяжелой, грубой и… провинциальной. Узкие джинсы выглядели нелепо в еще вполне зимнюю пору, а сапоги оказались испачканы в какой-то строительной грязи. Ну вот откуда было взяться этой грязи? Не ходила Алёна по стройкам, она побожиться готова, что не ходила!
Впрочем, Наталье Михайловне, понятно, божба Алёны и даром была не нужна! Она так и подталкивала растерянную писательницу к высокому крыльцу прелестного белого здания, стоявшего на одной из красивейших площадей города, да еще и на высоком берегу Волги. Зимой здесь тоже было очень мило, и даже галки, истошно оравшие в старых липах, окружавших площадь, казались уместными и необходимыми. Лишней себя чувствовала только Алёна…
«Ничего у меня не получится! — твердила она себе, уныло косясь на носки не самых казистых в мире, к тому же и запачканных своих сапог. — Со мной этот англизированный русско-французский эмигрант и разговаривать не станет. Даст от ворот поворот, и все. Вообще для начала меня просто не пустят в гостиницу, придется тамошним церберам-охранникам что-то объяснять. А что объяснять-то?! Решат еще, что я проститутка, которая тут клиентов ловит… Хотя нет, не решат. Не похожа я на проститутку. На меня ни один порядочный клиент не клюнет — с такой-то головой, в смысле — с черепом. Тем паче — клиент русско-французский. Ладно, сделаю физиономию топором и пойду с деловым видом. Авось испугаются топора и не остановят!»
Алёна вошла в холл и только собралась сделать эту самую физиономию этим самым топором, как вдруг обнаружила, что никто из гостиничных аргусов и церберов на нее не обращает ровно никакого внимания. Около стойки рецепшн происходил какой-то негромкий и даже вежливый, но очень выразительный скандал администрации с группой иностранцев. Похоже, вышла какая-то накладка с номерами: кто-то то ли недоплатил, то ли переплатил, а может, загвоздка была вовсе в другом. Алёна не стала вдаваться в подробности, да они ее и не интересовали нимало. Как говорится, мухойметнулась она к лифту и вскочила, вернее, влетела в него. Пятый этаж. Номер, какой номер? Ах ты, черт, нужно мимо столика дежурной проходить… Сейчас начнутся разные-всякие объяснялки…
Нет, ничего такого не началось — дежурной не оказалось на месте. Повезло… А вот и номер 534. А почему дверь открыта? Понятно, горничная меняет постель. Значит, хозяина на месте нет, надо смыться. А зачем? Не лучше ли спросить, когда он будет? Может, он в буфет вышел и вот-вот вернется, к концу уборки.
— Извините, я могу видеть господина Шведова? — спросила Алёна самым строгим и официальным голосом.
— Да он только что съехал, — отозвалась несколько запыхавшаяся горничная — хорошенькая девушка с тем деловым, смышленым и несколько хищным личиком, какие бывают у провинциалок, явившихся завоевывать крупные города. — Они все, французы, съехали. Решили не поездом в Москву ехать, чтобы там на самолет пересесть, а сразу из Нижнего лететь, «Люфтганзой». Неужели вы их не видели? Они там с администрацией разбираются, какие-то проблемы у них с оплатой-переплатой-недоплатой, с возвратом денег, что ли…
— Так это они там были?! — так и ахнула Алёна. — А мне и в голову не пришло, что это они! И что, Шведов тоже там?
— Может быть, — пожала плечами горничная. И вдруг спросила: — А вы не Наталья Михайловна Каверина будете?
Алёна растерянно хлопнула глазами:
— Наталья Михайловна Каверина? — Да ведь она наверняка имеет в виду ее неожиданную клиентку! — Нет, я не она, однако я… А почему вы решили?
— Потому что мсье Шведов, — сказала горничная («Ах ты, господи, вот уж поистине смесь французского с нижегородским!» — чуть не взвыла от смеха Алёна и даже закашлялась, чтобы замаскировать неодолимый порыв захихикать), — оставил для нее письмо. И уверял, что она обязательно придет и будет его спрашивать. Лучше бы он его у администратора оставил, конечно, а то мне только хлопоты лишние.
«Письмо? Письмо!» — замелькало в мыслях Алены.
— Но я как раз от нее! От Натальи Михайловны! От Кавериной! — вскричала писательница Дмитриева. — Я могу передать ей это письмо!
1918 год
Аглая тупо смотрела на неподвижное тело Константина, а Наталья между тем уже очнулась. Сдернула домотканый половичок, лежавший у порога, и Аглая увидела крышку люка с железным кольцом.
— Подними! — скомандовала Наталья сдавленным голосом. — Подними крышку и спускайся вниз.
Аглая покорно сдвинула тяжелую крышку, но, когда внизу открылась темная ямина, из которой пахнуло сырой землей, как из могилы, отпрянула:
— Не полезу. Не хочу!
— Что?! — взвизгнула Наталья и вскинула обрез. — А ну быстро… пошла!
Аглая, конечно, была трусиха, а обрез в руках Натальи выглядел очень страшно. Наверное, пришлось бы подчиниться, но Аглая просто не успела.
Дверь в комнату распахнулась, и появился высокий худой человек, весь с невероятной тщательностью одетый в черную, похрустывающую то ли от новизны, то ли от плохой выделки кожу. Вдобавок он и сам был жгучий брюнет с черными глазами, усами и бородой, круглые очки тоже оказались в черной оправе.
Алый бант в петлице куртки — единственное пятно, нарушающее вопиющую мрачность его внешности. А вот револьвер с дымящимся стволом мрачность усугублял…
— Где она? — выкрикнул он, озирая замерших девушек. — Удрала? Вот те на…
Какие-то люди вбежали за ним в комнату. В основном матросы, и Аглая мельком поразилась, как много их развелось в Нижнем. Впрочем, в свите кожаного человека были и солдаты, и столь же кожаные и хрустящие, как он, люди, наверное, сплошь комиссары. В комнате мигом стало тесно. Наталью отпихнули к стене, а Аглая оказалась неподалеку от маленькой двери. Каждый вновь вбегавший считал своим долгом заглянуть в подпол и крикнуть:
— Удрала? Ай да молодчина!
Аглая прекрасно понимала, кого они ищут. Видимо, люди спешили на подмогу Ларисе Полетаевой, да считают, что опоздали: она уже успела сбежать через подпол. Конечно, они знают Ларису Полетаеву в лицо, вот почему не обращают на Аглаю никакого внимания.
Ну и хорошо. Значит, в случае чего есть надежда незаметно сбежать… если Наталья не выдаст, конечно.
Но Наталья помалкивала — стояла, закрыв лицо руками, плечи ее тряслись. Плачет, что ли? Надеется взять кожаную банду на жалость? Ох, непохоже, что они могут кого-то пожалеть… «Лучше надеяться только на себя и на свою удачу», — думала Аглая и медленно перемещалась все ближе и ближе к двери.
— За ней! — кричал черный человек, и вот уже, повинуясь приказу, двое или трое матросов спрыгнули в темный провал подпола.
На пороге появился еще один человек с револьвером и крикнул, обращаясь к кожаному брюнету:
— Товарищ Хмельницкий! Двоих мы подстрелили, а кто-то, может, сам Гектор, засел на чердаке амбара с винтовкой, и подобраться к нему невозможно: бьет без промаха по всем, кто высовывается!
Так вот он, значит, какой, Хмельницкий!
— Бьет по всем, кто высовывается? — повторил он. — Значит, надо высовываться почаще. У него там не арсенал, небось парочка обойм, расстреляет все патроны — тут-то мы его и возьмем. И что здесь за толпа собралась? Идите оцепите амбар, чтобы Гектор не ушел, а мне с пленной нужно побеседовать. Вон отсюда!
И он повернулся к Наталье. Дисциплина в его кожаном отряде была отменная — все так и кинулись вон, и Аглая воспользовалась суматохой для того, чтобы выскользнуть в маленькую дверку. Воспоминание об испуганном лице Натальи так и ужалило ее, но что Аглая могла сделать?
Ладно, авось Наталья как-нибудь сама выпутается, а Аглае нужно вернуться в город. Как? Ладно, об этом можно подумать потом, когда она найдет способ выбраться из дому.
Девушка стояла в узких сенях с маленьким окошком, выходившим во двор. Оттуда слышны выстрелы, туда нельзя. А куда можно?
Впереди виднелась дверь, и Аглая устремилась к ней. Еще один коридор, лестница, дверь, переход, лестница, дверь… Куда она попала? Лабиринт какой-то. Здесь ничто не напоминало об уюте, наверное, нежилая часть дома — сплошные двери да лесенки. Аглая сообразила, что, повинуясь их причудливым изгибам, она все время поднимается куда-то, а ей нужно выбраться наружу. Выход внизу. Не повернуть ли? Но вдруг Наталья рассказала о ней Хмельницкому? Тогда она попадет в ловушку. Нет, только вперед!
За стеной раздалась частая стрекочущая стрельба — частил пулемет. Значит, у Гектора на чердаке настоящий арсенал. Что ж, пусть стреляет: пока он отвлекает людей Хмельницкого, у Аглаи есть надежда выбраться из дома незамеченной, ни с кем не столкнувшись. Пока ей определенно везет…
Ну вот не любит, не любит судьба таких слов и самонадеянных заявлений! И Аглая не замедлила в том убедиться, потому что стоило ей так подумать, как незаметная, низенькая дверца сбоку лестницы вдруг распахнулась, и оттуда выскочил какой-то высокий мужчина. Он был одет в вылинявшее хаки — похоже, офицерская гимнастерка без погон, галифе, на ногах сапоги. Плотный, русоволосый, ни бороды, ни усов, но щеки чуть тронуты щетиной. В руке он сжимал револьвер и, такое ощущение, лишь чудом удержался, чтобы не нажать на спусковой крючок и не выпалить в упор в Аглаю.
— Какого черта! — воскликнул яростно. — Вы кто такая?
Она так и замерла, глядя на него изумленно. Он-то ее не узнал, а вот она узнала его мгновенно — по голосу. Перед ней был тот самый человек, который ее допрашивал — вернее, не ее, а комиссаршу Ларису Полетаеву! — желая знать о конфискованных ценностях, о каких-то там бабочках… Гектор, вот кем был мужчина!
И Аглая осознала, что пулеметный стрекот прекратился. Значит, у него кончилась лента и он удрал с чердака, готовый убить каждого, кто встанет у него на пути.
— Погодите! — хрипло выкрикнула Аглая, вытягивая руки. — Не стреляйте!
Охрипла она от страха, но тотчас поняла, что в изменившемся голосе ее спасение. Она-то узнала его по голосу, а он ее не узнает.
— Я тут случайно, — забормотала она какую-то чушь, что только в голову взбредало. — Наш дом сожгли, я искала себе жилье, хотела снять комнату, забрела нечаянно сюда, а тут стрельба, я испугалась… вбежала в дом…
Ой, какое убожество! Не могла придумать что-нибудь поинтересней?
— Я вас где-то… — начал было Гектор, и Аглая поняла, что он сейчас скажет: «видел», и все, все с ней будет кончено, как вдруг со двора раздался вопль:
— На чердаке никого! Он удрал!
— Ищите в доме! — послышался голос Хмельницкого.
Гектор метнулся было к тому коридорчику, через который прошла Аглая, но навстречу ему выбежал какой-то матрос — и тут же отлетел обратно, отброшенный пулей в грудь.
— Он где-то здесь! — заорали снизу, и опять отозвался голос Хмельницкого:
— Стреляйте без разговоров! Стреляйте во всех чужих, может быть, тут еще есть его люди!
У Аглаи подкосились ноги. Пропала! Ей не дадут времени на доказательство того, что она не из людей Гектора — ее просто пристрелят, и все.
Кажется, то же самое понял и Гектор. Что-то мелькнуло в его глазах — они были зеленовато-желтые, как у хищной птицы, и эта посторонняя, ненужная мысль поразила Аглаю своей дикой неуместностью, — потом он досадливо поморщился и пробормотал:
— Убьют вас как пить дать… А ну, давайте за мной!
И ломанулся, как сначала померещилось Аглае, сквозь стену, а на самом деле — еще через одну неприметную дверцу, которых, как через минуту выяснилось, им предстояло открыть еще не одну, пробежать не по одной узкой, крутой лестнице. Гектор мчался саженными прыжками, Аглая едва поспевала за ним, и если бы он не тащил ее за руку, не раз уже упала бы и отстала. Правда, она никак не могла понять, почему Гектор ведет ее вверх по лестнице. На крышу, что ли? Но зачем? Оттуда прыгать во двор? Да ведь ноги можно переломать, если раньше не подстрелят!
В то самое мгновение они вбежали в небольшую комнатку, в которой из мебели было два громоздких платяных шкафа, а между ними стояли стол да стул. Здесь царил нежилой запах и было прохладно. Потолок сходился кверху острым углом-башенкой. Окна были узкие, стрельчатые.
Странное место. Зачем тут такие большие шкафы? Что в них хранят, старье какое-то, что ли?
И, словно услышав ее вопрос, Гектор распахнул дверцу одного из шкафов, который оказался… пуст. И подтолкнул туда Аглаю:
— Быстро! Ну!
Вот глупец! Да ведь если преследователи начнут обыскивать дом, они обязательно заглянут в шкаф, неужели он не понимает?
Она заупрямилась было, но Гектор с силой пихнул ее в шкаф и вскочил следом. Нажал на заднюю стенку — и открылась какая-то узкая, как пенал, каморка, в которой можно было только стоять, вытянувшись по стойке «смирно». А если вдвоем — то прижавшись друг к другу. Мгновение — и Аглая оказалась в пенале, а Гектор, сдвинувший стенку шкафа на место, стоял, прильнув к ней всем телом.
Откуда-то сочился слабый свет, довольный для того, чтобы разглядеть, как покраснело лицо Гектора под светлой щетиной. Он тяжело дышал, запыхался от быстрого бега. Наверное, и Аглая выглядела не лучше.
Кое-как справившись с дыханием, она прислушалась — почти полная тишина, голоса слышатся еле-еле, похоже, они все же оторвались от преследователей, — и спросила испуганно:
— Мы в тайнике?
— Да, — кивнул Гектор, и его подбородок — мужчина был чуть выше Аглаи — коснулся ее носа. — Прошу прощения, — усмехнулся он.
— Да ничего, — пробормотала Аглая, чувствуя, что тоже краснеет.
Как-то слишком близко они стояли. Никогда в жизни она не была так близко к мужчине! Ужасно неприлично, а куда же деваться?
— Какой странный дом, — пробормотала она смущенно. — Тайники, переходы какие-то… Кто его так хитро строил?
— Я и строил, — ответил Гектор. — Дом мой. Я архитектор, то есть раньше был… до четырнадцатого года. Как раз успел дом построить, а тут меня призвали в действующую армию. Вернулся по ранению, а обратно на фронт уже не попал — сначала одна революция, затем другая… Я здесь почти не жил, то в Питере, то в Москве, то в Нижнем у отца. А потом, когда отцовский дом сожгли, когда отец умер, сюда перебрался. Но, похоже, мне и отсюда придется ноги уносить.
— Если нас тут не найдут, — пробормотала Аглая. — Мы же тут, в шкафу, как в ловушке. Отсидимся — хорошо, а если нет… Тогда и уносить нечего будет.
— Видели второй такой же шкаф, напротив? — спросил Гектор. — В нем в полу люк. Очень узкий, только для того, чтобы прыгать, как в воду. Солдатиком, знаете?
Аглая растерянно моргнула. Она плохо плавала и боялась воды, а уж прыгать в нее, тем паче солдатиком, никогда не решилась бы.
— Главное — не бояться, — сказал Гектор, словно поняв, о чем она думает. — Просто прыгнуть, но ноги не вытягивать, а самую малость поджать. Внизу мягко, не ушибетесь, я проверял, а то какой смысл бежать, если бежать будет не на чем, если ноги переломаешь? — Он усмехнулся, и волосы на голове Аглаи мягко шевельнулись от его дыхания. — Ну а потом сразу налево довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над Окой. В тех местах уже легко затеряться, никакая погоня не найдет. Так что в случае чего…
— Погодите, я что-то не пойму, — нахмурилась Аглая. — Если отсюда так легко уйти, почему же вы полезли сюда, где мы с вами, как в западне? Почему не вбежали в другой шкаф, не прыгнули солдатиком — и ищи ветра в поле?
— Потому что я не могу оставить Наталью, — сказал Гектор.
Аглая чуть откинулась назад и посмотрела ему в глаза. Да, в самом деле — глаза зеленовато-желтые, как у хищной птицы. И нос хищный — чуточку, самую чуточку загнут книзу, словно у ястреба. Нижняя губа вывернута надменно. Сильный круглый подбородок. В профиль лицо Гектора ярче и сильнее, чем анфас. Смотришь прямо — просто красивый парень, а вот в профиль… жестокость, хитрость, отчаянность в этом профиле. И еще что-то, от чего у Аглаи неровно заколотилось сердце.
— Наталью? — переспросила зачем-то и услышала, как жалобно дрогнул ее голос. И тотчас вспомнила, что она, случайно зашедшая в дом женщина, не может, не должна вообще ничего знать о Наталье. — А кто она такая?
Гектор в замешательстве кашлянул, и его дыхание снова шевельнуло растрепанные волосы Аглаи.
— Она… она… Наталья Селезнева моя давняя знакомая, которая рискнула всем, чтобы помочь мне. Я не могу ее оставить. Я должен ей помочь.
— Вот как… — пробормотала Аглая, у которой совершенно необъяснимым образом отлегло от сердца. — А я-то думала, вы ее любите.
Господи, да она что, спятила, говорить такие вещи незнакомому человеку, так бесцеремонно болтать с мужчиной? Вот дура! Сейчас он рявкнет: «Не ваше дело!» — и будет прав.
Однако, к ее изумлению, Гектор не рявкнул, а покачал головой:
— Ответ, который я могу вам дать, недостоин порядочного человека.
Аглая задумалась. Загадочные слова. А впрочем, что в них такого загадочного? Наверное, раньше что-то было у них с Натальей, но теперь…
Странным образом в тесной клетушке стало легче дышать. И, несмотря на полную безнадежность положения, у Аглаи улучшилось настроение.
Гектор вдруг насторожился:
— Послушайте, вы долго в доме пробыли?
— Да нет, я только что вошла… — забормотала Аглая. — А тут вдруг крики, стрельба… я сначала отсиживалась в каком-то углу, потом поняла, что пора спасаться бегством…
— А вы никого в доме не видели, какую-нибудь другую женщину?
— Нет-нет, — быстро сказала Аглая. — Никого-никого.
Так, понятно, он вспомнил о Ларисе Полетаевой, вернее, о той, которая казалась ему Ларисой Полетаевой.
— Ничего не понимаю, — пробормотал Гектор. — Неужели она все же убежала через подвал?
— А как она была одета, та женщина? — спросила Аглая и тут же прикусила язык, да поздно. Глупо! Какая ей разница, как была одета та женщина, если она никого в доме не видела?
Но Гектор, похоже, не заметил нелепости ее вопроса и ответил с досадой:
— Да жутко! В красной куртке и красной косынке. Словно вся кровью вымазанная.
Аглаю даже передернуло:
— И правда жуть!
— Она всегда любила красный цвет, — задумчиво проговорил Гектор. — Вообще любила подчеркнуто яркие цвета. Всегда была очень красивая, но совершенно лишенная вкуса. И склонная к эпатажу. Например, она первая в нашем городе остриглась, отрезала косы. Тогда это казалось невыносимо вульгарно, а теперь… — Мужчина покосился на недлинные волосы Аглаи, и та с трудом подавила желание пояснить, что постриглась, потому что коса вспыхнула огнем, когда она пыталась хоть что-то из вещей спасти, когда дом ее горел… Зачем ему ее объяснения?
Хотя он сказал, что и его дом сожгли. Вот странное совпадение!
— Теперь многие так ходят, — продолжал Гектор. — Многим даже весьма к лицу… Так вот о Ларисе. За это ее из гимназии исключили, из выпускного класса.
— Так вы знакомы с той женщиной? — удивленно спросила Аглая.
Получается, он знает Ларису Полетаеву? Но почему же принял за нее Аглаю?
— Был знаком — лет пятнадцать тому назад.
Так вот оно что… Понятно. К тому же он не смотрел в лицо пленницы, принял на веру слова Константина и Федора, что привезли комиссаршу. И Гектор явно не хотел, чтобы та его узнала, поэтому и посадил лицом к стене, а сам оставался за ее спиной. И она ведь была в косынке… Что же за отношения у них такие странные? И вообще — что же Гектор за человек такой?
— Тогда, много лет назад, ее звали Ларисой Проскуриной, — снова заговорил мужчина. — Мы, собственно, мало друг друга знали — ну, иногда танцевали на вечеринках, возможно, я даже был в нее слегка влюблен, в нее все подряд влюблялись. Но она на меня не обращала никакого внимания. Я был такой смешной, тощий, картавый… Знаете, я почему-то даже в юности упорно говорил «л» вместо «р», даже имени своего не мог толком произнести. К каким только докторам меня не возили! Никто не мог помочь. А на фронте попал под обстрел, был легко контужен, и когда очнулся — картавость прошла, точно рукой сняло. Смешно, да?
— Смешно, — слабо улыбнулась Аглая. — То есть нет… Не знаю.
— Смешно, — сказал Гектор убежденно. — Так вот я о Ларисе. Один мой друг из-за нее совершенно лишился рассудка. У него была какая-то неистовая страсть. Он признался в своих чувствах Ларисе — написал очень откровенное письмо и сделал ей предложение. А она взяла да и прочла его письмо вслух на вечеринке. И так хохотала — закидывала голову, ее лоснящиеся, черные, крашеные кудри колыхались… Никто не смеялся вместе с ней, всем было страшно неловко. Люди глупо улыбались, отводили глаза. Я крикнул: «Стыдись!» — и самому стало стыдно… А она все хохотала. Тогда мой друг вышел из бальной залы, отправился домой, нашел в письменном столе отца лежавший там револьвер да и застрелился. Конечно, все понимали почему… После этого от Ларисы все отвернулись, даже самые преданные ее поклонники. Родители ее были очень богаты, имели дом в Москве, ну и мгновенно переехали туда. Мой отец был дружен с отцом Ларисы. Надо сказать, она пошла в своего папеньку, во Владимира Иосифовича… Тот был известен своими похождениями и в молодые, и в зрелые годы, у него вечно были в любовницах и молодые, и немолодые, и красивые, и некрасивые. Поговаривали, у него даже были побочные дети. Но все оставалось досужей болтовней, дело никогда не доходило до скандалов. Мой отец был поверенным его тайн (они учились вместе в гимназии, были тезки, вроде бы даже побратимы). Они и потом переписывались, и я так или иначе оказался в курсе всех приключений Ларисы. Знал, что сначала она вышла замуж в Варшаве за какого-то чуть ли не люмпена и сбежала от него, потом — за несчастного инженера Полетаева, чью фамилию носит по сю пору, надо думать, из-за ее звучности. Бросила его тоже, вышла за кого-то еще, но и того человека постигла та же участь. Очередной ее любовник оказался большевиком, и благодаря ему она вошла в их организацию, а там ощутила, что заниматься разрушением страны куда интересней, чем быть разрушительницей обычных семей. Ее преследовала полиция, она уехала за границу, а потом вернулась — после того, как Ленин прибыл в Россию в запломбированном вагоне, привезя с собой несметные деньги для уничтожения России… Мне даже трудно, вернее, противно представить, что я когда-то с симпатией относился к большевикам!
— А вы к какой партии принадлежите? — с любопытством спросила Аглая.
— Я эсер, — сказал Гектор.
Аглая вздрогнула. Какие опасные вещи говорит Гектор о себе случайной женщине!
А впрочем, в чем опасность? Здесь, в тесном шкафу-тайнике, Аглае некому на него доносить. При малейшей попытке крикнуть Гектор ее просто придушит — вон какие у него мощные плечи, какие сильные руки. Даже пулю тратить и поднимать шум не придется… Так что он ничем не рискует, откровенничая.
А может быть, он просто почувствовал, что она его не выдаст? Догадался, что…
Что — что? О чем он мог догадаться?
— Да, я понимаю теперь, почему вы скрываетесь от этих… с красными бантами, в кожанках, — пробормотала Аглая, пытаясь замаскировать ужасное замешательство, которое ее вдруг охватило, и снизу косясь на его губы. — Понимаю, почему вы скрываетесь от большевиков!
Красивый у него рот. Почему-то во всех романах пишут только о красивых женских ртах. Но ведь, оказывается, у мужчин тоже бывают… Вообще она никогда в жизни не засматривалась на мужские губы, может, сейчас смотрит потому, что больше просто не на что смотреть? Или в глаза Гектору, или на его губы…
Аглае вдруг опять стало жарко, а пальцы похолодели. Как странно…
— Мне не привыкать скрываться, — ответил Гектор угрюмо. — За мной охотятся давно. И вовсе не большевики, и совершенно не за то, что я эсер. Хотя… не принадлежи я к их партии, не попал бы в историю, из-за которой все это началось и которая неведомо чем закончится.
Аглая подняла голову и посмотрела в его желтовато-зеленые коршунячьи глаза. В них замерло растерянное выражение.
— У меня такое ощущение, — проговорил он напряженно, — что я вас где-то видел. Уже говорил с вами! Но где, когда?
Аглая пожала плечами, приняв самый независимый вид:
— Да нет, мы точно незнакомы.
— В вас есть что-то странное, — продолжал Гектор. — Такое ощущение, что вы очень многое скрываете.
— Да и вы скрываете немало, — слабо усмехнулась Аглая.
— Я вынужден, — тихо сказал Гектор, и Аглае почудилась в его голосе нотка вины.
— Я тоже, — кивнула она. — Тоже вынуждена. Мы с вами чужие люди, случайно оказавшиеся рядом. Зачем нам знать друг о друге больше?
— Вы… Вы мне не чужая! — Голос его изумленно дрогнул. — Я это всей душой ощущаю. У меня есть женщина, близкая женщина, которая совершенно посторонний мне человек, хотя родила моего ребенка. Я прекрасно понимаю свой долг и свои обязанности по отношению к ней. Но — только долг. А вы, с которой я провел рядом несколько минут, почему-то гораздо ближе мне.
Странно, Аглаю ничуть не ранили слова о женщине, которая родила ему ребенка. Может быть, он говорит о Наталье? Ну и что? Сейчас для Аглаи это не имело ровно никакого значения. А то, что он сказал об их близости… Девушка попыталась уверить себя, что его слова ничего не значат. Все просто потому, что у мужчины… ну, когда он рядом с женщиной, да еще так неприлично близко… пробуждаются всякие темные желания. Так в романах пишут. Наверное, они и у Гектора пробудились.
Но в романах пишут, что они пробуждаются также и у женщин…
Аглая откинулась к стене, чтобы лучше видеть его странные, не то хищные, не то растерянные глаза. Гектор склонялся ниже, ниже… Аглая покорно опустила ресницы, покорно приоткрыла губы — и невольно застонала, когда Гектор с силой прижал ее к себе. «Так вот что такое — целоваться!» — мелькнула мысль и пропала. Думать Аглая больше не могла — только чувствовала.
Сеном пахло от него, ветром, диким степным огнем… птичий клекот доносился откуда-то издали… Она не могла оторваться от него. Даже если бы он разжал руки, ничего не изменилось бы, она не нашла бы сил от него оторваться. Что-то горело меж их неистово прильнувших друг к другу тел, что-то сжигало их дотла, заставляло рваться друг к другу снова и снова, прижиматься еще крепче…
И вдруг резкий свист долетел откуда-то издалека — словно бы кнутом хлестнул обоих, заставил отпрянуть друг от друга, смущенно отвести глаза, зашарить бестолково руками, поправляя волосы, одежду. Снова свист, а потом крик:
— Гектор! Слышишь меня? Я знаю, что слышишь!
Гектор с трудом оторвал взгляд от губ Аглаи, с силой провел рукой по лицу, словно пелену наваждения сдергивал, а потом пошарил по стене и отодвинул какую-то планочку. Открылась длинная узкая щель примерно на уровне глаз Аглаи, ну а ему пришлось нагнуться, чтобы смотреть во двор.
Он взглянул — и тихо выдохнул сквозь стиснутые зубы. Аглая взглянула — и подумала, что от этой картины вообще можно перестать дышать.
Посреди двора, около мертвого человека, в котором Аглая, не веря своим глазам, узнала того самого Федора, который сидел за рулем автомобиля, привезшего ее сюда, стояла Наталья. Ее качало, и, чтобы не упасть, она иногда пыталась удержаться за единственную доступную опору — за руку Хмельницкого. Что и говорить, Хмельницкий стоял поблизости, однако в руке, за которую женщина хваталась, он держал направленный на Наталью револьвер…
— Гектор! — вновь закричал человек в черной коже. — Я знаю, что ты здесь! Затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников, которых натыкал в этом доме там и сям!
Аглая вздрогнула — и ощутила, как вздрогнул Гектор.
— Даю тебе пять минут! — крикнул Хмельницкий и демонстративно отвернул край рукава куртки. Наручные часы его были размером с кофейное блюдце. Почему-то Аглая подумала, что они, наверное, ужасно громко тикают и не дают Хмельницкому спокойно спать. — Пять минут, чтобы выйти сюда, во двор. Если тебя не будет, через пять минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать, но тебя все равно выкурю. Понял? Или хоть на косточки твои обгорелые полюбуюсь. Так что вылезай, Гектор, не то… И выкинь к черту все оружие, которое у тебя есть, выходи с поднятыми руками! Если увижу хоть намек на ствол, в тебя будут стрелять без предупреждения!
Аглая всхлипнула от ужаса — и задохнулась.
Гектор, очень бледный, вытащил из-за спины из-под ремня «маузер», посмотрел на него, мрачно усмехнулся и положил на пол, у самых ног Аглаи. С другого боку ремня снял другой револьвер — тот самый, который был у него в руках, когда он столкнулся с Аглаей. Подумал, вздохнул с сожалением, покачал головой — и его тоже положил на пол.
Посмотрел Аглае в глаза, пожал плечами… легко коснулся ее губ, улыбнулся — и ушел. Она еще пыталась схватить его за рукав, но потом отдернула руки, как обожглась. Нельзя было. Он должен был уйти! Но как сердце разрывалось, как больно было, а слезы не лились… И долго ловила его удаляющиеся шаги, скрип лестничных ступенек…
* * *
Алена не сомневалась, что придется как-то убеждать горничную, что-то ей доказывать, удостоверять свою личность и предъявлять некие верительные грамоты, которых у нее, понятное дело, не было и быть не могло. Однако девице, видимо, и в самом деле ничуточки не хотелось возиться с каким-то письмом, поэтому она отдала Алёне длинный белый конверт с явным облегчением и торопливо включила пылесос, как бы демонстрируя, что более к этому делу отношения не имеет и иметь не будет.
Наша героиня вышла в коридор и жадно оглядела конверт. Он был заклеен. «M-me Каверина Наталья М.»было написано на нем по-русски, но в почерке неуловимо присутствовало нечто иностранное. Алёна повертела конверт так и сяк, зачем-то попыталась поддеть ногтем уголок заклеенного края, да спохватилась, что письмо как бы совсем не ей адресовано. Но любопытно, до ужаса любопытно было прочесть, что ж в нем такое написано!
«Да почему я тут стою? — спохватилась она. — Нужно поскорей спуститься и отдать конверт Наталье Михайловне. Может быть, Шведов там во всем признался… А если даже и нет, я его успею около администратора перехватить».
Алёна вскочила в лифт и нажала нижнюю кнопку. И только тут заметила, что на ней стоит не цифра 1, а 0, то есть это не первый этаж, куда ей нужно, а нулевой, подвал. Нажала на единичку, но лифт уже тронулся. Пожалуй, менять этажи поздно. «Да ладно, сначала спущусь, потом поднимусь, невелика беда», — утешила она себя и стала смотреть на светящееся окошечко, в котором менялись цифры. 4, 3, 2, 1…Движение лифта замедлилось, однако 0 что-то никак не появлялся. Ну же…
До нулевого этажа лифт шел как-то ужасно долго, словно подвал гостиницы «Октябрьская» располагался в центре Земли, подобно шахтам миллионера Роллингса по добыче оливина. Или что там в них добывали-то, в романе графа Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»?
Наконец-то остановился! Алёна, не дожидаясь, пока откроются дверцы, поспешно нажала на единицу — и тотчас пожалела об этом, потому что ни дверцы не раскрылись, ни лифт не двинулся с места.
Вот зараза, а? Замкнуло что-то, не иначе. Нашло время, когда замыкаться!
Она нажала на кнопочку с изображенным на ней колокольчиком, однако никакой монтер или дежурный и не собрался ответить. Тогда Алёна принялась давить на все кнопки подряд, поочередно, в произвольном порядке, вместе и короткими аккордами, но результат был равен номеру этажа, где она находилась, то есть оставался нулевым.
А время-то шло! Французы вполне могли уладить свои дела на рецепшн и уехать восвояси. А Наталья Михайловна безмятежно ждет в своей «Мазде» и даже не подозревает, что от нее уходит последний шанс узнать хоть что-то о том, чему она, можно сказать, жизнь посвятила.
«Стоп! — ахнула Алёна. — У меня же мобильник в сумке, и я могу позвонить Наталье Михайловне, объяснить, что…»
Ага, теоретически идея была замечательная, но практически осуществить ее было невозможно, потому что, хоть мобильник и впрямь находился в сумке, однако сумка-то осталась в машине.
Просто цирк… Нет, наоборот, ужас что такое! А если Наталье Михайловне надоест ждать и она, разобидевшись на медлительную расследовательницу, уедет? Вот финт будет… В сумке Алены не только телефон, но и ключ от квартиры, где деньги лежат… в ничтожном, конечно, количестве, а все же как-то худо-бедно лежат. И карта банковская в сумке, и дисконтные из магазинов «Спар» и «ХХI век», из универсама «Нагорный», а также из аптеки «36,6». Да мало ли еще что там есть полезного! В косметичке, опять же, много всякого добра. А как и где искать Наталью Михайловну, чтобы свое добро вернуть, Алёна представления не имела.
«Да погоди ты! — сказала она сама себе с досадой, потому что вся ее паника начала сильно напоминать панику умной Эльзы из одноименной сказки братьев Гримм, тем паче что и тут и там действие разворачивалось в подвале. — Не дергайся! С чего бы Наталье Михайловне уезжать? Она во мне заинтересована, вернее, не во мне, а в том, что я ей сообщу. Она не уедет. А я рано или поздно выберусь же отсюда и все объясню. Скажу, что Шведов уже отбыл, что я его не застала… Ведь это же правда! Стоп. А если Наталья Михайловна его увидит? Будут французы выходить из гостиницы, она и увидит Шведова. И поди потом объясни ей, что я с ним не встретилась не потому, что прозевала или вовсе не захотела искать его, а потому, что просидела, как дура, в пошлом застрявшем лифте!!!»
Исполняясь жуткой ярости на «пошлый застрявший лифт», Алёна в ярости ударила кулаком по панели. Ну и напрасно она так сделала, конечно. Мало того, что ее слегка тряхнуло, словно бы слабым разрядом тока прошило — оно еще ладно, терпимо, — главное, что в кабинке погас свет.
— Тьфу ты, пропасть, — растерянно пробормотала Алёна. — Вот же угораздило меня…
Ну и порядки в этой как бы фешенебельной гостинице — уже несколько минут не работает лифт, а никто и в ус не дует! Дежурный электрик на обеде, что ли? Или в баню пошел? Говорят, здесь, в «Октябрьской», знатная сауна для постояльцев, ну и обслуга небось туда контрабандно шастает время от времени.
И сколько Алёне тут сидеть, скажите на милость? Неужели никто не придет в подвал? Никто не включит лифт?
— Есть тут кто-нибудь? — что было сил закричала Алёна. Закашлялась и затаила дыхание, вслушиваясь в окружающую тишину и всматриваясь в полную темноту. — Я в лифте! Выпустите меня!
Вторая попытка вышла хриплой и невыразительной — Алёна сорвала голос при первой. У нее даже слезы на глаза от злости выступили. Кое-как отерев их, наша героиня несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться, и решила не сдаваться: колотить в дверь. Она набралась сил и ка-ак шарахнула по дверце ногой…
И вообразите — лифт тронулся! Начал подниматься!
От радости Алёна выронила конверт и какое-то время простояла на коленях, пытаясь его найти. Кое-как нащупала, встала на ноги — и в ту минуту лифт остановился. Но дверь не открывалась. Алёна, оскалясь от злости, снова шарахнула по ней ногой — и та, представьте себе, открылась. Очевидно, этот лифт, как и некоторые женщины, понимал только грубое обращение.
Мгновение Алёна стояла неподвижно, не веря, что выйти на свободу удалось так примитивно просто, а затем вылетела из лифта с невероятной скоростью. Ведь дверцы могли снова закрыться!
— Толцыте, и отверзется, — пробормотала Алёна, озираясь.
Она находилась на первом этаже, и на нее с изумлением таращились с десяток людей. Но у стойки никого не было. Уехали! Французы уехали! И Владимир Шведов тоже!
К Алёне подскочила дама с внешностью классической гостиничной администраторши совкового периода, схватила за рукав:
— Вы задержали лифт в подвале! Вы заставили ждать…
— Я бы сказала, что это меня задержал лифт в подвале, — перебила ее Алёна.
Стоявший неподалеку молодой человек в серой замшевой куртке необычной степени элегантности засмеялся:
— Однако у него недурной вкус!
Может быть, в другое время Алёна восприняла бы его слова как комплимент и даже улыбнулась бы в ответ, тем паче что парень был весьма недурен, да и высоченный, и широкоплечий, и волосы русые, и глаза зеленоватые, блудливые такие — все как надо, словом, — однако сейчас ей было не до кокетства. Она вырвала рукав из цепких пальцев администраторши, заявив:
— Техника в вашем отеле в безобразном состоянии. У вас же иностранцы останавливаются! Так и до международного скандала недалеко. А теперь, извините, я должна идти.
На самом деле она не пошла, а побежала, да еще с какой скоростью! Оглядываться и реагировать на звучные призывы: «Девушка! Девушка! Подождите!» — у нее не было времени. Выяснять отношения с совковыми администраторшами — ну что может быть глупее и бессмысленнее?
Выскочила на крыльцо… А, черт! Никого и ничего, кроме одинокой «Мазды» Натальи Михайловны. Эх, она там, наверное, извелась от нетерпения… Сейчас ворчать начнет. Или Снежные королевы не ворчат? А что они делают? Обдают ледяным молчанием? Или холодно и высокомерно отчитывают провинившихся?
Ну ладно. В конце концов, главное — письмо. Его нужно передать, и все. Может быть, Шведов в нем во всем признался и все рассказал, так что вопрос снят.
Ага… значит, гонорар сведется к пятистам евро. Не бог весть что, но тоже очень даже неплохо. Вполне достойное искупление тем моральным страданиям, которые Алёна претерпела в лифте.
Торопливо пересчитав ногами ступеньки, она подбежала к «Мазде».
Наталья Михайловна опустила стекло и обратила к ней спокойный взор:
— Долго же вас не было… Неужели все это время разговаривали со Шведовым? И как? Удалось что-то узнать?
— Я его не застала, — покаянно призналась Алёна. — Мы разминулись на несколько минут. Вся группа уже уехала в аэропорт.
— А, черт! — пылко воскликнула Снежная королева. — Значит, мне не показалось, что я видела его среди людей, которые садились в автобус, но глазам не поверила. Но они уехали минут пятнадцать назад. Вы-то где были все это время?
— Да в лифте застряла, вы представляете? — с тоской призналась Алёна. — Сначала он меня в подвал завез, потом в нем свет погас, потом я выйти не могла. А ведь надеялась перехватить Шведова до отъезда… Не судьба! Но горничная передала мне письмо для вас. Вот оно. — Она подала письмо в приоткрытое окно. — Ведь ваша фамилия — Каверина?
Наталья Михайловна изумленно уставилась на конверт:
— Вот как? Значит, он предполагал, что я снова приду. И что там, в том письме?
— Не знаю, — растерялась Алёна. — Я не читала.
— Конверт открыт, — с холодком сообщила Снежная королева. — И помят.
— Я его уронила в лифте, никак не могла нашарить на полу в темноте, но не открывала. Я не читаю чужих писем!
— Хм, это радует, — кивнула Наталья Михайловна. — Тогда я взгляну на письмо. Вы позволите?
— Конечно, — сказала Алёна. — Само собой.
Наталья Михайловна вынула из конверта листок — Алёна обратила внимание, что он исписан русскими буквами, но каким-то нерусским почерком. На самом деле не только выговор, но и почерк имеет акцент, причем очень характерный! Вот и почерк Владимира Шведова был с акцентом.
Она взялась за ручку, чтобы сесть в машину, но та не поддавалась. Дверца оказалась закрыта. Наталья Михайловна сосредоточенно читала письмо, и Алёне было неловко беспокоить ее и напоминать, что надо открыть дверцу. Стояла и стояла себе — и заодно наблюдала, как меняется выражение лица Снежной королевы. Куда девалось ледяное спокойствие? Теперь на его месте было олицетворение гнева.
— Негодяй! — внезапно воскликнула Наталья Михайловна и скомкала конверт. — Подлец! Да он что, рехнулся, писать такое? Нет, просто немыслимо!
— Не волнуйтесь, Наталья Михайловна, — Алёна нагнулась к окну. — Что там такое? Он написал, кто был ваш дед?
Вопрос был, может, и несколько бесцеремонным, однако вполне закономерным. В конце концов, рассказ мадам Кавериной очень сильно раздразнил любопытство писательницы Дмитриевой.
Наталья Михайловна резко перевела дыхание и холодно улыбнулась:
— Здесь не более чем его собственные измышления. Я так поняла, что он и сам ничего толком не знает. Кроме того, оказалось, что яблочко от яблоньки очень недалеко падает. Кирилл Шведов писал измышленные доносы, его сынок тоже изощряется в выдумках и клевете. Отвратительно! Кстати, он упоминает тут о некоем списке. А списка в конверте нет.
— Что за список? — изумилась Алёна.
— Да какая разница? — досадливо мотнула головой Наталья Михайловна. — Важно, что его нет. Мне не хочется быть бестактной, но…
Она умолкла, причем весьма выразительно.
— Вы хотите спросить, не взяла ли список из конверта я? — обиделась Алёна. — Но я даже не понимаю, о чем речь идет!
Снежная королева испытующе взглянула на нее снизу вверх. Глаза ее были сделаны из колючего льда.
— В конце концов, Шведов мог ошибиться и забыть положить список в конверт! — воскликнула Алёна уже возмущенно.
— М-да? — с сомнением переспросила Наталья Михайловна. — Вы полагаете? Ну что ж, возможно. А впрочем, все уже совершенно неважно, в самом-то деле. Шведов уехал, ну и скатерью дорога. От души надеюсь, что больше никогда в жизни о нем не услышу.
Она скомкала письмо и сунула его в сумку. Отбросила ее на соседнее сиденье и повернула ключ в стояке.
«Она что, уезжает?» — изумилась Алёна.
— Ах да, — спохватилась Наталья Михайловна, — я чуть не увезла ваши вещи.
Она перегнулась к заднему сиденью, подхватила Алёнину сумку (отнюдь не из змеиной кожи, а, честно признаемся, из кожзама: Алёна любила часто менять сумки, к каждым сапогам и туфлям была своя, ну а иметь десяток сумок из натуральной кожи — это не с ее гонорарами, извините!) и протянула в окошко. Растерянная писательница приняла свое имущество.
— Ну что ж, все получилось весьма забавно, — сказала Наталья Михайловна. — Разумеется, на половину из того, что Шведов тут понаписал, нужно наплевать и все забыть, но кое над чем есть смысл поразмыслить. Я вам, конечно, признательна, голубушка, — взглянула она на Алёну с видом барыни, которая благодарит горничную за вовремя поданную гребенку, или булавку, или еще что-нибудь такое, — но вам не кажется, что ваше участие в данной истории было достаточно скромным, чтобы претендовать не то что на две тысячи, но даже и на пятьсот евро? Может быть, ограничимся сотней?
Алёна молча вынула из сумки хрустящий конверт и подала ей.
— Ну, сотню все же возьмите, — промолвила Наталья Михайловна уже добродушнее.
Алёна все так же молча покачала головой. Говорить она не могла. Да и сказать было нечего. Ее бывшая подруга Жанна в таких случаях восклицала: «Просто душит смех!»
Черт его знает, может, и в самом деле это было смешно. Сейчас, сейчас, вот только немножко придет в себя одуревшее от неожиданности чувство юмора, и Алёна тоже сможет рассмеяться…
— Ну, нет так нет, как угодно, — безразлично проговорила Наталья Михайловна. Взяла конверт и подняла стекло, шевельнув губами на прощанье. Наверное, их шевеление означало: «До свидания!» Или: «Всего доброго!» Или: «Я вам весьма признательна, а теперь, милочка, ваше место в буфете!»
Несравненная «Мазда» умчалась вдаль по Верхне-Волжской набережной, а Алёна только и могла, что покачать головой.
— Вот тебе и сюжет! — пробормотала она уныло и пошла домой, уверенная, что никогда в жизни не увидит больше ни Натальи Михайловны, ни ее обворожительных серег.
Однако, как любили писать романисты былых веков, рок судил иначе…
1918 год
Наконец Аглая разогнулась — все это время она стояла скорчившись, глуша боль в груди. Припала было к смотровой щели, но тотчас же отвернулась — нет, не станет она смотреть, как Гектор выйдет и как его убьют… Потом все же не выдержала, снова устремила взор во двор, где Наталья так и стояла, скорчившись под прицелом Хмельницкого.
— Чтоб ты пропала! — с тихой ненавистью прошептала Аглая. — Все из-за тебя! Век бы тебя не видать!
Что-то произошло в ее сознании, какая-то мысль мелькнула по самому краю разума, что-то, касаемое ни в чем не повинной, столь бурно ею проклинаемой Натальи… просвистело, пролетело, как ветер, как пуля… как всадник, который вдруг ворвался во двор… За ним несся целый отряд всадников, и все сплошь матросы. Во дворе резко почернело. Впрочем, форма не спасала от того впечатления, которое эти люди производили. А впечатление было — анархистской вольницы…
Среди толпы выделялись двое. Один был высоченный рыжий матрос — без бушлата, в одной тельняшке, которая треснула на его могучих плечах и груди. Вокруг шеи матроса было обмотано голубое страусовое боа, под которым виднелись промельки массивной золотой цепи. Причем золото отдавало в красный оттенок. Значит, цепь из самого дешевого золота с большой примесью меди, из него делали внушительно толстые и вульгарно массивные часовые цепочки, а называлось оно — самоварным. Бескозырка рыжего матроса была украшена огромным шелковым алым цветком. В одном ухе качалась большая золотая серьга-кольцо — на манер тех, которые носили пираты в романах Роберта Льюиса Стивенсона. Аглая даже не подозревала, что в таком виде нормальный человек на люди может выйти.
На седле впереди матроса сидела женщина… При виде ее Аглая просто-таки забыла, где находится и что вообще творится вокруг.
У женщины были яркие голубые глаза, чудные пепельные, коротко остриженные волосы, великолепная бело-розовая кожа, точеные черты — она показалась бы красавицей, когда б не буйное, свирепое выражение ярости, искажавшее ее лицо. Какая-то Беллона, фурия, эриния — словом, кто-то из этой греко-римско-античной воинственной компании. На ней был тяжелый бушлат (ага, наверное, рыжий матрос галантно отдал своей даме), черная и без того короткая юбка высоко задралась, открыв ногу, обтянутую кружевным черным чулком и обутую в короткий кавалерийский сапожок.
Аглая мигом узнала и чулок, и сапожок. Она видела их в приемной доктора Лазарева.
Так вот она какая, Лариса Полетаева…
Что она здесь делает? Примчалась в поисках украденных вещей? Но как, каким образом комиссарша узнала, куда ехать?
Да нет, глупости, просто случайность!
Тут, словно отвечая ей, Лариса слетела с коня, кинулась к Наталье и принялась хлестать ее по щекам. Наталья отворачивалась, загораживала лицо, но разве спасешься от фурии, которая работала руками, как ветряная мельница — крыльями, и истошно кричала:
— Где Гектор? Говори, где он!
— Я здесь, — послышался спокойный голос.
Хмельницкий и матрос, и их отряды, и Лариса Полетаева — все, как по команде, повернулись к человеку, которому он принадлежал. Только Наталья так и стояла согнувшись, закрывая лицо руками.
— Я здесь, — повторил Гектор. — Отпустите ее, Лариса. Она ни в чем перед вами не виновата. Она помогла вам бежать…
— Бежать? — вытаращила глаза Лариса. — Да вы тут все с ума посходили! Она меня раздела, ограбила, предала! Где мои вещи? Я хочу мои вещи!
По знаку рыжего матроса несколько человек кинулись в дом.
Хмельницкий стоял молча и неподвижно, словно в землю вбитый. Вид у него, надо сказать, был совершенно ошалелый. Взгляд его перебегал со спокойного, даже как бы небрежно улыбающегося Гектора на озверевшую Ларису Полетаеву. Иногда его темно мерцавшие очки обращались на матроса, и тогда тени еще сильнее сгущались на его лице. Отчего-то Аглае показалось, что приезд рыжего в тельняшке обеспокоил Хмельницкого всего сильнее, и даже появление покорно сдавшегося Гектора не могло рассеять обуявшего его беспокойства.
Тем временем из дому выбежал матрос с красной курткой и кумачовой косынкой. Лариса сбросила бушлат и торопливо напялила ее на себя, застегнула ремень, повязалась косынкой, распрямила плечи. Погрозила Наталье кулаком:
— Я тебе покажу! Будешь знать, как воровать! Где мой «маузер»? «Маузер» ищите. Ну!
Аглая несколько поежилась от угрызений совести. Неужели комиссарша собирается застрелить Наталью из-за дурацкой куртки? Но странно, почему она убеждена, что именно Наталья каким-то образом проникла в приемную доктора Лазарева и украла вещи? Впрочем, кто ее знает, Наталью, может, она воровка с богатым прошлым…
Воровка с богатым прошлым и благородный эсер Гектор… Ревность так и ужалила!
«А откуда ты знаешь, что он такой уж благородный? — угрюмо саму себя спросила Аглая. — Разве благородные люди вот так, ни с того ни с сего, целуют незнакомых дам?»
— А ну хватит! — Рыжий матрос покачал в воздухе могучими веснушчатыми кулачищами. — Учкасов! Обыщи Гектора!
Хмельницкий так и дернулся: видимо, не по нраву пришлось, что рыжий так тут раскомандовался. Но все же промолчал.
Невысокий тщедушный матросик с узким мышиным личиком неохотно вышел вперед и опасливо двинулся к Гектору. Тот усмехнулся, поднял руки, давая себя обыскать.
— У него ничего нет! — через минуту крикнул матросик.
— Что так зыркаешь? — спросил рыжий, подходя к Гектору. — Не ждал меня увидеть, а, хитрец?
— Не ждал, — спокойно кивнул Гектор. — Да еще в такой компании.
— А чем плоха компания? — повел глазами рыжий. — Народ давно знакомый, надежный…
Гектор ехидно вскинул брови.
— Нет, — покладисто кивнул матрос. — Ты прав. Ненадежный тут народ. Доверия нестоящий. А пуще других скользкий и ползучий Оська Хмель.
«Оська Хмель? — мысленно повторила Аглая. — Неужели он о Хмельницком этак запросто?»
— Однако как же ты, Гектор, вышел к такой шобле безоружным? — продолжал матрос. — На слово Хмеля понадеялся? Зря… Ты же понимаешь, что его слову верить нельзя.
— Да из вашей компании ничьему слову верить нельзя, — размеренно произнес Гектор. — И ее слову — тоже, — небрежно кивнул он в сторону Ларисы.
— А твоему — можно? — насторожился матрос.
— Конечно, можно, — кивнул Гектор. — Я всегда говорил, что коллекция Креза будет доставлена тем, ради кого я в свое время ее украл. И я по-прежнему пытаюсь ее вернуть. И верну, чего бы мне это ни стоило.
— Значит, ты знаешь, где она? — быстро, жадно спросил рыжий.
Гектор усмехнулся:
— Я знаю, у кого надо о ней спросить.
Матрос настороженно обежал глазами окружающих.
— Ладно, хватит болтать! — внезапно вмешался Хмельницкий («Оська Хмель», — вспомнила Аглая и только головой покачала). — Будет еще время. Слушай, Гектор… У нас с тобой давние счеты, и вот наконец-то настало время их свести. Помнишь, ты меня на дуэль вызывал, потому что, по-твоему, большевики предали интересы русского народа?
— А ты отказался, — кивнул Гектор. — Мол, до победы мировой революции не имеешь права размениваться на буржуазные предрассудки.
— Мировая революция победила! — возвестил Хмельницкий. (Аглая в своем укрытии в ужасе перекрестилась: неужели во всем мире такое творится?) — Так что, если хочешь, я готов с тобой стреляться.
Тощий Учкасов коротко хохотнул, но под коротким, острым взглядом рыжего матроса умолк, словно проглотил смешок — да и подавился им. У матроса сделалось такое же настороженно-сумрачное лицо, каким оно было только что у Хмельницкого. Да, теперь настала его очередь не понимать, что происходит.
— Стреляться готов? — переспросил Гектор. — Ну что ж, дело хорошее. И как ты себе нашу дуэль представляешь? Когда?
— Да хоть сейчас, — небрежно отозвался Хмельницкий. — Отойди вон к той стенке — и начнем.
— Ты дашь мне оружие? — недоверчиво, настороженно спросил Гектор.
— Зачем? — удивился Хмельницкий. — Ах да, ты оставил свое в доме… Ну и глупец же ты! Разве на дуэль выходят безоружным? Значит, исход можно легко предсказать. Но я разрешаю тебе выбрать секунданта.
«Скотина! Подлая скотина!» — чуть не простонала Аглая, с ненавистью глядя на Хмельницкого. Еще и куражится над безоружным противником… Так бы и пристрелила его своими руками…
У нее вдруг пересохло во рту. Повернула голову и посмотрела на «маузер» и револьвер, лежащие на полу. У отца были такие. Оставались с прошлых времен. Он научил Аглаю стрелять после того, как сожгли школу. Тогда он понял, что от народа, за счастье которого он отдал молодость и здоровье, всего можно ожидать. Стрелять-то она умела, но оружие отца сгорело вместе с домом. Аглая и не вспоминала о нем. А сейчас вспомнила.
Почти не осознавая, что делает, она подняла «маузер», проверила патроны в магазине. Их там оказалось шесть — лежали аккуратным шахматным порядком. Осмотрела револьвер. В барабане «нагана» было только три патрона. Ладно, его оставили на потом, сначала «маузер».
На какое-то мгновение Аглае показалось, что ствол «маузера» не просунется в узкую смотровую щель, но потом дело пошло лучше. Она старательно прицелилась в Хмельницкого, начала взводить курок… покачала головой и дернула стволом чуть выше. Нет, невозможно это — выстрелить в человека, даже в такого гада!
Грянул выстрел. Аглая припала к щели.
Хмельницкий стоял без фуражки и держался за голову. Выражение лица у него было совершенно очумелое…
— О господи! — в ужасе пробормотала Аглая. — Я, что ли, в него все же попала?
От испуга у нее дернулась рука, и «маузер» самопроизвольно выстрелил еще пару раз. Да что же он сам-то пуляет, никак не может остановиться? Аглая едва успевала задирать ствол повыше, чтобы, не дай бог, ни в кого не попасть.
Наконец она умудрилась снять палец со спускового крючка и выдернуть ствол из щели. Припала к ней — и отпрянула, когда совсем рядом брызнули стекла. Ага, во дворе очухались. Поняли, что стреляют откуда-то с этой стороны — решили, что из окна, которое совсем рядом с Аглаей. Щель, разумеется, со двора неразличима. Разве что случайная пуля залетит — но на то ведь она и случайная, чтобы залетать туда, куда вроде бы и невозможно попасть…
Но даже мысль о подобном не смогла охладить любопытства Аглаи, и она снова припала к щели. Как раз вовремя, чтобы увидеть Гектора, который бежал через двор к гнедому коню, бестолково мечущемуся у ворот. Понятно, конь испугался стрельбы, а всадника на нем не было. И вот Гектор в седле! Вот ловкий — только что на земле стоял, потом вдруг словно прилип к гнедому боку, чуть коснулся ногой стремени — и уже верхом! Конь вздыбился, Гектор приник к его шее, мощным рывком развернул — конь перелетел через забор, и до Аглаи долетел крик:
— Беги, беги! Жди меня у камня!
И все, Гектор исчез из глаз.
Только сейчас до матросов дошло, что добыча улизнула. Кинулись было толпой к воротам, кто-то пытался забраться в седла, но перепуганные животные метались по двору, и мало кто из анархистов смог оказаться таким ловким всадником, как Гектор. Да еще Аглая добавила переполоху, расстреляв оставшиеся патроны «маузера» и схватившись за «наган».
Она вошла в такой раж, что еще несколько раз жала на спусковой крючок, когда уже стихли выстрелы, не в силах понять, что патроны кончились. Стекла разбивались во всех окнах поблизости, и Аглая не смела больше смотреть в щель. Однако у нее хватило ума понять, что скоро матросам надоест пулять абы куда, не слыша ответных выстрелов, и они наверняка ринутся в дом, чтобы найти сообщника Гектора. Хмельницкий знает о тайниках, он не успокоится, пока не обшарит все шкафы, все закоулки! Аглае не отсидеться здесь. Значит, надо бежать, как велел Гектор. Путь к спасению ей известен.
Но разве его совет — бежать, ждать у камня — относился к ней? Она представления не имеет ни о каком камне. Наверное, Гектор кричал Наталье, она-то прекрасно знает все окрестности.
Конечно, о ком ему еще заботиться, как не о Наталье!
Можно было только удивляться, что сейчас, на краю смертельной опасности, находясь на волоске, по сути дела, от гибели, Аглая еще была способна на такую ерунду, как ревность, причем ревность лютую, до слез.
Ну вот ревновала. Ревновала и плакала…
Зло вытерев глаза, Аглая дернула за планку, выбралась из тайника в шкаф, выскочила наружу.
Вовремя! Снизу по лестнице уже поднимались, пыхтя и топоча. А что будет, если второй шкаф не откроется?
Он открылся. Господи, сколько тут всякого барахла навалено! Понятно — для маскировки. Аглая продралась через какие-то узлы, некоторое время с ужасом шарила по задней стенке. Она не сдвигалась! И внезапно, когда Аглаю уже в жар бросило от страха, с легкостью отошла.
Девушка шмыгнула в щель и оказалась почти в таком же тайнике, как первый, только еще уже, явно рассчитанном на одного человека. Подгребла повыше узлы в шкафу и старательно задвинула стенку. Осмотрелась. Так, под ногами — люк, как и говорил Гектор. Оттолкнула крышку ногой и увидела глубокое отверстие, словно в колодец заглянула. Некогда было раздумывать — возбужденные крики слышались уже в комнате.
«Как в воду, солдатиком…» — вспомнила Аглая — и шагнула вниз.
Неизвестно, чего Аглая ждала, только не того, что полет так быстро закончится. Чудом вспомнила совет Гектора поджать ноги, и как только подогнула колени, так сразу ощутила толчок снизу, от которого завалилась на бок и упала во что-то мягкое и немножко колючее. Сильно пахло сеном. Да она упала в мешки, набитые сеном! Гектор правду сказал: здесь и впрямь невозможно ушибиться.
Она поднялась и ощупала стены. Гектор говорил: как спрыгнешь, потом сразу налево, там довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над Окой.
Гектор говорил, что будет довольно длинный ход, а обнаружился наконец очень длинный лаз. Аглая ползла долго, и ей в сырой земле стало даже жарко, а конца пути не было видно в самом полном смысле слова. Но вдруг воздух стал мягче, сумрак словно бы потеплел и поредел. Впереди забрезжил свет, и Аглая довольно скоро выбралась на косогор, густо заросший высокой, чуть пожухлой травой.
Внизу лежала сизая река, правее впереди открывалась Стрелка, поблескивали купола храма Александра Невского. Ни души вокруг. Везде дикие, заброшенные, пустынные поля, изредка украшенные зарослями дубняка или боярышника да остатками садов.
Куда же теперь идти? На всякий случай Аглая внимательней посмотрела по сторонам — никакого камня и в помине нет. Тяжело, разочарованно вздохнула — точно, не ей назначал встречу Гектор, на судьбу Аглаи ему было наплевать. А ведь она спасла ему жизнь своими выстрелами!
Нет, зря она так. Гектор подсказал ей путь к спасению, надеялся, что у нее хватит ума его советом воспользоваться. Она и воспользовалась. Так что благодарить его нужно, а не винить.
А что толку благодарить? Они все равно больше никогда не увидятся…
Ветер с Оки шевелил и перебирал траву. А почему вон там, сбоку, трава примята сильнее, чем в других местах? Едва заметная тропинка!
Путь вел к рощице в небольшой ложбине. Здесь совсем не было ветра, осеннее солнце пригревало так ласково, что Аглае захотелось отдохнуть и понежиться под его лучами. И вообще — надо было подумать, что делать дальше. Ну вернется она в город, а там? Снова к доктору Лазареву идти — в кухарки наниматься?
Усмехнувшись, Аглая рассеянно опустилась на какой-то плоский камень, вросший в землю.
Камень? Да нет, она ведь случайно на него наткнулась, не может быть, чтобы он был тем самым, о котором крикнул Гектор. И все же она с надеждой огляделась, а потом и вскочила, заслышав топот копыт.
Гнедой конь… Тот самый гнедой конь! И всадник… Гектор!
Она ринулась вперед, потом остановилась, прижав руки к груди. Не верила глазам, не знала, что делать, боялась своего острого желания кинуться к нему на шею. Он спешился, забросил поводья на куст. Конь опустил голову к траве, бока его тяжело вздымались.
Гектор шел к Аглае медленно. Лицо его было отрешенным, почти равнодушным. Он словно сдавался в плен, беспощадный плен тому необоримому, что влекло его вперед. И Аглая тоже почувствовала себя безвольной и обреченной, когда вскинула руки, чтобы обнять его, когда приблизила губы к его губам.
Они целовались, как безумные, как умирающие от жажды. Не то стоны, не то рычание рвалось из его груди. Аглая не противилась его поцелуям, его грубости и нежности, его неудержимой, словно бы пьяной страсти. Закрыла глаза — и как будто ураганным ветром ее понесло, повалило, ударило о землю, превратило в неведомое, бездумное существо, живущее только алчным желанием и утолением его. И земляное ложе нежило, баюкало, укачивало их неистово сплетенные тела.
* * *
— Это вы Алёна Дмитриева? — недоверчиво спросил мужской голос в трубке. — Писательница? Правда вы?
Алёна вздохнула. Она уже привыкла к тому, что внешность ее производила очень странное впечатление. Услышав, что она пишет книги, причем детективы, люди, как правило, реагировали весьма непосредственно, а именно восклицали:
— Быть того не может!
Алёна уже и перестала размышлять о том, выглядит ли она всего лишь легкомысленно или вовсе глупо. Но голос ее вроде бы звучит достаточно интеллектуально… Откуда же сейчас такая недоверчивость у собеседника? И вообще, странный человек: набирал ведь телефон Алёны Дмитриевой, а теперь удивляется, что отвечает как раз она…
— Очень может быть, что я вас разочарую, — с ехидной любезностью заговорила Алёна, — но я и есть Алёна Дмитриева. Писательница. Да.
— Очень рад! — произнес мужчина весьма воодушевленно. — А скажите, это вы…
Он сделал крохотную паузу, и Алёна усмехнулась, убежденная, что он сейчас спросит: «Это вы написали…» — и назовет пару из бессчетного количества романов и романчиков, принадлежавших перу неутомимой беллетристки Алёны Дмитриевой. Однако мужчина снова ее удивил:
— Это вы были позавчера в гостинице «Октябрьская» и застряли в лифте?
«Боже ты мой! — испугалась Алёна, вспомнив, как истерически колотила ногами в двери злополучного лифта. — Неужели я там что-нибудь сломала и мне намерены предъявить иск?!»
Вот только иска ей сейчас не хватало, при практически пустом кармане-то…
Она уже представила себе, какую речь произнесет на суде в ее защиту подруга Инна, адвокат по гражданским делам (надо знать, с кем дружить, люди добрые!), когда мужчина сказал:
— Ну так вы потеряли там один листочек. А я его подобрал. И готов вернуть, если это что-то нужное.
Какой еще листочек?! Ах, листочек… Не тот ли самый, хищение которого пыталась приписать Алёне мадам Каверина? Ну конечно, как же ей сразу в голову не пришло, что бумажка просто выпала из конверта, когда Алёна шарилась там в темноте!
— Я вам кричал-кричал… — продолжал мужчина. — И администратор кричала. Я догнал бы вас, но уйти не мог — я фотограф, видите ли, для гостиницы рекламные постеры делал, и меня как раз директор ждал, чтобы новые снимки посмотреть. Я и так опаздывал, ну и просто не мог задерживаться. К тому же вы убежали и не оглянулись, я подумал, может, что-то не слишком важное.
Было дело, вспомнила Алёна, кричала администраторша. Но Алёна тогда решила, что ее ждет лишь продолжение скандала, и умчалась со всех ног. А помедлила бы — и получила потерянный листочек, список там какой-то, и не возникло бы проблем с работодательницей, и конверт с пятьюстами евро, глядишь, остался бы в ее сумке, а не был бы горделиво возвращен скупой мадам Кавериной.
Кстати! Надо же, ходить в таких серьгах и в такой шубке, ездить на такой машине — и быть такой скупердяйкой! А впрочем, может быть, она именно потому и ходит и ездит во всем таком, что скупердяйка. Денежки счет любят, что известно всем, кроме одной малоизвестной писательницы.
А впрочем, зря она так о себе. Все же мужчина-то ее узнал, значит, не такая уж Алёна Дмитриева и малоизвестная…
— А как вы меня узнали? — не удержалась наша героиня от соблазна нарваться на комплимент.
— В прошлом году случайно зашел в «Дирижабль», а там проходила ваша встреча с читателями, — последовал ответ. — Помните? Вы еще загораживали стенд, к которому мне нужно было подойти, и я от нечего делать слушал и смотрел, пока ждал. А у меня зрительная память хорошая, поэтому я вас сразу узнал.
Да, пожалуй, комплиментом ответ собеседника можно считать весьма условно. Нет чтобы ему оказаться восхищенным читателем… Да ладно, что слава, в конце концов? Яркая заплата… ну и так далее, см. «Разговор книгопродавца с поэтом» А. С. Пушкина.
— Так вам листочек нужен или нет? — спросил мужчина.
Алёна пожала плечами. Зачем он ей? Поезд ушел, к тому же Наталья Михайловна тоже выразилась в том смысле, что все это уже не имеет значения. Она собралась было пылко поблагодарить неизвестного за хлопоты и сказать, что более хлопотать не стоит, как тот заговорил снова:
— Я сначала его выбросить хотел. А потом прочитал и подумал, может, это какие-то наброски к очередному роману. Там, на той встрече, вы вроде бы говорили, что любите романы с шифрами писать, а тут самая настоящая шифровка, ей-богу.
— Шифровка? — удивилась Алёна.
— Ну да! — засмеялся мужчина. — Шпионская такая. «Ап. — АлРжБяИчШАм». Буквы А, Р, Б, И, Ш прописные, л, ж, я, ч, м — строчные. Дальше — «Мен. — САлчШ». С, А, Ш — прописные, л, ч — строчная. И все в таком же роде, в два столбца. В левом — Ап., Мен., Мн., Пр., Агл., Гек., Кр., Ип., Сф., Атр., Зеф. А в правом буквы большие и маленькие, их перечислять — язык сломаешь. Ну, разве не шифровка?
Алёна растерянно моргнула. Список, сказала Наталья Михайловна. Ничего себе список. В самом деле шифровка какая-то. Любопытно бы на него посмотреть, конечно…
Любопытство было основным качеством, сокрытым движителем, альфой и омегой, сильной и слабой стороной нашей героини. Оно вело ее по жизни, иногда заводя совершенно не туда, куда она вообще-то направлялась. Алёна Дмитриева очень часто повторяла две поговорки: «Любопытство погубило кошку» и «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Не раз ей приходилось убеждаться в их точности, но искушения любопытством она никогда не могла преодолеть.
— Слушайте, как здорово, что вы нашли этот листок! — воскликнула она с самым искренним воодушевлением. — Я и представить не могла, где его посеяла. Как бы мне его заполучить?
— Да легко! — засмеялся мужчина. — Давайте где-нибудь пересечемся сегодня. Скажем, через час. Около парикмахерской, что ли.
— Ну, за час я до Покровки как-нибудь доберусь, — согласилась Алёна.
— Погодите, при чем тут Покровка? — удивился мужчина. — Я про ту парикмахерскую говорю, которая на Республиканской.
Вообще-то Алёна всегда ходила стричься на Покровку — в «Фэмили». И маникюр там же делала. На Республиканскую ее занесло единственный раз в жизни, и именно там она рассталась со своими кудрями. Голове при одном упоминании о той парикмахерской стало зябко, несмотря на то что в комнате у Алёны было тепло и совершенно ниоткуда не дуло. На Республиканской находилась «Мадам Баттерфляй», а в «Мадам Баттерфляй» служил злокозненный экспериментатор Сева.
— Я про ту парикмахерскую говорю, где бабочки на стене, — пояснил мужчина. — Я вас там вчера видел, как раз перед тем, как вы в гостинице появились. Вы стояли и смотрели на бабочек, а я мимо пробегал, не удержался и сфотографировал их несколько раз. Ну и вы в кадр попали. Я, собственно, тогда и вспомнил, где вас видел первый раз, а потом в гостинице подумал: ну и ну, бывают на свете совпадения. Если хотите, я вам по электронке фотографии пришлю или на диск сброшу.
Точно, вспомнила Алёна, пробегал мимо парикмахерской какой-то бородатый с фотоаппаратом. Заснял бабочек, ну и писательница Дмитриева в кадр попала невзначай. Экий папарацци оказался проворный! Однако иметь свою фотографию в обскубленной прическе у Алёны не было ни малейшего желания. Она и в зеркало-то лишний раз теперь старалась не смотреть, утешалась только мыслью, что рано или поздно голова обретет прежний легкомысленно-пышноволосый вид. А увековечиваться в таком виде… Нет уж, спасибо, не надо. Даже странно, что фотограф ее узнал, в новой-то прическе! Что значит профессиональная память и профессиональный взгляд…
— Конечно, спасибо большое, я вам визитку дам, — сказала Алёна с искусственным воодушевлением в голосе, совершенно точно зная, что визиток у нее в сумке при встрече с фотографом не окажется, — и вы мне пришлете фотографии. Значит, через час около бабочек? Вас зовут-то как?
— Андрей Овечкин, — представился мужчина. — Кстати, туда еще две бабочки прилетели. Правда, не такие красивые, как прежние. Тех-то, прежних, кто-то стер, а рядом вот новых нарисовали. Какие только забавы люди себе не находят, да? Ну, до встречи!
Фотограф Андрей Овечкин положил трубку.
То же сделала и Алёна Дмитриева, писательница. Потом она еще немножко потыкала пальцами по клавиатуре, но дело не шло… Уже который день дело не шло — роман не писался, сюжет вырывался, как строптивый мустанг из рук ковбоя… Очень плохо, конечно, но она порадовалась, когда появилась приличная причина выключить компьютер и отправиться кормить того ненасытного зверюшку, имя которому было — Любопытство.
Алёна пришла первой и не замедлила убедиться, что Андрей Овечкин оказался прав. На месте первых двух бабочек на стене сейчас находилось размазанное сине-зеленое мутное пятно, однако рядом красовались две другие нарисованные летуньи. Одна была желто-красная, с черными, сиреневыми и белыми пятнами, полосками и овалами на крыльях. Другая оказалась мертвенно-голубовато-белая, с черными пятнами и голубовато-серой каймой крыльев. Прямо скажем, невыразительная бабочка. Первая еще ничего, но вторая убогонькая какая-то. Интересно, как она зовется? Может, Сева знает? Разве что пойти в «Мадам Баттерфляй» и спросить?
За спиной вдруг раздался щелчок, потом другой. Алёна оглянулась и увидела человека с фотоаппаратом, который деловито снимал стену и бабочек.
— Здрасьте! — оживленно воскликнул бородатый фотограф. — Вот и я! Как вам новые бабочки?
— Да так себе, — пожала плечами Алёна, поняв, что перед ней Андрей Овечкин. — Зачем первых стерли, не пойму. Как они там назывались… Зефир бриллиантовый и морфидей Менелай, он же сапфировая бабочка. Я еще вчера подумала, что эту серую стену не худо было бы всю расписать, куда веселей смотрелась бы.
— Точно, здорово было бы, — кивнул Андрей. — Кто знает, может, завтра и новых сотрут.
— Кто знает, — согласилась Алёна. Затем достала мобильник — недавно купленный, с фотоаппаратом, видеокамерой и еще разными всякими примочками, даже с выходом в Интернет! — и на всякий случай тоже сфотографировала бабочек.
— Да я пришлю вам фото, если хотите, — сказал Андрей. — Только вечером, у меня днем работы полно. Кстати, вот ваш список, в целости и сохранности.
Алёна развернула белый листок, сложенный вчетверо. Посмотрела — и аж в глазах зарябило!
Ап. — АлРжБяИчШАм
Кр. — крРчШИГржБ
Мн. — АлОбАк
Мен. — САлчШ
Гар. — АлИчШГр
Агл. — ПлтрАлжБчШорРкрР
Гек. — АлчШкрР
Ип. — чШжБорРГртИАл
Сф. — АмчШАлгСТур
Атр. — чШАлжБорРТоп
Зеф. — ИчШ
Да уж небось зарябит!
— А вы хоть понимаете, что все это значит? — усмехнулся Андрей, и Алёна подумала, что ее новый знакомый оказался мужчиной не без проницательности.
— Ни слова, — честно призналась Алёна. — И даже ни буквы. Но ничего, листок-то не мой, я его должна была одной даме передать, да обронила. Наверное, он ей нужен. Штука в том, что я не знаю ни где она живет, ни какой у нее телефон.
— Фамилию знаете? Имя-отчество? — деловито осведомился Андрей.
— Ну, знаю.
— А в адресное бюро не хотите съездить?
— Честно? — усмехнулась Алёна. — Не хочу. Та дама не слишком порядочно со мной обошлась, поэтому сильно бить ноги ради нее я не стану. Вот упал странный список с неба, в смысле, вы его принесли, — и очень хорошо. Теперь, если даме и впрямь судьба его получить, значит, получит. И я, кажется, придумала, как его передать.
— Как? — спросил Андрей, и Алёна подумала, что он тоже относится к особому подвиду людей, название коему «Варвара Любопытная». Ну и здорово!
— А пошли со мной — и узнаете, — усмехнулась она и направилась ко входу в парикмахерскую.
В холле перед высоким застекленным шкафом со множеством лосьонов, шампуней, кремов, лаков, бальзамов, красителей, гелей, пенок и прочих парикмахерских примочек стоял Сева и придирчиво разглядывал какой-то флакон. При виде Алёны он высоко поднял свои невероятные брови:
— Привет. Что, нового клиента к нам привели? — Затем экспериментатор повернулся к мужчине: — Вас постричь, побрить, сделать художественное обрамление бороды?
Услышав его слова, Андрей испуганно схватился горстью за подбородок и не слишком внятно пробормотал:
— Ничего мне не надо обрамлять. Я вообще здесь случайно. Сопровождающее лицо, так сказать.
— Слушайте, Сева, помните, дама здесь такая была, Наталья Михайловна? — взяла бразды правления в свои руки Алёна. — Ну, вы нам с ней еще про бабочек рассказывали…
— Конечно, помню, — кивнул Сева. — Кстати, вы видели новых бабочек на стене? Теперь там появились парусники — Аполлон и Мнемозина.
— Парусники? — изумился Андрей. — Вы про бабочек говорите? Или, может, там еще кораблики где-то нарисованы?
— Кораблики тут совершенно ни при чем. Парусники, морфиды, павлиноглазки, перламутровки, бражники, бархатницы — это виды бабочек. Внутри каждого вида есть еще подвиды. Ну вот, например, вид — парусники, подвиды — Аполлон и Мнемозина. Понятно?
— Уже понятно. Странно только, что у них у всех мифологические имена, — сказала Алёна.
— Так ведь очень многие бабочки называются по именам мифологических персонажей. Кого только нет! Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, те же Аполлон и Мнемозина, а еще Гарпия, Аглая…
— А Аглая — она чего богиня? — нахмурился Андрей, и Алёна посмотрела на него с симпатией: если не спросил, кто такая Эвриала, Гарпия и Медуза, значит, знаком с мифологией. Нечасто сейчас таких людей встретишь, тем более вот так, на улице.
— Аглая — одна из трех харит, или граций, — пояснила она.
— Точно, — кивнул Андрей. — Забыл. А еще были три сестры, которые пряли нить жизни, парки. Их звали Атропос, Клото, Лахесис.
— Ну и ну, — сказал Сева. — Уважаю! Вы, может быть, тоже бабочками интересуетесь? Я вот специально читал мифологический словарь, чтобы в их названиях разбираться.
— Да нет, я про бабочек ничего не знаю, — усмехнулся Андрей. — Я просто люблю картины, где древние боги и герои нарисованы. Ну и почитывал на досуге, кто есть кто.
— А я филфак заканчивала, — сообщила Алёна. — У нас там с мифологией строго было, зачет по античной не сдашь, если, не дай бог, перепутаешь Аталанту с Атлантом, Бризеиду с Гесперидами, Подалирия с Подаргой или имя какой-нибудь музы забудешь. Вот и въелось в память на всю жизнь. Впрочем, мы отвлеклись. Значит, вы помните Наталью Михайловну? Где она живет? Может быть, телефон ее знаете?
— А вам зачем? — Голос Севы стал подозрительным, и Алёна с горечью подумала, что, видимо, производит на людей впечатление не только легкомысленного, но и глубоко порочного, криминально опасного существа.
— Да мне кое-что передать ей нужно. Она некий список искала. Так вот он у меня.
— А… — сказал Сева, слегка успокаиваясь насчет преступных замыслов Алёны. — Ну, если передать, тогда конечно. Только я вам ничем помочь не могу, к сожалению. Мне лишь фамилия, имя и отчество клиентки известны — она же записывалась ко мне.
— Ясно, — огорченно протянула Алёна. — Знаете что, Сева? Если Наталья Михайловна один раз к вам записалась, то, может, и еще раз придет. — Сомнение, которым была пронизана эта фраза, она постаралась, как говорится, спрятать в самый глубокий карман. — И тогда вы передадите ей мою визитку и скажете, что я нашла список и прошу ее мне позвонить. Хорошо?
Она протянула Севе визитку, и тот легчайшей гримаской сопроводил впечатление от ее более чем скромного вида. В самом деле, это был просто жемчужно-серый прямоугольничек, по краю обрисованный тонкой извилистой линией, в центре которой курсивом было напечатано: Елена Дмитриевна Ярушкина, а также телефон домашний, телефон мобильный и e-mail. На обороте можно было прочесть: Алёна Дмитриева, писатель, и те же самые телефоны и e-mail. Сева прочел текст с одной стороны визитки, потом с другой и вслед за тем произвел умозаключение, делающее честь его умению мыслить логически:
— Если визитка ваша, то вы, значит, писательница, что ли?
— Типа да, — скромно сказала Алёна.
— Подтверждаю, — солидно изрек Андрей. — Детективы пишет. Неслабые, между прочим!
— Детективы я люблю, — томно сказал Сева и вздохнул.
Алёна отреагировала адекватно: сунула руку в сумку и достала две предусмотрительно прихваченные из дому книжки. Это были покеты ее довольно пикантного романа «Игрушка для красавиц», который — редкий случай! — нравился в равной степени как читательницам, так и читателям. Действие происходило в Париже, на фоне тамошних пейзажей, которые были хорошо знакомы Алёне Дмитриевой: три преуспевающие дамы (две француженки, одна русская) со страшной силой домогались молодого русского красавца, а кругом мерцали бриллианты, плелись интриги, звучали выстрелы, лились вино и кровь, соперником молчела в любви был крутой русский миллионер… Честно, хорошая книжка получилась, а потому Алёна подписала ее Севе и Андрею с чувством законной гордости.
— Детективщица, значит, — снова заговорил Сева, уже чрезвычайно приветливо. — Здорово! Тогда взяли бы да и написали детектив про бабочек.
— Про каких? — удивилась Алёна.
— Да про тех, которые на стене! Вот смотрите, и название уже есть: «Бабочка на стене».
— Название есть, — согласилась Алёна. — Но что же в них детективного?
— Как что? — воскликнул Сева. — Почему на стене рисуют бабочек? Кто рисует? Зачем? Почему именно на этой стене? Почему именно этих бабочек? Разве не детективные загадки?
— По-моему, самое тут детективное другое — вопрос: зачем их стирают! — усмехнулась Алёна. — Кому они мешают?
— А может быть, их стирает тот, кто рисует? — азартно спросил Сева, постепенно входя в роль Гастингса и доктора Ватсона в одном лице.
— Вряд ли, — с таким же азартом ответил вместо Алёны Андрей, явно готовый войти в роль Пуаро и Холмса. — Зачем губить плоды своих же усилий? Все-таки там не просто какое-то схематичное граффити, а очень тщательно нарисованная картинка, там каждое пятнышко так вырисовано, оттенки так подобраны!
— А я думаю, что рисунки — просто ерунда, на которой не стоит зацикливаться, — рассудила наша детективщица, взяв на себя роль инспектора Лестрейда, скептика из скептиков. — Ну, стерли, ну, нарисовали…
Сева только собрался заспорить, как к нему явился клиент — молоденький блондинчик с великолепными волосами цвета меда. При виде его Сева часто задышал, и глаза его повлажнели. Алёна попыталась напомнить о визитке и мадам Кавериной, однако было уже поздно: Сева явно ничего и никого не видел и не слышал, кроме нового клиента. Оставалось только надеяться на то, что, когда красавчик уйдет, он слегка опомнится.
1918 год
Спустя какое-то время (немалое, судя по тому, что солнце перекатилось на склон небосвода) она лежала головой на его плече, пахнущем жаром и солью, и думала, что, конечно, погубила себя. Да и ладно! Аглая не жалела, ни о чем не жалела, она была счастлива… и несчастна одновременно. Некое безошибочное чутье, родственное чутью животного или зверя, подсказывало, что ничего подобного больше не будет, что просто невозможно повторить такое… И слезы наворачивались на глаза не то от тоски (ведь больше не случится!), не то от благодарности судьбе (ведь случилось все же!).
Гектор чуть повернул голову, и губы его коснулись ее волос.
— Ты… ты одна такая…
Голос его звучал хрипло, загнанно, он тоже никак не мог отдышаться.
— Я даже не знал, что возможно такое… Я упал со звезд или вознесся на них? Ты спасла мне жизнь, ты… Если бы не ты… Я давно забыл слова молитв, но вспомнил их все, когда молился, чтобы ты спаслась. Я кружил тут, ждал. Когда увидел тебя — рассудка лишился от счастья. Кто ты, почему все — так? Откуда у меня чувство доверия к тебе, безоглядного доверия, хотя знаю, что ты мне солгала?
Аглая вздрогнула. Гектор почувствовал, как напряглось ее тело, и успокаивающе улыбнулся (улыбку она расслышала в его голосе):
— Я не обвиняю тебя. Я знаю, что уже видел тебя, говорил с тобой прежде, чем ты выскочила на меня на лестнице, а я только чудом удержал палец на спусковом крючке. Все, что ты тогда там говорила, мол, ты пришла в мой дом искать себе жилье, ведь была просто торопливая выдумка, верно?
Аглая помолчала. Она не могла больше врать Гектору, не могла оскорблять его недоверием. И начала почти с самого начала:
— Мой дом сгорел. Отец умер. Жить мне было негде, деньги кончились, работы нет. Я услышала случайно, что доктору Лазареву нужна кухарка, потому что его прежняя… — Она вспомнила востроносенькую Глашу и ее возмущенную реплику, которую и повторила слово в слово: — Потому что его прежняя кухарка сбежала с красной матросней.
— С красной матросней? — изумленно повторил Гектор. — Что, правда? Именно так?
— Не знаю, так говорили, — подала плечами Аглая. — И вот я пошла к доктору Лазареву наниматься. Поднялась к двери и вижу, что она не заперта. Я вошла. В прихожей никого, одни шубы на вешалке громоздятся да зеркало мерцает. — Аглая сморщила нос, вспомнив тяжкий нафталиновый дух. — Слышу, разговаривает кто-то: «товарищ комиссарша» да «товарищ комиссарша». Потом открылась дверь в какой-то комнате и пробежала маленькая такая горничная, как птичка, в наколочке кружевной и передничке. Меня она не заметила, а я не успела ее окликнуть. И взяло меня любопытство: что ж там за комиссарша такая? Заглянула в ту комнату, а там пусто. На стенах картинки висят, а на стуле — вещи. Необыкновенные, яркие! Я таких не видела никогда. Все красные. Я не удержалась. «Дай, — думаю, — примерю такое великолепие. Комиссарша у доктора в кабинете, горничная на кухне посудой гремит… Примерю, посмотрю на себя в зеркало — и положу обратно». Клянусь, я не собиралась ничего красть! Хотела только на минуточку…
Гектор снова коснулся губами ее волос, издав какой-то поощрительный звук, означающий, что он, как мужчина, вполне может понять некоторые невинные женские слабости, особенно касаемые нового платья.
Аглая приободрилась и продолжала:
— Я переоделась и побежала к зеркалу в прихожую. И тут вдруг звонок дверной затрезвонил. Я испугалась, что горничная прибежит и увидит меня, и открыла сдуру. А там — этот, в кожане, Константин: «Товарищ комиссарша, ваш автомобиль подан, а мы — ваша новая охрана!» Я хотела им объяснить, что они ошиблись, но они меня просто-таки вытащили на улицу, затолкали в авто, и мы понеслись. Честное слово, я пыталась им сказать, что я не комиссарша, но они меня не слушали. Потом, по разговорам, я поняла, что меня принимают за Ларису Полетаеву. Попыталась объясниться с Константином, но он выхватил револьвер. Я испугалась, что он меня просто пристрелит, поэтому и замолчала. Из-под прицела меня не выпускали до тех пор, пока не привели в твой дом и не посадили лицом к стене… Потом появился ты. Я не видела тебя, но потом, когда мы столкнулись на лестнице, сразу узнала твой голос. И стала плести всякую чушь: боялась, что ты убьешь меня, если сообразишь, что я — не Лариса Полетаева.
— Хоть ты и хрипела очень старательно, я все равно смутно чувствовал что-то знакомое, — сказал Гектор. — Однако ты стала совершенно неузнаваемой без куртки.
Он умолк. Брови сошлись к переносице… Он словно вмиг забыл об Аглае — лежал и думал, мучительно думал о чем-то своем.
Вернее, о ком-то, решила Аглая. Конечно, о Наталье! Та была ему — своя, а Аглая — чужая, случайно встреченная женщина. Он даже имени ее не знает — так же, как она не знает о нем ничего, кроме клички Гектор. Как его зовут на самом деле? Проще всего спросить, но еще не факт, что он ответит. С чего бы ему открывать свои тайны какой-то незнакомой женщине, пусть даже она спасла ему жизнь, пусть даже отдала ему всю себя? Да ну, пустяки, в романах пишут, что для некоторых мужчин забрать у девушки ее девичество — самое обычное дело. Для Гектора это тоже мало что значит, вот почему он так мгновенно ушел в себя, замкнулся отчужденно. И Аглая должна понять его настроение, должна встать и уйти первой, чтобы избавить себя от унизительной сцены, когда он скажет: «Мне пора!» — а она не сможет удержать горя и, не дай бог, слез. Нет, надо уходить, и уходить первой!
Но куда? Как она доберется до города? Донесут ли ее ноги? Ужасно хочется есть…
— Слушай, — вдруг заговорил Гектор, — да ведь ты, наверное, есть хочешь? Я и сам с голоду умираю. Только неизвестно теперь, когда поесть удастся. Да и удастся ли вообще, — криво усмехнулся он. — Ты замерзла? Дрожишь вся.
Она задрожала, когда он сказал: неизвестно, удастся ли поесть вообще. Она ведь и забыла, что за ним идет охота! И красные, и анархисты — все его ищут. А она тут со своей внезапной любовью…
«Я его люблю! — изумленно поняла Аглая. — А он… Он любит Наталью или не любит? Неважно. Она его жена, у них ребенок. Мне в его жизни места нет».
Гектор встал, обошел тот самый серый камень и дернул за чахлый куст, росший у его острого края. Куст очень охотно вылез из земли, и открылась ямина, в которой лежало что-то, завернутое в облезлую кухонную клеенку. Гектор развернул ее — внутри оказался вещевой мешок. Весьма убогий холщовый мешок, перетянутый у горловины той же веревкой, которая служила и лямкой. Такие мешки назывались «сидоры».
Гектор развязал веревку и вытряс из сидора простую черную тужурку, которой мигом накрыл плечи Аглаи, вытащил ковригу хлеба и большую бутылку с водой. Достал из кармана нож, ловко нарезал хлеб, подал Аглае огромный ломоть.
— Можно было бы костер развести, пошукать по ближним огородам картошки да напечь, но у меня спичек нет. Обронил где-то коробок, а жаль… Придется хлебушком обойтись. Не бог весть что, но можно подкрепиться. Здесь неподалеку сады. Хочешь, я пойду поищу тебе яблок?
Аглае хотелось яблок, но было страшно хоть на миг расстаться с Гектором. Поэтому она только покачала головой — не хочу, мол, — и с наслаждением откусила хлеба. Он был черствый, но очень вкусный. Или так с голоду кажется? В романах пишут, что любовные волнения должны лишать аппетита, но у Аглаи все было наоборот. И вода какая-то… особенная.
— Жаль, соли нет, — сказал Гектор. — Хлеб с солью — совсем другое дело. Куда вкусней!
И зевнул. Аглая не смогла удержаться и немедленно начала зевать тоже.
— Знаешь, как говорят — хлеб спит, — засмеялся Гектор. — Да, сейчас поспать бы… — Он покосился лукаво, но тотчас помрачнел: — Нет, нам пора. Я отвезу тебя в город. Верхом быстрей, чем пешком.
— Что? Тебе нужно в город? Мы поедем вместе? — обрадовалась она.
— Только до окраины. Там расстанемся. Я еще не нашел то, что должен найти, не узнал то, что должен узнать.
— Бабочки Креза? — с горечью спросила Аглая. — Ты ведь их должен найти?
Гектор так и вскинулся:
— Откуда ты знаешь?
— Да ты меня сам сегодня о них спрашивал, когда думал, что я — Лариса Полетаева, — вздохнула Аглая.
— Ах да, — виновато кивнул Гектор, — я и забыл… Глупо как. Я все-таки ужасно тупой. Бабочки Креза, бабочки Креза… Правда, все дело в них.
— Что ж за бабочки такие?
— А ты раньше о них когда-нибудь слышала?
— Нет, никогда.
— Тогда лучше тебе о них не знать. Мне кажется, они приносят несчастье всем, кто не только прикасается, но и узнает о них.
— Они ядовитые? — испугалась Аглая. — Кусаются?
— Это не настоящие бабочки, — усмехнулся Гектор. — Они… они лежат себе в шкатулке, и шкатулку ищут все. Я, Хмельницкий, Гаврила Конюхов — так рыжего матроса зовут. Еще и другие ее ищут. Думают, будут счастливы, если найдут. Нет, счастья она не приносит, только горе.
— Что-то вроде шкатулки Пандоры, что ли?
— Гораздо хуже, — покачал головой Гектор. — Один только слух о том, что в ней скрыто, сводит людей с ума, заставляет их идти на преступление, предавать самых близких людей.
Глаза Гектора были мрачны, тени шли по лицу. Аглая подумала, что он говорит о себе. Как он сказал там, во дворе? «Бабочки Креза будут доставлены тем, ради кого я в свое время их украл». Он пошел на преступление ради этих бабочек, ради них пытался похитить Ларису Полетаеву, ради них бросил у Хмельницкого Наталью и сейчас должен расстаться с Аглаей… Наверное, навсегда!
— Ну, видимо, бабочки и в самом деле великие сокровища, если они заставляют людей терять рассудок! — пробормотала она с горечью.
— Сокровища… — повторил, небрежно передернув плечами, Гектор. — В самом деле, их стоимость около миллиона золотых рублей. Но главное не в том. Главное, что в бабочках заключена моя честь.
— Твоя честь? — изумленно переспросила Аглая. — Как такое может быть? Ты говорил, что украл их, но какая же честь в том, чтобы…
— Чтобы украсть? — испытующе поглядел Гектор. — Ты слышала когда-нибудь слова о том, что цель оправдывает средства?
— А то! — обиделась Аглая. — Макиавелли фраза, кто же ее не слышал?
— Думаю, не слышали многие, — усмехнулся Гектор. — Но столь же многие живут по его принципу, не подозревая о нем. Знаешь… мы сейчас расстанемся и, наверное, не увидимся больше никогда. Но… Ты значишь для меня так много! Пусть только сейчас, только сегодня… однако что делать, если вся моя жизнь сведена к словам «сейчас» и «сегодня»! И я не хочу, чтобы ты подумала, будто я обыкновенный воришка, грабитель и убийца. Поэтому расскажу все, как было, а ты суди сама… Еще лучше — не суди, а попытайся понять.
…На рубеже прошлого века жил человек по кличке Крез. Он и в самом деле был очень богат, потому что был невероятно удачливым вором. Крал он только драгоценные камни. Крал сам и скупал краденые. И постепенно накопил их немалое количество. А еще он любил бабочек. Собрал огромную коллекцию, платил огромные деньги, чтобы купить редкий экземпляр. Но ему приходилось скрываться, жить под чужими именами, а потому свои коллекции он не мог с собой возить. И очень страдал от разлуки с ними. Тогда он велел одному нижегородскому ювелиру — к тому времени Крез тайно перебрался в Нижний — сделать бабочек из драгоценных камней, но не просто как тому в голову взбредет, а строго по рисункам из энтомологических энциклопедий. Наконец коллекция была готова, в ней было одиннадцать бабочек. Очень больших — каждая величиной в четыре-пять дюймов в размахе крыльев! Причем это были бабочки, названные по именам мифологических персонажей — Крез решил составить достойную компанию своему имени. Там были бабочки Крез, Аполлон, Сфинкс, Ипполита, даже Гектор! — Он усмехнулся. — И еще разные другие. Парусники, перламутровки, павлиноглазки, махаоны, бражники… Вообрази, сколько драгоценностей на них ушло. Каждая бабочка — целое состояние! Постепенно о них распространились слухи, слова «бабочки Креза», «коллекция Креза» стали нарицательными, как бы синоним баснословной красоты и богатства. Крез был пожилым человеком, но авторитетен между ворами. Его уважали, к его советам прислушивались. Слухи о нем шли по России, но никто не знал, где он хранит свою коллекцию. Шло время, он сделался стар и болен, почти обезножел — у него развилась такая подагра, которая порой лишала его возможности двинуться с места. И вот в четырнадцатом году, когда началась война с Германией, в Нижний во время последней ярмарки, куда, чтоб ты знала, собирались не только торговцы, но и воры со всей России, приехал из Варшавы некий человек, которого звали Витя Офдорес. Так его все и называли — не Виктор, а Витя. Приехал он как коммивояжер — продавать на ярмарке образцы некоего средства от подагры. Только это было чистое шарлатанство, он просто грабил своих пациентов и клиентов. Говорили, Витя необыкновенный артист, мгновенно входил в доверие к каждому, потому что с ворами был вор, с купцами — купец, с офицерами — офицер. Женщины за ним бегали как сумасшедшие, потому что он был красавец. Но еще больше, чем женщины, за ним охотилась полиция. Но в Нижнем Офдорес залег на дно. Потом стало известно, что он каким-то образом подобрался к Крезу и вкрался к нему в доверие. Якобы его шарлатанское снадобье, которое было просто смесью керосина и лампадного масла, приносило облегчение больным ногам старика. Будто бы тот даже начал снова ходить. И вот прошел слух, что Крез умирает. Воры собрались на свою сходку и постановили: поскольку Крез одинок, ни семьи у него, ни детей, он должен оставить своих знаменитых бабочек кому-то из воров, а еще лучше — поделить между всеми…
— Не иначе, среди них были большевики! — засмеялась, перебив рассказчика, Аглая. — Все взять и поделить — как раз их идея. Смех, да и только!
— Ничего смешного, — продолжил повествование Гектор. — Когда начались такие разговоры, встал Витя Офдорес и сказал, что нечего талалы разводить, Крез уже выбрал себе наследника — его. И показал собственноручно написанное Крезом письмо, где тот это подтверждал. Кто-то смирился с волей Креза, кто-то — нет. Начались разборки. На Витю Офдореса пошла охота, но добраться до него оказалось практически невозможно, прежде всего потому, что он вел дружбу с большевиками. Причем с давних времен! В их партии много откровенных люмпенов, вот и Витя Офдорес был таким. Уже шел февраль семнадцатого, ты помнишь то кошмарное время.
— Да, конечно, помню! — кивнула Аглая с горечью.
— В стране царило почти полное безвластие, — продолжал Гектор. — В Нижнем, естественно, тоже. Полиция действовала из рук вон плохо, да еще ей мешали различные комитеты и партийные ячейки, которыми был наводнен город. Сормово кипело. Рабочих словно дикий, бешеный хмель обуял. Не зря нынче прозвучало имя Оськи Хмеля! Ведь именно в Сормове делал свою гнусную большевистскую карьеру Хмельницкий. Но однажды его чуть не схватили. Помог ему скрыться некий господин, а может, и гражданин, то есть товарищ, Орлов. Это был не кто иной, как Витя Офдорес. Он, видишь ли, решил выправить себе новые документы на русскую фамилию. Трудностей у него не было никаких, изготовителей фальшивых бумаг он знал множество.
— Красивую, однако, выбрал фамилию, — сказала Аглая. — Она бы тебе подошла. Ты в профиль на орла похож. Или на коршуна. На хищную птицу, словом.
— Станешь тут похожим на хищную птицу, от такой жизни! — криво усмехнулся Гектор. — И все же я не Орлов. У меня другая фамилия. Но она тут неважна. Знаешь, лучшим другом моего отца был адвокат-еврей. Он часто шутил: в этой жизни, мол, везет только тем, кто носит фамилии Голд, Берлянт или Шмок! Голд по-еврейски золото, берлянт — бриллиант, шмок — то же самое на идиш. Если учитывать, что я столько сил и жизней положил ради чертовых бабочек Креза, мне бы очень пристало зваться Берлянтом. Или Голдом. Ведь золота в них тоже много — лапки, каркасы крылышек…
— А все же почему именно Орлов? — спросила Аглая.
— Ну, с одной стороны, все очень просто объясняется, а с другой — хитро, — усмехнулся Гектор. — Оф дореспо-еврейски значит — хищная птица. Конечно, хищных птиц много. Витя выбрал именно орла потому, что унаследовал бабочек Креза, в которых было много уникальных бриллиантов. А в царском скипетре был укреплен знаменитый бриллиант «Орлов», некогда подаренный Григорием Орловым императрице Екатерине. Он ведь тоже был помешан на драгоценностях, так же как и Крез. Вот такая связь. Впрочем, новая фамилия Вити не играет никакой роли.
Рассказчик умолк на минутку.
— Итак, Орлов… Нет, я не могу называть его новым именем. Офдорес — он и есть Офдорес! Итак, Офдорес спрятал Хмельницкого. Очень странный шаг, да? Но Витя вообще непростой человек. О нем ходили самые невероятные слухи: то говорили, что он был осведомителем полиции, то что сотрудничал с большевиками и даже финансировал какие-то их аферы… Я в то время мало бывал дома, тоже был опьянен грядущим переворотом… — На лице Гектора мелькнул стыд. — Тогда мы не знали, во что большевики превратят Россию. Я проклинаю себя за то, что наша партия помогала им! Но вот настал Октябрь, и воцарилась новая власть. Хмельницкий оказался в числе самых значительных лиц губернии. И первое — первое! — что он сделал, это устроил облаву на Офдореса. Витю травили, как бешеного пса. Я был тогда в Нижнем и все видел. Думаю, несколько тысяч человек участвовали в операции, преимущественно отряды рабочих боевиков, пригнанные из Сормова. Были также красноармейцы, преданные Хмельницкому красные латыши, которые орудовали тут вовсю, были матросы. Офдорес просто не мог уйти! И не ушел. Его схватили, а при нем были бабочки Креза.
Аглая тихо ахнула.
— Офдорес ожесточенно сопротивлялся и был застрелен. Тело его сбросили в Волгу. Хмельницкий мог торжествовать победу. Он жил тогда в доме одного из бывших нижегородских воротил на Верхне-Волжской набережной, ел и спал, не выпуская из рук шкатулки с бабочками. Дом находился под самой строгой охраной, семью хозяина, разумеется, выселили. Хмельницкий находился в доме один — он никому не доверял. Могу себе представить, какие его одолевали муки! Ведь весь город знал, что он завладел знаменитыми драгоценностями. Стало о том известно и в Москве, и в Петрограде. Хмельницкий попался в ловушку собственной удачи и теперь никак не мог утаить бабочек для себя. Он метался по дому, как зверь в клетке, и тень его металась по занавескам.
— А ты откуда знаешь? — остро глянула на него Аглая.
— Наблюдал за ним, — просто сказал Гектор. — Видишь ли, дом моего отца стоял по соседству с тем зданием. Я знал, что утром особая комиссия ювелиров должна приступить к описи бабочек, я и не сомневался, что Хмельницкий непременно попытается обокрасть свое любимое государство рабочих и крестьян и утаить для себя хотя бы часть сокровищ. Но я не дал ему такой возможности. Перед рассветом, около четырех утра, я забрался на крышу и проник в дом через каминную трубу.
— Только не говори, что дом того богача строил тоже ты! — всплеснула руками Аглая.
— Хорошо, не скажу, — усмехнулся Гектор. — Я и в самом деле не имел к его строительству никакого отношения. Но мой отец был самый знаменитый в Нижнем инженер-печник и знаток каминного дела. У него хранились чертежи отопительных систем очень многих домов. Я нашел то, что мне нужно, и сделал то, что был должен сделать.
— А Хмельницкий видел тебя?
— Разумеется, нет, хотя это угнетало меня. Ведь я хотел конфисковать у него драгоценности как представитель своей партии! А поступил как обычный вор: вылез из камина, оглушил его, связал, забрал шкатулку с бабочками и исчез тем же путем, каким пришел. Правда, я оставил записку, мол, сокровища пойдут на борьбу против большевиков. Я хотел отвезти камни в Москву, Марии Спиридоновой, нашим товарищам, чтобы закупать оружие, организовывать отряды сопротивления режиму, который становился все более пугающим и жестоким. Драгоценности должны были обеспечить успех нашего переворота. Но мне не повезло. В ту минуту, когда я спускался с крыши, меня заметил охранник и подстрелил. Я убил его и смог добраться до дому, но рану мою было не скрыть. Отец… отец пришел в ужас, и мне пришлось довериться ему. Но он не мог оставить меня в доме раненого, потому что опасался предательства прислуги, и тайком увез в деревенский дом, ты помнишь его. — Гектор усмехнулся. — О его существовании мало кто знал. Однако мы боялись, что на нас набредут патрули, какие-то красные отряды, которые шатались ночью по городу и окрестностям, грабя все, что попадалось на пути. Мы не взяли с собой коллекцию, а спрятали ее в нашем городском доме (там было меньше тайников, чем в загородной усадьбе, но тоже немало, преимущественно в двойных стенках печей и каминов — отец любил устраивать их, от него я и унаследовал эту любовь). Мы не сомневались: никто не узнает о том, что я замешан в ограблении Хмельницкого, поскольку находился в Нижнем на нелегальном положении.
Настало утро. По городу разнесся слух о том, что на представителя Советской власти совершено нападение бандитами, то да се. Хмельницкого не поставили к стенке только потому, что он в свое время оказал очень ценные услуги Троцкому, вот тот и приложил все усилия, чтобы приглушить шум. Распустили слухи, будто стоимость украденного не столь уж велика, так что беспокоиться не о чем. Прошло несколько дней. Мы с отцом носу не показывали в город, он уволил всю прислугу и распустил слух, что уехал в Арзамас, где у нас тоже был дом. На самом же деле мы отсиживались в деревне. Кроме нас, там жили старая кухарка Ольга Трофимовна Селезнева и ее внучка Наташа.
Аглая подавила вздох. «Наташа…»
Гектор между тем продолжал:
— Двум женщинам мы доверяли безоговорочно, они были почти родные нам люди. Ольга Трофимовна помнила еще моего деда, обожала и отца, и меня. Наталья была незаконнорожденной, мать ее, так же как и моя, умерла от родов. Она была мне в детстве вроде младшей сестры, потом я заметил, что она влюбилась в меня.
— А ты? — не удержалась от вопроса Аглая. И тотчас отругала себя за неуместное любопытство.
Гектор угрюмо смотрел в медленно меркнущую голубизну небес.
— Я не знаю. Она была такой смешной и тощей девчонкой… а потом стала красавицей. Разумеется, я не без глаз и видел, как она хорошела с каждым днем. Но мне было… честно говоря, мне было не до нее! За Наташей ухаживали какие-то молодые люди, даже господа, а я… Меня вечно не было дома. Я тонул в своей работе, в своей борьбе. Нужно было нечто большее, чем просто смазливое личико, чтобы обратить меня к мыслям о любви, о женщине. Мои друзья, Костя и Федя, — он перекрестился, — называли меня схимником, монахом. Я не монах, ты знаешь, но Наталью не замечал очень долго… Но сейчас речь не о том. Из города до нас с отцом доходили только слухи, поэтому уж потом, через несколько месяцев, я восстановил примерную цепочку событий.
К Хмельницкому однажды тайно явился… не кто иной, как Витя Офдорес. Да-да, он самый! Оказывается, он не погиб, не утонул, а выплыл и выжил. Подозреваю, что Хмельницкий и помог ему спастись, что облава с самого начала была сложной интригой. Очень может быть, что у них были какие-то планы относительно того, как все же спрятать бабочек Креза от загребущих лап новой власти, но им помешал я, украв коллекцию. И вот сошлись два интригана, два очень хитрых человека, которых я ограбил, сошлись — и стали думать, кто мог устроить им такой афронт. Витя Офдорес был большим мастером дурачить полицию, а еще он кое-чему научился у следователей. И конечно же, он умел мыслить логически. Витя перечел мою записку и спросил у Хмельницкого, кого из эсеров Нижнего он знает. Тот назвал нескольких человек — в том числе и меня. Офдорес начал выспрашивать про каждого — и узнал, что мой отец живет по соседству, что он инженер отопительных систем. А грабитель-то появился из камина… Офдорес сделал единственный правильный вывод. В ту же ночь наш городской дом был подвергнут самому тщательному обыску. Ничего не нашли. Нас там не было — иначе убили бы, конечно. Тогда дом подожгли. Хмельницкий поджег, о чем я узнал только сегодня.
— Почему? — не поняла Аглая. — То есть я хочу спросить, как ты узнал.
— Когда он требовал, чтобы я вышел, он крикнул: «Если тебя не будет, через пять минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать!» Я видел его гнусную ухмылку. Этих слов, этой ухмылки мне было вполне довольно… Раньше-то я думал, что этот поджог — дело рук Вити Офдореса, сиречь Орлова. А впрочем, неважно. Итак, наш дом сожгли. А потом Офдоресу пришло на ум, что печник непременно устроит тайник в печной трубе. Посреди пепелища торчали закопченные камни да трубы. Их разрушили — и шкатулку с бабочками Креза нашли…
Гектор перевел дыхание.
— Это известие привез мне отец. Он сам видел разрушенную трубу — ту, в которой была спрятана шкатулка. Отец не выдержал зрелища спаленного дома, где жили его отец, дед, он сам, моя мать, я… Он слег и через несколько дней умер. И я понимал, что отчасти виновен в его смерти, что если бы не моя одержимость…
У Гектора прервался голос.
Аглая потянулась было к нему, но он выпрямился и встал:
— Не говори ничего, ладно? Не утешай меня. Довольно того, что в одну из таких минут слабости меня взялась утешать Наталья, и я… И я захотел утешиться. А потом бабушка ее умерла от тифа, ну и так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось. А у меня — никого, кроме нее. Впрочем, у Натальи есть еще тетка в Нижнем, у нее и живет сейчас наша дочь.
— Как ее зовут? — спросила Аглая, стараясь говорить как можно безразличней.
— Ларисой. Наталья очень любит «Бесприданницу» Островского. А мне имя напоминает о Ларисе Полетаевой. Черт ее дери!
Гектор резко махнул рукой, и Аглая ощутила, что ее сковал холод. Нет ничего более глупого, чем ревновать этого человека, но все же она ревновала. До боли.
— Дело не в моих переживаниях, — продолжал Гектор, — а в том, что все жертвы оказались напрасными. Время шло, а Хмельницкий по-прежнему сидел в Нижнем. Я следил за ним и понимал: шкатулки Креза у него нет. Сокровище исчезло вместе с Витей Офдоресом. Где он, куда уехал — неведомо. До последнего времени я был убежден, что шкатулка пропала вместе с ним. Но вот уже месяц, как в Нижний перебралась Лариса Полетаева. Мои люди следили за ней и за теми местами, где она бывала. Она вела себя, как светская дама из того самого «мира насилья», который она и ее подельники так неистово разрушали: парикмахерская, домашние ателье, кабинеты лучших дантистов и косметологов, кабаки, танцзалы… Последних в городе один или два, не запрещены они только потому, что их посещает Лариса Полетаева. Она заставила снова открыть водяную лечебницу и ездила туда принимать грязевые ванны. Всю грязь извела, сутками в ней сидела! У нее какое-то врожденное тяготение к любой грязи… — с изумлением развел руками Гектор. — Потом в городе обосновался модный массажист Лазарев, и Лариса зачастила к нему. Собственно, мне неважно ее времяпрепровождение. Важно другое: я убежден, что она знает, где шкатулка с бабочками Креза, поэтому…
— Почему? — перебила Аглая. — Если бы сокровища оставались у Хмельницкого, ясно, он мог бы сказать ей. Ну а если их забрал Офдорес? Какая связь между ним и Ларисой?
— Именно такая, что Лариса испытывает инстинктивную потребность не только в лечебной грязи, — жестко ответил Гектор. — С каким только отребьем не общалась она в Москве, в Питере, за границей! Кроме того, она немалое время прожила в Варшаве, налаживала там какие-то дела по печати. Офдорес явился из Варшавы. Помнишь, я говорил, что он был связан с большевиками? Очень может быть, что они знакомы с Ларисой… Да я почти уверен! Что-то подсказывало мне: Лариса должна знать и об Офдоресе, и о бабочках. Я видел единственный способ узнать все: похитить Ларису. Однако здесь она все время находилась под охраной анархистов… Ты видела компанию, которая явилась с ней?
— Хм, их трудно было не заметить.
Гектор холодно усмехнулся:
— Теперешний любовник Ларисы — Гаврила Конюхов, главарь нижегородских анархистов. Он с нее глаз не спускал, всюду таскался за ней, — продолжал Гектор. — Как верный пес караулит хозяйку у порога лавки, так Конюхов караулил Ларису в приемной парикмахера, врача, портного, дантиста… И только в квартиру доктора Лазарева он не поднимался никогда, оставаясь ждать в автомобиле. Черт его знает почему. Наталья говорила, что вроде бы у Ларисы с Лазаревым роман… неведомо, только ли массаж он ей делал или порою просто… — Гектор выразился очень коротко и грубо, однако Аглая не обратила на его слова никакого внимания, так была удивлена.
— Наталья говорила? А она тут при чем? Как она попала к Лазареву?
— Наталья откуда-то узнала, что массажист ищет кухарку. Он страшно привередлив в еде, вечно меняет кухарок — то одно ему не так, то другое не эдак… И по моему заданию Наталья пришла к нему наниматься. Лазарев ее принял на работу, она следила за Ларисой, все шло хорошо, мы узнали, в какие дни и в какое время появляется Лариса, как надолго остается в кабинете. На сегодня было назначено похищение. Накануне Наталья сообщила доктору, что увольняется, потому что замуж выходит. Мне нужна была ее помощь в деревне. Откуда пошел слух, что она с красной матросней спуталась и сбежала, я уж не знаю, может быть, сам доктор его распустил, может, горничная. Да это не суть важно. Сегодня Константин и Федор напали на Гаврилу сзади — ведь лицом к лицу с ним не больно сладишь! — оглушили и связали его, спрятали в подворотне. Я нарочно дал приказ — не убивать его. Анархисты не союзники большевикам, а только их временные попутчики, они могут быть полезны нам, эсерам, если провести с ними подобающую работу. Самое трудное состояло в том, чтобы убедить Ларису сесть в авто с другой охраной… мы решили в случае чего связать ее. Однако связывать не пришлось, — усмехнулся Гектор, — потому что вместо нее…
— Потому что вместо Ларисы появилась я? — покачала головой Аглая. — Бог ты мой, только теперь я понимаю, как же я тебе навредила, как все испортила!
— Не вини себя, — легко сказал Гектор. — Беда в том, что Константин и Федор раньше не видели Ларису в лицо. Накануне в случайной перестрелке с патрулем погибли двое наших товарищей, которые следили за ней и хорошо знали ее. Пришлось послать других, которые… приняли оперение за птицу. Ошибка оказалась роковой. Я не понял подмены сразу, потому что старался не попасться пленнице на глаза — не хотел, чтобы Лариса вспомнила меня. Но…
Гектор вдруг осекся, в глазах мелькнуло мучительное выражение.
И Аглая поняла, о чем он подумал. Сама она догадалась только что, но ведь он не мог не думать об этом с тех самых пор, как узнал, что в его дом привезли не Ларису Полетаеву! Может быть, ей следовало пожалеть его и промолчать. И, может быть, она пожалела бы его и промолчала, если бы… если бы не догадалась, что он стал жертвой самого подлого и самого низкого предательства. Ведь предал его, как поняла сейчас Аглая, человек, о котором он сказал: «Так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось. А у меня — никого, кроме нее».
— Ты старался не попасться пленнице на глаза… — заговорила девушка и сама поразилась, как хрипло, страдальчески звучит ее голос. Она страдала оттого, что принуждена причинить Гектору боль, но должна была остеречь его. А может быть, даже и спасти. — Ты старался не попасться на глаза пленнице, которую считал Ларисой, — повторила Аглая. — Константин с Федором не видели ее раньше и клюнули на комиссарскую обертку. Но среди вас был человек, который совершенно точно знал Ларису Полетаеву в лицо, который встречался с ней не раз, который следил за ней по твоей просьбе. Этот человек должен был с первого взгляда понять, что я — не она. Этот человек должен был предупредить тебя!
Гектор опустил голову.
Значит, и правда думал о этом же…
— Теперь я вспомнила, как Наталья смотрела на меня в первую минуту, — тихо сказала Аглая. — Она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть: «Что вы тут делаете?» Но все же удержалась. Так почему она не предупредила тебя?
— Ну, может быть, ей стало тебя жаль? — глухо сказал Гектор, отводя глаза. — Она побоялась, что я убью тебя, если узнаю, что ты не Лариса.
— А ты убил бы?
Он вскинул голову:
— Нет. Я и Ларису-то не собирался убивать, клянусь.
— Верю, — отозвалась Аглая. — Однако ты велел Наталье держать меня на прицеле. И она послушалась. Под дулом ее обреза я переодевалась. У Натальи так и плясал палец на спусковом крючке, я чувствовала, что при малейшей попытке с моей стороны ослушаться она выстрелит, выстрелит в меня! На ее лице была такая ненависть…
— Она ненавидела тебя за то, что ты сломала нам весь наш замысел, — сказал Гектор, но в голосе его не было уверенности.
— В самом деле? — зло бросила Аглая. — И все же она сдержалась, не выстрелила. Думаю, вовсе не из жалости ко мне. А потому, что тогда ты, увидев меня мертвой, сразу догадался бы: я не Лариса. Даже если бы она выстрелом изуродовала мне лицо до неузнаваемости, нас не перепутаешь. У Ларисы волосы другие. И сложение у нас разное. Ты догадался бы, если бы присмотрелся к трупу. Наталья наверняка убила бы меня, но в подполье, когда мы должны были бежать. Там, в темноте, ты не разглядел бы подмены.
— Но потом-то я все же узнал бы, что Лариса жива, — глухо возразил Гектор, но глаз не поднял.
И опять Аглая поняла, что он думает о том же, о чем думает она.
— Потом? — с горечью повторила она. — А ты уверен, что у тебя было бы это потом? Откуда, каким образом Хмельницкий мог узнать, куда доставили Ларису? Почему он явился так быстро? Я знаю, ты можешь предположить, что кто-то из тех часовых на городской заставе сообщил Хмельницкому, в каком направлении проехал автомобиль Ларисы. Ну и что? Проехал да и проехал. Никакой вести о похищении комиссарши Полетаевой не разнеслось — ведь она не была похищена. А Хмельницкий заведомо явился спасать ее! Он не сомневался, что Лариса должна быть в доме, и даже удивлялся, что она бежала. Выходит, Хмельницкий знал о твоем плане. От кого? Если бы на него работали Федор или Константин, их не убили бы. Предатель думал бы прежде всего о своем спасении, а они погибли, пытаясь спасти тебя. Тогда кто сообщил Хмельницкому?
Гектор вскинул на нее глаза, словно молил о пощаде, но Аглаю в ее ревнивом обличительном раже было уже не остановить.
— Ой, только не говори мне, что Хмельницкий собирался застрелить Наталью, если ты не выйдешь! — Она даже ладони выставила вперед, как бы защищаясь от его возможных слов. Но тут же испуганно прижала их к груди, потому что Гектор вдруг надвинулся на нее и рявкнул:
— Хватит! Довольно! Замолчи! Я все уже и сам понял! Понял, какой был идиот! Понял, что меня предали! Помнишь, Хмельницкий крикнул: «Я знаю, что ты здесь, затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников!» Никто не знал о тайниках в доме. Ни одна живая душа. Кроме Натальи. Еще тогда у меня мелькнуло подозрение. А потом появилась Лариса с анархистами…
— Вот именно! — не выдержала молчания Аглая. — Как они все могли догадаться, куда ехать? Только если заранее знали путь. И потом, помнишь, ты сказал Ларисе, чтобы она отпустила Наталью, ведь та помогла ей бежать. Ты все еще предполагал, что Ларисе удалось уйти через подпол. А она вытаращила глаза и закричала: «Бежать? Да вы тут все с ума посходили!» Она ничего не понимала. А потом закричала: «Она меня раздела, ограбила, предала!» Я еще тогда подумала: вот странности, почему Лариса убеждена, что ее вещи из приемной доктора Лазарева украла именно Наталья? Ведь знает, что кухарка ушла от доктора некоторое время назад… И слово «предала» прозвучало не случайно. Лариса страшно озлобилась против Натальи, а такое могло произойти только в одном случае: если Наталья по какой-то причине была с Ларисой заодно. Ты находился в убеждении, что используешь Наталью, дабы похитить Ларису, а на самом деле Лариса была в курсе всей интриги и ужасно разозлилась, что дело не так пошло. Она плела свою интригу. И какова была ее цель, как ты думаешь?
Гектор молчал. Страдание и боль исчезли с его лица. Оно было ледяным.
— Какой страшный у тебя ум, — заговорил он наконец. — Ледяной и безжалостный. Кто сказал, что женщины слабы и беззащитны?
Аглая уставилась на него испуганно. У нее — ледяной и безжалостный ум? До сей минуты она и не подозревала, что у нее вообще есть хоть какой-то ум!
Губы Гектора искривились в сардонической ухмылке:
— Человек, который так сказал, ничего не понимал в женщинах. Я — как несчастный, неопытный фехтовальщик, против которого вышли три сильных противника, причем совершенно невозможно ни предсказать выпад хоть кого-то из них, ни понять причины, по которым они бьются именно так, а не иначе. И самое смешное, что все они — вроде бы как беспомощные женщины… Значит, мне не спастись.
— Погоди-ка, — сказала Аглая. — Против тебя вышли три противника-женщины? А ты уверен, что хорошо посчитал? Одна — Лариса, другая — Наталья, а третья-то кто же? Или я о ком-то просто еще не знаю?
— Ну отчего же, думаю, ты о ней знаешь, — невесело усмехнулся Гектор. — Потому что третий мой противник — ты.
Он сунул руку в сидор и достал оттуда револьвер.
— Да, ты, — повторил Гектор со вздохом.
* * *
— Ну, мне пора, работа ждет, — сказал Андрей на улице, когда они с Алёной вышли из парикмахерской. — И, между прочим, не где-нибудь, а в Музее живых бабочек.
— О господи, вот так совпадение! — изумилась наша героиня. — Неужели и такой музей есть?
— Открылся недавно рядом с Покровкой, напротив парикмахерской «Фэмили». Знаете, на Пискунова…
— Да что вы говорите? — вскричала Алёна. — Я же туда каждую неделю хожу маникюр делать, но никакого музея не видела.
— Он в подвале находится, почти не разглядишь, вот о нем никто и не знает. Они и попросили меня постеров им наделать, чтобы себя разрекламировать. Хотите, пойдемте со мной? Там красиво. Цветы, растения тропические, а среди них летают огромные бабочки…
— Да нет, спасибо за приглашение, — отказалась Алёна. — На самом деле я к бабочкам совершенно равнодушна. И вообще, мне не до них, мне работать надо!
Они простились, причем Андрей выпросил-таки у нее визитку и пообещал отправить фотографии по электронной почте сегодня же, когда вернется из музея. Алёна пошла домой, однако от мыслей о бабочках почему-то никак не могла отвязаться. Может, и правда написать на эту тему романчик? Хотя, если честно, ее, как детективщицу и отчасти как доморощенного детектива, куда больше заинтересовала история, рассказанная Натальей Михайловной: история любви, благородства, преданности и предательства.
Может быть, лучше написать исторический детектив о робкой и трогательной Наталье, которая была влюблена в неизвестного человека, погибшего во время революционных бурь? Написать о добродушном увальне Гавриле Конюхове, который принял ее с дочерью, а потом пожертвовал собой, спасая семью? Написать о предателе и доносчике Кирилле Шведове… Неприятное какое имя — Кирилл, никогда оно не нравилось Алёне!
А все же интересно, какова должна быть фамилия главного героя? Кто именно был дедом Натальи Михайловны? Что-то помнится из перечисленных ею фамилий… Хмельницкий? Отличная фамилия, удалая такая. Орлов? Еще лучше, но немножко книжно. Учкасов — ну нет, какой-то комедийный персонаж. Берлянт? Нет уж, такая фамилия для шулера и совершенно отрицательного персонажа, главный герой никак не может ее носить. Впрочем, только в пьесах Островского сплошь говорящие фамилии, которые сразу обрисовывают характер персонажей, в жизни-то все иначе. Вон какая миролюбивая фамилия у Алёны — Ярушкина. Тихая такая фамилия, а в жизни ее носительница — ого, настоящей фурией-фуриозо бывает! А кстати, ярка, ярушка — это то же, что овечка. Вот смех, они же с новым знакомцем, фотографом Андреем Овечкиным, практически однофамильцы! Ну не ирония ли судьбы, что именно он притащил ей в клювике оброненный в лифте листок? Хотя слово «клювик» здесь явно ни при чем. Что вообще наличествует у ярок и овец? Пасть? Рот?
«О какой ерунде ты думаешь! — укорила себя Алёна. — А все от безделья. Займись каким-нибудь упражнением для тренировки мозга. Ну хоть список несчастный попытайся расшифровать!»
Правда, это не ее дело… Да и ни к чему во всякой невразумительной ерунде пытаться разбираться. Но что такого в том списке? Почему именно из-за него так разъярилась Наталья Михайловна? Почему так переменилось ее настроение после того, как мадам узнала, что списка в конверте нет, и решила, что его прикарманила Алёна? Хотя, возможно, настроение у нее изменилось от того, что она прочла в письме Владимира Шведова.
Конечно, он пытался оправдать отца (судя по возрасту Владимира Шведова — ему за 60, — Кирилл Шведов родил сына уже в весьма немолодые годы!). Но как можно оправдать доносчика, погубившего целую семью? Конечно, трудно судить, глядя через годы…
Может, это была месть! Кому, за что? Не узнать. Легче разгадать загадочный список, чем проникнуть в суть поступков и замыслов Кирилла Шведова! Интересно, список как-то связан с содержанием письма?
Письма у Алёны не было, а список был. Она вернулась домой, достала его из сумки и стала читать.
Ап. — АлРжБяИчШАм
Кр. — крРчШИГржБ
Мн. — АлОбАк
Мен. — САлчШ
Гар. — АлИчШ
Агл. — ПлтрАлжБчШорРкрР
Гек. — АлчШкрР
Ип. — чШжБорРГртИАл
Сф. — АмчШАлгСТур
Атр. — чШАлжБорРТоп
Зеф. — ИчШ
Абракадабру, расположенную в правом столбце, лучше не трогать. А вот то, что в левом, можно попытаться расшифровать. Наверное, не так уж много слов начинается на ап. Апорт, апломб, аппликация, аппетит, апология… Что же еще?
Устыдившись скудости собственного лингвистического запаса, Алёна взяла с полки «Большой энциклопедический словарь», открыла на «ап» — и… и честное слово, если бы Сева не состриг все ее кудряшки, они непременно поднялись бы сейчас дыбом, потому что на апначиналось ровно 134 слова. Среди них оказались позорно забытые Алёной апартаменты, апатия, апачи, апелляция, аперитив(ха-ха!), апогей, апокалипсис(ну это как можно было забыть?), апостол, апостроф, апофеоз, аппарат, Аппассионата, апрель(а он ведь уже на носу!), априори, апробация, аптека. Имело место быть также немалое количество имен собственных, среди которых нашелся, опять же, Аполлон, на сей раз не бабочка из вида парусников, а бог света в Древней Греции (он же Феб), Апис — священный бык Древнего Египта, Апулей — автор скандального «Золотого осла», Аполлинер — французский поэт («уродзоны шляхтич» Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, антр ну суа дит) и многие другие. Алёна, как и подобает человеку с филологическим образованием, который знает все обо всех, хотя и самую чуточку, немедленно вспомнила крохотное четверостишие из «Бестиарий» Аполлинера — под названием «Гусеница»:
Трудись, поэт, не предавайся сплину — Дорога к процветанью нелегка! Так над цветком гнет гусеница спину, Пока не превратится в мотылька.Надо же, и здесь про бабочек!
Даже если отмести географические названия, трудно понять, какое из слов, начинающихся на ап, может быть, по мнению автора списка, эквивалентным буквосочетанию АлРжБяИчШАм. А если теперь пошарить на кр? Что там нам известно? Красота, крест, круг, крутой и круто, а также крутяк, край, краюха, кранты, кринолин, кривизна, кромка, крестословица…ага, ага, ффтему, как пишут на интернетовских форумах! Что же сообщит «Большой энциклопедический словарь»?
«БЭС» на замедлил информировать, что на крначинается бессчетное количество слов. То есть сосчитать их, конечно, можно было, но Алёна прекратила заниматься ерундой, перевалив за 250. Цифры тут явно не имеют значения! В списке идут в счет только буквы. В безумном перечне на крАлёна обнаружила такие слова, как краб, кравчий, краеведение, кран, кракелюр(помнится, во время своих странных и опасных приключений в местном художественном музее [2]Алёна очень хорошо усвоила это слово, да жаль, память у нее девичья, уже все давно забыла), крапива, краковяк, краска, красный, кредит(а также кредитная карточка), крем(м-ммм!), кремний, крепеж, крестины, крепостное право, креолы, кривичи, кризис(ну, например, бывает кризис жанра…), критика(плохое слово, очень плохое слово!), кристаллы, критический(например, критический возраст), кровь, крона, кроссворд(когда-то Алёна Дмитриева обожала их разгадывать, потом сама стала загадывать — читателям), крот, кружка, кружево, кручина(«Извела меня кручина, подколодная змея!»), крыша и крышка, крыло, крюшон, крякатьи наконец — кряж. Среди имен собственных встретились К. Р. — Константин Романов, великий князь, дядюшка последнего царя и очень недурной поэт, Крамер(Стэнли, кинорежиссер), Кранах Лукас Старший, Красин Леонид Борисович, пламенный революционер, Крез, царь Лидии и мифологический символ непомерно разбогатевшего человека, Крестовский(вернее, два Крестовских и оба Всеволоды, причем один был всамделишный автор «Петербургских трущоб», а второй на самом деле звался Надеждой Хвощинской-Зайончковской), Кржижановский Глеб(еще один пламенный революционер!), Крижанич Юрий, первый панславист, человек, весьма Алёной Дмитриевой уважаемый, Кронин Арчибальд, романами которого Лена Володина (будущая Ярушкина) некогда зачитывалась до слез, — и еще неимоверное количество народу, как известного, так и никому особо не ведомого. Никто из них, опять же, никак не сопрягался с буквосочетанием крРчШИГржБ.
Честно говоря, возня с этим крАлёну изрядно утомила. Может, вообще бросить заниматься ерундой? Исключительно из свойственной ей инерционности мышления она открыла словарь на мни вяло принялась водить пальцем по словам: Мнемозина, мнемоника, мнимый, Мнишек Марина, многозначность, многословие(вот уж воистину!), многогрешный(аз многогрешный, писал о себе великий государь Иван Грозный), многолетники, многомужество(хм…), многосторонность, многочлен(да-а?!), множество. Слов оказалось всего лишь пятьдесят, и Алёна, приободрившись, решила еще немножко пострадать с мен. Итак: мена, Менандр(древнегреческий поэт), Менделеев, Менелай(ага, привет, и ты здесь, обманутый супруг Елены Троянской!), менестрель, мениск…
Стоп. Менелай? Бабочка Менелай была нарисована на стене. Сегодня там появились бабочки Аполлон и Мнемозина. Но ведь оба имени встречались в списке слов, которые прошерстила Алёна на апи мн. А может быть, все слова в правой колонке — названия бабочек?!
Да ну, у нее сдвиг по фазе, только и всего. Просто-напросто совпадение. Какая связь может быть между бабочками и Натальей Михайловной, которая сама сказала, что их терпеть не может, потому что они сучатлапками?
Ерунда, само собой. Но если все же просто так, от нечего делать (та-ак… а роман писать — это вам что, нечего делать?!), взять и проверить, существуют ли названия бабочек на Гар., Агл., Гек., Ип., Сф., Атр., Зеф.? И еще у Алёны есть слово Крез, тоже из области мифологии. Существует ли бабочка Крез? Пока неизвестно. А вот что такое Зеф.? Не Зефир ли бриллиантовый, виденный вчера Алёной (в компании с Натальей Михайловной, между прочим!) на некоей серой стене? Итак, предположим: в наличии Аполлон, Мнемозина, Менелай, Зефир. Крез — под вопросом. Что делать с остальными сокращениями? Алёна на всякий случай включила компьютер, вышла в Интернет, открыла любимый безотказный «Google» и набрала в поисковике «Бабочка гар».
Осечка. Ответы оказались весьма невразумительные. Ну что ж, получено свидетельство того, что «Google» знает не все на свете. А какое мифологическое имя начинается на гар? Первыми приходят на ум злобные крылатые сестрицы гарпии. Почти не надеясь, Алёна набрала «бабочка гарпия» — и наткнулась на великолепный сайт, который так и назывался — «Бабочки».
О Интернет, великий и могучий! Нет бога, кроме Интернета, и «Google» пророк его! Воистину так!
Так вот. Бабочки гарпии относились к семейству хохлаток (какое милое, безобидное название!) и выглядели не слишком симпатично. Черно-белые с серым. Что-то вроде Мнемозины, только крылья узкие, а туловище большое. Такие же уродины, как настоящие гарпии.
Теперь проверим бабочку Крез. Алёна опять попросила «Google» потрудиться — и по ссылке «Бабочка Крез Валлас» попала на сайт некой Валентины Чуваевой, художницы, которая делала из бисера заколки и броши в форме бабочек. На заглавной странице обнаружилась фотография этой художницы, и Алёна испытала легкий шок, узнав лицо той самой Валентины, которую она видела не далее как вчера у Севы. Ну той, на Медузу Горгону похожей!
Алёна нашла среди поделок Валентины необычайно красивую и разноцветную бабочку Крез (вот уж в самом деле богатство красок!), изготовленную из бисера. Надо надеяться, Валентина не погрешила против истины. Наверняка нет, ведь и Аполлон, и Мнемозина, и Менелай в ее коллекции почти один в один совпадают как с рисунками у Брема — Алёна уже и до «Жизни животных» добралась! — так и с картинками, появившимися сегодня на стене. Картинки наша детективщица снова посмотрела, перебросив свои фотографии с мобильника на компьютер и похвалив себя за предусмотрительность: догадалась ведь запечатлеть!
Ну что ж, оживленно потерла руки Алёна, теперь осталось выяснить, кто такие Агл., Гек., Ип., Сф., Атр. Неужели тоже бабочки?
Стоп… что такое говорил сегодня Сева? Уверял, что многие бабочки называются по именам мифологических персонажей, и перечислял: Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, Аполлон, Мнемозина, Гарпия, Аглая…
Андрей Овечкин в ту минуту спросил, что за богиня с именем Аглая, и Алёна просветила его, что так зовут одну из трех граций. А фотограф тогда возьми да и вспомни еще трех сестриц, парок, одна из которых звалась Атропос. Вот это сокращение Атр. в списке — не значит ли оно Атропос? А Агл.,может быть, Аглая? Гек. — Геката? Или Гектор? Проверка, проверка!
Проверка с помощью Брема и «Google» помогла выяснить, что где-то над полями летом начнет летать перламутровка Аглая, бражник мертвая голова, иначе — Атропос (на спинке у бабочки некий рисунок, и впрямь напоминающий череп, а расцветка красоты необыкновенной, очень яркая; правда, «фигура» у нее так себе — туловище толстовато, крылья узковаты), а также парусник Гектор — невероятно благородных очертаний и окраски, черно-красный, с белыми проблесками… Никакой Гекаты, к счастью, среди бабочек не отыскалось. Да и ну ее, зловещую такую!
Ну, кто из героев мифов и легенд античных времен приходит на ум при упоминании каких-то Ип. и Сф.? Ипполит и Сфинкс. А вот и бабочка Сфинкс — тоже бражник, мохнатый, бело-черно-коричнево-сиренево-розовый, красивый и зловещий. Насчет юноши Ипполита Алёна чуть-чуть пролетела, такой бабочки не отыскалось, зато нашлась его мать, Ипполита, жена героя Тезея, в прошлом царица амазонок. Бабочка звалась бархатницей: вся коричневая с черной каймой крыльев, с очень яркими желто-красными полосами.
Наша детективщица откинулась на спинку своего расшатанного донельзя стула, который был уже настолько ею выдрессирован, что Алёне иногда казалось, что он уже забыл о своих классических очертаниях и по ее воле готов принять любую угодную ей форму. Ну что ж… В левый столбец, таким образом, вполне можно поставить следующие слова: Аполлон, Крез, Мнемозина, Менелай, Гарпия, Аглая, Гектор, Ипполита, Сфинкс, Атропос, Зефир. Путаница букв противоположного столбца по-прежнему оставалась загадкой, и ее неразрешимость вызвала у Алены внезапное чувство острой и сосущей тоски в желудке. Обычно такое ощущение называется голодом…
Алёна прошла на кухню и наелась салата из кальмаров — чистый белок, минимум калорий. Правда, там примешались понемножку горошек, лук, соленые огурцы и чуточка майонеза, отнюдь не постного. Да ладно, однова живем! Затем заела салаты апельсином, который, говорят, уничтожает избыток жира, попавшего в желудок. Но даже если про него и вранье, все равно при весеннем авитаминозе сочный фрукт самое то, так же как и кипяточек с протертой смородиной (летние заготовки, вот молодец Алёна Дмитриева!). Вернулась писательница к компьютеру с новыми силами. Конечно, девушка, перманентно худеющая, а тем паче далеко не девушка, должна после обеда отправиться совершать моцион, чтобы калории не отложились во всех мыслимых и немыслимых проблемных зонах, однако Алёна сочла, что интенсивный мозговой штурм вполне может быть приравнен к променаду.
Что ж такое АлРжБяИчШАмнапротив слова Аполлон? Что означает крРчШИГржБнапротив Креза? Почему Зефир — это ИчШ? Зефир бриллиантовый… Все-таки дурацкое название, его бы изумрудным называть, он же сплошь зеленый, хоть и с черной каймой.
Зеленый? Изумрудный? А что, если…
Предположим, И — это изумруд. А что такое маленькое ч? Может быть, черный? У Брема Зефир бриллиантовый и впрямь как бы окантован черной каймой. Черный Ш… Что за камень, ну-ка?
Где-то в книжных завалах была у Алёны старая, некогда очень любимая книжка — потрясающего писателя Михаила Пыляева «Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление», репринтное издание 1896 года, типография Суворина. Ага, вот она, нашлась. Написана она была еще на дореформенном русском, однако Алёна и по-старославянски-то читала легко, что ей там какой-то дореформенный русский. Поэтому она легко ориентировалась в книжке и скоро нашла перечень камней на Ш.
«Шамир — древнее еврейское название корунда, употребляемого в виде порошка для шлифовки и резки драгоценных камней».
Типичное не то. Аналогично и «Шах, алмаз русского императора. Этим именем называют также бирюзу самого высокого качества, притом конусообразной формы».
Алёна еще раз посмотрела на изображение бабочки Зефир бриллиантовый. Бирюзой тут и не пахло, одна сплошная изумрудная зелень. Ищем дальше.
«Шерл драгоценный, или драгоценный турмалин». Так… варианты названий, происхождение названия, где встречается… кристаллическая система… «отделение ромбоэдрическое» — ужас какой! — обладает двойным преломлением лучей света… Ага, вот! «Цвета шерлов представляют большое разнообразие». Черный шерл! Бывает черный шерл!
Ну что ж, если бы Алёна Дмитриева была, к примеру, Фаберже и ей взбрело бы в голову сделать из подручных драгоценностей бабочку Зефир бриллиантовый, она вполне могла бы воспользоваться для своих целей горсткой изумрудов и черных шерлов.
Так-так. С одной путаницей вроде бы разобрались. Где еще встречается буквосочетание чШ? Да чуть ли не в каждом слове. Аполлон, например, состоит из АлРжБяИчШАм. Ага, доходчиво так…
Значит, чШ — это черный шерл. Ал — скорее всего, алмаз.
Алёна открыла Брема, потом сравнила картинки на разных сайтах и собственноручно снятое фото. Он практически весь белый, Аполлон-то. Ну правильно, как богу света ему просто положено сиять и сверкать. Алмазная бабочка с полосами и вкраплениями из черного шерла, красные пятна наверняка делали из рубина. Остались жБ… яИ… Ам…
Заклинило. Почему, например, иногда строчная буква стоит перед прописной, а иногда — после? Предположим, что, как в случае с черным шерлом, строчная перед прописной обозначает цвет. А после прописной — просто сокращение. Например, Ал — это алмаз, а Ам — аметист. В самом деле, на крыльях можно разглядеть розово-сиреневые пятнышки, для которых вполне сгодился бы аметист…
Но что такое жБи яИ? Предположим, ж — желтый. С Ипонятно — изумруд. А я…ясный? Яркий?
Алёна снова уткнулась в Пыляева и обнаружила совершенно бесценное подспорье: раскладку камней по цветам и оттенкам. Оказывается, некоторые камни имели яблочно-зеленый оттенок, и к ним относились хризолит, изумруд, берилл, хризоберилл, сфен, александрит и полупрозрачный хризопраз. Вполне возможно, блеклую зелень на крылышках Аполлона ювелир пытался изобразить с помощью сочетания яблочно-зеленого изумруда и желтого…
Пыляев подсказал насчет желтых камней: такой цвет имели корунд, гиацинт, берилл, алмаз, сфен, шпинель, топаз… Конечно, жБозначает желтый берилл.
Ур-ра!
Алёна любовалась изображением Аполлона с таким восторгом, как будто он был делом ее рук, как будто она сама только что создала из драгоценных камней невероятно красивую и баснословно дорогую бабочку. Одних алмазиков на нее сколько должно уйти… Интересно, какого размера тот ювелир делал бабочек?
«Какой ювелир? — попыталась она себя охладить. — Угомонись! Все это твои фантазии!»
Но угомониться было уже невозможно — «игра в бисер» (Герман Гессе нервно курит в сторонке!) оказалась слишком захватывающей.
Кто там у нас в списке по очереди? Крез… Кстати! А ведь именно Крез изображен на вывеске парикмахерской. Сева назвал его мудрено — орнитоптера крезус Валлас. Крезус — это явно Крез.
Крезу соответствуют буквы крРчШИГржБ…Итак, начали: чШ — черный шерл, жБ — желтый берилл, И — изумруд, Гр — гранат (судя по цвету некоторых вишнево-винных пятен на крыльях бабочки), крР — красный рубин, потому что, если верить Пылаеву, рубин бывает и красный, и оранжевый, и желто-красный, и густо-розовый, и малиновый, и еще других оттенков. Баснословная бабочка должна была получиться под именем Крез. Поистине — Крез!
Но когда Алёна взялась за скромную и такую вроде бы невзрачную Мнемозину, она поняла, что именно эта бабочка, пожалуй, должна быть рекордсменкой по стоимости в воображаемой ювелирно-лепидоптерологической коллекции. Там сплошь должны быть алмазы, чуть оттененные обсидианом и аквамарином. Вот и получилась магическая формула: АлОбАк.
Вполне соперничать с Мнемозиной мог бы Менелай. Воистину сапфировая бабочка получилась бы, ведь в формуле САлчШС — это сапфир, Ал — алмаз, чШ — черный шерл.
На неприятную Гарпию Алёне было бы очень жаль тратить алмазы, но что поделаешь: АлИчШ — алмазы, изумруды, черные шерлы должны были создать ее зловеще-изысканную, почти смертоносную красоту.
С Аглаей Алёна надолго встала в тупик. ПлтрАлжБчШорРкрР… Пришлось снова пойти на кухню и выпить кофе, а для подкрепления мозговой деятельности съесть шоколадный батончик. Батончик помог, но не слишком. Ал — алмаз, жБ — желтый берилл, чШ — черный шерл, орР — оранжевый рубин, крР — красный рубин. А что такое Плтр?! Алёна маялась с этим словом так и этак, пока не прочла описание бабочки Аглаи. Она была не просто Аглая сама по себе, а принадлежала к семейству перламутровок. Загадочный Плтр — это перламутр, вот что!
Дальше пошло просто само собой.
Гектор — алмазы, черный шерл, гранат, красный рубин. Ипполита — черный шерл, желтый берилл, оранжевый рубин, гранат, темный изумруд, алмазы. Сфинкс — аметист, черный шерл, алмазы, голубой сапфир, розовый турмалин. Атропос — черный шерл, алмазы, желтый берилл, оранжевый рубин, топаз.
О-го-го, какая коллекция получилась… Ну просто алмазный фонд!
Да… Осталось только понять, что все это значит и какое отношение имеет к Наталье Михайловне Кавериной!
Бабочки, бабочки на стене… Ну как, каким образом они связаны с жизнью Натальи Михайловны и ее семьи? Кто и зачем рисовал их?
Самое логичное предположить, что Владимир Шведов. Но данное предположение и самое же нелогичное. Потому что если он мог бы нарисовать только бабочек Зефир бриллиантовый и морфиду Менелай, но уж никак не Аполлона с Мнемозиной. Ведь Шведов вчера уехал буквально на глазах у Алёны.
Да и вообще… Представить себе немолодого — за шестьдесят! — джентльмена, который украдкой рисует на стене цветными мелками… На такое не хватало даже буйного, безудержного воображения Алёны.
Нет, их рисует кто-то другой. Может быть, сама Надежда Михайловна?
«Не верю!» — сказал бы в этой ситуации Станиславский. И Алёна Дмитриева уверенно повторила бы за ним: «Не верю!»
Она и впрямь не поверила своим глазам, взглянув на часы — стрелки приблизились к полуночи… Мигом захотелось спать до того, что в глазах померкло. Алёна кое-как дотащилась до душа, а потом до постели. И снова всю ночь летали над ней бабочки, осыпая ее алмазами и бериллами (а также сапфирами, рубинами и изумрудами), которые так и падали из их крылышек при каждом движении. А утром, ровно в восемь, ее поднял с постели телефонный звонок.
1918 год
Уже совсем стемнело, когда Аглая вошла в город. Она думала, что не сможет пробраться по высокому косогору: непременно соскользнет с тропы и свалится с обрыва, — однако, как ни странно, идти было легко даже в почти полной темноте. Сухая глинистая тропа чуть светлела под ногами, справа поднимался склон, слева от обрыва тропку почти постоянно огораживали кусты, и нужно было только держаться подальше от их темной массы. Сначала Аглая шла, как канатоходец, ставя ноги перед собой, путаясь в них и то и дело теряя равновесие, но потом привыкла и перестала бояться. Вернее, перестала трястись от страха всем телом, а в душе-то колотилась по-прежнему. Но не от того, что ждало впереди: от того, что оставалось сзади…
Она еще там, на поляне, вытерла руки о траву и попыталась очистить их землей, а все же они были липкие от крови, так внезапно хлынувшей ей на руки. Аглая не чаяла, когда наконец спустится к воде. Но близ моста будет опасно — там может стоять патруль. Значит, нужно дойти до воды раньше. При этом не стоило рисковать и лезть с обрыва прежде, чем дойдет до мукомольной фабрики: слишком большая крутизна, легко сорваться. И вот чуть только показались на фоне темнеющего неба светлые очертания элеватора, Аглая начала искать идущую вниз тропу — и нашла ее таки. Здесь еще можно было идти не таясь — фабрика давно стояла, никакой охраны, никакой работы. Аглаю все сильней тошнило от запаха крови, она так спешила, что дважды чуть не сорвалась, но все же удержалась на тропе. Наконец подкатила к ее ногам свежая и живая, чудно пахнущая волна. Аглая присела на корточки и принялась тереть руки песком и ополаскивать в воде.
Снова понюхала руки. Вроде пахнет уже не кровью, а только речной свежестью. Она надела тужурку, которую взяла у Гектора, съела прихваченный с собой кусок хлеба из его припасов. Запила речной водой. И пошла дальше.
Постепенно она успокаивалась. Красота тихой ночи захватила ее. Звезды отражались в спокойной воде, где-то вдали плеснула хвостом сонная рыба. Далеко-далеко хлестнул выстрел, забрехали собаки, но тотчас все стихло, словно тот выстрел не мог иметь никакого отношения к царящему вокруг покою. Эта ночь обнимала и вела, оберегала и направляла. Аглая ощущала себя будто в каком-то коконе, который делал ее незримой и неслышимой. И все же не хотела бы она испытать свой кокон на прочность, наткнувшись на патруль!
Но пока везло.
Между прочим, иногда Аглая ощущала, что не одна идет в ночи. Издали порой доносились крадущиеся шаги. Замирала она — замирали и шаги. Но девушка понимала, что в темноте движутся люди, которые так же, как она, идут по каким-то своим тайным делам и, так же как она, не хотят быть замеченными. Они проходили мимо друг друга каждый своим путем, настороженно, словно корабли, которые минуют друг друга в тумане, боясь столкновения. Только корабли дают знать о себе явными гудками, а здесь приходилось таиться, красться, почти не дышать. Она шла уже больше часа и теперь была почти уверена, что сбилась с дороги. А кого спросишь? Наконец слабо засветились в полутьме белые гладкие стены, замерцали купола, и Аглая с облегчением перевела дух. Это была Сергиевская церковь. Улица, на которой она стояла, тоже звалась Сергиевской.
Она пересекла Ильинку и двинулась по Сергиевской вниз, к оврагу под Лыковой дамбой. Уже недалеко была Покровка.
Аглая дошла до трамвайных путей и постояла на них, пытаясь сориентироваться.
Овраг, который она искала, находился от нее справа. Впереди, на Покровке, царила кромешная тьма — никаких фонарей, никаких светящихся окон.
Она стояла, всматриваясь в темноту, пока не различила очертания того дома, который был ей нужен. Тогда она тихо-тихо сделала несколько шагов.
Вот крыльцо. Вот дверь.
Крыльцо, конечно, заскрипело. Аглая замерла. И тут же услышала, как скрипнула половица за дверью.
Кто-то там насторожился. Кто-то ждал…
Ее? Нет, вряд ли. Ну, посмотрим, кто и кого тут ждет.
Аглая стукнула в притолоку. Она готова была отвечать на всякие дурацкие вопросы, типа кто там, да зачем, да кого нужно, готова была врать (вранье было припасено заранее), однако дверь распахнулась мгновенно, резко, и на пороге выросла невысокая мужская фигура. В руке темно сверкнул пистолет. В ту же минуту Аглая услышала, как щелкнул взведенный курок: кто-то еще затаился неподалеку в сенях, готовый выстрелить в нее в любую минуту.
Она завизжала и шарахнулась с крыльца, но не назад, а вбок. И правильно сделала. В том направлении, где она стояла, грянул выстрел, пуля просвистела мимо, но Аглая не удержалась на ногах, повалилась наземь и поползла куда-то в сторону, в спасительную ночь.
— Зачем ты стрелял? — раздался тяжелый раздраженный бас, и Аглая узнала голос Гаврилы Конюхова. — Башку оторву! Ты его спугнул! Я же сказал — впустить в дом, а ты полез со своей пушкой. Иди ищи теперь, может, ранил его, может, он где-то тут валяется. Как бы не уполз!
Аглая поползла как можно быстрее.
— Да утихни, Гаврила, — отозвался человек, стрелявший в нее. Его голос тоже был девушке знаком, только она не могла вспомнить, кому он принадлежал. Стоп, да ведь Учкасову, тщедушному такому анархистику, который обыскивал Гектора, когда тот пошел сдаваться Хмельницкому. — Это был не он. Понимаешь? Не он, а какая-то баба. Я почему стрелял? Потому что она начала визжать, как пилой по ушам резанула. Ну, я и не выдержал…
— Пилой ему по ушам! — рыкнул Конюхов. — По яйцам бы тебе пилой, понял? Нельзя было ее упускать!
— Да что тебе, своих баб мало? — хмыкнул Учкасов. — Со своими двумя сперва разберись, потом третью лови. Или, думаешь, Гектор в бабью справу переоделся? Да ну, он же верста коломенская, косая сажень в плечах. А эта была хоть и длинная, а худая, что лозина. Не, не мужик, сразу видать!
— Высокая, худая? — насторожился Конюхов. — А одета как?
— Да что я, сам баба, ее одежу разглядывать? — обиделся Учкасов.
— Ты не баба, — успокоил его Гаврила. — Ты гораздо хуже, потому что у некоторых баб ум хоть и короткий, да все же есть, а у тебя ничегошеньки в башке нету. Вдруг приходила табаба? Она тоже высокая да худая, а одета в черное платье. И если ты ее спугнул своей пушкой, я тебе все оторву, что только можно, а не какие-то пряжки, понял?
«А вот интересно, — угрюмо подумала Аглая, — откуда Гавриле знать, как я выгляжу и во что одета, если он меня в жизни не видел? Наталья ему разболтала, вот откуда. Еще одно подтверждение того, что она предала Гектора! Кстати. Что там сказал Учкасов, мол, со своими двумя разберись? Одна — Лариса Полетаева, а вторая — не Наталья ли? Неужто она его тайная любовница?»
— Гаврила Митрич, сокол ты наш, — плачущим голосом заговорил между тем Учкасов, — да мыслимое ли дело в такой темнотище бабье платье разглядеть? Она как завизжит, у меня палец сам на крючке дернулся.
— Балда ты, Учкасов, форменная балда! — прорычал Гаврила. — Шум подняли, всю округу всполошили. Слышишь, собаки заливаются? Как бы сюда патруль не принесло. А ты чего приперлась, хозяйка?
— Родимые, — послышался тихий женский голос, — кто тут был? Никак подстрелили кого-сь? Не Наташенька ли приходила нас с доченькой наведать?
— Иди спи, старая, — угрюмо отозвался Гаврила, — нет тут никакой Наташеньки. Никого мы не подстрелили, так, померещилось тебе.
— Нету Наташеньки? — печально повторила женщина. — Вот уже который день носу к нам не кажет. Все нас бросили! И Люша давненько не приходит, а такой хороший мальчик был… Как умер папенька ихний, как сгорел дом, все перемешалось. И Наташка с пути сбилась, и Люша где-то скитается, словно затравленный дикий зверь…
Аглая слушала ее безропотные причитания и чувствовала, что к глазам подступают слезы. Вроде бы несколько минут назад натерпелась такого страху, что надо трястись и колотиться, поскорей ноги отсюда уносить, а она сидит под каким-то кустом и точит слезу от невыносимой жалости, которую пробудил в ней шепот одинокой, всеми покинутой старой женщины. Наверное, она — та самая тетка Натальина, о которой упоминал Гектор и у которой воспитывается ее дочь Лариса… И девчонку тоже жаль, до чего жаль! Всех жаль, словом. Наверное, просто слишком много пережила Аглая за сегодняшний день, слишком много страшного испытала, вот и притупилась способность бояться. Ну а что до жалости… Видела немало мертвых, и немало людей убили на ее глазах, а жалеть их было некогда, вот сейчас на нее и нахлынуло!
— Иди спать, бабка! — повторил Конюхов. — А ты, Учкасов, смотри в оба, вдруг еще кто-то придет.
— Да кто еще придет? — с досадой отозвался Учкасов. — Выстрел небось на другом берегу Оки был слышен. Можно было бы и поспать, а, Гаврила Митрич, товарищ командир?
— Успеешь, на том свете отоспишься! — рявкнул Конюхов. — А выстрел… да что ж такого, выстрел и выстрел… Кто только не пуляет теперь в ближнего своего, как в копейку? Авось повезет, авось еще прилетит наша птица!
— Может, и прилетит, да птицелов шибко притомился, — не унимался Учкасов. — Нельзя ли кого-нито на смену мне прислать?
— Кого ж я тебе пришлю? — зло спросил Гаврила Конюхов. — Видишь сам, народу у нас мало, даже мне пришлось с тобой остаться. Кто Ларису охраняет, товарища комиссара Полетаеву, значит, кто доктора, кто в деревне остался, дом стеречь, вдруг Гектор туда вернуться вздумает, а кто в засаде сидит. Каждый человек на счету. Неизвестно только, куда чертов Семка подевался. Я его за делом послал, а он будто сквозь землю провалился. Небось сбежал уже в город, гешефты свои ладит!
— Сквозь землю провалился? — задумчиво повторил Учкасов. — А что, в том доме проклятущем все могло быть. Говорят, он весь тайниками да ловушками напичкан, ступишь не на ту половицу, да и провалишься в подземелье, будешь там сидеть, заживо замурованный, звать на помощь, да никто тебя не услышит.
«Ради всего святого, Монтрезор!» — вспомнила Аглая из Эдгара По и ехидно улыбнулась, несмотря на усталость и напряжение. А ведь Учкасов, даром что дурак дураком, угадал все в точности! Семка-то, которого они потеряли, ведь и впрямь провалился сквозь землю.
…Когда Гектор выхватил из мешка револьвер, Аглая в первую минуту обмерла. Он ведь сказал, что она ему тоже противник, почитай — враг, как и Наталья с Ларисой Полетаевой. Он ей не верит! А что, если…
Аглая сидела, точно окаменев. И до нее не тотчас дошло, что ствол направлен не на нее, а поверх ее плеча. И смотрит Гектор не на нее, а на какого-то человека, стоящего за ее спиной.
— Здорово пожаловать, гость незваный, — не слишком приветливо сказал Гектор. — Руки-то подыми, как положено доброму человеку! И оружие давай-ка доставай да в сторону бросай. Понял?
Аглая обернулась и увидела маленького, чернявого, словно чертик, только что выбравшийся из преисподней, человечка с курчавыми волосами и небритыми щеками. Одет он был не во флотскую форму, а в какую-то смесь штатского с солдатским: ботинки с обмотками, нелепые мужицкие портки, а сверху студенческая тужурка с сорванными петлицами.
— Ты, Гектор, пушку опусти, — сказал человечек отчетливо вздрагивающим голосом. — Чего ты в меня целишься? Я тебе ничего плохого не сделал. И оружия у меня нет, я его в твоем чертовом подвале потерял.
— А кой черт тебя в подвал понес? — почти миролюбиво спросил Гектор.
Его тон явственно приободрил человечка. Он перестал трястись и ответил со сконфуженной улыбкой:
— Да ты понимаешь, пошел было поглядеть, где что плохо лежит. Жизнь нынче такая, что не пошаришь по углам — и голодный, и холодный будешь, и голым по миру пойдешь. В какую-то башенку поднялся, смотрю, два шкафа. В одной тайник развороченный — значит, наши тут уже побывали. А рядом шкаф, каким-то барахлом набитый, тряпье в узлах. Слышу, наши шустрят по дому — все шукают, кто из твоих сообщников остался, кто из дому стрелял. А мне-то что? В меня-то не попали. Ищите, думаю, а я лучше в шкаф загляну, вдруг там кто-то случайно позабыл портмоне с золотыми рублями… — Он ухмыльнулся, сверкнув очень мелкими и очень белыми зубками, и счел необходимым пояснить: — Да я шучу, Гектор, шучу!
Гектор кивнул и сделал ответную улыбку, не разжимая губ.
— Никакого портмоне, как ты сам понимаешь, я там не нашел, потому что его там отродясь не валялось. Но когда я туда полез, то поскользнулся на какой-то тряпке — да и влетел головой в заднюю стенку. Слышу — треск, думал, моя башка треснула, да нет, оказалось, треснула стенка.
Гектор кивнул, но уже без улыбки. Вид у него был мрачный.
— Гляжу, а там не дуб мореный, фанера, — продолжал человечек. — Поглядел я в трещину, за ней каморка. Хотел ребят кликнуть, а потом думаю: вдруг там схоронка Гектора? Разломал стенку, влез туда, поднял крышку в полу — подвал! Ага, решил, нашел тайник. Наверняка там что-нибудь зарыто. Вышибло ведь из головы начисто, что я на втором этаже, а до земли еще ой ка-ак далеко! Спрыгнул вниз — и полетел. Как прямиком в преисподнюю. Пятки отшиб, когда упал, едва с места смог сдвинуться. Куда попал? Орал, звал на помощь, но никто не слышал. Начал по стенам шариться, нашел какую-то дыру… Полез в нее, все коленки смозолил, пока не увидел свет. — Человек демонстративно отряхнул на коленях портки. — Вылез на косогор, уже собрался с обрыва сигать и в обход идти, как смотрю — тропа. Пошел по ней — а тут вы на камушке сидите. Вот, значит, и ты, и камень, — он с видимым удовольствием присел, — да и девка с тобой. Экий ты швыдкий, Гектор! — Человечек подмигнул Аглае, но наткнулся на ее ледяной, настороженный взгляд и спохватился, что слишком расфамильярничался.
— Вы уж, извините великодушно, барышня, люди мы простые, неграмотные, слова сказать не обучены, — забормотал он, пуча глаза и весьма бездарно валяя из себя деревенского ваньку.
Гектор продолжал стоять неподвижно, не спуская с человечка ни ствола, ни взгляда.
— А вот скажи, друг любезный, — проговорил он наконец, — видел ли кто, как ты в тот шкаф полез?
— Вот те крест! — горячо начал клясться человечек. — Вот те крест святой, истинный, что не видел никто!
— Какой же у тебя может быть крест? — усмехнулся Гектор. — Тебя зовут-то как?
— Сема Фельдман, — виноватым тоном сказал человечек и вроде бы как даже покраснел.
— Ну я же и говорю, что крестом тут и не пахнет, — насмешливо бросил Гектор. — Ты в отряде Конюхова кто, Сема Фельдман?
— Писарь, — с ноткой гордости сообщил тот. — А что?
— Просто так интересуюсь, — пояснил Гектор. — И как к тебе Конюхов относится?
— Лучше некуда! — приосанился Сема. — Я у него в отряде — самый первый человек. Гаврила понимает, откуда и куда теперь дует красный революционный ветер. Его матросня — крестьяне да работяги, дурни, им бы пулять по ком ни попадя, а я в хедере учился, и по-русски пишу, читаю, и на иврите, и на идиш.
— Как я погляжу, ты очень ценный для Гаврилы человек, Сема Фельдман, — оценивающе поглядел на него Гектор.
— А то! — обрадовался Сема. — Я стараюсь. Сейчас такое время, что наш брат иври — по-вашему еврей — может пойти очень далеко, очень. Небось все наши дошли до самых верхних верхов. Что тебе говорить за Янкеля Мойшевича Эйнмана, то есть Яшу Свердлова? Что тебе говорить за Лейбу Бронштейна — Леву Троцкого, либо за Герша Радомысльского — Гришу Зиновьева? Вот погодите, мы еще всех русских заставим учить иврит или идиш, как они нас заставляли талдычить свои аз, буки, веди! А все почему? Потому, что русские дураки, а иври — хитрые! Вы ведь каждый сам по себе, а мы друг за дружку стоим горой.
И тут же он перехватил взгляд Гектора и мелко засбоил:
— Да я не про тебя, Гектор, ты у нас тоже хитрый, как самый настоящий местечковый еврей. Вон как одурачил и Хмельницкого, и Гаврилу Конюхова!
— Слушай, Сема, — задушевно произнес Гектор, и в голосе его вдруг зазвучал такой же акцент, как у Фельдмана. — Большое тебе спасибо за то, что ты меня так высоко ценишь. Ты учти, я против евреев ничего не имею. Я не черносотенец! У нас среди эсеров много было евреев. Возьми хоть товарища Вольского! Да и лучший друг моего отца, адвокат, еврей. Второй его друг — тоже еврей, правда, выкрест. Отец был его крестным отцом. Смешно, верно, Сема? Тот человек был Вольф Циммерман, а стал Владимир Проскурин, фамилию жены взял. А ведь он — не кто иной, как родной отец вашей комиссарши — Ларисы Полетаевой.
— Да у нее не только отец был из наших, — оживился Сема. — Про отца-то все знают. Но говорят, и первый муж ее был иври.
— Про первого не скажу, — покачал головой Гектор, — ничего о нем не знаю, кроме того, что какой-то ворюга он был. А вот про второго знаю. Убили его. Красные убили, еще в ноябре семнадцатого. Полетаева поставили к стенке за то, что он на крыше своего дома укрепил антенну — радиосигналы принимать. Есть такая новомодная выдумка — радио, передача звука на расстоянии. Так вот его потащили в чеку и решили расстрелять, потому что кто-то ляпнул сдуру, мол, он будет сигналы белым передавать. Лариса в то время была в Москве. Жена Полетаева — вторая, женщина, на которой он женился после того, как Лариса его бросила, — кинулась комиссарше в ноги, умоляя спасти его, но Лариса и пальцем не шевельнула. Так его и расстреляли. А ты думаешь, он был кто? Русский? Ничего подобного. Он был ваш. Лариса могла его спасти, но не спасла. А ты говоришь, все ваши друг за друга горой стоят…
— Неужели Полетаев был еврей? — ужаснулся Сема.
— Совершенно верно. Историю его гибели я узнал от отца Ларисы, который написал моему отцу.
— Це-це-це, — удрученно покачал головой Сема. — Скажи на милость, какие ошибки бывают! И все равно, Лариса за своих горой стоит, я тебе точно говорю…
— Ошибки и впрямь бывают, — вежливо оборвал его Гектор. — Вот и ты ошибся, Сема. Ошибся, когда пришел сюда и попался мне на глаза. Думаешь, я позволю тебе привести всю вашу гоп-компанию по моему следу?
— Да я же тебе говорю, Гектор, — улыбнулся Сема, — все случайно вышло. В шкаф нечаянно вломился, никто и не знает, что я в подпол провалился. Я ничего никому не скажу!
— Точно, не скажешь, — кивнул Гектор, чуть пошевелив указательным пальцем.
Грянул выстрел.
Сема упал возле камня, рядом с Аглаей, и кровь, хлынувшая из его простреленного горла, забрызгала ей руки.
— Софим, Сема, — тихо сказал Гектор. — Софим! [3]Конец!
Ну, если для Семы это был, конечно, конец, то для Аглаи — только начало страшной истерики. Черт знает, почему именно смерть никчемушного, болтливого, неприятного существа, врага так подкосила ее. Просто, наверное, силы кончились. И еще кровь на ее руках… Кто знает, может, упади Сема в другую сторону, она не обезумела бы так. Гектор должен был подумать, что кровь Семы забрызгает ее, должен был!
Она уже не помнила, какие обвинения она выкрикивала, швыряла в лицо Гектору. То, что Сема был самый обыкновенный бандит, который, окажись у него оружие, хладнокровно прикончил бы их, подкравшись, ничего не меняло. Ее сразило обыденное хладнокровие, с которым Гектор застрелил человека. Он выстрелил даже не от большой опасности. Взял — и убил. Сам-то инстинктивно отстранился, чтобы не забрызгаться, а Аглая…
Он просто залил кровью женщину, с которой только что целовался как одержимый! На том месте, где трава была измята их телами, натекла лужа крови… И это заставляло ее рыдать еще сильней.
Потом она долго плакала, ничего не объясняя Гектору. Да он и не спрашивал. Молчал и смотрел на нее, даже не пытаясь утешить. То есть сначала сунулся было обнять, но она оттолкнула его с истерическим криком: «Я запачкаю тебя кровью!»
У него стало белое лицо. Наверное, он понял. А может быть, и нет, кто его знает…
Шло время, Аглая никак не могла унять рыданий. И вдруг, отняв от глаз ладони, она увидела, что Гектор собирает вещи в сидор. Он отрезал ломоть хлеба и положил в стороне рядом со своей тужуркой. И Аглаю как ударило — она поняла, что эти вещи предназначены для нее, что он сейчас уйдет от нее. И даже в город не отвезет, как собирался сначала.
— Ты уходишь? — выговорила она, с трудом прорываясь голосом сквозь всхлипывания.
Гектор кивнул, не поворачивая головы.
— Я должен все выяснить окончательно, — сказал угрюмо. — Все мои логические умозаключения — одно, а жизнь — совсем другое. Она заставляет людей поступать вопреки всякой логике, и никакая логика не способна объяснить их поведение. Вот ты рыдаешь над каким-то мелким мерзавцем, как будто он самый родной тебе человек, а на меня, которого так целовала, которому отдала все, что у тебя было, смотришь с ненавистью. Какой тут можно сделать вывод — причем совершенно логичный и логический? Что ты из банды Конюхова, заодно с ними была с самого начала, что плюгавенький писарь был тебе дорог и близок, что ты нарочно держала меня около камня, отдалась мне, чтобы задержать здесь подольше, потому что сейчас по следам Семы сюда придут другие анархисты. Кстати, возможно, что не Сема нашел путь через второй тайник, а ты указала его перед тем, как прыгнуть. Сама указала. Логично?
Аглая кивнула, как завороженная, но тут же отчаянно замотала головой:
— Но это неправда! Неправда! Зачем бы я стреляла в них? Я помогла тебе бежать! И если бы я указала им тайник с подземным ходом, они все уже были бы здесь. И застали бы тебя врасплох, пока мы…
У нее голос сел от возмущения, и Гектор посмотрел примирительно:
— Да я понимаю. Просто хотел привести пример, сколь обманчивы могут быть совершенно логичные на первый взгляд выводы. Я по-прежнему не могу — или не хочу, понимай как знаешь, — верить обвинениям в адрес Натальи. Ведь каждый довод можно истолковать двояко. Она мать моего ребенка. Я не могу, не имею права обвинить ее вот так, на основании одних только слов разозленной женщины…
Аглая вскинула голову, хотела что-то сказать, но промолчала.
— …и моего собственного больного воображения, я должен лично убедиться в ее предательстве, а сделать это можно только одним способом.
— Каким же? — тревожно спросила Аглая.
— Пойти к камню и убедиться, что там нет засады.
Она не поверила ушам:
— К камню? Пойти к камню? Но вот же он!
Гектор глянул исподлобья. Казалось, он не решается что-то произнести. Наконец решился:
— Видишь ли, это случайное совпадение. Я имел в виду камень в бывшем саду моего отца. Огромный валун, лежал там с незапамятных времен и наполовину врос в землю. Я играл около него мальчишкой, и мой отец играл в детстве. Когда мы с Наташей были совсем маленькими, я учил ее не бояться прыгать с того камня… Вот все, что осталось нетронутым, незыблемым от моего дома, от детства, от моей семьи, от прежней жизни. Это единственное место, где они смогут меня взять, если устроят засаду.
Аглая стояла, будто молнией пораженная. Слова Гектора произвели на нее не меньшее впечатление, чем кровь несчастного Семы Фельдмана. Значит, спасшись с ее помощью, взлетев на коня и перелетая через забор, Гектор думал не о ней? Заботился не о ней? Не ей кричал: «Беги, беги, жди меня у камня!» Ну да, не ей, а Наталье, которая его предала, во что он маниакально, упорно не желает верить.
А здесь… здесь, около этогокамня, он очутился и впрямь случайно — приехал за своим чертовым сидором, в котором были еда и оружие. Увидел Аглаю, страсть в ее глазах… и не устоял. Плотью был с ней, а сердцем, душой, мыслями — с другой… Значит, он все врал? Все его слова… все его слова — ничто?
Ладно, хватит ей вмешиваться в жизнь человека, даже имени которого она не знает. Да и не хочет знать! Она презирает себя за все, что у нее с ним было, за свои поцелуи, за нежность, за стоны свои. Ненавидит его! Пусть делает что хочет. Пусть идет куда хочет. Единственное, что она может ему сказать: скатертью дорога!
— Знаешь, что я тебе скажу? — глядя исподлобья и с трудом сдерживая злость, от которой першило в горле, хрипло выговорила Аглая. — Советую тебе… советую тебе хорошенько подумать над тем, что делать и куда идти. Если ты сунешься к тому камню, а там все же окажется засада и тебя схватят, ты никогда не найдешь бабочек Креза, не передашь своим. И как в таком случае быть с твоей честью?
Да, выстрел попал в цель. Конечно, Аглая знала, что упоминание об эсеровской чести одно только и может остановить Гектора. Он ведь одержимый! Мужчины ведь превыше всего ставят иллюзии: честь, имя, благородство… Хотя, в общем-то, и женщины от них не отстают: любовь, нежность — ведь тоже иллюзии…
Гектор замер, побледнел, на лице выразилась досада. Ну да, понимал, что она права, но как признать ее правоту, как с этим смириться?!
— Ты не должен туда идти, — повторила Аглая с нажимом. — Туда пойду я. Я попытаюсь подобраться незаметно и выяснить, лишь Наталья пришла туда или там устроена засада.
Он думал над ее предложением так долго, что сумерки начали угасать.
— Хорошо, — наконец неохотно выговорил Гектор. — Только к камню тебе идти не придется. Если там обосновалась вся эта банда, они не дадут тебе ничего выяснить — просто будут палить не глядя, убьют еще на подходе. Вот слушай. Близится ночь. Тут верстах в пяти, в овраге под Лыковой дамбой, стоит дом Натальиной тетки. У нее наша дочь, я говорил тебе о ней. Ты придешь туда и постучишь. Это второе место в городе, куда я могу пойти в случае чего.
— А первое? Камень? — с любопытством спросила Аглая.
— Нет. Я тебе потом про то место скажу. Камень — просто опознавательный знак. Словом, ты придешь в тот дом и постучишь. Ради бога, будь осторожна! Если я не прав, а права ты, Натальи там не будет. Но будет засада. Значит, Наталья ждет с остальными у камня.
— Но ты туда не пойдешь?
— Пойду. Я должен — пойми, должен — выяснить все до конца. Может быть, из нее силой выбили признание о камне. Я хочу знать. Мне нужно все выяснить. Но сначала я навещу одного человека. Его маленький домик на Ошаре, неподалеку от Дворянской. Он знает очень много тайн, поскольку был частным поверенным в делах, а это все равно что семейный доктор.
Гектор помолчал, потом глянул исподлобья:
— Я не хочу пока говорить… Потом скажу! Теперь о тебе. Ты отправишься в его дом после того, как побываешь у Натальиной тетки. Пройдешь через Лыкову дамбу, потом прямо, через Покровку, до поворота на Ошарскую. Третий дом справа, очень маленький, о двух этажах, красного кирпича, — вот дом, который тебе нужен. Слева калитка, но ты не стучи, чтобы шума не поднимать, а подними руку и просунь в щель вверху слева. Щеколда именно там, о ней чужие не знают, только свои. Сдвинешь щеколду, войдешь — и сразу увидишь крылечко. Жди меня в доме, если придешь раньше. Скажи хозяину, что ты от меня. Ему можно доверять, как никому другому.
— А как его зовут?
— Лев Борисович Шнеерзон. Он старинный друг моего отца, я уже упоминал о нем. Кроме того, он был дружен еще с одним человеком…
Голос Гектора зазвучал нерешительно:
— Понимаешь, у меня зародилось одно подозрение, но я должен его проверить. Совершенно дикое предположение, я даже не в силах его осмыслить и осознать, но если я прав, то объяснится очень многое. Мне противно даже думать об этом, не то что говорить… Мои домыслы не основаны ни на чем, кроме как на одном совпадении, поэтому я должен выспросить у Льва Борисовича кое-что. Даже не знаю, как сформулировать свой вопрос, как вообще о таком спрашивать-то! Но к тому времени, когда ты до него доберешься, я уже пойму, стоит ли его задавать.
— А ты уверен, что он тебе ответит? Ведь у врачей и юристов существует такое понятие, как профессиональная тайна…
— Я скажу ему, что речь идет о жизни и смерти. И он ответит мне! Он всегда любил меня, как сына, своих-то детей у него не было. Между прочим, он серьезно относился к моему увлечению архитектурой, считал, что я талантлив. В меня мало кто верил поначалу, говорили, что я прикрываюсь именем своего отца, который был великолепным инженером, очень популярным в городе. Но это не так! Если бы не война, я бы создал себе свое собственное имя. Когда я уходил на фронт, у меня было несколько интересных проектов, были публикации в «Архитектурном журнале». Журнал с первой публикацией я подарил с дарственной надписью Льву Борисовичу, и он сказал, что гордится мною, как родным сыном. Правда, потом многое изменилось. Он очень осуждал мои революционные увлечения, эсеровские взгляды, и мы отдалились друг от друга, долгое время не встречались. На похоронах отца я не мог появиться, потому что скрывался от большевиков, и Лев Борисович передал с Натальей, что презирает меня, потому что я стал причиной смерти отца.
— И ты думаешь, он вообще станет разговаривать с тобой?
— Станет! — убежденно воскликнул Гектор. — Я сумею его убедить! Я скажу ему, что раскаиваюсь, что распростился со своими разрушительными убеждениями.
— Это правда? — насторожилась Аглая.
Гектор усмехнулся:
— Вот вопрос, на который очень трудно ответить. Может быть, потому, что сам еще не знаю ответа. Тебе это кажется странным? Главный, основополагающий, жизненно важный вопрос — а я не знаю и не хочу знать на него ответа… Похоже на то, что я не знаю и, заметь, не спрашиваю твоего имени, не правда ли?
А ведь и впрямь! До Аглаи только сейчас дошло: она так много размышляла о его имени, что даже не сказала ему своего! А почему? Ведь никакого секрета нет!
Она даже рот уже приоткрыла, чтобы назваться, но Гектор предостерегающим движением выставил ладонь:
— Не надо. Не говори. Я ничего не хочу знать, потому что мне придется в ответ назвать себя. А я не хочу. Если ты узнаешь мое имя сейчас, оно останется для тебя связанным вот с этим, — он кивнул на труп Семы Фельдмана, — будет забрызгано кровью, как… как эта трава.
Гектор покосился туда, где окровавленная, измятая трава еще хранила следы их тел.
— Может быть, потом… если мы еще встретимся, если все уладится, мы познакомимся наконец. А теперь тебе пора. Когда совсем стемнеет, будет трудно отыскивать тропу. Иди и ничего не бойся, тропинка очень удобная, держись правее, к стене косогора, а слева обрыв будут ограждать кусты. Иди!
И Аглая пошла… Гектор сунул ей в руки большую краюху хлеба, тужурку и отвернулся. Даже не поцеловал ее на прощанье. Наверное, оттого, что от нее пахнет кровью, решила Аглая, и от этой мысли ей снова сделалось тяжко. Так тяжко, что она снова впала в тихую истерику, которая исчезла только после омовения в реке.
Сейчас она шла от Лыковой дамбы к Большой Покровской улице и с раскаянием думала, что зря позволила себе так распуститься. Она не имела права ничего требовать от Гектора: ни любви, ни верности, ни благородства, ни жалости к врагам, ведь враги не жалели его, мать его ребенка — предала, да и проявлений чьего бы то ни было благородства по отношению к нему Аглая не заметила… Она попала в сегодняшние события, как девочка из хорошей семьи в дурную компанию. И, словно глупенькая барышня, пытается события переделать, а людей, в них участвующих, перевоспитать. Но винить-то в случившемся некого. Ее никто не заставлял переодеваться в одежду Ларисы Полетаевой, она сама захотела, вот теперь и расплачивается. Некого винить, поэтому нужно принимать все, что с ней происходит, таким, какое оно есть. И людей принимать такими, какие они есть. Так Аглая уговаривала себя и успокаивала. И почти уговорила и успокоила, но все же чувствовала, что лукавит. Был, был один человек, которого она НЕ была готова принимать таким, какой он есть. Просто не могла!
Наталья, Гаврила Конюхов, Лариса, Константин и Федор, доктор Лазарев, не в меру болтливый Сема Фельдман, омерзительный Хмельницкий — все они в ее восприятии были не более чем статисты при главном герое. Аглае было небезразлично, какие они: злые или добрые, подлые или честные, смелые или трусливые — лишь постольку, поскольку их поступки определенным образом отражались на судьбе главного для нее героя — Гектора.
Итак, она выяснила, что засада ждала-таки его в доме Натальиной тетки. Дело было сделано. Теперь путь ее лежал к Льву Борисовичу Шнеерзону.
Издалека вдруг послышался рокот автомобильного мотора. Тяжело груженный грузовик промчался от площади Советской, бывшей Благовещенской, и остановился у великолепного здания Государственного банка. Раздались неразличимые слова команды, захлопали борта грузовика.
Аглая так и замерла. Чего-то еще экспроприировали красные у местных буржуев, залезли в чьи-то семейные, родовые ценности, расхватали то, что из поколения в поколение носили на своих шеях, плечах, перстах и в ушах прекрасные женщины…
И вдруг ей пришло в голову, что, очень возможно, шкатулка Креза не у Ларисы Полетаевой, не у Хмельницкого, не у какого-то там полумифического Офдореса-Орлова, а…
Девушка напряженно нахмурилась. Какая-то мысль зацепила ее при упоминании Орлова, и начала плестись цепочка: Орлов — алмаз… дальше выплыли слова — 400 тысяч рублей… и еще почему-то карты. Но тут же мысль пропала, и Аглая снова подумала: а ведь вполне могло быть, что Офдорес-Орлов погиб, что шкатулку у него отняли, что она лежит себе в подвалах госбанка, а тут люди ради нее губят и свои, и чужие жизни, льют кровь напропалую, как водицу…
Она наконец-то улучила момент перебежать Покровку, чуть не потеряв один из башмаков в ямине от выбитого булыжника (небось какому-нибудь пролетарию понадобилось сакраментальное орудие, а?), прошла закоулками и наконец свернула на Ошарскую.
А вот и дом, о котором говорил Гектор.
Аглая остановилась, немного не дойдя до него, осмотрелась, прислушалась. Тишина стояла невероятная, но какое-то шевеление за занавеской в окне соседнего домишки, нечто неуловимое, особая настороженность всего вокруг подсказывали ей, что тишина обманчива, что люди по соседству не спят, а напряженно ждут… Чего? Нападения бандитов? Обыска властей предержащих? Хм, практически одно и то же.
А вот она сейчас с удовольствием поспала бы. Спокойно или нет, это уж как бог даст. Но устала она просто невероятно. Хорошо бы прийти в дом Льва Борисовича раньше Гектора, а хозяин оказался бы настолько любезен и гостеприимен, что позволил бы ей прикорнуть где-нибудь в укромном уголке… Хоть на полчасика! Хоть на четверть часика!
Аглая осторожно пошарила по калитке, пытаясь вспомнить, что там говорил Гектор насчет щеколды, но калитка, чуть слышно скрипнув, отошла под ее рукой.
Однако неосторожен Лев Борисович, напрасно он не запирается…
Ну, забыл человек, ну, всякое бывает, уговаривала себя Аглая, но сердце вдруг так и сжалось. Чуть не налетев на бочку с дождевой водой, стоявшую у крыльца, осторожно поднялась под ступенькам, коснулась входной двери, чуть толкнула ее — и почти не удивилась, когда она открылась.
Так…
А не спрыгнуть ли с крыльца, не шарахнуться ли обратно за калитку, не подождать ли Гектора там, затаившись в сторонке? Она уже двинулась было к ступенькам, как вдруг усмехнулась: да что ж она, как та пресловутая пуганая ворона, куста боится? И калитка, и дверь открыты по самой простой причине: Гектор ее опередил, он уже в доме, он ее ждет!
Аглая без колебаний толкнула дверь и вошла в сени, а потом в душную прихожую. Запахи неприбранного, заброшенного жилья, пыли, множества старых книг и почему-то дыма нахлынули на нее со всех сторон, и в один миг, еще ничего не увидев и не услышав, кроме темноты и тишины, девушка поняла, что для такой тишины подходит единственное слово на свете — мертвая.
Этот запах холодного дыма всегда был знаком несчастья. Здесь что-то случилось, Аглая знала точно. Случилось что-то очень плохое!
В доме определенно не было ни Гектора, ни кого-то другого. Но где Лев Борисович? Может быть, и дверь, и калитка открыты потому, что он ушел? Но куда он мог уйти, не заперев своего жилья в такую лихую пору? А если… Аглая вспомнила настороженность за окнами соседей, за заборами… а если он не сам ушел, а его увели? Арестовали? И совсем недавно! Тогда она чудом, истинным чудом избежала очередной ловушки, западни, коих за сегодняшний странный и страшный день оказалось неимоверно много.
А Гектор?!
При мысли о нем сердце заколотилось до боли, дыхание прервалось. Он — еще не приходил? Или пришел, и его тоже увели вместе с хозяином? Его и здесь подкарауливали? Черт, черт, черт… Ну с чего он взял, почему был так непоколебимо убежден, что у Льва Борисовича окажется совершенно безопасно и надежно? Если Аглая права и Наталья предала его, здесь обязательно должна была ждать засада, точно так же, как в доме Натальиной тетки. Значит, Гектор пришел и наткнулся на засаду. Но тогда… Нет он бы не сдался тихо, безропотно, тут началась бы такая пальба, что слышно было бы на полгорода, в ночной-то тишине звуки перестрелки донеслись бы и до Аглаи. А ведь все было тихо, пока она шла сюда. Совершенно тихо!
Значит, хозяина увели одного, а Гектор здесь еще не появлялся. Нужно выйти, выйти отсюда, из ужасного давящего мрака, подождать Гектора на улице!
И вдруг Аглая замерла, прислушалась. Тишина вовсе не была такой уж абсолютной, как ей показалось сначала — откуда-то доносились странные звуки, словно бы потрескивание.
«Уходи отсюда!» — велела она себе, но почему-то, наоборот, пошла вперед. Миновала прихожую, потом небольшую темную комнату — и оказалась в комнате побольше, освещенной слабым мерцанием. Так вот что потрескивает — огонь в камине. Отсюда и дымком тянуло. Наверное, высокий, просторный, изящно обрамленный камин давно не чистили. Аглая вспомнила слова Гектора, что Лев Борисович дружил с его отцом. Наверное, тот и соорудил в доме друга такой чудесный камин. А в нем что-то жгли, совсем недавно причем. Бумаги жгли! На полу валяются их обрывки, множество бумаг, книг, альбомы какие-то разбросаны, да и в камине скорчились обугленные листки.
Наверное, бедный Лев Борисович знал, что к нему могут прийти, пытался сжечь какие-то компрометирующие, опасные документы. Что же могло у него быть такого опасного?
Аглая вытащила из камина несколько обугленных листков. Это были письма без конца и без начала, почти уничтоженные огнем. Удалось разобрать только какие-то отрывки:
«…Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград, здесь все же самую чуточку спокойнее. Но я бы хотел вернуться в Нижний, город для меня… хоть и много позора…»
«Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю… моя дочь… судьба ее очень меня беспокоит… оставил ради… получил за это, кроме горя и стыда? И если бы не ты и…»
«…умерла неделю назад, я остался вдовцом, бездетным, одиноким, никому не… ни одной из… может быть, только вам, мои верные, дорогие дру…»
Еще на полу валялась почтовая открытка. Ни изображения, ни текста нельзя было рассмотреть, зато половинка с адресами сохранилась, почти не тронутая пламенем, и на ней можно было прочесть обратный адрес: «Москва, Сивцев Вражек, номер 18, дом В. Н. Проскурина».
Проскурин, Проскурин… Отец Ларисы Полетаевой! «Тогда ее звали Лариса Проскурина», — говорил Гектор. Почерк на открытке тот же, что и на обрывках писем — их Проскурин написал другу, Льву Борисовичу. Но что же было такого в его письмах, что хозяину дома срочно понадобилось их жечь?
Или это сделал кто-то другой?
Кто?
Огонь в камине вдруг ярко вспыхнул перед тем, как погаснуть, и Аглая увидела на полу какие-то темные пятна.
Что такое? Кровь?
Ее качнуло. Девушка схватилась за край стола, оперлась… Что-то упало. Она посмотрела, морщась от подступающей тошноты, — подсвечник упал и покатился по столу. Взяла его, подсунула фитиль свечи в камин к последним всплескам огня. Свеча загорелась, Аглая подняла ее, защищая ладонью, поднесла свет ближе к загадочным пятнам.
Да, похоже на кровь. Цепочка тянется от входной двери, а у выхода из комнаты крови больше, ее следы видны и на стене, и на многочисленных книжных шкафах, и у двери…
Аглая, светя себе и изо всех сил пытаясь не наступить в кровь, шла по страшному следу. Толкнула дверь. Почти от порога поднималась лестница, на ее площадке возвышались книжные стеллажи, заставленные множеством журналов. Наверное, они не помещались в шкафах, вот их и выставили сюда. Аглая подняла свечу, вчитываясь в названия: «Живописная Россия», «Искусство и жизнь», «Алконост», «Российское законодательство», «Юриспруденция и право», «Архитектурный журнал»…
«Архитектурный журнал»! Это был как бы привет от Гектора, как бы пожелание держаться, набраться сил.
Аглая опустила свечу, шагнула вперед — и вскрикнула при виде человека, неподвижно лежащего у подножия стеллажей.
Смотрела, замерев, на миг допустив самое страшное. Но нет, это не он, а какой-то старик, тщедушный, в засаленном бархатном халате, накинутом поверх пижамы. Башмаки свалились с босых ног, мучительно искривленных агонией. Седая голова залита кровью, разбита. Под окровавленной рукой лежит раскрытый журнал. Аглая стояла, оцепенев, понимая, что хозяин дома пошел открывать дверь, получил удар по голове, упал… Наверное, те, кто ворвался в его дом, сочли, что он мертв. Они что-то искали, копались в его бумагах, жгли их. Потом они ушли, а он, наверное, очнулся и пополз сюда. Почему-то не на улицу пополз — звать на помощь, а сюда, на лестницу, к полкам с журналами.
О господи, зачем ему нужны были какие-то журналы в последнее мгновение жизни? Почему ему непременно нужно было стащить с полки один из номеров «Архитектурного журнала», в последнем усилии жизни открыть его и… и умереть, забрызгав страницу кровью, уткнувшись скрюченным пальцем в размашистую надпись поперек страницы:
«Дорогому другу, почти второму отцу, Льву Борисовичу Ш., от его непутевого воспитанника Люши. Декабрь 1913 года, моя первая публикация. Даст Бог, не последняя».
Аглая скользнула взглядом к названию статьи: «Устройство тайников в домах и квартирах. Романтическая причуда или разумная необходимость?» А выше… выше значилось имя автора: Кирилл Владимирович Шведов.
Аглая прочла строку несколько раз — тупо, не веря глазам. А потом уронила свечу и закрыла лицо руками.
Понятно, чего хотел умирающий старик. Он хотел назвать своего убийцу. И он его назвал.
Кирилл Шведов…
Гектор!
* * *
— Здравствуйте. Я вас не разбудил? — спросил томный голос.
— Ничего, — пробормотала Алёна, выдираясь из бездн сна. — Спасибо, что разбудили, я что-то проспала. Ой, уже восемь… А вы кто?
— Я Сева. Из «Мадам Баттерфляй».
— О господи! Привет. Доброе утро. Что-то случилось?
— Да! — торжественно заявил Сева. — Бабочки Аполлон и Мнемозина стерты, но рядом с пятном нарисованы новые. — Сфинкс и Ипполита.
— Погодите-ка… — растерялась Алёна. — А Наталья Михайловна приходила?
— Нет.
— Слушайте, так вы мне позвонили, чтобы о бабочках сообщить? — никак не могла взять она в толк.
— Ну да. Вы ведь будете о них детектив писать?
— Нет. Не буду!
— Ну и зря! — обиделся Сева и бросил трубку.
Алёна побрызгала на лицо минеральной водой из пульверизатора, причесалась и побрела пить кофе.
Вот так Сева… Чокнутый какой-то, честное слово! Хотя спасибо, в самом деле, что разбудил. Вчера Алёна забыла поставить будильник, и если бы не Севин звонок, она и до десяти могла бы проспать. А ведь работать надо, однако!
Но сначала умываться.
Стоя под душем, она думала о том, что надо наконец браться за роман, а не ерундой голову забивать. Ну что ей какие-то бабочки, в самом деле! Какой конкретный прок оттого, что она разгадала список? Никакого. И что толку в мыслях, которым она сейчас предается, словно тайному пороку? Никакого опять же…
Мысли же, которым Алёна предалась, словно тому самому, сводились к следующему: почему именно эти бабочки и именно в такой последовательности появляются на стене?
Почему-то она не верила, что порядок их «прилета» случаен. Есть, есть какая-то закономерность. Но в чем она? Может быть, в смысле мифологических названий? Зефир, Менелай, Аполлон, Мнемозина, Сфинкс, Ипполита. Что означают их названия? Западный ветер, обманутый супруг, свет, память, загадка, царица амазонок. В цепочке вполне логично уживаются рядом понятия: свет, память, загадка и амазонка. Например, кто-то хочет высветить в памяти загадку какой-то воинственной женщины. Но при чем тут Менелай и западный ветер? А впрочем, может быть, обратиться к другому названию Менелая? Сева говорил, его еще называют сапфировой бабочкой. А Зефир — бриллиантовый. Может быть, смысл именно в сапфирах и бриллиантах?
Смысл, смысл…
Бриллианты… бриллианты сверкали в ушах Натальи Михайловны. И вроде бы там были еще и сапфиры. Или нет?
Алёна выбралась из душа, смазала кремом лилейную свою мордашку, оделась, налила еще кофе и включила компьютер. Проверила почту. Так, вот письмо от какого-то AndewO. Наверное, Андрей Овечкин так зашифровался. Совершенно верно, его послание: «Писательница, привет, посылаю обещанные снимки. Ваш знакомый фотограф». И смайлик-улыбочка — J))).
Алёна отправила ответный смайлик, присовокупив к нему «Большое спасибо!», а потом открыла прикрепленный файл.
Ага, вот бабочки, вот Наталья Михайловна, обворожительная grande-dame, вот какой-то парень в серой куртке, деловито идущий мимо и случайно попавший в кадр, а вот сама Алёна с новой кретинской стрижкой.
Алёна придирчиво разглядывала свое изображение. Однако не зря Андрея Овечкина приглашают работать и в музее бабочек, и в гостинице «Октябрьская». Хорошо снимает! Алёна знала, что нефотогенична, поэтому сниматься терпеть не могла, но здесь она получилась очень даже ничего, даже стрижка смотрелась не так уж пугающе, как казалось в зеркале. Как там выразился про ее голову Сева? Череп благородных очертаний? Ну-ну…
Впрочем, сейчас эгоцентристку Алёну Дмитриеву собственный череп интересовал лишь постольку-поскольку. Все ее внимание было направлено на Наталью Михайловну, вернее, на ее серьги. Увеличила снимок до предела и рассмотрела их толком. Это были гроздья бриллиантовых виноградинок, окаймленных сапфировыми. Необыкновенно красивые серьги, что и говорить, но созерцание их не прибавило Алёне понимания, кому и зачем понадобилось рисовать бабочек, намекать Наталье Михайловне на ее серьги, сделанные из бриллиантов и сапфиров, да еще уверять, что свет откроет тайну прошлого, связанную с какой-то воинственной женщиной.
Стоп. А разве Лариса Полетаева, о которой упоминала Наталья Михайловна, не была воинственной женщиной? Ее же называли амазонкой революции! Алёна сама читала в какой-то статье. Оно конечно, однако судьба Ларисы Полетаевой никак не интересовала Наталью Михайловну — ее интересовал дед, его жизнь и смерть, его фамилия, в конце концов. Да глупости, ну какая может быть связь между бабочками и Ларисой Полетаевой? Нет-нет, бабочки тут ни при чем. Надо забыть думать о них и о Наталье Михайловне. Вообще обо всем, кроме романа!
Алёна старательно убеждала себя, но уже не могла отделаться от мысли о бабочках. И еще странность… чем больше она смотрела на фотографию, тем больше была убеждена, что видела парня в серой куртке и раньше.
Да, конечно, видела! В вестибюле гостиницы «Октябрьская», когда вывалилась из лифта и бранилась с администраторшей. Парень еще что-то такое ляпнул… мол, лифт наглый какой, к девушке приставал. Ну чепуху какую-то. Поэтому Алёна и обратила внимание на его симпатичную физиономию и на куртку.
Странно, однако… Очень странно, что всех разом позавчера понесло вдруг в гостиницу «Октябрьская»: Алёну, мадам Каверину, Андрея Овечкина, этого парня… Вот только Севы там не оказалось! Ну, предположим, они с Натальей Михайловной искали Владимира Шведова. Андрей встречался с директором гостиницы насчет постеров. А симпатяга в серой куртке что там делал? Может быть, он следил за Алёной или Натальей Михайловной? Нет, если б следил, то тогда бы вышел вслед за Алёной на крыльцо, а он направился в лифт. А может быть, и нет, Алёна не обратила внимания. Она же ничего не заметила, даже не слышала, как Андрей ее звал… Значит, очень может быть, что мальчик в сером и следил за ней. Странное совпадение… Да и с Андреем тоже странное. Может быть, он врет насчет постеров? Может быть, именно он следил за Алёной Дмитриевой?
Да нет, вряд ли. Тот, кто следит, старается остаться в тени, а Андрей сам ей позвонил, фотку прислал, список отдал…
Зачем? Какой ему интерес в Алёне, Наталье Михайловне, бабочках и фотографиях? Да никакого интереса вроде бы нет ни у кого, кроме, такое впечатление, как у Алёны Дмитриевой, — которой, кажется, больше всех надо, и вообще делать ей нечего, — и у человека, который бабочек рисует. Но почему бабочек и именно на той стене? И зачем он стирает то, что нарисовал? Или рисунки стирает кто-то другой?
Алёна сбегала на свой любимый шейпинг, нарочно пройдя мимо парикмахерской: да, бабочки Сфинкс и Ипполита, красоты необыкновенной и тщательности изображения удивительной, мирно сидели на стене. На всякий случай Алёна сфотографировала их мобильником, хотя и уверяла себя, что поступает до крайности глупо.
Возвращаясь из спортзала, она нарочно прошла на два квартала дальше и снова продефилировала мимо парикмахерской.
Бабочки были на месте. Наверное, тот, кто их стирает, делает это ночью. Что свидетельствует либо о расстроенном уме стиральщика, либо о какой-то тайне.
Вот и второй день прошел впустую, с мыслями о несчастных бабочках…
Настал вечер, но Алёна все не могла отделаться от них. От мыслей в смысле. К ночи разболелась голова, и она принялась горячо уверять себя, что мигрень навалилась от недостатка свежего воздуха. От кислородного, можно сказать, голодания. И если она ляжет спать в таком состоянии, то, во-первых, долго не сможет уснуть, во-вторых, будет плохо спать, в-третьих, утром встанет вся разбитая. Борьба с собой кончилась тем, что Алёна оделась и вышла на улицу. Якобы прогуляться перед сном. Она спускалась по лестнице, когда ее осенило совершенно прозаичной и очень много объясняющей мыслью: а ведь бабочек рисуют на стене «Мадам Баттерфляй» именно из-за ее названия. Из-за названия и вывески! Кто-то увлекается лепидоптерологией, увидел на вывеске как ее там… орнитоптеру крезус валлас. Креза, короче, увидел — ну и решил блеснуть эрудицией и рисовальным талантом. Почему рисует по ночам? Ну, наверное, тот эрудит человек взрослый, стесняется своих причуд…
Да запросто!
Запросто, конечно, но… ПРИ ЧЕМ ТУТ СПИСОК?
А может быть, даже и ни при чем. Может быть, бабочки Алёной просто за уши в список притянуты. Вернее, за крылья, поскольку слова «бабочки» и «уши» как-то, воля ваша, не монтируются. И Ап — это не Аполлон, и Мн — не Мнемозина… а чШ — вовсе не черный шерл, Ал — не алмаз, яИ — не яблочный изумруд, ну и так далее?
Алёна повернула на Республиканскую и остановилась. Ну и ну, какая темнотища! Фонари через один горят, а то и через два. Куда только смотрят городские службы? Около стены «Мадам Баттерфляй» вообще кромешно и непроглядно. Интересно, как художнику рисовать удается, да еще так тщательно? Не иначе, приносит с собой мощный фонарь!
Алёна достала мобильный телефон, в котором имелся фонарик, хоть и не столь уж мощный, но вполне сильный, и осветила стену парикмахерской. Оп-па… Вместо Сфинкса и Ипполиты на стене виднелось только размазанное разноцветное пятно.
Так, неизвестный вандал уже потрудился, подумала Алёна с сердцем. А что это так блестит в свете фонарика? Потеки воды! Пятно совсем сырое. Бабочек вандал стер буквально только что. Тогда, наверное, он еще где-то неподалеку…
Алёна обернулась, вглядываясь в темноту, как вдруг ее ударило по глазам таким ярким светом, что она вскрикнула и заслонилась руками.
Автомобиль? Ну да! Вот взревел мотор, и фары ринулись на нее.
Он что, с ума сошел? Собирается размазать ее о стену? Но на такой скорости ведь и сам разобьется! Только ей от этого будет не легче.
Надо отпрыгнуть! Только ноги почему-то не повинуются, стали ватными. Но ведь ее сейчас убьют! Прыгай же!
Она вяло качнулась в сторону, в то же мгновение послышался удар, звон разбившегося стекла. Свет погас, послышался визг тормозов, потом какой-то скрип и скрежет, означавший, как смутно поняла Алёна, что машина свернула, — и тут же удаляющийся рокот мотора. Автомобиль, намеревавшийся ее прикончить, умчался прочь. В смысле, прочь умчался человек, намеревавшийся…
Алёна резко вздохнула, а может, всхлипнула. Но тут же замерла, затаила дыхание, услышав неподалеку шаги.
Кто-то был рядом! Убийца вернулся? Нет, он умчался на автомобиле. Здесь кто-то другой. Кто?
И снова вспыхнул свет! Алёна вскрикнула и скорчилась в комок.
— Да успокойтесь! — с досадой проговорил мужской голос. — Ну чего вы так испугались? Не надо меня бояться, я вам, между прочим, жизнь спас.
Она с трудом сообразила, что на сей раз не свет автомобильных фар слепит ей глаза, а свет такого же фонарика от мобильного телефона, как у нее. А где ее-то телефон, кстати?!
— Пожалуйста, посветите на землю, — с трудом смогла разомкнуть губы Алёна, — кажется, я телефон уронила.
Луч света переместился вниз. Ага, вот он!
— Спасибо, — пробормотала Алёна, поднимая мобильник.
Человек, стоящий рядом, хмыкнул:
— Да не за что, честное слово! Пустяки какие!
— О господи… — всхлипнула Алёна. — Извините, я просто в шоке, понимаете? Спасибо большущее вам… не за телефон, конечно. Этот ненормальный меня убил бы. Вы в него камень бросили, что ли?
— Да. Кажется, попал в лобовое стекло. Конечно, вышибить я его не вышиб, все-таки триплекс, но ездить он с таким не сможет, просто видеть ничего не будет. Надеюсь, он для своего «Форда» не скоро новое стекло найдет. Жаль еще, что радиатор не задел.
— Откуда вы знаете, что та машина — «Форд»?
— Успел разглядеть. Вроде бы он черный был. Ну просто как в полицейском романе! — с иронией сказал неизвестный. — Чем вы так насолили его владельцу?
— Представления не имею, — честно призналась Алёна. — Подошла к стене, включила фонарик, и тут он…
Перехватило горло.
— А зачем, позвольте осведомиться, вы подошли к стене и включили фонарик? — мягко спросил незнакомец.
Алёна кое-как заставила себя усмехнуться:
— На бабочек смотрела.
— На бабочек? — повторил мужчина с любопытством. Луч фонарика обежал стену: — Не вижу никаких бабочек. Грязное пятно какое-то.
— Они были нарисованы, но их кто-то стер. Думаю, тот человек, который сидел в «Форде». Но может быть наоборот: он их нарисовал, а увидев меня, решил, что я их стерла. Ну и разозлился.
— Ого! Разозлился до того, что даже решил вас убить? Кошмарный темперамент. Просто-таки разгневанный Юпитер.
— Юпитер! — презрительно хмыкнула Алёна.
— А что? Кстати, у итальянского художника эпохи Возрождения Доссо Досси есть даже картина, которая называется «Юпитер, рисующий бабочек». Сюжет такой: Юпитер сидит перед мольбертом и самыми обычными кистями и красками рисует на холсте бабочек, а Меркурий и Флора восхищенно подсматривают. Вообще картина какая-то бытовая, с позволения сказать. Рисует он каких-то обыденных бархатниц, да и сам одет в красную хламиду и напоминает не божество, а капуцина, совлекшего с себя сан. Не приходилось зреть сие полотно?
— Нет, к сожалению, — призналась Алёна, умолчав о том, что она даже и имени-то такого — Доссо Досси — в жизни не слышала. Ну и что. Невозможно знать обо всем на свете. — Вообще-то, я не уверена, что тот человек в «Форде» намеревался меня убить. Наверное, просто хотел напугать. До смерти напугать! И ему это удалось.
— Не принижайте моих заслуг, — проворчал неизвестный. — Мне, знаете, плохо спится, если я в день хотя бы разок не спасу кому-нибудь жизнь.
— Ну, жизнь так жизнь, — согласилась Алёна. — Вовремя вы тут появились, что и говорить. А кстати… Что вы тут делаете?
— Что, подозреваете меня в сговоре с владельцем «Форда»? — хмыкнул мужчина. — Скажем, он газует на прохожих, а тут появляюсь я с булыжником и быстренько выступаю в роли святого Жор… Георгия.
— Насколько я помню, у святого Георгия было копье, — уточнила Алёна и наконец-то от души рассмеялась. — Нет, я вас ни в чем таком не подозреваю. Но все же, что вы здесь делаете, а?
— Иду. Мимо иду. То есть шел. Теперь вот стою.
— А вы… здесь живете?
Она понимала, что расспросы ее неприличны, что глупо спасителя подозревать в злоумышлении, но не могла ничего с собой поделать.
— Неподалеку.
— А на какой улице?
— На какой улице? На улице Аксакова.
— А где тут такая улица?
— Вон там, в новостройках. Новая улица. А в доме напротив живет одна моя знакомая. Я ее навещал. О подробностях визита рассказывать? — спросил мужчина вызывающе.
— Ой, извините… — покаянно пробормотала Алёна. — Я вовсе не собиралась быть такой бесцеремонной, просто еще в себя не пришла.
— Да ничего, пожалуйста, сколько угодно, — успокаивающе сказал спаситель.
И тут до Алёны дошло… Наверное, пережитый шок освежил ее память. «Дом напротив», сказал он! А вспомнились другие слова: «Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу, а она заболела, вот я и заглянула сюда, тем более салон напротив моего дома, да такая вывеска у вас эффектная…» Так говорила Наталья Михайловна, оправдываясь перед Севой за то, что уходит из парикмахерской. Значит, она живет напротив парикмахерской, и рисование бабочек происходит на ее глазах!
А если… а если бабочек рисуют ради того, чтобы именно она их и видела? Видела и вспоминала о списке?
Так что же значит список?
И еще… Уж не Наталья ли Михайловна пыталась напасть на Алёну только что? Да вряд ли… Хотя она, конечно, женщина непростая — пожалуй, из породы тех же фурий фуриозо, к которым принадлежит и сама Алёна и от которых можно ждать любой неожиданности. И все же у нее фиолетовая «Мазда», а не черный «Форд»…
Ну, теперь уже можно выдохнуть. Успокоиться. И перестать подозревать всех и вся. Черный «Форд» умчался с разбитым ветровым стеклом. Вот если бы удалось завтра проверить авторемонтные мастерские Нижнего, очень может быть, удалось бы узнать, кто пытался ночью пришпилить Алёну Дмитриеву к серой бетонной стенке, словно бабочку к листку бумаги. Но… Но такое совершенно нереально.
— Еще раз спасибо огроменное, — сказала она, повернувшись к спасителю. — Пора домой. Так что до свидания, и храни вас Бог.
— И вас храни, — сказал он весело, и Алёна в первый раз обратила внимание на то, что у спасителя совсем молодой голос. — Но лучше я вас провожу, хорошо? И вам, и мне спокойней будет. А то мало ли, вдруг тот ненормальный со своим «Фордом» затаился где-то поблизости.
— Да, было бы просто здорово, — от души согласилась Алёна. — Честное слово, мне до сих пор не по себе.
— Еще бы!
Они свернули с Республиканской на Ижорскую, которая была освещена весьма ярко, потому что на ней находились два значительных ведомства: военный госпиталь и областная прокуратура (ноблесс оближ, а как же!), и Алёна не замедлила украдкой покоситься на спасителя. Он был высокого роста, одет по-спортивному: кроссовки, тренировочные штаны, куртка с капюшоном, рюкзачок через плечо. В таком виде джоггингом заниматься, а не на свидания ходить. Хотя кто его знает, может, он совмещал приятное с полезным. Да, он весьма молод, лет тридцати, наверное, хотя возраст угадывается только по голосу и фигуре, лица мужчины Алёна так и не разглядела толком из-за низко опущенного капюшона. Наверное, ей кажется, что он старается держаться в тени и опускать голову, когда проходят под фонарями. Ну конечно, кажется!
Очень скоро они оказались около дома Алёны. Перед воротами она приостановилась:
— Ну, спасибо вам еще раз…
— Пошли, пошли! — возразил спутник добродушно. — Доведу вас до подъезда. Я, знаете ли, не люблю спать беспокойным сном. Лучше уж удостоверюсь, что вы в целости и сохранности вошли в дом.
«А вдруг злодей притаился в подъезде? — чуть не сказала Алёна. — Или вообще забрался в мою квартиру? Скажем, под кроватью сидит? Не хотите удостовериться, что там никого нет?»
Конечно, она промолчала. Только мысленно назвала себя нимфоманкой. Да уж, была у нее такая черта…
— Ну, теперь уж вы можете идти. И так из-за меня задержались… — сказала она, пытаясь разглядеть его лицо хотя бы теперь, но, как назло, лампочка у подъезда, само собой, не горела.
— Да ничего, — сказал мужчина добродушно. — Тут спуститься да подняться, четверть часика — и я у себя. До свидания. Больше по ночам не ходите, а то вдруг меня рядом не окажется…
Вежливо посмеялись, и Алёна, прижав к домофону ключик, вошла в подъезд.
И здесь темнотища! Она сразу включила фонарик, и по спине, если честно, прохаживались-таки чьи-то ледяные мохнатые лапы, пока открывала дверь, но ни в подъезде, ни в квартире на нее никто не набросился. Под кроватью тоже оказалось пусто, и Алёна наконец-то перевела дух и побрела в ванную — смывать стресс.
«Наверное, он уже пришел домой, — думала она о своем спасителе. — Четверть часика, сказал он…»
Вообще странно, между прочим. Что означало — спуститься и подняться? Если он живет в новостройках, там нет никаких таких подъемов и спусков. Ну, чуть вниз идут улицы, но подниматься некуда. Или он имел в виду — на свой этаж подняться? Наверное, так.
А что ж там за улица Аксакова такая появилась, а?
По-хорошему, нужно было сразу падать в постель, но ненасытный зверек по кличке Любопытство немедленно начал покусывать Алёну там и сям. Она нашла нижегородские «Желтые страницы» и посмотрела список улиц. Ага, Аксакова… есть такая. Но она в Московском районе, в Заречной части, очень далеко отсюда.
Странно… Нет, правда странно!
Да ерунда, ну не хотелось человеку говорить свой адрес случайно спасенной женщине, вот он и ляпнул первое, что в голову взбрело. Может, он и впрямь живет на той самой улице Аксакова — в Московском районе.
Хотя нет. До нее пешком идти часа четыре, а он сказал — четверть часика. Хм, «спуститься и подняться». За четверть часика окажешься на улице Минина или на Верхне-Волжской набережной.
Зазвонил телефон — не мобильник, а домашний. Кто бы мог в такую пору объявиться? Разве что Инна, дорогая подруга. Она сова, от нее звонков можно когда угодно ожидать!
Алёна сняла трубку:
— Алло?
Нет, это была не Инна. Бесплотный, бесполый голос прошелестел:
— Ну что, получила? И еще получишь, если будешь не в свое дело лезть!
И в трубке раздались гудки…
1918 год
Аглая выбежала из дома Шнеерзона и ринулась куда глаза глядят. Да нет, никуда не глядели ее залитые слезами глаза, она совершенно не соображала, куда шла, куда направлялась. Голова была полна другим, и сердце — тоже.
Все сходилось одно к одному. Его отец был тезкой с Владимиром Проскуриным, отцом Ларисы, это раз. Натальина тетка называла его Люшей… Он говорил о себе: «Я был такой смешной, тощий, картавый, говорил «л» вместо «р», даже имени своего не мог толком произнести».
Люша — это Рюша, уменьшительное от Кирюша.
Прав был Гектор, когда говорил, что у нее ледяной и безжалостный ум. Она все угадала… И что теперь с догадками делать — упиваться собственной проницательностью и изумляться тем открытием, которое она сделала?
Значит, Гектор побывал у Льва Борисовича раньше, чем она. Побывал — и заставил старика замолчать. Все разговоры о каких-то тайнах, которые он якобы хочет открыть с помощью друга своего отца, — были только разговоры. Он собирался убить его, чтобы тот не сказал никому о…
О чем?
Неведомо.
Для чего требовать, чтобы Аглая непременно пришла к Шнеерзону?
Непостижимо.
Хотел прикончить ее там? Но это легче легкого было сделать на обрыве. Пристрелил бы, как злосчастного Сему, и все. К тому же, если бы Гектор хотел убить Аглаю в доме Шнеерзона, он и сам находился бы там. А ведь его не было.
Непонятно! Чего он хотел?
А, ну да. Ему нужно было проверить, есть ли засада в доме Натальиной тетки. Помочь могла Аглая, поэтому и была оставлена в живых. Но вот она исполнила свое предназначение. И что теперь? Гектор мог убить ее у Шнеерзона, но не убил.
Пожалел? Или она теперь не опасна ему?
А когда она была ему опасна, бог ты мой? Он теперь неведомо где, ищи ветра в поле. И не все ли ему равно, куда пойдет Аглая, что станет теперь делать? Он по-прежнему занят делом своей чести (или своего бесчестия), по-прежнему добывает бабочек Креза, и если ему понадобится смести со своего пути какую-то там Аглаю, какого-то Хмельницкого, Шнеерзона, Конюхова, Наталью, Офдореса-Орлова, Ларису Полетаеву, даже вообще сторонних людей — доктора Лазарева, бедного Сему, в конце концов, — он…
Приближающийся треск автомобильного мотора показался в тишине оглушительным. Аглая дернулась от страха, бестолково заметалась, кинулась на землю — под какой-то куст. По дороге прогромыхал грузовичок, полный народу, завизжав на повороте тормозами, как стая раненых котов.
Свет единственной фары мазнул по дощатым заборам, по толстой, как городовой старого времени, афишной тумбе на углу. Грузовичок помчался куда-то к Острожной площади.
Наверное, отряд красногвардейцев или матросов отправился куда-то по своим революционным делам…
Аглая поднялась и вгляделась в темноту. Оказывается, погруженная в свои мысли, она убежала от Ошарской аж на квартал и находилась сейчас на углу Алексеевской улицы.
Если пойти по Алексеевской к Звездинке, пересечь Покровку, можно оказаться на углу Малой Печерской и Ильинской, где стоит дом доктора Лазарева. Там под вешалкой среди шуб валяется узелок со всем имуществом Аглаи Донниковой, которое у нее только осталось на свете, — ее документы, карточки, чистое белье и жакетик. И еще томик Пушкина — последняя память о книгах, которыми был полон ее родной дом.
Получается, ей больше нечего делать, как только идти к доктору Лазареву и снова проситься к нему в кухарки. Начинать все сначала с того самого места, где она остановилась.
Начинать, начинать… Если она явится наниматься вот такая, какая есть: с растрепанными волосами, измученная дневными приключениями и бессонной ночью, чумазая, в запачканной одежде, — ее не то что на чистую кухню доктора не пригласят — даже на порог не пустят! К тому же среди ночи. С ней даже говорить не станут. Даже через дверь!
Где найти другую одежду или хотя бы привести в порядок эту? Где помыться? Где провести ночь до утра, где взять элементарную воду для умывания? Куда вообще податься? Она в этом городе одна-одинешенька, совершенно бесприютная.
Внезапно Аглая осознала, что есть только одно место, где она может в относительной безопасности пробыть до утра, — сени Шнеерзона. Бедный хозяин ее оттуда точно не турнет. В дом она не пойдет — страшно и кощунственно, а найти приют в уголке сеней на какой-нибудь ряднинке, в крайнем случае прямо на полу, у нее, пожалуй, хватит храбрости. Вот поспит она чуток, рано утром встанет, умоется в бочке с водой, которая стоит около крылечка, и как-нибудь, пусть даже умирая от голода, найдет способ прорваться в дом к Лазареву. Главное — убедить Глашу открыть, ну а там уж как бог даст. На службу не возьмут, так хоть вещи свои найдет способ забрать.
Только сейчас Аглая почувствовала, как страшно, нечеловечески она устала: ноги подкашивались, в голове воцарились круговращение и мрак. Не хлопнуться бы посреди дороги в голодный обморок. В голодный и холодный. Голова кружилась от страха и усталости. Хотелось лечь прямо здесь, на углу, под кустом, свернуться клубком, как собачка бездомная…
Ага, и еще уткнуть нос в лапы и прикрыться хвостом!
Понукая себя ехидством, Аглая кое-как дотащилась до угла Ошарской, потом до дома Шнеерзона и вошла во двор, осторожно придержав калитку, чтоб не стукнула. Конечно, ничего не произошло бы, если бы и стукнула, но Аглая все же старалась не шуметь. Крадучись, сдерживая дыхание, поднялась на крыльцо — ни одна ступенька не скрипнула под ней! — и замерла. Что-то прошелестело в глубине дома… Или почудилось? Или в самом деле отдались где-то там, вдали, в комнатах, торопливые шаги?
Мгновенно перед глазами Аглаи нарисовался призрак Льва Борисовича с проломленной головой, идущий преградить путь дерзкой и наглой бродяжке. Она слетела с крыльца, шарахнулась к забору, приникла к нему спиной, ощутила, как что-то подвинулось сзади. Доска! Доска отошла! Аглая протиснулась в щель, оказалась в соседнем дворе, кинулась куда-то, уткнулась в высокое крыльцо, чудом удержалась на ногах, взбежала на него и присела на корточки за перилами. И тут, словно по заказу, словно по невероятной чьей-то мольбе, тучи на небе раздвинулись, и голубой, ледяной, пронзительный лунный луч осветил землю. Аглае почудилось, будто в нее вонзился некий указующий перст, она ощутила себя голой, незащищенной, выставленной на поругание и втиснулась в ступеньки, с трудом глуша панический крик. Сейчас распахнется дверь, страшный призрак Шнеерзона выйдет, оглядится мертвыми глазами и сразу увидит ее…
Дверь распахнулась. Высокий мужчина вышел на крыльцо и, не оглядываясь по сторонам, сбежал по ступенькам. Аглая со своего высокого крыльца видела его очень отчетливо. В руке у него был какой-то листок. Человек был чем-то очень озабочен, шел, опустив голову. Вдруг остановился — и словно бы только сейчас заметил, что все вокруг залито пронзительным лунным светом. Поднес к глазам листок и несколько секунд стоял, читая то, что было там написано. Потом покачал головой, как бы не веря глазам. Потом сел на ступеньку и принялся поудобнее надевать сапог. Переобувался он, настороженно озираясь. Повернулся и туда, где затаилась Аглая, но не заметил ее. А она отчетливо разглядела его лицо.
Впрочем, даже в кромешной тьме, даже с закрытыми глазами она узнала бы этот опасный профиль с хищным носом и надменно вывернутой нижней губой. Гектор, нет — Кирилл Шведов покончил наконец с сапогами, встал, еще раз оглянулся, в два шага пересек двор и исчез за калиткой, точно так же, как недавно Аглая, придержав ее, чтобы не стукнула…
Ну, наверное, не меньше пяти минут прошло, прежде чем Аглая выдохнула. И смогла снова вдохнуть, и начать дышать, и распрямить мучительно затекшие ноги и спину, и встать во весь рост. Какой-то миг отделял ее от столкновения с Гектором на крыльце. Итак, он вернулся в дом жертвы за какой-то забытой бумажкой. А может быть… Аглая снова надолго оцепенела… может быть, он все время там находился? И пока она шарахалась внизу, он был где-то наверху? Почему он ее не убил? Объяснение одно: не заметил. Вот удивлялся, наверное, почему она не идет к Шнеерзону, как было условлено! А прокараулил-таки ее приход, занятый поисками того, за чем явился к старому другу, за обладание чем убил его. Гектор, конечно, увидел ту страницу с его именем, на которую указывал окровавленный палец Шнеерзона. Вот посмеялся-то, наверное, над посмертной попыткой Льва Борисовича обличить убийцу! Журнал, естественно, был брошен в камин.
Ах, да не все ли теперь равно. Пусть идет. Пусть идет своим путем неблагородный разбойник Гектор и никогда, никогда больше не переходит дорогу Аглае!
Девушка покачнулась и поняла, что сейчас упадет. Все, силы иссякли. Она уже почти в обмороке. Тяжело села, почти упала на ступеньку, и оцепенение, родственное беспамятству, охватило ее. И в то же мгновение откуда-то, словно бы из какого-то немыслимого далека, донесся детский голос:
— Вы что, тетя, тут, на крылечке, спать собрались?
Аглая была так измучена, что только и могла — приподнять голову. Чтобы оглянуться, понадобились просто-таки героические усилия.
В проеме двери стояла маленькая фигурка в длинной ночной рубашке. Аглая пригляделась — девочка лет восьми. Жиденькие косицы лежат на плечах. Кружева на воротничке рубашки. На ногах не то галоши, не то валенки, обрезанные чуть не по самые ступни.
— Ты кто? — едва шевеля губами, выговорила Аглая.
— Я-то? — уточнила девочка. — Я — Варя. А вы?
— А я Аглая.
— Какое имя красивое! — восхитилась девочка.
— И у тебя красивое. Что ж ты ночью не спишь, Варя?
— Да никак не могу, — тяжело вздохнула девочка. — Проснулась на горшок, еще полуночи не было, да с тех пор и не сплю. Потом слышу, кто-то по крылечку топает, вышла посмотреть, а тут вы.
— Да разве можно открывать дверь в такое ужасное время?!
— А почему оно ужасное? — удивилась девочка. — Вон какая луна красивая!
— Я не про ночь, — слабо усмехнулась Аглая, — про жизнь. Время опасное, понимаешь?
— Конечно. — Голос у девочки стал очень серьезный. — Чего ж тут не понимать? Только ведь на все воля Божия. Так мама говорит. Но если бы она узнала, что я ночью двери открыла, она бы меня отшлепала. Вы ей не скажете?
— Нет, конечно, нет. А она спит?
— Она работает. Утром из пекарни придет и спать ляжет.
— Из пекарни? Так вот оно что… Там, значит, хлеб по ночам пекут. А с кем ты остаешься, когда она уходит?
— Одна, — с некоторым удивлением проговорила Варя. — С кем же мне еще оставаться? Отец где-то на фронте, а бабуля в деревне. Днем, когда мама спит, я по хозяйству хлопочу. Ночью она на работу уходит, я сплю. Мы с ней мало видимся. Жалко…
— А ты в школу ходишь?
— Конечно. То есть ходила зимой и весной, а сейчас уже первое сентября прошло, а уроки еще не начались. Но я бегаю к соседу нашему, ко Льву Борисовичу, книжки читать. У него книжек много-много! Я говорю: «Лев Борисович, да я за всю жизнь книжек не прочитаю!» А он мне: «Ну и хорошо, значит, целую жизнь будешь ко мне в гости ходить». А я и рада. Я его люблю, и дом его люблю, и книжки.
Аглая представила, какое горе ждет девочку утром, и только головой сокрушенно покачала. Хорошо, если бы кто-то другой нашел старика, не Варя, а то ребенку увидеть такое каково?
— Аглая, а что вы здесь делаете?
— Сижу, — невесело усмехнулась измученная девушка. — Устала и села посидеть. А дальше идти боюсь.
— Вы далеко живете?
— Не очень, — соврала Аглая. — На Ильинке.
Девочка покачала головой:
— Небось страшно ночью идти? Мама работает аж в конце Ошарской, пекарня там. Тоже далеко, а она не боится. Мама храбрая! Я тоже не боялась одна дома оставаться. — Варя гордо помолчала, потом призадумалась и поправилась: — То есть раньше не боялась, а теперь боюсь.
— Почему?
— Чертей боюсь.
— Кого? — изумилась Аглая. — Каких чертей?
— Как — каких? — по-взрослому пожала Варя узехонькими плечиками. — Черных чертей, самых обыкновенных.
— У вас тут черти водятся? — искренне удивилась Аглая.
— Нет, — досадливо отмахнулась Варя. — У нас никто не водится. Просто я сегодня видела черта, который ко Льву Борисовичу шел. Я как раз встала, а уснуть не смогла, сидела у окошка — и вдруг вижу: на крыльцо Льва Борисовича откуда ни возьмись кто-то высокий поднимается! Я думаю: кто ж в такое время по гостям ходит? А он вдруг споткнулся да и говорит: «Черт!» А черти — они же мысли человеческие уловляют. Он услышал, что я подумала, и ответил мне. Получилось: «Кто ходит?» — «Черт!»
— Да тот человек просто споткнулся, вот и чертыхнулся, — возразила Аглая, хотя по плечам ее так и начали прохаживаться чьи-то ледяные пальцы. — Ты сама говорила, что он споткнулся.
— Споткнулся потому, что я его спросила, — настаивала Варя. — И потом, у нас на часах как раз полночь пробило. Самое время чертям шляться!
«Полночь», — подумала Аглая. Примерно в полночь она как раз была в овраге под Лыковой дамбой, около домика Натальиной тетки. А Гектор вполне мог уже оказаться у Шнеерзона…
— А ты черта хорошо разглядела? — спросила она осторожно.
— Да нет, не очень, — с явным сожалением ответила Варя. — Темно было. Но он был тако-о-ой огро-о-омный! — протянула она. — Плечи — во! Руки — во! И у него из руки пламя вот так раз — и вырвалось…
— Пламя из руки? А рога ты видела? — слабо усмехнулась Аглая. — А хвост?
— Ничего такого не видела, — вздохнула Варя. — Темно было, я ж говорю.
Пламя из руки? Наверное, Гектор чиркнул спичкой, а Варе почудилось невесть что. Правда, на берегу он говорил, что обронил где-то коробок. Ну, может, он просто так говорил, не хотел с костром возиться. Да и не суть важно.
— И что было потом?
— Потом я испугалась: как же Лев Борисович с чертом сладит? Спать неохота было, я осталась у окошка и смотрела. Долго смотрела — черт все не показывался. Глядь — из трубы дымок пошел. Ага, думаю, Лев Борисович огонь в камине разжег, чтобы черт в трубу вылетел, как ему и положено. И решила спать идти, коли так. А уснуть никак не могла. Прямо как у старой бабки — глаза не спят, в потолок глядят! — хихикнула девочка. — Опять пошла к окошку, а тут черт как раз и вышел. Значит, он в трубу не вылетел, а своими ногами ушел. Ты его видела?
— Видела, — слабо кивнула Аглая, у которой уже не было сил даже на страдания по поводу того, кто оказался тем чертом. — Видела…
Варя зевнула, и Аглая мигом начала тоже зевать. Эх, лечь бы прямо вот тут, на крыльце, и уснуть…
— Спать хочешь? — сквозь зевоту спросила Варя. — Оставайся у меня ночевать, а? Ну куда ты ночью побредешь? Может, черт еще недалеко ушел и тебя ка-ак схватит… А я тебе на диванчике постелю.
Аглая, не говоря ни слова, поднялась и, не чуя ног, хватаясь за стенки, поплелась за Варей. Казалось, они долго-долго шли, но вот наконец подвернулся под колени диван, Аглая села на него — и уснула, кажется, еще раньше, чем легла.
— Матушка императрица, а ведь тебе везет в макао! [4]Ма, — сказал человек в роскошном, шитом золотом кафтане и покачал пудреным париком, очень шедшим к его смуглому, точеному лицу. — У тебя девять очков, а у меня только шесть. Выигрыш твой! Удача тебя любит, что и говорить!
— Что и говорить, — с легким акцентом повторила невысокая женщина в голубом серебристом платье. Шелковый лиф туго облегал полный стан, а юбка и рукава были сшиты из какой-то сверкающей и очень жесткой ткани, которая так и топорщилась на складках и сборках.
«Что ж за ткань такая? — задумалась во сне Аглая. — Может быть, парча? А почему у платья бока так странно торчат? Да ведь это фижмы [5], честное слово! У нее под платьем фижмы надеты! А в волосах… а на плечах… а на пальцах-то!»
В напудренных волосах, на плечах, в ушах и на пальцах дамы сияло целое состояние. Бриллианты, бриллианты… Ах боже мой, отроду Аглая не видела таких сокровищ, ну прямо россыпи Голконды! [6]
Но все они померкли, когда красавец в парике с таинственной улыбкой вынул из кармана и протянул даме совершенный бриллиант немыслимых размеров и необыкновенного сверканья.
— Прими, Катерина Алексеевна, императрица всея Руси и души моея, — проговорил он прочувствованно. — От верного раба твоего и вечного друга.
— Откуда у тебя такое чудо, граф? — изумленно воскликнула дама.
— Для вашего услаждения, — скромно и вместе с тем с гордостью ответствовал мужчина, — выкупил вчерась за четыреста тысяч у Иоганна Агазара. То есть у… как его там…
Аглая вскинулась. Все исчезло. Без следа развеялся сон о давнем-предавнем годе, когда граф Орлов, желая потрафить любимой и возлюбленной императрице, купил для нее у банкира Иоганна Агазара, носившего в России, правда, несколько иное имя, баснословный бриллиант весом в сто девяносто пять каратов, ограненный розою и некогда бывший вставленным в скипетр индийского Надир-шаха. Аглая обнаружила себя в тесной комнатушке, заставленной тяжелой, громоздкой мебелью. В углу простая кровать, на которой спит девочка со смешными жидкими косичками, разметавшимися по лоскутному одеялу. А сама Аглая полулежала на небольшом диванчике, покрытая таким же одеялом. Рядом на стуле висело ее изрядно перемазанное платье, тут же стояли туфли.
Оторвавшись от подушки, Аглая несколько мгновений таращилась по сторонам слипающимися глазами и только собралась снова улечься, как взгляд ее упал на маленькую худенькую женщину в простеньком сером платье, сидевшую на стуле и с любопытством смотревшую на нее. У женщины были русые гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор и уложенные на затылке в аккуратненький узелок, невзрачное, но милое, доброе лицо, только очень усталое и бледное.
Аглая наконец сообразила, где она находится. Не сказать, чтобы эта догадка доставила ей большую радость, но куда ж деваться-то? Да, она по-прежнему на Ошарской, по соседству с домом Льва Борисовича Шнеерзона, ныне убитого сыном его лучшего друга. Девочка на кровати — Варя, добрая душа, пустившая переночевать незнакомую побродяжку. Женщина, бледная, как мука, и даже, кажется, самую чуточку мукой перепачканная, — Варина мама. То-то небось обрадовалась, придя после смены чуть живая и обнаружив на своем диване чумазую незнакомку!
Аглая что-то забормотала, пытаясь объясниться, но женщина устало вскинула руку:
— Да я все знаю. Варя проснулась, когда я вошла, рассказала мне о вас, а потом снова уснула.
— У вас чудесная дочь, — начала было Аглая, и женщина вздохнула:
— Добрая она очень и сердечная. Уж и не знаю, хорошо ли это в такое время, как наше. Звериное время, ничего в нем не разберешь, люди готовы друг другу горло ни за понюх табака перегрызть. Я вот у нас в пекарне нарочно попросилась в ночную смену работать, чтобы поутру возвращаться, а то ночью домой идти невыносимо страшно. Нам хлебом жалованье дают, так бывало, что по ночам на наших нападали, пытались хлеб отнять. Двух женщин убили даже… Время, ох, время… — Хозяйка сокрушенно покачала головой. — К дому подошла, встретила соседку, она рассказала, что старика Шнеерзона, соседа нашего, ночью убили. Голову ему проломили, а в доме все вверх днем. Кухарка пришла и нашла его мертвого. Кинулась милицию рабочую вызывать, так там хоть бы почесался кто. В прежнее время полицией тут бы все было наводнено, господа следователи шныряли бы по окрестным домам, а нынче…
Женщина всхлипнула и обратила к Аглае усталые серые глаза, заплывшие слезами:
— Ой, я такое говорю чужому человеку… Но я знаю, чувствую, вы меня не выдадите. Я вас первый раз вижу, а почему-то чувствую, что вы не подлая, не злая, что вы не чужая мне. Да и Варенька вас бы не впустила, ежели бы что-то недоброе в вас почуяла. Она хоть мала, а глаз у нее на людей — алмаз.
Аглая невольно вздрогнула при звуке последнего слова, вспомнив свой сон. Что-то сон открыл ей, только она еще не понимала, нужно ей это или нет.
Однако она загостилась, кажется. Пора подниматься, поблагодарить хозяйку, поцеловать спящую Варю — и уходить к доктору Лазареву. В кухарки наниматься.
Только сначала надо бы хоть немножко себя в порядок привести…
— Ну, вижу, вставать решили? — Женщина поднялась со стула и пошла к двери. — Одевайтесь и приходите на кухню, там самовар вскипел, напою вас чаем на дорожку и хлебца дам свежего.
Она вышла. Аглая с отвращением натянула на себя платье (оно после вчерашних приключений оказалось таким грязным, что с души воротило) и, ладонями пригладив волосы, вскоре явилась в убогую, но чистую кухню, где царил невероятный, вкуснейший на свете аромат свежего хлеба. Впрочем, вскоре выяснилось, что на запах хлеб куда лучше, чем на вкус: был он тяжел, сыроват, остист.
— Из чего ни попадя печем, — вздохнула хозяйка. — Даже стыдно. Но ладно, хоть такой есть. Многие за буханку невесть какое добро на меняльном рынке отдают. Все с себя снимают: есть-то хочется! У меня мать в деревне, так она вот что рассказывала… Нипочем не желают мужики зерно новой власти отдавать, вот и голодновато в городе. Хоть и лютуют продотряды, а все же крестьянин всегда найдет место, где хлебушек припрятать. Авось доживем до той поры, когда весь нынешней ужас на нет изойдет.
Аглая вздохнула: она тоже на это уповала.
— Вас как зовут?
— Вера Ивановна.
Аглая только головой покачала. Да… Вот же бывает: Вера и Варя.
— Счастливо оставаться, Вера Ивановна, дай бог здоровья. Спасибо вам и вашей дочке несказанное. А теперь я пойду.
— Далеко ли пойдете-то? — спросила хозяйка, оглядывая ее как-то очень уж внимательно.
— На работу наняться хочу, — не стала отмалчиваться Аглая. — Слыхала, доктору Лазареву кухарка нужна. Пойду попытаю счастья, авось возьмет.
— И, милая вы моя! — воскликнула Вера Ивановна, всплеснув руками. — Да мыслимо ли кухаркою-то да в таком виде? Доктор-то вас и на порог не пустит, и говорить с вами не станет. Вы вот что… Пойдите помойтесь, я вам шайку дам чистую и простынку вытереться. А платье ваше за дверь киньте. Не надевайте больше, в таком виде только людей пугать.
Когда Аглая окунула свою пыльную голову в огромный чан (невесть почему хозяйка называла его шаечкой) с водой (она была даже чуть теплая, Вера Ивановна щедро вылила в емкость все, что оставалось в самоваре), у нее словно бы даже разум помутился от счастья. Потом вытерлась, а когда выглянула из двери, обнаружила на табуретке клетчатое саржевое платье, серое с черным. Оно было как раз впору Аглае, может быть, только самую малость коротковаты рукава.
От платья чуточку пахло лавандой, и хоть Аглая ее запах не слишком любила, сейчас он даже показался приятным. Правду говорят: чистота — лучшая красота. А платье было чистое-чистое!
— Ну, я так и знала, что вам впору придется, — восхитилась Вера Ивановна, когда Аглая появилась в комнате.
— Пришлось, — неловко развела руками девушка. — Но я не смогу… в наше время… как можно? Оно вам пригодится, на него для Вари можно что-то выменять.
— Да платье-то не мое, — отмахнулась хозяйка. — Его у моей матери выменяла какая-то дама городская. Зимой многие городские по деревням ходили с салазками, от голода спасались. Везли все свое добро. Мама говорила, наряды у той дамы все были воздушные, прямо бальные платья. Ну куда такие на деревне? А дама плакала от того, что у нее никто ничего брать не хотел. Говорила, у нее дочка восьмилетняя в городе, есть нечего, мужа арестовали… Ну, мама вспомнила нашу Варю, ровесницу той девочки, пожалела даму, взяла одно платье, а взамен полпуда картошки дала. Платье мне привезла, а я его почему-то не могла носить. А вам совершенно пристало. Возьмите, снимите тяжесть с души.
— Да какая же тут тяжесть, если ваша мама за одно платье целый мешок картошки отдала? — удивилась Аглая, с нежностью оглаживая ткань.
— Сама не знаю, — пожала плечами Вера Ивановна. — Но как только вы его надели, так мне сразу легче стало. Пусть оно вам удачу принесет!
* * *
Конечно же, Алёна ночью спала плохо. И это еще мягко говоря! Голос, шелестящий, как крылья высохших бабочек, бесплотный, осыпался на нее во сне, словно пыльца, и горло перехватывало от отвращения до удушья. Она вскидывалась от каждого шороха за окном, от каждого шума. Потом во сне возник святой Георгий, который сражался с черным «Фордом», а на смену ему явился Лев Иванович Муравьев, начальник следственного отдела городского УВД, с трубкой а lа комиссар Мегрэ, и, не вынимая ее изо рта, пробурчал: «А вы, оказывается, любите кофе капучино, Елена Дмитриевна?»
Только под утро Алёна кое-как заснула, а когда открыла глаза, было уже девять. Кошмар… Еще лежа в постели, протянула руку к телефону и, узнав в справочной номер парикмахерской «Мадам Баттерфляй», набрала его.
— Доброе утро. Севу можно пригласить?
— Он сегодня не работает.
Алёна с трудом подавила сорвавшийся с языка вопрос, не появились ли на стене парикмахерской новые бабочки, и набрала другой номер, который узнать в справочной было никак нельзя, ибо это был телефон приснившегося ей Льва Ивановича Муравьева. Секретный номер был в добрую минуту подарен с щедрого плеча, как знаменитый заячий тулупчик. Алёна пользовалась им редко, только в ситуациях совершенно глобального значения. С другой стороны, покушение на собственную жизнь вполне можно расценивать как глобальную историю, а потому Алёна все же решилась набрать заветный номер. Немедленно выяснилось, что сделала она это совершенно напрасно — Лев Иванович оказался на совещании в Москве и вернуться должен был только послезавтра.
Как ни странно, Алёна не слишком-то огорчилась его отсутствием, а даже испытала некое облегчение. Лев Иванович — человек непредсказуемого настроения. Раньше их отношения с Алёной находились в состоянии открытой вражды, потом перешли в некое подобие дружбы, но наперед нельзя было сказать, в каком именно настроении он будет, когда снимет трубку.
Правда, разговор с ним вполне можно было бы предсказать с точностью до слова. Он, конечно, поздоровается с Алёной и назовет ее Еленой Дмитриевной, хотя доподлинно знает, что она своего имени не любит. Причем в голосе его неудовольствие будет смешиваться с опаской: мол, что там еще выкинула шалая писательница?
Потом Алёна спросит, реально ли узнать, в какой автосервис обращался ночью черный «Форд» с разбитым лобовым стеклом. Лев Иванович поинтересуется, зачем ей сия информация нужна. И Алёна скажет, что для одного расследования. Он потребует подробности. Алёна умолчит о бабочках и сообщит лишь, что водитель «Форда» напугал ее до полусмерти, а может быть, даже хотел убить. Муравьев холодно осведомится, как она себе представляет дальнейшие действия милиции. Он ведь, чтобы выполнить ее просьбу, должен будет оторвать от дел изрядное количество сотрудников, которым предстоит объехать неимоверное количество мастерских, дабы лично убедиться, нет ли там искомого «Форда» и не проходит ли он по документам. А текущая работа что, все это время стоять будет? Алёна робко заметит, мол, не так уж и много, наверное, в Нижнем автомастерских, где можно вот так, ни с того ни с сего, заменить лобовое стекло «Форда». Лев Иванович согласится, что их не более двух десятков, сущие пустяки. Алёна оценит шутку…
Затем Муравьев повторит: свободных людей у него нет. С другой стороны, времени у писательницы Дмитриевой невпроворот — почему бы ей и самой по мастерским не поездить? Алёна воскликнет, что с ней и разговаривать никто не станет, а Лев Иванович посоветует ей призвать на помощь ее знаменитое обаяние и неземную красоту, которые она воспевает во всех своих детективах. И попеняет, что в упомянутых детективах работа милиции всегда остается за кадром, а вот свои заслуги Алёна Дмитриева выпячивать не стесняется, хотя они весьма скромны, а порою их и вовсе нет. И вообще, добавит он, милиция предпринимает расследование после заявления от потерпевшего.
Тогда Алёна поймет, что в их со Львом Ивановичем отношениях снова наступило похолодание, и второй вопрос, который ее интересует, вряд ли вообще задаст, предвидя реакцию товарища Муравьева, который, услышав его, наверняка ляпнул бы, что она опять начала использовать государственные органы для решения своих личных дел и удовлетворения личных интересов. Алёна разобидится, резко заявит, что у нее нет проблем с личными делами, и бросит трубку, но станет думать: а в самом ли деле при решении второго вопроса ею руководит только желание разгадать некие странности, или личный интерес к одному из фигурантов неожиданно возникшего дела тоже имеет место быть?
Так что все, что ни делается, делается к лучшему. И даже хорошо, что Льва Ивановича Муравьева не оказалось на месте. Алёна может рассчитывать только на себя. А разве в этом есть для нее что-то новое?
Несколько приведя себя в порядок, она плюхнулась за компьютер и принялась искать адреса автомастерских, где ремонтируют «Форды». Ну, два не два десятка, но штук пятнадцать таковых она нашла. Больше всего принадлежало сети автосервиса «Импульс». Алёна позвонила по двум-трем телефонам, обрисовав ситуацию: мол, ночью кто-то кинул камень в лобовое стекло, ездить невозможно, как быть? Ответ был однозначный: доставьте «Форд» в мастерскую, сделаем все, но на месте. Таким образом выходило: если ночной злоумышленник произвел или собирался произвести ремонт тайно, докладывать об этом Алёне никто не собирался.
Беда еще была в том, что Алёна совершенно ничего не понимала в автомобилях. Ну просто ничегошеньки! Ее ставили в тупик самые простые вопросы. Нет, техникой должны заниматься профессионалы, а ее дело — абстрактные догадки и разгадки. Бабочки, драгоценные камни, исследование причин, побуждающих людей совершать те или иные неожиданные поступки, а также взаимосвязь слов «полицейский роман», «капуцин» и «святой Жо…», в смысле, святой Георгий.
А вот, кстати, о бабочках!
Алёна оделась и выскочила из дому. В воротах она огляделась, черного «Форда» ни с разбитым, ни с целым лобовым стеклом не обнаружила и со всех ног понеслась на Республиканскую, к «Мадам Баттерфляй».
Разумеется, бабочки сидели на стене… На сей раз два бражника — Гарпия и Атропос. Ничего себе сочетание… Алёна торопливо привела в порядок свои мифологические познания. Итак… Атропос — одна из парок, прядущих нить жизни человека и обрезающих ее по мере надобности. Гарпии были страшны, как и парки, но еще и просто омерзительны. Гарпии (имя их происходит от греческого слова «похищаю») — это духи ветров. Кто-то считает, что их две, кто-то — что пять, но Алёна могла припомнить имя только одной: ее звали Подарга (Быстроногая). Очень часто, путаясь в произношении, ее называют Подагрой, так же, как известную болезнь суставов. Ну что же, слова и в самом деле как по звучанию схожи, так и по значению близки — только понятия обозначают разные. Обычно гарпий изображали в виде крылатых диких и хищных существ — отвратительных полуженщин-полуптиц отвратительного вида (упоминалось также об их зловониях). В мифах они представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ. При этом они верно служили богам. Например, гарпий посылали в наказание людям, обреченным на голодную смерть. Чудовища отнимали пищу у человека всякий раз, когда он садился есть, и так длилось до тех пор, пока несчастный не умирал от голода. Между своими злодеяниями гарпия Подарга умудрилась родить быстроногих коней, которые потом везли колесницу Ахилла, а родила она их, к слову сказать, от бога западного ветра — от Зефира.
Зефир, Гарпия… бабочка Зефир, бабочка Гарпия… Есть ли тут связь? Если принять априори, что в загадочном списке перечислены именно бабочки, ненарисованными остались только Гектор и Аглая. Креза изображать смысла нет: он и так существует в качестве эмблемы «Мадам Баттерфляй». Очень может быть, что Гектор и Аглая «прилетят» на ту серую стену нынче ночью. А может быть, и нет. Все, кажется, зависит от того, как поведет себя Алёна Дмитриева.
Ну что ж…
Для начала она зашла в парикмахерскую и спросила у администратора, не появлялась ли у них дама по имени Наталья Михайловна Каверина.
— А, здрасьте, я вас узнала, — улыбнулась девушка за стойкой. — Вы писательница, которая Севе роман подарила. Я его уже прочитала. А вы что, правда верите, что молодых парней интересуют пожилые тетки? Чепуха, по-моему. Вы плохо знаете жизнь. Нет, я согласна, спят с ними иногда, но только за деньги. Тетки за мальчиками бегают, преследуют их, проходу им не дают, платят им, авто покупают и шмотки, ну, те и трахают их лениво. А чтоб по любви… Чушь! А женщина та к нам не приходила. Вот ваша визитка, видите? Мне ее Сева на всякий случай передал и всех предупредил, чтобы непременно вручили мадам Кавериной.
Алёна вывалилась на крыльцо в состоянии шока. Получи фашист гранату, называется… Ну и наглая же девка! Писательница Алёна Дмитриева могла бы запросто привести как минимум пять примеров из собственной жизни, опровергающих расхожий постулат о том, что «тетки» непременно бегают за мальчиками и преследуют их. В ее жизни было, как правило, наоборот. Имел место быть только один случай, когда Алёна Дмитриева бегала, преследовала и даже деньги готова была платить, но это все в далеком прошлом. С тех пор она стала предметом откровенного вожделения немалого количества молодых людей и сама выбирала, кого из них осчастливить. С раскаянием Алена вспомнила сейчас Константина, Андрея и Сашу, которые терпеливо и смиренно ожидали, когда их капризная дама назначит день и час свидания. Может, на неделе и назначить? Завтра Константин, послезавтра Андрей, потом Саша…
«Нет! — сурово одернула сама себя Алёна. — Сначала надо разобраться с ювелирно-энтомологическими непонятками!»
Ну, конечно, первым делом — самолеты. Вернее — бабочки.
Алёна еще раз посмотрела на бабочек на стене дома, на всякий случай сфотографировала их мобильником, потом пошла туда, куда собиралась. Ей всего-то нужно было «спуститься и подняться», однако на полпути она изменила маршрут и направилась на Покровку, угол улицы Пискунова. Именно туда, где напротив парикмахерской «Фэмили» находился Музей бабочек. Пора, пора было там побывать!
Правда, едва спустившись в крохотное помещение, находившееся в подвале, Алёна чуть не бросилась прочь. Она не выносила духоты, а здесь царила именно влажная духота.
— А что вы хотите? — поняла оторопь посетительницы гардеробщица. — У нас же тропические растения и бабочки! Вот и стараемся по мере сил. — И женщина подала Алёне синие бахилы — надеть поверх сапог.
Шаркая бахилами, наша героиня вошла в зальчик — и замерла. Потому что прямо перед ее носом мелькнуло что-то необычайное, сапфирово-синее. Господи, да это же Морфо-Менелай!
Казалось, воздух полон ожившими цветами. У Алёны разбежались глаза. Около получаса она слонялась по двум комнатам, в которых размещался музей, находясь в шоковом, полуопьяневшем состоянии, с разбегающимися глазами, с дурацкой восхищенной улыбкой на лице, разморенная духотой, ярким светом, журчанием воды в фонтанчиках. Наконец присела на табуреточку в уголке, под сенью какой-то — очень может быть, что финиковой — пальмы, и попыталась перевести дух. Сбоку от нее стоял маленький столик, на котором были горкой навалены брошюры под названием «Слово о бабочках».
Алёна открыла книжечку. Это был сборник стихов, коротких очерков и ярких цитат об обворожительных представителях царства животного мира, типа членистоногих, класса насекомых, отряда чешуекрылых — именно так на сугубо замороченном научном языке именовались лепидоптеры, то есть бабочки, Lepidoptera Linnaeus, 1758, что значило: в 1758 году они были описаны Карлом Линнеем. Алёна также узнала, что бабочки делятся на подотряды — бесхоботковые, хоботковые, гетеробатмии, а также первичные зубатые моли. Впрочем, ни одно точное сведение не задержалось в ее голове дольше чем на полминуты, а потому она с детским восторгом перешла к чтению цитат и стихов.
Набоков — само собой! И еще длинное-пре-длинное стихотворение Бродского восхитило Алёну, особенно строчки:
На крылышках твоих зрачки, ресницы — красавицы ли, птицы — обрывки чьих, скажи мне, это лиц портрет летучий?.. Возможно, ты — пейзаж, и, взявши лупу, я обнаружу группу нимф, пляску, пляж… Я думаю, что ты — и то и это: звезды, лица, предмета в тебе черты. Кто был тот ювелир, что, бровь не хмуря, нанес в миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты, как мысль о вещи, мы — вещь сама?О бабочках писал стихи даже «Анакреон под доломаном» Денис Давыдов! Но по сравнению с Бродским они показалось Алёне скучными, и она перешла к прозе. Перелистнула страницы восхищенных словоизвержений английских натуралистов Генри Бейтса и Альфреда Рассела Уоллеса, француза Эжена Ле Мульта, а потом…
«Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жары и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера… Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника… Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки — и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове — и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!»… Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться…»
Этот пылкий рассказ лепидоптеролога о том, как он поймал сачком (рампеткой) знаменитую бабочку Кавалер Подалириус, назывался «Собирание бабочек» и принадлежал перу… Сергея Тимофеевича Аксакова, знаменитого русского писателя, автора «Детских годов Багрова-внука», а также «Аленького цветочка».
Аксаков… Улица Аксакова…
«Так… — сказала себе Алёна. — Так!»
Если у нее еще и оставались какие-то сомнения после «полицейского романа», «капуцинов» и «св. Жо… то есть Георгия», то теперь они совершенно рассеялись.
«Что-то я тут засиделась, — подумала наша героиня решительно. — Пора идти и выяснить отношения!»
— Привет, — раздалось за ее спиной, и она обернулась так резко, что человек даже отпрянул.
— Ого, — сказал Андрей. — Ну и реакция у вас. Как у фехтовальщика. Между прочим, поосторожней, у вас на голове бабочка сидит. И на ремне сумки. Стойте, стойте так! — Он выхватил фотоаппарат и приложился к объективу, бормоча: — Еще дубль… еще… Пришлю фотку по электронке, как всегда.
— Ой, — засмеялся проходивший мимо охранник, — как вы перламутровке понравились! И паруснику тоже!
— Перламутровка Аглая, — отчеканила Алёна. — Парусник Гектор.
— Вы лепидоптеролог? — уважительно поинтересовался охранник.
— С некоторых пор, — без всякого смущения ответила детективщица. — В некоторой степени. А это правда Аглая и Гектор?
— Минуточку… — Охранник махнул рукой. Подошла хранительница, более похожая на гусеницу, которой уже никогда не превратиться в бабочку, и, неодобрительно обозрев Алёнины брючки до колен, сказала, что да — это Аглая и Гектор. Алёна не удивилась, только головой покачала. В жизни бывают совпадения не просто потрясающие, а даже удручающие, что она давно усвоила.
— Ну как, позвонила вам Наталья Михайловна? — спросил Андрей.
Алёна уронила сумку, и парусник Гектор, явно обидевшись, улетел к пальме. За ним последовала, снявшись с Алёниных коротеньких кудряшек, и Аглая. Похоже, она к нему неравнодушна. Ну что ж, Гектор такой мачо среди бабочек — черно-красный с алмазным проблеском, способный разбить сердце любой перламутровки!
— Да почему Наталья Михайловна должна была мне звонить? — пробормотала изумленная Алёна. — По какой причине? Она и координаты мои не знает.
— Знает, знает! Я ей вашу визитку отдал! — сообщил Андрей радостно. — Вы мне нечаянно две дали, они друг к дружке приклеились. Я Наталью Михайловну вчера в гостинице «Октябрьская» встретил. Пришел туда насчет своих постеров, смотрю — она около стойки администратора стоит, а та ей говорит, мол, этого человека трудно застать, он много ездит, но вы можете оставить ему записку, а я передам, и он вам позвонит. Они там еще что-то о времени говорили, но я особо не слушал. Потом Наталья Михайловна повернулась — и мы столкнулись. Я ей сказал, что вы ее ищете, визитку передал… Она так удивилась, что вы писательница…
— Да, — сухо сказала Алёна. — Я ее понимаю.
Так, значит, у Натальи Михайловны еще вчера был ее телефон. Однако она не позвонила.
Хотя нет, кто-то же звонил поздним вечером…
Она? Не она? Выяснить можно, только найдя черный «Форд». Однако сейчас Алёне не до его поисков. До «Октябрьской» ходу десять минут, и даже «подниматься и опускаться» не понадобится.
Она вошла в вестибюль и подошла к стойке:
— Извините, вы не подскажете, в каком номере остановился господин Шведов? Кирилл Шведов.
1918 год
Аглая собралась с силами и дернула за шнурок. Прокатился отдаленный звон, и на уровне ее лица приотворилась малая щелочка. Мелькнул острый карий глаз, прозвучал голосок Глаши:
— Кто там?
— Вам нужна кухарка?
— Ах! — раздалось за дверью радостное, послышался знакомый грохот засовов, запоров, задвижек, замков, а потом перед Аглаей показалось счастливое Глашино лицо:
— Вы в кухарки?
И тотчас на лице горничной мелькнула некая оторопь.
— Не похожи на кухарку-то…
Вот этого Аглая и боялась. Еще в прошлый раз боялась. От того и пошли все ее неприятности!
— Ну, проходите покуда, — не слишком решительно пригласила Глаша. — Пойду узнаю, когда госпо… то есть товарищ доктор смогут тебя… вас принять, чтобы обсудить жалованье… и вообще…
Глаша еще запирала замки, когда дверь приемной доктора отворилась — и на пороге появился высокий, атлетически сложенный господин (назвать мужчину товарищем язык не поворачивался!) с очень красивым, чеканным лицом и тщательно подвитыми усами а la empereur Wilhelm. Его каштановые волосы лежали гладко под шелковой сеткой, бархатный халат сиял атласными отворотами. Кого-то он очень сильно напоминал Аглае, этот незнакомец, вроде бы она совсем недавно видела очень похожего человека…
— Что за шум, Глашенька? — спросил господин приветливо, устремляя взгляд не на горничную, а на Аглаю.
Глаша торопливо зачирикала, объясняя. А доктор смотрел на Аглаю поверх Глашиной головы, и во взгляде его вдруг вспыхнул насмешливый огонек:
— Ну что ж, будем надеяться, вы сумеете сварить порядочный суп из селедочных голов.
— Как прикажете, господин доктор! — пробормотала Аглая, смущенная его взглядом.
— Ну-ну, мадемуазель, зачем уж так официально? — проворковал Лазарев. — Во-первых, зовите меня «товарищ доктор», это более в духе времени. А впрочем, можете обращаться ко мне попросту — Иван Григорьевич.
— Как прикажете, — кивнула она и сделала книксен, после чего взгляд ярких, карих, очень красивых глаз доктора Лазарева мигом переместился в не слишком глубокий, но все же имеющий место быть вырез ее платья.
— Впрочем, не принимайте мои слова насчет селедочных всерьез, — сказал он, снова поглядев в ее глаза. — От души надеюсь, что мы никогда не доживем до поры, когда станем варить столь экзотические супы. На обед сделайте мне баранье рагу. Я вообще большой охотник до баранины, хотя нынче добывать это мясо становится все труднее.
Аглая опять сделала книксен.
— Но до обеда еще далеко, — продолжал доктор Лазарев своим бархатным голосом, — сейчас пройдите в мой рабочий кабинет, я бы желал побеседовать с вами о вашем здоровье. Понимаете, мне нужны в моем доме только здоровые люди. Я массажист и отлично знаю, какое значение для выносливости и работоспособности, для общего самочувствия имеет здоровая спина, шея, плечи. Я хотел бы сначала проверить вашу спинку, плечики, может быть, немного их размять. Прошу, переоденьтесь. А я приму ванну и вернусь! Вы, Глаша, можете идти.
Глаша убежала. Доктор удалился куда-то по коридору, в глубь приватных помещений.
Аглая улучила момент и метнулась в меховые джунгли под вешалкой, где скоро нашла свои вещи. Все было в целости.
Она вошла в приемную и замерла, оглядывая знакомые рисунки на стенах приемной. Доктор велел переодеться. А узелок куда девать? Конечно, можно на стуле оставить, но вдруг придет кто-то из пациентов да и стащит вещички? А ведь там пусть и самые малые, но деньги…
Аглая огляделась — и сунула сверток в большой платяной шкаф, стоявший в углу приемной. Там лежали какие-то узлы, навалены были горой тонкие одеяла и полотенца.
И только она закрыла шкаф и расстегнула платье, готовясь исполнить приказ доктора, как вдруг дверь распахнулась — и в приемную вошла заспанная, с растрепанными волосами женщина в полупрозрачном пеньюаре. Аглая узнала ее с первого взгляда. Да еще бы ей не узнать Ларису Полетаеву!
— Мадам? — несколько опешила Лариса, уставившись на Аглаю, которая так и стояла в платье, расстегнутом до пояса. — Вы что… вы к доктору?
Аглая кивнула. А что ей оставалось делать? Тем более что это было чистой правдой.
— Не рановато ли? — испытующе глянула Лариса. — Девять утра. Насколько мне известно, у доктора прием с одиннадцати. Вы записаны?
Аглая кивнула, ничего не соображая от потрясения.
Заспанная комиссарша, подозрительно вглядевшись в ее лицо, вышла в прихожую и остановилась у столика, на котором, как помнила Аглая, лежала тетрадка, куда Глаша записывала клиенток Лазарева.
— Как ваша фамилия, мадам? — крикнула Лариса из прихожей и раскрыла тетрадь. И тут же, не дожидаясь ответа, воскликнула: — Да нет у него никакой записи аж до полудня! Кто вы такая и что тут делаете?
По коридору меленько протопали торопливые Глашины шаги, донося ее голосок:
— Ваше превосходительство, товарищ комиссар, не извольте беспокоиться. Это наша новая кухарка, она в приемную переодеться зашла. Я вот ей платье несу…
И, словно ангел-спаситель во плоти, в дверях возникла Глаша, которая и в самом деле держала на вытянутых руках темно-коричневое платье и такие же фартучек с наколкой, какие были надеты на ней.
— Ах вот что… — процедила Лариса, мигом теряя к Аглае всякий интерес. — Нашли место для переодеваний, однако. Вы бы еще в кабинете самого Ивана Григорьевича переодеваться решили!
— Как же возможно, ваше превосходительство? — с преувеличенным испугом воскликнула Глаша. — Никак невозможно!
Лариса хмыкнула и удалилась.
Глаша покачала головой, облегченно вздохнула и повернулась к Аглае:
— Ой, я уж думала, она тебе глаза выцарапает. Будь с Иван Григорьичем поосторожней — он ведь ни одной юбки не пропускает, ему все равно, что клиентка, что прислуга.
— И тебя не пропустил? — усмехнулась Аглая.
— Нет, обошлось! — Глашино хорошенькое личико так и расплылось в улыбке. — Говорит, я для него слишком проста. А мне и ладно. Больно нужно, чтобы товарищ комиссарша мне волосы повыдергала!
— А кому она их выдергивала? — с любопытством спросила Аглая. — Доктору? Дамам-клиенткам? Так это ж сколько волос!
— Ты думаешь, к нему только дамы ходят? — покровительственно поглядела на нее Глаша. — Нынешние-то барыни советские, жены теперешних начальников, командиров да комиссаров, они же чурки чурками! Они ж слова такого — «массаж» — в жизни не слышали. Им же скажи — перед доктором раздеться догола — они ж чеку сюда приведут! Нет, дурной нынче клиент, так сам доктор говорит. Народу у нас мало. Редко-редко кто из дам забредет морщины на мордашке разгладить, а то все по большей части мужчины — то радикулит кого разломит, то шею у кого сведет… И все вприпрыжку убегают, просто песни от счастья поют. У нашего доктора руки поистине волшебные, говорят, он вовсе обезножевших заставлял ходить. Что ему какой-то радикулит, в два счета вылечит! Да только мало платят, — Глаша вздохнула. — А если продуктами несут, то такой гадостью, что и в рот не возьмешь. У нас их барахлом целая кладовка заставлена. Ты туда не суйся, это только для блезиру, ежели с обыском придут, так пускай конфискуют. Там горох, керосин, селедка ржавая в газетах завернута… Я тебе потом другую кладовку покажу, потайную. Там и баранина, и мука белая, и масло сливочное, и сыры. Слава богу, господин доктор хорошо живет. Думаю, у него немалые сбережения сохранились от прежних времен. Сытно живет. И прислуге у него сытно!
— Сытно… — повторила задумчиво Аглая. — А все же прежняя кухарка отчего-то уволилась. Или ей товарищ комиссарша волосы выдирала, ревновала ее?
— Вот уж нет! — захохотала Глаша. — Она даже не против была. Я тут такого навидалась… ну чисто содом и гоморра. Но мое дело — сторона. Господа пускай как хотят забавляются, а мне дело делать надо. И ты это тоже усвой, девушка, если хочешь на теплом месте пристроиться. Хотя… чует мое сердце, ты здесь тоже не задержишься.
— С чего ты так решила? — озадачилась Аглая.
— Уж очень ты красивенькая, — простодушно сказала Глаша. — И вид у тебя благородный. Не на кухарку похожа, а на барышню. Или Иван Григорьевич тебя в постель затащит, и тогда товарищ комиссарша тебя со свету сживет, или не затащит и выгонит за неуступчивость. А может, с матросами сбежишь. Как Наташка.
— Какая Наташка? — с самым незаинтересованным видом спросила Аглая, хотя сердце ее так и подскочило.
— Прежняя кухарка. Она тоже вроде тебя была. По виду из благородных. Кофей отменно варила! Как раньше, при царе-батюшке, в кофейне на Большой Покровке подавали. Я-то не пробовала, но так доктор говорил. А вот ни суп, ни кашу она толком сварить не могла. Но Иван Григорьевич никогда ее не бранил, видать, сильно она ему нравилась. И что ты думаешь? Наташка возьми да и сбеги с матросом! Ну, уж у него-то снисхождения не жди, он небось не потерпит подгорелой каши!
— Да разве матросы кашу едят? — изумилась Аглая.
— А что ж они, по-твоему, едят? — не меньше изумилась Глаша. — Кашу, само собой. Пшенки котел наварят — и ну наворачивать.
— Не понимаю, — вернулась Аглая к теме, которая волновала ее гораздо больше, чем матросское меню, — почему товарищ комиссарша не ревновала прежнюю кухарку к господину доктору?
— Сама не знаю, — сказала Глаша. — Я тоже об этом думала. Но они как подружки были. Бывало, сядут вдвоем в гостиной — и все болтают или шепчутся о чем-то…
Да, загадочно. То, что Лариса была хорошо знакома с Натальей, Аглая давно поняла. Но в чем секрет такой нежной привязанности?
— А товарищ комиссарша с господином доктором давно знакома?
Задавая каждый новый вопрос, она страшно боялась, что Глаша не захочет отвечать. Но та, видимо, просто истосковалась по возможности почесать язычок, поболтать о странностях хозяина и тараторила, как из пулемета строчила. Следовало только опасаться, что вот-вот войдут предметы неистовых сплетен — и интересному разговору будет положен конец.
— Да уж давненько! — кивнула Глаша. — Думаю, они и раньше знакомы были, еще до тех пор, как доктор в Нижний переехал. Сколько раз слышала: они то Москву вспоминают, то Петербург, то Варшаву, то разную заграницу. Я и названий таких не знаю. Париж… Да разве это мыслимо — побывать в Париже! — Глаша всплеснула руками. — А они были.
Аглая понимающе вздохнула.
— Я тебе вот что скажу, — с таинственным видом прошептала вдруг Глаша. — Они очень давно знакомы, еще с молодых лет. Я сама слышала, как однажды товарищ комиссарша кричала: «Я тебе свою молодость отдала, свою девичью молодость, а что получила взамен? Дурную славу! А сейчас? Не могу больше! Надоело! А ты ведь говорил, что бросишь к моим ногам весь мир!»
— А он? — едва смогла выговорить потрясенная Аглая.
— А он уговаривает ее. Мол, осталось потерпеть немного, вот-вот они с Хмельницким работу закончат и ее, комиссаршу-то, повысят, и тогда она сможет добиться в Наркомате иностранных дел всего, чего угодно. Их и за границу выпустят, и то, и се.
— И что она в ответ?
— Говорит, мол, это будет ее рук дело, сам же он палец о палец не ударил.
— А он?
— Ну, он возмущается: ничего себе, палец о палец не ударил! А чья ловкость рук обеспечит тебе королевскую жизнь? Замок, авто, бриллианты… Только знаешь, что я думаю?
— Что?
— Врет он все. Ну и много ли он массажами своими заработает? Нет, ничего не говорю, мы тут живем — грех жаловаться. Но чтоб замок и авто… И чтобы бриллианты… Вранье!
В это мгновение вдруг зазвенел, знакомо-припадочно зашелся колокольчик в прихожей. У Глаши мигом сделались испуганные глаза, она опрометью понеслась к двери — и оттуда донеслось ее аханье:
— Кто? Ты-ы? Да как ты могла, бесстыжие твои глаза… Да еще со своим красным матросом… — И тут же Глаша испуганно взвизгнула и принялась, грохоча засовами, отпирать двери, приговаривая: — Сейчас, сейчас, только уберите, Христа ради, вашу бомбу, господин капитан!
Аглая шагнула было к прихожей посмотреть, что там происходит, но тут входная дверь распахнулась, чуть не пришибив ее, и в приемную ворвалась Наталья, кинулась в сторону кабинета. Следом саженными шагами двигался огромный рыжий матрос Гаврила Конюхов, досрочно и явно незаслуженно повышенный Глашей в звании. В одной руке он сжимал огромную деревянную, по-бутафорски неуклюжую гранату, в другой — «маузер».
Аглая поняла, что времени жить у нее осталось полминуты, даже меньше. Ровно столько понадобится Наталье, чтобы обнаружить, что в кабинете никого нет, обернуться, развернуть шагавшего за ней Гаврилу — и увидеть Аглаю, застывшую за дверью приемной. Конечно, Наталья немедля узнает ту, которая вчера самым роковым образом вмешалась в задуманный ход событий, и вряд ли станет тратить слова на выяснение с ней отношений. Крикнет Гавриле: «Стреляй!» — и тот беспрекословно послушается.
Аглая не стала ждать. Чуть только широченная, перекрещенная ремнями портупеи и пулеметными лентами спина Гаврилы Конюхова исчезла в дверях кабинета, как она вскочила в тот самый шкаф, куда уже сунула свою одежду, и притворила изнутри дверцу.
С одной стороны, со вчерашнего дня с Аглаей Донниковой произошло огромное, просто-таки неправдоподобное количество приключений. С другой стороны, некоторые из них имели свойство повторяться. Например, меньше чем за сутки ей выпало дважды прятаться в платяном шкафу.
Сейчас настал третий раз — ведь Бог, говорят, троицу любит.
Аглая замерла, припав к щелке, оставшейся между неплотно сомкнувшимися дверцами, и пытаясь понять, что происходит в приемной. А происходило вот что.
Наталья и Конюхов выскочили из пустого кабинета, и тут в приемную вбежали Лариса Полетаева и доктор Лазарев. И оба они при виде воинственной пары воскликнули:
— Ну что, нашли его?
Сердце Аглаи пропустило один удар, потому что не было никаких сомнений, о ком идет речь. И пропустило оно также второй удар, потому что Гаврила самодовольно хмыкнул, а Наталья возбужденно буркнула:
— Это он нас нашел. Я же говорила, что надо сидеть несходно и ждать, вот он и пришел.
— Премудрые китайцы уверяют, что если долго сидеть на берегу и ждать, то мимо непременно проплывет труп врага, — с улыбкой в голосе сказал Лазарев. — И где он?
— Его Учкасов в автомобиле караулит, — отозвалась Наталья, и в голосе Лазарева зазвучало изумление:
— Труп? Вы привезли его сюда? Зачем? Скинули бы в Волгу с откоса, да и все!
— Не так все просто, — сказала Наталья. — Пока еще не труп, а живой Гектор.
Аглая с мучительным усилием перевела дух, и только страх быть замеченной удержал ее от того, чтобы не зарыдать от внезапно нахлынувшего, ослепительного счастья.
И тут же ей пришлось напомнить себе, что человек, заставивший ее преисполниться счастьем, — коварный убийца, бандит, разбойник.
Напомнила. Устыдилась. Сердце продолжало колотиться как бешеное.
Он жив! И она была счастлива.
— Да вы что? — заорала Лариса Полетаева. — С ума сошли? Не надоело еще с ним возиться?
— Погоди кричать, Лара, — устало проговорила Наталья. — Я же говорю, все не так-то просто!
— Но мы же договорились, что, как только он придет к камню, вы его немедленно прикончите! — снова взвизгнула Лариса.
— Да угомонись ты! — уже грубо окрысилась Наталья. — Дай слово сказать.
— Ларочка, — с хрупким спокойствием проговорил доктор Лазарев. — Ну что ты, в самом-то деле? Пусть Наташа расскажет.
«Очень интересно! А ведь доктор Лазарев, кажется, очень активно всем здесь заправляет… И никого это не удивляет… И он все знает о Гекторе… Он с ними заодно, вот что! — думала Аглая. — Не только с Ларисой, но и с Натальей, и с матросом! И он для них командир, начальник…»
— Итак, вы ждали его у камня, и он пришел-таки, — подсказал доктор. — Что было дальше?
— Прийти-то он пришел, но на глаза нам не показался, — заговорила Наталья. — Это было перед самым рассветом, мы уже устали ждать, не верили, что он появится, отчаялись, кое-кто уже дремал. А тут вдруг он, да еще не с той стороны, откуда мы его ждали. Пальнул в воздух и кричит: «Я знаю, где бабочки Креза! Я написал про все письмо и оставил его у надежного человека, он наблюдает за вами! Если вы меня убьете, письмо через час уже будет у Хмельницкого! И тогда вам конец!»
— Гектор о нейговорил, — простонала Лариса. — О той девке, которая влезла сюда и забрала мою одежду. Она его сообщница с самого начала была. Я же говорила, а вы мне не верили. Случайность, случайность… Какая, к чертям, случайность? Нас кто-то продал, я сразу говорила!
— Но кто, Лариса? — с усталой безнадежностью проговорил Лазарев. — Ни ты, ни я, ни Наташа, ни Конюхов не могли. Значит, все же Хмельницкий. Но ведь нонсенс! Он так же, как все мы, заинтересован в уничтожении Гектора! Он и придумал план, как выманить его из укрытия и устроить ему ловушку в его же собственном доме! Гектор хотел захватить Ларису, чтобы вызнать у нее, где находится коллекция Креза. Он считал, что об этом знает Хмельницкий, а Лариса в курсе всех его дел. Гектор был уверен, что Наталья в моем доме только трудится на кухне и выслеживает Ларису. — Доктор сардонически хмыкнул. — Наталья сообщила ему время, когда якобы можно захватить Ларису. Гаврила и Учкасов дали возможность людям Гектора увести у них автомобиль, и по следу автомобиля тайно шел отряд Хмельницкого. Они должны были захватить Гектора на месте преступления — как белобандита, который похитил красного комиссара, и шлепнуть его на месте. Хмельницкий не мог знать, что Гаврила тоже был готов идти по следу похищенной Ларисы со своими анархистами. Конюхов вполне мог решить, что люди Хмельницкого — переодетые бандиты, и в завязавшейся перестрелке Оська был бы убит… Конечно, — теперь в усмешке Лазарева появилась нотка конфуза, — это было бы не совсем порядочно по отношению к Хмельницкому, но ведь пуля на войне не выбирает. И к тому же я вполне отдаю должное его уму. Его план был и в самом деле хорош — нам удалось одурачить Гектора. Если бы не план Хмельницкого, Гектор бы продолжал шататься со своими дружками по лесам. А так мы…
— А так вы решили убить сразу двух зайцев, — послышался голос, при звуке которого сердце Аглаи не просто пропустило удар, а вроде как даже совсем перестало биться. Потому что это был голос Гектора. — Причем у каждого из вас: у Хмельницкого, у Ларисы и доктора, у Натальи и Конюхова — зайцы были свои. Но одна величина оставалась неизменной, одним зайцем в каждой паре был именно злополучный Гектор. Я вам здорово насолил, верно? Каждый из вас тянулся к бабочкам Креза, но вы знали, что, пока я жив, никому из вас не удастся спокойно владеть драгоценностями. Вы знали, что я на все пойду, дабы вернуть их тем, кому они по праву принадлежат! Положи оружие, Конюхов! Быстро!
Послышалось сдавленное рычание, потом стук — надо думать, Конюхов опустил на пол «маузер» и гранату.
— Отойди подальше! — приказал Гектор. — Вон туда отойди!
— Какого черта… — послышался голос Лазарева, в котором клокотало тихое бешенство. — Что за балаган? Как он сюда попал? Вы же сказали…
— Наташка, что это значит? — истерически завизжала Лариса.
— Ох, змей проклятущий… — с тихой яростью выговорила Наталья. — Как же ты веревки развязал? Как от Учкасова избавился?
Вопрос адресовался Гектору, однако тот молчал.
— Ваш Учкасов оказался довольно разумным человеком, — послышался другой голос, и Аглая подумала, что, если бы она писала пьесы, скажем, как Антон Павлович Чехов, или Максим Горький, или Александр Николаевич Островский, то сейчас настало бы самое время для ремарки: «Те же, и Хмельницкий», потому что голос был именно Оськи Хмеля. — Он, оказывается, давно смекнул, что анархия — весьма блудная мать очень недолговечного порядка, и только и мечтал порвать с вашей полубезумной вольницей. Я прочел это в его глазах и, пользуясь суматохой, во время которой вы искали сообщницу Гектора в его доме, перекинулся с Учкасовым словцом-другим. Так что со вчерашнего дня он потихоньку докладывал мне обо всех ваших замыслах. Именно он дал мне знать, что Гектор в ваших руках. Стоять смирно, Конюхов! Забудь о своей пушке! Ты можешь, конечно, продырявить мне голову, но ты должен знать, что я умею делать выводы из ошибок и больше никогда не окажусь в компании с вами, но с меньшим количеством вооруженных людей в арьергарде. Дом обложен. Вам отсюда не выйти, господа, а также товарищи! Если только я сам не отдам приказ своему отряду убраться.
— А что, существует хотя бы гипотетическая возможность того, что вы можете отдать подобный приказ? — осторожно поинтересовался Лазарев.
— Я умный человек, — важно заявил Хмельницкий. — И не только Учкасову, но и мне наскучила жизнь без всякой уверенности в завтрашнем дне. Насколько я понимаю, наскучила она также и вам, доктор, и вам, Лариса… Ну и Наталье с Конюховым — само собой. И для того, чтобы эфемерный завтрашний день обрел реальные очертания, всем нам нужно только одно: твердый базис под настройкой нашего существования. Все согласно учениям классиков марксизма-ленинизма. Бытие определяет сознание! Однако для нашего сознания мы желаем самого наилучшего бытия, верно? А создать наилучшее бытие могут только деньги. Причем не советские рубли, не керенки, даже не бумажные ассигнации Российской империи, а некие прозрачные камушки, которыми битком набита коллекция Креза, всем нам очень хорошо известная. Но нашим планам мешает, как всегда, только один человек. Мешал, хочу я сказать… Отдай мне свой «наган», Гектор! Ну! Ты меня знаешь, я прошу только раз.
— Что это значит? — хрипло проговорил Гектор. — Я думал, мы с тобой заключили союз. Я рассказал тебе все, что знал, рассказал про завещание Креза. И ты дал слово помогать мне! А теперь снова предал?
— Ну ты, паря, нашел, кому верить, — пробурчал Гаврила Конюхов, доселе хранивший молчание. — Я понимаю, обложили тебя со всех сторон, как того волка, ты готов и в западне спасения искать. Но верить Оське Хмелю… Он же иуда продажный!
— А ты не продажный? — хмыкнул Хмельницкий. — Ты чист и светел, как революционный буревестник? Сколько потребовал отступного, чтобы доктору старшую сестру отдать, а самому к младшенькой притулиться?
Аглая успела прижать руки к губам и заглушить вскрик изумления, но у Натальи он вырвался-таки!
— Кто тебе сказал? — прорычала Лариса. — Кто?!
— Я, — послышался угрюмый голос Гектора. — Вы обе так себя вели там, в моем доме, что я заподозрил неладное. Между вами была какая-то связь. Причем очень прочная. Я прикинул кое-какие даты, кое-какие слухи. Я ничего не знал, история слишком старая. Но был один человек… тоже старый. Он мог все знать. Я пошел к нему, и он ответил мне на мой вопрос.
«И в благодарность ты убил его, — горько подумала Аглая. — Убил и сжег старые письма, которые он тебе показал…»
Она вспомнила обрывки горелой бумаги в доме Льва Борисовича Шнеерзона:
«…Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград, здесь все же самую чуточку спокойнее. Но я бы хотел вернуться в Нижний, город для меня… хоть и много позора…»
«Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю… моя дочь… судьба ее очень меня беспокоит… оставил ради… получил за это, кроме горя и стыда? И если бы не ты и…»
«…умерла неделю назад, я остался вдовцом, бездетным, одиноким, никому не… ни одной из… может быть, только вам, мои верные, дорогие дру…»
Это писал Шнеерзону отец Ларисы. А Гектор вскользь рассказал Аглае, что Лариса пошла в отца, что у Владимира Проскурина было множество связей, были даже внебрачные дети от его тайных любовниц. Одной из таких тайных любовниц оказалась мать Натальи. Она была дочерью женщины, много лет служившей у Шведовых. Неудивительно, что отец Кирилла помог и ей, и старинному другу. Наталья, дочь Проскурина и единокровная сестра Ларисы, росла, ничего не зная о своем отце. Она влюбилась в молодого Шведова, родила от него дочь… Отец вспоминал ее, судьба ее тревожила его, он раскаивался, что бросил девочку ради старшей дочери, которая принесла ему только позор и горе. После смерти жены он не был нужен ни одной из своих дочерей. Да и сестре Наталья была не слишком-то нужна — до тех, видимо, пор, пока Лариса не узнала, что она — подруга того самого Гектора, который охотится за шкатулкой Креза. Тогда она умудрилась прибрать к рукам сестричку, посулив ей, конечно, такие деньги, которые никогда не дал бы Наталье фанатичный бессребреник Гектор. И Наталья предала отца своей дочери…
Аглая тяжело вздохнула.
Ну ладно, Наталья и Лариса — редкие твари, истинные гарпии, а Кирилл раньше казался Аглае благородным, как настоящий Гектор. Но за что и почему он убил Шнеерзона, который открыл ему тайну сестер, столь для него важную? В попытках объяснить эту необъяснимую жестокость можно было голову сломать!
* * *
Алёна была почти убеждена, что все угадала правильно. Но, однако же, поразилась, когда администратор не спросила, кто такой Кирилл Шведов, а ответила безразлично:
— В пятьсот тридцать шестом. На пятом этаже. Так, ключа нет… Кажется, он у себя.
Вот именно — у себя. Так же он сказал и тем вечером: спуститься, подняться — и я у себя. Когда человек идет домой, он так не скажет. А вот про гостиницу — легко!
Алёна пошла на пятый этаж пешком. Знакомство с лифтом гостиницы «Октябрьская» оставило по себе не самые добрые воспоминания! Сейчас засесть в нем было бы совершенно некстати. К тому же ей надо было собраться с мыслями, а для подобного нет лучше средства, чем пешая прогулка.
Она вошла в коридор и оказалась почти напротив пятьсот тридцать шестого номера. Вот и отлично, можно избежать разговоров с дежурной: ее столик чуть поодаль, напротив лифта, она там болтает с каким-то высоким мужчиной, ничего не замечает.
Алёна осторожно подняла руку, чтобы постучать в дверь номера, как обнаружила, что она открыта. Тронула ее — дверь отворилась.
— Можно? — негромко спросила Алёна.
Никто не ответил. Она заглянула в номер, а потом и осторожно вошла. Крохотная прихожая пуста, и в комнате пусто. На стул брошена серая замшевая куртка… Знакомая куртка, между прочим! На столе стоял фирменный пакет магазина «Дирижабль», а в нем несколько книг, в том числе потрясающе красивое издание: «Бабочки в мифах и легендах».
Алёна перелистала несколько страниц… Эх, будь у нее эта книжка, когда она мучилась с разгадкой значений бабочек, насколько быстрее пошло бы дело!
«Надо буквально сегодня-завтра сходить в «Дирижабль», — решительно сказала себе Алёна. — Может, там найдется еще экземпляр. А если нет, закажу, пусть мне из Москвы привезут. Ну и пусть дело прошлое. Она будет мне напоминать об Аполлоне и Мнемозине, о Менелае и обо всех прочих».
Ей захотелось рассмотреть книгу получше, но тут из коридора донеслись приближающиеся шаги. И тогда Алёна, сама не зная почему, ужасно перепугалась. Когда шла сюда, была в себе совершенно уверена. Но при звуке шагов… и представив себе, кого она сейчас увидит… в общем, ей показалось, что, явившись к Кириллу Шведову без всякого предупреждения, она совершила ужасную глупость. Но, вспомним Митю Карамазова: «Если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами». Вот и Алёна вместо того, чтобы кинуть «Бабочек в мифах и легендах» на стол и чинно застыть посреди комнаты, книжку-то кинула, а сама кинулась… в стенной шкаф. И затворила за собой дверцы, и замерла, немедленно осознав, какую глупость спорола, и отчаянно желая, чтобы шаги как шли, так и прошли мимо двери номера, чтобы она успела из шкафа выбраться и принять независимый вид.
В шкафу принять означенный вид никак не удавалось — может быть, оттого, что его некому было оценить. Вдобавок Алёна обнаружила висящий на вешалке спортивный костюм, который тоже был ей знаком. Можно было бы порадоваться своей догадливости, когда б та самая догадливость не подсказывала: сейчас вернется хозяин, увидит на стуле куртку и захочет повесить ее в шкаф на плечики. Откроет его и… и Алёне придется объяснять, как она попала в шкаф и как догадалась о том, что он — Кирилл Шведов, сын Владимира Кирилловича и внук Кирилла Владимировича Шведовых. Он, конечно, дико удивится!
Тут внезапно раздался стук, и сейчас сама Алёна дико удивилась тому, что Кирилл Шведов стучит в собственный платяной шкаф. Как бы просит разрешения: «Многоуважаемый шкаф, окажите любезность, позвольте повесить в вас мою замшевую куртку!»
В следующую минуту до нашей героини дошло, что она немножко рехнулась с перепугу. Вовсе не Шведов стучал в свой шкаф, а кто-то неизвестный стучал в дверь его номера.
Вот он быстро прошел по коридору, открыл, до Алены донесся голос Шведова:
— Вы? Здравствуйте…
— Здравствуйте. Прошу прощения за внезапный визит, — произнес женский голос.
Бог ты мой… Писательница онемела от неожиданности. Да ведь последний принадлежит Наталье Михайловне Кавериной! Алёна совершенно пропустила мимо ушей слова Андрея о том, что он встретился с Натальей Михайловной именно в гостинице. Наверняка она приходила узнать, когда можно застать Шведова «у себя». И надо же такому случиться, что ее принесло именно теперь! И что делать? Объявиться? Или остаться сидеть в укрытии и молча слушать?
— Проходите, Наталья Михайловна, — произнес господин Шведов без тени удивления в голосе. — Только почему вы думаете, что ваш визит такой уж внезапный? Я вас ждал.
— А, понятно, администратор сказала, что я вас спрашивала.
— Нет. Просто я не сомневался, что рано или поздно вы разгадаете мои намеки и придете.
— Чушь все эти ваши намеки! — гневно воскликнула Наталья Михайловна. — Бабочки какие-то… Зачем вы их рисовали?
— Ага, значит, отец был прав, когда предполагал, что вы можете не знать, какие именно бабочки были изображены по заказу Креза, — ответил хозяин номера. — Поэтому он и приложил к своему письму список.
— Да я его и в глаза не видела, тот список, — фыркнула Наталья Михайловна. — Его зачем-то прикарманила ваша подруга, которую я по глупости попросила мне помочь.
— Подруга? — удивленно переспросил Кирилл. — Моя подруга?
— Ну писательница эта, как ее там… Алёна Дмитриева!
— Извините, а вы ничего не путаете? — осторожно проговорил господин Шведов. — У меня нет знакомых писателей в России.
— Да я же вас вчера рядом с ней видела! — зло проговорила Наталья Михайловна — и осеклась.
«Ага! — чуть не заорала Алёна в шкафу. — Вчера я единственный раз оказалась рядом с Кириллом. Как раз около парикмахерской, где меня пытался пришпилить к стене черный «Форд»!
Ну что ж, как уверял некогда товарищ Вышинский, признание обвиняемого — царица доказательств. А ведь он был прав, ей-богу!»
— И все-таки я не совсем понимаю, — вежливо сказал Кирилл, похоже, не обративший внимания на «царицу доказательств». Значит, не вышло бы из него звезды сыска. — Впрочем, не суть важно. Итак, вы не получили список. И все же вы не раз видели бабочек, в чем я ничуть не сомневаюсь. Неужели вас не заинтересовало, что это за бабочки, как они называются?
— При чем тут бабочки? — неприязненно проговорила Наталья Михайловна. — Совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Чего вы хотели добиться, рисуя ваши дурацкие картинки?
— Меня вдохновила вывеска парикмахерской, которая находилась около вашего дома. Парикмахерская называется «Мадам Баттерфляй», а изображена была бабочка Крез Валлас. Точно такая же находилась и в коллекции Креза. Она была как заглавие к роману, понимаете? И я нарисовал Зефира бриллиантового и сапфирового Менелая как намек на ваши серьги, о которых мне рассказал мой отец. Вы приходили к нему, он хорошо рассмотрел серьги. «Подозреваю, что некоторым бабочкам уже пришел конец, — добавил он с грустью. — В судьбе Зефира и Менелая я почти не сомневаюсь! Думаю, камни именно из них носит в ушах внучка Ларисы».
— Дочка Ларисы, — поправила Наталья Михайловна.
— Конечно, конечно, — согласился Кирилл. — И все же… А впрочем, мы поговорим об этом чуть позже. Я, наверное, больше не рисовал бы ничего, но случайно увидел вас около бабочек. А потом рисунок исчез. Ну кто его мог смыть? Зачем? И я понял, что вы попались на удочку.
— Вы несете чушь! — запальчиво выкрикнула Наталья Михайловна, и Алёна подумала, что «чушь», похоже, ее любимое слово, но Кирилл продолжал:
— Отец написал вам, что мы знаем все. И, уезжая — его ждали неотложные дела, — просил меня довести дело до конца. Я, собственно, ждал, что вы, прочитав письмо, позвоните мне или придете, ведь в письме были мои координаты. Но вы затаились. И тогда я решил бросить вам вызов, нарисовав Аполлона как знак света, который озарит бездны вашей памяти — Мнемозины.
Алёна в шкафу взяла себя правой рукой за левую и прочувствованно пожала.
«Молодец, писательница! — с уважением сказала она себе. — Умница, детективщица! Есть еще порох… et cetera еt cetera…»
Наталья Михайловна промолчала.
— И я продолжал ждать, — вздохнул Кирилл. — Но сначала снова напомнил вам о себе, нарисовав Сфинкса и Ипполиту. Лариса Полетаева всегда представлялась мне в образе кровавой, жестокой амазонки. Ну а Сфинкс был намеком на то, что вы совершенно неправильно пытаетесь решить загадку своих предков. Вы хотели узнать имя своего деда — отец назвал вам его. Вы не поверили, да?
— Конечно! — энергично согласилась Наталья Михайловна. — Ведь он утверждал, что Кирилл Шведов, который обрек мою семью на скитания, который выдал моих близких в НКВД… что именно он — мой дед… Да я просто не хочу повторять подобную чушь!
«Господи боже!» — воскликнула про себя Алёна. Тут же она вспомнила, что не стоит поминать имя Господне всуе. Но наша героиня и вообразить не могла, сколько раз еще помянет его!
— Послушайте, Наталья Михайловна, — начал было Кирилл примирительно. — Вы выросли с сознанием, что ваши предки…
— Я не желаю слушать ни единого слова, ни единого дурного слова о них! — кипятилась та. — Мне только нужно знать, кто был отцом моей матери!
— Ну, на данный вопрос вам ответили, — парировал Кирилл. — И я готов повторить это хоть сто раз: отцом вашей матери был Кирилл Шведов. Так что мы с вами кузены. Троюродные брат и сестра, говоря по-русски.
«Господи боже!» — снова не удержалась от мысленного восклицания Алена в шкафу.
— Вы можете измышлять все, что угодно, — высокомерно проговорила Наталья Михайловна. — Бабочки, родственники, имена…
— А кстати, о бабочках, — перебил ее Кирилл. — Затем я нарисовал Гарпию и Атропос. То как раз и был намек на сестер.
— Ну да, ну да, я читала в письме вашего отца, — высокомерно усмехнулась Наталья. — Очередные домыслы, которым невозможно поверить. И что должно было появиться нынешней ночью? Какие бабочки?
— Гектор и Аглая, — проговорил Кирилл.
— А это кто такие? — устало спросила Наталья Михайловна. Если бы Алёна не должна была соблюдать конспирацию, она задала бы тот же вопрос.
1918 год
Аглая от злости даже стукнула кулаком в стенку… и ее словно кипятком обдало. Господи… Она так увлеклась своими размышлениями, что совершенно забыла, где находится! Она же сидит в шкафу и подслушивает разговор людей, на каждом из которых стоит клеймо «убийца». Если кто-то услышал грохот… если они сунутся в шкаф…
Ну, тогда вполне можно будет произнести то слово, что Гектор сказал бедному болтливому Семе: софим. Конец.
Интересно, кто ее пристрелит?
Жар, в который бросило Аглаю, сменился леденящей стужей. Теперь ее затрясло. Почти не дыша, крепко зажмурившись, она ждала, что дверца шкафа вот-вот распахнется. Ну да, уже слышны чьи-то шаги, приближающиеся к ней. И вот сейчас…
Но время шло, а дверца не распахивалась. Неужели никто ничего не слышал? Неужели ей повезло?
Получалось, что так.
Аглая наконец осмелилась приоткрыть глаза и снова приблизиться к щели. И еле сдержалась, чтобы не ахнуть: почти вплотную к шкафу находилась чья-то спина. Спина была обтянута выгоревшей гимнастеркой и туго перехвачена ремнем. За ремнем торчал маленький револьвер.
Аглая тупо смотрела на него. Потом вдруг увидела руку. Рука скользнула за спину, легко вынула револьвер из-под ремня и подсунула к дверце шкафа.
Как во сне, Аглая потянулась к щели дрожащими пальцами и приняла оружие.
Спина какое-то время еще помаячила перед дверцей, потом отодвинулась, и перед ошеломленной Аглаей снова открылся некоторый обзор.
Она приникла к щели, прижимая к груди маленький револьвер.
Итак, расстановка сил наблюдалась такая: доктор с Ларисой в одном углу, Конюхов с Натальей — в другом. Входную дверь перекрывает Хмельницкий. Он один. Чуть в стороне стоит Гектор. Из всех вооружен только Хмельницкий, причем и «маузером», и «наганом» — тем, который он отнял у Гектора. А второй свой револьвер — небольшой, можно сказать — карманный «велодог» с выпуклым круглым, полностью заряженным барабаном, — Гектор только что отдал… Аглае.
Ну да, она не могла не узнать эту спину, эту руку…
Но Гектор! Как он мог догадаться, что Аглая затаилась в шкафу? Ладно, предположим, услышал стук. Но догадаться, что там скрывается она… Уму непостижимо! Немыслимо!
Или он просто предположил, что человек, который таится в шкафу и боится показаться доктору, Ларисе и Конюхову с Натальей, автоматически становится его союзником? Может быть. И все же… вот так отдать свое единственное оружие бог весть кому, наудачу… Зачем?
Она никогда его не понимала! Никогда в жизни!
И тут Аглая почти с ужасом вспомнила, что знает его всего какие-то сутки. Даже, кажется, меньше. Да, что и говорить, слова о жизни вполне применимы к истекшему периоду…
И что ей делать с этим «велодогом»? Вот разве что чуть придержать створку дверцы шкафа, чтобы щель стала пошире?
Аглая так и сделала. И как раз вовремя — Хмельницкий вдруг навел ствол «маузера» на Гектора и с улыбочкой приказал:
— Товарищ Конюхов, сделай милость, обыщи-ка его. Кто его знает, какие тайники у него в карманах и сапогах!
Показалось Аглае или в самом деле обращенная к ней щека Гектора вдруг побледнела? И почему-то вспомнилось, как он сидел на крылечке дома Льва Борисовича Шнеерзона и переобувался.
Гаврила вразвалочку приблизился к Гектору и с такой силой охлопал его своими мощными ладонями, что тот закачался, как дерево в бурю. Гаврила даже заставил его снять сапоги и портянки размотать. Ничего в сапогах, впрочем, не оказалось. Так же, разумеется, как и за ремнем, перетягивавшим его гимнастерку.
Гектор знал, что обыск неминуем, догадалась Аглая. И воспользовался почти призрачным шансом избавиться от револьвера. Но ведь он не просто так его в шкаф сунул! С тем же успехом он мог отдать его и Гавриле — все равно не воспользоваться. Значит, он рассчитывал на помощь человека, который прятался в шкафу? На ее помощь? Он знал? Догадывался? Почувствовал? Ему сердце подсказало?
Ну вот никто, никто не знает, чего только она не отдала бы за то, чтобы именно сердце подсказало ему… А впрочем, ничего-то у нее не было, чтобы отдавать. Да и кому?
Гаврила отошел от Гектора с разочарованным выражением лица:
— Пусто.
— Вот и ладно, — кивнул явно довольный Хмельницкий. И тут же навел «маузер» на Лазарева, предостерегающе прикрикнул:
— Эй, доктор! Руки!
— Да я только закурить хотел. — Лазарев вынул из кармана халата тяжелый, тускло отсвечивающий золотом портсигар, демонстративно открыл, достал папиросу и взял в зубы. Снова опустил руку в карман.
Хмельницкий напрягся. Доктор вынул узенькую коробочку, нажал на нее — в ладони, чудилось, сверкнуло пламя…
Грянул выстрел.
Со стены за головой доктора посыпалась штукатурка.
В коридоре раздался истерический визг Глаши, но войти в приемную она не решилась.
Все стояли бледные.
— Черт! — наконец выговорил доктор Лазарев. — Это была всего лишь зажигалка. Хмельницкий, вы спятили, что ли? Если вы будете стрелять в меня каждый раз, когда я захочу закурить, то, знаете ли, изрешетите здесь все стены. Я сейчас нервничаю, а когда я нервничаю, я беспрестанно курю.
— Положите тогда и папиросницу вашу, и зажигалку на стол, — скомандовал Хмельницкий. — А то кто вас знает, может, у вас в другом кармане револьвер лежит… Меня, знаете ли, не проведете, навидался я таких хитростей, сам хитер!
Огонек, сверкнувший в ладони… восклицание: «Черт!»… Аглая вспомнила рассказ девочки Вари.
Просто не верится! Неужели… неужели Варя видела Лазарева? Но зачем Лазареву убивать Шнеерзона?
А зачем Гектору убивать Шнеерзона?! Почему ей в это поверилось? Потому что была окровавленная надпись с его именем.
И все же: «Черт!»… огонек в ладони…
И еще слова Гектора о завещании Креза, на которые, кажется, никто не обратил внимания. Никто, кроме нее.
А что такое может быть с завещанием? Гектор говорил, что по нему шкатулка Креза принадлежала Вите Офдоресу. Так что доктору Лазареву нечего суетиться. Тогда почему Гектор вдруг вспомнил о завещании? Почему сказал сейчас о нем Хмельницкому? Что-то тут не так…
— Позвольте спросить, ваша зажигалка на бензине работает? — раздался голос Гектора. — И хорошо ли горит?
— На бензине, — любезно отозвался Лазарев. — А горит хорошо, да только пламя слишком яркое, мигом горючее съедает. И бензин то и дело вылиться норовит. Эффектная вещица, но спички надежней будут.
— Бензин вылиться норовит… — задумчиво повторил Гектор. — Так, значит, это вы жгли бумаги в доме Шнеерзона? Там кое-где остались валяться листки, а на них разводы бензиновые. Зачем жгли бумаги?
Аглая тихо ахнула.
Доктор надменно вскинул голову:
— Да не сошли ли вы с ума, голубчик? Какие бумаги? Какого Шнеерзона? В жизни не слышал ни о каком Шнеерзоне!
— Что за опасность была для вас в старых письмах отца Ларисы? — продолжал Гектор, глядя на доктора.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — высокомерно отозвался Лазарев. — Для меня лично там и в самом деле не было никакой опасности.
— Ой ли? А если подумать?
Гектор сунул руку в карман галифе — «маузер» Хмельницкого конвульсивно дернулся, однако выстрела все же не последовало — и достал какие-то обгорелые обрывки. Несколько упало на пол.
— Попрошу тут не мусорить, — проворчал Лазарев.
— Не мусорить, значит? — хмыкнул Гектор. — Ах вы наш чистюля! Руки побоялись запачкать, вот и не пошарили в камине Шнеерзона, не проверили, все ли сгорело. А сгорело не все. — И он прочел, с трудом разбирая слова:
«…Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград, здесь все же самую чуточку спокойнее. Но я бы хотел вернуться в Нижний, город для меня… хоть и много позора…»
«Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю… моя дочь… судьба ее очень меня беспокоит… оставил ради… получил за это, кроме горя и стыда? И если бы не ты и…»
«…умерла неделю назад, я остался вдовцом, бездетным, одиноким, никому не… ни одной из… может быть, только вам, мои верные, дорогие дру…»
«Лариса связалась с самым настоящим бандитом, мало того, что он разыскивается полицией за… его фамилия как нельзя более соответствует его патологической страсти… это Ганс… а она теперь зовется Ларисой Берлянт, и это ирония… наш бог мстителен, и я уверен, что таково его отмщение мне за то, что я отрекся от него и…»
«Лариса Берлянт! Господи милостивый! Лариса Берлянт! Да…» Аглая схватилась за голову.
Про револьвер в руке она забыла, а потому довольно чувствительно стукнула им себя по лбу. Но этот удар был ничто по сравнению с тем ударом, который получил ее ледяной и беспощадный разум. Эх, она ведь тоже побоялась запачкать руки. Она тоже не потрудилась заглянуть в камин! Ушла, а потом появился Гектор и нашел-таки ответы на все свои вопросы.
Стоп! Что за мысль у нее мелькнула? «Ушла, а потом появился Гектор…» То есть она уже допускает, что он появился посленее? Когда Шнеерзон ужебыл убит? Но как же тогда быть с окровавленным именем Кирилла Шведова, окровавленным «Археологическим журналом», окровавленным заголовком статьи про устройство тайников в домах и квартирах? Что они-то значат?
И Аглая внезапно поняла, как быть и что они значат. Но ни ее ошеломляющее открытие, ни известие о том, что Лариса Проскурина была замужем за человеком по фамилии Берлянт, не смогли затмить того несравненного счастья, которое овладело ею от мысли: Гектор не убивал Шнеерзона! Он пришел после Лазарева и после Аглаи. Наверное, ждал ее, не дождался и ушел, не подозревая, что она с ненавистью и страхом таращится на него из темноты.
Она снова просунула дуло «велодога» между створками дверцы и посмотрела на Гектора. Посмотрела совсем с другими чувствами… Ну и что ей с ними делать, скажите на милость? Что делать Аглае с собою и со своим сердцем?..
— Очень интересно! — хмыкнул в то мгновение Лазарев. — Какая забавная фамилия была у тебя, Ларочка! Берлянт… это же Бриллиант в переводе с еврейского, верно? Он бриллиантики любил, что ли, твой первый супруг? И это считается патологической страстью? Да кто ж их не любит! Возьмите хоть того же Креза. Жизнь отдал бриллиантам и прочим драгоценным камням. Ничего тут нет патологического. И в обрывках, которые вы прочли, Гектор, нет ровно ничего, за что я мог бы убить вашего, как его там, Шнеерзона.
— Да? — как-то очень спокойно проговорил Гектор. — А откуда вы знаете, что Шнеерзон убит? Я об этом и словом не обмолвился…
«Туше!» — чуть не заорала Аглая, которая вспомнила слова Гектора, что он — как фехтовальщик, против которого вышли несколько противников. И вот сейчас он коснулся острием своей шпаги одного из них. Да как коснулся! Насквозь проткнул!
Лазарев замер, на какой-то миг потерялся, но тут же аж задрожал от злости… И именно лютая злоба произвела на него оживляющее действие.
— Возьми его, Гаврила! — рыкнул доктор, словно отдавая команду псу.
И рыжий анархист, покорный его воле, рванулся к Гектору. Лицо его было ужасно. Оскаленные зубы, побелевшие глаза. Давно сдерживаемые ненависть и ревность вырвались наконец на волю. Казалось, он сейчас вцепится в горло Гектору…
Все, что произошло потом, произошло как бы помимо воли и сознания Аглаи. Она не хотела стрелять. Она просто-напросто ужаснулась лютого выражения на лице Гаврилы Конюхова — и нечаянно спустила курок. «Велодог» ответил пламенем и пулей.
Пуля ударилась в стену над головой Хмельницкого. Тот конвульсивно дернулся, и пальцы его нажали на спусковые крючки и «маузера», и «нагана». Вряд ли он сам отдавал себе отчет в том, куда стреляет. Однако обе пули попали в Гаврилу Конюхова, который оказался прямо напротив него. Огромный матрос рухнул с таким грохотом, что шкаф, в котором пряталась Аглая, качнулся, дверцы его распахнулись, и она, пытаясь удержать их, вывалилась наружу вместе с «велодогом». И еще что-то мягко поддало ей под коленки, так что не упасть и удержать равновесие ей удалось только чудом. Мгновенного взгляда достало, чтобы опознать это «что-то» — ее разнесчастный узелок.
Выпрямившись, Аглая затравленно огляделась, уверенная, что сейчас ее либо изрешетят пули Хмельницкого, либо на нее набросятся и доктор Лазарев, и Лариса с Натальей.
Но никто, в том числе и Гектор, не двинулся с места. И у него читалось на лице такое же изумление, как у прочих.
— Ты? — воскликнул он, а следом, как эхо, раздались остальные голоса:
— Это она!
— Кто это?
— Кухарка!
Восклицание «Это она!» принадлежало Наталье. «Кто это?» — вопрос Хмельницкого. «Кухарка!» — дуэт голосов Ларисы и Лазарева.
Вообще, конечно, эффект она своим выходом, вернее, выпадом на сцену произвела потрясающий. До такой степени, что убийство Гаврилы Конюхова оказалось мгновенно забыто. Во всяком случае, ни его бывшая любовница Лариса Полетаева, ни нынешняя подружка Наталья даже не посмотрели на его окровавленное, неподвижное тело. Доктор Лазарев тоже начисто забыл о жизни и смерти своего помощника. Ну а Хмельницкий, отправивший Гаврилу на тот свет, — тем более.
— Это она! — снова взвизгнула Наталья. — Она украла твои вещи, Лариса! Ее привезли вместо тебя в дом Гектора!
— Уж не она ли стреляла там из тайника? — проявил чудеса догадливости Хмельницкий. — Не она ли помогла Гектору бежать от нас?
— Кажется, поможет и теперь, — пробормотала Аглая, с трудом владея холодными губами. — Уходи, Гектор, беги отсюда. Если они за тобой погонятся, я буду в них стрелять.
Боже ты мой, да она ли это говорит?!
Гектор, впрочем, и не подумал слушаться.
— Отдай мне оружие и уходи, — приказал он Аглае. — Мне еще надо кое-что тут сделать.
— Вы, кажется, забыли, что я тоже вооружен? — с ухмылкой осведомился Хмельницкий. — И если кто-то из вас двинется с места, я пристрелю девку. Если уж Конюхова, этакого медведя, уложил на месте, то уж ее-то…
Кажется, Лариса и Наталья только сейчас сообразили, что Гаврила убит. Они одинаково посмотрели на него — с жалостью и с ужасом одновременно, — одинаково вскрикнули и заплакали. Вернее, всплакнули. Одно-два всхлипывания, судорожно утертые скупые слезинки — и сестры выпрямились, перевели дыхание и, с легкостью необыкновенной позабыв про Гаврилу, с одинаковой злобой уставились на Аглаю, словно гарпии на жертву.
— Все из-за тебя! — прорычала Наталья. — Да чтоб ты сдохла!
— Крепко вы нам напакостили, гражданочка! — согласился Хмельницкий.
— Хмельницкий, отпусти ее, — сказал Гектор. — Дай ей уйти, она тут ни при чем, случайно в дело ввязалась.
— Ничего себе — случайно! — возмутилась Лариса. — Случайно украла мои вещи и сбила нам весь план, случайно притащилась наниматься в кухарки именно тогда, когда Наталья привезла сюда Гектора, случайно в шкаф залезла с револьвером в руках…
— В кухарки? — растерянно перебил Гектор и повернулся к Аглае: — Зачем тебе в кухарки?
Аглая пожала плечами. Нет, ну в самом деле, как ему объяснить?
— Прекратите спектакль! — раздраженно бросил Лазарев. — Мне ясно как белый день: она действовала с Гектором.
— Да, да! — вскричала Наталья, глядя на Гектора. — Кому ты голову хочешь заморочить? Я же отлично помню, что ты кричал, когда появился у камня! «Я знаю, где бабочки Креза! Я написал про все письмо и оставил его у надежного человека, он наблюдает за вами! Если вы меня убьете, письмо через час уже будет у Хмельницкого! И тогда вам конец!» Я сразу тогда подумала, что письмо ты оставил у нее. Ее надо обыскать! Лариса, обыщи ее, ты умеешь!
Аглая демонстративно положила палец на спусковой крючок.
— Иди сама да обыщи, — хмыкнула Лариса. — Нашла дуру!
— Оставьте ее в покое, — хмуро повторил Гектор. — Не было никакого письма, я вас на пушку брал. Еще тогда надеялся, что Хмельницкий в союзе со мной. Теперь вижу, что он ни на моей, ни на вашей стороне. И в случае чего мне от него помощи не ждать. А потому признаюсь, что это обман был — насчет письма и человека надежного. Она, — Гектор кивком указал на Аглаю, и та вдруг вспомнила, что он так и не знает, как ее зовут, — тут совершенно ни при чем. Совершенно не понимаю, как и почему она оказалась в шкафу. Я незаметно подошел туда и сунул в щель пистолет, который был у меня сзади за поясом, чтобы вы его при обыске не нашли. Думал, потом ухитрюсь его вытащить и буду снова вооружен. А она, значит, его приняла. Абсолютная случайность! Девушка тут ни при чем, отпусти ее, Хмельницкий.
— Чего ради? — пожал тот плечами.
— Ты человек или нет? Она женщина, она…
— Она влезла в мужские игры, — резонно ответил Хмельницкий.
И Аглая вдруг вспомнила слова Гектора, которые он говорил ей, когда думал, что перед ним — Лариса Полетаева: «Вы ведь умная женщина, должны понимать: если уж вы начали играть в мужские игры со всеми мужскими приемами, то неужто надеетесь, что ваши противники станут относиться к вам как к слабой женщине? Напрасно. Мы играем на равных».
Аглая напряглась — на равных! Да, да, на равных с Хмельницким, потому что вооружены. Как же она могла забыть?
— Отпустите Гектора, — подала она голос. — Отпустите его, госпо… товарищ Хмельницкий. И я скажу вам, где шкатулка с коллекцией Креза.
Хмельницкий иронически хмыкнул. Наталья оскорбительно захохотала. Лариса и Лазарев обменялись мгновенными взглядами. А Гектор вздрогнул:
— Что ты такое говоришь? Зачем ты лезешь не в свое дело? Откуда ты что-то можешь знать?
— Я догадалась. Помнишь, ты сказал, что у меня ледяной и беспощадный ум? — В голосе Аглаи прозвучала невольная нотка обиды.
У Гектора что-то дрогнуло в лице, в глазах… искра нежности, неистовой нежности вспыхнула в них, и он тотчас прикрыл ее светлыми пушистыми ресницами.
«Какие-то у него ресницы мальчишеские, — растерянно подумала Аглая. — Почему я только сейчас заметила?»
— Стоп, — сказал Хмельницкий и нетерпеливо махнул «наганом». — Итак, вы двое знаете, где находится коллекция Креза. Или с твоей стороны, Гектор, это тоже был блеф, как и слова о письме? Точно, знаешь?
Гектор кивнул.
— И вы знаете? — покосился Хмельницкий на Аглаю.
Та кивнула.
— И где же она?
— Здесь, — в один голос сказали Гектор и Аглая.
— Да ну? — Хмельницкий стволом «маузера» сдвинул фуражку на затылок. Видимо, аж взопрел от волнения. — Ну так я вас внимательно слушаю!
Лазарев громко зевнул:
— Ох, господи, ну взрослые же люди, а все в сказки верят. Закурю, тоска берет ваши бредни слушать.
Он сунул руку в карман халата… и в то же мгновение сквозь бархат проблеснул огонек. Громыхнуло, Хмельницкий отлетел к стене. Замер. Руки его повисли, «маузер» и «наган» вывалились из них и со стуком упали на пол. Он сполз по стене и сел, широко разбросав вытянутые ноги. Сапоги его с косо стоптанными каблуками смотрели носками внутрь. Фуражка наехала на лоб и закрыла лицо.
— А, черт! — брезгливо уронил Лазарев, вынимая из кармана пистолет и беря на прицел Гектора. — Пропал такой халат… Кто-нибудь знает, можно прожженный бархат починить или все равно рассыплется?
Наталья растерянно посмотрела на простреленный карман.
— Не знаю, — забормотала она, — я у тетки спрошу, она чинить мастерица.
— Да ты посмотри, какая дырища! — сокрушался Лазарев.
Но в тот миг, когда Наталья шагнула к нему, Лариса змеей скользнула к мертвому Хмельницкому и схватила «маузер» и «наган». С оружием она управлялась очень ловко и вполне профессионально, Аглае и не снилась такая хватка.
Теперь Лазарев целился в Гектора, а Лариса — в Аглаю и… в Наталью.
— Ларочка, — заговорила Наталья севшим голосом, — ты что, с ума сошла?
— А я думаю, с ума сошла ты, — сухо ответила Лариса, — когда разболтала этому сумасшедшему о том, кто твой отец и где находится шкатулка. А Гектор проболтался своей девке.
— Я никому ничего не говорила! — выкрикнула Наталья так громко, что даже задохнулась от крика и закашлялась.
— Никто мне ничего не говорил, — угрюмо подтвердил Гектор. — К сожалению, Лариса Владимировна, к великому моему сожалению, мать моего ребенка предпочла предать меня ради вас и вашего любовника.
— Не любовника, нет. Ради ее мужа, — поправила Аглая.
Все обернулись к ней так резко, что Аглая поперхнулась в страхе: вот сейчас Лариса выстрелит в нее! Теперь против нее были двое вооруженных: и Лариса, и Лазарев. Три ствола против одного.
— Что ты… — прошипела Лариса — и умолкла, словно подавилась ненавистью.
— Как — мужа? — в один голос спросили Наталья и Гектор.
Аглая пожала плечами:
— Ну не знаю как. Венчалась она с ним или гражданским браком жила, но господин или товарищ Берлянт, — она указала на Лазарева дулом «велодога», — первый муж Ларисы Владимировны.
— А, понятно, — хмыкнул Лазарев. — Вы услышали тот бред, который прочел нам тут господин Гектор, ну, обрывки, которые он выискал в камине своего старинного приятеля, якобы убитого мною, и сделали совершенно абсурдный вывод. Того гляди, вы скажете, что я убил его именно по этой причине — чтобы скрыть свое губительное прошлое и многолетнюю связь с Ларисой. Полный бред!
— Я не говорю, что вы убили его поэтому, — покачала головой Аглая. — Совсем нет. Думаю, что на старые письма вы наткнулись случайно, когда искали…
Она запнулась, бросив взгляд на Гектора: можно ли продолжать разговор о завещании Креза? Не помешают ли ее слова каким-то его планам?
Однако глаза его были просто-таки круглыми от изумления, и он не удержался от вопроса:
— Почему ты решила, что Лазарев — Берлянт?
— А почему ты решил, что шкатулка Креза здесь? — ответила вопросом на вопрос Лариса.
— Да потому что Лазарев — не Берлянт, а Офдорес!
Аглая так и вспыхнула от восхищения. Какой он молодец! Догадался!
— Еще того не легче… — пожал плечами Лазарев. — А это-то из чего следует, интересно знать?
— Ну да, ты думал, никто не поймет? — хмыкнул Гектор. — На самом деле стоит только свести концы с концами… Офдорес взял себе русскую фамилию Орлов. Не только потому, что орел — хищная птица (а именно это на иврите значат слова «оф дорес»), но и по названию бриллианта, который был некогда графом Орловымподарен императрице Екатерине. То есть Орлов якобы его в карты ей проиграл, но на самом деле поднес в подарок. Бриллиант, который раньше был вставлен в скипетр Надир-шаха индийского, Орлов купил у некоего банкира Лазарева. И вот очевидная цепочка: Офдорес — Орлов — Лазарев. Кроме того, Офдорес в свое время втерся в доверие к Крезу благодаря тому, что сумел вылечить его больные, почти парализованные ноги. Он только делал вид, что дело в целебном свойстве его бальзама, который являлся просто-напросто смесью лампадного масла и керосина. Дело было в силе его рук и умении. Офдорес знал лечебные свойства массажа, что помогло ему тогда, а теперь помогает доктору Лазареву.
— Любопытно… — с неподвижным лицом проговорил Лазарев. — Оказывается, вы очень недурно знаете русскую историю. А вы, молодая особа, каким же образом догадались о моей, так сказать, подноготной? — И он снисходительно глянул на Аглаю.
Та молчала, оглядываясь. Эти три черных ствола, три черных смертоносных глаза, которые устремлены на них с Гектором… Надежды на спасение нет…
— Чего молчишь? — прошипела Наталья. — Говори, когда спрашивают, самозванка проклятая!
— Да примерно таким же образом, как Кирилл, и догадалась, — сказала Аглая и увидела, что он вздрогнул, уставился на нее изумленно. Кажется, с трудом удержался, чтобы не спросить, как Аглая угадала его имя. Может быть, когда-нибудь она ему объяснит. Если они выйдут отсюда живыми… — Я тоже недурно знаю историю. Я ведь была учительницей в сельской школе. Офдорес — Орлов — Лазарев — связь фамилий очевидна. Да и в выборе имени-отчества своего господин доктор проявил изрядную иронию, даже не подумав о том, что ирония-то весьма красноречива. Вы зоветесь здесь Иваном Григорьевичем. А ведь банкира Лазарева звали Иван — я хочу сказать, так в России называли голландского еврея Иоганна Агазара, ставшего ювелиром высочайшего двора. Именно Иван Лазарев купил у армянина Григория Сафраса тот самый бриллиант, который он позднее продал за четыреста тысяч рублей графу Григорию Орлову. В честь кого из двух Григориев вы взяли свое отчество, господин доктор?
Тот усмехнулся почти ласково, пожал плечами:
— Ну, отвечать я не собираюсь, все это игры вашего ума, довольно, впрочем, любопытные. Охотно послушаю дальше ваши парадоксальные выводы. Расскажите что-нибудь еще о том, почему вы решили, что я — Офдорес, а главное — Берлянт.
Ох, какое ехидство в голосе! Но Аглая Донникова, когда хотела, тоже могла быть очень ехидной.
— Тут звено все той же «сверкающей» цепочки: Бриллиант — Орлов — Лазарев. Берлянта, судя по письму отца Ларисы, звали Ганс, а Ганс — уменьшительное от Иоганн. Иоганн — в русском варианте Иван. Берлянт — Агазар — Лазарев. Ну и еще… Однако уже не из области игр ума, а из житейских наблюдений. В разговорах с Ларисой вы вспоминаете Варшаву, а ведь именно там Лариса вышла замуж первый раз — за какого-то подозрительного типа, чуть ли не люмпена. Во время ссор Лариса иногда упрекает вас в том, что отдала вам свою молодость, а получила взамен только дурную славу, хотя вы обещали бросить к ее ногам весь мир, сулили ей замок, авто и бриллианты. Но вы до сих пор уверены, что мечты скоро исполнятся. Все, что нужно, — как можно скорей перебраться Ларисе на службу в Наркомат иностранных дел, чтобы она могла выхлопотать там возможность выехать за границу, получив документы для себя и для вас. Ну и какую вы теперь взяли бы фамилию? Мсье и мадам Диамант?
Ответа не последовало. Казалось, Лариса и Лазарев онемели. В таком же состоянии находились Наталья и Гектор.
— Именно поэтому я решила, что бабочки находятся у вас, — продолжала Аглая, — ведь к вам так прилипла Лариса. Такова единственная для нее возможность получить замок, авто и бриллианты. Она уже поняла, что большевики их ей не дадут. Все, произошла переоценка ценностей! А вам такая спутница как раз подходит. Вам не удалось уехать из России до революции; потом, после того, как коллекцию Креза украл Гектор, вас задержали ее поиски, а теперь это сделать почти невозможно — границу не перейти: или убьют, или ограбят пограничники. Нет, вы осторожны, вы терпеливы, а потому предпочитаете ждать, пока ваша жена не добудет все нужные документы для вполне легального…
— Ну, тварь… — прошипела Лариса с такой обжигающей ненавистью, что Аглая поперхнулась последним словом и умолкла. — Ну, приблудная тварь… Я так и говорила отцу, что не будет из тебя толку. Лиса хитрая! Вкралась, влезла, все вызнала… И как любовника своего предала, так и сестру предала…
С несказанным изумлением Аглая обнаружила, что ненависть свою Лариса изливает не на нее, а на Наталью. И оба пистолета наведены сейчас именно на Наталью! А, ну да, Лариса убеждена, что Аглая не сама до всего додумалась. Неужели у нее такой тупой вид? А как же быть с ледяным и безжалостным умом?! Его ни проблеска не видно? Как же обидно…
— А ты! — взвизгнула и Наталья. — Ты что задумала? Вот, значит, зачем меня Конюхову подсунула? Чтобы под ногами не путалась да не мешала вам интриги ваши плести, как бы отсюда сбежать? Бросить меня хотели? Мне ты тоже сулил авто и бриллианты! — обернулась она к Лазареву. — Да я для вас обоих ничто была! Ничто! А теперь еще и Гаврилу убили, кому я теперь…
Мгновенная судорога прошла по лицу Гектора, и Аглая похолодела. Он оскорблен тем, что Наталья даже и не мыслит искать у него защиты, прощения просить. А она, Аглая, что же? Неужели она годится только на то, чтобы выручать Гектора в трудную минуту, стреляя по движущимся мишеням? Этакая женщина-товарищ, боевая подруга, как любят говорить большевики. А все остальное по-прежнему принадлежит Наталье?
Ну что ж… Никогда Аглая мужчинам не навязывалась, не станет и начинать. Если она ему товарищ, то поступит с ним по-товарищески. Вернет его «велодог» — и уйдет. Куда? Неведомо. Одно можно точно сказать: кухаркой у доктора Лазарева ей никогда не служить!
— Кирилл, возьми свой револьвер, — проговорила Аглая, однако ее остановил голос Лазарева:
— Стоять всем! Лариса, иди к двери. Наташа, подбери «маузер» Гаврилы.
О черт, как глупо! Не годится Аглая в боевые подруги, нет, не годится, да и лихой Гектор сплоховал. «Маузер» Конюхова… Да уже давно надо было прибрать его к рукам!
А впрочем, перевес в вооружении все равно был на стороне Лазарева и его баб — три ствола против одного, они не дали бы ни Аглае, ни Гектору приблизиться к оружию анархиста, давно лежащему на полу. Но теперь — четыре ствола на стороне противника… И даже если Аглая выстрелит в кого-то одного из них, в нее пальнут как минимум двое.
— Дай «маузер» мне, — сказал Лазарев, протягивая к Наталье правую руку, но она покачала головой:
— Нет. С вами, видно, нужно ухо востро держать. Что с тобой, что с Ларкой. Не верю я вам!
— А кому ты веришь? — усмехнулась Лариса. — Ему, что ли? — презрительно глянула она на Гектора, а затем на Аглаю. — Он утешился быстро. Видишь, уже другую себе нашел.
— Послушайте, Гектор, — заговорил доктор Лазарев. — Даже если и ваша, с позволения сказать, боевая подруга успеет выстрелить один раз, в нее и в вас выстрелят как минимум двое. Это понятно, надеюсь?
Аглая уныло кивнула. Как будто Лазарев Америку открыл…
Гектор тоже кивнул. Вид у него был задумчивый, а глаза то и дело обращались к Аглае со странным, недоумевающим выражением.
Ну понятно. Никак не может взять в толк, откуда девушка знает его имя, если сам он ни разу его не называл? Где ему догадаться! И о том, как зовут обладательницу «ледяного, беспощадного ума», тоже не догадаться!
А между тем ситуация патовая, как ни крути. Теперь из приемной не выбраться. И вообще Лазарев в любую минуту может скомандовать своему «батальону смерти»: пли! И тогда все, все…
Был бы еще один пистолет! Но его нету. Зато… есть граната. Граната Конюхова! Она лежит у стены. Наталья тупо подобрала только его «маузер». Если бы завладеть гранатой… с нею можно много страха нагнать даже на превосходящие силы противника. Но как до нее добраться? Вот бы Гектор смекнул… Но где ему! Нужно Лазарева как-то отвлечь. Как-то заговорить ему зубы. А тем временем изловчиться и…
— А скажите, доктор, вы к Шнеерзону-то зачем пошли? — спросила Аглая как можно приветливей. И как можно выразительней навела на него дуло, чтобы не оставалось сомнений, в кого попадет ее пуля даже при самом неблагоприятном раскладе. Курок взведен, палец на спусковом крючке, стоят они близко…
«Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она…» — мелькнуло в ее голове.
Что только не лезет в нее в роковые минуты жизни…
Доктор молчал, катая желваки по скулам.
— Он пошел за завещанием Креза, — раздался голос Гектора.
Опять! Опять он говорит о каком-то завещании Креза! И его слова очень не по нраву доктору Лазареву… Почему? Крез завещал все Офдоресу, то есть Лазареву. Или… Или все же нет?
— Послушайте, Гектор, или как вас там… господин Шведов, что ли? — небрежно сказал Лазарев. — Мне надоел наш затянувшийся разговор. У меня к вам деловое предложение. Я признаю, что был не прав, сбивая с пути истинного вашу, можно сказать, жену, мать вашего ребенка. Но тут сыграла свою роль Лариса, в которой взыграли былые чувства ко мне — все же первая любовь не забывается! — и которая очень хотела избавиться от назойливого анархиста Гаврилы Конюхова. Именно поэтому я и пообещал Наталье некоторую часть из шкатулки. И от своих слов не собираюсь отказываться. Обещал я кое-что и Гавриле. И вот теперь я готов предложить эту долю вам. Двух бабочек и Наталью. Ну хорошо, трех бабочек. Теперь вы можете пожениться и жить безбедно. Поверьте мне, безбедно! И еще. Лариса сделает все, чтобы помочь вам с Натальей тоже выбраться из России вместе с нами. Подумайте, Гектор. Пора распроститься с бреднями вашей боевой эсеровской юности. Вы принесли столько жертв для умилостивления этого страшного божества — своей чести… Подумайте о своих близких, позаботьтесь о себе и о них! Россию ждут неисчислимые беды. Мы должны бежать, спасаться. И спасать тех, кто дорог нам, кого мы любим! Я даю вам отличную возможность.
— Хорошая ставка, — кивнул Гектор. — За что? Что я должен отдать взамен?
— Ее. — Лазарев указал дулом на Аглаю. — Я пристрелю ее. Но вы должны дать мне слово, что не накинетесь на меня и уйдете отсюда с миром, позабыв о вашем безумном чувстве чести, о мести.
— Ну вы бы хоть Наталью спросили… — усмехнулся Гектор. — Что ж так ее передаете, словно карту в поддавках? Спросили бы, хочет ли она ко мне вернуться.
— Какие церемонии! — раздраженно дернул плечом Лазарев. — Да ладно. Наталья, ты пойдешь к нему? Деньги вы получите, не беспокойтесь, а за мужской спиной все же лучше, чем одной.
— Конечно, лучше! — ломким голосом отозвалась Наталья и всхлипнула. — Конечно, он не подарок… но если бабочек мы все же получим… я согласна. И Ларочка его любит, дочка. Маленькая, а все ж понимает, что родной отец, к Гавриле она никогда не ластилась. Родного отца не заменить! Согласна я, так и быть.
Аглая опустила голову. Ну, вот и все… Зря она не надела в шкафу шубу — что-то вдруг в такой холод бросило!
— Родного отца никем не заменить, — повторил Кирилл. — Это правда. И все же у нашей дочери не будет родного отца. Потому что, господин Берлянт, я товарищей не продаю. Тем более — женщину, которую люблю. Давайте сговоримся по-мужски. Я проиграл, и вы меня можете прикончить прямо сейчас. Но я прошу — дайте ей уйти. Она отдаст револьвер и уйдет. А я останусь. Я выкупаю ее жизнь за ту горсть драгоценностей, которую вы готовы были отсыпать сначала Гавриле Конюхову, потом мне. Оставьте их себе и возьмите в придачу мою жизнь. Но ее — отпустите.
Аглая боялась верить собственным ушам. Что он сказал?.. Что он сказал? Женщину, которую любит? Он любит…
— Что?! — взвизгнула Наталья. — Отказываешься от меня? Да пропади ты пропадом! Мне от тебя только горе одно! А бабочки все равно мои будут! Мне больше достанется!
«Маузер» в ее руках рыкнул огнем раз, два, три… Кирилл навалился плечом на стену и начал сползать вниз, оставляя кровавую дорожку на стене.
Аглая смотрела оцепенело. Не могла крикнуть, не могла двинуться с места.
— Идиотка! — заорал Лазарев. — Он должен был рассказать все, что ему открыл Шнеерзон! Мне нужно завещание Креза! Ты все испортила!
Хлопнул выстрел — и Наталья рухнула на пол. Пуля попала ей в лицо, и светлые волосы молодой женщины стали красными от крови.
— Разумно, — холодно проронила Лариса. — Теперь ее!
— Сам знаю, — отозвался Лазарев, поднимая револьвер и наводя его на Аглаю. — С нее все началось, ею все и закончится!
Вот сейчас… пуля в лоб… Аглая вскинула руку, пытаясь заслониться от пули. Палец дрогнул… грянул выстрел. Со стены на Лазарева посыпалась известка, его качнуло, но в следующую минуту он собрался, и теперь известка посыпалась со стены, около которой стояла Аглая. Промах! Не глядя, она выстрелила снова и ринулась к двери. Щепки прямо в лицо, еле успела отшатнуться! Толкнула дверь, оглянулась… Кирилл лежит в одном углу, Наталья в другом, Лариса и Лазарев целятся в нее… Но разве можно убежать и оставить Кирилла, вдруг он только ранен?
Если она спасется, то сможет помочь ему. Если ее убьют…
Девушка выскочила в прихожую. Двери на лестницу стояли настежь: наверное, Глаша, насмерть перепуганная, кинулась вон без оглядки. Аглая подлетела к двери, но остановилась. Если она сейчас выйдет из квартиры, то больше в нее не войдет. И она метнулась под вешалку, почти привычно затаилась между шубами.
— Удрала! — раздался голос Лазарева. — Ладно, черт с ней. Нам надо спешить, Лариса! Нам надо спешить… умереть.
* * *
— Гектор — это Кирилл Шведов, — пояснил Кирилл Шведов. — А Аглая, — его голос стал ласковым, — моя бабушка. У них с дедом была очень тяжелая жизнь. Им пришлось много скитаться, оттого ребенок у них родился поздно. Отец мой женился тоже поздно, поэтому я никогда не видел ни деда, ни бабушки, знал о них только по рассказам отца. А тот вырос на их рассказах о том, как эсер по кличке Гектор пытался вернуть своей партии сокровища Креза, о том, как его предала одна женщина, а другая спасла, о том, как совершилась дерзкая и гнусная подмена и как были убиты Гаврила Конюхов и Наталья Селезнева. А их документами завладели вор Иоганн Берлянт и комиссарша Лариса Полетаева.
— Берлянт, говорите? — ехидно усмехнулась Наталья Михайловна. А потом вскричала: — А как вы мне объясните вот это? Посмотрите сюда, на список, на нашу семейную реликвию.
Алёна поняла, что Каверина показывает Кириллу уже знакомую ей ламинированную газетную страничку со списком расстрелянных.
— Вот, взгляните! — продолжала женщина. — Мать уверяла меня, что здесь должна быть фамилия ее отца. Ну и где тут ваш Шведов? Зато тут есть Берлянт. Как же он мог оказаться в списке расстрелянных, если потом воскрес в образе Гаврилы Конюхова?
— Мне знакома газета, из которой вырван клочок, — сказал Кирилл. — Причем я в отличие от вас видел ее целиком. «Рабоче-крестьянский листок» от 18 сентября 1918 года. Его почти невозможно найти в библиотеках: почти весь тираж, за исключением нескольких экземпляров, был уничтожен, а люди, ответственные за выпуск, расстреляны. Произошла ошибка: при верстке соединили списки поставленных к стенке врагов революции, ее героев, а также простых граждан, случайно погибших в стычке анархистов и матросов. Оттого и объединились фамилии Осипа Хмельницкого, Капитона Учкасова, Ларисы Берлянт, более известной под фамилией Полетаева, и офицеров царской армии, крестьян, бунтовавших против революции, бывших купцов… А Орлов — одна из фамилий мужа Ларисы, того самого Берлянта, который скрылся под фамилией Гаврилы Конюхова, подсунув тому свои бумаги. Дед рассказывал, что они были похожи внешне: оба рыжеволосые, атлетического сложения, высокие. Конечно, Берлянт был куда умней анархиста, просто несравнимо, но ведь по мертвецу этого не поймешь… Бабушка сама видела, как Берлянт переодел мертвого Гаврилу в свою одежду, взял его документы и бежал.
— Конюхов — Берлянт? И Лариса Полетаева тоже носила фамилию Берлянт? — презрительно переспросила Наталья Михайловна. — Ну, вы какой-то апокриф рассказываете!
— Отчего же… — усмехнулся Шведов. — Кстати, вы знаете, что Лариса — ваша близкая родственница? Единокровная сестра Натальи Селезневой. И ваша матушка была названа именно в ее честь, хотя Наталья предпочитала всех уверять, что, мол, обожала пьесу Островского «Бесприданница».
— Лариса Полетаева — тетка моей матери? — прошипела Наталья Михайловна. — Бред! Чушь! Гнусная ложь! Я о ней ни слова не слышала от бабушки.
— Разумеется, — спокойно проговорил Кирилл. — Ведь та женщина, которую вы считали своей бабушкой, и была Лариса Полетаева. Так что, когда я назвал вас внучкой Ларисы, с моей стороны не было обмолвки.
«Господи боже!» — опять охнула в шкафу писательница-детективщица Алена Дмитриева.
— Лариса забрала бумаги сестры, — продолжал хозяин номера. — Видите ли, между Берлянтом, Осипом Хмельницким, Ларисой, Натальей, Конюховым и Кириллом Шведовым произошла, как теперь принято говорить, разборка. Кирилл был тяжело ранен, Конюхов и Наталья убиты, причем Наталью застрелила именно Лариса. Они соперничали и из-за доктора Лазарева, и из-за драгоценностей Креза. Когда Лариса с Лазаревым остались вдвоем среди мертвых тел (они были уверены, что Кирилл-Гектор тоже убит, что его спасло), они сообразили, что очутились в весьма тяжком положении. Ведь в квартире доктора находились не только трупы какого-то эсера Шведова и его невенчанной жены Натальи Селезневой, но также мертвые тела значительного большевика Осипа Хмельницкого, а также предводителя анархистов Гаврилы Конюхова. Списать их смерть на налет какой-нибудь банды вряд ли получилось бы. Даже если власти им поверят, будто все убийства — дело рук злодея Гектора, пришлось бы отвечать на слишком много вопросов. Например, комиссарше Ларисе Полетаевой объяснять, в каких отношениях она была с Лазаревым. А если кто-то захочет поглубже копнуть его прошлое? И наткнется на их совместное прошлое? Аглая пряталась в прихожей и слышала разговор двух убийц, видела, что они делают. Предположим, рассуждали они, как-то и удастся отовраться, но ведь прежнего доверия к Ларисе уже не будет. За ней будут присматривать, а она-то мечтала уехать за границу и увезти коллекцию Креза… И тогда Лариса с Лазаревым решили, что им нужно бежать. Они переодели Наталью и Конюхова в свою одежду, подсунули им свои бумаги. Лицо Натальи было изуродовано до неузнаваемости, а еще ей обрезали косы и кинули в печь… Теперь ее невозможно было отличить от Ларисы! Сообщники изуродовали выстрелами и лицо Гаврилы. А потом удалые супруги, прихватив шкатулку Креза, тайно исчезли из Нижнего. И, как много лет спустя выяснил мой дед Кирилл Шведов, увезли с собой осиротевшую дочь Натальи, Ларису. Ну что ж, очень благородно со стороны Ларисы, что она не бросила племянницу! Продавая драгоценности из коллекции Креза, они жили, конечно, безбедно, но шиковать было невозможно. Мечта Ларисы — замок, авто, бриллианты — стала теперь чистой фантастикой. И все же бабочки Креза помогали им выжить и не пропасть. Так продолжалось до той поры, пока Гаврила Конюхов, вернее, Иоганн Берлянт, не встретил однажды на улице Кирилла Шведова…
— Ваш отец в своем письме отзывался о Кирилле Шведове как о благороднейшем человеке. Однако он не погнушался написать донос на Конюхова! — прервал рассказчика гневный голос Натальи Михайловны.
— Кирилл Шведов в жизни не писал никаких доносов, — спокойно возразил ее собеседник. — После кровавой трагедии в квартире доктора Лазарева, иначе говоря — Берлянта, после того, как он и Лариса оттуда бежали, моя бабушка, Аглая, выбралась из своего укрытия и бросилась к Кириллу. Кое-как привела его в сознание и перевязала раны. Вернулась Глаша, горничная Лазарева, и помогла ей. Кирилл еле держался на ногах, но все же смог добрести вместе с Аглаей до дома, где жил Шнеерзон, старый друг его отца, убитый Берлянтом. Конечно, в тот дом идти было нельзя, но Кирилла и Аглаю приютили соседки старика. Там они и скрывались, пока Кирилл не окреп. Он знал, где хранил свои ценности старый Шнеерзон, ведь сам же и оборудовал для них тайники. Те деньги помогли им выжить. Аглая стала женой Кирилла Шведова и разделила с ним все, что уготовила ему судьба. Он долго выздоравливал, они скрывались, потом им удалось добраться до Питера и уйти через границу в Финляндию. Со временем супруги перебрались в Париж. Несколько позже, в сороковом году, там родился их сын Владимир. А Кирилл Владимирович сразу, как только прибыл в Париж, стал одним из активных деятелей Русской освободительной армии. Он работал в контрразведке, и несколько раз ему поручали нелегально пробираться в СССР. Именно во время одной из таких тайных командировок он на московской улице и столкнулся лицом к лицу с Берлянтом — Гаврилой Конюховым. Даже если Кирилл и захотел бы свести с ним старые счеты и узнать, где теперь коллекция Креза, он не мог себе этого позволить: слишком многое зависело от того, вернется ли он в Париж живым и здоровым, сможет ли передать добытые сведения. Поэтому он только обменялся взглядами с Конюховым — и в тот же час уехал из Москвы в Ленинград, а оттуда к границе с Прибалтикой, где был «коридор» для перехода границы. Ему было не до доносов. Все было как раз наоборот: именно Гаврила, в смысле Берлянт, попытался донести на Шведова. Однако за Конюховым уже давно наблюдали… Он попался во время спекуляции драгоценностями, извлеченными, как я понимаю, из бабочек Креза, и конец его был неминуем. Когда мы с отцом работали в архивах и спецхране, я читал протокол допроса Конюхова, который сообщал, что встретил на улице бывшего эсера Шведова, носившего кличку Гектор.
— Но как вы могли видеть какой-то протокол допроса, если Гаврила был убит при попытке к бегству в момент ареста? — удивленно спросила Наталья Михайловна.
— Убит? — изумился Кирилл. — Мне кажется, вы что-то путаете. Я видел довольно много протоколов с показаниями Конюхова. Он очень старательно уводил разговор от бриллиантов… Его счастье, что следователи были убеждены: речь идет о спекуляции мелкими партиями. О шкатулке-то Креза они и знать не знали! Пожалуй, если бы заподозрили, что жена Конюхова исчезла из Москвы с бриллиантами на баснословную сумму, ее искали бы куда резвее и не дали бы скрыться за новой фамилией.
— Вы в чем обвиняете мою семью? — протянула Наталья Михайловна. — В том, что шкатулка Креза была увезена моей бабушкой из Москвы в Нижний?
— Как будто вы этого не знаете, — усмехнулся Кирилл. — Разумеется!
— Ну что ж, — холодно проговорила Наталья Михайловна, — значит, вам еще повезло. Я имею в виду, в архивах повезло. А вот тот, кто придет туда по вашим следам, уже не найдет никаких документов, рассказывающих о Ларисе Полетаевой, о следствии над Гаврилой Конюховым, вообще даже намеков на всю ту старую историю, происшедшую в Нижнем…
— Не найдет, — покладисто согласился Кирилл. — Конечно, не найдет. Да и как ему что-то найти, если вслед за нами по всем архивам прошли вы с вашим супругом — и выкрали оттуда все документы, которые могли хотя бы косвенно навести на сведения о коллекции Креза?
«Господи боже!» — чуть не воскликнула вслух Алёна Дмитриева.
А Наталья Михайловна — нет, та не произнесла ни слова…
— Интересно, в ней что-то еще осталось, в той шкатулке? — усмехнулся Шведов. — Я человек состоятельный, ни на что не претендую, да и отец мне велел распроститься с мыслью о ее поиске и вообще о какой-то мести, но сейчас у меня чисто спортивный интерес: сохранились ли еще хоть какие-то из бабочек Креза, присвоенных Берлянтом-Офдоресом-Орловым-Лазаревым?
— Повторяю: то, что вы рассказываете, — апокриф! — воинственно проговорила Наталья Михайловна. — Даже если допустить, что слухи, которые вы приводите, правдивы, то ведь ваш отец сам написал мне, что старый вор Крез завещал свою коллекцию Офдоресу, или, если вам угодно, Берлянту, который затем всплыл под именем Конюхова. А завещание — это завещание, не просто писулька какая-то! Офдорес был законным наследником, а ваш дед…
— Ну-ну, — усмехнулся Кирилл, — я отлично знаю, что вам писал мой отец. Он сообщил, что Офдорес вынудил — подчеркиваю: вынудил! — Креза сделать именно такое завещание. Старый вор зависел от его лечения, от сеансов массажа. У Офдореса-Берлянта-Орлова-Лазарева были необычайные, поистине волшебные руки. И он пугал Креза, что уйдет. Бросит его на произвол судьбы с его мучительными болями, с его невыносимой подагрой. Не самый честный способ раздобыть деньги, верно? Крез был напуган… Он боролся за свою жизнь, за свое здоровье, поэтому и написал все так, как хотел Витя Офдорес. Однако со временем, чувствуя, что смерть близка, Крез призадумался. Гонорар врачу — это одно, а вот так, за здорово живешь, отдать баснословное богатство… Крез был человеком образованным и очень непростым. Но родом он был из крестьян и когда-то пришел в город из волжской глухой деревни, потому что остался сиротой: его родители умерли, там ведь не было врача. И он написал новое завещание: его баснословная коллекция должна быть передана партии эсеров, которая отстаивала интересы крестьян, для того чтобы они, придя к власти, первым делом начали строительство сельских больниц. Второе завещание Крез отдал своему старому знакомцу, поверенному в частных делах Льву Борисовичу Шнеерзону, и наказал спрятать куда подальше до поры до времени.
Крез через какое-то время умер, и Витя Офдорес присвоил его шкатулку. Однако он знал, что другое завещание существует. Но не знал, кто из юристов его хранит, думал почему-то, что оно находится в Москве. А всех московских стряпчих не перетрясешь… И Витя Офдорес просто-напросто сделал вид, что никакого второго завещания нет и не было. Шнеерзон сначала просто побоялся заявить о новом завещании. А Гектор в это время искал коллекцию Креза. Но ее нашел Осип Хмельницкий, представитель большевиков. Однако Гектору удалось выкрасть ее и спрятать в доме отца. Хмельницкий сжег дом, Офдорес снова завладел бабочками. Отец Гектора умер. Шнеерзон, старый друг Кирилла Шведова, осуждал молодого человека за его политические увлечения, хотя и знал, что он делает именно то, чего хотел Крез. Бриллианты должны были стать собственностью эсеров. Конечно, завещание какого-то старого вора ничего не значило в пору новой российской смуты, но Шнеерзон жил по прежним представлениям. А жизнь в то время была тяжелая, и старик, видимо, решил на всякий случай подзаработать. Он пошел по опасному пути — написал Лазареву, в котором узнал Офдореса, что хранит подлинное завещание Креза, и если тот не хочет, чтобы о нем стало известно всем, то должен заплатить.
На письмо вполне можно было не реагировать, ведь никакие юридические обязательства тогда не имели значения. Однако Лазарев отреагировал. Может быть, потому, что авторитет Офдореса в воровском мире сильно покачнулся бы, если стало известно, что такое завещание существует. Или потому, что Офдорес мечтал уехать за границу и жить там легально, уважаемым человеком, а всплыви завещание — случился бы скандал. В общем, Лазарев пришел к Шнеерзону в назначенное им время, но платить, конечно, не стал, а убил старика. Перерыл все бумаги и завещания Креза не нашел. Зато нашел письма отца Ларисы и Натальи, Владимира Проскурина, которые открывали тайну их родства. На всякий случай бросил их в камин, однако письма сгорели не полностью, и Гектор, который явился вскоре к Шнеерзону и обнаружил его труп, увидев обрывки, уловил смысл. А еще Гектор нашел-таки новое завещание Креза.
— Значит, Шнеерзон все же не был убит, — небрежно обронила Наталья Михайловна. — Он успел рассказать Гектору, что произошло.
— Не совсем так, — возразил Кирилл. — Шнеерзон, тяжело раненный, успел доползти до книжных полок, взять журнал и открыть на статье Кирилла Шведова. Он или чувствовал, или знал, что Кирилл придет сюда, и давал ему намек. Кирилл понял намек, ведь именно он соорудил в доме старого друга своего отца тайник, в котором лежало подлинное завещание Креза. И еще Кирилл понял, что был прав, когда действовал от имени партии эсеров и пытался отнять сокровища у Офдореса и всех прочих, кто тянул к ним руки. Он имел на них полное право как представитель партии эсеров. Именно поэтому он отправился в квартиру Лазарева.
— Все это, конечно, весьма любопытно, однако выдумывать крутые сюжеты — привилегия романистов, — сказала Наталья Михайловна. — И вообще, знаете ли… дела давно минувших дней…
— Вы правы, — неожиданно согласился Кирилл. — Прошлого не вернуть. Я не виню вас за то, что вы защищали честь своей семьи, ведь и я занят тем же. Но бабочки… бабочки Креза! Ведь они — уникальные произведения ювелирного искусства. Подобных им нет в мире! Наталья Михайловна, я готов показать вам документ, который удостоверяет мои полномочия как представителя галереи искусств Французской академии естественных наук. Я уполномочен вести переговоры по покупке коллекции, вернее, ее остатков. Поверьте мне, вам такая сделка будет более выгодна, чем продажа камней по отдельности, а золотых каркасов бабочек — в виде лома.
— И насколько? — деловито поинтересовалась Наталья Михайловна.
— Полагаю, на порядок.
— Ну что я могу ответить? — с явным сожалением вздохнула она. — Вы сами сказали — прошлого не вернуть.
— Я так и думал, — с горечью пробормотал Кирилл. — Я почти не сомневался… Конечно, коллекция была слишком громоздка для бегства, для тайной перевозки. Берлянту пришлось разобрать бабочек, сломать золотые каркасы… А если один-два экземпляра все же и оставались, их благополучно прикончили вы.
«Как же так? — грустно подумала Алёна. — Значит, я никогда не увижу, как выглядит Аполлон, сделанный из алмазов, рубинов, яблочного изумруда, черного шерла и желтого берилла? И сапфирового Менелая не увижу? И Гектора… черный шерл, алмазы, гранат, красные рубины…»
— А скажите, — светским тоном произнесла Наталья Михайловна, — что вы делали здесь после отъезда отца? Неужели все время посвящали тому, чтобы донимать меня?
«Так, понятно, — усмехнулась про себя наша детективщица. — Мадам Каверина считает, что основная тема исчерпана, и больше не желает к ней возвращаться. Да, прошлого не вернуть… Бабочки, можно сказать, улетели! И Гектор с Аглаей никогда не появятся на стене «Мадам Баттерфляй»…»
Видимо, и Кирилл Шведов понял, что ему больше ничего не добиться, оттого и тон его ответа был таким же безразлично-светским:
— Я пытался найти, где именно находился в восемнадцатом году дом моего деда. Ездил в Переливино, бывшее некогда имением бабушки, искал дом Шнеерзона. Он, кстати, до сих пор стоит! История любви Гектора и Аглаи достойна авантюрного романа, и, честно говоря, если бы коллекция была еще цела, я начал бы выкупать ее именно с бабочек, которые носили их имена.
— Мне пора, — приветливо сообщила Наталья Михайловна, демонстративно пропустив последние слова мимо ушей. — Могу ли я считать, что военные действия между нами прекращены?
— Я не воюю с женщинами, — отозвался Кирилл. — А если вчера и разбил лобовое стекло вашего «Форда», то лишь потому, что вы меня сами вынудили. К тому же я не дал вам совершить преступление. Вы слишком вспыльчивы! Такой же вспыльчивой была некогда Лариса Полетаева, «амазонка революции».
«Господи боже!» — опять охнула тихонько Алёна.
— Я не понимаю, о чем вы говорите! — выдала Наталья Михайловна привычную формулу.
— Да неужели? — усмехнулся Шведов. — Но, между прочим, вы упомянули, что видели меня вместе с некоей писательницей. А единственное место, где меня можно было увидеть рядом с женщиной, как раз около стены парикмахерской «Мадам Баттерфляй» прошлой ночью. Итак, она писательница… Занятно, спасибо за информацию. Словом, этим упоминанием вы себя выдали. Кроме того, «Форд» с разбитым стеклом я сегодня видел в одной из мастерских автосервиса «Импульс».
«Господи боже!» — новый вздох в шкафу.
— Господи боже! — не выдержала Наталья Михайловна. — Как вас туда занесло?
— Ну, не поленился прокатиться по городу с утра пораньше. Намеревался посетить все десять мастерских сети «Импульс», но повезло мне уже в пятой. Ведь вам больше некуда было обратиться, кроме как в собственный автосервис. Мы с отцом собрали изрядное досье на вас и знаем, например, что владелец «Импульса» — ваш сын. Полагаю, именно вы финансировали его бизнес… остатками пыльцы с крылышек бабочек Креза.
— Вы ничего не докажете!
— И в мыслях нет, поверьте, — спокойно ответил Кирилл. — Понимаю, что подобное невозможно. Я уже говорил — вы вполне профессионально уничтожили все следы. Именно поэтому я думаю, что с вашей стороны было весьма неосторожно посвящать в старую историю посторонних людей.
— Вы имеете в виду детективщицу? Как ее там… Алену Дмитриеву? Да ладно, она ни на что не способна!
— Вы так полагаете? — со странной интонацией проговорил Кирилл Шведов.
Алёна чуть не выскочила из шкафа, чтобы сообщить ужасной мадам с ужасной наследственностью, что способна очень на многое. Например, на то, чтобы без всякой посторонней помощи и даже без книжки «Бабочки в легендах и мифах» разгадать список Владимира Шведова, который больше напоминал шифровку. А впрочем, не стоит уподобляться лягушке-путешественнице из сказки Гаршина. Наталья Михайловна и сама знает, что Алёна все поняла… иначе не разъярилась бы так, увидев ее ночью около стены со стертыми Сфинксом и Ипполитой, не стала бы ей звонить и пугать!
И тут… и тут в кармане куртки Алёны что-то мягко зажужжало, а потом зазвенело. Все громче и громче. Телефон! Она сунула руку в карман и стиснула мобильник так, словно хотела его задушить. И ей удалось, потому что воцарилась тишина.
— Что такое? — встревожилась Наталья Михайловна. — Телефон? В шкафу? Там что, кто-то сидит?!
— Ну и шутки у вас, — невозмутимо проговорил Кирилл. — Это звонит мой мобильный. Он лежит в кармане пиджака, пиджак висит в шкафу. Понимаете?
И в то же мгновение телефон зазвонил снова! Алёна, находясь в полуобморочном состоянии, не тотчас поняла, что теперь пробудился к жизни не ее мобильник, что звон раздается в комнате…
— Извините, минуточку… — сказал гостье Кирилл. — Алло? Привезли билет на самолет? На завтра? Отлично. Нет, спасибо, в номер приносить не надо, я сам спущусь через некоторое время. Всего доброго.
— У вас что, два телефона? — с подозрением проговорила Наталья Михайловна.
— Да, а что? — холодно бросил Кирилл. — Я могу иметь хоть целую коллекцию телефонов. Кто-то коллекционирует бабочек из драгоценных металлов, кто-то — автомобили, как, например, вы…
— Вы суете свой нос туда, куда не нужно! — яростно выкрикнула Наталья Михайловна. — Вы мне осточертели! Все! Я ухожу!
Протопали ее каблучки, хлопнула дверь.
— Прощайте, Наталья Михайловна, — сказал вслед невежливой гостье вежливый Кирилл Шведов.
Так… принялась размышлять Алёна, сейчас он, наверное, пойдет на рецепшн за билетами. И можно будет выйти. Стоп… если он уйдет, то закроет дверь. И она опять окажется в ловушке. Лучше бы ему пойти, скажем, вымыть руки, и тогда Алёна распахнет дверь шкафа и…
Дверь шкафа распахнулась.
— Можете выходить, — сообщил Кирилл Шведов. — Значит, вас зовут Алёной? Красивое имя…
— Вообще-то меня зовут Еленой, — зачем-то пояснила она, все еще стоя в шкафу. — Алёна Дмитриева — мой псевдоним.
— Елена — еще лучше, — одобрительно сказал Кирилл. — Да вы выходите, выходите. Там все же тесно, в шкафу-то. — И он захохотал.
— Ничего смешного, — сухо произнесла Алёна.
— Конечно, — согласился хозяин номера, невероятным усилием обрывая смех. — Но, понимаете, в моей семье особые отношения со шкафами… Извините. Извините, ради бога!
Алёне ничего не оставалось, как пожать плечами и выйти на волю. Вообще-то, наверное, следовало бы вслед за тем выйти из номера, но слишком многое еще оставалось недосказанного, а любопытство так и подгрызало, так и подгрызало нашу героиню!
— Слушайте, можно я сниму куртку? — взмолилась она. — Там было ужасно жарко, в шкафу.
— Вы можете снимать все, что вам угодно, — любезно предложил Кирилл, и Алёна посмотрела на него. Наконец впервые толком посмотрела.
Глаза у него были зеленовато-желтые, как у хищной птицы. И нос хищный — чуточку (самую чуточку!) загнут книзу, словно у ястреба. Нижняя губа вывернута надменно. Сильный круглый подбородок. В профиль лицо Кирилла было ярче и сильнее, чем анфас. Смотришь прямо — просто красивый парень, этакий русский мачо, а вот в профиль… жесткость, хитрость, отчаянность в этом профиле. И еще что-то, от чего у Алёны вдруг дрогнуло сердце. Наглость? Нет, другое слово… Решительность, вот что!
— Как вы догадались, что я там? Из-за телефона? — спросила она, отводя глаза. И увидела книгу «Бабочки в мифах и легендах», которую бросила на стол, а не положила в пакет. — Или поэтому?
— Отчасти, — кивнул Кирилл. — Кроме того, я видел, как вы входили в мой номер… Я как раз стоял у стола дежурной.
— Господи боже… — пробормотала Алёна.
— А вы как догадались? — с любопытством спросил он. — Каким образом вы меня нашли?! Как поняли, что я — это я? Что я связан с теми бабочками?
До чего же она любила такие минуты в жизни, когда наставало время демонстрировать торжество своего сыскного таланта! Какое испытывала превосходство над мужчинами, которых удавалось обойти на интеллектуальных вороных! Отчего же сейчас Алёна чувствовала себя так глупо? Неужели оттого, что вышла из шкафа? Или из-за своей дурацкой прически, вернее, отсутствия оной? Ну в самом деле, разве возможно испытывать торжество и превосходство, будучи остриженной почти наголо!
— Да ерунда, — пробормотала она почти стыдливо. — Сначала я думала, что первых бабочек нарисовал Владимир Кириллович. Но он уехал, а бабочки продолжали «прилетать». Значит, в городе остался кто-то еще. Причем очень близкий Владимиру Кирилловичу человек, посвященный в секреты его и Натальи Михайловны. Я о них кое-что знала… она мне сама рассказала, правда, сразу пожалела об этом. Ну вот… потом мы встретились у той стены, где вы меня спасли. Я не видела вашего лица. Но вы так странно говорили… Например, сказали, что черный «Форд» был как в полицейском романе. У нас так не говорят. У нас говорят — в детективном романе, а вот французы детективные произведения называют полицейскими. Потом вы сказали, что на картине Доссо Досси Юпитер напоминает не божество, а капуцина, совлекшего с себя сан. Ни один русский никогда в жизни так не выразился бы! Кроме того, я вспомнила, что в Париже есть бульвар Капуцинов… Ну и еще, конечно, была обмолвка насчет святого Георгия, которого вы чуть не назвали Жоржем.
— Это я помню, — кивнул Кирилл, — помню, как спохватился. А остального и не заметил. Надо же…
— Да, еще Аксаков! — вспомнила Алёна.
— А что с ним такое? — насторожился Кирилл.
— Вы сказали, что живете на улице Аксакова. А в нашем районе такой улицы точно нет, зато у Аксакова есть рассказ «Собирание бабочек» в его «Воспоминаниях»… Ну я просто подумала: кому мог Владимир Кириллович до такой степени доверять, чтобы рассказать ему все? Может быть, сыну? И тогда, ночью, я поняла, что вы молоды и вполне годитесь ему в сыновья. Кроме того, я ведь видела вас в гостинице. В первый день. То есть я не знала, что это вы… просто вспомнила…
Он вскинул на нее глаза. Но промолчал.
— Ну и… — мямлила дальше Алёна, — еще вы сказали, что вам только спуститься и подняться… а такая как раз дорога на Верхне-Волжскую набережную… а там гостиница «Октябрьская»… а еще я вспомнила, что у того, первого Кирилла Шведова, отчество было Владимирович, а сына зовут Владимир Кириллович, значит, вполне возможно, в семье такая традиция, и вас, может быть, зовут Кирилл… я просто спросила у администратора, в каком номере остановился Кирилл Шведов, и она назвала его…
Алена умолкла, совершенно потерявшись в словах. Каждое казалось глупым и беспомощным.
— Слушайте, Елена… — тихо заговорил Кирилл и вдруг замолчал.
«Какое красивое имя — Кирилл! — подумала тем временем Алёна. — Почему оно мне раньше не нравилось? И почему мне раньше не нравилось имя Елена? Оно тоже очень красивое. Или просто он его так особенно произносит?»
— Слушайте, Елена, — снова подал голос Кирилл, — это просто потрясающе. Я редко видел такую красивую женщину, которая была бы так потрясающе умна. Слушайте, нам надо поговорить, нам надо толком поговорить! Вы должны мне подробно рассказать о том, как вообще догадались о бабочках, о том, что они значат. А я вам расскажу про Гектора и Аглаю. Хотите?
— Вы имеете в виду парусника и перламутровку? — уточнила Алёна.
— Я имею в виду историю любви Гектора и Аглаи! — расхохотался Кирилл. — Совершенно невероятная история! Честное слово, она вам может пригодиться для нового романа. Я улетаю завтра, но до завтра… до завтра еще масса времени, и я успею рассказать вам эту длинную-предлинную историю. У вас найдется время?
«До пятницы я совершенно свободен», — вспомнила Алёна слова Пятачка. А завтра, кстати, как раз пятница. Но впереди еще день и ночь! И что… что они будут делать все это время? Только разговаривать?
«Спокойней! — холодно сказала она себе, вспомнив администраторшу из «Мадам Баттерфляй». — Спокойней, товарищ писательница!»
— А ночью… — таинственно зашептал Кирилл, — а ночью я знаю, чем мы займемся! Догадываетесь, чем?
Алёна чуть отстранилась и посмотрела в его зеленовато-желтые глаза.
Очень решительные глаза. Или все же наглые?
— Разумеется, — усмехнулась она, не отводя взгляда. — Мы с вами пойдем к той стене и нарисуем Гектора и Аглаю. Я имею в виду, парусника и перламутровку.
Камень богини любви
Я не представляю себе, кто мог это сделать. Представить я, конечно, могу… Я все могу представить. В этом для вас вся трудность. Я могу представить хоть сию минуту. Все мои версии прозвучали бы вполне убедительно, и тем не менее все они были бы неверны.
Агата КристиНаши дни
Вообще начиналось все совершенно мистически, но при этом — в сплошной лихорадке буден. В один прекрасный день, куда-то там собираясь, не суть важно куда, писательница Алёна Дмитриева открыла шкатулку, выбирая браслет, который подходил бы к ее новым серьгам, сочла, что лучше недавно купленного итальянского не найти, вынула его, начала застегивать, да внезапно обнаружила, что ничего не получается. Браслет не застегивался.
При этом застежка, состоявшая из палочки и колечка, в которое палочке следовало просунуться, была вовсе даже не сломана. Браслет не застегивался потому, что с трудом обхватывал Алёнино запястье. Уж она и так его и этак натягивала и перемещала — ну никак! В конце концов удалось-таки застегнуть, всунув палочку в петельку, но браслет захватил запястье плотно, алчно, можно сказать, словно оно в одночасье непоправимо растолстело.
А ведь это совсем даже не так! Ни запястье, ни обладательница его в весе не прибавили ни на грамм (не убавили, к сожалению, тоже, но это уже совсем другая история).
Алёна смотрела на браслет и ничего не понимала. Совсем недавно все было нормально. Он свободно застегивался, а главное, симпатично так болтался и вовсе даже не сковывал, словно наручники или кандалы! То есть сначала, после покупки, он был именно таким — тесноватым, даже весьма. И, конечно, дама, которая терпеть не может никаких оков, ни моральных, ни физических, как Алёна Дмитриева, его ни за что не купила бы. Но он был так красив! Латунные овалы, обрамленные стразами, крошками белого агата и меленькими осколочками халцедона, какие-то причудливые штуковины вроде плоской такой короны, малехонькой и изящной — совершенно для королевы фей! — а главное, в одном из овалов была довольно большая очаровательная вставка из кварца-волосатика, или, для знатоков, рутилового кварца…
Правда, сначала, покупая браслет, Алёна могла оценить этот камень только чисто обывательски: нравится — не нравится. Знатоком камней и минералов она отнюдь не была — ну, конечно, жемчуг от янтаря отличила бы и, может, при известном напряжении, белый агат от черного — тоже, но вообще в эксперты ее не взяли бы. Она совсем не разбиралась в каратах, твердости, тугоплавкости и прочих таких специальных штуках. Зато могла вам рассказать множество мифов-сказок-баек о камнях, поведать, например, об оживляющих свойствах камня Лигурия: вообразите, некие мореплаватели, отправившись в дальний путь, запаслись битой и хорошо просоленной птицей, однако вышло так, что в кармане у какого-то моряка завалялся лигурий, и вот в один потрясающий миг солонина вся ожила, выпорхнула из бочек, сделала прощальный круг над кораблем, помахивая ощипанными крыльями, а потом, выстроившись клином, потянула на юг… а может, и на север, на запад или на восток, об этом история умалчивает.
Однако давайте отвлечемся от мифологии и вернемся к реальности. Алёна купила браслет, потому что он ей просто до дрожи понравился, и прямиком из магазина направилась к ювелиру, благо в двух кварталах от ее дома открылась небольшая мастерская.
— Вообще мы только по золоту работаем, — сказал стоявший за прилавком парень. Во лбу у него смешно торчала небольшая черная лупа, какие обычно носят в глазу часовщики. Лупа была привязана к шнурку и вздета на голову — наверное, чтобы не мешала. — По серебру, по платине. И по камушкам драгоценненьким. А это чистая латунь.
— Ой, ну пожалуйста, помогите! — взмолилась Алёна Дмитриева, подпуская в свой милый голосок вовсе уж чарующие, этакие шелковисто-бархатистые нотки. — До чего красивый браслет, а застегивать — сущая мука. Можно ведь какое-нибудь колечко припаять, чтобы он стал посвободней. Неважно какое, медное, железное…
— Ну, не говорите пошлостей, — поморщился ювелир. — Медь, железо… тут нужна благородная латунь. Браслет и в самом деле красивый. Из Италии привезли, что ли?
— Из Италии, но не я, — усмехнулась Алёна. — Я в «Клеопатре» купила. Около площади Горького.
— В «Клеопатре»? — повторил ювелир. — Знаю такой магазинчик. Да, классный браслет. Да он еще и с волосатиком… — И он взглянул на Алёну не просто как на докучливую клиентку, а вроде бы даже с некоторым уважением.
— Вот именно, — проговорила Алёна, словно слышала это слово не впервые в жизни. — Возьмете колечко приделать? А? Ну пожа-а-алуйста!
Ювелир задумчиво подергал лупу на лбу, словно решал, вставить ее в глаз или погодить. И начал разглядывать клиентку.
Да ты хоть с лупой на Алёну Дмитриеву посмотри, хоть без лупы — двух мнений быть не может! Красавица! Рост — модельный, фигура — зашибись, прекрасно одета, глаза неотразимые, голос такой задушевный… Какой мужчина устоит? Вот и этот не устоял. Причем, конечно, он прекрасно понимал, что рядом с такой феминой ему делать совершенно нечего, а все же захотелось, чтобы эти глаза, не то серые, не то голубые, не то зеленые, посмотрели с восхищением, чтобы губы надменные улыбнулись ему благодарно…
— Ну что с вами делать, — сказал ювелир. — Пятьсот рублей — это вам как, по карману будет? Работа тонкая…
Глаза посмотрели, губы улыбнулись, все чин чинарем.
Ювелир вовсе растаял:
— Готово будет через полчасика. Можете здесь подождать.
— Спасибо огроменное! — выдохнула Алёна и принялась разглядывать крохотную мастерскую. Здесь не было ничего, кроме прилавка, за которым виднелась приоткрытая дверь. Наверное, там была собственно мастерская, а также приватные помещения. У самой двери вешалка, на ней мужская куртка. На эту куртку Алёна поглядела мельком, потом пристальней, а потом уставилась, как на некое диво дивное, чудо чудное. Собственно, ничего особенного, обычная черная куртка из плащовки с утеплителем, но на этой черной плащовке на курточной спине была нарисована какая-то яйцеобразная штука, причем она так и сверкала — краски ну очень яркие! — да еще была обшита по контуру золотым шнуром, напоминающим аксельбант. Причем видно было, что это не фабричная работа, а хозяин сам нарисовал, сам шнуром обшил. От куртки отчетливо пахло скипидаром.
— Вам, наверное, скучно? — раздался голос ювелира. — Вот, возьмите что-нибудь почитать. — Он положил на прилавок кипу журналов. — И вот это очень интересно — книжка о камнях. И садитесь, садитесь!
Он принес и стул.
— Спасибо, — разулыбалась Алёна. — А я на вашу куртку засмотрелась. Это эмблема цеха ювелиров? «Яйцо» Фаберже? Все эти яркие точки должны, наверное, означать драгоценные камни?
Ювелир поглядел на нее озадаченно, даже, можно сказать, ошеломленно, потом перевел взгляд на куртку — и махнул рукой, засмеялся:
— А, вот вы о чем! А я в толк не возьму… Это не моя куртка, это братишка мой балуется. Он мифологией увлекается, ну и нарисовал какой-то символ.
— Славянской мифологией? — обрадовалась Алёна. — Я тоже ею занималась, и даже очень плотно!
Она чуть не сказала, что вместе с бывшим мужем, Михаилом Ярушкиным (да-да, некогда наша фривольная героиня была замужем, звалась Еленой Ярушкиной, ну а потом как-то сама собой переквалифицировалась в писательницу-детективщицу Алёну Дмитриеву), даже составила в оны годы грандиозную энциклопедию славянской мифологии, которая была издана с умопомрачительными картинками, однако сочла, что это будет неуместно. Вот если ювелир спросит…
Но он не спросил, только сказал:
— Да всякой. Славянской, античной, еще северной какой-то, нибелунги там, викинги… по-моему, у него все в одну кучу свалено, язычник он, короче. Слышали, может: в развалинах Куйбышевской водокачки язычники тусуются? Ну так он из них. А я вчера свою куртку прожег нечаянно, отнес в ателье заштуковать, ну и надел братову, пока он спал.
— А брат проснется — в чем пойдет тусоваться? — хихикнула Алёна.
— У него другая есть, — успокоил ювелир и снова ушел за дверь.
Алёна еще немножко полюбовалась на эмблему, на тщательность работы и вспомнила, как в былые годы — очень-очень молодые! — когда жила у тетушки на Дальнем Востоке, в городе Ха, и недолго училась в Педагогическом университете, ездила со студенческим путинным отрядом на остров Шикотан, на Курилы. Это было эпохальное морское путешествие в красивейшее место в мире. И вот там у студентов считалось высшим шиком самостоятельно нарисовать что-нибудь на своей зеленой стройотрядовской куртке. Алёна изобразила серебристую рыбку (их отряд работал на заводе, где консервировали сайру) на фоне синего моря, зеленых сопок и золотого солнца. Еще где-то там маячил кораблик под алыми парусами (отряд назывался «Каравелла»). Куртка после окончания художественных работ изрядно отяжелела от краски и устойчиво пахла скипидаром, зато красотища вышла невероятная.
Алёна немножко поностальгировала, вспоминая былое, потом все же села на стул и взялась за «книжку о камнях».
Разумеется, первым делом прочитала статью про волосатик. И вот что вычитала:
«Среди различных разновидностей обычной двуокиси кремния знатоки минералов особо выделяют прозрачные кристаллы кварца с тонковолокнистыми включениями, напоминающими волоски или тончайшие иголочки. Это так называемый рутиловый кварц: кварц (кристаллический оксид кремния) с тонкими кристаллическими включениями других цветных минералов (обычно золотистого и/или черного цвета).
Минерал рутил обеспечивает прелестные золотистые включения и формирует почти самый дорогой камень из семейства кварцев (рутил, расположенный звездой, также увеличивает ценность рубина). Рутил (оксид титана ТiO 2 ) встречается в виде призматических, столбчатых, игольчатых и волосовидных кристаллов с простыми формами. Характерны коленчатые двойники, тройники, сетчатые сростки двойников игольчатого рутила (сагениты). Кристаллы нередко изогнуты. Толщина таких кристаллов варьирует от миллиметра до десятых долей миллиметра, а цвет может казаться золотистым, серебристым и даже зеленоватым».
Вот тебе и волосатик! Прелестные золотистые включения… Красиво написано!
Алёна читала дальше:
«Рутиловый кварц был известен людям уже много тысячелетий тому назад. Считается, что включения рутила увеличивают магические свойства кварца. Прямые игольчатые включения независимо от цвета называют стрелами Амура, а изогнутые и переплетенные включения — волосами Венеры. По другой трактовке, стрелы Амура — это черные включения, а волосы Венеры — золотистые. Есть еще одно мнение, что стрелы Амура — это толстые, а волосы Венеры — тонкие кристаллы. Единой трактовки не существует. Считается самым мощным приворотным средством (как подарок). Усиливает красоту, привлекательность, сексуальную энергию. Будит фантазию и вдохновение у творческих людей. Волосатик помогает в личных делах, ему всегда сопутствуют богатство и успех. Защищает от магии. Стрелы Амура стимулируют плотскую страсть, а волосы Венеры — более возвышенную духовную любовь. Считается, что кольца и кулоны с рутиловым кварцем замедляют процесс старения. Рутиловый кварц отгоняет тоску, грусть одиночества, наделяет своего владельца даром предвидения и позволяет предсказывать будущее. Мусульмане считают кварцы-волосатики с черными прямыми кристаллическими включениями священными камнями, называя их бородой Магомета. На Востоке этот камень считался драгоценнейшим и назывался Философским камнем Востока. Весьма ценили его и северные народы.
По легенде, богиня любви Венера, купаясь в горном источнике, потеряла прядь своих чудесных золотых волос. Обнаружив пропажу, вернулась их забрать, но поскольку время на Олимпе течет гораздо медленнее земного (там прошло несколько мгновений, а на Земле месяцы), наступила зима, и вода замерзла вместе с волосами. Вначале Венера очень расстроилась. Но волосы в замерзшей воде выглядели так красиво, что богиня решила не забирать прядь, а чтобы никто не смог посягнуть на божественные локоны, превратила лед в прозрачный камень (по-гречески кристаллус — это лед). И с тех пор люди находят диковинный хрусталь, хранящий волосы Венеры».
С ума сойти! Ну просто поэзия! И насчет творчества — в самую точку! Для прекрасной писательницы этот камень подходит идеально!
В мастерскую вошла молодая женщина в длинном черном пальто и маленькой шапочке, плотно охватывающей голову, и нетерпеливо постучала о прилавок.
— Минуточку! — крикнул мастер. — Ровно минуточку!
Он появился через две и вручил Алёне браслет, а потом выслушал ее благодарственные охи-вздохи. Правда, теперь на его лице было написано явное желание, чтобы восторженная дамочка со своим грошовым заказом поскорей ушла и оставила его наедине с новой клиенткой, которая, конечно же, пришла с заказом по золоту, или серебру, или платине, а может, по всем, вместе взятым, ну и с камушками драгоценненькими, само собой!
Алёна быстренько одарила ювелира улыбкой, простилась и ушла. Но первое, что она сделала, выйдя за дверь мастерской и надев на руку увеличенный — за счет вставленного между звеньями латунного колечка — браслет, это внимательно всмотрелась в камень. Налицо были и толстые («стрелы Амура»), и тонкие («волосы Венеры») кристаллы, причем самым причудливым образом переплетенные. «Бороды Магомета», правда, не имелось, да и Аллах с ней, с бородой, она тут, в компании античных божеств, согласитесь, совершенно неуместна.
С этой минуты Алёна не уставала ждать, когда же камень начнет проявлять свои волшебные свойства. Она еще сильнее полюбила очаровательный браслет, носила его практически постоянно, ну вот разве что с черными серьгами не надевала, и вот вдруг, после небольшого перерыва, такая странная история!
Если бы это была носильная вещь, можно было бы сказать, что она села после неосторожной стирки или ссохлась, как иногда случается с кожаными туфлями. Но браслет?
Мистика какая-то. Совершеннейшая мистика!
Дела давно минувших дней
Вот любопытно было бы узнать: все люди такие слепые, глухие и дурные, вроде меня? Все они тащатся по жизни, либо зажмурясь, либо рот раззявив, ничегошеньки особенного в том, что вокруг происходит, не замечая, уверенные, что жизнь — это ни к чему не обязывающий перечень случайностей, а роковую роль в нашей судьбе играют либо заведомые злодеи или власть имущие, кои к нам или расположены, или нет? А может, сыщется кто-то, в случайной встрече или событии мгновенно распознающий перст судьбы?
Увы… я к таким провидцам не принадлежу и никогда не принадлежал. Вот-вот, время прошедшее относительно меня с каждой минутой становится все более уместным. Скоро самым уместным будет плюсквамперфект, давно прошедшее время… А ведь все сложилось бы иначе, владей я провидческим даром или хотя бы какой-никакой способностью к нему. Впрочем, Господь с ним, с прови́дением. Жаль, что я был довольно глуп и совершенно не озадачивался возможными последствиями тех событий, которые со мной приключались. Ну вот, к примеру, подарок Эльвиры… Человек поумней, посмекалистей, да что — просто поосторожней, чем я, непременно задумался бы, нет ли в нем чего-то необыкновенного. Вот сейчас, с высоты прожитых лет, которые вовсе даже не отдалили, а напротив, как бы приблизили ко мне давно минувшие события, словно под воздействием микроскопа, в который люди научные рассматривают каплю воды и видят в ней некие живые, но простым глазом невидимые существа, я вижу не только то, что происходило, но и то, что подразумевалось…
Эх, кабы раньше мне ту сообразительность! Сколько бы напортачено не было! Скольких бед и сам избег бы, и другим не принес! Эх… воистину, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил!
Какая теперь дребедень в голову лезет… Вот, к примеру, купил я нынче сию тетрадку и карандаш химический. Купил, дабы начисто переписать роль Тетерева в пьесе Максима Горького «Мещане», которую наша труппа взяла к постановке. Сказать по правде, моя в этом спектакле — роль Бессеменова. Но не могу сказать, чтоб с охотой брался именно за эту роль, хотя она в мои годы вполне в моем амплуа. Я бы лучше Тетерева сыграл… вот человек! Он и смешон, и величествен, как всякий резонер с несостоявшейся судьбой. Тетерев — вечный изгнанник жизни. Похож на нашу актерскую братию. Все мы вечные паяцы, клоуны да изгнанники, оттого мне и хотелось сыграть его. Но, как говорится, noblessе oblige! При моем статусе Тетерева играть вроде бы невместно. Да и нет у нас другой кандидатуры на амплуа «благородных отцов», кроме меня. Деваться некуда, но я очень ревниво смотрел на «резонера» нашего, Паву Ивашова, которому сия роль досталась при распределении. Все мне казалось, что я иначе сыграл бы! Лучше! Вот и решил для себя роль Тетерева переписать, чтобы хоть наедине ею наслаждаться. Для того тетрадку из дорогих, с хорошей бумагой купил и карандаш непростой.
А вышло что? Вышло, что я эту тетрадку купил для того, чтобы записать последние свои в этой жизни слова? Потому что, будь честен перед собой, Никита Львович Старков-Северный, надежды у тебя, чтобы отсюда выбраться, нету никакой…
Кто и когда сюда вдруг явится и за какой надобностью? Никто и никогда, да и зачем? Ни одна душа не знает, что пошел я к станции… Нет, знает Серафима! Она меня сюда и вызвала обманом! Но ей и в голову не взбредет искать меня в провале. Придет, не застанет меня — и решит, что я просто манкировал ее просьбою. Собрался с силами и решил-таки вырвать свое сердце из когтей этой хищницы… Ну а как иначе объяснить то, что меня нет на месте свидания?!
Конечно, слух о том, что бесследно исчез артист Старков-Северный, рано или поздно пройдет… меня станут искать… Но дойдет ли этот слух до Серафимы, вот в чем вопрос? Да даже если и дойдет! Разве взбредет в голову бессердечной особе, которая только чудом не стала соучастницей моего жестокого убийства, озаботиться судьбой человека, который готов был бросить жизнь к ее ногам?
Разве что случайно кто-нибудь услышит мой крик… Но разве можно его услышать сквозь шум воды в трубах? Я и сам не слышу ничего, ровно ничего! Если б до меня донеслись шаги или голоса, я стал бы звать на помощь, орал бы, срывая глотку, но я не слышу ничего, кроме этого усыпляющего, убаюкивающего шума…
Одна надежда, что слесарь, с которым говорил я в станционном садике, вспомнит обо мне. Хотя нет, он же был уверен, что я ушел, сам проводил меня на дорогу! И если он вспомнит, то лишь когда пройдут дни и я умру…
Нет надежды!
Вот сижу, пялюсь в стены моего невольного каземата… чудесный дар никталопии, которым я сделался наделен после нескольких лет жизни на севере, дает возможность писать… писать предсмертные записки…
Наши дни
Алёна разглядывала браслет, пытаясь понять, что произошло. Может, кто-то назовет это мелочностью и мещанством и предложит выкинуть несчастную побрякушку, однако браслетик стоил в магазине «Клеопатра», что на площади Горького, под две тысячи рублей, да еще полтыщи ушло на ремонт, а две с половиной тысчонки — не столь уж малая сумма для писательницы, которая в поте лица своего трудится с утра до вечера, но ни славы, ни состояния так и не стяжала. Слава — фиг с ней, она, как известно, яркая заплата, но мечталось порой о гонорарчиках повесомей, пощедрей…
Короче говоря, Алёна Дмитриева находилась не в том материальном положении, чтобы направо и налево швыряться итальянскими браслетами, тем паче — с волосатиком! К тому же она по сути своей была аналитиком, именно поэтому и писала детективы, а не просто любовные романы. Хотя любовные тоже писала, когда приходила охота.
Словом, повинуясь гласу кошелька и зову своей натуры, она продолжала рассматривать браслет. И вот что обнаружила. Латунного колечка, которое ювелир вставил, дабы браслет увеличить, на месте не оказалось! Оно было прилажено между двумя маленькими петельками на краю двух овалов. Один со стразами, второй — с осколочками рыжеватого халцедона. И вот теперь петельки цеплялись одна за другую.
Несколько мгновений Алёна тупо их разглядывала, совершенно не понимая, что произошло.
Конечно, колечко могло выпасть. К примеру, спайка неплотная. Но тогда браслет потерялся бы. Как петельки сами собой снова сцепились? Фантастика какая-то! Или это могло произойти?
Теоретически — нет. Но, может, практически — да?
Ни до чего путного Алёна не додумалась и думать бросила, потому что пришла ей пора собираться на шейпинг. Надо сказать, она более или менее следила за фигурой и хотя спорт вообще, кроме верховой езды, не любила, много ходила пешком и вот уж десяток годков исправно, два-три раза в неделю, посещала шейпинг-зал. Раньше он находился в Доме культуры имени пламенного революционера, одиозной исторической персоны Якова Свердлова, а с недавних пор переехал в район Средно́го рынка, в новые дома по улице имени другой одиозной персоны, пламенного революционера, комиссара печати, пропаганды и агитации Володарского. Что за тяга имелась у дирекции шейпинг-зала к революционному прошлому Нижнего Горького, Алёна не понимала, а впрочем, мыслями этими не слишком-то себя отягощала. Сейчас ее куда больше занимало, что приключилось с браслетом.
Так вышло, что путь ее в шейпинг-зал лежал как раз через перекресток улиц Ванеева и сестер Невзоровых… Господи, да куда ж от них от всех деваться, от этих призраков русских революций?! Именно на этом перекрестке находился дом, в подвальчике которого размещалась знакомая ей ювелирная мастерская. И Алёна решила зайти туда по пути и попросить снова увеличить браслет.
Она спустилась в подвальчик и остановилась перед прилавком. За ним никого не оказалось.
Алёна осторожненько постучала согнутым пальцем о край прилавка. Дверь приоткрылась — выглянул чернявый и небритый парень. Мешковатый свитер висел на нем, как на перевернутой швабре. В глазу торчала лупа.
— Слушаю вас, — сказал он каким-то тягучим голосом.
Этого человека Алёна видела впервые.
— Извините, — робко молвила она, — а другой мастер — он завтра будет работать?
— Какой другой мастер? — удивился чернявый. — Я здесь один. — И ткнул себя в грудь, как бы подтверждая.
— Несколько дней назад я ремонтировала здесь браслет, и мастер был другой, — покачала головой Алёна. — Такой, знаете… — Она попыталась вспомнить: — Чуть пониже вас ростом, поплотнее, волосы светлые, очень приятное лицо такое…
— Да нет тут никакого другого мастера, ни со светлыми волосами, ни лысого! — Чернявый вынул лупу и утомленно потер глаз. — Вы чего хотели-то, девушка? А то меня работа ждет.
— Понимаете, — заспешила Алёна, — вот этот браслетик, видите, он мне чуть маловат, мне его тут расширили, колечко вставили вот сюда, — она ткнула ногтем в сцепочки между овалом со стразами и овалом с жемчужинками, — а оно вывалилось, что ли, я не пойму, а петельки эти сами сцепились, тоже не пойму как… Может, вы посмотрите?
— Мы только с драгметаллами работаем, — еще более тягуче сказал чернявый. — Я даже не знаю, кто за эту работу возьмется.
— А тот, другой мастер брался! — упрямо сказала Алёна.
— Да нет тут никакого другого мастера, что вы мне голову морочите! — рассердился чернявый, но все же руку протянул и взял из рук Алёны браслет. — Ладно, дайте-ка погляжу…
Он снова вставил лупу в глаз и принялся вертеть и оглядывать браслет.
— Где, говорите, вставка была?
— Вот здесь, здесь! — снова ткнула ноготком Алёна между овалом с жемчужинками и овалом со стразами.
— Э-э… — протянул мастер и вернул браслет. — Вы, девушка, что-то путаете, честное слово. Никаких следов работы не видно, эти петли фабричной спайки, они так и держались друг за дружку, ничего не нарушено.
— Э-э… — невольно процитировала его изумленная Алёна, — да нет, не может быть, ну, конечно, может… вдруг я перепутала петельки, вдруг не между этими вставка была… посмотрите, ради бога, на другие, а?
— Да уж посмотрел, — скучным голосом сказал мастер, возвращая браслет. Он говорил так медленно, словно солому жевал — совершенно по пословице. — Фабричную работу сразу видно, никто тут ничего не вставлял и не впаивал. Может, вам другой браслет ремонтировали? Может, вы не петельки, а браслеты перепутали?
Нет слов, гениальная рассеянность была пожизненной спутницей Алёны Дмитриевой, которая вечно что-то путала и забывала. И она малодушно подумала: «А может, и впрямь…» Но приступ самоуничижения длился только миг. Все же браслеты — не колготки в сеточку, их так просто не перепутаешь. Такойбраслет у Алёны был всего один! И ей хотелось думать, что он вообще уникален!
— А может, я мастерские перепутала? — ехидно спросила она. — В самом деле, неделю назад здесь был другой приемщик, а вы меня убеждаете, что вы единственный и неповторимый.
— Я тут всего пять дней работаю, — угрюмо промямлил чернявый. — И никакого другого приемщика здесь больше нет!
— Но где тот, что работал до вас?! — чуть не закричала Алёна. — Где он теперь? Скажите, бога ради!
— Чего не знаю, того не знаю! — развел руками чернявый. — Меня взяли на вакантное место. Все? Больше вопросов не имеете?
— Не имею, — буркнула Алёна и вышла вон.
Ее так трясло от злости, что она некоторое время даже не отдавала себе отчета в том, куда идет. И длилось это состояние минут десять, пока Алёна внезапно не обнаружила себя стоящей перед дверью… ювелирной мастерской.
Нет, не той же самой, а другой, находящейся на улице — вы не поверите! — Пискунова, названной так по имени революционера-террориста Пискунова Александра Ивановича. Ну вот такой это город Нижний Горький, в красных пятнах тут и там…
Чувство юмора было одним из определяющих качеств Алёниной натуры. Поэтому она только засмеялась совпадению и, все еще улыбаясь, вошла в мастерскую.
Через пять минут она вышла оттуда уже без намека на улыбку.
Ну, само собой, мастер отказался взять браслет в работу, потому что и здесь работали только с золотом. А еще он сказал, что никаких следов постороннего вмешательства он не обнаружил. Потому что его не было: все петли и колечки запаяны фабричным способом.
Хотите верьте, хотите нет.
Дела давно минувших дней
Не единожды слыхивал расхожее мнение, будто в последние минуты перед смертью вся жизнь человека проходит перед его глазами. Насчет минут не уверен… полагаю, до смерти мне остаются еще многие часы, может быть, дни. Что раньше убьет меня, голод или жажда? Нет, не стану о сем думать. Лучше пусть перед глазами пройдет жизнь… я могу писать, пока не кончится тетрадь и пока не испишется карандаш. На счастье, у меня в кармане перочинный нож — есть, чем очинить, когда он затупится. Вдруг пришло в голову: а ведь этим ножом я смогу прекратить свои мучения, когда они станут невыносимы. Если вскрыть жилы, моя смерть будет более скорой и легкой, чем от голода и жажды…
Господи, прости мне, грешному, мысли сии… Господи, никогда не думал я, что стану размышлять о таких вещах… Но если мы и в самом деле все в руце Твоей, Ты ведаешь, что Сам подвел меня к этим мыслям… так отведи меня от сих посылов, ибо они претят мне. Смилуйся надо мной и утешь меня… утешь хотя бы воспоминанием о днях, когда я был еще молод и несведущ в тех пропастях, кои Ты уготовил мне!..
Ну что ж — вспоминать так вспоминать! О чем же? С чего начать?
Как и положено — с самого начала.
Детство мое прошло в Петербурге. Мне всегда казалось, что с тех пор и назначено было мне сделаться актером. Стрекот швейной машинки и запах краски сопровождают непременно всякое представление о прошлом. Моя мать с утра до вечера сидела за машинкой и шила платья для одной из лавок Гостиного двора. Отец писал иконы и продавал на базаре. Ах, как потом вспоминал я эти звуки и запахи, когда начало вокруг меня вершиться театральное действо! Но тогда, само собой, я и не думал ни о каком театре — гонял себе по улицам, лазил на заборы и деревья, бил из чистого озорства витрины да фонари, успевая улепетывать от городовых. Потом отдали меня учиться в частную школу, да вот беда — прилежание к наукам не было моей стезей. Выгнали меня, и прошло немалое время, прежде чем родители снова пинками да тычками определили меня в ученики, на сей раз типографские. Но и там дело не заладилось. Уж не знаю, кем бы я стал в жизни, кабы не привели меня однажды приятели в Александринский театр. Само собой, пошли мы в раек, иначе говоря — на галерку, однако время до начала действия я провел, перегнувшись через перила и разглядывая ярусы бельэтажа, бенуара и партер. В райке толпились студенты в своих тужурках да курсистки в скромных платьях, по большей части темно-синих или коричневых. А внизу сияли драгоценные камни в уборах дам, переливался шелк и атлас, мраморно белели обнаженные плечи. Их кавалеры тоже сияли черным атласом фраков или сверкали эполетами.
Заиграли какую-то музыку. Тогда в столице была такая манера — даже в драматическом театре «для съезда» перед началом представления играли что-нибудь из модных оперетт, совершенно никакого отношения к действию не имеющее. В антрактах тоже частенько звучало нечто подобное.
Ну что ж, в этом был смысл, потому что меж знатной публики «шикарным» считалось опаздывать в театр. И во время этой, с позволения сказать, увертюры то и дело хлопали двери и в партере и ложах появлялись новые зрители. Гвардейцы громко звенели шпорами — надо думать, все для того же шику.
Но вот наконец занавес раздвинулся — и я забыл обо всем на свете. В тот вечер давали «Гамлета»…
С тех пор я сделался завсегдатаем Александринки. Чаще двух раз в неделю бывать там не приходилось, но каждый вечер был чудесен. Я не видел ни грубо размалеванных кулис, ни убожества декораций, которые по большей части кочевали из пьесы в пьесу, ни примитивных мизансцен (актеры, как правило, сидели или бесцельно бродили по сцене). Главное, что они играли великолепно — театр дрожал от аплодисментов. Странно ли, что я только и мечтал, как бы стать актером?
В шестнадцать лет я был довольно высок и крепок, физиономией тоже удался, скажу не хвастая, не зря же потом долго держался на амплуа героев-любовников. Меня охотно стали брать в массовые сцены, потом дали крохотную ролишку в любительском театре… Боясь, что отец каким-то образом об этом узнает, например, увидит мое имя на афише (разумеется, я преувеличивал и известность театра, и интерес отца к нему), я взял псевдоним. Да и не все ли настоящие актеры носили псевдонимы?! А я очень хотел поскорей стать настоящим актером…
Фамилия моя Старков, а псевдоним принесло ветром. Долго я выбирал что-нибудь позвучней, но в голову приходили всякие пошлые Гиацинтовы или Мавританские. Но вот как-то шел по улице, и долетел до меня обрывок разговора.
— Ох и холодина нынче! — жаловался кто-то.
— А чего ж ты хочешь, ветер-то северный! — отвечал другой.
«Северный! — в восторге подумал я. — Нашел!»
С тех пор я и стал Старковым-Северным.
Наверное, если я подробно стану описывать начало и развитие моей актерской карьеры, мне не хватит моей тетрадки. Чего я только не испытал! Играл в балаганах, которые ставили на Масленицу на Марсовом поле, играл во временных летних театрах. Я с успехом участвовал в живых картинах. Поскольку Великим постом официальные спектакли были запрещены, я организовал группу таких же молодых безумцев, и мы играли на любительских сценах под Петербургом… Но я мечтал о большом успехе! Многие мои сотоварищи покидали сцену, но я не сдавался. Часто слышал я разговоры, что, если актер не добился успеха в столице, надо ему попытать успеха в провинции.
Я призадумался: а может, в этом выход из вечного безденежья и безвестности? И опыта наберусь… Тут как раз дошел до меня слух, что в «Обществе любителей театра» Петрозаводска нужен режиссер. Я написал туда и предложил свои услуги. Прошло какое-то время, я и позабыл о своем письме, как вдруг явился ответ. Петрозаводское «Общество любителей театра» приглашало меня на должность режиссера, а за работу предлагало ежемесячно пятьдесят рублей и комнату с полным пансионом. Дорогу общество тоже брало на свой счет, однако оплатить расходы предлагало по прибытии моем в Петрозаводск. Помню, меня изумило, что письмо было подписано почетной попечительницей театра, госпожой Э. Сампо.
Странная фамилия. Финская, что ли? В тех краях много финнов.
Я немедля вообразил себе седовласую дебелую особу, плохо говорящую по-русски, с которой мне придется, быть может, сражаться, отстаивая свои взгляды на искусство, и заранее ее невзлюбил. Мелькнула даже мысль: не отказаться ли?
Если бы я сделал это, жизнь моя сложилась бы совершенно по-иному… и в этой ужасной яме, в своей будущей могиле, я бы уж наверное не сидел! Но никто не избегнет судьбы своей — в те минуты, когда я мучился сомнениями, ехать в Петрозаводск или нет, сгорел театрик, в который я было пристроился на первые роли… другой работы не было, а потому принужден я был ввериться обстоятельствам, которые подталкивали к отъезду на север.
Тут я подумал, что сам накликал себе это путешествие, когда принял псевдоним Северный. Ну что ж, делать нечего!
Надо сказать, что в те времена железную дорогу до Петрозаводска не проложили еще. Предстояло ехать на лошадях… стояла зима. Пальтецо мое было, как говорится, на рыбьем меху. Снеся в ломбард все, что мог, из своего жалкого добра, я получил какие-то деньги, на которые купил себе на Апраксином рынке подобие шубейки и валенки. И стал прикидывать, на чем добираться.
На почтовых показалось дорого. Решил ехать на крестьянских, попутных.
Собрал в сундучок остатки своего барахлишка и отправился на базарную площадь, где по трактирам начал искать возчика.
Никто не направлялся прямиком в Петрозаводск, а потому ехать мне предстояло на перекладных, от деревни до деревни: сначала до Гречихина, потом на Шелудевку, оттуда на Макарьево…
Все эти названия были для меня пустым звуком, географии я совсем не знал. Но вот нашелся первый возчик — по имени Макар Иваныч, — и мы тронулись в путь.
Сколько раз прощался я с жизнью во время этого пути, думая, что замерзну в своей кацавейке, едва прикрытый какими-то рогожами и соломой, а иной раз, если мужик попадался жалостливый, и худым его тулупом…
Привезет меня возчик в деревню, отогреюсь в избе, выпив кружку чаю с краюхой черного хлеба, — и опять в путь, с другим мужиком. Куда ехать, решали сами возчики, я же твердил одно: мне нужно в Петрозаводск! И снова еду, еду… То солнце кругом, то тьма. Я ехал днем и ночью.
Ночью было особенно жутко. Вот тянется сквозь густой лес дорога. По сторонам высоченные сосны и телеграфные столбы, которые, как чудится мне, достигают своими вершинами самого неба, самых звезд. Свистит ветер в ветвях и проводах. Чудится, он отпевает меня, одинокого, голодного, замерзшего… Страшно. В деревнях почти не говорят по-русски. Здесь уже живут карелы. При слове «Петрозаводск» они щурят свои голубые глаза и кивают: мол, понимаем, привезем тебя, куда надо.
И самое удивительное, что в один прекрасный день я и в самом деле оказался в Петрозаводске.
Наши дни
Алёна вышла из дверей мастерской и принялась разглядывать браслет, словно хотела увидеть нечто, опровергающее приговор ювелира. Ну, понятное дело, в спайках она ничего не понимала и ничего такого особенного в них не нашла, зато в самом камне волосатике обнаружилось нечто, достойное изумления. И это нечто было черным кристалликом в золотистой, исчерченной золотистыми же тонкими стрелками-волосками глубине. Кажется, в книжке про камни оно называлось бородой Магомета или как-то в этом роде, Алёна уж не помнила хорошенько. Зато отлично помнила, что раньше этого пятнышка в камне не было!
— А, ну теперь все ясно, — пробормотала она. — Браслетик-то мне подменили!
Да уж, ясней некуда…
Кто подменил? Когда? Зачем? А главное, каким образом?!
В квартиру, что ли, влезли?! Даже думать об этом не хотелось.
Алёна посмотрела на часы, словно на циферблате мог быть начертан ответ, но, натурально, ничего там не нашла. Что могло быть начертано на циферблате ее электронных часов, кроме четырех цифр: 15.40? А это значило, что через двадцать минут начнется тренировка, а до шейпинг-зала еще пилить да пилить, причем пешком!
Отвязаться от мыслей о браслете наша героиня уже не могла. Думала, пока шла, думала, переодеваясь для тренировки, думала, когда становилась в любимом месте зала поближе к приоткрытому окну (она предпочитала замерзнуть, лишь бы не задыхаться), когда брала коврик, палку и гантели, когда расстегивала часы и укладывала их рядом с сумкой, потому что терпеть не могла, если что-то стесняло во время интенсивного дрыгоножества и рукомашества…
Вышеназванные процессы здорово помогали Алёне отвлечься от мыслей — даже самых печальных. В былые времена она не без помощи шейпинга пережила даже разрыв с мужем, Михаилом Ярушкиным, и такая мелочь, как подмена браслета, напрочь вылетела у нее из головы.
Час тренировки промелькнул как миг. Алёна оделась, ощущая приятную усталость и, как всегда, дикий аппетит (а ведь минимум три часа после шейпа нельзя есть!), собрала свои вещички и пошла в гардеробную за пальто.
— Алёна! — выглянула из зала тренер Анжела. — Вы забыли часы!
— Опять! — хохотнула администратор Лариса Леонидовна.
— Рассеянный с улицы Бассейной, — с извиняющейся улыбкой сказала Алёна и надела часы, в очередной раз порадовавшись, что они у нее такие приметные, броские, с разноцветным электронным циферблатом (часы со стрелочками Алёна терпеть не могла), их не перепутаешь, не подменишь, не то что несчастный браслет.
Браслет… А ведь браслеты она тоже всегда снимала! И другие, и этот, с волосатиком… Но ни разу не забывала после тренировки. Или забывала?
Она вышла на улицу, машинально накинула капюшон, машинально свернула в подворотню.
Возможно… кажется… да-да, причем не столь давно! И именно браслет с волосатиком! Она уже совсем собралась было уходить, когда из зала прибежала Анжела и подала ей браслет. Алёна уже стояла, можно сказать, в дверях и очень спешила, поэтому сунула браслет в карман пальто, пошла своей дорогой и с тех пор и до сегодняшнего дня его не надевала!
Это было… нет, не вспомнить… несколько дней назад.
Вообще все в голове перепуталось, жизнь так быстро идет…
Но что, получается, что браслетик подменили именно тогда?
Странно. Странно… хотя, наверное, объясняется очень просто. У кого-то был такой же, они лежали рядом во время занятий, и другая дама взяла Алёнину побрякушку. Не самое лучшее объяснение хотя бы потому, что Алёна клинически не помнила, чтобы ее уникальный браслетик лежал рядом с аналогичным. Нет, все же лучше согласиться. Или нет? Подмена произошла не нечаянно, а нарочно. Кто-то увидел у Алёны браслет и во что бы то ни стало решил завладеть им.
Ага, ага, и ради этого он (вернее, она, конечно, потому что это чисто женские фокусы, да и мужчины в шейпинг-зал не ходят!) покупает точно такой же?! Ну ладно, украла бы, это хоть в какой-то степени логично…
Нет, есть еще одно очень логичное объяснение: неизвестной даме браслет тоже был маловат, как Алёне, она походила по ювелирным мастерским в поисках кого-то, кто увеличил бы украшение, но повсюду натыкалась только на спецов по драгметаллам, и она вконец отчаялась, а потом узнала — каким образом, интересно?! — что у Алёны браслет побольше, и решила подменить.
Бред.
Ладно, оставим пока вопрос, зачемэто сделано. Вернемся к вопросу — как?
Алёна вздохнула и повернула назад. Нажала кнопку домофона и, войдя в вестибюль спортзала, виновато улыбнулась администратору Ларисе Леонидовне.
— Еще что-нибудь забыли? — усмехнулась та.
Из зала выглянула Анжела.
— Анжелочка, — смущенно проговорила Алёна, — вы не помните, вам кто-нибудь отдавал вот этот браслет, который я могла забыть?
Анжела посмотрела на нее со странным выражением. Видимо, решила, что у писательницы Дмитриевой прогрессирующий склероз.
Ну и правильно решила, между прочим!
— Не помню, а что? — сказала она осторожно.
— Ничего, просто так, — ответила Алёна.
Лариса Леонидовна смотрела на нее с жалостью, как на сумасшедшую. И Алёна подумала: окажись она на их месте, смотрела бы на себя точно так же.
Она смущенно извинилась и повернулась к двери, как вдруг Анжела воскликнула:
— Вспомнила! Было дело! Только никто мне этот браслет не передавал, я сама его нашла в пустом зале, когда тренировка закончилась. Пошла окна открывать, смотрю — лежит. Я вышла и кричу: чей, мол, а потом про вас вспомнила.
Алёна радостно воскликнула:
— Да! Конечно! Спасибо! — И поспешила смыться.
Итак, украшение подменили. Кто? Может, сама Анжела? Нет, вряд ли, она очень худая, у нее изящные, тонкие запястья, на которых даже не увеличенный браслет болтался бы. И вообще, она такого не носит.
Тогда кто? Эх, не будь Алёна такой неорганизованной особой, ходи она на тренировки в одно и то же время, как все нормальные люди, могла бы понаблюдать за своими, так сказать, одногруппницами, сделать какие-то выводы… и какие, например? Не станешь же подходить ко всем и спрашивать: «Извините, это не вы заменили мой браслет и не могли бы вы вернуть его?»
Случайность исключена, никаких сомнений нет. Небось та женщина, которая его стащила, сделала это не для того, чтобы бить себя тапкой в грудь и признаваться в содеянном. Так что размышления бессмысленны.
Что остается? Опять пойти в какую-нибудь ювелирную мастерскую и предложить не пятьсот рублей, а скажем, тысячу за работу, которую в этих мастерских не делают. И носить новый как старый. Они ведь практически ничем не отличаются, ну вот разве что черное пятнышко в волосатике, но от него и камень, и браслет хуже не стали, может, еще больше магических свойств приобрели!
Обыкновенная женщина так и поступила бы.
Но Алёна Дмитриева не была обыкновенной женщиной. Она ведь писала детективы, а значит, обладала особым складом ума. Ум ее был зациклен (заточен, как теперь принято выражаться) на загадывании и разгадывании всевозможных загадок, запутывании и распутывании всевозможных узлов. Ну, иногда на разрубании их, если они казались го́рдиевыми. К тому же ей сейчас до зарезу нужен был сюжет для очередного романа, который через месяц следовало сдать в московское издательство «Глобус», а там еще и конь не валялся… А история с подмененным браслетом — чем не сюжет?
Размышляя таким образом, Алёна перешла площадь Горького и вдруг обнаружила перед собой магазин «Клеопатра» — тот самый, в котором купила украшение. Недолго думая, вошла.
Брякнул колокольчик на двери, и за прилавком мигом материализовались две продавщицы, интеллигентного вида дамы постбальзаковских лет. Алёна иногда думала, зачем для такого крохотного магазинчика (квадратов пятнадцать от силы!), отнюдь не забитого народом, две продавщицы. Ну, наверное, в этом имелся какой-то смысл, однако доискиваться Алёне было как-то неинтересно.
— Скажите, пожалуйста, — начала Алёна, доставая злополучный браслет из кармана и обращаясь к даме номер один, полноватой маленькой брюнетке с красивыми черными глазами, — вы не помните, кто у вас купил вот это?
— Вы, — выпалила дама номер один. — А что, есть сомнения? Я отлично помню, как вы его покупали — около двух недель назад, если не путаю. Вы сначала померили другой, тоже итальянский, витой, оригинальный, но попроще и подешевле, а потом увидели этот. И никак не могли выбрать, который купить, вам оба понравились, потом решили взять два, но боялись, что денег не хватит, стали считать и последнюю сотню нашли в кармане пальто. Вы были в этом самом пальто, и я еще спросила вас, где вы его купили, а вы сказали, что в «Шоколаде» на третьем этаже.
Если бы Алёна Дмитриева не была убеждена, что разевать рот — крайне неэстетично, она бы непременно разинула — от изумления.
Вот это, я вам скажу, память! Вот это профессионализм! Некоторым детективщицам надо бы на мастер-классы к этой продавщице походить!
— Здорово! — не скрыла она своего восхищения. — Нет, потрясающе! У вас совершенно ошеломляющая память! Неужели вы всех покупателей запоминаете?
— Если они — знаменитые писательницы, — довольно ехидно подала реплику вторая продавщица, изможденная блондинка. — Секлита Георгиевна целую кучу ваших книжек собрала! А мне они не слишком нравятся.
Алёна смутилась. Носительница столь необычайного имени — ну прямо из пьес Александра Николаевича Островского! — тоже.
— Ну да, они многим не нравятся, — с улыбкой кивнула Алёна, которая вообще реально смотрела на жизнь, а потому на непризнание своих заслуг не слишком обижалась. — Так себе книжки, очень среднего уровня.
— Ничего себе, среднего! — воскликнула Секлита Георгиевна. — Знаете, в какой-то статье про вас говорилось, что вы пишете только для умных женщин.
Ее месть напарнице-блондинке была тонкой и изысканной, и Алёна, которая сама обожала искусство намеков и нюансов, не могла не восхититься. Правда, прошло не меньше минуты, прежде чем остро отточенная стрелка долетела до цели и поразила ее.
— Да уж, конечно, если я Алёну Дмитриеву не читаю, значит, я не умная! — обиделась блондинка. — А мне вот Дина Рубинович больше нравится!
— Вы, наверное, хотите сказать, Дина Рубина? — ласково осведомилась Секлита Георгиевна.
Так, подумала Алёна, трудового содружества между коллегами нет как нет!
Блондинка покраснела до корней своих тщательно прокрашенных волос и смылась в подсобку, где очень своевременно зазвонил телефон.
— Нет, правда, я очень ваши книжки люблю! — улыбнулась Секлита Георгиевна.
— За мной новый роман! — твердо пообещала Алёна. — И даже два, если вспомните, был ли у вас еще один такой браслет и кому вы его продали.
Матово-черные глаза Секлиты Георгиевны засияли.
— Вы придумываете новый сюжет? — шепнула она заговорщически.
— Что-то вроде, — пожала плечами Алёна.
— Браслетов в самом деле было два, — тем же шепотом продолжала Секлита Георгиевна. — Один купили вы, а второй продали через три или четыре дня.
— Кому, не помните? — чуть не застонала Алёна.
— Продавала не я, — покачала головой Секлита Георгиевна. — Я болела.
— А кто? — насторожилась Алёна.
Секлита Георгиевна ткнула пальцем в сторону подсобки, где все еще говорила по телефону блондинка, и поджала губы. Янтарный блеск в ее глазах померк.
— Может, она помнит? — с надеждой спросила Алёна.
— Да вряд ли, — покачала головой Секлита Георгиевна и, как показали следующие десять минут, оказалась совершенно права. Блондинка, которую звали Раиса Федоровна, не просто не помнила, но не помнила даже как-то воинствующе, с особым, несколько садистским удовольствием.
— А зачем вам это нужно? — спросила она наконец, когда Алёна уже несколько охрипла от просьб.
Алёна пожала плечами. Рассказывать нелепую историю с подменой браслета не хотелось.
— Это для сюжета! — подсказала Секлита Георгиевна.
— Ах для сюже-е-ета… — презрительно протянула Раиса Федоровна. — Для сюжета вашего я и напрягаться не стану, и вспоминать не буду.
— Ну и не надо, — обиделась Алёна. — Обойдусь.
И ушла, улыбнувшись на прощание Секлите Георгиевне и призывая себя успокоиться. Если все время думать о том, что тебя так изощренно ограбили, поневоле станешь мизантропом. Не лучше ли относиться к случившемуся с юмором, благо чувство оного в наличии имеется? И вообще выкинуть из головы эту дурацкую историю с браслетом, волосатиком, ювелиром…
Самые проницательные читатели уже, конечно, догадались, что сделать это Алёне Дмитриевой не удалось.
Дела давно минувших дней
Я приказал подвезти себя к гостинице. До сего времени стоять в гостинице мне никогда не приходилось, и по пути, то есть когда я уже уверился, что доберусь до Петрозаводска живым, я навоображал себе невесть что — вроде «Астории» по меньшей мере. Однако же по мере приближения к сему «отелю» я постепенно соразмерял свои фантазии с реальностью. Дома здесь были большей частью деревянные, одноэтажные и неприглядные. Таким же оказался и «отель», носивший незамысловатое название «Северный». Впрочем, это показалось мне хорошим предзнаменованием! Ведь таков же и мой псевдоним!
В гостиничной конторе предъявил я документы. Помню, меня удивило тщание, с каким их проверили сначала хозяин, а потом полицейский чин. Тогда я еще не знал, что Петрозаводск — место поселения многих ссыльных, поэтому всякий новый человек брался здесь на заметку: а не прибыл ли он с некими противоправительственными злоумышлениями?
Я на первый взгляд был персоной, никакого доверия не заслуживающей: одет кое-как, чрезвычайно грязен, голоден, как зимний волк, а то и лютее, денег при себе не имел ни копейки (хозяин не замедлил стребовать с меня плату вперед), к тому же назвался актером и режиссером.
Хозяин и полицейский чин при сем наименовании переглянулись с задумчивостью. Мне, дрожащему от холода и мечтающему о теплой бане и сытном обеде, вздумалось, что меня немедля повлекут сейчас в кутузку — до выяснения обстоятельств, и я вынул письмо от Э. Сампо. И пожалел, что не сделал этого раньше!
Стоило лишь полицейскому чину сие письмо увидать, как отношение ко мне вмиг переменилось. Оказывается, хозяин получил касательно меня особые распоряжения, согласно которым все мои расходы в первое время — до получения аванса в казначействе театрального общества — берет на себя само общество. То есть немедля был мне предоставлен номер и исполнены самые заветные желания, касающиеся обеда, бани и отдыха.
Затем я отправился к казначею на дом и получил аванс двадцать пять рублей. От огромности этой суммы у меня натурально сперло дыхание.
— Я должен быть благодарен господину Сампо, — сказал я.
— Госпоже, — уточнил казначей. — Номинально председателем нашего театрального Общества является господин губернатор Николай Иванович Русков, но фактически — его супруга, Эльвира Михайловна. Мы все подчинены ей. Очень умная, образованная дама, весьма сведущая в театральной жизни: выписывает все новинки и сама мечтает играть на сцене. Да что, у нас и драматург свой есть — Карнович, из ссыльных. Непременно станет вам свои творения предлагать, соперничая с Грибоедовым и Островским!
Я несколько приуныл. Сказать по правде, еще в Питере доморощенные драматурги внушали мне ужас. Очень редко они писали что-нибудь пристойное. Но еще больший ужас внушала губернаторша, возомнившая себя актрисой! А что, если она бездарна? Как мне быть, как отказать ей? Да ведь если она окажется самодуркой, меня выгонят вон! А что, если прежний режиссер был изгнан именно за это? Неужели придется уехать, едва сюда добравшись? По той же смертельной дороге?!
Меня пробрал мороз.
Не хотелось думать о грустном загодя, а потому я перевел разговор на другое:
— А почему ее превосходительство избрала такой странный псевдоним? Что это значит — Сампо?
— Честно говоря, не знаю, — пожал плечами казначей. — Это что-то из каких-то сказок лопарей, карелов, саамов… Ее превосходительство без ума от этих сказок, но я, честно признаюсь, этим не увлекаюсь, предпочитаю, знаете ли, Мопассана! — И он игриво подмигнул.
На этом мы простились, и я, напутствуемый советом непременно нанести завтра визит их превосходительствам, отправился в гостиницу, ибо день уже давно сменился темнотой. Здесь зимние дни оказались еще короче, чем в Петербурге.
Лишь войдя в гостиницу, я услышал женский тихий плач и за поворотом коридора разглядел хозяина, рядом с которым стояла светловолосая девушка в сползшем на плечи большом клетчатом платке. Волосы ее, удивительно гладкие и блестящие в свете лампы, которую держал хозяин, были заплетены в длинную косу.
Хозяин ей что-то грубо выговаривал, но увидел меня и шикнул. Девушка, повернувшись, бросилась вон. Я успел увидеть залитое слезами хорошенькое личико. Впрочем, она на меня не взглянула.
Заметив мой любопытный взгляд, хозяин вдруг сказал:
— Чистота — лучшая красота. А коли она утрачена — остается только слезы лить.
Я обратил внимание, что хозяин, черноглазый и темноволосый, явно не местный житель — здешние все светловолосы и светлоглазы, — говорит с некоторым акцентом, а главное — с той же протяжностью и флегматичностью, как уже виденные мною карелы, из чего я заключил, что природа Севера и общение с этой немногословной нацией настраивают людей на спокойное поведение в любые мгновения жизни. Мне бы тоже не помешало обрести толику спокойствия, ибо я страшно волновался. Уповая на провидение, которое и прежде было ко мне милостиво, я отправился в свой номер и лег спать, наказав разбудить меня не позднее девяти, ибо опасался заспаться, а казначей успел меня предупредить, что ее превосходительство — пташка ранняя, для нее начинать прием в десять или одиннадцать утра — самое обыкновенное дело.
Думал, что буду спать как убитый — после моих-то дорожных мучений, но нет, среди ночи вдруг проснулся. Странное было ощущение — словно кто-то подошел и коснулся лица.
В комнате было темно, лампадка под образом не давала почти никакого света.
Кое-как зажег свечу… никого.
Да и не могло тут быть кого-то!
На все лады повторяя это, я принуждал себя спать, но ощущение теплой ладони на моем лице не оставляло меня. И не мог я понять чувства, которое при этом владело мною: страх или взволнованное ожидание неведомого.
Наши дни
Ночью начался снегопад и не прекращался целый день.
Нет, весна в этом году выдалась совершенно нереальной! Кто ее помнит, не даст соврать. Уже март подходил к концу, а сугробы все не таяли, да еще чуть ли не каждый день снова и снова шел снег. Вот по такому свежевыпавшему снегу Алёна Дмитриева возвращалась домой, вся обвешанная сумками, потому что по пути заглянула в магазин. Она еле передвигала ноги в дурацком, так несвоевременно выпавшем снегу, коварно прикрывшем наскольженный, невычищенный тротуар, и размышляла… нет, не о фокусах с браслетом, и не о причудах погоды, и даже не о том, куда в нынешнем году исчезли все дворники поголовно. Думала она о существах, которые играли в ее жизни весьма спорадическую роль. А именно — о мужчинах.
Мужчины, без сомнения, особи полезные. Не только потому, что без них не обойтись, если, к примеру, вы обожаете танцевать аргентинское танго. Ведь это парный танец, партнеры позарез нужны. И без них опять же не обойтись, если вы заядлая натуралка и вдобавок не приучены к пользованию вспомогательными эротическими девайсами. Кроме доставления немалого удовольствия женщинам, мужчины могут с успехом использоваться в работах по дому и для переноски тяжестей, например сумок с продуктами, если дама вдруг вздумала конкретно затариться и идет с шестью сумками, а рук у нее по-прежнему всего лишь две.
В это самое мгновение какой-то человек, спешивший по тропинке навстречу, поскользнулся и толкнул Алёну, да так, что она села в сугроб вместе со всеми своими сумками и даже подняться смогла не сразу. Честно говоря, вынули ее из сугроба добрые люди… женщины, между прочим. Не то чтобы Алёна так уж сильно пострадала от падения, что не могла сама подняться: она просто-напросто обессилела от смеха. Мобилизованное и призванное чувство юмора оказалось на боевом посту. Нет, ну не смешно ли?! Стоит воздать должное мужчинам, как непременно получаешь от них какую-нибудь пакость… ну чем не новый закон Мёрфи?!
— И чего вы, девушка, хохочете? — возмутилась одна из спасительниц, маленькая и толстенькая, в короткой шубке, которая делала ее поперек себя шире. — Тут плакать надо, а не хохотать! Это что ж за мужик пошел? Сбил девушку, а сам и не оглянулся, поскакал дальше. Я б на вашем месте милицию вызвала. Если сразу приедут, его еще можно задержать. Он вон туда, в «Видео», зашел, я видела. Наверное, сисадмин какой-нибудь, они же все чокнутые, ничего вокруг не видят, кроме своих компьютеров! То-то от него скипидаром разило, небось их и промывал.
— Эмо он, — возразила вторая спасительница, высокая и худая, в длинном пальто и высокой шапке, которая делала ее еще выше. — У него на куртке яйцо намалевано, а у них вроде яйца что-то такое значат, только не знаю что.
— Какой же он эмо? — изумилась дама в шубе. — Панк, вот кто, а никакое не эмо! Яйцо на куртке нарисовано золотое, а у эмо яйца зеленые и весят по килограмму.
— Да вы что?! — остолбенела дама в шапке. — Как же они с такими яйцами ходят?!
— Да не ходят, а сразу закапывают яйца в песок, — пояснила «шуба». — Нет, девушка, что вы все время хохочете?!
— Да над нами небось и ржет, что мы, как дуры, ее из сугроба вытаскивали! — обиделась «шапка».
Алёна изо всех сил сжала губы, опасаясь, что ее сейчас снова запихнут в сугроб, и промычала, еле удерживаясь, чтобы не расхохотаться вовсе уж гомерически:
— Может, эму? Страус эму?! С зелеными яйцами который?
— Спятила, — махнула рукой «шуба». — Какой же он страус? Говорят же — парень в черной куртке в «Видео» пошел. Разве страусы в куртках ходят?!
— Да что с ней говорить! — махнула рукой и «шапка», и обе спасительницы разошлись по сторонам, а Алёна потащилась своим путем, еле волоча сумки и слабо повизгивая от смеха.
Театр абсурда какой-то, честное слово! Сисадмин, который промывает компьютеры скипидаром, — это круто, конечно, но эмо с зелеными яйцами — еще круче. Нет, тетка сказала, у него было золотое яйцо на куртке…
Алёна нахмурилась. Это ей что-то напоминало…
Да ведь у мастера, который увеличивал браслет, была именно такая куртка! С нарисованным золотым яйцом. И от куртки сильно несло скипидаром.
Неужели тот самый мастер? Надо его найти, может, он не откажется увеличить и второй браслет?
Алёна рванулась было в сторону «Видео», но поскользнулась и снова чуть не упала под тяжестью сумок. Нет, надо дойти до дома, это три минуты, положить покупки, а потом спешить в магазин. Если судьба найти мастера, значит, он никуда не денется. А не судьба… ну что ж, придется смириться.
И она со всей возможной скоростью побрела к дому.
Ну, три не три, но шесть минут спустя Алёна уже влетела в просторный и практически пустой за поздним временем зал магазина и принялась растерянно осматриваться. Ни эмо, ни эму, ни сисадмина, ни ювелира в знаменитой куртке не было видно. Вот же черт… Или уже ушел, или…
Да с чего та тетка в шубе взяла, что он пошел именно в «Видео»? Ведь через ту же дверь можно попасть и в спортивный магазин, и в «Обувь для вас», и в «Детскую радость», и даже в «Word-class», не говоря уже о пиццерии на первом этаже! Он может быть где угодно, придется обежать все эти места… хорошо бы обойтись без захода в «Word-class», туда, говорят, без пропусков не попадешь.
На всякий случай Алёна еще прошлась между рядами компьютеров-пылесосов-телевизоров-стиральных машин и всего прочего крупного и мелкого местного товара, как вдруг увидела… черную крутку со знакомой до боли эмблемой! Алёна подошла поближе и чуткими ноздрями уловила знакомый запах. Он!
Нет, не он. Ювелир был среднего роста, а это довольно высокий парень… Неужели существует на свете вторая такая же куртка?!
Да что ж ты, Алёна, такая забывчивая? Мастер же говорил, что надел куртку своего брата, какого-то там язычника и любителя мифологии! Наверное, это он и есть.
Надо, значит, его спросить, есть ли у него брат-ювелир, и…
Алёна только подалась было к предполагаемому язычнику, как он свернул в какую-то дверь, ведущую в недра магазина.
Вот те на! На двери надпись — «Служебный вход». Неужели «язычник» здесь работает и сейчас пошел заступать на смену? Если так, Алёна его не найдет, потому что ничего, кроме куртки, не видела. Ну, высокий, ну, волосы темно-русые… Приметы никакие. Надо успеть остановить его прежде, чем он скроется.
Алёна понеслась к двери с запретительной надписью и уже взялась за ручку, как вдруг была остановлена хриплым шепотом:
— Ну куда ты лезешь, а главное, зачем? Жить надоело?!
Она в ужасе отпрянула от двери и огляделась. Господи, страсти какие… неужели теперь за нарушение магазинных запретов карают смертью?!
Однако рядом никого не было. И в это мгновение снова раздался хриплый шепот:
— Мало тебе того, что с Лехой сделали? Еще и тебе охота на свою плешь нагрести свинцовых щелбанов? Забудь ты об этом, забудь!
— Как я могу? — ответил другой шепот — злой, горячий. — Невозможно!
Наконец до Алёны дошло, что разговор идет за дверью.
Наверное, хорошо воспитанная женщина должна была деликатно отойти и не подслушивать, тем паче что разговор страшноватый. Однако Алёна Дмитриева оставалась хорошо воспитанной лишь тогда, когда это было ей нужно. А когда — нет, она смело освобождала себя от химеры, именуемой утонченными манерами. Как сейчас.
— Так ты его все равно уже не воскресишь, только сам нарвешься, — хрипло прошептал первый голос.
— Нет, ты серьезно думаешь, что я могу вот так спокойно отойти в сторонку, зная, что эти сволочи живы и благоденствуют? Из-за такого дерьма убить человека?! Я не могу так! Так нельзя, это неправильно! — горячо прошептал второй.
— А не ты ли сам ради этого дерьма готов был на стенки лезть еще недавно?
— Я никого не убивал, даже думать об этом не могу!
— Ты мне мозги не компостируй, ладно, Данила? — сердито хмыкнул первый. — А зачем ты тогда хочешь знать ее адрес? Чтобы принести ей цветы?
— Я бы принес цветы на ее могилку, — глухо отозвался тот, кого назвали Данилой. — Да не бойся, я ей ничего не сделаю. Только спрошу…
— О чем?
— Это мое дело.
— Давай, говори! Иначе ничего не скажу. Строишь тут мстителя благородного такого за Леху, а о чем хочешь у нее спросить? Где все эти золотые побрякушки? Задумал самолично с Вейкой встретиться? Хитрый какой. Ничего у тебя не выйдет. Думаешь, она тебе все эти концы выдаст? Да кому она нужна, если расколется?
— Я и правда хочу с Вейкой встретиться. Хочу знать, правда все эти россказни или нет. Потому что если правда — он вел бы себя иначе. Никого не убивали бы. Все было бы по-другому! Так грязно нельзя… так кроваво, так жестоко…
— Знаешь, если бы Леху не положили, тебе это не казалось бы таким жестоким. Ты огреб бы евражек за свой скорбный труд — и не думал бы о правде или неправде.
— Слушай, Костик… Если не хочешь меня понять, не понимай. Но все же мозг включи — хотя бы просто так, для разнообразия! Теперь не только я не огребу евражек — ты тоже. Теперь все в руках этой суки. И если мы ее не тряхнем… Ты пойми… у моей девушки, ну, у Любаши, ты ее видел, дядька работает в российском отделении Интерпола. И этот дядька сейчас как раз в Нижнем. Я мог бы ему обо всем этом рассказать. Но я молчу. Потому что думаю: за своего брата я должен отомстить сам.
— А может, ты молчишь потому, что понимаешь: если органы влезут в это дело, они точно к рукам все приберут, никому ничего не достанется, в том числе и тебе. Даже двадцать пять процентов за обнаружение клада не дадут, еще и посадят за то, в чем ты успел поучаствовать!
— Да, и это тоже. Так что предпочитаю обойтись сам. Но с твоей помощью.
— Нет, я не ввязываюсь! — с паническими интонациями прошептал Костик. — Я вообще с ней ни разу слова не сказал, она меня и знать не знает, я не собираюсь ни во что вмешиваться. Охота тебе — делай сам.
— Значит, помогать не будешь? — ехидно спросил Данила. — И если я все же сдеру с них какие-то деньги, ты от них откажешься?
Настала пауза.
Алёна вся превратилась в слух.
— Ну как это я не буду помогать? — пробурчал Костик. — Адрес я тебе скажу…
— Ну?
— Это… я, в общем, адреса точно не знаю, но это почти как раз на пересечении Арзамасской и Крупской. Там напротив перекрестка тропинка между домами, как бы к Ильинке ведет. Проедешь во дворы — второй дом налево, главная примета — чердачное окошко досками перезаколочено, первый этаж.
— Да там развалюхи какие-то! — изумился Данила. — Неужели она там живет?!
— У нее квартира где-то в Лапшихе, но она ее сдает, а живет именно что в развалюхе, которую снимает за гроши. Там же и самые важные встречи по вечерам назначает. Говорят, она скупая, как… как… — Костик замялся в поисках сравнения.
«Как Скупой рыцарь у Пушкина, Плюшкин у Гоголя, Гарпагон у Мольера, Гобсек у Бальзака, Скрудж у Диккенса, Шейлок у Шекспира», — мысленно подсказала Алёна, однако Костик телепатическими способностями не владел, а потому пошел по пути наименьшего сопротивления и сказал:
— Скупая, как… как сука!
Ну что ж, в этом была даже некая изысканность… некая фонетическая игра, даже намек на аллитерацию… не «чуждый чарам черный челн», конечно, но тоже ничего себе!
Алёна на миг задумалась о любимом — о всяких лингвистических чудесах — и чуть не пропустила опасного момента. Данила сказал:
— Ну ладно, спасибо и на том. — А потом дверь колыхнулась, и Алёна едва успела отскочить и с неподдельным — то есть ей хотелось так думать — интересом углубилась в разглядывание коробок со сменными мешками для пылесосов.
Она схватила какую-то коробку и поверх нее украдкой бросила взгляд на служебный вход. Оттуда вышли два парня: один высокий и темно-русый — в знаменитой куртке, другой среднего роста, худенький, в красной фирменной робе магазина «Видео». Высокий пошел к выходу, а второй свернул к Алёне:
— Вам чем-нибудь помочь?
Поверх робы болтался бейджик с надписью: «Менеджер Константин».
— Э-э… — пролепетала Алёна, делая простейший логический вывод, что высокого парня звали, стало быть, Данилой. — Я ищу мешки для своего пылесоса.
— Какой он марки? — заботливо спросил Константин.
— «Самсунг».
— А какая модель?
— Что значит — какая модель? Ну, он синенький такой, кругленький… — показала руками Алёна.
— Я имею в виду номер модели, — улыбнулся Константин с тем выражением, с каким врачи обычно улыбаются идиотам. В смысле, идиоткам.
— Я не знаю… — развела руками Алёна, оправдывая диагноз. — А у него что, есть номер?
На самом деле она отлично помнила, что у ее «Самсунга» есть номер — 1500. И пылесборники ей в самом деле были нужны! Но если сейчас она назовет номер и мешки найдутся, придется для конспирации их покупать, а в это время Данила исчезнет! И Алёна ничего не успеет у него спросить!
— Извините, — пробормотала она, приклеив к лицу виноватую улыбку, — я теперь вспомнила, на пылесосе и правда какие-то цифры написаны. Я посмотрю, а завтра приду. Хорошо?
— Как вам будет угодно, — кивнул Константин, — хотя у нас есть одна модель пылесборников, которая практически для всех «Самсунгов» подходят. Универсальные мешки!
— А вдруг к моему они не подойдут? — старательно испугалась Алёна. — Нет, я лучше посмотрю номер… спасибо, до свиданья!
— До свиданья, — пробормотал Константин, даже не поглядев вслед рассеянной клиентке, которая с невероятным пылом вдруг рванула к выходу. Поработайте в «Видео» — и не такого еще насмотритесь!
Дела давно минувших дней
Утром я надел фрак (правильнее будет сказать, фрачок, настолько он кургуз и неказист, а впрочем, без ложной скромности сознаюсь, что я, по отзывам, выглядел в нем весьма авантажно и, главное, старше своих лет!) и отправился с визитом к их превосходительствам.
Петрозаводск показался мне неказист. Каменных домов раз-два и обчелся, а именно три. Один из них оказался гостиный двор — одноэтажный, узкий, с галерейками и арками. Напротив находилось деревянное и тоже одноэтажное здание театра. Я обрадовался, увидав, что расположен он на столь бойком месте, как торговая улица. Значит, о предстоящих спектаклях все извещены!
Неподалеку нашел я небольшую площадь, где полукругом располагались так называемые присутственные места. Неподалеку стоял и губернаторский дом, каменный, в три этажа, очень просторный, вытянутый в длину крыльями и флигелями. Вокруг раскинулся очень недурной парк — понятное дело, занесенный снегом, но с тщательно расчищенными дорожками. Собственно, единственный этот дом производил поистине городское впечатление, и я, петербургский житель, русской провинции в глаза прежде не видавший и побаивавшийся ее, несколько приободрился.
Я был удивлен той быстротой, с какой приняли меня их превосходительства. Я как актер привык к пренебрежению со стороны сильных мира сего. Я тогда недооценивал скуку здешней жизни, когда всякий новый человек — вдобавок прибывший по своей воле, а не ссыльный! — становился сразу интересен. А к актерам, благодаря увлечению губернаторши, вообще было особенное отношение.
Губернатор оказался сморщенным, сгорбленным седовласым старцем весьма почтенного вида. Его супруга — очень высокой, почти с меня ростом и гораздо выше своего мужа, с великолепной фигурой. Лет ей было… ну, словом, как говорится, женщина бальзаковского возраста. Одетая в синее платье, она казалась большой удивительной птицей рядом с воробьишкой-мужем. Говорил губернатор мало, хотя и приветливо, порою украдкой позевывал и очень скоро удалился, сославшись на необходимость читать какие-то важные бумаги. Помню, мелькнула у меня мыслишка, что он отправился просто-напросто поспать.
— Ангел мой, — выразился он по-старинному, обращаясь к жене, — предоставляю тебе занять нашего гостя.
Ее превосходительство послала мужу ласковую улыбку и посмотрела на меня. У нее были прекрасные серые глаза, которым синее платье придавало голубоватый оттенок, а волосы темно-русые. Черты лица нельзя было назвать иначе как породистыми. Вообще лицо поражало не столько красотой, сколько оригинальностью. Впечатление ее внешность и манеры производили очень сильное. Я вдруг подумал, как скучно, должно быть, такой очаровательной женщине в этой глуши — неудивительно, что она так увлечена театром!
Я робел и путался в ответах. Особенно часто спотыкался на словах «ваше превосходительство», которые почему-то вставлял то и дело, и в конце концов хозяйка приказала — именно что приказала! — мне называть ее Эльвирой Михайловной.
Я с восторгом подчинился. Ну, первое дело, повторюсь, мне еще не приходилось быть в такой короткости с сильными мира сего. Кроме того, эта женщина рождена была властвовать людьми и их сердцами. Что скрывать — я влюбился в нее с первого взгляда, но, конечно, понимал, что это навеки останется влюбленностью пажа в королеву. Ну что ж, для начала я решил ни в коем случае не выдавать своих чувств, чтобы не показаться смешным.
Собственно, говорили мы только о делах. Для начала Эльвира Михайловна посоветовала мне съехать из гостиницы и сыскать квартиру в городе.
— Не то разоритесь у этого Яаскеляйнена, он с проезжающих, по слухам, три шкуры дерет, — сказала она. — У любой, самой жадной старушки комната дешевле, да еще и со столом.
— А кто такой Яаскеляйнен? — удивился я. — Неужто хозяин гостиницы? Так он финн?! Я бы скорей принял его за жителя южных наших губерний. Неужто бывают черноволосые и черноглазые финны?
— Среди жителей Похъёлы было много черноволосых, черноглазых и смуглых, — сказала Эльвира Михайловна, и глаза ее неприязненно сузились, но, увидав мое поглупевшее от изумления лицо, она рассмеялась чудесным, чарующим смехом. — В старинных карельских сказаниях Похъёлой называется северная часть Финляндии, Лапландия. Там издавна жили самые страшные и самые искусные колдуны.
«Ее превосходительство без ума от этих сказок!» — вспомнились мне слова казначея. Сердце мое заколотилось. Что и говорить, в этом слове — «Похъёла» — было что-то пугающее и безмерно волнующее. Совсем как в том ощущении, с которым я проснулся нынче ночью.
На самом деле это было предчувствие, случайно озарившее меня, и если бы я тогда дал ему волю…
Но этого не случилось.
Мы продолжали разговор о театральных делах, и я узнал, что любительские спектакли организуются, как в профессиональном театре: ежемесячно премьеры, никаких заминок или сбоев. Эта прелестная женщина держала театр в ежовых рукавицах. Нет, в самом деле, попробуйте-ка отказаться от роли, если она назначена вам ее превосходительством, или опоздать на репетицию, если расписание скреплено ее же подписью!
Я решился спросить, правда ли, что есть в Петрозаводске некий доморощенный драматург, который мечтает о постановке своих пьес.
— Ах, Карнович! — сделала очаровательную гримаску Эльвира Михайловна. — О да! Он носится с вариацией расиновской «Федры».
— Расин?! «Федра»?! — ужаснулся я, почему-то сразу вспомнив рассказы одного ветхозаветного старожила, который видал еще Екатерину Семенову в этой роли и доводил до истерического хохота всех желающих (и нежелающих!) слушать своими попытками изобразить ее в особенно патетических монологах.
— Да, вы не напрасно испугались, — вздохнула Эльвира Михайловна. — Правда, это весьма осовремененная версия «Федры» — она так и называется: «Новая Федра» — и, противу классике, зеркально отраженная, если так можно выразиться. Я имею в виду, что наш драматург изобразил Федру непреклонной и добродетельной супругой Тезея, ну а Ипполит, напротив, всячески домогается ее, а потом, не добившись своего, клевещет на нее — и погибает, проклятый Тезеем.
— Это весьма смело, — только и смог выговорить я, удивляясь, почему Эльвира Михайловна так покраснела. И вдруг я понял…
В образе неумолимой, добродетельной Федры Карнович изобразил ее прекрасное и неумолимое превосходительство, а в образе Ипполита — себя, влюбленного в нее!
По выражению моего сконфуженного лица Эльвира Михайловна поняла, что я все угадал, и с трудом удержалась от смеха.
— Сами понимаете, — сказала она с шутливой серьезностью, — что ничего подобного я допустить на сцену не могу. Конечно, моему мужу — а он весьма умен и прозорлив! — будет приятно узнать, что Федра любит немолодого Тезея, однако сознавать, что вокруг ее юбок, вернее, столы и инститы [7], безнаказанно увивается какой-то бесстыжий Ипполит, ему вряд ли будет приятно. За себя Федра не боится, зато участь Ипполита может быть печальной. Тезей, видите ли, покровительствует ссыльным… о, разумеется, не политическим… — в голосе Эльвиры Михайловны прозвучала брезгливость, — тем, кто слегка порастратился на казенный счет или впал еще в какие-то незначительные должностные грешки. Он устраивает их здесь на тепленькие местечки, скажем, Карновичу весьма уютно в роли заведующего канцелярией. И если у него недостает ума самому позаботиться о себе, мне приходится печься о том, чтобы Тезей не лишился хорошего работника лишь потому, что тот чрезмерно много о себе вообразил.
Я слушал Эльвиру Михайловну, восторгаясь ее насмешливым умом, ее очаровательной речью, столь не похожей на речь известных мне светских дам, — и в то же время прощался с последней надеждой привлечь ее внимание. Ах… не дай бог «чрезмерно о себе вообразить» — лишусь не только работы, но и ее общества!
Стыдясь, что не смогу скрыть волнения, я подошел в окну и уставился в парк, делая вид, будто некий шум, раздавшийся внизу, привлек мое внимание. К моему изумлению, там в самом деле происходило нечто странное. Из полосатой будки часового (такая будка стояла у ворот губернаторского парка) выскочил охранник с ружьем наперевес и преградил путь женщине в большом клетчатом платке, покрывающем ее чуть ли не до пят.
Она пыталась пройти, она показывала на дом, но солдат качал головой и норовил отогнать ее подальше.
— Что там происходит? Куда вы смотрите? — спросила Эльвира Михайловна, подходя ко мне и касаясь моего плеча пышным рукавом своего платья. Сладостный аромат коснулся моего обоняния… словно в тумане, смотрел я, как женщина внизу подняла голову и с мольбой уставилась на окна верхних этажей губернаторского дома, на то окно, за которым стояли мы с прекрасной и недосягаемой «Федрой»…
«Да ведь я видел эту самую девушку вчера в гостинице!» — мелькнула — нет, вяло, полусонно проплыла в моей голове мысль.
— Чего она хочет? — удивилась Эльвира Михайловна. — А ну-ка, отворите окно, господин Северный, я спрошу.
— Умоляю, называйте меня Никитою… Львовичем… — едва выговорил я, понимая, что ничего так не желал бы, как услышать свое имя из этих прелестных уст.
— Конечно, конечно, — уступчиво проговорила она, — да раскройте же окно!
Я схватился дрожащими руками за створки, однако они были накрепко законопачены и заклеены вощеной бумагою для тепла.
— Ах, не стоит, — разочарованно вздохнула Эльвира Михайловна. — Поздно, она уже убежала. Интересно, чего ей было нужно?
— Вам это и правда интересно? — спросил я с нежностью, пораженный ее великодушием по отношению к неизвестной девушке.
— Вы же должны понимать, — сказала она тоном капризного ребенка, — что жизнь наша здесь удивительно однообразна, поэтому радуешься самомалейшему развлечению.
Развлечению? Я вспомнил, с каким отчаянием рыдала вчера эта девушка, как только что рвалась в губернаторский дом, как отгонял ее ружьем солдат… ах, бедняжка мечтала получить помощь у женщины, для которой она и ее беды — всего лишь развлечение!
Итак, Эльвира Михайловна с ее равнодушием к живым людям и самозабвенной любовью к театру была совершенно такой же, как все виденные мною прежде высокопоставленные дамы, которые искали на сцене чужих, выдуманных страданий, потому что сами жили не страдая…
Сердце мое дало изрядную трещину. И Эльвира Михайловна, которая, как я потом узнал, обладала непостижимой чувствительностью, мгновенно почувствовала перемену в моем настроении. Она отошла от меня и официальным тоном сказала:
— А теперь, господин Северный, давайте поговорим о первом спектакле, который вы будете ставить. Мне бы хотелось, чтобы это было «Горе от ума» господина Грибоедова. Первая репетиция состоится завтра. Все актеры мною будут оповещены. Вы должны будете представить ваш план постановки.
— Слушаюсь, ваше превосходительство, — отчеканил я.
Наши дни
Алёна слетела по лестнице, распахнула дверь на улицу — и, суматошно оглядевшись, увидела метрах в двадцати приметную куртку. Однако ее обладатель удалялся весьма проворно. Алёна уже открыла было рот, чтобы закричать что было сил: «Данила!» — однако вовремя спохватилась, что имени его ей знать вроде бы неоткуда. Если парень заметил ее в магазине — а редко кто не замечал Алёну Дмитриеву, тем паче особи противоположного пола! — то запросто может догадаться, что дамочка подслушала его довольно-таки криминальный разговор. И тогда… читывали, читывали мы детективы, слава богу, в курсе, что происходит с теми, кто слишком много знал! Ни в какие опасные дела мешаться у Алёны охоты совершенно не было. Так что кричать она не стала, а молча кинулась догонять Данилу со всех ног, поскольку он уже подходил к перекрестку улиц Белинского и Ижорской, а на светофоре догорал красный. Время зеленого света здесь истекало очень быстро, а потом по Белинке вновь устремлялся ревущий поток. Вот перейдет Данила на ту сторону — и поминай как звали! Поэтому Алёна прибавила скорость. Однако она забыла о коварстве снега, скрывавшего нечищеные тротуары. И, понятное дело, поскользнулась, и, понятное дело, так и поехала-поехала-поехала, силясь сохранить свой эквилибр, как сказали бы французы, но этот самый эквилибр — штука весьма непостоянная и неуловимая, потерять его легко, а поймать ох как трудно… Вот и Алёна его потеряла — и упала бы непременно, когда б не налетела на пахнущую скипидаром спину Данилы.
Толчок был так силен, что парень пошатнулся и… и, видимо, тоже ступил на лед, потому что и его эквилибр оказался утрачен. В попытках поймать его Данила сделал странный кульбит, однако напрасно: все же грянулся в сугроб. Сбившая же его Алёна неведомым образом удержалась на ногах.
— Мать честная, — зло сказал Данила, глядя на нее снизу вверх, — держаться на ногах нужно!
Алёна удивилась такой самокритичности и сочувственно пожала плечами:
— Да с кем не бывает!
— Ничего себе, — сердито проговорил Данила, не без труда поднимаясь. — Да вы на меня налетели, как танк! Хоть бы извинилась!
В принципе он был прав, однако писательница Дмитриева — дама довольно злопамятная и ехидная, поэтому не преминула показать норов и с самым невинным видом ляпнула:
— Вообще-то я с вас беру пример.
Данила зыркнул удивленно:
— Это в каком же смысле?
Ничего себе! Так он даже не заметил, как недавно сбил в снег женщину, и не просто женщину, а даму, можно сказать, и не просто даму, а красавицу, писательницу, детективщицу, распутывательницу и запутывательницу… ну и все такое! Немудрено, что Алёна обиделась и обиду свою скрывать не стала:
— А припомните, минут двадцать назад вон там, на том перекрестке, вы сшибли в сугроб женщину с шестью сумками и даже не оглянулись?
— С шестью?! — ужаснулся Данила. — Нет, правда?! А вы уверены, что это я? Потому что под тяжестью шести сумок немудрено упасть и без посторонней помощи!
— Не обольщайтесь, — сухо сказала Алёна. — Она упала с посторонней помощью, а именно — с вашей. Вашу куртку ни с какой другой не перепутаешь. Это были вы!
— А вы что, теперь за нее, ну, за эту женщину, мне отомстили? — удивился Данила.
— Почему за нее? — удивилась и Алёна. — Если уж на то пошло, мстить мне следовало бы за себя, потому что это была я, но месть тут ни при чем, на вас я налетела совершенно случайно. Просто поскользнулась — ну и…
— Про то, что я вас сшиб на том перекрестке, вы прямо сейчас придумали? — хмыкнул Данила.
— С чего вы взяли?
— А где же ваши сумки? В снег закопали и побежали меня догонять? И что вы делали в «Видео»?
Ух ты, глазастый какой!
— Искала пылесборники для своего «Самсунга», — с невинным видом ответила Алёна. — Мне предлагали какую-то универсальную модель, но я решила уточнить номер моего пылесоса.
— И с такой скоростью помчались его уточнять? — хохотнул Данила.
— Вообще-то я гналась за вами, — решила прекратить это затянувшееся словоблудие Алёна.
— Ага, все же месть, — вздохнул Данила. — Или… что-то иное?
Вот наглец! Как заиграл глазом! Конечно, парень симпатичный, слов нет, и как раз в том возрасте, представители которого весьма чувствительны к чарам так называемых взрослых дам — а ведь Алёна, к слову сказать, принадлежит к их числу, — и отлично знает о том, что представители его возраста у взрослых дам весьма пользуются успехом, и в других обстоятельствах, может быть, Алёна с охотой поиграла бы с ним глазами, а может, и не только…
Но слишком уж он оказался самоуверен. Не вредно такого и обломить немножко.
— Конечно, иное, — улыбнулась наша героиня. — Вообще-то, я хотела спросить, как найти вашего брата.
Данила покачнулся, и Алёне показалось, что он сейчас снова упадет. Она даже схватила его за рукав, но он сам удержался на ногах и высвободился так резко, что теперь потеряла равновесие она. Но Данила даже попытки не сделал помочь прекрасной даме. Поэтому она довольно увесисто шлепнулась на то место, на которое обычно шлепаются все и для обозначения которого существует множество эвфемизмов. Данила быстро склонился к ней, однако совсем не для того, чтобы поднять!
Он с ненавистью глянул в Алёнины изумленные глазищи и выдохнул:
— Держись от меня подальше! И про брата моего даже думать забудь, если жить хочешь! Он из-за таких, как ты, в могиле лежит. Поняла, кретинка? Залезь в свой пылесос и сиди там!
И с этим совершенно несусветным пожеланием он ринулся через Белинку почти в ту самую минуту, когда зеленый сигнал светофора сменился красным и поток стремительно несущихся в обе стороны машин отрезал его от Алёны, сделав дальнейшее преследование невозможным.
Совершенно ошарашенная, она сидела на снегу и даже не слышала обращенных к ней сочувственных вопросов и восклицаний:
— Девушка, что с вами? Что вы сидите? Вы можете встать? Неужели она ногу сломала? Наверное, головой ударилась, не отвечает…
Последняя реплика достигла слуха Алёны, и она медленно закопошилась, пытаясь подняться. Несколько рук подхватили ее и поставили на ноги. Все же свет не без добрых людей!
— Вас проводить? — предложил какой-то темноглазый, смуглый, в черном куцем пальтишке.
— Спасибо, — качнула головой Алёна. — Ничего, я сама…
В темных глазах блеснуло разочарование, но сейчас Алёне было не до общения с противоположным полом. Хватит! Наобщалась только что! Пока довольно!
И она побрела в сторону дома, иногда оглядываясь, словно опасалась, что Данила вдруг да вздумает ее преследовать. При этом она прекрасно понимала, что Данила с крейсерской скоростью несется своей дорогой, иногда оглядываясь, словно опасаясь, что докучливая дамочка не пожелала залезть в свой пылесос и вдруг да вздумала его преследовать.
Ну, он мог быть спокоен по обеим пунктам! Алёна сейчас хотела только поскорей добраться до дому. Закрыться на все замки, задернуть шторы, забиться в любимое кресло, погасить верхний свет, включить бра и хорошенько все обдумать.
Дела давно минувших дней
На первую встречу со своей труппой и первую репетицию назавтра я отправился уже не из гостиницы Яаскеляйнена — еще с вечера я сменил место жительства и поселился у почтенной дамы по фамилии Паасилинна. Мне так понравилась эта фамилия, что я даже не хотел знать имени и отчества своей квартирной хозяйки. Впрочем, в этих краях принято обращение по фамилии.
Аити Паасилинна, то есть матушка Паисилинна, как мне велено было ее называть, с первой минуты нашей встречи отнеслась ко мне истинно по-матерински. Поселила она меня в большой, светлой, просторной комнате — в подобной я никогда не живал! А как госпожа Паасилинна меня кормила… По утрам кофе с густыми сливками, чудесное масло, горячие пирожки. На обед гусь, цыпленок, красная рыба из Онежского озера. Сытный ужин. Чай с вареньем и всяческим печеньем… За всю свою жизнь я не знал, что значит вкусно и сытно покушать, я еще никогда не имел ежедневного обеда, а тут — истинное пиршество гастронома. Вот это жизнь! «Но надолго ли?» — суеверно думал я, привыкший к превратностям судьбы.
Впрочем, ничто не предвещало беды. С труппой у меня с самого начала установились наилучшие отношения, народ подобрался истинно талантливый, иные по-любительски, а иные почти профессионально, и репетиции шли весьма слаженно, обещая успешную премьеру. Госпожа губернаторша на них присутствовала непременно.
Тут я должен кое в чем признаться. Хоть мне было предписано ее превосходительством представить план постановки, я этого плана не имел. Ведь я в жизни не пробовал себя в режиссуре! Но признаться в этом было никак нельзя, поэтому я усиленно пытался вспомнить единственную постановку «Горя от ума», которую видел. Но напрасно старался. Тогда я решил создать свои мизансцены.
Ох, фантазировал я, как мог! Помнится, однажды, когда репетировали второй акт, сцену обморока Софьи, я приказал исполнительнице:
— Падайте, Елизавета Петровна!
— Куда? — удивилась она. — Куда же падать?!
— Как куда? На пол, на ковер.
Она послушно и очень изящно упала. Чацкий опустился перед ней на колени, обмахивал опахалом, потом поднял с помощью Лизы и уложил на кушетку.
Всем очень понравилось! Но тут подал голос Карнович — тот самый несостоявшийся драматург, автор «Новой Федры». Надо сказать, что этот смазливый молодой человек с внешностью первого любовника единственный из всей труппы с первой минуты отнесся ко мне неприязненно, и неприязнь эта не проходила.
В нашем спектакле играл он Молчалина — томного и лживого. И вот он процедил, небрежно полируя ногти кусочком замши (это было его любимое занятие как в жизни, так и на сцене: дай ему волю, у него и Гамлет бы ногти полировал, читая свой знаменитый монолог!).
Итак, Карнович подал голос:
— Позвольте! Я москвич и много раз видел «Горе от ума» в Малом театре: там Софья падает в кресло.
Вся труппа уставилась на меня выжидательно. Я спиной чувствовал взгляд губернаторши, которая сидела в зрительном зале, в первом ряду партера. Этот взгляд ободрил меня, и я отрезал:
— Да, я знаю московскую постановку, но в Петербурге не так. Там Софья падает на пол, это считается очень оригинальным. Впрочем, если желаете, эту сцену можно разыграть и по-московски.
— Нет-нет! — звонко выкрикнула госпожа губернаторша. — Нет-нет, пожалуйста, давайте играть оригинально, по-петербургски!
Не могу описать, какой восторг переполнил мою душу в эту минуту, какую любовь я вновь ощутил к этой чудесной женщине!
Карнович поджал губы. Я почувствовал, что нашим отношениям никогда не наладиться. Но это меня ничуть не волновало! Главное было то, что Эльвира Михайловна, милая, чудесная Эльвира открыто приняла мою сторону!
В таком восторженном состоянии я пребывал до тех пор, пока мы не дошли до третьего акта — приема у Фамусова. Сначала все шло довольно стройно: гости один за другим выходили на сцену, как вдруг из зала вновь раздался мелодичный голос Эльвиры Михайловны:
— Никита Львович, а разве здесь не будет докладов?
— Каких докладов, Эль… э-э, ваше превосходительство? — изумился я.
— У нас всегда докладывают на балу о прибывших гостях.
Я пробовал было возразить, что нельзя ломать стихи классической пьесы Грибоедова вводными докладами без размера и рифмы, но губернаторша меня не слушала.
Пришлось уступить. И на репетиции, и на каждом спектакле на балу появлялся почетный слуга в ливрее (к слову сказать, это был настоящий лакей — из губернаторского особняка) и провозглашал:
— Пожаловали госпожа Горич. Князь Тугоуховский с супругой!
И так далее.
Наши дни
К сожалению, исполнить все задуманное не удалось, потому что позвонил Дракончег.
Это была, с позволения сказать, плотская слабость писательницы Дмитриевой. В смысле, был, потому что означенную слабость Алёна питала только к персонажам мужского пола.
На самом-то деле его звали Александром, но Алёна предпочитала называть своего милого друга Дракончегом, потому что они оба были Драконами согласно восточному гороскопу, правда, далеко не одногодки. Алёна родилась на свет гораздо раньше своего любовника. Впрочем, они оба ничуть не смущались. Их привязывало друг к другу неодолимое влечение, утоление коего доставляло обоим немалое наслаждение. Ради этого Дракончег частенько, под разными благовидными и неблаговидными предлогами, смывался из дому (он был женат) и бросался к своей легкомысленной подруге. Правда, в последнее время что-то изменилось в их отношениях… причем не к лучшему. Да нет, не охладели они друг к другу, но если раньше это была восхитительная взаимная страсть без всяких обязательств и попреков, то теперь эти самые попреки вдруг стали практически постоянными. И дело состояло не только в том, что Дракончег был патологически ревнив к каждому встречному и поперечному столбу, а поскольку он практически мало что знал о жизни своей подруги (она женщина загадочная и таинственная во всех отношениях), ревность отягощалась вечной неизвестностью: где она, что с ней, вернее, кто… Этого мало. Дракончег вдруг начал упрекать Алёну за ту неодолимую тягу, которую к ней испытывал! И если прежде его песнопения на тему почти наркотической зависимости от ласк нашей героини были полны восторга и умиления, то теперь в них все чаще и чаще сквозило нескрываемое раздражение. Алёна еще помнила время, когда была отчаянно, до одури влюблена (отнюдь не в Дракончега), и уж ее-то наркотическая зависимость от некоего молодого человека по имени Игорь была вообще сродни безумию, но помнила она также злость на себя и почти ненависть к Игорю, которые охватывали ее, когда всеми силами она пыталась забыть его, освободиться от его власти над ней. Теперешнее поведение Дракончега напоминало Алёне ее тогдашнее. Получалось, он тоже хочет освободиться? Но почему? Влюбился, что ли, в кого-нибудь и тяготится старой связью? Но Алёна никогда не обольщалась мечтами о нерушимой верности Дракончега и просто старалась не думать о его жене, с которой он еженощно, а то и днем — и не единожды, при его-то темпераменте! — спит. Семья семьей, а секс на стороне некоторым мужчинам просто необходим, это Алёна с помощью Дракончега усвоила очень хорошо. И некоторые женщины, в мужья которым достаются подобные ему секс-машины, должны, строго говоря, благодарить ненавязчивых любовниц, с которыми их неугомонные мужья порою тешат свою плоть: ведь не всякая жена готова беспрестанно удовлетворять потребность своего мужа в оголтелом, разнузданном сексе и давать ему не только удовлетворение, но и пресыщение — хотя бы на некоторое время.
Судя по некоторым случайным обмолвкам Дракончега, жена его была чудесной женщиной, но холодноватой в постели. Может быть, просто потому, что притомилась исполнять свои супружеские обязанности. Ну а Алёна Дмитриева холодноватой не была, вот уж нет, — может быть, просто потому, что супружеских обязанностей не исполняла по причине отсутствия супруга, — а оттого всякое свидание с Дракончегом было сладостным забвением для них обоих, бурным утолением плотского голода. И вот, оказывается, это стало раздражать Дракончега. С некоторых пор ночных свиданий Алёна ждала чуть ли не со страхом, как, впрочем, и звонков, потому что упреки типа «ты превратила меня в сексуального наркомана» сыпались и по телефону.
Однако сейчас голос Дракончега звучал весьма миролюбиво и нежно.
— Не получится сегодня, — сказал он печально. — Онасегодня в ночь работает, а бабуля заболела, за ребенком некому присмотреть, если я уеду.
Свою жену Дракончег называл только «она», а ребенка — только «ребенком». Алёна даже не знала, сын у него или дочь, не знала, как зовут «ее», где она работает. У обоих не имелось ни малейшего желания углубляться в детали его семейной жизни.
— И завтра тоже не получится, — продолжал он. — Завтра работаю я.
— Ночью? — изумилась Алёна. — Вроде бы после десяти вечера алкоголем теперь не торгуют.
Дракончег работал в какой-то крупной виноторговой фирме и был занят по горло с утра до вечера.
— Да я новую работу нашел, дополнительную, — пояснил он. — Помнишь, на курсы ходил?
Было дело, он как-то обмолвился насчет каких-то курсов, но, как всегда, ни сам, ни Алёна в детали вдаваться не стали.
— И вот завтра первый день, вернее, первая ночь моего дежурства. Работаю ночь через две.
— С ума сойти! — ужаснулась Алёна. — Так ты теперь практически не сможешь из дому вырваться!
— Да как-нибудь, — уклончиво ответил Дракончег, и вдруг Алёна подумала: а может, эту новую ночную работу он нашел — или вообще придумал!!! — именно для того, чтобы не оставалось времени на свидания с ней? Алёна обидчива и нетерпелива, Дракончег это прекрасно знал, она не потерпит пренебрежении к себе, запросто даст ему от ворот поворот… а что, если он именно этого хочет? Сам разорвать их связь не в силах, вот и возложил это на ее хрупкие женские плечи? Ну…
— Ну, завтра я тоже не могу, — со всем возможным равнодушием сказала Алёна. — У моей подруги день рождения, мы идем в ресторан.
— В какой? — насторожился Дракончег.
— Да вроде бы в «Визард».
— А ты что, не знаешь?
— Знаю. Я же говорю — в «Визард».
— Нет, ты говоришь — вроде бы!
— Ну, просто так сказала. В «Визард», в «Визард», а тебе-то что?
— Да совершенно ничего, — небрежно отозвался Дракончег. — Ресторан хороший, музыка и еда отличные, но мужской стриптиз там хреновый.
Ага! Алёна невольно улыбнулась. Кажется, Дракончег снова в своем репертуаре.
— Ну что ж, — подлила она масла в огонь со свойственным ей ехидством, — мужской стриптиз — это интересно. Если ты лишил меня удовольствия видеть, как раздеваешься ты, буду смотреть, как это делает другой красавчик.
— Не сомневаюсь, что тебе только это и нужно, — хмыкнул Дракончег. — Наверное, ты бы с удовольствием поглядела, как раздевается тот парень, рядом с которым ты так интимненько сидела в снегу на перекрестке Белинки и Ижорской.
— Что? — изумленно воскликнула Алёна. — А ты откуда… а ты как… а ты почему…
— Мимо проезжал, — хихикнул Дракончег.
— И что не вышел, не протянул мне руку помощи?
— Ну, я не один ехал, это раз, а во-вторых, тебе и без меня хорошо было. Ну ладно, чао.
И Дракончег отключился.
Алёна с сомнением посмотрела на трубку. Все это как-то странно… Интимненько сидела в снегу… мимо проезжал… не один ехал… Разговор не просто как с чужим — как с опостылевшим человеком. А впрочем, Алёне, видимо, пора смириться с тем, что это несколько затянувшаяся страница ее жизни должна быть перевернута. Сколько длится их связь? Года три? Ну, не рекордный срок, конечно, однако достаточно долго. Пора, как говорится, кончать. А делать это следует вовремя. Супругам нужно расставаться до того, как они начали швырять друг в друга сковородками, а любовникам — до того, как они начали швырять друг в друга пошлыми мещанскими оскорблениями. А поскольку они уже где-то на подступах, значит…
Алёна вздохнула, и во вздохе этом таилась немалая печаль. Прелестный выдался роман, а как любовник Дракончег просто невероятен. Разумеется, она не станет проливать о нем слез, у нее, как у карточного шулера, — запасная карта в рукаве, всегда имелся в запасе другой кавалер, но все же… все же!
Чтобы не печалиться, она решила уснуть. Однако Дракончег не вылетал из головы. Тогда Алёна попыталась утешить себя мыслями о том, что случается всегда то, что должно случиться. Но это как раз не помогло, а еще пуще опечалило. Тогда Алёна покрепче зажмурилась и начала придумывать новый роман. Это, как всегда, подействовало безотказно — сон мигом налетел и унес ее в свои зачарованные края. Только в самую последнюю минуточку, уже за пределами яви, она успела вспомнить о Даниле, о том, что намеревалась обдумать эту странную историю, но все, поздно, Алёна спала.
Дела давно минувших дней
Этим же днем случилось происшествие, положившее начало той цепи непонятных случаев, которые выковала для меня судьба. Впрочем, начало-то было положено еще в мой первый же вечер в Петрозаводске…
Да не суть важно.
Итак, репетиция «Горя от ума» прошла успешно, всеми (за исключением Карновича, да и бог с ним!) было признано мое право ставить такие мизансцены, какие мне заблагорассудится. Мы начали расходиться, я задержался на крыльце, беседуя с очень милой и приветливой актрисой-любительницей Елизаветой Петровной Ивановой, дочерью здешнего преподавателя математики в мужской гимназии, и с «героем» Василием Васильевым, из ссыльных политических, очень представительным и талантливым человеком, которому, конечно, только из-за этого таланта и дозволено было войти в труппу: он некогда был на вторых ролях в Самаре и считался здесь почти профессиональным актером. Даже не признаваясь себе в этом, я тянул болтовню в надежде, что вот-вот выйдет Эльвира Михайловна. И дождался-таки! Она вышла в прелестной белой шубке, улыбнулась нам всем, потом взглянула на меня… в этот миг крикнули, что санки ее превосходительства готовы…
Мне показалось, она хотела что-то сказать кроме простого «прощайте, господа, до встречи завтра», но удержалась, кивнула и начала спускаться. Я кинулся подать руку… вышедший вслед за нею из театра Карнович попытался опередить меня, мы столкнулись и оба грохнулись к ногам владычицы наших сердец.
Она засмеялась, вслед за ней и Елизавета Петровна. Мы кое-как поднялись со скользких ступенек, потирая ушибленные бока и глядя на друга по-волчьи… и вдруг из-за санок выскочила какая-то женщина. Я сразу узнал этот клетчатый платок, эту голову с необыкновенно светлыми, соломенными волосами.
— Hyvд emдntд apua! — крикнула она на непонятном языке. — Oma vauva kuolee!
— Что она говорит? — удивился я.
— Не понимаю, — пожал плечами Васильев. — Я здешнюю речь почти не понимаю. «Hyvд emдntд» — это вроде добрая госпожа. А дальше не знаю.
— Еще не хватало эту тарабарщину знать, — фыркнул Карнович.
— «Добрая госпожа, помогите! Мой ребенок умирает!» — вот что она сказала, — перевела Елизавета Петровна. Я не удивился, что она поняла слова незнакомки: еще накануне репетиции она обмолвилась, что прожила в Петрозаводске всю жизнь, и среди местных жителей у нее были друзья.
Эльвира Михайловна, которая все это время молча смотрела на девушку, вдруг кивнула и двинулась к ней. В первую минуту мне показалось, что она тоже не поняла слов и ждала перевода, но тут же услышал ее голос, звучавший очень спокойно и ласково:
— Ei tarvitse itkeд. Kerro kaikki. Autan sinua.
— Ее превосходительство говорит: «Не надо плакать! Я помогу тебе. Расскажи мне все!» — прошептала Елизавета Петровна.
— Госпожа губернаторша знает по-фински?! — изумился я.
— Да, ее учил друг моего отца и очень удивлялся ее памяти и способностям, — сказала Елизавета Петровна.
Эльвира Михайловна и девушка-финка говорили очень тихо, и, хотя всем хотелось знать, о чем идет речь, все считали неловким к ним приближаться.
Наконец девушка согнулась в поклоне, таком низком, что показалось, будто она хочет упасть Эльвире Михайловне в ноги, но губернаторша ее удержала и крикнула:
— Ефрем Данилыч!
Кучер соскочил с козел и приблизился:
— Чего изволите, ваше превосходительство?
— Голубчик Ефрем Данилыч, — сказала губернаторша, — свези эту девушку — ее зовут Синикка Илкка — к господину Леонтьевскому и передай, что я велела с ней поехать к ней домой и сделать там все, что потребно, с тем же прилежанием, как если бы он ради меня старался.
— Антон Никодимович Леонтьевский — доктор, который губернаторскую семью пользует, — прошептал Карнович с видом посвященного. — Ну и ну, сколь же милостива ее превосходительство к недостойным!
Елизавета Петровна и Васильев что-то пробормотали одобрительное, а я не мог исторгнуть из своей груди ни звука. Дай я себе волю, мог бы только что-то невразумительно-восторженное прокричать.
Как я мог ее осуждать, как я только мог! Судить надо по делам, а не по словам, и сейчас Эльвира Михайловна, прекрасная, несравненная Эльвира делом доказала, что достойна даже не любви, а обожания. Впрочем, сделала она это по доброте душевной, доказывать ей было некому, не мне же, глупцу ничтожному!
Губернаторские санки увезли девушку, которая все еще плакала, но теперь — от радости.
— Ну вот, господа, — сказала Эльвира Михайловна, пожимая плечами и улыбаясь, — теперь я принуждена идти домой пешком. Какой ужас, верно?
Мы все расхохотались, и она первая — прежде всего потому, что до губернаторского дома оставалось какая-то осьмушка версты [8], и, понятное дело, путь этот проделывался губернаторшей в санках исключительно заради важности.
— Так или иначе, кому-то из вас придется меня проводить, — задумчиво сказала Эльвира Михайловна. — Кто возложит на себя эту тягостную обязанность?
При этих словах выражение у нее было самое комическое.
Мы расхохотались и все разом шагнули вперед.
— Ну нет, не люблю гулять толпой, — усмехнулась Эльвира Михайловна. — Скажите, Никита Львович, вас не очень затруднит со мной пройтись?
Я просто обомлел и от нежданно свалившегося на меня счастья — она избрала меня! — и слова не мог молвить.
— Кажется, Северный колеблется, — насмешливо сказал Карнович. — Дозвольте мне, Эльвира Михайловна!
А! Так ему тоже дозволено называть ее запросто?!
Ревность ожгла меня, точно кнутом, и заставила сдвинуться наконец с места.
— Нет! Я не колеблюсь! — выкрикнул я, рванувшись вперед. — Просто ошеломлен оказанной честью. Позвольте предложить вам руку, ваше величество… то есть ваше превосходительство!
Эльвира Михайловна покраснела и улыбнулась при моей обмолвке, а Карновича отчетливо перекосило.
— Я бы хотела поговорить с вами о следующей постановке, — сказала Эльвира Михайловна. — Есть такая пьеса господина Шпажинского «Чародейка». Она чуть не во всех театрах идет, я читала и наслышана. Что бы нам ее не поставить? Чем мы хуже? А впрочем, пойдемте, — она взяла меня под руку. — Прощайте, господа.
Мы пошли. Один раз я оглянулся. Елизавета Петровна с Васильевым тоже удалились, однако Карнович все еще стоял на крыльце театра и смотрел нам вслед.
Больше я не оглядывался, но еще долго — мы шли очень медленно! — чувствовал его взгляд спиной.
— Кажется, — тихо сказала Эльвира Михайловна, — я сослужила вам дурную службу. Карнович весьма злопамятен.
— Да что мне Карнович! — хвастливо усмехнулся я, а потом вдруг, словно голову потеряв, спросил нескромно: — А что, у него есть основания быть злопамятным?
— Не более того, что он себе возомнил, — твердо сказала Эльвира Михайловна, и я почувствовал себя счастливым. — Карнович — человек с фантазиями… как, впрочем, и все творческие люди.
Я воспринял это как предостережение, и эйфорический восторг мой несколько спал. Я постарался переменить опасную тему:
— Вы необыкновенно добры к этой бедной девушке. Отчего она кинулась к вам? Разве здесь нет врачей, кроме вашего личного доктора?
— Отчего же, есть. Есть повивальные бабки, знахарки, фельдшер, есть доктор в больнице. В прошлом, прежде чем получить в наследство от дяди гостиницу и сделаться ее хозяином, был фельдшером, к тому же очень умелым, и известный вам Яаскеляйнен. Насколько я знаю, он и сейчас иногда втихаря практикует. Беда в том, что все они — финны. А потому ни за что не хотят лечить ребенка бедняжки Синикки.
— Как-то странно. Она ведь тоже финка.
— В том-то и беда, — вздохнула Эльвира Михайловна. — Она финка, и она грешна… у нее ребенок от родного брата.
Наши дни
Зоя — так звали Алёнину подругу, у которой был день рождения, — позвонила с утра пораньше. Она знала гениальную рассеянность нашей героини и сочла необходимым напомнить: вечеринка состоится именно сегодня, не завтра или послезавтра, а сегодня! Прибыть следует к восьми часам вечера в ресторанчик «Зергут», который находится на улице Ванеева, чуточку не доезжая до Кардиоцентра.
— Ага, конечно, я помню, — кивнула Алёна, но вдруг спохватилась: — Как «Зергут»? Вроде же был «Визард»?
— Алёна, ты опять все перепутала, — сокрушенно вздохнула Зоя. — Какой «Визард»? Мы с самого начала собирались в «Зергут»! Это очень приличный пивной клуб.
«Пивной клуб?!» — чуть не возопила наша героиня, которая ненавидела пиво, но вовремя прикусила язык: дареному коню… и все такое.
— Я помню, что ты терпеть не можешь пиво, — хихикнула догадливая Зоя. — Но вино там тоже хорошее. А мясо — только что поджаренное прямо на твоих глазах…
Алёна усмехнулась невыносимым приколам русского языка, но углубляться в любимую лингвистику не стала, просто дала слово, что ничего не перепутает и ровно в восемь будет в «Зергуте», простилась с Зоей — и очень кстати вспомнила, что на день рождения надо приходить с подарком.
Глупо, конечно, но Алёна многие дела оставляла напоследок. Повелось это с тех времен, как она, еще в студенчестве, готовилась к экзамену в последнюю ночь. Да так и осталось пожизненно: романы свои она тоже дописывала в последние часы и даже минуты, зная, что там, в Москве, в любимом издательстве «Глобус», ее уже поминает злым, громким словом редактор, у которого срывается план из-за несобранной, ленивой, необязательной писательницы Дмитриевой…
Алёна подумала, что искать подарок — это вам, товарищи, не романы писать, надо подойти серьезно. Зою она очень любила — и за ее лучшие, как принято выражаться, человеческие качества, и за то, что она была, так сказать, личным косметологом Алёны Дмитриевой, которая свою уникальную красоту лелеяла весьма трепетно и не жалела на это никаких денег — в тех пределах, понятно, какие ей отпускали издатели. Зоя была женщина практичная и романтичная враз. Ну, практичные подарки ей всегда дарят Коля с Надей, старинные друзья семьи, а вот романтичные оставались как бы привилегией писательницы Дмитриевой. А что может быть романтичней красивой бижутерии? Да ничего!
Алёна мысленным взором окинула окрестности. В «Клеопатру» идти нет совершенно никакой охоты, вдруг нарвешься на неприятную продавщицу, как ее там звали… Раиса Федоровна, кажется. О, в «Шоколаде» на втором этаже есть отличный отдельчик бижутерии в стиле Сваровски, только еще лучше! Алёна мигом собралась, прикинула время — вполне можно успеть сбегать на шейпинг, потом поискать себе какую ни есть новенькую одежонку для выхода в свет — мероприятие для нашей героини отнюдь не частое! — и на возвратном пути зайти в «Шоколад» за подарком, — и выбежала из дому.
Первое, что она услышала, войдя в зал, был вопрос Анжелы:
— Ну что, нашли свой браслет?
Ну вот, разве тут забудешь…
Хотела Алёна того или нет, но воспоминания об этой загадочной истории не шли из головы и изрядно отравляли удовольствие от любых занятий. Следовало смотреть на монитор, следить за тем, как правильно отводить в сторону ногу, чтобы на бедрах не образовывались ужасные «уши», а Алёна вместо этого (может, потому, что никаких «ушей» у нее отродясь не водилось нигде, кроме как на законном месте, в смысле на голове) оглядывалась, прикидывая, как мог свершиться странный и совершенно уму непостижимый обмен. Следовало смотреть на монитор, следить за тем, как правильно поднимать ногу назад, чтобы усиленно работали ягодичные мышцы, а Алёна вместо этого (может, потому, что с означенной частью тела у нее тоже было все вполне очаровательно) косилась на лица женщин, которые махали ногами и руками, неотрывно глядя на мониторы. Неужели кто-то из них?..
В общем, сказка про белого бычка. Она была бы, возможно, даже забавной, если бы не гибель ювелира. В какие же игры заигрался симпатичный парень? Данила говорил что-то о каких-то золотых побрякушках. Может быть, левый товар мастырили, а потом пускали в продажу? Скорее всего, так и есть. «Золотые побрякушки» — это, наверное, какие-нибудь цепочки, серьги, браслеты…
Браслеты! Ну снова, хочешь не хочешь, а думается: зачем, зачем, зачем был подменен Алёнин браслет? И ведь им занимался погибший ювелир… Правда, смастырить там ничего было просто невозможно, кому надо латунь подделывать, однако…
Просто совершенно ничего не шло в голову, никакой догадки, кроме того, что жил на свете маньяк, собиратель «волосатиков», и до того мечтал иметь в своей коллекции камень с золотистыми волосами Венеры, что в лепешку разбился ради того, чтобы заменить его на бороду Магомета.
Всякое бывает. Вообще тут много о чем было подумать… и Алёна думала, думала…
Внезапно какой-то ужасный звук, воющий и скрежещущий, раздался над ухом. Алёна вздрогнула, замерла, прижав к груди сумку… изумилась, почему у нее в руках сумка, когда идет тренировка, и обнаружила, что находится уже не в спортзале, а на улице, а точнее, в центре проезжей части одной из самых шумных и буйных магистралей: Большой Покровской, но не той части, которая проходила по историческому центру города и была непроезжей, а той, что выше площади Горького и изрезана четырехполосным трафиком. И вот сейчас этот непростой трафик замер, чтобы писательница-детективщица Алёна Дмитриева не лишилась жизни в дорожно-транспортном происшествии. Ужасные звуки были не чем иным, как визгом тормозов и ревом клаксонов, которыми водители прокомментировали ее гениальную рассеянность.
Ведь получилось что? Она, балда такая, настолько утонула в своих мыслях, что даже не заметила, как закончилось занятие, как она переоделась (не забыв, заметьте, надеть часы и пресловутый браслет с бородой Магомета!), вышла из шейпинг-зала и направила свои стопы, куда глаза глядят… вернее, ничего перед собой не видя, повинуясь, наверное, инстинкту, который ведет в темноте птиц… если птицы вообще летают по ночам, конечно. Ну и куда же привел ее этот самый инстинкт?
Алёна поскорей добралась до тротуара и попыталась сориентироваться во времени и в пространстве. Если со временем дело обстояло еще так-сяк (после окончания тренировки минуло каких-то десять минут), то насчет пространства все не выглядело так уж благостно. Оказывается, Алёна сейчас стояла на перекрестке улиц Большой Покровской и Крупской (ну да, а как же обойтись в Нижнем Горьком без Надежды Константиновны!), а впереди, на расстоянии небольшого квартала, простиралась улица Арзамасская.
«Я, в общем, адреса точно не знаю, но это почти как раз на пересечении Арзамасской и Крупской. Там напротив перекрестка тропинка между домами, как бы к Ильинке ведет. Проедешь во дворы — ну и второй дом налево, главная примета — чердачное окошко досками перезаколочено, первый этаж», — вдруг вспомнилось ей.
Батюшки-светы! Это место, которое Константин описывал Даниле в магазине. Ну а Алёна Дмитриева здесь зачем? Какая неведомая сила привела ее сюда? Может, та штука, которая называется интуицией и которая у нашей героини сверх неприличия развита? Правда, срабатывает она порой весьма некстати, вот как сейчас, например. Притащиться к заброшенным улицам, заваленным просевшими, неуютными сугробами, к этим скопищам старых-престарых домишек, до которых еще не добралась вездесущая рука городских бизнесменов, делающих колоссальные деньги на строительстве, — притащиться, даже не ведая, по какой причине…
Ну ладно, раз уж пришла, надо ситуацией воспользоваться. Времени до вечеринки вагон и маленькая тележка, чтобы и здесь прогуляться, и в магазины зайти.
Алёна «прогулялась» по тропинке, о которой говорил Константин. Это оказалась вовсе даже не просто тропинка, а, как явствовало из единственной таблички, переулок Клитчоглоу. Кто такой этот Клитчоглоу, чем знаменит, почему в честь него понадобилось называть переулок, да еще такой крохотулечный, Алёна не имела ни малейшего представления, да и не слишком была этим озабочена. Может, очередной пламенный революционер, а может, и нет.
Она с особым вниманием поглядела на второй дом налево, с забитым чердачным окошком. Именно на нем, кстати, и висела табличка с названием. Дом как дом, под стать собратьям своим, утонувшим в дворовых сугробах, столь же мифологической, почти нереальной вышины, как и уличные. Из сугробов торчали невзрачные сараюшки и бесколесный, с выбитыми окнами «пазик». Сиденья его были завалены снегом — так же, впрочем, как и крыши домов, и навесы над дверьми и над входами в подвалы. Конец зимы — картина вообще не вдохновляющая, особенно в серый денек, особенно когда ветерок пробирает, но здесь, в этом не то городском, не то деревенском уголке, носившем на себе отчетливое клеймо бытовой заброшенности и общей социальной усталости, совсем уж уныло. Неудивительно, что Алёна поспешила уйти восвояси, пока не промочила ноги. А шанс такой имелся — то и дело она съезжала с наскольженной тропинки в рыхлые предвесенние сугробы и проваливалась в них чуть не по колени, а однажды едва не угодила ногой в низенькое, почти утонувшее в снегу окошко: виднелась только верхняя его часть. Недовольно колыхнулась грязно-белая, в тон сугробам, занавеска, прикрывавшая окно до половины — и в этой, с позволения сказать, хоромине кто-то обитал! — но Алёна успела смыться прежде, чем занавеска отдернулась и появилась физиономия возмущенного хозяина. Можно себе вообразить, каким лексическим запасом он будет оперировать — в таких-то декорациях! Да, если вспомнить женщину, о которой говорил Константин, надо быть в самом деле очень скупой, патологически, чтобы обитать здесь, имея хорошую квартиру в хорошем районе. Тут все не просто заброшенное, но даже какое-то криминальное… хотя можно представить, как великолепно цветут в мае эти старые, покривившиеся груши и яблони да эта полуобломанная сирень (сирень, как известно, чем сильней ломаешь, тем это ей больше на пользу), как щедро вьется летом по серым щербатым заборам хмель и какие невероятные золотые шары и космеи буйно желтеют и розовеют там и сям, притулившись к полинялым дощатым стенам!
Космея — любимейший цветок писательницы Дмитриевой, и, вспомнив это, она устыдила себя за чистоплюйскую рафинированность: ведь ее детство прошло именно в таких двориках, и росла она почти что в таком доме, как этот, с проржавевшей трубой, заколоченным чердаком и неприветливым оконцем в полуподвале. И точно так же прислонялась к стене дома огромная, высоченная береза… Так что все на свете относительно, подумала Алёна и выбралась наконец на тротуар, где смогла вытряхнуть снег из ботинок, а потом пошла дальше, так и не поняв, зачем, собственно, шарахалась по сугробам и что в них хотела найти. То, что Данила и его покойный брат ввязались в дурную, опасную историю, понятно было и без экскурсии по переулочку между Арзамасской и Ильинской улицами!
Конечно, все это вполне тянуло на сюжетные ходы для будущего романа, и Алёна потихоньку начала их придумывать, пока шла к трамвайной остановке. Хотя о левой торговлишке золотишком и о левой же его добыче не писал в отечественной литературе только ленивый, начиная с господина Мамина-Сибиряка. Ну и борзые перья детективщиков не миновали эту тему. Так что… может, лучше про что-нибудь другое написать, а, Алёна Дмитриева?
Всю дорогу, пока трамвай вез ее по Ильинке, потом по Пискунова, потом по Большой Печерской, а потом по улице Белинского к торговому центру «Шоколад», Алёна пыталась придумать это самое другое, иной сюжет. И даже что-то такое начало наклевываться в бурной реке ее фантазии… но немедля сорвалось с крючка, а говоря попросту, мгновенно вылетело у нашей писательницы из головы, чуть только она вошла в «Шоколад» и занялась священным делом шопинга.
На самом деле это занятие наша героиня терпеть не могла. В этом смысле — да и во многих других — она была нетипичной женщиной. Покупала лишь то, что было четко нужно: туфли — значит, туфли, платье — значит, платье, бижутерию — значит, бижутерию. Правда, бижутерию она покупала и непланово, без необходимости: это было проверенное средство улучшения настроения, причем неважно, себе или в подарок, вот как сейчас. В проверенном отдельчике на втором этаже «Шоколада», где раньше не единожды приобретались и серьги, и браслеты, и красивейшие заколки (он назывался «Бижу»), Алёна отыскала для Зои несусветной красы черно-зеленый плоский кулон на черной же плоской цепочке, на миг пожалела, что он один такой (здесь все было уникальное, в единственном экземпляре), но тут же подумала, что для любимой подруги ничего не жалко, пусть единолично украшает себя, — и отправилась за платьем для себя. Хоть платья имели место быть во множестве бутиков «Шоколада», Алёна шла конкретно в «Имидж», где продавалась очень хорошая, хотя и довольно дорогая французская одежда. Да-да, именно французская! И ей, частой посетительнице Парижа, удавалось покупать в «Шоколаде» вещи, которые не попадались на глаза в столице Франции. Штука в том, что в парижских магазинах слишком большой выбор, глаза разбегаются… а здесь вещи собраны все вместе — и как-то очень удачно.
Сказать по правде, раньше Алёна была убеждена, что эти «французские модели» шьются в Одессе, на Малой Арнаутской улице, или, может, в подмосковной Малаховке, или в каком-то подобном средоточии «французских фирм». И пальто — то самое, которое носила сейчас, коричневое такое, типа тонкой, очень легкой дубленочки с капюшончиком, — она хоть и купила за исключительную красоту, но насчет «made in France» очень сильно сомневалась — до той самой минуты, пока не увидела дамочку в точно таком же, один в один, пальтеце, переходящей бульвар Осман аккурат в том месте, где он соединялся с бульваром Итальянцев в столь любимой Алёной столице Франции. Строго говоря, каждая женщина, которая встретит другую в такой же одежде, как ее, вынуждена брать пример с Джины Лоллобриджиды и Элизабет Тейлор, которые оказались в аналогичной ситуации давным-давно, в Кремле, на приеме у Хрущева, и делать хорошую мину при плохой игре, но Алёна никакую такую мину не делала, а хохотала от души, привлекая к себе внимание улыбчивых французских мужчин, всегда готовых разделить с красивой женщиной смех, разговор, обед, танго, прогулку и постель. И с тех пор она свято верила, что в «Имидже» собраны вещи самые что ни на есть французские, а потому ничтоже сумняшеся выложила восемьдесят евро (в рублевом эквиваленте, конечно) за маленькое черненькое трикотажное платьице с воротником-стоечкой и длинными рукавами, скромное, почти смиренное, но так очаровательно подчеркивающее все неоспоримые выпуклости и вогнутости фигуры нашей героини, что это смирение было паче гордости. Правда, оно было коротеньким, много выше колена, из тех, которые теперь носят или с лосинами, или с узенькими брючками. И то, и другое в гардеробе Алёны имелось. Однако ей показалось, что суровая простота платья требовала также и некоего украшения, чего-нибудь вроде длинных бус или эффектного ремня. Длинные бусы в коллекции Алёниных украшений отсутствовали, однако она видела подходящую нитку искусственного черного жемчуга в отделе бижутерии, где давеча был приобретен подарочный кулон, а потому прямиком направилась туда. Она купила бусы — и заметила браслет из точно таких же жемчужин. Вздела его на запястье, чтобы примерить, и тут продавщица сказала:
— Ну надо же, только что здесь была женщина с точно таким же браслетиком! Скажите, пожалуйста, где они продаются, я бы тоже такой купила.
— В «Клеопатре» на площади Горького, — автоматически ответила Алёна, кладя на прилавок жемчужины. — Но знаете, говорят, там было всего два таких: один купила я, а другой…
— А другой, значит, та женщина, — понимающе кивнула продавщица, и только тут до Алёны дошло, о чем вообще речь идет. Получалось, что продавщица только что видела даму, которая подменила пресловутый браслет! И носит его, имеет такую наглость!
С другой стороны, зачем еще меняла, как не для того, чтобы носить?
Нет, неужели удалось-таки напасть на след?!
— Какая она из себя? — отрывисто спросила Алёна. — Куда пошла?
Видимо, очень уж она на этот след ретиво напала — девушка даже струхнула слегка и дрогнувшим голосом спросила:
— А вам зачем?..
Алёна мигом приняла самый миролюбивый вид.
— Ужасно глупая произошла история, — сказала она с очаровательным смешком. — Я хожу в шейпинг-зал, и вот однажды там в раздевалке или в душе мне каким-то образом заменили браслет. Нечаянно, конечно, я понимаю. У меня раньше вот этот «волосатик» был без черного пятнышка, а теперь с черным. Ну и мне хотелось бы свой вернуть, только я никак не могла ту женщину найти, а теперь, кажется…
— Я тоже в шейпинг-зал хожу, — сказала девушка. — На улице Горького, знаете, где бывшая фабрика «Восток». А вы в какой?
— На Воровского, — ответила Алёна. — Неподалеку от Средно́го рынка.
— А, я туда разик заглянула, но там какой-то зальчик тесный, да и вообще, питерская программа мне не нравится. Но не о том речь. Не понимаю, как можно было нечаянно поменять браслеты, если у них камни разные, — мигом обнаружила продавщица самую серьезную прореху в Алёниной версии, и наша героиня сочла уже, что все потеряно, однако девушка сказала: — Наверняка она нарочно их подменила, вот свинство, да? Конечно, идите за ней скорей, может, удастся заставить вернуть! Вон она стоит. Видите? Вон, под эскалатором. В коричневую куртку одета, а рядом с ней молодой человек в пальтушке в «дрипочку».
Алёна глянула восхищенно. Она обожала всякие такие словечки, но найти в наше время человека, который употребляет для пестрых вещей название «в дрипочку» — это практически нереально, и при том говорит не «в пальто», а «в пальтушке»! А тут… самая обыкновенная девица, волосы длинные, белые, сама востроносенькая такая, глазки голубенькие, на бейджике имя: «Сюзанна…» Блондинка до мозга костей, как сказала бы великая Агата Кристи, и, казалось бы, словарный запас у этой Сюзанны должен быть не больше, чем у людоедки Эллочки. А поди ж ты!
Будь у Алёны время, она непременно поговорила бы с девушкой: вдруг она еще что-нибудь этакое сказанет, — но сейчас счет шел на секунды, а потому Алёна только шепнула: «Спасибо огроменное!» — улыбнулась признательно и побежала к эскалатору.
Женщину в коричневой куртке она увидела сразу. Высокая, темноволосая, лет сорока пяти, может, чуть больше. Выражение смугловатого скуластого лица было таким озабоченно-неприязненным, а губы, быстро произносившие слова, так зло кривились, что ее можно было бы принять за мамашу, которая делает выговор сыну-двоечнику, тем паче что «молодой человек в пальтушке в дрипочку» по возрасту явно годился ей в сыновья и вид имел самый виноватый. Алёна сначала глянула на него лишь мельком, но тут же посмотрела внимательней. Да ведь это не кто иной, как менеджер из «Видео» Константин!
А он тут каким боком?! Ну ладно, мир тесен до безобразия, это общеизвестно. Константин Алёну вообще не интересует. Главное — его собеседница. Как быть-то? Подойти и попросить: «Дама, позвольте взглянуть на ваш браслетик, а то есть подозрение, что вы мой стырили, а свой подкинули!» Радикально, но неконструктивно. Сама Алёна на такой вопрос только плечами пожала бы и ушла восвояси. Нужно поступить как-то неожиданно… что-то такое сделать, чтобы спровоцировать замешательство этой воришки…
Ага!
Алёна скользнула пальцами по запястью, нащупала застежку своего браслета и с самым деловым видом направилась вперед. Проходя мимо дамы в коричневой куртке, Алёна слегка тряхнула рукой, и браслет послушно соскользнул вниз и упал как раз между дамой и Константином.
— Ой! — воскликнула Алёна. — Кошмар, да что же это он все время спадает? Просто беда. Надо бы его к ювелиру отнести, пусть бы уменьшил.
Она молотила что в голову взбредет, а сама в это время не сводила глаз с женщины. И что же?! Ничего! В ней, как выразился бы некто Пушкин, даже бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она! То есть лицо ее осталось совершенно равнодушным, она лишь мельком глянула на браслет — и тут же снова уставилась на Константина.
Алёна немедленно почувствовала себя невероятно глупо. Махнула, понимаешь, правым рукавом, как та Царевна-лягушка, но вышло никакое не озеро, а натуральный семипудовый пшик.
Пришлось нагнуться, поднять браслет и, бросив еще один испытующий взгляд на даму (столь же нерезультативный, как первый), пойти прочь. И неведомо, чем бы кончилась описываемая нами история, как развивались бы события дальше, кабы Алёна не оглянулась еще раз и не увидела лица менеджера Константина, который смотрел ей вслед с откровенным ужасом. Впрочем, встретившись с Алёной глазами, он тут же зевнул с деланым равнодушием, однако впечатление складывалось такое, будто парень подавился собственным страхом.
Алёна сделала вид, будто ничего не заметила, однако вместо того, чтобы пойти к выходу из магазина, как собиралась сначала, она плавно свернула в отдел, который занимала благоухающая на все лады «L’Ԑtoile», и сделала вид, что ее ничто не интересует, кроме полок, которые занимала продукция «Barberry Weekend». Сделать такой вид ей было ничуточки не трудно, поскольку духи эти — ее любимые. Покосившись на даму и Константина, она увидела, что они продолжают разговор, и выскользнула из магазина через другую дверь. Здесь Алёна остановилась под прикрытием стойки, за которой невероятно длинноногая девица в зеленой форме, покачиваясь на невероятно высоких каблуках, вернее, каблучищах, раздавала всем желающим — а преимущественно нежелающим! — флаеры какой-то туристической фирмы.
Алёна выдернула из кармашка сумки мобильный телефон и быстро сфотографировала странную пару. Услышав щелчок камеры, рекламная девица так вздрогнула, что чуть не свалилась со своих невообразимых каблучищ, поэтому Алёне пришлось поддержать ее под руку, а чтобы хоть как-то компенсировать стресс, она выхватила из ее рук сразу несколько флаеров — и была такова.
Выбежав из дверей «Шоколада», Алёна быстро перешла на другую сторону улицы Белинского и свернула во дворы красных кирпичных многоэтажек. Здесь она остановилась и посмотрела на снимок. Константин оказался запечатлен как-то однобоко — в том смысле, что стоял к Алёне в профиль. Но он мало интересовал нашу героиню. А интересовала ее дама в куртке, и лицо той, по счастью, получилось очень хорошо.
Алёна удовлетворенно кивнула. Если отпечатать снимок и показать в шейпинг-зале, кто-нибудь из тренеров эту особу непременно вспомнит. На тренировку невозможно попасть, не оставив своих паспортных данных администратору. Узнав их, Алёна найдет эту особу, предъявит ей браслет и спросит наконец, зачем он ей понадобился. А также потребует обмена ценностями, чтобы восстановить, так сказать, историческую справедливость.
И еще какая-то мысль мелькнула… что-то связанное с этим выражением ужаса на лице Константина… но тут Алёна случайно взглянула на часы и обнаружила, что уже шесть. А ей нужно еще голову вымыть, собраться, накраситься и доехать до «Зергута»! И цветы, не забыть про цветы!
Все, теперь не до расследований и дознаний. Пора бегом бежать!
И она в самом деле побежала домой, ни о чем больше не думая, кроме как о заботах нынешнего вечера, ибо довлеет дневи злоба его… ну и, само собой, не заметила человека, который, сначала таясь, а потом открыто, даже нагло пошел за ней до самого дома и посмотрел, в какой подъезд вошла наша рассеянная героиня…
Единственное, чего он не мог узнать, — это номер квартиры Алёны, однако внимательным взглядом он засек, в каком окне вспыхнул свет вскоре после того, как она вошла в подъезд. Может быть, это была ее квартира, может быть, нет, но человек не сомневался, что выяснит это доподлинно, и очень скоро.
Вслед за этим он вышел из двора и отправился своим путем.
Дела давно минувших дней
— Господи Боже! — вскричал я, как громом пораженный. — Какой же это ужас…
— Конечно, — грустно кивнула Эльвира Михайловна. — Особенно потому, что ни девушка, ни ее возлюбленный не знали, кто они. Согрешили по неведению.
— Как же это может быть? — недоверчиво спросил я. — Петрозаводск — небольшой город, можно сказать, городишко, здесь все друг друга знают…
— Да вот так вышло, — объяснила Эльвира Михайловна. — Раймо Турккила — крестник матушки Паисилинна, у которой вы сняли комнату. У его отца была большая семья, и после того, как дети осиротели, потеряв обоих родителей разом, их раздали в другие семьи. Кого-то, в основном мальчиков, взяли близкие и дальние родственники, а двух крошечных девочек удочерили богатые и бездетные люди из Гельсингфорса. Раймо вырос в деревне, а потом, уже повзрослев, переехал к матушке Паисилинна и нанялся на работу к брату своей покойной матери, своему дяде, — Яаскеляйнену. Девочками были Синикки и ее младшая сестра. Им дали другую фамилию — Илкка. Они больше не виделись со здешней родней. Сначала все шло хорошо, но год назад госпожа Илкка и младшая девочка умерли, и Синикки осталась на попечении приемного отца. К несчастью, он оказался порочным человеком и воспылал к девушке нечистыми чувствами. Она и на мой женский взгляд весьма хороша, — грустно сказала Эльвира Михайловна, — а мужчины перед такими и вовсе не могут устоять. Даже если девушка ведет себя прилично и скромно, мужчины этому не верят и пытаются вовлечь ее во грех. Ханжи говорят, что на таких девушках лежит проклятье, они сами виновны в своей судьбе. Но Синикки воспротивилась и однажды тайно бежала из Гельсингфорса. У нее было немного денег, оставленных ей покойной госпожой Илкка, и она кое-как, на перекладных, добралась до Петрозаводска. Первым делом отправилась к госпоже Паисилинна. На беду, та уехала навестить заболевшую сестру в ближнее село. Раймо же парень непутевый, хоть и красивый, ударился в загул. Сутками пьянствовал невесть где, бросив дом, а потом являлся и отсыпался, не обращая внимания на то, что дверь нараспашку. Вот в такую минуту в дом и вошла Синикки. Увидав, какой беспорядок царит кругом, она принялась наводить чистоту, изредка поглядывая на спящего. Догадывалась ли она, что это ее родной брат? Думаю, нет. Она знала, что Раймо живет где-то в деревне… В это время проснулся Раймо. Повторяю, он необыкновенно хорош собой, сущий Леминкайнен или Куллерво из «Калевалы». «Калевала» — это свод прекрасных сказаний, — пояснила Эльвира Михайловна. — Я в восторге от них… Кроме того, Синикка пошла внешностью в отца, а Раймо — в мать, он темноволосый и темноглазый. Они совершенно непохожи друг на друга. Итак, Раймо проснулся, увидел красавицу, которая мыла пол, и решил, что это служанка его тетки. Он спросил, как ее зовут. «Синикка Илкка», — ответила она. Раймо совершенно забыл о существовании сестры, а новой ее фамилии не знал. Он поддался чарам Синикки, а она поддалась его чарам. Они согрешили… и только потом, начав расспрашивать другу друга о семьях, поняли, что они брат и сестра.
— Какая трагическая история! — сказал я. — И что же было с ними дальше? Герои романа ушли бы в монастырь, узнав правду! Или покончили бы с собой.
— В «Калевале» они поступили именно так, — кивнула Эльвира Михайловна. — Там есть один трагический герой — Куллеро, сын Калерво. Он соблазнил сестру, не зная, кто она… девушка утопилась сразу, а он через некоторое время, отомстив своим врагам, покончил с собой на том же месте, где совершилось его грехопадение.
Он пришел к тому лесочку, На ужасное то место, Где он деву опозорил, Обесчестил дочь родимой. Калервы сын, Куллервойнен, Юноша в чулочках синих, Рукояткой меч втыкает, Глубоко вонзает в землю, Острие на грудь направил, Сам на меч он повалился, Поспешил навстречу смерти И нашел свою кончину. Так скончался этот юный, Куллерво погиб бесстрашный, Такова кончина мужа, Смерть несчастного героя [9].Я в изумлении уставился на свою спутницу:
— Вы так хорошо знаете эти местные сказки, что читаете их наизусть?!
— Это не просто сказки — это величественный эпос, на мой взгляд, не менее значительный, чем сказания «Эдды» или «Одиссея». Просто в «Калевале» больше внимания уделено обычным людям, а не божествам, от этого он и кажется приземленным и простым людям несведущим. Они ведь и русские сказки презирают оттого, что в них речь идет об Иванах-царевичах и даже об Иванушках-дурачках, а не о каком-нибудь там Чернобоге, Белбоге или Моране!
— А кто такие Чернобог, Белбог и Морана? — наивно спросил я.
— Древние славянские божества, — чуть усмехнувшись, ответила Эльвира Михайловна, и я почувствовал себя полным невеждой… я ведь если и знал о Троянской войне, то лишь благодаря оперетке Оффенбаха «Прекрасная Елена», а об античных богах лишь понаслышке, что же говорить о славянских?!
Эльвира Михайловна мгновенно ощутила мое смущение и перевела разговор:
— Впрочем, я отвлеклась и не рассказала вам, что было дальше с Раймо и Синикки. Вернулась госпожа Паисилинна — и разразился ужасный скандал. Однако во всем винили бедняжку Синикки. Раймо с помощью крестной и своего дяди Яаскеляйнена уехал в Петербург, нашел там работу. А Синикки осталась. В Гельсингфорс она не могла вернуться — боялась своего приемного отца. Сняла жилье на окраине, у спившейся старухи, и в положенное время родила сына. Благодаря тому, что у нее еще оставались деньги, она не пропадает с голоду, но сейчас ребенок болен, и ни один из финских врачей, фельдшеров или знахарей не хочет ей помочь. Она пошла к русским докторам, но и те отказали — думаю, просто потому, что несведущи в болезни. Мне кажется, у ребенка дифтерит, там нужна трахеотомия, и, если ее не сделать вовремя, дитя погибнет неминуемо. Леонтьевский — очень умелый доктор. Он сделает трахеотомию, и дитя будет спасено.
— Вы так хорошо обо всем знаете, даже и о медицине! — воскликнул я восхищенно.
— У меня был сын, который слишком поздно попал в умелые руки Леонтьевского, — после паузы тихо сказала Эльвира Михайловна. — Он сделал трахеотомию, но ребенок уже не мог бороться со смертью… Меня успокаивали, а один здешний знахарь, старый лапландец — один из жителей Похъёлы, — чуть заметно улыбнулась она, — даже уверял, что грех вырывать из лап смерти обреченных, что, выжив, они невольно несут на себе отпечаток зла и причиняют зло людям… Это было десять лет назад, но это горе невозможно забыть. Я буду счастлива, если ребенок Синикки останется жив благодаря моим стараниям. Умоляю вас только об одном — молчите о моем горе. Об этом не знает никто, кроме вас. Я доверилась вам — не обманите же моего доверия.
Я смотрел на нее, как на божество, плача ее слезами… откуда нам с ней было знать, что в словах старого лапландца крылось зерно смертоносной истины?!
Наши дни
Зоя оказалась некоторым образом права, когда сказала, что мясо будут готовить буквально на глазах посетителей ресторана. Тот столик, за которым сидели ее гости, был втиснут между стенкой и кухней — открытой кухней с открытыми печами, на которых непрестанно готовилось мясо, так что сухой жар просто выжигал чувствительные Алёнины глаза, и без того измученные экраном компьютера, на который она пялилась большую часть своего времени. Алёна немедля пожалела, что купила платье со стойкой и длинным рукавом. В такой горячей обстановке больше подошел бы невесомый топик со столь же невесомой юбкой. Чтобы несколько охладиться, приходилось пить как можно больше холодного, чудесного розового вина, которое самым приятнейшим образом напомнило Алёне, как она однажды выпила вот такого же чудесного вина во французской деревушке, и это потянуло за собой совершенно невероятные приключения, из которых она, конечно, выпуталась с обычным блеском, да еще и преступление, совершенное в старинном шато, мимоходом распутала… [10]
Она все время порывалась узнать, как вино называется, однако мешала «дискотека восьмидесятых», которая безудержно кипела и бурлила вокруг. Давненько рафинированная эстетка Дмитриева, которая из всей музыки в мире признавала только аргентинское танго, балеты Чайковского, «Жизель» Адана да еще несколько оперных и балетных мелодий, не отрывалась так безудержно под самую что ни на есть незамысловатую попсу. Вообще вечеринка казалась очаровательной во всех отношениях. Точно так же по-детски, вернее, по-юношески, веселились и другие Зоины гости, уже упоминавшиеся Коля с Надей, у которых с Алёной сразу же возникли самые дружеские отношения. Дело в том, что… мир до безобразия тесен, об этом уже не единожды говорилось и не единожды будет сказано! — дело в том, что сын Нади и Коли, Олег, был одним из лучших в Нижнем Горьком преподавателей аргентинского танго, которым страстно увлекалась Алёна, а потому она относилась к Олегу с превеликим пиететом и говорила о нем с придыханием и обожающим блеском в глазах, что не могло не быть приятно его родителям. Словом, застолье, перемежающееся тостами в честь Зои — а она заслуживала куда большего количества комплиментов, чем то, которое было высказано нынче вечером, хотя оно было воистину бессчетным! — и песнями-плясками, было на своем пике, когда объявили начало развлекательной программы.
Мужчины — Зоин Валера и Надин Коля — тотчас состроили самые равнодушные гримасы и вообще старательно демонстрировали, что им всякая там программа совершенно до лампочки. Однако это не осталось не замеченным женщинами, которые обменялись презрительно-понимающими улыбками. В самом деле, понять вспышку возбуждения очень просто — никакой не бином никакого Ньютона, в самом-то деле! Программа начиналась с выступления стриптизерши.
Вышла она вся такая одетая, можно сказать, закутанная в роскошный, пурпурный с седым мехом плащ, в высокой меховой шапке, сапожищах на каблучищах (Алёна вспомнила давешнюю рекламную девицу… ну, та на таких подпорках и стоять бы не сумела, а эта еще и танцевала, и там были не только каблучищи, но и платформа!), а потом постепенно на ней остались только сапоги и чисто условные стринги. Наверное, потому, что писательница Дмитриева — просто воинствующая натуралка, она не находила в теле этой блондинки (ну а как же!!!) совершенно ничего соблазнительного (грудь и попа плосковаты, да и вообще тощевата), однако стриптизерша оказалась классной акробаткой. Что она вытворяла на шесте, уму непостижимо! Впрочем, судя по напряженным взорам мужчин, они наслаждались не только ее мастерством, но и тем, как она классно раздвигала ноги. Надя и Зоя поглядывали на своих благоверных снисходительно и периодически заговорщически перемигивались.
«Черт, какие они терпимые! — подумала Алёна. — А я бы, наверное, не смогла видеть, как мой мужчина таращится на эту голую дуру!»
Она попыталась вспомнить бывшего мужа, Михаила Ярушкина, разлука с которым когда-то привела ее в такое ужасное отчаяние… правда, очень ненадолго… и решила она проблему утешения самым что ни на есть приятнейшим способом… [11]
Нет, пожалуй, даже начни Михаил немедленно расстегивать штаны при виде этой девки, Алёну это ничуть не взволновало бы. Но если бы тут оказался Дракончег… А если Игорь? Нет, Игорь — это тоже прошлое. А вот Дракончег…
«Угомонись! — холодно приказала она себе. — Ну что за чушь! Дракончег — настоящее, которое постепенно переходит в категорию прошлого. Ваш роман иссякает… и давно пора, между прочим, потому что у вас никогда не было будущего. Ты не имеешь никакого права его ревновать, он тоже… Право ревновать! Как глупо звучит. Нет, не столь уж глупо. Пожалуй, узы брака не только обременяют людей множеством обязанностей, но и дают некие права. К примеру, если бы Зоя и Надя начали сейчас тубасить своих благоверных по макушкам, это никого не привело бы в шок, даже и самих благоверных. А все благодаря пресловутому праву на ревность, даже на публичную! А вот если бы рядом со мной сидел Дракончег и пожирал бы глазами эту дешевку и я вдруг закатила бы скандал… ну или просто выказала бы свое недовольство, можно себе представить, какое это вызвало бы возмущение — и прежде всего у него!»
Бурные и, как принято было выражаться в позабытые совковые времена, продолжительные аплодисменты заставили нашу героиню очнуться от своих мыслей. Она оглянулась на соседей. Валера и Коля аплодировали совершенно упоенно, а дамы продолжали заговорщически переглядываться и перемигиваться. Казалось, они что-то такое знают… некую тайну… выражаясь фигурально, они словно бы знали тайну некоей свиньи, которую намеревались подложить мужьям!
— Сейчас мы еще немного потанцуем, — объявил ведущий вечера, — а потом развлекательная программа будет продолжена.
— Господи, опять это… — с тоской вздохнула Алёна.
— Это, да не совсем! — торжествующе провозгласила Зоя. — Сейчас будет мужской стриптиз!
Ах вот оно что… Теперь понятно, какую такую тайну и какую свинью дамы имели в виду!
Мужчины переглянулись озадаченно, а Алёна вспомнила, как Дракончег сказал, будто в «Визарде» хреновый мужской стриптиз. А здесь, интересно?
Обычно мужчины проявляют куда больше фантазии, чем женщины, когда встают на тяжкий путь стриптизерства. Во времена оны Алёна знавала одного, который являлся в образе викинга, и другого, эксплуатировавшего образ пионера-ленинца [12].
Это было весьма завлекательно. Таковыми оказались и более близкие знакомства с этими молодыми людьми. А интересно, каким полетом фантазии блеснет здешний удалец-молодец? В каком образе предстанет? «Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой — иль маской щегольнет иной?» — подумала Алёна, отдав дань Пушкину (у которого, не сомневайтесь, господа, можно найти цитату на все случаи жизни, даже, как видите, на случай мужского стриптиза), и направилась в туалет, чтобы потом, когда начнется сеанс, не отвлекаться на насущные потребности.
Однако не она одна оказалась столь умной, и пришлось минут десять подождать, пока иссякнет очередь веселых подвыпивших дамочек, с возбуждением обсуждавших предстоящий стриптиз, словно голого мужика в жизни не видели. В результате Алёна на начало действа опоздала — вышла из туалета, когда в центре зала уже стоял некто в черном просторном плаще с капюшоном, смиренно склонив голову.
«Монаха будет изображать, что ли? — хихикнула наша героиня. — И бичевать себя власяницею по выступающим частям тела, коими вершится плотский грех?»
Возвращаться на свое место было уже поздно, ну что же, отсюда тоже хорошо видно. Правда, два каких-то необычайно толстых мужика, на ходу застегивая ширинки (ну а как иначе, это ж национальная русская черта!), вышли из мужского туалета и встали как раз перед Алёной, ну и ладно, если смотреть между ними, ничего не укроется от глаз.
— Золотой бой! — раздался усиленный микрофоном голос ведущего. — Встречайте!
Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Это был Рихард Штраус — «Что говорил Заратустра», бессмертная мелодия, известная чуть ли не всем телезрителям благодаря не менее бессмертному «Клубу знатоков». Под ее невообразимые звуки Золотой бой сбросил свой монашеский плащ и остался в золотом комбинезоне, облегающем его с головы до ног так плотно, как хорошая тонкая перчатка облегает руку, а чулок — ногу. Ткань подчеркивала все выпуклости и вогнутости его тела — великолепного, хотя и чрезмерно атлетичного, пожалуй. Скажем, у него были слишком мощные ноги, по мнению Алёны.
«Ну и что? — тут же сказала она себе. — У Дракончега тоже очень мощные ноги, но это его совершенно не портит!»
Алёна вообще обладала высокоразвитым чувством справедливости.
Музыка изменилась, и Алёна еле сдержалась от смеха, потому что теперь это был бессмертный хит «Виа Гры» «Поцелуи». Ну да, это самое — «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи». Между прочим, очень пламенная песенка. И, чувствовалось, она не хило так зажигала и Золотого боя, и публику, потому что, когда он начал вдруг высвобождаться из своей золотой кожи, проделывая сложнейшие акробатические трюки и все больше обнажая могучее тело, в зале раздался восторженный женский визг.
Без золотой оболочки парень оказался еще сильнее и привлекательней.
«На Дракончега похож, — мечтательно подумала Алёна. — И тоже достоинства — дай боже…»
Золотой бой между тем остался только в золотом бандаже, который прикрывал что-то ну о-о-очень внушительное, и двинулся на поиски жертвы. А как же, все стриптизеры ведь непременно должны выдернуть в круг какую-нибудь красотулечку и поделать с ней всякие возбуждающие движения, на зависть ее подругам и на ярость мужу, буде он случится.
Однако Золотому бою не везло — ни одна девушка не отвечала на его призывы.
«Может, решиться и составить ему компанию? — подумала Алёна. — Ну до чего же он на Дракончега похож, что-то удивительное! Приятно будет с таким поиграть!»
Она только собралась раздвинуть в стороны загораживающих ее мужиков и выйти на простор речной волны, сиречь танцпола, как вдруг к Золотому бою подскочила… Зоя!
Маленькая, удивительно пропорциональная, кругленькая, словно наливная вишенка, с прекрасными, яркими, карими глазами и улыбчивым, зовущим ртом, с роскошным бюстом и красивыми ножками, смелая, раскованная, восхитительно артистичная — отличная партнерша для высоченного и сильного Золотого боя.
Ух ты, как он обрадовался! И что он только не вытворял с храброй и отважной красоткой! Народ просто ревел от восторга. Все, кто сидел в дальних концах зала, выбежали из-за столиков, чтобы лучше видеть, и сгрудились вплотную к танцполу. На каждом женском лице восхищение красавцем Золотым боем мешалось с завистью к Зое, которая непрестанно пребывала в его объятиях, ну а на каждом мужском лице восхищение Зоей мешалось с откровенной радостью оттого, что это не его жена там мелькает стройными ножками, туго обтянутыми колготками, не ей задирают юбку, выставляя напоказ беленькие кружевные трусики и не с ее плеч спускают платье, чуть ли не обнажая грудь, на которой черно-зелеными искрами мерцает необычайно красивый кулон.
Но Алёна не видела ни кулона, ни Зои. Она не сводила глаз с Золотого боя, и одна мысль не давала ей покоя: почему он так необыкновенно похож на Дракончега?!
Та же фигура, то же тело — уж это тело она знала если не как свое собственное, то почти не хуже. Чуть золотистая, гладкая кожа без единой родинки, эти руки с длинными пальцами аккордеониста, эта ноги, эта форма головы… Да как может один человек до такой степени походить на другого? Фантастика, просто фантастика!
Она понимала, что Дракончег никак не мог здесь оказаться, что это полный бред, но все же еле удерживалась от того, чтобы не ринуться на танцпол и не сорвать с него маску. И впервые в жизни смотрела на Зою зло, ревниво, неприязненно, если не сказать больше…
Наконец вакханалия окончилась. Все ужасно веселились, и только на двух лицах улыбки казались приклеенными: на лице Валеры, Зоиного мужа, и на лице Алёны. Причем оба изо всех сил старались показать, что они в таком же восхищении, как прочая публика.
Снова начала буйствовать дискотека восьмидесятых, все вышли в круг и начали переминаться с ноги на ногу, потряхивая разными частями тела — в зависимости от их подвижности. Валера с унылым видом качался в сторонке и вдруг подскочил к высоченной — метра полтора в высоту, ну разве что чуть меньше! — винной бочке, стоявшей торчком, и залез на нее. И принялся танцевать там — одинокий, с озлобленным выражением, со скорбно сжатыми губами.
— Валерик, ты что? — хохотала Зоя. — Ты там зачем?!
Алёна, к примеру, очень хорошо понимала, что с Валериком и зачем он там. Его обида и ревность, которым он — как человек цивилизованный! — не мог дать выхода, несмотря ни на какие свои неоспоримые права, требовали уединения и возвышения над хохочущей толпой и над женой, которая… которая… которая!!! Короче, все ясно. Пусть это немножко похоже на то, как если бы ревнивый, покинутый дикарь взобрался на пальму, чтобы поведать джунглям свою печаль-тоску, но Алёна понимала его. Потому что сама чувствовала нечто подобное.
Тот голый парень не имел права быть так похожим на Дракончега! Никакого права не имел!
— Валер, помоги мне! — крикнула она и протянула вверх руку. Через мгновение Валера втянул ее на вершину своей пальмы. Растрепанные головы колыхались у их ног, словно макушки диковинных тропических растений. И они принялись танцевать вдвоем — яростно и ревниво, почти не замечая друг друга, поглощенный каждый своими мыслями. Нетрудно догадаться, о чем думал Валера: лелеял небось планы страшной мести «жене-распутнице», понимая в глубине души, что ей все сойдет с рук, как всегда. Ну а Алёна думала о Дракончеге. Говорил, что пошел на ночную работу, говорил, что ходил на какие-то курсы, говорил, что этим вечером занят, пристально интересовался, в какой именно ресторан идет Алёна, и презрительно отозвался о качестве мужского стриптиза в «Визарде»… оценивал это качество как профессионал?! Неужели…
Не может быть, что бы это был он! Или может?..
Да все может быть на свете, Алёна это точно знала!
Внезапно ее словно толкнуло что-то.
Оглянулась — и в дверях зала увидела Золотого боя, снова закутанного в плащ. Лицо его по-прежнему прикрыто маской. Казалось, он смотрел прямо на Алёну…
Тотчас повернулся и ушел. Исчез. Словно испугался.
«Да что я мучаюсь, дура?! — решительно подумала Алёна. — У них там, куда он пошел, наверное, всякие приватные помещения. Нужно пойти туда разыскать его, спросить… увидеть… и убедиться, что это не Дракончег! И я сразу успокоюсь!»
Что с ней будет, если она убедится, что это все же Дракончег, Алёна предпочла не прогнозировать.
Музыка кончилась, Валера слез с бочки и помог спуститься Алёне, все вернулись к столу.
— Девчонки, давайте выпьем за наших мужей! — провозгласила Зоя, которая, конечно, отлично понимала, что творится с ее дорогим. — За Валеру и Николая! Лучше их нет никого на свете, мы с ними так долго живем, что не раз могли в этом убедиться.
Надя с воодушевлением поддержала тост, Алёна тоже радостно чокнулась с Валерой и Колей. Приятно было видеть, что согласие и гармония возвращаются в компанию. Но до гармонии было еще далеко.
Сделав вид, что ей снова потребовалось в места не столь отдаленные, она с извиняющейся улыбкой выскользнула из-за стола и поспешила к той двери, в которой только что мелькнул Дра… Тьфу, тьфу, нет, конечно, не Дракончег, этого не может быть!
Выйдя, она оказалась на лестничной площадке и, воровато оглянувшись, начала пониматься по ступенькам. Собственно, наверное, можно было бы и спуститься, но это была дорога в гардеробную и на выход из ресторана, а Алёна рассудила, что вряд ли полуголый и босой Золотой бой в своей хламиде отправится на пешую прогулку по морозцу.
Один пролет Алёна преодолела довольно резво, но потом ее остановил чей-то голос.
— Спасибо, я все понял, — услышала она. — Но я все же завтра туда наведаюсь, и пропади оно все пропадом.
Алёна насторожилась… определенно не голос Дракончега, однако все же он странным образом казался знакомым.
— Тогда зачем ты мне сказал, что у нее встреча завтра в девять вечера, если так уж обо мне беспокоишься? Ты же знаешь, что я туда обязательно пойду. Зачем тогда говорил? Не пойму я тебя, Костя… надо же все-таки иногда мужчиной быть, а не прокладкой на каждый день!
Алёна не успела должным образом восхититься образностью выражения, как человек умолк и его шаги удалились.
Она взбежала выше и оказалась в узком коридорчике, уходящем за поворот. Здесь было пусто. Алёна увидела две двери: на одной надпись — «Туалет», на другой — «Артистическая».
Ишь ты, какие тонкости! Обычно артисты шоу в таких заведениях переодеваются в самых жалких закутках, а здесь — артистическая! Впрочем, не факт, что там, за дверью, не тот самый жалкий закуток, написать-то, как известно, можно все, что угодно.
Из-за двери доносился женский голос, перемежавшийся смешками: женщина рассказывала что-то, чрезвычайно ее веселившее. Иногда слышался мужской хохоток — низкий, снисходительный. Алёна собралась приникнуть ухом к двери, чтобы уловить в нем знакомые, а лучше — незнакомые нотки, но сердце так колотилось, что невозможно было не только слушать, но и дышать.
— Что с вами? — раздался рядом мужской голос.
Алёна испуганно обернулась.
Судя по голосу, это тот человек, который только что говорил по телефону. Голос по-прежнему кажется знакомым, да и лицо тоже. Где Алёна могла видеть этого высокого парня с серыми глазами и четкими чертами лица? Его щеки были чуть тронуты щетиной, волосы растрепаны, и это придавало ему добродушный вид.
— Что с вами? — повторил он, глядя как-то странно.
Ну и вид у нее, наверное… Надо взять себя в руки, но что-то не получается.
— Ничего, — слабо выговорила она, пятясь от двери и с ужасом представив, как она сейчас откроется и выйдет Золотой бой, а может, Дра… — Извините, вы здесь работаете? — кое-как спросила Алёна.
— Нет, — качнул парень темноволосой головой. — Здесь работает моя сестра, я за ней приехал. Она… — И замялся, и Алёна вдруг поняла, что его сестра — та самая блондинка-стриптизерша.
Они совершенно не были похожи, но Алёна все же догадалась, и парню это, видимо, стало понятно, потому что он вдруг покраснел и сказал резко, словно защищаясь:
— Ну и что? Она скромная девушка. А это только работа!
Алёна подумала, что если эта скромная девушка окажется в одной запертой комнате с Дракончегом, она одномоментно перестанет быть и скромной, и девушкой, мигом снова потеряла голову от ревности и спросила сдавленным голосом:
— Скажите, а вы знаете, как зовут того… ну, Золотого боя?
— А что? — удивился парень.
— Ну, он похож на одного моего знакомого, и я…
Алёна хотела сказать это как ни в чем не бывало, но голос предательски дрогнул, и она снова умолкла.
— А вашего знакомого как зовут?
— Александром, — буркнула она.
— А, нет, — равнодушно сообщил парень. — Золотого боя зовут Виктором. Так что не волнуйтесь.
Чувство облегчения было таким острым, что Алёна на миг онемела и остолбенела. Послышались шаги, и парень встревоженно прошептал:
— Слушайте, идите, а то они тут прямо бесятся от злости, если посторонние сюда заходят, еще вызовут охрану, зачем вам проблемы? — И, схватив Алёну за руку, он повлек ее к лестнице.
Она, все еще обессилевшая от облегчения, послушно и медленно начала спускаться, когда позади раздался голос:
— Привет, Данила. За Мариной приехал? Сейчас я ее позову.
Алёна так и замерла.
Данила!
Боже ты мой, да вот почему его голос и лицо показались знакомыми! Это Данила… ну, брат ювелира, язычник, обладатель расписной куртки! Алёна видела его только вчера, но мельком и по большей части в темноте, а сегодня на нем не было знаменитой куртки, да и скипидаром не пахло, вот она его и не узнала. А он, интересно, ее узнал?
Да вряд ли… Он вообще Алёниного лица вчера не видел, да и в капюшоне она была…
Хорошо, что не узнал. Иначе решил бы, что перед ним профессиональная выслеживательница молодых красивых парней. Вчера за ним гонялась по сугробам, сегодня в закоулках «Зергута» разыскивает какого-то Александра…
А впрочем, не наплевать ли вообще, узнал ее Данила или нет и что он о ней подумает? Главное, что Золотого боя зовут Виктором, что он не Дракончег!
Как легко стало на сердце, какими глупыми показались все подозрения, каким чудным сделалось настроение!
В это самое мгновение один человек набрал некий телефонный номер и, дождавшись ответа, произнес:
— Я позвонил.
— Отлично… — промурлыкал женский голос. — И как? Что он сказал?
— Сказал, что придет.
— Ну вот и отлично, — снова промурлыкала женщина. — А что ты злой-то такой, а? Все хорошо! Вернее, завтра в девять все будет хорошо. Данила нам все отдаст, и ты будешь свободен. Чао, дорогой. До связи!
В трубке раздался гудок. И тот человек был совершенно уверен, что женщина отключилась. На самом деле это был всего-навсего звуковой сигнал. Женщина довольно часто им пользовалась и немало полезного услышала от своих собеседников, уверенных, что их уже никто не слышит, можно свободно выражать свои чувства прежде, чем выключить телефон. Она не ошиблась и на сей раз. Тот, кто ей позвонил, свои чувства тоже выразил, да еще как бурно!
— Тварь паршивая! — прошипел он. — Данила тебе все отдаст! Как бы тебе на нем зубы не обломать. Данила даже если бы знал, где все это, не сказал бы, он не такая тряпка, как я, а меня здесь завтра уже не будет! Вечерком сяду на поезд и… И ничего ты не узнаешь, и останешься вместе с Вейкой в такой заднице, какая вам и не снилась!
После этого ее собеседник отключился, а она несколько мгновений молча смотрела на трубку и пыталась понять, как могло произойти, что этот слабак, мальчишка, которого она и в самом деле привыкла считать тряпкой, вдруг вздумал выйти из-под контроля. А главное, что теперь делать.
Тем временем успокоенная Алёна пробралась сквозь танцующую толпу к столику и схватила свой бокал. Зоя, уже вполне примирившаяся с Валерой, и Коля с Надей, которые, такое ощущение, не ссорились никогда в жизни, с готовностью подняли свои.
— За любовь! — радостно провозгласила Алёна. — Мы сегодня еще не пили за любовь!
— Только что выпили, — сказала Зоя. — Пока тебя не было. Но святое дело — за любовь выпьем еще хоть пять раз!
И они выпили — ну, может, не пять раз, но четыре точно, и еще за что-то пили, и за что-то еще, так что, когда собрались домой и начали вызывать такси, Алёна была уже довольно пьяная и почти не вязала, как говорится, лыка. Настроение у нее было расчудесное, и мысль о том, что Золотой бой — не Дракончег, не-е-е Дра-а-ко-о-ончег, ага-а! — не переставала радовать и вдохновлять. Однако враг рода человеческого, коему, как известно, все наши радости — ну просто нож острый и ужасная досада, зато печали и горести — великое наслаждение, подсуетился и дернул-таки нашу героиню за язык.
— Скажите, — спросила она охранника, застегивая пальто и улыбаясь, — а Виктор давно у вас работает?
— А кто такой Виктор? — задумчиво свел тот брови. — У нас вроде ни одного Виктора нет. Слышь, — обернулся он к гардеробщику, — я говорю, у нас нету никаких Викторов.
— Нету, — кивнул тот. — Я здесь с самого начала, как ресторан открылся, но Викторов нету. Ни среди официантов, ни на кухне…
— Да он не из официантов и не на кухне работает, — сказала Алёна все с той же блаженной улыбкой. — Это Золотой бой.
— Да какой же он Виктор? — хохотнул охранник. — Его Сашкой зовут. Александром!
Ничего не стоит представить себе состояние Алёны в течение ближайшего времени.
Дела давно минувших дней
После этого разговора мне очень долгое время не удавалось побыть наедине с Эльвирой Михайловной. У меня создалось впечатление, что она стыдилась своей откровенности: может быть, того, что в ее тайну смог заглянуть человек, несравнимо ниже ее по общественному положению.
Она мне не сказала даже, что сын Синикки выздоровел, до меня просто дошли слухи.
Честно признаюсь, я чувствовал себя несколько уязвленным столь внезапным пренебрежением. В ответ я и сам старался держаться с Эльвирой Михайловной независимо и даже отчужденно, зато больше времени проводил с другими актерами, например с Елизаветой Петровной Ивановой, тем паче что это доставляло ей явное удовольствие. Мне казалось, она мною увлечена… Положа руку на сердце, я и сам увлекся. Никогда не встречал особы, которая так совершенно отвечала бы моему идеалу жены. Васильев — с ним я очень сдружился! — меня подбадривал, на все лады расхваливая Лизу и уверяя, что непременно сам бы посватался к ней, кабы не был давно и счастливо женат.
Репетиции «Горя от ума» продолжались. Конечно, я волновался, но у меня были предчувствия, что премьера пройдет успешно. Так и произошло. Успех был полный. Мой режиссерский авторитет весьма укрепился. И теперь можно было браться за «Чародейку», как того пожелала Эльвира Михайловна.
Что и говорить, эта пьеса многих восхитила напряженностью сюжета!
Молодая вдова Настасья по прозвищу Кума держала заезжий двор у переезда через Оку. Ее красота и приветливый нрав привлекали городской люд разного сословия: здесь можно было вволю попировать, повеселиться. Но завистливые люди нашептывали, будто знается Кума с нечистой силой, что она чародейка, потому что какой мужчина ни поглядит на нее, всяк влюбляется. Оттого и прозвали ее Чародейкой.
Однажды мимо заезжего двора проплыл на лодке молодой княжич Юрий, сын нижегородского наместника князя Никиты Курлятева. Чародейка полюбила его с первого взгляда. Но ею увлекся и сам наместник, отец Юрия…
Об этом узнала княгиня. Наушники-доносчики уверяли, что приворожила наместника Настасья. Княжич, потрясенный горем матери, поклялся убить чародейку, которая околдовала отца и опозорила мать.
Настасье стало известно, что княжич решил исполнить свою угрозу этой же ночью. Но это не испугало ее. Она погасила свет и, оставив незапертой дверь, легла в постель. При виде ее красоты княжич не смог поднять на нее руку. Настасья рассказала, что домогательства князя ей отвратительны, и призналась Юрию в любви. И он тоже не устоял перед красавицей. Они решили бежать вместе за Волгу.
И тогда княгиня решила отомстить и за мужа, и за сына, ведь она потеряла обоих из-за Чародейки. У колдуна Кудьмы раздобыла ядовитое зелье, добралась до заезжего двора и хитростью да обманом вынудила ее выпить отравленную воду. Чародейка умерла на руках Юрия, а торжествующая княгиня открыла сыну причину ее смерти. Вне себя от горя Юрий проклял мать. По приказу княгини тело Чародейки сбросили в Оку.
Тут появился князь, уверенный, что Юрий прячет от него Настасью. В порыве неистовства князь убил его. Княгиня в отчаянии выпила остаток яда и умерла. Потрясенный князь сошел с ума…
Пьеса имела успех во многих театрах, особенно провинциальных. Не было сомнений, что и в Петрозаводске она произведет сильнейшее впечатление. Эльвира Михайловна сделала правильный выбор.
Начали распределять роли. Лизе выпало играть княгиню. Конечно, по возрасту она была гораздо младше, но тут должен был помочь грим, а кроме того, роль как раз подходила к ее утонченной красоте. Куму должна была играть очень красивая, яркая и милая Розалия Станиславовна Поплавская, полька, жена ссыльного, но она заболела, и роль пришлось отдать Наталье Капитоновой. Ни особого таланта, ни красоты в ней не имелось — разбитная и грубоватая бабенка. Трудно представить, что такая женщина могла свести с ума князя и его сына! Я предложил подождать выздоровления Поплавской, однако Эльвира Михайловна воспротивилась. Она очень поддерживала Наталью Капитонову. Спорить бессмысленно — как в случае с лакеем в постановке «Горя от ума».
Осталось сказать еще, что княжича Юрия играл Карнович, а князя — Васильев. Мне бы очень хотелось самому выступить в этой острой, непростой роли, но жалко было оставлять хорошего актера, к тому же моего друга без дела.
Эльвира Михайловна настаивала, чтобы в нашей постановке мы показали всю роскошь старинной Руси, что денег на такой спектакль не надо жалеть. Губернатором, мужем своим, она вертела как хотела, а значит, покорно отворили кошельки и петрозаводские толстосумы. Были заказаны великолепные декорации: живописный задник, изображающий излучину Волги и Оки, княжеские хоромы и постоялый двор в русском стиле с тонким резным узором, а костюмы шились такие, что роскошнее не придумать.
Мы начали репетиции. С самого начала у всех стало получаться очень хорошо, кроме Капитоновой. Она была так вульгарна, так пошла… Сначала Эльвира Михайловна смотрела на ее потуги изобразить Чародейку снисходительно, но постепенно выражение ее лица становилось все более унылым и недовольным. Ее настроение очень действовало на настроение труппы. Постепенно мы начали сомневаться в будущем успехе, и все стали играть гораздо хуже, даже Лиза Иванова. А между тем до премьеры оставалось три дня…
И вот как-то утром, часа за два до того, как я должен был идти на репетицию, мне принесли записку от ее высокопревосходительства с просьбой как можно скорей прибыть в губернаторский дом.
Надо ли уточнять, что я полетел как на крыльях?
Эльвира Михайловна встретила меня в своем кабинетике и сразу перешла к делу:
— Никита Львович, по-моему, дела с «Чародейкой» не ладятся. Княгиня выходит у Елизаветы Петровны гораздо интересней и приятней, чем Настасья у Капитоновой. Невозможно поверить, чтобы князь мог покинуть такую очаровательную жену ради вульгарной бабы без малейшей изюминки.
Я едва не подпрыгнул от желания воскликнуть, что с самого начала был против Капитоновой, что сама же Эльвира Михайловна поддерживала ее, но великодушие заставило меня сказать нечто совершенно иное:
— Ну, знаете, в народе не зря говорят, мол, полюбится Сатана пуще ясна сокола!
— Думаю, — усмехнулась Эльвира Михайловна, — в Сатане все же изюминки побольше, чем в Капитоновой!
— Да что же делать? — пожал я плечами. — Мы, конечно, можем ее отставить, но тогда придется ждать, пока выздоровеет госпожа Поплавская, а это неизвестно, когда произойдет. Заметить-то Капитонову больше некем!
— Есть кем, — возразила Эльвира Михайловна решительно. — Мною!
Наши дни
Ну да, Алёне было плохо, реально плохо… Ревность и ярость в смеси с чрезмерным количеством розового вина, теперь уж совсем не казавшегося чудесным, создали в организме дивный коктейль (слово «дивный» здесь имеет садистский оттенок и выступает в качестве синонима слова «кошмарный»). Алёна даже сама не понимала, от чего больше страдает и что ее мучает сильнее: боль в разбитом сердце или тошнота. В конце концов одолела вторая. Писательница Дмитриева приоткрыла окно, легла на живот, чтобы меньше мутило, и попыталась отвлечься, вспоминая что-нибудь хорошее… ну, книжку какую-нибудь любимую, что ли. Почему-то пришел на память «Театр» Сомерсета Моэма и бессмертная фраза Джулии Ламберт: «Что такое любовь против бифштекса с луком?»
«Что такое любовь против похмелья? — грустно размышляла Алёна. — Да и не любовь это, а так… бесов тешили вместе, вот и все. Тешили, а теперь не станем. Впрочем, чего я так переживаю? Какая мне, собственно, разница, кем работает Дракончег? Да хоть ассенизатором и водовозом, революцией мобилизованным и призванным! Он что, моя собственность? Нет. Это пускай его жена переживает, что он выставляет себя голым напоказ и тискает всех, кто под руку попадется! А может, она даже и не переживает. Может, для него это сублимация. Может, он дает таким образом выход всем своим сексуальным переборам. И потом с женой безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах… Просто нехорошо, что он мне наврал… в смысле, не сказал, где работает… А что в этом нехорошего? Я бы спятила от ревности, и не было бы противоядия в виде этой кошмарной, но целебной в духовном отношении тошноты… И вообще, почему он должен мне о таких вещах говорить? Кто я ему? Да так, по сути — никто!»
Вернувшись на круги своя этих невеселых размышлений, Алёна наконец-то заснула… тошнота отступила, и сны ей являлись довольно приятные, даже, можно сказать, красивые: зеленые поляны, окаймленные белыми березами, костры, через которые прыгали парни и девушки в белых одеждах… словно кадр из фильма про жизнь каких-нибудь там русичей… потом вдруг чей-то голос произнес с кинематографическим акцентом: «Гор-рячие финские парни!» — и Алёна погрузилась в некие белые метельные вихри, из которых почему-то то и дело выступали изможденные, с фанатично горящими глазами лица чернобородых и черноволосых мужчин и некрасивых, с поджатыми губами, гладко прилизанных женщин. Причем лица возникали неторопливо, словно давали Алёне время рассмотреть себя и опознать… и во сне она развлекалась тем, что кого-то узнавала, а кого-то нет. То есть узнала она, строго говоря, одного только Якова Мойше… то есть, пардон, Михайловича Свердлова, а на остальные физиономии только махала рукой — отстаньте, мол, мы с вами незнакомы! — они и отставали покорно. Но некто — носатый, с чрезмерно светлыми, беспощадными, выпуклыми глазами (может, базедовой болезнью страдал, а не только типичной революционной чахоткой?), с твердым подбородком, большим ртом, высоченным лбом и низко нависшими дугами бровей, что придавало его лицу, обрамленному разлетевшимися волосами, не то футуристическое, не то дегенеративное выражение, задержался. Маячил и маячил, глядя на Алёну Дмитриеву так, словно размышлял, подписать ей ордер на арест или сразу, у ближайшей стенки, отправить в штаб Духонина без всякого ордера.
Потом гордо провозгласил:
— Валериан Львович!
И исчез.
Похоже было, что мажордом представляет нового гостя, однако на смену Валериану Львовичу в Алёнин сон решительно никто не пришел, потому она сочла, что Валериан Львович представил сам себя. Ну и зачем он ей? Кто он вообще такой? Этого Алёна решительно не понимала, а потому никого больше в свой сон не пустила и заснула очень крепко — до той минуты, пока ее не разбудил оглушительный трезвон, в котором она не без труда опознала сигнал своего мобильного телефона. С зажмуренными глазами поднесла его к уху:
— Алло?
— Привет, — раздался знакомый голос. — Добрый день.
Дракончег? Или это все еще сон?
Алёна открыла один глаз. В комнате царил приятный полумрак.
— Ты имеешь в виду, доброе утро?
— Ну, это как посмотреть, — ухмыльнулся Дракончег. — Вообще-то, полдень — это половина дня…
— Как полдень?!
— Молча.
Ну да, у нее очень плотные шторы…
— Ты все еще спишь, что ли? — удивился Дракончег. — Ничего себе! Вот так жаворонки и превращаются в сов. Похоже, вечеринка удалась!
— Более чем, — прохрипела Алёна. — «Зергут» мне очень понравился.
— Дорогая, проснись. Ты вчера была в «Визарде».
— Я перепутала, мы были в «Зергуте». Там замечательный мужской стриптиз!
— Да-а?.. — протянул Дракончег со странными интонациями.
— Именно так, — ответила Алёна, у которой сон словно рукой сняло от того, как повернулся разговор. — Красивейший, отлично сложенный парень, очень похожий на тебя, между прочим.
— Хм, — произнес Дракончег с теми же странными интонациями.
— Вот тебе и хм! Даже зовут так же, как тебя: Дракон… то есть это… Саша.
— Кто тебе открыл имя стриптизера? — насмешливо спросил Дракончег. — Ведь это профессиональная тайна, насколько мне известно.
— А откуда тебе известно? — насторожилась Алёна.
— Во времена оны понравилась мне одна девчонка из стриптиз-шоу… даже пытался подкупить секьюрити, чтобы узнать ее телефон, адрес, имя… Зря старался, так ничего и не узнал!
— Странно, — вздохнула Алёна. — Наверное, темпора и правда мутантор. Я спросила — мне ответили. Правда, это был не секьюрити, а гардеробщик, но какая разница?
— Да никакой, — ответил Дракончег. — И… что теперь?
— В каком смысле?
— Ну, теперь… когда ты узнала, как зовут этого твоего стриптизера?
— Почему моего? Он совсем даже не мой, — уточнила Алёна. — Я просто так поинтересовалась… безотносительно…
— Слушай, а как бы ты отреагировала, если бы это и вправду был я? — осторожно спросил Дракончег.
Алёна подумала.
Еще вчера ответ был бы один, а сегодня утром — совсем другой. То ли похмелье ее отрезвило, то ли что…
— Да никак, — ответила она, дивясь равнодушию своего голоса. — Честно — мне все равно, чем ты занимаешься, лишь бы…
Еще вчера Алёна сказала бы: «Лишь бы это не мешало нашим встречам!» — а сегодня утром она сказала:
— Лишь бы ты дал мне поспать!
И выключила телефон.
Упала на подушку, закрыла глаза… лежала, лежала… потом посмотрела на электронные часы, увидела, что прошло пять минут. Заставила себя пролежать еще пять, еще… Не выдержала, включила телефон. Посмотрела на засветившийся дисплей, еще подождала… никакой эсэмэски, никакого сообщения, мол, абонент с такого-то номера звонил вам миллион, или хотя бы десять, или хотя бы один раз…
— Ну и ладно, померла так померла, — пробормотала Алёна, отбивая на дисплее пальцами что-то вроде чечетки, тупо глядя на появляющиеся строки меню и презирая себя за то, что ждет звонка.
Звонка не было.
Не было.
Не было звонка!
Надо думать, больше и не будет.
В самом деле, померла так померла.
Надо чем-то заняться. Надо как-то отвлечься…
Пальцы между тем безотчетно нащупали «Галерею», и перед Алёной открылось огроменное множество снимков, которые она делала в последнее время. Больше всего тут было парижских фотографий, особенно прекрасной деревни Мулян, где наша героиня проводила большую часть летнего времени и которую заслуженно называла криминальной деревней из-за того, что там с ней вечно случались всякие немыслимые и даже порой опасные приключения [13].
Вот это — не Мулян и даже не Париж, а какой-то торговый центр… Стоп, да это же фото, которое она сделала вчера в «Шоколаде»! Менеджер Константин и его собеседница, странная дама в коричневой куртке, которая носит такой же браслет, как у Алёны, однако и бровью не ведет, увидав его подобие…
Алёна выползла из постели, накинула халат и включила компьютер. Пока электронный друг, товарищ и брат нагревался, она сбегала в туалет, потом побрызгала в лицо водой из распылителя (как известно, чем меньше к коже лица прикасаешься, тем лучше она сохраняется от морщинок, и лилейное — все еще! — личико нашей героини — тому реальное доказательство!), нанесла любимую медовую маску фирмы «Гарнье», сварила кофе и вернулась в комнату, неся на подносике дымящуюся чашку, мисочку с размоченным черносливом (а куда денешься от прозы бытия?!) и блюдце с бананом и киви. И, потихоньку поглощая весь этот суперздоровый завтрак, Алёна подключила мобильный к компьютеру, перевела на него снимок и рассмотрела в увеличенном виде.
Нет, эту женщину она не знала. Но фотка — уже путь, вернее, тропинка к разрешению загадки, которая мучила ее которую неделю.
Алёна сохранила фото на флешку, выключила компьютер и пошла в душ. Старательно моя голову (наша героиня обожала это делать, только она одна знала, насколько эта ежедневная процедура улучшала ее самочувствие!), она гнала от себя мысль о том, что, по сути, история с браслетом ее не так уж интересует, что она думает о ней лишь для того, чтобы не думать о Дракончеге в золотом бандаже и аналогичной маске…
— Вот вам и Валериан Львович Куйбышев, — вздохнула она, выключая душ, и засмеялась.
Ну конечно! Причуды памяти. Этот, приснившийся, с внешностью Футуриста и с признаками базедовой болезни… ну да ведь это пламенный революционер Валериан Львович Куйбышев, в честь коего некоторое время называлась Самара, а теперь, может, его имя стерто с лица земли… хотя нет, ювелир, царство ему небесное, говорил, что его брат, стало быть, Данила, и его приятели-язычники тусуются на какой-то Куйбышевской водокачке. Интересно, что это такое?
Данила… Данила, который попался на глаза Алёне нынче ночью и сморозил такую дивную ложь во спасение… Данила, который вчера говорил по телефону с каким-то Костей… уж не с тем ли самым менеджером, который общался с дамой, носившей Алёнин браслет… а браслет этот побывал в руках у брата Данилы…
Загадочно. Есть ли тут связь хоть какая-то? Или нет?
Да и не фиг ли с ней, с этой связью?
Алёна вышла из ванной, надела джинсы, свитер, носки, подкрасила глаза.
Строго говоря, надо бы вернуться в комнату, снова включить компьютер и напрячься над романом. Конечно, в «Глобусе» ее любят, но ведь всему есть предел, даже издательской любви.
— Кошмар, — сказала Алёна, гневно глядя на свое отражение. — Ты разленилась просто кошмарно!
Она сунула ноги в любимые ботиночки и надела козырное парижское пальтецо. Навертела еще шарф — с этой весной что-то вообще ничего не понятно! — прихватила сумку с шейпинговской формой и пошла восвояси.
По пути она свернула было к двери той самой мастерской, где начались все эти непонятки, но услышала знакомый тягучий голос приемщика и, брезгливо передернув плечами, пошла дальше. Путь ее лежал мимо Главпочтамта, где в отделе vip-обслуживания отдала отпечатать с флешки фото, нацепляв при этом, конечно, бессчетное количество вирусов, которые почему-то невыводимо водились в главпочтамтовском компьютере, а потом пошла в шейпинг-зал.
Сегодня, правда, не ее день занятий, но в зале к Алёне относились снисходительно и терпели ее бесконечные переносы и замены тренировок.
Для блезиру она немного позанималась, с некоторым усилием справляясь с приступами головокружения во время резких наклонов и поворотов, потом, взбивая взмокшие от пота кудряшки, подошла к столу администратора и показала снимок:
— Оль, вы эту женщину знаете?
— Нет, впервые вижу.
— Точно?
— Ну, Алёна, у меня зрительная память фотографическая! — обиделась красивая, медлительная, элегантная Ольга. — Ир, скажи?
Тренерша Ирина, маленькая, точеная, хорошенькая, закивала:
— Это точно, у Оли глаз алмаз! А кто на фотке?
— Не знаю, я ее ищу. Не помните ее?
— В зале ее точно не было, — задумчиво проговорила Ирина, — но я еще где-то видела… Слушайте, вспомнила! Я неделю, что ли, назад ехала на трамвае…
— Ирина! — изумленно воскликнула Алёна. — Вы, автоамазонка, — и на трамвае?! Не могу поверить! А куда делся ваш автоконь?
— Да у меня тут с подвеской были проблемы, муж ставил машину в сервис, я пару дней моталась на городском транспорте. Ну, скажу вам, это такой ужас… — Иринины глаза стали еще больше.
— Ир, — усмехнулась Ольга, — ты забываешь, что мы с Алёной только на общественном транспорте и ездим, так что мы побольше всяких триллеров можем тебе порассказать.
— А, ну да, — хихикнула Ирина. — Короче, возвращаюсь после тренировки, и вот только проехали площадь Лядова, входят в вагон контролеры. Представляешь, в десятом часу вечера! А нас в вагоне практически двое, я и эта тетка. Ну, у меня-то билет был, а вот у нее — нет. Сначала она уверяла, что брала, но потеряла, куда-то сунула, не может найти, а кондукторша такая вредная оказалась, говорит: я не помню, как вы брали. Ей уже стали штраф выписывать, и тут трамвай остановился на этой остановке, как ее, забыла, не Маслякова, а до нее… около Пяти углов, короче, и эта дамочка выскочила и как чесанет вверх по Ильинке!
— Может, она там живет?
— Может быть, — согласилась Ирина. — Но все равно я не знаю, кто она и как зовут. А вам она зачем?
— Э-э… — замялась Алёна, не успевшая ничего придумать в оправдание своего интереса, но в эту минуту у нее в сумке зазвонил телефон. Извиняющаяся улыбка прикрыла замешательство, и девушки перестали смотреть на нее с любопытством.
Это звонила Зоя — интересовалась, как самочувствие дорогой подруги.
— Сейчас уже лучше, — откровенно призналась Алёна. — А ты как?
— Сейчас и мы лучше, но что было… уфф! Одно хорошо: Вовик начисто забыл мои половецкие пляски с этим парнем, как его, Золотым боем!
— С кем, с кем? — самым равнодушным на свете голосом спросила Алёна. — А, со стриптизером…
— Ну да. Слушай, Алёна, я не очень позорно вчера выглядела? — жалобно спросила Зоя. — К тому времени я уже так наклюкалась…
— Да я тоже! Но, сколь помню, ты просто суперски смотрелась, честное слово! Жаль, что не осталось фото.
— Как не осталось? Надя все время снимала на мобильник, обещала перевести фотки на комп и бросить мне на мыло, а я тебе отправлю.
Опять смотреть на Дракончега в этом бесстыдном образе и знать, что больше никогда… никогда…
Алёна скрипнула зубами.
— А вдруг они на глаза Валере попадутся? — пробормотала хмуро. — Попроси, чтобы Надя их стерла и никому никуда не посылала.
— Ну да, наверное, ты права… — нерешительно сказала Зоя. — Ну ладно, Алёнушка, я пошла, меня клиенты ждут. Я с работы звоню.
— Ага, ну счастливо, — простилась Алёна.
Она быстро переоделась и вышла из зала прежде, чем Ирина и Оля опять начали задавать ненужные вопросы. Медленно пробрела через занесенный снегом, тихий, таинственный, всегда чуточку сумеречный, даже в самый яркий и солнечный полдень, всегда прекрасный, и зимой, и летом, и осенью, и весной, даже такой несуразной весной, как нынешняя, парк Пушкина. От запаха снега и морозной свежести — похоже было, что снова похолодает, — стало чуть легче. Все-таки после вчерашнего перееда и перепива тренироваться не следовало, опять затошнило что-то. А завтра снова придется идти в зал, потому что эта дамочка могла появиться там в ту смену, в которую работают Анжела с Ларисой Леонидовной, а у Анжелы тоже фотографическая память!
Нет, не туда она идет, спохватилась Алёна и свернула на тропку, ведущую к выходу из парка. Домой еще рано. Нужно обязательно зайти в «Клеопатру». Ведь, прежде чем явиться в шейпинг-зал и подменить Алёне браслет, та женщина должна была…
Стоп!
Она остановилась посреди тропки, и на нее немедленно налетела толстая, немолодая, какая-то вылинявше-серо-рыжая немецкая овчарка, спущенная с поводка и одышливо наслаждающаяся свободой.
— Сильва, стой! — закричала хозяйка — тоненькая, очень юная и очень встревоженная девушка, похожая в своем голубом спортивном костюме на Снегурочку-лыжницу. — Не бойтесь, она не кусается!
— Привет, — сказала Алёна собаке. — Все в порядке, не переживай.
И, сняв перчатку, протянула руку. Собака на миг положила в ее теплую ладонь холодный влажный нос и потрусила дальше, помахивая хвостом.
Ее хозяйка остановилась, недоумевающе глядя на Алёну. Потом расцвела улыбкой:
— Вы не боитесь собак?
Та покачала головой.
— Так здорово! — Снегурочка еще пуще разулыбалась. — Собаки ведь лают и вообще бросаются только на тех, кто их боится. Страх может толкнуть человека на самый неожиданный поступок, страх рождает агрессию, собаки это чувствуют, потому и нападают.
— А люди? — спросила Алёна, немного удивленная этим объяснением. — Почему люди нападают на людей?
— Не знаю, — растерялась Снегурочка. — По глупости, наверное. А вообще не знаю. На меня никто никогда не нападал.
— Ну да, с такой-то нянькой! — кивнула Алёна ласково.
— С Сильвой, что ли? — хихикнула девушка. — Да это не моя собака, а дяди моего, но я с ней часто гуляю, потому что дядя вечно в разъездах, в основном в Питере. Но она и правда ласковая, как нянька. Ну ладно, мы пошли. До свидания!
— Счастливо вам! — сказала Алёна.
— И вам!
Алёна пошла дальше, улыбаясь.
На самом деле эта симпатяга Сильва — когда-то у Алёниного деда была собака, которую тоже звали Сильвой, почему-то у него были все Сильвы да Найды, только дед-охотник предпочитал красных сеттеров… да, так вот — на самом деле эта симпатяга Сильва — защита никакая, слишком уж толста, великовозрастна и добродушна. Ничего, Снегурочка сама быстроногая, дай бог, убежит в случае чего. Вернее, не дай ей бог всяких случаев чего…
«О чем это я думала, прежде чем на меня налетела Сильва?» — нахмурилась Алёна.
Вот о чем! Чтобы подменить браслет, та женщина должна была знать, что он есть у Алёны. И она должна была знать, где Алёна его купила!
Откуда она узнала?
А черт ее знает.
Кому Алёна говорила о том, где купила браслет? Да вроде никому…
Парк кончился. Алёна перебежала Белинку и через улицу Новую, во времена оны носившую название Канатной, быстро вышла на площадь Горького и через несколько минут входила в «Клеопатру».
— Здравствуйте! — радушно улыбнулась из-за прилавка Секлита Георгиевна и с откровенно выжидательным выражением взглянула на Алёнину сумку.
О черт! Ей же был обещан роман…
— Я помню про роман! — выставила Алёна ладонь. — Я сейчас зашла непланово, а роман принесу, даже два, вот те крест святой!
— Да что вы, я ничего… — смутилась Секлита Георгиевна. — К нам, кстати, очень красивые браслетики поступили, корейские, правда, но чу-у-удные просто! Посмотрите?
— Секлита Георгиевна, скажите, вы эту женщину знаете? — Алёна, не глянув на корейские браслетики, достала фотографию.
— Нет вроде, — нерешительно ответила Секлита Георгиевна, внимательно разглядывая снимок. — А кто это?
— Ну, может, вы в магазине ее видели…
— Ой, у нас народу очень много бывает, разве всех запомнишь…
— Хорошо, поставим вопрос иначе, — улыбнулась Алёна. — Не эта ли женщина покупала такой же браслет, как мой?
— Господи, — встревожилась Секлита Георгиевна, — да что ж там с ним, с этим браслетом?!
— Да ничего особенного, просто какая-то ужасная путаница, — с досадой проговорила Алёна. — Вроде бы ничего криминального, хотя… Но ничего, я непременно докопаюсь, в чем там дело!
— Не сомневаюсь! — Секлита Георгиевна восхищенно вздохнула. — Ни капельки не сомневаюсь, что вы раскроете любую тайну и разгадаете любую загадку. Жаль, что не могу ничем помочь. Ведь браслет продала моя сменщица.
— Ах да! — вспомнила Алёна. — Раиса… как ее там…
— Раиса Федоровна, — подсказала продавщица.
— А она сегодня не работает?
— Работает, но она в подсобке — накладные проверяет.
— А вы не можете ей фотографию показать, а? И спросить… Мне она, похоже, ничего не скажет, а вам, по дружбе…
— Вернее, по службе, — поправила Секлита Георгиевна. — Сколько уж лет вместе работаем, а отношения у нас по-прежнему только служебные. Я даже толком не знаю, где она живет, верите ли? Впрочем, это к делу не относится. Пойду спрошу, а вы посмотрите тут, ладно?
Она вошла в небольшую дверку.
Алёна от нечего делать посмотрела на браслеты… ничего, конечно, но не вот прямо ах, вполне можно и без них обойтись.
Появилась Секлита Георгиевна.
— Ну как?
— Даже не знаю, как вам сказать… — зашептала Секлита Георгиевна, оглядываясь на дверь. — Сначала долго смотрела на фото, а у самой стало такое лицо… Как будто даже испугалась! А потом говорит — резко так! — нет, мол, никогда не видела, может, не она покупала браслет, а может, и она… не помню, мол! Только знаете что? — Она снова воровато оглянулась на дверь. — Я же говорю, мы вместе много лет работаем. Я ведь все ее гримасы наизусть знаю. И вот могу поклясться: она эту женщину узнала. Узнала! И врет, что не помнит, она или не она браслет покупала. Все отлично помнит. Это она!
— Думаете? — прищурилась Алёна.
— Уверена! — снова кивнула Секлита Георгиевна. — Можете даже не сомневаться! А вы этот портрет в милицию передадите? — спросила она с жадным любопытством.
— Ну что вы! — чуть не ахнула Алёна. — Зачем в милицию? Надеюсь, я сама разберусь.
— Вы — разберетесь! — вдохновенно провозгласила Секлита Георгиевна.
— Спасибо на добром слове! Роман — за мной! — И Алёна выскочила из магазина, чувствуя, конечно, себя очень польщенной, но буквально пошатываясь от вновь подступившей тошноты.
Дела давно минувших дней
Я, конечно, растерялся и что-то такое залопотал. Честно сознаюсь, что был испуган. Вспомнил, как меня предупреждали: губернаторша, мол, хочет стать актрисой… У меня даже мелькнула мысль, что она нарочно поддерживала бездарную Капитонову, чтобы поставить нас в безвыходную ситуацию…
— Эльвира Михайловна, вы когда-нибудь выходили на сцену? — робко спросил я.
— Никогда в жизни, — без всякого смущения призналась она. — Ну и что? Сейчас же мы поедем в театр, и до репетиции я проведу вам всю роль. Вы откровенно выскажете свое мнение. Я не могу рисковать. Вы понимаете, супруга губернатора не может играть плохо. Я не хочу стать посмешищем.
Я кивнул, не в силах молвить ни слова.
Мы отправились в театр. Эльвира Михайловна вежливо удалила из зала ламповщиков и закрыла все двери.
— Ну что ж, начнем, — сказала она, выходя на сцену.
Я был поражен с первого мгновения. Она знала не только роль, но и все мизансцены. Но этого мало! Голос ее был великолепен, движения плавны и обаятельны, мимика выразительна и очаровательна. Законченная актриса!
Перед такой Чародейкой невозможно устоять!
Я читал за всех остальных персонажей и не мог надивиться происходящему. Наконец я отбросил тетрадку и зааплодировал:
— Аплодисменты в ваш адрес! Успех гарантирован. Нынче же репетируем всем составом, а послезавтра — генеральная.
Новая актриса произвела фурор в труппе. Даже отставленная Капитонова не могла не признать, что от перемены исполнительницы роли спектакль только выиграет. Впрочем, попробовала бы она этого не признать!
Васильев тихонько сказал мне:
— Да, теперь все поверят в безумство князя и его сына. Лизонька, конечно, чудо, прелесть, но эта женщина способна заставить потерять голову кого угодно!
Я только вздохнул, сожалея о своей давно потерянной голове…
Больше всего был счастлив переменой Карнович, игравший княжича Юрия. Еще бы! Теперь он получил право обнимать эту прекрасную женщину публично!
От радости он и сам стал играть гораздо лучше.
Но сюрпризы на этом не иссякли.
Когда назавтра я подошел к театру, у подъезда стояли дровни, и двое рабочих что-то выгружали из них. За выгрузкой наблюдала сама Эльвира Михайловна. Я присмотрелся — да и ахнул: грузчики таскали в театр знакомую мне обстановку кабинета губернаторши: все эти ковры, пуфики, зеркала…
— Эльвира Михайловна, что это?! Вы переселяетесь?
— Так будет обставлена изба Кумы, — отрезала Эльвира Михайловна.
— Но позвольте!.. — Я растерянно достал экземпляр пьесы. — Вы не забыли авторские ремарки? Я прочту: «Постоялый двор. Сенями строение разделено на две половины: собственно избу с косящатыми окнами и клеть с волоковыми окошками почти под крышей. Тесовая кровля очень крута. В ней, над избою, деревянная дымница и посредине выводное окно, освещающее чердак. Гребень крыши резной с маковицами по краям. Свес ее украшен подзорами». Где вы разместите всю эту роскошь? Да и уместна ли она в этом спектакле?!
— Послушайте, Никита Львович, как вы думаете, чародейка Настасья — богатая или бедная женщина?
— Не может она быть бедной, ведь ее заезжий двор всегда полон народу.
— Конечно! У нее останавливаются богатые купцы, которые едут из Бухары, Персии, Индии и других восточных стран. Она в состоянии купить какие-то дорогие, даже роскошные вещи. Да ведь ей к тому же, наверное, кто-то что-то дарит. А теперь я вас спрошу, почему же у нее не может быть такой обстановки?
— Трудно спорить, — пробормотал я.
— Даже и не пытайтесь, — усмехнулась Эльвира Михайловна.
Я смирился и с этим.
И вот настал знаменательный день первого спектакля… С утра мы все были не в себе от беспокойства. Да что мы! Не только театр, но и весь город был взбудоражен. Если на премьерах билеты всегда распродавались без остатка, то теперь пришлось распространять даже места в проходах партера. В город съехалась вся округа, прибыли чиновные персоны из соседних городов.
Что и говорить, не каждый день на сцену выходит супруга губернатора!
Все актеры давно были в сборе и даже загримированы. Задерживался один Карнович. Впрочем, он вообще пунктуальностью не отличался. И вдруг прибежал молодой карел, сын хозяйки, у которой квартировал Карнович, и сообщил, что тот упал с лестницы и подвернул ногу так, что не может сойти с места, не то что живо передвигаться по сцене.
— Черт побери! — в ярости воскликнули мужчины нашей труппы.
— Боже мой! — в ужасе воскликнули женщины.
— Неужели придется отменить спектакль? — прошептала Эльвира Михайловна, и ее прекрасные глаза наполнились слезами.
Мое сердце дрогнуло.
— Ничего страшного, — твердо сказал я. — Я сам сыграю княжича Юрия!
Ах, как она на меня посмотрела…
И как она смотрела на меня во время всех наших совместных сцен…
Я никогда не забуду эпизод, когда Юрий впервые увидел чародейку спящей!
Я наклонился над лежащей Эльвирой, и в эту минуту ее опущенные веки поднялись. Она обхватила мою шею руками и сильнее пригнула к себе. Я поцеловал ее, и ее губы ответили мне!
А потом эти ее слова:
Душу не скуешь И сердцу не закажешь… Не гневись… Вот видишь… Я… Да что тут запинаться! Везде, везде я, сокол ясный мой, Украдкою следила за тобой. Из-за угла, за тыном притаясь, Сдержав дыханье, глаз не отводя, И руки сжав на трепетной груди, Тобою любовалась…И глаза ее были красноречивей этих слов.
Что сталось со мной… как я довел роль до конца, не знаю… ведь я почувствовал, что она любит меня!
Так счастлив, как в те минуты, я не был прежде… и теперь, спустя годы, я могу признаться, что ничего подобного мне не довелось испытать более.
Всякое бывало, много было у меня женщин, иной раз даже чудилось, что я влюблен, но даже всепоглощающая страсть к Серафиме не дала мне такого счастья, как этот миг взаимной любви.
Наши дни
Наконец, изрядно замерзнув — все-таки похолодало, температура снова поползла вниз! — Алёна добрела до дома и, махнув рукой на все шейпинг-правила на свете, поела вчерашнего борща с черным хлебом. А потом выпила изрядную кружку компоту.
Сразу стало легче. Может, килограмм от этого и прибавится, но Алёна его скинет — это факт. К примеру, завтра. А может, нынче вечером выйдет погулять и скинет, подумаешь, большое дело!
А куда это ты гулять собралась, писательница? Тебе роман сочинять надо, на жизнь деньги зарабатывать!
Кстати, о романах… Алёна вынула из шкафа, где хранила авторские экземпляры некоторых своих книг, первый попавшийся. Поглядела на название. «Сыщица начала века». Жаль, что она не знает, какие ее книги уже читала Секлита Георгиевна, жаль, если этот шедевр ей уже знаком. Ну ничего, тогда Алёна принесет другую книгу, только и всего. Алёна сунула «Сыщицу» в сумку. Завтра же надо зайти в «Клеопатру» и отблагодарить Секлиту Георгиевну за помощь!
Потом она взяла со стола тетрадку с ручкой, забралась с ногами в любимое кресло, включила бра над головой и открыла тетрадь.
В клеточку, конечно. Сколько таких тетрадок было уже исписано ее крупным, летящим, даже для нее самой не всегда разборчивым почерком! Сколько сюжетов было запечатлено в них, прежде чем Алёна садилась за компьютер и начинала облекать голый костяк фабулы плотью и кровью чувств и образов, оплетая их вязью слов!
Наверное, она на всю жизнь осталась по сути своей девочкой-первоклашкой, которая старательно боролась с неаккуратным почерком и вечными помарками, а потому все упражнения делала и задачки решала сначала в черновой тетрадке и лишь потом аккуратненько, чуть ли не язык высунув от усердия, переписывала набело. Без помарок и теперь не обходилось, но все же их было уже поменьше.
Сюжет, сюжет, ей нужен сюжет…
Ну, скажем, вот такой.
Женщина сдает в мастерскую очень оригинальный браслет — чтобы его чуть увеличили. Об этом знают три человека: она сама, ювелир, который работу делал, ну и случайно зашедшая в мастерскую посетительница. Спустя какое-то время героиня обнаруживает, что браслет ей подменили. Узнает также, что в том же магазине был куплен второй такой же браслет. Неведомо, правда, каким образом подменившая браслет особа узнала, что он есть у героини, а аналог можно купить именно в этом магазине… Кто ей сказал?
Стоп! Алёна вот только что по лбу себя не хлопнула. Сказал! Конечно, ей кто-то сказал, да сама Алёна и сказала!
То есть не ей, а ювелиру! Этому самому, которому царство небесное и земля пухом! Он что-то говорил про изящество работы, про «волосатик», предположил, не из Италии ли его привезли, а Алёна сказала, что купила в «Клеопатре». В этот момент в мастерской никого не было, правда, потом вошла какая-то женщина в черном пальто и шляпке, лица ее Алёна, к сожалению, не помнила…
«Так, это я что делаю, детектив придумываю новый или вспоминаю, что со мной было?!» — возмутилась Алёна и немедленно пришла к выводу, что да, вспоминает… ну и ладно, не единожды приходилось писать ей романы по мотивам, так сказать, своих приключений, может, и это ей послужит, хотя, по сути, приключением историю с браслетом назвать пока трудно, так себе, довольно мещанская историйка: одна дамочка тиснула у другой браслетик, и все это продолжало бы оставаться сущим мещанством, когда бы не гибель ювелира, которую подстроила какая-то женщина.
Какая?
Может, вот эта самая, которую Алёна сфотографировала в «Шоколаде»?
Может быть…
Но тогда почему она, если уж столь опасна, довольно мирно разговаривала с Костей? Костя, предположительно, приятель Данилы. Женщина — само собой, совершенно противоположный персонаж. Данила хочет ее разыскать, чтобы отомстить за брата. Он приблизительно знает место, где ее можно найти, и вот теперь Костя звонит ему и сообщает, в какое время она там будет. Возможно, эти сведения он получил во время беседы в «Шоколаде». Значит, Костя выступал тут в роли Данилиного шпиона и совершал, так сказать, подвиг разведчика? Вполне вероятно. Однако Алёна отлично помнила, как он говорил Даниле, мол, с этой женщиной незнаком, старается держаться от нее подальше… Одно из двух: или в «Шоколаде» была не та женщина, или Костя просто врал.
А между прочим, не стоит забывать, что Ирина видела ее именно на Ильинке, недалеко от Пяти углов, а эти Пять углов граничат с улицей Арзамасской, где неподалеку — таинственный переулок Китчоглоу, в котором назначает свои опасные встречи некая женщина, которую разыскивал Данила.
И которую найдет благодаря наводке Кости…
Этот Костя довольно темная личность… почему он так перепугался, когда Алёна уронила браслет? Почему смотрел на нее с таким ужасом, в то время как женщина, на запястье которой был такой же браслет, осталась совершенно равнодушной?
В чем тут загадка? Что напугало Костю? Появление браслета или явление Алёны? Вообще-то, у мужчин она обычно вызывала совсем даже не страх, однако ей все же не единожды случалось и очень сильно пугать особей противоположного пола своей проницательностью и своим бесстрашием — до такой степени пугать, что они начинали откровенно желать ей смерти и даже пытались это желание воплотить в жизнь. Вернее, в смерть. Другое дело, что это у них не получалось, хотя ребята были один круче другого. Ну, Косте до них, как до луны, Кости ей бояться не следует, однако…
Внезапно Алёна вскочила и кинулась в коридор. Показалось, что зазвонил телефон, оставленный в сумке.
Разумеется, он не звонил, и на дисплее не было никаких признаков того, что он могла пропустить звонок от кого бы то ни было, в том числе и от Дракончега.
Да… это очень легко — решить закончить роман, а вот поди-ка его закончи!
Как любовный, как и детективный. В смысле, как реальный, так и выдуманный.
Алёна прекрасно отдавала себе отчет: если бы не ссора с Дракончегом, если бы не ревность к Золотому бою, она вряд ли так старательно забивала бы себе голову этой историей с браслетом. Ну, непонятки, ну…
И все же — зачем понадобилось заменять браслет и кто это сделал?
Опять все к тому же возвращается. И так будет постоянно, если Алёна не займется еще хоть чем-то, чтобы эту историю распутать. А что еще можно сделать, кроме как ждать завтрашнего дня, когда Анжела и Лариса Леонидовна поглядят на фотографию?
Что делать? Ну, например… пойти еще раз попасться на глаза Константину. В конце концов, у Алёны есть законный предлог: купить мешки для пылесоса. Для «Самсунга» — модель номер 1500. Не суть важно, что у нее в шкафу обнаружилась целая коробка пылесборников из старых запасов. Константину же об этом неведомо!
Алёна еще раз словно невзначай посмотрела на дисплей мобильника, немедленно себя за это запрезирала и начала торопливо одеваться.
В прихожей протянула руку к любимому пальтецу, но вспомнила промозглую сырость, которая накатывалась на город два часа назад, и решила одеться потеплей. Взяла любимую серую короткую шубку с капюшоном. Шубка была теплая, легкая, красивая, а уж в каких передрягах она побывала вместе со своей хозяйкой! Один раз даже выбиралась вместе с ней из парижского полуподвального туалета через узехонькое окошко, когда Алёна пыталась бежать от разъяренных французских полисье… [14]
И все равно — как новенькая! Да здравствует каракуль, это вам не норки стриженые и не косматые, словно бродячие псы, песцы! То есть как полные тундровые зверьки они, конечно, очень даже ничего, но как материал для повседневной носки — это вряд ли.
Из тех же соображений — утеплиться — Алёна надела также высокие сапоги и заправила в них джинсы. Повесила на плечо сумку и вышла из квартиры.
На улице только-только начали собираться сумерки, однако в подъезде было уже темновато. Она пошла вниз и увидела, что на первом этаже кто-то возился у боковой двери.
Алёна замерла на лестнице. Фигура смутных очертаний обернулась и сказала знакомым голосом:
— Алёнушка, здравствуйте, это я, у нас на площадке опять лампочка перегорела.
— Привет, Сусанна, — сказала Алёна со смущенным смешком, — а я было приняла вас за разбойника.
— Упаси бог, — засмеялась соседка. — У нас тут разбойников не водится, а вот лампочки наши — сущие грабители, просто ужас какой-то, знай перегорают да перегорают, мы с Фаей и Линой уже замучились менять.
— У нас на первом этаже дамы с такими феерическими именами живут, — улыбнулась Алёна. — Как на подбор. Сусанна, Фаина, Капитолина…
— Да ну, морока одна! — махнула рукой соседка. — Сейчас хоть всякие необычные имена в моде, а раньше, когда мы росли, мы своих родителей тихо ненавидели за эти имена. Мы как раз с девочками (Алёна сразу смекнула, что имелись в виду соседки, двоим из которых было под семьдесят, а одной — за пятьдесят. А как их еще называть, если не девочками, бабушками, что ли?!) недавно об этом говорили. Ладно еще уменьшительные имена у них нормальные, Фая да Лина, а меня всю жизнь Суса зовут, ну не кошмар ли?
Алёна тоже считала, что да, совершенный кошмар, но, разумеется, признаваться в этом не стала, а только любезно сказала:
— На самом деле у вас имя очень красивое. Сусанна — это вообще-то Сюзанна. Вы вполне можете себя так называть. В «Шоколаде» в отделе бижутерии есть одна продавщица с таким именем.
— Знаю! — воскликнула Сусанна. — Я недавно там снохе подарок покупала, обратила внимание на вывеску эту с именем, ну, на груди носят, как ее, все время забываю…
— Бейджик, — подсказала Алёна.
— Да-да. Прочитала я надпись на этом бейджике и восхитилась. Девочка такая тоненькая, стильненькая такая брюнеточка… А вот звали бы ее Сусанной, она бы, может, тоже была толстой, как я. А если бы меня звали Сюзанной, я бы тоже была тоненькой и стильненькой.
— Вы не толстая, — ласково сказала Алёна, мельком отметя что-то не то в словах Сусанны, но немедленно забыв об этом, — вы пухленькая, очаровательная и стильненькая. Нет, в самом деле, в нашем подъезде никто так шикарно и стильно не одет, как вы, ну вот разве что Лина, но она ведь бизнес-леди, ей сам бог велел. Вон у вас шубейка какая изысканная, в дивных пятнышках, ну прямо леопардовая.
— Кто у нас в подъезде стильненький, так это вы, Алёнушка, — улыбнулась Сусанна, — хоть вы и не бизнес, но леди, сразу видно.
И вот, говоря друг другу такие хорошенькие приятности, дамы вместе вышли на крыльцо, и тут в лица обеим ударило такой сыростью, что они немедленно накинули на головы капюшоны шубок.
— Ого, — сказала Сусанна. — Вот только потому иду, что к снохе на день рождения, а то бы вернулась.
«Может, и мне вернуться? — подумала Алёна. — Дались этот «Видео», этот Константин и этот браслет! Выдумки и безделье… Хотя нет. Если вернусь, я непременно наужинаюсь. А так погуляю туда-сюда, может, и удастся капельку похудеть…»
И она решительно сошла с крыльца вслед за Сусанной.
Какой-то тощий парень в короткой куртке и шапке с козырьком курил, сидя на низеньком заборчике палисадника.
«Я его где-то видела», — мельком подумала Алёна и тут же забыла об этом.
— Молодой человек, — строго сказала Сусанна, — вы сломаете забор. Но вряд ли вы потом придете его восстанавливать.
Парень ошалело подскочил, оглянулся на заборчик, словно желая удостовериться, что с ним все в порядке, потом бросил взгляд на окна дома, сунул сигарету в сугроб и быстро пошел к воротам. Дойдя до угла дома, вдруг шарахнулся в сторону, взмахнул руками как бы в испуге — и припустил бегом.
— Чего это он испугался? — удивилась Сусанна.
— Ух ты, я забыла свет выключить, — с досадой проговорила Алёна, поглядев на свое окно.
— Ну так вернитесь и выключите, — сказала Сусанна.
— Ну уж нет, если вернусь, то не решусь выйти на такую холодину, а мне в «Видео» надо. Туда-обратно, ничего с этим светом не сделается.
Они двинулись в обход палисадника.
— Интересно, чего этот парень тут сидел? — задумчиво спросила Сусанна. — Вот так посидят, повыслеживают, а потом придут и ограбят. Вы смотрите, Алёна, если кто позвонит в домофон и скажет, мол, почта, или из домоуправления, или показания счетчика снимать, или ковры чистить, или еще что, — вы ни в коем случае не открывайте! У почты и у слесаря свои ключи есть. А остальными невесть кто может прикинуться. Вчера вот мне позвонили: откройте, мол, идем Интернет в вашем доме проводить! Я говорю, что у нас у всех уже есть Интернет. И не пустила. И они ушли. А потом мне Лина пеняла, мол, это к ней приходили из какого-то Дом. ру, да номер квартиры перепутали, а теперь ушли, и их снова надо вызывать. А я говорю, сами виноваты, что перепута… о господи!!!
Сусанна глянула в сторону — да и замерла, схватившись за сердце.
Вслед за ней то же самое проделала Алёна, и, ей-богу, было от чего!
За углом дома, преграждая выход через калитку, стоял очень высокий человек с совершенно белыми растрепанными волосами и багрово-красным, словно бы свежеободранным лицом, на котором прозрачными льдинками мерцали очень светлые, слишком светлые, можно сказать, белые глаза. Он был облачен в тулуп, надетый белесым мехом наружу, а лоб его охватывала черная лента — почти такая, какую надевают на лоб покойникам в гробу, но только значки на ней были разноцветные, мерцающие в сгущавшихся сумерках.
Стало понятно, почему так шарахнулся давешний парень. Жуткое зрелище!
— Вы чего здесь?! — взвизгнула Сусанна, сильно замахав сумочкой, словно надеялась, что страшный человек, аки вспугнутый коршун, вдруг шарахнется — да и улетит. — Идите отсюда, тут дети ходят, вы их до слез напугаете!
Человек несколько секунд — чудилось, время остановилось, так медленно тянулись они! — переводил глаза с Сусанны на Алёну, потом усмехнулся щелью рта, повернулся и вышел на улицу.
— Ряженый чертов, прости господи, — проворчала Сусанна, словно стыдясь своего истерического вопля. — Вот страшила!
— Я будто в глаза смерти поглядела, — похолодевшими губами пробормотала Алёна.
— Ладно-ладно, вам еще рано в глаза смерти глядеть, — сказала дрожащим, но мужественным голосом Сусанна. — К тому же смерть следов не оставляет, а тут, поглядите-ка!
Она кивнула на огромные следы, отпечатавшиеся на свежем снегу там, где стоял мужчина.
— Ничего себе, лапища! Да это ж размер сорок седьмой, не меньше!
Алёне стало смешно.
— Вы настоящий следопыт, Сюзанна, — сказала она ласково, — я теперь только так вас буду называть.
Соседка просияла улыбкой:
— Договорились! Всем объявлю мое новое имя! Ой, смотрите, вон машина, это сын за мной приехал, хотите, мы вас подвезем в «Видео»?
— Да что вы, спасибо. Тут же три минуты ходьбы. Счастливо попраздновать!
Суса… то есть, извините, Сюзанна впорхнула в серебристый «Мицубиси» своего сына и укатила, а Алёна пошла своим путем. Иногда она озиралась, но жуткого человека больше не видела. Впрочем, с каждым шагом он казался ей все менее жутким.
«Правильно Су… Сюзанна сказала — ряженый, — подумала она сердито. — Конечно! Какой-то… язычник, тьфу! Язычник, ну да… эта вывернутая мехом вверх шуба, эти длинные волосы, повязка на голове… Ха, а может, это Данила пришел меня пугать? Но с каких, как говорится, щей, да и глаза у него хоть и серые, но не белые же! А впрочем, он мог вставить линзы… А? Чем не сюжет?»
Сразу стало полегче, правда, она никак не могла придумать, зачем Даниле могло понадобиться вставлять светлые линзы и являться ее пугать. Занятая этими размышлениями, вернее, измышлениями, она дошла до «Видео» и поднялась на второй этаж.
Примерно в эту минуту в кармане у парня в черной куртке, который снова вернулся во двор и устроился на шаткой ограде палисадника в Алёнином дворе, зазвенел телефон.
— Я разобралась, — сказал спокойный женский голос. — Можешь поздравить.
Почему-то при этом известии парень ничуть не обрадовался, а испуганно взмахнул руками и едва не свалился со своего насеста.
— Поздравляю… — еле выдавил он. — Без… без осложнений?
— Да так, одна мелочь выяснилась, — ответила женщина, чуть задыхаясь. В трубке был слышен шум машин, и парень понимал, что его собеседница быстро идет по улице. — Сейчас все улажу. Как у тебя?
— Да никак, она дома сидит, — сказал парень, поводя глазами по ряду освещенных окон третьего этажа.
— Уверен? Она не могла выйти незаметно?
— Конечно. Тут всего две тетки вышли: одна в пятнистой шубе, другая в серой. А эта в коричневой дубленке с капюшоном ходит. И в окне свет. На месте она, точно. Могу уходить? А то я задубел уже, у них во дворе сквозняк поганый…
— Да, конечно, она вряд ли уже куда-нибудь выползет вечером, — пренебрежительно проговорила женщина, — но ты все же часик еще посиди, если она вдруг выйдет — сразу звони. Если нет, я за тобой или зайду, или позвоню, но в любом случае, к девяти чтобы был у Вейки. Он скоро вернется.
— Я простужусь сидеть тут, — и без того насморочным, тягучим голосом недовольно пробормотал парень, но больше спорить не стал и выключил телефон. — У Вейки… — буркнул он, пряча трубку в карман. — Глаза б мои на твоего Вейку не глядели!
Дела давно минувших дней
Надо ли добавлять, что премьера прошла невероятно успешно? Цветы, нарочно выращенные в теплицах местных любителей-садоводов, устилали сцену пестрым ковром… Но цветы вянут… вянет и счастье.
Упоение мое сладостным открытием и поцелуем длилось недолго. Эльвира Михайловна не удостаивала меня даже взором. Наверное, стыдилась своего порыва, вызванного только спектаклем, но ничем иным, о чем я так глупо размечтался, а может быть, всего лишь играла со мной.
На другой же день в роли Юрия появился выздоровевший Карнович.
И снова между нами с Эльвирой Михайловной настало долгое отчуждение, и снова я, вольно или невольно, потянулся к моим новым друзьям.
Иногда я думал о том, что неудивительно, отчего Эльвире Михайловне так блестяще удалось сыграть Чародейку. Она не играла — она истинно была ею. А я стал жертвой чародейства.
И все во мне взбунтовалось! Я твердо решил, что вырву из сердца эту любовь. Я не могу провести жизнь в роли пажа этой Цирцеи, не могу вечно лежать у ее ног в мечтах о недостижимом. Я должен избавиться от ее чар… любовь Лизы Ивановой вновь представилась мне спасением.
Я изо всех сил старался видеть Эльвиру Михайловну как можно реже — к счастью, она тоже нечасто бывала теперь в театре. Мне была дана полная свобода — и творческая, и сердечная. И я воспользовался этим, как мог! Любовь Лизы была истинным противоядием против дурмана запретной страсти. Я сделал ей предложение… Но ее родители прочили ее за другого.
Васильев уговаривал нас венчаться тайно. Он будоражил мой доселе спокойный ум, давал мне книги… некоторые было невыносимо скучно читать, особенно экономические, некоторые меня возмущали своей злобностью; однако многие, особенно стихи, мне очень нравились.
Они-то и изменили мою судьбу.
В конце зимнего сезона, на Масленой неделе, устраивался благотворительный концерт, где мы играли отрывки из старых пьес (в том числе и из «Чародейки», конечно!), а я должен был декламировать. Мне всегда удавались стихи пафосные, патетические гораздо лучше, чем романтические. Поэтому для декламации я выбрал стихотворение ныне уже забытого поэта Пушкарева «Арестанты».
Театр был так же переполнен, как на незабываемой премьере «Чародейки». С большим чувством и темпераментом я читал горькие, эффектные строки:
Все мы, граждане, все кандидаты в острог, Разве с самым пустым исключеньем!Театр дрожал от бешеных аплодисментов и покачивался от восторженного топанья. Это была овация, настоящая овация, которая не так часто выпадает на долю актера. Однако я вдруг заметил, что в первых рядах и ложах не больно-то аплодируют, скорей наоборот, а весь этот гром и грохот производят последние ряды партера и особенно — галерка. Добродушное лицо губернатора излучало недовольство, а Эльвира Михайловна казалась испуганной. Это показалось мне странным и насторожило.
Я ушел за кулисы. Мое восторженное настроение несколько увяло, однако в зале кричали «бис!», и я приготовился выйти на сцену вновь, как вдруг рядом возник полицмейстер и придержал меня за лацкан фрака:
— Не откажите в любезности предъявить цензурованный экземпляр сего стихотворения.
— Какой экземпляр? — пролепетал я.
— Цензурованный-с! Скрепленный визою Главного управления по делам печати. Не имеете-с? Значит, вы читаете запрещенные стихи-с?! Вы что же это изволили произносить здесь публично, милостивый государь? Вы провозгласили, что все присутствующие здесь лица — арестанты?! Завтра же вы получите распоряжения губернатора касательно своей особы.
Читать на «бис», понятное дело, я уже не выходил.
Ночью меня мучила бессонница. Теперь я и сам дивился своей неосторожности и благоглупости. Что я натворил?! Как же мог забыть, что среди ссыльных есть и политические преступники, «ненадежные элементы». Наверное, это именно они устроили мне овацию. И меня приняли за одного из них… Что же теперь ждет меня?
Наутро матушка Виртанен… ах да, я в то время уже переменил квартиру, потому что матушка Паисилинна открыто выражала недовольство тем, что ее превосходительство оказала помощь «греховоднице Синикки и ее ублюдку», ворчала день и ночь, весьма непочтительно поминая Эльвиру Михайловну, ну а я, разумеется, не мог этого стерпеть, вот и съехал от нее. У матушки Виртанен было менее просторное жилье и не столь роскошный стол, зато она не ворчала с утра до вечера, а когда зашла речь об истории Синикки и Раймо Туркилла, безоговорочно осудила пьяницу и распутника Раймо. Между прочим, я и сам считал его гораздо более виноватым, чем Синикки! Женщина всегда жертва мужской любви или похоти…
Итак, матушка Виртанен утром сообщила, что ко мне явился городовой. В ее глазах были печаль и жалость.
Я вышел в горницу. Городовой принес мне из полиции бумагу, которая меня оповещала, что по распоряжению губернатора я должен покинуть город в двадцать четыре часа.
Первая мысль была: губернатор отдал распоряжение относительно театрального режиссера… прежде он не вмешивался в дела театра… значит, и Эльвира Михайловна против меня!
Дурак, что я навоображал себе, о чем мечтал?!
Уверенность в ее безразличии и равнодушии была едва ли не страшней, чем потеря прекрасной работы, предстоящая разлука с театром… В первый момент я вовсе ошалел и растерялся, затем взял себя в руки и отправился наносить визиты тем членам театрального Общества, которые были ко мне расположены. Я просил, чтобы мне позволили не покидать Петрозаводск в течение двадцати четырех часов, а отложили бы высылку до весны: было так страшно повторить долгий зимний путь на лошадях!
К вечеру стало известно, что ходатайство мое увенчалось успехом. Мне разрешено было подождать месяц. Но о работе в театре не было и речи.
Тяжко прошел этот месяц. Я скучал без театра, а он — без меня. Постановки были приостановлены — ходили слухи, что ее превосходительство больна, а без ее распоряжения никто здесь и пальцем не смел шевельнуть. С Васильевым и Лизой мы почти не расставались, да и Карнович, который раньше меня недолюбливал, теперь, когда я должен был уехать, смягчился ко мне и показал себя весьма приятным человеком. Ему и принадлежала мысль, что как режиссер я лучше, чем как актер, что у меня много интересных постановочных идей, поэтому именно по этому пути я должен буду идти впредь. Его поддержали Васильев и Лиза. Васильев просил впредь считать его актером моей будущей труппы и клялся, что после окончания срока его ссылки он почтет за счастье к ней присоединиться. Договорились, что, собрав труппу и найдя место для работы, я сообщу об этом ему и он приедет сразу, как получит право вольного перемещения по России.
С Лизой же дела обстояли так: я сделал предложение, она его приняла, но ехать со мной не могла, не пускали родители. Мне предстояло уехать первым пароходом, а она должна была тайно бежать со вторым. Васильев обещал помочь.
До моего отъезда оставалось два дня, все вещи были собраны, как вдруг поздно вечером в окошко горницы постучали. Матушка Виртанен вышла на крыльцо и вскоре воротилась с изумленным выражением лица. Я тоже изумился, потому что не считал, что невозмутимые финны и карелы способны на такую мимическую игру. Она подала мне свернутый и запечатанный лист, на котором было написано мое имя.
Я разглядывал письмо. Оно было подписано печатными буквами, почерк показался мне изменен. Бумага простая, на такой бумаге мы перебеливали свои роли.
— Отчего вы так удивлены, матушка Виртанен? — спросил я. — Вы знаете, кто это написал?
— Я неграмотна, poju, сынок, — степенно ответила она. — Но я знаю, кто принесэто письмо!
— Кто же? — спросил я, и сердце мое почему-то замерло.
Матушка Виртанен покраснела так, как не может покраснеть семидесятилетняя старушка, если не взволнована до последней степени.
— Его принесла Синикки! — прошептала она срывающимся голосом.
Синикки?! Вот это действительно удивительно! Какое отношение ко мне имеет эта несчастная красавица? И разве она умеет так хорошо и правильно писать по-русски?
Матушка Виртанен, которой изменила национальная сдержанность и которая была вне себя от любопытства, смотрела на меня во все глаза, явно ожидая, что я немедля распечатаю письмо и ознакомлю ее с его содержимым.
Не тут-то было! Синикки своим приходом и так уже сделала меня персонажем местных сплетен, пожар которых вспыхнет завтра же с самого раннего утра. Поэтому я ушел к себе, заперся и только там развернул письмо. И меня как молнией ударило, когда я увидел знакомый — сколько раз видел роли, этой рукою переписанные! — почерк Эльвиры Михайловны…
«Как получите письмо, приходите в театр, мне нужно с Вами поговорить».
Наши дни
Алёна довольно долго бродила по залу, высматривая Константина, но его что-то нигде не было видно. Она даже рискнула сунуть нос в ту дверь с надписью «Служебный вход», возле которой она однажды подслушала некий интересный разговор, однако была остановлена строгим окликом:
— Вам чего, женщина?!
Алёна испуганно отпрянула от двери. Тоненькая и очень строгая девочка в форменной красной рубахе смотрела на нее, придерживая пальцем на переносице очки с толстенными стеклами. Судя по бейджику, девочку звали Ира.
— Я ищу Константина.
— Константина? — Ира подняла тоненькие бровки. — Да вот же он.
Алёна покачала головой, глядя на высоченного горбоносого брюнета:
— Это Константин? Да ну? Нет, мне нужен другой Константин, он… не столь высокий и… не столь заметный, скажем так.
— А, — усмехнулась Ира, — значит, вам нужен Константин Марков. Его нет. И не будет. Он уволился вчера.
— Как уволился?!
— Ну как увольняются? — пожала Ира плечами. — Написал заявление, сдал форму, бейджик, забрал из своего шкафчика кружку, полотенце и сандалеты — и ушел.
— Понятно, — растерянно протянула Алёна.
— А вам он зачем? Может, я могу помочь? — предложила Ира.
— Да ничего особенного, мне нужны были пылесборники для «Самсунга», а Константин…
— При чем тут Константин? — возмутилась Ира. — Любой продаст вам пылесборники, хоть бы и я. У вас какой номер модели? А впрочем, у нас есть универсальные, для всех проходят.
Алёна усмехнулась. Это было похоже на пароль и отзыв в какой-то игре. Но теперь игра закончена, потому что Константин исчез. След оборвался. К чему? И был ли он вообще?
Она вспомнила отпечатки огромных ног человека с белыми глазами. Вот это след, это да! А след Константина — такой же невыразительный и блеклый, как он сам, и куда он вел, неведомо, но оборвала его, очень может быть, сама Алёна, когда жестом фокусника, вернее, карточного шулера, выбросила из рукава козырную карту — злосчастный браслет.
— Спасибо, Ира, — сказала она. — Я, кажется, кошелек забыла. В другой раз. Извините…
Алёна невесело побрела к выходу, не обращая ни малейшего внимания на хиты продаж, как вдруг ее негромко окликнули:
— Подождите! Вы Костю спрашивали?
Алёна обернулась и увидела невысокого широкоплечего парня, очень напоминавшего оживший гриб-боровик, таким крепеньким и коротеньким он был. «Гриб-боровик», судя по бейджику, носил имя Виталий.
— Да, я. Здравствуйте.
— Здрасьте, — кивнул Виталий. — Костя уволился.
— Мне уже сообщили. А вы не знаете, где он те…
— Он вам просил вот это передать, — перебил Виталий и протянул Алёне фирменный конверт с отпечатанным названием «Видео» и написанной от руки большой буквой А.
Алёна изумленно уставилась на конверт. Просто непостижимо — чтобы Константин знал ее имя и оставил ей записку!
— Спасибо, — ошарашенно пробормотала она, беря конверт. — А вы не знаете, он просто уволился, ну, в свободное плавание, или на другую работу уже перешел?
— Сказал, что уезжает куда-то.
— Уезжает? Когда?
— Да фиг его знает. Может, уже уехал.
— А вы не знаете…
— Да он, наверное, все в письме написал, — нетерпеливо сказал Виталий. — Или это… а может, это вовсе не вам письмо?!
И он сделал движение забрать конверт.
Алёна проворно убрала руку за спину.
— Вас как зовут? — подозрительно спросил Виталий.
— Алёна, — честно призналась наша героиня, и недобрая морщинка, возникшая между бровями Виталия, тотчас разгладилась.
— Ну да, тогда все в порядке, на букву А, — кивнул он.
— Слушайте, Виталий, а вы не знаете адрес Константина?
— А может, он его в письме написал?
Алёна кивнула и надорвала конверт. Вытащила листок, развернула…
«ПРОПАДИТЕ ВЫ ВСЕ ПРОПАДОМ, СУКИ ГРЕБАНЫЕ…» — крупными буквами было написано посреди листка. А потом что-то помельче и не вполне разборчиво, но Алёна ничего больше прочесть не успела, потому что Виталий с любопытством вытянул шею, и она быстро опустила листок.
— Нет, там адреса нет, — сказала она растерянно, мучительно соображая, что вообще имеется в виду в этой фразочке, и если даже Константин Марков так возненавидел ее, чтобы крыть без всякой артподготовки матом, почему называет ее во множественном числе?! Ладно, об этом потом, сейчас надо каким-то образом опять стать на след… Впрочем, умение лихо врать Алёну никогда не подводило. — А он… понимаете, Костя брал у меня книжки — очень ценные, очень редкие, очень дорогие, да так и не вернул. И в записке о них ни слова.
— По язычеству по какому-нибудь книжки небось? — сказал Виталий.
— Конечно, конечно, по язычеству, — мгновенно подыграла Алёна. — А откуда вы знаете?
— Да он свихнулся на язычестве и всяком таком, — хохотнул Виталий. — Они всей этой своей кодлой на Куйбышевской водокачке оргии разные устраивали, на Масленицу соломенные чучела жгли, на что-то там еще через костры прыгали… летом ездили на Купалу на Светлояр венки по воде пускать… ну, короче, все ритуалы соблюдали изо всех сил. Да он за такие книжки мать родную продал бы!
— Мать его, родная или нет, мне без надобности, — покачала головой Алёна. — Мне мои книжки нужны.
— А что за книжки? — спросил Виталий.
Эх, давненько не брал я в руки пистолета, как выразился бы некто Пушкин… Лет десять-пятнадцать назад Алёна Дмитриева, тогда еще звавшаяся Еленой Ярушкиной и бывшая замужем за Михаилом Ярушкиным, очень серьезно занималась славянской мифологией и даже писала фантастику. С тех пор ее приоритеты, как принято выражаться, несколько изменились, но прогрессирующий склероз к ней с тех пор еще не подступил, а потому она легко вспомнила самые любимые и, можно сказать, родные имена и названия и отчеканила без запинки:
— Афанасьев «Поэтические воззрения славян на природу», Максимов «Нечистая, неведомая и крестная сила», Коринфский «Народная Русь», Забылин «Русский народ, его обычаи, обряды», Чулков «Абевега русских суеверий»…
Эти незабываемые, прекрасные, чудесные, магические слова она выговорила с тем же почти молитвенным выражением, с каким древний славянин обращался к своему божеству, и почудилось, даже воздух вдруг задрожал, и все поплыло, высокий серый потолок магазина сделался прозрачно-голубым, выглянуло огромное солнце…
Но немедленно все сделалось по-прежнему: люминесцентный мертвенный свет, никакого солнца, никакого неба, сплошная унылая цивилизация. И еще Ира прошла мимо, глядя ревниво, подозрительно то на Алёну, то на Виталия. А у нее, интересно, есть законное право на ревность?
— Ух ты! — восхищенно выдохнул Виталий. — Краси-и-иво! Никогда таких названий не слышал. Конечно, жаль будет, если пропадут. Ну ладно, слушайте, я адреса точно не знаю, я там один раз был… Костька снимал комнату у одной бабульки на Ковалихе, угол Трудовой, хрущевка такая облезлая, там еще продовольственный магазин. Второй подъезд со стороны Трудовой, второй этаж, дверь налево. Металлическая такая серая дверь.
— Спасибо, — улыбнулась Алёна. — Спасибо большое!
— Слушайте, а вы не знаете, эти книжки в Интернете есть? — с загоревшимися глазами спросил Виталий. — Я б скачал! Так-то читать, страницы мусолить, я терпеть не могу, но скачал бы и прочитал бы в наладоннике, ну, в кэпэкашнике, в смысле.
Алёна только вздохнула. Что за комиссия, создатель! Знали бы певец русской демонологии Сергей Васильевич Максимов, или великий сказочник Александр Николаевич Афанасьев, или вдохновенный их толкователь Аполлон Коринфский, или великий выдумщик Михаил Чулков, что об их чертях, ведьмах, леших, водяных, домовых, знахарях, колдунах, печниках и плотниках современная мо́лодежь будет читать не в книгах, а в наладонниках, кэпэкашниках!
Да ладно, нет разницы как, лишь бы читали!
— Конечно, эти книги есть в Интернете, и читать их — просто феерическое удовольствие.
— Афанасьев, — повторил Георгий с мечтательным выражением, — Максимов, Забылин, Чулков, Коринф… как вы сказали?
— Коринфский, — подсказала Алёна с улыбкой. — Аполлон.
— Виталий! — Ира не выдержала и подала-таки возмущенный голос. — Сколько ты там болтать будешь! Покупатели ждут!
Виталий извиняющее улыбнулся и умчался, а Алёна вышла из зала «Видео» и задумчиво остановилась на лестничной площадке.
Ей не терпелось прочесть загадочное письмо Константина до конца, но не хотелось делать это среди толпы народу. Вдруг кто-нибудь заглянет через плечо и увидит круто сваренную фразу, написанную, как нарочно, очень крупно и разборчиво:
«ПРОПАДИТЕ ВЫ ВСЕ ПРОПАДОМ, СУКИ ГРЕБАНЫЕ…»
Она зашла в обувной магазин, потом попыталась скрыться за ларьком с расческами и заколками, однако кругом бродили какие-то люди, все, как один, имеющие на лицах выражения сомнамбул: невооруженным взглядом было видно, что ничегошеньки им во всех этих магазинах и даром не нужно, так просто, слоняют слонов, лишь бы время провести и деньги потратить.
Какая-то девушка выскочила в эту минуту точно бы из стены и торопливо прошла в «Видео». Алёна посмотрела на стену, из которой девушка материализовалась, и чуть не хлопнула себя ладонью по лбу.
Да ведь там не просто стена — там дверь и переход из «Видео» в магазин «Этажи»!
Алёна пробежала через застекленную трубу перехода и оказалась в практически пустом, благоухающем всеми ароматами французской парфюмерии пространстве одного из главнейших и дорогущих городских магазинов. Именно этой дороговизной и объяснялась безлюдность в «Этажах».
Она поднялась еще выше, где было уж вовсе пустынно, присела на первую попавшуюся банкетку и снова открыла конверт.
В эту самую минуту некая запыхавшаяся девушка остановила первого попавшегося продавца в торговом зале «Видео» и спросила:
— Где я могу найти Виталия? Ах да, — тотчас воскликнула она, уставившись на его бейджик, — это вы! Я от Константина… он уехал, оказывается, но оставил вам письмо для меня.
— Письмо у меня уже забрали, — растерянно сказал Виталий.
— Как забрали! — У девушки перехватило дыхание. — Кто?! Как вы могли отдать письмо тому, кому оно не предназначено?!
— А почему я должен был знать, что оно предназначено вам?! — возмутился Виталий.
— Но там на конверте значилось мое имя! — чуть ли не взвизгнула девушка.
— Никакого имени там не было, — возразил Виталий.
— Но он мне сказал…
— Не знаю, что он вам сказала, но написал он только одну букву А.
– А! — воскликнула девушка. — Но это я! Меня зовут… меня зовут… — Она запнулась. Да, ее имя не начиналось на букву А, зато на эту букву начиналась ее фамилия, и она точно знала, что Константин имел в виду именно ее фамилию, ведь он ей сам об этом сказал… успел сказать… но ей совершенно не хотелось все разъяснять этому придурку Виталию, и поэтому она сейчас лихорадочно вспоминала какое-нибудь женское имя на букву А, но ничего не могла вспомнить от злости! — Меня зовут Александра! — наконец выпалила она. — Это на А!
— Ну и что? — раздраженно сказал Виталий. — Ту тоже звали на А, и она первая пришла. Я и отдал.
Ему было не по себе. Ошибся, конечно… та, которая первая на А, про письмо даже не обмолвилась, она просто Константина спрашивала, а эта сразу про письмо заговорила. Черт, глупо получилось…
А эта как разозлилась! Можно подумать, от этого письма вся ее жизнь зависит. Так-то вроде симпатичная была, когда подошла, а сейчас натуральная мымра стала.
— Ладно, — хрипло сказала девушка, пытаясь успокоиться. — Какое имя она назвала? Как она выглядела?
— Какое имя? — повторил Виталий. — Как выглядела? Да я не помню.
— Что?!
У той, которая назвалась Александрой, стали такие бешеные глаза, что Виталий, решивший было чуток покуражиться над «мымрой», натурально струхнул.
«Ненормальная какая-то, — подумал он. — От таких подальше держаться надо! Вон как пальцы скрючила — будто когтищи. Сейчас как вцепится в физиономию! Скажу ей — и пусть провалится!»
И он уже открыл было рот, чтобы назвать имя «Алёна» и рассказать про серую шубку с капюшоном, как вдруг онемел. Словно бы чей-то голос шепнул ему в ухо волшебные слова: «Поэтические воззрения славян на природу… нечистая, неведомая и крестная сила… абевега русских суеверий…»
— Да я на нее толком и не смотрел, — буркнул он. — А имя не запомнил. И вообще, некогда мне!
И ушел, сам себе дивясь. Почему не назвал ту женщину? Ну что бы произошло, если бы «мымра» узнала про эту Алёну? Небось не убила бы ее?
Виталий не понимал, что с ним, но на душе стало так легко и хорошо, как не было ни разу с давних-давних, он даже и сам не помнил, с каких времен.
А та, которая назвалась Александрой, смотрела ему вслед, находясь в том самом состоянии, которое беллетристы обычно именуют бессильной яростью, и выражение это, прямо скажем, было очень точное. Если бы она могла, она бы сейчас убила и Виталия, и ту неизвестную, которая получила письмо Константина. И впервые она пожалела, что чуть поспешила. Если бы сдержалась, если бы помедлила хоть чуть-чуть, Константин успел бы ей все сказать. Но там еще старуха приперлась… рассусоливать было некогда. Теперь вся надежда на письмо, а оно… Где оно?!
И еще немаловажный вопрос: откуда эта неизвестная знала про письмо Константина?! Это что, получается кто-то еще в курсе?! Кому-то еще известно о поисках?! Откуда?!
Этого не может быть. Этого не должно быть!..
«ПРОПАДИТЕ ВЫ ВСЕ ПРОПАДОМ, СУКИ ГРЕБАНЫЕ.
Давайте, давайте, поищите на Черниговской под звездами, кривую старухину скатерку подкрутите, может, чего и найдете с этим горячим парнем, только этого вам в жизни не понять, дебилам с большой дороги! Да вы раньше сдохнете, чего вам и желаю. А меня не ищите — бесполезно, я к вам больше не вернусь!»
— Хм, — сказала Алёна растерянно. — Кто-нибудь что-нибудь понял? Зага-а-адочно…
А впрочем, кое-что отнюдь не представлялось загадочным.
Например, то, что письмо предназначено не ей. В этом с самого начала не могло быть сомнений. Какой-то другой женщине. Например, той самой, в коричневой куртке, которую Алёна видела рядом с Константином в «Шоколаде». И зовут ее А… Анна? Антонина? Алла? Анжелика? Ангелина? Александра? Выбор имен на А довольно велик, так же как и фамилий, ведь А вполне может быть и первой буквой фамилии. Ну ладно, предположим, это та самая женщина из «Шоколада». Очень сурово она отчитывала Константина, вот он и решил сбежать. Ну что ж, очень разумное решение, тем паче если он надумал этим очень нехорошим людям (как-то неохота беспрестанно цитировать определение, которое он им дал) насолить и что-то спрятать. Интересно что? Ну, узнать это у Алёны Дмитриевой, конечно, шансов нет, да и не очень хочется.
Или все же хочется?
Ну, немножко интересно, не будем лукавить… А еще интересно, что теперь Алёне с этой запиской делать? Вернуться к Виталию, отдать ему конверт и попросить подождать другую даму, чье имя или фамилия начинаются с буквы А?
Глупее не придумаешь. Это так же глупо, как потащиться сейчас домой к Константину и уведомить парня о том, что его письмо попало не по адресу.
И делать, в общем-то, ничего не остается, кроме как вернуться к себе домой. Ничего не узнав, ничего не поняв, не представляя, что делать дальше, получив кучу невразумительной информации для размышления…
Алёна задумчиво посмотрела в высокое окно. Небо было темным: сгустились сумерки. На душе тоже было сумеречно. Во что это она ввязалась, вернее, во что ее ввязали, подменив браслет? Главное, если бы не эта история с его увеличением, Алёна подмены сто лет не обнаружила бы. И даже если когда-нибудь заметила, что камень другой, решила бы, что он просто сам собой мутировал, ну, к примеру, надоело ему быть «волосами Венеры», он взял да и отрастил себе «бороду Магомета»… Алёна ведь жутко доверчивая и в сказки до сих пор верит, камни для нее, совершенно как для древних айну [15], живые и, может быть, даже мыслящие существа.
Ну так вот, браслет… Вся случившаяся невнятица раздражала нашу героиню самим фактом своего существования. Алёна ненавидела такое состояние. Хоть что-то она должна понять?! Пока понимала одно: все началось из-за браслета, который побывал в руках Данилиного брата. С этого все и началось. Нужно разыскать Данилу и сказать, что она не просто там какая-то… как это он сказал, пока они сидели в снегу… «Он из-за таких дур, как ты, в могиле лежит». Ну вот, она тут ни при чем, она пострадавшая сторона, которая требует возмещения морального ущерба в виде подробного разъяснения, что произошло.
Может быть, конечно, кому-то покажется, что неудовлетворенное любопытство — сущая ерунда, от него можно отмахнуться, но это если речь идет о ком-то другом, не об Алёне Дмитриевой. Собственно, любопытство — слово неправильное. Скорее ощущение нарушенной гармонии мироздания вокруг нее, а нарушения гармонии Алёна Дмитриева, как всякая Дева, совершенно не выносила и начинала пускать искры, как всякий раздраженный Дракон.
Строго говоря, во все многочисленные приключения своей жизни она ввязывалась именно потому, что стремилась восстановить утраченную гармонию — залатать, так сказать, прорехи в мироздании — всеми доступными методами.
Итак, найти Данилу. Простейший способ — спросить у Кости, благо адрес известен. Конечно, Костя сообщил и написал, что уезжает, исчезает и все такое, однако Алёна по опыту знала, что очень многие поступки декларируются, но не совершаются. Или просто откладываются. Вполне возможно, Костя так и поступил. Будем надеяться, Алёне удастся убедить его рассказать, как найти Данилу.
С надеждой — совершенно напрасной, как вскоре выяснилось, — Алёна вышла из «Этажей» и начала переходить перекресток Ижорская — улица Белинского (между прочим, тот самый перекресток, где она позавчера сбила с ног Данилу), как вдруг карета «Скорой помощи» появилась словно из никуда и свернула на Ижорскую вниз, по направлению к улице Ковалихинской, чаще называемой просто Ковалихой, а вслед за ней мчалась милицейская машина. Их догоняла красная пожарная машина.
В эту самую минуту женщина, которая так и стояла посреди торгового зала «Видео», с ненавистью глядя в спину Виталию, услышала рядом негромкий, вкрадчивый голосок:
— Вы на него не сердитесь!
Женщина повернула голову и увидела рядом тощенькую девицу со слишком большими очками, которые то и дело норовили сползти с переносицы. Судя по бейджику, она была менеджером по продажам по имени Ира.
— Эта тетка у него Костино письмо так ловко выцыганила! Он растерялся и отдал. Главное, спросил, как ее зовут, она говорит — Алёна, ну, он и отдал.
— Алёна? — повторила женщина и вдруг ощутила, как при звуке этого имени у нее спазм перехватывает горло. — Алёна?! А фамилию она назвала?!
— Нет, фамилию не сказала, — вздохнула Ира. — Алёна, говорит, на букву А… Такая высокая, кудрявая, в серой шубке. Она Виталику зубы заговорила, там что-то про мифологию, про какую-то нечистую силу, про язычество, словом…
— Про язычество?.. — перебила женщина вмиг охрипшим голосом. — А потом она куда делась?
— Да я за ней не следила… — робко пробормотала Ира, испугавшись — таким страшным сделалось это лицо — и уже раскаиваясь, что дала волю своей ревности к незнакомке в серой шубке, с которой так долго и с таким интересом говорил Виталий. Но все же сочла за благо довести начатое до конца: — Ой, нет, я видела, как она вошла в переход между нашим магазином и «Этажами», вон там.
Дальше женщина не слушала. Она ринулась к переходу, выхватывая из кармана телефон.
— Алло? — отозвался мужской голос, перемежающийся громким шмыганьем. — Это ты? Слушай, сколько я могу тут сидеть и мерзнуть?
— Придурок, сволочь, ты ее упустил! — взвизгнула женщина, давясь злыми слезами. — Ты говорил, вышла из подъезда какая-то в серой шубе? Это она! И она забрала письмо Константина!
— Какое письмо? — обалдело пробормотал ее собеседник. — Как вышла? Но свет же еще горит…
Женщина выбежала из перехода на пустынный этаж. Кинулась вперед, к перилам, перевесилась через них, обводя нижний вестибюль ненавидящими глазами. Показалось или мелькнула в дверях серая шубка?..
Неужели ушла?!
Дела давно минувших дней
Не помню, сколько времени смотрел я на эти строки, которые враз меня окрылили, преисполнили самых невероятных мечтаний — и в то же время напугали. Не скрою — я боялся власти, которую имела надо мной эта женщина! А что, если она… если она заговорит о любви? Я не устою. Я забуду обо всем на свете. Я забуду о Лизе! Мне лучше никуда не ходить.
Целую минуту я был в этом непоколебимо убежден, а потом сорвался с места и принялся торопливо одеваться.
— Куда вы на ночь глядя? — всполошилась матушка Виртанен, когда я промчался через горницу и ворвался в сени, торопливо нахлобучил шубу и треух. Но где там! Меня уже не было. Я помчался с такой быстротой, что слышал, как снег вихрится по моему следу!
Театр стоял темен и безлюден. Я ощупью нашел дверь — она подалась под рукой… я вошел.
Вестибюль… зрительный зал… темно!
Ее здесь нет!
— Я здесь, — прошелестел голос позади. — Нет, не оборачивайтесь… Только протяните назад руку.
Я вытянул руку, и моей ладони коснулись дрожащие прохладные пальцы. Я стиснул свои… но теперь ощутил не ее пальцы, а что-то шелковистое, какой-то довольно увесистый сверток.
— Это мой прощальный подарок, — тихо сказала Эльвира Михайловна. — Я и сама получила его в подарок, в благодарность… это старинный талисман, который дарует счастье и удачу тем, кто не посылает в мир дурных мыслей, кто не грешит против законов божеских и человеческих. Я знаю, что мне дали эту вещь в знак величайшей признательности, но… я-то знаю, что я ее недостойна. Я великая грешница, я вышла замуж из-за выгоды, я обманывала мужа и обманываю его сейчас, я была наказана смертью сына за мои грехи, а вы… вы чисты помыслами и поступками. Я давно не встречала таких прекрасных людей. И я счастлива, что именно вас я так сильно… — Она на миг умолкла, потом продолжала чуть слышно: — Нет, не отвечайте мне, не оглядывайтесь! Я знаю, вам нечего сказать, и, поверьте, я ощутила бы себя несчастной из-за того, что смутила вашу душу… Умоляю, храните этот талисман. Он не даст вам богатства и достатка, но он будет спасать вас всегда, пока вы не потеряете его.
Наступило молчание. Я слышал тихие вздохи позади и понимал, что она плачет. Как мне хотелось обернуться и стиснуть в объятиях эту чудную, обожаемую женщину! Но такова была ее власть надо мной, что я не смел оглянуться, не смел ослушаться.
Не помню, сколько времени мы стояли так, но вдруг я осознал, что вокруг тишина, а позади уже никого нет.
Я был один. Она исчезла.
Тогда пошел и я…
Медленно воротился я домой. Матушка Виртанен не спала, топталась в горнице, таращилась на меня, едва не умирая от любопытства, но я молча прошел к себе, зажег огонь и развернул шелковый синий платок — такой же синий, как платье, в котором я увидел ее впервые.
Она подарила мне браслет. Крупная, тяжелая вещь, видимо, старинная. Звенья из золота, серебра и какого-то неизвестного мне металла, причудливо ограненные прозрачные камни, ранее мною не виданные… Я смотрел как зачарованный. Вещь волшебной красоты и, наверное, очень большой ценности. Только очень дорогому человеку можно было сделать такой подарок…
Сердце мое билось больно, в горле теснило, и слезы вдруг подошли к глазам.
Это были слезы моей первой любви, слезы прощания с ней.
Спустя два дня я уехал пароходом. Когда отшвартовались, я стоял на палубе, и взор мой метался между тонкой фигуркой на причале — это была Лиза, которая вскоре должна была приехать ко мне в Петербург, — и просторным домом на взгорье — губернаторским домом, окруженным парком. Окна были слишком далеко, чтобы я мог хоть что-то разглядеть за ними, но я чувствовал, что она там, смотрит мне вслед, прощается со мной навсегда.
Наши дни
При виде машин милиции, «Скорой» и пожарной, несущихся в одном направлении, любой человек, который читает детективы (да и тот, который их не читает!), сразу поймет, что где-то приключилось что-то неладное. Любой человек, который детективы не только читает, но и сочиняет, сразу подумает: неладное имеет отношение к тем делам, которыми он занят. Честно говоря, Алёна подумала, что неладное приключилось с Константином, ведь машины мчались в том направлении, где был его дом.
Почему ей так показалось? Почему-то.
«Ты стала мыслить теми же клише, которыми по определению мыслят все так называемые сочинительницы дамских детективов», — с презрением сказала себе Алёна и пошла вниз по Ижорской — сначала медленно, а потом почти побежала. На пересечении Ковалихи и Трудовой заливались трехгласым воем машины «Скорой», милиции и пожарная, окруженные мигом собравшейся толпой народу. Впрочем, когда Алёна добежала до перекрестка, пожарная и «Скорая» уже отъехали, и она вздохнула с облегчением, насмешливо назвав себя фантазеркой.
Кажется, она и в самом деле слишком уж распустила свое воображение, к Константину это тройное пришествие сил быстрого реагирования не имело никакого отношения. Очевидно, кто-то из жильцов ошибочно поднял тревогу, или сработала пожарная сигнализация в магазине на первом этаже, или вовсе забавлялся телефонный хулиган…
Можно было со спокойной душой идти к Константину, и она уже направилась было во двор, обходя толпу, когда рядом раздался тяжкий вздох, и весьма немолодая женщина, как-то по-старинному покрытая большим клетчатым платком, напоминающим скорее плед, чем платок, проговорила, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Вот и пускай после этого квартирантов! И самого пришили, и бедную Варвару Петровну не помиловали…
— Да она вроде пока жива, — подала оптимистичный голос женщина помоложе в наброшенной на плечи короткой шубке, в которой она, видимо, зябла, потому что то запахивала ее, стискивая ворот у горла, то вдруг накидывала шубку на голову, как шаль.
— Вот именно что пока, — сказала первая женщина. — И вот помянете мое слово, Марья Юрьевна, помрет она!
— Это еще почему? — вступил в разговор высокий, очень худой старик в разношенном лыжном костюме и кацавейке, с шарфом, обмотанным вокруг шеи. — Вам что, врачи сообщили, Нина Лавровна?
— Никто мне, Сергей Иваныч, ничего не сообщал, — мрачно сказала женщина в платке, которую, как несложно было понять, звали Ниной, а носила она диковинное отчество Лавровна, — но у меня своя голова на плечах, и совсем даже не пустая, чтоб вы знали. Кому надо было Варвару Петровну трогать? Ну кому старуха могла дорогу перейти? Всего-то за ней грехов, что, как денек потеплей, она плюх на лавочку во дворе и ну трындеть со всяким, кто мимо пройдет. Какая в том смертельная вина? Никакой. Убивать-то ее жильца пришли, а Варвару Петровну пристукнули как свидетеля. Ну а коли человека нарочно пристукивали, так небось не для того, чтобы он жив остался!
— Ну, если Варвара Петровна не померла еще, может, выживет, вон как ретиво «Скорая» примчалась, — вздохнул Сергей Иваныч.
— Дай бог, — поддакнула Марья Юрьевна, снова накидывая на голову свою шубку, отчего ее голос раздавался словно из какой-то пещеры. — Она-то, может, и выживет, а Костик… он уж нет, бедолага. Его-то насмерть зарезали… Мне его жалко. И вежливый, и тихий, и как-то приятно, что в таком магазине свой человек работал. Не скажу, чтобы я в это «Видео» часто ходила, уж и дороговизна там, всего-то и разок заглянула за пылесборниками, обратилась к какой-то девчонке, а она с ножом к горлу: скажи да скажи, какая у вас модель пылесоса, да не просто модель, а какой у нее номер. Мне почем знать? Эти мешки, оказывается, для каждого пылесоса разные, один к другому не подходят. И тут подошел Костя, поздоровался и принес мне какие-то мешки, которые ко всем пылесосам враз подходят, а она, та девушка…
— Все это очень похоже на то, о чем говорил Шамрай в связи с его интерполовскими делами, так что я его вызвал сюда, — раздался громкий голос, и какой-то мужчина, говоря по мобильному телефону, прошел к одной из двух милицейских машин, сел в нее, и она тотчас уехала.
— А она, та девушка, оказывается, и знать не знала, что у них такие мешки в продаже есть! — продолжала Марья Юрьевна.
— Да как же это может быть? — изумилась женщина в платке. — Да раньше разве такое случалось, чтобы продавщица не знала, какой у нее товар есть в наличии?!
— Ну, вспомнили! — отмахнулась Марья Юрьевна. — Раньше! Мало ли что было раньше! А теперь вот не знают.
Алёна едва подавила желание расхохотаться. Нет, ну правда — пароль и отзыв! Но сейчас ее чувство юмора явно неуместно.
— Вы совершенно правы, — сказала она, обращаясь к Марье Юрьевне. — Константин был очень внимательным и добрым. Даже невозможно поверить, что с ним могла такая беда случиться.
— А вы его знали? — повернулись к ней все трое собеседников. — Откуда?
В трех парах глаз сверкнула подозрительность, а женщина в шубе даже сбросила ее с головы.
— Мы вместе работали в «Видео», — не моргнув глазом, соврала Алёна.
— Ага! — воинственно воскликнула Марья Юрьевна. — Так это ваша сотрудница про мешки…
Алёна в ее сторону и бровью не повела, а продолжала:
— Константин вчера уволился, но забыл кое-что из своих вещей. Я решила занести по пути, я… я живу там, на Большой Печерской, — махнула она рукой вперед и выше, потому что именно там, наверху косогора, и находилась Большая Печерская улица, — и вдруг слышу… такое несчастье! Он ведь собирался уезжать, насколько мне известно…
— Да, видать, так и не собрался и не соберется уже, — со свойственной ей несколько ехидной мрачностью изрекла Нина Лавровна. — А вы не врете, что с работы? А то была у него тут одна такая… тоже вроде с работы, а я вот уверена, что это именно она Костика и Варвару Петровну пришила.
— Я точно с работы, — глядя честными глазами, прижала руку к шубке Алёна. — А о ком вы говорите, кто это — «одна такая»?
— Ну, так я вам и сказала, — насупилась Нина Лавровна. — Я даже милиции этого не скажу, а чтобы всякой встречной-поперечной…
— Какая же это я встречная-поперечная? — насупилась и Алёна. — Я начальник отдела менеджмента, непосредственный руководитель Константина. И ответственно заявляю, что никто из наших сотрудников не мог совершить такое злодейство. Вы оговариваете наш трудовой коллектив, клевещете на ни в чем не повинных людей. Если вы видели убийцу, ваш гражданский долг — немедленно сообщить милиции, а не тратить время на досужую болтовню.
На самом деле она очень надеялась, что досужая болтовня еще хотя бы немного продлится. Вот такие злоязыкие и мрачные соседки — кладезь разнообразнейшей информации, сколько раз она в этом убеждалась! Только вынимать эту информацию из них надо умеючи…
— Да уж, — поддакнул Сергей Иваныч, — гражданский долг и всякое такое — это вам не кот начхал, Нина Лавровна!
— Да не видела она ничего, — усмехнулась Марья Юрьевна, снова ныряя в шубку. — Правда, Нина Лавровна? Просто захотелось лясы поточить… вы же это страсть любите, Варвара-то Петровна не одна на лавочке сиживала, а с вами, вы с ней на пару наждачной бумагой каждого из нас вжикали. Учет вели, кто с кем пришел, когда ушел, а потом по всему дому хвостом сплетни разносили.
— Да уж какой учет? — всплеснула руками Нина Лавровна. — Где нам хотя бы за вами и вашими кавалерами уследить, Марья Юрьевна, тут милицейский полк нужен!
Алёна встревожилась. Тема разговора сменилась и вышла из-под контроля. Надо повернуть ее назад, к Константину, но поди вклинься в эту бабью перепалку!
— Ну, это вы сейчас говорите, когда вам семьдесят пять стукнуло, а когда было сорок пять, тоже были — ягодка опять, — хохотнула Марья Юрьевна. — Я же помню, как вы летом на дне рождения Варвары Петровны подвыпили и рассказывали, что, когда муж ваш умер, у вас сразу столько появилось поклонников, что…
— Вот! — вдруг возопила Нина Лавровна и хлопнула себя по лбу так звонко, что Марья Юрьевна чуть не уронила шубку. — Вот где я ее раньше видела!
— Кого? — чуточку испуганным хором спросили Марья Юрьевна, Сергей Иваныч и примкнувшая к ним Алёна, все вместе решившие, что Нина Лавровна не иначе отшибла себе разум и стала заговариваться.
— Да ту самую, которая и Костика пришила, и Варвару Петровну на тот свет переадресовала, — пояснила Нина Лавровна, и Алёна насторожилась. — Вы только вспомните! Сидели мы в тот день за чаем, ну, когда Варвары Петровны день рожденья праздновали, и вы были, Марья Юрьевна, и Костик… да, Варвара Петровна и его пригласила, а он ей подарил такие сушители для обуви, говорил, у них это сейчас хит продаж, и тут вдруг в дверь звонок. Варвара Петровна вышла открыть и возвращается с девушкой. Такая вроде ничего особенного, беленькая, в маечке, джинсиках… У вас есть такая в «Видео»? — внезапно повернулась она к Алёне, и та, уже позабывшая, кем отрекомендовалась, даже шарахнулась было от неожиданности, но немедленно пришла в себя и снова вошла в роль.
— Да у нас там каждая вторая в маечке и джинсиках, вы подробней ее опишите! — сказала она, подумав, что предполагаемая убийца — явно не женщина с браслетом. Интересно, эта блондинка — та самая, о которой Константин говорил с Данилой, которую называл скупой сукой и на встречу с которой намерен нынче вечером ринуться Данила? Но тогда опять получается, что Костя врал, мол, с этой женщиной толком незнаком… А может, это опять не она, не та женщина?
Помнится, она смеялась над Дракончегом, который не скрывал от нее своих былых похождений и намекал, что не намерен останавливаться на достигнутом: «Женщины тебя погубят!» — пророчила Алёна. Ну а вот Костю они уже погубили, причем самым буквальным образом.
Воспоминание неожиданно больно царапнуло сердце и память, потому что рядом маячило зловещее слово «никогда», но опять думать о Дракончеге Алёна себе не позволила, да, собственно, Нина Лавровна не дала ей такой возможности, продолжая свой рассказ:
— Ну и вот, Варвара Петровна ее привела, а Костя аж вскочил, когда она появилась, и уставился так странно. А Варвара Петровна кудахчет — она уж под хмельком была: да проходите, садитесь с нами к столу, рядом с Костиком, вы, наверное, его барышня? Ах, какой у меня квартирант замечательный, вы за него крепче держитесь, он мне как сын, мы так болтаем, бывало, обо всем на свете! Разошлась совсем. А девушка хмуро отвечает: «Нет, мы просто работаем вместе. Константин, у меня к вам срочный разговор, давайте выйдем». И они ушли. Помните?
— Нет, я не помню, — вздохнул Сергей Иваныч. — Я к тому времени, видать, уже перебрал, помню, жена меня домой увела, а больше ничего.
— А я помню! — всплеснула руками Марья Юрьевна и еле успела подхватить свою падающую шубку у самой земли. — Помню ее! Это такая… беловолосая, сероглазая, курносенькая? У нее сережки еще были такие длинные, чуть не до плеч? Дорогие сережки, Сваровски или как-то там… Но откуда вы знаете, что именно она Варвару Петровну и Константина убила?!
— А оттуда, — заявила с торжеством Нина Лавровна, — что я нынче была у Варвары Петровны, вот как раз час или полтора назад, зашла за теркой, моя затупилась вконец, а новую купить никак не соберусь. Ну, пошли на кухню, вдруг звонок. Варвара Петровна вышла, кого-то впустила, потом вернулась на кухню и говорит: мол, это к Косте — девушка с работы. Я терку взяла и ушла, потом, наверное, всего полчасика и прошло, слышу, Клара на весь подъезд кричит, дескать, маму застрелили и квартиранта ее. Клара, бедная, зашла мать навестить, а там такое! Клара и милицию вызвала, и «Скорую».
— А пожарных? — с любопытством спросила Алёна.
— Да это я, — виновато развел руками Сергей Иваныч. — Я задремал было, вскинулся — в подъезде кричат что-то. Я спросонок и набрал 01 — просто так, на всякий случай…
— Ну, надо было еще аварийную горгаза и горводоканала вызвать на всякий случай, — хмыкнула Марья Юрьевна. — И слесаря из домоуправления. И электрика!
— Ну вот, — заворчал Сергей Иваныч, — такой серьезный разговор пошел, а вы шутки шутите!
— Да что тут серьезного? — передернула плечами Марья Юрьевна. — Мало ли, какая девушка с работы могла к Косте прийти? Необязательно та самая, которую мы на дне рождения видели. Вот и эта могла. — И она указала на Алёну.
— Я только что зашла во двор, — покачала та головой. — Как раз отсюда выехали пожарная и «Скорая».
— Ну-у, это никому неведомо, когда вы здесь появились, — с боевым огнем в глазах повернулась к ней Нина Лавровна. — Может, вы их убили, а потом зашли снова — посмотреть, в какую сторону поворачивается расследование.
— Это по принципу, что убийцу всегда тянет на место преступления? — невесело пошутила Алёна. — Меня не тянет — наверное, потому, что я не убийца. Час назад я была в «Видео», там есть кому это подтвердить, да и на более раннее время у меня алиби есть. Так что не получается ничего из этой версии.
Нина Лавровна огорченно всплеснула руками:
— Ну что ж это за незадача такая, ну что я из кухни-то не выглянула, когда Варвара Дмитриевна ту девушку впускала?! Главное, у нее телевизор был включен, я засмотрелась на что-то, уж не помню, и не выглянула. Вот дура старая, как будто у меня телевизора нет, такой случай пропустила!
— Да вам повезло, что вы! — утешила Марья Юрьевна. — Если бы вы ту девушку видели, вы были бы свидетельницей. И где гарантия, что она не начала бы охотиться на вас, чтобы вы ее не выдали?
— Боже! — заломила руки Нина Лавровна и так побледнела, что это было видно даже в сгустивших сумерках. — Я… я что-то замерзла. Я домой пойду.
И она засеменила в ближайший подъезд, из которого в эту минуту вышли двое мужчин, в которых, несмотря на штатское, безошибочно можно было признать сотрудников милиции. До Алёны и стоявших рядом с ней Марьи Юрьевны и Сергея Иваныча долетел обрывок разговора:
— Ну что, тело можно увозить. Да, это вполне может тянуться к следу, который взял Шамрай. Говорят, он сюда сейчас приедет. А пока, Кузьмин, нужно срочно связаться с кем-то из «Видео», может быть, там что-нибудь известно о его связях. Пошлите туда оперативников, я только не в курсе, до которого часа магазин работает.
— Вроде до двадцати одного, — ответил Кузьмин. — Я сам туда сейчас же подъеду, товарищ Спиридонов.
— Да вот девушка из «Видео» уже тут! — воскликнула в эту минуту Марья Юрьевна и ткнула пальцем в Алёну.
Дела давно минувших дней
В Петербурге я ударился в работу и спустя некоторое время собрал труппу из молодых актеров. Одной из них была моя Лиза, а следующей весной к нам должны были присоединиться и Васильевы. Мы прекрасно понимали, что с опытными труппами нам не тягаться, а потому искали для первых спектаклей провинциальные городишки, куда еще не дошла железная дорога, а значит, зрители там не избалованы петербургскими и московскими гастролерами. Мы рассылали письма председателям театральных обществ, и наконец — осень уже шла к концу! — получили ответ из города Вытегра — той же Олонецкой губернии, что и Петрозаводск. Там уже лежал снег… Решили ехать на санях и после нескольких дней пути оказались там, куда Макар телят не гонял!
Показывать свое искусство нам предстояло в клубе. Вид его был жалок… зал мог вместить чуть больше сотни человек, сцена маленькая, тесная, со скрипучими подмостками, в единственной артистической уборной стены покрыты плесенью. Но делать нечего, надо начинать работу! Пошли искать жилье. Однако никто не хотел сдавать нам комнат. Ответ был один: «У нас уже жили актеры — знаем!» Кое-как сняли целый верхний этаж в деревянном доме на самой окраине городка, но без какой-либо мебели. В складчину накупили на базаре деревянных столов и табуретов, сшили из мешковины «перины» и набили сеном. Сговорились, что хозяйка будет каждый день варить нам горшок щей с мясом — сразу и первое, и второе.
Вот беда, никак не могу припомнить, с чего мы начали репертуарный план и что вообще ставили. Жизнь в Вытегре вообще не стоило бы запоминать, до того она была унылая и безрадостная, кабы не одно страшное происшествие, которое произошло примерно два или три месяца спустя.
Итак, мы готовили свои постановки сами — в полном смысле этого слова. Афиши писали от руки — типографии в Вытегре не было. Декорации рисовал я на кровельном картоне. Сажа, мел, желтая и красная охра — вот все, что было в моей палитре. На прочие краски не хватало денег.
Театрального парикмахера, конечно, не имелось. Мы привезли с собой несколько париков, но их не хватало. Научились делать сами. Парики в те времена выклеивали на папье-маше, они получались тяжелыми, с твердым, словно деревянным, лбом. Чтобы соединить твердый лоб парика с живым и подвижным лбом актера, приходилось наклеивать полосу из тесьмы и густо замазывать шов гримом. Гримировальные краски мы варили на свином жиру сами. От местного цирюльника получали волосы для париков. Но вышить бороду на тюле, как делают мастера гримировальных дел, мы не могли. Я додумался: нарезал волосы и клеил их в несколько рядов на щеки и подбородки моих актеров. Отдирали такие бороды со слезами…
Мы привезли с собой несколько «исторических» костюмов, которые видоизменялись удивительно изобретательно. Надела актриса на обыкновенное городское платье «испанский перед», расшитый стеклярусом, — вот уже костюм не то эпохи Возрождения, не то стиля ампир. Обыкновенный сюртук с накинутой на плечи небольшой пелериной мог фигурировать в самых разных эпохах.
Спектакли давали три раза в неделю. И все время новые! Это была страшная, потогонная, изнурительная работа, но жителей Вытегры назвать театралами можно было только в бреду. Мы с горькой усмешкой вспоминали время, когда зрительный зал казался нам маленьким. Он наполовину пустовал и теперь чудился большим и унылым…
Наши щи становились все более постными, а потом и вовсе перестало хватать денег на мясо. Да и осточертели нам эти щи! Так хотелось чего-нибудь другого, вкусного, разнообразного… и как же страшно стыдно было мне перед моей молодой женой, которая молча, кротко терпела ту нищету, в которую я ее вверг!
Нашей единственной отрадой была сцена…
Как-то так вышло, что все те небольшие деньги, которые были у нее и у меня, ушли все на нужды моей мечты — театра. Мои товарищи просили жалованья — но мне нечего было выплатить им. Мы задолжали за квартиру. И в конце концов жить стало почти не на что. Раз появилось вдруг мясо на нашем скудном столе — потом я узнал, что Лиза тайком унесла в скупку серьги, подаренные ей матерью.
Вся душа моя перевернулась от злости на себя. Нищий, альфонс, живущий на счет молодой жены! Лиза продала последнее, чтобы спасти и меня, и всю нашу труппу от голода, а я… а у меня в самом дальнем углу кофра лежит драгоценность, подаренная мне Эльвирой Михайловной.
Нет, я не могу! Это память о самом светлом, о самом прекрасном, что было в моей жизни…
«А разве не Лиза самое светлое и прекрасное в твоей жизни?» — словно бы спросил меня чей-то голос. Это был голос моей совести. Но голос памяти, голос незабываемого восхищения, голос страсти, которую я все еще испытывал к Эльвире Михайловне, заглушал его.
И вдруг… вдруг случилось вот что. Я увидел нашего артиста Боярова, который держал в руках бутерброд. На куске пышной белой булки лежал большой кусок горячей ветчины, а на ней — глазок яичницы. Бояров уплетал бутерброд, закатив от наслаждения глаза. Клубный буфетчик только что вынес бутерброды на свой прилавок, и Бояров не устоял — разорился на десять копеек.
Да, я могу употребить слово «разорился» в буквальном смысле. В ту пору десять копеек были для нас значительной суммой!
Все мы окружили Боярова и смотрели ему в рот. Но через две-три минуты у каждого было по такому же бутерброду. Какое это было духовное наслаждение — хоть на миг забыть о вечной экономии! Какое это было животное наслаждение — есть такую вкуснотищу!
Я взглянул на Лизу. Она ела бутерброд и плакала…
Серьги, материнские серьги!
Я едва не подавился недоеденным куском. Повернулся и выскочил вон, крикнув:
— Репетируйте без меня! Я скоро!
Спустя несколько минут, пролетев по пустынным улицам, я уже был около дома, где мы квартировали. Одна мысль билась в моей голове — немедленно отыскать припрятанный браслет Эльвиры Михайловны и живой ногой отнести его в скупку. Это дорогая золотая вещь. У нас будут деньги на оплату квартирного долга, я раздам жалованье своим товарищам, но первым делом я выкуплю серьги Лизы!
Наши дни
Интересно, кто вообще изобрел мобильную связь? Алёна Дмитриева этого не знала, но очень хотела знать. Она решила при первом же удобном случае выяснить это в Интернете и записать изобретателя в число своих покровителей и ангелов-хранителей. Если бы не его изобретение, которое заполонило и пленило мир, она бы имела нынче вечером очень бледный вид после того, как чрезмерно болтливая Марья Юрьевна натурально выдала ее представителям закона. Однако одновременно с ее предательским возгласом у одного из незнакомцев оглушительно, пронзительно, ну невероятно громогласно затрезвонил телефон, заглушив все остальные звуки, и Алёна, понятное дело, не стала дожидаться, пока Марья Юрьевна брякнет что-нибудь снова, а сочла за благо исчезнуть. Вот только что она стояла на этом месте, а в следующий миг ее не стало, и Марья Юрьевна с Сергеем Иванычем сколько угодно могли всплескивать руками или, к примеру, разводить ими, могли сколько угодно озираться или издавать невразумительные восклицания, поминая нечистую силу: Алёна свернула за угол и кинулась бежать по Ковалихе, озираясь в поисках какой-нибудь подходящей метлы, на которой она могла бы улететь отсюда домой. Метла не замедлила явиться в виде нагнавшего ее белого «Форда» с зеленым огоньком и желтым транспарантом на крыше, где было написано «Новое такси».
Кстати, услугами именно этого таксопарка Алёна постоянно пользовалась. И вот именно их машина сыграла роль метлы, какая удача!
Алёна махнула рукой, и метла встала перед ней, как лист перед травой.
— Поехали! — запрыгнула Алёна в салон. — Поехали…
Она замялась было, но тут же выпалила:
— Ресторан «Зергут» знаете? Туда поехали. Там меня подождете, а потом еще по одному адресу.
Такси рвануло по Ковалихинской в сторону Варварки. Алёна оглянулась. Какой-то человек бежал вслед за машиной, но это не был ни один из милиционеров, наверное, тоже хотел такси поймать, а Алёна из-под носа увела. А ведь ему, может быть, далеко ехать, а ей-то…
И тут Алёна подумала, что домой ехать было бы просто смешно. Тут пешком ходу каких-то десять минут — ну и зачем машину брать? Да и что ей делать дома? Сидеть снова ломать голову — теперь еще и над тем, кто убил несчастного Константина? Надо довести до конца начатое, узнать адрес Данилы. Предупредить его о случившемся. Теперь речь идет не только об удовлетворении Алёниного любопытства, а о человеческих жизнях. Сначала убили ювелира, потом — Константина. Неведомо, кому запланировано стать третьим в этом списке, может быть, Даниле? Он должен знать, что произошло!
Почему именно в «Зергуте» должны знать адрес Данилы? Да потому, что там работает его сестра Марина, а уж ее-то адрес администрации, факт, известен. Возможно, они живут в одном доме, возможно, нет, но уж Марина-то непременно поможет Алёне, когда узнает, что Даниле грозит беда.
Утвердившись в правильности решения, Алёна стала вспоминать свое паническое бегство с Ковалихи. Интересно, после столь внезапного исчезновения «девушки из «Видео» языкастая Марья Юрьевна доложила об этом сотрудникам милиции? И если да, не усмотрели ли они в факте сего исчезновения некоего криминального оттенка? А если да, то какие предпримут шаги? Окажись на их месте Алёна (а ей довольно часто приходилось оказываться на месте всевозможных следователей, прокуроров, адвокатов, оперативников и рядовых милиционеров, сочиняя свои детективы), она взяла бы у Марьи Юрьевны и Сергея Иваныча подробный словесный портрет беглянки и отправилась бы с ним в магазин, где собрала бы сотрудников и спросила, работает ли здесь дама с такими-то приметами, одетая так-то и так-то. Понятное дело, все сказали бы — нет, и это преисполнило бы представителей компетентных органов немалыми подозрениями. Однако менеджер по продажам Виталий не замедлил бы сообщить, что некоторое время назад вручил даме с такими приметами письмо от покойного Константина. Это усугубило бы подозрения товарищей Спиридонова и Кузьмина (вроде бы Алёна правильно запомнила их фамилии)… Очень может быть, что они возымели бы самые серьезные намерения относительно пресечения действий незнакомки в серой шубке с помощью самых крутых мер, предусмотренных законом…
«Вот еще только подозрений по совершению убийства мне не хватало, — подумала Алёна. — А впрочем, у меня алиби. Или нет? Я появилась в «Видео» примерно в то время, как бедную Варвару Петровну пришла навестить ее дочка Клара и обнаружила два мертвых тела. То есть я могла совершить это злодеяние, а потом идти отрабатывать алиби у Виталия… Теоретически возможно. Но невозможно практически: я была дома! Кто это докажет? Сусанна, с которой мы вместе выходили из подъезда. Еще тот парень, который на заборчике сидел, но я ж не знаю, где его искать в случае чего… да и вряд ли он меня вообще запомнил! Хотя я его откуда-то знаю, только не знаю откуда. И еще меня видел тот ужасный, с белыми волосами, он, конечно, как свидетель тоже не годится, да и расчудесно… брр, век бы его не вспоминать! Ладно, спокойствие, только спокойствие. Может, доказывать алиби и не понадобится. Во-первых, меня Марья Юрьевна вряд ли до такой степени разглядела, чтобы дать нормальное описание, во дворе темно было. Но сыскарям довольно будет, что я якобы из «Видео», а там Ира, которая глядела на меня так ревниво… Ревнивый глаз — два раза алмаз! Она меня обрисует во всех деталях. То есть мое описание у милиции будет, а и мои фото, и мои описания в базе данных имеются, и уже давно — сколько раз я вмешивалась в разные ужасные дела и сколько раз меня считали если не прямой их исполнительницей, то уж факт — соучастницей? Много раз это было, и это тоже факт. Ну и ладно, они выяснят мою личность и поймут, что я тут совершенно ни при чем, не могу быть при чем, просто вечно оказываюсь там, где не надо, вернее, там, где надо, — и отвяжутся. А если не отвяжутся? Ну, в крайнем случае меня отобьет Лев Иваныч Муравьев… а он все же начальник следственного отдела городского УВД, с ним посчитаются даже самые подозрительные! И хоть он меня терпеть не может, все же немало пользы поимел благодаря мне. Сколько преступлений раскрывала я, можно сказать, одним только напряжением мысли? Очень даже немало! [16]
То есть я отобьюсь от обвинений, в этом можно ничуть не сомневаться и даже беспокоиться об этом не следует. А вот о чем следует беспокоиться, так это о том, что силы правоохранительных органов будут отвлечены на мои поиски, в то время как им, силам, следует быть сосредоточенными на розысках подлинного убийцы. Вернее, подлинной…»
Алёна похлопала по боку сумки, в которой лежала тетрадка, а в тетрадке — фото сумрачной женщины в куртке, фото, сделанное в «Шоколаде».
Может, позвонить Льву Иванычу и сказать, что у нее есть фотка некоей женщины, а у некоей женщины есть ее браслет…
Нет. Прежде чем звонить Льву Иванычу, фигурально выражаясь, надо сначала хорошенько накушаться гороху, как говаривал Гарик Черноиваненко, наилюбимейший герой наилюбимейших книг детства и юности Лены Володиной (как давным-давно звалась наша героиня) «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи», принадлежащих перу Валентина Катаева, наилюбимейшего писателя и Лены Володиной, и Елены Ярушкиной, и Алёны Дмитриевой. А выражаясь не фигурально, прежде чем Муравьеву звонить, нужно набраться немало терпения и иметь массу времени, потому что Лев Иваныч недоверчив в принципе, а главное, его страх как ломает перспектива в очередной раз признать правоту такой вздорной дамочки, каковой он считает — и не без оснований, прямо скажем! — Алёну Дмитриеву. Поэтому он будет всяко выёживаться, слушая ее, и делать вид, будто ничему не верит. Но времени убеждать его уже нет. Оно как-то незаметно перевалило за семь вечера. К девяти же Данила пойдет туда, где ему, очень может статься, уготована участь и его брата, и Константина.
Надо его предупредить? Надо!
Алёна посмотрела было в окно, чтобы определить, где она находится и далеко ли еще до «Зергута», как вдруг обнаружила, что машина стоит, а водитель сидит вполоборота и смотрит на свою пассажирку с полуулыбкой.
— В чем дело? — проговорила Алёна холодно. — Почему стоим? И что, с позволения спросить, вас так развеселило?
Неприветливость ее объяснялась не врожденной невоспитанностью (насчет манер у нашей героини было все вполне о’кей, и при надобности она могла блеснуть своей светскостью хоть на королевском приеме!), а тем, что она терпеть не могла быть застигнутой врасплох, оказаться в неловкой ситуации. И игривый взгляд симпатичного таксёра показался ей, погруженной в очень невеселые размышления, совершенно неуместным. Вообще эта братия — народ совершенно непредсказуемый. Во-первых, все как один обожают жаловаться на судьбу и свой таксопарк. Во-вторых, дико преувеличивают рост цен на бензин, и без того фантастический. В-третьих, не упустят случая с помощью клиенток устроить свою личную жизнь. Не описать словами, сколько раз наша героиня получала от водителей такси самые банальные и тривиальные предложения, совершенно не давая к таким вольностям ни малейшего повода! А один раз ей даже предложили выйти замуж — не столь давно, всего какой-то месяц назад, когда она от скуки стала спорить с водилой, который беспрестанно болтал и беспрестанно цитировал Пушкина, столь варварски перевирая цитаты, что даже не возникало охоты порадоваться его эрудиции. Алёна, которая Пушкина обожала и в самом деле знала довольно-таки хорошо (совсем хорошо его знать, как она была убеждена, просто нереально, потому что это бездна поглубже Марианской!), начисто уничтожила его поправками, но бедняга не обиделся, а напротив — впал в неконтролируемое восхищение, мигом влюбился и позвал Алёну замуж. Он не знал, что наша героиня, дважды побывав замужем, сделалась принципиальной противницей семейной жизни, тем паче с мужчинами своих лет и старше, зато превратилась в активную сторонницу недолговечных связей с гораздо более молодыми мужчинами… среди которых, к слову сказать, не было ни единого представителя славного племени вращателей баранок. Так что и этот довольно симпатичный седоволосый и темноглазый мужик напрасно улыбался ей, совершенно напрасно!
— Стоим потому, что приехали, — ответил водитель. — Вон он, «Зергут». А улыбаюсь потому, что мне было на вас очень приятно смотреть.
— Да почему же вы мне не сказали, что приехали? — возмущенно воскликнула Алёна. — Почему сидели и таращились?!
— Не сказал потому, что вы так глубоко задумались, что ничего не замечали вокруг, — пояснил водитель. — И я не хотел нарушать вашу задумчивость. А таращился потому, что любовался.
Другая женщина при этих словах или улыбнулась бы ответно, или глазки состроила, но Алёна и бровью не повела.
— Вообще-то, я спешу, и мне некогда услаждать ваши взоры, — ответила она сурово. — Сколько с меня?
— Да вы же вроде еще куда-то собирались ехать, — вкрадчиво напомнил водитель. — Здесь другую машину не так просто поймать… Они обычно ближе к полуночи подъезжают. Разрешите вас подождать? Обещаю больше на вас даже не глядеть, если вам это так неприятно!
— Договорились, — буркнула Алёна, выбираясь из такси. — Подождите здесь, я думаю, что вернусь быстро.
И тут ей показалось, что машина как-то странно заскрежетала, застучала и даже подпрыгнула.
— Спи, моя радость, усни! — вдруг во весь голос запел водитель. — Глазки скорее сомкни! Спи, моя радость, усни!
Алёна обернулась и поглядела на него дикими глазами. Потом нагнулась и взглянула на счетчик. Вынула пятисотку и подала водителю:
— Прошу вас, возьмите. Сдачи не надо. Я могу задержаться, не стоит меня ждать. Вы можете упустить хороших клиентов, которые любят сольное пение. Всего наилучшего.
И, не дожидаясь ответа, быстро пошла к двери ресторана. У нее сегодня есть дела поважней, чем разъезжать с чокнутым водилой в припадочной машине, пусть она даже и принадлежит уважаемому парку «Новое такси»!
В это самое время человек, который насквозь замерз в своей короткой куртке, подкарауливая Алёну около ее подъезда, услышал звонок своего телефона и с облегчением вытащил его из кармана.
— Я не пойму, куда она делась, — без предисловий выпалил знакомый голос. — Ладно, уходи оттуда. Времени мало осталось. С этой чертовкой завтра разберемся.
Человек удовлетворенно кивнул и, передернув озябшими плечами, радостно подумал: «Давно бы так!»
Однако голос его звучал сдержанно:
— Как скажешь. Ухожу, значит. Завтра так завтра.
Дела давно минувших дней
Итак, я подбежал к дому. Просунув руку в нарочно вырезанное окошечко в калитке и подняв щеколду, вошел во двор. Дверь в дом оказалась заперта. На ней висел замок. Видимо, хозяйка наша ушла на рынок — она ведь знала, что в это время мы всегда в театре.
Я растерянно огляделся, не возвращается ли она, вышел со двора и немного прошелся по улице до угла. Вдруг увидел, что в глухом проулочке, в который выходил хозяйский огород, около забора, стоят розвальни, запряженные усталой лошаденкой. Вожжи были переброшены через щелястый забор, доска в том месте оказалась свежесломанной, как будто здесь кто-то пытался перелезть.
Я рассеянно поглядел на сугробы, затянувшие огород, и вдруг увидал следы, тянущиеся к дому.
Странно. Получалось, что кто-то приехал к дому, но вместо того, чтобы войти через калитку так же просто, как это сделал я, решил перелезть через забор и…
И куда он делся потом?
На дорожке, покрытой свежевыпавшим снежком, не было ничьих следов, кроме моих. Я обошел дом, оглядел окружавшие его сугробы… следов, ведущих из дома, не было видно.
Так неизвестный, значит, в доме? Пробрался туда тайно… но зачем? И как?
И тут же я увидел, что приотворена задняя дверь. Вот как он попал внутрь…
Я осторожно взошел на косое заднее крылечко, изо всех сил стараясь, чтобы не скрипнула ни одна ступенька. И тут же услышал, что они скрипят надо мной — неизвестный человек спускался по черной лестнице как раз из наших комнат!
Я прижался к стенке в самом темном углу и увидел, что мимо проскочил высокий молодой человек: высокий, сильный, с непокрытой темноволосой головой, лет двадцати, не больше. Он мне кого-то очень напоминал, только я не мог понять, кого именно.
Он стремительно выскочил на крылечко и кинулся по своим следам к забору. Вид его был настолько яростен и грозен, что я замер. И, наверное, я вот так трусливо и топтался бы, таясь в полумраке сеней, когда бы незнакомец не повернулся ко мне боком и я не увидел, чтоон сжимает в руке.
Это был плотно свернутый синий шелковый платок.
Платок Эльвиры! А в нем браслет!
Кровь бросилась мне в голову. Он украл последнюю память о моей неизбывной любви! Украл наше последнее достояние! Последнюю надежду спастись от голода!
Я вылетел из дома и помчался по огороду вслед за ним. Перескочил через забор и впрыгнул в его сани как раз в то мгновение, когда он уже понукнул лошадь. Я навалился на него сзади, закинув руку через его шею. Он качнулся… мы не удержались и упали навзничь. Санки были полны сеном, так что спиной я не ушибся, но как тяжело он рухнул на меня и вдавил в сани!
Дыхание мое сперло. Я не мог шевельнуться и каждое мгновение ждал, что он повернется и накинется на меня. Но он лежал неподвижно, а между тем лошадь неслась во всю прыть и уже свернула к дальним огородам и небольшой заснеженной рощице. Я со страшным усилием сбросил с себя неподвижное тело и поглядел на вора.
Он лежал, странно вывернув шею, спокойно глядя куда-то вдаль черными погасшими глазами.
Не сразу я понял, что незнакомец мертв. Я убил его… сломал ему шею!
В ужасе я рванулся было из саней, потом сообразил, что могу разбиться на скаку. Поймал вожжи, с превеликим трудом остановил лошадь. Чуя мертвого, она билась и хрипела, потом устала, поникла…
Я бросил вожжи и дрожащими руками вынул у мертвого из-за пазухи синий сверток. Вслед выпал короткий нож с плоским лезвием и загнутым обушком, называемый среди воров финкой. Финны же зовут его «пуукко». За ним потянулся клетчатый носовой платок, завязанный узелком.
Нож я не тронул, он внушал мне ужас!
Я развернул синий платок Эльвиры и несколько мгновений любовался красотой браслета. Я поймал себя на том, что безотчетно улыбаюсь от счастья, что снова смотрю на него, что он здесь, его не украл этот страшный человек.
Зачем?! Почему украл только браслет? А впрочем… В наших пожитках вору больше нечем было поживиться…
Впрочем, разгадка этой тайны не так уж волновала меня в ту минуту. Гораздо важней было как-то выпутаться из этой истории. Я убил человека… да, вора, грабителя, разбойника, да, убил нечаянно — но убил.
Казематы крепости, безжизненные просторы тундры или недра каменоломни, звенящие кандалы вообразились мне. Я буду осужден и сослан в каторгу, мне придется сказать искусству бесповоротное «прощай», а моя бедная Лизонька вечно будет носить на себе клеймо — «жена убийцы».
Не бывать этому!
Отчаянная жажда жизни, свободы проснулась во мне. Я сунул сверток с браслетом в карман, огляделся. Вокруг пустынно… Я спрыгнул с саней и, взяв кнут, с силой хлестнул лошадь.
Она понеслась с безумной быстротой, а я почти так же быстро — в меру моих сил, конечно, — побежал к городским улицам.
Пока я бежал, что-то брякало и звякало в моем кармане. Сунул туда руку — и обнаружил не только синий сверточек с браслетом, но и носовой платок неизвестного. Развернул его — и не удержался от ошеломленного возгласа: в нем было штук десять золотых червонцев!
Я смотрел на них как зачарованный. Этот человек хотел ограбить меня, а вместо этого пал моей жертвой. Он хотел лишить меня последней ценности, а вместо этого оставил мне деньги…
Сознаюсь, что мысль брезгливо отбросить золото в снег меня не посетила. В снег я отбросил только платок вора. А золото положил в карман и как можно скорей направился в город, к закладной конторе. Этим вечером материнские серьги снова сверкали в Лизиных ушках, а нашей нищете пришел конец. Но когда встал вопрос, оставаться ли в Вытегре на второй сезон, я первым высказался против.
Наши дни
В нижнем зале «Зергута» было пустовато. Ну да, Зоя упоминала, что основная публика собиралась здесь ближе к началу программы. Вот и вчера — да боже мой, неужели Алёна была здесь только вчера?! А сколько событий накрутилось-навертелось! — вот и вчера еще, даже и в восемь, было довольно свободно, а потом вдруг одномоментно сделалось не протолкнуться.
Алёна миновала скучающего, полудремлющего охранника каких-то невероятных габаритов что в вышину, что в ширину, и подошла к столь же скучающему, полудремлющему гардеробщику. Глаза его на миг ожили, а руки профессионально протянулись к ней — помочь снять шубку, однако тут же не менее профессионально оценили, что снимать ее дама явно не собирается, а значит, не клиентка, а значит, напрягаться ради нее не стоит и можно даже глаза прикрыть. Так что гардеробщик вновь погрузился было в свой временный анабиоз, однако Алёна пресекла его вопросом:
— Скажите, где я могу найти кого-нибудь из администрации? У меня срочное дело.
— А что такое случилось? — Гардеробщик приоткрыл один глаз. — Пожаловаться на обслуживание, что ли? Вон там старший официант, вон, салфетки считает, к нему обращайтесь. — И он ткнул пальцем в сторону каморки с надписью «Бельевая».
— Да нет, я совсем даже не жаловаться. Мне все очень понравилось, — улыбнулась Алёна. — И вино, и мясо, и качество обслуживания. И программа великолепная. Просто мне нужно кое-что уточнить у… у администрации.
— Администрация — понятие растяжимое, — снова смежил веки невозмутимый гардеробщик. — Есть хозяин ресторана. Есть директор. Есть замдиректора по организации питания, есть зам по кадрам, есть зам по обеспечению, есть зам по культуре…
— Вот! — обрадовалась Алёна. — Мне нужен зам по культуре!
— Ну, я зам по культуре, — раздался ленивый голос за спиной.
Алёна обернулась и обнаружила, что голос этот принадлежит тому самому охраннику, который давеча поразил ее своей статью. Она вдруг вспомнила, как Наташа Ростова, описывая матери свое впечатление от Пьера Безухова, говорит: «И он четвероугольный». Вот такой же четвероугольный был этот парень. И он зам по культуре?! Ну, это вряд ли!
Алёна улыбнулась, показывая, что оценила шутку, но охранник оставался серьезен:
— Не верите? Думаете, если я зам по культуре, то должен выглядеть как какой-нибудь этот… офисный планктон? Я две должности совмещаю, только и всего. У вас какие-то предложения по программе? Вы чей менеджер?
— Ничей, — покачала головой Алёна, размышляя над многозначностью слова «менеджер», которое ее нынче просто достало. — Вы имеете в виду, что я чей-то администратор и предлагаю вам чей-то номер? Нет-нет, я сама по себе, я хотела…
— Вы сами предполагаете выступать? — вытаращил на нее глаза необъятный зам по культуре. Глаза у него, кстати, оказались непропорционально малы по сравнению с общей кубатурой и, даже вытаращенные, напоминали две едва прорезанные щелочки. — И что у вас? Русские романсы? Песни нашей юности? Бардовские песни? Извините, это не пользуется спросом в ночных клубах, здесь нужно хорошее гоу-гоу или отъявленный стриптиз…
Выражение «отъявленный стриптиз» Алёне очень понравилось! И она взглянула на четвероугольного зама по культуре более снисходительно.
— Нет, я выступаю, если так можно выразиться, в другом жанре, — улыбнулась она. — Сейчас я по совершенно бытовому вопросу.
— А тогда вам к заму по обеспечению, — подал голос гардеробщик и похлопал себя по груди. — Это я, будем знакомы.
— Будем, — кивнула наша героиня. — Меня зовут Алёна Дмитриева, и мне срочно нужно узнать телефон или адрес Марины… не знаю, как ее фамилия, но эта та девушка, которая выступает у вас со стриптизом.
Произнеся эту тираду, она улыбнулась заму по культуре, однако он остался вполне прохладен к этой незамысловатой лести и улыбкой не ответил, а напротив того, нахмурился:
— А зачем вам ее телефон или адрес?
— Для очень важного дела, — уклонилась Алёна от прямого ответа. — Поверьте — очень важного.
— А конкретней? — настойчиво сказал зам по культуре.
Алёна вздохнула, представив, как начнет сагу о подмененном браслете, который раньше побывал в руках Лехи, который был братом Марины, которая была сестрой Данилы…
Иногда нет ничего нелепей правды.
— Это долгая история, — сказала она устало. — Но речь идет о жизни и смерти, можете мне поверить.
— Вы откуда? — спросил вдруг охранник, он же зам по культуре. — Я не узнаю вас в гриме. Из «Пеликана»? Из «Попугая»?
— Не поняла, — изумилась Алёна, вспомнив при слове «попугай» замечательный мультик «Рио» и мимолетно улыбнувшись этому воспоминанию. — При чем тут тропические птицы?
— Из «Пенного клуба»? Из «Визарда»? — не унимался охранник по культуре.
При этом последнем слове до Алёны дошло, что ее принимают за сотрудника другого ночного клуба.
— Да нет, господа, я писательница, я книжки пишу, детективы… — начала было она объясняться, но гардеробщик презрительно фыркнул:
— Дмитриева? Писательница? Не знаю такой! Моя жена на детективах помешана, у нас дома ступить негде, всюду валяются книжки: Маринина, Полякова, Донцова, Устинова, Калинина, Романова… Дмитриевой нет!
— Да, может, оно и не так плохо, — утешила его, а вернее себя, Алёна. — Не суть важно, знаете вы меня или нет, просто дело в том, что…
— Дело в том, что вы от нас Маринку хотите в свой клуб переманить, тут все ясно, и к гадалке не ходи! — медленно, веско и грозно произнес охранник. — Решили схитрить? Вчера пришли, посмотрели… Во время выступления и в перерывах ее охраняют, после шоу за ней брат приезжает — не подступишься. Наврали с три короба! Если вы писательница, зачем вам координаты Маринки? Решили писать роман из жизни стриптизерш, что ли?
— И не только стриптизерш, но и стриптизеров! — подхватил гардеробщик. — Это же вы вчера спрашивали, как зовут нашего Золотого боя? Я вас вспомнил, даром, что одеты были по-другому. Думаете, в другой шубе пришли, вас никто не узнает? А я вот узнал! У меня знаете, какая память?!
— И у меня! — поддакнул охранник. — Я вас тоже запомнил. Главное, с подходцами такими: Виктором его зовут, да? А мы вам: нет, Сашкой! Нашли дураков, кто ж вам правду скажет! Мы еще вчера почувствовали, что здесь что-то нечисто! Что вы какую-то тюльку гоните! А сегодня — здрасьте, вам еще Маринка понадобилась!
— Погодите, — вдруг ослабевшим голосом проговорила Алёна, — значит, Золотого боя зовут не Александром?!
— От нас, — голосом киногероя из какого-то советского киношедевра отчеканил охранник, — вы ничего не узнаете. Лучше идите отсюда, пока я вас не выставил, писательница!
И он сделал некое телодвижение по направлению к Алёне, как бы намереваясь исполнить свою угрозу.
— Послушайте, — нетвердо сказала Алёна, у которой внезапно смешались мысли при известии о том, что вчера, вполне возможно, пред публикой обнажался вовсе не Дракончег, и она даже не тотчас вспомнила, зачем вообще сюда явилась и о чем спрашивала этих стойких замов по культуре и обеспечению. — Вы меня неправильно поняли. Я не представительница конкурирующей фирмы. Я ищу, собственно говоря, не Марину, а ее брата — Данилу. Ему грозит опасность. У них недавно погиб еще один брат — старший, и сейчас Данила тоже может попасть в ловушку. Уже сегодня вечером! Поэтому мне срочно нужен ее телефон…
— Слушай… — медленно проговорил гардеробщик. — А ведь, кажись, и правда писательница?
— Видать, что так, — согласился охранник. — Такого насочиняла! Так, женщина, последний раз вам говорю — идите отсюда подобру-поздорову! Все, кончен разговор!
Алёна посмотрела в его оловянные глаза — нет, ну в самом деле, гениальная метафора, вспомнить бы, какому писателю (однозначно, что не детективщику!) мы ею обязаны! — и поняла, что ничего здесь не добьется. Оба зама помешаны на сохранении профессиональных тайн. Это похвально, этим можно только восхититься… если бы уже не погибли двое и не стоял бы на очереди третий.
«Может, им денег предложить? — подумала Алёна цинично. — Взять и помахать парочкой голубых бумажек… Может, тогда их профессиональная преданность даст небольшую трещину?»
Но тотчас она вспомнила, что, уходя из дому, забыла пополнить боекомплект и сейчас у нее в кошельке лежала только тысяча. Двумя бумажками по пятьсот рублей, но одна. А ведь ей предстоит еще поездка на такси! Так что взятку бравым замам давать попросту нечем. К тому же не факт, что их можно соблазнить купюрами иного цвета, чем зеленый… как доллары и сотенные евро. Впрочем, наверное, красно-оранжевые — как евро пятидесятки — тоже имели бы успех. Но ими Алёна сейчас, увы, не обладала. Поэтому ей ничего не оставалось делать, только признать свое поражение и молча, не удостоив обоих церберов даже прощального взгляда, уйти.
Что она и проделала, а потом остановилась на крыльце, оглядываясь.
Как и предрекал давешний чудаковатый таксер, ни единой машины с зеленым огоньком в обозримом пространстве не было. Алёна достала телефон и вызвала из памяти номер, зашифрованный как «Нов такс», что означало — «Новое такси».
— Здравствуйте, Алёна Дмитриевна, — ответил девичий голос, и Алёна невольно улыбнулась. Телефоны и имена всех клиентов, кто хотя бы раз обращался в этот парк, имелись в базе, так что диспетчер сразу знала, кто именно звонит и по какому адресу он живет. — Куда подать машину? Домой, на Ижорскую?
— Нет, я на Ванеева, около ресторана «Зергут». Машина нужна прямо сейчас, чем скорей, тем лучше.
— Около ресторана «Зергут»? — растерянно повторила диспетчер.
— Ну да, а что такое?
— Э-э… ничего, просто у нас в том районе ни одной машины… все очень далеко, придется ждать минут сорок, вы согласны?
Алёна растерянно хлопнула глазами. Да что ж это на свете делается?! Чтобы машина «Нового такси» не явилась максимум в течение четверти часа? Да нет у Алёны этих сорока минут! Нету!
— Нет, не согласна, — сурово сказала Алёна. — Спасибо, я в другой парк по…
«Звоню» договорить она не успела, потому что диспетчерша вдруг воскликнула:
— Стойте! Есть машина прямо рядом. Белый «Ниссан» 654. Не успеете до десяти сосчитать, и он будет рядом. Счастливого пути.
И диспетчер отключилась.
— Считаю раз, — пробормотала Алёна, изо всех сил стараясь отвлечься от мысли о том, что у Дракончега тоже «Ниссан», правда, не белый, а черный, и этот черный «Ниссан» не единожды стоял ночью под ее окнами… а еще больше стараясь отвлечься от мысли о том, что больше «Ниссан» там стоять не будет… но ведь ты сама этого хотела, разве нет? — Да, — пробормотала она уныло, — то есть два, или нет, то есть три…
Рядом взвизгнули тормоза, и Алёна шарахнулась в сторону.
Белый «Ниссан» остановился рядом… «Новое такси», как всегда, оказалось на высоте! Алёна радостно улыбнулась, но тотчас улыбка слиняла с лица. Стекло в окне водителя опустилось, и на нее глянула знакомая симпатичная темноглазая физиономия.
— Ну надо же, — усмехнулся шофер. — Я говорил, не надо мне было уезжать, только суета лишняя.
Алёна пожала плечами. Да ладно, какая разница, в самом деле, ей ведь нужно как можно скорей добраться до места.
— Куда поедем? — бодро спросил водитель, открывая для нее дверцу впереди, но Алёна обошла машину и села на заднее сиденье.
— Пока прямо, — сказала она как можно суше. — Чуть позже уточню. Я… еще не решила.
— Да? — удивился водила. — А такой пожар по телефону устроили, прямо сил не было чуть подождать!
— А вы откуда знаете? Подслушивали служебные разговоры, что ли? — возмутилась Алёна.
— Да кто подслушивал? — возмутился он в ответ. — Мне сказали, чтобы поторапливался, потому что у вас ни минуты. А теперь не знаете, куда ехать.
— Я же сказала — прямо. А если вам не нравится это направление, пожалуйста, я выйду и закажу машину в другом парке. Такси «Сатурн», «Дешевое такси», «Само везет» — выбор, как вы понимаете, есть!
— Вы, может, не заметили, девушка, — ухмыльнулся таксист, — что все это время, пока вы ворчите, мы едем. И довольно быстро. Вот-вот доберемся до Советской площади. И очень скоро настанет то самое «чуть позже», когда вам придется определиться с маршрутом. Так что обдумайте его, ладно?
Алёна передернула плечами, решив не замечать «девушки». Вот еще только учителя от баранки ей недоставало! Хотя он прав. Уже пора что-то решить!
Что? Она не представляет, где искать Данилу. Надо ехать домой и успокоиться… Ну да, а потом до нее дойдут слухи, что парень погиб. Да нет, не дойдут, каким боком? Но это неважно! Ей собственное воображение не даст покою. Собственная, как ни тривиально это звучит, совесть. Могла спасти человеку жизнь, но не сделала этого.
Она не представляет, где искать Данилу вообще, но она знает, где он должен быть в девять вечера. Вот туда и надо ехать. Попытаться перехватить его, попытаться предупредить.
— Послушайте, — сказала Алёна, наклоняясь вперед, — вы знаете переулок Клитчоглоу?
Машина вильнула.
— Страсти какие на ночь глядя, — пробормотал водитель. — Это что такое, фамилия? Какой же, с позволения спросить, народности?! Самоедской? Неужто у нас в городе такой переулок есть?!
— Да вот вообразите себе. Что это слово значит, не имею понятия, а переулок находится между Арзамасской и Ильинкой, как раз на пересечении с улицей Крупской. Запомните, авось пригодится, вдруг туда придется по вызову ехать.
— Ну, посмотрим, что там за Клитчоглоу, — пробормотал водитель, поворачивая с Ванеева на улицу Белинского. — Как же нам теперь на эту Крупскую проехать, Горького-то перекрыта, когда только это метро выстроят?! Придется, видимо, через площадь Лядова…
Алёна уже не слушала его ворчания. Она изо всех сил пыталась убедить себя, что выбрала единственно возможный путь.
Причем она не намерена соваться ни в какую перестрелку. Она просто попытается предупредить парня об опасности. Если же дело примет рискованный оборот, придется все же звонить Льву Иванычу. Ничего, когда тугодум Муравьев слышит или чует разрывы снарядов и свист пуль, он смекает очень даже стремительно. Он вышлет кавалерию на подмогу шалой писательнице, как высылал неоднократно! Не далее как в прошлом году, зимой, отряд спецназа по его приказу даже штурмовал троллейбус девятого городского маршрута, в котором сидела Алёна рядышком с убийцей, уткнувшем ей в бок смертоубийственный ствол! [17]
Но, конечно, лучше все же обойтись без перестрелки. Алёна подрейфует по пресловутому переулку, увидит Данилу — благо переулок такой крохотулечный, что не заметить там лишнего человека просто невозможно, — уведет его на безопасную людную улицу, скажет все, что ей известно, возможно, получит в ответ порцию тех откровений, которых так жаждет, и спокойно отправится домой. И вычеркнет эту нервную страницу из своей памяти… нет, прежде опишет ее в романе, который надо было сдавать, можно сказать, уже вчера, а потом — вычеркнет!
Где-то неподалеку залаяла собака, и Алёна очнулась от размышлений.
Таксист нашел-таки подъезд к улице Крупской и сейчас медленно подъезжал к Арзамасской, пытаясь разглядеть, где находится искомый переулок с устрашающим названием Клитчоглоу.
— Здесь остановите, пожалуйста, — попросила Алёна, — я дальше пешком пойду.
— Да зачем же пешком, я вас довезу до этого, как его… напомните, пожалуйста, это название в моей голове не держится.
— Клитчоглоу, — усмехнулась Алёна, которая почему-то сразу запомнила название переулка. Наверное, потому, что была в нем некая тайна, что-то притягивающее и отталкивающее враз, за этим именем стояла какая-то история… почему-то ей казалось, что это история предательства, но ведь именами предателей не называют переулки… Или называют? С другой стороны, взять того же Якова Свердлова, к примеру… да и иже с ним… кто они, как не предатели русского народа?
«Ладно, хватит углубляться в неразрешимые проблемы истории! Когда вернусь, надо в Интернете поискать этого Клитчоглоу, кто он был, интересно? Может, никакой не пламенный революционер, а артист вообще!» — подумала она, а вслух сказала:
— Туда невозможно проехать, это одно название, что переулок, а на самом деле — тропинка в сугробах между домами.
— Что-то я там ни одного фонаря не вижу, — вгляделся водитель.
— Ничего, я разгляжу все, что надо, — бодрясь, сказала Алёна, размышляя, достаточно ли ярко светит ее мобильник, потому что фонарей в переулке Клитчоглоу, факт, не было. А как же она Данилу увидит?
Ну, наверное, там светятся окна домов, там есть лампочки над подъездами, но она что-то задержалась в этой машине, пора и идти.
Алёна протянула через плечо водителя очередную пятисотку, он рассеянно взял деньги, но сказал:
— Я вас провожу.
— Это еще зачем? — изумилась Алёна.
— Да не нравится мне этот ваш переулок, — угрюмо ответил он. — Доведу вас до дома, в который вам нужно, и все. А то какое-то место… криминальное. Негоже даме одной в закоулках шляться, да еще с такими названиями!
— А вы не допускаете, что у меня в этом переулке личное дело, а вы можете оказаться третьим лишним? — высокомерно спросила Алёна.
Он фыркнул, потом сказал смиренно:
— Тогда я вас подожду в машине. Закончите свои личные дела — и пожалуйте снова в такси. Я буду спокоен.
— Да вы что, нарочно решили мне мешать?! — так и взвилась Алёна. — Вам-то чего беспокоиться, не пойму?!
— Никаких личных дел у вас тут нет, а все это пахнет криминальщиной, — веско сказал водитель. — Вот того я и беспокоюсь.
Вообще-то, в проницательности ему было трудно отказать… Однако Алёна, понятное дело, совершенно не собиралась с ним соглашаться, тем паче что эта проницательность ее встревожила.
— Каждый понимает вещи согласно своей испорченности, — сказала она ехидно. — На самом деле у меня здесь свидание. И знаете, с кем? С молодым человеком. Со стриптизером из «Зергута». Я заехала в ресторан — вы сами видели! — заплатила охранникам громадные деньги за то, чтобы мне дали его адрес, и вот теперь я здесь. А вы меня невесть зачем задерживаете!
— Со стриптизером? — изумленно проговорил водитель. — Это из тех мальчонок, что перед бабами мудями трясут?
— Вообще-то, они в бандажах выступают, так что там ничего не трясется, — возразила Алёна, несколько озадаченная тем, какой скандальный характер принял разговор. — А что такого? Женщинам можно в стриптизе выступать, а мужчинам нельзя? Мужское обнаженное тело тоже может быть очень красивым.
— Да бросьте, какая там у нас красота, — пренебрежительно махнул рукой водитель. — А вот извините, стесняюсь спросить: вы ему дома сейчас сеанс стриптиза закажете? Или еще чего-нибудь?
— А это уж как получится, — самым распутным голосом сказала Алёна, которая любой ценой решила отделаться от этого навязчивого водилы. А главное — заставить его наконец уехать.
— И что, секс не исключен? — сдавленно спросил он.
— Я ж говорю, как получится!
Несмотря на серьезность момента, Алёну начал разбирать смех. Он что, влюбился, что ли? И теперь ревнует?!
А она — почему она сидит и теряет с ним время? В любом случае, несмотря на его могущие быть чувства, на роль претендента на ее чувства он никак не тянет!
— Ну ладно, — быстро сказала Алёна. — Мне некогда! Чао! — И проворно выскочила из машины, а потом со всех ног кинулась в проулок. Забежав за угол дома, приостановилась и осторожно выглянула: что он будет делать? Не ринется ли вслед за ней? И что тогда будет делать она? Как остановить этот его дурацкий рыцарский порыв?
Но водитель за ней не побежал. Правда, из машины-то он выбрался, но и попытки не делал преследовать Алёну — открывал багажник. Наверное, решил сделать какой-нибудь ремонт. Какая проза!
Алёна была несколько разочарована, хотя и пыталась скрыть это даже от себя.
Она еще немножко прошла между домами, прислушиваясь, не раздадутся ли сзади шаги, но все было тихо. Донесся звук захлопнувшегося багажника, потом, чуть потише, — дверцы, потом — рокот мотора.
Уехал.
— Вот и хорошо, — попыталась вздохнуть Алёна с нескрываемым облегчением, но почему-то не смогла. И со скрываемым — тоже. Вообще-то, ей стало очень не по себе.
Если уж днем этот проулок выглядел заброшенным и опасным, то что же сказать о нем ночном? Это было скопище непроглядной тьмы и теней, отбрасываемых домами и сплетением деревьев. Слабо светила луна, и это было, собственно, единственное освещение. Никаких фонарей и лампочек над подъездами не имелось вообще. Все окна оказались почему-то довольно плотно завешены, лишь кое-где пробивались зыбкие полосы света, и Алёна беспомощно всматривалась в темноту, совершенно озадаченная тем, как будет искать тут Данилу. Поднялся ветер, который погромыхивал каким-то оторванным железным листом и стучал голыми ветвями березы.
— Да я не только ничего не увижу, но и ничего не услышу, — пробормотала Алёна. — Он пройдет, а я и знать не буду!
Она попыталась сообразить, где стоял тот дом с заколоченным чердачным окном, о котором говорил Даниле покойный Константин и который вчера — неужели только вчера, а не пару столетий назад?! — она видела своими глазами.
Второй дом налево… а где сейчас лево, а где право? Она столько раз повернулась, озираясь, что потеряла направление… а приметного чердачного окна не видно…
Так, надо успокоиться, надо постоять, пусть глаза привыкнут к темноте.
Еще одно, что было проще решить, чем сделать, — это успокоиться. Алёну не оставляло ощущение холодного взгляда, устремленного на нее. Вернее, взглядов, потому что казалось, будто смотрят со всех сторон. Нет, это, конечно, ерунда, но так и чудилось, что из темноты вот-вот выступят какие-то… ужасные люди? Да это еще полбеды, а вот если нелюди…
— Ты спятила, — грубо сказала себе Алёна, но слова были подхвачены порывом ветра и заброшены в какой-то дальний сугроб, так что успокоить себя не удалось. Не оставляло ощущение, что вот-вот из темноты выйдут, протягивая к ней костлявые руки, какие-то многочисленные Клитчоглоу…
Вообще недурное название для призраков! Упыри, кадавры, клитчоглоу…
Все это было бы смешно, когда бы не было так страшно!
Алёна в панике оглянулась. Зачем она, дура такая, отпустила таксиста? Надо было взять номер его телефона, зашифровать в своем мобильнике на быстрый набор и держать наготове, чтобы сразу нажать на кнопку! Вообще не надо было его отпускать! Пусть бы стоял здесь, рядом, храбрый мужчина, неравнодушный к Алёне и неравнодушный к ее судьбе!
Было не просто страшно — было реально жутко. Хотелось к чему-нибудь прижаться спиной, чтобы хотя бы сзади не сверлили спину эти пусть воображаемые — Алёна это прекрасно понимала! — но такие ощутимо враждебные и опасные взгляды.
Данила, ну где же он?!
Алёна посмотрела на светящийся циферблат своих часов.
Так, 20.45. Данила появится вот-вот. Осталось набраться еще совсем чуточку храбрости. Вот и луна вышла из-за туч, стало почти светло…
Да, стало настолько светло, что Алёна могла разглядеть, как к ней медленно приближается человеческая фигура.
Данила? Она шагнула было вперед, но тут же замерла.
Это не Данила. Это тот самый человек, которого она уже видела сегодня — в своем дворе!
Высоченный, в том же тулупе мехом наружу, с черной покойницкой повязкой на лбу, с белыми растрепанными волосами и багрово-красным лицом. Его глаза были наполнены лунным светом, и если бы Алёна сейчас могла думать, она подумала бы, что это самое страшное, что она видела в жизни: неживые, мертвенно-белые, опаловые глаза…
«Он идет ко мне, я ему нужна… он меня убьет…» — подумала она так же вяло и безжизненно.
Да не раздумывать надо было, а кинуться прочь, но даже на это Алёна оказалась сейчас не способна: качалась на онемевших, подгибающихся ногах, не дыша смотрела, как приближается к ней кошмар, и чувствовала, что сердце пропускает удар за ударом.
«Я умру от страха прежде, чем он до меня дотронется», — почти спокойно, словно не о себе, подумала Алёна и попыталась закрыть глаза, чтобы хоть как-то спастись от надвигающегося парализующего ужаса, но даже веки отказывались ей подчиняться.
Тишина, тишина такая стояла вокруг, словно и ветер стих, словно все на свете замерло, и не дышало, и уже готовилось к смерти…
Вдруг, в одно мгновение, все изменилось. Донесся какой-то негромкий, ритмичный, нарастающий стук, а потом… перед Алёной появилась огромная собака. Не издав ни звука, она метнулась на ужасного человека и прыгнула на него. Лязгнули челюсти у самого горла, человек, тоже беззвучно, начал заваливаться навзничь…
Как только его взгляд оторвался от Алёны, она мигом вышла, вернее, выскочила из кошмарного оцепенения и кинулась бежать, не разбирая дороги. Она забыла, зачем сюда пришла, забыла, что сделала это ради спасения чьей-то жизни, — сейчас она бездумно пыталась спасти свою жизнь, потому и бежала со всех ног туда, где темнел проход между домами… выход на улицу, где машины, трамваи, люди, жизнь, где улицы носят нормальные названия — Арзамасская, Ильинская, Пять углов, Красносельская… пусть даже Горького, пусть даже Крупской, только бы подальше от неведомого Клитчоглоу!
Сзади раздавался шум, тяжелое дыхание, стоны и рычание. Человек боролся с невесть откуда взявшейся собакой, спасшей Алёне жизнь!
«Если выбегу, позову на помощь», — подумала она, ускоряя шаги, как могла, но тут нога ее, совершенно как утром, соскользнула с сугроба, и Алёна въехала сапогом в стекло маленького окошка, почти заваленного снегом.
Задребезжала облупленная рама. Отдернулась белая кружевная занавеска, и снизу, через стекло, на Алёну глянуло изумленное женское лицо… она его уже где-то видела…
Собака громко залаяла — Алёна быстро обернулась и увидела, что человека на дорожке больше нет, слышно только удаляющееся паническое повизгивание, а собака несется куда-то через заборы, проваливается в сугробы, но стремится вперед, изредка злобно взлаивая, — наверное, пытается его преследовать.
Алёна перевела дыхание.
В это время стекло задребезжало сильнее, Алёна опустила глаза и увидела, что почти у самых ее ног открывается форточка, а потом женская фигура там, внизу, тянется на цыпочках, приникает к форточке и высовывается с недоверчивым восклицанием:
— Алёна Дмитриева? Да вы ли это?!
Алёна присела на корточки и с изумлением уставилась на столь же изумленное лицо… Секлиты Георгиевны, продавщицы из «Клеопатры»!
— Секлита Георгиевна? — пробормотала она тупо, приходя в ужас от навалившейся догадки. — Что вы здесь… что вы здесь… — От нового прилива страха ею снова начал овладевать столбняк.
— Что я здесь делаю? — засмеялась Секлита Георгиевна, этим милым смехом мигом отгоняя все нелепые, пугающие Алёнины подозрения. — Живу! Всю жизнь здесь живу, сколько себя помню. Вам странно, да? Вы думаете, все уже в новые дома перебрались? А вот нет! Я здесь, видимо, так жизнь и окончу. И родители мои здесь жили, и дед с бабушкой, и прадеды тоже. Конечно, сейчас наш дом превратился в развалину, но раньше он был совершенно другим. Так что я здесь живу, а вот вы что здесь делаете?
Алёна растерялась. В самом деле, что?
Она не знала, как ответить, и, конечно, только в том шоке, который она испытала, можно было ляпнуть то, что ляпнула она.
— Секлита Георгиевна, я вам книжку принесла! — вскричала Алёна, выхватывая из сумки приготовленный в подарок покетбук. — Извините, что в мягкой обложке, твердые у меня что-то… как-то… все уже куда-то…
— Вы мне книжку принесли? — ошарашенно пробормотала Секлита Георгиевна. — Но как же вы узнали, где я живу?!
На этот вопрос у Алёны не было ответа. Она лихорадочно попыталась что-то придумать, но что вообще тут можно было придумать?! И тут вдруг за спиной раздались торопливые шаги.
Она в панике обернулась, готовая опять увидеть то же порождение кошмара, но это был другой человек — не такой высоченный, более стройный, помоложе, не в овчине, а в куртке… Чуткого носа Алёны коснулся легчайший запах скипидара…
— Данила! — воскликнула она радостно. — Данила, постойте! Я вас жду, мне надо…
Парень запнулся, недоверчиво уставившись на нее, потом вдруг повернулся — и бросился бежать, причем с такой скоростью, как будто Алёна была не Алёна, а тот кошмарный ряженый, который маячил здесь только что. Алёна даже оглянулась на всякий случай — не материализовался ли он рядом вновь? — но кошмарного чудовища не было, слава богу, собака его отогнала так же надежно, как вторые петухи отогнали Вия со всем прочим сонмищем нечисти.
Данила убегал. Алёне не оставалось ничего другого, как броситься за ним.
— Погодите, Алёна Дмитриева! — испуганно кричала из своего «подземелья» Секлита Георгиевна. — Куда же вы?! А книжки?!
А книжки… в самом деле!
Алёна одним прыжком вернулась к окну, сунула книги в форточку и снова бросилась за Данилой, но того уже и след простыл. По тропе Алёна проскочила на какую-то улицу, споткнулась от страха, что заблудилась, это была не Арзамасская, но тотчас поняла, что находится на Ильинке.
— Данила! — крикнула она еще раз в никуда, но улица была пуста, только откатывался от остановки трамвай.
Да, теперь Данилу не догнать…
— Да что ж это такое? — возмущенно прошептала Алёна. — Хочешь спасти человеку жизнь, рискуешь собой, а он от тебя сломя голову…
Ну, теперь ей ничего не оставалось, как сесть в очередной трамвай, который очень кстати подошел к остановке, и ехать домой.
Что она и сделала. Ее трясло от неизжитого страха, от которого, Алёна это чувствовала, она избавится не скоро. Какой ужасный этот… в шкуре… а лицо!.. «А лицо на нем было железное», — вдруг вспомнила она из гоголевского «Вия», и стало чуточку полегче от грамматической нелепости этой классической фразы. Вот только воспоминание о том, как она сунула книжки в форточку, чуть ли не в лицо добрейшей Секлите Георгиевне, грызло душу.
«Да, — уныло подумала Алёна. — В «Клеопатру» мне теперь, конечно, ни ногой после такой-то позорухи…»
Трамвай тащился еле-еле. Алёной снова начал овладевать страх. Остановка в полукилометре от ее дома. Как она пройдет это расстояние? Дергаясь, озираясь и чуть ли не падая в обморок при каждом звуке за спиной?
«А лицо на нем было железное…»
Кончилось все тем, что Алёна снова позвонила в почти родное «Новое такси» и вызвала машину на Черный пруд, к которому вот-вот должен был подъехать трамвай.
Очередной белый «Ниссан» явился без задержки, даже чуть опередил трамвай. Алёна ничуть не удивилась бы, окажись за рулем давешний чудаковатый водила, но она ошиблась: там сидел маленький, скромный, тихий и неразговорчивый парень.
Алёна попросила довезти ее до самого подъезда (хотя она обычно выходила перед воротами и дальше шла пешком через двор). Свет в подъезде уже горел на всех этажах, так что Алёна без приключений дошла до квартиры, вошла в нее — и, надежно запершись на все мыслимые и немыслимые замки и засовы, рухнула на диванчик в прихожей, пытаясь понять, что же это вообще с ней произошло нынче вечером и что теперь делать с Данилой, как его искать и искать ли вообще?
Одно утешало ее в этой нелепице — если он убежал, значит, хотя бы на сегодняшний день можно быть спокойной за его жизнь, потому что удирать с такой скоростью мог только безусловно живой человек!
Дела давно минувших дней
Я начал было вспоминать свою жизнь во всех подробностях, однако обнаружил, что в этой книге, которую я так медленно перелистываю, слишком много страниц. Никакой тетради не хватит, чтобы все их переписать, множество карандашей сотрется, а у меня — только один. Поэтому я пропущу очень многое, очень многие события. Скажу лишь, что деньги я берег как зеницу ока (но еще пуще берег я драгоценный браслет), а сам продолжал работать как проклятый. На другой год я собрал новую труппу, и мы опять отправились колесить по северным провинциям России, даже в Архангельской губернии побывали, в краях полярной ночи, такой, о какой в Петрозаводске и не слыхивали. Ни славы, ни капиталов не заработали, единственное, что приобрели, — это бесценный жизненный и творческий опыт, а еще я приучился видеть в темноте так же легко, как при дневном свете, что и помогает мне сейчас, когда я пишу эти строки.
А собственно, я напрасно говорю, что мы не приобрели славы. Я стал известен как весьма трудоспособный и интересный режиссер, а потому, когда еще через год некий господин Мерянский собирал антрепризу [18]в Новгород на Волхове, он благосклонно рассмотрел мои притязания. Правда, та наша гастроль тоже оказалась не слишком удачной, но все же прибавила мне известности.
Шли годы. Мы все так же кочевали по городам, играли в провинциальных театрах. Постепенно я смирился с мыслью, что провинциальная сцена станет моей сценой на всю жизнь, что не взлететь мне до высот Александринки или Малого театра… ну что ж, остается следовать девизу Юлия Цезаря: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме!»
Как только я принял для себя этот девиз, как отношение мое к работе изменилось. Нас с женой часто приглашали как актеров и меня как режиссера в большие и маленькие провинциальные города, и, когда однажды в антрепризе того же Мерянского мы оказались в Петербурге, в Василеостровском театре, я был так разочарован вялым и скучным сезоном, что с восторгом принял предложение приехать в Нижний, сформировать группу и вести режиссерскую работу. Знал ли я тогда, что отныне вся моя жизнь окажется связана с этим городом?
Жизнь и смерть…
Но не стоит забегать вперед.
В Нижний я приехал один — Лизу похоронил в Петербурге. Она сгорела от чахотки, угасла очень быстро. Говорят, что чахотка — болезнь русских учителей, добавлю — и актеров. У нашей братии два пути к концу: непробудное пьянство и чахотка. Только люди с несокрушимым здоровьем вроде моего выдерживают долго, а Лиза таким здоровьем отнюдь не обладала.
Я с трудом перенес эту потерю и долгое, долгое время не находил в себе сил даже разобрать ее вещи. Потом кое-как собрался с силами — немногие платья раздал по знакомым, а небольшой саквояж с письмами ее покойной матушки, с ее девичьими альбомами, списками любимых ролей взял с собой, думая, что когда-нибудь пересмотрю все это, вспомню былое не с болью, а со светлой, тихой печалью… И уехал в Нижний, стараясь внушить себе, что горе мое останется со мной, но жизнь идет, идет, идет…
Это повторял я себе в такт перестуку вагонных колес.
Я почему-то очень разволновался, когда извозчик на отличной лошади помчал меня от вокзала — точно предчувствовал, что этот город станет для меня особенным.
Миновали каменные ряды складов и лавок уже окончившейся знаменитой ярмарки и въехали на деревянный плашкоутный мост через огромную реку.
Вот она, Волга! Я увидел ее впервые, и сердце мое дрогнуло от восхищения.
Справа была Ока, которая около Стрелки вливалась в Волгу. Буксиры тянули тяжелые барки, плавно двигался огромный колесный пароход, быстро бегали меж берегами «финляндчики» [19], сновали лодки.
А впереди, на крутой горе, вздымался Нижний, украшенный золотой осенней листвой и охваченный старой кремлевской стеной.
Настроение мое вмиг улучшилось. Это было неправдоподобно красиво и напоминало самые лучшие декорации, которые я только мог видеть в жизни. Чудилось, я попал в сказку…
Правда, когда извозчик провез меня по главной улице Нижнего, Большой Покровской, я увидел, что особо любоваться здесь нечем. Серый, грязный, скучный город, ничтожное уличное движение, жалкие магазины, очень дурные мостовые…
Театр тогда размещался в довольно большом каменном здании на краю Благовещенской площади. В первом этаже были торговые помещения и два больших гастрономических магазина. Один почему-то назывался «Пчельник», другой — «Муравейник».
Из мрачного вестибюля широкая лестница вела в партер. В зрительном зале было три яруса. Театр вмещал девятьсот зрителей. Сцена была очень большая.
Я своим глазам не верил, я был вне себя от восторга! Настоящий театр! Все, где я работал прежде, даже Василеостровский, казались по сравнению с ним сарайчиками. Про Вытегру и вспомнить смешно — вовсе сараюшка!
Какое мне дело до грязных улиц, до мостовой, лишенной там и сям булыжника, до жалких магазинчиков, когда в этом городе такой театр!
Наши дни
И эта ночь тоже прошла в сплошной маете, совершенно как и предыдущая. Однако под утро Алёна неожиданно заснула настолько крепко и глубоко, что проснулась совершенно отдохнувшей. Являвшаяся ближе к полуночи мысль все же «хорошенько накушаться гороху» и позвонить Льву Иванычу растаяла вместе с остатками темноты за окном. Ничего такого, из-за чего следовало бы беспокоиться самой и беспокоить випов уголовного розыска, не произошло. Вообще сейчас, утром, все, даже самое страшное, страшным не казалось. Так или иначе, она добилась главного: если Даниле вчера что-то угрожало, Алёна его вывела из-под удара. Гарун бежал быстрее лани. Вот и отлично. Может быть, впредь ему неповадно будет таскаться в темноте по всяким заведомо опасным закоулкам! Сама же Алёна в пресловутый переулок Клитчоглоу и носа больше не сунет, ни ночью, ни днем!
Тут она вспомнила, что собиралась посмотреть, что это за персонаж такой — Клитчоглоу, почему его имя дано переулку. Включила компьютер, пошла умываться и готовить завтрак. Пока совершались некие незамысловатые манипуляции, комп заработал, загрузился и был вполне готов к употреблению. Однако выйти в Интернет не удалось. Вообще значок связи со всемирной паутиной, который жил-поживал на нижней панели монитора, мертво синел вместо того, чтобы периодически подмигивать голубым глазом.
Вот же напасть!
Ну, натурально, Алёна позвонила по номеру 215—15–15 в Дом. ру, своему провайдеру, и долго-долго слушала, на какую кнопку надо нажать, если вы хотите уточнить баланс, заключить договор и сделать массу других нужных вещей, в том числе соединиться со специалистом. Однако сколько Алёна ни нажимала на необходимый ей ноль и не «оставалась на линии», ответ был один: «Все специалисты заняты, оставайтесь на линии, с вами обязательно переговорят». Алёна ждала, в трубке что-то покряхтывало… Потом электронный голос бодро порекомендовал оставить сообщение на автоответчике: «И вам обязательно перезвонят!»
Алёна терпеть не могла голосовую почту, но все же оставила сообщение и отправилась в душ с намерением позвонить попозже, но потом оказалось, что городской телефон замолчал.
Спасибо, что хоть мобильник работал, но лишь только Алёна набрала заветные 215-15-15, как раздался звонок в дверь. Пришлось нажать на сброс и отправиться выяснить, кто ее посетил.
— Кто там? — спросила она, отодвигая могучую металлическую задвижку на передней двери и приникая к глазку.
В глазке возник искусственно расплющенный оптикой тощий парень в какой-то зелено-синей робе поверх куртки.
Алёна недоумевающе подняла брови. Сантехник, что ли? У них в домоуправлении вечно менялись сантехники. Но у нее вроде все в порядке… Или, не дай бог, разразился всемирный потоп, а она и не заметила?!
— Дом. ру, служба сервиса, — скучным тягучим голосом сказал парень, зевая и прикрывая рот рукой. — У вас какие-то проблемы?
— А вы откуда знаете? — изумленно пробормотала Алёна. — Ах да, я же звонила… Но я даже вызвать никого не успела, как вы пришли?!
— Вы сообщение оставили, а я в вашем доме в 45-й квартире работал, ну и сказали заодно зайти к вам, посмотреть, в чем тут у вас дело. Так что, открывать будете? Вам специалист нужен или нет? — В его скучающем, тягучем голосе зазвучало нетерпение.
— Ой, конечно! — Алёна быстро повернула рукоятки всех замков и отодвинула очередной засов. Однако дверь не открывалась.
Да что такое?!
И тут Алёна вспомнила, что вчера, не опомнившись от страха, заперлась еще и на ключ изнутри, а ключ машинально сунула в сумку. Сумку же зачем-то унесла в комнату, хотя всегда оставляла ее в коридоре, на диванчике.
— Подождите, я сейчас ключи принесу! — крикнула она, припав к двери, но тут мобильник в ее руке завибрировал, а потом и зазвенел. — Да? Алло?
— Интернет «Дом. ру», Евгений, — бодро представился молодой мужской голос. — По поводу вашего сообщения. Я проверил — у вас все в порядке со связью. Было кратковременное прерывание, а теперь все нормально. Наверное, кто-нибудь случайно пощелкал в «шкафу» нашими переключателями. У вас ничего не ремонтировали в доме сегодня утром? А то наши смежники, телефонисты и телевизионщики, страсть как любят лазить в наши «трубы»!
— Да нет, только ваш товарищ из Дом. ру в 45-й квартире был, — сказала Алёна. — А теперь получил мою заявку и хотел ко мне зайти. Так я что, могу сказать, что все ок?
— Да мы к вам никого не посылали, — удивился Евгений.
— Ну я же говорю, что он работал в 45-й квартире. Просто узнал о моем вызове и зашел посмотреть, как тут и что.
— Кто работал в 45-й квартире?! — воскликнул Евгений. — По вашему дому заявок вообще не было, у вас у одной наш Интернет, все остальные работают по-прежнему или с «Волгой», или вот «Билайн» подключили две квартиры. Никого от нас там не может быть.
— Да я его своими глазами вижу, — усмехнулась Алёна, возвращаясь к двери и открывая глазок. — На нем форма сине-зеленая… Ой, — изумилась она, посмотрев в глазок, — ой, я его уже не вижу… наверное, ушел.
— На будущее, — снисходительным тоном промолвил Евгений, — у нас красно-белая форма. И имейте в виду — в последнее время участились случаи натурального разбоя со стороны конкурирующих фирм. Портят наше оборудование, прерывают связь, а потом являются их монтеры, которые устраняют ими же причиненные неполадки, а заодно и переоформляют договор в пользу своей фирмы. Судя по всему, вы чуть не стали жертвой мошенников.
— Свинство, — от души возмутилась Алёна. — Полное свинство!
— Совершенно согласен, — сказал Евгений. — Именно полное! Ну, всего доброго, звоните, если что. Даже если линия занята, оставьте сообщение, мы немедленно перезвоним.
— Я уже в этом убедилась, спасибо, — сказала Алёна, выключила телефон и снова посмотрела в глазок.
На площадке было пусто — в том пространстве, которое предоставлялось для обозрения. Алёна хотела было отпереть дверь и выглянуть, но вспомнила, что ключ так и остался лежать в сумке, а идти за ним было лень. Она подошла к балкону, который выходил во двор, задумчиво открыла его и вышла в застекленную балконную коробочку. Здесь было так же студено и сыро, как на улице, поэтому Алёна в одном халате мигом озябла, но все же подошла поближе к стеклу, посмотрела во двор и увидела высокого парня в короткой черной куртке, который в эту самую минуту свернул за угол дома. Но типа в сине-зеленой униформе не было.
— Ну и ну, — задумчиво сказала Алёна, размышляя о том, что рассказывал Евгений, и еще кое о чем, что сейчас пришло ей в голову. — Вот это борьба за клиентуру, вот это я понимаю…
Во двор вошла Сусанна-Сюзанна, которая, видимо, вчера осталась ночевать у сына и сейчас возвращалась домой. Алёна помахала ей сверху и вернулась в теплую комнату, закрыла балкон и оставила на улице мартовскую стужу. В такую погоду особенно уютно сидеть за компьютером… что Алёна и сделала немедленно, выйдя в Интернет и написав в поисковике загадочное слово «Клитчоглоу». И снова сказала: «Ну и ну!» — потому что это и в самом деле оказалось именем, вернее, фамилией пламенной революционерки Серафимы Георгиевны Клитчоглоу, террористки и эсерки. Сведений о ней было, впрочем, не бог весть как много. Она упоминалась рядом с Азефом и Савинковым, столпами эсеровского движения, была среди организаторов покушения на Плеве и других «эксов» социалистов-революционеров. На нечеткой фотографии Серафима Георгиевна Клитчоглоу показалась Алёне довольно симпатичной брюнеткой с пылким взглядом очень красивых миндалевидных глаз. Ведь и не скажешь, что такая хорошенькая — и убийства готовила! А впрочем, среди революционерок можно насчитать очень много красавиц, чьи руки по локоть в крови, или ими самими выпушенной из несчастных жертв красного террора, или выпущенной по их наущению. Работала на благо революции Серафима Клитчоглоу в Питере, Саратове, Харькове, Киеве… Нижний Горький почему-то не упоминался, но, видимо, она и здесь строила шаткую лестницу в «новый мир», если ее именем был назван переулок! В 1905 году бывший соратник Азеф выдал Клитчоглоу охранке, она была сослана в Благовещенск (к слову, отец ее был отставным статским советником и директором Амурского пароходного общества, Серафима в Благовещенске и родилась), где вышла замуж, родила троих детей, после чего ей стало совершенно не до революционных преобразований.
Вот женская судьба, подумала Алёна сочувственно. Кто ее дети и внуки? Какую жизнь прожили? Хаживали ли они в почете на Дальнем Востоке как члены семьи революционерки? А впрочем, эсеры ведь были в загоне у большевиков. Убили посла Германии Мирбаха в знак протеста против Брест-Литовского предательского мира, 6 июля 1918 года подняли против большевиков мятеж, арестовали Дзержинского, потом подготовили покушение на Ленина… Так что, очень может быть, участь детей Серафимы была совсем незавидной, как и ее собственная. Годом смерти значится 1926-й… своей ли смертью умерла, от болезни к примеру, или поплатилась за боевое прошлое у стенки ОГПУ? Да, если кто-то из ее потомков остался жив, то лишь в девяностых годах минувшего столетия, когда началась переоценка всех и всяческих ценностей, они могли осмелиться с гордостью вспоминать боевое прошлое своей пращурки. А интересно, когда переулок был назван ее именем?
Из любопытства Алёна просмотрела сайты, касающиеся переименования улиц в Нижнем Горьком, и обнаружила, что не ошиблась. Раньше этот переулок именовался просто 1-м Ильинским, а с 1994 года стал носить гордое, не побоимся этого слова, имя Клитчоглоу. Любопытно узнать, по чьей инициативе это произошло? Однако ничего больше найти в Интернете на эту тему не удалось, да и, собственно, какая разница по чьей? Все равно Алёна в те края больше ни ногой. Ни-ни, ни боже мой! Вообще всю эту историю надо забыть как можно скорей. Вот только бы узнать, кто все же браслет похитил?!
Ага, сегодня работают Анжела и Лариса Леонидовна, надо пойти показать им фотку той брюнетки из «Шоколада», ну а заодно попытаться стряхнуть граммов этак 500–600 со своего прекрасного тела…
Алёна выключила компьютер, надела любимое коричневое пальтецо и отправилась в путь. Для начала она подошла к четвертому подъезду своего дома и немного постояла перед ним, глядя на табличку с номерами квартир, которые здесь находились. Потом пожала плечами и отправилась дальше по улице Ванеева. При виде знакомой вывески над ювелирной мастерской Алёна вновь подумала о том же, о чем думала на балконе, и решила заглянуть туда. Однако дверь оказалась заперта. Она была готова поклясться, что отсюда вот только что вышла какая-то полная женщина, а кто-то стоял на пороге и говорил с ней, пока Алёна подходила, то есть мастерская работала…
Снова подергала дверь. Заперто.
Очень странно. Может, сейчас откроют?
Алёна чуть-чуть подождала, но напрасно. К двери подошли еще двое клиентов, поудивлялись, что мастерская закрыта без всякого объявления, и ушли. Алёна терпеливо ждала… Наконец озябла и пошла прочь, размышляя о причудах своей зрительной памяти и о том, что надо бы спросить кое о чем Сусанну, заглянуть к ней вечерком для приватной беседы.
Дорога Алёны, как всегда, шла через садик Пушкина, и вдали она увидела Снегурочку с верной Сильвой, из чего сделала вывод, что неведомый дядюшка Снегурочки опять был занят своими делами и не имел ни минуты выгулять собаку. Сильва вдруг подняла голову, повела носом в сторону Алёны и, как ни странно, узнала ее: бросилась, сунула нос в ладонь, потерлась о колени, лизнула в щеку — словом, проделала все детали собачьего ритуала под названием: «Привет, я тебя знаю, и ты мне нравишься!» — а потом побежала лизаться к какому-то молодому человеку в сером полупальто, глубоко нахлобученной черной вязаной шапочке и черном шарфе вокруг шеи, который — такое впечатление — этому не слишком обрадовался, потому что отмахнулся и пошел вообще в другую сторону. Наверное, не любил собак. Сильва с обиженным выражением поглядела ему вслед.
Алёна же смотрела на Сильву особенно нежно. Впрочем, нежность эта была адресована не столько именно этой немолодой толстой овчарке, сколько всему собачьему роду: ведь один (или одна) из его представителей (или представительниц, Алёне было не до гендерных подробностей) своим очень своевременным появлением вчера спас (спасла) ей если не жизнь, то рассудок, а Алёна его (или ее) даже не поблагодарила. Наверное, это была собака кого-то из жильцов переулка Клитчоглоу, которая заслышала шум и решила навести порядок в своих владениях. Спасибо ей превеликое! Алёна подумала, что надо бы купить колбаски и отнести в переулок, положить на то место, где вчера разыгрывались ее приключения. Тут же она вспомнила, что решила больше не соваться в это опасное местечко, но ведь днем с нею там совершенно ничего не произойдет, а поблагодарить своего (свою) спасителя (спасительницу) непременно надо.
Хочется надеяться, что тот ужасный человек с белыми волосами и багровым лицом ей больше не встретится. Совершенно необязательно, что он — обитатель переулка. Ведь сначала Алёна видела его в своем дворе, а потом он переместился в переулок. Что, выследил ее? Плохо верится. А может, это был вообще фантом ее воображения? Нет, ведь во дворе они видели его вместе с Сусанной… Так же, как они вместе видели и худого парня в короткой черной куртке, который сегодня утром опять мелькнул во дворе как раз после того, как у Алёны появился сине-зеленый ремонтник якобы из Дом. ру… с таким неприятно-тягучим голосом, который Алёна уже слышала раньше… а четвертый подъезд собственного дома ее сильно озадачил, да ювелирная мастерская оказалась закрыта как раз в то время, когда Алёна туда пришла…
Алёна только головой покачала и на всякий случай оглянулась. Какие-то люди шли по парку вслед за ней, однако ни ужасного фантома с белыми волосами, ни реального парня в черной куртке она позади не увидела. Верны ли ее подозрения или нет, сейчас за ней уж точно никто не следит! И она спокойно пошла дальше в шейпинг-зал, а реальность, между прочим, постоянно опровергала ее блаженную уверенность, но только Алёна ничего не замечала, к сожалению…
Она вообще, при своей замечательной, порой ошарашивающей проницательности, ничего дальше своего носа иногда не видела — как сейчас.
Дела давно минувших дней
В Нижнем я прижился. Работа шла довольно успешно. Чтобы о театре узнало больше народу, я взял за правило раздавать некоторое число контрамарок прямо на улицах. Многие, впервые побывав на спектаклях бесплатно, потом становились завзятыми театралами. Эта практика велась постоянно, дважды в год, на Рождество и на Пасху, и, скажу не хвастаясь, так мы приобрели многих зрителей.
Город мне понравился, я нашел здесь друзей и почувствовал, что хотел бы остаться здесь не временным жильцом и гастролером, а постоянным обитателем. Театр на будущий сезон оказался еще не заарендован, и мне пришла мысль организовать в нем товарищество на паях. Доработав сезон, поехал в Москву и Петербург, по актерским агентствам, собирать такую труппу, какая нужна мне. Отчего-то я был уверен, что очень многие актеры захотят сами отвечать за репертуар и свой заработок.
Помню, вошел в первый раз в агентство — и чуть с ног не упал от беспрерывного говора, выкриков, смеха, чуть не задохнулся от табачного дыма. Рябило в глазах от пестрых, кричащих костюмов актрис. Да и мужчины всяк норовил себя показать. «Герои» и «герои-любовники» пудрили лица и завивали круто волосы, «резонеры» держали себя в высшей степени «салонно», «благородные отцы» нравоучительно цедили что-то сквозь зубы, «комики» сорили анекдотами, как яичной скорлупой на Пасху. И всяк безбожно выхвалялся, всяк безбожно подвирал:
— Как я играл! После третьего акта шестнадцать вызовов!
— Меня студенты на руках вынесли!
— Видал портсигар? Вот, на второй бенефис получил!
— Понимаешь, заканчиваю сцену, а в публике восемь истерик, вот как прохватило!
Я жестоко ошибался, думая, что все так и ринутся в Нижний. Актеры боялись паев, они не хотели сами за себя отвечать, ждали антрепренера. И все же мне удалось собрать очень недурную труппу.
В августе мы встретились в отремонтированном помещении моеготеатра и приступили к репетициям. Конечно, самым трудным оказалось подобрать репертуар. Я собрал труппу в конторе театра, но тут меня вызвали плотники, у которых что-то не ладилось на сцене. Я ушел, открыв совещание.
Через полчаса донеслись из конторы неистовые крики, словно все участники совещания вопили до хрипоты, не слушая друг друга. Вдруг распахнулась дверь, и вся моя труппа выскочила вон и бросилась ко мне, маша руками на все лады и так отъявленно бранясь, что я чуть не заткнул уши.
— Надо включить в репертуар «Марию Стюарт», — кричала «героиня».
— А кому она нужна, ваша «Сюарт»? — презрительно отвечал «любовник». — Если уж брать классические пьесы, то надо ставить «Гамлета».
— Чтоб вам пофигурять да руки позаламывать? — отрезала «комическая старуха». — Нет-с уж, извините-с. Осточертели публике ваши трагедии. Да и играть-то их некому. А что нам, комическим, в этих пьесах делать прикажете?
— Совершенно верно, — отозвался «комик». — Разыграем лучше «Свадьбу Кречинского». У меня Расплюев — коронная роль!
— Согласен, — мягким баритоном сказал салонный «резонер». — Я Кречинского сотню раз играл.
— Вы-то согласны, да я не согласна! — крикнула «инженю». — Я еще ни одной главной роли не сыграла. Мы давно Островского не ставили. Что может быть лучше «Дикарки»?
С превеликим трудом репертуар был сформирован. Поскольку он то и дело обновлялся, удалось удовлетворить желания всех актеров.
Гораздо хуже бывало, когда мы не могли найти достойного «героя» или «героиню». Случалось и так, что «героинь», «премьерш», оказывалось две или три, и если одна из них имела сильного покровителя, который финансировал наши постановки и сотрудничество с которым было безусловно выгодным для театра, тогда, конечно, все лучшие роли были ее.
Спасибо, если она оказывалась талантлива. А если нет? Тогда начиналась истинная «театральная трагедия»… С одной такой связана и последняя трагедия моей жизни…
Наши дни
— Ну, в нашем зале я ее точно никогда не видела, — покачала головой Лариса Леонидовна.
— Я тоже, — согласилась Анжела. — Нет, конечно, к нам в зал ходят дамы в возрасте, но эту я не знаю.
— А я знаю, — сказала Лариса Леонидовна.
— Как так? — воззрились на нее Алёна и Анжела. — Только же сказали, что ее в зале никогда не видели!
— Сказала именно так, потому что Алёна спросила: не видели ли вы ее в нашем зале, — возразила Лариса Леонидовна. — Не видела, да. А так-то я ее знаю. Ее зовут Анна Алексеевна Маркова. Она в Линде живет, а у нас ведь там дом деревенский.
— В Линде? — оторопело повторила Алёна. — А как же… а почему же…
— Что почему же?
— Ну, в Нижнем она что делала? — тупо спросила Алёна.
— Да к сыну приезжала, я думаю, — вздохнула Лариса Леонидовна. — У нее сын тут жил, работал то там, то там, потом в «Видео» устроился… парень хороший, но очень уж непутевый… у тетки родной поселиться нипочем не хотел, нашел себе комнату у какой-то старушки, один хотел жить, но потом связался с какой-то преступной компанией. Анна Алексеевна нашла ему работу в Семенове, подальше чтобы от Нижнего, приезжала за ним, хотела его увезти и уже даже уговорила, но тут такое несчастье… убили Константина, прямо дома убили, как раз в тот вечер, когда они должны были последним поездом уехать в Линду…
— Господи, какой кошмар! — ужаснулась Анжела. — А вы оттуда все так подробно знаете?
— Ее сестра Валя — наша соседка по площадке, — пояснила Лариса Леонидовна. — Мы через Валю и дом нашли в Линде, и с Аней познакомились.
Алёна тупо молчала.
— А все же не пойму, почему вы решили, что Анна ходит к нам в зал? — спросила Лариса Леонидовна. — И откуда у вас эта фотография, это где снято, в «Шоколаде», что ли? А рядом с ней Костик покойный, что ли?
— Я не… это нечаянно вышло, — пробормотала Алёна, плохо понимая, что говорит. — Это… это я просто перепутала ее с другой женщиной. Извините. Всего доброго, я пошла.
Конечно, настроение заниматься шейпингом отпало одномоментно! С ощущением ужасной неловкости, даже стыда, Алёна вышла на улицу и побрела, как говорится, куда глаза глядят.
Мать Константина! Это мать Константина… Значит, первое впечатление при виде этой пары было правильным… Бедная женщина! А Алёна-то ее считала чуть ли не Сонькой Золотой Ручкой, главарем преступной банды! И все почему? Потому что у Анны Алексеевны оказался такой же браслет, как у нее.
Откуда он у нее взялся? Как к ней попал?
Да глупости. Не было у нее никакого такого же браслета. Наверное, хорошенькая блондиночка-продавщица с прелестным именем Сюзанна просто перепутала. То-то Анна Алексеевна никак не отреагировала, увидав Алёнин браслет. Зато отреагировал Константин… Значит, для него этот браслет что-то значил, только теперь не узнать, что именно, ведь Константина больше нет. И рядом с его смертью все эти загадки кажутся таким ненужным мещанством…
Стоп. Но ведь Секлита Георгиевна сказала, что ее напарница узнала Анну Алексеевну по фото — мол, именно ей она продала второй браслет…
Нет, в том-то и дело, что ей просто так показалось! Она очень хотела услужить писательнице Дмитриевой, а писательница Дмитриева не сомневалась, что именно брюнетка — похитительница браслета. Вот и убедили они с Секлитой Георгиевной друг друга.
Как все просто. Как все глупо, мелко, по-бабски…
И все-таки кое-что мешает взять и отмахнуться от всей этой истории, в самом деле счесть какой-то постыдной несуразицей попытку разгадать, что произошло с браслетом, не дает забыть и успокоиться. «Кое-что» — смерти людей, так или иначе имеющих к делу отношение. Ювелир, Костя… Загадки утреннего посещения Алёниной квартиры «мастером из Дом. ру» и загадки ювелирной мастерской. Загадки переулка Клитчоглоу, куда неведомым образом переместился из ее двора ужасный человек и где какая-то опасная женщина, виновная во многих смертях, назначает встречи, ведущие к этим смертям… И записка, записка Константина, адресованная неведомо кому, но попавшая к Алёне!
Нет, в самом деле, не позвонить ли Муравьеву?
А что сказать?
У Алёны заломило в висках.
Нет, ну надо же, а? Хочешь увеличить браслет, а вместо этого увеличиваешь количество проблем в своей жизни. Был бы у нее адрес Данилы, позвонила бы ему, рассказала бы про записку Константина — и все, с плеч долой, живите сами, ищите что-то там под старухиной скатеркой, под звездами, на какой-то Черниговской…
Даже вообразить невозможно, что это такое. Вроде бы Алёна неплохо знал Нижний Горький, но ни про какую Черниговскую в жизни не слыхивала.
Ладно. Надо немного пройтись. Успокоиться, подумать, может, что и придет путевое в голову.
Алёна огляделась. Она стояла посреди площади Горького. Прямо перед ней виднелась вывеска магазина «Спар».
Отлично. Здесь она купит какой-нибудь простенькой колбасы или дешевых сосисок и попытается найти спасшую ее собаку. Вообще не вредно еще раз взглянуть на устрашающий переулок. Днем там всяко не страшно, и не исключено, Алёна сможет увидеть то, чего не заметила ночью.
Она уже двинулась было к «Спару», да опять вспомнила ночные приключения — и покачала головой. Прежде чем идти в переулок Клитчоглоу, надо узнать, работает ли сегодня Секлита Георгиевна. Потому что если у нее свободный день и она окажется дома… ну нет, Алёна, после того как швырнула ей книгу ночью, совершенно не готова встретиться с ней лицом к лицу. И вряд ли когда-нибудь будет готова!
А как узнать, на работе она или нет?
«Клеопатра» — вон она, на другой стороне площади. Но зайти туда невозможно. Позвонить разве что и спросить к телефону Секлиту Георгиевну, а потом трубку положить? Но Алёна не знает телефона магазина… Правда, есть справочная 09…
Но сегодня был явно не ее день для телефонных переговоров! Сначала не отвечал Дом. ру, а теперь переклинило городскую справочную. «Ждите ответа оператора» — вот что звучало снова и снова, пока Алёне не надоело ждать и она не выключила телефон.
Перешла площадь, встала поближе к «Клеопатре», огляделась…
Парнишка лет тринадцати топтался около витрины салона «Евросвязи», который располагался метрах в десяти от «Клеопатры», в том же доме. Мальчишка был без шапки, и огненно-рыжие волосы его горели, словно подожженные.
— Послушайте, молодой человек, — сказала Алёна, доставая полусотенную бумажку, — вы не можете оказать мне услугу?
— Че? — спросил мальчишка, выдавая свою коренную принадлежность к населению Нижнего Горького. На купюру он даже не взглянул, и Алёне стало ужасно стыдно, что она вот так, сразу, стала соваться со своими деньгами. Как будто человек не может оказать другому человеку услугу просто так, из добрых чувств! Разве она не оказала бы? Да само собой! Почему же она оскорбила парнишку, сразу заподозрив его в меркантильности?!
— Мне нужно, чтобы вы зашли в «Клеопатру» — вон, видите магазин?
— Вижу, и че?
— Зашли бы и посмотрели, на месте ли одна продавщица — такая невысокая, полненькая, с красивыми темными глазами. Если она там, повернитесь и уходите. Если ее нет, — продолжала инструктаж Алёна, — а за прилавком стоит худая такая блондинка, спросите ее, работает ли сегодня Секлита Георгиевна.
— Чо-о?! — вытаращил мальчишка желтые, кошачьи глаза.
— Секлита Георгиевна, Се-кли-та, — раздельно выговорила Алёна. — Повторите.
— Се-кли-та Георгиевна, — вполне удовлетворительно отчеканил мальчишка, который, по всему видно, оказался весьма смышлен.
— Верно! — обрадовалась Алёна. — Ну, идите.
— А это для меня? — Парень показал пальцем на пятидесятку.
— Да, — неловко кивнула Алёна. — Извините, я не хотела вас обидеть…
— Меньше, чем за две таких, я с места не сойду, — сообщил рыжий и для наглядности показал два пальца.
Алёна усмехнулась. Однако он и впрямь смышлен! А она, получается, не ошиблась в мгновенной оценке его конопатой личности…
— Сейчас одну, — сказала она, протягивая деньги. — А вторую — когда вернетесь и скажете, на месте ли Секлита Георгиевна.
— А не надуешь? — подозрительно спросил парень, и Алёна едва сдержала смех: она-то с ним на «вы», а он так запросто, панибратски…
Да и правильно, к чему лишние церемонии!
— Ты же можешь мне ничего не говорить, пока не получишь деньги, — сказала она, и рыжий довольно кивнул:
— Лады. Тады я пошел?
— Давай.
Поскольку надувательство могло иметь место и с его стороны, Алёна встала так, чтобы видеть дверь «Клеопатры». Рыжий приблизился к магазину, огляделся с таинственным выражением — и вошел. Алёна на ощупь достала из кошелька деньги и переложила в карман пальто.
Прошло несколько минут — и рыжий появился с гордым видом.
Алёна отошла за угол, и ее «агент» через минуту к ней присоединился:
— Готово дело. Все узнал.
— Ну что, она там? — спросила Алёна.
Желтые глаза приняли загадочное выражение:
— А деньги?
Алёна достала пятидесятку из кармана, но не отдала парню:
— Итак?
— Утром деньги, — сказал рыжий, — вечером стулья. Гони денюшку, тогда скажу.
Алёна усмехнулась:
— Ну, за то, что ты цитируешь Ильфа и Петрова, так и быть, пойду у тебя на поводу. Держи, теперь говори.
— Пятьсот, — сказал парень спокойно, пряча пятьдесят рублей в карман.
— Что?!
— Что слышала. Гони полтыщи, иначе ничего больше не скажу.
— Офонарел? — спросила Алёна, которая, когда хотела, могла быть очень грубой, и это был еще далеко не предел инвективных возможностей ее словаря. — Может, сразу тысячу запросишь?
— Я согласен, — сказал он покладисто.
— Да не смеши, я ведь и сама могу пойти и посмотреть, на месте ли Секлита Георгиевна.
— Ну иди и посмотри, — ухмыльнулся рыжий. — Чего ж не идешь?
— Ладно, — вздохнула Алёна. — Я дам тебе еще пятьдесят рублей, и ты мне скажешь.
— Сто.
— Торг здесь неуместен, ты поймешь, что это значит, если читал Ильфа и Петрова.
— Ладно, пятьдесят, — недовольно согласился он.
— Возьми. Говори.
— Дай еще такую же — тогда скажу, — наглый рыжий даже не улыбался, спрятав третью пятидесятирублевку.
— Перебьешься, не война! — вспомнила Алёна одно из популярнейших присловий своего детства и пошла было к «Клеопатре», но рыжий недовольно буркнул сзади:
— Ладно, не ходи, там твоя эта… Серафима, за прилавком стоит.
— Кто? — ошеломленно обернулась Алёна.
— Ну ты ж мне велела узнать, работает Серафима Как-ее-там или нет.
— Секлита Георгиевна, недоумок! — взъярилась наша героиня. — А что, ты Серафиму спрашивал?!
— Да какая разница, кого я спрашивал? — отмахнулся рыжий. — Вошел — там одна беловолосая. Я только приготовился спрашивать, да у меня имя из головы вон. Потом грю: «Серафима… эта… как ее… работает сегодня?» Она глаза вытаращила, а тут выходит из ихней подсобки такая черноглазая тетка. Видать, та, про которую ты спрашивала. И говорит так злобно: «Какая я тебе Серафима? Меня зовут Секлита Георгиевна!» Чего и требовалось доказать. Я сразу свалил оттуда. А то они на меня так пялиться начали, будто я к ним воровать пришел.
— Неудивительно, у тебя очень подозрительный вид, — не удержалась от мелкой мести Алёна.
— Кто б говорил! — хохотнул рыжий. — Ты сама как шпионка в этом своем капюшоне. Че, эта Серафима — жена твоего любовника, да? У вас свиданка, да? И ты посылала меня подглядеть, путь потрахаться свободен или нет?
Несколько мгновений Алёна молчала, потом с натужной приветливостью сказала:
— Мальчик, не смотри сериалы по телику, а лучше продолжай читать Ильфа и Петрова. Там про всякую такую чушь и слова нет.
— Да? — скорчил он рожу. — А про арбузные груди мадам Грицацуевой?
И, хохоча, довольный победой, пошел своей дорогой, бросив Алёне на прощание:
— Обращайся, если че!
Дела давно минувших дней
Пропущу еще несколько лет и перейду к прошлому году. В это время мы уже играли в новом помещении театра — он назывался Николаевским и был выстроен на Театральной площади, в квартале от прежнего помещения. Ах, как мне хочется подробно рассказать о том, сколь прекрасно он был устроен, сколь славно нам в нем работалось, сколько сердец зрителей мы покорили!.. Однако я устал писать. И карандаш стачивается быстрее, чем хотелось. К тому же он то и дело ломается. Я его уронил, грифель, видимо, разбился на кусочки, они и ломаются то и дело…
Придется еще больше сократить мои описания.
Год назад прошел бенефис в честь дня моего рождения. Я наконец решился выйти в роли Городничего в гоголевском «Ревизоре». Много лет этой роли я боялся, сколько раз за нее брался, но не давалась она мне, на сцене цепенел, бекал и мекал, будто начинающий. А тут вдруг получилось с первой же репетиции! Я ведь уже стал немолодым человеком — мне исполнилось сорок, это был мой юбилейный бенефис — бенефис, скажу не хвастая, любимого публикой, прославленного артиста. Хотя, конечно, не любил я размышлять о том, что слава славою, а много бы я отдал, чтобы задержать течение времени… И сейчас упоминаю о бенефисе лишь потому, что дальнейшие события развернулись тотчас после него.
Буквально на другой день явился ко мне некий инженер Тихонов Вениамин Федорович — человек очень богатый, состоящий в управляющей дирекции Сормовских заводов, известный, к слову сказать, противу фамилии, своим задиристым, а порой и скандальным нравом. Однако именно он возглавлял попечительский совет театрального Общества: организацию, на средства которой мы если не существовали, то могли рассчитывать в случае провалов или непредвиденных обстоятельств. Также эта организация, щедро или нет, в зависимости от обстоятельств, давала нам деньги на декорации и костюмы.
Итак, у нас в конторе появился Тихонов и потребовал собрать труппу. Ответив на наши почтительные поклоны снисходительным кивком, он внушительным тоном заявил, что наши спектакли перестали быть интересны публике. Вся беда в том, что актрисы наши нехороши собой и не обладают «шикарным» гардеробом, а потому смотреть на них — тоска берет. Вот и не ходят люди в театр.
Мы молчали, подавленные: гардероб у наших примадонн и впрямь нельзя было назвать шикарным, ведь им приходилось шить платья — кроме разве исторических костюмов — на свои собственные деньги! А какие там у актеров провинциального театра деньги…
И вдруг Тихонов сказал:
— Ничего, господа, я знаю, как делу помочь. Я для вас выписал настоящую талантливую артистку, к тому же с прекрасной внешностью. Истинная богиня! А уж какие у нее туалеты! Настоящие парижские! Она с успехом будет выступать в первых ролях и поднимет сборы.
С этими словами он ушел, даже не выслушав наше мнение.
Собственно, никакого мнения не было, так мы были ошеломлены.
Он уже выписал! Не предложил нам ее послушать, посмотреть в ролях, а сам бесцеремонно распорядился. Наше мнение ему неинтересно! Мы для него — всего лишь актерский сброд!
Но делать было нечего. Слишком мы зависели от Тихонова, чтобы позволить себе спорить с ним. Настроит против нас председателя правления Общества, вышвырнут нас вон из театра — куда мы пойдем? А лишиться посреди сезона даже небольшого заработка страшно…
Через три дня Тихонов привел новую артистку. Это была великолепно одетая, прехорошенькая молодая женщина с прекрасными черными глазами. От нее исходил аромат восхитительных духов. Тихонов от нее не отходил, видно было, что увлечен Серафимой Георгиевной не на шутку. Фамилия ее была Красавина.
— Конечно, это псевдоним, — сообщил нам Тихонов, играя глазами с новенькой, — но он Серафиме Георгиевне необычайно к лицу.
Ну, с этим нельзя было не согласиться. И хотя все во мне восставало против того, каким образом эта женщина войдет в нашу труппу, я все же не мог не восхититься ее красотой. Да и не только в красоте дело! Она была рождена повелевать сердцами мужчин… и я невольно вспомнил давние годы и Эльвиру, восхитительную Эльвиру… Я ничего не слышал о ней с тех пор, возможно, ее больше нет в живых, ведь прошло двадцать лет… но не мог забыть того впечатления, которое она на меня когда-то произвела. Долгие годы потом я увлекался женщинами, которые так или иначе были похожи на нее: высокими властными блондинками. Серафима Георгиевна была полной противоположностью: маленькая брюнетка южного типа, но сила всепобеждающей женственности была ей дарована от природы в той же мере, что и Эльвире. А я… возможно, я мог любить только тех женщин, которые характером сильнее меня. Моя бедная Лизонька, царство ей небесное, могла подчиняться, но не подчинять, я же искал в женщинах иного, но и любовницы мои предпочитали быть слабыми женщинами при сильных мужчинах. По Тихонову было видно, что эта Серафима Георгиевна его скрутила в бараний рог… понятно, что я невольно затрепетал!
Впрочем, никакого виду, никакого своего впечатления я не показал, сохранил вежливую мину, как прочие члены труппы, вот и все.
Новая артистка держала себя гастролершей, милостиво поболтала с десяток минуток и удалилась в сопровождении Тихонова.
Мы недоумевали: зачем же такой артистке, получающей, судя по внешнему виду и туалетам, большие оклады, ехать в провинциальный театр и устраиваться в наше товарищество за жалкие, прямо скажем, гроши? И почему она без ангажемента в разгар сезона?
Кое-какие размышления на сей счет у нас были, конечно, но мы решили подождать, что покажет будущее.
И оно показало…
Наши дни
В переулке Клитчоглоу оказалось совершенно безлюдно. Как будто здесь и не живет никто. Ни одной души не видно ни во дворах, ни на крылечках, ни в окошках. А впрочем, кто знает, может, из-за какой-нибудь занавески на Алёну устремлен недобрый взгляд…
Она мигом пожалела, что снова потащилась наступать на те же грабли, зашла за угол дома, где была более или менее защищена от возможных враждебных взоров, и принялась посвистывать и призывать:
— Собака! Собака, иди сюда! Колбаски хочешь? Да ты моя хорошая! Иди ко мне! — И опять свистела.
Впрочем, и свист, и призывы пропали даром — на них никто не отозвался, никто колбаски не хотел. Но не уносить же их с собой, не есть же самой — что собаке здоро́во, то человеку смерть, — а потому она осторожненько расстелила пластиковый пакет под березой и разложила на нем свои приношения. Потерла руки слежавшимся, жестким, словно наждак, снегом, чтобы не пахли колбасой, и огляделась.
Вон тот дом с заколоченным чердачным окном. А где же дом, в котором живет Секлита Георгиевна? Сейчас трудно вспомнить, в какое именно полуподвальное окошко она въехала ногой, соскользнув с сугроба.
Алёна немного походила по двору… Странно. Получалось, что такие окна были только у дома с заколоченным чердаком! То есть у того самого дома, в котором назначает свои пугающие встречи неизвестная особа, чье имя или фамилия начинается на букву А.
Да, соседку же себе завела Секлита Георгиевна…
А впрочем, соседей, как и родителей, не выбирают.
Однако странное совпадение… Нет, скорей всего, это случайность, Секлита Григорьевна — женщина интеллигентная, ни в чем таком не может быть замешана.
А если вспомнить, что именно это — «такое»? Уголовщина, каким-то боком связанная с ювелирными изделиями. А Секлита Григорьевна, чья интеллигентность доказана всего лишь тем, что она запоем читает романчики Алёны Дмитриевой, работает, между прочим, в магазине, где продают бижутерию…
Да ну, глупости. Совпадения в жизни порой бывают такие ошарашивающие, что, прочти о них в книге, ни за что не поверишь.
Продолжая себя в этом старательно убеждать, Алёна промаршировала мимо дома туда-сюда, оглядываясь во все стороны. Двор был по-прежнему пуст. Алёна высмотрела дверь, ведущую в дом. Дверь находилась на крылечке. Никакого входа в полуподвал она не нашла. Видимо, все жильцы дома шли через эту дверь. Значит, она не может быть заперта. Значит, через нее можно войти и ей…
Алёна оглянулась. Показалось или за углом мелькнуло что-то серое?
Она подождала.
Наверное, показалось.
Для бодрости коснувшись ладонью ствола березы, Алёна поднялась на крыльцо, оглянулась… никого. И потянула дверь.
Та открылась.
«Вот интересно, зачем я сюда иду?» — раздраженно подумала Алёна и вошла в коридор. Запах старого, сырого дерева, залежалых вещей, невыветренной керосиновой гари, прогорклого масла так и ударил в нос. Грязно как, на полу мусор, какой-то пакет валяется рваный… Брр!
Алёна оглянулась было — просто чтобы глотнуть свежего воздуха и какое-то время не дышать, пока глаза не привыкнут к полумраку, и тотчас в панике прикрыла за собой дверь. Не веря глазам, приникла к какой-то щелке. По тропинке между домами быстро, чуть оскальзываясь, шел тот самый человек в сером пальто, черной шапке и черном шарфе, которого Алёна уже видела сегодня в парке! Именно к нему побежала лизаться Сильва, а он раздраженно ринулся прочь.
Теперь понятно, почему он так разозлился. Потому что Алёна оглянулась — и могла обратить внимание на человека, который за ней следил, а он за ней следил, иначе зачем бы потащился в этот богом забытый переулок?!
Нет, конечно, может, и он в этом доме живет, всякое бывает, да что-то верится с трудом.
Вон как осторожно идет, озирается… и приближается именно к тому крыльцу, на которое поднялась Алёна!
У нее пересохло в горле.
И что теперь делать? Доигралась со своим знаменитым любопытством…
А может, ничего страшного? Взять да и выйти ему навстречу и пройти мимо с невозмутимым видом, как ни в чем не бывало. А если он спросит, что вы здесь делаете, ответить: «А вам какое дело?!» И бегом со двора…
Может быть, так и следовало поступить, да вот беда — ноги не слушались. Совпадения перешли из разряда случайностей в разряд каких-то злонамеренностей. А встречать опасность лицом к лицу Алёна Дмитриева не была готова.
Надо закрыть дверь, вот что! Закрыть изнутри, а потом…
А что делать потом?
Да неважно что, поскольку закрыться не удастся. На двери нет ни задвижки, ни крючка, есть только замочная скважина, но без ключа.
Куда бы спрятаться? На коридорном пятачке две двери. На одной, обитой порыжелой, некогда черной, рваной клеенкой с вылезшими из-под нее клочьями ваты, деревянная табличка с написанной химическим карандашом фамилией: «Старков Г. Н.». Табличке на вид лет сто, она уже почернела вся, надпись еле читается, расплылась… Вторая — просто дверь, хлипкая, щелястая, прикрыта неплотно, видно, что за ней ступени, ведущие в подвал… возможно, именно в квартиру, где живет Секлита Георгиевна. Но она на работе… А может, там все же есть какой-нибудь выход, какой-то черный ход, который Алёна с улицы просто не заметила?
Шаги приближались.
Алёна в панике шагнула было к ступенькам, но вдруг поскользнулась на обрывке пластикового пакета и чуть не упала. Пытаясь удержаться, оперлась о дверь с табличкой — и та вдруг раскрылась.
Алёна думала меньше секунды. В следующий миг она уже распахнула дверь, ведущую вниз, в подвал, а сама шмыгнула в квартиру Старкова Г. Н. и бесшумно прикрыла за собой дверь.
Она очутилась не то в коридорчике, не то в кухоньке. Сбоку была вешалка, на которой громоздились всякие вещи: пальто, шубы, плащи, чуть дальше от нее виднелось узкое окошко с подоконником, заставленным банками, наполовину наполненными какой-то белой мутью… В одной банке плавал раскисший бурый овощ, не то огурец, не то помидор, из чего можно было заключить, что это рассол. Под окошком стоял куцый стол с какой-то подозрительной посудой, сбоку — обшарпанный, некогда белый буфетик и грязная газовая плита. На краю плиты почему-то стояла открытая коробочка с чем-то красным. Похоже было на румяна, но Алёна не поверила глазам. Ерунда, при чем тут вообще румяна?!
Она продолжала осматриваться. В это помещение выходили две двери — одна, судя по запаху, вела непосредственно в туалет. Хотя нет, была еще и третья дверь — та, в которую только что вбежала наша перепуганная героиня.
«Странные люди. Что ж они квартиры-то не запирают?!» — мелькнула у Алёны мысль, но именно мелькнула, чиркнула по краю сознания, не задерживаясь, потому что думать было некогда — надо было слушать.
Ей было слышно, как человек в сером пальто осторожно поднялся на крыльцо, вошел и остановился в коридорчике, практически совсем рядом с ней. Алёна налегла телом на дверь, и вовремя — тот человек чуть толкнул ее, проверяя, заперта или нет. Видимо, счел, что заперта, а потому отошел от нее, и вскоре послышался скрип ступенек: он начал осторожно, медленно спускаться по лестнице, ведущей в подвал.
Итак, он попался на удочку распахнутой двери! Сейчас сойдет пониже — и нужно воспользоваться моментом, выскочить вон и бежать, бежать отсюда, куда глаза глядят… то есть, в смысле, в сторону дома, запереться на все замки и засовы и никогда, никогда больше не совать свой любопытный нос никуда, то есть вообще!
Очень может быть, что Алёна так и поступила бы, но в тот миг, когда она взялась за ручку двери, чтобы открыть ее, словно бы что-то дернуло ее за правое плечо… ну да, за то самое, за которым обычно несет караул ангел-хранитель. Очень может быть, что он и дернул. Повинуясь этому сигналу, она бросила взгляд в боковое окошко — узкое, грязное, засиженное мухами, но все же достаточно прозрачное для того, чтобы видеть, что происходит во дворе, — и задохнулась от ужаса: к дому приближался не кто иной, как тот самый парень в короткой черной куртке, которого она видела в своем дворе вчера вечером сидящим на оградке палисадника, потом — сегодня утром выходящим из двора — непосредственно после того, как ей нанес визит некий мастер-наладчик, — и в котором, как ей казалось, она узнала того самого ювелира, который пришел на смену бедному покойнику в мастерскую. Проверить это ей, как мы помним, не удалось, мастерская оказалась закрыта… не потому ли, что мастер увидел, как Алёна к ней приближается? А она всего лишь хотела разобраться…
Ну вот, теперь, кажется, разберутся с ней.
Алёна посмотрела на дверь и, к своему облегчению, увидела, что на ней есть и крючок, и задвижка, и ключ торчит во внутреннем замке. Немедленно эти оборонительные сооружения были приведены в действие. Так или иначе, ювелир в квартиру не зайдет. Теперь осталось решить, как отсюда выбраться. Ну, окна есть, они невысоко, первый этаж… впрочем, в состоянии того ужаса, в каком находилась сейчас Алёна, она не затруднилась бы и из окна какого-нибудь третьего этажа спрыгнуть!
И вдруг ожгло догадкой — просто удивительно, что догадка не явилась раньше. Ведь если дверь в квартиру не заперта, значит, дома кто-то есть! Кто-то сидит там, за облупленной дверью, ведущей в комнату, поджидая, пока глупая любопытная мышь сунется в мышеловку. А ведь она именно это и собиралась сделать!
Алёна снова посмотрела на кухонно-коридорное куцее окошко. Удастся ли в него протиснуться? Эх… окошко не рассчитано на фактурных женщин ростом 172 сантиметра и весом 65 кагэ… вот когда пожалеешь, что нерегулярно посещала тренировки в спортзале и не соблюдала шейпинг-правила: ела не через три часа после окончания тренировки, а значительно раньше, не фрукты-овощи, а кое-что повесомей и покалорийней, никогда не снимала кожу с жареной рыбы и вареной курицы (у автора детективов были свои гастрономические причуды), а также дня не могла прожить без сладкого!
А впрочем, немедленно подумала Алёна, даже если бы она дохудела до предписанных ей 60 килограммов (рост минус 112 — это что-то вроде идеального веса), здешнему окошку и это показалось бы многовато. Вот если бы удалось как-то уменьшиться вдвое… но это вряд ли. Так что попытку бежать через окно придется оставить.
А что делать?! Рискнуть войти в комнату — вдруг каким-то чудом там никого не окажется? Скажем, хозяин вышел в магазин, любезно не заперев дверь…
Тогда надо смыться отсюда поскорей, пока он не вернулся, потому что они с парнем в куртке, да еще с тем, в сером пальто, ворвутся сюда на раз.
Она уже сделала шаг к комнате, как вдруг в коридорную дверь застучали, и знакомый тягучий голос ювелира-монтера etc окликнул:
— Эй, есть кто дома? Вейка, открой! Это я, Серый!
«Так, — подумала Алёна, — не запутаться бы! Тот, кто в черной куртке, — Серый. А который в сером пальто — видимо, Черный?»
И тут же эта дурацкая мысль исчезла под ударом страха:
«Здесь есть какой-то Вейка! Я уже слышала это имя, только не помню где и когда. Но это неважно. Вейка! Сейчас он выйдет и…»
Алёна отпрянула к вешалке и спряталась под грудой одежды, забилась в самый уголок, стараясь не чихнуть от запаха старых, непроветренных вещей.
«Ноги! Наверное, мои ноги торчат, и, когда этот Вейка выйдет, он увидит! И сумка, зараза, вот-вот с плеча свалится!»
— Вейка! — снова раздался голос Серого. — Да ты там спишь, что ли?
И тут наконец загадочный Вейка подал голос. То есть это был не вполне голос, а какой-то рев. И не сразу Алёна догадалась, что слышит храп. Итак, загадочный Вейка спал и храпел во все, как говорится, завертки, что бы ни значило это выражение. Значит, можно рискнуть выскользнуть из-под этого тряпья и…
— Вейка! — надсаживался между тем Серый, и Алёна перепугалась, что он разбудит-таки Вейку, а значит, надо поспешать. Она выбралась из-под одежды и брезгливо передернулась, когда ее пальцы запутались в каких-то волосах — длинных, белых. Оглянулась — сбоку на вешалке висел беловолосый парик, а рядом — тулуп с белесым мехом.
Так… Знакомая одежда, а ее обладатель, видимо, и храпит в соседней комнате.
За дверью — Серый, впереди — этот Вейка со своим ободранным лицом…
«А лицо на нем было железное…»
Алёна оглянулась. Около плиты стояли ободранный веник и металлический совок с острыми граями. Никакого другого оружия под рукой не оказалось — ну, она схватила совок и, держа его перед собой, вошла в комнату.
Первое, что бросилось в глаза, — выцветший гобеленовый коврик на стене: озеро, усеянное огромными белыми кувшинками, лодка посреди них, в лодке, свернувшись клубком, спит русалка, а ее хвост перевешивается через борт. Громоздкий платяной шкаф, облупленный подоконник, стол, заваленный газетами, на столе запыленный ноутбук, в углу какое-то высоченное пыльно-зеленое, разлапистое растение с большими листьями, фикус, что ли. Такой же, но поменьше, громоздится на краю стола, еще один втиснут на самый верх гардероба.
Под ковриком стоял сильно просевший диван с рваной обивкой, а на нем, свернувшись клубком, почти в позе русалки, спал неимоверно длинноногий человек лет сорока со светлыми волосами и бледным, а вовсе не ободранным толстощеким лицом и бровями и ресницами соломенного цвета. Он был одет в серый спортивный костюм, на поджатых ногах — шерстяные носки, а около дивана стояла стояли огромные валенки — размера сорок седьмого, никак не меньше.
Алёна сразу поняла, что спортивный костюм этот вовсе не на помойке найден, а дорогой, очень хорошего качества, какой-то незнакомой марки, не «Adidas» или что-то в этом роде, а какой-то другой фирмы… название начиналось на «S», но не все ли ей равно, в каком костюме ходит в свободное от нападений на людей время этот ряженый? Да, ряженый, правильно сказала Сусанна, и эти румяна в кухне — его. Чтобы рожу свою делать жуткой, людей до полусмерти пугать. Или не всех людей, а только Алёну Дмитриеву? Интересно бы разузнать!
Например, сейчас разбудить его и спросить… Но нет, это уже из серии черного-пречерного юмора.
Да он еще и наркоман, кажется, этот Вейка! На столе упаковка одноразовых шприцев и белая коробка с непонятной надписью: «Вакцина антирабическая культурная концентрированная».
Культурная, главное дело! Так культурненько он от этой вакцины отъезжает, надо полагать!
Алёна аж передернулась брезгливо, и вдруг спящий шевельнулся, начал поворачиваться на спину. Мгновение Алёна смотрела на него, тупо читая полуоткрывшееся название фирмы на груди его спортивной куртки: «Samp…» Дальнейшее было не прочесть. Потом ожгло: да ведь он сейчас проснется! Ее словно ветром вынесло в коридор. Метнулась было к своему довольно омерзительному укрытию под вешалкой, как вдруг услышала голос Серого:
— Кто там?
На один ужасный миг почудилось, что Серый обрел возможность видеть сквозь стены или двери и увидел ее, но тут же она услышала, что шаги Серого звучат глуше, так же как и его голос:
— Эй, ты что здесь делаешь?
Серый встретился с человеком, который шел за Алёной! Сейчас этот человек расскажет Серому, что сюда прошла та самая, замешавшаяся в их тайны… и они вместе… Да если еще проснется Вейка!
Ну нет, ждать этого Алёна не намерена!
Она сунула совок под вешалку, повернула ключ, отдернула задвижку, откинула крючок, метнулась было за порог, но на миг вернулась, схватила с вешалки шубу и парик, смотала их в неаккуратный, громоздкий тюк и кинулась прочь из этого дома.
— Вейка! — надсаживался в подвале Серый. — Иди сюда!
Алёна выскочила на крыльцо, скатилась со ступенек, чуть не упала, ухватилась за ствол березы, чтобы удержаться, немедленно почувствовала себя лучше от этого сочувственного прикосновения и понеслась прочь. Во дворе по-прежнему было пусто.
Она вылетела на Ильинскую и бросилась к трамвайной остановке. По пути на асфальтированном пятачке, уединенно и интеллигентно, стоял зеленый мусорный контейнер с желтой крышкой. Алёна резко затормозила, откинула крышку — ого, оттуда пахнуло совсем неинтеллигентно, однако после пребывания в жилище (слово «квартира» не имело к нему отношения!) с табличкой «Старков Г. И.» на двери Алёну такой ерундой было не пронять! — и с особенным наслаждением запихала туда свою ношу.
Что-то выпало из тюка к ее ногам, какой-то бумажный комок. Другая на ее месте и не глянула бы на него. Ну, надо знать Алёну… Деву, если вы помните. Она никогда ничегоне бросала наземь на улицах, а выйдя из троллейбуса или маршрутки, тащила скомканный билетик до ближайшей урны, если ее не было на остановке, причем иной раз ближайшаяурна оказывалась на расстоянии нескольких кварталов. Ну и, понятное дело, Алёна подняла этот комок и уже приготовилась бросить его в мусорный контейнер, как вдруг обнаружила, что это скомканная фотография — вернее, снимок, распечатанный на принтере.
Ну разумеется — Алёна развернула ее!
И обнаружила, что это — ее собственное изображение.
Дела давно минувших дней
На первых же репетициях весь тот минимум благоприятного впечатления, которое произвела на нас Серафима Георгиевна, растаял как прошлогодний снег. Мы столкнулись не с бонтонной, воспитанной, хоть и несколько легкомысленной дамою, но с крайне вульгарной, развязной и циничной особой. Она не имела ничего общего ни со сценой, ни с дисциплиной. Понятия о драматическом искусстве у нее не было ни малейшего. Я сразу понял, что она никогда в жизни нигде не играла. Она опаздывала на репетиции на час и даже больше и на все наши замечания капризно отвечала:
— Я не привыкла так рано вставать, мне нужно выспаться, иначе буду плохо выглядеть!
Вообще всем на каждом шагу она дерзила. Порой мне даже казалось, что она задалась целью восстановить против себя всю труппу!
Первую же роль пришлось у нее отнять — она ничего не знала и несла какую-то околесицу на непонятном, косноязычном наречии.
Хотя тембр голоса был очень приятный, волнующий…
Нечего было и думать выпустить ее на сцену! Среди театралов Нижнего был сам губернатор Гриневич — да он разогнал бы труппу, кабы увидал эту «богиню» на сцене!
Вся труппа враз ее возненавидела. А я… я возненавидел себя.
Несмотря на отталкивающие манеры, несмотря на полную, воинствующую бесталанность, она продолжала привлекать меня как женщина. Словно бы все долгие годы верности памяти жены, а потом долгие годы беспорядочных, мимолетных, суетливых связей сейчас норовили отомстить мне. Передо мной появилась та женщина, о которой я тайно мечтал… но я бы перестал себя уважать и снискал бы презрение в глазах дорогих мне людей, если б хотя бы намекнул ей о своем чувстве, если бы дал ему волю…
Мое презрение к Серафиме Георгиевне и к себе самому еще усугубилось, когда стала известна история ее появления в нашем городе.
Тихонов, разумеется, был женат, но жена его была болезненной, замкнутой женщиной, которая почти не показывалась в обществе. Детей у них не было. Инженер не отказывал себе в удовольствии погулять на стороне. С Серафимой Георгиевной он встретился в Петербурге — и сразу потерял голову. Открыто привезти в Нижний, город не слишком-то большой, где все так называемые светские люди друг друга знают, свою содержанку было неудобно: начнутся слухи, сплетни, не миновать семейных осложнений. Скандалов он боялся, вот и решил пристроить свою пассию в театр, в нашу труппу, которую он может посещать в любое время. Притом он снял ей квартиру — известно было даже где: в 1-м Ильинском переулке, недалеко от Новой площади, в укромном уголке, куда мог приходить незамеченным.
Невозможно описать, как были мы все возмущены! Такого издевательства мы не могли снести и твердо решили исключить даму из труппы. Написали соответствующее постановление за всеми нашими подписями — и отправили Тихонову.
Товарищи подзуживали меня лично, в глаза объявить о нашем решении Серафиме Георгиевне.
— Это собьет с нее спесь! — злорадно твердили они.
Но мне равно неприятны были и ее попытки сделаться актрисой спекулянтским путем, и эти подзуживания. Впрочем, в глубине души я знал: если она попросит меня отменить решение труппы, я его отменю. Я просто боялся той власти, которую она имела надо мной, сама о том не ведая.
А может быть, ведая?.. Мысль о том, что она может догадаться о моей страсти, казалась мне страшно унизительной. А я был самолюбив, и не без оснований.
Словом, я и жаждал видеть Серафиму Георгиевну, и дорого бы дал, чтобы никогда более с ней не видеться. Именно поэтому я малодушно отправил Тихонову наше послание и стал не без трепета ждать развязки.
И она не замедлила наступить.
На другое же утро в театр ворвался чрезвычайно рассерженный Тихонов.
— Как вы осмелились исключить такую талантливую актрису?! Да среди вас никто даже сравниться с ней не может! Что вы-то из себя представляете? Гамлет несчастный! — это с особым презрением адресовалось почему-то мне. — Никогда полных сборов не можете сделать! А она бы помогла вашей труппе выкарабкаться! — И снова и снова, и опять и опять, и на все лады: да как вы могли, да что вы сделали, да кто вы такие?!
Я еле сдерживался. Хотелось ответить этому самодуру словами Несчастливцева из «Леса» Островского: «Мы артисты, благородные артисты!» Хотелось добавить своими словами все, что я о нем думаю. Но я не смел — ведь это значило погубить все дело, всех нас, и труппу, и театр.
Тихонов продолжал бушевать:
— Если вы завтра не извинитесь перед Серафимой Георгиевной, если она не примет ваши извинения и не пожелает снова войти в труппу, то можете считать, что правление отказало вам в продлении сезона! Вам придется освободить помещение!
Мы были словно громом поражены. Что делать? Неужели идти к этой ничтожной дамочке с извинениями и снова выпустить ее на сцену, которую она оскверняла своей бездарностью?
Нет, это невозможно. Должен же быть выход!
Но в чем он?!
Надо жаловаться… но кому, кто властен над Тихоновым? Директор Сормовских заводов? Городской голова? Губернатор? Из них театралом был только губернатор Гриневич, но, по слухам, от нашей игры и нашего репертуара он был не в восторге…
Не решив, где искать выход, не закончив репетиции, мы разошлись.
На другой день спектакля не было — в городском собрании назначен был благотворительный вечер с танцами. Чтобы несколько отвлечься и развеяться, я пошел туда.
Наши дни
Лишь мгновение полюбовавшись на свою весьма сосредоточенную физиономию, Алёна снова скомкала снимок и сунула в сумку. И со всех ног припустила вслед трамваю, который в это время как раз подходил к остановке. Проворство она проявила как нельзя более кстати, потому что, вскочив в последнюю дверцу и оглянувшись через окно задней площадки, Алёна увидела, как из известного проходного двора выскочил… человек в сером пальто. Правда, даже на расстоянии было видно, что пальто теперь в грязных пятнах, черного шарфа и в помине нет, да еще человек явственно прихрамывал. Свалился он там со ступенек, что ли? Вот и хорошо, что свалился, жаль только, что поднялся!
Все время, пока трамвай шел до следующий остановки, она внимательно всматривалась в преследователя. Догнать трамвай бегом, при его-то хромоте, у него не имелось никаких шансов. Будет ловить попутку? На этом отрезке пути линия была совершенно прямая, поэтому остающаяся позади Ильинка была Алёне неплохо видна. Вроде не наблюдалось машины, которая притормозила бы, взяла пассажира — и ринулась вслед трамваю. Но это совсем не значило, что такой машины не будет через несколько минут! А потому Алёна поспешно покинула трамвай на ближайшей остановке — Маслякова — и через улицу Новую пробежала до площади Горького, а оттуда свернула мимо почтамта на людную Покровку и пошла к площади Минина, изредка оборачиваясь и, как пишут в шпионских и исторических (о деятельности всяких террористов, мятежников и прочих крамольников) романах, «проверяясь». То ли в самом деле никто за ней не следил, то ли «проверялась» Алёна бездарно, только ничего подозрительного она не обнаружила. С другой стороны, она прекрасно понимала, что сейчас следить за ней нет никакого смысла: рано или поздно все равно придет домой, а ее место жительства, понятное дело, врагам уже хорошо известно. Впрочем, база врагов ей тоже известна, так что они некоторым образом квиты. Кроме того, ей удалось сегодня причинить им некоторый вред. Вдобавок ей известны кое-какие их секреты, в том числе — главный: где находится то, что они ищут. То есть она знает не само место, но хотя бы основные ориентиры. Впрочем, ничего в этих ориентирах не понятно, но все равно — некая информация имеется. Теперь осталось решить, как этой информацией распорядиться, чтобы не последовать за ребятами, которых уже успели убить.
Следовать за ними пока не хотелось бы…
Строго говоря, нужно пойти домой, систематизировать все, что Алёна знала наверняка, что предполагала и до чего додумалась, — и позвонить-таки Льву Иванычу. Однако домой идти страшновато: Алёна откровенно опасалась засады. Утренний визит и слежка показали, что против нее играют довольно решительные ребята. У нее были кое-какие соображения, как проверить наличие засады и отсутствие оной, но тут требовалась посторонняя помощь. Такую помощь могла оказать Сусанна-Сюзанна. Алёна позвонила ей, но соседка сказала, что вернется домой часа через два, не раньше. Итак, предстояло где-то провести эти два часа. Причем в таком месте, где до нее, с позволения сказать, не дотянутся руки противника. Или, как принято выражаться, лапы!
Идеальным и ближайшим укрытием в этом смысле была областная библиотека, в просторечии — «ленинка», куда абы кто войти не может. Нужен читательский билет. Возможно, Алёна не слишком хорошо думала о людях (кстати, приступы активной мизантропии ее порой посещали, приходится это признать!), но она готова была спорить на весь свой грядущий гонорар за не написанный еще романчик, что ни у кого из ее противников такого билета не имелось. Во всяком случае, с собой. А у нее имелся. И не простой, а билет почетного читателя! Этот билет давал некоторые преимущества, например возможность брать с собой сумку, а не сдавать ее в гардероб, право на исполнение заказа без очереди и разрешение уносить домой книжки из читального зала и отдела хранения, и этой льготой Алёна, на которую в почтенных стенах всех без исключения библиотек и музеев нападала неукротимая сонливость, частенько пользовалась. Но сейчас ей нужны были именно стены.
Моя библиотека — моя крепость.
Она сняла пальто в гардеробной, напялила непременные голубые бахилы, выложив за них четыре рубля, и, производя ногами назойливое шуршание, поднялась на второй этаж — в отдел краеведения, где попросила подобрать ей материалы, касающиеся переименования улиц в Нижнем Новгороде.
— А какая конкретно улица вас интересует? — спросила сидевшая у компьютера дама, имевшая очень типичную, просто классическую библиотечную внешность: седенький кукиш на затылке, большие круглые очки с выпуклыми стеклами, невыразительная одежда и усталое интеллигентное лицо.
— Переулок Клитчоглоу.
Дама так высоко подняла брови, что очки съехали на кончик носа:
— Никогда о таком не слышала!
— Ваше счастье, — пробормотала Алёна.
— Что вы говорите? — не поняла библиотекарша.
— Ничего, ничего, я просто так… А можно заказ исполнить срочно? Я готова заплатить… хоть в двойном размере!
— Вам нужны только указания на источники или они сами? — спросила дама. — Если указания, я прямо сейчас по компьютеру найду.
— Лучше они сами. Причем хорошо бы копии заодно сделать.
— Ну тогда, даже при сверхсрочном заказе, вам все равно час придется подождать.
— Час — это ничего, час у меня есть! — обрадовалась Алёна, заплатила за сверхсрочность сто рублей и отправилась куда-нибудь в тихое местечко — пересидеть.
Собственно, в «ленинке» все местечки были тихие: давно прошли те времена, когда здесь клубились толпы народу, в основном студенческого. Теперь народ, и прежде всего студенческий, искал информацию в Интернете и получал ее гораздо быстрей, чем в библиотеке. Появились умники, которые говорили, что «ленинка» вообще стала анахронизмом, ее надо закрыть, а старинное здание бывшего Дворянского института отдать под бизнес-клуб. К счастью, бодливой корове бог рогов не дал, и эти головы умничали пока безрезультатно. Да и информация информации, как известно, рознь, и хотя Алёна очень часто получала ее на просторах Всемирной паутины, сейчас ей нужны были именно библиотечные материалы.
Она села на диванчике в холле второго этажа и достала из сумки небрежно сунутый туда цветной бумажный комок. Свое фото. Развернула его… честно говоря, она здорово надеялась, что там, на остановке, со страху обозналась, перепутала, что ей почудилось и это окажется вовсе не ее фото.
Ничего подобного. «Детективщица Алёна Дмитриева за работой» — так можно было назвать этот снимок, потому что на лице у Алёны запечатлелось выражение ну просто архиазартное!
Где ж она так раззадорилась? И что за зеленое пятно перед ней маячит? А позади… Алёна удивленно пригляделась: позади видны были полки с какими-то коробочками и флакончиками… чего? Духов, что ли?
Ну конечно, вдруг осенило ее, именно духов! Она сфотографирована на фоне витрин магазина «L’Ԑtoile» в «Шоколаде». А зеленое пятно впереди — это плечо долговязой рекламной девицы. Помнится, на ней была зеленая форма.
Рук Алёны на снимке не видно, но можно не сомневаться, что она держит мобильный телефон, которым фотографировала предполагаемую похитительницу своего браслета. А в это время кто-то фотографировал ее. Кто? Зачем?
Зачем — понятно. Чтобы отдать эту фотку ряженому по имени Вейка… Стоп, где-то она слышала это имя, несколько дней назад, как бы вспомнить где, когда и почему… Отдать, стало быть, Вейке, чтобы он ее выслеживал и пугал, с ума сводил.
Зачем?!
Предполагается, чтобы не лезла не в свои дела, в которые она таки лезла. Неужели все дело в записке Константина, перехваченной ею в «Видео»? Нет. Вейка появился в Алёнином дворе раньше, чем она пошла в «Видео» и ненароком обвела вокруг пальца чрезмерно доверчивого Виталия. Значит, каким-то образом она прогневила эту компашку раньше… Уж не тогда ли, когда начала наводить справки насчет браслета? По всей видимости, да. Но они первые начали, подменив браслет! Теперь пусть расплачиваются.
За что?
Неведомо. Все ее предположения — не более чем домыслы. И неизвестно, докопается ли она до истины.
Еще более неизвестно, надо ли вообще докапываться. Расковыряла осиное гнездо — как бы до смерти не зажалили!
Стало тоскливо. А от тоски вдруг просто невыносимо захотелось есть. Алёна спустилась в столовую, которая сейчас была полна народу пришлого, не библиотечного, из близлежащих офисов, и с трудом нашла место в уголке. Едун — видимо, от неизжитого волнения и нервного напряжения — напал какой-то неприличный, совершенно неудержимый. Очередь уже рассосалась, люди наелись и разошлись, а писательница Дмитриева все заедала свои стрессы, кидаясь от борща к десертам, от салатов во второму, а потом к несравненной выпечке.
Долгожданное спокойствие было наконец обретено, однако на смену тревоге пришла неодолимая сонливость. Алёна с трудом добрела до «Зала специалистов», в котором было совершенно пусто, села за самый дальний стол спиной ко входу — и заснула, положив голову на руки. К счастью, никакие — ни вещие, ни пугающие, ни пугающе-вещие — сны ее не тревожили — спала да и спала, пока внутренний будильник, который, как правило, был у нее включен и работал довольно четко, не заставил проснуться.
Прошел ровно час с тех пор, как она отдала заказ. Тайно позевывая, поеживаясь от легкого озноба — в библиотеке было весьма прохладно, а со сна всегда морозит — и не сомневаясь, что вполне могла бы поспать еще полчасика, Алёна вошла в отдел краеведения и немедленно получила ксерокопию, сделанную с газетной страницы.
— Что, это все? — разочарованно спросила она. — Только одна статья?
— Скажите спасибо, что хоть это нашли! — усмехнулась библиотекарша. — Можно сказать, никакой информации по этой улице нет — одно случайное упоминание о переименовании в связи с совершенно бытовыми событиями.
— Спасибо, — растерянно поблагодарила Алёна, взяла листок.
Статья называлась «Закрепление собственности». Торопливо пробежала ее глазами. Недоумевающе подняла брови. Фамилия совершенно незнакомая, а вот инициалы… Всмотрелась в расплывчатую фотографию и огорченно покачала головой.
— Скажите, а я могу на оригинал страницы посмотреть? — повернулась она к библиотекарше.
— А что, что-то не пропечаталось?
— Да вот фото совершенно неразличимое.
— Уверяю вас, в оригинале оно такое же.
— И все же я хотела бы взглянуть. Газета где, в отделе периодики?
— Нет, я им еще не вернула подшивку, она пока у нас. Сейчас принесу.
Любезная библиотекарша притащила большущую картонную папку с газетной подшивкой, на которой было написано: «Нижнегорьковские новости. 1994 год». Положила подшивку на стол, перелистала, открыла. Вот она, статья «Закрепление собственности»!
Фотография и в самом деле была лишь на самую малость лучше копии, так что Алёне не удалось утвердиться в своих предположениях. Она, правда, еще не знала, что именно давали ей эти предположения и вообще давали ли хоть что-нибудь. Может, их следовало принять к сведению. Может быть, следовало просто пожать плечами и перестать думать об этой ерунде.
Алёна поблагодарила библиотекаршу и пошла одеваться. Ну, теперь в «Шоколад».
Она снова посмотрела на свою фотографию. Откуда же все-таки ее запечатлели? Вроде как сверху… похоже, со второго этажа, из какого-то бутика напротив «L’Ԑtoile». Любой прохожий мог это сделать! Облокотился на перила и с рассеянным видом щелкнул мобильником. Конечно, продавец любого из близлежащих магазинчиков мог обратить внимание… А мог и не обратить. Надо на всякий случай их спросить… Что там находится? Стенд с колготками, довольно большой отдел ювелирного магазина «Диамант», рядом бутик дорогущей и очень респектабельной кожаной одежды и два магазинчика бижутерии, в одном из которых работает премилая блондиночка Сюзанна, которая вчера сказала Алёне, что видела ее браслет на руке матери Константина. Перепутала, словом.
Опять путаница с браслетами! Даже надоело, честное слово!
И еще мысль о какой-то путанице мелькнула в Алёниной голове… и это было связано уже не с Сюзанной, а с Сусанной, соседкой…
Да нет, чепуха.
Слишком много чепухи, которая потом оборачивается совсем даже не чепухой.
Надо сосредоточиться. Надо все обдумать. Но сначала — в «Шоколад».
Алёна решила пройтись пешком — проветриться, а чтобы сократить путь, отправилась через проходные дворы… ну да, мало ей было проходных дворов!
Она шла и думала о том, что прочла в статье, найденной в библиотеке, о том, что это не имеет ни к браслетам, ни к убийствам никакого отношения — просто любопытная деталь человеческой психологии. Можно кем-то из своих предков очень гордиться и прославлять его имя. А можно использовать его имя для «закрепления собственности», не более того, даже если это такая препоганая собственность, как некий домишко в переулке Клитчоглоу…
«Да… — усмехнулась Алёна. — Очень может быть, что оговорка того рыжего мальчишки была, как говорится, по Фрейду… нет, кто там у нас занимался проблемами наследственности? Вроде Чарлз Дарвин? Ну, значит, это была оговорка по Дарвину…»
Нет, это, конечно, не имеет отношения к делу… А может, имеет!
Как узнать?
По телефону. Ведь рыжего агента нет под рукой, к тому же она сейчас довольно далеко от «Клеопатры». Сначала, конечно, придется все же звонить в справочную, делать нечего. Чтобы узнать телефон все той же «Клеопатры» и спросить…
Алёна набрала 009 и пошла дальше, прижимая трубку к уху.
Занято, занято, длинные гудки, гудки безответные, ждите соединения с телефонисткой, ждите соединения, ждите-ждите-ждите…
Стоп! Да у нее же где-то должна быть дисконтная карта этой «Клеопатры», вдруг вспомнила Алёна.
Выключила телефон и принялась рыться в сумке. Этих дисконтных карт набралось — ужас какой-то. Главное, половиной из них она не пользуется. К примеру, когда покупала свой воистину роковой браслет, ее точно не предъявляла, а значит, и скидки никакой не имела.
Еще один вопрос к продавщицам «Клеопатры»! Но этот вопрос она уж точно не задаст — что с возу упало, то пропало.
Карты не нашлось. Может быть, она дома… Но домой идти еще рано. Сусанна еще не вернулась.
Ладно, позвонит потом, попозже.
Дела давно минувших дней
Снимая пальто в гардеробной собрания, я увидел на верхней площадке Тихонова во фраке. Он явно кого-то ждал.
Вдруг до меня донесся аромат духов, показавшийся мне знакомым. Все нервы мои взволновались.
Даже не видя, я почувствовал: рядом Серафима Георгиевна.
Стыдясь самого себя, раздираемый двумя страстями, желанием и ненавистью, я смотрел, как наша «премьерша», сбросив на руки гардеробщика меховое, на черно-бурой лисе манто, прошла мимо (сделав вид, что не замечает, а может быть, и впрямь не заметив меня, как существо слишком для нее ничтожное!) прямо к Тихонову, а он расцеловал ей руки и повел в зал.
Я медленно поднимался по лестнице. Мне было страшно увидеть этого человека, которого я ненавидел всем своим существом. Ненавидел за то унижение, которому он нас подверг, а еще за то, что Серафима Георгиевна была его содержанкой, что он в любое время мог обнять ее, поцеловать, владеть ее телом, о котором я грезил вот уже которую ночь, как безумец…
В эту минуту грянула музыка. Танцы начались.
«Ничего себе, развеялся! — мрачно подумал я. — Ничего себе, отвлекся! Иди-ка ты домой!»
Это было самым разумным. Если бы я так сделал, я бы, может быть, никогда ничего не узнал… все шло бы своим чередом… мы как-нибудь да избавились бы от Серафимы Георгиевны, даже ценой обращения к высшим городским и губернским чинам… неведомо, как бы потом сложилась ее судьба… да и я не сидел бы сейчас в смертельном этом провале, если бы ушел тогда… но какое-то мучительное отчаяние влекло меня непременно войти в зал и посмотреть, как они танцуют с Тихоновым.
Я вошел. Посмотрел.
Смирения моего как не бывало. Сейчас я жаждал скандала!
Как он может такее обнимать! Как она может такна него смотреть!
Я выскочил в пустое фойе, понимая, что остатки моей сдержанности сейчас улетучатся и я устрою что-то страшное.
Но, словно нарочно, эта пара вышла следом и приблизилась ко мне.
— Ах, Никита Львович! — пропела Серафима Георгиевна своим волнующим, чуть капризным голоском, от которого у меня кожа мурашками пошла. — Мой зоил! — И она расхохоталась. — Мой гонитель! Наш нежный Гамлет! — И повернулась к Тихонову с обольстительной улыбкой: — Скажите же ему, Вениамин Федорович, что он плохой!
Тот накинулся на меня, как дрессированный зверь.
— Вы запомнили, что я вам говорил? — ледяным голосом изрек он. — Или Серафима Георгиевна снова в вашей труппе, или я всех вас вышвырну вон!
Я был вне себя от унижения. Никто и никогда еще не доказывал мне так явно, что я — отщепенец…
Да, если не говорить о знаменитостях, о выдающихся талантах с громким именем, то можно утверждать, что в глазах большинства так называемого высшего общества, а тем паче обывателей, человек, посвятивший себя сцене, стоял на низшей ступени падения.
Конечно, в Петрозаводске было все иначе, но там нам покровительствовала сама губернаторша. Может быть, это был единственный город в России, где актеры пользовались таким уважением. А здесь… и везде…
Разве можно пригласить «отщепенца» в приличный, «благородный» семейный дом? Никогда. Вот в ресторан позовут, чтобы развлечь и потешить комическим рассказом какого-нибудь кутилу-барина или самодура-купца. И каким снисходительно-оскорбительным тоном говорит с актером эта сволочь!
Постучит извозчик кнутовищем в окно комнатки, где ютятся актеры, и крикнет: «Эй! Кто там есть? Двух актерок господа на вокзал требуют!»
Бывали, впрочем, случаи, когда артисты более или менее популярные приглашались на какую-нибудь вечеринку, но не как равноправные граждане, не как гости, а как клоуны, развлекатели.
Конечно, и среди нашей братии были люди, заслуживающие порицания и презрения. Это те ничтожные людишки и горькие пьяницы, которых Островский вывел в образах Шмаги, Робинзона и Аркашки. Женщины, которые попадали на сцену так, как Серафима Георгиевна. Выскочки, которые получали ведущие роли благодаря влиятельным покровителям, безжалостно затирая подлинные таланты.
Но большинство актеров были иными! Большинство было истинными служителями искусства! Они терпели голод, холод, унижения, высылку из городов, оскорбительное отношение «общества», иногда полную нищету — и все во имя искусства.
Именно их не мог я сейчас отдать на поругание Тихонову и его подлой содержанке. Да я и сам стал бы таким же подлым, если бы позволил этой страсти возобладать над чувством товарищества и самоуважением!
— Ты мерзавец! Ты мерзавец! — вскричал я. — Ты вышвырнешь нас вон? Нет, это я сейчас швырну тебя с лестницы вместе со всеми твоими чинами, званиями и вместе с твоей содержанкой! Не бывать ей в нашей труппе! Не будет того! Ты слышишь, негодяй?!
У меня смерклось в глазах, и все окружающее доходило до меня, словно бледные пятна, вдруг выступающие из тьмы. Звуки расплывались и дрожали в ушах.
Вот я увидел побледневшее лицо Тихонова, услышал его испуганный, дрожащий голос:
— Да что вы, Никита Львович, успокойтесь, ради всего святого!
Но я не унимался.
— Тише, тише! — твердил Тихонов, явно перепуганный скандалом, который я ему закатил. — Опомнитесь! Выпейте воды! Мы все уладим!
— Я тебя убью… — прохрипел я, делая руками какие-то пассы, может быть, ища горло этого негодяя, но вдруг хлесткая пощечина ожгла мне лицо. В глазах прояснилось, и прямо перед собой я увидел глаза Серафимы Георгиевны. Так это она дала мне пощечину!
— Прекратите истерику, немедленно, — прошипела она. — Иначе я вам глаза выцарапаю. А вы, Вениамин Федорович, перестаньте дрожать, возьмите его под руку, ведите вот сюда, под лестницу… сейчас весь народ на шум сбежится!
Они подхватили меня под руки, но я еще упирался.
— Василий! — крикнула Серафима Георгиевна, поворачиваясь. — Помоги!
Я решил, что она зовет служителя, попытался вырваться, но чьи-то сильные руки так стиснули меня, что я не мог ни вздохнуть, ни охнуть.
— Да, перестарались вы сволочь изображать, Вениамин Федорович, — сказал знакомый голос. — Вышло, что вы актер куда как лучше Серафимы. Говорил я вам, что с этой вашей выдумки ничего не выйдет! А вы за свое… Да ладно тебе брыкаться, Никита, опомнись да взгляни на меня!
Я кое-как разомкнул судорожные веки.
Лицо немолодого, седого человека в черной инженерской тужурке показалось мне знакомым.
Я присмотрелся…
Это был Васильев. Василий Васильев, актер из петрозаводской труппы! Мы не виделись двадцать лет…
Наши дни
Хоть и существует некое почти непреложное правило, согласно которому, если хочешь в старой части Нижнего Горького пойти напрямик и сократить путь, то непременно удлинишь себе дорогу, ибо понятия «напрямик» здесь, в этом городе, который строился исключительно по произволу воображения, просто не существует. Все же нет правил без исключений, а потому Алёне удалось дойти до «Шоколада» от библиотеки почти напрямик и всего лишь за какие-то четверть часа. Однако она почему-то не вошла в главную дверь, которая находилась почти рядом с «L’Ԑtoile», а обогнула здание с другой стороны и вошла сначала в «Спар», расположенный на нижнем этаже. События последнего времени волей-неволей заставляли осторожничать. Вообще, строго говоря, если уж играть по навязанным правилам, Алёне следовало зайти домой и переодеться во что-нибудь другое, в чем ее еще не видели. И не для того чтобы продемонстрировать свои зимние наряды, а чтобы сбить со следа слежку. Но в том-то и беда, что около дома, а может, и около квартиры, не исключено, ждут лихие люди, и попасть туда безопасно можно только очень хитрым способом, а для этого ей нужна Сусанна, которая будет дома не раньше чем через полчаса.
Придется идти как есть… Но неохота, ой, как неохота!
Может, конечно, она уже просто пуганая ворона, которая дует на молоко, а может быть, понятие интуиции не просто так возникло в головах умных людей еще во времена Платона и позднейших эпикурейцев, хотя и называлось тогда несколько иначе, как-то там по-гречески, а как — Алёна не помнит, да и не играет это сейчас никакой роли…
Она прошлась по огромному «Спару». Как назло, навстречу не попалось никакой знакомой, с которой можно было бы предложить на несколько минут поменяться одеждой. Какова будет реакция этой гипотетической знакомой на такое предложение, Алёна предпочитала не думать. Не обнаружилось также скучающего продавца, у которого можно было бы взять напрокат форменную робу, спрятав свое пальто в шкафчике для сумок. Такие вещи обычно легко делаются только в детективных романах, а если хочешь быстро замаскироваться в реальности, оказывается, это не столь и просто. Конечно, можно было мгновенно купить новое пальто, с Алёны вполне сталась бы такая авантюра, тем паче что банковская карта имелась в наличии, однако вот беда: все отделы верхней одежды находились на втором и на третьем этажах «Шоколада», туда незамеченной не проскользнешь.
Ну что же, значит, придется идти в разведку без маскхалата.
Чувствуя себя так, словно на лбу у нее уже пляшет светящаяся точка оптического прицела, Алёна поднялась на эскалаторе и прошла по нижнему залу «Шоколада» в «L’Ԑtoile». Рекламной девицы, к сожалению, на прежнем месте не было, то есть даже в окоп не спрячешься.
Совершенно верно, прикинула Алёна, вот здесь она стояла, когда ее снимали. Кстати, это легко можно было сделать также и с площадки эскалатора. Круг подозреваемых расширяется.
Со вздохом Алёна поднялась на второй этаж и принялась прохаживаться по магазинчикам, делая вид, будто обуреваема желанием что-нибудь купить. Постепенно она продвигалась к тем отделам, откуда ее реально можно было сфотографировать, примерялась, проверялась, и вот что выяснилось: ни из мехового, ни из чулочного магазинчиков, ни из первого бутика бижутерии этого сделать нельзя. Так или иначе — фотографу предстояло подойти к перилам и встать именно перед прилавком того маленького и очаровательного бутика, где Алёна позавчера покупала украшение для Зои у продавщицы по имени Сюзанна.
Ну уж внимательная Сюзанна-то точно заметила бы такого фотографа! Может быть, сумеет его описать?
Алёна подошла к отделу и разочарованно вздохнула. Сегодня там работала другая девушка — высокая, худая брюнетка лет тридцати пяти с длинными черными волосами, похожая на испанку. Наверное, у Сюзанны выходной. А может быть, она уволилась? Надо спросить.
Алёна подошла к отделу бижутерии.
— Здра… — начала было она и запнулась, уставившись на бейджик на платье продавщицы. На бейджике было написано — «Сюзанна».
— Да, слушаю вас, — улыбнулась брюнетка.
— Э… скажите, а это ваш бейджик? — растерянно спросила Алёна.
— Ну да, а что такое? Имя редкое? Ну, меня вот так назвали. Вы знаете такой телеспектакль театра Сатиры — «Безумный день, или Женитьба Фигаро»?
— Конечно! Обожаю его! Там еще Андрей Миронов играл Фигаро, а Александр Ширвиндт — Альмавиву. И Вера Васильева там, и Татьяна Пельцер, и вообще потрясающий был состав.
— Ну вот, — словоохотливо рассказывала брюнетка, — помните, там такая Сюзанна, невеста Фигаро, из-за нее граф Альмавива с ума сходит? Ее Нина Корниенко играла?
— Само собой, помню.
— Моя мама, когда была мной беременна, все время этот спектакль смотрела, — продолжала продавщица. — И просто влюбилась в эту Сюзанну. Потому меня так и назвала.
— Очень стильное имя, — сказала Алёна. — Мою соседку зовут Сусанна, но мы договорились, что теперь я ее буду называть только Сюзанной.
— Сусанна! — с ужасом повторила продавщица. — Да я бы маме не простила, если бы она меня так толсто назвала!
— Вообще это мысль, — серьезно сказала Алёна, вспоминая, что соседка говорила то же самое. — Даже тема для психолого-физиологического исследования — влияние имени на комплекцию человека. А скажите, Сюзанна, позавчера ваша тезка работала, что ли?
— Почему это? — удивилась Сюзанна.
— Потому что тут стояла совершенно другая девушка, светловолосая, но у нее был бейджик с вашим именем.
— Да просто у меня выходной был, — пояснила Сюзанна. — А когда у меня выходной, какая-нибудь девушка из этого отдела, — она махнула рукой в сторону «Диаманта», — меня заменяет. У нас хозяин-то общий, разница только в том, что в «Диаманте» продают только драгметаллы, а у меня в «Бижу» — красивую бижутерию. Ну а они же не могут свой бейджик надеть, там марка магазина, поэтому они берут мой, чтобы видно было — магазин «Бижу», а на имя продавщицы ну кто внимание обращает?
— Я обратила, — сказала Алёна. — И моя соседка обратила. Мы заговорили о вашем имени, она говорит, что Сюзанна — такая стильная брюнеточка. Я тогда мимо ушей это пропустила, думала, она перепутала, а оказывается, вас заменяли!
Она оглянулась на отдел «Диаманта». За прилавком стояли респектабельный молодой человек со значительным лицом и очень пикантная, почти наголо стриженная рыжая девушка — продавцы.
— Скажите, а как зовут ту хорошенькую блондинку, которая вас заменяла позавчера? — спросила Алёна.
— А что такое? — забеспокоилась Сюзанна. — У вас к ней какие-то претензии? Какой-то вопрос?
Вопрос у Алёны был только один: не обратила ли блондинка внимания на некоего человека, который стоял как раз против ее прилавка и фотографировал находившуюся внизу писательницу Дмитриеву. Но стоит ли об этом говорить Сюзанне? Пожалуй, нет.
— О, ерунда, — усмехнулась Алёна, на ходу моделируя сюжет, что, сами понимаете, было для нее раз плюнуть. — Она ходит на шейпинг в спортзал в «Востоке», я хотела узнать тамошнее расписание…
— Ага, понятно, — кивнула Сюзанна и окликнула строго молодого человека: — Володя, кто меня позавчера заменял, Маша или Имка?
— Има, — важно отозвался он. — А что, какие-то претензии?
— Да нет, — хихикнула Сюзанна. — Просто Имка тут даме мозги парила насчет какого-то шейпинг-зала…
— Мозги парить — это она может, — вздохнул Володя.
— Има? — изумилась Алёна. — Ну и ну! Ну и имена тут у вас! Как на подбор! Была такая знаменитая перуанская певица — Има Сумак. Потрясающий диапазон голоса, мгновенные переходы от самых низких к самым высоким, про нее даже писали, что она может брать нечеловеческие ноты. Мои родители ее очень любили, у нас были пластинки с ее записями. Когда я в детстве этот голос слышала, я даже боялась, так это было странно и необыкновенно. Правда что нечеловечески.
— Точно, Имка нам что-то вкручивала про то, почему ее так назвали! — хихикнула Сюзанна. — Только мы не поверили.
— Почему не поверили? Ее мать тоже вполне могла слышать эту певицу, она была когда-то необыкновенно популярна в Союзе… Вас же назвали Сюзанной, почему ее не могли назвать Имой?
— Да ей вообще верить нельзя! — отмахнулась Сюзанна. — Имка такая вруша, это что-то страшное! То есть врет просто из любви к искусству. К примеру, вечно говорила, что видела моего мужа то там, то там, то в Макдоналдсе, хотя у него гастрит, какой ему Макдоналдс, то на Покровке в рабочее время, то на вокзале… Я сначала слушала, даже какие-то отношения с мужем выясняла, а потом однажды она говорит: видела твоего только что внизу в «Спаре»! А он в это время в командировке был в Чехии. Представляете? Ну, я и перестала ее слушать. Теперь врет, что нашла себе какого-то иностранца, что замуж за него вышла… ну, может, за гастарбайтера только и выйдет! И ни в какой шейпинг-зал она сроду не ходила, она скупая до жути, лучше задавится, чем лишнюю копейку истратит. Нормально одевается только потому, что у нас в фирме с этим строго. Будешь ходить как одяжка — гуляй отсюда! Я один раз была у нее дома — ну просто нищета, хотя очень хорошая квартира на Сусловой. Она у меня фикус выпросила, она фикусы обожает, а у нас тесно, девать старый фикус некуда — мы с мужем ей огроменную кадку домой привезли, дотащили до квартиры, и она нам хоть бы чаю предложила! Принесли — и спасибо, и идите себе.
Какая-то мысль мелькнула… Поймать ее Алёна не успела, но стало вдруг зябко и не по себе.
Вот глупости. С чего бы вдруг?
— Спасибо, — рассеянно кивнула Алёна.
— Да не за что, приходите, — улыбнулась Сюзанна.
Алёна ступила на эскалатор и поехала вниз.
Забавно, конечно. То есть забавно до невозможности! Значит, продавщица с диковинным именем Има могла спокойно наврать про такой же, как у Алёны, браслет на руке Анны Алексеевны? Ну, тогда искать ее и спрашивать о каком-то человеке, который фотографировал Алёну, совершенно бессмысленно: не отличишь потом вранье от правды.
А зачем ей врать?
Ну сказали же тебе — из любви к искусству!
Что ж, бывает…
Алёна посмотрела на часы. Ого! Вообще-то пора и в сторону дома направляться.
Позвонила Сусанне. Та уже вернулась. Немножко удивилась, услышав просьбу, но обещала все выполнить в точности прямо сейчас.
Так, нужно пять минут, чтобы дойти до дому. Тем, на чью помощь Алёна надеется, тоже нужно примерно столько времени.
Она пустилась чуть ли не бегом: очень хотелось посмотреть, как прибудет кавалерия!
Кавалерия не подкачала: Алёна еще только переходила дорогу от «Спара» к своему дому, как мимо промчалась милицейская машина и свернула во двор.
Алёна чуть замедлила шаги: пусть ребята наведут порядок, а она должна явиться ну просто как ни в чем не бывало.
У въезда во двор стояла белая машина с трафаретом «Нового такси». Алёна прошла мимо, как вдруг дверца распахнулась:
— Алёна Дмитриева! Здравствуйте! Я вас в этом пальто еле узнал!
Вот те на! Знакомая темноглазая физиономия. И Алёна Дмитриева, главное…
— Здравствуйте, — сухо проговорила она. — А откуда вам известно, как меня зовут? И мой адрес?
— Ну как же! — засмеялся таксист. — Как же! Вы столько раз такси заказывали в нашей фирме…
Алёна зябко передернула плечами, стараясь не выдать, как ей не по себе.
Интересно… Она никогда, ни разу не называла свой псевдоним, заказывая машину. В «Новом такси» ее могли знать только как Елену Дмитриевну Ярушкину, про Алёну Дмитриеву там никто и слыхом не слыхивал, в смысле, никто не предполагал, что это она — писательница Алёна Дмитриева. Насчет своей мировой славы она не обольщалась, тем более насчет популярности среди мужчин. Так что… интересная осведомленность…
— Ну и что вы здесь делаете? По вызову приехали?
— Нет, — сказал водитель смущенно. — Я к вам.
— Да я вроде не заказывала машину.
— Я… знаю. Я не как таксист приехал.
— А как кто? Как киллер?
Он вытаращил глаза:
— Господи! Это почему? Киллер! Скажете тоже!
— Это цитата, — вывернулась Алёна. — Из одной книжки. Шутка.
— Понятно, — протянул таксист, захлопывая дверцу и делая шаг к Алёне.
Она попятилась.
— Погодите. Вы что, боитесь меня?
— А что, должна? — с самым независимым видом поинтересовалась Алёна, продолжая тихонько пятиться во двор.
Там, во дворе, ее милиция, и она ее бережет. Или обязана это делать. Возможно, у нее паранойя, у детективщицы Дмитриевой, но у кого бы не возникло паранойи после событий последних дней?
— Не знаю… то есть меня точно не должны, — ответил водитель. — Меня, кстати, зовут Шш… То есть Александр. Будем знакомы?
— Будем, — холодно отозвалась Алёна, вспоминая Дракончега, которого тоже звали Александром и которого у нее в мыслях не было уже больше суток. Хм… раньше ей так нравилась невесть кому принадлежащая фраза: «Если ты когда-нибудь оставишь меня, оставь меня под дождем, чтобы я не плакала в одиночестве!» Но в данной ситуации дождя не понадобилось. Оказывается, интенсивное расследование и всяческий бег с препятствиями позволяют практически забыть любовные страдания! Интересно, это уже то, что называется сублимация, или еще нет?
— А по отчеству вас как?
— Викторович, — растерянно сообщил таксист. — А вы хотите меня по имени-отчеству называть? Меня так никто не зовет, даже на работе. Александром, кстати, тоже. Все просто Шшш… — Он запнулся и покраснел.
— Просто Шуриком, что ли? — усмехнулась Алёна. — Нет, простите, к такой короткости я не готова. Давайте уж лучше по имени-отчеству. Вы приехали-то зачем, Александр Викторович? Просто представиться, что ли?
— Не просто! — сказал он решительно. — Совсем даже не просто. Я сегодня вечером свободен. А вы что… что сегодня вечером делаете?
Алёна глянула изумленно:
— Дома сижу.
— А может… — Он очень напоминал господина Простакова, потому что говорил, от робости запинаясь. — М-м… может, сходим куда-нибудь? В бар? Или в это… в пи…
— В пивную? — ехидно уточнила Алёна. — Пиво ненавижу, извините.
— Я тоже! — почему-то обрадовался Александр Викторович. — Но ведь «Зергут» — это пивной ресторан, а вы там были с компанией.
Алёна чуть подняла брови. Занятный мужичок… Откуда он это может знать, ну вот откуда? Вчера при нем она всего лишь приехала к «Зергуту» и через пять минут покинула его. Нет, все же хорошо, что во дворе стоит милицейская машина!
— Я была на дне рождения подруги, — сказала Алёна, изо всех сил стараясь не показывать, как же ей не по себе. — Пива ни глотка не пили. Впрочем, это к делу не относится. Сегодняшний вечер я намеревалась дома провести, так что извините, Александр Викторович…
— Дома? — улыбнулся он неунывающе. — А может, я… ну, зайду? Сбегаю за тортиком, ну, за шампанским… Может, посидим, поговорим?
— Не может, извините. У меня другие планы. А шампанское я терпеть не могу. Я… жду гостя.
— Небось стриптизера своего? — нахмурился Александр Викторович. — За которым вчера по глухим переулкам гонялись? И с чем он к вам придет? С самогонкой, что ли? Пиво не пьете, шампанское тоже… Ну-ну, как угодно!
И, резко повернувшись, бросился чуть не бегом к выходу из двора.
Алёна пожала плечами.
Батюшки! Какие чувства, обалдеть! Ну прямо нижнегорьковский Отелло!
Позади вдруг раздалось деликатное покашливание. Алёна обернулась — милиционер в бронежилете стоял рядом и улыбался.
— Чтой-то, — спросил он совершенно по-нижнегорьковски, — меня водила испугался? Я ж не из ДПС!
У Алёны были свои соображения насчет того, почему «водила» испугался милиционера, но она как представила, сколько времени уйдет на попытки убедить, что она говорит правду, только правду и ничего, кроме правды, а потом ей все равно не поверят, и не стала углубляться в детали. Только снова плечами пожала:
— Да он вообще чудной какой-то. Здравствуйте, Петр.
Охранник был знакомый. Все в отделе охраны Советского района были с Алёной Дмитриевой хорошо знакомы. По своей гениальной рассеянности она частенько забывала вовремя отключить сигнализацию. И пару раз даже спасла себе благодаря этой рассеянности жизнь…
Сначала на нее в охране злились и даже штрафы выписывали, а потом привыкли и стали воспринимать как некое неизбежное зло. А поскольку это самое «зло» было очень обаятельным, симпатичным, даже, можно сказать, красивым, все его, в смысле, зла, и ее, в смысле, Алёны, промахи воспринимались снисходительно и вполне галантно.
— Здрасьте, Елена Дмитриевна, — приложил руку к козырьку Петр. — Вы только возвращаетесь домой? Вовремя. А то у вас не то попытка вскрытия, не то еще что.
Ну, само собой разумеется, Алёна очень натурально изобразила весь джентльменский набор чувств, каковые испытывает человек, чью квартиру, очень возможно, пытались вскрыть неизвестные злоумышленники. Она даже поделилась своей тревогой с соседкой Сусанной, которая совершенно случайно оказалась на первом этаже. Сусанна так встревожилась, так запереживала, что никто, будь он даже самим мистером Шерлоком Холмсом и его братом Майкрофтом в одном лице, не догадался бы, что это она сама буквально пять минут назад подошла к Алёниной двери и изо всей силы дернула ее. Дверь — вторая, выходившая в коридор, — к косяку прилегала неплотно, а потому послушно задергалась. Немедленно на пульт прошел сигнал… а поскольку звонка от хозяйки квартиры с просьбой о снятии с охраны не поступило, по тревоге выехали оперативники.
Вместе с Алёной они поднялись наверх и вошли в квартиру. Все ее уголки были обследованы. Затем точно так же тщательно были обследованы все укромные углы подъезда и проверен запор на чердачной двери. Получалось, что нигде злодеи не притаились, а сигнал о вскрытии прошел, повинуясь некоему глюку в охранной программе.
— Ужасно жаль, что вас напрасно потревожили, — вздохнула Алёна, выпроваживая своих защитников.
Ей в самом деле было жаль и почти стыдно, но, как говорится, жизнь дороже!
— В нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть, — философски обобщил Петр, вслед за чем охранники простились со своей подопечной и отбыли восвояси.
— Сюзанна, дорогая, спасибо вам огромное, — конспиративным шепотом выдохнула Алёна.
— Да пожалуйста, конечно, — закивала соседка, — но зачем вам это было нужно? Вы чего-то опасались?
— Да. Вы сегодня утром, когда домой возвращались, никакой знакомой физиономии не заметили?
— Заметила! — так и ахнула Сусанна. — Мне кажется, навстречу шел тот самый парень, который вчера вечером сидел на заборчике. Помните, я ему еще замечание сделала? Я подумала: с кем это он в нашем доме интрижку завел, у кого ночевал? И еще подумала, — хихикнула соседка, — что ведь у нас решительно не с кем интрижки-то заводить, все такие скучные и почтенные особы, кроме вас, вот разве что с вами романы крутить, но он же не имел к вам отношения, верно, Алёна?
— Да как сказать, — протянула наша героиня, польщенная комплиментом. — Он за мной следил, но вовсе не с романическими целями. Помните, вчера мы еще одну рожу тут видели, всю такую багровую, с белыми патлами, в шубе?
— О, еще бы не помнить! — поежилась Сусанна. — Эта рожа мне приснилась, я прямо в холодном поту проснулась ни свет ни заря!
— Понимаю, — покивала Алёна. — Так вот — это все одна компания, и этого отвратительного типа я тоже опасаюсь.
— А девушка? — спросила Сусанна. — Она тоже из них?
— Какая девушка? — насторожилась Алёна.
— Понимаете, — начала Сусанна нерешительно, — когда я входила, он выходил, и я подумала о том, о чем вам сказала, то повернула голову и увидела: он подходит к какой-то девушке. И она так взволнованно спросила: «Ну что?» Но я больше ничего не слышала. Просто подумала, что, конечно, насчет романа ошиблась.
— Как, как она выглядела? — начала от волнения заикаться Алёна. — Вы ее разглядели?
Сусанна озадаченно пожала плечами:
— Ничего не видела, потому что он ее загораживал. Голос слышала — нервный такой, злой, она прямо рявкнула: «Ну что?!» Понимаете, я ее просто краем глаза видела, я же не знала, что ее нужно рассмотреть и запомнить!
— Конечно, конечно, — уныло вздохнула Алёна. — Хоть цвет волос заметили?
— Ой, нет! У нее такая шапочка была на лоб надвинутая… черненькая… может, она и сама брюнетка, но точно не скажу, что-то там такое на ее пальтишко падало, то ли шарфик белый, то ли длинная прядь волос… так что, может, блондинка.
— А пальтишко какое?
— Черное! То есть темно-синее… Не помню!
— Понятно… — вдохнула Алёна. — Конечно, кто же знал, что на нее надо в оба смотреть…
Дела давно минувших дней
— Я так мечтал приехать к вам в Вытегру! — рассказывал Васильев некоторое время спустя, когда мы пришли в мою квартиру, выпили вина и я немного успокоился. — Что и говорить, Петрозаводск куда больше Вытегры, жизнь там привольней, но это была жизнь в неволе. Что такое ссылка? Та же тюрьма, только камера побольше. А в Вытегру я бы приехал свободным человеком! Но не удалось. Мне дали новый срок — на сей раз за уголовное преступление.
— Уголовное? — не поверил я своим ушам. — Да нет, не может быть! Что же ты сделал?!
— Почему ты спрашиваешь? — удивился Васильев. — Ты забыл?
— Что именно я забыл? — не понял я.
— Ну, то, о чем я тебе сообщил.
— Ты мне ничего не сообщал. Полгода, спустя которые ты собирался к нам присоединиться, миновали, вы с женой не приехали — ну мы и решили, что вы изменили планы, решили не идти по скользкой и трудной актерской стезе, а сообщить об этом стесняетесь. И решили вам не докучать.
— Ничего не понимаю, — недоумевающе пробормотал он. — Но ведь Лиза писала моей жене, рассказывала о вашей жизни… она писала, что ты до сих пор не можешь оправиться после удара, хочешь забыть все, что связано с Петрозаводском…
— Лиза писала? — тупо переспросил я. — Я не могу оправиться после удара? Какого?! Что случилось?!
Васильев отвел глаза.
— Я говорю об убийстве Эльвиры Михайловны. Это произошло спустя месяц после отъезда Лизы из Петрозаводска.
Несколько мгновений прошло в молчании. Эта весть была слишком невероятной, чтобы проникнуть в мое сознание сразу. Само собой, я мог предполагать, что женщины, которую я так пылко любил, нет уже в живых, ведь прошло двадцать лет, но подумать, что она могла быть убита…
На мгновение мне показалось, что я сам убит… двадцать лет назад.
— Расскажи, — попросил я мертвым голосом, сам удивляясь его безжизненности.
Вот что рассказал Васильев.
Через месяц после того, как Лиза покинула родные места, чтобы присоединиться ко мне и разделить мою нелегкую и неверную судьбу, в Петрозаводск вернулся Раймо Турккила. Вызвал его Яаскеляйнен. Почему — неведомо. Однако первым делом Раймо поспешил в дом, где жила Синикки. Старуха, у которой квартировала Синикки с ребенком, рассказала, что Раймо ворвался как сумасшедший, с безумными глазами, и первым делом спросил у Синикки, где Сампо. Тут старуха уверилась, что Раймо и вовсе повредился в рассудке, потому что — это ведь даже малому ребенку известно! — Сампо — это чудесная, волшебная мельница из старинных карельских и финских сказаний. Старуха Лоухи, хозяйка Похъёлы, у которой похитили Сампо, обратилась железной птицей, настигла похитителей и сбросила Сампо в море. Вот у кого должен был Раймо спрашивать, где Сампо! У старухи Лоухи! А он заявился к бедняжке Синикки…
Старуха была любопытна, а после такого вопроса любопытство ее вовсе разгорелось. Она припала к дверной щели и принялась подслушивать и подсматривать.
Она поняла, что Синикки испугалась ярости Раймо, но отказалась отвечать. Тогда он наклонился над спящим ребенком и положил пальцы на его горло, пригрозив, что задушит его, если Синикки не скажет, где Сампо.
Она упала на колени и стала умолять пощадить сына. Но Раймо был неумолим. Тогда Синикки что-то сказала — так тихо, сквозь слезы, что старуха ничего не поняла. Мгновение Раймо с ненавистью смотрел на нее, потом выхватил из кармана нож и перерезал ей горло одним умелым и ловким движением. Затем выхватил из колыбели сына, прикрыл его полой своей куртки и выскочил вон, отшвырнув со своего пути окаменелую от страха старуху. Кажется, он ее даже не заметил, не то, конечно, и ее убил бы, клялась она.
До смерти напуганная, она забилась в угол, не в силах ни полицию позвать, ни подойти к Синикки… хотя ей, бедняжке, уже ничем нельзя было помочь.
После этого Раймо побежал к Яаскеляйнену и отдал ему ребенка. Затем снова куда-то убежал, хотя хозяин гостиницы пытался его остановить. Раймо ворвался в театр, как раз когда там шла репетиция, бросился к Эльвире Михайловне, которая, как обычно, сидела в первом ряду партера, и о чем-то спросил ее по-фински. Никто ничего не понял, потому что языка никто не знал, однако Васильеву почудилось, будто слово «Сампо» прозвучало и теперь.
В зрительном зале царил полумрак, однако даже при этом неверном свете было видно, как побледнела Эльвира Михайловна. Никто не слышал, о чем шел быстрый разговор с Раймо, но вдруг она вскочила и с яростью крикнула по-русски:
— А вот этого я тебе никогда не скажу!
В ту же минуту Раймо ударил ее ножом в сердце и кинулся бежать. Но на него накинулись всем скопом, схватили.
Кто-то бросился к Эльвире Михайловне — она уже была мертва.
— Что ты наделал?! — вскричал Васильев. — Ты убил ее, за что, негодяй?!
— Она отдала Сампо Северному, — надменно ответил Раймо. — Она не хотела сказать, где он. Но я все равно найду его и отберу Сампо.
— Найди! — выкрикнул Карнович, отрываясь от Эльвиры Михайловны, которую звал и осыпал поцелуями ее мертвое лицо, приговаривая что-то бессвязное. — Он в Вытегре. Найди его! Найди и убей!
— Да, — усмехнулся Раймо, — так и сделаю!
Он оттолкнул Карновича так, что тот свалился на пол, расшвырял державших его людей и выбежал из театра. И никто его больше не видел.
— Что ты наделал! — крикнул Васильев Карновичу. — Ты выдал Северного! Теперь этот сумасшедший убьет его! Ведь сама Эльвира Михайловна его не выдала! Она нарочно крикнула последние слова по-русски, чтобы предупредить нас, чтобы мы молчали! А ты выдал его!
— Он получит по заслугам! — ответил Карнович, не сдерживая рыданий. — Из-за него она бросила меня. Из-за него она погибла!
Васильев был так разъярен, что Карнович из ревности натравил на меня убийцу, что накинулся на него с кулаками и принялся избивать. Пытаясь защищаться, Карнович выхватил нож. Васильев еле успел уклониться от удара и с силой ударил его кулаком в голову. Удар пришелся в висок — Карнович умер на месте.
— Так я получил новый срок, — продолжал Васильев. — Меня не приговорили к казни, потому что все видели, что я защищался, что Карнович убил бы меня, если бы мог. Но все же мне была продлена ссылка на десять лет.
Я не был на похоронах Эльвиры Михайловны, но знаю, что прошли они тихо и скромно из-за скандальности убийства. О том, где и как похоронили Синикки, я вообще не знаю, слышал только, что ее ребенка взял к себе Яаскеляйнен, ведь, хочешь не хочешь, это сын его племянника.
Из-за ареста я не сразу мог написать вам и сообщить о случившемся. Я очень боялся, что произошло непоправимое, что Раймо уже добрался до вас и убил тебя. Однако вскоре я получил письмо от Лизы, где говорилось, что у вас все спокойно, но ты очень тяжело перенес известие о гибели Эльвиры Михайловны и писать пока не можешь. После этого наша переписка затихла, я ничего о вас не знал. Но узнал другое! — воскликнул он воодушевленно. — Узнал, что Раймо все же добрался до Вытегры — и нашел там свою погибель.
— Как это? — спросил я.
— По слухам, в двадцати верстах от Вытегры, в какой-то деревне, нашли лошадь, которая устало бродила по дороге, и сани. В санях лежал человек со сломанной шеей. По всем приметам — Раймо Туркилла! Решили, что он направился в Вытегру, правил, по обыкновению многих финских возчиков, стоя, но по дороге сани подбросило на каком-то ухабе, он упал навзничь и сломал шею. Он не добрался до тебя — его наказала судьба.
Я молчал, опустив голову, и вспоминал тот день в Вытегре. Тот день, когда я гнался за неизвестным вором, покусившимся на браслет, нагнал и убил…
Так вот кого я убил! Так вот почему его лицо показалось мне знакомым! Раймо Туркилла очень напоминал своего дядю, брата своей матери Яаскеляйнена, хозяина гостиницы в Петрозаводске.
Он искал меня, он убил бы меня, если бы нашел, но увидел браслет и решил не рисковать. Главное было — найти браслет!
Я вспомнил слова Эльвиры Михайловны: «Это мой прощальный подарок. Я и сама получила его в подарок, в благодарность… это старинный талисман…»
Смелая догадка пронзила меня. В тот вечер, накануне моего отъезда из Петрозаводска, тайное письмо принесла мне Синикки: ведь Эльвира Михайловна боялась доверить кому попало тайну своей любви, а Синикки была ей беззаветно предана, ни за что не выдала бы ее. Эльвира Михайловна спасла ее ребенка, и Синикки подарила ей в благодарность браслет. Неужели это какой-то заветный талисман? Как он попал к ней? Почему его называли Сампо, ведь Сампо — это мельница?
Никто не мог ответить на эти вопросы. Наверное, я никогда не узнаю разгадку этой тайны, никогда…
А впрочем, ни тайны, ни их разгадки не волновали меня в те минуты. Я думал об Эльвире Михайловне, которая умерла из-за любви ко мне. Я думал о Лизе, которая не открыла мне тайну ее смерти. Должно быть, она о многом догадывалась. С присущей любящим женщинам проницательностью, с присущей ей удивительной душевной тонкостью она понимала, что я с ней — только частью своей души, что сердце мое по-прежнему принадлежит другой… Ну что ж, она довольствовалась тем, что я мог ей дать.
Слезы навернулись на мои глаза. Стыд пронзил меня. А если она догадывалась, что, обнимая ее ночью, я вызываю в памяти пленительный образ другой женщины, Эльвиры?
Лиза, моя бедная, верная, безропотная, любящая Лиза… Я недооценивал тебя, я не мог любить тебя так, как ты того заслуживала… я даже оказался неспособен сохранить бумаги, которые остались после тебя, твои письма! Я хотел их прочитать, но сунул куда-то, они затерялись… и теперь мне никогда не найти их, не прочесть письма Васильева о гибели Эльвиры Михайловны…
Давно я не плакал, может быть, с детства, но теперь не сдержал слез.
Наши дни
Сусанна ушла. Алёна переоделась в халат, умылась и пошла на кухню. Открыла холодильник.
Сморщила нос. Не то что бы ей не хотелось всего того, что в изобилии имелось в холодильнике и на плите. Хотелось. Но еще больше хотелось чего-нибудь необыкновенного и в то же время обыденного. Какой-то еды, какой она давным-давно не ела… чего-нибудь из детства. Может, манной каши… нет! Киселя с молоком.
Кисель имелся в наличии — Алёна его любила и варила довольно часто, несмотря на вопиющую калорийность. Если уж прямо так следовать всем похудальным канонам, то, конечно, фигуру сохранишь, но сколько радости в жизни потеряешь! Радости терять Алёна не любила, особенно в такие тяжкие и загадочные минуты жизни, как сейчас. Поэтому она налила в большую тарелку киселя, а с краев — молока. Получился темно-бордовый остров посреди белого моря. Молочные реки, кисельные берега! Сказочней некуда! Сказки были с Алёной всю жизнь — когда она читала их, когда писала о них научные работы, когда сама их сочиняла… удивительно ли, что сказочные реалии действовали на нее утешительно?
Она съела две полные тарелки и, сытая и спокойная, побрела в любимое кресло под уютным зеленым бра. Само собой, сразу потянуло в сон, но было не до сна. И пока не до кресла. Пришлось сначала прогуляться к письменному столу и переворошить стопку дисконтных карт, сваленных в большую желтую пепельницу из богемского хрусталя, когда-то, давным-давно, привезенную из Чехии. Ага, вот она — карточка «Клеопатры».
Алёна набрала номер. Трубку подняли быстро, но тут же раздался щелчок, как будто одновременно кто-то взял трубку и на параллельном аппарате.
— Алло, магазин «Клеопатра».
— Здравствуйте, будьте любезны, пригласите Секлиту Георгиевну, пожалуйста.
— Здравствуйте, я слушаю, а это…
— Это Алёна Дмитриева.
— Алёна Дмитриева? — озадаченно повторила Секлита Георгиевна.
— Ну да. Я… вы меня извините, я вам вчера сунула эту несчастную книжку, так глупо получилось… — покаянно залепетала Алёна. — Даже не подписала… ну, меня одно извиняет, что я вашей фамилии не знала. Как ваша фамилия, Секлита Георгиевна? Я вам другую книжку принесу и подпишу по всем правилам.
— Да ну что вы… — растерялась Секлита Георгиевна. — Это необычайно любезно с вашей стороны, но… нет-нет, мне страшно неловко… получается, что я у вас выманиваю книги. А они ведь так дорого стоят!
— Мне из издательства авторские экземпляры присылают, это бесплатно, — успокоила Алёна. — Ну пожалуйста, ну скажите вашу фамилию!
— Нет-нет, я не могу этого позволить! — воскликнула Секлита Георгиевна, а Алёна подумала, что так тщательно отнекиваться она может по трем причинам: из деликатности, из откровенного нежелания читать книжки писательницы Дмитриевой или из страха назвать свою фамилию.
А что, есть чего бояться?
Рядом вдруг заиграла музыка, и мужской голос запел: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас грозно гнетут!» Алёна не без изумления прослушала начало знаменитой «Варшавянки». В жизни не встречала человека, который выбрал бы для звонка мобильного телефона революционную песню! Хотя что такого, песня да песня, довольно красивая…
— Ой, мне звонят, больше говорить не могу! — с явным облегчением воскликнула Секлита Георгиевна и бросила трубку как раз в тот миг, когда певец обещал, что мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за народное дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу.
И тут произошло нечто удивительное! Должны были бы раздаться гудки, но вместо этого чей-то голос в трубке хихикнул и ехидно прошептал:
— Да Авдеева ее фамилия! Авдеева! Подумаешь, тайны мадридского двора развела, интриганка несчастная!
Вслед за этим что-то брякнуло, как будто трубку небрежно бросили на рычаг, и раздались гудки отбоя.
Алёна только головой покачала. Как иногда полезна бывает неприязнь, которую испытывают друг к другу коллеги! Ведь анонимной информаторшей была не кто иная, как вторая продавщица «Клеопатры», Раиса Федоровна. Противная тетка, а все равно — спасибо ей. Подтвердила догадку, которая возникла у Алёны, когда она прочла копию статьи «Закрепление собственности»!
Алёна достала из сумки ксерокопию, полученную в библиотеке. Теперь сомнений не осталось — на фотографии именно Секлита Георгиевна. Это она с помощью писем по инстанциям и даже организацией голодовки около здания городской администрации закрепляла за собой собственность, некогда принадлежавшую ее предку, Георгию Никитичу Старкову. Тому самому, чье имя было написано химическим карандашом на потемневшей от времени и грязи дверной табличке, которую сегодня видела Алёна и о которой без дрожи вспоминать не может. Именно Секлите Георгиевне (в статье она именовалась просто С. Г. Авдеевой) принадлежала инициатива назвать 1-й Ильинский переулок именем эсерки Серафимы Клитчоглоу, которая была матерью Георгия Старкова и некогда, в самом начале ХХ века, жила в этом доме. В газетной статье также говорилось, что П. В. Авдеев, недавно скончавшийся муж С. Г. Авдеевой, в девяностых годах, во время волны возвращений старых и придумывания новых названий, работал в областной комиссии по переименованию — очевидно, его стараниями и было дано переулку имя Клитчоглоу.
Статья была написана иронично, даже ехидно. Больше всего забавляло автора то, что Авдеева пытается закрепить за собой не имущество предка-купца или дворянина, обездоленных революцией, а спекулирует как раз именем революционерки, которая априори должна была считать всякую собственность кражей, если вспомнить Прудона, коего столь часто цитировали эсеры и анархисты. И автор укорял С. Г. Авдееву в том, что она, получив-таки в собственность дом, в котором жила Серафима Клитчоглоу, по сути дела, не почтила память своей прапрапра— и так далее бабушки, а просто насмеялась над ее идеалами.
Алёна задумчиво рассматривала нечеткий снимок. Внешне-то Секлита Георгиевна была, безусловна, похожа на Серафиму Клитчоглоу, ведь фамильное сходство проявляется и через поколения, а вот насчет идеалов — это да, с этим дело обстояло хуже. Жаль, что ее не назвали Серафимой, как ляпнул рыжий Алёнин шпион-вымогатель, было бы куда легче, наверное, свое отстаивать, Серафима Георгиевна — это куда эффектней звучит, чем Секлита какая-то…
Секлита?! Да ведь это…
Алёна схватилась за тетрадь и ручку.
Секлита. Се-кли-та…Нет. Вот так: Се-клит-а. Окончание А добавлено для более естественной формы имени, а вообще Секлит — это ведь сокращенно Се рафима Клитчоглоу!
Неужели это так? Неужели Алёна права? Или просто пошла на поводу своего разнузданного воображения? О, она это может! Недаром она так часто вспоминала миссис Оливер из романов Агаты Кристи и ее знаменитое высказывание: «Я не представляю себе, кто мог это сделать. Представить я, конечно, могу… Я все могу представить. В этом для вас вся трудность. Я могу представить хоть сию минуту. Все мои версии прозвучали бы вполне убедительно, и тем не менее все они были бы неверны».
Ну и пусть неверная версия, пусть имя дали Секлите Георгиевне не в память Серафимы Клитчоглоу, а в память какой-нибудь мещанки из пьес Александра Николаевича Островского, великого русского драматурга, но все равно — версия очень красивая!
Алёна еще немножко полюбовалась красотой этой версии, вспомнила, как она летом прошлого года вот так же, практически по одному имени, разгадала преступника [20], и продолжала думать дальше, уже по делу, так сказать.
Так или иначе, дом «с перезаколоченным» чердачным окошком — теперь дом Секлиты Георгиевны. И именно в этом доме, в полуподвале, снимает у нее комнату некая особа, на счету которой несколько убийств и непонятные криминальные дела. Однако в том же полуподвальчике Алёна видела саму Секлиту Георгиевну. А очень лихие ребята, Серый и Вейка, вели себя как хозяева в комнате верхнего этажа — жутко грязной, захламленной, заваленной каким-то отвратительным старьем, с запыленными фикусами и коробкой с какими-то наркотическими веществами. Кстати, как бишь они назывались? Антирабическая вакцина?
Алёна отправилась к компьютеру и через несколько минут с изумлением читала следующее:
«Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая (КОКАВ) представляет собой вакцинный вирус бешенства штамм Внуково-32, выращенный в первичной культуре клеток почек сирийских хомячков, инактивированный ультрафиолетовыми лучами и формалином, концентрированный и очищенный методами: ультрафильтрации с последующей очисткой через пористые кремнеземы; ультрацентрифугирования или ионообменной хроматографии. Стабилизаторы — желатоза и сахароза. Пористая масса белого цвета, гигроскопична. После растворения — слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Одна доза (1,0 мл) содержит не менее 2,5 Международных Единиц (ME).
Вакцина индуцирует выработку иммунитета против бешенства».
В другой статье мысль была сформулирована еще более четко:
«Антирабическая вакцина, или вакцина против бешенства, предназначена для обязательной иммунизации людей, подвергшихся укусам неизвестных животных или ослюнению неизвестными животными».
Вот так номер… Значит, собака-спасительница не просто напугала Вейку, но и покусала его? И он теперь делает себе — или кто-то делает ему — прививки против бешенства?
Алёна очень нечеловеколюбиво рассмеялась. Так тебе и надо, ряженый!
Однако странно, что настолько цивилизованный (дорогой спортивный костюмчик говорит о многом!) и осторожный (первым же делом после укуса неизвестной собакой кинулся делать прививки, на что сумасшедший бомж вряд ли способен!) субъект живет в жутковатом переулке, в жутковатом домишке. Хотя… ничего нет странного. Здесь ведь база, так сказать, опорный пункт этой разбойничьей банды. А он среди них свой, даже, возможно, главарь. Алёна помнила, что о Вейке говорил покойный Костя Маркин в том самом первом разговоре с Данилой, который Алёна случайно услышала в «Видео». Речь шла о том, что онани за что не позволит Даниле самому встретиться с Вейкой, потому что онаникому не будет нужна, если выдаст все концы.
Она — понятно, это та загадочная злодейка, которая причастна к смерти ювелира, а возможно, и Константина, та, которая снимает комнату у Секлиты Георгиевны. А если так — Секлита ее знает!
Знает, но… скажет ли, если спросить?
Что-то сомнительно. Хозяйка квартиры может не опасаться явно разбойных дел своих квартирантов только при одном условии — если они очень хорошо платят за молчание. Нет, существует и второе условие — если она с ними в доле. Вообще это вполне возможный вариант. Секлита работает в ювелирном магазинчике, где были куплены оба браслета… нет, куплен был один, Алёнин, а второй просто использован, когда понадобилось его подменить… ЗАЧЕМ?
Этот вопрос светится огромными буквами, но ответа на него не находится. Секлита очень замутила воду с этим браслетом, сваливая все на напарницу и безудержной лестью усыпляя бдительность тщеславной писательницы Дмитриевой, но, к счастью, длилось это недолго. Теперь Алёне ясно: доверять ей нельзя.
Так. С хозяйкой квартиры более или менее понятно. Разбираемся с квартирантами. Имя или фамилия главной злодейки явно начинается на А, ведь на конверте Константина, адресованном ей, стояла эта буква. Но ведь и фамилия Секлиты начинается на А!
Так что, она и есть атаманша?.. Трудно поверить, хотя похоже на то!
Нет. В любом случае — в деле еще есть какая-то девушка. Сусанна видела девушку. К Косте, судя по словам соседки, приходила девушка. А вот интересно, являлся ли кто-нибудь за Костиным письмом в «Видео»? Наверное, если он его так вот просто оставил, то не сомневался, что за ним придут… Может быть, должна была прийти та самая девушка, которую смогут описать продавцы из «Видео»?
Задать этот вопрос можно только Виталию. Тому парню, у которого письмо Алёна выцыганила обманно… И тут только сейчас ей пришло в голову, что ее любопытство могло иметь самые печальные последствия для этого парня!
Она вскочила и кинулась в прихожую — снова одеваться. Ужасно не хотелось выходить из дому, но не пошлешь же вместо себя очередного разведчика! Во-первых, некого, да если бы и было кого, разве она может человека подставить под удар? Вдруг за Виталием следят?
А зачем за ним следить? Нет, ну в самом деле, кто они, эти злодеи? Они же не шпионы, как сказал бы Володя Шарапов, а нормальные уголовники, бандиты. Следить они будут за Алёной Дмитриевой… и не факт, что дело ограничится слежкой!
Нет, в «Видео» она не пойдет. Во-первых, не факт, что Виталий окажется на месте — может быть, сегодня не его смена, в таких местах вроде работают сутки через трое, а во-вторых, там наверняка уже побывала милиция. О смерти Константина, конечно, всем уже известно, и Виталий наверняка рассказал и о письме, и об Алёне, и о тех, кто им еще интересовался.
Так что от «Видео», наоборот, нужно держаться подальше, тем более что у Алёны еще куча вопросов, которые требуют серьезного осмысления и желательно ответов.
Один из этих ответов получить довольно просто…
Она набрала знакомый номер.
— «Новое такси», слушаю вас, — раздался приятный девичий голос.
— Здравствуйте, — сказала Алёна. — Я — ваша постоянная клиентка. Живу на Ижорской, — она назвала адрес. — Скажите, у вас записаны мои имя и фамилия?
— Конечно, — ответила девушка. — А что такое?
— Извините, если мой вопрос покажется вам странным… — смущенно проговорила Алёна. — Но как они у вас записаны?
— Елена Дмитриевна Ярушкина… а что, тут какая-то ошибка?
— Нет, все правильно, просто один ваш таксист пытался уверить меня, что меня совсем иначе зовут.
— Кто же это такой? — засмеялась девушка. — Какой номер машины?
— Да забыла я номер, — с досадой призналась Алёна, — но зовут его Александр Викторович, фамилию не знаю, мы с ним вчера ездили от «Зергута» до Арзамасской где-то около девяти вечера.
— Так, вижу этот рейс, — сказала девушка. — Но почему вы говорите, что его зовут Александр Викторович? Вас возил совсем… Одну минуточку! Что ты говоришь, Катя?
Послышался другой голос. Ни слова Алёна не могла разобрать, но звучал голос весьма встревоженно.
— Нет, ну а меня нельзя было предупредить? — раздраженно воскликнула девушка и тут же чрезвычайно вежливо обратилась к Алёне: — Оказывается, у нас со вчерашнего дня новый водитель, я об этом просто не знала. Да, в самом деле, его зовут Александр Викторович.
— А фамилия?
— Фамилия? — Девушка растерялась, но тут же вдали раздался командный окрик Кати, и девушка бодро ответила: — А фамилии водителей мы сообщаем клиентам только после предъявления претензий руководству в письменном виде!
Ну и ну, еще одна тайна мадридского двора!
Что бы все это значило? Да ничего особенного. Наверное, Александра этого Викторовича выпустили в рейс сразу, еще толком ничего не сообщив диспетчерам, которые были в отгуле. А то, что он называл Елену Ярушкиной Алёной Дмитриевой, говорит лишь о том, что он знает ее как писательницу. Ну, может, жена его книжки Дмитриевой читает. Или дочка. Или знакомая. Или он по телевизору Алёну видел. Или взял да и сам что-то ее прочитал!
Словом, все очень просто.
Алёна положила трубку.
Опять захотелось есть. Наверное, от волнения.
Хороший способ не ужинать — уйти из дому. Ну нет, страшновато…
Не включая света, Алёна подошла к окну и поглядела во двор. Пусто. На заборчике палисадника никто не сидел, только какая-то большая овчарка рыскала по сугробам. Потом со стороны ворот раздался свист, и овчарка ринулась на зов.
«Вот была бы у меня собака, — мечтательно подумала Алёна, — можно было бы совершенно спокойно пойти с ней куда угодно!»
Но собаки не было, и завести ее в ближайшие полчаса вряд ли представлялось возможным. Поэтому Алёна решила сдаться на милость своего желудка. Организм знает, чего хочет!
Организм отчетливо хотел еще киселя с молоком… Ну что же!
Алёна наполнила тарелку и стала медленно есть. Было очень вкусно, и она немножко стеснялась, что испытывает такое удовольствие от этого незамысловатого блюда из сказок своего детства.
Вообще, еда, вкусная еда — это хорошая штука. Очень многие помыслы и побуждения человека с ней связаны, а для сказочных и мифологических героев чуть ли не главная награда — обладание предметами, которые обеспечивают возможность наесться в любое время дня и ночи. То же озеро молочное с кисельными берегами, или горшочек, который сам собой варит кашу, или пряничный, с леденцовыми окнами, домик ведьмы в сказке «Гензель и Гретель», или общеизвестная скатерть-самобранка, или мельница Сампо в финском эпосе «Калевала», да и греко-римский рог изобилия из той же серии… Что еще? Алёна пыталась вспомнить, безотчетно водя ложкой по киселю… белое молоко вливалось в очертания нарисованной ею загогулины, и Алёна вдруг обнаружила, что загогулина эта напоминает букву S.
И сразу вспомнилось, как Вейка на кургузом диванчике повернулся, просыпаясь, и открылась надпись на груди его светлого костюма — такие же темно-бордовые буквы, первая S, потом a, потом m… Может быть, «Sampo»? Вейка — он же, наверное, финн? Где-то Алёна читала, что так в старину пренебрежительно называли финнов… но надо уточнить.
Она вернулась в комнату и взяла с полки толстенный словарь Ушакова.
Ну вот, так и есть: «ВЕЙКА (финск. veikko — друг, товарищ). В старом Петербурге — финн-извозчик с разукрашенной ленточками и бубенцами запряжкой, приезжавший для катанья на масленице».
Это или прозвище, или имя, или фамилия ряженого. Кстати, не он ли тот самый горячий парень, о котором писал Константин? Выражение «горячие финские парни» уже стало общепринятым.
Хм, интересно, что же делает горячий финский парень Вейка в Нижнем Горьком и почему представитель этой добропорядочной нации связался с какими-то спекулянтами золотишком? Порочная натура взяла верх над национальным характером, и он решил поискать братьев по духу и разуму? Да запросто. Или все не так просто? Или совсем не просто?
Алёна достала из сумки записку Константина.
«ПРОПАДИТЕ ВЫ ВСЕ ПРОПАДОМ, СУКИ ГРЕБАНЫЕ.
Давайте, давайте, поищите на Черниговской под звездами, кривую старухину скатерку подкрутите, может, чего и найдете с этим горячим парнем, только этого вам в жизни не понять, дебилам с большой дороги! Да вы раньше сдохнете, чего вам и желаю. А меня не ищите — это бесполезно, я к вам больше не вернусь!»
Черниговская, хм… Надо полагать, это в Нижнем Горьком? Ну что ж, как принято выражаться, Гугл рулит.
Алёна включила компьютер, набрала в поисковике «Нижний Горький, Черниговская» и через мгновение уже читала о том, что «улица Черниговская — это нижняя набережная Оки. Она создавалась в общей системе градостроительных преобразований Нижнего Новгорода в 1834–1839 годах по проектам архитекторов Ефимова и Готмана. Устройство набережной совпало с сильным пожаром 1836 года, когда вся старая, преимущественно деревянная застройка выгорела. После этого вдоль Оки предписывалось возводить исключительно каменные здания. Так, к концу XIX века на улице Черниговской сформировался цельный архитектурно-промышленный комплекс, состоявший из доходных домов, гостиниц, корпусов крупных промышленных предприятий. В то время здесь, на набережной Оки, бурлила жизнь: была одна из самых крупных стоянок городских извозчиков, у берега толкались многочисленные суда, количество которых в дни Всероссийской ярмарки увеличивалось в разы.
Сейчас образ улицы Черниговской сохраняется в том виде, в каком он сложился к концу XIX века, хотя у отдельных исторических зданий внешний вид несколько искажен многочисленными переделками, пристройками к фасадам, разрушениями и утратой отдельных элементов.
Памятники архитектуры на улице Черниговской:
Дом А. Л. Барышевой (д. 4-а), архитектор Г. И. Кизеветтер (1837–1839);
Дом П. Кубаревой (д. 4-б), архитектор Г. И. Кизеветтер (1838–1847);
Дом М. В. Медведева (д. 5), архитектор Г. И. Кизеветтер (1843–1844);
Дом А. С. Гущина (д. 7), архитекторы Г. И. Кизеветтер, Д. В. Ешевский (1837–1862);
Дом Е. Гребенщиковой (д. 8), архитектор Н. И. Ужумедский-Грицевич (1853–1852);
Усадьба Н. Г. Щепетовой (д. 12), архитектор Г. И. Кизеветтер (1838–1849);
Дом П. Е. Горячева (д. 15), архитектор А. Л. Леер (1832–1833);
Усадьба Щукиных-А. Ненюкова (д.16), архитекторы И. Е. Ефимов, А. Е. Турмышев (1822–1848);
Дом М. Кузнецова (д. 17), архитектор И. Е. Ефимов (20-е годы XIX века)».
Очень интересно, вот так так! Оказывается, Алёна эту улицу сто раз видела за Канавинским мостом, где автобусы и маршрутки поворачивают, но ни разу на ней не была. Тихая, заброшенная… На ней, судя по всему, что-то спрятано. Его ищут Вейка и Ко. Но это место знал Константин. И выдал такие издевательские координаты… Поищите, главное дело, под звездами! Небось вся улица ночью под звездами! Или на каком-то из домов нарисованы звезды и копать нужно там? А почему копать? Про то, что копать, ничего не сказано, нужно поднять «кривую старухину скатерку».
Какую скатерку? Почему она кривая? Какой старухе она принадлежит? И эта скатерка что, посреди улицы Черниговской лежит?! Бред…
Чувствуя себя весьма уязвленной оттого, что она, признанная разгадывательница всяческих загадок и даже шифров, ровно ничего не понимает в этой записке, Алёна продолжала машинально щелкать по ссылкам, но они или повторяли первую, или содержали адреса сайтов немногочисленных предприятий, работающих на Черниговской. И вдруг мелькнуло — «Куйбышевская водокачка».
Что такое? Мигом всплыло в памяти симпатичное лицо ювелира Лехи, и словно бы зазвучал его голос:
«Это не моя куртка, это братишка мой балуется. Он мифологией увлекается, ну и нарисовал какой-то символ».
«Славянской мифологией? — помнится, обрадовалась Алёна. — Я тоже ею занималась, и даже очень плотно!»
«Да всякой, славянской, античной, еще северной какой-то, нибелунги там, викинги… по-моему, у него все в одну кучу свалено, — насмешливо ответил Леха. — Язычник он, короче. Слышали, может, в развалинах Куйбышевской водокачки язычники тусуются? Ну так он из них».
И Виталий из «Видео» упоминал о Куйбышевской водокачке. Что же это такое?
Алёна открыла страницу и прочла статью из «АиФ-НН» четырехлетней давности под названием: «Кто получит водокачку?»
«Практически в центре Нижнего Новгорода находится странный объект.
Когда-то он назывался Куйбышевской водокачкой. И никакой загадочности, кроме чисто технических достижений конца XIX века, не содержал. Эта водонасосная станция была построена в 1880 году и просуществовала больше века, до 1988-го.
Но сегодня этот памятник историко-культурного наследия самого мирного назначения на улице Черниговской стал жутким и опасным местом.
Громадные глубокие резервуары, где до июня (!) лежит и не тает лед, мрачные катакомбы и тоннели, множество водоотстойников, заросших и заваленных, провалиться в которые проще простого, а самостоятельно выбраться практически невозможно.
В гулких огромных залах провис высоченный массивный потолок — кажется, он рухнет от малейшего эха. А каменный, когда-то красивый пол под ногами испещрен бесконечными дырами и грозит проломиться в любую секунду. А там темная глубина: земля? бетон? трубы?.. И все это на площади около 8—10 тысяч квадратных метров. Только воронье каркает…
Мрак, заброшенность и неизвестность привлекают бомжей и подростков. Истории о пропавших людях, заблудившихся диггерах, замерзших навсегда во льду пьянчужках добавляют эффекта любителям остроты и экстрима. И мало кто из них отдает себе отчет, что беда может произойти и с ним…»
Далее следовали упреки в адрес чиновников, которые допустили разрушение здания и не ставят около него никаких заграждений, но про это Алёна читать не стала. Получается, старая водокачка — подходящее место, чтобы что-то спрятать… Алёна торопливо кликала на все ссылки, в описании которых встречалось словосочетание «Куйбышевская водокачка». Удалось узнать подробности об истории ее сооружения:
«В октябре 1876 года на заседании городской думы приняли предварительные наметки по строительству водопровода… Создали вместительный резервуар — 85 тысяч ведер, защищенный от поверхностного загрязнения крышей… Чтобы избежать преждевременного износа машины, продолжительность ее суточной работы определяли в 18 часов.
Все работы по строительству водопровода выполнили за короткий срок… чуть более двух лет. В городе ждали воду, но праздника на улицах Нижнего не получилось: оборудование, заказанное в Англии и стоившее больших денег, пришлось демонтировать и заменять. Обязательство изготовить и установить оборудование взял на себя завод Курбатова.
Машины для станции были полностью сконструированы и установлены замечательным нижегородским конструктором-самоучкой Василием Калашниковым. Паровая машина, известная под названием «Калашниковская», исправно служила горожанам сорок лет.
При строительстве водопровода в финансировании работ приняли участие наиболее состоятельные купеческие семейства: Блиновы, Бугровы, а также промышленник Курбатов. Свой взнос в 375 тыс. рублей они оговорили специальным условием: вода населению должна подаваться бесплатно на вечные времена. В 1900 году ввели тарифы на оплату воды…»
И больше ничего. В основном по ссылкам открывались фотографии очень живописных и пугающих развалин. Внушительные кирпичные стены были испещрены разнообразнейшими граффити. Кое-где под снимками стояли подписи фотографов, и вдруг Алёна заметила фамилию: «А. Овечкин».
Знакомые все лица! Андрей Овечкин — известный фотограф и приятный человек. Но главное, что он своими фотографиями дважды очень помог Алёне в ее детективных похождениях. Без преувеличения можно сказать, что, если бы не его снимки, она не докопалась бы до истины [21].
Получается, он эту Куйбышевскую водокачку знает!
Алёна мигом схватилась за телефон:
— Андрей, привет!
— Привет, — отозвался хрипловатый голос. — Только сегодня тебя вспоминал.
— А что такое?
— Да одна моя знакомая прочитала твой детектив, в котором ты меня изобразила, ну, помнишь, про бабочек, — со смешком пояснил Андрей, — и который про сексуальные меньшинства тоже прочитала и сказала, что ты мало про меня пишешь, она еще хочет что-нибудь почитать с моим участием.
— Раз так, — обрадовалась Алёна, — у твоей знакомой есть шанс… Я как раз пишу новый роман, и мне до зарезу нужно побывать на Куйбышевской водокачке.
— Только летом, — разочарованно сказал Андрей. — Сейчас все снегом завалено.
— Что, и внутри снег? — огорчилась Алёна.
— Ну зачем внутри. Снаружи, конечно. Туда если идти, надо самые высокие сапоги надевать, какие только найдешь, и джинсы в них заправлять. И то будь готова, что ноги промочишь.
— Ага, так, значит, мы идем? — радостно воскликнула Алёна.
— Ну давай сходим как-нибудь в выходные, раз такой пожар, — лениво отозвался Андрей.
— Завтра как раз суббота! — сообщила Алёна.
— Да нет, завтра не получится, мы в одиннадцать едем в гости в деревню.
— До одиннадцати мы успеем, я тебе обещаю! Выйдем в восемь, час туда, час там, час обратно — это я с запасом беру! — к одиннадцати вернешься. Можем вообще выйти в половине восьмого, я же знаю, ты рано встаешь! — настаивала Алёна.
Андрей даже опешил от такого натиска и какое-то время молчал. Потом пробормотал:
— Нет, в самом деле пожар?
— В самом деле.
— Ладно, давай в восемь встретимся на проспекте Гагарина, как раз на остановке «Университет».
— Погоди, а при чем здесь проспект Гагарина? — удивилась Алёна. — Водокачка же на Черниговской! Не проще ли от моста пройти, от Нижне-Волжской набережной?
— Я не люблю дважды одной и той же дорогой ходить, — пояснил Андрей. — Кроме того, там очень интересный спуск. И граффити под Окским мостом — зашибись. Мне как раз нужно для клуба граффитистов кое-какие снимки их творений сделать, вот я и соединю полезное с приятным.
— Отлично, договорились! — обрадовалась Алёна.
— А детектив интересный будет? — хозяйственно спросил Андрей.
— А я что, писала когда-нибудь неинтересные? — обиделась наша писательница.
— Таковых я не читал! — отрапортовал Андрей.
— Ответ правильный! — засмеялась Алёна.
На том и простились.
Алёна прикинула по времени. Чтобы успеть к восьми, выйти ей нужно в семь тридцать. Хочется верить, что в такую пору все злодеи будут еще крепко спать, но береженого Бог бережет. Нынче утром «монтер из Дом. ру» явился довольно рано. Поэтому лучше не рисковать.
Она позвонила в такси «Сатурн» — нет, до выяснения всех и всяческих непоняток лучше с «Новым такси» дел пока не иметь! — и вызвала машину на семь тридцать утра.
— Только имейте в виду, — сказала она, — у меня очень тяжелый багаж, поэтому большая просьба — пусть водитель поднимется в квартиру.
— Ну, это, наверное, за отдельную плату, — с сомнением в голосе сказала диспетчер.
— Нет проблем, — бодро отозвалась Алёна.
— Вам позвонят, когда будет известно, что за машина.
— Хорошо, спасибо.
Она положила трубку и усмехнулась.
Итак, некое подобие безопасности обеспечено. Надо приготовить одежду, а то утром всегда такая суматоха… Что надеть? Надо утеплиться, можно представить, какая там стужа, в этих промерзших стенах! Старый лыжный костюм, может?
Алёна в сомнении посмотрела на него. А что, он еще ничего… «Adidas» не стареет, как известно.
Нет, костюм светлый, неудобно будет по развалинам лазить. К тому же он слишком напоминает одеяние Вейки. И, главное, такое хорошее слово на груди этого поганого ряженого было написано, даже обидно! Ведь волшебная мельница Сампо — это практически подобие рога изобилия или некоей механической скатерти-самобранки, источник счастья, благополучия и изобилия. Сампо может намолоть столько хлеба, соли и денег, что хватает на еду, припасы и устройство пиров! Когда-то, еще девочкой, Алёна с величайшим упоением читала детский пересказ «Калевалы», это была одна из самых любимых книжек, и помнила, что Сампо выковал знаменитый кузнец Ильмаринен, чтобы хозяйка Похъёлы, старуха Лоухи, отдала за него свою прекрасную дочь.
Сможешь выковать мне Сампо? Крышку пеструю украсить, Взяв конец пера лебедки, Молока коров нетельных Вместе с шерстью от овечки И с зерном ячменным вместе?Ильмаринен сделал это, взял за себя красавицу, а старуха Лоухи получила в свое безраздельное владение чудо-мельницу, но никто из бедных саамов, жителей Похъёлы, ни горсти муки, которые щедро молола Сампо, ни щепотки соли или самой мелкой монетки из того, что так и сыпалось из нее, не получил. Все забирала себе жадная старуха, присвоила этот финский рог изобилия, эту, можно сказать, скатерть-самобранку и…
И…
И!!!
— Боже мой, — тихо сказала Алёна. — Боже мой! Неужели это оно? Неужели так просто?!
Она кинулась к компьютеру и просидела за ним до темноты, то рассматривая карту Нижнего Новгорода, то один за другим открывая снимки Куйбышевской водокачки, снова и снова всматриваясь в очертания развалин, но того, что искала, так и не нашла. То ли оно просто не попало на снимок, то ли все это было лишь плодом ее воображения. Ну как тут снова не вспомнить миссис Оливер: «Представить я, конечно, могу… Я все могу представить!»
Наконец Алёна пошла спать в надежде, что, может быть, во сне явится к ней какое-то озарение, как случалось частенько, однако видела во сне лишь одного красавца и сердцееда Лемминкайнена, который был убит коварными колдунами Похъёлы и брошен в болота Маналы… в темные, промерзлые до самого дна, словно страшные подвалы Куйбышевской водокачки… И всю-то ночь Алёна мерзла, и закутывалась с головой в одеяло, и натянула сверху плед, но так и не смогла согреться до самого утра. А под утро, когда, как известно, снятся самые вещие сны и посещают нас прозрения, увидела она переулок Клитчоглоу и большую березу посреди заснеженного двора. Но вот странно — у березы были огромные, темные, гладкие, кожистые листья.
Такие же, как у фикуса.
И Алёна засмеялась во сне, потому что получила ответ на еще один вопрос, и ей даже не надо больше идти в «Шоколад» и кое-что уточнять у Сюзанны, — а потом она заснула сладко-сладко и, конечно, проспала бы утренний поход, кабы не был на шесть утра поставлен будильник.
Дела давно минувших дней
Наконец я успокоился. Все это имело отношение к далекому, далекому прошлому, а я жил теперь настоящим, и хоть Эльвира зримо воскресла в моих воспоминаниях, все же это были не более чем воспоминания. Совсем другое интересовало меня сейчас, но я не знал, как перевести разговор…
Васильев снова начал рассказывать — теперь уже о своих скитаниях. Я узнал, что он тоже похоронил жену — она упокоилась в Петрозаводске, а после окончания срока ссылки вернулся на прежнюю дорогу политической деятельности. Он вновь примкнул к своим друзьям-народникам, которые теперь называли себя социалистами-революционерами.
— Я могу довериться тебе? — спросил он испытующе.
Я кивнул. Разумеется, он мог мне довериться! Из-за меня, пытаясь спасти меня, он убил человека! Я был обязан ему, да и не только поэтому — и по дружбе я помог бы ему всем, чем мог.
— Я доверю тебе свою жизнь, — сказал Васильев. — И не только свою.
Оказывается, он входил в состав Боевой организации своей партии. Все участники ее жили по условиям строгой конспирации и преследовались полицией куда более сурово, чем обычные, рядовые социалисты-революционеры, которые занимались только пропагандой и агитацией.
— То есть вы — такие же террористы, которые некогда убили Александра Второго? — спросил я изумленно.
— Да, — кивнул Васильев. — И многих других притеснителей народа. Слышал про убийство министра Сипягина? То-то же…
— Но объясни тогда, — наконец-то приступил я к тому, что меня сейчас волновало больше всего, и это были отнюдь не террористические акты Боевой группы социалистов-революционеров, — при чем здесь эта несусветная история с Тихоновым и госпожой Красавиной?! Почему ты в ней замешан? Почему ты говорил, что ничего не выйдет? Ты знал об этой странной авантюре? Кто она такая, эта Серафима Георгиевна, какое отношение имеет к ней Тихонов?!
— Серафима Георгиевна — наш товарищ, — сказал Васильев, и, надо признаться, я чуть не упал со стула. — Ее настоящая фамилия… пусть она останется тебе неизвестной, это вообще неважно. Ты далек от политики, но, наверное, даже ты можешь знать эту фамилию. С ней связаны такие террористические акты, что наши самые храбрые боевики преклоняются перед этой женщиной. По ее следу в Питере шла полиция. Удалось запутать след, сейчас ее ищут в Вильно и Риге, а мы спешно переправили ее сюда. Тихонов не состоит в нашей организации, но всей душой сочувствует нашему делу, как многие прогрессивные люди России, которые понимают, что старому режиму приходит конец. Он сам предложил нам спрятать Серафиму в актерской среде. Мы ничем не рисковали: на сцену бы вы ее не выпустили, ведь она совершенно лишена таланта.
— Да не сказал бы, — усмехнулся я. — Она очень ловко выдавала себя за вульгарную содержанку!
Васильев как-то странно посмотрел на меня, словно хотел сказать что-то, но не решался.
— Ну, договаривай! — напряженным голосом проговорил я, почуяв неладное. — Она в самом деле его содержанка?
— Э… э… — протянул Васильев. — Я не знаю их отношений, но не удивлюсь. Ты плохо знаешь Серафиму. Она никогда не притворяется. Предельно честна. И какой она тебе кажется, такая и есть. Я смотрю, — сказал он, меряя меня испытующим взглядом, — мои слова тебя волнуют? Ты уже похоронил своих мертвецов и готов открыть свое сердце… Послушай, Никита! Именем покойной Эльвиры Михайловны, которую любил ты и которая тебя любила до последнего дыхания… именем Лизы, вообще всем святым заклинаю тебя — держись подальше от этой женщины, если не хочешь, чтобы она погубила тебя! У нее нет чувств. Это революционная фурия, безумная фанатичка. Я безмерно уважаю ее преданность нашему делу, нашей организации, но раньше застрелился бы, чем отдал бы в ее руки свое сердце!
Его слова заставили меня содрогнуться, но… но я уже слишком глубоко увяз, чтобы пытаться выбраться. Я чувствовал, что жизнь моя и смерть — в руках этой женщины, и хотел выпить свою чашу до дна. Но, понятно, Васильеву я не намеревался этого показать.
— Что это ты придумал, Вася? — воскликнул я с наигранным ужасом. — Не скрою, она привлекательна, но… Нет, меня никогда не влекли безумные фурии!
Эх, все же не зря я посвятил жизнь сцене. Я стал хорошим актером. И я своей игрой убедил Васильева успокоиться.
Мы засиделись далеко за полночь, а потом пошел его провожать. Он ни за что не хотел остаться ночевать, потому что наутро к нему должны были прийти товарищи насчет организации какой-то сходки в Сормове. Он удивлялся, охота же мне тащиться по студеной слякоти, которая царила в те дни на улицах, но я только посмеивался, мол, боюсь, что он слишком пьян и не дойдет сам. Я кликнул извозчика, который подремывал на углу Жуковской улицы, мы сели и потрюхали по Большой Покровской, потом, миновав Новую площадь, свернули к нему на Канатную. Я попросил извозчика подождать и пошел проводить Васильева до квартиры. Он все дивился моей заботливости, а дело было вовсе не в ней. Я просто должен был убедиться, что он пришел именно к себе, что он не пойдет живой ногой в 1-й Ильинский переулок, который здесь совсем недалеко, минутах в десяти ходьбы. Я даже подождал, пока Васильев уляжется в постель!
Он был слишком пьян, чтобы заподозрить неладное.
Я вышел… и, расплатившись, отпустил извозчика.
А сам пошел… легко догадаться куда. По пути я иногда оглядывался, проверяя, не поднялся ли с постели Васильев и не отправился ли и он туда же, куда пошел я. Это доказывает степень моего глубокого умопомешательства.
Я перешел Арзамасскую и приблизился к нужному мне переулку. Здесь царила глухая тьма, и только приобретенная на севере никталопия позволяла мне идти, не спотыкаясь на каждом шагу.
Вот и переулок, который начинался неприметной тропкой между двумя домами. В котором из этих домов живет она?
Ветер пробрал меня до костей внезапным порывом. Я вздрогнул… Меня вдруг, словно ножом, пронзило ощущение близкой опасности. Чудилось, недобрый взгляд сверлит мне спину…
Да, я забрел в такие места, где лучше не ходить по ночам, тем паче одному!
И лишь стоило мне так подумать, как сзади моих лопаток коснулось что-то острое и твердое, а потом раздался странный, шипящий голос:
— Щщщто ты тут делаещщщщ?
— Ищу Серафиму Георгиевну, — выдавил я дрожащим голосом.
— Щщщщпик? — недобро выдохнул незнакомец.
Это слово меня приободрило. Если человек предполагал, что за Серафимой могут шпионить, значит, он знал, кто она такая! Значит, это не вор и не убийца. Значит, он не убьет меня, не выслушав.
— Нет… я… артист. Моя фамилия Северный. Я… я обидел Серафиму Георгиевну. Я пришел извиниться.
— Что?! — послушалось сзади изумленное восклицание, а потом смех… женский голос и женский смех.
Я обернулся так резко, что едва удержался на ногах.
Она стояла передо мной в черном, до пят укрывающем ее плаще.
Я молчал, глядя на ее распущенные волосы, на прекрасные глаза, на улыбающиеся губы. Желание скручивало меня, как боль.
— Извиниться хотите? — спросила она не без издевки. — Ну, давайте! Начинайте!
Я молчал, как последний дурак.
— Ну, — сказала она нетерпеливо, выпростав из-под накидки руку — в руке был револьвер! — и стволом поправив волосы. — Ну же!
Я молчал и смотрел на эту руку. Рука была голая. Волосы распущены. Она выскочила с постели — должно быть, заметила мою шляющуюся по переулку персону и встревожилась. Там, под плащом, что там?
Не помня себя, я взялся за края плаща, которые она стискивала другой рукой, и дернул в разные стороны. Плащ свалился. Она стояла в тонкой рубашке и каких-то чувяках на босу ногу. Ветер ударил ей в лицо, размел волосы, облепил тонкой тканью сорочки молодую грудь, живот, бедра…
— Ого, — сказала Серафима насмешливо, — да наш Гамлет весь горит!
И, подойдя ко мне вплотную, впилась своим алым ртом в мои губы.
Наши дни
— Давно ждешь? — спросил Андрей, поправляя очки и улыбаясь во всю свою бородатую физиономию.
— Да только что приехала, — ответила Алёна с самым невинным видом. — На маршрутке.
Она не собиралась рассказывать Андрею, как добиралась сюда. Когда утром позвонила диспетчер «Сатурна» и сообщила номер такси, Алёна сначала выяснила, как зовут водителя (оказалось, что ее должен транспортировать на вокзал некий Владислав Львович Перевалов), а потом повторила просьбу, чтобы он поднялся в квартиру. Водитель явился. Алёна уточнила, что это именно Перевалов Владислав Львович собственной персоной, и только потом открыла ему, но тут же сообщила, что передумала, вещи с собой не берет, а просит отвести ее на вокзал просто так, без багажа. Водитель несколько приуныл, однако Алёна посулила ему сто рублей сверх суммы — за беспокойство, — и все уладилось.
Она сняла с аппарата трубку и положила ее на стол. Если кто-то позвонит по домашнему номеру, решит, что занято. В кухне и кабинете горел свет… конечно, электричество нынче вздорожало, однако в такой пасмурный день, какой наклевывался, вполне естественно не экономить. Опять же — буде случится наблюдатель, он непременно должен решить, что хозяйка дома сидит и носа никуда не кажет.
На всякий случай она даже мобильный свой выключила!
И мысленно пропела, вспомнив мелодию, которая была сигналом телефона Секлиты Георгиевны:
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас грозно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами — И это причина для всех оправданий!Это, конечно, не вполне канонический текст, а вариант группы «Гражданская оборона», однако он весьма подходил к текущему моменту!
Когда отъехали, Алёна, знай, оглядывалась и смотрела во все глаза по сторонам, но вроде бы преследователей не обнаружила. Поэтому на полпути она сообщила водителю, что намерена изменить маршрут, и велела везти ее к бассейну «Дельфин». Если водитель и счел, что дамочка малость не в себе, спорить не стал и высадил капризную клиентку, где требовалось.
Алёна обошла здание бассейна кругом, удостоверилась, что слежки нет, и почти бегом ринулась к университету, умудрившись явиться даже раньше Андрея.
— Ну что, вперед?
— Вперед.
И они двинулись… назад, то есть в том направлении, откуда только что прибежала Алёна, — к бассейну «Дельфин». Ей стало смешно, но она помалкивала. Впрочем, как только кончилась ограда университетского парка, сразу свернули в боковую улицу, а потом пошли вниз, к обрыву над Молитовским мостом. Сбоку высились липы и дубы парка «Швейцария», но Андрей вел Алёну по какой-то узенькой и довольно крутой тропинке.
— Самый короткий путь на Черниговскую, — пояснил он. — Мы же спешим?
— Ну да, — сказал Алёна и снова оглянулась.
Сзади — никого. Все в порядке!
— Что ты все озираешься? — усмехнулся Андрей. — Чужие здесь не ходят, не волнуйся. Если дороги не знать, можно скатиться вниз и ноги переломать. Тебе повезло, что я ее знаю!
Собственно, даже при этом условии Алёна несколько раз еле удерживалась на тропе и уже устала ноги ставить боком, чтобы не скользили.
Наконец они спустились под Окский мост. Наверху громыхали трамваи, просвистывали шинами машины. Отсюда, снизу, конструкции, поддерживающие мост, казались подавляюще-высокими, а граффити на них — уродливыми и нелепыми. Алёна никогда не видела в них ничего интересного, поэтому окинула взглядом равнодушно. В любом случае, того, что ей нужно, здесь нет.
Ее спутник яростно щелкал затвором фотоаппарата.
— Андреас, давай в темпе, а? — попросила Алёна, чувствуя, что начинает зябнуть. — В самой водокачке граффити тоже есть, может, там поснимаешь?
— И там, и тут, — пробурчал Андрей, чуть ли не запрокидываясь в сугроб, чтобы заснять какую-то многоцветную загогулину, запечатленную на перекрытиях.
К счастью, это оказалось последним объектом его внимания. Они выбрались на пустую дорогу, засыпанную снегом, с узкой тропой между сугробами. Впрочем, слабонаезженная колея свидетельствовала, что здесь иногда появлялись не только пешеходы.
— На самом деле, — сказал Андрей, — здесь неплохой объезд всех пробок площади Лядова и проспекта Гагарина, только этого никто не знает.
Дорога была окаймлена плотно сплетенными кустами ив. И вот наконец в конце этой черно-белой аллеи показалось нечто красное.
— Это водокачка? — спросила Алёна.
— Она самая, — кивнул Андрей. — Теперь очень тебя прошу: от меня ни на шаг не отходи. Идем след в след, понимаешь, что это такое? Как по болоту. Я более или менее знаю места, где можно безопасно ступить, а в других — провалишься в такую ямину, что запросто шею сломаешь или разобьешься. Я один раз ухнул… на мое счастье, плашмя, повис, как лягушка, ужасно вспомнить, даже не представляю, как вылез.
— Я… да, я буду осторожна, — пробормотала Алёна, не в силах оторвать взгляда от красных кирпичных стен, к которым они приближались.
Это были самые благородные и живописные развалины, которые ей приходилось видеть. Даже сам цвет стен был особенным, он говорил и о качестве кирпича, и о необычайном тщании кладки. Казалось бы, водокачка, ну что особенного? Однако архитектура ее больше напоминала грандиозный храм. Некогда это было великолепное, просто роскошное здание с огромными окнами и сводчатыми потолками, с несколькими залами. Алёна то шла, задрав голову, разглядывая строение потолков, то спешила выглянуть из высокого окна, полюбоваться высоким, заснеженным, заросшим ясенями обрывом, вплотную к которому стояла водокачка, то заглядывала в провалы под полом… Андрей уже устал то и дело одергивать ее:
— Осторожней! Не ходи туда! Стой!
Похоже, его немного удивлял этот энтузиазм. Ему казалось: ну, посмотрела писательница на развалины издали, ну, впечатлилась… А она снова и снова шныряет по всем углам, как будто что-то ищет.
Она и вправду искала, но пока не находила! Потолок был благороден, кое-где даже сохранилась старая побелка, но это был просто грязно-серый потолок без всякого намека на… на звезды.
Граффити здесь имелось сколько угодно. Чего только не намалевали на стенах! Чего только не написали! Кошки, люди, раскрытые рты, причудливые узоры, в которых на непосвященный взгляд не было никакого смысла, надписи, надписи… почему-то все на английском языке. Однако звезды не принадлежали к числу излюбленных тем граффитистов.
А ведь Константин ясно писал: «Поищите на Черниговской под звездами». Значит, где-то должны быть звезды! Кажется, они обшарили уже всю водокачку, но безрезультатно. Она спросила Андрея, но он тоже не мог припомнить звезд.
А может быть, водокачка вовсе ни при чем?! Да нет, ну как же… А где еще искать?!
Алёна снова подняла голову. Здесь потолок наполовину провалился, остались только балки перекрытия, сквозь которые виднелось серое пасмурное небо.
Небо… да, оно сейчас серое, мутное, непроглядное, но ведь в ясные ночи сквозь проломы видны звезды! Что, если Константин имел в виду именно обыкновенное, настоящее небо, которое можно увидеть сквозь проломы? Но потолок разрушен в нескольких помещениях. Надо их осмотреть и найти… что? Звездное небо… под звездным небом нужно повернуть кривую старухину скатерку. Скатерть-самобранка старухи Лоухи, хозяйки Похьёлы, — это Сампо, волшебная мельница. Значит, здесь что-то должно напоминать о Сампо.
Алёна оглядела каждый камешек, каждую рухнувшую балку в этом зале, потом перебежала в другой, в третий…
Андрей, уже убравший фотоаппарат, шел за ней, ничего не понимая, но чувствуя, что неспроста она так мечется по развалинам водокачки, забыв про опасность.
Те помещения, потолок в которых был цел, она пробегала не глядя. Но те, где наверху зияла хоть малейшая щель, оглядывала очень внимательно.
Но ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего о Сампо, здесь не было.
Кстати, а каким оно должно быть, Сампо? Мельница… Ветряная? Водяная? Ну, нет… В «Калевале» не было точного описания, Алёна вчера не зря сидела перед компьютером.
Видит: Сампо вырастает, Крышка пестрая возникла. И кузнец тот, Ильмаринен, Вековечный тот кователь, Стал тогда ковать скорее, Молотком стучать сильнее И выковывает Сампо, Что муку одним бы боком, А другим бы соль мололо, Третьим боком много денег. Вот уже и мелет Сампо, Крышка пестрая вертится: И с рассвета мелет меру, Мелет меру на потребу, А другую — для продажи, Третью меру — на пирушки.Собственно, это все описание волшебной мельницы. Еще сказано, что Сампо — большое, но все же его вполне могла унести старуха Лоухи.
Рада Похъёлы старуха. Понесла большое Сампо, В гору Похъёлы относит, Отнесла в утес из меди, Что за девятью замками; Корни Сампо там зарыла В глубину на девять сажен, И один шел корень в землю, А другой — на берег моря, Третий корень — в глубь утеса…И оно, получалось, было похоже на дерево, если имело корни? Ну да, на мировое древо… Недаром же некоторыми исследователями считается, что крышка Сампо символизирует усеянный звёздами небесный купол, вращающийся вокруг центральной оси — опоры, на которой покоится весь мир. А гибель Сампо привела к гибели мирового древа на Северном полюсе…
Однако в той старой книжке, которую Алёна так любила в детстве, было нарисовано что-то круглое, вернее, овальное, яйцевидное, сверкающее и сияющее. И правильно, ведь не только мировое древо знает мифология, но и мировое яйцо как модель мира, как нечто, из чего вообще мир произошел. И оно плавает в водах Мирового океана согласно легендам… а Вяйнемейнен, Ильмаринен и Лемминкайнен похитили Сампо у старухи Лоухи и увезли на лодке в море…
О, да ведь на куртке Данилы было именно изображение Сампо! Сверкающий овал, напоминающий мировое яйцо!
Значит, надо искать что-то подобное? Какой-то овальный камень? Овальную плиту?
Но знал ли Константин мифологию столь хорошо? Или он мыслил более простыми символами?
«Кривая старухина скатерка…» Почему кривая? Как вообще может быть скатерть кривой?
Нет, конечно, он имел в виду не скатерть, а мельницу как символ скатерти-самобранки. Кривая — сломанная?
Сломанная мельница под звездами…
Алёна снова отправилась в обход водокачки.
— У тебя полчаса, самое большее, — сказал Андрей. — Иначе я опоздаю.
— Андрей, ты иди, — сказала Алёна. — Иди. Я теперь тут уже более или менее ориентируюсь и не заблужусь. На обратном пути, конечно, на ту круть, где мы спускались, не полезу, выйду по Черниговской к Нижне-Волжской набережной, и все будет в порядке. Иди, спасибо тебе большое!
Андрей покрутил пальцем у виска:
— Ты что? Разве можно тут оставаться одной? А ухнешь куда-нибудь нечаянно? Или с потолка кирпич обрушится? Ты думаешь, если в этом зале потолок еще не проломлен, значит, он не может рухнуть в любой момент? Никуда я не пойду, и если ты за полчаса не управишься, я тебя пинками отсюда прогоню, поняла?
Алёна усмехнулась. За полчаса она или найдет то, что ищет, или не найдет.
Но это как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Что она ищет? А главное — зачем?
Вот именно. Зачем ей все это нужно?
Ну, затем, чтобы знать…
Что знать?
— Андрей, слушай, а ты не в курсе… тут искали какие-нибудь клады?
— Да запросто, — кивнул он. — Где их только не ищут! Даже под нашей хрущевкой вдруг начали какие-то умники рыть — говорят, там, судя по старым картам, должно быть спрятано несметное сокровище. А здесь-то… ходили слухи, будто эсеры после экса сюда добычу принесли — от охранки спрятать, а пол просел — тут же на зыби станция выстроена, постоянно всякие осадки-просадки происходили, — ну и все деньги сгинули без следа. Потом, когда революция началась, якобы один из Рукавишниковых, ну, богачей наших знаменитых, их усадьба на Верхне-Волжской набережной стоит, ну, ты знаешь, последнюю заначку тут оставил… А уже после развала Союза золото партии тут искать стали, ты представляешь?! Будто бы его последний секретарь обкома сюда тайно свалил, весь областной золотой запас. Но это уже полный маразм.
Алёна кивнула. Золото партии — да, но добыча эсеров… Серафима Клитчоглоу была эсерка, ее прапраправнучка хочет что-то найти здесь…
Или это совершенно не имеющие друг к другу отношения события? Ни друг к другу, ни к каким-то там звездам…
Алёна вздохнула и безнадежно взглянула на потолок. Звезды, звезды… В этом зале явно делать нечего: потолок целый, не обвалившийся, даже чистый, до него граффитисты не добрались, слишком высоко, однако все же умудрились подняться метров на пять от пола и оставили там серебристую надпись — stars.
Что?!
Но ведь stars — это звезды!
Алёна опустила глаза и увидела, что стоит на круглой крышке люка водосливного колодца.
Алёна медленно сошла с крышки.
Крышка не овальная, а круглая. Может быть, это и имел в виду Константин под словом «кривая»? Кривая — то есть не в виде яйца, а просто круглая. И она под звездами! Неужели это оно? Неужели именно о ней писал Константин?!
Ох и накрутил…
Ну, предположим, Алёна угадала. И что теперь с этим делать?
— Слушай, Андрей, — сказала она. — Давай попробуем эту крышку поднять, а?
— Ты что? — спросил он с ужасом. — Туда лезть собралась?! Да никогда в жизни. Через пять моих трупов!
— Нет, я хочу просто заглянуть туда, понимаешь? Просто заглянуть!
Андрей оценивающе посмотрел на крышку.
— Не с моей спиной такие штуки ворочать, — сказал с сожалением. — Потом не разогнусь. Тут нужно что-то железное, чтобы поддеть, как рычагом. И пяток крепких парней. И вообще, думаешь, если бы эту крышку было так просто поднять, ее не уперли бы уже давно местные бомжи и не сдали бы в металлолом? Ты посмотри, посмотри, ее даже покурочили, явно тут не один раз пытались ломами поддеть!
«Но как же эту крышку мог поднять Константин? — недоверчиво подумала Алёна. — Как он мог это сделать один? Или не один? С кем? С Данилой? Или…»
Она зажмурилась, вспоминая записку:
«Давайте, давайте, поищите на Черниговской под звездами, кривую старухину скатерку подкрутите, может, чего и найдете с этим горячим парнем, только этого вам в жизни не понять, дебилам с большой дороги! Да вы раньше сдохнете, чего вам и желаю. А меня не ищите — это бесполезно, я к вам больше не вернусь!»
Да ничего не надо поднимать. Крышку люка надо просто-напросто повернуть, ведь Костя пишет — покрутите! Может быть, это только кажется, что она вросла в пол, а на самом деле это просто хитрый такой замок, который нужно просто знать, как открывать?
Вот взяться за эту выемку посредине и…
Нет, не верится даже!
Алёна сняла перчатки и потрогала углубление в середине крышки. Нет, пальцами здесь нечего делать, нужно вставить ломик, или толстую, очень крепкую ветку, или еще что-то в этом роде, а потом…
— Ого! — сказал вдруг Андрей. — А здесь сегодня что-то оживленно…
Алёна посмотрела в высокое окно. Как раз напротив него на дороге остановилась машина — большой темно-синий джип. Передняя дверца открылась, и из машины выбрался… Вейка, а за ним…
Алёна в ужасе стиснула руки.
Не хотелось верить глазам.
Нет, этого не может быть… как они сюда попали? Как они узнали?.. Как ее выследили?!
Незадолго до этого мгновения человек в сером пальто, черной шапочке и черном шарфе, который последние два дня то удачно, то не очень следил за Алёной Дмитриевой, подошел к ее дому и позвонил в домофон. Никто не отвечал. Он позвонил снова. И снова не дождался ответа.
Он нахмурился, потому что, когда шел к подъезду, обратил внимание на освещенное окно. Значит, писательница дома. Что же не отвечает?
Возможно, не слышит сигнала домофона?
Он наугад набрал номер другой квартиры, и вскоре отозвался женский голос:
— Кто там?
— Электрик, в подъезде неполадки со светом, — ответил человек. — Откройте, пожалуйста.
Замок щелкнул.
Человек головой покачал, дивясь людской доверчивости: суббота на дворе, ну какой электрик потащится свет чинить?! — и вошел подъезд.
Поднялся на нужный этаж и остановился перед дверью, за которой находилась квартира Алёны Дмитриевой.
Позвонил раз, другой, третий; позвонил еще и еще.
Дверь никто не открывал.
Человек порылся в кармане и достал листок бумаги. На нем были написаны оба телефона Алёны — квартирный и мобильный. Сначала он набрал квартирный — раздались короткие гудки. Что, так увлеклась разговором, что не слышит звонков в дверь?
Набрал ее мобильный номер и получил ответ:
— Телефон абонента выключен или временно недоступен.
Подождал, снова позвонил в дверь и по домашнему номеру.
Картина та же.
Вышел из подъезда, предварительно подсунув под дверь краешек запыленного половичка, чтобы дверь не закрылась, закурил, подумал…
Зазвонил его мобильный. Человек вздохнул, понимая, что сейчас начнутся вопросы, на которые у него нет ответа.
— Ну что, нашел ее? — спросил нетерпеливый голос.
Человек подробно объяснил ситуацию.
— А какое у тебя ощущение — есть кто-то дома или нету? — Теперь голос звучал встревоженно.
— Свет в квартире горит… — неопределенно ответил человек.
— Ну, это старый номер, — хмыкнул звонивший. — Подожди пять минут и снова поднимись, потарабань в дверь. Я тебя наберу через некоторое время, одну идею надо проверить…
Человек ровно через пять минут вошел в подъезд, отодвинув половичок и похвалив себя за предусмотрительность. Он как раз поднимался на второй этаж, когда его мобильный затрезвонил.
— Алло?
— Ее нет дома, — сказал разозленный голос. — Она хитрая… И свет включила для блезиру, и трубку сняла. Да-да, я на телефонную станцию позвонил — разговора там нет, трубка просто снята. А идея моя правильная оказалась — таксопарки проверить! С утра у нее было заказано такси «Сатурн», собиралась на вокзал, но потом вроде туда не поехала. Короче, выходи на угол Ижорской, к «Спару», я сейчас подъеду, заберу тебя, надо вызвонить этого водилу и узнать, куда он ее все-таки отвез.
Дела давно минувших дней
В театре Серафима больше не появлялась. Она сказала, смеясь, что своим дурацким скандалом в собрании я провалил весь их конспиративный замысел.
— По-хорошему, надо уехать отсюда, да поскорей, — проговорила она задумчиво. — Но пока не могу.
Мне хотелось думать, что она не уезжает, потому что не может покинуть меня… О себе могу сказать одно: я лежал у ее ног, как пес, и ринулся бы вслед за ней по первому ее самому небрежному посвистыванию.
Как ни скрывали мы нашу связь, вскоре она стала известна. Первым узнал Васильев, который как-то раз застал меня у Серафимы полуодетым. Он сделал вид, что ничего особенного не произошло, но в глазах его застыло странное выражение — некая смесь жалости и презрения. Он слишком любил меня, чтобы унизить словами, он молчал… точно так же молчала вся моя труппа, до которой каким-то образом вскоре дошли слухи о нашей связи. Миновало недели две строгой «конспирации», и нам стало скучно о ней заботиться. Ночи мы проводили в жарких объятиях, но и днем нам было жаль расставаться. Вспышку своей страсти я мог объяснить: в мои годы многие начинают сходить с ума от молодых красавиц, но зачем ей был нужен я? Неужели эта «революционная фурия» тоже способна любить? Постепенно я начинал в это верить, постепенно в это начинала верить вся труппа. Серафима начала приходить в театр — теперь, когда она не претендовала на роль примы, отношение к ней переменилось. К тому же она стала очень приветлива с людьми, что называется, ко всякому умела влезть в душу, и скоро мои актеры ждали встреч с ней, всякий норовил ей пожаловаться на жизнь, а она для всякого находила доброе слово.
Удивлялся даже Васильев.
— Сколько лет знают Серафиму, — сказал он как-то раз, — но никогда ее такой не видел. Совершенно изменилась в этой любви! Думаю, если бы вам взбрела в голову фантазия пожениться, мы бы лишились проверенного боевого товарища, она вся погрязла бы в домашних заботах.
Я встрепенулся. Честно говоря, революционная деятельность меня нисколько не восхищала, я бы с удовольствием отвлек от нее Серафиму. Я потихоньку мечтал об этом… до чего же я был наивен!
«Вот кабы забеременела бы да родила! — страстно мечтал я. — Наверняка бы остепенилась!»
И вдруг что-то изменилось в наших отношениях. Серафима откладывала свидания, а придя к ней вечерами после спектакля, я не заставал ее дома. Она все время о чем-то напряженно думала, думала…
Иной раз, придя к ней, я улавливал запах табачного дыма. Здесь кто-то был, кто-то курил, но не я и не она. Кто?
— Товарищи заходили, — пожимала она плечами в ответ на мои вопросы. Ну что тут было сказать? Товарищи к ней и впрямь заходили. Но зачем?!
Как-то раз я решил последить за ней. Получив в очередной раз записку о том, что у нее дела (если это слово было дважды подчеркнуто, следовало понимать, что дела особого свойства, конспиративные, в которые я не имел права совать нос), я не пошел домой, а потихоньку добрался до 1-го Ильинского переулка.
В окнах Серафимы не было света, на стук никто не отворял. Потом я увидел, что на двери висит замок. Ее и правда не было дома, а я решил было, что она с кем-то, с другим…
Я долго стоял под молоденькой березкой, трогая ее гладкую, шелковистую кору, нежную, как щеки Серафимы, и сердце мое смягчалось. Ветерок наносил запах белого табака и ночной красавицы — все сады полны ими. Чудная ночь для любви, а не для преследования и страха, для нежности, а не для подозрений и тревог.
Вдруг раздались шаги. Серафима и какой-то высокий мужчина. В нежный ночной аромат врезался почти звериный запах пота, от которого у меня зачесалось в носу. Я вспомнил обычное присловье русских сказок: «Русским духом пахнет!» Да уж, не надо быть Кощеем бессмертным, чтобы учуять!
Я боялся закашляться, а потому осторожно отшагнул за куст. Потом усмехнулся своей осторожности: здесь меня никто не мог увидеть — никто. А я мог видеть все и всех. Я взял с собой электрический фонарик-«жучок», батарея которого заряжалась после того, как долго нажимаешь на особую рукоятку, и все это время безотчетно давил на нее, но мне не нужен был фонарик. Вот и сейчас отчетливо, как днем, видел я Серафиму в темном платье, а рядом — высокого человека. Он стоял ко мне спиной, но, судя по осанке и фигуре, был очень силен. Он что-то быстро, неразборчиво говорил Серафиме, она молча слушала. У нее был необычайно усталый вид.
Где они были? Откуда пришли? Что там делали? Впрочем, меня это не слишком волновало — гораздо больше тревожил другой вопрос: куда они пойдут и что будут делать сейчас?
Поднимутся в ее комнаты? Я… если это случится, я убью их обоих.
— Нет, — донесся до меня голос Серафимы. Она назвала какое-то имя… Венька? Венька? Да, вроде Венька… — Нет, Венька. Поверь мне, я чую, все не так просто! Я сделала, что могла. Все сорвалось.
Я радостно встрепенулся. Речь не о любви. Это разговор о деле, о каком-то опасном деле!
Венька… кто он? Прежняя ревность к Тихонову шевельнулась, как ожившая змея. Но напрасно: конечно, его звали Вениамином Федоровичем, но он был ниже ростом, уже в плечах, а главное, щеголеват, и если от него чем-то пахло, то отличным вежеталем [22], от него не могло нести, как от зверюги. К тому же своим обострившимся нюхом стареющего самца я чуял исходящую от этого человека молодую силу — к ней-то и ревновал.
Он все говорил, говорил что-то, говорил неразборчиво, неясно…
— Нет, — твердо сказала Серафима. — Суеверия и трусость. Это недостойно нашей партии! Завтра все пройдет отлично! Я верю. Иди теперь, иди же, я чувствую, если ты промедлишь хоть немного, случится беда.
Она потерла виски:
— Голова болит и мутит, ужасно меня мутит сегодня! Будет гроза. Слышишь, как пахнут табаки? Просто надрывают горло. Уходи скорей, а то попадешь под ливень.
— Да, — тихо вымолвил Венька.
Наконец-то я услышал его голос, и он показался мне знакомым.
— Эт-то-о прав-вда. — Он говорил, странно разделяя звуки, словно бы заикаясь. — Бед-да близк-ко. Мне кажет-тся, зд-десь кто-т-то ест-ть!
Он вдруг резко обернулся и уставился прямо туда, где я стоял.
— Вот-т он! — воскликнул хриплым шепотом. — Вот-т он! Я его виж-жу!
Кругом царила кромешная тьма, но он видел меня, я мог бы поклясться в этом! Этот высокий, красивый, молодой человек со светлыми глазами видел меня так же отчетливо, как если бы я был освещен.
Это было просто уму непостижимо! Неужели он тоже никталоп, как и я?
Да! Я видел, как выражение затравленного зверя сменилось на его лице ненавистью… вот сейчас он бросится на меня!
Я выхватил из кармана фонарик и нажал с силой на рукоять. Луч света ударил в глаза Веньке — он вскрикнул от жгучей боли, а я повернулся и кинулся бежать.
Вылетел на Ильинскую… О чудо: извозчик на полусонной клячонке трюхал мимо.
Я на ходу влетел в пролетку:
— Гони!
— Ой, гроза будет, барин! — всполошенно закричал извозчик, подхлестнув лошаденку. — Ой, гроза!
И словно в ответ на его слова, громыхнуло в небесах, сверкнула молния. Венька, потирая ослепленные глаза, выскочил со двора, рванулся было за нами. Но тут упала с небес стена дождя — и отделила нас от него.
Я вошел в свою квартиру на Варварке, мокрый до нитки, чувствуя себя ужасно измученным. Я хотел только лечь и подумать, лечь и подумать обо всем, что увидел там, в 1-м Ильинском переулке.
Но лишь отворив дверь, я замер, точно пораженный очередным ударом грома, который в это мгновение грянул за окном. Все вещи в комнатах были раскиданы, разбросаны, сдвинуты с места, вынуты из ящиков и брошены на пол.
Чудилось, здесь пронесся ураган, злобный, мстительный ураган!
Несколько мгновений я стоял, пытаясь перевести дух и заставить онемевшие ноги двигаться, потом кое-как доковылял до окон и задернул плотные, сшитые из старого театрального занавеса, плюшевые шторы. Потом добрел до голландской печи и влез на табурет. Здесь, за одним мне известным изразцом, был мой тайник. Найти его случайно просто невозможно, и я убедился, что тайник не тронут. Я открыл его, вынул жестяную коробку из-под кофе, обернутую куском старой клеенки. В коробке лежал синий сверток. Синий платок, который я когда-то получил от Эльвиры, а в нем — браслет.
Браслет, из-за которого она погибла. Браслет, который финны почему-то называли Сампо.
Мое самое драгоценное сокровище… Были у меня еще серьги Лизины, да их отправил я в подарок ее младшей сестре, когда она выходила замуж. Остался один браслет. До этого тайника грабитель не добрался.
Я нашел в себе силы проверить разбросанные вещи. Ничего не пропало. Деньги, одежда, преподнесенные в честь бенефисов разных лет золотые портсигар, запонки с бриллиантами, булавка для галстука — все цело.
Что он искал? Чего хотел?
Я пошел было к постели — прилечь, но замер на полушаге. Подушка моя была пронзена коротким ножом.
И я понял: если бы нынче остался дома, а не пошел следить за Серафимой, то был бы убит. Грабителю не нужны были мои вещи — ему нужна была моя жизнь!
Я был так измучен, что не имел даже сил ужаснуться. Я просто отложил в сторону пронзенную подушку и лег на постель, как был, одетый. На краткий миг дрема одолела меня, но почти тотчас я проснулся. Я был бодр, ум работал как никогда ясно. Я думал, думал… потом встал, выдернул из подушки нож и рассмотрел его. И снова я думал — о никталопии, о ноже с прямым плоским лезвием и скошенным обухом, который преступники называют финкой, и в Финляндии он зовется «пуукко»…
Тоскливо, ох как же тоскливо было у меня на душе!
Наши дни
— Андрей, быстро пошли отсюда, — прошептала Алёна, чувствуя, что у нее губы вдруг застыли и еле двигаются. — Слышишь?
— Ну пошли, — согласился он недоумевающе. — А что такое?
— Уходим, говорят тебе! — почти зло прошипела она.
— Да, ребята неприятные… — пробормотал Андрей, вытянув шею и вглядываясь в компанию, которая высаживалась из машины, — двое мужчин и девушка со светлыми волосами. — А это… а это… что значит?!
У него вдруг сел голос, и было понятно почему: Вейка открыл багажник и вытянул оттуда человека со связанными руками и ногами, с заклеенным пластырем ртом. Его лицо было залито кровью.
— Это значит, что нам нужно бежать со всех ног! И поскорей! — шепотом воскликнула Алёна — и уже рванулась было бежать, но замерла.
Бежать-то некуда…
Тот зал, в котором они находились, был крайним в анфиладе помещений Куйбышевской водокачки. Пройдя в единственную дверь, они неминуемо столкнулись бы с приехавшими. Попытайся выбраться через окна, выходящие на дорогу, — результат тот же. Оставалось выбраться на обрыв и попытаться вскарабкаться наверх, но они в два счета увязли бы в сугробах на склоне и стали отличной мишенью для приехавших. Их или подстрелят — Алёна ни минуты не сомневалась, что у Вейки и его команды есть оружие, — или поймают и свяжут. Причем в том, что первой жертвой будет она, Алёна не сомневалась. Но Андрей тоже вряд ли спасется — зачем им оставлять свидетелей?
Андрей тревожно смотрел на нее, поправляя очки.
Алёна побежала к окну, обращенному к склону, выглянула, перегнувшись через подоконник. Может быть, если они вылезут и встанут вот там, прижавшись к стенам, их не заметят?
Конечно, если не станут подходить к окнам. А если кому-то взбредет в голову проверить?
Но спрятаться больше негде.
— Давай, забирайся сюда! — быстро сказал Андрей, вскакивая на подоконник и протягивая руку. — На склон не полезем, там нас сразу увидят, но, прижимаясь к стенам, по кромочке, можно будет обогнуть здание. Как-нибудь выберемся на дорогу и…
— Хорошо, ты первый, я не знаю, куда идти, — кивнула Алёна, тоже забираясь на подоконник.
Андрей осторожно начал спускаться, сделал шаг — и вдруг сугроб под ним просел, он провалился по пояс. Силясь удержаться, схватился за ветку дерева, криво выросшего у самой стены, и на него обрушился снежный водопад!
Вмиг его завалило с головой, видна была только рука, сжимающая сумку с фотоаппаратом.
Алёна приготовилась спрыгнуть с окна в снег, к нему на помощь, но крик:
— Сюда! Здесь кто-то есть! — пригвоздил ее к месту.
И звук быстрых, неуклонно приближающихся шагов…
Они с Андреем не выберутся из сугробов без шума. Значит, их поймают вместе. И больше никто и никогда не только не увидит их, но даже не узнает, куда они пропали. Никто не узнает, где они были убиты и куда бросили их тела.
Она выхватила из сумки телефон и торопливо включила его. Господи, ну какая же она была дура, зачем выключала мобильник?! Успеет ли он поймать сеть, успеет ли Алёна набрать номер Муравьева прежде, чем ее заметят?
Около стены торчал из сугроба промерзший сук. Алёна кое-как выдернула его. Он оказался в половину ее роста, в руку толщиной, сущая оглобля, крепкая, увесистая. Оружие тяжеловато для нее, но если все же хватит сил как следует размахнуться и ударить — тому, кто попадет под удар, придется плохо.
Ну вот. Теперь главное — чтобы Андрей поскорей очухался и ушел. Господи, надоумь его, чтобы он не полез сюда! Господи, надоумь его, чтобы он попытался пойти за помощью!
А вдруг они… вдруг они не придут сюда, в этот зал? Вдруг ей удастся остаться незамеченной?!
Все, телефон включился, сигнал сети пойман, можно звонить.
Алёна торопливо листала список контактов, пытаясь найти телефон Льва Иваныча, и вдруг телефон задрожал в ее руках, а на дисплее высветился какой-то номер. Боже, какой трезвон сейчас разразится! Сигнал ее телефона — это же просто иерихонская труба. И даже если Вейка со своей бандой не собирался в этот зал, он, услышав звон, непременно заглянет посмотреть, что здесь творится.
Да они уже и так идут!
Алёна провела по светящейся полосе «Ответить». Нет, говорить она не может, но этот неизвестный услышит хотя бы разговор, может быть, он поймет, что здесь творится что-то неладное, может быть, поймет, что ей нужна помощь!
Она успела опустить телефон в карман как раз в то мгновение, когда в зал вбежал Серый — и даже запнулся, увидев ее стоящей в проеме окна.
Мгновение он пялился на Алёну, широко разинув от изумления рот, потом заорал:
— Вейка! Сюда! Смотрите! Да скорей!
Вслед за ним вбежали Вейка и невысокая девушка в черном пальто, с распущенными светлыми волосами. Она точно так же оцепенело уставилась на Алёну, а потом расхохоталась.
Но это был отнюдь не тот смех, который вызывает ответное веселье. При звуке ее хохота у Алёны словно провели по спине мохнатой ледяной лапой.
— Так… — проговорила девушка. — Попалась…
— Уходите! Оставьте меня в покое! — крикнула Алёна. — Что я вам сделала! Что вы гоняетесь за мной?!
Она кричала первое, что приходило в голову, изо всех сил надеясь, что тот, кто позвонил ей, еще не отключился, что он слышит этот крик, что заподозрит неладное, что…
Что?
Что поднимет тревогу?
Да ну, мало шансов…
Хоть бы выбрался на свободу Андрей. Хоть бы позвонил в милицию…
А если он потерял сознание?! А если задохнется в этом сугробе?!
Эти мысли промелькнули в одно мгновение — девушка заговорила.
— Мы гоняемся за вами? — спросила она с леденящей душу насмешкой. — А не наоборот? Вы ведь сами начали лезть всюду, куда не надо, трясли своим браслетом на всех углах. И сюда притащились… Тоже, сыщица начала века! — Она издевательски хохотнула.
Сыщица начала века?!
— Ну и как вашей матушке книжка? — с невинным видом спросила Алёна. — Надеюсь, понравилась?
Конечно, ей бы лучше помолчать… Но в минуты острой опасности ее всегда охватывала какая-то отчаянная бравада… нет, не храбрость, конечно, а именно безрассудная бравада.
Наступило молчание. Потом девушка улыбнулась:
— Значит, вы и вправду догадались? Как?
Алёна смотрела испытующе. Значит, этой твари желательно поболтать перед тем, как расправиться с жертвой? Так сказать, поставить точки над «ё»? Ну что же, Алёна тоже любит их ставить. Кроме того, ей нужно время… вернее, время нужно Андрею, чтобы вылезти из сугроба, чтобы понять, что происходит, чтобы вызвать помощь.
Поэтому она попытается затянуть беседу так надолго, как это будет нужно. И еще есть надежда — вдруг тот человек, который звонил ей, по-прежнему слышит разговор. Вдруг это поможет изобличить этих злодеев, вдруг поможет найти и задержать их… потом, когда…
Алёна прикусила губу. Ладно, не стоит думать о своих похоронах, шанс угодить на них и так велик… Одна вдруг вспомнила, как однажды сидела, зажмурившись, на скамеечке на Комсомольской площади в городе Ха, слушала, как невдалеке, под утесом, шумит волной прекрасный, неописуемый Амур — река ее детства, ее юности, ее любимая река, — и не могла сдержать слез, представляя, как на похоронах Алёны Дмитриевой друзья-тангерос попросят оркестрантов сыграть ее любимое танго «Fumando espero»… Ну да, она плакала от жалости к себе, а убийца в это время смотрел на нее и думал, что она знает о нем все, в то время как она совершенно ничего не знала и даже не подозревала, кто он! [23]
Ну что ж, зато теперь она кое-что знает и не откажет себе в удовольствии похвастать своими знаниями и позлорадствовать. Конечно, все это может кончиться для нее еще печальней, чем для небезызвестной лягушки-путешественницы из сказки Гаршина, но все же невозможно удержаться от искушения и крикнуть: «Это я! Это я! Это я придумала!»
В смысле, додумалась!
Сыщица начала века, это правда! Сейчас ведь самое начало XXI века, верно? А поскольку роман под этим названием Алёна не далее как позавчера подарила — ха-ха! — Секлите Георгиевне, то издевка стала завершающим звеном в цепочке догадок.
— Конечно, догадалась, — сказала Алёна небрежно. — Я даже знаю о том, что вы тезки. Только не пойму, почему вы так стыдитесь родового имени? Почему не зваться просто Серафимой? Ее имя — аббревиатура из двух первых слогов — Се-рафима Клит-чоглоу, а ваше — последний слог — Сераф- има… И к чему было приплетать сюда замечательную певицу Иму Сумак, совершенно не пойму.
Ну, получить перед практически неминучей погибелью такой подарок, какой получила Алёна… увидеть обалделое выражение на лице своего врага… за это можно сказать огромное спасибо небесам! И пусть это будет ее последнее тщеславие, как выразился Виктор Кин в своем замечательном рассказе «По ту сторону», все равно классно!
— Как ты могла… — прошипела Има. — Как могла?!
— Ага, мы перешли на «ты»? — высокомерно поинтересовалась Алёна. — Ну что ж, я не возражаю. Согласитесь, сказать вы — дура, гораздо трудней, чем ты — дура. Ты — дура, если недооцениваешь жажду истины. Иногда она бывает сильнее страха, а умение мыслить логически и обращать внимание на детали способно привести к самым неожиданным выводам. И правильным, судя по всему. Например, мне связать концы с концами помогли фикусы.
— Фикусы?! — растерянно повторила Има.
— Ну да, — усмехнулась Алёна, но вдаваться в подробности не стала. Не хотелось выдавать Сюзанну, которая проболталась, как они с мужем привезли фикус Име, в ее квартиру на улице Сусловой, а хозяйка оказалась такой скупердяйкой, что даже чаю им не предложила. Фикусы в изобилии были натыканы в комнатушке в переулке Клитчоглоу, где Има иногда обитала, несмотря на то что у нее была очень приличная квартира в Лапшихе… ну да, ведь улица Сусловой — это часть Лапшихи, небольшого микрорайона Нижнего Горького…
О Лапшихе говорил Константин. Об улице Сусловой — Сюзанна. И оба они упомянули о невероятной скупости хозяйки. Все очень просто!
— Кроме того, — продолжала Алёна, — ты недооценила меня. Решила направить на ложный путь? Соврала мне, что видела такой же браслет, как у меня, на руке женщины, с которой говорил Константин? Не ожидала, что я довольно быстро выясню, что это вовсе не неизвестная злодейка, а мать Константина?
— Ну уж нет, тебяя вовсе не недооценивала, — угрюмо сказала Има. — Я сразу забеспокоилась, когда поняла, что ты обнаружила подмену и начала совать свой нос везде, куда не надо. Мать изо всех сил пыталась сбить тебя с пути, но скорей сыскную собаку со следа собьешь!
При слове «собака», которое Алёна в данной ситуации могла воспринять только как комплимент, она вдруг вспомнила псину-спасительницу, словно с неба упавшую в переулок Клитчоглоу, и не могла удержаться — взглянула на Вейку. Холодное лицо «горячего финского парня» явственно перекосилось. Похоже, он думал о том же.
— Ну, как антирабическая вакцина? — невинно спросила Алёна. — Действует? Смотрите, не пропускайте уколов и ни в коем случае ни употребляйте спиртного — это активизирует вирус бешенства.
Соломенные ресницы изумленно распахнулись, а потом Вейка что-то яростно выкрикнул и ринулся к окну, на котором стояла Алёна.
— Погоди! — крикнула Има.
— Погодите! — крикнула и Алёна, выставляя вперед свое единственное оружие обороны — промерзлый сук, больше похожий на оглоблю. — Вы что, невнимательно читали инструкцию к вакцине КОКАВ? Любое перенапряжение, интенсивные телодвижения ослабляют ее действие и, опять же, активизируют вирус!
И тут, как по заказу, где-то вдали залаяла собака.
Вейка замер как вкопанный. Лицо его пошло красными пятнами, а в светло-голубых глазах мелькнул ужас.
Алёна чуть не засмеялась, такое удовольствие доставила ей смесь страха и недоумения в этих злобных глазах.
— Ты и в дом пролезла? — прошипела Има. — Вон откуда про фикусы знаешь! Да… всюду успела! За каких-то три дня чуть не разрушила все, чем мы жили, что мы с Вейкой создавали больше года. Но… любопытной Варваре на базаре нос оторвали, слышала такую поговорку?
Алёна вздохнула. Има, как и в прошлый раз, с незабвенным «пальтушкой в дрипочку», выражалась цветисто и точно. Любопытная Варвара — это о ней, Алёне Дмитриевой. Точнее не скажешь!
— Пусть я кажусь тебе дурой, но попалась-то ты, а я не я, — усмехнулась Има. — Думала, забрала письмо Константина и сможешь найти все сама и захапать? Ты тоже кое-чего недооценила. Например, то, что не ты одна такая любопытная. И что люди, которым Константин передал письмо, сунули в него нос.
Человек, которому Константин показал письмо, — Виталий, продавец из «Видео»… Неужели это его привезли сюда избитым и связанным и бросили где-то на ледяной пол? А может быть, швырнули в один из бездонных колодцев?
«Нет, он не читал письма, — убежденно подумала Алёна, — иначе разговаривал бы со мной совершенно иначе! Но кто-то же его читал?»
— Ирка, что ли, прочла? — спросила она хмуро. — Очкастая такая пигалица?
— Правильно! — удивленно вскинула брови Има. — Догадалась, надо же! Она тебя и выдала. Ты недооценила еще одну вещь — ревность. Ее ревность… Но я сразу поняла, что такая пронырливая девчонка не могла не прочитать чужое письмо. Так и вышло, когда их с Виталием начали спрашивать… с пристрастием. Она нам сразу все выложила, как только мы их вчера перехватили у магазина.
«Так, значит, Виталий вчера все же работал! — с раскаянием подумала Алёна. — И если бы я не струсила вчера вечером и пошла в «Видео», возможно, мне бы удалось убедить его быть осторожным… Что же я наделала! А теперь мы погибнем тут вместе…»
— Девка пока валяется связанная дома, — продолжала Има. — Она знает, что, если дала неправильные координаты, мы сразу убьем ее парня.
— Да вы его и так убьете, — угрюмо сказала Алёна. — Да и ее тоже. Разве нет?
— Ну, пусть пока немного потешатся надеждой, — ухмыльнулась Има. — Хотя не сомневаюсь, что и она все точно пересказала, и я все правильно угадала. Костя почему-то решил, что так хитро все зашифровал, но я в этих развалинах сто раз была, я тут каждое граффити знаю. Я сразу поняла, что значит «под звездами». А про крышку уж совсем просто догадаться. Но как могла угадать ты, не пойму?!
— Да я всю жизнь мифологией занимаюсь, — высокомерно сказала Алёна. — Читала «Предания древних славян» Елены Ярушкиной? Большая такая, красивая книга с отличными иллюстрациями. Так вот — это моя книга.
— Не может быть… — пробормотала Има. — Да она у нас дома есть! А я думала, ты только детективчики кропаешь.
У Алёны Дмитриевой был один знакомый, который, с самыми добрыми чувствами, называл ее кропательницей, имея в виду — писательницей. Так что к этому слову она привыкла и ничего обидного в нем не видела, поэтому только усмехнулась в ответ.
— Да, знала бы, прихватила «Предания» с собой, чтобы ты на них автограф поставила, — с сожалением вздохнула Има. — Последний автограф в жизни… Но не удастся. И ты так рвалась матери книжку подписать — тоже не удастся.
— Да я рвалась узнать, как ее фамилия, только и всего, — усмехнулась Алёна. — Прочитала статейку про то, как С. Г. Авдеева дом Серафимы Клитчоглоу в собственность переводила, ну и хотела уточнить, она это или не она. Лихие методы! Даже добилась переименования переулка!
— Серафима этого заслуживала! — горячо выкрикнула Има. — О ней так мало известно! Подумаешь, убийство Плеве. Да она такие затевала истории, от которых охранка с ног сбивалась. И если бы не интрижка с этим дурацким актеришкой Старковым, если бы не беременность… Все пошло бы в ее жизни иначе!
— Но ведь вы считаете себя потомками Старкова и Серафимы, я правильно поняла? — спросила Алёна. — Так чего ж вы жалуетесь? Если бы не эта дурацкая интрижка, как ты выражаешься, вас бы вообще на свете не было!
— Вообще-то, да, — усмехнулась Има. — Это ты точно подметила. Все же какая-то польза с тебя есть. И книжки хорошие писала…
— Слушайте, девчонки, — суетливо сказал Серый, который все это время молча переводил глаза с Имы на Алёну, причем на его смуглой физиономии выражалось некое бессилие уловить смысл реплик, которыми обе женщины обменивались так же быстро, как дуэлянты обмениваются ударами рапир. — Хватит трепаться, мы что, сюда за этим пришли? Им, ты давай уже… это… кончай с ней, ты ж хотела, чтоб она отстала от нас, ну и… тут никого нету…
— И верно, — будничным тоном сказала Има. — Давай, Серый, сними ее с подоконника.
Алёна быстро оглянулась через плечо. Отсюда не видно того места, где провалился Андрей. Выбрался он? Или нет? Если он еще в сугробе, а Алёна попытается выпрыгнуть в окно, убьют обоих. И никто не узнает, кто это сделал. Если же его не заметят, он выберется и пойдет в милицию… остается хоть один шанс, что эту банду задержат, обезвредят, их махинации и убийства будут остановлены… Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется Алёне Дмитриевой. Да и история с браслетом так и останется тайной…
— Погоди! — крикнула она. — Скажи, зачем понадобилось подменять мой браслет? И кто это сделал?
— Да я, кто же еще? — пожала плечами Има. — Но это очень долго рассказывать что и почему. Серый правильно говорил…
— Вообще у меня время есть, — слабо улыбнулась Алёна, стараясь не думать о том, что говорил Серый, а говорил он — пора кончать…
— Зато у меня нет, — улыбнулась в ответ Има. — Нам еще надо достать одну коробочку… вот здесь, под кривой старухиной скатеркой! — И она расхохоталась, постучав носком сапога по крышке люка. — Ну до чего же глуп Константин! Глуп и труслив. Украл у Серого то, ради чего мы старались, ради чего стали не просто мошенниками, а убийцами… украл, но испугался, когда понял, что ювелир из-за меньшей провинности был убит, и спрятал… но так, чтобы мы смогли найти. А сам решил сбежать. Но лучше бы он на коленях приполз и все это в зубах принес — может быть, я бы его простила. Или если бы это письмо прямо мне отправил. Но он допустил, чтобы письмо попало в чужие руки, девка эта его прочла, ты… за все это Костя и поплатился.
— А его квартирную хозяйку ты убила из-за того, что она тебя однажды видела… пришла к Константину, а он тебя гостям предъявил. Но только имей в виду — этот случай соседи уже рассказали следователям, твое подробное описание дали… так что тебя все же найдут, — с мстительной надеждой сказала Алёна.
— Не найдут! — засмеялась Има. — У меня довольно типичная внешность. Нет никаких концов, которые могли бы связать меня с Костей. Эти двое, которые видели меня в «Видео», никому и ничего уже не скажут. Ты — тоже. В «Шоколаде» и дома я больше не появлюсь. Мать меня не выдаст, и даже если кто-то заподозрит, что часть левого товара мы сбывали через «Клеопатру», а не только через «Диамант», — она лукаво усмехнулась, — это невозможно доказать, мы очень аккуратно работали. Сейчас достанем то, что спрятал Костик, а уже вечером, с документами финской гражданки Имы Яаскеляйнен, я улечу в Питер с моим мужем — кстати, вот он стоит, его имя — Вейка, можешь нас поздравить! — И никто и никогда…
Алёна усмехнулась.
— Ну? — с тревогой спросила Има. — Что?
— Да ничего, — пожала плечами Алёна.
В самом деле, ничего. Она-то было подумала о Даниле, который собирался мстить за брата. Но то, как проворно он сбежал из переулка Клитчоглоу, очень много говорило о его характере. Не орел, нет, не орел, как говорилось в старом-престаром фильме «Простая история», который Алёна когда-то любила смотреть.
Теперь уже больше не посмотрит.
Она вдруг как-то невыносимо устала. Сук показался до жути тяжелым, рука онемела его держать.
— Серый, пойди посмотри, там наш Виталик не сдох еще? — приказала Има. — А то мы как-то о нем забыли… Вейка, ты сам ее пристрелишь? Или мне дашь пистолет?
Вейка медленно — наверное, чтобы не делать резких движений и не активизировать вирус бешенства, — начал опускать руку в карман.
Алёна покачнулась, но схватилась за край выщербленного оконного проема и кое-как удержалась.
Има засмеялась.
— Ты правильно делаешь, что не прыгаешь за окно. Наверное, знаешь, что там кругом просела земля так, что провалишься вроде бы в сугроб, но постепенно сползешь на глубину в десяток метров. И будет тебе готовая могилка. Нам даже пулю на тебя тратить не придется. Только смерть очень долгая…
Алёна снова покачнулась.
Возможно, о помощи она мечтает напрасно и бессмысленно… Андрей мог провалиться на страшную глубину!
А ведь его ждут жена и дочка, они в гости в деревню собирались, а он-то…
И все из-за нее, из-за ее проклятущего любопытства!
Глаза заволокло слезами, и все, что происходило потом, Алёна видела словно сквозь пелену дождя, и почему-то казалось, что оно происходит невероятно медленно… медленно… растянуто… как будто ее уходящая жизнь цеплялась за неумолимое время и пыталась замедлить его, но оно двигалось, и двигало события, и укорачивало то, что еще оставалось додышать, додумать, дочувствовать — дожить!
Дела давно минувших дней
На другой вечер у нас состоялась репетиция новой пьесы. Мы начали готовить «Мещан». На репетицию к нам давно напрашивался губернатор Гриневич, известный как большой театрал, давно желающий побывать, как он выражался, «при зарождении пьесы». И вот он явился со свитой, сидел в первом ряду, явно наслаждаясь происходящим, совсем не важный, веселый, добродушный… я его никогда не видел таким… Труппа моя была в восторге… все были довольны, кроме меня. Я не находил себе места от тревоги. С утра я снова ездил на дом к Серафиме, но на двери висел замок.
Ни звука, ни записки…
Весь двор был покрыт лужами и усыпан оббитыми соцветиями табачка и ночной красавицы. Они были жалкими, скукожившимися… как моя душа.
Я улыбался губернатору, я играл радушного, всем довольного режиссера и знаменитого артиста… но те страшные открытия, которые я сделал ночью, не оставляли меня в покое.
А через час губернатор был застрелен в упор неизвестным человеком. Случилось это, лишь только его превосходительство отошел на шаг или два от театральных дверей. Мы все оставались в зале, как вдруг услышали выстрелы. После мгновенного замешательства кинулись со сцены; вдруг в зал вбежал высокий парень в студенческой тужурке и фуражке, из-под который торчали светлые, точно соломенные волосы, и вскричал раскатистым, твердым голосом: «Губер-рнатор-ра убил-ли! Бегит-те быстр-рей!»
Мы всем скопом повалили в единственную незапертую дверь, где столкнулись с полицией. Началась свалка, нас отталкивали, мы кричали, что губернатора убили, не понимая, почему полиция рвется в зал… А тем временем этот «студент» — он-то и застрелил Гриневича — скрылся в здании театра, исчез, как в воду канул. Собственно, какая там вода… Пробежал через зал на сцену, затерялся среди многочисленных кулис и проскочил через заднюю дверь, которая вела в театральный двор, а оттуда — на улицу. Пока его перестали искать между креслами в зале, пока прочесали все кулисы — он уже был далеко.
Все произошло так быстро, так невероятно быстро, что его никто даже не разглядел толком. Все, знай, всплескивали руками и расписывались в собственной невнимательности. Много было слез и истерик. Полицейские чины, которые вели допросы, смотрели на нас, как на ненормальных, с презрением. Мне было предписано закрыть театр до окончания траурных церемоний.
Меня допрашивали, как и остальных, и я издавал те же невразумительные звуки, изображая потрясенного, ошарашенного, перепуганного идиота. На самом деле я один, наверное, мог бы рассказать об убийце хоть что-нибудь, во всяком случае, дать описание его внешности. Я видел его только один миг, но сразу узнал. Это был тот самый Венька, которого я видел вчера во дворе Серафимы. Тот самый светлоглазый и светловолосый высокий парень, который смотрел на меня сквозь ночь — и видел так же ясно, как я его.
Так вот в чем вчера подбадривала его Серафима! Вот о чем так убежденно говорила: «Завтра все пройдет отлично! Я верю в это!» Она подбадривала будущего убийцу. У них кое-что не заладилось вечером, и она вселяла в него бодрость.
Я хотел назвать его, хотел подсказать, где его искать. Совесть молила меня об этом! Но тогда я должен был выдать Серафиму. А вместе с ней — и себя, ведь моя связь с ней не была тайной для многих.
Прошел день. Невыносимо тяжелый день! Ночью опять грянула гроза и пошел дождь. Струи ливня били по земле с такой яростью, что кое-где подмывало мостовую и выворачивало камни потоками воды. Речка Ковалиха вышла из берегов и затопила огороды. Волга, а особенно Ока грозили подмыть набережные. Ливневой канализации, как в Москве или Петербурге, в Нижнем не было никогда, а потому улицы во время ливней превращались в неодолимые реки.
Я взял извозчика, и мы кое-как добрались через залитый водой город к 1-му Ильинскому. Дверь по-прежнему заперта на замок…
Я поспрашивал соседей. Нет, Серафиму никто не видел. Это известие меня огорчило. Единственное, что обрадовало, — что полиция здесь не появлялась.
А дома меня ждало письмо от Васильева. Оно было почему-то не от руки написано, а отпечатано на «Ремингтоне», что меня очень удивило. Васильев сообщал, что повредил правую руку, а потому отстучал письмо одним пальцем левой на машинке и настоятельно просил меня прийти на Городскую водопроводную станцию на Черниговской, где он работал сменным мастером, завтра в полдень и намекал, что речь идет о деле жизни и смерти.
Письмо было помечено вчерашней датой.
Место встречи он назначил в маленьком станционном садике слева от главного зала.
Я насилу дождался нового дня. Сейчас, без репетиций, время тянулось невероятно медленно и тоскливо. Да еще эта непрекращающаяся тревога о Серафиме… Наверняка Васильев мне что-нибудь скажет о ней, хоть как-то сможет утешить меня. Кроме того, мне хотелось задать ему один вопрос. У меня было смутное ощущение, что Васильев уже говорил мне об этом, но я не мог вспомнить толком, что именно. По пути я зашел в писчебумажный магазин и купил тетрадку и карандаш, думая, что покупаю их, чтобы переписать роль Тетерева. Эх… Да что говорить!
По раскисшему от дождей съезду я сошел сначала на Гребешок, а потом — на Черниговскую. Здесь недавно погорели кое-какие дома, и улицу отстраивали наново. Некоторые дома стояли уже готовые и покрашенные, но дождь нанес ужасный урон их стенам. Сейчас светило солнце, и они приобрели неприглядный вид, даром что новые!
В письме Васильев написал, что на станции строгая охрана, однако в тот укромный садик можно пройти через пролом в заборе (вот такая уж это страна — Россия, что во всяком заборе там непременно сыщется какой-нибудь пролом!), если свернуть с дороги примерно за треть версты до станции. Примета поворота — огромная осина в три ствола.
В самом деле, не заметить такое дерево было невозможно. За его широченным стволом крылась укромная тропка, по которой я живо достиг пролома и вошел на территорию станции. Но садик оказался пуст.
Я присел было на лавочку, но тотчас встал, потому что она покачнулась и боком ушла в землю. Дождь тут все подмыл! Запачкав башмаки, я выбрался на гравийную дорожку и нетерпеливо огляделся.
— Вы кого-то-с ждете, сударь? — окликнул меня человек в брезентовом фартуке, по виду слесарь. В руке он держал гаечный ключ.
— Я жду господина Васильева.
— Это которого же Васильева-с? — удивился слесарь. — Неужто-с мастера из главного машинного отделения-с?
— Его-с.
— Да как же-с? — вытаращил глаза простодушный человек. — Как же-с так-с? Его ведь еще третьево дни под арест взяли-с!
— Арестовали?! — не поверил я ушам. — Позавчера?!
— Ну да-с, немедля после того, как застрелили губернатора-с, — словоохотливо и угодливо говорил слесарь. — Уж откуда они знали, что Васильев в сем замешан, не ведаю, а может, гребли всякого, и правого, и виноватого, точно рыбак в Плесе частым неводом.
Я стоял как окаменелый.
— Вы вот что, господин хороший, — шепнул, озираясь, слесарь. — Вы бы шли отсюда, пока лиха не случилось.
— Какого лиха? — свел я недоумевающе брови.
— Ну как же! — шепнул он еще тише. — Ведь полицейские наказали всех примечать, кто его спрашивает, и обо всех докладывать. А что ж я о вас побегу докладывать? Вы ведь наш артист знаменитый-с, про вас весь город знает-с! Моя дочка вас, как они говорят-с, барышни-с, обожает-с, вы ей как-то раз на Благовещенской площади лично-с контрамарочку вручили-с… Так что вы уж лучше уходите-с тем же путем-с, что пришли-с, а я никому и словом не обмолвлюсь, что вы здесь были-с. Идите-с, идите-с…
Он чуть ли не вытолкал меня из садика и вывел на дорогу, по которой я пришел. Я оглянулся — он смотрел мне вслед. Я прошел чуть ли не половину пути до поворота, прежде чем он перестал на меня смотреть и убрался восвояси.
Тогда я медленно повернул назад. Одна мысль посетила меня. Если Васильев арестован позавчера, то как же он мог вчера отправить мне письмо? И оно было напечатано на машинке… А ведь, если поразмыслить, не Серафима ли написала мне? Предположим, она скрывается. Она ждет от меня помощи! И если я уйду, я опять ничего не узнаю о ее судьбе!
Я повернул назад.
Садик был по-прежнему пуст. Я взволнованно ходил по дорожкам. Если меня спросят, что я здесь делаю… что отвечать? Скорей бы пришла Серафима! А может быть, она была здесь, пока я уходил, подгоняемый доброжелателем-слесарем? Нет, она не могла прийти иначе, чем по той же дорожке. Не станет же она лезть по грязному, раскисшему склону.
Я ходил взад и вперед, не в силах справиться с волнением. А между тем я непременно должен овладеть собой, чтобы задать Серафиме те вопросы… вопросы, на которые я и так знаю ответы…
Тут я поскользнулся и угодил в лужу правым башмаком. Чертыхнувшись, я покачнулся, попытался удержаться на ногах, но вместе этого поскользнулся еще сильней и резко сел, вернее, упал на скамейку. И вдруг она начала крениться, оседать, проваливаться по землю… я попытался вскочить, но не успел и руками взмахнуть, как вся земля под скамейкой вдруг расселась, и мы с ней рухнули в черную сырую глубь.
Наши дни
Вейка вынул из кармана пистолет, протянул Име. Она взяла оружие, вскинула — легким, привычным, каким-то очень мужским движением — руку…
И вдруг из соседнего зала раздался пронзительный вопль. Има повернулась, вскрикнула, выстрелила в ту сторону… и тут же выронила пистолет, взмахнула руками, запрокинулась на спину… рухнула плашмя, тяжело грянувшись о промерзший пол.
В дверной проем с воем ввалился Серый. Он еле передвигал ноги, потому что на его спине висела черно-серая овчарка, показавшаяся Алёне неестественно огромной и чем-то знакомой.
Вейка метнулся к окну, выходившему на улицу, и выпрыгнул в него так проворно, как будто у него выросли крылья.
— Помогите… — задушенно провыл Серый и вдруг увидел лежащую Иму. Алёна тоже посмотрела на ее залитую кровью голову…
У Серого подогнулись колени, он рухнул ничком и замер.
— Возьми второго! — послышался мужской голос, и собака, сорвавшись со спины Серого, метнулась к окну.
И вдруг оттуда донесся рев мотора, шум стремительно отъехавшей машины…
— Так, — сказал какой-то мужчина, входя в зал. — Удрал. Надо как можно скорее дать его в розыск. Никуда не денется!
Собака запрыгнула в окно и с повинной головой подошла к нему.
— Ничего, бывает, — сказал мужчина, трепля ее по загривку. — Зато ты сегодня след взяла замечательно. Если бы не ты… мы могли бы и опоздать.
Собака повернула голову и посмотрела на Алёну. Издала короткое тявканье.
— Господи, Алёна Дмитриева, — изумленно воскликнул мужчина, тоже повернувшись к ней, — вы что там делаете? Уже все в порядке, спускайтесь.
Алёна молча смотрела на него. Она чувствовала, что слезы уже высохли, но вот вопрос, почему же все продолжало плыть в глазах, двоиться и даже троиться, принимать все более расплывчатые очертания. И как-то медленно соображалось. Она точно знала, что уже видела этого мужчину раньше, кажется, ей даже было известно его имя… да она и собаку тоже видела, только неизвестно где и когда…
Ноги стали слабые-слабые, руки тоже, пальцев она вообще не чувствовала, но все еще цеплялась за оконницу, потому что помнила кошмарные слова Имы: «Ты правильно делаешь, что не прыгаешь за окно. Наверное, знаешь, что там кругом просела земля так, что провалишься вроде бы в сугроб, но постепенно сползешь на глубину в десяток метров. И будет тебе готовая могилка. Нам даже пулю на тебя тратить не придется. Только смерть очень долгая…»
Но теперь пришли они — этот мужчина и эта собака, теперь не страшно, даже если она провалится, ее найдут. И Алёна с почти мучительным напряжением опустила руки и сразу покачнулась, начала падать, долго-долго…
Она никуда не упала, ни в сугроб, ни на пол. Она словно бы невесомо повисла в каком-то беззвучном пространстве между небом и землей. Отсюда, будто сквозь дымку, было отлично видно не только то, что происходит рядом, но и за стеной. Она видела Андрея, который пытался поставить на ноги окровавленного Виталия. Ему помогал еще какой-то человек — в сером пальто и черной вязаной шапке, низко надвинутой на лоб, в черном шарфе…
Да ведь это же тот самый, кто следил за ней в переулке Клитчоглоу!
Алёна вздрогнула, рванулась… пространство раздвинулось, беззвучная невесомость исчезла.
— Алёнушка, ну ты что? — услышала она тихий шепот рядом. — Ну уже все хорошо, ну успокойся, ну я тут…
Она почувствовала, что полулежит. Нижней части ее тела было холодно и твердо, а верхней — тепло и довольно уютно.
Решилась разомкнуть крепко сжатые веки и увидела прямо перед собой собачью морду с блестящими каштановыми глазами.
«Это она говорила?!» — изумилась было Алёна, но тут же собака приветственно тявкнула — обыкновенно, по-собачьи, неразборчиво, а потом Алёна сообразила, что нижней части ее тела холодно потому, что она лежит на промерзлом кафеле водокачки, а верхней тепло и уютно потому, что ее поддерживает и обнимает сидящий рядом человек.
И тут до нее дошло, что она знает этого человека. Это был Александр Викторович, водитель из «Нового такси». Собака очень напоминала Сильву из парка Пушкина, но пожилой толстухе Сильве бы вовек таких прыжков не совершить, какие совершала эта псина!
— Привет, — сказала Алёна, слабо улыбаясь собаке, но ответил Александр Викторович:
— Привет. Не ушиблась?
Вот, и этот в разговоре с ней сразу перешел на «ты»! Почему люди такие грубые?!
Алёна залилась слезами.
— Так… — растерянно сказал Александр Викторович. — Еще не хватало! Ну, моя дорогая…
— Да я на ее месте вообще бы в истерику впал, — раздался знакомый голос, и Алёна сквозь слезы увидела Андрея, который вошел в зал, поддерживая Виталия. — Я ведь все слышал, пока из сугроба выбирался, слышал, как она время тянула, разговоры с этой тварью разговаривала, чтобы я успел выбраться и помощь позвать. Жуть! Надо же, пуля прямо в горло попала, поглядел он на убитую. — Лихо стреляете!
— Она сама себя убила, — сказал Александр Викторович. — Выстрелила в меня, но промахнулась, пуля срикошетила от стены. Так что мои руки в данном случае чисты, хотя совесть бы меня не слишком мучила по отношению к этой особе.
— Да, — пробормотал Андрей, — понимаю, что о мертвых вроде бы… того-этого… но, по мне, собаке собачья и смерть!
Овчарка возмущенно залаяла и зарычала на Андрея.
— Извините, — сказал он испуганно. — Я совершенно даже не вас имел в виду, это просто… — Он замялся в поисках слова.
— Фигура речи, — сквозь слезы подсказала Алёна.
— Вот именно, — кивнул Андрей. — Так что извините!
Овчарка перестала рычать.
— Ага! — обрадовался Александр Викторович. — Если речь пошла о фигурах речи, значит, все не так страшно. Ты как, получше? — заглянул он в лицо Алёне и вдруг совершенно бесцеремонно коснулся губами ее виска. — Знаешь, я так перепугался… когда мы нашли таксиста из «Сатурна» и он показал, где тебя высадил, а потом Сильва взяла твой след и повела нас какими-то немыслимыми зигзагами, — то к Университету, то на обрыв, то под Окский мост, а потом к водокачке, я просто чувствовал, что с тобой беда. Данила тоже испереживался…
Он кивнул в сторону парня в сером пальто. Тот стащил черную шапочку, и Алёна даже ахнула, убедившись, до какой степени та меняла знакомое лицо.
Данила! Так это он следил за ней в парке и переулке Клитчоглоу! Вот это да… А у Алёны он все время настолько ассоциировался с курткой, пахнущей скипидаром, что она оказалась просто не способна узнать его переодетым.
Значит, он не трус, значит…
Она только головой покачала.
— Мы оба все время думали и о его брате, и о Константине, — продолжал Александр Викторович. — О том, что с ними случилось. Эта компания на все способна… А ведь они из переулка Клитчоглоу исчезли, мы ночью туда налетели, но никого не нашли, кроме этой продавщицы из «Клеопатры», Авдеевой, ее матери, — покосился он в сторону мертвой. — И она твердила, что ни о чем не знает, не представляет, где может быть ее дочь.
— У нее своя квартира была, где-то на улице Сусловой, — пробормотала Алёна. — Я так думаю, они именно там мучили Виталия, а Ира, наверное, до сих пор там.
— Там, — хрипло выдохнул Виталий. — Что они с нами делали… И все из-за этого Костиного письма! Если бы Ирка его не прочитала…
— Если бы я его у вас не выманила, — виновато опустила голову Алёна.
— Да я сам вам его отдал, — благородно сказал Виталий.
— На улице Сусловой? — воскликнул Данила. — В Лапшихе! Мне же говорил Костя! А я забыл… Хотя Костя так сам запутался, когда правду говорил, а когда врал, что мне вообще было не разобраться. Я ему не слишком-то верил…
— Почему же вы тогда потащились так безрассудно ночью в переулок Клитчоглоу? — сердито просила Алёна.
— А вы что там делали? — усмехнулся Данила.
— Хотела вас предупредить об опасности, о том, что Константин погиб.
— А я-то голову ломал… — пробормотал Александр Викторович. — Неужели и правда дело в стриптизере…
— В стриптизере? — изумленно повторил Данила и вытаращился на Алёну: — Ой, это были вы? А я вас тогда не узнал… Но, честно, я представления не имел, как этого парня зовут. Мне просто показалось, что вы огорчитесь, если…
— Вы оба с ума сошли, о каких стриптизерах вы говорите? — возмутилась Алёна. — Ни одного из них не знаю! Мне просто нужен был предлог, чтобы… короче, вы мне не вовремя попались в «Зергуте», — сказала она Даниле. — А вы мешали мне пойти в переулок Клитчоглоу, — это адресовалось Александру Викторовичу, — ну, я и наврала что попало. Конечно, там было просто невыносимо страшно, и когда вылез этот жуткий Вейка… если бы не собака, которая там откуда-то взялась…
— Ха! — обиженно сказал Александр Викторович. — Откуда-то, главное! Ты слышала? — повернулся он к овчарке, и только теперь до Алёны дошло.
Неужели это та самая Сильва?! Снегурочкина?! Вернее, Снегурочкиного чересчур занятого дядюшки…
И правда, собака на Сильву очень похожа, ну прямо одно лицо, вернее, одна морда…
Так что, получается, перед ней именно этот дядюшка? И он таксист? С пистолетом?!
И ходит Гамле́т с пистолетом, И хочет кого-то убить, И стоит вопрос перед Гамле́том: Быть или не быть! —чуть не пропела Алёна студенческую песенку и только головой покачала: Гамле́т, вероятно, может ходить с пистолетом, но таксист… которого не знают диспетчеры из его парка, который очень вовремя очутился там, где убили Костю, который потом оказался около «Зергута», а ни одной другой машины якобы не было в обозримом пространстве… у которого что-то билось и грохотало в багажнике… а потом внезапно возникшая собака, которую в другой раз Алёна в переулке не нашла… таксист, который знает ее псевдоним и профессию… вспомнились слова Данилы о том, что у его девушки по имени Любаша дядюшка связан с Интерполом, и случайно услышанное во дворе дома, где убили Константина: «Все это очень похоже на то, о чем говорил Шамрай в связи с его интерполовскими делами…»
— Привет, Сильва, — улыбнулась Алёна собаке. — Как Любаша поживает? Не скучно ей без тебя в парке Пушкина гулять? Итак, мне все понятно, кроме одного: как товарищ Шамрай — или, поскольку вы работаете в Интерполе, вас следует называть все же господином? — удостоила она его небрежного взгляда, — оказался в белом «Ниссане», принадлежащем «Новому такси»? Взмахнув пистолетом, остановили машину, выкинули таксиста и… А почему вы ко мне привязались?!
Выражение лица Шамрая и Данилы могло бы заставить от души, громко, презрительно, с издевкой, с величайшим торжеством расхохотаться любого другого человека, но, конечно, не Алёну Дмитриеву с ее снисходительным, незлобивым, великодушным характером, с ее умением прощать другим слабости, с ее изумительной скромностью! Поэтому она всего-навсего улыбнулась, и лишь под очень сильной лупой можно было разглядеть в ее улыбке толику ехидства.
— Да уж, теперь я понял, почему Лёва Муравьев про вас с таким придыханием говорит, — пробормотал Шамрай, почему-то — видать, от восхищения! — снова переходя на «вы». — Это ж надо… и правда что детективщица! Все угадала, главное!
— Почти все, — уточнила Алёна. — Как вы оказались… а впрочем, нет, не рассказывайте, я сама знаю! Вас вызвали на место происшествия на Ковалиху. Вы поехали, но то ли у вас машины своей не было, то ли она сломалась…
— Горячо, — буркнул Шамрай.
— Сломалась, значит, и вы поймали первое попавшееся такси. Сильва, я так понимаю, вас всюду сопровождала… Правда, вы очень немилосердно запихнули ее в багажник… Таксист, который вас вез, собак боялся, что ли? Но потом вам это очень кстати пришлось. Доехали до дома, но к подъезду подъезжать не стали, потому что там стояла толпа и перекрывала дорогу во двор. Вы остановили машину и начали расплачиваться с водителем. И вдруг увидели, как идут два милицейских чина, потом одна из женщин в толпе что-то такое говорит, показывая на другую, — и эта другая вдруг срывается с места и ударяется в бега. Вы вежливо попросили таксиста освободить водительское место в связи с производственной необходимостью… правда, он оказался не слишком сознательным и какое-то время еще бежал за своей машиной… и подхватили меня, привезли в «Зергут»…
Тут Данила как-то странно кхекнул, но на это никто не обратил внимания.
— Пока я пыталась там найти адрес сестры Данилы, вы утрясли конфликт с таксопарком, все объяснили и сделали так, чтобы на мой вызов прислали именно вас. О дурной славе переулка Клитчоглоу вы, видимо, тогда еще не знали, но забеспокоились о том, куда я иду, и послали на выручку Сильву… Спасибо огромное, очень может быть, что ты мне жизнь спасла, — с чувством сказала Алёна, гладя собаку. Та лизнула ей руку.
— Ну, вы правильно сказали, что Сильву на выручку послал я, — сказал Шамрай. — Так что и я заслуживаю вашей благодарности.
— Ну… спасибо большое, — сказала Алёна растерянно и попыталась подняться. — Сейчас встану и вас как следует поблагодарю…
— Ничего, лежите, — сказал Шамрай, по-прежнему прижимая ее к себе, — мне так больше нравится.
После этих слов он наклонился и поцеловал Алёну в губы.
Дела давно минувших дней
Жив я остался чудом.
То, что вызвало обвал, то меня и спасло. Попади я в обыкновенный оползень, уже давно задохся бы, засыпанный землей. Но я провалился в заброшенный коллектор… уж кто недосмотрел при строительстве станции, не знаю, но мысленно слал ему проклятия. Его разгильдяйство едва не стало причиной моей гибели! Не знаю, как уж так вышло, что коллектор не забило доверху землей, когда потом выравнивали площадку, видать, подмостья там какие-то оставались, которые потом съехали, подмытые дождем, а теперь они громоздились надо мной, грозя вот-вот обвалиться и погрести меня под слоем земли, который они еще удерживали.
В иные минуты казалось мне, что уж скорей бы… скорей бы это случилось.
Но страшна эта мысль, и еще писал карандаш… А пока он писал, я еще цеплялся за жизнь.
Здесь, в темноте, где у меня было время не только предаваться отчаянию, но и думать, я многое понял.
Тот миг в Серафимином дворе, когда мы обменялись в кромешной тьме взглядами с неизвестным парнем… Увидеть меня так же отчетливо, как видел его я, мог только северянин. Не Венькой называла его Серафима — Вейкко или Вейкой. В Питере так — вейка — зовут финнов-извозчиков, как в Москве — ваньками. Но есть и финское имя Вейкко. Я многих в Петрозаводске знал, кого так звали. Он был типичный финн — с твердым, красивым, широковатым лицом, с прозрачными, иной раз до белизны, глазами. Соломенными волосами и этими глазами он был очень похож на красавицу Синикки, но все черты лица перенял у своего отца — Раймо Туркилла…
Невозможно забыть лица человека, которого ты убил, и я помнил лицо Раймо всю свою жизнь. Иной раз оно являлось ко мне в снах, иной раз какое-то сходство я улавливал в случайно встречном человеке, и сердце выскакивало из груди от страха. И вот теперь я сразу узнал его сына и сына Синикки.
Возраст совпадал — ему было двадцать лет.
Слушая тогда, месяц назад, рассказ Васильева, я пропустил мимо ушей одну фразу — что ребенка убитой Синикки взял к себе Яаскеляйнен, хозяин гостиницы. Ведь это был все же его родственник…
Вырастил его, воспитал — и что? Отправил найти убийцу отца и убить его?
Нет. Никто, ни одна живая душа не могла заподозрить, что я убил Раймо Туркилла! Если Яаскеляйнен в самом деле послал Вейкко в Нижний, то лишь затем, чтобы отыскать браслет, который финны почему-то называли Сампо.
Но убийца не оставил бы меня в живых. Об этом свидетельствовала моя пронзенная ножом подушка. Это был настоящий финский пуукко, который от русских финок отличался тремя вещами: обушок не был так сильно скошен, дола, бороздка на клинке, тоже не была скошена к краю, а главное, на пуукко не было даже намека на гарду, лезвие сразу входило в рукоять. Я этих пуукко навидался в Петрозаводске, финский нож сразу мог отличить от подделки. Тот нож, которым хотели убить меня, как две капли воды напоминал нож Раймо, который я когда-то побоялся тронуть. Меня хотел убить отец, меня хотел убить сын…
Не убил только чудом, потому что ревность погнала меня к Серафиме!
Но ведь она сама сообщила, что ее не будет. Я мог остаться дома. Значит, она подстраивала мое убийство? Присутствовала при разгроме моего жилья, при этих безумных и в то же время тщательных поисках? Во имя чего она действовала? Во имя любви к Вейкко? Но нет… я знал, какова Серафима, когда любит или хотя бы притворяется, что любит! Люби она Вейкко, непременно позвала бы его к себе в ту ночь! Но она велела ему уйти.
Что тогда?
Что-что… разве я забыл, с кем имею дело? Васильев называл Серафиму революционной фурией, говорил о ее неистовом фанатизме, о том, что для нее всегда и прежде всего — преданность интересам организации.
Боже мой, смешнее всего, что я знал, если бы она попросила у меня этот браслет для себя — я отдал бы сразу.
Но она не могла ничего попросить, она не знала о браслете!
А может быть, Вейкко один громил мое жилье и искал браслет? Может быть, Серафима была в это время совершенно в другом месте?
Слезы мои падали на грязную бумагу, где я записывал эти строки. Я и сам не знал в те мгновения, о чем больше просил Бога — о спасении своей жизни или о том, чтобы Серафима оказалась невиновна передо мной и не замышляла мое убийство!
Она говорила, что ее мутит. В последнее время она выглядела такой усталой и растерянной… Что, если она беременна от меня? Что, если это пугало ее? Но ведь нельзя мечтать о смерти отца своего ребенка!
Или можно?
Я не знал…
Все, карандаш мой окончательно затупился. Очинивать больше нечего. Он оставляет на бумаге какие-то неясные, неразборчивые разводы. А впрочем, кому их разбирать? Никто и никогда не прочтет этих строк. Никто и никогда не найдет ни меня, ни эту тетрадь.
Я устало откинулся к стене. Сейчас… еще немного посижу, еще помолюсь. А потом, когда мысль о безнадежности станет невыносимой, я взрежу себе ножом вены.
А впрочем, он так затупился, что и карандаш-то уже не мог подточить! И эта надежда на скорое спасение исчезла.
Но что это? Я слышу голоса?
Нет, мне мерещится, я не могу ничего слышать… все заглушал шум воды…
Но вода больше не шумит! Не шумит!
— Спасите! — закричал я. — Я здесь, под землей!
— Никита! — словно с небес долетел до меня голос Серафимы.
— Господин Старков! Потерпите-с! Мы вас вытащим-с! — вторил ей мужской голос, в котором я узнал голос слесаря. — Воду отключили, чтобы вас найти! Сейчас спустим вам веревки! Уж как дочка-то рада будет, что вы спасены-с!
* * *
«Губернские новости», Нижний, от 10 июля 19… года.
Трехдневный ливень нанес немало урону городскому хозяйству. Поломано много деревьев, размыло мостовые. С Гребешка и Откоса смыло большие массы земли, порушены некоторые частные строения, стоявшие в опасных местах. К счастью, обошлось без жертв. Однако жертвой размытой земли едва не стал известный актер Н. Л. Старков-Северный, который провалился в коллектор второй городской водопроводной станции. Еще предстоит выяснить, по чьей вине остался не засыпан один из коллекторов, однако г-на Северного спасли благодаря внимательности слесаря Пулкова и актрисы госпожи Красавиной, которые обнаружили провал в садике около станции и встревожились за судьбу г-на Старкова-Северного. Сейчас известный артист находится в руках врачей, у него воспаление легких, но светила медицины уверяют, что здоровье его в самом скором времени поправится.
«Губернские новости», Нижний, от 10 июля 19… года.
Задержан убийца г-на губернатора Гриневича! Им оказался член боевой организации социалистов-революционеров Вейкко Яаскеляйнен, финн по национальности. Подробностей задержания неизвестно, однако точно, что он был арестован в доме известного инженера В. Ф. Тихонова, который в своем доме содержал явочную квартиру для боевиков.
Оба понесут суровое наказание. Наша газета будет держать господ читателей в курсе расследования и судебного процесса над убийцами губернатора Гриневича.
Наши дни
— Горько! — заорал вдруг чей-то голос, и Алёна почувствовала, что губы Шамрая оторвались от ее рта. И вздохнула с сожалением… это был прекрасный поцелуй, пылкий и такой волнующий, что она как-то вмиг забыла, среди какой жути все это происходило.
— Горько! — снова раздался голос, и Алёна открыла глаза.
Перед ней стоял низкорослый и очень широкоплечий человек в серой камуфле и «чеченке». В нем было что-то невыносимо знакомое…
— Привет, Лев Иваныч, — нетвердым голосом сказал Шамрай, все еще обнимая Алёну. — А ты как сюда попал? Я же вроде не оставил координат, где буду…
— Ну и зря, тоже мне, Артур Грей, ринулся сломя голову выручать свою Ассоль, забыв про алые паруса! — сердито сказал широкоплечий, и до Алёны вдруг дошло, что перед ней стоит не кто иной, как старинный ее приятель и неприятель Лев Иваныч Муравьев, начальник областного следственного отдела, причем не просто стоит, а выражается в присущем ему ерническом стиле. — Но ты забыл, что после твоих розысков вокруг этих спекулянтов ювелиркой и их хождений на Куйбышевскую водокачку мне о каждом сигнале по Черниговской сразу докладывают. А тут вдруг звонок: срочно, здесь убивают, писательница Дмитриева… ну, я и полетел во главе своей стаи.
— О! — закричал Андрей, тараща глаза. — Полетел! Я думал, почему милиция так долго не едет! Это называется — полетел! Да уж минут двадцать прошло, как я позвонил! Нас бы тут поубивали всех за это время!
— Да мы тут уже минут десять ваши собеседования слушаем, — усмехнулся Лев Иваныч, махнул рукой — и вдруг во все окна заглянули серые камуфлированные люди в шапочках-«чеченках». — Так что не сомневайтесь, товарищи, если бы что не так — спасли бы ваши души без промедления. Насчет сердец, конечно, не знаю… — вдруг сказал он с загадочным выражением, меряя взглядом Шамрая, который продолжал держать в объятиях Алёну Дмитриеву, которая, в свою очередь, не только не предпринимала никаких диктуемых элементарной скромностью попыток из сих объятий вырваться, но даже и сама некоторым образом приобнимала Шамрая.
— Да ты не волнуйся, Лев Иваныч, — насупился Шамрай. — Со своими сердцами мы как-нибудь сами разберемся, верно, Алёна? Со всем прочим разобрались — ну и с этим тоже!
— Ну, в общем-то, да, — нерешительно пробормотала она. — Но только мы так и не разобрались, из-за чего понадобилось заменять мой браслет. Данила, может, ты знаешь?
Данила покачал головой.
— Я скажу! — вдруг выкрикнул Серый, который уже не лежал лицом вниз, а был должным образом упакован в наручники. — Признание… добровольное… мне зачтут?
— Смотря что скажешь, — холодно посмотрел на него Лев Иваныч, явно давая понять, что в торг вступать не намерен.
— Ладно, скажу… Вейка говорил, что в ихней Финляндии существует клуб «Сампо». В нем состоят самые богатые люди страны. Они собирают обломки мельницы…
— Ты ври, да не завирайся, — сурово приказал Лев Иваныч.
— Нет, правда, Вейка про это говорил, — заикнулся робко Данила. — Сампо — это национальная реликвия, про нее даже эпос сложен, называется «Калевала».
Лев Иваныч вопросительно посмотрел на Алёну. Она кивнула:
— В самом деле, это очень трагическая и красивая история. Старуха Лоухи сбросила Сампо с корабля, на котором его собирались увезти в Калевалу три героя, и оно разбилось на мелкие кусочки. Часть прибило к берегу, часть унесло в море, поэтому, согласно преданиям, море и считается более богатым, чем суша. В принципе я вполне могу поверить, что существует клуб таких фанатов, почитателей этого эпоса.
— У них эмблема — изображение Сампо, обшитое золотым шнуром, как символом неисчислимого богатства, — пояснил Данила.
Алёна тихонько улыбнулась, но ничего не сказала.
— Ну, рассказывай дальше, — приказал Лев Иваныч Серому.
— Не знаю, откуда Вейка взял, что несколько обломков Сампо еще до революции попали в Нижний. Я особо не вникал, но будто бы они оказались в руках у одного актера — в виде браслета, ну, какие-то звенья цепочек были вставлены в браслет. Актер был любовником Серафимы Клитчоглоу… это ее вон… — он подбородком указал в сторону тела Имы, — вроде как прапрапрабабка. Этот актер на водокачке еще в начале ХХ века чуть не погиб, но выбрался. Вскоре после этого он умер, потому что простудился здесь и схватил воспаление легких, сокровище досталось Серафиме. Но за ней шла охранка, она браслет закопала в подвале дома, в котором жила в 1-м Ильинском переулке, а потом ее арестовали, выслали, она не могла вернуться и забрать его. У нее был сообщник, финн… то ли помешанный, то ли фанатик какой-то, я толком не знаю. Его тоже арестовали, но он бежал с каторги и тайно вернулся в Финляндию. И своим потомкам он завещал найти этот браслет, в котором были частицы Сампо. Вейка — это и есть его потомок. Его отец во все это не очень верил, и дед тоже, а Вейка поверил. Он связался с отцом Имы и ее матерью, написал им что и как. Потом приехал. Они ему поверили. Нужно было рыть в подвале, но для этого нужно было выселить всех, кто там жил, в подвальном этаже. Секлита Георгиевна и ее муж добились, чтобы переулок был назван именем Серафимы Клитчоглоу, а дом передали им в собственность.
— А ты откуда все эти подробности так хорошо знаешь? — подозрительно спросил Лев Иваныч. — Ты их доверенное лицо, что ли? Откуда такое доверие взялось? Какие-то делишки и раньше обделывали, что ли?
Серый кивнул и пробормотал:
— Вы ж все равно узнаете, как мы ювелиркой спекулировали, как подменяли товар в магазине… Има в «Диаманте» работала, там все начальство с этим связано.
— Ценная информация! — обрадовался Лев Иваныч. — На вес золота! Это тебе точно зачтется, обещаю. Но ты давай рассказывай дальше.
— Ну, нашли этот браслет… подвал несколько лет перекапывали, но нашли. И обалдели. Думали, там золото, и серебро, и бриллианты, а там наполовину латунь. Има отдала браслет вон его брату, — Серый мотнул головой в сторону Данилы, — чтобы он его почистил и разобрал, латунь отдельно, а золото отдельно. Но ничего ему про Сампо не сказала. Тот взял браслет в мастерскую. Мы с ним в этой мастерской посменно работали, через наши руки много чего проходило! Клиент платил за золото, а получал подделку с клеймом. Ну и все такое… Словом, Леха браслет разобрал, а тут приходит клиентка, — на Алёну был брошен ненавидящий взгляд, — мол, надо ей браслет увеличить. Леха в ее браслет латунное колечко и вставил… взяв его из тех, раритетных… Он же думал, что это бросовый металл! А Вейка тут вернулся — он в Питер по делам уезжал, — и чуть всех не поубивал. Оказывается, у них считается, что Сампо вовсе не была выкована из золота и серебра — там намешано каких-то самых обыкновенных металлов, в том числе и латуни. То есть ювелир невесть кому поставил колечко от этого Сампо! Стали искать… Има-то видела ее, когда она, — кивок в сторону Алёны, — уходила. Выследила, куда идет, выяснила, что в спортзал. Зашла туда — будто тоже хочет заниматься — и увидела, как та часы снимает и браслет около стенки кладет… На счастье, она, — повторный кивок, — брякнула: мол, покупала браслет в «Клеопатре». Секлита Георгиевна нашла такой же второй, решили подменить. То есть сначала решили просто украсть в спортзале, да Секлита Име сказала, что с ней, — кивок на Алёну, — надо быть осторожней, она знаменитая писательница, с начальством милицейским дружит, черт знает, вдруг начнет серьезно искать, если браслет исчезнет, а если подменит, она ничего не заметит… Но заметила, начала копать…
— Ну и накручено, — покачал головой Шамрай. — Левой ногой правое ухо чесали, иначе не скажешь.
— Убийцам с трудом даются простые решения, — сказала Алёна, — они не могут удержаться от бессмысленного хитроумия.
— Это точно, — энергично кивнул Шамрай. — Проверено опытом. А ты не только красивая, но и очень умная женщина…
— Это не я, это Агата Кристи, — слабо улыбнулась Алёна.
— И скромная, — подытожил Шамрай.
Лев Иваныч иронически кхекнул:
— Да ты ее еще просто не знаешь!
— Значит, моего брата убили из-за этого латунного колечка? — перебил Данила.
— Ну да. — Серый опустил голову. — Вейка сам… Он как с ума сошел от злости… Они с Имой были два сапога пара, оба такие отвязные, недаром поженились…
— И этого Вейку Яаскеляйнена мы так и упустили, значит! — огорченно пробормотал Лев Иваныч.
— Почти наверняка он ринется в Питер, — сказала Алёна. — Об этом у них с Имой шла речь. Кроме того, ему нужно будет обратиться к врачу за антирабической вакциной. После того как Сильва его покусала в переулке Клитчоглоу, он начал делать уколы. От физического напряжения вирус бешенства может активизироваться, а Вейка отсюда бежал со сверхзвуковой скоростью! И вряд ли вакцину с собой взял, он же не знал, что тут произойдет!
— После Сильвы уколы от бешенства? — так и взвился Шамрай с оскорбленным видом. — Да ей все прививки сделаны!
— Но Вейка-то этого не знает! — сказала Алёна.
Шамрай усмехнулся и взялся за телефон. Надо думать, отдавал приказы задержать Вейку.
— Вот так, Алёна Дмитриевна, — сурово сказал Лев Иваныч, — вечно из-за ваших выдумок людям хлопоты. Носила бы браслет да и носила, нет, расширять вздумалось!
— Моего брата не убили бы, — вздохнул Данила.
— Ага, и банда разбойничья осталась бы не раскрыта, — невинным голосом сказала Алёна.
— Между прочим, молодой человек, — сурово вмешался Шамрай, — если вы думаете, что могли бы оставаться женихом моей племянницы, состоя в преступной группировке, вы глубоко ошибаетесь, понятно? Не хочу оскорблять память вашего покойного брата, но только что было сказано: через эту ювелирную мастерскую много темных дел проходило. Козьма Прутков выразился: «Не ходи по косогору — сапоги стопчешь». А я бы сказал — не ходи по преступной дорожке, не то с жизнью простишься.
— Это да… — вздохнул Данила. — Вы правы… у меня от всего этого голова кругом идет, не соображаю, что говорю. Я вообще дураком оказался. Я ведь даже думал, что вы с этой бандой тоже связаны, — виновато посмотрел он на Алёну, — поэтому и пошел к Александру Викторовичу и начал за вами следить…
— Приехали! — невесело усмехнулась Алёна. — Своя своих не спознаша. Я вас понимаю, Данила. Я и сама себя чувствую виноватой. Вы читали «Тамань» Лермонтова? Помните, как герой чувствует себя виноватым за то, что разворошил гнездо контрабандистов? Так и я со своим браслетом…
— Эффект бабочки! — с ученым видом знатока сказал Лев Иваныч. — Слышали о таком? Махнула бабочка правым рукавом — разлилось озеро, махнула левым — по озеру поплыли лебеди…
— Да какие у бабочки рукава, скажи на милость? — расхохотался Шамрай. — Это вроде бы лягушка рукавами махала…
— А у лягушки какие рукава? — ехидно осведомился Лев Иваныч. — Бабочка не рукавом махнула, это я оговорился, конечно, а крылом! А у лягушки крылья есть? Ну скажи, есть у лягушки крылья?!
— Вроде нету… — неуверенно пробормотал сбитый с толку Шамрай.
— Ничего, — покровительственно махнул рукой Лев Иваныч. — Она, — последовал новый кивок в сторону Алёны Дмитриевой, — тебе все объяснит и про крылья, и про лягушку, и про то, кто там каким рукавом машет, и про мельницы всякие, и сказочку расскажет, и песенку споет, а заодно поможет кубок преступлений распутать. Так что смотри, Шамрай, не упусти своего счастья!
И Лев Иваныч, грохоча по разбитому полу водокачки каблуками тяжелых, подкованных берцев, пошел на улицу. За ним потянулась его команда, унося мертвую Иму, уводя связанного Серого и поддерживая перебинтованного, но, к счастью, вполне живого Виталия.
— Погодите… — растерянно проговорила Алёна, опираясь на руку Шамрая и поднимаясь. Все тело у нее застыло и ломило. — Ой… А что мы тут искали-то, под звездами… под кривой старухиной скатеркой?!
— Ой, — сказал и Шамрай. — Совершенно забыли! — И схватил за рукав Серого. — Ну ты, колись дальше, коли начал.
Выражение лица Серого — о, было что-то неописуемое…
— Вот зараза, — буркнул он, глядя на Алёну. — Вот же зараза! Вспомнила-таки!
— Понятно, — хмыкнул Шамрай. — А ты думал, никто ни о чем не вспомнит, ты нам тут зубы заговорил, а потом вернешься и заберешь сокровище? Как бы не так! Мы все время о нем помнили, верно, Лев Иваныч?
— Само собой, — сказал Муравьев, явно бодрясь. — А как же? Я выходил только посмотреть, какая обстановка на улице. А сейчас начинаем подъем крышки. Эту, что ли, поднимать? — Он крепко потопал по круглой крышке, над которой на стене серебрилась надпись stars.
— Погоди ты, Лев Иваныч! — прикрикнул Шамрай. — Ты ее своим весом так вобьешь, что никакими силами потом не поднимем!
Лев Иваныч попятился от крышки и сделал знак рукой:
— Куйбышев, приступай.
Алёна тихо ахнула.
Подошел огромный парень, ничуть, ни статью, ни лицом, не напоминавший своего однофамильца-революционера. В руках у него было что-то вроде монтировки. Один ее конец он попытался подсунуть под крышку люка, но ничего не получилось.
— Ну что ты там возишься?! — проворчал Лев Иваныч, явно сконфуженный неудачей своего бойца. — Придется взрывать.
— Ты что, Лев Иваныч?! — конфиденциальным тоном поинтересовался Шамрай. — Да все эти развалины тогда рухнут — нам вовеки крышки не поднять из-под тонн кирпича.
— Нет-нет, не надо взрывать, крышку надо просто повернуть! — подсказала Алёна. — Вот в эту выемку что-то вставить и повернуть… может быть, получится?
— Может быть, может быть! — фыркнул Лев Иваныч. — Вечно у вас какие-то догадки странные, Елена Дмитриевна, вечно что-то такое непонятное.
— А вы попробуйте, — улыбнулась Алёна.
— Зараза! — с еще большей пылкостью прокомментировал Серый. — Вот же сс…
— Ссспокойно! — прервал Шамрай грозным голосом. — Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Так что лучше заткнись.
Серый заткнулся, и отвернулся, и закрыл лицо руками, и тихо скулил… так он и не увидел, как была поднята крышка, как оттуда вынули пластиковый пакет, висевший на каком-то крючке… в пакете лежала коробка, обмотанная скотчем. Когда его раскрыли, внутри оказался еще один пакет, в нем еще одна коробка…
Все это снимал на пленку один из бойцов группы Муравьева.
— Смерть Кощея на конце иглы, — нервно хихикнула Алёна. — Игла в яйце, яйцо в утке, утка в щуке, щука в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, а тот дуб Кощей пуще глаза бережет.
— Да нет, все проще, — пробормотал Лев Иваныч, открывая коробку — очень старую жестяную коробку с почти неразличимой надписью «Мокко Аравийский». Наверное, в ней когда-то хранился кофе. Но это было так давно, в невозвратные, далекие времена…
В коробке лежал синий шелковый платок — собственно, синим он был раньше, когда-то давно, а теперь покрылся пятнами ржавчины и вылинял.
Лев Иваныч развернул его… какие-то колечки латунные, пластинки, несколько прозрачных, как вода, камней, слишком крупных для того, чтобы быть драгоценными, а между ними…
— Ого, мой браслет! — воскликнула Алёна. — Интересно, мне можно будет его получить обратно? После окончания следствия, конечно. Там «волосатик», который мне очень нравится, он называется «Волосы Венеры» и очень хорошо влияет на творческое воображение.
— Наверное, это он повлиял на воображение этих придурков, — пренебрежительно кивнул Лев Иваныч на Серого. — Из-за чего сыр-бор горел, кто-нибудь мне скажет?! Какие-то обломки, извините за выражение… чего?
— Сампо, — вздохнул Данила, в лице которого читалось немалое разочарование. — Вообще-то я ожидал большего…
— А я нет, — улыбнулась Алёна. — Не обладание сокровищем распаляет воображение, а мечта о нем!
— Это, конечно, сказала Агата Кристи, — хмыкнул Шамрай.
— Нет, — покачала головой Алёна. — Это я.
— Так, идите все отсюда, не мешайте, — заворчал Лев Иваныч. — Нам нужно все запротоколировать, еще раз все вокруг заснять, а вы тут топчетесь.
Данила, прощально кивнув, ушел первым — печальный, разочарованный…
— Я тогда тоже помчался? — спохватился Андрей. — Давно пора, уже опоздал! Меня Катерина потеряла небось.
— Андрей… — Алёна поцеловала его в традиционно-небритые щеки. — Спасибо тебе!
— Ты спасибом не отделаешься, про роман не забудь, в котором меня опишешь, а то мать очень любит читать твои книжки про меня.
— Сделаю! — клятвенно воздела руку Алёна.
Андрей убежал.
Алёна еще раз заглянула в глубокий, непроглядный колодец. Темнота. Ничего не видно. Может быть, там спрятано что-нибудь еще? Может быть, но об этом ей никогда не узнать.
— Ну что, пошли и мы? — сказала она, повернувшись к Шамраю.
— Какое прекрасное местоимение! — проговорил он серьезно. — Особенно когда речь идет о нас с тобой. Лев Иваныч посоветовал мне не упускать свое счастье. Давай не будем его упускать, а, Алёна?
Она смутилась. Было приятно видеть его напряженные, страстные глаза, но в то же время она чувствовала и смущение, и неловкость, и даже страх. Ей так давно не говорили таких вещей!
Они выбрались из здания водокачки и остановились у обочины дороги. Сильва крутилась вокруг.
— Похоже, это было самое быстрое расследование в моей жизни, — сказала Алёна, пытаясь перевести разговор на другое, но Шамрай не дал.
— А в моей жизни это была самая быстрая любовь с первого взгляда, — улыбнулся он. — Нет, правда… я же тебя совершенно не знаю, а уже практически предложение сделал! Не смог устоять! И совершенно не жалею об этом. Никогда со мной такого не было, поверишь? Раньше для меня женщины просто не существовали, долгие годы так было, в любой миг с любого свидания я срывался по звонку с работы буквально с криком «ура», я ни одного объяснения до конца не довел, потому что работа всегда была важней, а сейчас мне вообще все равно, кроме твоего слова! В этом все сейчас, Алёна, ты понимаешь? Скажи да, умоляю! Я, конечно, человек грубоватый, со всякими красивыми словами у меня напряг, но любить я умею, а ведь ты достойна, чтобы тебя любили, и я… я достоин тебя любить!
«Как-то очень давно мне никто не делал такого приличного предложения, — испуганно подумала Алёна. — Неприличных — сколько угодно, а вот чтобы замуж… Это лестно? Или наоборот? А почему я ничего не чувствую, никакого трепета или волнения? Может, я и в самом деле бесчувственна, как огурец… ну почему, ну почему это убийственное выражение выдумала не Алёна Дмитриева, а Агата Кристи?!»
— Алёна… — хрипло выдохнул Шамрай. — Не молчи! Говори все, что угодно, только не «нет»! Помнишь, песня была — не говорите «нет», пожалуйста…
«А может, все-таки сказать «да»?» — испуганно подумала Алёна.
Выйти замуж… получить кучу обязанностей и прав, например пресловутое право на ревность, которое можно будет использовать когда угодно и где угодно, в любом ночном клубе, в том же «Зергуте»…
Сказать «да»? Сказать «нет»?
Взгляд ее растерянно заметался по сторонам. Господи, она себя не узнавала, эта решительнейшая из женщин! Она не могла решиться решить свою судьбу.
Судьба! Вот именно! Надо положиться на судьбу! Пусть та предстанет перед Алёной в образе… да хоть в образе Сильвы, которая металась по дороге, пытаясь схватить в пасть выкопанный ею из сугроба полинявший, прошлогодний резиновый мячик, а он все время выскальзывал и катился дальше.
Если Сильва успеет схватить мяч прежде, чем он скатится в овражек, Алёна скажет «да». Если нет — значит, ответит «нет».
Она, затаив дыхание, смотрела на псину, которая вдруг обратилась в дельфийского оракула.
— Так что, Алёна? — спросил Шамрай, с недоумением наблюдая, как она вперила взор в его собаку. Шамрай же не знал, что в Сильве воплотился для Алёны дельфийский оракул! — Что ты ответишь?
— Я… я отвечу… — безотчетно бормотала Алёна, не сводя глаз с собаки. — Я отвечу…
У нее замерло сердце, потому что в это мгновение Сильва добежала до овражка и закатила мячик на довольно высокий сугроб.
И тут же затрезвонил телефон Шамрая!
— Черт! — пробормотал он. — Кто изобрел мобильники? Не знаешь, Алёна? Вот и я не знаю. А знал, убил бы гада! Алло!
Помолчал мгновение и вдруг радостно закричал:
— Вейку взяли? Уже?! Не может быть! В аптеке?! Покупал вакцину КОКАВ?! Ура! Конечно, конечно! Еду немедленно!
И он, с места взяв спринтерскую скорость, ринулся туда, где стояли машина спецназа и знакомый до боли белый «Ниссан» с трафаретом «Нового такси».
— Сильва! К ноге! — раздался крик. На Алёну Шамрай даже не оглянулся.
Сильва посмотрела на нее своими прекрасными каштановыми глазами, потом опустила голову и осторожно ткнула кончиком носа мячик. Мячик перекатился через сугроб и канул в овражке.
Сильва снова глянула на Алёну — такое ощущение, если бы она могла, она бы улыбнулась сочувственно! — и помчалась догонять хозяина.
— Ну что ты будешь делать… — пробормотала наша героиня. — Не судьба! И ведь, как говорится, не поспоришь!
И в это мгновение в кармане пальто разразился звонками телефон.
— Господи! — ахнула Алёна. — Значит, я тогда отключила вызов? И напрасно надеялась на помощь?! Ну и ладно. Все уже позади.
Не глядя, она нажала на полосу «ответить», поднесла трубку к уху:
— Алло?
— Слушай, Алёна, — раздался голос Дракончега. — Я тебе уже звонил, но там какие-то разговоры из трубки неслись, я ничего не понял. У тебя ничего не случилось?
— Да все в порядке, честное слово, — сдерживая нервный смех, ответила Алёна. — А ты чего звонил-то? Чего хотел?
Раньше на такой вопрос Дракончег всегда отвечал: «Не чего, а кого! Тебя!»
Сейчас он только усмехнулся:
— Да хотел спросить… нет, только серьезно отвечай… а ты правда хотела бы, чтобы я пошел в стриптизеры? А то я видел объявление о наборе на курсы… Мне это довольно противно, яйцами перед бабами трясти, но если ты хочешь… я готов! Я подумал… мы так давно не виделись, аж три дня, это ужас… как будто сто лет прошло, честно! Может, ты меня уже забыла… может, решила больше со мной не встречаться… может, уже вообще замуж вышла!
— Собиралась, но передумала, — честно призналась Алёна.
— Это ты на который вопрос сейчас отвечаешь? — насторожился Дракончег.
— На все сразу, — сказала Алёна.
Дела давно минувших дней
…Лоухи, она, старуха, Быстро облик свой меняет, Принимает облик новый. Старых кос пяток приносит, Шесть мотыг, давно ненужных: Служат ей они как пальцы, Их, как горсть когтей, сжимает, Вмиг пол-лодки подхватила: Подвязала под колена; А борты к плечам, как крылья, Руль, как хвост, себе надела; Сто мужей на крылья сели, Тысяча на хвост уселась, Села сотня меченосцев, Тысяча стрелков отважных. Распустила она крылья, Поднялась орлом на воздух. В высоте крылами машет Вяйнямейнену вдогонку… Прилетев, хватает Сампо, Ухватилася за Сампо, Тащит пальцем безымянным, Тащит Сампо прямо в воду, Крышку пеструю роняет Прямо с края красной лодки В глуби синие потоков. Так разбилось в море Сампо, Крышка пестрая сломалась. Потонули те обломки, Те куски большие Сампо, В глубине потоков синих, В темной тине дна морского; Полегли куски другие, Те обломки, что поменьше, На хребте воды лазурной, На волнах морских широких, Чтоб морской качал их ветер, Колыхало б их теченье — Те осколки пестрой крышки…Сноски
1
Пишбарышнями в начале ХХ века называли машинисток (работающих на печатных машинках). — Прим. автора.
(обратно)2
Подробнее читайте в романе Елены Арсеньевой «Мода на умных жен», издательство «Эксмо».
(обратно)3
Конец (иврит).
(обратно)4
Макао — старинная карточная игра.
(обратно)5
Фижмы — две полукупольные подкладки под нарядную юбку (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии. Их носили в XVIII веке.
(обратно)6
Голконда — в незапамятные времена так называлась крепость в Индии, некогда — столица государства, где находились усыпальницы древних раджей. В них и во дворцах хранились баснословные запасы алмазов. Выражение «алмазные россыпи Голконды» стало нарицательным для обозначения несметных богатств.
(обратно)7
Стола (лат.) — в Древнем Риме женская одежда типа хитона с рукавами или без них, с пришитой по подолу инститой; надевалась поверх туники. Инстита (лат.) — в VIII — V вв. до н. э. в Древнем Риме плиссированная оборка, пришиваемая к подолу столы.
(обратно)8
Чуть больше ста метров.
(обратно)9
Здесь и далее стихи «Калевалы» даются в обработке Элиаса Лённрота, перевод Л. П. Бельского.
(обратно)10
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Фигурки страсти», издательство «ЭКСМО».
(обратно)11
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Репетиция конца света», издательство «ЭКСМО».
(обратно)12
Об этом можно прочитать в романах Елены Арсеньевой «Репетиция конца света» и «Крутой мэн и железная леди», издательство «ЭКСМО».
(обратно)13
Об этом можно прочитать в романах Елены Арсеньевой «Поцелуй с дальним прицелом», «Ведьма из яблоневого сада», «Фигурки страсти» и других, издательство «ЭКСМО».
(обратно)14
Об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Письмо королевы», издательство «ЭКСМО».
(обратно)15
Айны, айну — народ, некогда населявший Курильские острова.
(обратно)16
Подтверждение этому можно найти в романах Елены Арсеньевой «Крутой мэн и железная леди», «Час игривых бесов», «Мода на умных жен», «Письмо королевы» и других, изданных «ЭКСМО».
(обратно)17
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Письмо королевы», издательство «ЭКСМО».
(обратно)18
Антреприза (франц. entreprise, от entreprendre — предприниматель) — зрелищное предприятие, созданное и возглавляемое частным предпринимателем — антрепренером.
(обратно)19
В описываемое время первой на Волге выставляла свои дебаркадеры финская фирма «Ситойн». Ее маленькие баркасы открывали навигацию.
(обратно)20
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Фигурки страсти», издательство «ЭКСМО».
(обратно)21
Об этом можно прочитать в романах Елены Арсеньевой «Бабочки Креза» и «Проклятье Гиацинтов», издательство «ЭКСМО».
(обратно)22
Вежеталь — ароматная жидкость для смачивания волос, что было модно в описываемое время.
(обратно)23
Об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Чаровница для мужа», издательство «ЭКСМО».
(обратно)
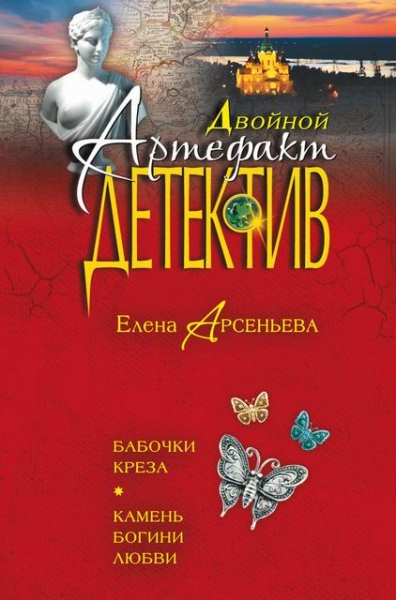


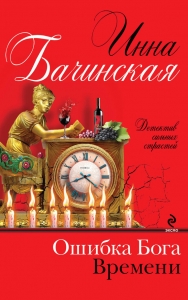


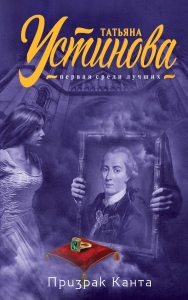

Комментарии к книге «Бабочки Креза. Камень богини любви», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев