Марина Юденич Игры марионеток
Старик и женщина. Год 2001
Старик приходил завтракать на террасу отеля каждое утро, неизменно в четверть десятого, и ни минутой позже.
Надо полагать, он был педантичен во всем.
Служащие показывали его новым постояльцам, как некую достопримечательность отеля и города — маленького нормандского городка на прохладном побережье Атлантики. На протяжении многих лет он приезжал сюда ранней весной.
В марте.
Пятнадцатого числа.
Всегда — пятнадцатого.
И непременно — последним поездом из Парижа.
Гораздо забавнее было то, что никакой другой информацией о старике в отеле не располагали.
Говорили, что он ученый, возможно — профессор, возможно даже академик, но доподлинно этого не мог утверждать никто.
Неизвестно было, в какой области работает постоялец.
Есть ли у него семья.
Живет ли он в Париже, и вообще — во Франции.
Сказать, что он был неразговорчив, значит — не сказать ничего.
Дней и месяцев, которые старик провел под крышей отеля, наверняка набежало уже на несколько лет, а быть может — и целое десятилетие, слова же, которые за это время он соблаговолил произнести, исчислялись сотней— другой.
Не более.
Только самые необходимые, и те — скупо, по одному, в классическом телеграфном стиле, сдобренном малой толикой вежливости.
«Кофе, пожалуйста»
«Мой шезлонг. Благодарю»
«Такси к девяти утра»
Никаких посторонних замечаний, и уж тем более рассуждений или шуток.
Ни слова о погоде и самочувствии.
Если случалось кому, по рассеянности или неведению обратиться к старику с праздным, дежурным вопросом, ответом было молчание. Невозмутимое, безразличное молчание человека, душа которого пребывает на изрядном расстоянии от того места, где находится тело.
Словом, рассказать о нем было практически нечего, но причина заключалась не только в том, что старик упорно не желал ни с кем общаться.
Слова порой бывают не столь уж важны, порой — могут даже исказить представление о том, кто их произносит.
Но многое может рассказать внешность.
Однако и в этом смысле, загадочный старик был практически неуязвим.
Единственное заключение, к которому немедленно приходил каждый, увидев его даже мельком, было исчерпывающим и кратким: старый человек.
Очень старый.
Более — ничего.
Годы сыграли со стариком презабавную шутку, напрочь лишив его внешность каких-либо индивидуальных признаков.
Старость с мастерством подлинного живописца растушевала отличительные черты.
Непонятно — блондином он был или брюнетом до того, как волосы поредели, стали похожими на пух и приобрели серебристо— серый оттенок.
Какими были его губы, прежде чем побледнеть — в синеву, истончится, и запасть, отчего казалось, что старик постоянно их поджимает?
Был он прежде смуглым или бледнолицым?
Кожа напоминала древний, сухой пергамент, казалась неживой, желтовато — серой, и тонкой до прозрачности. На ней отчетливо проступали коричневые пигментные пятна, похожие на гигантские веснушки, странной, причудливой формы.
Наблюдая за ним однажды, молодая женщина, красивая, одинокая и, наверное, от того — грустная, неожиданно подумала, что известная схожесть стариков и младенцев заключается еще и в этом — внешность их лишена индивидуальности.
Все крохи, как правило, на одно лицо: нос-кнопка, глаза-горошины, на голове — легкий пушок неопределенного цвета.
Глубокие старцы тоже похожи друг на друга: сетка морщин одинаково уродует лица, похоже проваливаются беззубые рты, поредевшие, седые волосы едва прикрывают голову.
Этой весной она впервые приехала в Нормандию и поселилась в тихом отеле, намереваясь отдохнуть в одиночестве.
Привести в порядок мысли.
Залечить душу.
Прошлая жизнь была перечеркнута.
Мосты, ведущие назад, сожжены.
Там осталось многое, без чего прежде она не мыслила существования, но все это было утеряно безвозвратно.
Остались боль, обида, тоска и одиночество.
Были минуты, когда жизнь казалась ей глупой пыткой, способной только продлевать и множить страдания.
Из этого следовало, что продолжать ее не имеет смысла.
Позже она поняла, что это не так.
Тогда женщина просто исчезла из своей прошлой жизни, ни с кем не простившись и не захватив ничего, даже самого ценного или необходимого.
Она появилась в отеле с одной — единственной дорожной сумкой, содержимое которой могло вызвать удивление, а возможно — и некоторые подозрения.
Все, без исключения, вещи, заполнявшие сумку, были совершенно новыми.
Женщина купила их в Париже, перед тем, как сесть в поезд, идущий на север.
Ей казалось, что это правильно и даже совершенно необходимо — начинать новую жизнь в новых платьях и босоножках, словно в новой шкурке, натянутой взамен покинутой, старой.
Теперь она занималась душой, которую, к сожалению, невозможно было обновить с той же легкостью.
Но душа была жива и потому медленно, но неуклонно возвращалась к жизни.
Оказалось, что этому очень способствуют долгие прогулки вдоль моря, по пустынному пляжу, растянувшемуся на километры.
Свежий ветер Атлантики, налетая, путался в волосах и заполнял легкие чистым, прохладным дыханием.
Ветер казался целебным.
Он проветривал душу.
Уносил прочь клочья скорби.
Взамен приходила легкость, и новая жизнь распахивалась вдали, у самого горизонта, прозрачная и светлая, пронизанная лучами сдержанного нормандского солнца, как небо над водами Ла-Манша.
Она гуляла целыми днями, и оставалась в отеле только в непогоду — когда над морем буйствовал холодный, злой ветер, взбивая волны и теребя тучи, из которых сразу же начинал накрапывать мелкий дождь, унылый и нудный.
Тогда она приходила завтракать на террасу отеля и задерживалась там до обеда.
Читала книгу, или просто сидела в глубоком плетеном кресле, придвинув его к самым перилам, так, чтобы перед глазами простиралась только поверхность воды.
Серая.
Вздыбленная.
Придавленная сверху низким, свинцовым небом.
В тот день дождь зарядил еще ночью.
Мир проснулся мокрым, холодным, и от того, наверное, удручающе неприветливым.
На террасе было пусто.
В такую погоду постояльцы предпочитали завтракать в теплых номерах, и только угрюмый старик, нахохлившись больше обычно, сидел за столиком в глубине террасы.
Разумеется, этот был именно тот столик, который он облюбовал в первый же день пребывания здесь.
И, с той поры — неизменный.
Женщина же, напротив, этим утром изменила своей привычке, и устроилась подальше от перил, что было неудивительно — ветер то и дело швырял на террасу полные пригоршни дождя.
Она дождалась, пока официант налил ей кофе из большого хромированного кофейника, и, отхлебнув горячей ароматной жидкости, раскрыла книгу.
Она всегда завтракала так: уткнувшись в книгу, отламывала кусочки горячего круассона, и отрывалась от чтения, чтобы сделать глоток кофе.
Женщина совсем не следила за временем.
Это было несложно жизнь в отеле, да и во все городке текла плавно, никто никуда не спешил. Здесь не принято было беспокоить людей без особой нужды, и уж тем более никому в голову не пришло бы торопить человека, коротающего время за чашкой кофе.
Потому, наверное, она очень удивилась, ощутив вдруг чужое присутствие: кто-то близко стоял за спиной.
Первым вспорхнуло в сознании самое простое объяснение, но оно, как раз, и было, удивительным.
«Официант? — подумала женщина. — Но почему, зачем? Мне ничего не нужно»
Потом она обернулась, медленно, не слишком доверяя смутному ощущению, готовая легко согласиться с тем, что оно было обманчивым. Ей просто почудился кто-то.
Но оказалось — нет — не почудился.
За спинкой кресла, почти что, облокотясь на него, стоял старик. Вдобавок, он еще склонился над ней, смешно вытянув дряблую шею, словно высматривая что-то на столе.
Когда она обернулась, их лица оказались очень близко, и едва не соприкоснулись.
Она остро почувствовала его запах — запах чистой, опрятной старости, хорошо знакомый ей с той поры, когда маленькой девочкой — несколько лет кряду — провела в доме деда. Это был запах лекарств, смешанный со слабым ароматом старомодного одеколона.
Его глаза были они неожиданно глубоки, темны, смотрели внимательно и не по-старчески остро.
— Вы, что же, читаете по-русски? — требовательно спросил старик, ни мало не смущаясь тем, что подглядывал в чужую книгу, и был застигнут.
— Я — русская
Старик распрямился.
Но не отступил ни на шаг.
И не отвел глаз.
Однако, молчал, словно, вдруг глубоко задумался над услышанным.
Тогда заговорила женщина
— Вы — тоже?
— Я там родился. Но это было очень давно.
— Долго не живете в России?
— Долго. Намного дольше, чем жил.
— С начала века?
— Вы имеете в виду год одна тысяча девятьсот семнадцатый?
— Ну, семнадцатый, восемнадцатый… двадцатый….
— И двадцать первый, и даже двадцать второй… Они ведь опустили занавес только в тридцатых. Все едино — начало было положено в семнадцатом. Нет. Я не принадлежу к первой волне, хотя мог бы, наверное. Родители бежать не захотели, аябыл слишком мал — родился в двенадцатом году. В Киеве.
— Война?
— Да. Вторая мировая. Хотя воевать мне тоже не довелось. Сначала была бронь, а потом — удивительно скоро — пришли немцы.
— Вы были в… плену? — Запинка была мимолетной, но он уловил ее и истолковал правильно
— Вас интересует, не служил ли я третьему рейху? Испугались встречи с предателем, не приведи Бог — карателем, полицаем?
— Чего же теперь бояться? Нет, я не испугалась, но….
— Но это было бы вам неприятно?
— Пожалуй, да. Впрочем, я стараюсь никогда не судить огульно.
— Действительно? Редкое свойство, тем более для такой молодой особы. Терпимость обычно запаздывает, приходит в старости, и толку от нее — чуть. Все непоправимое уже совершено: отринуты близкие люди, раздавлена любовь, убита дружба. И все — нетерпимость, идиотская категоричность, которую упрямые, недалекие люди иногда путают с принципиальностью и даже честью. Так вот, сударыня, вы угадали: третьему рейху я, действительно, служил, хотя и не своей воле. Теперь в это почти никто не верит. Мой народ наци уничтожали только за то, что он существует на свете. А я — служил…. Карателем и полицаем не был, кровь людскую не проливал…. Впрочем, оправдываться не намерен…..
— Мне не нужны ваши оправдания.
— В самом деле? Вы великодушны. Что ж, поскольку разговор наш вышел за рамки дежурного, позвольте представиться….
Макеев. Медиа
Крушение заняло совсем немного времени: каких-то пару секунд.
От силы — минуту.
Максимум — две.
Визг тормозов.
Тысячу раз слышал он этот отвратительный, леденящий кровь звук, рвущийся из динамиков, когда на экране возникали кадры автомобильной катастрофы.
Иногда сцена была смонтирована мастерски — и тогда зловещий визг сопровождали столь же впечатляющие кадры, заставляющие сердце испуганно сжиматься в груди, и, холодея, срываться куда-то вниз в зияющую бездну ужаса.
Чаще, впрочем, это был всего лишь стандартный набор трюков, призванный обозначить в сознании классический штамп, хранящийся в памяти под кодовым названием «происшествие на дороге».
Однако ж, независимо от картинки, звук всегда оказывал более ощутимое воздействие, и некоторые режиссеры, уловив этот феномен, стали довольствоваться только звуком.
На экране мелькала дорога, несущиеся по ней автомобили….
Иногда — крупным планом — герой.
Или героиня.
Потом — вспышка.
Или, напротив — резкий провал в темноту….
И — звук.
Саднящий душу, стягивающий нервы в упругий жгут.
Надсадный визг тормозов и скрежет металла.
Это было странно, если не сказать больше.
Это потрясало, но за те секунды, пока звучал, раздирая душу, проклятый визг, он успел додумать эту, постороннюю вроде бы, праздную — не к месту и не ко времени, уж точно! — мысль до конца.
Впрочем, сознание его сейчас, вроде бы, тоже потерпело аварию, рассыпавшись при этом на множество мелких осколков.
Каждый теперь существовал вроде бы независимо друг от друга, словно в нем поселилось сразу несколько разных людей.
Тело же, несмотря на это, привычно выполняло то, что следовало сделать в первую очередь.
Он аккуратно съехал на обочину.
Включил аварийные огни.
Заглушил двигатель.
И только потом, медленно, словно спешить было некуда и незачем, выбрался из салона.
Ночь оказалась неожиданно теплой, хотя воздух еще полнился влагой недавно прошедшего дождя.
Ночное небо было прозрачным и по-своему ярким.
Ласковый ветер легко справился с недавними дождевыми тучами, в сумерки застилавшими горизонт.
В вышине безраздельно царила полная луна, пронизывая все пространство вокруг ровным серебристым светом.
«Полнолуние» — внезапно подумал он, глядя на большой, ослепительно белый диск, окруженный ореолом зыбкого мерцания.
Залитое лунным светом шоссе струилось перед ним, как поток неширокой реки. Было оно гладким, а в бледно голубом сиянии казалось, к тому же, стерильно чистым.
И совершенно пустым.
Может — привиделось?
Нет, не привиделось!
Мышцы до сих пор были сведены властным импульсом, который отчаянно посылал мозг. Теперь сила его начинала ослабевать, и предательская дрожь завладевала конечностями.
Первыми сдали руки.
Но ватная слабость уже окутывала колени — он шел медленно, каждый шаг давался с трудом.
Нет, не привиделось!
Тело еще помнило короткий сильный спазм, который он ощутил сразу же после удара.
Господи!
Кто бы мог подумать, что надежный панцирь машины окажется таким хорошим проводником.
Нет, не привиделось!
Слишком ярким было воспоминание.
Пустынное шоссе, залитое лунным светом, легкая — он всегда любил незатейливые мелодии с четким ритмическим рисунком — музыка плещется в динамиках, полностью заполняя собой салон.
Он расслабился?
Да, конечно. — А почему бы и нет?
Трасса была отменной: ухоженный асфальт, хорошее освещение. Машин в этот час было так мало, что теперь ему казалось: их не было вовсе. К тому же, знал эту дорогу, как свои пять пальцев.
Да, он расслабился.
Впереди был небольшой пригорок — он газанул на подъеме.
Потом — не слишком крутой спуск, он и не собирался тормозить — так поступал всегда.
Машина плавно нырнула в распадок, приятно ускоряя бег. Короткий миг маленькой водительской радости….
Нет, не привиделось!
Все произошло именно тогда.
Странная какая-то, то ли бегущая, то ли — струящаяся фигура, залитая бледными сиянием.
Отчаянный импульс.
Бешенное, на пределе возможного, напряжение.
Живая плоть человека слилась с железным телом машины.
Физически, а не иллюзорно, он чувствовал, как они цепляются за асфальт, гася обороты двигателя, пластаются по гудрону, пытаясь противостоять естественным законам.
Удар.
Женское лицо за лобовым стеклом, так близко, что отчетливо различимо выражение безмерного удивления, которое застыло на нем.
Возможно, навеки.
Нет, не привиделось!
Но куда, черт побери, она подевалась?! Лунная незнакомка с удивленным лицом.
Выйдя из машины, он не взглянул на часы, и теперь не мог с уверенностью сказать, сколько времени продолжает поиски.
Минуту?
Пять?
Десять?
Мгновенья неощутимо проносились в лунном безмолвии, срываясь в бесконечность.
Впрочем, аварийные огни, пульсировали рядом, из чего следовало, что осмотрен совсем небольшой участок дороги.
Значит, она должна быть где-то рядом.
Послушайте, с вами все в порядке?
Он заговорил неожиданно громко, почти закричал.
Идиотский штамп — неуклюжий перевод стандартного «you o» key?» — тоже перекочевал в сознание с экрана.
Крутые голливудские ребята в сложных ситуациях, а точнее, в их финале, непременно задают этот вопрос тем, кто, по их мнению, мог еще остаться в живых.
В любом другом случае вопрос прозвучал бы глупо.
Сейчас помертвевшие губы, против его воли, произнесли нечто кощунственное.
Ибо он совершенно уверен был в том, женщина мертва.
Странная уверенность в том, чего вроде бы никак нельзя было знать наверняка, скоро получила подтверждение.
Бледное, расплывчатое пятно в темном провале обочины было неподвижным, и рождало довольно ясное представление о лежащем на земле предмете, вещи, словом — субстанции неодушевленной.
Он подумал: наверное, это ее платье.
И не ошибся.
Светлое тонкое платье, из какой-то струящейся, приятной на ощупь ткани, название которой он не знал.
Странно, но другой одежды на женщине не было: ни крутки, ни плаща, ни даже легкой кофточки или шарфа.
Сейчас его поведение было полностью подчинено тому осколку сознания, который оценивал случившееся невозмутимо, с холодной проницательностью стороннего наблюдателя или эксперта.
Потому, наверное, нашлись силы внимательно осмотреть тело.
Тщательно, но безо всякой надежды, он попытался нащупать пульс, сначала — на тонком запястье и, а после — на шее, в том месте, где обычно едва заметно подрагивает сонная артерия.
Потом, вспомнив еще один, где-то подсмотренный медицинский прием, приподнял безжизненное веко, и аккуратно, кончиком мизинца коснулся глазного яблока — реакции не последовало.
Он медленно провел руками вдоль тела, пытаясь на ощупь обнаружить повреждения, но не нашел ничего и только отметил, что гладкая кожа женщины на удивление холодна.
«Странно — подумал он, продолжая свои исследования — но ведь она погибла только что, несколькими минутами раньше, когда же успела остыть?»
И тут же нашел ответ.
Холодно.
Теперь была уже ночь, хоть и весенняя, майская, но все же довольно прохладная, а женщина одета в тонкое платье.
Она просто замерзла, потому и кожа так холодна.
Но почему она так странно одета?
Руки, между тем, коснулись ее головы.
Пальцы немедленно запутались в свободно распущенных, тонких волосах, довольно длинных, и вроде бы, — светлых.
В лунном сиянии лицо женщины казалось странным.
Неживым-то уж точно.
Но еще — неземным.
Тонким, прозрачным, хрупким.
С правильными, но мелкими чертами, слишком острыми, что, несомненно, вредило ее красоте.
Впрочем, заостриться они могли совсем недавно, после того, как женщина умерла.
Теперь в этом не оставалось сомнения.
Он медленно распрямился и замер, не зная, что делать дальше.
В голове промелькнула еще одна случайная, вроде бы, мысль.
«Случись кому — подумал он вдруг — наблюдать за мной из укрытия, он непременно решил бы, что перед ним холодный, расчетливый убийца, или того более — маньяк»
Это было, бесспорно, справедливое замечание, ибо со стороны его неспешные, методичные действия выглядели зловеще.
Однако ночное шоссе было по-прежнему пустынным, даже ветер, тот, что разогнал давеча дождевые тучи, стих.
Все вокруг замерло, затаилось в ужасе перед самой смертью, которая бестелесным призраком явилась сюда, чтобы забрать то, что принадлежало ей по праву.
Однако, было в этом глубоком, абсолютном безмолвии еще нечто.
Возможно, впрочем, что это нечто почудилось только одинокому человеку, застывшему у темной обочины.
И было это просто спасительным самообманом.
Но как бы там ни было, он вдруг ощутил, что пространство с ним заодно, что оно не только не осуждает его, но и, напротив, выступает и намерено выступать впредь верным, молчаливым сообщником.
Он сделал несколько неуверенных шагов к машине, потом ускорил шаг.
Мерцание красных сигналов в ночи неожиданно показалось предательской выходкой, направленной на то, чтобы обнаружить его присутствие.
Он почти побежал, но, выскочив на асфальтовую твердь, неожиданно споткнулся обо что-то, и сбавил темп.
Поначалу он не собирался останавливаться и тратить драгоценное время.
Но потом все-таки остановился.
У самой кромки дороги, там, где сходило, на нет, гладкое асфальтовое покрытие, и на него смело наползали дерзкие молодые травинки, опрокинутая вверх острым высоким каблучком лежала женская туфелька.
Он замер на сотую долю секунды, не более.
Но следом, подчиняясь, внезапному импульсу, нагнулся и, быстро подхватив «лодочку» с земли, стремительно бросился к машине.
Прошла еще пара секунд, и завороженную тишину майской ночи снова распорол тревожный звук — взвизгнули, срываясь с места колеса.
Табун лошадиных сил, запертый под капотом, вздыбился, захрапел и отчаянно, словно целая стая хищников вдруг показалась на горизонте, рванул с места в карьер.
Старик. Год 1912
Лев Модестович Штейнбах родился в Киеве в 1912 году.
Отец его, Модест Леонидович, был профессором психиатрии, ученым, что называется, с именем.
Психиатрами были дед, и прадед.
Никто не сомневался, что мальчик пойдет по их стопам, но главное — он и сам не мыслил ничего другого.
Дети любят играть «в доктора», и когда наступал черед маленького Левушки исполнять почетную роль врача, он начинал беседу с «пациентом» не так, как все.
Вместо традиционного «что у вас болит?» или «на что жалуетесь?», он обращался к «больному» с непонятным вопросом, который зачастую ставил партнера в тупик.
— Ну-с, уважаемый, извольте напомнить мне, како сегодня число? — вкрадчиво любопытствовал Лев Модестович, в точности копируя интонации отца.
Октябрьский переворот, как ни странно, не внес существенных изменений в его судьбу.
Конечно, были голод и разруха.
Преданная кухарка Нюся уносила куда-то материнские ротонды и палантины, соорудив из обычной простыни вместительный узел.
Потом в ход пошли уже и сами тонкие полотняные простыни, украшенные шитьем, с вышитой в углу монограммой — приданое матери. Их предприимчивая Нюся выменивала на муку и сало.
На кухне жарили пирожки — пустышки, запах расплавленного свиного сала надолго поселялся в квартире.
Но пирожки получались очень даже ничего, и жить было можно.
Полыхала гражданская война.
Стреляли близко, прямо под окнами профессорской квартиры.
Под звон колоколов входила добровольческая армия, и где-то за городом, по слухам, расстреливали комиссаров.
Потом в город врывались красные — человека могли пристрелить прямо на улице исключительно за то, что имел несчастье носить бородку, напомнившую кому-то из товарищей, бороду низвергнутого Императора.
Ураганом проносились петлюровцы.
Грабили магазины и квартиры, и, разумеется, тоже расстреливали — и комиссаров, и офицеров белой гвардии.
Но позже все как-то успокоилось.
Новые власти, надо полагать, не испытывали особой любви к старорежимному профессору, но душевные недуги, как оказалось, продолжали поражать людей, несмотря на то, что царство свободы вроде бы наступило, а впереди маячило и вовсе безоблачное коммунистическое завтра.
Словом, психиатрическая лечебница, закрытая было по причине войны и разрухи, была открыта вновь, и возглавить ее предложили Модесту Леонидовичу.
Врачевать душевные недуги революционные матросы и свободолюбивые кухарки — хоть и готовы были выполнить любое партийное задание — все же не умели.
Да и не гоже было победившему классу возиться с умалишенными.
Были дела поважнее.
Модест Леонидович предложение принял, чем обеспечил семье, более ли менее сносное существование.
Надо сказать, что с годами оно только улучшалось.
В тридцатом году взамен утраченной в лихолетье ротонды, он преподнес в подарок жене прекрасную котиковую шубку.
Но знаменательным этот год для семейства Штейнбахов стал вовсе не по этой причине. Льву Модестовичу исполнилось восемнадцать лет, и не иначе, как на его счастье появилась, наконец, счастливая возможность получить образование.
Левушка уехал в Москву.
Его учителями стали такие же старорежимные профессора, как Модест Леонидович, так же, как и тот, оставшиеся в советской России, незнамо за каким лешим.
Учеником Лев Модестович оказался прилежным.
И талантливым.
Весьма талантливым, что выяснилось довольно скоро.
Студенческие работы Штейнбаха — младшего привлекли внимание коллег, и вызывали в профессиональной среде живейшие дискуссии.
Идеи молодого ученого были довольно необычны и даже дерзки.
Самые убежденные и последовательные их критики всегда начинали с того, что никакого отношения к медицине вообще, и к психиатрии в частности — исследования Льва Штейнбаха не имеют.
Впрочем, с этим тезисом он никогда не спорил, и всерьез подумывал о том, чтобы оставить медицинский факультет, ради факультета психологического.
Но не успел.
Шквал страшных репрессий обрушился на тех ученых, чьи труды по психологии и философии заставили молодого Штейнбаха отложить в сторону учебники по психиатрии. На его глазах происходило страшное: наука, которой намеревался посвятить себя, с корнем выкорчевывалась из российской почвы.
Впереди были десятилетия отрицания и осуждения.
Изгнание и забвение.
Впереди был мрак.
Разумеется, ничего этого Лев Модестович знать не мог.
Он испытал ужас и шок.
Был обескуражен, растерян, раздавлен, но… остался на медицинском факультете и продолжил учебу.
Однако исследований своих не прекратил.
Риск, как полагал Штейнбах, был невелик, ибо приемы воздействия на человеческую психику, которые, собственно, и были его предметом, могли с успехом применяться в лечебных целях.
Методика была новой и довольно сложной, но разрешение на проведение эксперимента в одной из подмосковных психиатрических больниц было получено.
Результаты оказались блестящими.
Льва Модестовича поздравляли.
Ученые мужи говорили о большом открытии, и… не подозревали, что видят только вершину айсберга.
Достаточно было легкой модификации — и техника Штейнбаха начинала столь же блестяще работать применительно к людям совершенно нормальным.
Их, разумеется, незачем было лечить. Но суть методики, в том-то как раз и заключалась, что благодаря ей, больного человека удавалось привести к излечению, а здорового — подвести к…. ч ему угодно.
Однако ж, фанфары гремели.
Методика Штейнбаха анализировалась и так, и эдак.
Наконец, Лев Модестович, с облегчением решил, что истинных ее возможностей никто так и не распознал.
Он ошибся.
Горина. Власть
«Здравствуй, заяц!
Думаю, сейчас ты очень удивилась.
Просто вижу воочию, как поползли вверх твои тонюсенькие брови.
Кстати, никогда не мог понять, зачем женщины щиплют их, обрекая себя на такие страдания. Неужели ты на самом деле полагаешь, что толщина бровей может всерьез изменить внешность?
Странно это, но даже самые умные женщины — а ты, без всякого сомнения, самая-самая! — подвержены самым глупым бабским заморочкам.
Но я отвлекся.
Итак, ты удивилась уже самому факту этого письма.
Действительно, в чем уж твой покорный слуга никогда не был замечен, так это в пристрастии к эпистолярному жанру.
Но — обстоятельства, которые, как тебе известно, иногда бывают сильнее нас, похоже, постучались и в мою дверь.
Вот, я и сделал одно из самых трудных признаний.
Признал, что обстоятельства сильнее меня.
А поскольку автор этих обстоятельств — ты — что ж! — пой, пляши, торжествуй.
Ты победила.
Поверь, заяц, признавая это, я не испытываю отрицательных эмоций.
Ни обиды, ни досады или злости, даже чувство уязвленного самолюбия не подает голос.
И уж тем более нет в моей душе ничего недоброго, темного, потаенного по отношению к тебе. Не огорчает меня эта твоя победа.
Возможно, и не радует.
Пока.
Потому, что допускаю: если разум мой и сердце будут двигаться в том же направлении — скоро смогу порадоваться тому, что ты, крохотный, пушистый мой зайчонок, стала такой сильной и могущественной, что победила самого меня!
И еще прошу, поверь уж, будь добра мне на слово, все, что я сейчас говорю, а вернее пишу — пишу совершенно искренне. Возможно, более искренним прежде я с тобой не был.
А уж с кем тогда был, если не с тобой?
Ни с кем.
Кстати, еще одно лирическое отступление.
Пишу и начинаю понимать, почему предки оставили такое эпистолярное наследие.
Скажешь, у них не было телефонов, факсов, электронной почты и прочих технических изобретений, сводящих всю сложную гамму человеческого общения к простому нажатию кнопки?
Еще недавно я и сам думал также, но теперь, пожалуй, стану спорить.
Нет, дорогая моя, дело не в этом, или уж, по меньшей мере, не только в этом.
Оказывается — эту истину я открыл для себя только что — проще всего излить душу чистому листу бумаги. Или — ладно, согласен, сделаем поправку на цивилизацию! — персональному компьютеру.
К чему я это?
Да, вот к чему.
Думаю, что сказать все это, глядя в твои ведьмацкие глаза, я бы не смог.
Нет, точно не смог!
Сорвался бы, начал лукавить, становиться в позы, что-то из себя изображать, надувать щеки, умничать.
Да ты сама отлично знаешь весь мой петушиный арсенал!
А вот писать могу.
Перед тобой и перед Богом чист — пишу правду.
Так вот, касательно твоей победы.
Она вызревала исподволь, постепенно и вроде бы незаметно.
То есть, это я долгое время не замечал твоего неуклонного становления.
Для тебя, надо полгать, все обстояло совершенно иначе: ты росла. Полагаю, процесс этот был сознательным и нелегким.
Но я, старый болван, воспринимал тебя в статике, неизменной данностью, ниспосланной Господом. Уж очень мил был сердцу твой изначальный образ: чудное, беззащитное, вдобавок, напуганное до смерти существо, в глазах которого я — только что — не Бог, но уж, небожитель — точно, во власти которого спасти или погубить.
Надеюсь, не обидел тебя этим пассажем, и ты не станешь спорить: был в истории наших отношений такой период.
Потом начались перемены.
Думаю, на бессознательном уровне я их замечал.
Просто не мог не замечать.
Однако, рассудок слишком занят был собственными проблемами, важнее которых не было на свете.
А может, душа моя уже тогда угадала, почуяла угрозу, которую таили в себе эти неминуемые перемены, и малодушно закрывала глаза, не желая признать очевидного.
Когда же настал, наконец, момент истины, я прозрел в одночасье, и увидел новую, тебя.
Повзрослевшую.
Возмужавшую.
Завоевавшую определенные — весьма завидные! — позиции на той стезе, которую долгое время я, самонадеянный идиот, считал исключительно своей прерогативой.
Не скрою, это был жесткий удар.
И сразу же попрошу у тебя прощения, потому что все мое дальнейшее поведение было сплошным отвратительным и стыдным свинством.
Чего я только не делал, чтобы остановить твой стремительный взлет!
И врал, пытаясь убедить тебя в том, что избранный путь тебе не по силам.
И подличал, организуя всевозможные препоны и ловушки.
И откровенно «ломал через колено», грозя оставить, разорвать наши отношения.
Впрочем, в этом, последнем, был честен.
Когда тщетность всех моих усилий стала очевидна, я, на самом деле, решил вычеркнуть тебя из жизни.
Прием этот хорошо известен, и хотя, скажем прямо, не делает чести взявшим его на вооружение, действует неплохо. Суть его проста: фактор, вызывающий отрицательные эмоции следует исключить из обхода.
С человеком — раззнакомиться, рассориться.
Предмет — забросить в дальний угол, а то и вовсе — выбросить на помойку.
Зловредную телевизионную программу — не смотреть.
Эмоции, которые немедленно закипали во мне и били, что называется, ключом, стоило только твоему голосу раздаться где-то поблизости, особенно — в эфире (а ты, как назло мелькала на экране все чаще — журналисты, пожалуй, первыми оценили твои многочисленные достоинства), скажем так, не доставляли мне радости и не делали чести.
И я решился.
Рванул с корнем.
Обрубил концы.
Сжег мосты.
Что там еще говорят и пишут в подобных случаях?
Справедливости ради, замечу все же, что поначалу все у меня получилось.
Мы расстались.
Я знаю, ты страдала.
Прости за то, что напоминаю об этом, да еще в таком высокопарном стиле. А еще прости за то, что мне осознание этого, доставляло некоторое, пусть и не слишком ощутимое, но все-таки — облегчение.
Не скажу — радость.
Радоваться было нечему.
Для меня потеря оказалась куда более тяжелой, чем мог предполагать.
К тому же, то, как я обставил наше расставание, а вернее — если уж быть честным до конца! — собственное бегство, было так гадко и стыдно, что говорить об этом до сих пор не хочется.
Стыдно.
Никогда в жизни, я не чувствовал себя таким трусом и подлецом, как в те дни.
Ты, со свойственной тебе горячностью, искала, требовала объяснений.
Я трусливо скрывался, отсиживался дома, отключив телефоны.
Мысль о встрече с тобой и необходимости что-то объяснять повергала в ужас.
Да и что, собственно, мог я объяснить тебе?
Сказать правду, то есть признать, что ты «переросла» меня, «обошла на повороте» и осознание этого мне невыносимо?
Что женщина, из которой пару лет назад я легкомысленно собирался «сделать человека», состоялась в такой степени, что стала для меня непозволительной роскошью?
Не по Сеньке, дескать, шапка?
Не по сверчку шесток?
И мне от этого тошно, и белый свет не мил?
Но в том-то и была суть проблемы!
Если бы мог я в ту пору признать такое, то и бежать от тебя не было никакой нужды!
Жил бы подле, да радовался.
Нет, гордыня не позволяла.
Она громче всех прочих чувств вопила тогда во мне, моя гордыня.
Сильна был, стерва!
Я чувствовал себя тараканом, мерзким, грязным, помойным тараканом, который, напакостив, в животном ужасе, забился в щель и притворился дохлым. А может, и не притворился вовсе, а на самом деле, от страха сдох.
Жил ли я все то время, пока корчился от зависти?
Очень условно.
Думаю, а вернее, надеюсь, что судьба моя и сейчас тебе не безразлична.
Но уверен, что в те дни ты наблюдала за событиями моей жизни пристально, и потому знаешь, как печально, если не сказать — трагически они развивались.
Далек от мистики, но, право слово, впору предположить, что судьба карала меня за то зло, которое причинил тебе.
Карала жестоко и показательно.
Все, из чего складывалось мое легендарное благополучие: репутация, карьера, связи — все, чему завидовали враги и жаждали последователи, водночасье рассыпалось, словно карточный домик, из основания которого выдернули одну-единственную карту.
Даму, разумеется.
Только вот какую?
В токовании мастей, признаюсь, не силен.
Словом, я стремительно терял все и неуклонно скатывался вниз по той самой лестнице, что вознесла меня к вершинам.
Ступенька за ступенькой.
В строгой обратной последовательности.
Иногда, как и при восхождении, перепрыгивая сразу через несколько уровней.
И вот настал черед последнего предела.
Падать дальше было уже некуда, но бездна, в которую я сорвался, оказалась отнюдь не бездной.
Я ощутил себя сидящим или даже лежащим, впрочем, уместнее будет сказать — валяющимся на дне глубокой выработанной шахты.
Мне было очень скверно — тоскливо и одиноко.
Кругом были тьма и запустение.
Но, оказалось, что жить можно и так!
К тому же, как выяснилось, я был не одинок.
Скажу больше: далеко не одинок!
Вокруг копошились такие же бедолаги, свергнутые с высот, а то и вовсе туда не добравшиеся.
Никогда.
Представляешь, всю жизнь — не дне выработанной шахты, о которой там, наверху никто толком и не помнит?!
Но они жили, и мало — помалу, я тоже приспособился к этой жизни.
Мир постепенно обрел краски.
Разумеется, это были совсем иные краски, чем те, в которые была раскрашена моя прошлая жизнь.
Не было места торжественной позолоте и царственному пурпуру, но, знаешь ли, скромная акварель тоже ведь иногда занимает место в прославленном музее.
Постепенно ко мне вернулось многое, но еще большее пришло, как бы, сызнова.
К примеру, я полюбил те книги, что прежде вызывали только раздражение и желчную иронию.
И, наконец, в этот пастельный, негромкий мир вернулась ты.
Теперь я с нетерпением щелкаю кнопки на телевизионном пульте, в ожидании новостей: журналисты, как и прежде, охотятся за тобой, но меня это только радует.
Потом мне предложили работу.
Должность оказалась более чем скромной, но я несказанно обрадовался уже самой возможности, и — представь себе! Впрочем, тебе, наверное, трудно будет это представить! — впервые за много лет снова ощутил тот восхитительный кураж, который охватывал меня прежде перед началом интересного дела.
Тогда думалось, это потому, что вершу судьбы миллионов.
Теперь понимаю, как был не прав!
И вот, проснувшись как-то раз, я вдруг почувствовал себя настолько сильным, что смог, наконец, сформулировать то, что пишу сейчас.
Сначала очень осторожно.
Мысленно.
С трудом подбирая слова.
Надо сказать, подбирались они довольно долго.
Потом нелегко и непросто складывались в предложения.
Словом, письмо это рождалось в муках, но сейчас, завершая его, я снова испытываю то странное, счастливое и радостное волнение, которое беспричинно вроде бы охватило меня в день первой нашей встречи.
«С чего бы это?» — удивился я тогда, не понимая, что, отворив знакомую до отвращения дверь собственной приемной, вдруг оказалась на пороге не то, что нового этапа в жизни, но просто — новой жизни своей.
Теперь — понимаю.
И счастлив уже только от этого, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что рассчитывать на взаимность не вправе.
И все же пишу: хочу, ищу встречи с тобой.
Мечтаю о ней.
Люблю.
Георгий.
P. S. Звонками одолевать тебя не стану.
По себе знаю, как раздражают навязчивые собеседники.
Об одном прошу, если, разумеется, дочитала письмо до конца, найди меня сама.
Теперь это совсем не проблема.
Г.»
Женщина, которой было адресовано это письмо, была еще довольно молода и хороша собой.
Тонкими были черты ее лица, хрупкой фигура.
Изумрудная, мерцающая зелень глаз покоряла многих, а те, кто остался непокорен, просто удивлялся тому, какие щедрые дары иногда рассыпает мать— природа, и долго помнил о них, рассказывая другим, при случае.
Все это, впрочем, нисколько помешало ей, завоевать прочную и весьма устойчивую репутацию железной леди, умеющей не только виртуозно держать удар, но и мастерски наносить ответный.
При том утверждали, что ни жалости, ни страха она не знает, и приводили тому очень убедительные примеры.
Теперь она плакала, закрыв лицо узкими ладонями.
Слезы, срываясь, с точеных скул, падали на стол.
Год назад — всего только год назад! — это странное, волнующее письмо, крик души, которая прежде — казалось ей — могла только смеяться, обидно и зло, вознесло бы ее к вершинам счастья.
Год назад она бы уже неслась на крыльях, мчалась, обгоняя время….
Вполне возможно, что она даже не дочитала бы письмо до конца, рванувшись на поиски того, кто так трогательно просил об этом.
Сегодня это было невозможно в принципе.
Человек, написавший письмо, вот уже год, как пребывал в ином мире.
Старик. Год 1939
Кабинет в знаменитом здании на Лубянке оказался неожиданно маленьким и даже уютным.
Зеленое сукно на столе, лампа под зеленым абажуром, остро отточенные карандаши в небольшой вазочке граненого, темно — синего стекла.
Потрет вождя на белой стене.
Деревянные панели темного дерева.
Широкая ковровая дорожка под ногами, красная, отороченная зеленым.
Люстра погашена, и мягкий свет настольной лампы скрашивает казенщину.
Даже сочетание красного с зеленым не режет глаз.
Хозяин — подстать кабинету.
Интеллигент, с тонкими аристократическими пальцами, вкрадчивым баритоном, и приятной, слегка ироничной манерой объясняться.
Гладко выбрит, лицо худощавое.
Одет, по тогдашней моде, во френч, полу — военного образца, без погон.
Глаза скрываются за стеклами очков в круглой металлической оправе.
Неторопливо, по-домашнему прихлебывает он чай из граненого стакана в мельхиоровом подстаканнике. Изредка напоминает о том же посетителю, дескать, стынет чай, вы пейте, не стесняйтесь!
Льву Модестовичу, однако, не до чая.
— Вам ведь известно, наверное, что в моей семье все — потомственные врачи. Психиатры. Я не мыслю себе другой карьеры. И никогда не мыслил.
— Ну, разумеется. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вы работали над медицинской проблемой, но неожиданно…. Неожиданно, Лев Модестович…. Вы волнуетесь сейчас, не знаю, правда, отчего бы это. И от волнения позабыли важную деталь. Так вот, совершенно неожиданно, выяснилось, что вышли далеко за ее рамки. Разве я не прав?
— Да-да, это возможно. Теперь я понимаю, что такое возможно. Но, поверьте мне, ни о чем таком я не думал, и уж тем более ни с кем это не обсуждал…
— А вот это, напрасно Лев Модестович. Я ведь и не спрашивал вас о том, с кем вы это обсуждали.
— Я не обсуждал, честное слово!
— Хорошо, не обсуждали. Или обсуждали. Что вы право, рапортуете, как пионер. Меня это не интересует. А вы, судя по всему, наслушались глупой болтовни, будто мы здесь, только и заняты тем, что заставляем людей доносить друг на друга.
— Но ведь….
— Что — ведь? Ведь доносят? Верно, доносят. И скажу вам откровенно иногда мы действительно, прилагаем некоторые усилия, чтобы получить признания. У тех, кто до сих пор еще в слепой ненависти своей или по глупости воюет с советской властью. Идет борьба. Нам наносят удар. Что же прикажете, щеки подставлять? Однако, касательно доносов. Можете поверить мне на слово, Лев Модестович. Впрочем, можете и не верить. Но большинство из тех, кто рассказывает о том, как мы здесь под пытками заставляем писать доносы, доносят сами. И, совершенно, замечу, добровольно. Вам будет сложно представить, как много сообщают нам граждане, так сказать,…. друг о друге…. И с каким усердием! Так что — оставим это. Вы не совершили ничего предосудительного. Вот, собственно, что я пытаюсь втолковать, на протяжении часа, чудак вы человек! Ни — че — го! И прекратите, наконец, оправдываться. Запомните, нигде в мире, вы не найдете такого трепетного отношения к ученым, как в нашей стране. Вам не оправдываться, вам сейчас требовать от меня нужно.
— Чего требовать?
— То есть как это — чего? Лаборатории. Института. Вам же необходимо продолжить работу
— Но почему — у вас?
— Лев Модестович, давайте, наконец, обозначим некоторые…. ну, скажем так, — параметры нашего разговора.
— Давайте.
— Так вот, параметр первый. В дальнейшем мы будем исходить из того, что мне хорошо, хотя, быть может и не в полной мере, понятны все — слышите меня, все — возможности вашей методики. А вам столь же хорошо понятно, что это понятно мне….
В Киев Лев Модестович возвратился в августе 1940 года.
Незадолго до этого, весной того же года местные власти получили не подлежащий обсуждению — и разглашению! — приказ из Москвы.
Им предписывалось обеспечить молодого ученого всем необходимым для успешной работы.
Приказ, разумеется, был выполнен неукоснительно.
Льва Модестовича ожидала небольшая лаборатория, отвечающая самым взыскательным требованиям, и практически безграничный полигон для экспериментов.
Но работать здесь ему оставалось совсем недолго.
Точеная фигурка женщины в развивающихся одеждах была устремлена вперед и словно парила в воздухе, обгоняя машину, символом которой служила долги годы.
Лола. Нефть
«Беги, Эмили (, мчись, догони мою удачу», — подумала Лола
Взвыли сирены.
Идущая впереди полицейская машина разгоняла автомобильный поток.
Сзади ей вторил мощный джип, замыкавший кортеж.
Лола осторожно выглянула из-за шторки, скрывающей от любопытных глаз пассажиров лимузина.
Автомобили на дороге испуганно шарахались к обочине.
Профессиональным взглядом — за плечами все же был режиссерский факультет ВГИКА — она оценила картинку.
Отдельные кадры легко сложились в яркую мозаику.
Крупный план — скульптура на капоте.
Общий план — дорога с летящим кортежем.
Снова несколько «крупняков» — лица людей в машинах.
Гамма чувств — любопытство, досада, восхищение, злость…
Поймав себя на этом, Лола усмехнулась.
Профессиональные навыки вряд ли потребуются в ближайшее время.
Четверть часа назад совет директоров Национальной нефтяной компании единогласно избрал ее своим Председателем
Впрочем, ничего другого ему просто не оставалось.
Не сбавляя скорости, кортеж влетел на летное поле.
Промчался мимо вереницы крылатых машин и замер возле небольшого — 547– «Боинга» стоящего несколько в стороне.
Автомобили красиво выстроились у трапа — «Ролс — Ройс» — прямо возле ступеней, машины сопровождения — вереницей следом, каждя, отступая ровно на полкорпуса.
Ни сантиметром меньше.
Или больше.
Лола молчала, ожидая, что ей подскажут, как вести себя дальше.
И почти страдала от этого молчания.
Оно могло показаться высокомерным.
На самом же деле, было, скорее, робким.
Она просто боялась заговорить.
И в сотый раз отчаянно пыталась понять — почему?
В чем заключается ее вина пред братом?
Братом.
Даже мысленно слово давалось очень трудно.
До тридцати трех лет — воистину, мистический возраст! — у Лолы Калмыковой братьев не было.
Он тоже молчал и тоже почти страдал.
Впрочем, скорее всего, безотчетно.
Ибо плохо представлял себе пока — что есть страдание?
А вот ярость — да!
Ее раскаленная волна захлестывает разум и парализует волю, полностью подчиняя себя тело.
Это чувство было ему хорошо известно.
Испытано многократно.
Сейчас ярость владела им безраздельно. Приступ был таким сильным, что он испугался.
Самое скверное было то, что чувствам нельзя было дать волю.
По крайней мере, теперь.
С каким бы наслаждением он сомкнул пальцы на тонкой шее этой сучки.
Или нет — задушить — это было бы слишком гуманно.
А вот медленно — медленно вонзить нож в тело.
Потом еще раз.
И еще.
И еще.
Он физически ощутил ладонью рукоятку стилета, того самого, которым буквально выпотрошил недавно визгливую шлюху из варьете
Из-за чего, кстати?
Он даже удивился мимолетно, но, действительно, не смог вспомнить.
Но кровь текла по рукам.
Вязкая.
Теплая.
Ах, с каким бы наслаждением он повторил бы это сейчас.
Медленно, аккуратно, почти бережно.
Чтобы она ненароком не умерла сразу….
Нет.
Нельзя.
Нужно терпеть.
Он так сжал руки, что пальцы побелели.
Сжался сам, напрягая каждый мускул в безумном усилии остановить мощный порыв.
Надо было что-то говорить.
И делать.
Черт его знает, сколько времени уже машина стоит у трапа?!
Ну, так, когда ты определишься окончательно? Насчет того, где будешь жить и…. вообще? — голос звучал на удивление ровно и даже насмешливо
Я определюсь…. Я постараюсь определить в течение недели. Нормально? — (Какого черта я заискиваю? Когда определюсь, тогда и определюсь! Когда моя левая пятка захочет….)
Не тяни, пожалуйста.
Он нашел в себе силы повернуться и посмотреть на нее.
И даже улыбнуться.
Едва заметно, одними губами
Но — улыбнуться.
Да, и вот еще…. — щелкнули замки тонкого атташе-кейса — Пока не оформили тебе кредитные карты…. Возьми, на первое время…
Крышка чемоданчика, захлопнулась, едва приподнявшись.
Это получилось непроизвольно, но, когда он увидел, как дернулись ее веки — даже обрадовался.
Нищенка.
Грязная шлюха, дочь грязной шлюхи, она и не видела никогда таких денег.
Но — стоп!
Нельзя!
Нельзя!
Нельзя!
— Здесь сто тысяч — на первое время. Хватит, надеюсь…. На булавки
— Спасибо…. — (Господи — сто тысяч долларов! Сразу. Господи! Что-то надо сказать…. Что-то обязательно надо сказать…. Господи, что же говорят в таких случаях?!!) — Спасибо….
— Не за что. Это, собственно, твои деньги…. Ну — пока? Обойдемся без официальных церемоний?
— Конечно. Пока.
Он не вышел из машины.
Не смог себя заставить.
Когда самолет уже вырулил на взлетную полосу, он подумал: как жаль что все истории про концентрацию энергии и передачу ее на расстоянии — всего лишь мистический бред!
Будь в них хоть доля истины — у «Боинга» сейчас отвалились бы крылья.
Загорелся двигатель.
Он немедленно взорвался бы в воздухе, разлетелся, к чертовой матери.
Рассыпался в прах.
Таким сильным и яростным было его желание.
Никогда, ничего в этом мире он не хотел так неистово, как ее смерти.
Сатрик. Год 1941
Прошел год.
В сентябре 1941 доктор Штейнбах вновь сидел в кабинете, как две капли воды похожем на тот, лубянский.
Между ними, однако, простирались теперь не только километры — пролегла линия фронта.
Зеленое сукно на столе, и лампа под зеленым абажуром, и красная дорожка казались фантомом, видением из прошлой жизни.
И только лицо на портрете было другим.
Однако это было единственным существенным отличием.
Хозяин кабинета — это более всего наводило на мысль о какой-то дьявольской фантасмагории! — было вроде бы тот же, что и в Москве.
Нет, внешне они разительно отличались друг от друга.
Этот был много моложе, и, пожалуй, красивее.
Холодные глаза цвета пасмурного осеннего неба.
Волевой подбородок.
Золотистая — волосок к волоску — шевелюра.
Черный с серебром мундир с иголочки ладно сидит на спортивной фигуре.
Он и говорил иначе — громко, отрывисто, с напором.
Никакой вкрадчивости и мягкой иронии.
К тому же — легкий акцент, не лишенный, впрочем, приятности.
Однако, Лев Модестович, этой разницы, словно не замечал.
В его восприятии два человека слились в единый, удивительно целостный и даже гармоничный образ, который оказался законченным именно теперь — когда Лев Модестович увидел второго.
И этот, цельный, обретший, наконец, недостающие прежде черты, был явно доволен.
А потому, говорил с посетителем вполне дружелюбно.
— Вы должны быть благодарны Богу и фюреру, господин Штейнбах. В этой варварской, отсталой стране ваши исследования никогда не смогли бы развернуться должным образом. Мой Бог, как вы вообще умудрялись работать в клетке большевистской идеологии? Она не способна осмыслить безграничность вселенной и отрицает сам факт существования души, не говоря уже о том, чтобы признать возможность управлять чужой душою.
— Но я работал.
— О, да! И хотя большевики делали все, чтобы скрыть от мира ваши труды, можете не сомневаться, нам они известны! Я склоняю перед вами голову, господин Штейнбах.
— Неужели?
— Вы иронизируете, герр профессор? А, понимаю. Большевистские россказни про то, как мы уничтожаем евреев.
— А вы не уничтожаете?
— Уничтожаем, разумеется. Но вам должно быть известно и другое. Мой учитель и наставник доктор Герман Вирт доказал, что еврейские философы узурпировали тайные нордические знания, заключив часть из них в Библию, и объявили это собственной доктриной.
— В Библии заключена доктрина Божья
— Чушь! Мы создаем новую религию и новых богов. И не лукавьте, герр профессор, вы не хуже меня знаете, как это делается. Нам открыты сегодня знания древних монастырей Лхасы (, мы владеем тайнами Зеленого Дракона. (Взгляните на фюрера, разве не блестяще владеет он техникой посвященных?! А наши парады! Вам они должны сказать о многом. Впрочем, парады на Красной площади тоже заслуживали внимания. Я читал ваши работы, исследующие древние мистерии, господин Штейнбах. Мы с вами говорим на одном языке. Но вернемся к вашему вопросу. Чтобы расставить точки над i. Доктор Вирт блестяще доказал, что ваши пророки были мистическими врагами арийцев — наших великих пращуров. Мы ученые, доктор Штейнбах, мы обязаны сообщать вождям истину. Другое дело, как истолкуют эту истину простые служаки, исполнители воли вождей?
— Иными словами, простые служаки просто не так поняли доктора Вирта?
— Бросьте, Штейнбах! Сопливый гуманизм не к лицу посвященным в тайные знания. Что нам слезы толпы? В наших силах заставить ее смеяться.
— По дороге в газовые камеры?
— По дороге туда — тем более! Разве это был бы не блестящий результат? Но оставим демагогию. Она не к лицу настоящим ученым. Я здесь потому, что мы ценим ваши труды. Однако, мы понимаем и то, что вам не давали идти вперед. Это очевидно. Повторяю: разве могли оголтелые материалисты, живущие исключительно днем сегодняшним, осознать истинные ваши возможности? Разум человека устремлен в будущее, сердце — же, напротив, стремиться в прошлое. Зов прошлого сильнее. Мы возрождаем древние мистические культы, и черпаем в них знания, дающие власть над толпой. Сталин тоже умел управлять толпой, направлять ее гнев против своих врагов. Он хотел всенародной любви. «Отец народов» — вот чего он добивался, и почти добился. Вы помогли ему в этом! Но ведь использовать вас для того, чтобы вколотить в сознание черни пару-тройку нужных мыслей — это все равно, что забивать гвозди античной статуэткой. Фюрер, как никто, способен оценить подлинный размах ваших разработок. В его власти бросить к вашим ногам весь мир! Исследуйте! Творите! Тысячи, сотни тысяч людей станут материалом для ваших экспериментов. Душа человека может быть еще более послушна, чем его тело — и тогда, собственно, отпадет необходимость современных войн. Зачем уничтожать тело, если можно подчинить душу? Вдумайтесь, господин Штейнбах — это ли не простор для вашего таланта?!
— Боюсь, вы переоцениваете мои возможности.
— Знаете что, герр профессор. Прежде, чем мы продолжим, я хотел бы кое — о — чем с вами договориться. Будет обидно, если досадные разночтения, приведут к фатальному итогу. Фатальному — для вас, разумеется. Итак, в дальнейшем мы будем исходить из того…
— …. что вы не хуже меня самого понимаете, каким образом могут быть использованы мои наработки. А я понимаю, что вы понимаете это не хуже меня самого….
Они говорили еще довольно долго.
Однако, разговора, в принципе, могло и не быть.
Холеного офицера «Аненэрбе» (в этом случае, заменила бы пара эсэсовцев — рангом пониже, с манерами, оставляющими желать лучшего.
В сопровождении взвода солдат они ворвались бы ночью в профессорскую квартиру, и, не утруждая себя объяснениями, выволокли Льва Модестовича из постели.
Результат, так или иначе, был бы един.
Мрачный и величественный средневековый замок Альтан, затерянный в Нижней Силезии, на долгие пять лет стал для него темницей.
Впрочем, темницей весьма комфортабельной.
К тому же, все это время он продолжал работать.
Макеев. Медиа
Некоторое время он безотчетно гнал машину по шоссе.
Пространство вокруг, по-прежнему, казалось мертвым или затаившимся в ожидании страшного.
Никто не попался ему навстречу, никто не догнал на пустынной дороге.
И только полная луна назойливо маячила за лобовым стеклом, медленно перемещаясь к центру, словно норовя заслонить собой весь прочий мир.
Он ехал домой, и почти достиг цели.
Впереди была развилка, там следовало свернуть направо, а там уж — до дома рукой подать.
На развилке был пост ГИБДД.
Он вспомнил об этом, когда далеко впереди замигал зеленой точкой огонек светофора.
И сразу, вдруг, словно импульс слабого мерцания проник в сознание, разорвав пелену, понял — там, на знакомой развилке он должен сдаться дежурному инспектору и честно, без утайки рассказать о том, что произошло.
Наваждение рассеялось так же стремительно, как спеленало его в свои сети.
Внезапно, словно очнувшись от страшного сна — действительность, впрочем, оказалась ничуть не менее ужасной — он оценил всю степень безумия, заключенного в паническом бегстве по лунной дороге.
Тщетного — по определению, ибо теперь он отчетливо представлял, сколько следов оставил на месте и аварии.
Уже очень скоро они укажут на него, как на преступника, к тому же — трусливого и подлого.
Ему стало стыдно и страшно.
Чувства заполнили душу именно в этой последовательности: сначала жгучий стыд, и только потом — страх.
Страх был сильным.
Он даже не заметил, как нога, беспрекословно подчиняясь напуганному подсознанию, нащупала педаль тормоза.
К развилке машина приближалась медленно.
Стрелка спидометра едва достигала отметки — двадцать километров в час.
Одновременно — похоже, что сознание, расколовшись в момент аварии, так и осталось многоликим — он молил Бога о том, чтобы дежурный инспектор оказался на месте.
В этой малости не отказала судьба.
Инспектор — кряжистый майор — коротышка с пышными пшеничными усами — мирно спал за рулем новенького «Форда», и долго не хотел откликаться, хотя он стучал по лобовому стеклу машины громко и решительно.
Просыпайся, командир. Авария
Какая еще авария, твою…. Г де?!
Недалеко, километров десять— двенадцать…. Я женщину сбил.
Ты?! — маленький майор проснулся окончательно. Взгляд стразу стал напряженным и подозрительным — Пил?
Трезвый.
Скорую вызвал?
Нет. Она мертвая, я проверил.
Все равно, полагается. Ладно, разберемся. Поехали.
Он подчинился.
Но по инерции бросился к своей машине.
Майор, однако, был теперь на чеку.
Стой, голубь! Ты куда это собрался? Теперь при мне будешь. И ни на шаг, понял? А то…
Он молча уселся рядом с майором.
Яркое сияние вспыхнуло над крышей «Форда».
Сине — красные всполохи распороли темноту.
Майор виртуозно выполнил красивый «полицейский» разворот. Сделав петлю на узкой дороге, машина понеслась туда, откуда только что приполз к развилке «Мерседес».
Точно мертвая? — майор все еще сомневался
Точно.
А как же ты, твою… Скорость какая была?
Под двести.
Ах, ты…. Это тебе хана…
Понимаю.
А откуда она там взялась? Время-то…
О времени майор, на самом деле, вспомнил только сейчас.
Маленькая стрелка часов на панели «Форда» едва переползла за цифру три.
— Три двенадцать…
Не знаю. Дорога была пустая, она — как из воздуха….
Все вы так говорите — проворчал майор, но, похоже, готов был поверить — Может, она пьяная была?
Не знаю. Нет, запаха не было, я бы почувствовал.
А может, обкуренная? Или — обколотая чем?
Может быть. Она, правда, какая-то странная… Холодная.
Ну, ты даешь, голубь! Холодная! Мертвая, потому и холодная… Ты-то сам ничего такого не курил? Ну, травку там, к примеру….
Нет. Я не…. Да ведь, экспертиза же будет….
Эт — точно, экспертиз теперь будет много.
Все. Притормаживайте, где-то здесь…
«Форд» с размаху влетел в распадок.
Майор, тоже не сбавил скорости, и машина слегка зарылась носом, так же стремительно скатываясь вниз, как его «Мерседес» сорока минутами раньше.
Разница заключалась в том, что ехали они теперь с другой стороны.
Поганое место — сочувственно бросил майор, съезжая на обочину — Ну, веди, показывай….
«Мигалка» на крыше «Форда» продолжала работать.
Сине— красное мерцание немедленно разлилось по дороге.
К тому же луна, как и прежде, ярко сияла на синем небосклоне.
Отчетливо просматривались даже густые заросли кустарника.
В мерцающих сполохах тревожного света обычная подмосковная сирень казалась каким-то экзотическим растением.
Он уверенно шел к тому месту, где оставил тело, и напряженно вглядывался в зыбкий полумрак, надеясь, снова, на расстоянии разглядеть уже знакомое белое пятно в темном провале.
И не видел ничего.
Ага! — Инспектор вдруг почти обрадовался.
Он шел сзади и внимательно смотрел себе под ноги.
Следы на асфальте, очевидно, окончательно прояснили ему картину происшедшего.
— Вот здесь, стало быть, ты начал тормозить…. А она отлетела вон туда…
— Ее здесь нет.
— То есть как это — нет?!
— Она была здесь. Именно здесь. Но теперь ее нет.
— Погоди
Майор с неожиданной для грузного тела прытью бросился к своей машине.
Снова последовал «полицейский» разворот, и яркий свет фар вырвал из полумрака часть дороги, глубокую впадину обочины, и буйные заросли кустарника, подступившие сзади.
Провал обочины больше не казался темным.
Отчетливо различима была молодая трава, и даже дорожная пыль, успевшая уже серым налетом пригасить яркую зелень.
Алая — на зеленом, бросалась в глаза жестянка из-под «Кока-колы», слегка помятая, с заметной царапиной на вогнутом боку.
Желто — коричневый, старый окурок, сохранившийся, возможно, с зимы, обнаружился неподалеку.
Еще была прошлогодняя, пожухлая листва.
И обломки тонких веток, облетевшие в непогоду.
Более не было ничего.
— Это как же понимать, елы— палы?! — майор был по меньшей мере обескуражен.
— Она была.
Что еще мог он сказать оторопевшему майору?
А себе?
Как объяснить необъяснимое? Что он сейчас мог сказать себе
Кошмар возвращался.
Наваждение снова застило действительность пеленой жуткого бреда.
Но сейчас, действительность все же проступала сквозь туман.
От этого было еще страшнее.
Он понимал, что все происходит наяву, одновременно понимая, что адекватного объяснения происходящему нет, и быть не может.
Майор, тем временем, аккуратно приблизился к тому месту на обочине, куда, по его расчетам, должно было отлететь тело, и присел на корточки.
— Да, была — задумчиво заключил он через несколько секунд. — Была. Трава, видишь, примята. Была да сплыла…. — Неожиданно майор разозлился. — Да с чего ты вообще взял, что она мертвая?!!… Врач ты, что ли? Эксперт, этой… судебной медицины?!… Очухалась, встала и ушла. Бога благодари.
— Не может этого быть. Пульса не было. И кожа холодная. И зрачок…
— Какой еще зрачок, твою…?!
— Не реагировал зрачок, я проверял….
— И что с того?
— Искать надо.
— Кого искать?!!
— Женщину. Тело, то есть… Она должна быть где — то здесь…
— Ладно… — теперь майор разозлился не на шутку — Упрямый, да?… Проверял он… Ладно… Твою…
Бормоча ругательства, инспектор втиснулся за руль своего «Форда».
Оттуда через секунду раздалось громкое шипение и треск — в машине заработала рация.
Спору нет, он повел себя глупо.
По-идиотски, если уж говорить откровенно.
Откуда взялась волна тупого, дикого упрямства, захлестнувшая его с головой, было непонятно.
Часом раньше он бежал с проклятого места, как угорелый.
Теперь безумно упорствовал в желании, во что бы то ни стало выдвинуть обвинение против себя.
Причем, собственными руками.
Майор недвусмысленно намекал на то, что дело можно решить полюбовно, без осложнений.
Ему, майору совсем не нужны были хлопоты, связанные с оформлением аварии.
Он был совсем не прочь сделать вид, что ночь напролет мирно дремал в своем «Форде», и знать ничего не знает ни про какую аварию.
Да и о какой, собственно говоря, аварии шла речь?
Подумаешь, следы торможения на асфальте!
Мало ли у водителя причин резко затормозить на пустынной дороге?
Где пострадавшая? — Нет, пострадавшей!
Исчезла.
Ушла.
Уползла, или подобрал кто, проезжая мимо.
Но с заявлением никто никуда не обращался.
И «по скорой» никто не поступал этой ночью в больницы с подходящими травмами.
И в моргах не нашлось похожей безымянной покойницы.
Впрочем, эти обстоятельства выяснились позже, когда завертелась машина милицейского расследования.
Довольно, впрочем, необычного.
Ибо вопреки сложившейся практике, в наличии был субъект преступления, но не было объекта, и потому пресловутый состав, как ни крути, не складывался.
Единственной внятной уликой, указывающей на то, что некое столкновение все же имело место, была небольшая вмятина на капоте «Мерседеса» и пара царапин непонятного происхождения на корпусе и лобовом стекле машины, но этого было явно недостаточно.
Коротко посовещавшись утором, милицейское и прокурорское начальство, пришло к однозначному выводу: основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют.
Женскую туфельку, подобранную на лунном шоссе, он обнаружил под сидением автомобиля только спустя несколько дней.
В водовороте полного и абсолютного бреда, который сам же, по доброй воле, без принуждения закрутил, втянув в него добрый десяток ничего не понимающих людей, он напрочь про нее забыл.
И это тоже было, по меньшей мере, странно.
Старик и женщина. Год 2000
— Нас вывезли из Силезии в сорок пятом. Советские войска стояли у стен замка. Но нас выхватили прямо у них из-под носа. А вот архивы остались. Бесценные архивы. Думаю, НКВД нашло им должное применение. Меня освободили американцы. Впрочем, что значит «освободили»? Блеф! Разумеется, они были куда более лояльны, чем люди из «Анэнэрбе». Правда, задержаться в Европе не дали. Да я и не стремился к этому. Зачем? Чем Европа была для меня лучше Америки? Да ни чем, помилуйте! Я не знал ни той, ни другой.
— А Россия?
— Какая такая Россия? Не было тогда никакой России. Был СССР. И что ожидало меня там? Иллюзий не питал. Я знал наверняка. И чем, в конце концов, НКВД лучше ЦРУ?
— Но почему именно ЦРУ?
— Этого они не скрывали. С нами работали люди Даллеса. Меня они втянули в работу с первых же дней. Пришлось разбираться с самоубийством доктора Хаусхофера, того самого, который открыл наци тайны Зеленого Дракона. Еще в начале века он жил в Японии, и там стал адептом ордена. А после первой мировой преподавал в Мюнхенском университете, и — как принято думать — именно тогда попал под влияние нацистов. Впрочем, эта версия всегда вызвала у меня сомнения. Возможно, выбор доктора Хаусхофера был не случаен. Возможно, ему приказали поступить именно так — пойти на сближение с Гессом, а потом — и с Гитлером. Он был серьезным ученым, основоположником учения о геополитике. Я немного знал этого человека, и не очень-то верю, что его мог одурачить малограмотный истерик. Но как бы там ни было, в 1946 году Карл Хаусхофер покончил с собой, в точности исполнив древний самурайский ритуал. Янки сразу же захотели в этом разобраться.
— И разобрались?
— Да, кое-что выяснить удалось. Там были очень любопытные стихи его погибшего сына. Что-то про демона, которого его отец выпустил в мир….
— Он погиб на фронте?
— Кто? Сын доктора Хаусхофера? Нет. Его расстреляли наци в сорок четвертом. Было очередное покушение на Гитлера, и хватали всех. А он был поэт. Писал на старогерманском. Готику переводить сложно. Еще труднее было понять, подлинный смысл его последней поэмы. А он был страшен…. Но хватит об этом! Я гражданин США с 1949 года, и ни о чем не жалею. Вот только русский язык люблю. И потому, наверное, сохранил, хотя разговорной практики не было. Но читал всегда много. А что в России, действительно, теперь в моде Набоков?
— Разве Набоков может быть в моде?
— Хм — м, пожалуй….. Да, согласен. Так говорить нельзя. Но его читают?
— Конечно. И всегда читали. Только книги достать было трудно.
— «Лолиту» конечно же?
— Почему именно «Лолиту»? Впрочем, «Лолиту», конечно, тоже. Но ведь это везде так. Одним — «Лолита». Другим — «Дар», и «Подвиг», и «Другие берега»
— Не трудитесь так, сударыня. Верю и без того: Набокова читали.
— Я не потому вовсе….
— Немного все же потому. Прислушайтесь к себе, восстановите цепочку мимолетных ощущений, и признайтесь — мысленно, на покаянии не настаиваю — я прав. Можете не отвечать.
— И не собираюсь.
— Что же касается Набокова, то заслуга его, на мой, конечно, дилетантский взгляд не в «Машеньке» или «Даре». Иными словами, романист он был хороший, спору нет. Возможно, очень хороший. И даже превосходный. Но и только. Гений явил себя в другом.
— В чем же?
— Язык, дорогая моя! Он один перенес на своих плечах, перетащил, не расплескав ни капли прекрасный русский язык, на котором объяснялись его родители в девятнадцатом веке, и Пушкин писал, и прочие великие — в наш век. В двадцатый. Там с языком обращались вольно. Не только с русским, конечно, другие постигла та же участь. Исчезла красота. Язык, прежде всего, должен теперь быть удобен. Его надо приспособить, приладить, притереть к тем задачам, которые стоят на повестке. Прагматизм — вот религия двадцатого века. И литература послушно перешла в его лоно. Я не судья. Да и судить не за что, это процесс объективный. Он один оказался сильней объективных обстоятельств. Он был настолько глубок и умен, что его читают теперь, и читать будут, я думаю, еще долго. И, читая, впитывают не только мысли, но и музыку языка. Пусть воспроизвести ее уже не сможет никто, но хоть изредка насладиться ею — тоже, знаете ли, дорогая моя, большое подспорье для души. Русский язык вообще уникален. С точки зрения лингвистических возможностей воздействия…. Но только настоящий русский язык. Тот, который сберег Набоков.
— Но разве только Набоков?
— В такой степени — только он. Я о сюжете забываю, когда начинает он играть словами. А он играет, наслаждается или забавляется, просто красоты ради. Красоты слов, и вообще — языка. Вы послушайте только хотя бы — это, к примеру: «Летучий сразу собирает тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы…. Свечи, плечи, встречи и речи создают атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. Ветер всегда одинок, только бегает вдали непривлекательный сеттер…» (Это он потешается над стихосложением. Каково?
— Вы, что же, всего Набокова помните наизусть?
— Я много, чего помню….
Он неожиданно рассердился и замолчал.
Такое случалось с ним часто — был по-стариковски капризен.
И обижался.
А, случалось, бранился.
«Вы глупая мурена, сударыня. Глупая мурена, и ничто иное!»
Она понятия не имела, что это за зверь такой — мурена, но не сердилась нисколько.
И готова была простить ему эту самую мурену, глупую, при том.
И многое другое могла простить, лишь бы продолжалась их странная дружба.
Старик больше не молчал.
А женщина не была одинока.
Встречаясь по утрам на террасе отеля, они радовались друг другу.
Завтрак проходил за оживленной беседой, а потом — если погода позволяла — шли гулять на берег.
Конечно, от дальних прогулок пришлось отказаться.
Силы его были невелики, их едва хватало на то, что бы одолеть небольшой отрезок бесконечного пляжа.
Их часто можно было видеть теперь из окон отеля, и служащие с любопытством наблюдали за странной парой.
И удивлялись.
Но скорее радовались за старика и одинокую даму, чем злословили.
Его старость была порукой ее целомудрия.
К тому же, отобедав вместе, и проведя еще пару часов на террасе или в уютном пиано — баре, они всегда расходились по своим номерам с тем, чтобы встретиться утром, радуясь встрече так, словно расставались на годы.
О чем можно было говорить так подолгу?
Ответ знал только ветер, но он уносился вдаль, к берегам туманного Альбиона, рассыпая над проливом те слова, что говорил старик.
Женщина же, по большей части молчала.
Ее уделом — были короткие вопросы и реплики, которые иногда забавляли старика, а иногда — сердили.
Горина. Власть
Дома, куда она попала в начале первого ночи — таким долгим был рабочий день — она еще раз прочитала письмо.
И снова заплакала.
«О чем эти слезы?» — спросила она себя, подчиняясь привычке, приобретенной, впрочем, не так давно.
Однако, полезной.
«Анализируй! — учила ее женщина-психолог, к который некоторое время назад она обращалась за помощью — Любой порыв души, даже — мимолетное стремление. Ничего, или почти ничего не происходит в душе случайно, и каждое чувство, если спокойно его проанализировать всегда является следствием внешнего импульса. Всегда пытайся понять — какого? И многие проблемы растают, как таблетка аспирина….»
Она задумалась, и слезы как-то незаметно остановились.
«От горя? Мне все еще горько от того, что его нет на свете? — Нет, узнав о его смерти, я испытала облегчение.»
«Тогда от любви? Может, я все еще люблю его? — Возможно. Но от любви я никогда не плачу. Это верно, я плакала от неразделенной любви, но теперь ей нет места, он мертв….»
Размышляя, таким образом, она довольно быстро нашла ответ.
Это были слезы обиды.
Письмо могло найти ее сразу же, после того, как было написано, и тогда все могло сложиться иначе.
Не сложилось.
И это было очень обидно.
Внезапно она отложила письмо в сторону, и резко поднявшись из глубокого кресла, направилась к книжным полкам, занимавшим много места в просторном доме.
Эти полки, вкупе с большим плоским телевизором на стене и сложным музыкальным центром, были, пожалуй, были единственным украшением дома. Прочая обстановка — добротная, вполне — удручала, тем не менее, казенным однообразием.
Вот уже несколько лет она постоянно жила за городом, на государственной даче.
Ей предстояло добраться до самого верха, и долго ворошить книги, сбрасывая некоторые на пол, но, наконец, на свет Божий был извлечен массивный блокнот, в дорогом кожаном переплете.
Несколько лет назад она с трудом подавила в себе желание сжечь записную книжку, и пепел развеять по ветру, чтобы не вспомнить уже никогда о том, что было связано с этими записками.
Теперь же — почти обрадовалась тому, что записки целы, и даже нашлись довольно скоро.
Желание перечитать их немедленно было столь велико, что сброшенные книги, так и остались лежать на полу.
Женщина забилась в самый укромный уголок дома, и отключила телефоны.
Все.
Включая аппарат цвета слоновой кости, украшенный металлически значком с оттиском двуглавого орла — пресловутую «вертушку», или АТС-2.
Словом, средство правительственной связи.
«25 октября 1990 года.
Нельзя сказать, чтобы я совсем не готова была к этой встрече, отправляясь в Белый Дом сегодня.
И все-таки оторопела.
Вот как это было.
В его приемной, мы с Л. обрабатывали К. на предмет заключения с нами договора на правовое обслуживание их фонда.
К, впрочем, вовсе не брыкался, скорее, наоборот.
В этот момент дверь его кабинета отворилась, пропуская седого джентльмена с пышной шевелюрой и такими же пышными усами.
А следом неожиданно (для меня — неожиданно!) сам Г. появился на пороге.
Свита, доселе вольготно расположившаяся в приемной (кто — возле телевизора, кто — за компьютером и т. д.) стремительно мобилизовалась и окружила шефа плотным, трепетным кольцом.
По чистой случайности, я оказалась в самом центре этого магического круга.
Он что-то говорил кому-то по поводу своих ближайших планов.
«Еду в Дубну…. выдвигается Н.…. надо представить….»
На меня не отреагировал никак.
Просто посмотрел в упор своими круглыми глазами— буравчиками.
И не заметил.
Или не узнал.
Ничего удивительного, формально я представлена была только однажды, на какой-то «демороссовской» тусовке.
Потом просто околачивалась в его приемной — благо помощники оказались приличными людьми! — в поисках какой — ни — будь работы.
Да и кто я такая, собственно, чтобы он меня помнил?
Девушка свободной профессии.
Дипломированный, правда, юрист, и даже адвокат (ну и что?!!), барражирующий в около политических водах.
Ни с чем пирожок, как говорила когда-то моя покойная няня.
Мне стало грустно.
Да что там, грустно.
Тошно и отвратительно, как, впрочем, все последние дни. Они, к слову, были очень подстать настроению — серые, слякотные, промозглые.
Он еще что-то говорил окружающим, а потом неожиданно протянул мне руку, и, притянув к себе, поцеловал, едва коснувшись щеки тонкими холодными губами.
Свита что-то докладывала, суетясь и перебивая друг друга, но Г. не слушал.
Не выпуская моей руки, развернулся и направился к себе в кабинет.
Он перебирал мои пальцы своими, тонкими, прохладными и неожиданно сильными, стоя совсем близко.
При этом, он продолжал разговаривать с кем-то из свиты, просочившейся в кабинет.
Из комнаты отдыха вышел тот самый Н., который баллотировался в Дубне, толстый, с младенческим румянцем на плохо выбритых щеках.
Г. не выпускал моих рук.
Мы так и стояли посреди его огромного кабинета.
Царедворцы толпились у двери.
Н. вкрадчиво переступал ножками по ковру, лучезарно, как лучшей подруге, улыбался мне.
Мне было весело и чуть-чуть неловко.
Последнее, впрочем, гораздо в меньшей степени, чем следовало бы.
Н., весь мед и сахар, сказал мне: «Здрас-с-сьте!»
Я сказала ему: «Ни пуха, ни пера!»
«Да-да…» — отозвался Н. весьма рассеянно.
А прохладные пальцы Г. все скользили по моим ладоням.
Тут выяснилось, что одной рукой я сжимаю дурацкую шариковую ручку — как рисовала какие-то схемы, убеждая К., так и вцепилась в нее мертвой хваткой.
Он отнял у меня ручку, повертел ее в пальцах.
Будь она проклята, эта ручка!
Словом, отвлекся, наконец, от меня.
Дальше — сумбурно.
Он прошел в комнату отдыха, стал одеваться. Натянул плащ, нахлобучил, не взглянув в зеркало, дурацкую шляпу. И сразу стал похож на командировочного из провинции.
Я неуклюже потопталась посреди кабинета.
Потом сделала ему ручкой и сказала: «Ну, я пошла!»
Получилось фальшиво.
«Куда?» — искренне удивился он. Словно это было в порядке вещей: он уезжает — а я остаюсь в его кабинете.
Я как-то совсем уж жалко забормотала про его фонд, которому, может быть, смогу быть полезна, если, конечно, он позволит….
Он что-то ответил.
Только вот — что именно?
Не помню, хоть убей.
Как всегда, из головы вылетает самое важное.
Он уехал.
Свита проводила меня почтительно.
Подумать только!
Долго шла пешком по Калининскому проспекту.
Последний аккорд дня.
Забрела в «Москвичку» и разорилась на большущий флакон любимых «Сальвадор Дали».
Дочитав эту запись, она закрыла блокнот, но тут же, наугад открыла его на другой странице.
«28 марта 1991 года
В фонде — скукочища.
Так разбиваются мечты — написала бы по этому поводу какая— ни— будь бойкая романистка.
Впрочем, романов я теперь не читаю, зато читаю бездну всякой тягомотины: безумные проекты по переустройству России и тому подобный шизофренический бред.
Зачем он содержит всю эту полоумную братию?
Бесполых мальчиков, невостребованных девочек.
Все, впрочем, «умны, как на подбор». А вернее — заумны. И патологически неряшливы.
Хочется вслух читать «Мойдодыра».
Других слов нет.
Зато есть постоянная работа, и, значит, средства к существованию.
Все оживает только тогда, когда появляется он.
А он появляется редко.
Звонит Л., как всегда, в панике: «Едет, встречайте…»
«Непромытые» выстраиваются на парадной мраморной лестнице. (Фонд роскошествует в богатом особняке прошлого века, неплохо сохранившимся и поныне. Несмотря ни на что.)
И все равно, он появляется неожиданно.
И стремительно.
Охранник с рацией — единственный атрибут принадлежности к Олимпу — едва поспевает следом.
«Неумытые», толпой, бросаются навстречу.
Я замираю возле колонны.
Сердце колотится в совершенном вакууме, ноги словно чужие — так бывает со мной, когда перепугаюсь смертельно.
Он, как всегда, идет мимо, и словно не замечает.
Впрочем, почему — словно?
А если он, правда, не замечает меня?
Иногда мне кажется, что он вообще ничего не замечает вокруг себя. Ни людей, ни предметы…
А если заметит, вдруг кого-то, от того только, что наткнется случайно, очень удивляется, и долго, с любопытством изучает. Разглядывает, расспрашивает, трогает руками.
Он вроде бы живет в ином времени и в других пространственных измерениях, и потому многие его не понимают, а многие — ненавидят.
Но все, без исключения — боятся.
А может, я просто придумала его таким?
Сама придумала, и сама же тихо погибаю, медленно, как в трясину, погружаясь в безнадежную и безответную любовь?
Вот он дошел до середины вестибюля и набрел на меня.
Холодное рукопожатие, прохладный поцелуй в щечку.
— Куда пропала?
— Никуда, я здесь (Рядом, только вы не хотите заметить — это, естественно, про себя)
— Как живешь без меня?
— Без вас — плохо. (Видит Бог, это святая правда!)
Что-то еще — на ходу, в том же духе.
И вдруг:
— Ты что, киснешь здесь? Ну, скажи, киснешь?
— Кисну.
— Почему молчишь?
— У вас других проблем нет, да?
— Кроме тебя? Какие могут быт проблемы?! Может, ты в аппарат хочешь? Ну, отвечай, пойдешь ко мне в аппарат?
Боже, праведный!
Хочу ли я в аппарат?!!!
Это значит, каждый день — рядом.
Это значит — настоящая работа.
Только я не верю, что это возможно.
Дневник теперь раскрыт почти на середине.
«11 ноября 1991 года
Просыпаться в чужом гостиничном номере — пытка, ниспосланная Всевышним всем блудницам, разменивающим на ворованное гостиничное счастье чистое золото своей любви
Я придумала эту фразу сходу — еще не проснувшись, как следует, но уже испугавшись шагов в коридоре и звяканья ключей.
Ощутив щекой тепло его плеча, и вдохнув полной грудью его дыхание. Отнюдь, не легкое дыхание эльфа. Вчерашний ресторанный ужин, и выпитое после шампанское, и выкуренные сигареты — все было в том дыхании. Но я вдохнула его жадно и радостно
Красивая придумалась фраза.
И точная.
Наказание утреннее гостиничное, тем временем, только начинается.
Продолжение будет таким.
Через несколько минут он проснется, и спросонок сладко потянется ко мне.
Но потом проснется окончательно, увидит электронное табло часиков на тумбочке, и тогда, торопливо чмокнув в меня щеку, пробормочет что-нибудь дежурное.
И сразу же — рывком — в ванную.
Оттуда выйдет уже совсем другой человек. Гладко выбритый, пахнущий дорогим одеколоном, улыбающийся и увлеченный собственным галстуком.
Мы расстанемся в холле.
Нет, он не из тех, кто стыдливо прячет глаза и старается идти на полшага впереди или сзади.
Он, конечно же, предложит подбросить меня, куда надо. Но при этом, едва заметно скользнет глазами по часам на запястье.
И я откажусь.
На улице он задержит мою руку — в своей, чуть дольше, чем следовало бы.
По крайней мере, в публичном месте.
И стремительно скроется в недрах своей блестящей черной «Волги», со значком Верховного Совета на лобовом стекле и антенной правительственной связи на крыше.
На этом утреннее наказание закончится
Она пролистала еще несколько страниц.
«15 марта 1992
Безумное время.
Дикое напряжение, работа на износ, до полного отупения и абсолютного физического
изнеможения.
Взлеты и падения, радостный сердечный трепет и горестное опустошение души.
Работа шла неровно и нервно, нас постоянно дергали, и Главный документ складывался из каких-то сумбурных обрывков.
Все почему-то приходилось доделывать и переделывать в последнюю минуту, и сразу бежать показывать Г. и иже с ним.
Чаще всего снами теперь общается В.
Он, как мне кажется, на самом деле, не так страшен, как его малюют.
По крайней мере, выслушивает всегда до конца, причем — даже те аргументы, которые ему не по нраву.
Правда, смотрит с ленинским прищуром.
Дескать, пой ласточка, пой. Все про тебя мне давно известно.
Ну и пусть.
Г. теперь часто бывает раздражен.
И каждый раз, не знаешь, на что нарвешься — начальственный холод или неожиданная ласка.
Было и то, и другое.
И мимолетные встречи тоже.
Хотя сейчас ему — вполне понятно — не до меня.
Д., похоже, охладевает к их дружбе, и этот холодок ощутимо веет в здешних коридорах.
В приемной у Г. значительно поубавилось народу, хотя все его полномочия — пока при нем.
Я попыталась заговорить на эту тему. В конце концов, он сам учил меня, что опасность лучше встречать во всеоружии, полностью отдавая отчет в том, что может случиться с тобой в самом худшем случае.
Вышло плохо.
Хуже не было никогда.
Он кричал на меня и топал ногами.
Впрочем, он часто кричит теперь.
Но иногда, все же берет мои руки — в свои, и ласкает тонкими прохладными пальцами.
За это я прощаю ему все остальное.»
«7 октября 1993.
Все кончилось. Все позади.
Мы победили, но радости нет.
И ничего нет.
Пусто в душе.
В душе моей гуляют холодные сквозняки, как в пустой, разоренной квартире, которую хозяева покидали в страшной спешке, оставив двери нараспашку.
Если бы это словосочетание — страшное, в своей потрясающей точности — не придумал Бунин, я бы написала сейчас, окаянные были дни.
Впрочем, я и так это написала.
Другое дело, что не стоит, наверное, слишком часто произносить их публично. Но ведь все время тащат куда-то выступать, а слов больше нет, и главное — сил нет.
Что говорить?
Ночью, едва вырвавшись из «Останкино» — там был такой ад! И понес же меня черт, в прямой эфир, за полчаса до штурма! — помчалась на Яму (, там, ораторствуя, едва не сорвала голос, а душа рвалась за Стенку (.
Г. должен был быть там, а я должна была быть рядом с ним.
Но там его не было.
Металась, обезумев по темным, пустым коридорам.
Жутко ночью в Кремле.
Почему-то поняла это только тогда — раньше не замечала.
В. приехал деловитый, подтянутый: «Государственный переворот? И кто кого переворачивает?» Откуда только брал силы шутить?
Спасибо ему, загрузил работой так, что ни на какие треволнения сил просто не осталось.
Г. появился утром.
Бледный.
Лицо неживое.
Пергаментное, желтое, страшное.
— Где ты был?
(Каюсь, забыла про приличия, но он даже не заметил)
Молился.
В. не сдержался:
— Ну вот, вашими молитвами….
Танки уже стояли на мосту….»
«11 ноября 1993
Утром села писать заявление об отставке.
Впрочем, что это я?
Отставка — удел великих, я просто клерк, правда, кремлевский, но сути это не меняет.
Оказалось, что заявление — не такая простая бумажка, как, на первый взгляд, кажется.
Что писать?
Из-за чего собственного увольняюсь?
По собственному желанию? — Нет у меня такого желания!
Нет, и все тут!
Судите!
Казните!
Тогда — что же?
По причине отставки любимого человека?
А где он, любимый человек?
Скрылся за железобетонной спиной своей постылой В. П.? Она, тупая, деревенская клуша, теперь рада.
Чему радуется, дура?
Он же умирает сейчас. Тихо, осознанно умирает, я — то знаю.
Однажды я спросила у его лучшего друга.
Сидели у меня на кухне, разговор, под коньяк струился теплый, душевный.
Г. вышел поговорить по телефону.
Я — не иначе, коньяк ударил в голову! — вдруг дерзнула:
— Скажи, у него раньше были женщины? Ну, не просто женщины, а, понимаешь…
— Понимаю. Нет, женщин не было. Он всю жизнь любит одну— единственную. Знаешь, как ее зовут?
— Скажи! — Губы меня не слушались, так стало вдруг страшно и горько.
— Власть.
Лучший друг невесело усмехнулся, а я, с той поры, возненавидела его люто.
Г. долго недоумевал, какая кошка пробежала вдруг между нами?
Теперь, Она, единственная ему изменила.
Сможет он пережить это? Не уверена.
Но В. П. этого понять не в состоянии. Она торжествует, и как попугай, заученно бубнит в телефонную трубку.
— Плохо себя чувствует. Спит. Будить не велел ни для кого. До свиданья!
Впрочем, на каком таком основании я пишу о ней «постылая»?!
Мало ли, что он говорил когда-то?
Вот ведь, плохо ему теперь. Белый свет не мил.
И укрылся он от всего белого света за ее спиной, не за моей.
Но смириться с этим я не могу.
И тысячный раз перебираю в уме сотни имен и фамилий, размышляя, кто бы еще мог позвонить Г. и кому, возможно, повезет побить брешь в круговой обороне железобетонной В. П.
За этим занятием меня застает не кто иной, как сам В., неожиданно появляясь на пороге кабинета.
Честь — не по чину.
Мог бы вызвать.
— Я хочу, чтобы вы встретились с Д.
— А он хочет? — Не удержалась. Вышло как-то глупо, по-хамски. Но он стерпел.
— Я доложу. Не думаю, что он откажет.
— Я ничего не буду для себя просить.
— Не сомневаюсь. Главное, не вздумайте просить за…. — В. неожиданно замялся. — Словом, вам ясно, я полагаю. Вопрос решен и обсуждению не подлежит.
— И что же я ему скажу?
— Говорить будет он. Вернее, предлагать. Вам нужно просто согласится.
Еду домой.
Возвращаюсь непривычно рано, еще светло, и я глазею по сторонам.
Похоже на прифронтовой город.
Опаленные стены, черные глазницы окон.
Там, внутри гуляет теперь ветер, я знаю.
Тот же ветер гуляет в моей душе.»
Некоторое время она молчала.
А потом, заговорила, обращаясь к безмолвному пространству казенного дома.
Но ведь он выжил! — сказала она громко, словно ожидая, что ей возразят. — Он выжил. И, судя по всему, научился жить по-другому….
Дом молчал.
И женщина снова взялась за письмо.
Старик и женщина. Год 2000
Однажды, они чуть было, не рассорились всерьез.
Знаете, — неожиданно призналась женщина, когда старик отдыхал, и в разговоре наступила пауза — нас ведь объединяют не одно, а целых два обстоятельства. Во— первых, мы оба родились в России.
Но есть еще кое-что.
Вы всю жизнь занимались психологией, а я — психолог по образованию.
Правда, работать по специальности почти не пришлось….
Она не закончила фразы, потому что старик неожиданно и резко остановился.
Глаза его злобно сверкнули из— под тяжелых век, и женщине стало не по себе — столько ярости и презрения было в этом взгляде.
Вот как? Коллега? Что ж, мои поздравления. Неплохой сценарий, совсем неплохой…
Я не понимаю
А вот это уже — швах!
Он пошел прочь, стараясь уйти от нее, как можно скорее.
Но быстро идти не мог, и потому смешно приседал и семенил ногами.
К тому же немедленно увяз в мелкой прибрежной гальке, отчего едва не упал.
Женщине стало безумно жаль старика, хотя вспышка внезапного гнева испугала и оскорбила ее.
Я действительно не понимаю, что вас так рассердило?
Она не понимает, какая милая наивность!
Бросьте!
Коллеги, вроде вас являлись ко мне в образе журналистов, социальных агентов, врачей и медицинских сестер, которые приезжали сделать укол.
Да, чуть не забыл! Были еще «случайные» попутчики в самолетах.
И соседи тоже были.
Но русская книга! Это, действительно, хороший трюк.
Я заглотал наживку. Но не обольщайтесь, вздернуть меня на крючок вам не удастся.
Скажите хозяевам, что рыба сорвалась.
Такое бывает.
И еще скажите, что я не стану больше работать ни на кого, и никто ничего не получит по моему завещанию.
— Все, все, что хранится здесь — он энергично ткнул пальцем в свой лоб — и только здесь! Посему не утруждайте себя поисками моего архива! — будет погребено вместе со мной. Теперь убирайтесь.
— Можете не беспокоиться, я сейчас уйду.
— Но прежде я скажу, кто вы такой. Вздорный, подозрительный, злой человек! А я — наивная дура! И поделом мне!
Раскисла, поверила, что нашлась душа, которая…. Вообразила, что вы пытаетесь помочь…. справиться…. Справиться со всем…. этим, что было…. Внушила себе, будто становится легче….
Вранье и глупость!
Все глупость и вранье…
Она расплакалась уже в самом начале своей тирады, к концу же, и вовсе плакала навзрыд, громко всхлипывая и захлебываясь словами.
Так, рыдая, женщина добежала до отеля, и лишь на пороге старинного здания немного пришла в себя, наспех вытерла слезы и попыталась придать лицу безразличное выражение.
На ее счастье, портье в этот момент был занят телефонным разговором.
Он не заметил, что веки женщины предательски опухли, а нос покраснел.
Вечером, случайно подойдя к двери, она обнаружила, конверт, подсунутый кем-то снаружи, а в нем — открытку с изображением отеля.
Конверты и открытки лежали в каждом номере, в ящике небольшого письменного стола, а в номерах подешевле — прямо в тумбочке возле кровати.
На оборот открытки она прочла следующее.
«Сейчас я отчетливо вижу, насколько был не прав днем, и как бессовестно и незаслуженно обидел Вас. Я, действительно, подозрительный, злой старик, но этому, поверьте, есть оправдание. Или объяснение, по меньшей мере. Простите меня, Бога ради! И, пожалуйста, выходите утром к завтраку, как обычно. В противном случае, я, честное слово, наделаю глупостей.
P. S. Вам не почудилось, я, действительно, пытался, как умел, помочь. Но, видимо, не слишком успешно.
Она поплакала еще немного, но быстро заснула и крепко спала до самого утра.
А утром отправилась завтракать на террасу.
Старик был уже там.
— Вы хотите, чтобы я сейчас попросил у вас прощения?
— Нет. Зачем же? Вы ведь уже извинились в письме.
— И вы простили?
— Я же пришла.
— Я должен объяснить свой вчерашний поступок?
— Вы достаточно подробно все объяснили вчера. Я понимаю. Думаю, что на вашем месте вела себя точно также, если не хуже.
— Благодарю — он неуклюже приподнялся в кресле, и церемонно поцеловал ее руку.
Потом разговор был продолжен так, словно вчера не обрывался вовсе.
— Вы сказали, что не довелось работать по специальности. Отчего?
— Я встретила человека, который…. Впрочем, эту историю я вам уже рассказывала. Она завершилась, и я приехала сюда.
— Вы поступили правильно. Теперь, действительно, стало легче?
— Стало легче? Нет, это не совсем верное утверждение. Мне просто легко. И просто. Потому, что все понятно. Я знаю, что буду делать дальше, и главное, пожалуй, я знаю, как хочу теперь жить. И какой быть. Скажите правду, вы ведь работали со мной все это время? Я поняла это совсем недавно, хотя, наверное, следовало бы раньше….
— Немного. Мне, действительно, захотелось вам помочь. Но это было несложно, вы сами активно искали выход, вы боролись за свое душевное спокойствие. И заслужили его по праву. Я рад. Что же до того, что не сразу заметили мою работу, не огорчайтесь. Это нормально.
— Какая-то странная техника. Почти неуловимая. Вы не расскажите мне?
— Нет.
— Думаете, что моих знаний недостаточно?
— Нет, так я не думаю. Сейчас настали времена, когда получить необходимую для работы сумму знаний в нашей с вами профессии может каждый, кто этого всерьез захочет. Вы — толковая девочка, и полагаю, к учебе относились серьезно.
— Я, действительно, училась хорошо. И работать хотела…. Впрочем, я и теперь хочу работать. Может даже в большей степени, чем тогда. Вернее, более осознанно…. Вы молчите?
— Я очень хочу сказать вам кое-что по этому поводу. Но не знаю, имею ли на это право?
— Но вы уже сказали, правда, пока непонятно…. Теперь уж продолжайте, пожалуйста.
Да, теперь я, действительно, должен мысль закончить. Но не сердитесь, она, скорее всего, вам не понравиться.
— Не рассержусь, даю слово. И не обижусь. Говорите!
— Вы молоды. Умны. Красивы. Найдите себе другое занятие.
— Но почему?! Неужели я кажусь вам такой бесталанной?
— Напротив, вы можете достичь многого. И потому мне страшно за вас. Груз этот страшен и тяжел. Удержите ли вы ношу? А, удержав, будете счастливы?
В то утро, они долго оставались на террасе.
Официанты давно убрали со столов посуду, оставшуюся после завтрака.
И заменили скатерти.
Их белоснежные края трепетали на ветру, как крылья птиц, словно скатерти пытались взлететь и устремиться вслед за чайками, парившими над проливом.
Лола. Нефть
Салон этого самолета очень мало походил на…. салон самолета.
По крайней мере, в том виде, каком представляет его подавляющее большинство нормальных людей.
Нечто похожее — но весьма отдаленно — мелькало иногда на экране, если речь шла о жизни президентов и миллионеров.
Удивляться тут было не чему — теперь она была и тем, и другим.
Верилось слабо.
Нельзя сказать, что происходящее казалось ей сном.
Но и абсолютной реальностью оно — вроде как — тоже не было.
Так, нечто среднее между правдой и ложью.
Не ощущения пока, а смутные предчувствия.
Может — сбудутся, и тогда надо будет ко всему этому спешно привыкать.
А может — и нет.
И тогда — слава Богу, не слишком-то и поверила! — не придется мучительно возвращаться к действительности.
Хотя действительность, которая вот уже тридцать три года окружала Лолу Калмыкову, надо признать, была не такой уж страшной.
Она родилась в небольшом южном городе, с рождения была окружена любовью многочисленных родственников, и в первую очередь — мамы. Красавицы, талантливой, как говорили, балерины, вынужденной после рождения дочери покинуть сцену, довольствуясь скромной должностью руководителя танцевального кружка в городском Доме пионеров.
Потом следовала, бабушка — тоже, в прошлом, актриса, правда — драматическая, отыгравшая на сцене местного театра целую вечность — пятьдесят, без малого, лет.
Потом — целая плеяда «двоюродных» — бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек, сестер и братьев.
Семья была веселой, дружной, хотя немного безалаберной.
Жили одним днем, ценности духовные ставили много выше материальных, и потому, наверное, испытывали вечные затруднения с деньгами.
Но — не унывали.
Дети в такой обстановке чувствовали себя комфортно.
Единственным семейным «изъяном» было отсутствие Лолиного папы.
Сначала, когда Лола была еще маленькой, но уже начала теребить родственников вопросом: «А где мой папа?», делая при этом ударение на слове — мой — у других детей в семье папы были — ей говорили, что папа уехал в командировку.
Что, собственно, означает таинственная «командировка», Лола не знала, но само слово ей нравилось, и это обстоятельство легко мирило девочку с отсутствием папы.
Позже, когда объяснять затянувшуюся командировку, было уже сложно, бабушка торжественно и скорбно объявила Лоле, что папа был военным и погиб на афганской войне.
Мама при этом отрешенно молчала.
Новую версию Лола приняла также легко, как и предыдущую.
Папу, ей было, отчего-то, совсем не жаль, зато стало жаль маму. Теперь Лола страстно мечтала, чтобы мама, наконец, перестала горевать о нем, и вышла замуж.
Заполучить папу — пусть и не родного — все же хотелось.
Но замуж мама так и не вышла.
Лет в четырнадцати от роду Лола вдруг поняла, что и вторая, бабушкина, версия про папу — «афганца» не выдерживает критики.
В доме не было ни оной фотографии героя.
Ни одной вещи, напоминавшей о нем.
Не было писем.
Семья не получала пенсии, которая — Лола интересовалась этим вопросом специально — полагалась если не матери, то уж, по крайней мере — ей, дочке.
Словом, аргументов накопилось достаточно и однажды, со всей беспощадностью детского максимализма, она потребовала ответа.
Бабушка пыталась что-то сказать, но мама остановили ее слабым движением руки.
— Да. Он не погиб. И вообще не воевал. Просто не захотел с нами жить. Или не смог. Можешь выбрать, что тебя больше устраивает.
— Но почему?
— Когда мы встретились, он уже был женат. А, когда родилась ты, стало ясно, что семью оставить не может.
— Почему?
— Тебе трудно будет понять. Это связано с его работой.
— А кем она работал?
— Начальником…. — мама неожиданно усмехнулась.
— Каким начальником?
— Большим.
Лола закатила истерику.
Первую настоящую истерику в своей жизни.
Она требовала, чтобы ей назвали имя отца, сказали, где он живет и кем работает, она хотела немедленно его увидеть или, по крайней мере, говорить с ним по телефону.
Бабушка со слезами суетилась вокруг.
Но мама была непреклонна.
— Тебе незачем знать о нем больше того, что я уже сказала. И ты не узнаешь.
— Он бросил тебя, бросил…. бросил… бросил…
— Можешь говорить, что угодно.
— Ты не имеешь права…. Я пойду….
— Куда, интересно знать? В милицию? Иди. Насмешишь людей.
Следующий год был трудным.
Лола и без того переживала переходный возраст, вдобавок к этому, она буквально «заболела» отцом.
Вполне возможно, впрочем, что в такую форму вылилась у нее пресловутая болезнь роста.
Скандалы она устраивала теперь довольно часто.
Любое замечание матери или ее отказ выполнить какую— ни— будь просьбу, немедленно оборачивались бурным объяснением со слезами, упреками и угрозами:
— Ты просто боишься, что я найду папу и уйду к нему…. Ты ненавидишь его за то, что он тебя бросил….. И все врешь про него…. Я не верю…
— Но, в таком случае, он и тебя бросил тоже
— Нет, меня он не бросил….
— И где же он?…..
— Ты меня прячешь…. Ты ему тоже врешь….. Я все равно узнаю….
— Узнавай.
Лола, действительно, периодически бралась за поиски.
Дом был перевернут вверх дном, пересмотрены все документы, перечитаны старые письма и открытки, изучены фотографии.
Следов отца не было нигде.
Единственное, чего она не могла себе позволить — мешала гордость, и жалко все-таки было мать — это расспрашивать родственников, соседей и немногочисленных материнских подруг.
Зато бабушку третировала нещадно.
Но та только плакала, и бесконечно повторяла:
— Зачем он тебе, Лолочка, он же отрекся от вас с мамой? Зачем же, деточка, унижаться? Разве тебе не хватает чего— ни— будь в жизни? Мы с мамой все делаем, чтобы тебе было хорошо…. И ничего для тебя не пожалеем… Зачем он нам, сдался, такой….?
— А почему он не платит нам алименты? — однажды спросила Лола. Мысли об отце в этот момент внезапно перескочили с эмоциональной волны на прагматическую.
— Что ты, деточка! Он хотел. Он предлагал нам любую материальную поддержку. И многое другое, можешь мне поверить….
— Что еще за «другое»?!…
— Карьеру мамину устроить. Предлагал — Большой или Мариинку… На выбор. И, квартиру, разумеется, сразу же….
— И что же она, отказалась?
— Разумеется, отказалась! И как можно было поступить иначе? Твоя мама — гордая женщина, и сильная…. Только — несчастная…..
Бабушка залилась слезами.
А Лола почувствовала, как в сердце впивается острая игла жалости, а после — словно кто-то ласково, но крепко взял его теплыми ладонями — сердце сжалось от нежной и бескрайней любви к матери.
И вины перед ней.
Переходный период, судя по всему, близился к завершению.
Отец, а вернее его бледная тень, еще раз возникла на горизонте в тот год, когда Лола заканчивала десятый класс.
Выбор профессии отчего-то давался ей очень сложно.
Глаза разбегались, и хотелось всего сразу.
Манили журналистика, археология, медицина и даже такие, редкие, по тем временам, профессии, как дизайнер и модельер.
На сцену, конечно, хотелось тоже, но в семье этот вариант всерьез не рассматривался никогда: по мнению бабушки — а уж на ее опыт можно было положиться! — актерским талантом Лола не блистала. А быть посредственной актрисой, много хуже, чем не быть актрисой вообще!
Выбор сделан был неожиданно и в самую последнюю минуту.
За полгода до выпускных экзаменов, Лола объявила дома, что собирается поступать — ни много, ни мало! — в институт кинематографии в Москве.
На режиссерский факультет.
Бабушка в ужасе заломила руки:
— Тебя провалят в первом туре! Одумайся. Ты не знаешь, что такое — провал. Это шок. Трагедия. Травма на всю оставшуюся жизнь.
— Не ври, бабуля. Ты сама рассказывала, как тебя освистали на гастролях в Саратове!
— Да, освистали! Но я была уже опытная актриса. С именем. Не прима, конечно, но играла весь репертуар, и все понимали, что — это не мой провал. Пьеса была — ни к черту! Освистали, если хочешь знать, драматурга. И все равно, я переживала страшно. Думала оставить сцену…. Богом клянусь!
— Не оставила же! Я тоже хочу попробовать силы….
— Что ж, пробуй…. Дерзать надо. Я, к сожалению, поняла это слишком поздно…
Мать согласилась неожиданно легко.
А бабушка заключила:
— Вы сумасшедшие — обе!
Однако ж, поздним вечером, когда Лола отправилась в ванную, именно бабушка завела разговор, который Лола подслушала нечаянно — выскочила голышом за пилочкой для ногтей.
Женщины на кухне этого не заметили.
— Единственный раз…. В такой решающий момент…. Ты обязана! В конце концов, речь идет не о тебе, и можно на время отложить принципы в сторону….
— Не знаю, мама. Не уверена, что смогу….
— Что там мочь?! Поднять телефонную трубку? Судьба девочки будет устроена, и я, наконец, умру спокойно….
— Оставь, пожалуйста! И потом, образование — это еще не судьба!
— Но половина судьбы! И подумай только — столица: выставки, театры, общество, наконец…. Ребенок попадет в другой мир. Неужели ты хочешь для нее своей судьбы — чахнуть и стариться в этом захолустье?!
— Нет. Не хочу.
— Дай мне слово! Слышишь, я требую! Дай слово, что позвонишь ему.
— Я попробую.
— Нет, не попробую, а позвоню. Скажи: «Мама я позвоню ему!»
— Мама, я позвоню ему.
— Завтра же!
— Хорошо, завтра. Но почему ты так уверена, что он вообще захочет со мной говорить?
— Ах, не лукавь, пожалуйста. Кокетство тебе уже не к лицу…. Захочет. Ни секунды не сомневаюсь. Еще как, захочет!
Стараясь не шуметь, Лола нырнула в остывшую ванну.
Ей было страшно и….. радостно.
— Госпожа желает чего — ни — будь? — стюард в белом кителе склонился над ее креслом в почтительном полупоклоне
«Желает. Госпожа желает удостовериться, что все происходит на самом деле. Но это желание вы вряд ли сможет исполнить»
Кампари — тоник, пожалуйста.
Он вернулся через минуту, неся на серебряном подносе запотевший стакан, наполненный ярко-розовым напитком.
Кубики льда тихо постукивали о стекло.
— Включить музыку или видео?
— Спасибо, не надо.
— Еще на минуту отвлеку вас, госпожа. Когда желаете обедать? И что предпочитаете — мясо, рыбу, дичь?
Рыбу, пожалуй
Осетрину, форель, стерлядь?
«Интересно, сколько продуктов они за собой таскают?»
— Осетрину.
— Простите, что занимаю ваше время, но мы еще не изучили вкусы госпожи. Жареную? Гриль? На пару? Какой гарнир?
— Жареную. Иовощи.
— Благодарю. Карту вин я принесу позже.
— Спасибо. Как Вас зовут?
— Руслан, госпожа. Я могу идти?
— Да, спасибо.
В глубоком кожаном кресле напротив лежал аккуратный кейс-атташе.
«Даже если все закончится, — подумала Лола, — его-то у меня не отнимут?
Пропади он пропадом, этот самолет с дрессированными стюардами и запасами провизии — на целый ресторан.
В этой черной коробочке — сто тысяч долларов.
На них вполне можно купить новую жизнь
Лола поставила «дипломат» рядом, так чтобы постоянно чувствовать его присутствие.
Сделано это было, скорее всего, подсознательно
Сумма, которой она реально владела сегодня, равнялась четырем миллиардами американских долларов.
Старик и женщина. Год 2000
Пришло время — и настала им пора прощаться.
Женщине нужно было возвращаться домой.
Старик оставался.
Но был уже сентябрь, и, значит, скоро — а именно: 15 октября — он тоже отбудет восвояси.
Как, впрочем, и всегда.
На протяжении многих лет.
— Мы никогда не увидимся больше — горькую фразу он произнес спокойно и даже буднично.
— Но, может быть….
— Нет. Я знаю наверняка. Да и вы, пожалуй, тоже. Зачем обманываться? Иллюзии — опасный недуг. И потом, я привык довольствоваться малым. Судьба по — разному, обходилась со мной за восемьдесят девять лет, но вот, напоследок, расщедрилась — подарила прекрасную встречу. И я — что же? — я рад. Теперь вот буду помнить вас все оставшиеся дни. И жить этой памятью. Совсем не плохой конец.
— Я тоже. Никогда не забуду вас. Вы меня спасли….
— Спаслись вы сами. И вот что. Если хотите сделать мне что— ни— будь приятное, запомните, пожалуйста, что я говорил вам по этому поводу. Душа, на то вам и дана, что бы вы — а не кто-то другой, будь то близкий человек или посторонний — берегли и заботились о ней. И потому, случись какая беда, спасти ее можете только вы сами. И Господь, разумеется. Более — никто.
— Я запомню. Все, что вы говорили мне, я запомню….
— Все, пожалуй, не нужно. Я, знаете ли, так радовался каждой нашей встрече, что становился непозволительно болтлив. Кое-что из этой старческой болтовни, вам лучше забыть.
— Я вряд ли смогу
— Не беспокойтесь об этом. Со временем все лишнее забудется само. И поверьте, вам так будет лучше…. А мне — спокойнее.
Они расстались поздним вечером на перроне маленького вокзала.
Густые лиловые сумерки еще хранили запахи лета, но уже отчетливо звучала в них сдержанная мелодия осени, и осенняя прохлада струилась вдоль длинного состава.
Сегодня это был последний поезд на Париж.
Когда он тронулся, женщина, последний раз крепко обняла старика.
— Вы сказали, что не будете писать, но все же — вот — пусть будет на всякий случай!
Она быстро вложила ему в руку визитную карточку — маленький прямоугольник из плотного картона, и сразу же исчезла в тамбуре, словно испугавшись, что он вздумает вернуть визитку обратно.
Гирлянда огней еще некоторое время струилась во тьме.
Но поезд уходил все дальше.
И скоро сумеречная пелена окончательно скрыла его от тех, кто остался на перроне.
Прошло пять лет, и однажды почта доставила ей увесистый плотный пакет, украшенный эмблемой знаменитого адвокатского дома.
Никак обнаружилась богатая тетушка в Бразилии? И оставила наследство — пошутила она, вскрывая пакет.
Но тетушки в Бразилии не обнаружилось.
«Дорогая госпожа… — обращались к ней известные адвокаты, а вернее одни из старших партнеров дома, чья подпись скрепляла документ. — С глубоким прискорбием извещаем вас о том, что….. числа….. месяца…. года, в городе…… штат…. США скончался…. профессор… д-р. Лев М. Штейнбах.
Согласно завещанию покойного, составленного…. направляем вам рукопись неоконченного литературного произведения… без названия…. на русском языке…. на…. страницах.
Согласно завещательной воле…. данное произведение передается вам безвозмездно…. без права публикации…. или тиражирования любым другим способом….
Примите еще раз….
С наилучшими пожеланиями.…»
Далее следовало еще одно письмо, написанное от руки и по-русски.
Сердце женщины тоскливо сжалось.
Почерк был ей знаком.
Открытка с видом старинного отеля в Нормандии, на обороте которой этим же почерком было написано всего несколько строк, три года бережно хранилась в ее бумагах.
Иногда, в минуты душевного ненастья, она перечитывала скупые строчки, хотя, разумеется, давно знала их наизусть.
И боль отступала.
Конечно, она, как никто другой, понимала, что это происходит вследствие обычного самовнушения, но все равно берегла открытку.
И перечитывала, когда на душе было особенно скверно.
Теперь у нее было еще одно его письмо.
Последнее.
Он писал:
«Дорогое дитя!
Должен теперь признать, извечная истина о том, что старость мудрее…, и так далее.….. — не вижу необходимости приводить ее полностью — была блестяще опровергнута вами в тот вечер, когда я провожал вас в Париж.
Вы едва ли не насильно вложили мне в руку вашу карточку с московским адресом, и промолвили, убегая: «На всякий случай!»
Теперь, похоже, этот случай наступил, и я признателен вам за тот внезапный душевный порыв, ибо, благодаря ему, могу теперь писать вам.
А мне представляется сейчас, что это важно.
Случилось так, что вы оказались единственной живой душой на всем белом свете — душой прекрасной: отзывчивой и чуткой — которая связывается меня с Россией.
Мне трудно описать словами то, что сделали вы для меня, какое замечательное чувство вернули моей душе.
Любовь к этой стране?
Чувство малой Родины?
Все — верно по сути, но слишком уж высокопарно, а менее всего хочется сейчас фанфар.
Скажу просто, теперь я внимательно и с большим волнением слежу за тем, что происходит в России, и многому радуюсь.
Кое-что, однако, вселяет в меня тревогу.
Что именно?
Ответить на этот вопрос, как ни странно, мне очень трудно, а, пожалуй, что и невозможно.
И не пытайтесь сами искать ответ.
Вы молоды, а молодость имеет склонность оперировать исключительно событиями дня сегодняшнего.
В данном случае это может привести к искаженным, ошибочным выводам, а мне бы этого не хотелось.
Простите, что выражаюсь так путано, но множество обязательств, данных мною за долгую жизнь людям, организациям и целым правительствам, но, главное — Создателю и самому себе, не позволяют объясниться откровенно.
Пришлось бы сообщить много того, о чем говорить я не вправе.
Долго и мучительно размышлял над этой проблемой, и не придумал ничего лучшего, как завещать вам некоторую часть своих записок.
Я начал писать это — никак не могу найти подходящего слова, ибо это — не роман, не повесть, не сказание, и уж — ни в коем случае! — не научный или исторический документ, потому называю просто записками.
Так вот, я начал писать их очень давно, сразу же после того как был заключен в цитадель «Анэнербе», которая, собственно, и навеяла образ рыцарского замка, но так и не дописал до конца.
Хотя возвращался на протяжении всей жизни.
Судьба записок теперь определена мною окончательно — они скоро отправятся в камин, который жгу в эти дни беспрестанно, потому что привожу в порядок свой архив, и большая часть его — увы! — должна быть предана огню.
Я тщательно выбирал те несколько страниц, которые доставят вам после моей смерти. Однако, не следует воспринимать все, что изложено там, буквально, равно, как и проводить прямые исторические параллели.
И все же…
Я завещаю вам именно эти страницы, хотя, возможно, несколько забегаю вперед.
Что делать!
Время мое истекает стремительно. Больше медлить нельзя.
Верю, что ваша душа найдет верное толкование. Хотя для этого ей придется изрядно потрудиться.
….
Прощайте, дорогая моя девочка.
Храни вас Бог!….»
Макеев. Медиа
Последние пять дней единственным его занятием была бесконечная схватка с компьютером, вернее с персонажами виртуальных игр — фашистами, затаившимися в мрачных лабиринтах подземного бункера, безобразными дикарями, прыгающими со скал и прочими кровожадными монстрами, которые хотели одного: его мучительной смерти.
Он же, в свою очередь, напротив, стремился уничтожить как можно больше мерзких тварей и добраться, преодолевая хитроумные препятствия до какой-то главной цели.
Глаза слезились от напряжения.
Фигурки двоились на экране монитора.
Но он яростно колотил окостеневшими пальцами по хрупким клавишам компьютера. Азарт был нечеловеческий, а вернее — ненормальный для взрослого человека.
Изредка он отвлекался для того, чтобы выпить кофе, который исправно готовила напуганная до смерти секретарша Аня.
Тихая, безответная Аня трепетала в ужасе, не понимая, что происходит с начальником, всегда таким собранным, привыкшим считать не то, что минуты, секунды даже.
Впрочем, трепетала и томилась неведением не только Аня.
Причины странной метаморфозы не понимал никто.
Попытки сотрудников, из числа самых приближенных, заговорить с ним или отвлечь каким-либо другим образом: например, просьбой посмотреть только что отснятый материал, пресекались резко. Он коротко отправлял посетителя по хорошо известному адресу.
В конце концов, они отстали.
Просто, затаясь, жили ожиданием и, на всякий случай, готовились к худшему.
Иногда им казалось, что практически он уже перебрался на жительство в тот, виртуальный мир, сохраняя иллюзию присутствия в этом мире лишь наличием в нем своей телесной оболочки.
Ему же чудилось другое.
Будто стоит только слегка поднажать, достигнуть высшего уровня в виртуальной иерархии, заполучить многочисленные тамошние сокровища, ожидающие победителя в кованых сундуках, хитроумных сейфах и потаенных пещерах, и невидимая дверь, за которой скрывается тайна, распахнется перед ним в настоящем, реальном мире.
Тогда-то, победителем, а не бледной тенью, человека, стоящего на пороге безумия, он вернется туда, воссоединится с телесной оболочкой, и привычной уверенной поступью двинется дальше.
Посмеиваясь над забавной коллизией, которая приключилась однажды на пустынном лунном шоссе, поздней ночью первого мая 2001 года.
Такая была иллюзия.
Проблема, однако, заключалась еще и в том, что жить иллюзиями он совершенно не умел.
Сергей Макеев был одним из самых молодых — а, пожалуй, что и самым молодым — независимым телевизионным продюсером, умудрившимся в двадцать два года получить на первом канале, государственного телевидения СССР эфирное время под собственную программу.
Задиристую и зубастую.
Тогдашнее телевизионное начальство, он взял штурмом, часами высиживая в высоких приемных на десятом этаже «Останкино», карауля телевизионных боссов на торжественных заседаниях в Кремлевском дворце и прочих державных мероприятиях, которые они посещали.
В ту пору он учился на последнем курсе факультета журналистки, подрабатывал сразу в нескольких газетах, и всегда «выбивал» себе аккредитации на массовые номенклатурные сборища, будь то открытие очередной сессии Верховного Совета СССР или торжественный концерт в ГЦКЗ («Россия», посвященный дню металлурга.
Провинциал, приехавший из северной глубинки, завоевывать Москву — разумеется, одним махом и всю без остатка — он был напорист, и абсолютно свободен от интеллигентских комплексов на тему «не удобно» или «не так поймут».
К тому же, обладал, по собственному выражению, водонепроницаемой, огнеупорной и пуленепробиваемой шкурой, которая, действительно, позволяла легко переживать весьма щекотливые моменты.
Он собственноручно накропал довольно нескладную, но исполненную пафоса бумагу, в которой убеждал всех, к кому она была обращена — а обращена она была к самому широкому кругу лиц: от секретарей ЦК ВЛКСМ до председателя Гостелерадио СССР — в необходимости создания яркой молодежной программы на первом канале.
Причем, создаваться передача должна была непременно руками самой же молодежи и под ее, молодежи, талантливым руководством.
В этом, собственно, и заключался весь новаторский пафос.
В конце концов, эфир ему дали.
Концепцию утвердили.
И позволили привести с собой группу старшекурсников для ее воплощения в жизнь, а вернее — на экран.
Правда, никто не знал, что произошло это небывалое по своему демократизму, событие, после того, как к шефу молодежной редакции, как-то вечером, и вроде бы случайно, на огонек, заглянул один из заместителей председателя Гостелерадио.
Человек тихий, неприметный, всегда безукоризненно вежливый.
Ни для кого не было секретом, что на телевидение он был откомандирован из другой, очень серьезной организации для осуществления постоянного ненавязчивого контроля, так сказать, изнутри.
Все знали так же, что не плечах вежливого зампреда невидимо присутствуют генеральские погоны.
Единственное, чего никто не знал точно, и что становилось предметом постоянных дискуссий: каким именно генералом был этот милый человек — генерал-майором или же генерал-лейтенантом.
В тот вечер, тихим, бесцветным голосом, ласково помаргивая круглыми веселыми глазками, он поделился с шефом «молодежки» своими соображениями по поводу нахального студента Сергея Макеева и его завиральной идеи.
Идея, как выяснилось, генералу импонировала.
Более того, предвосхищала то, что он со товарищи собирался предложить для внедрения на канале.
— Суть очень проста. — пояснил генерал. — Нужен гудок.
Обычный паровозный гудок, пронзительный и немного пугающий.
Но без паровоза. Однако, это поймут не сразу. Сначала будут слушать, пугаться, к тому же, будет выходить пар, что, как известно, время от времени, необходимо. Станут, замирая, ждать появления поезда, долго будут ждать — ведь гудок паровоза слышен издалека. Ну, как, ясна идея?
Шеф «молодежки» был толковым парнем, идею поймал на лету.
— И не беспокойся, старик, — заверил его на прощанье маленький генерал, — наверху — и у нас, и в ЦК я вопрос проговорил, добро получено. Но есть мнение, что лучше, если первым «сломаешься» ты. В смысле поддержишь этого… Макеева. Тебе это как-то сподручнее. Согласен?
Через неделю шеф «молодежки» в очередной раз атакованный неистовым Макеевым, обречено махнул рукой:
Подведешь ты меня под монастырь, но… черт с тобой. Давай бумагу — пойду по начальству! Только имей в виду, главное в нашем деле — умеренность.
Программа вышла в эфир через два месяца.
Никакой умеренности не было и в помине.
Запретные темы.
Отчаянно смелые журналистские расследования.
Молодые, до неприличия, оголтелые мальчишки и девчонки несли с экрана первого, самого державного телевизионного канала такое, что бывалые диссидентские волки просили своих суровых, прокуренных жен ущипнуть их побольнее.
Поверили все.
Раз в неделю, в 23 часа по московском времени страна припадала к телевизорам.
Передача, шла в прямом эфире и, следовательно, без купюр.
Таково было начало.
Оно, безусловно, было блестящим, но истинно звездный час ждал Сергея Макеева впереди — близился август 1991 года.
Утро девятнадцатого августа было солнечным, но прохладным.
Макеев, который был по — провинциальному прижимист, чтобы ездить на такси, и еще недостаточно богат, чтобы купить себе машину, в «Останкино» добирался на троллейбусе.
По утрам он периодически засыпал в тряском слоне, и к разговорам пассажиров не прислушивался. Иначе наверняка расслышал бы тревожный шепоток сограждан и дикое, применительно к собственной стране, словосочетание «государственный переворот».
Десантников, взявших в кольцо комплекс телецентра, Сергей увидел в окно троллейбуса, когда тот уже подошел к остановке.
В грудной клетке сразу разлился легкий холодок.
Это было верным признаком волнения, которое неизменно охватывало его в преддверии какого-то судьбоносного — как принято говорить — события.
Предчувствия редко обманывали, и теперь он вдруг, совершенно уверенно подумал: «Все. Меня ждут великие дела».
Впрочем, в тот миг ему показалось, что ничего такого он, Сергей Макеев вовсе не думал, и вещие слова произнес кто-то невидимый.
Громко, внятно и очень уверенно.
Он спрыгнул с подножки троллейбуса и, решительно двинулся прямо на людей в камуфляжной форме.
Никто, впрочем, остановить его и не пытался.
Только попросили показать удостоверение.
То же самое делали другие сотрудники телецентра, по одному просачиваясь сквозь оцепление.
Десантники были несколько растеряны.
Им было не очень понятно, что происходит в стране, и какова, собственно говоря, их задача: охранять телецентр или брать его штурмом.
Но в целом, настроены дружелюбно, и с любопытством вглядывались в телевизионщиков, высматривая знаменитые лица.
Макеева узнали.
Проходя сквозь камуфляжный строй, он услышал свою фамилию, повторенную сразу несколькими голосами.
В редакции царило полное смятение.
Большая половина сотрудников, несмотря на раннее время, была уже на местах, а в кабинете Главного сидело все руководство, к которому, собственно, относился и он, как руководитель программы.
Сизые клубы табачного дыма расстилались над головами.
Все пили кофе из пластиковых стаканчиков, причем, выпито было уже немало.
Пустые стаканы служили каждому индивидуальной пепельницей, но еще изрядное их количество стояло на столах, ручках кресел и прямо на полу.
Из этого следовало, что заседает форум достаточно долго.
Телевизор был настроен на канал CNN, по которому периодически сообщали новости из Москвы.
Новости пугали.
Разговор шел какой-то унылый и ползучий.
Одни говорили, что нужно выработать единое мнение редакции и довести его до народа, но непонятно было, как пробиться в эфир, где нескончаемо плескалось «Лебединое озеро».
Другие, напротив, не намерены были пороть горячку, и предлагали еще некоторое время понаблюдать за развитием событий, чтобы потом принять взвешенное решение.
Третьи предлагали немедленно собрать партийное собрание и всем, коллективно выйти из рядов КПСС.
Главный, тот самый толковый парень, который первым поддержал рискованную идею Макеева, в недавнем прошлом заведовал отделом ЦК ВЛКСМ, и, надо полагать, хорошо помнил старую аппаратную заповедь: мнение свое высказывать последним. Потому предпочел вовсе покинуть свою мятущуюся паству и обретался где-то в начальственных кабинетах десятого этажа.
На самом деле, все ждали именно его, надеясь на четкие ориентиры или, по крайней мере, свежие новости.
Впрочем, совершенно очевидно, что ждали, скорее всилу извечной национальной традиции: «Вот приедет барин…»
Барин, однако, в силу той же традиции, не ехал.
Макеев, между тем, всеми фибрами своей души чувствовал, что за стенами «Останкино» происходят события, от участия или неучастия в которых, зависит вся его дальнейшая судьба.
Предчувствия, и на сей раз, не обманули.
Разумеется, он не мог даже предположить в ту минуту, сколько человеческих судеб, карьер, и, собственно, жизней определит в ближайшем уже будущем это самое обстоятельство: участвовал или нет.
И если участвовал, то где, с кем и по какую сторону баррикад.
Его команда, разумеется, тоже была в полном сборе, обладала информацией намного большей, чем высокое собрание начальников, и рвалась в бой.
Бой, разумеется, ожидался «кровавый, святый и правый».
Все помнили, откуда эти исполненные высокого пафоса строки, но сейчас они оказались очень даже кстати.
Ничего странного в этом не было, потому что самыми заразными, как правило, оказываются стратегические и тактические болезни противников.
Песни — невинное начало.
Потом будут реминисценции пострашнее.
Но все это будет потом.
Пока же, разъяренная молодежь, требовала от него немедленного решения организационных вопросов, проще говоря, выбивания аппаратуры, машин, и разрешения на выезд съемочных групп.
Сегодня без такового на съемки не выпускали никого.
Что снимать, где и в каком ракурсе молодежь знала и без него.
Макеев сказал команде: «Брысь по лавку!» и помчался на десятый этаж искать Главного.
Тот пил кофе в приемной одного из зампредов, в компании его секретарши и еще двоих Главных, редакции которых, по всей вероятности, томились так же, как и «молодежка».
Впрочем, Главные, похоже, пребывали в том же состоянии и также трепетно ждали барина.
Телевизор был настроен на канал CNN.
Макеев сделал страшные глаза, и, сопровождаемый тревожными взглядами чужих боссов, вытащил своего в коридор.
Там он молча протянул ему заполненные бланки заявок.
Главный все понимал, но медлил.
— Послушай, мы сейчас дадим по сто долларов операторам и диспетчерской и уедем, как съемочная группа ИТА (Тебе будет легче?
— Легче мне уже не будет. Никогда.
Обречено сказал Главный и размашисто подписал бланки.
Причем, более размашисто, чем всегда, что указывало, надо полагать, на крайнюю степень решимости.
— Спасибо. Ты памятник себе воздвиг… — радостно сообщил ему Симонов и стремительно бросился прочь по длинному коридору, ведущему к лифту.
В спину ему прозвучали негромкие слова
— Но помни, Серега, если что, это — не редакционное задание.
Макеев не оборачиваясь, вскинул над головой сжатый кулак.
Жест, в принципе, мог означать, что угодно.
Впрочем, это уже не имело никакого значения, потому что скоро все окончательно смешалось в цитадели идеологии.
Все, разом опьянели.
И ошалевшие, вконец, милиционеры у дверей телецентра, почти не обращали внимания на наличие пропусков у восторженных людей, что шли теперь с баррикад.
Стражи порядка поступали так, скорее, подсознательно, но, как выяснилось позже, весьма дальновидно.
Большинство из тех, кто ринулся оповещать страну о своей сокрушительной победе, в скором времени окажется у руля этой самой, в конец запутанной, но все равно восторженной и — как всегда, по случаю — пьяной страны.
Через двое суток он вернулся в Останкино.
Но — Бог ты мой! — как мало сказано этой, в принципе, точной по содержанию фразой.
Впрочем, суть на то и существует порой, чтобы, кардинально отличаясь от видимого содержания, определять глубинный смысл и истинную ценность событий.
Через двое суток в Останкино вернулся вовсе не он.
Ибо пару дней назад, торопливо (пока — Боже упаси! — не передумал Главный) из длинного «правительственного» коридора на десятом этаже убежал другой человек.
Впрочем, тоже — Сергей Макеев, по странному стечению обстоятельств.
Преуспевающий телевизионный ведущий, могущий в отдаленном будущем при определенном стечении обстоятельств, стать кем-то или чем-то.
Вернулось же в стеклянную коробку знаменитого крематория, которую большинство, по неведению, считают телевизионным центром, существо совершенно иного порядка.
Имя ему было — Победитель.
Что касается «крематория», то это определение Макеев упорно приписывал себе, хотя находились отдельные личности, которые утверждали, что где-то, когда-то, от кого-то уже слышали или читали нечто подобное.
Возможно, это было и так, но свое определение Макеев, действительно, вывел сам, и заключалось оно в следующем.
Телевизионный эфир, по Сергею Макееву, был таким же сильнодействующим наркотиком, как любое психотропное средство, запрещенное к применению, но, несмотря на это, широко используемое.
Разумеется, с риском для жизни.
Странное ощущение, неизменно заползало в сознание каждого, кто хоть раз видел перед собой красный огонек над объективом камеры и слышал ритуальное заклинание «Мотор!».
Это было иллюзорное, и чаще всего обманчивое ощущение того, что в этот момент, тебе самозабвенно внемлет вся страна, а, быть может, и все просвещенное человечество.
Некоторым даже казалось, что их непременно видят те, кто бил в сопливого мальчишку детстве; унижал — тощего голодного студента; отвергал — соискателя руки и сердца и прочая… прочая… прочая….
Это было наслаждение, вполне сопоставимое с традиционным наркоманским «кайфом».
Привыкание происходило столь же быстро, а отлучение вызывало такую же, если не более жестокую «ломку».
Потому, однажды хлебнувшие этого голубого зелья, умные и некогда порядочные люди пускались во все тяжкие.
Пресмыкаться перед всякой мразью.
Предавали лучших друзей и выстраданные годами принципы.
Беззастенчиво лгали сами и заставляли лгать других
Все — ради одной-единственной, крохотной, эфирной дозы.
В этом смысле телецентр был, по разумению Сергея Макеева, подлинным крематорием.
Здесь дотла сгорали высокие помыслы и нравственные порывы.
И потому, вернувшись сюда Победителем, он, первым делом сделал все необходимое, чтобы надежно обеспечить себя голубым «зельем».
Потом — совершенно так же, как это происходит с людьми в наркобизнесе — он поймет, что подлинная ценность эфира заключается, отнюдь не в сладких иллюзиях.
Ими тешатся слабые, восторженные, истеричные натуры.
Он же познал подлинную стоимость эфира.
Деньги и власть.
И с той же убедительностью — в обратном порядке: власть и деньги.
Так, до бесконечности.
Вверх, по спирали, до заоблачных высот.
Пять дней назад ему казалось, что он достиг уже очень много.
Но оказалось, что все осталось на прежнем месте.
Он больше не мог претендовать на то, что управляет обстоятельствами
Ибо обстоятельства управляли им.
Самое ужасное, что это были даже не обстоятельства, а страшный фантом, сотканный из больных иллюзий.
Слуги мира. Рукопись старика
К письму прилагалось несколько страниц машинописного текста..
Пожелтевших от времени, и от времени же — хрупких.
Она читала их ночь напролет, успела перечесть множество раз, но всякий раз находила какой-то новый смысл и выстраивала новые аналогии.
Под утро, запутавшись окончательно, она решила отложить записки на некоторое время, чтобы вернуться к ним позже.
Возвращалась многократно.
И каждый раз открывала для себя нечто, чего не заметила накануне.
«…
…Мрачная черная скала возвышалась над холодным морем.
Она взметнулась ввысь, из бездонных глубин, несокрушимой твердью презрев власть могучих волн.
Было это в те далекие времена, когда нынешний облик планеты только проступал из хаоса, царившего всюду.
Долгие годы море боролось со скалой, швыряя в нее закипавшие гневом волны. Потому, наверное, часто случались в этих краях сильные штормы.
Заодно с морем был холодный северный ветер.
Яростно налетал он на гранитную грудь скалы, срывая с нее редкие, слабые побеги каких-то глупых растений, вздумавших зацепиться за камни.
Все было тщетно!
Пенные гребни волн, и злые порывы ветра разбивались о могучую глыбу.
Волны растекались по ней холодными злыми слезами, а униженный ветер выл, уныло и страшно.
Много позже, но тоже во времена очень давние, люди возвели на скале крепость.
С моря, она казался нерукотворным продолжением каменного исполина.
Чудилось, что мятежному духу скалы скучно стало бороться с морем, и решил он, неуемный в своей гордыне, потягаться с самим небом, протянув к нему каменные черные пальцы — высокие башни.
И был повержен.
Бесконечная высь небес не покорилась.
А кара их была страшной: воздетая из каменного чрева рука, навечно осталась на поверхности скалы.
И превратилась в непреступную крепость.
Небо над скалой с тех самых пор почти никогда не прояснялось.
Хмурое, грязно-серое, часто — грозовое, низвергающее бесконечный, унылый дождь или мокрый снег, оно лежало на крышах крепостных сооружений, словно свинцовый саван.
Прошли долгие годы, прежде чем люди, уставшие бесконечно воевать между собой, наконец, поделили землю и пришли к некоторому согласию.
Согласие это было, разумеется, очень хрупким, к тому же, регулярно нарушалось, но все же отпала необходимость содержать такое количество боевых крепостей.
Цитадель на скале превращена была в замок, переходящий от одного вельможи — к другому.
Однако, никто из них не желал почему-то оставаться хозяином мрачного сооружения, и, в конце концов, оно отошло иным владельцам.
Они собирались за высокими стенами крепости редко, и проводили там не более одной ночи.
Таковой оказалась ночь 20 октября 1894 года.
Таинственные хозяева замка собрались, как, впрочем, и всегда, в огромном рыцарском зале.
Высокие каменные своды его почернели от времени.
В тяжелых литых светильниках горели факелы, пронизывая сумрачное пространство мятущимися бликами огня.
Большой камин ярко пылал, жадно пожирая дрова.
Устремляясь вверх, могучее пламя грозно, по-звериному ревело.
Но и только.
Огромный зал пронизан был могильным холодом, и подернут мраком.
Впрочем, это, похоже, нимало не беспокоило тех, кто в безмолвии восседал за длинным черным столом, поверхность которого покрывал сложный орнамент. Древние письмена в его узоре сплетались с загадочными рисунками и символами.
Тринадцать кресел, как и стол, были черны, тяжелы, сплошь покрыты таинственной резьбой и, казались высеченными из камня.
Двенадцать из них были уже заняты.
Тринадцатое пока пустовало.
Казалось, что время не властно здесь.
Но пробил назначенный час.
Высоко, под сводами зала раздался низкий мелодичный звон.
Он медленно поплыл вниз, заполняя собой пространство.
Был это удар колокола?
Или пробили во тьме невидимые часы?
Послушные сигналу, на столе вспыхнули восемь свечей втяжелых серебряных подсвечниках.
О подсвечниках следует сказать особо.
Основанием каждому служили искусно отлитые фигуры людей, занятых разными делами.
Один неряшливо поглощал еду из большой миски.
Другой — жадно пил что-то из огромного кубка.
Третий стоял, вроде, без дела, но при этом, так горделиво подбоченясь и высокомерно вздернув подбородок, что было ясно — неизвестный скульптор отлил в серебре фигуру гордеца….
Словом, все это были великолепно исполненные уродцы, вид которых вызывал отвращение.
Мелодичный звон и внезапно вспыхнувшие свечи, сыграли, между тем, странную шутку: никто не заметил, как тринадцатое кресло, стоявшее во главе стола и более похожее на монарший трон, оказалось занятым.
В нем восседал теперь древний старец, бледный и хрупкий, в антрацитовых объятиях царственного кресла.
Волосы его отливали серебром, однако были густыми и длинными. Тяжелые пряди ниспадали на плечи старца.
Сам же он, на первый взгляд, казался кротким и почти лишенным сил.
Но — только на первый.
Вспыхнувшие свечи тоже заслуживали внимания.
Пламя их лишено было привычного тепла, и мягкого золотистого мерцания. Свет был ярким, холодным и напоминал ледяное сияние далеких в морозном небе.
Он без труда справился с темнотой, и теперь можно было разглядеть лица тех, кто сидел за столом.
Все это были мужчины, сильно отличавшиеся друг от друга.
Разными были оттенки их кожи, цвет волос, черты лица и разрез глаз.
Словом, это были представители разных племен и народов.
Одеты же, напротив, все были одинаково — в свободные платья из тяжелого черного шелка, отдаленно напоминающие сутаны.
Поверх сутаны на груди у каждого заметен был тяжелый медальон на толстой серебряной цепи. Медальоны имели несовершенную форму: края — неровны, поверхность — шероховата, выбитый на ней рисунок, очевидно, исполнен очень давно и не слишком искусной, а возможно — не очень опытной рукой. Все эти признаки явно указывали на то, что медальоны отлиты в глубокой древности. Возможно, задолго до той поры, когда в фундамент замка уложен был первый камень.
Поверх черного шелкового одеяния, на плечи каждого был наброшен тяжелый плащ того же матового струящегося шелка, с большим капюшоном, который при желании мог полностью скрыть лицо.
Сейчас капюшоны были отброшены, а некоторые, сбросили с себя плащи. Глубокие складки красиво драпировали спинки кресел.
Наконец, растворившись в полумраке, окончательно стих таинственный звон.
И лишь только, дрогнув последний раз, слабый отзвук его растворился в вечности, старец заговорил.
Голос его был неожиданно зычен и глубок.
Он сразу же заполнил собой все пространство сумрачного зала.
— Слуги мира! — произнес старец торжественно.
И, вздрогнув, замерли крохотные язычки странного пламени свечей.
Улеглись яростные волны живого огня в камине.
Казалось, не только те, кого назвал он слугами мира, внимали ему, затаив дыхание, но и весь мир покорно следовал их примеру.
Хотя логика диктовала, как раз, обратное.
Однако имена, по сути своей, великие обманщики.
Чем больше смирения заключают они в себе, тем вероятнее, что те, кто их носит, в действительности гордецы и властолюбцы.
Так, «слугами народа» называют себя хитрые и лукавые правители, единственное желание которых заключается в том, чтобы этим народом управлять.
Другие, громогласно объявляют себя слугами Божьими, но, тоже, порой, стремятся всего лишь к земной власти. Вдобавок, вершат именем Всевышнего, жестокий, неправедный суд.
— Да пребудет с нами Вечность! Ар — эх — ис — ос — ур…..
Немедленно отозвались присутствующие.
Было это заклинание?
Или первые слова неизвестной молитвы, вознесенной неведомо кому?
Странные звуки пронеслись над столом, как один долгий вздох.
Легкий и едва ощутимый.
Но слабое дыхание сотворило чудо.
Вздрогнуло и затрепетало зыбкое пространство вокруг, неуловимое движение его ощутил каждый.
Будто и вправду, Вечность сама, отозвавшись на зов, явилась под своды древнего замка.
Горина и Корсакова. Год 1996
Весна пришла в Москву в начале мая, но, погостив несколько дней, словно чего-то испугалась или обиделась на что-то — отступила.
И сразу же на столицу обрушились холодные затяжные дожди.
Город вмиг помрачнел и насупился.
Люди старались быстрее убраться с мокрых улиц, а, если позволяли обстоятельства, и вовсе не выходили из дома.
Метрдотеля известного столичного ресторана весьма озадачило пожелание постоянной клиентки, позвонившей, чтобы заказать столик.
Дама была государственным чиновником высокого ранга и, посещая ресторан с друзьями и деловыми партнерами, всегда предпочитала уединение.
Для таких случаев здесь имелось несколько уютных кабинетов.
Правда, они никогда не пустовали.
Но это была совершенно особая клиентка — для нее место нашлось бы при любом стечении обстоятельств.
Однако, сегодня она предпочла открытую террасу, и это было странно.
Во-первых, терраса была у всех на виду.
Во-вторых — в такую погоду сидеть там было, по меньшей мере, неуютно, да и просто — холодно.
Странным было еще и то, что правительственная дама позвонила сама — обычно это делали сотрудники ее секретариата — и сделала заказ довольно поздно.
Собиралась появиться уже через двадцать минут.
Впрочем, в хороших ресторанах желания клиентов не подлежат обсуждению.
Столик на двоих был сервирован точно в срок.
Теперь они сидели на террасе, по которой гулял сырой, пронзительный ветер и обе одинаково зябко втягивали головы в плечи.
Две женщины, примерно одного возраста, еще довольно молодые, и чем-то даже неуловимо похожие.
«Может, сестры? — мельком подумал метрдотель, церемонно встретивший дам у входа — И что бы тогда не сесть в зале, если уж захотелось публичности?»
Далее размышлять на эту тему он стал.
Принял заказ.
Произнес несколько положенных фраз.
И неспешно удалился.
— И что это за новые фантазии: мерзнуть на сквозняке?
— Прости. Хочешь, я скажу, чтобы из машины принесли мой плащ? Он теплый.
— У меня свой есть. Не надо. Сейчас выпью аперитив и согреюсь. У тебя, наверное, есть причины, сидеть именно здесь?
— Да. Обычно я заказываю кабинет. И не только я. Там вполне могут писать. И даже наверняка — пишут.
— А ты собираешься выдать мне пару-тройку государственных секретов?
— Очень может быть.
— Ого! А то, что мы с тобой, то есть ты — государственный деятель, и я — известный (извини, за нескромность!) психолог трапезничаем у всех на виду, это ничего?
— Это, как раз, хорошо. То, что я лечилась…
— Консультировалась.
— Хорошо, консультировалась у тебя — секрет Полишинеля. По крайней мере, те, кому следует, об этом знают. Им будет понятно, зачем я потащила тебя мерзнуть на сквозняке. Затем и потащила, чтобы они не записали. Мало ли какие у меня личные проблемы?
— Ох, батюшки светы, как у вас там все запущено. А мы действительно будем говорить о… чем-то таком? В смысле, не о твоих личных проблемах?
— Это — с какой стороны смотреть! Я расскажу по порядку. Но прежде, ты мне вот что скажи, у меня хорошая логика?
— Железная. Но ты, вроде бы, никогда в этом не сомневалась. Что-то случилось?
— Случилось. А насчет логики, я и сейчас не сомневаюсь. Просто так спросила, для затравки.
— По-моему, прелюдия затянулась. По телефону ты сказала, что консультация тебе не нужна, у нас — просто дружеская встреча.
— И еще мне нужен совет.
— Да, нужен совет. Вот и переходи к делу.
— Перехожу. То, чем мы с тобой занимались, никаким образом не могло ему навредить?
— Боже, праведный! Снова — он?!
— Нет — нет, это не рецидив, даже не думай! Я все объясню, но прежде — ответь!
— А что ты, собственно, имеешь в виду, под словом «навредить»?
— Сказаться на его психическом состоянии, вогнать в депрессию, довести…
— До самоубийства? Договаривай, чего уж там.
— Да, в конечном итоге.
— Возвращаю реплику — как посмотреть. Мы работали с тобой, и только с тобой. Прорабатывали твоипроблемы. Ничего другого, собственно, мы и не могли. И в этом смысле, твой вопрос, извини, абсурден. Теперь посмотрим с другой стороны. В результате этой работы ты изменилась, решила свои проблемы, и, в том числе — освободилась от зависимости. Зависимости от него. Мог он это почувствовать, даже не видясь с тобой? Разумеется! Ты — человек публичный, светский, о тебе пишут, тебя любят телевизионщики. И, наконец, у вас есть общие знакомые, которые могли что-то рассказывать. Мог он, на основе этой информации, понять, что ты стала другой, и влиять на тебя больше не сможет? Конечно! И, наверняка, понял. Человек был тонкий, спору нет. Интуитивный. Каким образом это сказалось на его психическом состоянии? Не знаю. Хотя с большой долей вероятности могу предположить. Ну и что? Что ты сейчас вбила себе в голову? Он застрелился, потому, что ты не сошла с ума, и вообще — осталась жива?! И зажила своей жизнью? Но если так — прости, Господи, мою душу грешную! — туда ему и дорога.
— Все?
— Все!
— И с кем ты сейчас полемизировала?
— Ни с кем. Я отвечала на твой вопрос. Удовлетворена?
— Вполне. Только ни о чем таком я не спрашивала. Вернее, имела в виду нечто совершенно иное.
— И что же?
— Прочти, пожалуйста, вот это. Потом продолжим.
Женщина достала из сумки узкий конверт, протянула через стол.
Некоторое время обе молчали.
Известный московский психолог Елена Павловна Корсакова внимательно читала.
Не менее известный московский политик Елена Владимировна Горина задумчиво смотрела на серую поверхность реки, подернутую рябью дождя.
К еде не притрагивалась ни та, ни другая.
— Как это попало к тебе?
— Банально. Позвонил Артем — ты знаешь, мы иногда видимся — сказал, что мать, наконец, убралась в свою деревню. Ну, не смотри так! Знаю — знаю, злословить нехорошо. Хорошо, не в деревню, в город. На родину, одним словом. Оставила им с Дашкой квартиру. Стали двигать мебель. И вот — откуда-то выпал конверт.
— Там дата.
— Да, 14 апреля. Застрелился он 15, если ты это имеешь в виду.
— Полный бред!
— Ты тоже так считаешь?
— Тут и считать нечего.
— Но скажи, все же, в принципе, теоретически это могло случиться?
— Случиться — что?
— За сутки, одни только сутки, а, быть может и того меньше, потому что обычно он писал ночами…. А застрелился утром. То есть, получается, написал письмо — и застрелился?! И вот я спрашиваю: возможно, чтобы в душе человека за несколько часов все так страшно перевернулось? Что должно было для этого произойти? Какая трагедия? Можешь ты мне сказать?
— В принципе и теоретически — могу. Возможно. Но в этом, конкретном случае, по крайней мере, исходя из того, что мне о нем известно…. Не знаю. Боюсь что-либо утверждать…. Но….
Маловероятно? Да?
Да, маловероятно. Если, разумеется, не произошло что-то из ряда вон выходящее…
Ничего из ряда вон выходящего в этот день, и вообще, в эти дни не происходило.
Тебе это откуда известно?
Оттуда. Извини. Сейчас объясню. Я ведь не случайно спрашивала, про логику. Письмо у меня уже несколько дней. Неделю, если быть точной. И всю эту неделю, денно и нощно, я мучительно пытаюсь анализировать. Ищу логику. Но не только логику. Думаю, ты понимаешь, что после такой скандальной отставки, глаз с него не спускали? Иными словами, был он под колпаком. И это был такой колпак! Не то, что муха — Дух Святой — не пролетит без ведома инстанций! А в инстанциях такие же бюрократы, как всюду. Шагнул — бумажка, вздохнул — бумажка… Словом, есть у меня там хороший приятель, он все эти бумажки добросовестно перелопатил. И дополнительно к бумажкам справки навел. Ему не сложно — большой чин. Генерал. И вот со всей своей генеральской ответственность он меня заверил — не было у Георгия ничего такого, что могло бы настолько выбить его из колеи! Все — с точностью до наоборот. Совершенно, как в письме. Подъем, возрождение, возвращение к жизни…
— Что ж, допустим. Хотя на генеральскую ответственность я бы полагаться не стала.
— Лена! Все, что я тебе говорю — абсолютно достоверные факты. Каждый — слышишь, каждый! — я проверила многократно. Как — не спрашивай! Все равно, не скажу. Просто, поверь на слово. И в том, что письмо написано им, а не кем-то другим, и в том, что написано оно именно 14 апреля, кстати, тоже удостоверилась.
— Хорошо. И все это позволяет тебе сделать вывод о том, что его убили. Так? Если человек пребывал в таком состоянии, что самоубийство практически исключается, но при этом, он мертв, и все считают, что он покончил жизнь самоубийством, значит — его убили.
— Да. Его убили.
— Хорошо. То есть, ужасно, конечно. Но что из этого следует? Сама посуди! Бурная политическая карьера, стремительный взлет, потом — скандальная отставка…. Потом — вдруг! — всплеск новых сил, второе дыхание, и, значит — возможно! — возвращение на прежнюю орбиту….. Разве этого не достаточно, чтобы кто-то захотел его смерти?
— Достаточно и сотой доли того…. Теоретически….
— То есть?
— Ты никогда не задумывалась, благодаря чему моя карьера сложилась так успешно?
— Я полагаю, были…. м — м…. разные факторы.
— Фу! Пошлость тебе не идет. Хотя, ты права, это тоже было. Как женщине без этого? Но я имела в виду профессиональный фактор.
— Ты хороший юрист.
— Хороших юристов много. В лучшем случае, защищают маститых жуликов, в худшем — заверяют доверенности в нотариальных конторах.
— Удача, разумеется….
— Это уж из области нематериального….
— Сдаюсь.
— Долгое время основной моей задачей было отнюдь не написание законов, и не правовая экспертиза, как считают многие. Более всего мне приходилось анализировать.
— Что анализировать?
— Все. Финансовые рынки. Расклад сил в парламенте, правительстве, администрации. Биографии. Ситуации в регионах. И потом предлагать варианты решения. Впрочем, варианты — это роскошь. Чаще требовали один-единственный вариант. Правильный, как ты понимаешь. Это потом появились специально обученные аналитики, отделы, управления и целые институты. Вернее, привлекать их стали потом. Поначалу, приходилось, как в кружке «умелые руки», все делать самим. Вот я и делала. Работа была сродни саперской. Ошибиться можно было только один раз.
— И что же, ты никогда не ошибалась?
— Ошибалась, конечно. Про саперов, это я так — для красного словца. Но — редко. Очень редко.
— И сейчас снова взялась за старое?
— Да. Именно так — за старое. Я стала анализировать.
— И?
— И пришла к довольно странному выводу. В его смерти, или, по крайней мере, в том, чтобы навсегда исчез с горизонта, по-настоящему, всерьез был заинтересован один-единственный человек.
— И этот человек — ты?
— Да. Помнишь, в те дни, когда мне было плохо, мы как-то говорили с тобой на эту тему?
— Помню. Его возвращение могло резко затормозить твой взлет.
— Или остановить его вовсе. Что более вероятно.
— Но ты этого не делала.
— Нет.
— Значит, это сделал кто — то другой, и все тут!
— Мог быть другой. Или другие. Какие-то неизвестные, но очень преданные мне друзья, которые, к тому же, подслушали наш с тобой разговор. Или знали меня, лучше, чем я сама. Как в старом анекдоте. Мальчик говорит папе: «Писать хочу!» А тот ему: «Папа лучше знает, чего ты хочешь!» Но у меня такого папы нет! И друзей таких нет! И никогда не было, понимаешь?…. Ну! Что ты молчишь?!
— Думаю…. Как ты сказала: неизвестные друзья?
— Да. Ангелы — хранители.
— Ангелы — хранители? Или просто — Хранители? Похоже, правда?
— На что похоже?
— Пока не знаю.
— Лен, ты в порядке?
— Да, все нормально. Только мне нужно немного подумать. Вертится какая-то мысль в голове, но в руки не дается. Так бывает.
— Бывает, я знаю…..
Метрдотель, провожал их до дверей ресторана.
Он был сильно озабочен.
— Что-то не так, сударыни? Вы почти ничего не ели….
— Спасибо. Все хорошо. Мы просто заговорились….
За двоих ответила одна из женщин.
Но он, похоже, не слишком ей поверил.
Слуги мира. Рукопись старика
«… Старец, между тем, продолжал.
Великий день, предрешенный нами, настал.
Тот, чья десница долгие годы сдерживала наши порывы, кто десятилетия стоял на нашем пути, ужасный в своей дикарской мощи, сегодня покидает подлунный мир.
Страдания его страшны.
Я говорю сейчас не о телесных муках, которые терзают его полоть. Дикарская мощь страшного исполина никогда не страшилась боли.
Но имею в виду нечто совершенно иное.
Слуги мира!
Сегодня нам удалось донести до его варварского сознания картины хаоса и смуты, которые очень сокрушат его державу.
Он увидел, что произойдет с нею.
Узнал, что виновны в этом будут самые близкие ему люди.
Это знание выжгло дотла грубую душу.
Он долго еще не обретет покоя, и даже тот, кто объявил себя Царем мира и Вечным Судьею не скоро сможет даровать ему забвение в Царствии своем.
Значит ли это что душа Варвара отойдет тому, кто правит во мраке?
Ты задал праздный вопрос, Аум! Ответ известен вам, Слуги Мира.
Мы вечно противостоим им обоим, стремясь сохранить Священное Равновесие.
Так кто же более опасен и нежелателен нам тогда? — спросил самый молодой их двенадцати — Тот, кто железной рукой удержит чашу весов в состоянии Священного Равновесия и покоя или тот, кто раскачает ее, преступно расплескивая драгоценные капли Вечности? Отчего же мы, торжествуем смерть Варвара, предвидя впереди потерю равновесия, хаос и кровь?
Да, почему? Хранитель, младший слуга Одкрафт спросил то, что было и на моих устах — раздался еще один голос
Почему?… Почему?… Почему… — эхом пронеслось по залу.
Старец предостерегающе поднял руку.
— Я услышал ваш вопрос, Слуги мира.
Он, не лишен оснований.
Однако, в нем отсутствует глубина, что не делает чести задавшим.
Стыдитесь, ибо, задавая его, вы нарушаете одну из главных наших заповедей.
Она предписывает нам всегда предвидеть подлинные итоги событий.
И помнить, что иногда они могут быть далеко отнесены во времени
Однако, что есть время, если наверняка известен итог?
Есть истина в словах тех, кто утверждает, что умирающий Варвар, сдерживал своей железной волей хаос, в который немедленно и на долгие годы погрузиться огромная страна после его смерти.
Проходящая истина!
Вечная же — а значит, подлинная, заключается в другом.
Железной рукою он вел свою отсталую, варварскую страну к небывалому взлету.
Он направлял ее к источникам, где черпала она огромные силы, которые множила потом с небывалой скоростью, ибо народ ее приучен к тяжелому труду.
Неприхотлив, и не требует за свой труд многого.
Кроме того, мощью, хитростью, а также страхом, который внушал земным правителям, он исключил возможность войн и выиграл драгоценное время.
И последнее.
С незапамятных времен страшной бедой, разъедающей эту огромную страну изнутри,
была вражда между населявшими ее людьми.
Неимущие поднимались против имущих.
Имущие же, ненавидя друг друга, использовали ненависть черни в своих целях, направляя ее поток в нужное русло.
Так было всегда.
Но Варвар сумел пресечь эту возню, заставив вельмож трепетать от одной только мысли о неповиновении.
Оно каралось немедленно и жестоко.
Лживость, лень, чванство, нерадивость, казнокрадство — вот пороки,
издревле разъедающие души тех, кто вершил власть в этой стране.
Он корчевал их безжалостно, как крестьянин корчует сорняки на своем огороде.
И пощады не знали даже те, с кем связывали Варвара кровные узы.
Подстрекатели трусливы.
При нем они не смели продолжать свое привычное занятие:
будоражить непросвещенный народ.
Народ не роптал, и, напротив, лишенный отравляющих душу проповедей, становился спокоен.
Каким же мог бы оказаться итог, останься Варвар у власти еще некоторое время?
Огромная страна гигантскими — как и все в ней! — шагами двинулась вперед, оставляя позади прочие великие державы.
Что ж далее?
Священное Равновесие оказалось бы под угрозой.
Сдержать шагающего исполина даже нам, Слуги Мира, было бы уже не под силу.
Так что же — спрашиваю я вас? — должны мы выбрать теперь?!
Сто с лишним лет хаоса и смуты в одной, огромной, но обособленной от мира стране?
Или тот же хаос во вселенском масштабе?
Можем ли мы допустить, чтобы варварская страна воцарилась над миром?
Разве не приведет это к войнам и иному противостоянию, что противно Священному равновесию?
Вопрос старца повис в полумраке зала.
Никто не ответил ему.
Но это было молчание единомышленников.….
Макеев. Медиа
На исходе пятого дня произошло событие, которое неожиданно сильно встряхнуло его, и вывело из оцепенения.
Поздним вечером, почти ночью он вышел из «Останкино», совершенно отупевший от бесконечной виртуальной бойни, не слишком отдавая отчет в том, куда и зачем сейчас направится, что будет делать завтра, да и вообще — кто он такой, на самом деле, и в каком измерении прибывает.
Со стороны, впрочем, это было совсем незаметно.
Он казался немного уставшим, и — от того — рассеянным, но это было в порядке вещей.
На самом деле, все, что делал сейчас Сергей Макеев, ничуть не затрагивало его сознания.
Тело по привычке выполняло серию заученных движений
Не более того.
Он автоматически запер свой кабинет.
Вызвал лифт.
Нажал кнопку первого этажа.
Пересек стеклянный холл.
Простился с дежурным милиционером и даже пожелал ему «удачной смены».
Неспешно дошел до стоянки.
Сел в свою машину.
Повернул ключ в замке зажигания, не забыв, при этом, включить фары.
Аккуратно вырулил на проезжую часть….
Все — как всегда.
Дорога была свободна, и только впереди, на некотором расстоянии лениво полз пустой троллейбус.
Однако и он, скоро замедлил ход, и, причалив к тротуару, замер возле остановки.
Поравнявшись с троллейбусом, Макеев притормозил.
Машинально.
В силу многолетней и привычки и водительского опыта, который подсказывал, что легкомысленные пассажиры, выпрыгнув с передней площадки, немедленно выскакивают на мостовую.
Водители порой замечают их слишком поздно, и затормозить не успевают.
Он тормозил на всякий случай.
И, как выяснилось, не напрасно.
Щуплая мужская фигура метнулась из-за троллейбуса, но, оказавшись в полосе яркого света фар приближающейся машины, отпрыгнула обратно.
Однако в этот момент троллейбус тоже вздумал тронуться с места.
Юркий мужичок снова выскочил на мостовую.
И снова отпрыгнул.
«Как заяц — отстранено подумал Макеев, которому довелось однажды несколько километров гнать очумевшего зайца по тихой проселочной дороге. Заяц выбивался из сил, но, завороженный иллюзорной границей света и тьмы, свернуть в сторону не мог.
Впрочем, мелкий мужичонка метался напрасно.
Расстояние между ним и машиной было достаточно велико, к тому же, нога водителя плавно отжимала педаль тормоза.
Машина ощутимо сбавляла ход.
Но в этот момент произошло нечто.
В конечном итоге, оно сослужило Сергею Макееву добрую службу.
Но это случилось потом.
В тот момент, в сознании его произошло чудовищный сбой.
Виртуальный мир неожиданно ворвался в него, или, напротив, вырвался из глубин подсознания, но как бы там ни было, он полностью заслонил собою мир реальный.
Не было больше сонной улицы Королева.
Ленивого троллейбуса.
Напуганного пассажира.
Вместо них за лобовым стеклом машины развернулось мерцающее поле сражения. Сергей Макеев снова вступил с борьбу с жестокими монстрами, один из которых, приседая и юля, пытался сейчас уйти от погони.
Но обмануть виртуального Макеева было не так-то просто.
Он хорошо знал, что бегство противника — не капитуляция, а всего лишь ловкий трюк. Добежав до первого укрытия, он затаится, и как только, разгоряченный погоней Макеев, потеряет бдительность, нанесет смертельный удар.
«Game over!» — ехидно сообщит невидимый рефери.
И заветный ключ, в который уже раз, выскользнет из рук.
Нет, противника следовало догнать и уничтожить.
Нога немедленно перескочила с одной педали на другую.
С тормоза — на газ.
Остановившаяся было машина, прыгнула вперед, стремительно настигая жертву.
Мужик отчаянно метнулся влево и чудом выскользнул из— под колес.
Макеев резко крутанул руль.
Послушная машина выполнила маневр, настигая жертву.
Обезумевший пешеход, теперь уж точно был похож на зайца. Вместо того, чтобы бежать дальше, в сторону спасительного газона, разделяющим потоки движения, он ринулся назад.
Макеев дернул руль вправо.
При этом он не убирал ногу с педали газа.
На счастье, случилось то, что, в принципе, должно было произойти.
Машину закрутило на асфальте.
Макееву она больше не подчинялась.
По инерции он отчаянно цеплялся за руль, и даже пытался тормозить, но могучая сила вертела тяжелый «Мерседес» как пылинку.
Где-то сбоку надрывно трубил троллейбус.
Сергею повезло.
Наигравшись вдоволь, злой дух аварий швырнул машину на широкий газон, раздробив о высокий бордюр фары и искорежив бампер.
Везло ему и дальше.
Троллейбус — от греха подальше — торопливо убрался с места аварии.
Несчастного пассажира — как ветром сдуло.
Макеев сам позвонил в ГИБДД и легко объяснился с прибывшими инспекторами. Ситуация, и вправду, казалось ясной: человек неожиданно выскочил из-за троллейбуса — машина резко тормозила….
— Давят их, козлов, давят — и все без толку! — сочувственно заключил инспектор, выписывая справку.
Он тоже был в звании майора, и тоже носил усы.
Макеевым овладело странное чувство ирреальности происходящего, пережитое на лунной трассе пять дней назад.
Но быстро прошло.
Сознание работало ясно и четко.
Никакой мистики.
Никакого наваждения.
Дожидаясь машину техобслуживания, Сергей Макеев прогуливался по тротуару, курил и думал.
«Сейчас — да! — это было минутное помешательство.
Вполне объяснимое.
И хватит об этом.
Все игрушки из компьютера, завтра же — стереть к чертовой матери! И забыть, как страшный сон.
Теперь — авария. Та, настоящая.
Я — не псих.
Был трезв, как стеклышко.
Значит, все произошло на самом деле.
Галлюцинации исключаются.
К тому же, трава была примята, на машине — царапины, и — туфля!
Да, главное туфля.
Это же не фантом.
Она сейчас лежит в моем сейфе. Можно подняться в кабинет, открыть сейф и ее потрогать.
Но не нужно.
Потому что это — снова будет лирика.
Психоз.
Зачем ее сейчас трогать, если я и без того уверен, что она есть?!
Все, проехали.
Дальше.
Что в этой истории самое странное? Или страшное? — То, что тело исчезло.
Как это могло произойти, если отбросить мистику? А мистику я отбрасываю. Хватит, домистифицировался!
Итак, варианты. Их всего два.
Первый — я ошибся, она была жива, и, очнувшись, ушла сама.
Самое вероятное.
Хотя я почти уверен, что не ошибся.
Значит, второй — я не ошибся, она была мертва.
И….
И — что же?
А ничего. Вернее только одно — труп кто-то убрал. Но — кто этот безвестный благодетель? Изачем ему понадобилось скрывать следы моего преступления?
Стоп!
А почему, собственно, моего?…
В этом же, собственно, и заключается главное противоречие, которое заводит в тупик.
А что если, это было его — или их — преступление?
Но ведь сбил ее я. И ясно это помню — видел лицо, ощутил удар.
Однако, вопрос, а была ли она жива, когда я ее сбил?
Швырнуть безжизненное тело под колеса летящей машины…. А что? Это…. Это неплохой вариант скрыть преступление.
Но зачем тогда понадобилось убирать труп? — Нелогично.
А может, дело в том, что поначалу я уехал?
То есть — сбежал?
Они ведь не могли предположить, что через некоторое время я одумаюсь, и разбужу майора?
Ну и что?
Сбежал — еще лучше.
Все равно, есть тело, есть следы торможения — словом все составляющие аварии налицо.
И значит — их план удался.
Нет, это не годится.
А может, не было никакого трупа, и под колеса мне выбросили живую женщину? Или вытолкнули. Это возможно, она ведь действительно, возникла как-то…. странно.
Но — опять же! — зачем потом спрятали труп?
Не складывается.
Наплевать!
В любом случае, всему этому должно быть какое-то объяснение.
И оно есть.
А значит, я должен и могу его найти.
Причем, чем быстрее, тем — лучше
Он готов был размышлять и дальше, но, помигивая желтым маячком, прикатила, наконец, ремонтная машина.
И он решил, что продолжит завтра.
Слуги мира. Рукопись старика
«…
Что ж! — удовлетворенно продолжал старец, окидывая пронзительным взглядом молчаливых соратников. —
Теперь мы должны поговорить о делах насущных.
Тех, что определят развитие событий на ближайшие десятилетия, короткий отрезок Вечности, который сулит многие труды и хлопоты.
Младший слуга Ордкрафт, сегодня поведает нам, все ли осталось неизменным в расположении звезд, определяющих отчасти судьбу человека, который займет место Варвара, с той минуты, как выбор наш пал на него. Что нового поведали тебе твои слуги, наблюдающие за небом?
— Хранитель, в его звездной карте все неизменно Волнения вселенной, смещения планет и звезд, как и рассчитано нами не задевает ее.
Солнце в неблагоприятном положении, под углом под углом 27*12», на линии между звездой Алгол и Плеядами, что неизменно предвещает страдания и насильственную смерть.
— Плеяды — плачущие сестры, — задумчиво и с некоторой даже грустью заметил Старец
— Да, сестры, обречены на слезы, но, им все же дарована жизнь. Мне продолжать?
— Только самое главное
— Основные горизонтальные линии натальной карты держат его пленником жесткой системы, из которой он не сможет освободиться, несмотря на отчаянные усилия.
Взаиморасположение Луны, Юпитера, Нептуна и Марса по-прежнему обрекают его на постоянную внутреннюю борьбу, однако господствующую над ним силу он ошибочно принимает за судьбу.
Глупец!
Венера в напряжении с Ураном — постоянное противостояние революционном событиям.
Сатурн почти скрыт в 3– й обители, в оппозиции с Меркурием — он принимает законодательные решения вопреки желаниям общества.
Уран и Венера в 2– й обители — не признается как авторитет.
Безотчетное ощущение подчиненности.
— Достаточно, Ордкрафт!
Скажи только, нет ли других, возможных вариантов его судьбы, возникших вследствие движения планет и звездных бурь?
— Только один, Хранитель.
Насильственная смерть по-прежнему ждет его между 50– м и 54– м годами жизни, но есть слабая надежда, что если он доживет до 63 лет, то сможет осуществить все, что намеревался. Очень слабая надежда.
— Ее нет.
— Тогда, это все.
— Слуги досточтимого Орддкрафта, наблюдавшие за звездами, ошиблись. Как всегда, ошиблись, Хранитель — подал голос еще одни из участников ночного совета.
Он говорил хрипло, короткими отрывистыми фразами, напоминавшими карканье гигантского ворона.
Он и был похож на ворона.
Угрюмо ссутулившийся, худой.
Глаза его были черны и бездонны.
Иссини черные волосы спадали на высокий лоб.
Черный шелк платья струился вдоль его тела, как одеяние из черных перьев.
Он продолжал:
— Наследник непременно дожил бы до 63 лет, снискав себе редкую в своей семье славу добропорядочного христианина, трепетного, до старости, мужа и нежного отца.
Если бы не одного обстоятельство.
Следуя Вашей же, Слуги Мира, воле он стал Наследником, хотя задолго до его рождения было ясно — ноша непосильна.
Этот смертный не создан был для власти, тем более — такой безграничной, на которую вы его обрекли.
Он слишком мягок, нерешителен, зависим от воли окружающих.
Так нет же!
Вы сделали все, чтобы расчистить ему дорогу к трону.
И начали с того, что обрекли на смерть цесаревича Николая, того, который должен был взойти на трон, вместо Александра. Варвара, как называете его вы!
И воля ваша свершилась!
Невеста покойного цесаревича вышла замуж за его младшего брата — вот прекрасный пример женской верности! — и произвела на свет того, кто станет последним, несчастным царем огромной страны.
Что ж, ликуйте, Слуги Мира!
Я поздравляю вас!
И благодарю.
Моему повелителю вы сделали бесценный подарок.
— Хочу напомнить тебе, Посланец. Вы оба, ты и Противостоящий тебе, за этим столом можете только слушать и наблюдать, с тем, чтобы происходящее здесь стало известно Пославшим вас.
Ибо нам нечего скрывать от них — Вечно Противостоящих.
Однако ни у одного из вас нет права голоса: вы не равны нам, Слугам Мира!
В голосе Старца снова прозвучали раскаты грома.
Но тот, кто так похож был на ворона, рассмеялся.
И смех его, громкий, сухой и отрывистый вспорхнул под своды зала, растревожив неподвижность пространства:
— Просто тебе не очень приятно вспоминать об этом, Хранитель, — прохрипел он, отсмеявшись. — Сдается мне, Слуги Мира, что этим решением вы, скорее, качнули Маятник, вместо того, чтобы сохранять его неподвижность.
— Возможно, ты и прав, Посланец, — быстро парировал старец. — Но говорю тебе, и всем говорю снова: более мы не станем рассуждать об этом. Решение однажды принято нами и теперь его надлежит исполнить.
И да пребудет с нами Вечность! Ар — эх— ис — ос — ур…..
Вновь пронесся над столом странный вздох.
То ли — заклинание, то ли — молитва.
Слабый и негромкий, он, тем не менее, запечатал уста черного Посланца…..
Лола. Нефть
Забавная это была история.
В середине семидесятых на русский язык перевели знаменитый роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха».
Высоколобая интеллигенции буквально сошла с ума, зачитывая книжку до дыр.
Он был далек от мысли причислять себя к их числу, но по долгу службы обязан был знать настроения среды.
В ту пору был уже заместителем председателя Управления КГБ небольшой южной республики, и считался едва ли не самым молодым человеком в системе, занимающим столь высокий пост.
Карьера его была стремительной.
Злые языки утверждали, впрочем, что таковой она стала после женитьбы на удивительно скучной и некрасивой женщине — дочке легендарного революционера, национального героя, падшего, как и полагалось героям того времени, от рук интервентов.
Позже он сам выведет формулу своего брака и скажет: «Я женат на национальном достоянии»
Это случиться значительно позже, когда он станет настолько силен, что сможет позволить роскошь смеяться над собой.
А поначалу за плечами у него была только молодость, и даже не красота — никому бы в голову не пришло назвать его красивым — но какое-то странное, звериное обаяние: внутренняя сила, в сочетании с коварством и хитростью.
Уже тогда он умел необъяснимым образом подчинять людей, парализуя их волю, и тасовать потом, как фигурки на шахматной доске.
Позже этот талант будет доведен до совершенства.
Однако ж, поначалу одного таланта было недостаточно.
Нужен был доступ к тем людям, которых имело смысл передвигать по черно-белым квадратам жизни. Не пристало гроссмейстеру играть на дешевой фанерной доске, купленной за рубль двадцать в магазине «Канцтовары».
Женитьба позволила ему прикоснуться к фигурам, выполненным из дорогих пород дерева, позже — драгоценных металлов и камней.
Но — позже.
Все это много позже, пока же он остро чувствовал — порой, впрочем, совершенно точно знал — как презирают его молодые интеллигенты — приятели эстетствующей жены, истарые партийные зубры — недобитые интервентами и соратниками друзья вдовствующей тещи.
Знал, но терпеливо сносил все.
Только запоминал крепко.
Потрепанный журнал доставили ему в кабинет.
Он бегло пробежался по страницам, и не нашел ничего, что затронуло бы душу.
Только снова, в который уже раз, убедился в том, насколько чужда ему вся эта заумь.
Однако ж, название чуждого бестселлера прилипло к памяти, как прилипает случайная мелодия и, оказалось, надолго.
Уже достигнув вершин, он вдруг сообразил, что людям такого ранга редко удается избежать прозвищ, в большинстве — легкомысленно-небрежных, порой — откровенно унизительных.
Тогда пришла ему в голову идея назваться Патриархом.
Легкость, с которой претворялись в жизнь все его интриги, присутствовала и в этом эксперименте.
Люди из окружения вроде бы совершенно непроизвольно, и только в своем кругу, стали называть патрона Патриархом.
Их примеру немедленно последовали лояльные журналисты.
Нелояльные — называли «красным бароном» и диктатором, сравнивая Пиночетом, Сталиным и даже Иваном Грозным.
Таковых, впрочем, оставалось немного.
Раньше он сам избавлялся от неугодных.
Делал это, не спеша, тонко плетя интригу.
Сценарий каждый раз был новым, и если бы вдруг стал доступен кому-то и понятен в полном объеме, поразил бы своей изощренностью и совершенством.
Но тех, кто был посвящен и мог оценить его труды по достоинству, со временем тоже становилось все меньше.
И, пожалуй, что не осталось совсем.
Впрочем, теперь он почти не плел своих сложных интриг.
Просто давал окружению понять, что недоволен чем-то или кем-то — механизм запускался сам собой.
Работа, правда, все чаще оказывалась топорной.
Его коробило от грубости исполнения.
Но, в конце концов, это было уже неважно: протестовать не смели.
Ни внутри его империи, ни за ее пределами.
Последние годы Патриарху, да, пожалуй, всем знавшим его казалось, что пережитое сделало его если не бессмертным, то бесстрашным в абсолютном смысле этого слова. Он думал, что нет на свете ничего, что способно возродить в груди леденящую пустоту страха.
Чего было бояться теперь, кроме смерти?
Но смерти он не боялся.
Более того, часто и почти с удовольствием размышляла о ней, бессонными старческими часами сочиняя ритуал собственных похорон.
Но страх вернулся.
И семидесятилетний Патриарх вновь ощутил ненавистное ощущение холодной пустоты в груди.
Тело при этом стало противно влажным.
Как хищник, страх затаился на страницах тонкой кожаной папки, лежащей сейчас на столе, и прыгнул оттуда, как только он расстегнул мягкий замок на обложке
Документы в папке были результатом негласного расследования, проведенного по его собственному распоряжению.
Кондовые формулировки.
Акты экспертиз.
Записи телефонных и нетелефонных разговоров.
Распечатанные кадры оперативной видео— и фотосъемки бесстрастно свидетельствовали о том, что единственный сын и наследник — сумасшедший садист-убийца, насильник, наркоман и вор.
Последнее, впрочем, было известно давно.
В плену наркотической зависимости Алик оказался еще на студенческой скамье, вследствие чего, образование, начатое в престижном Кэмбридже, завершал в Москве.
Воровать он начал после смерти матери.
До той поры, нужды просто не было — мать не отказывала ни в чем.
Патриарх знал, что последнее время, она вынуждена была продавать свои драгоценности: запросы чада росли.
Знал, но не вмешивался.
Она страдала, и это была его месть.
Вернее, одна из многих ее составляющих.
Он хорошо все помнил.
И теперь за каждое, пережитое унижение, они платили ему сторицей.
Крахом надежд.
Сломанными судьбами.
Иногда — жизнью.
Он не забыл никого.
После смерти матери сын даже не пытался обратиться к нему за помощью. Благополучно спустив оставленное ею, включая знаменитые коллекции — ювелирную, блиставшую экспонатами из Гохрана, и собрание живописи — фамильное наследство (национальный герой был удачно женат на дочери крупного промышленника), он начал банально брать взятки за решение самых разнообразных вопросов.
Отцу казалось, что процесс полностью под контролем.
И до поры он не вмешивался.
Напрасно.
Как выяснилось только теперь.
— Как случилось, что этопрошло мимо тебя?
Пролистав папку, он вызвал начальника службы безопасности, старого сослуживца, и почти — друга.
С ним был откровенен, пожалуй, в большей степени, чем с кем — либо еще.
— Не совсем мимо… Я тоже получал информацию….
— Давно?
— Месяца три….
— Значит, полгода.
— Можно уточнить…
— Оставь! Да и не в том дело. Три месяца — полгода…. Почему ты молчал?
— Я не мог сразу…. Пойми, он же вырос на моих руках.
— Помню, как же. Ты его, пятилетнего учил водить машину. Сажал на колени и отдавал руль…. Значит, получается, ты его любишь, а я — нет?
— Зачем так? Я другое имел в виду. Нужно было все проверить. Могли ведь ошибиться, и подставить могли, и оклеветать, сам понимаешь….
— Ну и как, проверил?
— Заканчиваю проверку.
— Кто эта девушка? — палец Патриарха уперся в одну из фотографий на столе. Распоротое, изуродованное тело — такие часто показывают теперь в криминальной хронике.
— Да какая там, девушка! Танцовщица из варьете. Об этом можешь не беспокоиться, ни роду, ни племени — никто не вспомнит, что была такая…
— Не беспокоиться, говоришь? А мальчик? — он выдернул из папки еще одну фотографию.
— С этим — хуже. Дело в прокуратуре — с этой стороны проблем не будет. Но родители…. Отец слишком шумный.
— Слушай! — Патриарх, наконец, оторвался от папки и в упор взглянул на старого товарища. — Ты действительно впал в маразм, или меня считаешь старым маразматиком?
— Как ты можешь…
— Молчать! Девки без роду и племени, мальчики с шумными отцами…. Провались они все пропадом, неужели ты думаешь, что я не заткну глотку любому, кто посмеет….. Разве в них дело? Ты, старый осел, неужели не видишь, что он псих? Опасный псих? Маньяк. А если завтра он зарежет твою внучку? Или внука? А прежде изнасилует…. Что ты запоешь?!
— Не говори такое, прошу тебя! За ним можно присмотреть….
— Что же раньше не присмотрели?! Присмотреть! А когда я сдохну, что ты будешь делать?
— Я тебя не переживу.
— Слушай, брось! Не на митинге. Я сам такое кричал. В пятьдесят третьем…. Но выжил, как видишь. И еще директивы двадцатого съезда проводил в жизнь. Успешно, между прочим. Так что, не надо. А с этим, так…. Будем его… отстранять. Постепенно.
— От чего — отстранять?
— От всего. Может, и от жизни. Но не сразу. Для начала — от дел.
Патриарх замолчал надолго.
А когда, наконец, заговорил, прервав тягостную паузу, соратнику показалось, что хозяин кабинета утомлен беседой, не видит выхода из патовой ситуации, и потому — решил сменить тему.
— Как живет девочка?
— Вопрос застал главного охранника врасплох.
— Девочка?… А… Ну, все в общем нормально. Приглядываем. Так что….
— Он не закончил фразы, потому что вдруг осознал подоплеку вопроса.
И снова, в который уже раз был потрясен способностью Патриарха, находить самые неожиданные, парадоксальные решения.
В итоге они всегда оказывались единственно верными.
И, по существу — спасительными.
Но такоеспасение начальнику службы безопасности было ни к чему.
Он сделал ставку.
Выходило так, что это была единственная ставка, которую позволила сделать судьба, в опасной, но захватывающей игре.
В следующем туре играть ему уже не придется.
На кону же стояло слишком многое.
Бережно притворив торжественную дверь патриаршего кабинета, он с трудом поборол желание, схватиться за телефон, здесь же, в приемной.
Но — сдержался. Неспешно простился со всеми. Медленно спустился во внутренний двор резиденции. Направился к своей машине.И только тогда извлек из кармана крохотный аппарат мобильного телефона.
— Это я, принц. Надо увидеться.… Нет, не вечером. Сейчас. Дело намного хуже, чем я думал.
Слуги мира. Рукопись старика
«….. Слуги Мира, сегодняшней ночью вам предстоит принять великие решения.
Продолжим.
К тебе обращаюсь я, Посланец того, кого именуют Царем Мира.
Следуя вашему учению об очистительной силе страдания, мирские властители наделены от рождения его невидимой чашей.
Тех, кто не бежит сей чаши, вы называете праведниками.
Тех, кто с честью осушает ее до дна, причисляете к себе подобным.
Те же, кто, без сожаления изливает содержимое чащи на головы смертных, обрекая, тем самым, на смерть и муки, отвергаются вами.
Их забирает вечно противостоящий вам Князь тьмы.
Однажды Великий Совет согласился с таким положением вещей, и с тех пор мы соблюдаем этот порядок.
Тогда же решено было, что чаша сия переходит от отца — сыну, или тому, кто наследует престол.
Все ли, согласно обычаю, произошло этой ночью?
— Все было так, Хранитель.
Посланец Царя Мира, казался совсем молодым человеком.
Возможно, впрочем, что годы просто не властны были над его лицом, потому что глаза Посланца излучали мудрое спокойствие, которое приходит, обычно с годами.
— Что ж, продолжим. Напоминаю вам, Слуги Мира, и вам, Посланцы, что тот, чья скорая кончина заставила нас собраться здесь, еще жив и предается теперь воспоминаниям. Оставим его за этим занятием, ибо нам есть, чем заняться, пока последние песчинки его времени не скатятся в Вечность.
— Тебе, брат Оум, поручено было вести летопись его дел.
Пришел час поведать о том, что наблюдал ты все это время.
Но — кратко, ибо сейчас мы вынуждены считаться со временем.
— Я буду краток, и скажу о главном.
Возможно, кто-то из братьев дополнит мои наблюдения, ибо каждый из нас имеет свой взгляд на природу того, что твориться в подлунном мире.
Три кита стали его опорой.
Первого — звали Жесткость.
Да, именно жестокая воля, собранная в кулак.
Братьям известно, что на трон он взошел, перешагнув через кровавый труп отца, убитого бунтовщиками.
В тот момент перед ним открылись две дороги.
Одна — манила.
Ее проложил его несчастный отец.
Дорога была услана цветами и обильно орошена слезами умиления. Ибо это было дорога мягких уступок и милости к тем, кто сеял ветер.
Те, кто окружали трон и те, кто стояли на некотором отдалении, но имели большое влияние на умонастроения подданных, ждали, что он шагнет именно не этот путь.
Вторая — была и не дорога вовсе, а едва заметная колея, глубокая, извилистая и ухабистая.
Она усыпана была камнями ненависти и презрения, ибо это была дорога жестокой, абсолютной власти.
Он шагнул на нее.
И заткнул уши, чтобы не слышать криков, раздавшихся со всех сторон.
Кричавшие называли его тираном.
Однако, скоро стало ясно, что кричат лишь немногие.
Те, чьей целью было крушение трона и установление такого порядка, при котором горстка крикунов уравнялась бы в правах с порфироносным владыкой.
Народ же не получал ничего.
Но, почуяв, что множество рук тянут бразды правления в разные стороны, быстро сообразил бы что, можно не подчиняться ни одной из них. И, как вепрь из лесных глубин, вырвался на свободу, сокрушая все на своем пути.
При том, не ведя, куда следует идти.
Поняв это, молодой царь избрал непроторенную колею.
Скоро, однако, уверенно и неотступно шествуя по ней, он обратил ее в широкую дорогу.
И голоса кричавших смолкли.
Они подчинились воле Императора, и вынуждены были убрать с пути его камни, разбросанные прежде.
Народ же успокоился, узрев перед собой мудрого пастыря и ровную дорогу, по которой тот ведет свою паству, точно зная путь.
Ловко обходя препятствия и минуя преграды.
На этом пути верным своим попутчиком сделал он церковь, коей оказывал величайшее почтение, уже одним только тем, что чтил каноны и жил, в строго соблюдая все заповеди.
Второй кит звался Скупостью.
Получив в наследство скудную казну, Император повел себя не по-царски.
Не так вели себя прежде русские цари, чья тяга к роскоши, породила легенды.
Отнюдь.
Те, кто наблюдал за ним, с удивлением замечали, что молодой гигант ведет себя как скуповатая хозяйка на кухне, с запасом провизии скудным и небогатым
Именно так.
Хотя это злило многих, но он привык к тому, что его действия не встречают поддержки.
Так, экономя каждую копейку и педантично копя, собранные из копеек рубли, он достиг много.
Впрочем, успехи варварской страны, братьям известны.
Они встревожили нас, о чем говорил Хранитель…
— Не только они — негромко отозвался старец из темных глубин своего трона — пещеры.
Не только. — Согласился с ним тот, кого звали Оумом, —
Потому, что тревожил нас также и третий кит, ставшей опорой царя варваров.
Имя ему — Гордыня.
Да!
То, что принято считать не иначе, как смертным грехом, оказалось для царя Александра третьей опорой его величия.
— Втом заключен великий парадокс власти, — вновь прервал говорившего старец.
Добродетелью земных владык оборачивается то, что предосудительно для их подданных.
И напротив, добродетель простого смертного, для владыки становится пороком.
Мы уже говорили сегодня о том, кому предстоит сменить Варвара на троне.
Добродетели этого человека — безмерная любовь к семье, преданность жене, доброта, мягкость нрава — погубят страну, и обрекут на страшную смерть миллионы ни в чем не повинных.
Да, гордыня его отца, напротив, подняла страну среди прочих государств и народов.
Без страха и сомнения, он отстаивал интересы свой державы, и пуще всего оберегал ее достоинство.
Не развязывал войн, но и не страшился их.
Уверенность, с которой он высказывал претензии на господство в тех землях, где ранее хозяйничали другие, заставляла прочих властителей прислушиваться к голосу Варвара.
Сначала — с презрительным недоумением
Потом — с тревогой.
Позже — с почтением.
И, наконец, — со страхом.
Но это шло на пользу его державе.
Армию и Флот назвал он единственными своими союзниками, и ничего не жалел для укрепления их мощи.
Итак, жестокость, скупость и гордыня….
Почему бы тебе не сказать иначе: воля, рачительность и честь? — Негромко поинтересовался Посланец, того, кто признан был Царем Мира.….»
На этом рукопись обрывалась.
В письме старика была просьба, а, пожалуй, что и требование — не рассматривать его записки, как документ исторический или научный.
Она хорошо помнила об этом.
Но соблазн был велик.
Много часов провела, листая исторические фолианты, читая все — что могла раздобыть — относящееся к эпохе правления Александра III.
И не нашла ответа.
Пыталась идти другим путем, знакомясь с работами по эзотерике.
Искала в сложных, мистических и философских доктринах миро устройства.
Но — тщетно.
Нигде не упоминались таинственные Слуги мира.
Слабый свет забрезжил лишь трижды.
В старой книге натолкнулась она на слова Оум и Аум. Сказано было, что это мистические звуки, символизирующие в мистических текстах индусов и буддистов космическую пара энергию.
Слово Одкрафт упомянуто было немецким ученым фон Райхенбахом много позже, уже в восемнадцатом веке, но означало, в принципе, то же самое. Немец писал о некой «жизненной энергии», которая вызывает мистическое свечение человеческих тел и даже неодушевленных предметов.
И, наконец, таинственные звуки: «Ар— эх— ис— ос— ур» — приводились в одном из трудов по эзотерике, как древне магическое заклинание, содержащее формулу вечности.
Озарение было коротким.
Дальше простиралась беспросветная тьма.
Никакой другой информации она раздобыть не сумела.
Макеев. Медиа
Пришел день шестой.
Несмотря на то, что пол — ночи проведено было в хлопотах — разбитый «Мерседес» надо было пристроить в ремонт, а потом на «попутке» добраться до дома — утром он проснулся достаточно бодрым.
С твердым намерением воплотить в жизнь все решения, принятые накануне.
Неожиданная весьма мысль вдруг вспорхнула в сознании:
«Что, кстати, сотворил Господь на шестой день?
Что-то важное, потому что следующий седьмой — он отдыхал.
Вроде бы — так.
Значит, на шестой день он сотворил человека, что есть важнее его в мироздании?
Что ж, будем считать это хорошим предзнаменованием.
Меня ведь озарило, едва наступил день шестой. Было уже за полночь.
Это — точно
Наскоро поглотив кофе, он взялся за телефон.
Машину взаймы нашел довольно быстро и уже через час мчался по Москве на чужом громоздком, но ходком джипе.
В «Останкино» заскочил всего на минуту, успокоив, однако, своим бодрым видом совсем уж поникшую секретаршу Аню.
Из сейфа, где хранилось немного наличных денег, какие-то сценарии, договоры, накладные и несколько кассет с убойным компроматом, извлечен был плотный пластиковый пакет со злополучной «лодочкой»
Подчиняясь мимолетному порыву, а вернее — инерции той решимости, которой проникся с утра, он хотел, было открыть пакет.
Но не смог.
Оттуда отчетливо сквозило…. ужасом.
Наваждение, притаившееся где-то поблизости, готово было в любую минуту снова набросить удушливый полог.
Ничего этого Сергей Макеев не понял, а вернее — не осознал, но ощутил очень остро.
И почувствовал, что действовать надо быстро.
Очень быстро.
Пока ничего эдакого не случилось на самом деле.
Крепко, но с превеликой осторожностью, он зажал пакет под мышкой, и почти бегом, ринулся к выходу.
Скоро, преодолев вязкую трясину городских пробок, машина бойко выскочила на загородное шоссе, ухоженное, аккуратное, свободное даже днем.
Откровенно говоря, никакого, даже очень приблизительного плана у него не было.
Пожалуй, он даже не смог бы ответить на вопрос, зачем мчится на это проклятое место?
Что надеется обнаружить?
С какой стороны подступится?
Решение пришло неожиданно, когда вдали за деревьями мелькнули крыши домов.
Вдоль трассы, почти примыкая друг к другу, тянулись поселки.
По большей части — дачные.
— Симпатичная? Светленькая? Еще — какая? Странная, говоришь? Есть тут две такие, дачницы…. Обе — странные. Тебе — которую?
Это был уже четвертый поселок.
Небольшие деревянные дома, утопали в буйных зарослях кустарника.
Заборы были невысоки, кое — где оградой служила ржавая металлическая сетка, некоторые, и вовсе, обходились без ограды.
Старушка медленно брела по разбитой колее, узкой дороги, бегущей сквозь поселок, и, судя по всему, от души обрадовалась случайному собеседнику
— Какую — то из них, наверное. А где их дом?
— А ты что ж, имени не знаешь?
— Да так случилось, вот, имени не знаю. Но живет, думаю, здесь. Так, где дом-то?
Старушка покачала головой, явно осуждая.
Однако, не Сергея, а легкомысленных дачниц.
— Вот ведь, девушки, какие пошли нынче! Имени не сказала — а в гости позвала. А ты и примчался…. Других, что ли, нет, за чудными бегаешь?
— А чем же они чудные?
— Как это, чем? Сам ведь сказал — странная.
— Ну, я так… по виду только.
— Если б — по виду! А то.… Может, поедешь подобру— поздорову?
— Нет. Раз уж приехал.
— Ну, гляди…. Как зеленый забор кончится, повернешь направо, а потом езжай себе потихоньку по улице, никуда не сворачивай, последний дом слева, ихний будет.
Спасибо.
Макеев аккуратно объехал старушку.
— А зовут их Майя и Тая. Выбирай любую.…
Старушка осталась стоять на дороге.
И что-то еще говорила вслед удалявшемуся джипу.
Зеленый забор, однако, кончился довольно скоро. И Сергей скрылся от нее за поворотом.
Решимости в нем заметно поубавилось.
Улица, на которую указала старушка, на самом деле, оказалась проулком, узким и ухабистым.
С обеих сторон тянулись старые, покосившиеся заборы.
Любопытные, или просто заскучавшие в тишине деревья выглядывали из-за них, тянули навстречу друг другу раскидистые ветви, образуя над проулком живой шелестящий купол.
От того, наверное, было здесь сумрачно и сыро.
Дачный сезон в поселке был давно открыт.
Окна многих домов распахнуты.
На перилах крылечек, а то и прямо на заборах — проветривались коврики, пледы, покрывала.
Грелись на солнышке подушки.
Кое — где под окнами, как диковинные цветы, распустились яркие «пляжные» зонтики.
Здесь, в проулке, было тихо и безлюдно.
Дома казались заброшенными.
Кое— где окна были грубо заколочены досками.
Будто чья-то небрежная рука наставила всюду крестов, то ли делая загадочные пометки, то ли — перечеркивая историю старых домов, объявив ее, тем самым, оконченной.
Где-то, напротив, стекла в окнах были выбиты.
Темные провалы в обрамлении сгнивших рам, казались пустыми, страшными глазницами.
Постепенно проулок сужался.
Черные заборы ближе подступали к машине.
Колея густо заросла высокой влажной травой.
«Может, пошутила старушка?» — озадаченно подумал Макеев.
Проулок, тем временем, обернулся узкой заросшей тропинкой, плавно стекающей в глубокий овраг.
Машина встала.
Выходило так, что дом, возле которого она остановилась, были именно крайним слева.
И значит, искать, таинственных дачниц следовало здесь.
Но дом, как и все в проулке, казался мертвым.
Глухим.
Слепым.
Полусгнившим.
— Есть кто живой? — Макеев осторожно толкнул калитку.
Разумеется, она оказалась незапертой.
«Все правильно — подумал он — так всегда начинаются триллеры. Незапертая дверь, а за нею….»
Закончить мысль он не успел.
От калитки бежала, устремляясь к дому, узкая дорожка, некогда выложенная мелким булыжником, теперь — густо заросшая упрямой травой, победившей камни.
Дорожка упиралась в покосившееся крыльцо.
Ступени крыльца прогнулись и потемнели от времени.
Пара маленьких женских туфель двумя яркими пятнышками пламенела на ступенях.
Красные — на черном.
Не заметить было невозможно.
«Откуда — вторая? Она же у меня.»
Наваждение возвращалось.
Сергей собрался, было идти обратно к машине, чтобы достать злополучный пакет, и…
Что, собственно, и….?
Он понятия не имел, что, надлежало делать с третьей — вот уж, действительно! — лишней туфлей?
Сознание отступало, уступая место, загадочным подсознательным импульсам.
Впрочем, он не успел сделать ни шагу.
На крыльце появилась женщина, и у Макеева разом, отлегло от сердца.
— Вы живы?!
Она не удивилась.
Не возмутилась.
Не испугалась даже.
Она взглянула на него так, будто именно его ждала, скрываясь в темных недрах заброшенно дома.
И специально оставила на крыльце свои красные «лодочки», чтобы он ненароком не проехал мимо.
Однако, радости тоже не было в ее взгляде.
Скорее — легкая печаль, и укор.
«Ну, разумеется, укор — промелькнуло в отступающем сознании Макеева — А как же иначе? Я виноват перед ней. Бросил, оглушенную, беспомощную, в кювете. Трусливо бежал»
— Не знаю….
Женщина, наконец, заговорила.
Тихо и немного нараспев.
Так читают свои стихи задумчивые поэты, отрешенные от всего земного.
— Но, если вы видите меня, и слышите мой голос, значит жива.
— Как вы себя чувствуете?
— Я не чувствую…. Я давно уже не чувствую себя. Мне даже показалось, что я смогла, как Таис…. Но вы — здесь. Значит, снова не получилось.
— Что — не получилось?
— Уйти.
— Куда уйти?
— За грань. Ее иногда можно увидеть, и тогда — переступить. Таис увидела. А я — нет.
— Вы Майя?
— Да, пока вы можете звать меня так. Но знаете, там другие имена. Совсем другие.
— Где там?
— За гранью.
«Она сумасшедшая.
И ничего не помнит про аварию.
Все ясно.
Нужно аккуратно выбираться отсюда.
И все.
Никакой мистики»
Мысли были ясными, логичными, и совершенно справедливыми.
Это Макеев тоже понимал отчетливо.
Но — медлил.
Что-то мешало ему уйти, словно, некий, настоящий, главный итог поиска был еще впереди.
Неожиданно для себя он спросил:
— Могу я зайти в дом?
Женщина не ответила.
Повернувшись, она скрылась в темном проеме, не притворив за собой дверь.
Макеев счел, что это может быть приглашением, и осторожно — гнилые доски предательски прогибались под его тяжестью — поднялся по ступеням.
Переступив порог, он сразу же оказался на полутемной террасе.
Окна были завешены каким-то тряпьем, а все пространство захламлено беспорядочно составленной мебелью.
Пахло сыростью и гнилью.
Он аккуратно миновал террасу, и оказался возле еще одной двери, тоже гостеприимно распахнутой.
За ней была комната, попав в которую Сергей понял, почему терраса так плотно заставлена рухлядью. Очевидно, туда вынесли всю, или почти всю мебель, которая прежде находилась в доме.
По крайней мере, эта комната была совершенно пуста.
Он не сразу понял, есть ли в ней окна, и только потом заметил тонкие полоски света, пробивающиеся сквозь плотные, черные шторы, в нескольких местах.
Значит, окна были.
Сейчас в комнате царил зыбкий полумрак.
По углам, прямо на полу стояли четыре пустые бутылки из-под шампанского, превращенные в некое подобие подсвечников.
В горлышко бутылок вставлены были толстые свечи, слабое мерцание которых освещало комнату.
Пол выкрашен был в черный цвет.
В центре начертан белый круг, а внутри его — еще один — поменьше.
Внутри окружности, белые — на черном, изображены были какие-то загадочные фигурки и знаки, отдаленно напоминающие астрологические символы.
Но Макеев не силен был в астрологии.
Женщина сидела на полу, за пределами странной окружности, придвинувшись к ней вплотную.
Она действительно, ждала Макеева.
Как только, он вошел, протянула руку, указывая место напротив себя, по другую сторону круга.
— Вы можете сесть…
Он разглядел на полу маленькую черную подушку, вроде диванного пуфика, и неуклюже опустился на нее.
— Это место Таис — задумчиво сказала женщина. — Но не смущайтесь, его уже можно занять. А мое пока занято. — Она легко постучала ладонью рядом с собой, словно, указывая, какое именно место пока занимать не следует.
— Вы — подруги?
— Нет, что вы, мы сестры, разве вы не знали? Это важно.
— Близнецы? — спросил Макеев, и в груди у него разлился знакомый, «судьбоносный» холодок. Он был почти уверен в том, каков будет ответ.
— Двойняшки. Так говорят здесь. Там мы станем единым целым. Потому это и важно, что мы сестры. Иначе ничего бы не получилось. Понимаете?
— Нет.
— Это просто. Это самое простое из всего. Вы поймете. Перешагнуть за грань может только полная душа, воссоединившаяся со своим отражением. Потому люди почти никогда не могут переступить грань. Мало кому удается встретить отражение своей души.
— Скажите, а когда Таис ушла за… грань? Какого числа? Может, вы помните случайно?
— Это совсем не случайно. Это и есть самое главное. Такая ночь наступает редко. Мы долго ждали.
— Какая ночь?
— Грань становится зримой в Вальпургиеву ночь, но только в полнолуние. Понимаете? Они обязательно должны совпасть — полная луна и Вальпургиева ночь…
— Это была ночь на первое мая?
— Ну, конечно! Видите, как быстро вы догадались! Значит, там этого хотят. Я так и поняла сразу, когда вы появились
— И Таис ушла из дома этой ночью?
— Мы ушли вместе. Грань нужно искать. Она открывается внезапно. Те, чья душа не встретила свое отражение, тоже могут ее увидеть, но ничего не смогут понять. Яркая полоска лунного света во тьме, и все. Но это и есть грань. Мы вышли из дома в полночь, как только взошла луна. И пошли, каждая своей дорогой. Так положено. Таис нашла грань. А я — нет.
— Значит, она не вернулась?
— Конечно, не вернулась. Она перешла за грань. Оттуда не возвращаются.
— И вы не пытались ее искать?
— Искать? Но что я могу найти здесь? Она — за гранью. А мне остается только ждать, когда снова наступит такая ночь…. Это случится нескоро. Но другого пути нет.
Домой он возвратился в полном смятении.
Искать больше было нечего.
А то, что он обнаружил, было еще более невероятно, чем самые невероятные версии, которые выдвигались накануне.
Автоответчик в числе прочих сообщений, добросовестно записал мелодичный голосок секретарши Ани:
«Сергей Александрович, напоминаю вам, завтра съемка Гориной. Вы договаривались на прошлой неделе»
Часом позже, встревожено:
«Сергей Александрович, звонил пресс-секретарь Гориной, спрашивал, кому заказывать пропуска. Ждет ответа.»
Через полчаса в полном отчаянии:
«Сергей Александрович, перезвоните, пожалуйста, в редакцию, дайте указание, кто поедет к Гориной, если вы не сможете.»
Через час в абсолютной панике:
«Еще раз звонил пресс— секретарь Гориной. Я сказала, что вы будете сами. Что теперь делать?!»
— Значит, буду сам. — Сказал Сергей Макеев автоответчику.
Звонить, объясняться, организовывать замену у него просто не было сил.
Корсакова. Психология
Утро выдалось солнечным.
Весна словно бы одумалась.
Капризы — капризами, но была уже середина мая, и, стало быть, время ее стремительно истекало.
Придет июнь, и взоры людей устремятся в лето.
О нем станут судачить, строить планы, рассуждать о том, каким ему быть.
А ее, весну, если и помянут вдруг, то исключительно недобрым словом.
Дескать, мерзкая весна выдалась в этом году.
Грязная и слякотная.
Не хотелось весне такой славы.
И она, напоследок, разулыбалась миру так ласково и нежно, что растаяли даже сердца чугунных и каменных исполинов.
Слезы умиления катились по щекам изваяний и омытые свежей росою, молодели лица великих, отлитых в металле и высеченных из камня.
Плакал неистовый певец водосточных труб на площади, носящей его звучное имя.
Неподалеку от него, слезы навернулись на глаза великого поэта.
И совсем неожиданно разрыдался засиженный голубями лохматый экономист, чудом уцелевший в вихре демократических преобразований.
Елена Павловна Корсакова ехала на работу по весенней Москве, и от души радовалась солнцу, несмотря на то, что поток транспорта на мостовых был плотным, и, как всегда, агрессивным.
В машине работа приемник.
Передавали обзор журнальных новинок.
Лена прислушалась, времени на глянцевые журналы почти не оставалось — а так, можно было получить хотя бы общее представление.
«…» Ловушки для Золушки» — называется материал Татьяны Лаврушиной. Но не спешите с выводами, речь идет вовсе не о кинематографе.
Его героиня Лола Калмыкова — модный персонаж, «нефтяная леди», возглавляющая сегодня крупнейший нефтяной холдинг, впервые рассказывает о том, что давно обсуждали вполголоса.
Имя этой женщины овеяно легендами….
Пять раз ее жизнь висела на волоске.
Пять жестоких, тщательно спланированных покушений, сорвались…. по воле случая. «Или судьбы?» — задается вопросом Татьяна Лаврушина и вместе со своей героиней пытается найти ответ…
Перестроиться в правый ряд, чтобы притормозить возле газетного киоска, оказалось довольно сложно.
Но Лена упрямо и не без риска пробивалась к тротуару.
Она еще не вполне отдавала себе отчет, чем вызвано столь острое и непреодолимое желание, но была абсолютно уверена в том, что подчиниться ему следует незамедлительно.
Журнал, наконец, был куплен.
Добравшись до офиса, она поспешила уединиться в кабинете, предупредив секретаря, что ближайшие полчаса будет занята.
На самом деле, ей потребовалось гораздо больше времени.
Но это выяснилось значительно позже.
«Эти кадры обошли, по-моему, все телевизионные каналы.
На протяжении дня их повторяли в выпусках новостей.
Потом — долго перемалывала криминальная хроника.
Позже за дело взялись аналитические программы.
Потому, наверно, я и сейчас вижу их, как наяву.
Вернее, на экране телевизора.
Маленькая женщина в толпе людей, пожимает чьи-то руки, что-то кому-то говорит, улыбается, отвечает на вопросы журналистов.
Потом толпа расступается, журналистов оттесняют.
Женщина идет к машине.
И вдруг, неловко взмахнув руками, падает.
В толпе легкое замешательство.
Но потом происходит еще что-то.
Неожиданно рядом с женщиной, и почти — на нее, падает высокий крепкий парень.
Он только что оттеснял толпу. И, в общем, понятно, что это сотрудник охраны.
Он падает как подкошенный.
Рядом с ним падает еще кто-то.
Потом — смута, крики….
Картинка прыгает, чувствуется, что оператор с трудом удерживает камеру.
Я правильно воспроизвела эту сцену Лола Амировна?
Да. Все было именно так, хотя я, как вы понимаете, в тот момент воспринимала происходящее несколько иначе.
Давайте все же уточним — это было покушение?
Да. Снайпер стрелял с крыши здания напротив, убит был один из сотрудников моей охраны. Витя Громов. Хороший парень, прошедший Чечню. И вот такая глупая смерть. Другой ранен.
Но вы не пострадали?
Нет, я упала за несколько секунд до выстрела.
???
Сломался каблук. Я отдаю предпочтение туфлям на высоких каблуках, а они иногда ломаются.
И часто, к слову говоря?
Да нет, не очень. Последний раз, лет пятнадцать назад, если память мне не изменяет.
Действительно, похоже на чудо.
Такого не мог предположить никто, и уж тем более, снайпер, профессиональный убийца, надо полагать, высокого класса.
Его так и не нашли потом.
Снайперская винтовка, в лучших традициях, брошена была на крыше.
Но это было только начало.
Следующее покушение на Лолу Калмыкову не заставило ждать.
Приглашены были другие исполнители.
В дело вступили подрывники.
Да, в следующий раз они попытались взорвать мою машину. Собственно, они и взорвали ее, но судьба снова решила меня защитить. Мина была с часовым механизмом, установленным на определенный час. Все было рассчитано точно. Я направлялась на деловую встречу, и взрыв должен был произойти в дороге. И снова случилось непредвиденное. Какая-то железка буквально распорола шину. Мы остановились. Водитель бросился менять колесо. Но времени до встречи оставалось уже слишком мало. Опаздывать — не в моих правилах. Словом, пересела в машину сопровождения, и уехала. Еще подумала: «Так даже лучше. Стоять над душой у человека — не самое приятно занятие» Если бы знать! Мы отъехали совсем недалеко, и тут прогремел взрыв.
Убийцы спешили.
Кому-то Лола Калмыкова всерьез отравляла жизнь.
Или стояла попрек догори.
Расправиться с ней попытались снова.
И очень скоро.
Ровно через три дня. На сей раз киллер ждал меня у дверей квартиры.
Вашей?
Нет, моих друзей. В доме был праздник — день рождения дочери. По замыслу организаторов этого покушения, убийца, должен был исполнить роль одного из гостей. Народу приглашено много — всех моя охрана не в состоянии была проверить. Да, откровенно говоря, мы и не ожидали, что они осмелятся так скоро. Расчет, как и прежде, был довольно тонким. И точным. Он появился в подъезде за пару минут до меня, с букетом цветов и большущей плюшевой игрушкой. Мишкой, по-моему. Поднялся в лифте, но вроде бы промахнулся этажом — уехал выше. Я в это время уже поднималась в другой кабинке. И мы должны были встретиться у дверей. Я выхожу из лифта, он, пешком спускается с верхнего этажа…. И снова — его величество случай. Мой лифт застрял между этажами. Он оказался в идиотской ситуации. С букетом, с плюшевым мишкой у дверей чужой квартиры. Что делать? Позвонить, зайти? На площадке — моя охрана. Он замешкался. Этого было достаточно, его задержали.
Но это не привело ни к чему?
Нет, конечно. Обычный наемник. Он все еще под следствием, по-моему.
И неужели после всего этого, вам не захотелось сбежать. Уехать на край земли? Спрятаться? Затаиться? Послать все к чертовой матери?
«Послать» я уже не могла. Знаете, как это говориться, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Я добровольно взялась за этот самый гуж, так что идти надо было до конца. Что же касается того, чтобы уехать и на некоторое время затаиться, то именно на этом настояли мои друзья. Я уехала. Очень далеко. На остров в индийском океане.
И убийцы последовали за вами.
Да. Правда, теперь они отказались от поспешных действий, и выжидали довольно долго. А может, просто искали подходы. Я спокойно прожила целых две недели, в небольшом скромном бунгало, под чужим именем. Все было тихо. Единственным развлечением была яхта. В море выходила почти каждый день, ловила рыбу, погружалась с аквалангом. Они решили более не полагаться на волю случая, на сей раз, взрывное устройство было радиоуправляемым. Тот, кому предстояло привести его в действие, находился где-то рядом. Остров, конечно же, был обитаем. В некотором отдалении от нашей яхты постоянно болталось несколько небольших суденышек. Словом, однажды мы привычно вышли в море…. То, что случилось дальше, очень похоже на чудо. В рамки простой случайности это просто не укладывается. Грянул шторм. Он налетел совершенно неожиданно и так стремительно, что мы не успели опомниться. Самое поразительное было то, что сезон штормов и вообще непогоды, давно миновал. В этих краях природа довольно постоянна. Штормит — только в сезон. Дожди — только в сезон. Жара и штиль — тоже в строго определенно время. Но шторм грянул! И какой! Команда не просто растерялась, матросов обуял ужас, почти мистический. Детали я помню плохо, потому что тоже впала в панику. Яхта перевернулась. Плаваю я плохо. Одно дело погружаться с аквалангом в прозрачную ласковую воду под присмотром опытного инструктора. Совсем другое — оказаться в ревущей массе беспощадной, жестокой воды. По-моему, я очень скоро потеряла сознание. И… осталась жива. Спасатели нашли меня на берегу, оглушенную, нахлебавшуюся воды, но целую и невредимую. На всякий случай, меня все же поместили в местный госпиталь, и персонал ходи в палату, как на экскурсию…. Они тоже понимали, что произошло чудо. Яхта почти не пострадала. Когда ее стали осматривать в доке, обнаружилось взрывное устройство. Его так и не успели привести в действие.
А тот, кто должен был это сделать?
Его обнаружить не удалось. Возможно, погиб. В этот злосчастный день, как, впрочем, и всегда, в море вышло много маленьких яхт, катеров и лодок. Многие — не вернулись.
Последнее — очень боюсь писать это слово, и, в то же время, хочу верить, что так и будет — последнее покушение на Лолу Калмыкову больше похоже на курьез, нежели на трагедию.
Впрочем, планировалось все более чем серьезно.
И трагедия все же произошла. Погибли два человека. Но сам киллер, действительно, оказался в довольно курьезной ситуации. На сей раз, случай настиг его, а не меня. Дело было так. Мы помогаем городу восстановить архитектурный ансамбль восемнадцатого века. Это четыре небольших здания. В одном — работы уже завершены, по этому поводу власти решили устроить нечто вроде презентации. А киллер, в свою очередь, решил устроиться на балконе — другого здания. Пробираясь туда, он убил двух ребят из службы безопасности.
Простите, я не знала об этом.
Да, кровь пролилась. И на балкон он все-таки пробрался, но именно этого, как выяснилось, делать не следовало. Балкон рухнул. И киллер свалился прямо на голову журналистам, которых к главному зданию поначалу не пускали. Никто из них, к счастью, не пострадал. Отделались легким испугом и легкими ушибами. Он — тоже. Оглушенный, перепачканный строительной пылью, в волосах — щепки, куски штукатурки…. Винтовка отлетела далеко в сторону.
Это случилось чуть меньше года назад.
Отбросим в сторону извечные вопросы: «как?…» «доколе?… «и «куда смотрит милиция?…».
Не станем посягать на хлеб аналитиков, криминальных и публицистических программ и журналов.
Им еще долго предстоит размышлять над вопросом, кто и почему так упорно добивался смерти Лолы Калмыковой.
Возможно, они найдут ответ.
Потому что в биографии нашей героини много самых неожиданных поворотов. Многие считают их необъяснимыми, некоторые, напротив, приводят объяснения, в которые, откровенно говоря, трудно поверить.
Слишком уж похоже на сказку.
Про Золушку.
На самом деле, неожиданный поворот в моей жизни случился лишь однажды. Но это был, действительно, умопомрачительный поворот. До тридцати трех лет я жила спокойно и ровно. Не могу сказать, что очень интересно, но и гневить судьбу не стану. Нормально жила. Как все. Закончила режиссерский факультет института кинематографии. Карьера, впрочем, не слишком заладилась. Была вторым режиссером на нескольких картинах. Сама сыграла две роли второго плана. Собиралась, наконец, снять большой, настоящий фильм. Был уже сценарий, и почти нашлись деньги….
Как вдруг….
Как вдруг мне предложили возглавить нефтяную компанию. Ту самую, которую сейчас возглавляю.
Кто предложил?
Ее тогдашний владелец. Мой отец.
…
— Но скажите мне, Лола Амировна, вы, конечно же, задумывались над той цепочкой загадочных — если не сказать мистических! — событий, которые каждый раз, позволяли вам избежать смерти? Что это — неслыханная милость судьбы? Или она в неоплатном долгу у вас, и сейчас просто платит по счетам? Или Ангел— хранитель ваш так усерден? Что это — чудо? Или закономерность?
— Чудесная закономерность…. А если серьезно, меня, знаете ли, посещает иногда одно странное ощущение. Будто я не человек вовсе, а большая, механическая кукла, наделенная, впрочем, способностью думать и чувствовать. До поры до времени хозяйка — или хозяин, а может — хозяева? — хранили куклу в коробке, и не слишком о ней заботились. Но потом в ней возникла нужда. Тогда куклу извлекли из коробки, поместили в эпицентр некоторых событий, заставили играть отведенную роль. Кукла стала важной, и потому хозяева тщательно оберегают ее, никому не позволяют сломать или причинить вред.
— Но какие же могут быть хозяева у вас? Вы сама теперь хозяйка… медной, вернее, нефтяной горы.
— Тогда уж… моря. Разумеется, в действительности, никто мною не управляет, кроме обстоятельств. И интересов дела. Но это — в действительности. Я же говорила о собственных ощущениях. Смутных притом….»
Лена долго рассматривала фотографию на глянцевом развороте журнала.
Ничего особенного.
Узкое лицо.
Высокие скулы, миндалевидный разрез глаз.
Взгляд умный, но немного напряжен, пожалуй.
Вполне объяснимо — после пяти-то покушений!
«Личное состояние, по оценкам экспертов, составляет примерно четыре миллиарда американских долларов…» — написано в журнале
Кто играет такими дорогими куклами?
Вот в чем вопрос?
Уединение затянулось.
Секретарь, наконец, решилась его нарушить.
Елена Павловна, пришел ответ издательства.
Новость была долгожданной.
Год назад солидное московское издательство вместе с Международным институтом практической психологии объявило конкурс.
Ученым и практикующим психологам предлагалось написать солидную монографию по проблемам современной психотерапии.
Победившую работу издательство бралось опубликовать в России, а институт — перевести на другие языки и обеспечить публикацию в разных странах.
Перспективы для автора открывались самые блестящие.
Помимо солидного гонорара, разумеется.
В борьбу вступили многие известные и очень известные в профессиональном мире персоны.
Елена Павловна Корсакова оказалась в их числе.
Настало время подведения итогов.
Лена распечатала конверт.
Победителем конкурса стал человек, хорошо ей известный.
Нельзя сказать, что он был плохим специалистом, но все же известие, о его победе вызвало у Лены всплеск ревнивой обиды.
Олег Неведомский был личностью довольно яркой, но было в этой яркости нечто лубочное.
Не стиль — а стилизация.
Не речь — а публичное выступление.
С обязательной установкой — непременно публике понравиться.
Потому говорил и писал всегда только то, что аудитория хотела услышать.
Впрочем, справедливости ради следует заметить — почти всегда угадывал верно.
Ошибался редко.
Он вообще, большую часть жизненной энергии тратил не на то, чтобы быть, а исключительно — казаться.
Сам придумывал про себя легенды, распускал слухи, пускался во все тяжкие, ради дружбы с нужными журналистами, легко разбалтывал профессиональные секреты, выдавал тайны.
Чужие, разумеется.
«Теперь поедет по миру. И так же станет лукавить, позерствовать, завираться… — подумала Лена — Но — что ж поделать?! Выбрали его. Значит, было за что! А вот завидовать стыдно. Так-то, матушка!»
Письмо благополучно отправилось в корзину.
А обида осталась.
Горина. Макеев. Власть. Медиа
Настроение с утра было отвратительным.
В правительственную резиденцию, где обитала Елена Владимировна Горина, он приехал с опозданием на двадцать минут.
Съемочная группа нерешительно топталась в холле, и он, не сдержавшись, дал волю эмоциям, обозвав людей овечьим стадом.
Дебилами, не способными шагу ступить без начальственного пинка.
Пресс— секретарь встретил их у лифта.
Высоченный, тощий парень, напуганный и заносчивый одновременно — классический образ чиновника от журналистики.
— Вы опоздали — сердито начал он, вместо приветствия.
— И что теперь? — Сергей немедленно ощетинился в ответ.
Статус одного из руководителей канала позволял игнорировать неудовольствие пресс— секретаря.
К тому же это было еще неизвестно, кто кому, собственно, оказывает честь?
Горина — ему, тем, что согласилась на интервью.
Или он — Гориной, тем, что соизволил приехать лично. Последнее время герои его программ, по большей части, сами приезжали в студию.
Чиновник, надо полагать, понимал это не хуже него.
Ввязываться в спор он не стал.
Просто насупился.
И угрюмо молчал.
Просторный кабинет Гориной на некоторое время отдан был в их распоряжение.
Группа подключала аппаратуру, выставляла свет.
Симонов застыл у окна, будто бы разглядывая живописные окрестности.
На самом деле, окрестностей он не замечал.
И ничего не замечал.
В голове было пусто и гулко, как в студийном павильоне после съемок.
Внезапно подумал:
О чем, собственно, говорить с ней сейчас?!
Пресс — секретарь— тут — как — тут — словно подслушал мысль:
— Вы так и не прислали вопросы.
— Елена Владимировна не просила никаких вопросов.
— Но я потом звонил и просил…. А вы обещали…. О чем вот теперь будете говорить?
— А, что Бог на душу пошлет, о том и будем! Верно, Сергей Александрович? — Горина появилась на пороге неожиданно.
Свежая.
Подтянутая.
Улыбчивая.
Строгий костюм.
Ни косметики, ни украшений.
Но бездна обаяния и женственности.
— Умеет, черт возьми, себя подать! — восхищенно подумал Симонов, забыв на секунду о дурном расположении духа и собственных неразрешимых проблемах.
— Простите, я опоздала.
— А нам сказали, что это мы опоздали….
— Правда? Ну, так просите у меня прощения. Это будет справедливо, тем более что я уже извинилась.
— Простите, Елена Владимировна!
— Прощаю. Ну что, начнем? Времени, признаюсь, как всегда….
— Начнем, помолясь….
Беседа завязалась довольно просто.
Горина говорила легко, раскованно, и вроде бы даже откровенно.
Хотя иллюзий он не питал: чиновник ее ранга абсолютной откровенности позволить себе не может.
Никогда.
И ни с кем.
Иначе, карьера его, просто, по определению, не будет долгой и успешной.
— И вот, кстати, один из последних вопросов. Немного личный. Вернее, биографический. Елена Владимировна, готовясь к нашему интервью, я внимательно изучил ваш послужной список. И был поражен. Несмотря на молодость, вы, оказывается, не просто долгожитель на нашем политическом Олимпе, вы, извините меня, конечно — ветеран, переживший едва ли всех, с кем начинали.
— «От Ильича — до Ильича». Да? Помните, была такая шутка в застойные годы. В том смысле, что от Ленина — до Брежнева.
— Ну, о таком политическом долголетии современные российские политики даже не мечтают. Все меняется стремительно.
— И — слава Богу.
— Вы полагаете? Ну, не знаю — не знаю. И все же, вернемся к вашему феномену. Что это — простое везение? Или — тонкий расчет? Или — уж, простите меня, но мы, по-моему, сегодня говорим достаточно откровенно — мощная поддержка сверху. Та самая мифическая рука?
— Чья рука, Сергей Александрович?
— Не знаю, право. Какие-то могущественные покровители?
— Сергей Александрович, вы ведь не первый год в политической журналистике. Весь наш истэблишмент, и бывший и нынешний, у вас — как на ладони. Кто, по-вашему, обладает такой властью — пусть, даже не властью, влиянием — чтобы все это время поддерживать меня на плаву, не взирая на все штормы и цунами, которые у нас то и дело приключаются?
— Действительно, кто?
— Не знаю. Возможно, такие люди — а лучше скажем — силы — и существуют. Я, кстати недавно размышляла на эту тему. Возможно. Но мне они не известны.
— Вы?!!
— Простите?
— Вы размышляли на эту тему?!
— Размышляла. А почему вас это так удивляет?
— Вам-то с чего…. Простите. Я имел в виду, что вы слишком серьезный и занятой человек, чтобы предаваться праздным размышлениям.
— Почему же — праздным?
— Значит, у вас тоже происходит…. Или происходило…. Простите, я говорю загадками. Стоп, мотор! Снято. Всем спасибо. Собираемся, ребята.
Группа послушно бросилась выполнять распоряжение.
— Знаете что, Сергей Александрович! — Горина дождалась, когда с лацкана ее пиджака отцепят крохотный «крокодильчик» — прищепку с микрофоном. — А пригласите-ка меня пообедать. Желательно, в тихое, неприметное местечко.
Женщина. Начало
Этой ночью ей неожиданно приснился старик.
Прежде она никогда не видела его во сне.
Даже в те дни, когда билась над загадкой рукописи, пытаясь найти ответ, зашифрованный в непонятном обрывке неоконченного труда.
С той поры минуло уже довольно много времени.
Рукопись хранилась в ее бумагах, но, всякий раз, когда пожелтевшие страницы вдруг попадались на глаза, тихий, но хорошо различимый голос произносил: «Не время!».
Разумеется, голос звучал всего лишь в ее сознании.
Однако, она всегда прислушивалась к тому, что советовал внутренний голос.
И, надо признать, ни разу об этом не пожалела.
Рукопись благополучно укладывалась на прежнее место.
Время шло.
Сон был легким и очень похожим на явь.
Не было в нем гнетущего ощущения ирреальности, которое так переполняет иные сны, что после пробуждения тревога долго еще плещется в сознании, рождая недобрые предчувствия и смутные страхи.
Этой ночью все происходило иначе.
Снилось ей, будто встретились они снова в маленьком нормандском городке на прохладном побережье Атлантики.
Была весна.
И погода не разгулялась еще вполне, как подобает на взморье.
Небо было не то, что хмурым, но бледным.
Солнце — сдержанным.
А прозрачная дымка над морем, то и дело норовила обернуться легкомысленной тучкой и пролиться несерьезным: мелким и быстрым дождем.
Оба они понимали, что встреча их несколько противоречит действительности и потому происходит как бы за пределами ее измерений.
Она ни на минуту не забывала, что он давно уже мертв.
Он знал, что в эти минуты, она находится очень далеко, за тысячи километров от сонного приморского городка.
И, тем не менее, они говорили друг с другом.
Не было горечи в этой беседе.
И даже грусти не было.
А была — тихая, спокойная радость.
Все же расщедрилась судьба — довелось им еще раз увидеть друг друга.
Будто однажды патриархальную тишь городка нарушило вторжение целой стаи шумных, галдящих людей.
Толпа журналистов прибыла в отель вслед за известным писателем, который неизвестно зачем явился в нормандскую глушь.
Если искал покоя и одиночества, отчего позволил журналистам увязаться вслед?
Если, напротив, хотел блеска и гомона, почему не отправился на модный курорт?
Впрочем, души звезд еще большие потемки, нежели души простых смертных.
А поступками их движут порой самые невообразимые помыслы.
Старика шум раздражал.
Ей же, напротив, было интересно.
— С этим ничего не поделаешь. Журналисты обожают культовые фигуры. А его называют «властителем дум». ЛОМ-ом. Лидером общественного мнения
— Чушь несусветная!
— Почему это — чушь?
— Думам своим человек сам хозяин, или властитель, как вы изволите выражаться. И никто более. Бывает, конечно, что чужие мысли завладевают некоторой частью сознания. Но ведь только — некоторой! О какой власти, позвольте, может идти речь? А этот ваш… лом… властитель, к тому же из числа дрессированных кумиров…. Это факт очевидный.
— Дрессированный кумир? Это еще что за зверь такой?
— Это — не зверь. Это как раз — таки человек. Кумир толпы. Вроде вашего беллетриста.
— Но почему — дрессированный?
Некоторое время он медлили с ответом.
Потом заговорил.
— Вы никогда не задумывались о том, как удается управлять такой массой разных людей?
— Это же просто — существуют законы, на страже которых….
— Да-да, это, действительно, просто. Но ведь законы регламентируют далеко не все области жизни.
— Я бы сказал, малую толику.
— А все прочее?
— Любовь, дружба, счастье, нравственность, красота….
— Разве можно установить здесь единые параметры возможного и допустимого? Разумеется, нет.
— Разные социумы, национальные и возрастные различия.
— Что есть красота для богатого пожилого американца, адвоката, к примеру?
— А для молодого русского колхозника?
— В Росси больше нет колхозов.
— И бедных в России тоже нет?
— Есть, разумеется. И гораздо больше, чем следовало бы. \
— Так счастье в представлении бедной русской женщины и богатой француженки — это ведь совсем не одно и то же. Вы согласны?
— С этим невозможно не согласиться. Но существуют традиционные представления, обычаи, наконец.
— Верно. Для удобства назовем все это общественным сознанием. Вас не раздражает этот термин?
— Нисколько.
— Прекрасно. И как же удается управлять общественным сознанием, оно ведь, как мы уже выяснили, так многолико?
— Я думаю, что для этого, как раз, и вырабатывается идеология, потом возникает пропаганда. И всякие менее серьезные штучки, реклама, например….
— Умница! Но как проводится идеология? С рекламой понятно, но это, действительно менее серьезные штучки.
— Есть, наверное, разные способы.
— Способы, действительно, существуют разные.
Один из них — «дрессированные кумиры». Ну или ЛОМы, как вы называете их теперь.
Смотрите.
У каждого социума есть свои кумиры. Артисты и спортсмены, писатели и поэты, журналисты и публичные политики.
Словом те, кого опрометчиво называют «властителями дум».
Теперь представьте, что некто задумал внедрить в один из социумов — скажем так — новую традицию или привычку, или мысль.
Кто более всего подходить для проведения идеи?
Кому быстрее поверят?
За кем потянутся?
— За ЛОМОм, кумиром. Но где гарантия, что кумир захочет агитировать за эту самую идею?
— Хороший вопрос. Гарантии нет. А чтобы она была, кумира следует дрессировать.
Разумеется, не уведомляя об этом.
Постепенно, как дрессируют животных, приучать его думать и поступать определенным, нужнымобразом.
И чувствовать, буквально не лету, в воздухе, ловить приказ.
Здесь, как и в обычной дрессуре, в ход идут кнут и пряник.
— А если кумир не поддается дрессировке?
— Его заменяют.
— С этим почти никогда не бывает проблем. Толпа любит новых кумиров. Есть кстати, более легкий путь. Он даже не требует дрессировки. Толпе предлагают уже готового кумира. Он же, в свою очередь, сознательно или нет — не суть важно, готов исполнить любую волю хозяина.
— А если толпа не примет подсадного кумира?
— Примет.
— Он ведь будет отвечать ее чаяниям.
— Поверьте, это совсем не сложно, рассчитать, кто в ближайшее время будет востребован — ну, к примеру — молодой интеллектуальной элитой.
Итак, посредством нехитрых расчетов мы воссоздаем примерный образ будущего кумира.
Скажем, это писатель, создающий примерно вот такие романы, язык его таков, биография примерно такова, лет около….
И так далее….
Приглядываемся к тем, кто соответствует этим параметрам, но еще не вкусил славы. Мы ведь прогнозировали будущее. Набирается с десяток непризнанных гениев.
Теперь смотрим, кто из них наиболее управляем, гибок? Иными словами, готов стать послушным проводником нашей политики.
Останавливаем выбор на N.
Он подходит больше других.
Что ж, другим придется уступить нашему избраннику дорогу.
Бедолаги!
С ними начинают случаться самые неприятные вещи — от мелочей, до серьезных осложнений и даже трагедий.
Перед N же, напротив, загорается зеленый свет.
Все у него получается.
А если, вдруг, и случиться какая неприятность, словно невидимая, добрая сила вытащит его из передряги.
И скоро — он знаменит.
Кумир.
И совершенно в нашей власти, хотя не подозревает об этом.
Наступает время, и нам что-то нужно от молодой интеллектуальной элиты.
Скажем, предстоит принять закон, который каким-то образом ее затронет.
Или нам нужны ее голоса на выборах.
Что потребуется для этого?
Очень немногое.
Всего лишь подтолкнуть кумира, а вернее кумиров — ибо одному, здесь, понятно, не справится — к мысли о том, что этот закон нужен, а кандидат предпочтителен. Остальное — они сделают сами.
Все просто, как видите.
Ловкость рук и никакого «мошенства». Так говорили фокусники во времена моей юности.
— Но вы не фокусник.
— Не стану спорить.
— И значит, я должна поверить в то, что вы мне сейчас рассказали?
— Нет, дорогая моя, ничего вы не должны. Можете верить. Можете считать все это моим стариковским бредом.
— Но как я могу поверить в то, что люди, перед которыми преклоняются миллионы, которых любят, обожают, боготворят…. всего лишь марионетки, безвольные проводники чужой воли?
— Те, кто создал бессмертные творения искусства, покорил вершины в спорте, кто делает мировую политику, наконец — на самом деле послушные зверушки, которыми правит кнут дрессировщика?!
— Не только кнут, но и пряник тоже, вы, похоже, не слишком внимательно меня слушали.
— И потом — разве я говорил обо всех? И разве кумирами становятся исключительно возвышенные творцы? Куда, скажите на милость, вы дели массовую культуру? Забыли, в полемическом азарте? Напрасно.
Толпа, как правило, не способна по достоинству оценить шедевры.
Ее кумиры просты, безыскусны и не отягощены интеллектом.
Они легко поддаются дрессуре.
— Но кто же дрессировщик?
— Правительства? Спецслужбы? Какие-то мировые синдикаты?
Тайные ложи? Масоны?
— Масоны здесь не при чем. И, к слову, пора уж, наконец, оставить их в покое. Дурная привычка, все мировые катаклизмы немедленно списывать на счет масонов. Им бы хотелось, конечно, такого могущества, спору нет.
Да куда там!
Что же касается, правительств, спецслужб, международных корпораций…..
Да, разумеется.
И они тоже.
Но — всюду люди.
И у каждого, возможно, есть свой кумир….
Джин, выпущен из бутылки, но кому он служит на самом деле?…
Тихий мелодичный звон неожиданно разлился в воздухе и прервал старика.
Но он не рассердился.
Только поднял предостерегающе указательный палец вверх и загадочно улыбнулся.
— Что это, Лев Модестович? Вам запрещают говорить?
— Запрещают? Что вы, Леночка, милая моя! Запреты популярны в вашем мире, здесь в них нет никакого толку. Все уже совершено.
— Тогда что же?
Он не ответил.
И снова загадочно улыбнулся в ответ.
Улыбка его стала несколько отстраненной.
Казалось, он больше не замечает ее, и улыбается вовсе не ей, а какому-то своему мимолетному, теплому воспоминанию.
А звон, между тем, продолжался.
— Елена Павловна? Я, кажется, разбуди вас. Простите. Но уже полдень.
— Да, конечно…. Здравствуйте. Кто это?
— Аникин.
— Здравствуйте, Игорь Константинович.
Звонил главный редактор издательского дома.
Того самого, что проводил конкурс.
Победителем которого стал…
Впрочем, вспоминать о победителе этого злополучного конкурса Елене Павловне Корсаковой совсем не хотелось.
Однако, пришлось.
— Еще раз простите, что разбудил. Есть повод. Думаю, он меня реабилитирует.
— Вы решили заключить со мной контракт?
— Не я. То есть и я, конечно, тоже. Но дело не во мне. Вчера конкурсная комиссия окончательно остановила на вас свой выбор. Поздравляю!
— То есть как это — на мне? А Неведомский? Вы же сами подписали письмо.
— Знаете, Елена Павловна, мне бы не очень хотелось говорить на эту тему. Откровенно говоря, там какая-то непонятная, если не сказать — темная — история. В общем, господин Неведомский отозвал свою работу и от участия в конкурсе отказался.
— Но почему?!!
— Елена Павловна, официально он не объяснил своего поступка. Правилами это не возбраняется. А повторять сплетни — уж, извините! — мне бы не хотелось. Да и вам-то что за дело до его приключений?! Откровенно говоря, мы с самого начала отдавали предпочтение вашей работе, но….
— Что за «но», Игорь Константинович? Извольте все же объясниться, это касается непосредственно меня. И я хочу знать!
— Ну, как вы не понимаете? Было определенное давление. Из разных инстанций — коммерческих, политических…. Пресса, опять же! Вы ведь знаете Неведомского, он горы способен свернуть на своем пути. А на пути конкурентов — воздвигнуть….
— Тогда, я тем боле хочу знать, что с ним произошло. Отчего это вдруг инстанции отступились? Я гор не сворачивала, и уж тем более — не воздвигала!
— Что вы, голубушка! Ни у кого и в мыслях нет ничего подобного. Ваша репутация, слава Богу!.. Ну, хорошо-хорошо…. Чтобы вас успокоить, возьму грех на душу. Говорят, его уличили в каких-то неблаговидных делах. То ли он эту работу у кого-то списал. То ли — купил. В общем, не его это работа. Он испугался. И отозвал.
— Да кто уличил— то?! Работы ведь обсуждались только на вашей комиссии?
— Вот уж не знаю! Ничего больше не знаю! Мы не уличали. Увольте! Но работу он отозвал. Да что вы, в конце концов, так всполошились из-за этого фанфарона?! О своем будущем думать надо! Такие перспективы! Такие открываются горизонты! Вы, что же, не рады?!
Конечно, она была рада.
Вот только странный сон….
Впрочем, сейчас, проснувшись окончательно Елена Павловна совсем не уверена была в том, что виденное ею во сне, не приключилось на самом деле.
Когда-то давно, на прохладном побережье Ла-Манша.
Разве тогда не говорил ей этих слов странный старик?
Определенно, говорил!
А как же — иначе?…
Снова звонит телефон.
Секретарь из ее офиса очень взволнована, вроде даже — плачет:
Елена Павловна, вы не смотрите телевизор?
Нет. Что случилось?
Горина погибла!
Как погибла?!!!
Взорвали торговый центр. Ну, этот, новый, в центре…. Террористический акт. А они, оказывается, были в ресторане….
Кто — они?!!!
Горина и Сергей Макеев. Он — с телевидения….
Женщина, не дослушав, опустила трубку…..
«Джин выпущен из бутылки, но кому он служит?
Вот в чем вопрос….»
Апрель— июнь 2001 года. Пос. Николина гора.P. S. — Этот роман полностью является вымыслом автора.
Совпадение имен, названий, и некоторых ситуаций с именами реально существующих лиц и ситуациями, имевшими место в их жизни, может быть только случайным.



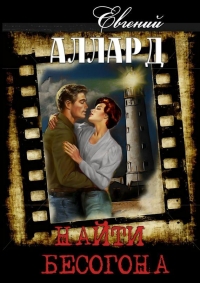


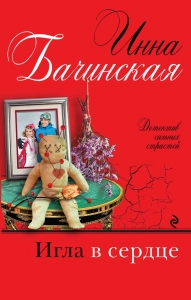





Комментарии к книге «Игры марионеток», Марина Андреевна Юденич
Всего 0 комментариев