Карл Станиславович! Прошу Вас, самостоятельно задайте перцу Можайскому — мне, вы понимаете, не с руки — и этому его помощнику, будь он неладен! И еще одна просьба частного характера, если позволите: не могли бы Вы — лично или через нашего князя — прояснить некоторые обстоятельства яхтенного похода Лобанова-Ростовского, в котором участвовал ныне покойный отец В.А. Гесса? Интересующие меня детали я сообщу дополнительно.
Клейгельсъ
P.S. И вот еще что: Гесс, конечно, лопух, но Вы не слишком усердствуйте: хорошие надежды подает человек.
Выдержка из рапорта барона фон Нолькена К.С.
…чем явно нарушил данные ему инструкции. Со своей стороны, именно это и следует рассматривать в качестве причины того, что наш человек оказался под арестом, а далее — в неподготовленном и спешном отъезде. Также считаю нужным отметить тот факт, что грубое вмешательство в дела иного, нежели ему определенного, порядка привело к гибели человека, известного под псевдонимом «Брут» и находившегося в разработке…
Настоящим прошу определить меру взыскания или наказания старшему помощнику участкового пристава к.а. Гессу.
Полицмейстер IV отделения бар. Нолькенъ
Выдержка из рапорта Гесса В.А.
На состоявшемся в ночь перед указанными событиями совещании я получил ясные и не допускающие двоякого толкования приказы моего непосредственного начальника — его сиятельства подполковника князя Можайского Юрия Михайловича. Это значит, что вся ответственность за случившееся лежит на мне одном и только я должен понести соответствующее моему проступку наказание.
Старший помощник участкового пристава коллежский асессор Гессъ
Дурак ты, братец Вадим Арнольдович!
Можайской
— Митрофан Андреевич! — снова позвал я, впрочем, не решаясь тронуться с места.
На этот раз полковник обернулся:
— Ну, что еще?
— Совсем из головы вылетело…
Взгляд Митрофана Андреевича, только что отсутствующий, стал скептическим:
— Из головы?
— Да… то есть…
Я покраснел, в полной мере осознавая неловкость моего положения.
— Да говорите уже наконец!
— Я так ничего и не понял насчет семи тысяч… тех, что Анастасия внесла в эмеритальную кассу. Зачем она это сделала? Точнее — зачем Кальберг принудил ее это сделать?
Митрофан Андреевич пожал плечами:
— Я не вдавался в детали на этот предмет, но из того что я понял…
— Да-да, Митрофан Андреевич! Что вы поняли?
Моя попытка подлизаться заставила полковника усмехнуться: он явно начал оттаивать.
— Из того, что я понял, следует только одно: этим маневром Анастасия отвлекла от себя внимание надзорных служб, которые иначе могли заинтересоваться: откуда, собственно, у сестры нижнего пожарного чина столько движимого и недвижимого имущества? А семь тысяч — что ж: вот они, на виду, и все отданы на благое дело. И ведь семь тысяч — вполне разумное или, что правильней, вполне возможное для нижнего чина накопление. Другое дело, что Анастасии всё равно пришлось отказаться от прежнего своего общества. Она справедливо заметила Кальбергу: мол, вопросов не избежать. И вот — чтобы вопросы не провоцировать и чтобы на них не отвечать — Анастасия и выскользнула потихоньку из ставшего для нее привычным круга: жен, матерей, сестер и детей всех тех, кто был сослуживцами Бочарова. Коснулись мы этой темы разве что вскользь, но Анастасия, как мне показалось, была опечалена тем, что осталась совсем одна. Стоимость денег оказалась великовата. На этом — всё?
Я искренне поблагодарил Митрофана Андреевича, пусть даже — признаюсь — его пояснения не показались мне ни ясными, ни исчерпывающими.
— А теперь…
Со своего стула поднялся Гесс:
— А теперь, полагаю, мой черед!
Я согласился:
— Да: если Митрофану Андреевичу нечего добавить…
Полковник погрозил мне пальцем:
— Нечего, Сушкин, нечего!
— …тогда, Вадим Арнольдович, вам слово.
И вот здесь, дорогой читатель, я вынужден сделать отступление. Дело в том, что рассказ Вадима Арнольдовича был не только краток, но и чрезвычайно неполон: по вполне понятным причинам. Всё, что произошло с Вадимом Арнольдовичем после того, как Молжанинов застрелил «Брута», можно уложить буквально в пару слов. И этими словами станут «допрос» и «рапорт». Потому что — и это очевидно — никто не собирался давать Вадиму Арнольдовичу разъяснений. Скорее даже наоборот: было сделано всё, чтобы еще больше сбить его с толку.
Отсюда возникает резонный вопрос: как именно следует поступить, чтобы до вас, читатель, донести не обрывки картины, а хоть что-то подобное ее полноте?
Если просто переписать рассказанное Гессом, получится совсем не то. Но если добавить то, что лично мне тало известно позже и из других источников, получатся сумбур и сумятица.
В общем, дорогие мои, я в полной растерянности!
Есть, конечно, и третий путь — вложить в уста Гессу и другим чужие слова, распределив их между ними так, чтобы всё выглядело более или менее естественно. Но ведь тогда — не правда ли? — окажется, что я написал роман или повесть. Говоря иначе, художественное произведение, а вовсе не достоверный отчет! Ибо откуда в романах взяться достоверности? Приучен ли кто-то из нас доверять романам? Даже господин Верн — автор восхитительных и глубоко провидческих приключенческих книжек (за исключением разве что книг о профессоре Лиденброке[1] и мсьё Ардане[2]) — даже он вряд ли может претендовать на звание летописца, оставаясь — обеими руками и головой — в баснопишущем цехе[3]!
Кто из нас не мечтал, особенно в восторженных юношеских летах, о полете на воздушном шаре[4] или о путешествии через весь известный человечеству населенный мир[5]? Кто не следил с замиранием сердца за плаваниями капитана Немо[6] или перипетиями организации колонии на необитаемом острове предприимчивыми американцами[7]? Кто не сопереживал экспедиции лорда Гленарвана[8] и не восхищался благородным мужеством Дика Сэнда[9]? И кто же не знает капитана Гаттераса[10]?
Но, тем не менее, кто, положив руку на сердце, может сказать, что все описанные в книгах господина Верна вещи — правда, а не вымысел? Разве помогла выдающемуся французу репутация человека, способного заменить собою всю Академию[11]?
Скажу как на духу: я, разумеется, был бы не прочь заслужить репутацию, подобную репутации господина Верна. Но, будучи репортером, а не писателем, с известными поправками. А именно: я бы хотел, чтобы меня считали таким человеком, который тщательно выверяет факты и преподносит читателям только то, что в полной мере соответствует действительности. Но именно потому-то я и не могу прибегнуть к третьему открывающемуся передо мной способу подачи материала — превратить сухой, основанный только на фактах, отчет о событиях в полностью или отчасти художественное произведение!
Что же мне делать? Никакого пристойного выхода из ситуации я не нахожу. Ни один из вариантов мне не подходит. Верите ли, читатель? — хоть откладывай в сторону перо и бумагу и вовсе не готовь к печати главу о Вадиме Арнольдовиче! Но ведь и это — никакой не выход. И даже хуже: слабость, проявленная, можно сказать, на боевом посту! Ибо кто, как не мы, репортеры, находимся на передовой новостей и событий и призваны оповещать о них наше общество?
— Я готов! — сказал Вадим Арнольдович, замещая в центре гостиной Митрофана Андреевича. — Но, господа, вынужден предупредить: кое-какие детали к уже известным я, разумеется, добавлю, однако в целом мой рассказ вряд ли внесет полную ясность в уже сложившуюся у нас картину. По крайней мере, вряд ли он станет для вас откровением.
Можайский:
— Говорите, Вадим Арнольдович, мы вас внимательно слушаем. Тем более что именно вам выпала нелегкая доля… э…
— Крупно проштрафиться! — с грустной улыбкой закончил за его сиятельством Гесс.
Можайский тоже улыбнулся — губами, — одновременно прищурив глаза, чтобы хоть так притушить их собственную жуткую улыбку:
— Полно, не берите в голову: с кем не случается!
Чулицкий фыркнул:
— Действительно, Вадим Арнольдович: не берите в голову! При Можайском сам Бог велит вам сохранять спокойствие. Как говорится, если начальник таков, подчиненному ли выбиваться из ряда?
Гесс нахмурился. Чулицкий поспешил отвернуться, не преминув, однако, фыркнуть еще раз. Можайский же помахал рукой, как будто прощаясь с уходящим вагоном:
— Кажется, ты, Михаил Фролович, обещал помалкивать!
Чулицкий вновь обернулся и фыркнул в третий раз:
— Помолчишь тут, да-с! Никакого терпения не хватит!
Инихов:
— Господа!
— Курте свою сигару, Сергей Ильич!
Инихов бросил на Чулицкого лукавый взгляд и тут же окутался клубами табачного дыма.
Можайский подошел к Гессу и хлопнул его по плечу:
— Начинайте с Богом!
Гесс кивнул и действительно начал.
— Когда Молжанинов застрелил Брута, я было подумал, что и мне приходит конец. Но, как это ни странно, Молжанинов отложил револьвер и даже отодвинул его по столу как можно дальше от себя.
«Поздно, — сказал я в телефонную трубку, обращаясь к Зволянскому, — он только что застрелил человека!» Но взгляд мой при этом был устремлен на Молжанинова и, полагаю, в первые мгновения преисполнен ужаса.
Ибо — да, господа, признаюсь, не стыдясь: струхнул я изрядно! И хотя на меня не раз наставляли дуло, не говоря уже о том, чтобы стрелять, но никогда еще этого не делал миллионщик, которому — я готов был ручаться! — за деньги простилось бы всё. Чувство было на редкость неприятным; я даже ощутил, как правое колено начало предательски подрагивать. Но — а вот это скажу без ложной скромности — я быстро взял себя в руки. И как только это случилось, я преисполнился гнева — того, какой греки называли музическим, имея, очевидно, в виду то, что он посылается богами[12]!
Как бы там ни было, но я, отшвырнув телефонную трубку, буквально навалился на стол, подхватил с него револьвер, сунул его — револьвер этот — себе в карман, а затем, не глядя уже на Молжанинова, бросился к Бруту…
— Вот это, — Можайский, — напрасно!
— Юрий Михайлович, я…
Можайский снова похлопал Вадима Арнольдовича по плечу и, щурясь, чтобы притушить улыбку в глазах, пояснил:
— Лишиться такого помощника, как вы, Вадим Арнольдович, решительно не входит в мои планы. Поэтому запомните на будущее… нет! — Можайский усмехнулся. — Зарубите себе на носу: не поворачивайтесь спиной ко всякого рода мерзавцам, не убедившись верно в том, что они совсем безоружны! Ведь что могло получится?
— Я…
— А получиться, — не обращая внимания на явный протест Гесса, продолжил Можайский, — могло вот что!
— Юрий Ми…
— У Молжанинова мог оказаться другой револьвер: хоть в ящике стола, хоть в кармане. Мог оказаться нож…
— Но…
— Не спорьте, Вадим Арнольдович! Не спорьте. Мог оказаться.
— Да я…
— А вы, — Можайский особенной интонацией выделил это «вы», — повели себя неразумно. О чем вы думали, когда бегом отправились к Молжанинову, вместо того чтобы мои поручения исполнять?
Гессу пришлось признаться:
— Я думал… я думал, что он и есть тот таинственный человек, через которого клиенты выходят на Кальберга!
— Говоря проще, вы полагали, что Молжанинов — преступник!
— Ну… — смущение, — да.
Можайский направил указательный палец вверх и произнес назидательно:
— Вот видите!
— И все же…
— А дальше он прямо на ваших глазах убил человека!
— Да, но…
— А вы, не обыскав его, не обездвижив, повернулись к нему спиной!
— Юрий Михайлович! — в голосе Гесса появилась такая настойчивость, игнорировать которую Можайский уже не смог.
— Ну? — спросил он. — Ну?
— Да ведь Зволянский сказал мне, чтобы я ничего не предпринимал и просто дожидался прибытия либо его самого, либо чиновника для поручений!
Можайский, невольно отступив на шаг, всплеснул руками:
— И что с того?
— Ну как же…
— Вадим Арнольдович! Дорогой вы мой! — Можайский опять приблизился к Гессу. — Что вы такое говорите? На ваших глазах человек, подозреваемый вами в совершении тяжких преступлений, спокойно, хладнокровно — непринужденно, можно сказать — застрелил собственного служащего, проявив при этом изрядную меткость, а вы положились на приказ Сергея Эрастовича, который ни сном, ни духом…
— Зволянский…
— Сергей Эрастович находился в нескольких верстах от вас. Вам самому не интересно, какой была бы его реакция на обнаружение еще и… вашего трупа?
Гесс вздрогнул.
— Что, неприятно?
Во взгляде Гесса появилась нерешительность:
— Приятного, конечно, мало. Однако, Юрий Михайлович, ситуация была необычной: вы должны с этим согласиться! Молжанинов — по заверению Зволянского — вовсе не был обычным преступником…
— Это вам Сергей Эрастович по телефону сказал?
— Нет, но…
— «Нет, но…» — передразнил Гесса Можайский. — В тот самый момент, когда вы — по вашему же выражению — отшвырнули трубку, схватили револьвер Молжанинова и, сунув его в карман, бросились к вашему убиенному приятелю, вы знали, что Молжанинов — преступник… э… не совсем обычный?
— Нет.
— Ведь поэтому-то — и снова по вашему же признанию! — испугались?
— Да.
— И даже без чувства ложной скромности поведали нам, как справились с собственным страхом?
— Я…
— Так с чем же, а главное — зачем вы спорите?
Можайский, перестав щуриться, посмотрел Гессу прямо в глаза. Тот снова вздрогнул.
— Слушайте, Юрия Михайловича!
Гесс оборотился, на вынувшего изо рта сигару и переставшего дымить Инихова.
— Слушайте, слушайте! — повторил Сергей Ильич. — Вы поступили необдуманно…
Смешок:
— Ему, — Чулицкий, — не привыкать!
Можайский:
— Михаил Фролович!
Чулицкий в очередной раз фыркнул и в очередной же раз отвернулся.
Инихов, улыбнувшись, закончил:
— При других обстоятельствах необдуманность вашего поступка, Вадим Арнольдович, могла бы стоить вам жизни: Юрий Михайлович прав. Да и в том случае, если бы даже вы наверняка знали, что лично вам Молжанинов не опасен, полагаться на такую убежденность не стоит. Ошибиться так легко…
— В общем, — подытожил Можайский, — больше так не делайте!
Гесс вздохнул:
— Если меня вообще оставят на службе…
— Простите?
— Я говорю: если меня после всего случившегося вообще оставят на службе, а не вышвырнут взашей, тогда уж впредь я буду осторожней. Обещаю.
Чулицкий повернулся обратно — лицом к Гессу и Можайскому — и посмотрел на Вадима Арнольдовича внимательно.
Стоя под этим откровенно оценивающим взглядом, Гесс явно испытывал неловкость, но молчал.
Наконец, Чулицкий — уже без фырканий и насмешек — сказал:
— Глупости. Никто вас ни в какую шею не вытолкает!
И вдруг, после непродолжительной паузы добавил:
— А хотите, я лично дам вам рекомендацию?
Гесс смутился:
— Михаил Фролович, я очень признателен вам, но…
Чулицкий, едва ли не копируя на свое лицо доброе выражение лица улыбавшегося Инихова, тоже улыбнулся, и его собственное лицо вдруг приоткрылось необычными для посторонних чувствами — и добротой, и отзывчивостью, и чем-то еще, что лично я навскидку определить не смог, но что мне, тем не менее, понравилось:
— Я, пожалуй, скоро уйду[13], поэтому бояться мне совершенно нечего. В отличие от Можайского, которому еще служить и служить…
— Михаил Фролович!
Чулицкий отмахнулся:
— Да знаю я, Можайский, знаю! Знаю эту твою… гм… «нашекняжесть». Так что ли просто тебя обожают и все твои нынешние, и все ушедшие? Ты не смотри на то, что я с тобой постоянно собачусь: характер у меня такой — ничего не попишешь…
Можайский моргнул.
— …вечно ты лезешь всех защищать и всех под крыло берешь! Даже странно, как тебя самого до сих пор не поперли…
Улыбка Михаила Фроловича стала еще шире.
Можайский закусил свою нижнюю пухлую губу.
— …и ведь что удивительно: никто, насколько мне известно, и рапорта на тебя за твои безумства еще ни разу не накатал! Это тем более странно, что — уж поверь мне, моралист несчастный! — люди в массе своей вовсе не добры, а злы. И завистливы — аж страшно порою бывает. А вот поди ж ты!
Можайский опять моргнул.
— Сколько тебя знаю, не перестаю удивляться!
Тогда Можайский пожал плечами:
— Возможно, Михаил Фролович, это потому, что я не считаю людей в массе своей злыми?
— Нет, — парировал Чулицкий, — тут что-то другое. Обаяние странное, я бы сказал. То ли совесть пробуждающее, то ли… жалость.
— Жалость?
— Ну да, именно жалость.
— Ко мне?
Чулицкий кивнул:
— К тебе, к кому же еще?
Если бы лицо Можайского, изуродованное несчастьем на море, могло нахмуриться, Можайский непременно бы нахмурился. А так — получилось всего лишь, что его разбитые брови чуточку только сдвинулись с места, отчего и без того глубокие и придававшие лицу неизменно мрачное выражение морщины и шрам у переносицы стали еще глубже:
— Что ты мелешь? — спросил Можайский, впрочем, не агрессивно.
Чулицкий покачал головой:
— Да ведь с тобой — всё равно что ребенка сладкого лишить! Сморишь на тебя и думаешь: давненько в мире не было таких блаженных. А блаженного обидеть — грех немалый на душу взять. Почище, чем человека зарезать!
Инихов поперхнулся дымом.
Митрофан Андреевич кашлянул и провел рукой по своим усам.
Можайский оглянулся на того и другого и спросил, обращаясь к обоим разом:
— Вы тоже так думаете?
Оба поспешили сделать вид, что не расслышали вопрос.
Тогда Можайский обратился ко мне:
— А ты что скажешь, летописец?
Я растерялся и поэтому ответил не сразу.
С одной стороны, в словах Чулицкого определенная доля правды была: Можайский действительно производил впечатление Дон Кихота современности, и это его донкихотство прямо-таки бросалось в глаза. Но с другой, Можайский — в отличие от своего ламанчского родоначальника[14] — явным сумасшедшим не был. Даже наоборот: иные из его поступков выдавали в нем человека ухватистого, ловкого и на редкость здравомыслящего. И вообще Можайский не забывал о себе. И пользоваться преимуществами своего, пусть и скромного, положения тоже умел. А заодно и теми преимуществами, какие давались ему обширными от рождения связями в обществе: родственными, свойственными, дружескими и даже просто приятельскими. Как это происходило, вы, читатель, видели, скажем, на примере посещения Можайским Императорского яхт-клуба: будь Можайский заурядным Дон Кихотом — а таких (Михаил Фролович, считая их явлением редким, на мой взгляд, глубоко ошибался) совсем немало… будь, повторю, Можайским заурядным Дон Кихотом, его и на пушечный выстрел не подпустили бы к Собранию этого клуба, и князь Кочубей — эта великосветская лампа накаливания — уж точно не отложил бы все свои планы, чтобы встретиться с ним!
Я растерялся, не зная, что и сказать.
— Ну? — поторопил меня Можайский. — Что же ты молчишь?
— Видишь ли… — нерешительно начал я. — Ты, разумеется, не ребенок.
— Какое откровение!
— Но…
— Что?
— Михаил Фролович прав: люди к тебе тянутся, а это неспроста. Не бывает так, чтобы симпатию испытывали все и… — я запнулся, подбирая слово, — безотчетно. Это что-нибудь да значит. Но что? — вот вопрос! И, если честно, ответа на него я не вижу. Мне ты кажешься человеком незаурядным, но хоть убей: ума не приложу, почему!
Можайский отвернулся от меня, вновь сосредоточившись на Михаиле Фроловиче:
— Ладно, — заявил он, — так что там у тебя для Гесса?
Вадим Арнольдович сделал движение вмешаться, но Можайский и Чулицкий — одновременно — шикнули на него, требуя не лезть.
— Я подам собственный рапорт, — ответил Можайскому Михаил Фролович, — в котором представлю твоего помощника в наилучшем свете. А ты не суйся: всему рано или поздно приходит конец. И это — не тот случай, чтобы рисковать. Дело не просто серьезное. По вскрывшимся обстоятельствам, оно имеет чрезвычайную государственную важность. А вмешательство твоего помощника…
Чулицкий на мгновение замолчал.
— …наше вмешательство, — тут же поправил он самого себя, — если и не окончательно что-то там сорвало, то уж точно — нанесло почти непоправимый или с большим трудом поправимый вред. Такое даже тебе не простится.
Пауза.
— А мне — всё равно. Я, пожалуй, решил окончательно: ухожу. Мне и слово. Так что, — теперь Михаил Фролович обращался уже к выглядевшему совсем несчастным Гессу, — не переживайте, Вадим Арнольдович: всё будет хорошо. На службе вы останетесь. Это я вам обещаю!
Можайский подошел к Чулицкому и — без слов — пожал ему руку.
Эта сцена показалась мне настолько трогательной, что у меня рука не поднялась вымарать ее из записей. И пусть она к описываемым мною событиям не имеет прямого отношения, мне показалось, что оставить ее, подать ее благодарному читателю — мой долг. Не только репортера, но и человека.
Итак, то и дело вспыхивавшие между его сиятельством и Михаилом Фроловичем препирательства наконец-то завершились самым приличным, хотя и неожиданным образом. До сих пор мне почему-то казалось, что не слишком приятная ворчливость начальника Сыскной полиции и его склонность к нападкам по поводу и без непременно выльются в какой-нибудь скандал — тем более грандиозный, что недовольство этими качествами Чулицкого копилось долго: не только в Можайском, но и в других. Но, к счастью, я ошибся, недооценив ни самого Михаила Фроловича, с которым до сих пор сталкивался лишь мельком — сравнительно с этим долгим и обстоятельным совещанием в моей гостиной, — ни его собственное если и не донкихотство — как у Можайского, — то уж качество бескорыстного жертвователя — точно. И это было тем менее простительно для такого стреляного воробья, как я, чем больше я мнил самого себя знатоком человеческих душ и сердец.
Возможно, и это мое отступление является лишним ad plenam[15]. Но — пусть, тем не менее, будет: quocumque aspicio, nihil est, nisi pontus et aer[16]. Оно само собой затеряется в пене и ветрах. А нет, значит так суждено[17].
— Брут, — после всех перипетий и неожиданных сценок продолжил пришедший в себя Вадим Арнольдович, — был убит наповал. Никакую помощь ему я оказать уже не мог и поэтому вернулся к Молжанинову.
Миллионщик — скотина этакая! — по-прежнему сидел за столом и — вы не поверите! — улыбался.
«Чему вы так радуетесь?» — спросил я.
«Есть причины!» — просто ответил он.
«Вы за это ответите!»
«Не думаю!»
Улыбка сошла с лица Молжанинова, но само лицо продолжало выражать непонятное мне удовлетворение. Чем же этот человек был так удовлетворен? Насколько бы предвзятым ни было мое мнение о нем, но даже я усомнился: разве может быть такое, чтобы один человек получал удовольствие от самого процесса убийства другого человека? Конечно, возразите вы, встречаются маньяки, для которых именно сам процесс — наслаждение, толкающее их на преступления. Но Молжанинов ни капельки не был похож на маньяка, а значит и мотив для радости был у него… другим. Во всяком случае, я так подумал, и, как ни странно, Молжанинов тут же это подтвердил:
«Удивляетесь?» — начал он.
«Вы хотите об этом поговорить?» — как бы поддел его я.
Молжанинов комфортно откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе и посмотрел на меня не то чтобы насмешливо, но с таким выражением, которое не оставляло сомнений: он ощущал свое полное превосходство!
«Отчего бы и не поговорить?» — теперь уже он явно меня поддразнивал. — «У вас, я вижу, немало вопросов!»
«Вы что же, — я не поверил своим ушам, — готовы на них ответить?»
«Почему бы и нет?»
«Вот как!»
«Что же тут странного?»
К моему вообще уже неописуемому удивлению, Молжанинов снова придвинулся к столу и, одной рукой указав мне на кресло напротив, другой нажал на кнопку электрического звонка.
«Кого это вы зовете?» — воскликнул я.
«Не беспокойтесь, Вадим…»
«Арнольдович».
«Не беспокойтесь, Вадим Арнольдович: я всего лишь попрошу принести нам кофе. Или вы предпочитаете чай? Возможно, чего-то поинтересней?»
На вызов явился лакей. И я совсем перестал что-либо понимать.
Лакей этот — сухонький и благообразный на вид старичок лет под восемьдесят: знаете, из таких, о которых ныне разве что в книжках читать доводится — в роскошной ливрее, напудренном парике… на ногах — башмаки с большой золоченой пряжкой… В общем, старомодный такой лакей… Так вот: я ожидал, что он, увидев распростертое на полу тело, поднимет крик, отшатнется, выбежит вон… но ничего этого не случилось. Наоборот: запнувшись на пороге, он всмотрелся в труп и вдруг, признав в нем Брута, рассмеялся! Представляете, господа? Рассмеялся!
— Вы задержали этого милого старичка?
Вадим Арнольдович только рукой махнул:
— Куда там! Я был настолько поражен его необычной реакцией, что словно прирос к стулу. Язык же мой и вовсе отказался мне служить. В горле у меня мгновенно пересохло. По спине побежали мурашки… ко мне — клянусь! — вернулся давешний страх!
«Значит, с Аркашей нашим — всё?» — без всяких церемоний, отсмеявшись, обратился к Молжанинову странный лакей.
Молжанинов кивнул.
«А этот господин?..»
«Не обращай внимания: это — господин из полиции».
Услышав о полиции, старичок ухмыльнулся:
«Любо, любо… но не рановато ли?»
Молжанинов развел руками:
«Я его не приглашал. Сам явился».
Старик подошел ко мне и — невероятно! — положил мне руку на плечо:
«Молодой человек!» — это он ко мне так обратился. — «Вы к нам по делу?»
Я дернулся.
«А!» — старичок убрал руку с моего плеча. — «Вижу, что нет… Семен, да как же это?»
Лакей, обращающийся по имени к своему хозяину! Мурашки на моем позвоночнике сменились капельками пота на лбу.
Молжанинов опять развел руками:
«Черт их поймет — его и его начальника…»
«Уж не Можайского ли князя?»
«Ну да, его самого!»
«Хм…» — саркастически хмыкнул старик. — «Ну, коли Можайского…»
«Так вот, — перебил своего невероятного лакея Молжанинов, — черт их поймет — князя этого и Вадима Арнольдовича…»
Кивок в мою сторону.
«…как они вышли на меня, но об истинных обстоятельствах они явно ничего не знают!»
«А с этим что?» — старик ткнул пальцем в Брута.
«Хотел сдаться и всё рассказать!»
«Каков негодяй!»
К моему ужасу, старик подошел к трупу и пнул его ногой.
«Ладно, ладно… — Молжанинов призвал старика проявить определенную сдержанность. — Ты вот что: организуй-ка нам…»
Прямой взгляд на меня. Я сдался:
«Мне — водки, пожалуйста», — жалобно — признаюсь — попросил я.
«Рекомендую, сударь, шампанского!» — старик снова оказался подле меня. — «У Семена Яковлевича — отличный выбор!»
«Водки, водки Вадиму Арнольдовичу! Сейчас шампанское для него — что вон тому припарка!»
Меня передернуло.
«А мне… да тоже водки, пожалуй. И знаешь чего еще? Огурчиков! Тех, что Марья Ивановна прислала!»
Старик ухмыльнулся и вышел из кабинета.
«Эх, Вадим Арнольдович! — Молжанинов потер руками. — «Смею вас заверить, огурчики у меня — во!»
Я обреченно провалился в глубину кресла.
— М-да… — не выдержал Митрофан Андреевич. — А вы не побоялись, что вас вот так и застанут: за пьянкой с подозреваемым да еще и над трупом?
Гесс скривился:
— К тому моменту я уже настолько потерял ощущение реальности, что мне было все равно. Всё происходило как будто не со мной!
Митрофан Андреевич, более не задавая вопросов, кивнул.
— Старик вернулся через пару минут: с подносом. Поначалу поставив поднос на стол, он метнулся куда-то вбок и выкатил оттуда столик на колесах — эдакое подобие тележек для официантов, но с тою разницей, что эта «тележка» была богатейшей работы: драгоценного дерева, с инкрустациями, покрытая лаком… Столик — или тележка — оказался подле меня, и уже на него старик переставил с подноса рюмку, один из двух графинов и глубокую тарелку с даже на вид изумительными малосольными огурчиками. Рядом он положил салфетки и вилку с ножом. Правда, выкладывая нож и вилку, улыбнулся с хитринкой:
«Политес, знаете ли… — обращаясь ко мне, сказал он. — А все же, сударь мой, вы не стесняйтесь: берите огурчики руками. Так оно и удобней, и аппетитнее!»
«Да, Вадим Арнольдович, — поддержал своего невероятного слугу Молжанинов, — не стесняйтесь! Я — человек простой и уж что-что, а огурчики предпочитаю ручками!»
Он наклонился через стол и подхватил с другой — еще стоявшей на подносе — тарелки «свой» огурец. Через секунду послышался хруст.
«Мммм…» — жуя, покачал головой Молжанинов. — «Мммм…»
— Вы это… серьезно рассказываете? — Инихов, вынув изо рта сигару, смотрел на Гесса и явно не верил своим ушам. — Кто-нибудь, ущипните меня!
На лицах всех остальных, считая и Чулицкого, было такое же, как и на лице Сергея Ильича, выражение растерянности напополам с недоверием: уж не шутит ли, не смеется ли над почтенной публикой Вадим Арнольдович?
Такое же выражение, полагаю, было бы и на лице Можайского, если бы вечно мрачное лицо «нашего князя» могло выражать эмоции, а его глаза — не только улыбаться. Я полагаю именно так потому, что Можайский то и дело покусывал свою нижнюю пухлую губу и то и дело то засовывал руки в карманы, то вынимал их, не находя им места. Рассказ Вадима Арнольдовича — или его начало — явно казался его сиятельству вопиющим: и странным, и диким одновременно!
Я тоже ощущал себя не в своей тарелке: лихо закрутившись — пальба, трупы, мурашки — рассказ приобрел вдруг облик какого-то гротеска, чего-то нереального, чего-то, больше похожего на странные фантазии новомодных художников.
Поэтому и я присоединился к Сергею Ильичу:
— Меня тоже! — пробормотал я, пристально глядя на Гесса.
Но Вадим Арнольдович и не думал над нами насмехаться. Он, видя нашу реакцию на его рассказ, сложил ладони в молитвенном жесте и обратился ко всем нам — без всяких преувеличений — умоляюще:
— Господа! — его голос явственно дрожал. — Прошу вас, верьте мне! Я и сам понимаю, насколько это всё дико звучит, но… но…
Вадим Арнольдович замолчал, не зная, как объясниться.
Можайский вздохнул:
— Всё понятно… эх, молодость! Эх…
Вадим Арнольдович, однако, покачал головой:
— Нет-нет, это здесь ни при чем! Просто… я никогда не оказывался в таких ситуациях. Это было… ну вот же! — Вадим Арнольдович едва ли не подпрыгнул ко мне и схватил меня за рукав. — Это как ваши чувства, Никита Аристархович, когда вы увидели, как ломают ваш стол!
Я на мгновение опешил, а потом — неожиданно для самого себя — искренне рассмеялся:
— Понял! — воскликнул я. — Конечно!
Взгляды с Гесса переметнулись на меня.
— Или, — добавил я, — это так же, как Можайский, сующий бутылку с керосином в мой камин!
— Вот! — обрадовался Вадим Арнольдович.
Удивленные, растерянные, недоверчивые выражения на лицах сменились усмешками: как по мановению волшебной палочки. Вроде бы и ясности — на словах — больше не стало, но в то же время всё и объяснилось!
— Да, господа, — вновь, но уже повеселевший, заговорил Гесс. — Это было настолько выбивающим из колеи, что я действовал даже не как в тумане: никакого тумана и не было. Я вел себя даже не машинально. Я попросту отключился: мое сознание, мой разум ушли куда-то и там, в глубине, притаились, исполненные изумления, а место их заступила обреченность происходившим!
— Ладно! — заявил тогда Можайский. — Так что же дальше было? Как вам показались огурчики Молжанинова?
Теперь уже Вадим Арнольдович ответил в тон:
— Огурчики и впрямь оказались великолепными! Пожалуй, я в жизни не ел подобных огурцов! Они были и крепкими, и буквально тающими во рту одновременно. А соли в них, соли было ровно столько, чтобы, не возбуждая излишней жажды, служить отличной приправой. И как только я распробовал первый огурец, как только выпил первую рюмку, мир перед моими глазами принял более естественные формы, оставаясь, впрочем, по-прежнему ненормальным. Но это был уже не мир кошмара, а мир… Алисы в волшебной стране[18]!
Вадим Арнольдович по-детски улыбнулся.
— Да, — повторил он, — мир Алисы в волшебной стране! И это было тем более впечатляюще, что напротив меня, похрумкивая огурцом, сидел убийца, а рядом — тут же, в паре шагов от моего кресла — лежало тело застреленного Брута.
«Ну-с, — тоже выпив, заговорил Молжанинов, — у нас, я полагаю, есть полчаса — час: вряд ли кто-то явится раньше. Пользуйтесь моментом, Вадим Арнольдович! Задавайте свои вопросы. Ибо уже через час такая возможность ускользнет от вас навсегда!»
Я — залпом — выпил вторую рюмку.
«Скажите, — начал я, соображая с чего же лучше начать и решив, что лучше всего — с начала. — Скажите, это ведь вы поставляли Кальбергу клиентов?»
Молжанинов на мгновение-другое задумался, глядя на меня проницательно и все же с долей сомнения — сомнения в отношении своих собственных выводов.
«Давайте так, — наконец, ответил он. — В двух словах обрисуйте мне общую картину: что вообще вам известно?»
Это меня немного удивило, но я тут же припомнил два обстоятельства. Первое — обращенные к Бруту заверения Молжанинова в том, что нам — полиции то бишь — неизвестно ровным счетом ничего. Второе — его, Молжанинова, а заодно и Брута явный испуг… да что там — испуг! Явны ужас, почти панический, охвативший их, едва речь зашла о пожарах и массовых убийствах.
До меня — возможно, уже не впервые: в первый раз нечто подобное я ощутил еще раньше — начало доходить: здесь не только что-то не так, а нет так вообще всё! И тогда я решился: выложил всё без утайки…
— Вот черт!
— Юрий Михайлович?
— Ничего-ничего… — Можайский махнул рукой. — Продолжайте!
— Я рассказал Молжанинову всё. Разумеется, насколько мог сжато, потому что время нас и впрямь поджимало. Вот-вот должны были явиться люди Зволянского, а то и сам он лично, а я не питал никаких иллюзий о последствиях для самого себя.
«Ну, что же!» — Молжанинов, выслушав мой рассказ, покивал головой. — «Этот Сушкин — удивительно прозорливый человек: вынужден отдать ему должное. А вот вы все… как бы это сказать помягче? Так, чтобы никого не обидеть?»
«О чем вы?» — спросил я.
Молжанинов ладонью взъерошил свою шевелюру, приведя и без того не очень послушные кудряшки в совершенный беспорядок.
«О вашей удивительной близорукости, о чем же еще!» — заявил он с прямой непосредственностью.
«В чем же она?» — настаивал я.
«Во всем. Но давайте по порядку».
Я согласился.
«Прежде всего, — начал загибать пальцы Молжанинов, — удивительно, как вы не заметили очевидное: в каждом из подмеченных вами — или Сушкиным — деле фигурируют люди Кальберга, а вовсе не мои. Далее — мой с Кальбергом разлад: вы так и не доискались до его причины…»
«У нас не было времени…»
«Да, — неожиданно легко согласился Молжанинов, — начали вы лихо! Пара дней, и вот уже Кальберг в бегах, его люди… а что, кстати, с его людьми?»
Это уже был вопрос, относившийся к ходу следственных мероприятий, поэтому отвечать на него я отказался.
«Понимаю, — Молжанинов снова легко согласился с моими доводами. — Но лично я полагаю, что все они тоже разбежались! Вот увидите, что я прав».
Я пожал плечами: мое доверие к коллегам было непоколебимо.
— Спасибо на добром слове! — в голосе Чулицкого, еще вот только что говорившего с необыкновенной теплотой, вновь появился едкий сарказм.
Гесс подметил его и сказал просто:
— Но это — правда, Михаил Фролович. И вы же видите: ошибся не я, а Молжанинов!
Чулицкий тут же переменил гнев на милость:
— Шучу, Вадим Арнольдович, шучу… да! — повысив тон, тут же добавил он. — Да! Недооценил нас Молжанинов. Всех в тюфяки записал. А вот поди ж ты: и студенты у нас, и пожарные… вот только…
Чулицкий замолчал, но все мы поняли, о чем именно он не договорил: об исчезнувших то ли жертвах, то ли заказчиках преступлений — то ли исчезнувших просто и невесть куда, то ли зачем-то переправленных в Италию. И, конечно, обо всех этих валившихся на нас со всех сторон всё новых трупах: о Мякинине-старшем, покончившем с собою прямо в кабинете его сиятельства; о Некрасове-старшем, найденном зарезанным в подвале гимназии Видемана; о неопознанных обгорелых трупах в морге Обуховской больницы…
А если ко всему этому добавить еще и чрезвычайно странные сопутствовавшие обстоятельства — вроде некрасовской записки генералу Самойлову, — то похвальба Чулицкого, равно как и уверенность Гесса в коллегах, оказывались не слишком уместными.
Михаил Фролович понял это безошибочно и, нахмурившись, отстранился от нас: подобрал стакан и бутылку и — чуть ли уже не на правах отставного — отказался участвовать в дальнейшем обсуждении. Впрочем — вы читатель, увидите это позже — хватило его ненадолго.
Вадим Арнольдович, между тем, продолжал:
— Я не стал возражать Молжанинову на его безапелляционную уверенность в нашей общей беспомощности, ограничившись пространным «посмотрим». Молжанинов, услышав это, согласился со мной уже в третий раз и при этом, как и прежде, без всякого сарказма:
«Да, конечно, — сказал он. — Раньше времени и говорить не о чем!»
«Тогда…»
«Вернемся к нашим баранам. — Молжанинов показал мне два пальца. — Стало быть, — пояснил он, — два обстоятельства вы уже проморгали, а точнее, одно проморгали, а до причин второго не доискались… хорошо, пусть из-за недостатка времени: допускаю. Но как…»
Он загнул третий палец.
«…вы вообще объясните мое участие во всем этом?»
Я изумился:
«Но позвольте! — воскликнул я. — Именно вы и должны мне об этом рассказать!»
Молжанинов, однако, покачал головой:
«Нет, — возразил он. — Вижу, вы — на самой верхушке айсберга, истинные подоплеки происходившего вам неизвестны вовсе. Не обессудьте, Вадим Арнольдович, но при таком положении дел я не могу вдаваться в определенные подробности. Это не от меня зависит. Хотя мне-то, уж вы поверьте, скрывать совершенно нечего!»
«Вот так поворот!» — протянул я. — «О чем же тогда я могу вас спрашивать?»
Тогда Молжанинов усмехнулся:
«Н, первый-то свой вопрос вы уже задали, Вадим Арнольдович!»
«О поставщике?» — уточнил я.
«Вот именно!» — подтвердил Молжанинов.
«И вы честно на этот вопрос ответите?»
«Конечно!»
«Ну так что же?» — я слегка наклонился вперед. — «Это вы поставляли Кальбергу клиентов?»
«И да, и нет».
«То есть?» — не понял я. — «Как такое может быть?»
«Очень просто, Вадим Арнольдович, очень просто!» — Молжанинов залпом выпил третью рюмку и закусил. — «Я, разумеется, принимал самое непосредственное участие во всех этих… гм… аферах…»
«Аферах?!» — не удержавшись, вскричал я. — «Вы это называете аферами?»
Молжанинов ничуть не смутился:
«Да, — улыбнулся он, — я называю это аферами, так как на то у меня есть свои основания. Вы можете называть происходившее иначе: у вас тоже на то имеются свои основания. Просто, Вадим Арнольдович, мы с вами разговариваем на разных диалектах одного языка. Вроде слова по отдельности похожи, а общий смысл от нас ускользает. Заметьте при этом, Вадим Арнольдович, не только от вас, но и от меня тоже!»
Я вопросительно выгнул брови.
«Это просто, — пояснил Молжанинов. — Вы не понимаете меня, потому что не видите картину в целом, а я не могу вам ее показать. Я же не совсем понимаю вас, потому что ваше представление о происходящем лежит в настолько другой плоскости, что вы поневоле говорите загадками. В сущности, многое мне приходится домысливать, чтобы понять хоть что-то и — одновременно с тем — не выдать тайны, выдавать которые я не имею права».
«Ничего не понимаю!»
«Вот видите!»
«Но как же нам быть?»
«Давайте я вам вот что скажу… даже, пожалуй, не скажу, а расскажу. Возможно, вы поймете намеки, раз уж прямой разговор у нас не получается!»
«Хорошо, — немедленно согласился я, — но прежде…»
Я кивнул на Брута.
«Ах, он…» — Молжанинов оглянулся на старика, по-прежнему находившегося в кабинете, но стоявшего безмолвной тенью.
Это меня спровоцировало еще на один вопрос:
«А он-то кто?»
Старик, поняв, что этот мой вопрос касался его собственной персоны, вышел вперед и поклонился:
«Талобелов» — представился он.
Фамилия странного старика показалась мне очень знакомой. Что-то зашевелилось в моей голове. Замелькали какие-то воспоминания. Но это был такой хаос, что я никак не мог понять: что же мне напоминает фамилия «Талобелов»?
Старик, верно поняв мое затруднение, поклонился еще раз:
«Да, сударь, вы еще сравнительно молоды, чтобы помнить наверняка. Но вы обо мне читали».
«Читал?» — с сомнением переспросил я. — «Как — читал? Где? По какому поводу? Разве о вас писали?»
На губах старика появилась сухонькая улыбка. Это не улыбка даже была: его губы лишь чуточку искривились — намек на улыбку!
«Да, сударь, — подтвердил он, — обо мне писали».
«Но где?»
«В пособии».
Я удивился еще больше:
«В каком еще пособии?»
Старик оперся на спинку моего кресла, отчего поза его — старика, разумеется — намекнула на доверительность сказанного далее:
«Для соискателей полицейских классных чинов».
И тут в моей голове взорвалось, да так, что я подскочил из кресла, буквально вытолкнутый из него поразительной силой:
«Талобелов! — почти закричал я. — Лавра[19]!»
Старик опять — на этот раз не без очевидной гордости — поклонился.
«К вашим услугам, сударь!» — сказал он.
Я схватил его за руку:
«Так вы, — я продолжал едва ли не кричать, — тот самый Талобелов?»
«Тот самый, сударь».
«Невероятно!»
— Вадим Арнольдович!
Гесс повернулся в сторону Инихова.
— Да, Сергей Ильич?
— Вы уверены, что вас не разыграли?
Можайский:
— Это впрямь очень странно! Талобелов? Тот самый? Да быть такого не может!
Чулицкий:
— Я слышал, его давно… э… ну, в общем…
Поручик:
— Господа, господа! Вы о том Талобелове?
Монтинин:
— Нет, господа, этого решительно не может быть! Я справлялся о его дальнейшей судьбе — уж очень поразительная история! — и пусть никто не мог сказать что-либо определенное, но все сходились в одном: Талобелов давно мертв. А не сходились только во мнении, когда именно он умер.
— Точнее, — опять Чулицкий, — когда именно его убили!
— Да, — согласился Монтинин, — когда его убили.
Похоже, в этой гостиной все знали, о ком рассказал Гесс: все, кроме меня. Даже Митрофан Андреевич — совсем не полицейский, — и тот задумчиво и недоверчиво поглаживал свои усы, поглядывая то на Вадима Арнольдовича, то на Чулицкого, то на Инихова, то на Можайского. Даже он, полковник, вставил, наконец, свое слово:
— Вообще-то я слышал иное!
Все обернулись на Митрофана Андреевича и чуть ли не хором воскликнули:
— Иное? Что?
— Он заживо сгорел в пожаре на Гутуевском острове[20]!
— Господа! — решительно вмешался я. — Что здесь происходит? Кто такой этот Та… Тала…
— Талобелов.
— Да! Кто он такой? И почему известие о нем вас так взволновало?
Чулицкий:
— О, Сушкин! Неужели вы — при всех ваших вездесущести и прозорливости — ничего о нем не знаете и даже не слышали о нем?
— Нет.
— Вы меня удивляете…
— Я вас умоляю!
Чулицкий едва уловимо пожал плечами:
— Хорошо, хорошо… Талобелов — легенда нашего сыска!
Я посмотрел на Михаила Фроловича недоуменно:
— Легенда? Сыска?
— Да!
— Не может быть! Если бы…
— Еще как может! — перебил меня Чулицкий. — Но его история началась и… гм… закончилась тому назад вот уже добрых…
Чулицкий начал прикидывать в уме, но его опередил Инихов:
— Ровно двадцать пять лет, — сказал он. — Талобелова раскрыли в самом начале марта тысяча восемьсот семьдесят седьмого года.
— Раскрыли? — я. — Кто?
Чулицкий:
— Иваны[21].
Я заморгал:
— Его внедрили к ворам? Но как?
Чулицкий усмехнулся:
— Не было ничего проще: он и сам был вором!
У меня голова пошла кругом:
— Но Михаил Фролович! Вы же только что говорили, что он был полицейским! Легендой сыска! Я решил…
— Вы правильно решили, Сушкин: он и был полицейским. Полицейским надзирателем[22].
— Ничего не понимаю!
Чулицкий вновь усмехнулся:
— Вы, полагаю, слышали о так называемых осведомителях?
— О преступниках, ставших информаторами полиции?
— Да.
— Слышал.
— А в случае с Талобеловым всё было ровно наоборот: он, будучи полицейским, стал осведомителем уголовных. Сначала тех, что помельче, а после и до Иванов дорос. Его очень ценили: информация из его рук оказывалась невероятно полезной. Благодаря этой информации неоднократно срывались полицейские облавы. Благодаря ей же, крупные… как бы это сказать?.. авторитеты не раз ускользали из расставленных ловушек. А несколько раз именно Талобелов, имея доступ к сведениям определенного характера, помог Иванам провернуть очень крупные операции. В общем, — Чулицкий от удовольствия даже зажмурился на мгновение, — Талобелов стал целиком и полностью своим человеком в уголовной среде!
Я не верил ни своим ушам, ни своим глазам:
— Вы радуетесь тому, что полицейский — ваш, можно сказать, коллега — оказался… предателем?
Чулицкий едва ли не заурчал — как кот перед блюдцем сметаны:
— Еще бы! Ни до, ни после не было такого человека! Вы только вдумайтесь: простой надзиратель, а талантов, гения — на всё начальство вместе взятое! Впрочем, с непосредственным начальством ему крупно повезло…
— Постойте! — воскликнул я. — Это ведь при Путилине было?
— При нем, при нем: при Иване Дмитриевиче!
— Но он-то, — невольно вырвалось из меня, — как ухитрился прошляпить такое предательство?
Михаил Фролович, безусловно, подметил это мое невольное «он-то» — не слишком, говоря по правде, лестное для самого Михаила Фроловича, — но от замечаний воздержался, да и от обиды, похоже, тоже.
— Да как же вы все еще не понимаете? — спросил он.
— Да что, в конце концов, я должен понять?
— Всё, что делал Талобелов, делалось из соображений общественного блага! Этот удивительный человек никого не предавал.
— Но как же тогда, — я продолжал недоумевать, — выходило так, что его сведения оказывались настолько полезными для уголовных? Разве смысл внедрения в уголовную среду заключается не в том, чтобы эту среду… хоть как-то разредить? Вывести на чистую воду заводил, отправить их на каторгу, поспособствовать облаве на рыбу поменьше? А вы что говорите? С ваших слов получается, что этот — как его! — Талобелов действовал ровно наоборот: помогал преступникам уходить от сыска, прикрывал их операции, выдавал им полицейские планы…
— А еще, — Чулицкий — не в силах сдерживать переполнившее его чувство восторга — оскалился. — Еще он и сам начал выходить «на дело». И сам планировал операции, к которым — мало-помалу — стали подключаться не абы кто, а крупнейшие люди!
— Крупнейшие люди?
— Из уголовного мира, само-собой…
Я было кивнул — мол, понял, — но Чулицкий тут же поправил самого себя:
— Хотя — бывало — и не только уголовного!
Мой взгляд стал вопросительным.
— Помните, — тогда спросил меня Михаил Фролович, — некоего Невзлина? Действительного статского советника?
Это дело я, разумеется, помнил, хотя тогда мне было лет двенадцать или тринадцать: не запомнить его было невозможно!
Невзлин — крупный чиновник Министерства народного просвещения — попался на попытке вывезти заграницу две дюжины редчайших рукописей, за полгода до того украденных из Публичной библиотеки[23]. Разразился невероятный скандал. В конце концов, Невзлин признал, что он не только явился заказчиком преступления (рукописи были похищены в один из неприсутственных дней), но и лично принимал участие в операции: якобы он сам должен был видеть, что брать, а что — нет! Но и этого мало. Спустя неделю или около того — от ареста я имею в виду, — Невзлин, выпущенный до суда под честное слово (вот уж странность, не правда ли?), был взят с поличным на попытке убийства некоего — фамилию, хоть убейте, не вспомню — сомнительного дельца, по информации полиции связанного с уголовной средой и специализировавшегося на торговле крадеными предметами искусства! Разумеется, Невзлина тут же снова скрутили и отправили в крепость, откуда он вышел уже по этапу.
— Громкое было дело, ничего не скажешь, — признал я. — Но причем тут Талобелов?
— Как — причем? Это он всё и организовал!
Я опешил:
— Как — он? Невзлин!
— Нет, — Чулицкий опять не то расплылся в улыбке, не то заурчал подобно коту. — Невзлин был вором, положившим глаз на рукописи. Человеком он был небогатым, а за рукописи можно было выручить очень большие деньги. Вот он и решился. Но всю операцию разработал Талобелов: именно к нему и обратились Иваны, с которыми, в свою очередь — или прежде всего? — связался Невзлин. Каждому полагалась доля. Невзлин получал больше всех — собственно рукописи. Иваны — стойте крепко! — участие в прибыли одного не слишком дотоле известного товарищества, подвизавшегося на почве оказания библиотеке кое-каких услуг… кажется, речь шла о строительстве нового корпуса, но…
— О строительстве корпуса! — воскликнул я. — О каком корпусе вы говорите[24]?
— Я и говорю: кажется. Но все же, пусть и кажется, речь шла именно о строительстве.
Прозвучало это как-то… слишком туманно.
— Ерунда какая-то! — заметил я.
— Не совсем, — оспорил мое заявление Чулицкий. — Дело в том, что всюду, где проявлялась рука Талобелова, возникали самые невероятные, порою — фантастические, комбинации! Поэтому речь — чтобы Иваны заинтересовались — действительно могла идти о строительстве. Вы понимаете, все такие работы финансируются Казначейством, а где оно, там и…
— Да… — протянул я.
— Вот именно[25].
Мы немного помолчали, но затем я спросил:
— А Талобелов?
— Он получал пятнадцать тысяч рублей.
— Ого!
— Да. Но это — пустяки в сравнении со стоимостью рукописей и возможными присвоениями выделенных на строительство корпуса средств.
— Гм… — я решил зайти с другой стороны. — Но отчего же вы полагаете, что в этом… деле проявилось… как вы сказали? Служение Талобелова общественным интересам?
Михаил Фролович покачал головой:
— Вы все больше меня удивляете, Сушкин! Ведь то, о чем вы спрашиваете, очевидно!
— Да как же? — я действительно не понимал.
— Случай Невзлина не был первым. Другие не были настолько же громкими, но они были! Ценные экземпляры утрачивались библиотекой и ранее. И каждый раз они — ведь это понятно! — исчезали не сами по себе. Их воровали. Но кто? И как? Вот такие стояли вопросы. Иван Дмитриевич[26] пытался найти ответы, но безуспешно. И тогда свой план предложил Талобелов. План был дерзок и прост одновременно. Не стану вдаваться в его подробности, тем более что всех подробностей я и сам не знаю — откуда? — но из того, что мне известно, скажу следующее: Талобелов хотел подтолкнуть Иванов к розыску лица — достаточно влиятельного для того, чтобы провернуть через него выгодную аферу с расхищением государственных средств, и одновременно с тем — достаточно падкого на заработок воровством. Тут, очевидно, было много нюансов: во всяком случае, мне так представляется. Но теперь уже никто о них не расскажет, если только…
— Если только?
— Если только не тот старичок, которого вы встретили у Молжанинова. Не могу поверить, но вдруг он и вправду — сам Талобелов?!
— Да нет, — Инихов, — не может быть!
— Вот и я о том же…
— Господа! — оборвал я вновь зазвучавший скептический хор. — Господа! Но почему же Невзлина взяли только спустя полгода?
Чулицкий:
— Но ведь и это очевидно! Дмитрий Иванович ждал, желая выследить всю цепочку. Было понятно, что Невзлин не сможет извлечь прибыль из предприятия, не продав рукописи. Но кому он собирался их продать?
— Он же повез их заграницу!
— Да.
— Значит…
— Значит, покупатель был именно там.
— Но…
— Вас удивляет, зачем Невзлина задержали до времени?
— Именно!
Чулицкий развел руками:
— Обычное головотяпство. Правая рука не знает, что делает левая.
— То есть — случайность?
— Да.
— То есть — операция сорвалась?
— Верно.
— А скупщик? Скупщик тут причем? Тот, которого Невзлин пытался застрелить?
Чулицкий кивнул:
— Хороший вопрос!
— Вы что же, — изумился я, — сами не знаете ответ на него?
— Не знаю!
Я онемел.
Инихов:
— Видите ли, Никита Аристархович, Невзлин так ни в чем и не признался: кроме, разумеется, того, что сам — как он полагал — организовал кражу из библиотеки, а также лично участвовал в ней. Когда его взяли, он был перепуган до полусмерти, и первое, о чем он попросил, — обеспечить ему охрану!
Я ожил, но посмотрел на Сергея Ильича с сомнением:
— А вы откуда знаете? Вы ведь тоже еще… не служили?
Инихов утвердительно — и немного иронично — взмахнул сигарой:
— Куда там! — согласился он. — Мне было всего ничего… да так же, как и вам, наверное!
— Тогда откуда вы знаете такие подробности?
Теперь Инихов хитровато улыбнулся:
— Слухами земля полнится!
— Сергей Ильич!
Сигара Инихова снова пришла в движение:
— Хорошо, хорошо… это — тоже легенда. Я услышал ее года три-четыре тому назад, когда… впрочем, неважно: мы вели следствие по одному довольно щекотливому делу, и я целыми днями засиживался в кабачке у Сенной…
Нечто подобное я уже слышал и потому невольно улыбнулся:
— Опять в кабачке!
Инихов — уже без хитринки — улыбнулся в ответ:
— Что поделать? Это не я такой: работа у меня такая!
— Ну так что же? — «посуровел» я, а точнее — выплеснул свое нетерпение.
— За бутылкой и картами познакомился я с одним примечательным малым — большим знатоком истории… не книжной, вы понимаете, а вполне себе уголовной. И вот, среди прочего, рассказал он мне и такую легенду: однажды Иванов серьезно обманул человек оттуда… — Инихов потыкал сигарой в направлении потолка. — Обещал участие в дележе казначейских денег, но обещания не сдержал. И даже хуже того: не собирался данное Иванам слово держать, так как никакого дележа — из-за отсутствия финансирования — не предвиделось вообще. Но долю свою он получил! И чем бы вы думали? — книжками!
Инихов сделал эффектную паузу, словно сам был историком.
— Да, — уже естественным тоном продолжил Сергей Ильич, — услышав такое, я изрядно удивился. Но уже в следующее мгновение припомнил: ну конечно — Невзлин! А так как с именем этого чинуши было связано и имя Талобелова, я насторожился… точнее, нет: не насторожился, а вдвое против прежнего развесил уши. Уж очень хотел узнать подробности. И за подробностями дело не стало! Рассказал он мне всё от начала и до конца, но наиболее поучительным вышел конец: мол, еще никто безнаказанно не обманывал Иванов! Получалось, что Невзлин, хапнув свои рукописи, полгода после этого прятался по разным углам…
— Минутку! А как же его служба?
Инихов описал сигарой полукруг, что, вероятно, должно было значить, что вот тут-то он ничем не может мне помочь, так как и сам знает не больше моего:
— Служба, служба… — почти проворчал Сергей Ильич. — Да кто же теперь восстановит такие подробности? Моего собеседника такие детали не волновали, да и меня тогда, признаюсь, тоже… Ну, так вот. Примерно полгода — так выходило со слов историка — Невзлин провел в глубокой, как сказали бы наши друзья — французы, конспирации. Иваны объявили его во что-то вроде — только не смейтесь! — всероссийского розыска…
Я и не думал смеяться. Наоборот: по моей спине пробежали мурашки — настолько живо перед моим мысленным взором предстала жутковатая картина… Ночь, метель, Невзлин, вглядываясь, в почти непроницаемую завесу падающего снега, перебежками — от одного фонарного пятна к другому — продвигается по проспекту и не видит, как за ним, почти по пятам, но оставаясь вне поля его зрения — как и вне поля зрения городовых — крадется страшная фигура с ножом наготове…
— Смею вас заверить, Сергей Ильич, мне совсем не до смеха!
Инихов понимающе кивнул головой:
— Да, мне тоже было бы не смешно, если бы и за мной… вот так… представляете? Ходите вы и не знаете, где и как, а главное кто вонзит вам лезвие под ребро или перережет горло!
— Такое действительно бывало? В том смысле, чтобы Иваны объявляли на кого-то охоту и… доводили ее до конца?
Невзлин снова кивнул, но теперь его кивок выражал не понимание, а утверждение:
— Да, конечно, — ответил он. — Бывало. И не раз.
— Я уже готов пожалеть этого Невзлина!
— И есть за что!
— Так что же с ним приключилось?
Инихов помусолил сигару, выпустил клубы дыма…
— Иваны объявили его в розыск и назначили награду тому, кто либо выдаст место его проживания, либо сам доставит его к Иванам…
— Живым?
— Поначалу — да. Но когда история затянулась, в условиях появилась поправка: можно и мертвым. А можно и не доставлять: только голову!
— Кошмар!
— Еще бы!
— И Невзлин об этом знал?
— Мир не без добрых людей: очевидно, кто-то ему донес о действиях Иванов и о том, что за его голову объявлена награда. Вот он и впал в панику.
— И попытался бежать заграницу?
— Нет, не думаю.
— Но…
— Там у него, скорее всего, была и впрямь назначена встреча с покупателем, потому он и выжидал, потому же и отправился в поездку. А его паника выразилась в том, о чем я уже говорил. Едва его прихватили, он бросился умолять о защите и о том, чтобы его ни в коем случае не содержали с уголовными!
— И просьбу его, как я понимаю, выполнили?
— Да, вполне.
Я насторожился:
— Что значит — вполне?
Инихов нахмурился:
— Мне кажется, в этом вновь проявилась рука Талобелова.
— То есть?
— Невзлина вообще отпустили из-под стражи! Под самое обычное честное слово явиться на суд. Даже без письменного обязательства… а это не странно даже, а очень, очень странно!
— Действительно!
— А потом… ну, вы помните.
— Да: он попытался убить скупщика краденого.
— Что-то вроде того.
И снова я насторожился:
— Что-то вроде?
На этот раз Инихов просто пожал плечами:
— Напомню, что против торговца, к которому неожиданно явился Невзлин, не было ничего, кроме подозрений. А его роль во всей этой истории и вовсе осталась непроясненной.
— Ах, вот вы о чем!
— Да.
— А потом?
— А потом Невзлина судили уже по нескольким обвинениям, включая и покушение на человекоубийство. И приговорили, если мне память не изменяет, к лишению состояния[27] и к десяти годам каторжных работ. С каторги он так и не вернулся.
— Иваны?
— Именно!
— Достали и там?
— И даже легче, чем где бы то ни было еще.
— Так Невзлина убили?
— Не просто убили, а замучили до смерти!
Меня передернуло. По спине опять побежали мурашки.
— М-да… — только и смог я проговорить.
— Точно! — так же кратко отозвался Инихов.
Мы немного помолчали, а затем я спросил:
— А что же Талобелов?
Инихов пожевал сигару, вынул ее изо рта и сказал так:
— Талобелов продолжал работать. Несмотря на неудачу — с точки зрения Иванов — дела с ограблением библиотеки, доверия он не только не лишился, но и напротив — доверие к нему укрепилось еще больше. Ведь свою-то сторону договора он выполнил блестяще! Операции проводились за операциями, Талобелов — в глазах уголовных — заматерел настолько, что его начали посвящать в такие дела, о допуске к которым постороннего — да еще и полицейского, напомню! — прежде и речи быть не могло. Насколько мне известно — это-то как раз и является самой большой загадкой, — всё шло к тому, что Талобелов готовился завершить то, ради чего он приложил столько усилий и на что потратил столько лет своей жизни. Говоря попросту, он собирался нанести удар по организации Иванов. Такой удар, после которого никто из них уже не смог бы оправиться. Больше того: такой удар, который поставил бы под сомнение саму возможность создания новой воровской иерархии в России!
— Во всей России?
— Да, во всей России, — подтвердил Инихов. — Тут нечему удивляться: воровской мир связан повсеместно; связующие ниточки тянутся из Петербурга в Москву, из Москвы — в Ростов и в Одессу; оттуда… да это и неважно! Важно лишь то, что у Талобелова ничего не получилось.
Я — еще вот только что стоявший на позиции того, что Талобелов — предатель — вздохнул:
— Его раскрыли!
— Да, раскрыли.
— Но как?
— Кто и как — неизвестно. В один ужасный день Талобелов просто исчез. Иван Дмитриевич выждал неделю или около того — мало ли: вдруг самому Талобелову было так нужно, а связаться с начальством он по какой-то причине не мог, — а потом приступил к поискам. Перевернули всё: и лавру, в одном из флигелей которой Иваны держали штаб, и всевозможные притоны, и… ну, всё короче! Когда поиски живого человека результата не дали, Иван Дмитриевич начал искать хотя бы его тело. Тогда сетями и бреднями прочесали канали, реки и прочие водоемы… на Неву надежды не было — течение, — но даже ее пропустили сквозь частый гребень! И… тоже без всякого результата!
— Значит, и тело не нашли?
— Не нашли.
— А…
— Да-да, — Инихов быстро подтвердил ту самую мысль, которую я не успел высказать вслух, — народ с пристрастием опрашивали тоже. Ведь кто-то же должен был что-нибудь знать! Но и это ничего не дало. Редкий, удивительный случай: даже информаторы держали языки за зубами! Очевидно, произошедшее с Талобеловым — начиная от его внедрения к Иванам и до провала — настолько выходило за рамки и было настолько вопиющим, что…
Недоверие вернулось ко мне:
— Но постойте! — воскликнул я. — А почему вообще Путилин решил, что имел место провал? Вдруг…
Я, оглядываясь на вдруг насупившихся полицейских, запнулся.
Инихов отрицательно мотнул головой:
— Нет, Никита Аристархович, того, о чем вы думаете, быть никак не могло. Талобелов не мог переметнуться!
— Почему?
— Во-первых, не такой он был человек…
По моим губам скользнула скептическая усмешка.
— …а во-вторых, в этом не было никакого смысла.
Вот это уже меня заинтересовало:
— Почему? — спросил я.
— Потому что, — ответил Инихов, — вся ценность Талобелова для уголовных была неразрывно связана с его работой в полиции. Вне этой работы, конечно, тоже открывались те или иные возможности — для такого-то умного и изобретательного человека! Но… это могло быть интересно ему самому, однако самим уголовным — нет. Они бы его — окончательного, если можно так выразиться, перебежчика — просто не приняли бы. Это было бы и неразумно, и опасно.
— Гм…
Я задумался.
В словах Сергея Ильича была определенная логика, но все же безупречной она не выглядела. Кроме того, если тот старик, которого Гесс встретил у Молжанинова, и в самом деле был Талобеловым, то всё, сказанное Сергеем Ильичом в его оправдание, и вовсе теряло смысл.
— А что с пожаром? — поворотился я к Митрофану Андреевичу. — Вы говорили, что Талобелов сгорел?
Митрофан Андреевич — от неожиданности вопроса — вздрогнул, но ответил тут же:
— Да, мне рассказывали именно так. Но вы понимаете: ручаться я не могу. Это было еще до моей службы в пожарной команде.
— Понимаю, Митрофан Андреевич, — согласился я, — а все же?
Полковник пальцами обхватил подбородок, помассировал его как будто в задумчивости — наверное, так оно и было — и коротко поведал:
— В пожаре на Гутуевском острове — дело было изрядное — нашли человеческие останки. Опознать их, конечно, возможности не было, но кое-какие косвенные признаки указывали на то, что сгоревший — именно Талобелов.
— Какие же признаки могли сохраниться в огне?
— Вообще-то, — Митрофан Андреевич улыбнулся, — редко бывает так, чтобы пламя уничтожило всё без остатка. Поэтому знающие люди — знающие, разумеется, что и как искать — почти всегда находят те или иные свидетельства разного рода. А в случае с человеческими останками на Гутуевском острове осматривавших заинтересовали две специфические детали. Первая — перстень. Простенький, стальной, но именно это уберегло его от плавления[28]. Сама простота перстня привлекала к себе особенное внимание: люди редко носят такие… да что там — редко: практически никогда. Золото, серебро, другие металлы — да. Но сталь… Среди тех, кто осматривал находки, нашелся человек, припомнивший: такую или подобную ей вещицу видели у Талобелова, а ему, в свою очередь, ее подарил сам Иван Дмитриевич. Отправились к нему. Иван Дмитриевич осмотрел перстень и признал в нем собственный подарок.
— Аргумент! — был вынужден согласиться я.
— Да.
— А вторая деталь?
— Бумажник.
Я так и подскочил, не веря собственным ушам:
— Что? Бумажник?
Митрофан Андреевич повторил:
— Да, бумажник.
— Но это-то как возможно?
— Кожа, — пояснил Митрофан Андреевич, конечно же сгорела, но под кожей находились — опять же, стальные — пластины, скрепленные подвижными элементами.
— Не понимаю!
— Ну… дайте-ка свой!
Митрофан Андреевич протянул руку, а я, достав из кармана свой собственный бумажник, подал его полковнику.
— Смотрите… — Митрофан Андреевич, поворачивая бумажник так и эдак, принялся показывать мне всевозможные швы. — Видите? Ваш бумажник тоже — как и мой, как, очевидно, и Талобелова — вовсе не состоит из цельных кусков кожи. Напротив: каждая из его поверхностей состоит из двух, как минимум, частей — лицевой и внутренней. Лицевая — выделки тонкой, внутренняя — грубее. А между ними… распороть?
Я выхватил бумажник из рук Митрофана Андреевича:
— Не стоит! — воскликнул я, опасаясь, что полковник мог немедленно перейти от вопроса к действиям.
Митрофан Андреевич ухмыльнулся:
— Не стоит, так не стоит! Тогда поверьте на слово: между этими поверхностями есть вставки, придающие бумажнику общую форму. Так вот: обычно эти вставки делают из толстой прессованной кожи, а в дешевых бумажниках — из картона. Но у Талобелова они были стальными.
Я понял, но удивился еще больше:
— Господи! Зачем? Ведь это должно быть страшно неудобно!
И снова Митрофан Андреевич ухмыльнулся:
— Спросите у Михаила Фроловича! Или у Сергея Ильича. Или у Юрия Михайловича. Или…
— Стойте, стойте!
Чулицкий:
— Это совсем просто, Сушкин! — Михаил Фролович полез во внутренний карман и вынул свой собственный бумажник. — Держите!
Я взял. Бумажник оказался тяжелым и… непроминаемым. Тогда меня осенило:
— Пуля!
— Верно. И нож — тоже.
Я повернулся к Можайскому:
— И у тебя такой?
Можайский кивнул.
— И у вас?
Вадим Арнольдович тоже кивнул.
— Видите ли, Сушкин, — продолжил Митрофан Андреевич, когда я вернул Чулицкому бумажник, — такая штуковина у сердца — неплохая защита от выстрела даже в упор, не говоря уже об ударе ножом!
— Значит…
— Значит, и найденный на пожарище бумажник, а точнее то, что от него осталось — пластины, принадлежал полицейскому. Нетрудно было сложить одно с другим: стальной перстень, «полицейский» бумажник… Талобелов!
Воцарилась тишина.
— Но кто же тогда, — ожил, наконец, Чулицкий, — тот странный старик? Зачем он выдал себя за Талобелова? Что скажете, Вадим Арнольдович? У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Гесс, не менее других пораженный рассказом Митрофана Андреевича, выглядел растерянно и все же — упрямо:
— Я все-таки склонен считать, что это и есть Талобелов, — заявил он к всеобщему нашему изумлению.
— Да ведь я говорю вам… — начал было Митрофан Андреевич, но вдруг замолчал.
Это внезапное молчание было настолько красноречивым, что не оставляло никаких сомнений: полковник до чего-то додумался!
— Ну! — воскликнул тогда Чулицкий. — Ну? Что вы хотите сказать?
Митрофан Андреевич помялся, лицо его немного побледнело. Он словно собирался сказать какую-то крамолу — так не хотел и одновременно с тем горел желанием высказать зародившееся в нем подозрение.
— Митрофан Андреевич!
— Да, господа, да… — полковник пришел в себя. — Мне вот что подумалось: а если Сушкин прав?
— Сушкин?!
Вскрик — совершенно неприличный! — Чулицкого заставил меня поежиться.
— Да, именно Сушкин! — настаивал Митрофан Андреевич. — Разве не мог Талобелов и в самом деле переметнуться?
— Не мог!
— Но посудите сами! — Митрофан Андреевич вскинул на руке три пальца. — Первое: тела, кроме неопознанных де-факто останков, нет. Второе: напротив, опознанный перстень Талобелова. Третье — бумажник. И перстень, и бумажник можно было подбросить. А чей-то труп… да мало ли у такого человека, как Талобелов, было возможностей организовать и труп тоже! А вот качественное, натуральное опознание устроить у него возможности не было никакой! Что же получается? Если мы примем как данность то, что Талобелов не умер — не был убит, — мы легко объединим все факты воедино, считая и факт старика. Если же мы стоим на своем, мы ничего объяснить не можем!
Загудели взволнованные голоса. Мнения разделились. Но все же большинство отвергало выдвинутую мной (а теперь и Митрофаном Андреевичем) идею. Как оказалось впоследствии, мы с Митрофаном Андреевичем были правы, а большинство — нет. Впрочем, и наша с Митрофаном Андреевичем правота… ах, да: прошу прощения! Ведь был еще и Гесс, который с самого начала стоял на той же самой позиции… Так вот: правота нашей троицы — моя, Митрофана Андреевича и Гесса — также была неполной. Но об этом, дорогой читатель, позже!
Сейчас же — время вернуться в кабинет Молжанинова.
Как водится во многих спорах, ни какому единому мнению спорщикам прийти не удалось, и поэтому они — мы все — просто махнули рукой на предмет разногласий и попросили Вадима Арнольдовича продолжить рассказ.
Вадим Арнольдович продолжил.
— Но разве вы не погибли? — спросил я старика, заявившего, что он — тот самый Талобелов.
Старик сухонько — и не сказать, что приятно — захихикал:
— Как видите, нет, — сказал он, отсмеявшись. — Известия о моей смерти были несколько преувеличены.
— Но как же так вышло? Почему вы пропали и никому не давали о себе знать?
Старик качнул головой, пышный парик на его голове тоже пришел в движение и — вы не поверите! — с него посыпалась пудра. Мелкою такою крошкой, почти пыльцой или пылью. Эта пыль легла на стол, и старик — или Талобелов — тут же аккуратно смахнул ее салфеткой.
— А вот это, сударь, — ответил старик, — такие вопросы, ответить на которые я не могу. Не вправе, если быть точным.
— Но почему? — воскликнул, ничего не понимая, я.
— Ровно потому же, почему Семен… Семен Яковлевич, — тут же поправил себя старик, — не может рассказать о многом из того, что вы желали бы знать и что могло бы всерьез изменить ваше мнение не только насчет самого Семена Яковлевича, но и насчет всего происходящего.
— Вы говорите загадками!
— Такова уж наша, призраков, привилегия!
Старик опять неприятно захихикал и отошел от стола.
Молжанинов наблюдал за всем этим с улыбкой, но в целом его лицо было совсем не весело.
Я опомнился и вновь указал на тело Брута:
— А он-то что? Вы обещали рассказать!
— Нет, — улыбка на губах Молжанинова стала шире, а его лицо — озабоченней, — я обещал рассказать не о нем, а… просто одну историю. Сделать намек. Об Аркадии я ничего не обещал рассказывать.
Тут же была выпита очередная рюмка. Захрустел очередной огурец.
Я тоже выпил.
— Как же так… Семен Яковлевич? — я и сам не заметил, как начал величать Молжанинова по имени-отчеству, а потому, все-таки заметив, спохватился и оборвал себя. — Как же так?
— А вот так! — Молжанинов продолжал улыбаться.
— Но…
— Нет-нет, Вадим Арнольдович! Даже не пытайтесь! Ничего из того, о чем я говорить не вправе, я и не скажу. Вы только зря теряете время. А его, времени этого, у вас все меньше и меньше. Близится минута, когда вот в эту дверь, — Молжанинов ткнул пальцем в дверь кабинета, — войдет Зволянский и… тогда уже — всё!
Я невольно оглянулся на дверь. Она была приоткрыта. С моего места сквозь щель отчасти был виден тот самый коридор, по которому еще каких-то четверть часа назад я бежал за Брутом, помчавшимся предупредить своего хозяина о моем визите.
Молжанинов был прав: если я хотел узнать хоть что-то, следовало поторопиться.
— Хорошо, — был вынужден согласиться я. — Рассказывайте то, что считаете нужным!
Молжанинов кивнул, подхватил еще один огурчик и, прежде чем приступить к рассказу, этот огурчик задумчиво прожевал. Одна была радость: водку он больше не пил… мое замечание может показаться странным, но дело было в том, что миллионщик, несмотря на свое крупное телосложение, уже начал заметно пьянеть. Его глаза блестели по-прежнему живо, язык не заплетался, но некоторые признаки все более захватывавшего Молжанинова опьянения были несомненны. И это стало еще одной причиной, которая заставляла поторапливаться.
— Ну же! — потребовал я. — Оставьте вы эти огурцы! Рассказывайте!
Молжанинов бросил на меня лукавый взгляд, за которым, впрочем, я без труда подметил что-то вроде неприязненной озабоченности:
— Ладно, ладно… дайте начнем!
Я наклонился вперед и отодвинул от Молжанинова его тарелку.
Молжанинов хмыкнул:
— Однако…
Но затем он откинулся на спинку кресла, величественно сложил руки на животе и, слегка склонив к плечу голову…
— Ну, вылитый князь!
Гесс вздрогнул и быстро обернулся.
Можайский — я увидел это — тоже вздрогнул.
— Что? — спросил Гесс.
— Остроумно! — заявил Можайский.
Однако никто не признался, что это сказал он. Очевидно, и самому шутнику, ляпнувшему без раздумий, шутка сразу же показалась глупой. А ведь так и было в действительности: привычка Можайского машинально наклонять голову к плечу вряд ли была подобающей темой для насмешек!
Не дождавшись ответа на свой вопрос, Вадим Арнольдович пожал плечами и вернулся к рассказу:
— Значит, Молжанинов откинулся в кресле, сложил руки на животе и… начал свое — предупреждаю сразу — весьма туманное повествование.
«Прежде всего, — заговорил он, — пару слов о моем положении, Вадим Арнольдович. Вы знаете меня как преуспевающего дельца, миллионщика…»
«Ничего подобного! — перебивая, не удержался я. — Я знаю вас как преступника, убийцу и отъявленного негодяя!»
Как ни странно, Молжанинов согласно кивнул:
«Да, — без всяких протестов согласился он, — и в таких ипостасях, разумеется, тоже. Но это — не суть. А суть вот в чем: каким бы вы меня ни знали сейчас, всего лишь несколько лет назад я был совершенно другим. Я был… ну, как бы это сказать?.. а, вот: был человеком, над которым судьба занесла сразу три лезвия — total bad luck[29], безденежья и пылкого романтизма. А это, поверьте, страшное сочетание. Нищий романтик…»
«Нищий? — вновь не удержался я. — Вот так совсем и нищий?»
«Совершенно», — подтвердил Молжанинов.
«Ну-ну…» — пробормотал я, припоминая то, что Молжанинов вообще-то происходил из очень обеспеченной семьи, а также и то, что его отец оставил ему более чем солидное наследство.
Правда, припомнил я и то еще обстоятельство, что Петр Николаевич из Анькиного[30] утверждал, будто Молжанинов сильно задолжал и даже был вынужден заложить свою фабрику: ту самую, которая впоследствии сгорела. Но все же, и это не очень вязалось с заверениями самого Молжанинова в его полной некогда нищете.
«Вы напрасно иронизируете, — упрекнул меня Молжанинов или, наверное, даже не упрекнул, а безыдейно попенял мне: в том смысле безыдейно, что ему было решительно все равно, верю я ему или нет. — У меня действительно не было ничего… кроме головы, конечно!»
«А семейные капиталы?»
Молжанинов передернул плечами, а по его лицу пробежала гримаса:
«Семейные капиталы! — почти с ненавистью воскликнул он. — Да знаете ли вы, на каких условиях они перешли ко мне?»
Я удивился такой постановке вопроса, как, впрочем, и самому вопросу:
«Откуда же мне знать? А что: были какие-то… условия?»
Молжанинов скривился совершенно:
«Папаша мой — чтоб ему икалось на том свете! — не видел во мне преемника, способного поддерживать семейное предприятие. Он считал меня рохлей, тюфяком, художником…»
«Художником?» — еще больше удивился я.
«Да! Художником!»
«Вы что же…» — я было начал говорить, но Молжанинов внезапно и резко наклонился к своей стороне стола и взметнувшимися с живота обеими руками ухватился за выдвижной ящик.
Я тоже резко наклонился вперед, а в моей собственной руке немедленно оказался молжаниновский револьвер:
«Что вы делаете?»
Молжанинов какие-то мгновение смотрел на меня с изумлением, а потом поднял руки ладонями ко мне:
«Успокойтесь! — заявил он. — Я всего лишь хочу кое что вам показать!»
«Это «кое что» находится в ящике стола?»
«Именно!»
«Доставайте, — разрешил я. — Но медленно и без резких движений!»
Молжанинов кивнул.
Послышался мягкий шелест обрезиненных колесиков ящика по безупречным направляющим: не то, что у нас в участке, господа — всё перекошено, скрип, ничего не достать и не сунуть…
— Не отвлекайтесь!
— Прошу прощения… Значит, Молжанинов открыл ящик и — к моему немалому удивлению — достал из него альбом для рисования. Но самое примечательно заключалось в том, что это был не парадный, если можно так выразиться, альбом — из тех, какие можно увидеть на прилавках дорогих магазинов или в салонах, — а самый обычный, дешевый, едва ли не для школьников из неимущих семей: сероватая бумага, неровные обрезы…
«Вот, — Молжанинов подвинул альбом через стол, — посмотрите!»
Я взял альбом и раскрыл его: пользовались им часто, все листы оказались заполненными.
Сказать, что я был поражен увиденным, не сказать ничего! С первого же листа на меня воззрились удивительные фигуры: чего — или кого? — там только ни было! Я даже опешил: никогда не только не видел ничего подобного, но и представить себе не мог, чтобы в человеческой голове могли зародиться подобные образы!
Нет, что-то подобное в истории, конечно, встречалось. Чтобы вы лучше могли представить, о чем я говорю, вспомните порталы некоторых церквей: украшенные… гм… или, скорее, изуродованные жуткими сценами на сюжеты Страшного суда. Бесноватые всех видов и родов, фантастические животные, иные из которых пригодны только на то, чтобы ими детей до икоты пугать, невозможные горгульи, химеры и отвратительные чудовища непонятного происхождения!
Вот что в первые мгновения припомнилось и мне, но почти сразу я понял: никакого отношения к религии — ни к одной из религий — рисунки в альбоме Молжанинова отношения не имели.
«Что это?!» — невольно отстраняя от себя альбом, вскричал я.
Молжанинов расплылся в улыбке — на этот раз без двойного дна, без притаившейся за нею тревоги или неприязни:
«Неужели не узнаете?» — спросил я.
«Как это можно узнать?»
«Помилуйте! — совершенно искренне удивился Молжанинов. — Неужели вы ничего не знаете о динозаврах?»
«О дино… ком?» — изумленно переспросил я.
«О динозаврах!»
Я покачал головой.
«Ну и ну! — поразился моему невежеству Молжанинов. — Стало быть, вам ничего не говорят и такие имена, как Бакленд[31], Мантелл[32], Оуэн[33]?»
«Нет».
«Но хоть о допотопных животных вы слышали?»
Об этом я, разумеется, слышал. Да и все вы, господа, конечно же, тоже: гигантские кости, с глубокой древности то и дело находимые повсеместно, и прочее подобное… Римляне и греки считали их останками героев и великанов — титанов, гекатонхейров[34]… Но мыслимое ли дело, чтобы эти останки увязывать с невероятными по своему облику животными?
— Отчего же нет? — Инихов. — Или по-вашему, Вадим Арнольдович, сторукий и с пятью десятками голов Бриарей[35] — существо более реальное?
Гесс, не ожидавший такого возражения, растерялся:
— Ну… — протянул он, — на мой взгляд, всё это — просто подделки.
— Что, — спросил Инихов, — по всему известному миру?
Гесс не нашелся с ответом и поэтому просто вернулся к рассказу:
— Как бы там ни было, я Молжанинову ответил утвердительно: да, мол, о допотопных животных слышал, но считаю их вздорной выдумкой. Тогда Молжанинов обернулся к Талобелову и попросил его достать какой-то справочник, при ближайшем рассмотрении оказавшийся сведенной под один переплет подшивкой статей из самых разных и на самых разных языках изданий. Впрочем, преобладали статьи на английском и французском языках, что сильно облегчило знакомство с ними.
Представьте себе, все они были об одном и том же. Их темой был единственный предмет — классификация давно исчезнувших представителей фауны в непосредственной связи с фауной существующей. Говоря проще, авторы статей спорили друг с другом, к каким родам, отрядам и прочему следует относить всяких ящериц, птиц, рыб и прочую подобную живность, обитавшую миллионы лет тому назад и, как правило, внешне очень сильно отличавшуюся от современного нам животного мира.
Имена спорщиков ничего не говорили мне, но звучали они солидно: профессора университетов, доктора, академики, члены различных научных обществ… вот только иллюстрации к их спорам — картинки в статьях — вводили в изумление: неужели эти явно почтенные люди всерьез ломают копья над немыслимыми чудовищами?
Одно из таких чудовищ я сразу же узнал: оно почти как две капли походило на рисунок самого Молжанинова.
«Простите, — воскликнул я, — вы своего ящера отсюда срисовали?»
Я показал на рисунки в альбоме и в статье.
Улыбка Молжанинова стала… самодовольной!
«Нет, — ответил он, — я сам реконструировал облик аллозавра! А то, что этот облик оказался настолько близок к описанному Маршем[36], свидетельствует лишь о том, что наши мысли имели параллельное направление».
Я поразился:
«Вы сами… что?»
«Реконструировал облик!» — повторил Молжанинов.
Я не верил своим ушам:
«Вы это серьезно говорите?»
«Конечно!»
Молжанинов сделал знак Талобелову, и тот принес откуда-то внушительного вида кость.
Кость, несмотря на мои попытки отбиться, была немедленно вручена мне, и я начал растерянно ее осматривать…
«Ну, что скажете?»
«Что это?»
«Но вы же видите: кость!»
«Что кость, — возразил я, — я действительно вижу. Но чья она? Из какого рагу вы ее извлекли?»
Молжанинов расхохотался:
«Из рагу! — слезы гомерического смеха так и хлестали из его глаз. — Рагу! Это вы очень удачно пошутили!»
Я же, напротив, не видел в ситуации ничего смешного, о чем и не преминул заявить:
«Не понимаю, что именно вас так рассмешило!»
Молжанинов — тыльной стороной ладони — вытер слезы:
«Прямо сейчас, — торжественно заявил он, — вы держите в руках останки одного из самых свирепых хищников, какие когда-либо населяли нашу планету! Того самого аллозавра, познакомиться с которым вы только что имели случай!»
Я перевел взгляд на рисунки — в статье и в альбоме:
«Вот этого?»
«Точно!»
Очевидно, мое лицо скривилось в гримасе презрения, потому что Молжанинов вдруг сделался очень серьезным. Больше того: к нему вернулась та самая надменность превосходства, с какою он встретил меня при моем появлении в кабинете:
«Не верите?» — сухо спросил он.
«Нет!» — прямо ответил я.
«Ну и черт с вами!»
Талобелов, словно по данному ему знаку, тут же подскочил ко мне и отобрал у меня чудную кость.
Молжанинов налил себе и выпил.
Я, признаюсь, последовал его примеру.
«Теперь я понимаю, что имел в виду ваш родитель», — сказал я после непродолжительного молчания.
В Лице Молжанинова к надменности добавилась строгость:
«Не сомневаюсь», — только и ответил он.
«Значит, — продолжил я, — наследство досталось вам не без оговорок?»
Молжанинов смотрел на меня холодно и так же холодно подтвердил:
«Не без оговорок — это еще мягко сказано».
«И в чем же они заключались?»
«Я не мог ничем распоряжаться. Все операции с имуществом должны были проходить через управляющего. И он же, каналья этот, должен был определять, сколько и когда выдавать мне средств. Но самое паршивое заключалось даже не в этом. В конце концов, дела семейной фабрики меня и впрямь не очень волновали. Хуже было то, что управляющий оказался вправе вообще ничего не давать мне, буде он сочтет, что мое исправление невозможно!»
«Как так? — совершенно искренне поразился я. — Совсем ничего?»
«Вот именно: совсем ничего!»
«Но… разве это законно?»
Выражение лица Молжанинова немного смягчилось, а его взгляд чуточку потеплел. Вероятно, мое искреннее сочувствие нашло отклик в его сердце:
«Представьте себе, Вадим Арнольдович, я тоже было решил, что такое завещание законным быть не может. Я даже пытался его опротестовать! Но…» — Молжанинов обреченно, как будто вновь переживал прошедшее, махнул рукой. — «…без всякого результата. Суд принял сторону моего покойного отца, а не мою. И я в одночасье остался без средств к существованию! Можете себе представить, каково это? — быть в шаге от миллионного состояния и вдруг оказаться ни с чем! И это — при моем характере, при моих привычках… при моей мечте!»
Я покачал головой:
«Да, могу представить… а что за мечта такая?»
Молжанинов вздохнул:
«Думал я в Америку поехать. В Южную. Экспедицию хотел организовать… да куда там!»
И тут меня осенило:
«Постойте! — прищурился я. — Так вот почему вы связались с Кальбергом!»
Молжанинов тоже прищурился:
«Отчасти — да».
«Отчасти?»
«Именно: отчасти. На Кальберга я вышел еще до того, как… нет, — сам себя оборвал Молжанинов, — этого я вам сказать не могу: извините. Но все же правда в вашем предположении есть: я действительно связался с Кальбергом отнюдь не из лучших побуждений и, в принципе, в полной уже готовности творить не самые хорошие дела. Я — вы понимаете? — верил, что иного выхода у меня нет. Меня, как я полагал, само безумное устроение нашего общества толкнуло на преступный путь. С чего бы вдруг я стал жалеть это общество? Но уже вскоре всё круто изменилось».
Я внимательно смотрел на Молжанинова и видел, что он не лгал. Но что он имел в виду, говоря о каких-то изменениях?
«Что вы имеете в виду?» — спросил я.
Но Молжанинов только головой опять покачал:
«Этого я не могу сказать».
«Но, — воскликнул я, — получается, вы вообще ничего не говорите! А ведь обещали!»
«Я, — возразил Молжанинов, — обещал обрисовать свое положение, и — так мне кажется — свое обещание выполнил. Пусть и несколько по-другому: не так, как мы с вами, Вадим Арнольдович, предполагали… не рассказом то бишь о моих бедствиях и приключениях, а…»
Молжанинов замолчал, но я его понял: он имел в виду нашу странную беседу о допотопной живности.
«Но этого мало!» — мой тон стал требовательным, однако это на Молжанинова не произвело ровно никакого впечатления.
«Говорю же вам, — спокойно ответил он, — не в моей компетенции рассказывать вам то, что вы хотите узнать. Пусть даже это именно то и есть, что могло бы для вас прояснить ситуацию».
Я посмотрел на часы.
«Время уходит!»
«Да», — согласился Молжанинов, — «времени у нас уже почти что нет!»
«Тогда ответьте хоть вот на что: как получилось, что Талобелов оказался у вас?»
Старик и Молжанинов обменялись взглядами.
«Нет, — сказал Молжанинов, — этого я тоже раскрыть не могу».
«А Брут? Брут как-нибудь связан…»
Я запнулся: в моей голове закрутилась лихорадочная мысль.
Молжанинов насторожился:
«Связан с… чем?» — спросил он, этим своим «чем» после паузы невольно себя выдавая.
«Не с чем, — тогда воскликнул я, — а с кем!»
Губы Молжанинова сжались.
Талобелов сделал шаг ко мне.
Я невольно вжался в спинку кресла. По моей спине уже в который раз побежали мурашки. Рука сама опустилась в карман, пальцы нащупали револьвер.
Молжанинов пододвинул к себе тарелку с огурцами.
«С кем, говорите…» — пробормотал он, покручивая тарелку на столе. — «С кем…»
Талобелов сделал еще шаг.
Внезапно Молжанинов схватил тарелку таким движением, словно собирался швырнуть ее в меня, и, очевидно, так оно и было! Но тут раздался резкий звонок. Тарелка замерла. Огурцы полетели с нее — назад, на самого Молжанинова.
Молжанинов чертыхнулся, поставил тарелку обратно на стол и принялся обмахивать себя салфеткой.
Талобелов снял трубку внутреннего телефона.
«Да?» — спросил он. — «Понял!»
«Ну?» — Молжанинов.
«Зволянский явился».
Я почувствовал облегчение.
Молжанинов кивнул и поднялся на ноги. Талобелов же засобирался прочь:
«Негоже, чтобы Сергей Эрастович меня увидел!»
Я, вполне уже придя в себя, изумился:
«Да ведь я-то вас видел!»
Талобелов усмехнулся:
«Эка невидаль! Не обижайтесь, сударь, но вы — птица полета невысокого. Мало ли что вам могло померещиться? Да и клекот ваш вряд ли когда-нибудь достигнет вышних слоев атмосферы… по крайней мере, — любезно поправился он, — не сегодня и вряд ли завтра. Может быть, через несколько лет. А тогда это уже будет неважно!»
«Да что неважно-то?!»
Я выкрикнул это настолько в сердцах, что и Талобелов, и Молжанинов вздрогнули. На мгновение мне показалось, что оба они готовы были что-то мне пояснить, но наваждение сердечности исчезло так же быстро, как и охватило их.
«Нет, сударь, нет! — Талобелов сделал быстрый полупоклон и заспешил к двери. — «Прощайте!»
Молжанинов вышел из-за стола и встал примерно посередине кабинета.
Послышались шаги.
Дверь в кабинет, оставленная слегка приоткрытой ушедшим Талобеловым, решительно распахнулась.
«Здравствуйте, Семен Яковлевич!»
На пороге стоял Зволянский — собственной свою персоной, не узнать каковую было невозможно: практически лысая голова, большой, выпуклый лоб, решительный росчерк бровей над умными, цепкими глазами… лихие усы с завитыми кончиками а ля Дон Кихот и аккуратная короткая борода.
За Сергеем Эрастовичем маячили еще два человека. Их я тоже узнал: оба они были чиновниками для поручений при Департаменте полиции.
«Здравствуйте, Сергей Эрастович!» — живо откликнулся на приветствие Молжанинов и даже сделал шаг вперед.
«Вижу, сегодня свели нас с вами печальные обстоятельства?»
Молжанинов бросил на меня стремительный взгляд, впрочем, голову ко мне не повернув:
«Очень, очень печальные, Сергей Эрастович!»
Зволянский наклонил голову и обратился уже ко мне:
«Вадим Арнольдович Гесс?»
«Так точно!»
Зволянский быстро прошел в кабинет (оба чиновника — за ним следом) и, подойдя ко мне, энергично пожал мне руку:
«Наслышан, наслышан!»
Это могло показаться весьма лестным, ведь он, Зволянский, не только первым пожал мне руку, но и вообще не пожал ее Молжанинову, хотя тот какое-то мгновение и простоял с протянутой для рукопожатия рукой! Но очень быстро я сообразил: это лестное действо было призвано отвлечь мое внимание — искренность в нем если и была, то занимала далеко не первое место.
«Ну, показывайте!» — это Сергей Эрастович обратился ко мне, по-прежнему как бы обходя Молжанинова стороной.
Я указал на тело Брута.
«Сергей Эрастович!» — заговорил тогда Молжанинов.
«Потом, всё потом!» — перебил его Зволянский, подходя к трупу и присаживаясь подле него на корточки. — «Это…»
Опять ко мне.
«…и есть тот самый человек, которого на ваших глазах застрелил Семен Яковлевич?»
Я понял, что фарс начался.
«Да, — ответил я, и сделал это достаточно прохладным тоном. — Он самый и есть».
«Кто он?» — Зволянский явно подметил холодок в моем голосе, но постарался сделать вид, будто ничего не случилось. — «Судя по виду, секретарь?»
«Сергей Эрастович!» — мне стало противно.
Зволянский от трупа обернулся на меня, в его умных глазах промелькнуло сожаление. Именно промелькнуло, потому что тут же глаза Сергея Эрастовича вновь стали просто умными — без какого-то особенного выражения:
«Ах да, — сказал он тогда, — а ведь и я его знаю! Это же, — он отвернулся от меня и посмотрел на Молжанинова, — и вправду ваш секретарь, Семен Яковлевич… как бишь его… Аркадий… Аркадий…»
«Васильевич», — «подсказал» Молжанинов.
«Верно: Васильевич!» — Зволянский поднялся и встал во весь рост. — «У него еще какое-то странное прозвище было… Цезарь?»
«Брут».
«Ну да, конечно! — фарс продолжался. — Брут!»
«Сергей Эрастович!»
«Да, Вадим Арнольдович?»
«К чему всё это?»
«О чем это вы?»
«Да ведь мы же оба знаем…»
Зволянский круто повернулся к Молжанинову:
«Знаем?» — спросил он с непередаваемой, но, как мне показалось, грозной акцентуацией. — «Что знаем?»
По видимости вопрос был обращен ко мне, но на деле — к Молжанинову, и Молжанинов, разумеется, поспешил на него ответить:
«Помилуйте, Сергей Эрастович! Я в такой же растерянности, как и вы!»
«Ах, вот как!» — Зволянский вновь повернулся ко мне. — «Не понимаю вас, Вадим Арнольдович: о чем вы говорите?»
«Я, — мой голос задрожал, но я постарался взять себя в руки, — говорю… — пауза, — что вы, Сергей Эрастович, зачем-то принимаете меня за дурачка!»
Решительно очерченные брови Зволянского выгнулись еще более решительной дугой:
«Вам плохо, Вадим Арнольдович? Вижу, Можайский совсем вас загонял… вот что, мой дорогой, давайте поступим так: прямо сейчас вы отправитесь в участок…»
«Вы хотите избавиться от меня?»
Зволянский — другого слова не подберешь! — вперился в меня своим взглядом и вдруг — и снова лишь на мгновение! — во взгляде этом опять промелькнуло сожаление. Даже, сказал бы я, смесь сожаления и смущения: Сергей Эрастович явно стыдился того, что вынужден был делать!
«Вадим Арнольдович, — четко, но не грубо произнес он. — Я понимаю: дело, по которому вы ведете следствие, важно чрезвычайно. Настолько важно, что и слов-то подходящих нет на то, чтобы ими это дело описать. И важность эта давит на вас, заставляет вас говорить и поступать… необдуманно. И все же: постарайтесь понять».
Зволянский так и сказал: «постарайтесь понять» — без уточнений того, что именно я должен был постараться понять. Но я его понял и сам немного устыдился: нелепо ведь думать, что директор Департамента полиции только из вредности характера станет разыгрывать комедию перед младшим чиновником! Раз уж Зволянский вел себя именно так, значит, у него на это были особые причины. Уважительные, а не склочные. Расчетливые, а не мелочные.
Я, повторю, устыдился:
«Прошу меня извинить, Сергей Эрастович», — не без смущения пробормотал я и засобирался прочь.
«Пустяки!» — немедленно отозвался Зволянский. В его глазах появилась улыбка.
«Я вам точно больше не нужен?»
«Совершенно».
Я пошел к двери, но, почти дойдя до нее, остановился: меня осенила новая мысль:
«Только один вопрос, Сергей Эрастович! Вы позволите?»
Я указал рукой на Молжанинова, показывая, что вопрос будет обращен к нему, а не к самому Сергею Эрастовичу.
Зволянский и Молжанинов обменяли быстрыми взглядами.
«Что за вопрос?»
«Фабрика. Почему сгорела фабрика?»
— Подождите! — Чулицкий. — Так вы узнали причину пожара?
— Да.
— Так что же вы нам головы морочили?
Гесс слегка пожал плечами:
— Нет, Михаил Фролович, не морочил. Просто не договаривал.
— Но почему? Мы тут предположения разные делали, а вы, оказывается, всё это время знали истинную причину!
Гесс вновь едва уловимо пожал плечами:
— Хотел дождаться своей очереди!
Чулицкий посмотрел на Вадима Арнольдовича с изумлением. И вдруг рассмеялся:
— Ну и педант! Можайский! Как только ты с ним работаешь?
Можайский тоже пожал плечами:
— Нормально работаю.
Гесс, ничуть не обидевшись на откровенный намек на его немецкость, просто спросил:
— Так мне говорить о причине пожара?
Чулицкий усмехнулся:
— Да уж, сделайте милость!
— Так вот, — продолжил тогда Гесс, — уже у двери меня осенила идея, и я, чтобы ее подтвердить или опровергнуть, решился задать вопрос.
«Почему сгорела фабрика?» — спросил я.
Зволянский наморщил лоб, соображая, противоречит каким-то его интересам или же нет, если на этот вопрос будет дан правдивый ответ. Молжанинов же широко ухмыльнулся и ответил даже лучше, чем если бы сказал это прямо:
«Долго же до вас доходило!»
«Так значит, это — правда?» — воскликнул тогда я. — «Заклады и распря с Кальбергом тут ни при чем?»
«Нет, конечно!»
«Господа!» — вмешался Зволянский. — «Что это за… беседа?»
«Да полно вам, Сергей Эрастович! — Молжанинов. — Уж в этом-то ничего секретного точно нет!»
«Но ваша репутация…»
«Да какая, к черту, репутация? Я в глазах Вадима Арнольдовича — убийца, мошенник и плут. Подумаешь — фабрика!»
«Тьфу ты!» — сплюнул тогда Зволянский. — «Ну, говорите уж!»
«Да вы же видите: Вадим Арнольдович и сам догадался!»
Зволянский посмотрел на меня из-под легкого прищура:
«Точно?» — спросил он.
«Полагаю, да», — ответил я.
«Ну?» — спросил он.
«Обычная месть: отцу и управляющему», — ответил я.
Зволянский улыбнулся:
«Да уж, Вадим Арнольдович! Эк вы его раскусили, мстительного нашего!»
Я тоже невольно улыбнулся. И знаете что, господа? Почему-то вдруг Молжанинов стал мне симпатичен! Это же надо: спалить собственную фабрику! Не из меркантильных каких-то соображений, а просто ради того, чтобы отомстить за несправедливые решения…
— Если, — Чулицкий, — каждый будет так мстить, Митрофану Андреевичу придется туго!
— Не то слово! — как и Чулицкий, не поддержал моего энтузиазма Митрофан Андреевич.
— А все же, — не отступился я, — есть в этом что-то… величественное!
— Да бросьте, Вадим Арнольдович! — Можайский. — Что может быть величественного в принципе «не доставайся же ты никому?» И потом…
— Что?
— Причину-то поджога вы прояснили, но кое-какая мелочь из вашей памяти выскочила!
— Какая мелочь? — не понял я.
— Страховое возмещение, — напомнил Можайский. — Страховое возмещение за сгоревшую фабрику!
— Но…
— Ваш совсем не меркантильный Молжанинов оказывается на деле куда более рассудительным, чем вам кажется, Вадим Арнольдович! Судите сами: по завещанию он всего лишь не мог распоряжаться делами фабрики, однако сама фабрика, тем не менее, оставалась в его собственности. Управляющий зачем-то ее заложил: возможно дела пошли хуже, а может, понадобился дополнительный оборотный капитал. И вот тогда-то Молжанинов и нанес удар! Заметьте: не раньше, а ведь и раньше — много раньше! — он с тем же успехом мог спалить эту злосчастную фабрику. Если бы, разумеется, он был бескорыстным человеком. Но нет! Пожар возник только после залога! Догадываетесь, почему?
Гессу явно стало не по себе, он даже поежился:
— Неужели…
— Именно, Вадим Арнольдович! Получить в свое распоряжение фабрику он не мог. Но на предмет возмещения за фабрику в завещании не было сказано ничего!
— Боже мой! — Гесс схватился за голову.
— Выходит, — Можайский совсем добил своего помощника, хотя и без всякой задней мысли, — вас и в этом провели, Вадим Арнольдович. Вам выдали кусочек правды, и вы…
— Я, — как эхо, отозвался Гесс, — ушел.
— Да: вы ушли.
Тишина.
Я смотрел на Гесса и меня не покидало ощущение какой-то недоговоренности. Более того: это ощущение крепло с каждым мгновением, проходившим под тиканье напольных часов и дробный стук оледеневшего дождя в оконные стекла.
За минувшие с начала нашего собрания часы слов нагромоздилось столько, что уже сам черт мог бы сломать в них шею, а я-то уж точно давно потерял бы всякую нить, если бы у меня под рукой не находились исписанные блокноты. Я начал сверяться с записями и вскоре обнаружил: да, действительно — Гесс не раз и прямо говорил, и давал различные намеки на то, о чем ныне — в его собственном рассказе — либо не было и помину, либо это обходилось стороной. Странно.
— Вадим Арнольдович! — заложив пальцем одну из страниц блокнота, обратился я к Гессу. — Неужели вам совсем нечего добавить?
Гесс посмотрел на меня тревожно, с какой-то потаенной мольбой во взгляде:
— О чем вы, Никита Аристархович? — спросил он и голос его дрогнул.
Я засомневался: вправе ли я лезть со своими вопросами к человеку, который явно желает что-то утаить? Однако репортерский дух взял верх над соображениями морали. Кроме того, на помощь совести тут же подоспело и соображение о долге: раз уж я вызвался честно и до конца осветить страшные события, о каком еще снисхождении к рассказчику могла идти речь? Гесс, конечно, человек хороший, но истина важнее[37]!
— Я, — тем не менее, осторожно выбирая слова, начал подступаться я к Гессу, — говорю о том, что вы, Вадим Арнольдович, не раз на протяжении вечера давали нам различного рода подсказки, причем большинство из них — если не все вообще — выходят далеко за пределы того, о чем вы нам только что поведали. Получается — вы только не поймите меня превратно! — будто вы не то утаили что-то, не то… я даже не знаю, как и сказать! В общем, Вадим Арнольдович, я в полной растерянности!
Гесс слегка покраснел, но продолжал стоять на своем:
— И все же, Никита Аристархович, я не понимаю, о чем вы говорите!
— Ну как же! — я начал более решительный приступ. — Например, вот это: вы говорили, что со слов самого Молжанинова вам известно о производстве на его фабрике проекторов нового типа — тех самых, посредством одного из которых мучали несчастного Некрасова-младшего!
— А ведь и правда! — это уже вмешался Саевич, которого, как вы, читатель, несомненно подметили, хлебом было не кормить — дай поговорить о технических чудесах! — Я тоже это прекрасно помню! Вы говорили…
— Разве я это говорил?
Вопрос прозвучал откровенно нелепо. Все — уже не только я и Саевич — воззрились на Гесса с явным подозрением. Можайский так и вовсе подошел к своему помощнику и, взяв его за локоток, требовательно сказал:
— Ну-ка, ну-ка, Вадим Арнольдович! Что это вы впотьмах от нас утаить стараетесь?
Краска на лице Гесса стала гуще:
— Юрий Михайлович! Я…
— Уж говорите, как есть!
— Я…
— Ну!
Гесс понурился и, предварительно бросив на меня укоризненный взгляд, выговорил словно через силу:
— Юрий Михайлович! Если вы будете настаивать, мне придется сознаться в поведении… недостойном чиновника и дворянина!
Можайский — это было очевидно — опешил. Он явно не ожидал ничего подобного:
— Сознаться в недостойном поведении? О чем вы, черт побери?
Гесс принялся топтаться, живо напоминая собою проштрафившегося гимназиста перед лицом директора.
— Ну же, Гесс! — настаивал Можайский. — В чем дело?
— Понимаете, Юрий Михайлович, — залепетал Гесс, алея совсем уж наподобие кронштадтского гюйса[38], — я… я…
— Ну же, ну!
— Я не сдержал слово!
— Какое еще слово? — не понял Можайский.
— Данное Зволянскому.
И снова Можайский ничего не понял
— Вы дали какое-то слово Сергею Эрастовичу?
— Да.
— И что же вы пообещали?
— Вернуться в участок и…
— И?
Улыбка в глазах Можайского заполыхала так, что невольно поежились все. Но сам Можайский, казалось, вдруг начал понимать, что именно последует дальше и даже, перехватив руку с локтя, схватил Гесса за плечо, сжав это несчастное плечо так, что Гесс из красного мгновенно стал зеленым.
— Ай! — вскричал Гесс.
— Простите! — спохватился Можайский и отпустил плечо Вадима Арнольдовича.
Гесс — с гримасой на лице — помассировал себя.
— Вадим Арнольдович!
— Да-да…
— Что именно вы пообещали Зволянскому?
— Не вмешиваться в дальнейшее.
— Но, говорите, вы не сдержали слово?
— Увы!
Можайский обхватил Гесса с груди и развернул его под яркий свет электрической люстры:
— Что вы сделали? Как именно вы нарушили слово?
Гесс — на этот раз сам — осторожно освободился от хватки Можайского:
— Я, — уже смелее пояснил он, так как до него дошло, что никто осуждать его не собирается, — из кабинета-то вышел, но из дома — нет.
— Так вы не ушли! — вскочил на ноги Инихов, отшвырнув сигару.
Чулицкий тоже вскочил. Он, Инихов и Митрофан Андреевич окружили Гесса, так что мне, стоявшему чуть поодаль, стало ничего не видно.
— Господа! — попросил я, тоже приближаясь к общей группе. — Расступитесь!
Прозвучало это дерзко, но уместно: Можайский, Инихов, Кирилов и Чулицкий отступили на шаг.
— Вот так хорошо! — одобрил я и приготовился записывать, косясь, однако, на Вадима Арнольдовича.
Гесс, окончательно поверив в то, что в глазах коллег он не только не упал со своим нарушением слова чести, но и ровно наоборот — вознесся, вернулся к своему обычному для этого вечера состоянию: мрачноватому, неудовлетворенному общим ходом дела, оказавшемуся совсем не таким, как то ожидалось загодя, даже неудовлетворенному своими собственными поступками, нарушившими запланированное течение следствия, но, по крайней мере, лишенному очевидных самокопательства и плясок с шаманским бубном в попытках изгнать утвердившегося в сердце беса.
— Да, — ответил он на вопрос Инихова, — я не ушел.
— Рассказывайте[39]!
И Гесс рассказал.
— Распрощавшись с Сергеем Эрастовичем, я вышел из кабинета, оставив в нем как самого Зволянского, так и двух его чиновников для поручений, чье вообще появление по-прежнему было для меня загадкой. Разумеется, оставался в кабинете и сам Молжанинов. Последнее, что я услышал, прикрывая за собой дверь, были как раз его слова:
«Ну-с, — сказал он, обращаясь явно к Сергею Эрастовичу, — теперь мы можем поговорить!»
«Эх, — подумал я, — как бы и мне услышать?»
И вот тут-то меня осенило: да кто же мне может помешать? В коридоре — никого. Закрывать дверь так, чтобы из кабинета не доносилось ни звука, совсем не обязательно. Но главное, архитектура дома — вы помните, господа? — была такова, что я мог не опасаться внезапного появления посторонних свидетелей! Этаж, на котором находилась квартира Молжанинова, был напрочь отрезан от других этажей, имея только один доступ — через лифт и, далее, гостиную.
Быстро оглядевшись по сторонам, я вновь приоткрыл дверь — самую малость: так, чтобы щелочка не привлекла внимания находившихся внутри — и юркнул за стоявшую тут же огромную китайскую вазу. Видеть из своего убежища я ничего не мог, но слышать — слышал абсолютно всё.
И вот, я приготовился внимать, как вдруг…
— Что еще?
Гесс легонько усмехнулся:
— Меня тронули за плечо.
«Тише, сударь, не кричите!» — зашелестел мне на ухо знакомый голос.
Я вздрогнул и точно едва не закричал.
«Тише!»
Я поднял взгляд и, к своему удивлению, обнаружил, что надо мной склонился невесть откуда взявшийся Талобелов.
«Вы!» — шепотом воскликнул я.
«Да!» — таким же шепотом ответил он. — «Вижу, уходить вы не собираетесь?»
Я помедлил с ответом, но Талобелов только кивнул:
«Ладно-ладно, — констатировал он, — тогда аккуратно выбирайтесь отсюда — ваза стоит целое состояние! — и следуйте за мной».
«Куда?» — с опаской спросил я.
«Увидите», — ответил Талобелов и, не прикладывая силу, потянул меня за рукав.
Сами понимаете, господа, мне оставалось только подчиниться: не в том я находился положении, чтобы спорить!
Мы — Талобелов впереди, я — за ним — прошли по коридору, но совсем недалеко: уже через несколько шагов мой спутник толкнул неприметную дверь, и мы оказались в крохотной комнатушке, которая — это выяснилось сразу — примыкала к кабинету.
«Располагайтесь», — любезно предложил мне Талобелов, указывая на табурет напротив… я глазам своим не поверил! — прозрачного стекла.
Я говорю «прозрачного», но это было не совсем так. Сначала я не понял, что за странные разноцветные линии испещряли буквально всю его поверхность, но затем меня осенило: это — картина!
— Картина? — поручик.
— Да, Николай Вячеславович, картина! Я припомнил, что видел на стене кабинета огромное — метров пять на три — полотно, изображавшее эпическую сцену: морскую баталию непонятно кого и с кем, так как флагов на сражавшихся кораблях не было. Картина еще тогда — при первом же взгляде на нее — показалась мне аляповатой, но общий ее вид — размеры, пышность, даже варварская роскошь — вполне увязывались с общей обстановкой чудовищного богатства, и я перестал обращать на нее внимание.
Как оказалось, напрасно! Эта картина была и не картиной вовсе, а тщательно замаскированным обзорным стеклом, причем все линии на нем — все эти «корабли», «волны», «пороховые дымы» и прочее — были нанесены так, чтобы находящийся по другую сторону наблюдатель мог видеть совершенно беспрепятственно и даже лучше того: чтобы сетка из линий перед его глазами скрадывала искажения[40]! Помимо этого, в стекле было проделано множество мелких отверстий, в буквальном смысле превращавших это стекло в настоящий дуршлаг. И эти отверстия, позволявшие наблюдателю еще и слышать все, что говорилось в кабинете, были замаскированы не менее искусно, чем всё стекло целиком!
Поняв, что из себя представляла конструкция, я поневоле усмехнулся:
«Однако!» — ухмыльнулся я.
«А что поделать, сударь?» — ухмыльнулся в ответ Талобелов. — «При наших занятиях — штука необходимая!»
«Да чем же вы занимаетесь, наконец?» — прямо спросил я.
Талобелов, уже не сдерживаемый надуманными предлогами, еще раз предложил мне занять место на табурете подле «картины» и сам уселся рядом:
«А вот послушайте!»
И кивнул на стекло.
«Но что заставило вас изменить позицию и прийти мне на помощь?»
Талобелов пальцем провел по стеклу, как будто сбрасывая с него пылинки, и ответил, не глядя на меня:
«Знаю я таких, как вы, сударь. Упертый вы человек… ведь по-добру по-здорову вы и не думали уходить?»
«Нет», — признал я.
«Значит, был бы скандал?»
«Очевидно!»
«Вот видите!»
«Молжанинов боится скандала? Или… — вдруг уточнил я, — это вы боитесь разоблачения?»
Талобелов дернул плечом:
«Да нет, сударь, — ответил он, как мне показалось, совершенно искренне, — ни я, ни Семен ничего не боимся. Мы, знаете ли, не робкого десятка люди!»
Тут Талобелов широко улыбнулся, а меня кольнуло в сердце: ведь и правда — какие же они трусы, если столько всего наворотили, причем сам Талобелов еще и работал когда-то под ежедневной угрозой смерти?
«Это не мы боимся… они!»
Талобелов кивнул в сторону стекла.
«Зволянский?» — изумился я.
«И он, и другие».
«А кто еще?»
«Да тут много кого замешалось!»
«Да во что же, Господи?»
Так мои вопросы завершили круг, что с новой усмешкой не замедлил подметить мой странный собеседник:
«Давайте-ка лучше смотреть и слушать!» — заявил он и, отвернувшись от меня, вперился взглядом в стекло.
Я последовал его примеру.
Зволянский сидел на корточках подле Брута и рылся в его карманах. Молжанинов — с огурцом в руке! — стоял рядом. Оба чиновника для поручений сидели у края стола: перед ними громоздилась кипа каких-то бумаг, и они перебирали эти бумаги, время от времени делая в них какие-то пометки.
«Да что же это!» — донеслось до меня.
Зволянский поднялся на ноги и посмотрел на Семена Яковлевича. Молжанинов откусил огурца, прожевал, пожал плечами и ответил довольно пренебрежительно:
«Понятия не имею, Сергей Эрастович: должно быть здесь».
«Но вы же видите: ничего!»
«Значит, перепрятал».
«Зачем?»
«Да кто же его, шельму, знает? Может, учуял чего?»
«Петр Иванович!» — окликнул Зволянский одного из чиновников.
Тот оторвался от бумаг и вопросительно посмотрел на своего начальника.
«Ступайте в его комнату, — кивок на Брута, — и посмотрите там!»
Чиновник тоже кивнул, поднялся со стула и вышел из кабинета… Боже, вот тут я, признаюсь, особенно возблагодарил Талобелова, так нежданно пришедшего мне на помощь и вызволившего меня из-за вазы. Не сомневаюсь: оставайся я на прежней своей позиции, меня бы непременно обнаружили!
«Что они ищут?» — обратился я к Талобелову.
«Аркаша, — ответил он, — еще с вечера должен был иметь при себе список запросов».
«Каких запросов? От кого?»
«Известно, от кого: революционеров!»
Я опешил настолько, что Талобелов, видя мои выпученные глаза и отвалившуюся нижнюю челюсть, рассмеялся:
«Ну да, — повторил он, — от них, голубчиков!»
«Вы… вы…» — залепетал я, не в силах правильно сформулировать мысль.
«Нет, сударь, что вы!» — Талобелов опять рассмеялся. — «Мы сами — никакие не они… не революционеры то бишь. Мы просто снабжаем их дельными вещами».
«Снабжаете!»
«Именно!»
«Вы!»
«Мы».
«Но ведь вы — полицейский!» — как последний аргумент, выкрикнул я.
Талобелов положил руку на мое колено:
«Вот именно поэтому».
До меня дошло:
«Значит, вы — агенты?»
«Разумеется».
Моя голова пошла кругом: Кальберг, Молжанинов, пожары, трупы, революционеры… что за невероятная смесь! А главное — что за дикая смесь! Как одно в такой мешанине увязывается с другим?
— Очень даже увязывается! — Чулицкий.
— Да, Михаил Фролович, теперь-то многое понятно, но тогда, в комнатушке, я ничего вообще не знал… а теперь — конечно: я и сам вижу, насколько всё просто! Или, если угодно, насколько мы все ошибались, принимая дело за обычные… ну, или необычные, но все же с целью простой наживы убийства!
— Нет, не ошибались! — Можайский.
Гесс вскинул взгляд на его сиятельство:
— Не ошибались?
— Нет, — повторил Можайский. — По крайней мере, не до конца.
— Что это значит?
— Давайте позже, хорошо?
— Ну…
— Что у тебя на уме, Можайский?
— Ничего особенного, Михаил Фролович. Просто, похоже, у меня сложилась общая картина. Полагаю, и у тебя тоже!
Чулицкий на очень короткое мгновение задумался, а потом согласился:
— Да, пожалуй… вот только исчезновение всех жертв для меня по-прежнему остается загадкой!
Его сиятельство склонил голову к плечу:
— Я, кажется, догадался, в чем дело!
— Ты серьезно?
— Насколько это возможно.
— Зачем же они исчезли?
— Давай отложим это на завтра? Придет ответ из Венеции…
Чулицкий погрозил пальцем:
— Экий хитрец!
— Да нет, — Можайский улыбнулся — губами, — никакая это не хитрость! Просто не вижу смысла в преждевременных выводах.
— Ну да, конечно!
Тогда его сиятельство, гася улыбку в глазах, прищурился:
— Хочешь взять меня на пари?
Чулицкий фыркнул:
— Больно надо!
— Значит, хочешь!
— Ну, допустим!
— Что ставишь?
Чулицкий задумался:
— Коньяк?
— Идет!
— Господа, — обратился к нам Чулицкий, — вы все — свидетели!.. Ну, говори!
Его сиятельство тоже осмотрел всех нас, словно желая убедиться: правильно ли мы поняли условия пари. И только потом сказал — просто, без всякой аффектации:
— Все эти люди — агенты.
— Полиции? — не понял Чулицкий.
— Нет, — возразил Можайский, — Кальберга.
Чулицкий нахмурился:
— Кальберга? — переспросил он. — Помилуй: да зачем же Кальбергу столько агентов? Но главное-то, главное… зачем они все… ну, ты понимаешь!
Голова Можайского опять склонилась к плечу:
— Понимаю. Зачем — ты хочешь сказать — они поубивали своих родственников?
— Или их едва не убили!
— Ну, их… это вряд ли!
— Но пример Некрасова!
— Исключение!
— В таком деле не может быть исключений!
— Это еще почему?
— А потому, — Чулицкий начал расхаживать вперед-назад, — потому, что иначе рушится вся конструкция, дотоле весьма стройная и безопасная! Поверь моему опыту: не станет преступник вроде Кальберга менять отработанную схему, вводя в нее исключения. Это не просто опасно: это — смертельный рис для всего предприятия!
На губах Можайского появилась скептическая улыбка:
— Ты, Михаил Фролович, — заявил он, — совсем уж плохо думаешь о способностях нашего… гм… подопечного! Кальберг — не заурядный преступник, а большой фантазер и выдумщик. Экспериментатор. Новатор, если угодно. Такие люди, как он, не боятся новшеств и связанного с ними риска. Такие люди легко импровизируют. Их преступления не совершаются под копирку, если в том нет особой нужды…
— Но все преступления Кальберга — именно что под копирку!
— Нет.
Чулицкий остановился в своих хождениях прямо напротив Можайского. Он и его сиятельство смотрели друг на друга, а мы — все остальные — молча наблюдали за ними. Это, можно сказать, была немая схватка титанов: признанного сыщика, главы Сыскной полиции, и сыщика-любителя, известного, однако, своими неоднократными открытиями и тою пользой, какую он — стоило к нему обратиться — неизменно приносил официальному следствию!
Неизвестно, сколько времени оба они могли стараться друг друга переглядеть. Потому и неизвестно, сколько времени могли бы ухлопать и мы на созерцание их состязания. К счастью, однако, спустя минуту или две раздался телефонный звонок.
Я вздрогнул и сбросил с себя оцепенение:
— Кто это в такое время?
Можайский и Чулицкий оторвались друг от друга и — с облегчением, похоже — тоже воззрились на телефон. Остальные начали вполголоса переговариваться.
Я подошел к аппарату:
— Алло? Алло?
— Сушкин? — голос незримого собеседника был хрипл и мне незнаком.
— Да, это я: с кем имею честь?
— Конец тебе, Сушкин!
Мои пальцы сжали трубку так, что послышался хруст эбонита:
— Кто говорит? — закричал я.
Из трубки послышался демонический хохот, после чего соединение оборвалось.
— Что? Что? — со всех сторон посыпались на меня вопросы.
Очевидно, я побледнел или на моем лице как-то иначе выразилось состояние неописуемого ужаса — панического, необъяснимого рационально, — охватившего меня в буквальном смысле от макушки до пят.
— Что с вами, Сушкин?
Ко мне подошел оказавшийся ближе всех Митрофан Андреевич. Полковник отобрал у меня трубку и, предварительно послушав — не донесется ли из нее хоть что-то еще, — повесил ее на рычаг.
— Что с вами? — повторил он.
Я, глядя на него с беспомощностью ребенка, только и смог, что потыкать пальцем в аппарат и промычать что-то невнятное.
— Сушкин!
Голос доносился до меня как из какого-то далёка: я не мог на нем сосредоточиться, он рассеивался, не достигая моего сознания, слова человеческой речи были неразборчивы примерно так же, как неразборчиво для слуха журчание ручья.
— Да очнитесь же!
Я ощутил, как мою щеку ожгло. В ушах зазвенело.
— Черт побери! — вскричал я. — Вы что, ополоумели?
Полковник отступил, мир вернулся в привычные рамки.
— Телефон!
Моя рука метнулась было к трубке, но Митрофан Андреевич ее перехватил:
— Там уже ничего! — сказал полковник, удерживая меня. — Что случилось? Кто звонил?
— Не знаю!
— Но что сказали?
— Что мне — конец!
Митрофан Андреевич выпустил мою руку из своей и схватился за собственный подбородок. Оглядевшись, я обнаружил, что и все остальные уже столпились вокруг меня и смотрели на меня во все глаза.
— Ого! — Можайский. — Прямо вот так — конец?
— И еще — смех! — я снова побледнел, но теперь — от гнева. — Ну, прямо сатанинский какой-то смех!
— Однако, странно…
— М-да… — протянул Чулицкий. — Ночью — попытка вломиться в квартиру… днем — Кальберг собственной персоной… теперь — пожалуйста: звонок с угрозами! Что бы это могло значить?
— Не знаю!
— Почему, — Чулицкий продолжал немного растягивать слова, — именно вы? Что такого вы сделали?
— Да ничего я не делал! Что мог я сделать, сидя в квартире?
— Минутку! — Инихов. — Вчера вы вовсе не сидели в квартире. Наоборот: вы очень даже активно разъезжали по городу… в компании нашего юного друга — поручика Любимова. Где вы с ним побывали? В Обуховской больнице и в Адресном столе?
Я призадумался.
— Ну… да, — был вынужден признать я. — Но что с того? Разве это как-то могло взбесить кого-то именно против меня?
— Гм…
— Адресный стол! — Чулицкий. — Ведь это вы, Сушкин, откопали ту информацию, которая… ну, ту самую, согласно которой…
Михаил Фролович замолчал, не договорив. Замолчал неуверенно, поскольку и сам видел: что-то и в этом его предположении было не так. В конце концов, что за прок настойчиво лезть ко мне, если полученная нами — мною и поручиком — информация уже стала достоянием полиции? Да и что такого особенного было в той информации? Положив руку на сердце, ничего!
— Может, — поручик, — обычная месть?
— Но за что?
Монтинин:
— Не каждому по вкусу, когда репортеры суют… э… ну, вы понимаете!
Я кивнул: действительно, нас, репортеров, нередко упрекают в том, что мы суемся в такие дела, до которых не должны иметь никакого касательства. Насколько справедливы подобные обвинения, оставим за скобками — сам я считаю, что для репортера нет и не может быть закрытых дверей, за исключением, разумеется, новобрачных, — но факт остается фактом: всегда достаточно таких людей, которые имеют на нас зуб! Я и сам не раз за свою репортерскую карьеру получал и гневные отповеди, и даже прямые угрозы. Но каждый раз как-то обходилось. Да и поводы были… гм… не настолько серьезными, как в данном случае: мне еще не доводилось накрывать целую банду опаснейших преступников, да еще и таких, которые, как начало выясняться, были связаны то ли с революционным подпольем, то ли с иностранными разведками!
— Значит, месть? — спросил я скорее самого себя, нежели Инихова или кого-то еще. — Всего-навсего?
Ответил Инихов:
— Нельзя исключать.
— И что же делать?
Сергей Ильич улыбнулся и малоутешительным образом пожал плечами:
— Ничего, полагаю.
— Как так — ничего? — изумился я.
— А что же тут можно сделать?
— Ну… я не знаю…
— Вот и я не знаю. Кроме, разве, того, чтобы дать вам совет: будьте предельно осторожны до тех пор, пока мы не накроем всех!
Я скривился в обреченной гримасе:
— Кого это — всех? Если, как уверяет Гесс, речь идет о революционерах…
— Я не уверяю! — Вадим Арнольдович мотнул головой, давая понять, что я то ли с выводами тороплюсь, то ли вообще что-то не так понял. — Я всего лишь передаю слова Талобелова… а кто сказал, что они, слова эти, — правда?
Сейчас уже ясно, что Гесс — в отличие от Инихова и других, считая и меня самого — был прав. Точнее, он был прав в том, что революционеры здесь были ни при чем, как ни при чем была и заурядная месть. Но в тот вечер понять это не было решительно никакой возможности, хотя прямо там же, в моей гостиной, и находился человек, в голове которого имелась нужная для сложения двух чисел информация.
Я, помнится, уже говорил, что этим человеком был штабс-ротмистр. Монтинин Иван Сергеевич. Но он — и это я тоже уже говорил — и сам не имел понятия о том, что такая информация у него имеется!
Плохо было и то, что мы — уютно расположившиеся в моей гостиной — не могли и представить себе, что даже у меня на дому ни я, ни кто-либо из нас в безопасности отнюдь не находились. Нам и в головы не могло прийти, что дерзкий негодяй решится проникнуть ко мне несмотря не дневное оцепление, несмотря на то, что уже едва не попался, несмотря на две уже неудачные попытки. И уж тем более, мы и представить не могли, на что именно он решится! Согласитесь, дорогой читатель: кто в здравом уме мог подумать о бомбе и о поджоге?
А ведь звоночек уже прозвенел! И ровно в те самые минуты, когда Гесс — сбивчиво и постоянно прерываемый — вел свое повествование, адская машинка, заложенная в моей кухне, уже отсчитывала минуты. И точно такие же устройства уже готовы были сработать и в разных других частях дома!
Меня до сих пор удивляет невероятная жестокость, с какой всё это было проделано. Ладно, мы — я и полицейские чины. Но чтобы поджечь весь дом? С множеством его обитателей? И так, что — нельзя же было не учесть погоду! — сгорел дотла целый квартал?
Впрочем, что теперь плакать по волосам! Вернемся лучше к рассказу Вадима Арнольдовича.
Итак, без всякой пользы потратив время на всякие предположения о причинах настойчивого желания преступников добраться до меня, мы несколько остыли и дали Вадиму Арнольдовичу возможность продолжить. Что Вадим Арнольдович и сделал.
— Талобелов поведал мне, что через него и Молжанинова проходила координация действий полиции и жандармов по обеспечению безопасности: именно Молжанинов и он расстроили многие из акций, в том числе и некоторые из тех, что наделали изрядного шуму. При этом информаторская деятельность Талобелова и Молжанинова была настолько искусно замаскирована, что ни один из провалов не вызвал вопросов именно к ним. Да и какие могли быть к ним вопросы, если Талобелов был вообще незрим, оставаясь этакой тенью за спиною Молжанинова, а сам Молжанинов был необыкновенно щедр и — через Брута — снабжал подпольщиков деньгами, оружием, оборудованием?
Но и это, как выяснилось тут же, было всего лишь вершиной айсберга: деятельность этих господ оказалась куда шире! Но для начала я стал свидетелем вот какой сценки: в кабинет вернулся чиновник для поручений. В руке он держал какую-то бумагу.
«Нашли?» — осведомился Зволянский, протягивая руку.
«Сразу же!» — ответил чиновник, протягивая начальнику листок.
Зволянский углубился в чтение.
«Что это?» — спросил я у Талобелова, полагая, что тот может знать содержимое документа.
Оказалось, что знает:
«Инструкция к покушению», — ответил он.
«На кого?» — переспросил я, а мое сердце сжалось.
«Да на шефа вашего!»
«Можайского!»
Талобелов усмехнулся:
«Нет-нет, успокойтесь! — он похлопал меня по колену. — Вашего князя никто не собирается трогать. Можайский — всеобщий любимчик, даже… кх-ммм… революционного подполья!»
— Ну, спасибо! — его сиятельство сделал Гессу полупоклон.
— Это он так сказал, — немного смутился Гесс.
— А вы сочли необходимым передать!
Гесс смутился больше, но его сиятельство неожиданно улыбнулся:
— Ладно, Вадим Арнольдович, не берите в голову! Неисповедимы пути Господни: возможно, в этом подполье есть кто-то, с кем я обошелся недостаточно сурово!
— Скорее, — Чулицкий, ворчливо, — по обыкновению необдуманно мягко. Снисходительно. Без надлежащей выволочки. Не принимая в расчет обстоятельства. Без оглядки на возможные последствия. В общем, по-свойски, а значит — в нарушение должностной инструкции, для совести, а не общего блага, по наитию, каковое наитие, Можайский, развито у тебя не очень!
Эта тирада вызвала общий смех, причем сам Можайский не остался в стороне: Михаил Фролович хотя и не упустил случай поддеть «нашего князя», но сделал это весьма добродушно — для Михаила Фроловича, разумеется.
Когда все отсмеялись, Гесс снова взял слово:
«Не на Можайского», — сказал Талобелов.
«А на кого тогда?» — спросил я.
Талобелов ткнул пальце вверх и пояснил:
«На Клейгельса».
«На Николая Васильевича!» — ахнул я, впрочем, признаюсь, даже с каким-то облегчением…
— Считайте, — покачал головой Митрофан Андреевич, — мы этого не слышали! Ведь правда, господа: не слышали?
Мы единодушным хором подтвердили: если Гесс и обмолвился о чем-то, то это как-то прошло мимо наших ушей!
Гесс поблагодарил нас, но все же счел своим долгом пояснить — вы, читатель, понимаете, что и я, не будь такого пояснения, не стал бы об этом писать:
— Вы, господа, неверно меня поняли. Я, конечно, не имел в виду, что весть о покушении на Николая Васильевича сделала мне облегчение. Нет. Просто на фоне Юрия Михайловича[41] — а ведь о нем первом я и подумал — Николай Васильевич очень хорошо защищен. Вот я и решил, что заговорщикам будет совсем не так просто подобраться к нему[42]!
— Да поняли мы, Вадим Арнольдович, поняли: шутим мы так…
Гесс еще раз выразил нам благодарность, а затем вернулся к рассказу:
— Талобелова удивило мое удивление:
«Что вас так удивляет?» — спросил он меня.
Я замешкался с ответом, так как и впрямь не находил разумных объяснений: а почему, собственно, целью заговорщиков не мог быть Николай Васильевич?
«Но почему именно он?» — все же продолжал настаивать я. — «Он-то что и кому сделал плохого?»
Талобелов поразился моим словам:
«Вы что же, серьезно это спрашиваете?»
«Да».
«Клейгельс — представитель власти. Этого достаточно. Да и потом…»
Талобелов запнулся, но я уже знал, что именно он скажет.
«… да и потом, — повторил он, — о делишках Николая Васильевича разве что немые не поговаривают!»
Я понял, что Талобелов имел в виду, и поэтому возразил даже с определенной горячностью:
«Да ведь то, что ему приписывают, находится в совсем другой плоскости! Причем здесь революция?»
«А! — отмахнулся Талобелов. — Разве вы не знаете, что для этого люда любой предлог годится?»
Я был вынужден согласиться:
«Да, пожалуй…»
Мы замолчали, вновь превратившись в слух и зрение: за стеклом события текли своим чередом.
Зволянский, наконец, закончил чтение «инструкции».
«Что вы об этом думаете?» — спросил он Молжанинова.
Молжанинов только развел руками:
«Я пытался передать через Брута: это — безумие».
«Но, как мы видим, не сработало?»
«Как видим, нет».
«Гм… вы уверены, что планы теперь не переменятся?»
«Откуда же мне знать? Твердо могу сказать только одно: теперь изменится вообще всё. Действия этого… Гесса раскрыли меня. Наивно думать, что о событиях в моем доме никто не узнает. А как их представить в нужном для меня русле, я и ума-то не приложу! Боюсь, меня уже ничто не спасет!»
Талобелов опять коснулся моего колена:
«Он прав».
«Его… убьют?» — шепотом, словно боясь, что нас услышат, спросил я.
«Кого вы имеете в виду? — уточнил Талобелов. — Клейгельса или Семена?»
«Обоих», — упавшим голосом ответил я.
Талобелов на мгновение задумался, а потом сказал:
«Клейгельса — нет…»
И тут же поправился:
«Вряд ли[43]. А вот жизнь Семена отныне и вправду под угрозой!»
«Что же делать?»
«Вам, — Талобелов издал смешок, — ничего. Вы уже достаточно сделали. А вот нам… впрочем, не обессудьте: я не скажу о наших планах. Довольствуйтесь тем, что план действий на подобный случай у нас, конечно же, есть!»
Но, как оказалось тут же, скрытность Талобелова была ни к чему — Зволянский, не предполагая, что его слышит кто-то еще, говорил весьма откровенно:
«Думаю, вам нужно уехать!»
«Я тоже так думаю, — согласился Молжанинов. — Но давайте хотя бы воспользуемся моим отъездом на общее благо!»
«Что вы предлагаете?»
«Я отправляюсь в Венецию!»
«В Венецию!» — воскликнул Зволянский. И добавил после небольшой паузы: «Вы уверены?»
Молжанинов откусил огурца, прожевал с аппетитным даже из-за стекла хрустом и, плеснув себе водки — жестом он предложил налить и Зволянскому, но тот — тоже жестом — отказался, — проговорил с расстановкой, тщательно выговаривая слова:
«Да, уверен. Нам, Сергей Эрастович, просто не представится другая такая возможность. Еще несколько дней и… вы понимаете!»
Зволянский помрачнел и принялся расхаживать по кабинету.
«Черт бы побрал этого Гесса!» — проворчал он. — «Надо же, как не вовремя!»
Молжанинов пожал плечами:
«Да, всё теперь кувырком. Но если и ехать, то теперь — обязательно!»
«Вы правы! — Зволянский остановился подле стола. — Езжайте!»
«Я бы хотел, — попросил тогда Молжанинов, — чтобы вы проследили за выполнением некоторых моих поручений… по хозяйству».
Зволянский в удивлении вскинул брови:
«По хозяйству?»
«Да. Вам нужно проследить, чтобы кое-какие сделанные мною распоряжения о благотворительных отчислениях не остались невыполненными. Ничто другое меня не интересует».
«Например?»
«Мы — вы это знаете — использовали гимназию Видемана и лично ее руководителя, Павла Александровича[44]. Неудобно получится, если… это останется без благодарности!»
Зволянский прищурился:
«Так ведь никто в гимназии понятия ни о чем не имеет!»
«Ну и что? Любой долг красен только платежом. Я давал на гимназию деньги, помог Павлу Александровичу кое-каким оборудованием…»
«Этим вашим чудо-проектором!»
«Да… и я хочу, чтобы деньги в гимназию продолжали поступать. На случай… э… внезапного отъезда у меня были заготовлены особые счета — как ими воспользоваться, вы найдете в адресованной вам записке…»
«В какой еще записке? Я ничего не получал!»
«Получите!»
«Да не проще ли сказать всё прямо сейчас?»
«Я написал всё загодя, нет смысла повторяться!»
Зволянский усмехнулся:
«Предусмотрительный вы человек, Семен Яковлевич! Ну, нет так нет… Что-нибудь еще?»
«Да». — Молжанинов немного помедлил. — «Если Кальберг…»
Я вздрогнул: вот оно! Кальберг! Но ответ Зволянского меня разочаровал — Сергей Эрастович попросту отмахнулся:
«О Кальберге больше не беспокойтесь. Не сегодня-завтра его схватят либо Чулицкий, либо Можайский. Другого, поверьте, уже не дано. Кальберга можно считать вне игры: он выведен из строя!»
«Вы в этом уверены?»
«Абсолютно!»
Молжанинов хмыкнул:
«Ну-ну… мэтр!»
Зволянский не понял — впрочем, как не понял и я это последнее замечание Молжанинова — и вспыхнул:
«Мэтр? Что вы имеете в виду?»
«Анекдот мне тут по случаю рассказали…» — ухмылка Молжанинова стала откровенно издевательской.
Зволянский нахмурился:
«Что еще за анекдот?» — голос Сергея Эрастовича стал холоден.
Молжанинова, однако, это обстоятельство ничуть не смутило: он уже изрядно выпил, изрядно опьянел и чувствовал себя запанибрата со всем миром.
«Запомните, дети! — Молжанинов начал рассказывать анекдот. — Только полный дурак и невежда может быть уверен в чем-либо абсолютно… Вы в этом уверены, мэтр? — Абсолютно!»
Сидевший рядом со мной Талобелов хихикнул.
Зволянский побледнел.
У меня, замечу, душа ушла в пятки: настолько дикой и невозможной показалась мне эта выходка Молжанинова!
«Милостивый государь! — отчеканил Сергей Эрастович. — Запомните: стараясь меня оскорбить…»
«Ничуть не бывало! — перебил Зволянского Молжанинов и вдруг заговорил с отнюдь не хмельной рассудительностью. — Я всего лишь привлекаю ваше внимание к вполне очевидной и реальной проблеме. Если Кальберг, несмотря ни на что — ни на этого вашего Чулицкого с его ищейками, ни на Можайского, этого любителя домохозяек, — все-таки уйдет, у нас — не только у меня, заметьте! — возникнут крупные неприятности. Если он прежде меня доберется до Венеции, дело можно будет считать проваленным окончательно!»
Зволянский присел на краешек стола, от его обиды не осталось и следа:
«Да, это — правда», — сказал он. — «Тем более что…»
«Конечно, — продолжал, не слушая Сергея Эрастовича, Молжанинов, — у нас еще есть в запасе эта паршивая овца, Некрасов…»
«Да нет же! — воскликнул, теперь уже перебивая Молжанинова, Зволянский. — Нет у нас больше Некрасова!»
Молжанинов так и подскочил и даже выронил из пальцев остатки огурца:
«Как — нет? Что вы такое говорите?»
«Зарезали Некрасова».
«Как — зарезали? Когда?»
«Минувшей ночью».
«Где? Кто?»
«Во дворе гимназии… а кто — неизвестно».
Молжанинов едва ли не зарычал:
«Кальберг!»
«Очень может быть», — нехотя согласился Зволянский.
«Вот вам и Чулицкий с Можайским!»
«Его — Некрасова то бишь — Чулицкий и нашел!»
«Да толку-то от того, что нашел! Зарезанным!»
«Но он нашел и письмо…»
«Какое еще письмо?»
«Самойлову».
Молжанинов тут же умерил пыл:
«Ах, вот как! И что же в этом письме?»
«Всё, как мы и предполагали. Встреча состоялась».
«Черт побери!»
«Да».
В кабинете воцарилась тишина. Зволянский и Молжанинов молча смотрели друг на друга, а чиновники — оба — на них не обращали вообще никакого внимания, разбирая какие-то бумаги и делая из них выписки.
«О чем они?» — спросил я Талобелова.
Старик помялся, но все же ответил:
«Видите ли, Вадим Арнольдович, как и положено в таких случаях — я о революциях говорю, — подполье — лишь видимая часть айсберга. А под водой и кое-что еще имеется!»
«Что?»
«Иностранцы».
«Разведка?»
«Она самая: куда же без нее!»
Я сжал кулаки:
«Так вы еще и в шпионаж вовлечены?»
«Не в шпионаж, — поправил меня Талобелов, — а в борьбу с ним. Точнее, в борьбу с подрывною деятельностью некоторых… гм… наших партнеров!»
«Партнеров? — не понял я. — Каких еще партнеров?»
Талобелов улыбнулся:
«Ну как же! Немцев — наших близких и нам по-домашнему родственных…ах, Вадим Арнольдович, извините!»
Я мотнул головой:
«Неважно… продолжайте!»
«Англичан…»
«И эти?»
«А как же!»
«Кто-то еще?»
«Французы…»
«Да ведь, — изумился я, — мы с ними в наилучших отношениях! Я даже слышал, что ожидается визит…»
«Да-да! — с иронией подхватил Талобелов. — Ожидается. К нам жалует Лубе — самолично[45]! Но что с того?»
«Но ведь это… низко!»
Талобелов хохотнул:
«Когда-нибудь бывало иначе?»
Я поежился:
«Ужас какой!»
«Это, — в тон мне подхватил Талобелов, — еще не ужас. Куда ужасней другое!»
«Что может быть еще ужасней?»
«Польские националисты! — ответил Талобелов. — Вот где настоящий кошмар!»
«Так значит, Кальберг, — я начал прозревать, — из них?»
«Вот именно!»
«И он действует…»
«Из личной ненависти. Да: это — очевидно».
«А за ним…»
«За ним стоят англичане. Как известно, еще со времен Петра великобританцев хлебом не корми — дай поинтриговать против России!»
«А все эти преступления…»
«Как! — воскликнул Талобелов. — Вы всё еще ничего не поняли?»
«Не до конца», — признался я. — «Даже, пожалуй, единственное, что я понял, — это место Молжанинова. Он — получается — Кальбергу никакой не компаньон. Он — подсадная утка. Верно?»
Талобелов посмотрел на меня со смесью насмешки и неудовольствия:
«Э, сударь… — протянул он. — Какая еще подсадная утка? Семен — один из самых отчаянных и мужественных людей, какие только встречались мне на моем веку! За исключением разве что Ивана Дмитриевича. Да-с… Иван Дмитриевич… тот был совсем сорванец!»
«Сорванец» из уст Талобелова прозвучало так, что я поневоле улыбнулся. А тут мне в голову пришло и то, что вообще-то и сам Талобелов — «сорванец» ничуть не меньший! Недаром же он стал настоящей легендой, а потом… потом… и вовсе выкинул этот свой фокус с исчезновением или гибелью! И ради чего? Уж не ради ли того, чтобы заняться расследованием куда более серьезных преступлений, чем обычная уголовщина? Правда, не всё сходилось по датам, но я отталкивался только от известных мне фактов, а ведь немало могло быть таких, о которых я, что называется, ни сном, ни духом!
Талобелов, похоже, уловил нить моих рассуждений и любезно внес кое-какую ясность:
«Да, сударь, вы правы, — сказал он. — Мне пришлось забросить уголовный сыск ради сыска политического, но, видит Бог, это получилось… почти случайно и уж точно не по моей собственной воле. Если вы сейчас подумали о том — а вы, я вижу, подумали! — что перед вами — героическая личность, то вы, мой милый, жестоко ошибаетесь и делаете мне незаслуженный комплимент. Впрочем, сейчас — не место и не время вдаваться в биографические рассужения!»
Я попытался посмотреть Талобелову в глаза, но он отвел взгляд. Значило ли это, что и его самоуничижение — не более чем игра? Не знаю!
«Так что же со всеми этими пожарами?» — вернулся я к ранее заданному вопросу.
Талобелов пожал плечами и, в сущности, повторил свой прежний ответ:
«Странно, что вы до сих пор так ничего и не поняли!»
«Но разъясните же наконец!»
Тогда Талобелов вздохнул:
«Мы были вынуждены способствовать всему этому… ужасу…»
«Как! — воскликнул я. — Вы… вы…»
Талобелов кивнул:
«Да. К сожалению».
«Но зачем, прости, Господи?»
«У нас не было выбора».
«Да как же так?»
«А вот так!» — Талобелов снова вздохнул. — «Вот так», — уже чуть ниже на тон повторил он. — «Иначе мы не могли подобраться к Кальбергу».
Талобелов понурился, а я смотрел на этого странного и — мне начинало казаться именно так! — не вполне здорового человека.
«Вы с ума сошли?» — прямо спросил я.
«Почти», — неожиданно согласился Талобелов. — «Иногда я тоже так думаю. Что за безумие — ради раскрытия одних преступлений совершать другие, причем… не менее, возможно, тяжкие! Скажи мне кто-нибудь такое всего лишь несколько лет назад, и я бы сам рассмеялся ему в лицо, а потом, не колеблясь, заковал его в кандалы! Да, сударь, было бы именно так. А теперь… вы сами видите: перед вами — человек, повинный в стольких злодействах, что он и сам уже им счет потерял! Сколько их было? Двадцать? Тридцать? Может быть, сорок?»
Меня передернуло:
«Вы о погибших или только…»
«Да как угодно: что трупов, что самих преступлений нагромоздилось изрядно».
Я все еще не верил своим ушам:
«Талобелов! — я схватил старика за его сухую, покрытую пятнами руку. — Немедленно скажите, что всё это — неправда!»
Но старик отдернул руку, а другой, наскоро перекрестившись, так же скоро провел по лбу:
«Правда, сударь. К моему сожалению».
«Но, — не сдавался я, — там, в кабинете, Молжанинов и вы… вы оба говорили совершенно иное! Вы же сами обратили мое внимание на то, что ни один из людей Молжанинова в преступлениях не участвовал! Вы же сами — сами! — дали ясное свидетельство этому! Все, кого мы подозреваем и кого вот-вот возьмем, все они — приспешники Кальберга, а не Молжанинова! Так что вы теперь такое говорите? Зачем? Почему?»
Новый вздох:
«Вы, сударь, неверно меня поняли. Конечно же, мы сами — ни я с Семеном, ни наши люди — ни в каких преступлениях не участвовали. Мы не совершали поджоги, не совершали убийства намеченных жертв. Это — чистая правда. Но мы не только обо всем этом знали, но и…»
«Что? Что?»
«Потворствовали всему».
«Как?»
«Да очень просто! Что же вы такой непонятливый!»
Талобелов, только что едва ли не смиренный и полный раскаяния, вдруг резко переменился, став агрессивным. Он вскочил с табурета и, нависая надо мной, наставил на меня указательный палец с таким видом, будто собирался пронзить меня. Его глаза сверкали. С губ полетела слюна.
«Государственная необходимость! Вы знаете, что это такое? Вы понимаете разницу между жизнью человека и жизнью отечества? Между бренностью одного и бесконечностью второго? Вот вам весы»… — Талобелов чашками сложил ладони и вытянул их ко мне. — «…положите на эту чашу гнилого субъекта или младенца, или истеричную барышню, или стоящего на краю могилы старика… да вот хотя бы меня! А на эту — всё то, что славно в веках и должно в веках оставаться! Всё то, без чего сами жизни что барышни, что младенца, что старика не имеют никакого смысла! Ну! Положили? Какая из чаш перевешивает?»
Я молча отшатнулся, едва не упав с табурета.
Талобелов, однако, не отступал:
«Вы сами-то, сударь, вы сами — неужто позабыли слова присяги? Неужто собственную жизнь и собственные интересы, свою, наконец, мораль ставите выше государственной необходимости? А как же, позвольте спросить, вот это…»
И Талобелов процитировал:
Во всём стараться споспешествовать, что к пользе государственной во всяких случаях касаться может!
Я ахнул: никогда еще не доводилось мне слышать настолько извращенное толкование присяги!
«Вы — не согласны?» — спросил Талобелов, отступая — слава Богу — на шаг.
Я, как и он до меня, поднялся с табурета. И теперь уже я нависал над ним, а не он надо мной. По крайней мере, так могло показаться, потому что комната, в которой мы находились, была уж очень невелика и мы, даже стоя в чем-то вроде шага друг от друга, едва не касались друг друга телами.
«Вы, — сказал я, — положительно сошли с ума».
Талобелов уперся руками в мою грудь и попытался меня оттолкнуть. К моему удивлению, сил в старике оказалось предостаточно, но все же не настолько, чтобы сдвинуть меня с места…
— Гм!
Чулицкий, глядя на отнюдь не выдававшегося телесными особенностями Гесса, хмыкнул, но ни сам Гесс, ни кто-либо еще не обратили на Михаила Фроловича никакого внимания. Гесс так и вовсе даже не прервался:
— И все-таки я покачнулся: Талобелов, силы которого удвоились, а то и утроились — не то безумством, а не то и отчаянием, — толкал меня и толкал, а затем набросился на меня с кулаками. Он начал лупить меня по мундиру, затем ухватил за плечо и попытался сорвать погон. Мое терпение лопнуло, и я сам оттолкнул его.
Сил во мне оказалось поболе, чем в этом безумном старике, и он, поддавшись толчку, отлетел к стене. Точнее, определение «отлетел» тут не годится из-за малых размеров помещения. Правильнее сказать — не удержался на месте и грохнулся спиной о стену. Какое, однако, определение ни использовать, удар получился значимым: Талобелов, согнувшись пополам, сполз на пол и, скрючившись, застыл.
Я шагнул к нему, склонился и подхватил за голову: на меня смотрели мутные, бессмысленные глаза. На губах Талобелова пенилась кровь.
— Только не говорите, — вскричал Митрофан Андреевич, — что вы его убили!
Гесс покачал головой:
— Нет-нет, Митрофан Андреевич, что вы! Кровь явилась результатом всего лишь того, что он прикусил губу, а бессмысленность взгляда — очевидным свидетельством психического расстройства.
Митрофан Андреевич поморщился:
— Бедняга… — пробормотал он и отвернулся в сторонку: я успел заметить, что в уголке глаза нашего бравого брант-майора сверкнула слезинка.
— Да, конечно, — уже в спину полковнику заметил Гесс, — бедняга. Но — опасный и непредсказуемый. Знаете, что он попытался сделать?
Митрофан Андреевич не ответил, но вместо него поинтересовался я:
— Что же?
Гесс повернулся ко мне:
— Зарезать меня!
— Ого!
— Да, представьте себе!
Гесс расстегнул портупею, сдвинул шнур револьвера[46] и расстегнул три или четыре пуговицы сюртука.
Я подошел поближе и невольно вскрикнул. На мой вскрик подбежали и все остальные, так что вокруг Вадима Арнольдовича немедленно собралась гудящая толпа.
— Господи! Да что же вы все это время молчали!
— Вам нужно к доктору!
— Доктора! Доктора!
— Шонин! Где Шонин?
— Будите его!
Кто-то — кажется, это был Монтинин — схватил спавшего на диване Михаила Георгиевича и попытался поставить его на ноги. Попытка не удалась, но, тем не менее, Михаил Георгиевич хотя бы разомкнул глаза и, удерживаясь головой в ладонях штабс-ротмистра, вопросил с изумлением:
— Ч-ч-то п-п-роисходит?
— У нас раненый!
— Р-ане-ный? Г-где?
— Да вот же! — Монтинин повернул голову Михаила Георгиевича в сторону Гесса. — Вадим Арнольдович!
— Д-да? А ч-ч-то с… с… с ним?
— Да просыпайтесь же наконец!
Иван Сергеевич начал стаскивать Михаила Георгиевича с дивана. Михаил Георгиевич оказывал отчаянное сопротивление, но силы были уж очень неравны: в конце концов, он грохнулся на пол.
— Что вы делаете? — заорал он тогда благим матом. — Не трогайте меня! Оставьте меня в покое! Что за издевательство! Вам это даром не пройдет!
Монтинин присел рядом с доктором на корточки и повторил:
— У нас — раненый!
Михаил Георгиевич замотал головой:
— Ну так пригласите к нему врача! — воскликнул он и повалился на бок.
Монтинин посмотрел на нас с отчаянием:
— Не могу ничего с ним сделать!
— Господа, господа! — попытался успокоить нас Гесс. — Ничего страшного! Со мною всё в порядке! Это — простая царапина! Не нужно врача!
Но то, что мы видели собственными глазами, напрочь расходилось со словами Вадима Арнольдовича: его сорочка под сюртуком до такой степени пропиталась кровью, что оставалось только дивиться — как несчастный Вадим Арнольдович до сих пор не лишился сознания от потери крови! Удивляло и то, что крови совсем не было видно с внешней стороны мундира, но это, похоже, объяснялось всего лишь добротностью и толщиной сукна. Теперь я понял, почему Гесс, едва он вошел в гостиную, показался мне настолько бледным: при такой-то кровопотере чему же удивляться?
— Да говорю же, господа, — не сдавался, тем не менее, он, — простая царапина! И кровь давно перестала идти! Не нужно врача!
Тогда вмешался Можайский: он разогнал всех нас от Гесса, а самого Вадима Арнольдовича чуть ли не силой подвел к креслу и заставил в него усесться.
— Ну-ка, посмотрим…
Гессу пришлось подчиниться.
Можайский — на удивление умело — произвел быстрый осмотр, во время которого, впрочем, Гесс дважды или трижды поморщился от явно нестерпимой боли. Наконец, его сиятельство вынес вердикт:
— Рана и впрямь не смертельная, но крайне тревожная. Налицо — воспаление… подайте мне водки!
Это уже было обращено к кому-нибудь из нас, и тогда Чулицкий, оказавшийся ближе всех к бутылкам, подхватил одну из них и отдал ее Можайскому.
Его сиятельство смочил водкой носовой платок и аккуратно отер им края раны. Гесс едва не закричал.
Когда кровь была смыта, уже и все мы смогли рассмотреть почерневшую краями плоскую дыру под ребром Вадима Арнольдовича, причем — черная краями — сама рана имела очень нехороший вид: набухла и пошла какими-то радужными пятнами.
— Чем же он вас так пырнул?
— Отверткой, — ответил Гесс.
Я удивился:
— Чем-чем? — переспросил я.
— Отверткой, — повторил Гесс. — Инструмент такой с плоским шлицем. Для нас это — редкость, но много где встречается.
— С ума сойти!
— Да уж…
Тем временем, Можайский продолжал обрабатывать рану, а когда закончил, попытался соорудить что-то вроде повязки. Удалось ему это не очень — подручные материалы оказались не слишком годными для такой задачи, — но в целом всё стало выглядеть намного пристойнее.
— Вот так! — Можайский отодвинулся от Гесса и осмотрел дело своих рук. — Сидите и не размахивайте руками. А завтра — к врачу! Я лично за этим прослежу!
— Но…
— И никаких возражений!
Гесс смирился. Сидя в кресле, он принял такую позу, чтобы как можно меньше тревожить рану, а предложение обратиться за квалифицированной помощью уже не встречало в нем сопротивления. Возможно, он и сам понимал, что дела с его раной обстоят совсем не так благополучно, как этого хотелось бы и ему самому — в первую, разумеется, очередь именно ему самому!
Кто же мог знать, что уже вскоре последовавшие события никак не позволят Гессу отправиться в больницу или хотя бы в частный кабинет?
Однако, давайте, читатель, продолжим по порядку.
Итак, Вадим Арнольдович расслабился в кресле, а я, подав ему стакан, попросил его вернуться к рассказу:
— Как же так получилось, Вадим Арнольдович? — спросил я. — Раз уж Талобелов скрючился на полу…
— Да вот так и получилось! — по лицу Гесса пробежала гримаса. — Моя вина: не доглядел.
— А все же?
— Склонился я над ним… он показался мне таким беспомощным, таким жалким в своем очевидном безумии, что я даже устыдился! Как я мог, — подумал я, — применить физическую силу против него? А он… он…
— Ударил вас этой… как бишь ее! — отверткой?
— Вот именно. Едва я наклонился к нему, его бессмысленный вот только что взгляд наполнился свирепой злобой, а в следующий миг я ощутил, как в меня вонзилось железо! Я — насколько сумел — отскочил, но было поздно. На какое-то мгновение я даже подумал, что потеряю сознание — настолько мне было больно! — но, вероятно, инстинкт самосохранения оказался сильнее. Я понял вдруг совершенно отчетливо: если я упаду без чувств, тут мне и придет конец.
Талобелов распрямился подобно пружине. Он вскочил на ноги и, по-прежнему удерживая отвертку в руке, налетел на меня, то норовя попасть мне в глаз, то проткнуть мне грудь.
Я отбивался, как мог. И, слава Богу, отбился!
— Что с Талобеловым? — на удивление строго в сложившихся обстоятельствах спросил Митрофан Андреевич.
— Ничего, — ответил Гесс.
— Он что же — ушел?
Я понял, что удивившая меня строгость полковника была адресована не Гессу: Митрофан Андреевич обозлился на собственного кумира — того, кто еще десять минут назад казался ему воплощением тайны и доблести.
— Ну… да, — признался Гесс.
Брови Митрофана Андреевича сдвинулись:
— Не могу осуждать вас, но…
— Вы не поняли, — перебил полковника Гесс. — Я был вынужден его отпустить. Если бы не эта — крайняя — нужда, никуда бы он от меня не делся!
Теперь уже Митрофан Андреевич удивился:
— Вы его сами отпустили? Зачем? Какая нужда заставила вас это сделать? О чем вы говорите?
Гесс пояснил:
— Я не мог его задержать. Если бы я это сделал, я бы не только раскрыл свое присутствие в доме — а ведь я уже давным-давно должен был уйти! Я бы не только выдал и то, что стал свидетелем беседы Зволянского и Молжанинова. И даже не только то, что мне раскрылась пусть, очевидно, и не вся, но все-таки правда… нет! Задержав Талобелова, я бы поставил под удар и без того уже практически проваленную операцию по спасению нашей страны!
Прозвучало это весьма патетически, но смеха ни в ком не вызвало. Напротив: и сам Митрофан Андреевич, и все мы — остальные — смотрели на Гесса очень внимательно и серьезно.
— Да, господа! — продолжал, между тем, Гесс. — Ведь этот Иуда был прав, когда говорил о присяге… пусть он ее и исказил до омерзения, но в целом — в целом! — он был прав! Что следует поставить выше: собственные желания или благо Отечества? Вот как звучал вопрос по-настоящему. И вы, господа, понимаете, что ответ на него может быть только один — разумеется, благо Отечества.
Талобелов, какой бы скотиной он ни оказался на деле — или насколько бы он ни сошел с ума — работал на это самое благо, и работа его еще далеко не была окончена. Ему…
— Но убийства, Гесс, убийства!
— Да, — согласился Гесс, — это ужасно. Но с этим-то уже ничего поделать было нельзя. Передо мной лежал свершившийся факт: прошлое оказалось на одной чаше весов, будущее — на другой. И я не только это понял, я понял и то, что Талобелов, который вдруг перестал на меня нападать, проник в мои мысли!
— Час от часу не легче… — пробормотал Митрофан Андреевич, без всякого, впрочем, осуждения.
— Он проник в мои мысли и даже усмехнулся: с ним произошла очередная мгновенная перемена — он перестал казаться безумцем, снова приняв вид нормального человека.
«Вижу, вы изменили мнение на мой счет?» — спросил он меня, усмехаясь.
«На ваш — нет», — ответил я. — «Но выбора, похоже, у меня и нет… мне придется вас отпустить!»
«Вы уверены?»
«Да».
Талобелов спрятал отвертку в карман и даже помог мне осмотреть рану. И это он остановил лившуюся ручьем кровь.
«Ничего страшного, сударь, — сказал он, закончив осмотр и врачевание, — могло быть и хуже».
Я только крякнул.
«Напрасно вы злитесь… — Талобелов говорил совершенно искренне: наверное, это — особенность всех сумасшедших. — Напрасно вы злитесь: я ведь не ради себя стараюсь. И против вас лично не имею вообще ничего!»
«Премного вам благодарен!» — съязвил я, но ирония получилась какой-то неубедительной.
«Уходите?»
И тут меня осенило: да с чего же мне уходить? И я, уже подошедший было к двери, вернулся к стеклу и решительно уселся на табурет:
«Нет, — твердо ответил я, — остаюсь!»
Талобелов кивнул:
«Разумно».
И сел на свой табурет.
Так мы вновь оказались подле стекла — плечом к плечу. И так мы вновь превратились в зрение и слух.
— Ну вы даете! — восхитился Монтинин.
Гесс слегка порозовел, что придало его бледному лицу оттенок какой-то рафаэлической стыдливости:
— Мне было неприятно, но…
— Я бы тоже не ушел!
Монтинин подошел к Гессу и, склонившись над ним, схватил его руку и затряс ее.
Можайский предостерегающе вскрикнул, но было поздно: Вадим Арнольдович из розового сделался зеленым и заорал.
Монтинин ошеломленно отскочил.
— Простите, простите, я не хотел… — залепетал он.
— Брысь! — рявкнул Можайский.
Монтинин мгновенно ретировался, укрывшись за спиной поручика.
— Как вы?
Гесс, еще не вполне оправившись, только кивнул:
— Ничего…
Можайский отвернулся от своего помощника и взглядом поискал штабс-ротмистра. Найдя его за спиною поручика, он погрозил ему сначала кулаком, а потом — очевидно, смягчившись — пальцем.
Монтинин выглядел смущенным.
— Вот я вас! — к угрозе жестом добавил Можайский и словесную угрозу. — Тоже мне — почитатель нашелся!
— Юрий Михайлович, — жалобно заговорил Монтинин, — честное слово: я не хотел. Просто… просто…
— Голову Бог на плечи посадил не только для того, чтобы волосы расчесывать! Еще и затем, чтобы в оба смотреть! И думать — хотя бы изредка… Впрочем… — Можайский неожиданно усмехнулся, — иные скажут, что это — думать — совсем уж не обязательно! Опасное это, говорят, занятие!
Монтинин, ничего не поняв из последней тирады, растерялся:
— Юрий Михайлович, я… — начал он, но Можайский его перебил.
— Ладно, забудьте! — сказал он и, отвернувшись от поручика и спрятавшегося за ним Монтинина, вновь повернулся к Гессу. — Стало быть, герой вы наш, вы не ушли?
— Нет.
— И можете рассказать нам, что происходило в кабинете дальше?
— Да.
— Ну так чего же вы ждете?
Гесс опять слегка порозовел:
— Да, конечно… на чем я остановился?
— Ни на чем. Вы просто уселись на табурет, а Талобелов уселся рядом с вами.
— Ах, ну да… Не знаю, сколько — пока длились наш спор и схватка — и чего мы пропустили, но в кабинете всё шло своим чередом. Оба чиновника уже буквально тонули в бумагах — столько их набралось для какого-то таинственного разбора, — а Молжанинов, снуя по кабинету, всё подкладывал и подкладывал им новые папки и подшивки. Этот удивительный процесс заинтересовал меня настолько, что я не смог не спросить у Талобелова:
«Чем они занимаются? Что это за бумаги?»
«Это, — ответил Талобелов, — собранная нами картотека. Ну, и еще кое-что… всевозможные досье: на наших иностранных «друзей» и на кое-каких из наших собственных «патриотов». К несчастью, взять и просто переместить все эти бумаги из дома в Министерство невозможно. Здесь они находятся в полной безопасности, а в Министерстве сразу же станут… гм… публичным достоянием… вы понимаете?»
Я, думая, что понимаю, кивнул:
«Опасаетесь утечек?»
«Их тоже, — кивнул в ответ Талобелов, — но не только. Как это ни прискорбно, но вынужден констатировать: мы — я говорю в общем — странные люди. Стоит каким-нибудь проходимцам посулить нам что-нибудь вроде вечной дружбы, как мы — по феерической какой-то доброте душевной — тут же распахиваем перед изолгавшимися вконец негодяями наши архивы, отдаем им наши самые дорогие секреты. И ведь что удивительно: сколько уже раз мы попадались на этом, а всё никак не усвоим урок — нет у России и никогда не будет искренних друзей или хотя бы доброжелателей. И нет нам никакой нужды делиться подлинными богатствами в обмен на обещания морковки».
Прозвучало это грубовато, но совершенно верно по сути.
«Да, вы правы», — согласился я. — «Значит, вы…»
«Мы поставили непременным условием уничтожение подлинников в ситуации, когда почему-либо нам придется покинуть Россию или в том случае, если наше разоблачение станет неизбежным. И то, и другое случилось. То, что вы наблюдаете, — процесс подготовки к уничтожению. Эта сладкая парочка — чиновники — копируют для внутреннего использования наиболее важную информацию. Но так как она уже не будет исходить из первоисточников, то, хотя пользоваться ею будет по-прежнему возможно, являться подлинной ценностью для иностранных правительств, шпионов и провокаторов она не сможет. Интерес к ней, возможно, и сохранится, но скорее опосредованный — как к учебному пособию или материалам для чьих-нибудь пустозвонных, но маскирующихся под информативные мемуаров».
«Вы так в этом уверены?»
«Разумеется».
«Я, конечно, далек от разведывательной деятельности, но…»
«И ваше счастье, что далеки! — Талобелов похлопал меня по колену. — Просто поверьте: любая информация ценна лишь в том случае, если ее источник надежен. В любых других она не стоит и ломаного гроша!»
Я не стал спорить — зачем? К тому же, мое внимание отвлеклось на странные действия Зволянского.
Сергей Эрастович отошел в угол кабинета и, встав на четвереньки, костяшками пальцев начал выстукивать паркет. В какое-то мгновение глухие звуки сменились звонким: Зволянский нажал, и одна из паркетин откинулась в сторону.
«Ага!» — удовлетворенно воскликнул директор Департамента полиции.
«Нашли?» — усмехаясь, поинтересовался Молжанинов.
«А вы что же: думали, не найду?»
Молжанинов швырнул на стол очередную кипу бумаг и подошел к по-прежнему стоявшему на четвереньках Сергею Эрастовичу. Глядя на него сверху вниз, он задал совсем уж странный вопрос:
«А вы уверены?»
На лице Зволянского появилось явное выражение растерянности:
«Да вот же!» — ответил он похлопывая ладонью по паркету.
«М-да…» — протянул Молжанинов и тоже опустился на четвереньки. — «Ну, посмотрим…»
Оба — Молжанинов и Зволянский — запустили руки в тайник, но если Молжанинов при этом весело расхохотался, то Зволянский буквально позеленел:
«Что за черт!» — отдернув руку, требовательно вопросил он.
«Старая добрая обманка, ваше превосходительство!»
«Да тьфу на вас, Семен Яковлевич!» — Зволянский вскочил на ноги. — «Что за цирк Чинизелли!»
«Вы были так уверены в собственной находчивости…»
«Хватит! Давайте, показывайте!»
Зволянский сердился.
«А что теперь происходит?» — спросил я у Талобелова.
Тот, по примеру Молжанинова, рассмеялся:
«Вадим Арнольдович, право слово! Ну какой приличный дом тайных агентов — без тайников? Вот только не все тайники — действительно таковые. Сергей Эрастович был уверен, что знает о тайниках всё. И он только что — на ваших глазах — поплатился за эту самоуверенность. Впрочем, его можно понять и даже извинить: точно так же стал бы рассуждать любой. Ведь и вправду среди агентов и шпионов намного больше олухов царя небесного, нежели действительно, скажем так, творческих людей. Вот и устраивает вся эта братия тайнички в самых очевидных местах: под паркетинами, в выдолбленных ножках столов и спинках стульев, за коврами, в шкатулках с двойным дном… тьфу, мерзость!»
«А вы?»
«Мы поступили иначе!»
В голосе Талобелова послышалась ирония.
«Над чем вы смеетесь?» — не понимая эту иронию, поинтересовался я.
«Ну, как же!» — ответил он, смеясь еще пуще. — «Видели бы вы свое собственное лицо!»
«Вы что же, — осенило меня, — надо мной издеваетесь?»
«Ну, слава Богу!» — Талобелов перестал смеяться. — «Дошло!»
Я вперился взглядом в стекло: в кабинете происходило нечто, почти аналогичное произошедшему в нашей с Талобеловым комнатушке.
«Вы издеваетесь надо мной!» — вскричал Зволянский.
«И самым бесцеремонным образом!» — подтвердил, хохоча, Молжанинов.
Зволянский побледнел:
«Милостивый государь…»
«Да бросьте, Сергей Эрастович!» — Молжанинов перестал хохотать, но не перестал ухмыляться. — «Сами подумайте: какие еще тайники? Зачем они мне? Какой в них прок, если любой из них можно обнаружить?»
«Но позвольте…»
«Сергей Эрастович! Да что же вы словно ребенок? Вот скажите: ценность какой бумаги более очевидна — той, что лежит на виду, или той, что припрятана?»
«Той, что припрятана», — не задумываясь ответил Зволянский.
«Значит, — продолжил допрос Молжанинов, — если я положу в тайник обертку от шоколадки, а на стол — вот сюда — брошу список замеченных в революционной агитации, вы мимо списка пройдете, а за работу над оберткой усадите взвод дешифровщиков? А то ведь мало ли, как оно может обернуться! Вдруг это — послание вселенской важности?»
Мартышка под дождем
Идет — не унывает
И шоколад зонтом
От брызгов прикрывает![47]
Новый взрыв смеха.
Зволянский вновь начал сердиться:
«Вы совсем-то уж за дурака меня не принимайте!»
«Да ведь вы сами только что сказали…»
«Я, — перебил Молжанинова Зволянский, — сказал лишь то, что спрятанная бумага привлекает к себе повышенное внимание. Но и ваш список со стола без внимания тоже не остался бы!»
«Вот видите!»
«Да что же?»
«А то, что в тайнике никакого проку нет!»
Зволянский уже открыл было рот — очевидно, он что-то хотел возразить, — но вдруг захлопнул его и нахмурился. Эта перемена не ускользнула от внимания Молжанинова — пьян он был или нет, неважно:
«Что еще?» — спросил он, перестав ухмыляться и вдруг насторожившись.
Зволянский подошел к окну. Молжанинов встал рядом.
Оба они, прикрытые легкой ситцевой занавеской, составлявшей разительный, но, впрочем, чрезвычайно эффектный контраст с общей роскошью интерьера, смотрели на улицу, но что именно привлекло их внимание, понять было невозможно. Лично я полагаю, что Зволянский — как известно, Сергей Эрастович обладает тонким слухом — первым услышал какой-то звук, донесшийся с линии, а нам — мне и Талобелову — расслышать этот звук из нашей комнатушки было никак нельзя.
Молжанинов притронулся к локтю Зволянского и, привлекая внимание, на что-то указал. Зволянский кивнул:
«Вижу!»
«Как быть?» — спросил тогда Молжанинов.
«Как-как… — проворчал тогда Зволянский и отошел от окна. — Проще пареной репы!»
«Что вы делаете?»
Зволянский схватил телефонную трубку и попросил соединить его с Министерством. Разговор длился недолго — буквально несколько фраз, из которых я понял, что Сергей Эрастович вызвал подмогу.
«Что происходит?» — спросил я у Талобелова.
Талобелов пожал плечами:
«Скорее всего, — ответил он, — кто-то что-то уже разнюхал. Дом взяли под наблюдение. Сейчас прибудут наши люди и… гм… наблюдение уберут».
«Уберут?»
«Ну да: на время. Иначе нам с Семеном не вырваться».
«Так это — наблюдение с нашей стороны?»
«Нет, что вы, — усмехнулся Талобелов, — никак не с нашей!»
«Но как же тогда его уберут… на время?»
«Как-как… — спародировал Зволянского Талобелов. — Проше пареной репы!»
«Новое убийство?» — ужаснулся я.
Талобелов посмотрел на меня как на сумасшедшего:
«Какое еще убийство? Зачем?»
«Но…»
«Да мало ли, — пояснил тогда Талобелов, — способов? Задержат, например, за хулиганство!»
«За хулиганство!»
«Да. Вот только…»
Талобелов внезапно замолчал. На его лице появилась тревога.
«Что?»
«Простите, Вадим Арнольдович, но я должен идти!»
Талобелов вскочил с табурета и — с удивительной для старика сноровкой — бросился к двери.
«Куда вы?» — вскричал я и тоже поднялся на ноги.
«Оставайтесь здесь!» — только и ответил Талобелов, распахивая дверь и выбегая из комнаты. — «Никуда не уходите!» — добавил он уже из коридора.
Дверь в комнату закрылась.
Я стоял и не знал, что предпринять. Поведение Талобелова меня встревожило даже больше, чем его давешнее самоличное нападение на меня: тот поступок я хотя бы мог понять и даже — с известными оговорками, конечно — оправдать. А вот неожиданное бегство вкупе с советом… нет — с настоящим требованием лично мне никуда не отлучаться, я ни понять, ни принять безропотно не мог.
Однако, и нарушить распоряжение Талобелова я тоже — вот так, сразу — не решался: мало ли что могло произойти? Может, этот удивительный человек, пусть и пытавшийся убить меня самым вульгарным образом, предостерег меня от куда большей опасности? Да и как бы я смог выйти из дома, не обнаружив себя, а значит — не раскрывшись перед Зволянским в грубом нарушении данного ему слова?
Да, господа: мое положение было не из легких. Голова лихорадочно работала, но метавшиеся в ней мысли мало походили на спасительные. Скорее, наоборот: что ни мысль приходила мне на ум, то еще круче, еще безнадежнее высвечивала ситуацию!
«Ну, я и влип!» — решил я и вдруг успокоился. — «Лучшее, что я могу сделать, — это и в самом деле оставаться на месте! В конце концов, что бы там ни происходило, всё успокоится, люди — во главе с Сергеем Эрастовичем — разойдутся, и вот тогда-то я и смогу беспрепятственно скрыться. Даже если Талобелов сюда не вернется!»
Это рассуждение было не слишком логичным — вы сами это видите, господа, — но в ту минуту оно показалось мне стоящим. Я снова уселся на табурет и стал смотреть на происходившее в кабинете.
Зволянский вновь занял позицию у окна. Но Молжанинов — нет. Молжанинов суетился больше прежнего: теперь он уже не подкладывал бумаги на стол — чиновникам, — а напротив: хватал их пачками со стола и относил к полыхавшему камину. Там он швырял их в огонь и «размешивал» кочергой, дабы они сгорали быстрей и полнее.
Чиновники — в невероятной спешке: это было видно — переписывали то, на что еще было хоть какое-то время. Они сами отбрасывали в сторону длинные документы, хватаясь за короткие записки и заметки.
И тут раздался телефонный вызов.
Зволянский круто поворотился от окна. Молжанинов — с бумагами в руках — застыл посреди кабинета.
«Вы ждете звонка?» — напряженным голосом поинтересовался Зволянский.
«Нет!» — не менее напряженно ответил Молжанинов.
«Ответьте!»
Молжанинов снял трубку:
«Алло?»
Улыбка.
«Кто там?»
«Друг!»
Молжанинов повесил трубку обратно на рычаг.
«Что за друг?» — Зволянский был в нетерпении и нервничал одновременно.
«Вы… его не знаете», — ответил, продолжая улыбаться, Молжанинов.
«Не знаю?»
«Нет».
Если поначалу Молжанинов явно колебался — называть Зволянскому имя или не стоит, то теперь он принял решение: не говорить. Его ответ прозвучал твердо и возражений не подразумевал.
Зволянский, однако, не сдавался:
«Вы лжете!»
Молжанинов покачал головой:
«Не имеет значения. Просто поверьте мне на слово: это — старый, добрый, внимательный друг. И он решил наше маленькое затруднение. Путь свободен!»
Зволянский бросился к окну.
«Ничего не понимаю… — протянул он. — Вот и наши люди: видите?»
Подошедший и вставший рядом Молжанинов кивнул.
«Но… что они делают?» — продолжал удивляться Зволянский. — «Смотрите: они встали словно бараны и просто пялятся на дом!»
«Чему же вы удивляетесь? Я ведь сказал: проблема уже решена. Ваши люди, — Молжанинов выделил голосом это «ваши», как бы противопоставляя вызванных Зволянским людей своему собственному таинственному другу, — ваши люди попросту не находят того, за кем явились!»
По моей спине пробежал холодок. Зволянский, очевидно, тоже почуял неладное: он ухватил Молжанинова за лацканы фрака и что было силы встряхнул:
«Что произошло? Что вы натворили?»
Молжанинов аккуратно высвободился из хватки Сергея Эрастовича и ответил спокойно и так, что у меня отлегло от сердца:
«Успокойтесь! — сказал он. — Ничего… этакого не случилось. Готов поставить тельца против яйца, что наш… э… любопытный дозорный прямо сейчас удаляется в противоположном от дома направлении. Скажем… на вокзал!»
На лице Зволянского появилось изумление:
«Почему на вокзал?»
«Потому что именно там я уже и нахожусь».
Зволянский отшатнулся от Молжанинова в полной растерянности:
«Как так?»
«Сам не знаю!»
Послышался смешок: это хихикнул один из сидевших за столом чиновников.
«Что вам кажется настолько смешным?» — рявкнул на беднягу Зволянский.
Чиновник поспешно уткнулся в бумаги, но в этом уже не было никакой нужды: Зволянский и сам как будто одернул себя. Его умные глаза, во взгляде которых до сих пор читалось только недоумение, засверкали каким-то бешеным светом. И, как тут же выяснилось, это был свет гомерического хохота!
Да: Сергей Эрастович, едва ли не согнувшись пополам, разразился бурным смехом, а затем, вцепившись в Молжанинова, чтобы не упасть, и вовсе впал в подобие истерики. Только это, разумеется, была не истерика: Сергей Эрастович, никого не смущаясь, выплескивал из себя накопившиеся тревогу и усталость.
«Примите мои поздравления! — смог, наконец, проговорить он. — Тонко сработано!»
Молжанинов принял комплимент улыбкой и одновременно с нею — усаживая Зволянского в кресло: в то самое, в котором еще недавно сидел я сам.
«Водки?»
«Давайте!» — Зволянский, устроившись на редкость удобно, вытирал от слез глаза. — «Теперь можно!»
Молжанинов налил и подал. Зволянский выпил. А я вздрогнул и обернулся: дверь в комнатушку открылась.
«Вы!» — можно сказать, обрадовался я.
«А кто же еще!»
Это — вы уже догадались — вернулся Талобелов. Не думал, что его возвращение настолько меня облегчит! А ведь каких-то полчаса тому назад… да что там — и двадцати минут, наверное, не прошло, он пытался меня убить, а сам я чувствовал к нему только отвращение!
«Значит, — улыбаясь, спросил я, — это вы — тот самый друг, который отправил наблюдателя на вокзал?»
Талобелов тоже улыбнулся:
«Семен рассказал?»
«Зволянский в него так и вцепился!»
«Понимаю!»
«Но как вы это проделали?»
«Очень просто: подошел и сказал, что Молжанинов уже взял билет и прямо сейчас садится в поезд на Берлин, где собирается пересесть на поезд до Венеции».
«Какой странный маршрут!»
«Подумаешь! В нашем деле — чем путаней, тем достоверней!»
«И вам поверили?»
«Отчего же нет?»
Талобелов — честное слово! — подмигнул.
«Но зачем вообще вы это сделали? Вы же сами сказали, что наблюдателя просто задержат?»
«Я подумал, — ответил Талобелов, — что этого недостаточно и даже может привести к обратным последствиям. Задержание вызвало бы подозрения, а связаться со своими людьми задержанный, вы понимаете, смог бы без труда. У нас ведь не пыточные, к сожалению, и не съезжие! И вот, если бы так и случилось, дом неминуемо был бы взят под куда более тщательное наблюдение, а значит нам с Семеном точно пришел бы конец! Мы оказались бы загнаны в угол без всякой надежды вырваться из него».
«Но Зволянский…»
«Да ведь не смог бы Сергей Эрастович каждые четверть часа наблюдателей снимать!»
«М-да, — согласился я, — пожалуй!»
Мы замолчали и как-то разом поворотились к стеклу.
Зволянский по-прежнему сидел в кресле и пил, кажется, уже вторую или даже третью стопку. Молжанинов же вернулся к прерванной им было работе: он снова начал собирать со стола бумаги и относить их в камин.
Камин полыхал безумным пламенем. Если бы это видели вы, Митрофан Андреевич, вас — уж простите — хватил бы Кондратий!
— Так жарко было?
— Не то слово!
Митрофан Андреевич улыбнулся, хотя улыбка получилась грустной:
— Вот и говори после этого людям, что огонь — не игрушка! Четыреста семьдесят пожаров за минувший год — дело рук таких вот безумцев… Четыреста семьдесят, господа[48]!
Мы — все — покачали головами: мол, и не говорите, Митрофан Андреевич, — жуть-то какая! Но — за всех, разумеется, не скажу, но за себя ручаюсь — приведенная полковником статистика интересовала нас куда меньше, нежели рассказ Вадима Арнольдовича, явно подходивший к концу. Во всяком случае, не успел я и рот открыть, чтобы попросить Вадима Арнольдовича продолжить, как меня опередил Чулицкий:
— Неужто всё вот так и спалили? — спросил он, имея в виду картотеку Молжанинова.
— Да, — подтвердил Гесс, — абсолютно всё!
— Вот жалость!
Можайский:
— Подозреваю, потеря и впрямь существенная! Было бы интересно заполучить такую картотеку хотя бы на день-другой! Что-то мне подсказывает, что лично я узнал бы много интересного о моем участке!
Чулицкий хмыкнул:
— Да ведь каждой собаке известно, что ты, Можайский, в своем участке — как рыба в воде! Неужели собаки брешут?
Можайский хмыкнул в ответ:
— Брешут, Михаил Фролович! Конечно, брешут!
Лицо Чулицкого сделалось серьезным:
— Да, согласен, — сказал он, — знать всё невозможно, а молжаниновская картотека могла бы многое рассказать и мне… или вот: Сергею Ильичу. Я-то на покой собрался, а Сергею Ильичу еще работать и работать!
Инихов вздохнул:
— Действительно жаль!
Это прозвучало двусмысленно, но все мы поняли: слова Сергея Ильича относились к картотеке, а не к предстоящим ему многочисленным трудовым будням.
— Неужели, — Чулицкий вновь обратился к Гессу, — совсем-совсем ничего не осталось?
Гесс — так же, как и Сергей Ильич — вздохнул:
— Боюсь, совсем ничего… Вы же понимаете, Михаил Фролович: я не мог вмешаться в процесс уничтожения. Даже раскрой я свое присутствие в доме, кто бы мне позволил вмешаться?
— Да, понимаю… — в голосе Чулицкого зазвучала робкая надежда. — Но все же… все же… вы ведь могли… попозже, когда все разошлись, пошуровать в камине?
Гесс подтвердил неожиданную догадку Михаила Фролович, но в целом его ответ прозвучал неутешительно:
— Не только мог, но и пошуровал…
— Ага!
— …да только впустую!
— Совсем!
— Совсем. Молжанинов так тщательно работал кочергой, что все бумаги превратились в золу, а зола оказалась полностью перемешанной. Ни клочка не уцелело!
Чулицкий махнул рукой и расстроенно отвернулся.
Гесс вернулся к своему рассказу.
— Чиновники лихорадочно работали, Молжанинов жег бумаги, Зволянский жевал огурец, взятый с моей собственной тарелки. Не знаю почему, но у меня слюнки потекли: так мне захотелось того же огурца! Все это происходило в молчании: ни в кабинете никто не говорил ни слова, ни мы с Талобеловым не разговаривали. Мне даже показалось, что Талобелов — время от времени я на него посматривал — настолько погрузился в какие-то собственные мысли, что напрочь забыл о том, что его окружало, считая и мое присутствие тоже. А потом случилась новая неожиданность.
Минут, наверное, через двадцать, а может, и через полчаса — представляете? Все они протекли в тишине! — снова раздался телефонный вызов. Произошло это так внезапно, что Зволянский даже подскочил на подушке кресла, а Молжанинов выронил из руки кочергу. Кочерга упала прямиком в огонь: пришлось выуживать ее каминными щипцами…
«Да что же за день сегодня такой!» — воскликнул Молжанинов, возясь с железками.
«Вы не ответите?» — Зволянский кивнул на разрывавшийся аппарат.
«Нет, конечно! Забыли? Я — в поезде!»
«Думаете, проверка?»
«Не знаю. Но всё может быть».
Тогда сам Зволянский приподнялся из кресла и потянулся к трубке.
«Что вы делаете?» — Молжанинов бросил щипцы и кочергу и буквально уставился на Сергея Эрастовича. — «Зачем?»
«Не успокоюсь, если не буду знать, кто звонил!» — пояснил Зволянский и снял трубку. — «Алло! Собственная квартира Семена Яковлевича Молжанинова! Кто говорит?.. Нет, ваше высокопревосходительство…»
Молжанинов вздрогнул и, подойдя к столу, уперся в него руками, склонившись к Зволянскому.
«…но я могу передать ему сообщение… Да, ваше высокопревосходительство, записываю: два и два равно четыре, не пасешься ты в квартире!»
«Что…»
Зволянский, прикрыв трубку, шикнул на Молжанинова. Тот сразу же замолчал.
«Конечно, ваше высокопревосходительство: что бы оно ни значило, ваше сообщение будет Семену Яковлевичу доставлено!.. Ах, еще одно есть? Да-да: конечно записываю!»
Зволянский, по губам которого только что блуждала улыбка, вдруг нахмурился и, выхватив у одного из чиновников карандаш, начал что-то записывать на обороте тут же лежавшего документа из картотеки. Когда соединение было прервано, он повесил трубку обратно на рычаг и с полным недоумением воззрился на записанный им текст.
Молжанинов, напрасно прождав несколько секунд — Сергей Эрастович молчал, как рыба, набравшая в рот воды… Молжанинов, повторю, резко наклонился вперед и выхватил бумагу у Зволянского.
Сергей Эрастович вскрикнул, но больше от неожиданности, чем от возмущения.
«Что за чертовщина!» — в свою очередь вскрикнул Молжанинов, едва начав читать.
«Вот и я хотел бы узнать!»
«Это что — шутка?»
«Сомневаюсь!»
«Минутку! — лоб Молжанинова пошел морщинами. — Да кто вообще звонил-то? Вы обращались к нему «ваше высокопревосходительство»? Я не ослышался?»
«Не ослышались, но это — пустое!»
«То есть?»
«Чин и фамилия — фальшивки».
«Вы уверены?»
Устремленный на Молжанинова взгляд Зволянского стал укоризненным:
«Обижаете, Семен Яковлевич!»
«Простите, — Молжанинов на мгновение смутился, — но как хотя бы звонивший назвал себя?»
«Вы крепко на ногах стоите?»
Вопрос был риторический и ответа не требовал. Молжанинов и не ответил.
«Обер-гофмаршал…»
«Обер-гофмаршал!»
«…светлейший князь…»
«Светлейший князь!»
«…Кочергин!»
«Кочергин!»
Молжанинов, как эхо повторявший за Зволянским невероятные титулы, закончил выступать репетитором и вдруг, как будто с места его сорвала неведомая, но страшная сила, ринулся к окну. Там он — не отдергивая, впрочем, занавеску — стал внимательно, но в явном возбуждении вглядываться — не в кипевшую жизнью этажами ниже улицу, а в дом напротив.
Я понял: Молжанинов решил, что в одной из квартир или даже на крыше находился очередной наблюдатель. Очевидно, к такому же выводу пришел и Зволянский, потому что он тоже подошел к окну.
«Кого-нибудь обнаружили?» — спросил он Молжанинова.
«Пока еще нет!» — ответил тот.
Теперь они оба внимательно оглядывали дом напротив, но и совместными усилиями ни до чего не дошли.
«Никого?»
«Никого!»
«Но почему тогда Кочергин?»
«Совпадение?»
«Почему-то не нравятся мне такие совпадения!»
Зволянский кивнул:
«Признаться, мне тоже!»
Тем не менее, за окном, похоже, и впрямь ничего необычного или таившего угрозу не было, поэтому — выждав еще пару минут — Молжанинов и Зволянский от окна отошли. Зволянский вернулся в кресло, а Молжанинов — к уничтожению бумаг. Однако спокойствие было подорвано основательно! Зволянский хмурился, его пальцы туда-сюда вращали пустую рюмку. Молжанинов то и дело замирал, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам. Даже оба чиновника писали уже не столь рьяно, как прежде: они отрывались от дела, допускали помарки — каждый из них по нескольку раз чертыхнулся — и вообще выглядели растерянными…
— Подождите! — Чулицкий. — А что звонивший продиктовал? «Два и два равно четыре…» — это я понял, а другое, второе сообщение? Вадим Арнольдович?
Гесс прищурился:
— Об этом вслух не говорилось…
— Но, тем не менее, вы знаете: я же вижу!
Гесс, рассчитывавший, похоже, преподнести продиктованное по телефону сообщение в качестве эффектной концовки своего рассказа, попытался было уйти от прямого ответа, но Чулицкий так его оседлал, что деваться Вадиму Арнольдовичу было некуда:
— Ну… да, — признал он, — знаю.
— Так говорите же! Что вы тут в шарады играете?
Гесс порозовел:
— Видите ли, Михаил Фролович, узнал я об этом позже, когда… ну, когда все разошлись, и я, как вы справедливо предположили ранее, получил возможность вернуться в кабинет и…
Если Гесс порозовел, то Чулицкий побагровел:
— Да чтобы черт вас по кочкам прокатил! Немедленно говорите!
Вадим Арнольдович разочарованно — он был вынужден сдаться — вздохнул:
— Ну, хорошо: извольте… Когда все разошлись, я вернулся в кабинет и — даже прежде чем пошарить в камине — бросился к столу. Наблюдая за Зволянским, я заметил, что он, записывая сообщение, положил бумагу прямо на лакированную поверхность, а после — давил на бумагу твердым карандашом… Вы, Михаил Фролович, и вы, господа, — Гесс обратился и ко всем нам, — разумеется, знаете, что так делать нельзя. Если делать именно так, лакированная поверхность портится: на ней остаются следы и…
— Да знаем мы это, знаем! Дальше!
— В общем, я взял оставленный на столе карандаш, как можно мельче — считайте, что в порошок — сточил его грифель и аккуратно рассыпал получившийся порошок по той поверхности стола, на которой Сергей Эрастович держал бумагу. Мои ожидания оправдались: порошок ясно выделил вдавленные царапины, и эти царапины без труда сложились в буквы и слова. И я их переписал.
Гесс вынул из кармана памятную книжку.
— Вот что получилось…
Я немедленно перевернул страницу в собственном блокноте, чтобы начать с чистого листа.
Где волны плещут о сваи — читал Гесс, — святым — раздолье. Грешников, однако, больше, и каждый из них к святому подступается: в ожидании проповеди или награды? Проповедь скучна: грешники бегут. Награда задерживается: грешники бегут. Святой остается в одиночестве. Только путник, запоздало явившийся к проповеди или пришедший раньше награды, оказывается рядом. Но что с того? Святому нечего ему предложить, и путник, разочарованный, бросается в воду. А там — смерть.
Гесс замолчал.
Чулицкий, глядя на него, моргал.
Я перечитал записанное.
— Всё ясно!
Мы — Чулицкий и я — разом повернулись к Можайскому.
— Что тебе ясно? — спросил Михаил Фролович.
— Ясно? — спросил я.
— Да, — ответил Можайский. — Ясно. Совершенно.
— Согласен! — Инихов.
Чулицкий обернулся на своего помощника:
— Да?
Инихов развел руками:
— Конечно. Неужели вы сами не видите?
Чулицкий задумался, а потом хлопнул себя по лбу:
— А ведь и правда!
— Господа! — это уже я. — Объясните!
Чулицкий объяснил:
— Речь о Венеции, о Сан-Галло, о съехавшихся в отель — похоже, это действительно так: к гадалке не нужно ходить, какой ответ мы получим на наш телеграфный запрос!.. о съехавшись в Сан-Галло наших дорогих подопечных, так быстро и так странно исчезнувших из Петербурга. И, конечно, о самом Молжанинове. Звонивший знал, что Молжанинов собирается в Венецию, но — это очевидно — не знал, когда. Вот он его и торопит: поспеши, мол, друг любезный, иначе все разбегутся, и ты приедешь к опустевшему гнездышку! А вот насчет смерти… это, полагаю, не угроза, а тоже предупреждение: опасность рядом! Иначе нет никакого смысла в первом послании — «два и два»… ну, вы помните!
Я перевел взгляд на Можайского. Тот склонил голову к плечу:
— Всё верно.
Взгляд на Инихова:
— Да.
— Но тогда получается, — я, — звонил… друг?
— Получается.
— Но Талобелов сидел рядом с Гессом и никуда не выходил!
— Значит, у Молжанинова есть еще один друг!
— Но кто же он?
Можайский, Инихов и Чулицкий одновременно пожали плечами и произнесли практически хором:
— Хороший вопрос!
Я захлопнул блокнот и принялся вышагивать по гостиной. Мои мысли текли в полном беспорядке. Собственно, это и не течение было, а какой-то хаотичный водоворот! Ничего подобного я не ожидал. Более того: у меня уже сложилась вполне себе четкая картина событий, а тут — на тебе!
— А что же все-таки Талобелов? — спросил я, остановившись подле кресла, в котором сидел Гесс.
Вадим Арнольдович, сбитый с того построения рассказа, какое он сам для себя наметил, вернулся к нему неохотно:
— Талобелов, — сказал он, — находился подле меня до самого конца, каковой конец наступил достаточно скоро и так же внезапно, как внезапно поступали те же телефонные вызовы. Снова раздался звонок. Трубку, как и ранее, взял Зволянский:
«Собственная квартира Семена Я… — внезапно осекся он. — Да, ваше превосходительство, это я… нет: сказать по телефону, что происходит, я не могу. Но мы немедленно выезжаем… Да, ваше превосходительство… понял, всё сделаю!»
Зволянский повесил трубку и ответил на немой вопрос Молжанинова:
«Дмитрий Сергеевич[49]».
Молжанинов хмыкнул и как-то обреченно огляделся по сторонам:
«Ну, вот и всё!» — со вздохом сказал он и махнул рукой.
Зволянский, поднимаясь из кресла, тоже вздохнул:
«Да: вот и всё!»
Оба — Молжанинов и Зволянский — двинулись к выходу из кабинета.
«Когда закончите, приберитесь тут!» — уже от двери приказал своим чиновникам Сергей Эрастович.
«Будет исполнено!» — ответил один из них.
Зволянский и Молжанинов вышли.
«Что происходит?» — спросил я у Талобелова.
Талобелов, однако, тоже поднялся на ноги и засобирался прочь:
«Простите, сударь, но и мне пора! Счастливо оставаться!»
«Да что такое?»
«Всё, сударь: мы уезжаем. Прощайте!»
И Талобелов вышел.
Я снова обернулся к стеклу и увидел, что оба чиновника перестали писать — возможно, им просто надоело это занятие, потому что никаких видимых причин заканчивать работу прямо сейчас лично я не наблюдал — и принялись — в четыре руки — сносить в камин остававшиеся на столе бумаги. Я еще понадеялся, что они, чиновники эти, в отличие от Молжанинова, окажутся не столь добросовестными и не станут уж очень рьяно орудовать в камине кочергой, но моим надеждам не было суждено оправдаться: на это занятие их добросовестности хватило!
Покончив с бумагами, они начали озираться, явно что-то ища. Наконец, один из них стащил со стоявшего в дальнем углу дивана покрывало — что-то вроде звериной шкуры, только масть была мне неизвестна — и бросил его товарищу. Тот подхватил и подошел к телу Брута, по-прежнему лежавшее в луже уже засохшей крови. Через пару секунд к первому чиновнику присоединился второй.
Вдвоем они, так и сяк ворочая труп, закатали его в покрывало и, поднатужившись, подняли с пола.
«Пошли!» — сказал один.
«Вперед!» — ответил второй.
И они — как до них Молжанинов и Зволянский — двинулись к выходу из кабинета. Вот только ноша, которой они себя обременили, внушала им явное отвращение: они тащили завернутый в покрывало труп с таким видом, словно совершали что-то непристойное!
Когда они вышли из кабинета, попросту скрывшись из поля моего зрения, я выждал еще с минуту, чтобы дать им уйти по коридору. И только потом покинул комнатушку.
В коридоре никого не было. А судя по царившей на этаже гробовой, могильной, можно сказать, тишине, не было никого и в квартире вообще. Поэтому я, собираясь с мыслями, смело прогулялся вперед-назад, а потом перешел в кабинет.
Что было дальше, вы, господа, уже знаете: сначала я поработал с царапинами на столе, затем — попытался спасти хоть что-то из сгоревшей в камине картотеки. Первое у меня получилось. Второе — нет. Кроме того, я, разумеется, осмотрелся в целом, — Гесс подчеркнул это «в целом», давая понять, что изрядно пошарил по кабинету, — но ничего интересного не обнаружил. Разве что вот это…
Гесс, как давеча памятную книжку, достал из кармана какой-то предмет, даже издали показавшийся мне смутно знакомым.
— Что это? — воскликнул я.
— Однако! — подскочил к Гессу Чулицкий.
— Ну-ка… — Можайский тоже подошел и принял из пальцев своего помощника то, что оказалось аккуратным — почти треугольным — отрывком бумаги.
— Да ведь это, — воскликнул я подойдя ближе и рассмотрев характерный узор, — облигация прошлогоднего городского займа!
— Точнее, — поправил меня Чулицкий, — то, что от нее осталось.
— А если еще точнее, — уже Чулицкого и меня поправил Можайский, — то это — кусок фальшивой облигации!
— Да ты что! — Чулицкий выхватил у Можайского бумажку. — Ну надо же!
Я было хотел задать вопрос, но тут вмешался Инихов:
— А ведь мы горим, господа! — Сергей Ильич помахал рукой, разгоняя вокруг себя пелену табачного дыма, и с шумом потянул носом. — Ей Богу, горим!
— Ну надо же! — повторил Чулицкий, поворачиваясь к Гессу. — А как…
И тут до него дошло:
— Что вы сказали? — заревел он, оборачиваясь на Инихова и тоже принюхиваясь. — Горим?
— Вот именно!
И тогда поднялась суматоха, в которой уже не было места расспросам. Далее были только страшный пожар и прочие бедствия!
-----------------------------------------------------------
Поддержать автора можно переводом любой суммы на любой из кошельков:
в системе Яндекс. деньги — 410011091853782
в системе WebMoney — R361475204874
Z312553969315
E407406578366
в системе RBK Money (RuPay) — RU923276360
Вопросы, пожелания? — paulsaxon собака yandex.ru
Примечания
1
Персонаж романа Ж. Верна «Путешествие к центру Земли».
(обратно)2
2 Персонаж романа Ж. Верна «Путешествие с Земли на Луну».
(обратно)3
3 Из предложения видно, что Никита Аристархович, будучи в целом очень высокого мнения о научно-технической стороне книг Жюля Верна, совершенно не верил в возможность космических полетов или спуска в жерла вулканов. И это тем более странно — во всяком случае, в том, что касается космических полетов, — что имя Циолковского было уже достаточно известным.
(обратно)4
4 Имеется в виду роман «Пять недель на воздушном шаре» (Cinq semaines en ballon), впервые переведенный на русский язык практически сразу же после выхода романа на французском языке в 1864 году и известный читателю тех поколений под названием «Воздушное путешествие через Африку».
(обратно)5
5 Роман «Вокруг света за 80 дней».
(обратно)6
6 Роман «Двадцать тысяч лье под водой».
(обратно)7
7 Роман «Таинственный остров».
(обратно)8
8 Роман «Дети капитана Гранта».
(обратно)9
9 Роман «Пятнадцатилетний капитан».
(обратно)10
10 Персонаж романа «Путешествие и приключения капитана Гаттераса».
(обратно)11
11 Французскую Академию. Никита Аристархович говорит об упорных слухах, сопровождавших творчество Жюля Верна на протяжении всей жизни писателя (умер в 1905 году). Согласно этим слухам, «Жюль Верн» было не более чем псевдонимом, за которым скрывались члены Академии, чем — якобы — и объяснялись всеохватывающая тематика произведений и поразительная достоверность в разнообразных деталях. Впрочем, определенная правда в этих слухах была: по ходу создания своих книг Жюль Верн действительно консультировался с крупными, нередко — выдающимися, учеными своего времени. Именно им принадлежат разнообразные математические, физические и т.п. расчеты. Именно они снабжали Верна известиями о новейших открытиях и достижениях.
(обратно)12
12 Вероятно, Вадим Арнольдович отсылает слушателей к началу «Илиады» Гомера, в переводе Гнедича звучащему так: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса… Богиня — муза, к которой обращается Гомер. Но если так, то гордость Вадима Арнольдовича не очень, а точнее — совсем непонятна. Этот «музический» гнев — явление отрицательное, ниспосланное на погибель, а не ради спасения. Гнев, в который был ввергнут Ахилл, стал началом жестокой распри между предводителем греков Агамемноном и самим Ахиллом — наиболее могучим воином из явившихся к Трое героев. Распря же, в свою очередь, привела к немалым бедствиям, едва не погубившим всё предприятие. Кроме того, Феб (Аполлон) — бог солнца, — вняв молитве оскорбленного грубым отказом Хриса, наслал на греков чуму. (Хрис — жрец Аполлона — явился в лагерь греков с просьбой к Агамемнону вернуть плененную им дочь, Хрисеиду. Агамемнон отказал). Таким образом, выходит и вовсе страшная картина: «музический» гнев — гнев, несущий смерть.
(обратно)13
13 См. ранее. Михаил Фролович и правда вскоре оставил службу.
(обратно)14
14 То есть самого Дон Кихота.
(обратно)15
15 В полной мере, в полном объеме.
(обратно)16
16 Прямая цитата из Овидия (Скорбные элегии, I, 2). Наиболее известный ныне перевод — Шервинского: Взоры куда ни направь, всюду лишь море и небо… Однако более верный (и тот, который мог знать Никита Аристархович) — Фета: Всюду, куда погляжу, одно только море да небо…
(обратно)17
17 Смысл этого добавления чрезвычайно темен: невозможно с определенностью сказать, что же Никита Аристархович имел в виду. Однако по смыслу приведенного отрывка можно предположить, что Сушкин, готовя свои записи к печати (и не зная еще, что цензура их не пропустит), втайне надеялся этим отступлением то ли оправдать своего друга — несмотря ни на что, то ли опасался не «достучаться» до читателей, а может, просто сожалел про себя, что не уделил достаточно внимания тому же Михаилу Фроловичу Чулицкому. В любом случае и как бы там ни было, налицо — довольно пессимистичный взгляд на окружающую действительность.
(обратно)18
18 Именно под таким названием — «Приключения Алисы в волшебной стране» — Никита Аристархович мог знать в переводе (Рождественской) знаменитое произведение Льюиса Кэрролла. Нынешнее название — «Алиса в стране чудес» — закрепилось в нашей литературе значительно позже описываемых событий. И это название, нужно сказать, куда хуже соответствует оригинальному Alice’s Adventures in Wonderland.
(обратно)19
19 Далее станет понятно, что «Лавра» — это так называемая «Вяземская лавра»: обширный участок с многочисленными постройками-флигелями между Сенной площадью и Фонтанкой, в самом начале Забалканского (ныне Московского) проспекта. В этом месте селились люди из самого дна. Собственно, это место и было самым настоящим дном: настолько, что хуже не придумаешь. В начале XX века «лавра» была снесена: до нашего времени от нее дошел один лишь дом — №2 по Московскому проспекту. «Вяземской» эта кошмарная клоака, с иронией называемая «лаврой», числилась потому, что весь участок принадлежал князю Вяземскому.
(обратно)20
20 Непонятно, о каком пожаре идет речь. Один из самых известных — пожар 11 июля 1901 года, но, судя по тексту, вряд ли именно он имеется в виду.
(обратно)21
21 Воры, стоявшие на высшей ступеньке уголовной иерархии. Своего рода предшественники «воров в законе».
(обратно)22
22 Здесь — должность в Сыскной полиции Петербурга до ее реорганизации и распределения полицейских надзирателей по участкам. Всего надзирателей по штату 1867 года было 12 человек.
(обратно)23
23 Императорская публичная библиотека. Ныне — Российская национальная библиотека (СПб, Садовая улица, 18). Одна из крупнейших библиотек мира уже ко второй половине XIX века.
(обратно)24
24 Удивление Никиты Аристарховича понятно: один из «новых» корпусов к тому моменту был уже построен (читальный зал, 1862 год), а другой — еще один библиотечный корпус для постоянно возраставшего книжного собрания — еще и не в планах не стоял. Он был построен существенно позже: в 1896 – 1901 годах, то есть только к моменту описываемых в записках основных событий.
(обратно)25
25 Михаил Фролович намекает на грандиозные аферы и хищения, неизменно связанные с выделявшимися средствами. Обычная практика вплоть до нашего времени. Никита Аристархович с Михаилом Фроловичем соглашается.
(обратно)26
26 Путилин.
(обратно)27
27 То есть к лишению дворянства и сословных привилегий.
(обратно)28
28 Разные по содержанию углерода стали имеют разную температуру плавления, но в среднем она составляет около 1480 градусов по Цельсию, тогда как температура открытого горения при пожарах редко превышает 1300 – 1350 градусов.
(обратно)29
29 Тотальное невезение.
(обратно)30
30 См. в основной части книги.
(обратно)31
31 Уильям Бакленд (1784 — 1856) — английский геолог и палеонтолог, президент Лондонского королевского общества. В 1824 году «презентовал» находку «гигантской хищной ящерицы», назвав ее мегалозавром: от mega — огромный и sauria — ящер.
(обратно)32
32 Гидеон Мантелл (1790 — 1852) — английский врач и палеонтолог. Основоположник научного исследования «динозавров». Автор первой реконструкции облика одного из динозавров — игуанодона.
(обратно)33
33 Сэр Ричард Оуэн (1804 — 1892) — английский зоолог и палеонтолог. Первым выделил в особый подотряд ископаемых ящеров, дав ему используемое поныне название Dinosauria (от deinos — ужасный и sauros — ящер).
(обратно)34
34 Сторукие великаны, откликнувшиеся на призыв олимпийских богов и способствовавшие их победе над титанами.
(обратно)35
35 Один из гекатонхейров.
(обратно)36
36 Гофониил Марш (1833 — 1899) — американский палеонтолог, первооткрыватель нескольких видов динозавров, наиболее известные из которых — аллозавр (хищник) и диплодок (травоядный). Современному читателю оба этих динозавра должны быть известны, в том числе, из повести Конан Дойля «Затерянный мир», из книг Майкла Крайтона и фильмов по этим книгам («Парк юрского периода, например), но, само-собой, Вадим Арнольдович во время описываемых событий еще не мог прочитать «Затерянный мир» (написан в 1912 году) и уж тем более не мог видеть экранизаций.
(обратно)37
37 Всем этим абзацем Никита Аристархович явно намекает на слова Дон Кихота: «Тут у меня вышло одно обстоятельство, из-за которого я, пожалуй, попаду в немилость к их светлостям, и мне это неприятно, но ничего не поделаешь, ибо в конце-то концов мне надлежит считаться не столько с их удовольствием или же неудовольствием, сколько со своим собственным призванием согласно известному изречению: amicus Plato, sed magis amica veritas».
(обратно)38
38 Согласно военно-морским правилам Империи, над крепостью Кронштадта поднимался «крепостной флаг». Этот флаг был аналогичен корабельному гюйсу. С 2008 года этот флаг и гюйс вновь является официальным.
(обратно)39
39 Здесь необходимо сделать небольшое редакторское отступление. Несомненно, читатель помнит, что в самом начале этой главы Никита Аристархович терзался сомнениями: он не знал, как ему поступить — как объединить сведения, полученные из разных источников, от Гесса и позже, уже от других лиц. Никита Аристархович даже прямо заявил, что не хочет, чтобы его документальные в целом записки превратились в художественное произведение — в приключенческий роман наподобие произведений Жюля Верна или Александра Дюма. Никита Аристархович утверждал, что не станет прибегать к приемам, свойственным художественной литературе, то есть — к прямому вымыслу, вкладывая в уста Гесса то, о чем сам Гесс никак не мог рассказать. И все же, как мы видим, Никита Аристархович поступил иначе: он явно пустился во все тяжкие, ради именно объединения информации выдумав и предыдущие сценки и все последующие. Причем, похоже, готовился он к этому заранее, иначе трудно объяснить, как могло получиться, что Гесс уже в предыдущих частях записок «доносил» до слушателей сведения, вряд ли полученные им самим. В общем, мы склонны полагать, что ничего из описанного Никитой Аристарховичем далее — и это как минимум! — в действительности не происходило. К сожалению, однако, у нас нет никакой возможности восстановить истинный ход событий. Поэтому нам придется оставить всё как есть.
(обратно)40
40 Не совсем понятно, что Вадим Арнольдович имеет в виду. Возможно, большие размеры и, как следствие, толщина стекла создавали оптические искажения? Но как линии могли его нивелировать?
(обратно)41
41 Можайского.
(обратно)42
42 Поразительная наивность для полицейского. И пусть даже Вадим Арнольдович в записках Сушкина вообще предстает этаким… бессребником что ли, но вряд ли старший помощник участкового пристава, то есть человек, уже немало поработавший и повидавший, мог и в самом деле быть настолько наивным. Тем более что ряд других покушений показал всю уязвимость для террористов кого бы то ни было: высокое положение не только никого не защитило, но и ровно наоборот — стало причиной лишь более жестокого преследования с доведением дела до логичного конца! Пожалуй, всё это лишний раз свидетельствует в пользу предположения, что Никита Аристархович слишком уж увлекся в этой части своих записок, и впрямь превратив их больше в художественное произведение, нежели оставив их подлинно документальными.
(обратно)43
43 Покушения на Николая Васильевича состоялись позже. Точнее — активная подготовка к ним: уже в бытность его Киевским, Подольским и Волынским генерал-губернатором (24 декабря 1904 — 17 октября 1905). Тогда боевики эсеров дважды пытались устроить покушения — 15 и 30 июля 1905 года, — но оба раза они провалились из-за отказа одного из террористов бросить в Николая Васильевича бомбу.
(обратно)44
44 Висковатова. Об этом см. выше.
(обратно)45
45 Эмиль Лубе, Президент Франции в 1899 – 1906 годах. В 1902 году посетил с официальным визитом Россию.
(обратно)46
46 Револьвер за кольцо в рукоятке крепился к длинному шнуру, который, в свою очередь, петлей надевался на шею.
(обратно)47
47 Нам удалось найти первоисточник этого дикого, на первый взгляд, стишка. Как оказалось, он действительно был процитирован Молжаниновым с шоколадной обертки —
Как видим, шутка Молжанинова была тем более забавна, что обертка представляла собой «почтовую карточку», а шпионы и агенты — это всем известно — ведут очень активную переписку!
(обратно)48
48 Митрофан Андреевич явно преднамеренно сваливает в одну кучу пожары, произошедшие от следующих причин: горение сажи в трубах — 198; неисправность каминов и печей — 144; неосторожное обращение с огнем — 127. Итого — 469. Если учесть то, что в 1901 году всего произошло пожаров 1001, цифра получается внушительная: без малого 47%! Но, разумеется, вряд ли в эту статистику справедливо включать то же горение сажи в трубах: уж эта-то причина вряд ли соотносится с описанным случаем. Да и неисправность каминов и печей — тоже: сомнительно, чтобы в таком доме, каким был дом Молжанинова, камин мог находиться в неисправном состоянии. Очевидно, Митрофан Андреевич объединил все эти причины в одну ради именно устрашающей цифры, то бишь — ради красного словца.
(обратно)49
49 Очевидно, Сипягин.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

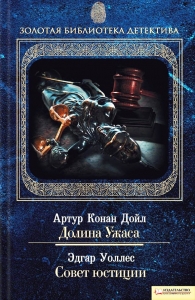

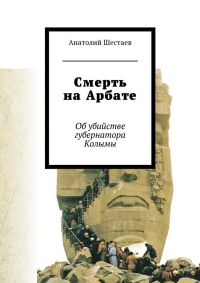


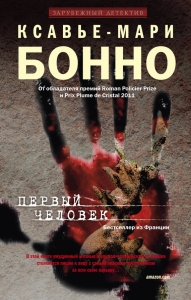


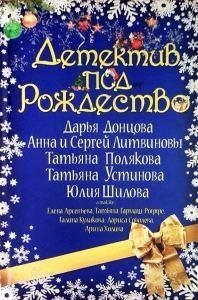

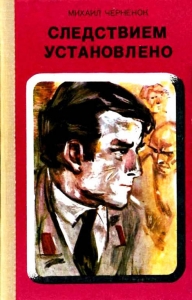
Комментарии к книге «Можайский — 6: Гесс и другие», Павел Николаевич Саксонов
Всего 0 комментариев